ПЕРВОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Если бы моя мать столько раз не вступала в брак по расчету и если бы в то же время она не была так равнодушна к материальным благам — правда, за исключением тех случаев, когда блага принимали абстрактную и бесплотную форму банковского счета, — вполне возможно, что эта книга никогда не увидела бы свет. Но одно из последних желаний матери, которое она высказала уже на смертном ложе и в котором, хочу заметить, не было и намека на малейшее отступление от ее знаменитого прагматизма, состояло в том, чтобы кто-нибудь из сыновей, отобрав нужные ключи, отправился в Париж, открыл старый дом на улице Нёв де Матюрен и разобрался бы с мебелью, безделушками и прочим хламом, что хранился там с 1940 года, пережив оккупацию, освобождение, генерала де Голля, май 1968 года[1] и спекуляцию недвижимостью.
«Не думаю, что там найдется что-нибудь, что можно выставить на „Сотбис“, — голос ее упал до слабого шепота, но голова оставалась по-прежнему ясной, — ведь добряк Лоренсо был скрягой, и, учитывая, что при разводе львиную долю состояния присудили мне, а Лоренсо последние свои годы прожил в стесненных обстоятельствах, он скорее всего распродал среди друзей по ссылке те немногие семейные реликвии, которые у него оставались, хотя… кто может поручиться, что вас там не ждет какая-нибудь интересная находка?» Именно я оказался тем сыном, кому выпало ехать в Париж, а этот «Мемуар», который я сегодня отдаю в печать, хранившийся в доме, заставленном мебелью эпохи Второй империи, среди изъеденной молью парчи, небольшой библиотеки, составленной из книг, удостоенных Гонкуровской премии, и многих других вещей той эпохи, прошедших по крайней мере уже через третьи руки, — этот «Мемуар» и оказался моей интересной находкой.
После четырех счастливых и плодотворных браков, когда уже заполыхали зарницы Второй мировой войны, моя мать решилась на две вещи: выйти в пятый раз замуж по любви и обосноваться в маленькой латиноамериканской стране как в самом надежном на то время убежище, чтобы мирно наслаждаться там и обществом моего отца, и его богатством. Оба решения, как выяснилось со временем, содержали ошибку в расчетах. Любовь моего отца и надежность латиноамериканской страны рухнули почти одновременно. Отец терзал ее ревностью, распространявшейся даже на прошлое, латиноамериканская страна также обманула все ожидания, — она в конце концов коварно предала мою мать, впав в социально-экономический кризис, завершившийся общим хаосом, насилием и экономическим крахом. В последние годы мать должна была мобилизовать все ресурсы своего оптимизма, чтобы противостоять мужу-маньяку, скудной ренте и нескольким внукам-герильерос. Все так изменилось, что унаследованный ею жалкий дом на улице Нёв де Матюрен, казавшийся в свое время воплощением бедности, стал теперь одним из немногих сокровищ, которыми она могла распорядиться перед смертью, другими были последние уцелевшие драгоценности, потускневшее и растрескавшееся кожаное пальто, облигации государственного займа (государство выпустило их, находясь в состоянии полного банкротства), и к ним, разумеется, причислялись восхитительные и все еще такие живые воспоминания юности. «Errarе humanum est» [2] — были ее последние слова. Она произнесла их с глубоким вздохом и умерла. Я думаю, что, говоря об ошибках, она подразумевала нас всех — страну, моего отца, детей, внуков, грустные итоги последних сорока лет своей жизни. Бедная мать. Пусть моя «интересная находка» будет ей чем-то вроде запоздалого утешения.
Лоренсо де Пита-и-Эвора, маркиз де Пеньядолида был, если я не ошибаюсь, третьим мужем моей матери. Он познакомился с нею в Биаррице, кажется, в 1932 году. Она в то время вступила в свое второе вдовство — на этот раз после англичанина, упрочившего ее благосостояние, — а маркиз приехал туда из Испании, вслед за Альфонсом XIII[3] выбрав себе в удел достаточно суровую жизнь изгнанника во Франции. Они были женаты не более двух лет, но моя мать, должно быть, произвела на него неизгладимое впечатление, так как к имуществу, полученному при разводе, он, будто этого было недостаточно, по своей доброй воле завещал ей также дом на улице Нёв де Матюрен, тот самый, где протекало их короткое любовное интермеццо.
Не знаю, нашел ли маркиз записки, которые составляют эту книгу, на чердаке, где впоследствии нашел их я уже с его замечаниями, или он обнаружил их в каком-нибудь другом месте, а может быть, ему подарил их кто-то, — он не говорит об этом ничего определенного в своем предисловии. Но я должен заметить, что второе открытие записок состоялось только благодаря моей неистребимой страсти рыться в старых журналах, заслуга же первого открытия, несомненно, принадлежит маркизу. Видно, кому-то — то ли рассеянному слуге, то ли переплетчику из нотариальной конторы — после смерти маркиза поручили навести хоть какой-то порядок в бумагах, хранившихся в его доме, а этот человек не заметил разницы между папками с оплаченными и неоплаченными счетами, бесчисленными номерами «Иллюстрасьон» и «Бланко и негро» — словом, обычным хламом и этим необычным документом, который маркиз так и не успел выпустить в свет. Там я его и нашел — отсыревший, с пожелтевшими листами, похожий на никем не видимого каталептика: вот он вдруг очнулся в могиле, он уже задыхается, но нет сил крикнуть, что он еще жив, чтобы его спасли от вечного забвения.
Когда я познакомился с содержанием этого документа и понял, насколько он интересен, я отправился в Испанию, чтобы провести там расследование с целью найти подтверждение его достоверности в других источниках, других бумагах.
Надо сказать, что поездка оказалась неудачной. Я столкнулся с недоверием историков и с недоброжелательностью официальных учреждений, на деятельность которых — насколько я мог уловить — оказывают подспудное давление классовые интересы, семейное лицемерие и даже определенные политические силы. И все это спустя сорок лет после того, как маркиз споткнулся о те же камни…
Мне пришлось отказаться от намерения продолжать изыскания. Я, как смог, документировал записки (мой предшественник, насколько ему было доступно, частично уже выполнил эту работу) и решил наконец отдать их в печать, дополнив моими примечаниями, относящимися к материалу, — предыдущие, и гораздо более пространные, примечания были сделаны маркизом; по этой причине наши комментарии даны в книге вперемежку, за исключением некоторых случаев, когда я вынужден был специально оговаривать их авторство.
А теперь передаю слово маркизу. То, что я назвал «Вторым предуведомлением», хронологически является, конечно, первым; но, с другой стороны, если учесть то предуведомление, которым открывает «Мемуар» Годой, оно снова оказывается вторым. Как тут не вспомнить русскую куклу-матрешку!
Мадрид, весна 1980
ВТОРОЕ ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Я долго размышлял, прежде чем решился выпустить в свет этот неизданный «Мемуар», имеющий особую историческую ценность, который попал в мои руки благодаря игре слепого случая, соединившего однажды в тоскливый парижский вечер 1937 года одиночество изгнанника и любопытство, из-за чего я не смог оторваться от «Мемуара» до той поры, пока окончательно не разгорелся новый день. Чтение, в которое я погрузился с такой страстью, захватило и ошеломило меня, я читал и перечитывал страницы, переносясь и в пространстве — в мой покоренный, но не покорившийся Мадрид, и во времени — в прошлое, не настолько еще отдаленное, чтобы уже выцвели чернила и не сохранились следы крови, чтобы исчезли трепещущие тени преступления и скорби.
Память о тех событиях возвращается как призрак, взывающий к правосудию. Но кто он, сам призрак? И кто в конечном счете жертва в той истории, где на одно-единственное преступление приходится так много виновных? Ведь в него вовлечена целая группа людей, одни из них достигли вершин величия и заслужили посмертную славу, другие — самые заурядные и незначительные личности, но все они принадлежат той эпохе испанской и мадридской истории, в которой смыкаются два века: веселый и беззаботный конец XVIII встречается с трагическим началом XIX, и никому не удалось уловить и увековечить этот переломный момент так, как это сделал Франсиско де Гойя-и-Лусьентес. Он-то и оказывается одним из главных действующих лиц приводимой здесь захватывающей petite histoire[4].
Событие, находящееся в центре внимания документа, произошло 23 июля 1802 года, это событие — смерть Марии дель Пилар Тересы Каэтаны де Сильва-и-Альварес де Толедо, тринадцатой герцогини де Альба (или Альва — как больше нравится некоторым историкам). Правда, кроме краткого полицейского донесения, составленного несколько дней спустя после ее смерти, все остальные документы — и «Мемуар», и включенные в него письма — были написаны значительно позднее трагической кончины герцогини. Правда и то, что вся история была пережита молодыми, а рассказана уже старыми людьми, в одном случае — спустя двадцать, а в другом — почти пятьдесят лет после самих событий. И наконец, правда, что дошедшая до меня рукопись была на французском языке, а почерк, которым она написана, не совпадал с почерком лица, значившегося ее автором, из чего я заключаю, что она является переводом, который он сам заказал сделать со своего текста, чем и заронил вполне обоснованные сомнения в его аутентичности.
Полагаю, что наибольший авторитет в данном вопросе — говорю об этом без всякого тщеславия — это именно я; авторитет мне придает проделанная работа, состоявшая в том, что я выполнил обратный перевод «Мемуара» на испанский язык, и это позволило мне достичь такой интимной, почти любовной подачи литературного материала, что стало возможно воспринять и прочувствовать его самые тонкие, почти неуловимые оттенки, как мы чувствуем их в любимой женщине. Опираясь на мой авторитет, я беру на себя смелость сделать два следующих заключения: во-первых, французский текст рукописи, случайно попавший мне в руки в тот осенний вечер, представляет собой, вне всяких сомнений, перевод испанского текста, написанного первоначально несколько тяжелым, витиеватым, высокопарным стилем Испании, колеблющейся между традиционным барокко и просветительским классицизмом; и во-вторых, ее автором действительно является дон Мануэль Годой, как в ней и сообщается и как становится очевидным из (а) сопоставления «Мемуара» с другими его рукописями, (б) места, где был найден документ спустя восемьдесят шесть лет после смерти Мануэля Годоя, и (в) полученных мной доказательств достоверности различных происшествий и событий, о которых повествуется в рукописи. Доказательств, которые — говорю это с болью — я мог бы существенно пополнить, если бы собирал их в моей стране и главное — если бы встретил там больше поддержки и меньше предрассудков в научных кругах и у общественности, что позволило бы подтвердить или опровергнуть многие факты. Сказанное относится равным образом как к аристократическим слоям испанского общества или по крайней мере к испанским семьям, исторически связанным с описываемыми событиями, так и научным учреждениям, занимающимся историческими исследованиями.
Но Испания остается Испанией, близкая или далекая, и по-прежнему нескоро еще придет день, когда, как говорит сам Годой в каком-то месте своих воспоминаний, она станет наконец страной, «живущей по времени, отмеренному часами современной и просвещенной Истории».
Париж, апрель 1939
КРАТКИЙ И СЕКРЕТНЫЙ МЕМУАР ДОНА МАНУЭЛЯ ДЕ ГОДОЯ, ГЕРЦОГА ДЕ АЛЬКУДИЯ, СОСТАВЛЕННЫЙ ИМ В 1848 ГОДУ В СВЯЗИ С КОНЧИНОЙ МАРИИ ДЕЛЬ ПИЛАР ТЕРЕСЫ КАЭТАНЫ, ГЕРЦОГИНИ ДЕ АЛЬБА, ИМЕВШЕЙ БЫТЬ СОРОК ШЕСТЬ ЛЕТ ТОМУ НАЗАД, И ВКЛЮЧАЮЩИЙ ОПИСАНИЕ СТРАННЫХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ, СОПУТСТВУЮЩИХ УПОМЯНУТОЙ КОНЧИНЕ, А ТАКЖЕ ИХ НАИБОЛЕЕ ПРАВДОПОДОБНОЕ ОБЪЯСНЕНИЕ С ПРИЛОЖЕНИЕМ ПОКАЗАНИЙ ДОНА ФРАНСИСКО ДЕ ГОЙИ И ПОСМЕРТНОГО ПИСЬМА ДРУГОГО ВЫСОКОПОСТАВЛЕННОГО ЛИЦА, ВОВЛЕЧЕННОГО В ЭТИ СОБЫТИЯ, НА КОТОРЫЕ УКАЗАННОЕ ПИСЬМО ПРОЛИВАЕТ НОВЫЙ СВЕТ
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ ДЛЯ ЧИТАТЕЛЯ
На днях исполняется шесть лет с того момента, как был опубликован последний том моих «Мемуаров»[5]. Этот «Краткий мемуар», несмотря на его название, никоим образом не является ни выдержкой из «Мемуаров», ни добавлением к ним, ни сокращенным их изложением; «Краткий мемуар» следует рассматривать как совершенно самостоятельный труд, направленный к достижению другой цели и написанный в состоянии духа, совершенно отличном от того, о котором сообщается в «Мемуарах».
Ибо они были задуманы, исполнены и опубликованы с тем, чтобы засвидетельствовать для грядущих веков политические устремления моих августейших суверенов — королей Испании Карла IV и его супруги Марии-Луизы, посрамить перед зеркалом Истины их низких клеветников и призвать к ответу, как того требовала также и моя честь и слава, наших общих хулителей, чтобы восстановить мое собственное дворянское достоинство и как правителя, и как особы, чья личность и деяния оказывали влияние на историю испанского государства в течение всех лет моего пребывания на посту министра вплоть до моего падения[6].
А то, что я называю «Кратким мемуаром», напротив, есть не что иное, как мое персональное показание, до настоящего времени неизвестное публике, касающееся одного происшествия личного характера, которому я был не только свидетель, но и также некоторым образом и судья, — смерти герцогини де Альба, последовавшей 23 июля 1802 года. Мне могут задать вопрос — а меня уже не будет, и я не смогу на него ответить, — почему я ждал более сорока лет, чтобы написать об этом. Я скажу своему будущему собеседнику, что очень долго колебался, прежде чем написал «Мемуар»; что в течение всего этого времени я думал, что умру, так и не разомкнув рта, закрытого печатью тайны; и что единственной причиной, заставившей меня в конце концов взяться за перо, было, с одной стороны, то, что я уже дошел до порога своего восьмого десятка, а с другой стороны — некий моральный императив, который, возможно, многие посчитают запоздавшим. И сегодня, хотя и приняв необходимые предосторожности, подсказываемые благоразумием, я публикую «Мемуар» с меньшими опасениями именно потому, что минуло уже почти полвека после печального события и умерло большинство лиц, которые имели к нему отношение и по тем или иным мотивам приняли в нем участие[7], так что в настоящее время я, кажется, остался единственным живым существом, кто еще может предложить его подробную и правдивую историю, отнюдь не направленную на то, чтобы вызвать скандал, оклеветать кого-либо или свести счеты с кем-нибудь, кроме своей собственной совести.
Итак, вот мой «Мемуар» по поводу той смерти; или, может быть, рискнув предвосхитить нелегкую хронологию фактов и ситуаций, мне следовало сказать — «Мемуар» по поводу того преступления, которое при последующем изложении событий потрясет мягкосердечного читателя не только преждевременной и прискорбной смертью герцогини, но также и тем, что смерть эта была злоумышленна и жестока.
К моим воспоминаниям, воспоминаниям старика, лишенного возможности в последние тридцать лет своей жизни заниматься чем-нибудь, кроме воспоминаний, я присовокупляю донесение министерства полиции, составленное по высочайшему распоряжению моего прославленного господина Карла IV сразу же после смерти герцогини, а также два письма, полученные мною много лет спустя в моем римском изгнании: одно — в 1824-м, другое — в 1829 году, дополняющие воспоминания даже в тех случаях, когда в чем-то не соответствуют им или опровергают их.
Мне нелегко было писать этот текст, который в один прекрасный день я вынесу на суд читателя. Жанр мемуаров заставил меня обратиться к строгому, выдержанному стилю, точно следовать правилам риторики, что соответствует официальному и политическому характеру этих книг[8]. Краткий же мемуар я стремился написать более простым, более личным и живым языком, чтобы подчеркнуть достоверность свидетельства, хотя бы оно и причиняло, как это не раз будет видно ниже, ущерб моему достоинству и моей репутации или доброму имени других лиц, упоминаемых в повествовании, включая августейших особ.
По этой причине, а также из-за того отклика, который мог бы иметь место среди еще живущих людей, слишком близко связанных с событиями или с действующими лицами (а в их число я включаю своих собственных сыновей), я изъявляю желание чтобы «Мемуар» не распространялся среди публики, пока не пройдет по крайней мере сто лет после моей смерти. Такова моя воля, и я завещаю ее моим наследникам, будут ли ими в момент моего физического исчезновения мои сыновья или внуки[9] или моя горячо любимая и верная супруга донья Хосефа Тудо де Годой, герцогиня де Кастильофьель, состоящая со мной в законном браке со дня 7 января 1829 года и поэтому, благодаря моей поздней реабилитации, также герцогиня де Алькудия. Я знаю, что они выполнят мое желание, и надеюсь, что его будут уважать не только мои потомки, но и все, в чьи руки по воле рока[10] может когда-нибудь попасть это завещание.
Д. Мануэль де Годой, герцог де Алькудия, Париж, 1848
РИМ, НОЯБРЬ 1824 ГОДА
Это утро я провел как обычно. Я вышел из дому — из моих комнат на вилле Кампителли, которые пять лет назад, когда я въезжал в них, показались мне мрачным закутком; теперь же я ощущал их как слишком просторные для моего тяжело начавшегося и еще тяжелее переносимого одиночества, и мне хотелось бы почаще слышать в них крики и смех детей, резвящихся в саду или на кухне[11]; оказавшись на улице, я направился к Пинчо пешком, не столько для того, чтобы размять ноги, сколько потому, что мое неустойчивое материальное положение все чаще заставляло меня отказываться от экипажа; около получаса я прогуливался по парку, наслаждаясь теплом осеннего солнца, пробивавшегося сквозь сосны, и обмениваясь приветствиями с незнакомцами, которых встречал там каждое утро; на лестнице площади Испании я купил газету, выпил шоколаду в «Кафе Греко», поговорил о погоде с официантом, ознакомился с последними новостями из Парижа, Лондона и Вены, потому что «Мессаджеро» не удосуживался сообщать о событиях в Испании даже то немногое, что пропускала редакция[12], — и, возвратившись домой в наемной карете, занялся просмотром корреспонденции.
Этого момента я ждал каждый день со все возрастающим нетерпением: почта скрашивала, мою жизнь, почти полностью лишенную поводов для удивления или волнения. Скрашивала тревожным ожиданием, с каким я старался предугадать содержание писем, которые, когда я их получал, оправдывали или обманывали предположения; скрашивала надеждой — столько раз таявшей как дым — провести весь вечер, составляя ответы. На письма из Мадрида от моей дочери, ставившие меня в известность о том, какой ход получали мои старые прошения, письма, рассказывавшие о ее хлопотах при дворе, об очередных отказах короля, о нескончаемых тяжбах и нудных препирательствах при выработке соглашения относительно моих титулов и моего состояния[13]; письма из Пизы, от Пепиты, сообщавшие прежде всего о здоровье наших детей, о ее новых итальянских друзьях, о коловращении домашней жизни, о кошках и челяди, о герани в саду, где она упорно пыталась оживить Кадис своего детства; из Лондона, от лорда Холланда, или из Вены, где у меня оставались последние немногие друзья, которые все еще беспокоились обо мне, но уже не о моей карьере общественного деятеля — по-видимому, все были согласны предать ее навсегда забвению, — но лично обо мне, как о человеке, оказавшемся в тяжелом положении.
К этому и свелось теперь мое существование. Ждать с нетерпением писем, в которых нет ничего нового, но зато есть обещания, утешения, наигранная веселость; вкладывать в ответы все усердие, порожденное мощной энергией, которой в былые годы с избытком хватало и на решение государственных вопросов, и на то, чтобы по шестнадцать часов в день лично разбираться в делах, подлежащих ведению министра, и на то, чтобы испытать всю полноту жизни, управляя нацией и империей; хватало ее и тогда, когда случалась война, и тогда — почему бы не сказать и об этом? — когда случалась новая любовь:
Так вот и получилось, что, еще не достигнув своих шестидесяти лет, я уже смирился с участью старой девы, которая проводит жизнь в переписке с нотариусом, или с приходским священником, или с богатым родственником. Обескураживающие будни.
В тот день, однако, среди корреспонденции оказалось и кое-что интересное. Это было письмо из Бордо, адресованное «Его высочеству Князю мира, дону Мануэлю де Годою…», хотя к этому времени уже никто не обращался ко мне подобным образом.
В первый момент я не узнал этот почерк. Крупные, сильно наклоненные, почти параболические буквы, казалось, были написаны не очень грамотным человеком; и вместе с тем в них проглядывало что-то знакомое. Прежде чем вскрыть письмо, я какое-то время еще поломал себе голову над ним; в Бордо, как мне было известно, жило довольно много изгнанников из Испании… Моратин, Сильвела, генерал Герра, а может быть, и Ириарте?..[14] Я не переписывался ни с кем из них… А вдруг… Что только не сверкнет подобно молнии в голове человека, находящегося в моем положении. Иссякнет ли когда-нибудь жажда действия и власти? Истощится ли надежда? Я сломал сургуч, развернул лист, отыскал подпись. Она гласила: Фр. ко де Гойя.
Гойя. Дон Фанчо. Маэстро. Значит, он еще жив. Значит, выжил. Не погиб ни из-за крушения Испании, ни из-за нового приступа болезни, который пять лет назад — и это было последнее, что я о нем знал, — погрузил его в пучину страданий. И не лишился рассудка, бродя, словно лунатик, как мне описывали в то время, по комнатам своего загородного дома, своей кинты в Мансанаресе, с горящими свечами, прикрепленными к полям шляпы, и рисуя ночные причуды своей одержимой демонами фантазии. Значит, ничего подобного. Он был в Бордо. Сам себе хозяин. Как всегда. Его почерк не утратил уверенности и даже некоторой заносчивости, с какой он в свое время, тридцать лет назад, отважился подписаться на портрете герцогини у ее ног: «Только Гойя». Гойя в Бордо. Несгибаемый, непредсказуемый старик.
Письмо гласило:
Ваше превосходительство сеньор дон Мануэль!
Наверно, Вашей Светлости покажеца страным што я обращаюсь к ниму после стольких лет разлуки и молчания и после стольких нещастий которые приключились с нашей дарагой Испанией, ибо для чего напоманать о них тому кто знает о них лучше чем я и испытал их сам на своей собственай шкуре. Не знаю также извесно ли В.Свлсти што я нахожусь в Бордо[15], куда только што приехал с разришения Двора, и естли оное, как я надеюсь, Двор саблагавалит продлить, то останусь здесь со своими близкими да тех пор, пака или все изменица или сам умру ибо уже приближаюсь к восьмому десятку, дон Мой Мануэль, но я не хачу вас больше заговаривать моими невзгодами.
Причиной этого письма являица то што я прослышал што В.Свлстъ предприняла написание своих васпоманиний чему я очень рат, потому што ими развеюца многие выдумки и лживые росказни и потому што я подумал што и я смогу внести в это свою лепту и скромно помочь Вам достичь святых целей, сообщив Вам ценные факты, относящиеся к прискорбному происшествию што случилось вот уже боле двадцати лет тому нозат, потомушто меня беспокоит што истина до сих пор остается сокрытой, даже когда ана уже никому не может причинить вреда и естли будит открыта, но она сможет принести врет, естли астанеца неизвестной. От проницательности В.Свлсти не ускользнет што я имею в виду — я говорю о происшествии которое коснулось нас всех и даже бросило тень на особы, весьма любимые и почитаемые как В.Свлстью так и мной.
И естли В.Свлстъ будит просить меня об этих часных сведениях с тем штобы впаследствие распорядиться ими так, как найдет нужным, я гатов кагда угодно и как угодно приехать в Рим и тем самым еще раз, спустя шестьдесят лет, посетить этот горот, и хотя и не думаю штобы кто-нибудь из моих друзей времен ученичества еще остался жив, я все же воспользовался бы случаем штобы снова заняца изучением сокровищ искства Италии и учица как тогда у них, так как учица никогда не позно и я «еще учусь», как я говорю в адном из моих последних рисунков[16], и естли В.Свлстъ думаит как и я, он не найдет неудобным узнать am меня то што я хател бы расказать штобы сбросить в канце-канцов с моих усталых плечь всю тяжесть той старой истории.
Посылаю В.Свлсти как скромный знак почтения копию што я зделал с одного старого карандашного эскиза который никогда не публиковал. Для того штобы В.Свлстъ убидилась што кагда я рисую, рука мая еще не дрожит, хотя мой совет В.Свлсти, естли бы В.Свлстъ захатела бы теперь заказать хороший портрет, я парикомендовал бы поехать в Париж и заказать его молодому человеку по имени Делакруа или же пригласит его в Рим, дай бог штобы у нас в Испании был бы такой же, я сам восхищался его искуством в его собственой мастерской во время моего последнего посещения этово великалепнава города. Я все ещ учусь, дон Мануэль, и даже у молодых[17].
Надеюсь што вы будите так добры што соблаговолите ответить мне и сказать сможем ли мы увидеца в Риме, а пока в ожидании долгово путешествия я прощаюсь с В.Свлстъю посылая тысячу пожеланий и остаюсь Вашим самым, преданым другом и слугой.
Фр. ко де Гойя
Я живу в доме № 7 на улице которая называица Фоссе де Лэнтанданс. И — еще учусь.
Должен признаться, что чтение письма поначалу не задело меня глубоко и не привлекло моего внимания, как должно было бы случиться, ни к давнему таинственному происшествию, на которое намекало письмо, ни к тайной истории, хранителем которой считал себя Гойя, однако оно погрузило меня в размышления — скорее личного характера и не лишенные иронии. Старый маэстро, несмотря на свою упорную юношескую страсть к учению, не вполне удовлетворительно изучил все то, что имело отношение ко мне. Он продолжал называть меня князем, титуловал меня «ваша светлость», воображал, что я в состоянии по первому желанию поехать в Париж только для того, чтобы заказать там еще один портрет, и даже в состоянии вызвать Делакруа, его молодого и обожаемого Делакруа, чтобы тот написал меня на фоне садов Тиволи или в каком-нибудь салоне дворца Барберини[18]; более того, он думал, что мои «Мемуары» вот-вот выйдут в свет, когда на самом деле они в это время были еще только проектом, смутным замыслом, откладываемым с года на год, с месяца на месяц, со дня на день, ибо, как я подозреваю, что-то во мне еще сопротивлялось тому, чтобы воспринимать прошлое как нечто наглухо закрытое и полностью отрезанное и согласиться с тем, что Мануэль Годой, по крайней мере отчасти, уже в 1808 году в каком-то смысле умер как общественный деятель, которого Испания, да и весь мир готовы были признать хотя бы затем, чтобы иметь возможность хулить его. Я глубоко погрузился в эти горькие мысли и машинально развернул маленький бумажный свиток, прибывший вместе с письмом внутри жестяного цилиндра.
Это был рисунок Гойи, который нельзя было спутать ни с каким другим, его без всякой натяжки можно было включить в серию «Капричос», не принизив ее достоинств. На нем, как и на других «Капричос», была подпись, выполненная прописными буквами, и эта подпись вопрошала: «От чего умерла несчастная?» Что касается самого рисунка, то его так же трудно описать, как любой другой рисунок Гойи, и вполне возможно, что теперь он уже включен в каталоги его произведений; но поскольку я через некоторое время потерял свою копию и никогда не видел оригинала, думается, будет не лишним напрячь память и попытаться воспроизвести содержание рисунка литературными средствами[19].
Рисунок передает стремительное движение — в форме вихря или спирали, — его центральную часть занимает женская фигура в черном платье, в мантилье махи, с очень белым лицом и руками и в остроносых туфлях; она летит или пытается взлететь, в то время как несколько чудовищ-монстров — большеголовых, скрюченных, злобных, с неопределенными очертаниями тел и угрожающими ртами — хотят удержать ее от полета или, что более вероятно, четвертовать ее в воздухе — такое впечатление производят напряженные ноги и правая рука махи, а также агрессивные жесты и оскаленные зубы монстров, но тут же весь этот порыв и раздор переходят в спокойствие, в окончательную победу полета, который можно почувствовать в бюсте женщины, в безмятежной и иронической улыбке на ее лице, в закрытых глазах и левой руке, простертой к небу, словно крыло в свободном махе, но при этом белоснежная рука сжимает стакан, по всей видимости пустой, потому что, хотя он слегка наклонен, из него ничего не выливается. Однако самое большое впечатление произвели на меня не контраст между ангельской кротостью персонажа и свирепым порывом монстров, не фантазия, или движение, или композиция, но то, что своей прозрачной метафорой рисунок как бы насильно оживил в моей памяти — что не удалось сделать письму, — «прискорбное происшествие», на которое намекал Маэстро: несправедливую смерть необыкновенной и очаровательной женщины, мир ненависти и злой воли, так неожиданно обрушившийся на нее, коварный стакан яда, погрузивший ее в вечный покой.
Но какого дьявола этот дряхлый старик захотел в 1824 году воскресить то, что было похоронено уже в 1802-м? Зачем ему понадобилось нарушать сейчас молчание, установившееся не по приказу, а по молчаливому согласию между всеми, кто был около Каэтаны в час ее смерти в то знойное трагическое лето? И что действительно знал Гойя? Правду? Или все было бахвальством, которое впоследствии обернется еще одним «Капричо», капризом его воображения — и только? Верил ли он на самом деле, что владеет этой старой тайной? А если и правда владел, то почему не хранит молчание? Кому теперь важно, кроме него самого, беспредельно любившего ее, и кроме возможного убийцы, да еще меня, кто и не подумает писать об этом, — кому теперь важно, как в действительности умерла Каэтана? И разве тогда Гойя не молчал, как все? Разве не приняли официальную версию шефа полиции, удостоверенную ни много ни мало королевской печатью? Разве даже близкие люди герцогини, например ее наследники, и в том числе один из членов ее семьи, ее компаньонка и ее врачи, — не предпочли сдержанность и молчание? И разве, наконец, сам плебс, в какой-то момент охваченный, как порывом ветра, волнением, вызванным слухами, разве и он не забыл об этом?
Я помню, как в тот вечер вновь и вновь задавал себе весь этот каскад риторических вопросов, ходя по комнатам на вилле Кампителли, отказываясь от еды, несмотря на просьбы и понукания Магдалены, читая и перечитывая письмо Гойи, говорившее так много и так мало, и пытаясь во что бы то ни стало найти ответ в присланном рисунке — в лице Сфинкса — в лице махи-герцогини, в стакане, одновременно смертельном и спасительном, в той прописи, изящной, думаю английской, которой было выведено: «От чего умерла несчастная?» Рисунок, казалось, давал ответ, и этот ответ заставлял меня содрогаться. По прошествии более двадцати лет я спрашивал себя: возраст или близость смерти — в сущности, ведь это одно и то же, — что именно заставляет меня сейчас, как тогда Гойю, почувствовать необходимость рассказать правду, вернее, наши правды, отличные одна от другой, но обе в равной мере настоятельные, о «прискорбном происшествии»? Так что сейчас кто-нибудь может спросить обо мне так-же язвительно, как я спрашивал в тот вечер: зачем этот глупый и дряхлый старик хочет воскресить в середине века то, что было похоронено на его заре?
В тот же вечер я был в опере вместе с четой Русполи, итальянскими свекровью и свекром моей дочери, ограничившими светские контакты со мной тремя или четырьмя проявлениями вежливости в год, при этом чаще всего они приглашали меня в свою ложу; давали «Лукрецию Борджиа» Гаэтано Доницетти, уже тогда одного из моих любимых композиторов. Я поспешил принять приглашение, главным образом потому, что получил его в тот самый вечер, обычный порядок которого был нарушен письмом Гойи, и воспринял его как ниспосланную судьбой возможность избавиться от чрезмерного и все возрастающего волнения, вызванного письмом. Но я ошибся в расчетах. Ни чарующий лиризм молодого композитора, ни нежнейшие сопрано и тенор, ни прелести, весьма далекие от мужских, молоденькой девушки, исполнявшей роль графа Орсини, — ничто не могло унести меня в то небо развлечения и забвения, которое я предвкушал заранее; я был по-прежнему погружен в другое, таинственное небо, где маха дона Фанчо летела с бокалом в руке, пытаясь вырваться из когтей безобразных демонов; я продолжал оставаться с ней, с этим белым плоским изображением, почти символом — скорее души, чем тела; оно наложилось на образы моих собственных воспоминаний о Каэтане, расплывчатых и смутных из-за ее отдаленной телесности, и почти полностью вытеснило их. Хуже того: оказалось, что в опере с самого первого действия не говорили и не пели ни о чем другом, кроме как о яде — и в стакане, и в пузырьке, который в последнем акте несколько раз переходит из рук Лукреции в руки ее сына и обратно, и мне почудилось, что я вижу, как в галлюцинации, стакан венецианского стекла, так точно воспроизведенный на рисунке Гойи, — в левой руке махи, и это был… боже мой, да, тот самый украшенный эмалью стакан, и я все еще могу вспомнить его, как он сверкал на туалетном столе Каэтаны. Сверкает стакан в руке Лукреции, и я вдруг вижу Каэтану — или только гравюру Гойи? — она подносит стакан к губам. Я приподнимаюсь, издаю приглушенный стон, подобный тому, что вырывает нас по ночам из кошмара, отгоняя его порождения, и на фоне залитой светом сцены вижу обращенное ко мне лицо химеры — лицо свекрови моей дочери, и лицо ее свекра; он сочувственно наклоняется ко мне и сквозь усы спрашивает sotto voce — вполголоса: «Что случилось, дон Мануэль?»[20]
Я выпил бутылку «Фраскати», надеясь, что вино поможет мне уснуть, и тут же лег спать, не позволив себе даже взглянуть на письмо или рисунок, но мне так и не удалось забыться сном: образ реальной Каэтаны — Каэтаны накануне смерти, в платье огненного, белого каления цвета, с поблекшим и словно бы песочным лицом ее последних дней, искусно раскрашенным косметикой, — этот образ все силился пробиться сквозь почти абстрактное лицо присланного наброска: белый овал, короткий эллипс рта, два небольших полукруга век под дугами черных бровей и пунктирная линия опущенных ресниц. Я не хотел засыпать с этой вереницей образов, к которым в довершение всего присоединились еще и монстры, липкие, копошащиеся, скрюченные, — комок ужаса и дикости, готовый прыгнуть на меня, как только я усну. Я встал с кровати, взял горевшую свечу и пошел в кабинет. Там среди новых документов и бумаг я хранил несколько старых, которые сначала Мюрат, а потом шурин смогли спасти от расхищения и конфискации[21]. Я не ошибся. Нужный документ был на месте, пожелтевшие, давно уже никем не листавшиеся страницы были расшиты. В тишине ночи, которую не могли нарушить ни далекий соловей, ни усталый скрип старого дерева, я читал донесение.
ДОНЕСЕНИЕ МИНИСТЕРСТВА ПОЛИЦИИ Мадрид, июль-август 1802 года
В городе Мадриде в день Господа нашего тридцать первый месяца июля 1802 года в силу Королевского указа Его Величества дона Карлоса IV, подписанного двадцать восьмого дня сего же месяца в его дворце Ла-Гранха и переданного нашему Министерству его превосходительством сеньором Премьер-министром доном Мануэлем Годоем, Князем мира, для скорого и усердного его исполнения, было начато расследование причин смерти доньи Марии дель Пилар Тересы-Каэтаны де Сильва-и-Альварес де Толедо, герцогини де Альба, приключившейся в день Господа нашего двадцать третий сего же месяца в ее жилище в городе Мадриде, и по ходу расследования было выполнено следующее: шеф полиции собственной персоной в сопровождении двух полицейских чиновников посетил упомянутое жилище, известное под именем дворца Буэнависта, находящееся в том месте, где некогда были Сады Хуана Эрнандеса, со входом в него с улицы Императрицы, без номера, и, выполняя необходимые формальности, провел тщательный осмотр места происшествия и опросил всех лиц, которые могли бы дать достоверные сведения относительно упомянутой кончины герцогини де Альба.
В отсутствие прямых родственников — сеньора герцогиня де Альба была вдовой и не имела потомства, родители же ее умерли и, кроме нее, других детей не имели — нас приняли во дворце: сеньорита донья Каталина Барахас, горничная герцогини, и дон Рамон Кабрера, капеллан, которые предложили нам свои услуги и советовали также установить связь с доном Карлосом Пиньятелли, родственником покойной, и сами вызвались пригласить его во дворец. В ожидании прихода вышеупомянутого лица, проживающего не во дворце, а в собственном доме на улице Баркильо, мы предприняли обследование места происшествия в сопровождении сеньориты Барахас, предоставив сеньору капеллану, предложившему нам свои услуги, возможность заниматься своими обычными делами в дворцовой часовне.
Сеньорита Барахас, как выяснилось, была не просто горничной: среди всей челяди сеньоры герцогини она оказалась самым приближенным к своей хозяйке лицом, как из-за долгих лет службы, так и из-за деликатного характера выполняемых обязанностей, к тому же она, по ее собственному признанию, была около покойницы, когда та умирала, была первым свидетелем ее недомогания, принимала первые меры помощи, оставалась около нее все последние часы, вплоть до самой смерти; сеньорита Барахас проводила нас в личные комнаты сеньоры герцогини, расположенные на верхнем этаже и отделенные от других помещений несколькими пустыми залами (стены одного из них сплошь покрыты зеркалами), еще не включенными в жизнь дворца, поскольку их строительство еще полностью не завершено и они не имеют положенных украшений, и только один из них временно приспособлен для живописной мастерской художника дона Франсиско де Гойя, который по распоряжению сеньоры герцогини делает роспись этих залов. Покои сеньоры герцогини состоят из трех комнат: зала для туалета, спальни с альковом и гигиенического кабинета, оборудованного новейшими достижениями прогресса; из этих комнат хозяйка не выходила последние двенадцать часов своей жизни начиная с момента, когда она почувствовала первые признаки недомогания, и до самой кончины. Спустя восемь дней после ее кончины и пять дней после похорон комнаты были убраны и закрыты; все это было выполнено лично сеньоритой Барахас; при этом сеньорита Барахас не обнаружила в них ничего примечательного, о чем следовало бы сообщить нам; сеньорита Барахас обратила наше внимание на то, что эти комнаты имеют только одну дверь, соединяющую их с остальной частью дворца, эта дверь ведет из туалетного зала в общий коридор, что весьма затрудняет вход в покои не только посторонним людям, но и ее личным слугам; нами был произведен также опрос сеньориты Барахас, протокол которого приводится ниже.
Вопрос: — Ваше имя?
Ответ: — Каталина Барахас Карнейро.
В. — Кем вы являетесь покойной?
О. — Являюсь… являлась ее горничной.
В. — Являетесь или являлись?
О. — Извините. Являлась. Сеньора умерла. Она уже не нуждается во мне.
В. — Сколько времени вы служили горничной?
О. — Всю жизнь.
В. — То* есть с тех пор, когда вы обе были детьми?
О. — Извините. Я постараюсь быть точной. Я поступила в услужение к сеньоре герцогине в то время, когда она еще не вышла замуж. Я была совсем девочкой. Не помню точно, сколько мне было, извините. Когда она вышла замуж, я осталась при ней. Была одной из ее донсений. А горничной я стала восемь лет назад, когда ушла та, что работала раньше.
В. — Вы не помните точную дату?
О. — Да, помню. В день святой Каталины в 1794 году. Сеньора хотела, чтобы это было подарком на мои именины. Она была очень доброй и всегда думала о других.
В. — Когда вы в последний раз видели сеньору герцогиню живой?
О. — Она умерла у меня на руках.
В. — Была агония мучительной?
О. — Да, сеньора очень страдала. Но в самые последние минуты она стала спокойной.
В. — Не сказала ли она перед смертью что-нибудь. что могло бы заинтересовать следствие?
О. — Сказала… Хотя, простите… Не думаю, что это для вас интересно… Я бы предпочла…
В. — Это решаем мы.
О. — Она сказала: «Каталина, эта плутовка смерть заманивает меня, как тореро своей мулетой. Я ухожу туда…»
В. — Что, по вашему мнению, явилось причиной смерти?
О. — Даже врачи не смогли прийти к согласию. Говорят, что лихорадка… Может быть. Мы вернулись из Андалусии, где видели много смертей. Но там признаки болезни были другие. Словом, не знаю. Да это теперь и не важно.
В. — Важно или не важно — предстоит решать нам. Нет ли у вас каких-нибудь оснований считать, что смерть сеньоры герцогини была вызвана чем-то иным, нежели болезнью?
О. — Я вас не понимаю, сеньор.
В. — Какой-нибудь внешней причиной… Не была ли она вызвана преднамеренно. Не использовался ли, например, яд. Словом, не было ли это убийством?
О. — Боже меня упаси даже подумать об этом! Это отравило бы ненавистью мое сердце!..
В. — Оставим ваши чувства в стороне. Считаете ли вы возможным, что герцогиня, не ведая того, приняла яд?
О. — Но это было бы ужасно!
В. — Вы ведь не будете утверждать, что не знаете, о чем говорят в Мадриде?
О. — Я больше не выхожу на улицу, сеньор. Все мы, кто живет во дворце, только то и делаем, что оплакиваем герцогиню. И никому не приходит в голову мысль о яде, я уверена. Для нас всех ее смерть — воля провидения. Хотя нам трудно понять эту волю. Она оборвала в самом расцвете жизнь прекрасного существа: моей хозяйки.
В. — Не знаете ли вы кого-нибудь, кто относился бы к сеньоре герцогине так плохо, что мог бы желать ее смерти?
О. — Никого, сеньор. Здесь, во дворце, все ее любили. А вне дворца — вы должны знать об этом лучше, чем я. Но я не могу поверить, что…
В. — Принимала ваша хозяйка кого-нибудь накануне своей кончины?
О. — Она принимала многих, вечером. Она устроила праздник. За столом было шестнадцать человек. Сеньор Пиньятелли или сеньор Берганса, ее секретарь, смогут дать вам имена Я была на кухне, распоряжалась подачей блюд и слугами.
В. — Это входило в ваши обязанности?
О. — В мои обязанности входило все, что от меня хотела моя сеньора. Она относилась ко мне с полным доверием.
В. — Видели ли вы сеньору герцогиню после праздника?
О. — Конечно. Она вызвала меня к себе. Я всегда помогала ей… Извините, помогала раздеваться.
В. — Вы нашли ее в нормальном состоянии?
О. — Она была такой же, как всегда после праздников: слегка печальная, слегка беспокойная.
В. — Говорила она или делала что-нибудь необычное?
О. — Нет. Впрочем… она предложила мне выпить с нею. Нам подарили херес во время нашей поездки в Андалузию. Сеньора герцогиня держала эту бутыль на туалетном столе. Она и сейчас там, вы должны были видеть ее.
В. — Вы выпили?
О. — Мы обе выпили. Это очень тонкое вино.
В. — Когда у сеньоры герцогини появились признаки плохого самочувствия? Утром?
О. — Нет. Часа два спустя. Она снова вызвала меня к себе. Началась рвота, холодный пот, боли в животе… Немного погодя послали за врачом. Приехал доктор. Бонелльс. Уже наступило утро.
К тому времени, когда допрос был закончен, во дворец уже прибыл дон Карлос Пиньятелли. Сеньор Пиньятелли оказался молодым человеком благородного происхождения, со свободными манерами и живым характером. Сеньорита Барахас предоставила нам зал с рабочим столом на нижнем этаже, и мы могли пользоваться им, как своим, в течение всего расследования; мы пригласили в этот зал сеньора Пиньятелли и провели допрос, содержание которого излагается ниже.
Вопрос. — Ваше имя?
Ответ. — Карлос Пиньятелли-и-Алькантара.
В. — Кем вы являетесь покойной?
О. — Это нелегко определить. Прежде всего надо было бы, наверное, сказать о нашей давней и глубокой дружбе. Но нас связывали также и странные узы формального родства, поскольку мой отец, граф де Фуэнтес, во втором браке был женат на матери герцогини, и этот брак сделал нас, если вам угодно, братом и сестрой, но таким необычным образом, что мы могли бы и пожениться. Все это довольно запутано, я понимаю… Чтобы упростить наши отношения, мы называли друг друга кузеном и кузиной. Кузен Карлос, кузина Каэтана.
В. — Вы часто навещали ее?
О. — Сначала довольно часто. Наши отец и мать женились в тот самый день, когда она вышла замуж за герцога де Альба, и мы принадлежали к одному и тому же кругу, были ровесниками — правда, она была чуть старше меня, — мы посещали одни и те же званые вечера, принимали участие в одних и тех же развлечениях. Затем я уехал на несколько лет, жил в Париже. А когда вернулся, мы были совсем взрослыми, к тому же она уже была вдовой. С тех пор я начал постоянно бывать сначала в ее дворце Монклоа, а потом здесь, в Буэнависта, и стал чем-то вроде ее компаньона У французов есть для этого специальный термин: chevalier servant — кавалер в услужении. Как вы понимаете, он отнюдь не подразумевает интимных отношений.
В. — Когда вы видели ее в последний раз?
О. — Живой? Наверное, вас интересует именно это. Примерно за час до того, как наступила ее смерть, когда я снова отправился искать дона Франсиско Дурана, одного из ее домашних врачей, а «снова» я говорю потому, что мы до этого однажды уже пытались найти его, но безуспешно… Наконец мне удалось-таки разыскать врача, я привел его, и вскоре она умерла. Ужасно. Не могу поверить в это. Моя кузина была такой жизнерадостной, такой живой… Простите, это уже не то, о чем вы меня спрашиваете.
В. — Какие причины, по вашему мнению, вызвали ее смерть?
О. — Врачи смогут лучше, чем я, ответить на этот вопрос. Во всяком случае должны. Дело в том, что я не очень-то верю во врачей, хотя, конечно, прибегаю к их помощи, когда возникает нужда.
В. — Имеются ли у вас какие-нибудь основания считать, что смерть вашей кузины была вызвана чем-то… чем-то посторонним?
О. — Яд? Мне следовало предвидеть ваш вопрос, он неизбежен. Я хочу сказать, полиция всегда ищет в этом направлении… Разумеется нет. У меня нет никаких оснований. Хотя, с другой стороны, не знаю, почему я должен отвергать такую возможность…
В. — Постарайтесь, пожалуйста, отвечать точно на наши вопросы. Иначе нам будет трудно выдерживать порядок допроса. Не пришла ли вам в голову мысль о яде, когда вы увидели, как стремительно протекает болезнь сеньоры герцогини?
О. — Отвечаю точно. Нет. Не пришла. Скорее, мне пришла в голову мысль о том, каким безумием была ее поездка в Андалусию…
В. — Следовательно, вы считаете, что она заразилась в этой поездке…
О. — Я ничего не считаю. Откуда мне знать. Спросите лучше врачей. Однако все отговаривали ее от этой поездки, предупреждали о вспышках эпидемии, приводили разные доводы, а она, как всегда, поступила по-своему.
В. — Стало быть, если бы покойница не совершила поездку, она не заболела бы той болезнью, что за несколько часов свела ее в могилу?
О. — Вы настаиваете! Что вы хотите, чтобы я вам сказал? Только Богу это известно! Конечно, если дело касается столь важного лица, следует уделять внимание таким деталям… Хорошо, я отвечу. Моя кузина чувствовала себя не вполне здоровой в течение долгого времени, ее организм был уже ослаблен… И если она в таком состоянии заразилась чем-нибудь, болезнь, естественно, имела самые благоприятные условия для развития.
В. — Значит, кто-нибудь мог попытаться воспользоваться этой слабостью?
О. — Что вы хотите сказать? Опять убийца? Ну хорошо, допустим. Ведь само по себе это не невозможно. Яркие личности вызывают бешеную злобу у посредственности, сеньор. А кузина Каэтана была яркой личностью. Так что вам остается отыскать какую-нибудь посредственность с задатками убийцы.
В. — Вернемся к конкретным вещам. Герцогиня устроила праздник прямо накануне своей смерти. Не могли бы вы нам сказать…
О. — Вот, пожалуйста. Я составил список, пока ждал разговора. Я был уверен, что вы его попросите. Всего шестнадцать лиц, включая хозяйку дома. Интимная встреча, хотя приглашенные были на все вкусы: от наследного принца до комического актера. Прочтите. Здесь полная картина светской жизни моей кузины…
В. — Мы прочитаем его в свое время. А пока соблаговолите сообщить: не ела ли герцогиня что-нибудь такое, чего не пробовали остальные гости?
О. — Сеньор шеф полиции, есть или пить что-нибудь отличное от того, что предлагается гостям, в нашем кругу считается проявлением невоспитанности.
В. — Допрос закончен, сеньор Пиньятелли.
Список сотрапезников герцогини, бывших в доме накануне ее смерти, включает следующих лиц: дон Фернандо, принц Астурийский; генералиссимус сеньор герцог де Алькудия и Князь мира дон Мануэль де Годой со своей супругой сеньорой герцогиней де Чинчон; кардинал-архиепископ Толедский дон Луис де Бурбон; графы-герцоги де Бенавенто-Осуна; граф де Аро и его нареченная донья Мануэлита де Сильва-и-Вальдстейн; генерал Эусебио Корнель; донья Пепита Тудо; дон Карлос Пиньятелли; дон Франсиско де Гойя, художник; дон Исидоро Майкес, актер; донья Рита Луна, актриса, и дон Мануэль Костильярес, тореадор. Дон Мануэль Годой и его супруга удалились примерно в два часа ночи; все остальные — два часа спустя; сам же сеньор Пиньятелли, после того как попрощался с гостями от имени хозяйки, вернулся в свой дом. Мы полагали, что отсутствуют всякие основания к тому, чтобы беспокоить кого-либо из названных лиц, поскольку сеньора герцогиня де Альба пребывала в нормальном состоянии до самого окончания праздника, который прошел вполне нормально.
Но вместе с тем мы сочли необходимым опросить двух врачей, которые находились при покойной во время агонии, и мы попросили сеньора Пиньятелли, чтобы он пригласил их на следующий день. С тем мы и удалились, взяв с собой немного хереса из бутылки, чтобы подвергнуть его соответствующему анализу в одной из официальных лабораторий.
Первого дня августа 1802 года мы явились к шести часам вечера во дворец Буэнависта, где нас уже ожидали дон Хайме Бонелльс и дон Франсиско Дуран, домашние врачи покойной. Доктор Бонелльс оказался человеком преклонного возраста, имевшим внешность и взгляды старых врачей и присущую им сдержанность; доктор Дуран — молодым, энергичным человеком, принадлежавшим к новому поколению медиков, сформировавшихся на медицинских идеях, принятых во французских и английских университетах. Первым мы опросили старшего из врачей.
Вопрос. — Ваше имя?
Ответ. — Хайме Бонелльс Суньер.
В. — Кем вы являетесь покойной?
О. — Я имею честь быть домашним врачом знаменитой семьи де Альба в течение уже сорока с лишним лет; я пользовал сеньору герцогиню с момента ее вступления в семью в 1775 году и был около последнего герцога де Альба, ее мужа, до его последнего вздоха.
В. — И около герцогини до ее последнего вздоха 23 числа прошедшего месяца июля?
О. — Не имел чести. В эти минуты меня заменил мой коллега дон Франсиско Дуран. Молодой и заслуженный, хочу особо подчеркнуть это, медик.
В. — Вы хотите сказать, что она была в хороших руках?
О. — С того времени, как она оказалась в его руках, я только и делаю, что повторяю это.
В. — Значит, вы не ухаживали за герцогиней во время ее агонии, завершившейся смертью?
О. — Я плохо разъяснил, прошу простить меня великодушно. Меня вызвали рано утром к постели герцогини, и я был около нее в течение девяти часов, пытаясь улучшить ее состояние. К сожалению, безрезультатно. Не пожелал Господь.
В. — Так вы были ее домашним врачом?
О. — Я вижу, что должен внести уточнение. И был, и не был. Я постоянно пользовал герцогиню, но четыре года назад она приняла решение заменить меня доктором Дураном. Я оставался в ее распоряжении, и не мог по-другому; это было моим моральным долгом — по-прежнему являться во дворец по первому зову и лечить членов ее семьи и слуг. Однако, что касается самой герцогини, ее я уже больше никогда не лечил, за исключением нескольких случаев легкой простуды, а также за исключением случаев, когда в городе не оказывалось моего упомянутого коллеги.
В. — Почему же тогда вас позвали той ночью?
О. — Меня позвали не сразу, я думаю, что сначала послали за доном Франсиско, но не нашли его. А старый Бонелльс всегда на месте и всегда готов поспешить на помощь кому угодно, а тем более самой герцогине, как ему предписывают долг врача и христианская мораль.
В. — Не следует ли понимать ваши слова в том смысле, что другой врач их лишен?
О. — Боже упаси! Я этого не говорил. Наверное, доктор Дуран имел весьма веские причины к тому, чтобы не броситься немедленно на помощь, поскольку он, повторяю, в полной мере заслуживает моего профессионального уважения.
В. — Какое у вас сложилось мнение относительно болезни, мучившей герцогиню?
О. — Вы сыплете мне соль на раны, сеньор шеф полиции. Учитывая, что я четыре года не лечил свою пациентку, это был не самый подходящий случай, чтобы сделать заключения о ее состоянии. Сначала я решил было, что у нее отравление, одно из тех, что вызывается летними миазмами; но потом выяснил, что сеньора герцогиня, противу всех рекомендаций, в том числе и моих, настояла на своем путешествии в Андалусию; узнав от сеньориты Каталины, что сеньора герцогиня позволяла себе вступать в контакт с больными, я склонился к мысли, что она заразилась одной из тех ужасных лихорадок, которые в течение нескольких дней протекают скрытно, а затем вдруг проявляются в острой форме. Что и случилось на самом деле.
В. — Думаете ли вы, как и другие, что организм герцогини был угнетен и ослаблен и, соответственно, предрасположен к тому, чтобы воспринять любую болезнь?
О. — Герцогиня была крепкой женщиной, ей не исполнилось еще и сорока лет. Ну а если она страдала от старых болезней, которые лечили неправильно или небрежно, об этом я ничего не могу сказать. Доктор Дуран, который пользовал ее в течение последних четырех лет, может рассказать об этом лучше, чем я. Я же ограничил себя тем, что было мне доступно, и должен сказать, что по воле Бога потерпел поражение, и, как только узнал, что Франсиско собирается приехать, решил отправиться домой, чтобы не вмешиваться в лечение доктора Дурана и не высказывать сомнений, ибо к таким вещам я питаю самое глубокое отвращение.
В. — Не мелькнула ли у вас в какой-то момент мысль, что герцогиня могла быть отравлена?
О. — О чем вы говорите? Ни в какой момент. Да и кем? Боже правый! В доме де Альба такого не может быть. Мы живем в Испании, сеньор шеф полиции, и хотя нас одолевают демоны, ничто так не чуждо испанской душе, как яд — самое коварное и предательское оружие. Нет, я полностью отвергаю такое подозрение.
В. — Следовательно, вы отрицаете, что кто-либо мог быть заинтересован в том, чтобы физически устранить герцогиню?
О. — А зачем бы ему это делать? Ведь это была герцогиня де Альба! Она имела свои слабости — а кто их не имеет? Была, может быть, немного непостоянной, выдумщицей, и поэтому была иногда склонна к капризам и к фантазиям, я имею в виду некоторые формы знахарства, но ведь за это никого еще не отравляли, сеньор! А кроме того, врач с таким большим опытом, как у меня, сразу обнаружил бы признаки отравления и принял бы необходимые меры, а в случае неудачи потребовал бы вскрытия. Но ничего такого не произошло, и это лучший ответ на ваш вопрос.
Мы отпустили сеньора Бонелльса, немного разволновавшегося во время последних своих показаний, и пригласили войти дона Франсиско Дурана. Встретившись, лекари приветствовали друг друга весьма холодно, но вежливо. Молодой врач уселся и стал задавать нам вопросы, поэтому мы были вынуждены заметить ему, что он здесь для того, чтобы отвечать. Ниже мы приводим содержание опроса.
Вопрос. — Ваше имя?
Ответ. — Франсиско Дуран-и-Конде.
В. — Кем вы приходитесь покойной?
О. — Я домашний врач, с 1798 года.
В. — Вы сменили дона Хайме Бонелльса?
О. — Бонелльс уже успел сказать? Бедный старик. Для него это было нелегко, и он не может забыть об этом. Он говорил обо мне очень плохо?
В. — Пожалуйста, доктор Дуран. Мы вам повторяем: спрашивать — наше дело. И наш допрос совершенно конфиденциален.
О. — Хорошо-хорошо. Я понимаю. Так лучше. Не будем терять времени напрасно. Спрашивайте.
В. — По какой причине вы стали врачом сеньоры герцогини?
О. — Да по самой обыкновенной. Меня рекомендовали. Я вылечил детей в семье Бенавенто-Осуна. Герцогиню же мучили головные боли, которые никак не поддавались лечению… Ну, короче говоря, старик Бонелльс не мог попасть с ними в точку. А я смог. Большой заслуги здесь нет. Вся медицина — наполовину возможность, наполовину слепой случай. Искусство, еще не вышедшее из пеленок. И лучше знать об этом.
В. — Считаете ли вы, что организм вашей пациентки, сеньоры герцогини, был ослаблен и подвержен…
О. — Это слишком общие утверждения, они простительны для профана, но не для человека науки. На герцогиню благоприятно действовало мое лечение, и плохо — лечение других Ей было, как я полагаю, около сорока лет. Возраст, когда организм уже отступает на несколько пядей перед смертью.
В. — Имеется ли у вас достаточно ясная идея о том, что вызвало эту смерть, такую неожиданную и… скажем, насильственную?
О. — Дело в том, что, когда я приехал, она уже умирала. Вы знаете, что ее близкие искали меня в течение всего дня, но я, как вышел из дома, все еще не возвращался*. Обстоятельство, достойное глубокого сожаления. Может быть, мне и удалось бы сделать что-то. А в том состоянии, в каком я ее нашел, лучше всего было оставить ее умирать спокойно.
В. — Так вы допускаете, что она могла умереть по какой-то посторонней, внешней по отношению к ее организму причине?
О. — Что вы хотите сказать? Поясните.
В. — Яд…
О. — О боже! Я так. и думал. Как ужасно! Яд? Хотя почему бы и нет? Но с другой стороны: почему да? Нет никаких строго научных доводов, что заставляли бы нас прийти к такому заключению. Это просто гипотеза., из пьесы или из романа! Хотя у меня нет строго научных доводов и для того, чтобы отбросить ее. Хотите, скажу вам правду? Для меня версия насчет яда правдоподобна не больше, чем гипотеза относительно мадридских миазмов или андалусийской заразы… Одно стоит другого. Все это умозрительные рассуждения, не опирающиеся на факты… Но мы ведь не собираемся подвергнуть из-за них тело бедной герцогини вскрытию, не так ли? Тогда удовольствуемся медицинским заключением, которое я согласовал с Бонелльсом:
«Сим удостоверяется, что смерть тра-та-та тра-та-та доньи Марии Тересы тра-та-та тра-та-та по причине кишечной лихорадки, вызвавшей тра-та-та тра-та-та…»
В. — Спасибо, сеньор доктор, можете быть свободны.
О. — Да, кстати. Добрая душа Каталина только что сообщила нам, что сегодня к вечеру все мы приглашаемся в контору нотариуса, где будет зачитано завещание герцогини. Очевидно, нам оставлено какое-то наследство. Бонелльсу тоже. Надеюсь, его доля будет не меньше моей. Этого он бы не перенес. У него очень высокое кровяное давление. Если вы придете завтра, сеньор полицейский, возможно, всем нам уже будет что праздновать. Ведь герцогиня была на редкость щедрой. Хотя каждый, я уверен, предпочел бы вместо этого видеть герцогиню живой, видеть, как она поет, как порхает по своему дворцу. Яд? Слишком мелодраматично, сеньоры.
В. — Вы можете быть свободны, доктор Дуран.
Второго дня месяца августа мы получили заключение об анализе хереса — результат оказался отрицательным. Судя по всему, это было вино наилучшего сорта, исключавшее всякую мысль о подделке. Поскольку анализу подвергалось все содержимое бутылки на туалетном столе, она в конце концов совсем опустела. Прибыв во дворец в то же время, что и в предыдущие дни, мы застали там сеньора Карлоса Пиньятелли и с ним еще шесть лиц: сеньориту Барахас; врачей дона Хайме Бонелльса и дона Франсиско Дурана, об опросе которых мы уже составили необходимые документы; а также дона Рамона Кабреру, капеллана; дона Томаса де Бергансу, секретаря; и дона Антонио Баргаса, управляющего и казначея герцогини. Все семеро хотели официально поставить нас в известность, что они стали наследниками состояния герцогини, разделенного поровну между ними, хотели выразить нам свою готовность оказать всяческое содействие в проведении расследования и вместе с тем выразить пожелание, чтобы оно осуществлялось в такой форме, которая не давала бы новой пищи слухам, циркулирующим по городу (и лишенным, по их мнению, каких-либо оснований, но питаемым нашим расследованием), и чтобы ненужным скандалом не была потревожена память их прекрасной и любимой благодетельницы. Надо сказать, что сеньор Пиньятелли, взявший слово от имени всех остальных, проявил гораздо большую готовность к сотрудничеству, чем во время предыдущей встречи, а сеньоры Бонелльс и Дуран многократно заявили, что они совместно обсудили случай и полностью согласны друг с другом в том, что предположение о яде должно быть отвергнуто и нет никакой нужды в проведении вскрытия. Поскольку трое из присутствующих еще не были подвергнуты опросу, мы оставили их во дворце. Первым мы пригласили к себе сеньора капеллана.
Вопрос. — Ваше имя?
Ответ. — Рамон Кабрера Перес.
В. — Кем вы являетесь покойной?
О. — Я исполняю обязанности дворцового капеллана, как исполнял их раньше во дворце Монклоа, а во время путешествий покойной по ее имениям — в часовнях и молельнях ее домов и дворцов.
В. — Вы были также ее исповедником?
О. — При случае.
В. — Вы хотите сказать, что сеньора герцогиня не часто причащалась?
О. — Отнюдь нет, сеньор. Это было бы так же далеко от того, что я вам сказал, как и от того, что вы меня спросили. Ведь речь идет о глубоко личных отношениях между человеком и Богом, и мы, священники, выступаем лишь посредниками в…
В. — Когда в последний раз вы исполняли свои обязанности?
О. — Когда герцогиня умирала. Я успел дать ей последнее отпущение грехов. И последнее причастие.
В. — Какой причине приписываете вы ее кончину?
О. — Господь пожелал призвать ее в свое лоно. Естественным путем… Скажем, болезнь… Словом, не знаю. Вы ведь уже слышали об этом от ее врачей. Я был у нее четыре или пять раз во время агонии, чтобы помочь молиться. Бог ниспослал ей весьма жестокое испытание. Приступы боли следовали почти беспрерывно. Она едва могла закончить молитву. Под самый конец она обессилела и затихла, будто ее организм перестал бороться за то, чтобы душа свободно отлетела к Богу.
В. — Так у вас не сложилось определенной идеи относительно болезни, которая унесла сеньору герцогиню?
О. — Это дело врачей, сеньор. Мое внимание было направлено на*другое. Всякая агония имеет два лица. По-гречески «агония» значит «борьба». И эта борьба двояка: с одной стороны, она ведется за здоровое тело — этой ее стороной занимается врач; а с другой стороны, за дух, и только эта сторона интересует священника, который оказывает помощь умирающему.
В. — Не подумали ли вы в какой-то момент, что сеньора герцогиня могла быть отравлена?
О. — Мой ответ уже предрешен тем, что я вам только что сказал. Мне это не приходило в голову. Но теперь, когда вы произнесли слово, когда все, кажется, только и делают, что судят и рядят об этом, теперь я могу сказать, что решительно отвергаю подобную мысль. И поймите меня правильно: нас, священников, не пугает зло, напротив, мы привыкли к нему даже больше, чем все остальные смертные, но в данном случае мысль о яде мне представляется проявлением глубокой мирской извращенности. Настали времена безверия — и таинственные предначертания Бога больше не считаются достаточной причиной. Требуется, как того желают демоны рационализма, всему находить объяснения.
В. — Благодарю вас, падре. Самый последний вопрос: не знаете ли вы людей, которые желали бы зла герцогине?
О. — Никогда не следует искать врагов вокруг себя, сударь. Враги подстерегают нас в нашей собственной душе. У графини были враги. Конечно. У кого их нет? Гордыня, суетность этого мира, беспорядок в чувствах — вот ее яды! Вот ее отравители!
В. — Достаточно, падре. Спасибо за вашу любезность. Будьте так добры, передайте сеньору Бергансе, чтобы он вошел.
Старый падре Кабрера, который, судя по всему, недолго будет наслаждаться доставшимся ему наследством, поскольку здравого рассудка ему хватит лишь на несколько лет, уступил место сеньору де Бергансе — молодому, невысокому, очень подвижному человеку, сразу проявившему добрую волю и интерес к допросу.
Вопрос. — Ваше имя?
Ответ. — Томас де Берганса-и-Гарсия де Суньига.
В. — Кем вы являетесь покойной?
О. — Ее личным секретарем, в течение трех последних лет. Но уже многие годы до этого она была моей благодетельницей — с того самого времени, когда я остался сиротой после смерти отца, а было мне тогда шесть лет. Сеньора герцогиня оказывала мне покровительство, следила за моим воспитанием, оплатила учебу и потом взяла к себе на службу. Я обязан ей всем.
В. — В чем состояла ваша работа?
О. — В том, чтобы следить за корреспонденцией, самому писать ответы, когда дело не касалось сугубо личных писем, делать для нее записи о светских обязательствах, встречах, принимать некоторых посетителей, делать кое-какие покупки и, конечно, вы меня понимаете, в том, чтобы выполнять все поручения, которые требовали доверия поручителя к моему вкусу, к моему выбору… Возьмем для примера хотя бы последний праздник: я должен был решить, как рассадить гостей за столом, закупить цветы, нанять музыкантов и выбрать музыку, которую они будут исполнять: Боккерини, Гайдна, Корелли. Видите, сколько всего? Тысяча деталей. То была утонченная жизнь, и без герцогини она уже никогда не станет такой, как прежде. Несмотря на ее необыкновенную щедрость…
В. — Когда вы видели ее в последний раз?
О. — В день праздника — когда он начинался — и еще один раз, когда я выглянул к гостям, чтобы посмотреть, все ли идет как надо. И все шло как надо. Это был незабываемый праздник. Сеньора герцогиня в ту ночь была просто великолепна в своем платье огненного цвета. Кто бы мог подумать, что всего через несколько часов… Простите, не могу вспоминать об этом без…
В. — Вы не видели ее во время агонии?
О. — Я не хотел, не мог. Был слишком потрясен. Я не мог бы сдержаться перед нею. И все решили, что мне лучше не входить… Да и я предпочитаю остаться с тем моим последним воспоминанием. Она была королевой праздника! Богиней! Именно так: богиней!
В. — Как по-вашему, от чего умерла герцогиня?
О. — О господи, она была такая деликатная, такая хрупкая, что любая вещь могла бы… И было чистым безумием с ее стороны отправиться в Андалусию, несмотря на то что все ее отговаривали. Известно ли вам, что она даже провела там всю ночь у постели больного негра, страдавшего от этой страшной лихорадки? И ни под каким видом мы не могли воспрепятствовать этому. Пока наконец нам не удалось увезти ее в Мадрид… А для чего, боже мой, для чего? Для этого печального конца?.. Простите, вы уже проявляете нетерпение. От чего она умерла? По-моему, она заразилась лихорадкой… Но вы не спрашиваете меня о яде?
В. — Расскажите нам, пожалуйста. Об этом.
О. — Что я могу вам сказать? Кто может знать о яде? Яд, яд, яд! — это была бы трагическая развязка прекрасной жизни… Это почти логично, разве не так? И однако когда ей могли дать яд? Во время праздника? Но разве осмелился бы кто-нибудь насыпать яд в ее бокал на глазах у всех? И кто? Один из гостей? Бог мой! Вы ведь видели список! Сама королевская семья, кардинал, графы-герцоги де Осуна… а другие: Гойя, Костильярес, супруги Майкес — все ее обожали… Кто же тогда? Кто?
В. — Вот об этом мы и хотели бы спросить вас, сеньор де Берганса. Кто?
О. — Изверг. Только изверг мог бы решиться оборвать из зависти такую прекрасную и такую блестящую жизнь, как жизнь нашей герцогини… именно так, изверг. Вам надо бы искать изверга, сеньор шеф полиции.
В. — Благодарю вас за содействие, сеньор де Берганса. Можете удалиться.
О. — Могу я сказать сеньору Баргасу, чтобы он вошел?
В. — Будьте столь любезны.
Сеньор Баргас оказался человеком преклонного возраста, он был одет в черное платье и напоминал осторожного судейского казуиста. Показания он начал давать с большой осмотрительностью и в мгновение ока рассеял атмосферу несколько лихорадочного возбуждения, остававшуюся после ухода сеньора де Бергансы. Он молча сел и почти не поднимал глаз, скрытых за очками-пенсне.
Вопрос. — Ваше имя?
Ответ. — Антонио Баргас.
В. — Баргас — и дальше?
О. — Баргас Баргас.
В. — Кем вы являетесь покойной?
О. — Я был ее управляющим и казначеем. А раньше я был казначеем у покойного герцога.
В. — Когда в последний раз вы видели герцогиню живой?
О. — За несколько часов до ее смерти. Я был в передней комнате и не хотел входить, боялся ее беспокоить. Она приказала меня позвать. Хотела видеть.
В. — Она хотела вам что-нибудь сообщить?
О. — Я думаю, что, несмотря на свое недомогание, она хотела закончить день, как всегда, — вызвать меня и сделать необходимые распоряжения. Но мне достаточно было взглянуть на нее, чтобы понять, что это невозможно. Бедная маленькая герцогиня… Простите, для меня она всегда была маленькой герцогиней, ведь я знал ее с тех пор, когда она была еще почти девочкой — со дня ее свадьбы. Так вот сеньора герцогиня умирала. Я понял это сразу.
В. — Так для чего она приказала вас позвать? Чтобы проститься с вами?
О. — Может быть. Может быть, и для этого тоже. Бедняжка. Но у нее было что мне сообщить: имя нотариуса, которому она передала на хранение свое завещание.
В. — Чему вы приписываете смерть герцогини?
О. — Я присоединяюсь к тому, что говорят врачи. Все остальное я считаю пустой болтовней.
В. — И вам ни разу не пришло в голову, что какое-нибудь постороннее воздействие, какой-ни-будь…
О. — Яд? Ни разу. Выдумки бездельников.
В. — Не знаете ли вы людей, которые хотели бы причинить зло герцогине?
О. — Никого. Самое большое, что могли чувствовать к ней некоторые люди, — немного ревности. Но учитывая цель, с которой вы задаете этот вопрос, — никого. Она была открытой, прямой, щедрой женщиной. Обезоруживала любого, самого строптивого.
В. — Вы можете быть свободны, сеньор Баргас. И — спасибо.
О. — Спасибо вам.
Помедлив минуту, чтобы протереть свои очки, сеньор Баргас удалился, и допрос…[22]
М.Г.
РИМ, НОЯБРЬ 1824 ГОДА (Продолжение)
Была половина пятого утра, когда я закончил читать донесение, — и насыщенность, живость воспоминаний и всплывших в памяти ярких, почти телесных образов, излучавших тепло и даже имевших свой собственный неповторимый запах, так же, как в ту ночь двадцать два года назад, оставили во мне густой осадок минувшего; донесение оказалось успокаивающим, потому что после всех сплетен, разбежавшихся, как огонь по хворосту, после нависшей угрозы скандала, после тревоги первых дней расследования, после мрачных предчувствий и ожидания всего самого худшего, оно принесло мне безмерное облегчение. Все вернулось на круги своя, порядок был сохранен в неприкосновенности, а ведь сохранение порядка и составляло мои обязанности перед короной и перед моим любимым сеньором Карлосом IV; рассеялись все тени — не только те, которые злонамеренно и каверзно затрагивали особу самой королевы по причине ее постоянного соперничества с герцогиней де Альба, и затрагивали также меня из-за того, что Каэтана поддерживала партию, враждебную моей[23] (в ту эпоху любой скандал неизбежно касался нас всех), но и те, которые менее заметно, но более опасно и близко затрагивали другое значительное лицо; его причастность к загадочной и странной смерти, не говоря уже о преднамеренном убийстве, явилась бы настоящей трагедией для чести Испании. Но мне кажется, я опять предвосхищаю события.
Приказ о тщательном расследовании причины смерти герцогини был отдан самим королем, и я, не уклонившись ни на йоту от веления долга, принял все меры к его исполнению, не оставляя без внимания некоторых подсказок и рекомендаций, полученных мною по ходу расследования, но вместе с тем и не ограничивая себя в принятии окончательного решения: исключить из донесения некоторые высказанные во время допросов крайности по причине их несостоятельности, а также из-за того, что они способствовали бы распространению новых сплетен и подозрений. Поэтому если тщательность расследования своевременно и была дополнена строгостью цензуры, то это делалось лишь с целью избавить корону от неприятностей еще больших, нежели те, которые уже побудили к действию самого короля. И вот результат: достигнутое облегчение, возвращение вод в свое русло, профессиональный и лаконичный тон донесения, о который должны разбиться и рухнуть, потеряв силу, как злостные умыслы клеветы, так и безобидные проявления праздного любопытства. Дело было официально прекращено.
Однако это не могло успокоить мою совесть, даже напротив, ведь я знал, что донесение было намеренно неполным, что некоторые важные данные были сокрыты — мной самим! — а выводы были не то чтобы необоснованными или недостаточно ответственными, они были просто-напросто плодом подтасовки. Вот почему, читая донесение, я испытывал противоречивые чувства: вновь переживаемое облегчение — и пришедшее теперь беспокойство, старое удовлетворение от выполненного перед моим сеньором долга — и новое осознание моей ответственности за ту неправду, которая содержалась в документе, даже если она заключалась просто в умолчании[24]. Столько лет прошло, и вот беспокойной ночью на вилле Кампителли я перечитывал донесение, и во мне непостижимым образом оживали эти противоположные чувства, будто снова вернулось то время, будто снова прошло лишь несколько дней после смерти Каэтаны, и к страху, охватившему меня, когда я узнал, в какой форме протекала ее агония, снова добавилось ползущее по дворцу шушуканье, сочившееся ядом извращенного воображения, вновь превращавшего нас, «старуху и любовника» (как безжалостно называли королеву и меня кучки людей, собиравшихся на площади Пуэрта дель-Соль, в закоулках вокруг нее и на улице Пасео), в злоумышленников, задумавших отравление[25]; и еще больший страх: как бы при доказательстве нашей невиновности не возник вдруг, как чертик из табакерки, другой подозреваемый, которого я сам и, еще ужаснее, сама королева смогли бы посчитать убийцей. Этот убийца был так близко, что мне почудилось, будто я слышу его дыхание прямо около моей кровати… Но боже, боже! Я ведь находился в Риме, и уже в 1824 году, а Мадрид и тот день 23 июля 1802 года были теперь так далеки от меня и во времени, и в пространстве. Но однако…
Проклятый Гойя! Что ему стало известно? Что он разнюхал, этот неотесанный крестьянин, в маленьких черных глазках которого было что-то от колдуна? И если его сведения или его домыслы обвиняли именно того человека, то разве мог он думать, что его открытие доставит мне теперь удовольствие или какую-то мстительную радость?
Сквозь занавески уже пробивался свет. И когда я совсем уже начал было засыпать, мне вдруг понравилась идея вызвать дона Франсиско в Рим…
На следующий день я изменил обычный порядок моей утренней прогулки и первым делом пошел на почту и отправил письмо в Бордо. В письме говорилось:
Уважаемый дон Франсиско!
Я испытал большую радость, когда получил от Вас письмо и узнал, что Вы по-прежнему полны сил и творческой энергии, необходимой для создания новых шедевров, и готовы предпринять такие длительные путешествия, как, например, то, что привело Вас во Францию, или то, что Вы предполагаете совершить в Рим с целью навестить меня. Но я, хотя и прожил, к моему сожалению, все эти долгие годы в Риме, решил сменить воздух, и несмотря на то, что еще не знаю, окажусь ли я в Лондоне или в Вене, — поскольку я исключаю Париж по причинам, о которых Вы можете догадаться, — я тем не менее обязательно куда-нибудь вскоре отправлюсь[26]. Но об этом я еще напишу Вам, потому что мне действительно понравилась мысль встретиться с Вами и потолковать о прошлом, хотя мои «Мемуары» пока не больше чем намерение, и когда я буду их писать (если это время когда-нибудь настанет), я буду касаться только политических событий, от которых Вы, на Ваше счастье, всегда были весьма далеки[27]. Не исключено, что если нам удастся встретиться, Вы сможете написать мой портрет: Вы ведь не потеряли руку, я хорошо вижу это по наброску, что Вы мне послали, — я Вам очень за него признателен, — столь интересный по замыслу и столь мастерский по рисунку. Я же, напротив, как Вы убедитесь, если мы увидимся, много потерял и в осанке, и в силе, для меня слишком быстро промчались эти печальные годы[28]. Прошу Вас передать от меня привет испанским друзьям, с которыми Вы там встречаетесь, и засвидетельствовать мои добрые чувства сопровождающим Вас родственникам. С Вами ли Хавьер?[29] Примите уверения в моей дружбе и неизменном к Вам уважении.
Дон Мануэль де Годой,
Князь мира.
Как у меня было заведено, я сохранил копию этого письма.
БОРДО, ОКТЯБРЬ 1825 ГОДА
В октябре 1825 года я решил совершить инкогнито путешествие в Париж, к чему меня побудили чисто политические соображения, раскрывать которые сегодня уже не имеет смысла[30]. Чтобы усыпить бдительность ватиканского ведомства иностранных дел, я сделал вид, что отправляюсь в Пизу, куда ездил ежемесячно навещать графиню Кастильофьель с сыновьями, — с молчаливого папского согласия это уже вошло у меня в обычай; но из Пизы, где меня ожидали заранее нанятые лошади, карета и кучер с форейтором, я направился в Париж. Там все мои дела разрешились гораздо быстрее, чем я рассчитывал, — выражаясь яснее, они попросту провалились, — и я решил не мешкая возвратиться в Пизу, столько же из желания найти утешение около Пепиты и всех моих[31], сколько из-за нелишней предосторожности: не дать возможности восторжествовать папским шпионам, считавшимся тогда самыми искусными в Италии[32].
А посему я отправился назад по Лионской дороге, чтобы потом доехать до Женевы, а оттуда через Милан въехать в Тоскану. И вот, когда я был в Лионе — я остановился на окраине на постоялом дворе, где действительно кормили отменно[33], — мой взгляд случайно упал на знак королевской дороги — большую деревянную стрелу, выкрашенную белой краской, на ней черными буквами с сильным нажимом было написано «БОРДО». Не знаю, то ли на меня повлияло ощущение довольства, вызванное хорошим пищеварением, то ли, напротив, столь отличная от него горечь неудачи, вновь отбросившей меня в опостылевшее затворничество в Италии, только я вдруг забыл о шпионах и без долгих колебаний приказал повернуть на Бордо. Лошади были добрые, кучер бойкий и умелый, а осенняя Франция услаждала взор, так что путешествие вышло необыкновенно приятным и я даже не заметил, в какой момент мои мысли перенеслись к событиям, которые неизбежно станут предметом нашей беседы со старым маэстро. Знаю только, что меня охватил вдруг страх, что за прошедший год Гойя мог умереть, — ведь тогда мое любопытство так и осталось бы неудовлетворенным; ну что ж, решил я, в этом случае я смогу встретиться с изгнанными из Испании либералами, осевшими в Бордо, поговорить с ними о родине и об — увы! — все более и более далеких перспективах возвращения к режиму, который будет столь гнетущим и жестоким, как правление Фердинанда, и в большей степени будет отвечать нашим старым мечтам об Испании, живущей во времени, отмеряемом часами современной и просвещенной Истории[34].
Я отправился на улицу Фоссе де л'Энтанданс — любопытно, что ее название запечатлелось у меня в памяти по той причине, что экзотическая испанская орфография художника оказалась безупречной французской орфографией, это меня позабавило. Но Гойя больше не жил тут, по указанному адресу; его бывшая соседка, весьма словоохотливая дама, вспомнила его как человека с неровным характером «tantôt gentil, tantôt farouche»[35]), а его жену как взбалмошную особу «une cancannière, une espagnole trop bavarde qui adore le raffut du ménage»[36]), но не смогла сколько-нибудь уверенно сказать, живут ли они по-прежнему в Бордо или переехали в Пломбьер, потому что ей не раз доводилось слышать, как они говорили о такой возможности[37]. Болтливая собеседница дала мне в конце концов и очень ценные сведения: Гойя, судя по всему, имел обыкновение каждый день «после полудня» встречаться с друзьями в «кондитерской» одного соотечественника по фамилии не то Пок, не то Пот. Нет, Пок, точно: Пок. Теперь она уверена. Она хорошо помнит, как несколько молодых людей, ее родственников, часто насмешливо декламировали: «Выпьем шоколад у Пока — так велит теперь эпоха». Кондитерская, как оказалось, пользовалась большой популярностью и у коренных бордосцев, поэтому мне не составило труда разыскать ее[38].
В тот же день на постоялом дворе, где я остановился, мне дали адрес кондитерской, и, чтобы попасть туда, мне даже не понадобилось воспользоваться экипажем, потому что я за считанные минуты дошел не спеша до улицы Птит-Топ, совершив таким образом и приятную короткую прогулку по довольно ровной и прямой дороге. По пути, переходя площадь, устланную ковром сухих листьев, позолоченных уже склонившимся солнцем, я увидел афишу, которая раньше уже привлекла мое внимание на постоялом дворе: в ней сообщалось, что сегодня вечером в городском «Grand Theatre» состоится представление «Севильского цирюльника». Меня это обрадовало, я решил, что если не встречу Гойю, то найду утешение у маэстро Россини, а главное, смогу тогда посетить театр, Считавшийся одним из самых красивых в Европе, недаром у нас в Мадриде в свое время изучали вопрос о возможности построить его точную копию прямо напротив королевского дворца[39].
А немного погодя, когда я обходил памятник, стоящий в центре площади, я вдруг услышал кастильскую речь. Два сеньора разговаривали громкими голосами, как мы имеем обыкновение выражаться на улицах и в харчевнях, и я замедлил шаг, чтобы не поравняться с ними и не быть узнанным, но сам в одном из них сразу узнал Мануэля Сильвелу, несмотря на то что столько воды утекло со времени нашей последней встречи: его неповторимый бас и острый, как лезвие ножа, нос с годами стали еще приметнее[40]. Что касается другого сеньора — с обрюзгшим лицом и согбенной фигурой, — в нем я не мог в тот момент признать никого из старых друзей. Я отстал еще больше, и вдруг до меня дошло, что они движутся в том же направлении, что и я, вот они свернули в узкий переулок и вышли к улочке, которая называлась «Заведение Пока». И тут со мной что-то произошло. Меня охватило смятение, потому что мне ясно, как при вспышке молнии, представилось, каким нелепым самообманом с моей стороны было предполагать, будто встреча с кем-нибудь из этих либералов, укрывшихся в Бордо, может быть для меня приятной или полезной; ведь хотя и я, и они вот уже двадцать пять лет желали для Испании почти одного и того же, мы тем не менее принадлежали к противоположным лагерям, и было бы наивным надеяться, что только потому, что меня, как и их, четверть века преследовало правительство, только из-за этого они встретили бы меня с распростертыми объятиями, хотя ранее я был их врагом и мою политику они считали роковой[41].
Я уже склонялся к тому, чтобы не искушать судьбу и не подвергать себя опасности попасть в неловкое положение или получить оскорбление, однако я находился уже в двух шагах от заведения Пока и, вероятно, от Гойи, но тем не менее я хотел держаться как можно дальше от этих людей. Пока я колебался, не зная, на что решиться, мой взгляд скользнул по зеркалу, висевшему у входа около вывески с надписью «Шоколад и пирожные». И вдруг меня осенило: образ человека, нечаянно схваченный рассеянным взглядом, решительно отличался от того Годоя, которого эти люди видели почти двадцать лет тому назад и которого, несомненно, помнили… Теперь мое лицо казалось изрытым и опавшим, истончились некогда мясистые чувственные губы и нос, поползли над висками залысины, забираясь туда, где время посекло густые волнистые волосы, ослабло и усохло сильное тело, погас блеск в глазах и выцвел на щеках румянец, наведенный астурийскими ветрами. Никто меня не узнает. Чтобы остаться нераскрытым, достаточно надеть очки, обращаться к гарсону на хорошем французском языке и быть начеку.
Мое появление было едва удостоено несколькими беглыми любопытными взглядами, я сел у окна, чтобы падающий со спины свет, добавившись к моим возрастным изменениям, сделал меня совсем неузнаваемым, и тотчас признал во втором сеньоре, которого видел перед тем на улице, дона Леандро де Моратина. Бедняга Моратин! Он превратился в развалину[42].
Сильвела и Моратин были теперь не одни. За их столом сидело еще три незнакомых мне человека, явно испанцы, судя по их речи, так как все они говорили громко, перебрасываясь незамысловатыми шутками с тем, кто, по-видимому, был хозяином кондитерской (Пок?)[43]. Они, разумеется, не были конспираторами, не готовили заговора против испанского правительства, пока я их слушал, они даже ни разу не упомянули Испанию, один из них просто рассказывал, живописуя детали, о нелепой бюрократической волоките в каком-то богом проклятом учреждении. И тон их разговора совсем не изменился с приходом Гойи.
А Гойя вошел вскоре после меня, он задержался на мгновение у порога, наверное, чтобы перевести дыхание после того, как, подобно маленькому кроту, взбежал по улочке, французское название которой как раз и значило «маленький крот», и мне было приятно спустя столько лет увидеть его крепко сбитую фигуру, уверенный взгляд, твердые складки рта, и хотя он с годами несколько отяжелел, тем не менее, будучи старше всех здесь присутствующих, отнюдь не выглядел дряхлым. Единственное, что меня в нем удивило, это его несколько неестественный, напыщенный вид, который ему придавали серый переливчатый сюртук, черные гетры и светло-кремовое жабо; похоже, что пятнадцать месяцев во Франции в гораздо большей степени, чем тридцать лет при испанском дворе, смогли наложить печать безликой буржуазной благопристойности на его внешность, в которой было что-то и от крестьянина, и от цыгана, и от махо — таким я помнил его по Мадриду[44].
Он сел напротив меня, и два или три раза, не больше, вскинул на меня все еще пронзительные глаза, напряженные от постоянной необходимости читать по губам, что говорят другие, поскольку он, несомненно, не мог их слышать. Но и этих двух или трех взглядов было достаточно, чтобы меня охватило беспокойство, я сделал вид, что мне нужно больше света из окна для чтения газеты, и пересел на другой стул, спиной к нему. Однако и после этого я не решился задерживаться надолго. Компания, судя по всему, не собиралась уходить, и вряд ли можно было надеяться, что Гойя останется один и я смогу поговорить с ним; наверное, было бы лучше оставить ему утром записку в этой же самой кондитерской, чтобы он сам решил, объявлять или не объявлять своим друзьям о моем пребывании в Бордо; и я вышел, надеясь, что остался таким же неузнанным, как и при входе. Я не смог бы сказать, хорош или отвратителен шоколад у Пока, — настолько меня поглотили там заботы о сохранении инкогнито.
Я сидел в одиночестве в ложе на представлении «Цирюльника», нелепо переведенного на французский язык («Una voce poco fa»[45], например превратилось в «Une voix ne trompe pas»)[46]; когда начался второй акт, какой-то мужчина сел около меня и, низко наклонившись, оперся о стоящее впереди кресло. Я не обратил на него внимания. Контральто была хорошенькой и весьма аппетитной, хотя и не обладала изяществом Малибран[47]. Когда смолкли аплодисменты, неизменно следующие после арии дона Базилио (в которой легкое «un venticello»[48] превратилось в громоздкое «une brise légère» [49]), человек, сидевший рядом, положил мне на колени свою узловатую руку и прошептал гораздо громче, чем было необходимо: «Вам тоже нравится опера, ваша светлость?» Сразу же кто-то зашикал. Я смутился, повернулся и, пораженный, лицом к лицу встретился с Гойей, который, не обращая внимания на поднимающийся ропот ближайших к нам зрителей и не дожидаясь моего ответа, продолжал говорить, посверкивая лукавыми глазами из-под нависающих бровей: «Ничто так не выдает человека, как шея и затылок или соотношение между головой и плечами, что особенно заметно для художника. Я видел вас сегодня у Пока и предположил, что вы меня разыскиваете». Он, конечно, продолжал бы говорить так и дальше своим несоразмерно громким голосом глухого, но шикание вдруг усилилось, сам дирижер метнул на нас испепеляющий взгляд, прежде чем снова взмахнуть своей палочкой после овации, и я, почувствовав неловкость создавшегося положения, сделал ему знак замолчать — может быть, даже слишком резкий.
Во время антракта мы пили шампанское на верхней площадке парадной лестницы, Гойя увлеченно говорил о театре, и я не мог не восхититься его просторным вестибюлем, строгим соотношением объемов, богатством украшений и в особенности изысканным изяществом высокого купола, венчавшего сооружение. «Вы помните, ваша светлость, — в какой-то момент сказал Гойя, тяжело дыша и неотрывно глядя мне в глаза, — вы помните, — он слегка наклонил свой мощный торс, — помните, как в тот вечер она показывала нам дворец, его галереи и потолки, которые мне предстояло расписать, и парадную лестницу, похожую на эту, она показала бы нам и купол, если бы к этому времени его успели соорудить, ее же ничто не могло остановить, вы помните, она ведь хотела сделать из этого дворца, из Буэнависта, памятник своей жизни… или свой мавзолей… Бедная». Он вдруг резко оборвал свою речь, подавил вздох, потупился, распрямился, допил оставшееся шампанское и, желая, как мне показалось, скрыть нахлынувшие чувства, повернулся ко мне спиной и пошел поставить бокал на самый дальний стол.
Он не называл ее по имени, но говорил о ней и о том вечере так, будто полностью исключалась сама возможность какой-нибудь ошибки или недоразумения, будто само собой разумелось, что с момента, как он обратился ко мне в ложе, мы не думали ни о чем другом, кроме как о Каэтане, о ее дворце и той роковой ночи. И тут я спросил себя: если глухой человек, каким был Гойя, посещает оперу, то разве он делает это не затем только, чтобы воскресить в своей памяти другую парадную лестницу, другие фризы и мраморные стены, другие зеркала?
Разумеется, в последнем акте я уже не мог с должным вниманием следить за интригами Фигаро и любовными переживаниями Альмавивы и Розины; под мелодии месье Крещендо перед моим мысленным взором кружились и танцевали гости, приглашенные на последний бал Каэтаны[50].
Гойя жил теперь на улице Круа-Бланш, в самом, пожалуй, уютном уголке Бордо: среди деревьев, не сбросивших еще листву, виднелись нарядные, но скромные домики с окнами в частых переплетах, а за ними уже убранные сады. Дверь мне открыла моложавая женщина, скорее хорошенькая, чем красивая, с очень темными, выразительными глазами, довольно небрежно одетая и так же небрежно причесанная. «Добро пожаловать, ваша светлость. Я Леокадия», — сказал она несколько развязно и, отведя взгляд, протянула руку, но, не дав мне поцеловать ее, сама крепко пожала мою ладонь.
Я никогда не видел ее раньше. Она, вероятно, входила в девический возраст, когда я покинул Испанию, и я знал о ней только, что она двоюродная сестра невестки Гойи и уже давно жила у него вместе со своим сыном, мужа она оставила. Меня поразило в ней сочетание живости и робости, а более всего — резкость, которая, по-видимому, была их единственной общей фамильной чертой, а также ее манера говорить — то сдержано и сухо, то вдруг почти развязно, и ее привычка сначала отвести глаза, а потом неожиданно упереться в собеседника вызывающим взглядом, будто испытывая его. Судя по всему, это была женщина, которой ничто в жизни не давалось даром[51].
Гойя не заставил себя долго ждать, он появился одетый так же, как и накануне, но при утреннем свете его наряд выглядел менее чопорным. «Ступай, принеси нам кофе, Леокадия, — приказал он женщине. — Нам надо поговорить», — и кивком пригласил меня присоединиться к нему. Этот в сущности мусульманский и все еще не изжитый на родине обычай в категорической форме исключать женщину из мужской беседы перенес меня на много лет назад. Живя за рубежом, я уже стал забывать его.
Маэстро провел меня на маленькую голубую веранду, выходившую застекленной стеной в сад; удобные плетеные кресла, клетки с птицами, журналы и книги, стол под светло-желтой скатертью, разрисованной цветами, — все наводило на мысль, что в этом уютном уголке Гойя любил отдохнуть, погреться на утреннем солнце, а может быть, и укрыться от raffut[52] и bavardage[53] Леокадии.
Она принесла нам кофе, сказала несколько слов, не потребовавших иного ответа, чем полученный ею, — улыбку от меня и ворчание от маэстро, — и снова оставила нас вдвоем. После упоминания о герцогине в фойе «Grand Theatre» мы больше не говорили о ней, и теперь, казалось, нам предстояло молчаливо решить, кто из нас двоих первым отважится на это, и, конечно же, мы не думали ни о чем другом, пока вежливо обменивались впечатлениями о нашей жизни в изгнании — его в Бордо и моей в Риме. Разговор был нелегким; он и раньше не бывал у нас легким —.с тех пор как тридцать лет тому назад Гойя начал терять слух; а теперь говорить с ним было совсем трудно, потому что он совершенно оглох, а у меня не было никакого опыта общения с глухими, я не умел говорить так, чтобы меня понимали по движению губ, не умел пользоваться созданным специально для них языком жестов.
К счастью, против меня на стене висел очень приятный рисунок, на котором был изображен мальчик, играющий с собачкой. Я принялся внимательно его рассматривать, не столько потому, что он меня на самом деле так заинтересовал, сколько чтобы сделать небольшую передышку в нашем разговоре. «Прелестный рисунок, правда? — спросил Гойя и после моего утвердительного кивка радостно продолжал: — Это ведь не мой рисунок. А знаете, кто его сделал? Подойдите сюда». Он заставил меня подняться, подвел к окну и указал в сад. Там играли с обручем пятеро или шестеро детей, их крики и смех, приглушенные стеклами, едва долетали до нас. «Видите девочку в синем платье? Это наша Росарита. Она сделала этот рисунок, когда ей было два года. А сейчас ей только десять. Я никогда не встречал такого необыкновенного природного дарования. Мадам Виже-Лебрён потерпит неудачу в споре за титул первой в истории великой художницы».
Гордость так и переполняла его. И по тому, как он гордился талантом девочки, я предположил, что она — его дочь. До сих пор я не уверен, что у него была дочь. Но что мне известно доподлинно, это что ей так и не удалось стать великой художницей, о чем мечтал Гойя, хотя, как мне писала из Мадрида Пепита, она обучала рисунку саму королеву Испании[54].
Желая продемонстрировать мне другие произведения талантливой девочки, он повел меня в свою мастерскую, расположенную в противоположной стороне дома. Я не мог скрыть удивления. Солнце, затопившее^ комнату, которую мы только что покинули, даже не заглядывало в мастерскую — ее окна выходили на север. «Для художника нет ничего обманчивее естественного света, — пояснил Маэстро. — Я люблю писать по ночам. Или с закрытыми ставнями».
Доказательства были налицо. По всей мастерской тут и там торчали свечи, шандалы, огарки разной величины, на столах и каменных плитах пола виднелись натеки сала, повсюду стояли канделябры всевозможных форм и размеров, а на одной из полок я увидел знаменитую засаленную шляпу — ее поля ощетинились наполовину сгоревшими свечами, а потерявшая цвет тулья вся была в подпалинах и восковых бляшках[55].
Мы рассматривали рисунки Росариты, а также прекрасные миниатюры Гойи на слоновой кости; он тогда экспериментировал с юношеским энтузиазмом, без остатка отдаваясь упражнению в новом ремесле, что сулило открыть ему новые неведомые горизонты; потом Гойя показал мне несколько гравюр с изображением быков — они были выполнены в технике, которую называли литографией, и — каким бы невероятным это ни казалось — свидетельствовали, что неугомонный старец вновь переживает период ученичества. Не зря, видно, год назад он так настойчиво повторял в письме: «Я все еще учусь…»[56]
А затем я выразил ему свое недоумение по поводу того, что не вижу на мольбертах ни одной большой картины, ни одного портрета, над которыми бы он работал, как это всегда бывало в его мадридской мастерской. «Уже не в первый раз я за долгое время не сделал ни одного портрета, — сказал он, внезапно помрачнев. — Во время войны, например, я не занимался портретами два года. Как мог я изображать какого-нибудь кабальеро или даму в салоне, в то время как люди убивали друг друга на улицах и на дорогах?» И, помолчав немного, продолжил: «И после того, как она умерла, тоже не мог. Целый год не писал абсолютно ничего». Он бросил на меня заговорщический взгляд, смысл которого я тогда не понял. «То есть за исключением двух портретов… Только два портрета — я сделал их по причинам, имеющим отношение к ее смерти…» Он отошел от меня и начал рассянно вытирать кисть. «Обо всем этом, — закончил он наконец, — мы должны сегодня поговорить, дон Мануэль».
На этот раз он не назвал меня «ваша светлость». Сам голос его изменился: он стал теперь более фамильярным, почти грубым. Вдруг я понял, что сейчас неотвратимо исполнится обещание — или угроза? — которая содержалась в его письме. И обретет завершение искус, что привел меня сюда из Лиона, заставив пересечь всю Францию. Меня охватил страх, как подростка, что так пылко добивался женщины, а оставшись с ней наедине, не желает ничего другого, как оказаться где-нибудь подальше, около родителей. Я повернулся к Гойе и, выговаривая слова с особой тщательностью, произнес: «В свое время было проведено полицейское расследование, сеньор Фанчо. Я лично распорядился о нем и лично наблюдал за его ходом. Выводы расследования имеют окончательный характер. К смерти герцогини не причастна ничья преступная рука. Яда не было». Он меня понял. По его лицу прошла тень — смесь иронии и разочарования. «Мы-то с вами знаем: расследование было поверхностным. Достаточно сказать, что даже не сделали вскрытия. А я знаю: яд был. Мне это известно. Я знал об этом с самого начала. У меня были доказательства». Он весь потемнел, будто в комнате закрыли ставни. И голос у него стал мрачным и горячим, в нем слышалась какая-то внутренняя дрожь, она звучала отчетливее, когда он произносил конечные звуки. «Вы ведь пишете воспоминания. Вам необходимо знать правду».
Я снова повернулся к нему, собираясь тщательно, по слогам произнести мои соображения. Было бы нелепо вступать с ним в спор. «Я еще не начал писать. Это ложный слух. Может быть, я никогда не примусь за них». Он предпочел не расслышать: «Я не могу писать. Не могу также и нарисовать все, что произошло в тот день, в виде серии сцен, как это делают Карпаччо и Сурбаран, когда изображают жизнь святых. Но я могу рассказать вам о тех событиях поминутно и тем самым рассеять…» Я прервал его. Я заговорил еще более энергично, повысив голос, и не потому, что заботился о его глухоте. Я сказал, что «Мемуары», если я когда-нибудь их напишу, будут включать только политические аспекты моей деятельности и правления Карла IV. В первый раз он мне ответил так, будто слышал меня: «Тогда тем более, дон Мануэль. Разве слухи о возможном убийстве герцогини не намекали, что следы ведут наверх? Так скажем же об этом прямо. Прошло двадцать лет. Обе мертвы. Обвиняли королеву. И не говорите мне, что это не имеет ничего общего с политикой».
Я уже раскаивался, что пришел к нему, у меня было такое чувство, будто по неосторожности или по наивности я угодил в ловушку. Наш разговор вряд ли пройдет нормально. Он будет слышать только то, что захочет услышать. Сама перспектива доказывать и втолковывать ему что-то действовала на меня угнетающе. И даже простое упоминание доньи Марии-Луизы звучало для меня кощунством. Что было делать? В это мгновение нас прервала Леокадия в свойственной ей резкой манере: «Фанчо, стол накрыт. Как у вас с аппетитом, ваша светлость?»
За столом Гойя не мог скрыть своего нетерпения. Он уклонялся, даже рискуя быть невежливым, от участия в разговоре, почти не ел и пил вина больше, чем считала допустимым Леокадия, судя по ее недовольным замечаниям.
Вести разговор с Леокадией было тоже не слишком легко. Обращаясь ко мне, она каждый раз упорно величала меня «ваша светлость», но при этом голос ее звучал так фамильярно, что рассеивал всякую видимость почтительности, рядом с титулом откровенность теряла непосредственность и начинала походить на грубую пародию, а сам титул, произносимый небрежной скороговоркой, становился смешным и бессмысленным. Я почувствовал облегчение, когда Гойя, внезапно поднявшись из-за стола, сказал: «Теперь мы с доном Мануэлем хотим остаться вдвоем. Ты уже достаточно наговорилась, Леокадия. Принеси нам еще кофе в студию. И бутылку бренди».
Леокадия спасла меня от Гойи, а Гойя спасал меня от Леокадии, и теперь у меня не было другого спасения, как удалиться. Но разве я пришел сюда не с вполне определенным намерением — выслушать то, что он сейчас готовится рассказать мне; а он тем временем зажигает тут и там свечи, а затем, используя время, пока не вышла Леокадия, устанавливает друг против друга два кресла и закрывает ставни. Дождавшись, когда Леокадия закроет за собой дверь, что она делает не без некоторого раздражения, и я догадываюсь, что до него доходит не сам стук захлопнувшейся двери, но вызванная им вибрация, он еще медлит, смотрит, как я допиваю кофе, а сам готовится выпить свой первый бокал бренди; он так торопится, что бренди переливается через край, похоже, он боится, что у него дрогнет рука, которая, судя по миниатюрам, еще вполне тверда.
РАССКАЗ ГОЙИ
ПРЕДУВЕДОМЛЕНИЕ
Мне будет нелегко рассказать о нашей встрече в тот день и точно описать время, заполненное монологом Гойи, который почти не предоставлял мне случая прервать себя, да и сам я остерегался лишний раз прервать стремительный поток его воспоминаний, чтобы не вызвать утомительный обмен репликами между глухим человеком и человеком, неспособным говорить так, чтобы глухому было понятно. Среди различных возможностей решить трудную проблему записи рассказа Гойи я остановился в конце концов на том, чтобы попытаться воспроизвести его речь как монолог, во всей ее текучести, неупорядоченности, эмоциональности, не копируя при этом ни ее фамильярного тона, ни живописности, ни даже языковых неправильностей. На мое решение повлияло то, что я уже несколько раз с успехом прибегал к такому приему в «Мемуарах» при описании различных словопрений, например, когда рассказываю о горячем споре с принцем Астурийским по поводу поданной мной записки, которая, по мнению принца, умышленно вводила в заблуждение относительно движения эскадр Нельсона; но особенно повлияли на меня похвалы известного поэта Мартинеса де ла Росы, считавшего, что эти пассажи в «Мемуарах» свидетельствуют о наличии у меня природного таланта к написанию театральных диалогов, по крайней мере в прозе. Именно таким должен оказаться и этот плод моего честолюбивого замысла, невзирая даже на то, что я смогу осуществить его лишь частично и что в свидетельства моей памяти неизбежно вкрадутся ошибки и неточности, иногда, возможно, и весьма значительные, но всегда — непреднамеренные. Свою же роль в тот день, роль пассивного слушателя, к которому была обращена пространная исповедь, я лишь слегка намечу, указав в скобках на свои наиболее сильные впечатления, возникавшие в ходе нашей беседы. Итак, начиная с того момента, за исключением мест, взятых в скобки, далее говорит Гойя.
М.Г.
I
С чего мне начать, дон Мануэль? Я не хочу погружаться в прошлое. Чтобы избежать опасности погрязнуть в нем, да так и не успеть рассказать вам все, что хотел. Если вам это интересно… А вам это интересно, правда? Ваше молчание, я полагаю, означает согласие. Прошлое… Можно было бы начать совсем издалека. В первый раз я увидел ее в Аламеде-де-Осуна, в окружении целой толпы молодых людей, они устраивали там какое-то благотворительное мероприятие, не помню уже, какое именно. Она веселилась, как всегда. Она тогда была совсем молодой. В руках у нее появилась колода карт, и она принялась раскладывать их на одну из своих подруг, словно цыганка… Вы ведь знаете эти маленькие картины голландца Рембрандта? В них свет струится неизвестно откуда и сосредотачивается весь на одной фигуре, все другие погружены в тень. Вот так же было и с ней. Танцевала ли она или смеялась, раскладывала карты или играла со своей мохнатой собачкой — все вокруг уходило в тень. Весь свет устремлялся к ней и, вибрируя, окутывал ее. Я мог бы вспомнить ее и в Санлукаре-де-Баррамеда, летним утром того 1796 года, как она плещется в бассейне вместе с негритянской девочкой, которую удочерила, обе заливаются смехом, белая и черная, и эта радость от полной наготы, от свежей воды стирает различие в их возрасте и положении… Но я уже сказал вам, что не хочу слишком далеко углубляться в прошлое. Начиная с того дня в Аламеде и до утра в Санлукаре, а от него до печального июля 1802 года, я знал ее, навещал, писал с нее портреты…[58] Зачем нужно ворошить все это? Мне кажется, если я не начну отсюда, я не смогу ввести вас в самую суть этой истории. Вы светский человек. И вы это знали, дон Мануэль: я любил ее. Все крутится вокруг этого. Как при игре в жмурки. Разве мы не изображаем любовь слепой?
Прошли годы. Утихли бури. Я хочу сказать, я смирился с тем, что оказался не более чем коротким капризом в ее жизни. Я!.. Который хотел быть единственным… и дошел до такого нахальства — или это просто наивность? — что написал свое имя вместе с ее именем на обручальных кольцах — на портрете, и потом не знал, что с ним делать… И будто этого было мало — сделал еще надпись у ее ног, на песке. Вы, должно быть, ее видели: «Только Гойя», только я, бог ты мой, какая самонадеянность, какая претензия с моей стороны… И какой удар, когда я упал с облаков. Но в течение многих лет я хранил этот портрет. Да и что вы хотите? Я смотрел на него, и моя мечта оживала, она словно бы обретала плоть в этих кольцах, в надписи на песке. А бедная герцогиня была уже только этим… песком… была прахом[59].
Прошли годы. И вот мы в июле 1802 года. Мы уже были просто хорошими друзьями, не больше. Не осталось и тени — не говорю уже о любви, — даже тени взаимных упреков и обид. В свое время она никак не могла понять — а я тоже не мог ей объяснить, — не было ли злым умыслом с моей стороны так часто и так неверно изображать ее в моих «Капричос»; много раз я вкладывал в них изрядную долю иронии и, признаюсь, крупицы обиды… Может быть, тогда и началось ее отдаление. И если так оно и было, мне не в чем ее обвинить. Мы стали видеться реже. Уже не встречались, как раньше, в театрах, на корриде, на ночных празднествах. Пошли слухи, что она увлеклась политикой и зачастила в дом принца Астурийского. Она вошла в эту шайку, противопоставившую себя вам и королеве, не так ли, дон Мануэль? Я никогда раньше не говорил с ней о делах правительства, да мне никогда и не казалось, что она интересуется ими. Но тут все начали говорить, что она изменилась.
Однажды я узнал, что она решила построить себе новое жилище и оставить тот маленький, но красивый и уютный дворец Монклоа, в котором я за несколько лет до этого писал ее. И по мере того, как огромное сооружение поднималось в садах Хуана Эрнандеса[60], они теряли всю свою привлекательность как излюбленное место народных гуляний. Что-то странное творилось с герцогиней. Необычным было ее безразличие к той обиде, которую она наносила мадридцам, дав полную волю своей прихоти. Ведь она всегда была такой щедрой, такой простой и совершенно равнодушной к соблазнам власти. И тем не менее тут она пошла на это. Это было как вызов. Словно она говорила народу: если вы меня любите, то докажите свою любовь — терпите мои капризы.
И вот она позвала меня в свой новый дом. Сады уже были окружены решеткой, закрывавшей публике. проход, и с Пасео еще доносились протестующие голоса людей, возмущенных такой беспардонной узурпацией. Внутри строящегося дворца, окруженная целой армией архитекторов, ремесленников, рабочих, она казалась главнокомандующим, заканчивающим приготовления к битве, — бледная, возбужденная, встревоженная, не знаю, понимаете ли вы меня, — будто в этом и заключалась вся ее жизнь. Вся недолгая жизнь, что у нее еще оставалась… В этот день она показала мне салоны и галереи, обратила мое внимание на стены и потолки, на огромную парадную лестницу, которую мы вспоминали вчера в театре, и сказала: «Фанчо, все это тебе придется расписать — стены и панели, фризы и драпировки, потому что мой дворец должен стать самым великолепным в Европе, прекраснее, чем дворец императрицы Екатерины в Санкт-Петербурге, и ты своей росписью обретешь здесь бессмертие». Ее глаза сверкали, голос срывался; подобно сивилле, она вытянула руку, она была вся огонь, и однако это было не пылом юности, а чрезмерным, мучительным возбуждением, звенящим — позвольте мне использовать сравнение художника, — звенящим возбуждением какого-то металлического цвета, которое наполнило меня страхом, потому что оно было несвойственно ее натуре… Человек противится тех, кого он любит, разве не так? Она изменилась, и не к лучшему.
После этой встречи я стал часто бывать во дворце, чтобы определить, что в нем можно будет написать, и наконец, по ее настоянию, устроил небольшую мастерскую в одном из пустующих залов. Я перевез туда подрамники и краски, столы и мольберты; казначей, дон Антонио, прислал мне столько свечей, сколько я пожелал. Я приступил к работе. Сделал несколько небольших набросков темперой на темы, которые мы согласовали; и здесь меня тоже подстерегала неожиданность. Желая сделать ей приятное, я предложил написать сцены из народной жизни, сюжеты того Мадрида комедиантов, тореро и махо, с которыми она так любила общаться раньше, но она изменилась и в этом; в конце концов, к моему сожалению, мы остановились на эпизодах и героях мифологии, заменив мах и цветочниц наядами и нимфами. Стремясь, как всегда, доставить ей удовольствие, я стал обдумывать большую и сложную аллегорию, в которой женский образ — конечно же, это была она, хотя я и откладывал пока главный сюрприз: ее лицо, — появлялся как муза, нимфа или богиня сначала неясно, а потом все отчетливее вплоть до финального апофеоза на потолке большого зеркального зала в окружении четырех фигур, олицетворяющих Философию, Искусство, Поэзию и Любовь. А где-нибудь в углу я задумал незаметно пристроить свой автопортрет. Но все движение, весь ритм композиции заставят взгляд богини вновь и вновь обращаться к нему. То была тайная дань, которую я — в какой уже раз — хотел отдать бессмертию[61].
Я успел сделать лишь дюжину первых, еще неясных и непроработанных эскизов, как вдруг в начале лета она мне сообщила, что дворец будет закрыт: она откладывала все работы и отправлялась в Андалусию, несмотря на предупреждения о вспыхнувшей там эпидемии и советы не ехать туда в самый разгар жары[62].
Как я говорил вам вчера, дон Мануэль, если уж ей придет что-нибудь в голову, ее уже ничто не остановит. Так она и уехала, сказав мне на прощание: «Фанчо, во время моего отсутствия не пиши, лучше дай волю своему воображению. Пока твои наброски мне не нравятся. Сразу видно, что они сделаны по обязанности, а я хочу, чтобы ты писал от души, не обращая на меня внимания, вот тогда в твоей работе появится гений, как появился он, когда ты расписывал купол Святого Антония». Что мне оставалось делать? У меня никогда не возникало желания обращаться к мифологии, если только она не была моей собственной выдумкой. Но разве герцогиня допустила бы моих ведьм и монстров на потолок большого зала?[63]
(Говоря это, Гойя старается держаться спокойно и уверенно, но не может усидеть в кресле, то и дело вскакивает под разными предлогами — то зажечь свечу, то снова взять свой бокал, который только что поставил, то наполнить мой — и вновь садится в кресло, а иногда и на скамейку, что стоит против мольберта; он весь взмок под своей суконной курткой, его лохматые бакенбарды стали влажными, на кремовой рубашке явственно проступили пятна пота.)
Двадцать второго числа, днем, я работал над обнаженной женской натурой, той самой, что вы мне заказали, дон Мануэль, не помните? Я так и не знаю, всерьез или в шутку вы говорили, что моя картина стала главным украшением вашего галантного кабинета. Значит, он и вправду у вас был? Вы улыбаетесь. Хорошо, оставим это[64]. Я работал над «Обнаженной», точнее, искал для нее лицо, я пытался написать его по нескольким наброскам, хранившимся в моих папках, и если у вас хорошая память, вы должны вспомнить, что, когда неожиданно вошли, ставни на окнах были закрыты, а на мне была вот эта самая шляпа, что вы видите сейчас, с только что зажженными свечами, прикрепленными на ее полях. Впрочем, шляпа, возможно, была и другая, ведь даже самый прочный фетр вряд ли выдержит, не порвавшись, если на него в течение стольких лет капает горячее сало, как и мы сами не можем выдержать, не надорвавшись, горьких слез разочарования, что исторгает из нас жизнь, и черт бы побрал это сравнение! Вы пришли, чтобы поторопить меня с этим «ню» или просто посмотреть, как продвигается работа. Мы заспорили о лице, вам оно казалось слишком заурядным, я же считал, что оно и должно быть таким, что вся жизнь картины должна сосредоточиться на тоне тела, поэтому, чем нейтральнее будет лицо, тем лучше, но вы думали, точнее, дали мне понять, что думаете, будто невыразительностью лица я стремился скрыть, кому принадлежало это нагое тело, потому что мы с вами прекрасно знали, чье это тело, не правда ли, дон Мануэль?[65]
(О чем говорит Гойя? О том, что я знал это тело, или просто о том, что я догадался, чье оно? Этого я не знаю. И не пытаюсь узнать. Для меня это не так уж и важно.)
Картина, конечно, была дерзкой. Мы оба заботились о сохранении тайны: я писал ее в полном уединении, закрывшись в своей мастерской в самый разгар мадридского лета, когда визиты наносят лишь поздно вечером, а вы намеревались поместить ее в вашем необычном святилище, куда, как я понимаю, имели доступ только самые близкие вам люди. Однако превратности истории и неожиданные повороты политики переворошили всю Испанию, как нищий перерывает ведро с отбросами, и кое-кто уже докопался до нашей «Обнаженной», которую теперь называют махой, вы это знали? Она была нужна отнюдь не для того, чтобы ею восхищаться, но чтобы сделать из нее козла отпущения за известное падение нравов той эпохи и за падение ваших нравов, дон Мануэль, прежде всего за падение ваших нравов. Какая насмешка! Вы это знали? Не знали? Это было в 1814 году, уже при Фердинанде, когда только что восстановили инквизицию и процесс против вас был в самом разгаре. Все вынюхивая, вынюхивая, они докопались до двух мах и извлекли их на свет божий — одну обнаженную, другую одетую, а заодно набросились и на меня, за то что я написал для вас этих непристойных, как их теперь стали называть, мах. То же было с картинами Веласкеса, Тициана и Корреджо — видите, в какой прекрасной компании я оказался. Усердные инквизиторы востребовали картины у Главного хранителя арестованного имущества, а они в тот момент уже были переданы в его распоряжение, и погрузились в их созерцание, то есть, как говорилось, принялись их исследовать, пока не заключили, что содержание картин преступно. Несколько месяцев спустя, кажется в мае следующего года, меня вызвали в Святой трибунал — а если бы могли, вызвали бы туда и Веласкеса, и Тициана, и Корреджо, все мне было бы полегче, — я должен был опознать картины, признать их своими произведениями и дать объяснения, по какому поводу, по чьему заказу и с каким умыслом я их написал. Думаю, что я точно воспроизвел вопросы судей, дон Мануэль. И вообразите, как я, представ перед ликом сих святых мужей, ответствую, что эти картины заказал мне для своего главного кабинета сам Князь мира! Что мне еще оставалось делать, я был приперт к стенке и отбивался как мог, перспектива намечалась довольно неприятная, но тут пошел слух, что обнаженная женщина не какая-нибудь натурщица, а благородная дама. Рассказывали множество небылиц, но что удивительно, говорили и правду, и вот уже из уст в уста стали передавать ее имя, и дело кончилось тем, что один из допрашивающих меня каноников после бесконечных обиняков произнес его… Что тут началось — мне даже не дали рта раскрыть. Будто забились черные крылья, будто полчища летучих мышей вдруг заполнили зал аудиенции. Трибунал инквизиции прервал заседание. Через неделю дело положили под сукно, следствие прекратили, и с тех пор меня больше не беспокоили. Несомненно, кто-то вмешался, кто-то, имеющий большой авторитет, потому что, как вам хорошо известно, даже сам король не…[66] Но я увяз в частностях. Вы должны меня извинить. За годы вашего отсутствия так много перемен произошло в Испании, что всей оставшейся жизни не хватит на то, чтобы только прокомментировать их!
Итак, мы с вами спорили о том, каким должно быть лицо у женщины, как вдруг появился мальчик Педрин, мой мальчик для поручений, с тронутым оспой лицом, и сообщил, что у подъезда рядом с каретой вашей светлости остановилась карета госпожи герцогини де Альба. Хорошо помню наше первое движение — ваше и мое: мы оба поспешили задвинуть подальше мольберт с картиной и натянуть на него холст. Тем не менее, должен вам признаться, что, будучи по натуре подозрительным, я спрашивал себя, уж не условились ли вы с ней заранее встретиться в моей мастерской. Хотя зачем вам это было бы нужно? Что могло побудить вас устроить все так, чтобы она могла увидеть картину? А если вы замышляли именно это, то почему теперь, судя по всему, хотели, как и я, картину спрятать?.. Какая-то несуразность.
Но у меня не было времени для размышлений. Герцогиня ходила стремительно и к тому же была нетерпелива, и едва мы успели накинуть на мольберт кусок холста, как она уже стояла перед нами. «Какая удача, что я встретила тебя здесь, у Фанчо, — сказала она, обращаясь к вам первому. — Меня уверяли, что ты еще в Ла-Гранхе, и я вычеркнула тебя из списка моих гостей». Ее голос я, как всегда, слышал. Отчасти потому, что она говорила звонко и каждая гласная звучала округло, словно жемчужина, а отчасти потому, что еще несколько лет назад она специально для меня научилась выразительной артикуляции, и ей, по-видимому, доставляли особое удовольствие эти подчеркнутые движения губ, таких быстрых и энергичных, и — будто этого было мало — таких соблазнительных, что им более бы пристало говорить по-французски. «Я ведь пришла, Фанчо, — добавила она, — пригласить тебя на бал, который устраиваю сегодня вечером в честь моей кузины, маленькой Мануэлиты, ты ее помнишь? Она уже помолвлена с графом де Аро. Я желаю отпраздновать ее обручение и, кроме того, хочу, чтобы ты ее написал. Приходи непременно. А ты придешь, Мануэль?» Она повернулась к вам, и вы обменялись несколькими репликами, которые я не понял, а потом снова повернулась ко мне и спросила, не назначены ли у меня какие-нибудь дела на вечер, из-за которых я могу отказаться.
(Этого не было. Я пытаюсь выведать у Гойи, не прочитал ли он по губам Каэтаны и те слова, с которыми она обратилась ко мне и которые он сейчас благоразумно предпочитает не знать. А сказала она мне без всяких околичностей следующее: «Ты ведь придешь, Мануэль? Конечно придешь, я не принимаю никаких извинений. Сегодня вечером в десять часов вход в мой новый дом будет открыт с улицы Императрицы. Можешь прийти с любой из твоих женщин…» Гойя краснеет, начинает кашлять, он не отрицает, но и не признает, что слышал эти столь откровенные слова. И упрямо возвращается к своей истории.)
Она прошла в глубину мастерской и небрежно прилегла на диван, закинув руки за голову — эту ее излюбленную позу я запечатлел в вашей «Обнаженной», — при этом даже не отбросила приколотую высоким гребнем мантилью, затенявшую ей лицо; глаза из-под мантильи горели, как раскаленные угли. Она рассказала, что решила раньше времени покинуть Андалусию, потому что почувствовала скуку. Эпидемия испортила ей поездку. Напуганные друзья не решались проводить там досуг. Народ выглядел мрачным и подавленным, у каждого умер или умирал кто-нибудь из близких. В конце концов все это перестало производить на нее впечатление, ей надоели предостережения и дурные предзнаменования, и она вернулась в Мадрид. Мой рассказ о народном бедствии получился несколько бестактным и развязным, не так ли? В таком случае из чувства справедливости по отношению к ее памяти я должен сказать вам, дон Мануэль, да вы и сами узнали об этом позднее, что она не покинула Андалусию, пока не сделала все возможное для своих вассалов, страдающих от лихорадки. Она подвергала себя риску, навещая больных, проявляя о них заботу. Она оставила им значительную сумму на лекарства и прививки. Все дело в том, что в силу своего характера она совершенно не выносила ничего, что связано с болезнью и смертью… а может быть, в глубине ее души жило предчувствие… «Если ты уже закончил, Мануэль, оставь нас, — сказала она, приподнимаясь. — У меня есть кое-какие дела, которые я должна обсудить с Фанчо, а кроме того, мне еще предстоит позаботиться о цветах и взглянуть, как идут приготовления к вечеру». Вы тут же удалились. Что было в этой женщине такого особого, неповторимого, что вы подчинились ей без всяких колебаний, точно так же, как командовали другими? Не успели вы выйти, не успел я спросить себя, что ее привело ко мне, как она вскочила на ноги и начала стремительно расхаживать по мастерской своим особенным шагом — длинным, энергичным, волнообразным, который с годами становился все более угловатым и наэлектризованным. И прежде чем я смог помешать ей, она подошла к мольберту, сначала приподняла накинутый на него кусок холста, потом сдернула его — и застыла перед своей собственной наготой. Слова застряли у нее в горле. «Но это… — начала было она, — это…» Она стояла ко мне спиной. Я ждал вспышки гнева. Но она все стояла, погруженная в созерцание картины, а когда повернулась, ее глаза под мантильей горели еще сильнее, чем раньше. «Что с тобой, Фанчо, — сказала она. — Ты забыл мое лицо?» Словно обескураженная, она подошла к моему табурету, села и, сдернув вдруг мантилью, резко повернула застывшее лицо к свету, как бы выставляя его напоказ. «Ну что же, приготовься, я ведь затем и пришла, чтобы ты расписал его». Я смотрел, недоумевая, на это лицо, которое так рано и так безжалостно изменили прожитые годы. «Еще портрет?» Она язвительно засмеялась: «Что за вздор, я говорю совсем не об этом. Мне нужно, чтобы ты раскрасил мое лицо — понимаешь, лицо. — твоими красками. Моих помад уже недостаточно, чтобы справиться с этим кошмаром, а вечером у меня бал, и я не хочу, чтобы меня затмили пятнадцать лет Мануэлиты или уродство Осуны»[67]. Только тут я наконец понял, с грустью понял, о чем она меня просила; несмотря на все мои возражения, она настаивала на своем, так что мне не оставалось ничего иного, как согласиться, и тогда, утирая внезапно хлынувшую слезу, — вы помните, как часто из ее глаз вдруг изливались потоки идущих от самого сердца слез, с которыми она не могла совладать? — она мне сказала: «Если ты смог так хорошо вспомнить мое тело, — она показала на „Обнаженную“, — тебе не доставит большого труда вернуть мне лицо той поры». Я снова принялся было возражать, говорил ей какие-то любезности, которые, боюсь, были совсем некстати, ибо правда состояла в том, что за последние три или четыре года она заметно утратила свою восхитительную свежесть. Кожа ее поблекла, потеряла прежний цвет и упругость, в глазах появился лихорадочный блеск, они выступили из орбит, и даже ее восхитительные волосы, казалось, поредели и стали какими-то безжизненными. Будто какое-то горе сжигало ее изнутри.
(Гойя не преувеличивает. Помню, за два года, не меньше, до событий, о которых он рассказывает, Каэтана вместе с тогдашним министром Корнелем ужинала у короля и королевы, после чего донья Мария-Луиза сказала мне, что герцогиня стала похожа на «сушеную рыбу». Тогда я подумал, что эти слова продиктованы слепой ревностью, но через несколько дней на вечере у Аламеды де лос Бенавенто-Осуна я встретил Каэтану, которую уже давно не видел, и был поражен и обеспокоен столь преждевременным увяданием этого красивейшего создания.)[68]
Горе, дон Мануэль… И мне казалось, я знаю, что это было за горе, хотя я и не осмеливался говорить с нею об этом. Еще в расцвете нашей дружбы, в 1796 году, когда мы вместе были в Санлукаре, однажды ночью она вернулась очень возбужденная, не помню уже с какого бала, и сказала, что открыла новое воистину чудодейственное лекарство. Кто-то привез его из Америки, листья кустарника, которые жуют индейцы Андского плоскогорья. Вы, вероятно, слышали о нем. Мне тоже доводилось слышать при дворе разговоры о его необычайных свойствах. Ну так вот, этот кто-то занялся их мацерацией, или дистилляцией, или синтезом… словом, какой-то алхимией, а по мне, так и колдовством, и получил из листьев мелкий порошок, который достаточно лишь раз вдохнуть, как он тут же оказывает воздействие на организм[69]. Она открыла драгоценную табакерку с этим порошком — ей только что дали его на пробу. По правде говоря, в тот вечер мы его попробовали оба, и потом пробовали еще много раз в течение того года — я был в восторге, в какой-то момент мне даже показалось, что порошок действует на чувства и на мозг таким образом, что ощущения как бы удваиваются и вместе с ними удваивается моя способность схватывать цвет и форму предметов, не только реальных, но и воображаемых, и что я стал наконец художником, каким всегда мечтал стать, и теперь могу писать то, что скрывается за поверхностью действительности, — мир нашего воображения, наших снов! Однако цена была чрезвычайно высокой. Я понял это вовремя. Возможно, вы помните один из моих «Капричос», я назвал его «Волаверунт»? Там изображена горделивая маха, над ее лбом раскинула крылья огромная бабочка, кажется, что она увлекает маху в полет, куда-то туда, к наслаждениям, и та не обращает внимания на монстров, скорчившихся у ее ног. Но победят все-таки монстры, вы меня понимаете? А бабочка — всего лишь мираж. Этот ужасный порошок сначала рождает в голове чудесных разноцветных бабочек, а потом ввергает нас в серый ужас ада. Такова идея «Волаверунта». Я уже сказал, что вовремя понял опасность. Человек привыкает к этому порошку, начинает принимать его все чаще и чаще и кончает тем, что становится его рабом. Я поделился с ней опасениями. Она посмеялась в ответ. Она приписала их моей крестьянской подозрительности и ограниченности взглядов, свойственных моему возрасту. А вскоре наши отношения прервались — нет-нет, я отнюдь не хочу сказать, что пресловутый порошок способствовал разрыву, — я вернулся в Мадрид, а она осталась в Санлукаре, в окружении многочисленной свиты, состоявшей в основном из тореро, и — если только мои подозрения меня не обманывают — целиком отдалась привычке принимать этот порошок. Подобно тому, как мы никогда впоследствии не касались в своих разговорах любви и ненависти — они стали для нас запретной темой, — мы никогда больше не упоминали и о нем, то есть о порошке, и это было косвенным признанием того, о чем мы не говорили открыто: что существуют вещи, способные посеять между нами раздор. И вот теперь, по прошествии нескольких лет, она сидит в моей мастерской, покорная и безучастная, и ждет, чтобы я расписал ее как холст, как доску, как медную пластинку, и у меня не хватило духу сказать ей: все дело в том проклятом порошке, я уверен, ты принимаешь его, это он разрушил тебя, оставь его, у тебя есть еще время, оставь его — и ты снова будешь прекрасной, какой была прежде, и тебе не придется унижаться до того, чтобы я своим искусством возвращал блеск и цвет, которые всегда были твоими, только твоими…
(Гойя вкладывает столько страсти в свой рассказ, что в какой-то момент все, что случилось в июле 1802 года, становится все ближе и ближе к настоящему дню, и в силу волшебного эффекта воспоминаний сам Гойя кажется все более и более молодым, его голос набирает силу и становится звонким, глаза горят задором, движения делаются проворными, и мне уже чудится, что передо мной Гойя моих первых воспоминаний о нем, а вовсе не тот старик, который объявился вчера в кондитерской Пока.)
Я так и не сказал ей ничего. Я выложил на столик свои самые маленькие кисти, взял широкую палитру с красками и приступил к работе; я пустил в ход не только мое мастерство, но и все то, чему я научился, наблюдая, как мои подруги-актрисы, особенно Тирана и Рита Луна, изящно и изощренно подкрашивали лица, прежде чем начать позировать для моих портретов[70]. Для меня как для художника не составило труда воспроизвести эту технику: охра кладется как грунт, карминные разной интенсивности идут на скулы и виски, черными подводятся глаза, охряные, зеленые и фиолетовые тени наносятся под изгибы бровей и на веки. Можете вообразить, какие противоречивые чувства обуревали меня, когда я, намазав пальцы краской, как какая-нибудь донселья или цирюльник, размалевывал ими это лицо, теперь такое дряблое, но все же ее, лицо женщины, которую я когда-то так любил, да и в тот момент, возможно, еще… Но довольно. Это не относится к делу. В мои пятьдесят девять лет я по-прежнему неисправим. Ну так вот, мало-помалу я вернул ее лицу свежесть, девичий румянец, мягкие переходы тона, бархатистость, все это было совершенно искусственным, но выглядело безукоризненно. Я закончил свою работу; нетерпеливо и властно она потребовала зеркало — я бросился за ним бегом, но ей казалось, что я двигаюсь невероятно медленно. Это было уж слишком. Не знаю, кто из нас двоих был более жалок. Я стал собирать кисти.
Она сказала мне что-то относительно шеи. Я не смотрел на нее и едва слышал, что она говорит, я был слишком раздосадован и не обращал на нее внимания. Но когда я собрал кисти и повернулся в ее сторону, то увидел, что она запрокинула лицо, подняла вверх зеркало и красит себе белилами шею, мягко, но неровно водя пальцами под подбородком. Я медлил мгновение, пока до меня не дошло, что происходит, а потом с криком кинулся к ней, вырвал у нее из руки банку с белилами и, опрокинув ее на диван, принялся отчаянно тереть ей шею своей рубашкой. Она не сразу поняла, что случилось, — да и вы, дон Мануэль, судя по тому, какими глазами на меня смотрите, не вполне это понимаете, а? — но достаточно было одного слова, которое мне с трудом удалось вставить в поток возмущенных восклицаний, сопровождаемых протестующими жестами, как до ее сознания тут же дошло: яд! Да, яд. Серебряные белила — это яд, и очень опасный, поэтому я всегда заботился о том, чтобы держать их вместе с другими вредными красками отдельно от остальных, и уж конечно от тех, которыми собирался тонировать лицо женщины[71]. Наконец мы успокоились, я умерил свои упреки, она — свои сетования и насмешки, мне удалось снять разбавителем остатки белил, и, хотя теперь она жаловалась на жжение, опасность отравления миновала.
«Какая досада, — продолжала сокрушаться она, — придется мне сегодня весь вечер прикрывать шею газовым платком, а ведь это — уловка старух». И она все изумлялась тому, что краски, которыми пользуемся мы, художники, могут быть такими вредными, так что мне пришлось рассказать ей о кобальте фиолетовом, о желтой неаполитанской, о веронской зелени…[72]
«Но какая хитрость, — заметила она, — иметь такие нежные поэтические имена и быть такими ядовитыми, как цианистая соль или мышьяк…» Она рывком поднялась на ноги, на этот раз я действительно надеялся, что она уйдет, но она, вопреки моему ожиданию, снова принялась расхаживать по мастерской, останавливаясь перед «Обнаженной», отпуская для себя самой какие-то замечания, которые я не мог расслышать, и все высматривала что-то среди полотен, искала и тут, и там, по всей мастерской, так что я уже начал терять терпение, но она наконец нашла то, что ей было нужно: последний портрет, который я сделал ей еще в Санлукаре, она называла его «мой портрет в черном». Теперь ее уже ничто не могло остановить: она заставила меня поддерживать этот портрет высотой в добрые два метра, прислонив его к спинке кресла, а сама стала перед ним, как перед зеркалом, вглядываясь в себя, другую, и обе они были написаны мной, но вся ирония заключалась в том, что та, на картине, обладала более естественной, подлинной красотой, она как бы говорила: «Такой ты была». И тут, словно эхо моих мыслей, я слышу, как она в самом деле произносит: «Такой я была». И, подбежав к «Обнаженной», обличающе указывает на нее пальцем и добавляет: «И такой тоже…» Она смотрит на меня с негодованием, потому что мои картины причиняют более жестокую боль, чем ее собственная память, и говорит с угрозой: «В один прекрасный день я приду к тебе, Фанчо, и ты распишешь мне тело, я заставлю тебя покрыть его этими серебряными белилами, чтобы изобразить саван, и тут же умру…»
И с унылым видом — она ведь была из тех пылких и неровных натур, которые мгновенно падают духом, и уже ничто на свете, ни сама жизнь, ни борьба не стоят их внимания — снова принялась рассматривать «Портрет в черном», спокойно, молча, как прилежная девочка перед аспидной доской, погруженная в свои занятия. И на этот раз она не сделала ни одного замечания ни о надписи «Гойя» на перстне, ни о другой, на песке — «Только Гойя», — на которую я заставил ее указывать пальцем. Она никогда не делала о них никаких замечаний. Я полагаю, что ее молчание говорило о неодобрении. Но в то же время она воздерживалась от возражений. И мне представляется, что таким образом эта необыкновенно чувствительная и деликатная женщина выражала свое уважение к любви, которую она вызывала, сама того не желая. Потом она подошла ко мне, взяла за руку и усадила рядом с собой на диван. Не отпуская мою руку, грустно сказала: «Спасибо, Фанчо, что ты сохранил меня навсегда молодой, и прекрасной, и такой жизнелюбивой в портретах, в рисунках и в „Обнаженной“ — мне хотелось бы, чтобы у нее было мое лицо, чтобы все знали, какой я была. В эти дни я думала лишь о том, как бы умереть или исчезнуть, избавиться от всех и избавить всех от зрелища моего упадка. Ты помог мне жить, — она указала на свои портреты, — и именно ты смог бы помочь мне умереть, оставить как-нибудь пистолет среди картин или… Не перебивай меня! Не говори, что это выглядело бы некрасиво. От чего умерла эта несчастная? От желтой неаполитанской! Насколько это лучше, чем умереть от обычной желтой лихорадки, как умирают в наше время». Смеялась она или плакала, я не мог разобрать, так я был ошеломлен, но вдруг, смахнув слезу, зависшую на самом кончике ресниц, она сказала: «Я не должна плакать. Ведь слезы могут испортить всю твою дьявольскую работу». И, подхватив мантилью, она пошла к выходу, однако на этот раз с бесконечной осторожностью, как выходят из комнаты, где остается спящий ребенок. Нашим спящим ребенком, которого она оставляла, была мысль о ее смерти.
(Гойя наливает себе другой бокал бренди. На этот раз он забыл налить мне. Он сбросил куртку и развязал галстук. Волосы потемнели от пота. И хотя его история печальна, рассказывая ее, он помолодел, он похож теперь на Гойю 1802 года. Не требуется больших усилий, чтобы представить около него Каэтану, полную благодарности и противоречивых чувств к этому смуглому, невысокому, но крепкому человеку, такому упрямому в своей несокрушимой верности.)
II
Я приехал на бал, как всегда, слишком рано: она еще не выходила из своих комнат, и я коротал время в разговорах с людьми из ее ближайшего окружения — с капелланом доном Районом, ее секретарем Бергансой и казначеем Баргасом[73], имевшими обыкновение появляться к началу званого вечера — сарао — и благополучно исчезать к моменту, когда гости мало-помалу начинали чувствовать себя хозяевами дома; меня связывала с ними давняя дружба; в тот вечер, насколько я могу вспомнить, мы беседовали о серьезной опасности, которой подвергся на днях дворец, — в нем чуть было не занялся пожар. Все говорило о поджоге. Негодование народа, возбужденное этой, как тогда считали, узурпацией земли под дворец, было настолько велико, что его не смог умерить даже королевский указ, подтверждавший право собственности герцогини на эту землю[74]. Немудрено, что верные ей люди, и особенно впечатлительный Берганса, опасались прямых нападок на свою госпожу, ибо такие нападки могли угнетающе подействовать на состояние ее духа, которое после возвращения из Андалузии и без того было крайне подавленным. В самый разгар беседы, словно для того, чтобы рассеять их беспокойство, она вошла в зал, отдавая направо и налево последние распоряжения, поправляя и переставляя по своему вкусу цветы, мимо которых проходила; в ней не было и тени той меланхолии, что так удручала секретаря и близких к ней людей и что так поразила меня в мастерской всего несколько часов назад. Она была прекрасна, как в лучшие свои годы, и я испытывал тайное чувство гордости оттого, что в этом имелась и моя заслуга. Ее красоту искусно оттеняло воздушное платье из муслина, в котором желтые и огненно-красные полосы ткани, накладываясь друг на друга, вспыхивали причудливыми переливами красок, усиливая сияние золота и рубинов на ее шее, в ушах и на пальцах. Она была ослепительна и, наверно, сама чувствовала это. Резко повернувшись, она взяла меня за руку, слегка откинулась назад и сказала: «Вот видишь, Фанчо, я обошлась без ядовитых красок и не надела ни серебряных украшений, ни моего любимого белого платья, хотя мне так хотелось быть в нем в этот вечер». И отошла поправить цветы в большой вазе китайского фарфора. Розы, украшавшие зал, повторяли цвета ее наряда, это было похоже на вариацию музыкальной темы. Пока она занималась цветами, я старался проникнуть в смысл ее слов: следовало ли мне понимать их в прямом значении или в них была заключена какая-то тайная мысль, связанная с нашим дневным разговором о серебряных белилах и с ее фантазиями о смерти. Но так или иначе, что бы она ни имела в виду, меня снова охватила тревога и полностью улетучилось радостное настроение, возникшее при ее появлении в зале. В этот момент начали прибывать гости.
Никто не мог сравниться с ней в естественности и грации, в изысканном искусстве гостеприимства, позволявшем смело объединять в одном зале, в одной театральной ложе или вокруг одного стола людей самого разного общественного положения. И заметьте: никто никогда не оспаривал эту ее власть, разве не так? И всем было известно, что таков ее дом, где можно было встретить тореадора, беседующего с грандессой Испании, или глубокомысленного философа, ухаживающего за комической актрисой. И всегда это доставляло всем удовольствие, потому что сама хозяйка умела создать атмосферу доброжелательности и непринужденности; вы должны помнить, как она, не меняя ни на йоту манеру речи, обращалась на ты и к принцу, и к простому человеку из народа, и с важной аристократкой она шутила точно так же, как с какой-нибудь махой с Лавапьес. И если она со временем в чем-то изменилась, то, к счастью, не в этом, что легко было заметить, наблюдая, как она обращается с гостями. А гости между тем продолжали съезжаться, и вскоре, словно так было задумано заранее, составились группы: здесь сам принц Астурийский беседовал с Исидоро Майкесом и Ритой Луна, а там тореро Костильярес говорил о чем-то с графами-герцогами Бенавенто-Осуна[75]. Не знаю, в какой момент появились вы, дон Мануэль, но хорошо помню вас, помню, как вы вели оживленный разговор, и присутствие ваших политических противников (а ведь там был не только принц, но и Корнель, верно? Да и саму хозяйку дома следовало бы, пожалуй, отнести к их числу) не доставляло вам ни малейшего неудобства. Да, она обладала этим искусством, и в тот вечер оно ей не изменило. Вы не могли этого не видеть, дон Мануэль, и вы действительно видели, как она сумела отрешиться от всех забот, как сверкали у нее глаза, отражая игру света ее муслинового платья. Она так и излучала радость жизни.
(Но как ни велико было искусство Каэтаны, начало вечера прошло отнюдь не столь безмятежно, как это хочет изобразить Гойя. По-видимому, из-за присущей ему деликатности он не позволяет себе ни малейшего намека на инцидент, случившийся в самом начале бала и заставший всех нас врасплох. Когда мы с Пепитой уже некоторое время были во дворце, неожиданно в зал вошла моя жена в сопровождении своего брата кардинала Луиса. Ни я, ни Майте не ожидали встретиться у Каэтаны, ведь она даже не знала, что я в тот день вернулся из Ла-Гранхи. Встреча была неприятной неожиданностью для нас обоих, а кроме того, она поставила в неудобное положение Каэтану и вызвала чувство неловкости у всех, кто оказался свидетелем нашего конфуза. Я говорю об этом Гойе, и он вынужден признать, что заметил эту сцену.)[76]
Не буду отрицать: я уловил что-то в самой атмосфере. Глухой, да к тому же еще и художник, или, если угодно, художник, имеющий несчастье быть к тому же глухим, может слышать по-особому, так сказать глазами, ибо из того, что он видит, он способен извлечь и то, что обычно воспринимается слухом? Да, я прекрасно помню этот момент. Донья Пепита, стоявшая недалеко от меня, вдруг сложила веер и так стиснула его, что у нее побелелц и задрожали пальцы; я обернулся и увидел застывшую в воздухе руку кардинала, он помедлил — гораздо больше, чем требовали обстоятельства, — прежде уем протянуть ее хозяйке дома, которая уже наклонилась, чтобы поцеловать перстень; я заметил также изумление, мелькнувшее в слабой улыбке Майте, то есть графини, — простите, что я так ее назвал, ведь я знал ее еще совсем маленькой[77]; я видел и вас, вы спешили ей навстречу более быстрыми, но менее уверенными, чем подобало случаю, шагами, заметил и злорадный огонек, вспыхнувший в тот момент в глазах дона Фернандо, уловил в ваших фигурах растерянность и напряженность, которую, как мне было нетрудно представить, вы пытались замаскировать оживленным обменом реплик; но главным было то, что, обернувшись к ней, я различил в ее черных глазах мелькнувшее вдруг смятение, раздражение и даже веселое любопытство, а на щеках — яркий румянец, освеживший мой кармин. А вскоре она, уже смеясь, объясняла мне все случившееся как забавное недоразумение; не знаю, успела ли она прокомментировать его таким же образом и вам. Кардинал был приглашен потому, что был другом Аро и к тому же именно он должен был заключать его брак, и он заранее сообщил, что явится на праздник вместе с сестрой; герцогиня думала, что речь идет о донье Лусите, вашей свояченице, а не о супруге; но она забыла и об этом, когда встретила вас в моей мастерской и пригласила на праздник[78]. Могу только сказать, что она не придавала большого значения подобным ошибкам в этикете, да и вообще нарушениям жестких правил светских приличий; чего стоит, к примеру, ее веселье, которому я случайно стал свидетелем, когда вошел в столовую и увидел, как она со своим родственником Пиньятелли перекладывает на столе карточки с именами приглашенных, чтобы разрядить немного обстановку и облегчить ситуацию для всех — и для вашей супруги, и для вас, и для доньи Пепиты, и для самого кардинала. «Представляю, какую физиономию состроит Берганса!» — смеялась она: Берганса, ее секретарь, был помешан на этикете; все еще смеясь, мы вместе вернулись в зал, где нас уже дожидались жених и невеста — граф де Аро и маленькая, изящная Мануэлита[79].
Всеобщая неловкость к тому моменту сгладилась. Возобновился непринужденный разговор, приближалось время ужина, настроение у всех было прекрасное. Но если бы вы, дон Мануэль, могли видеть, как я напрягался, стараясь разобраться в моих наблюдениях и найти в том, что видел, другой смысл — не улыбайтесь, я имею в виду скрытый смысл, а не двусмысленность, — вы смогли бы тогда наказать меня за мою проницательность, то есть смогли бы по моему поведению догадаться, что сам я переживал в тот момент. Думаю, мои чувства было нетрудно разгадать хотя бы по тому, как я подходил к окнам и притворялся, что рассматриваю сад. На самом же деле это были приступы ревности. Да, она обладала удивительным даром объединять вокруг себя самых разнообразных людей, но при этом ее одолевала проклятая страсть окружать себя своими бывшими любовниками и поклонниками, вот и в ту ночь они были там, не скажу, что все, но все же именно они составляли предосудительно * большую — если можно так выразиться — часть гостей. И со всеми, кроме меня, конечно, по крайней мере я так чувствовал, так мне нашептывала моя застарелая ревность, — со всеми она кокетничала, словно желая вновь разжечь уже подернувшийся пеплом костер страсти, — и с Пиньятелли, имевшим на правах родственника свободный доступ во дворец, и с Корнелем, продолжавшим конспиративно встречаться с ней у дона Фернандо и поэтому часто навещавшим ее, и даже с Костильяресом, который безоговорочно принял сторону простого народа и бесстрашно боролся против проекта ее же дворца… Каждому из них она успевала шепнуть что-то ласковое на ухо и подарить мимолетную улыбку, каждого успевала как бы невзначай коснуться веером или будто в бессознательном порыве сжать ему руку и больше, чем нужно, удержать ее в своей руке, и, наконец, — что хуже всего — для каждого была припасена своя слеза — из тех, знаете, быстрых слез, что вдруг набегают на глаза, никогда, впрочем, не проливаясь, но их блеск проникает вам прямо в сердце. Мое беспокойство было так велико, что глухота стала совсем непроницаемой. Никогда ее губы не казались мне такими яркими, такими вызывающими, как в тот раз, когда она произносила неслышимые мне слова, может быть и безобидные, но обращенные к другим и поэтому заставлявшие меня предполагать, что она говорит о чем-то чувственном, сугубо интимном. Охваченный ревностью, остро переживая свою глухоту, я молча крутил в руках табакерку рапе[80], пока не наступило время садиться за стол.
(Гойя прямо-таки молодеет, когда в нем оживает ревность; возможно, он еще сдерживается, потому что его ревность, несомненно, направлена и на меня, ведь с его необыкновенной врожденной интуицией, которую он не раз демонстрировал и которая еще более обострилась с его глухотой, он не может не знать, что я, подобно Корнелю, Костильяресу, Пиньятелли и подобно ему самому, тоже был одним из многих любовников Каэтаны, собравшихся на ее последний праздник.)[81]
Мы сидели друг против друга в центре большого овального стола; на почетные места справа и слева от себя она посадила обрученных, чтобы, как я подозреваю, немного отдалиться от самых докучливых гостей — принца Фернандо и графа-герцога Бенавенто-Осуна, которым, впрочем, она тоже оказала уважение, посадив справа от них графа де Аро с будущей графиней. Сама же она, довольная и улыбающаяся, сидела между кардиналом и Костильяресом и явно забавлялась их полным несходством во всем, начиная от характеров и кончая манерой одеваться; с кардиналом, как мне было известно, ей нравилось вести долгие разговоры о ботанике — ее новом увлечении, что же касается тореро, то их отношения в последнее время были очень неустойчивыми и напряженными, и невольно закрадывалось подозрение, что сжигавший их огонь уже совсем угас; моими соседями — с моей стороны стола — оказались Рита Луна, с ней мне было довольно легко общаться, потому что она обладала превосходной дикцией профессиональной актрисы, и графиня-герцогиня, которая с достойной уважения старательностью собирала и растягивала тончайшие губы над своими огромными зубами, стараясь, чтобы я как можно лучше понял, что она хочет заказать новую серию маленьких панно для нового кабинета и полагает, что теперь мне будет легче их сделать, поскольку меня больше не отягощают обязанности Первого Художника Короля[82]. Но вот все частные разговоры, случайные и отрывочные, в том числе, разумеется, и мои, вдруг смолкли: всеобщее внимание переключилось на другую тему. Кто-то упомянул о неудавшейся попытке поджога. Посыпались вопросы, объяснения, предположения, шутки, которые не вполне доходили до меня, пока все не умолкли, давая возможность хозяйке дома высказать свое мнение и изложить свой взгляд на этот случай. Она была не склонна принимать его близко к сердцу и предпочитала говорить в шутливом тоне, высказывая самые абсурдные предположения; однако я слишком хорошо знал ее, чтобы не заметить горечь в беспокойном взгляде и резких жестах: происшествие действительно задело ее, и она была подавлена в гораздо большей степени, чем ей хотелось бы признать, у нее не укладывалось в голове, что кто-то оказался настолько озлобленным против нее, что у него поднялась рука поджечь ее любимый дворец. Но она, как я уже сказал, предпочла скрыть свои чувства за шутками. Сначала принялась поддразнивать Костильяреса, смеясь, обвиняла его в подстрекательстве к поджогу, который якобы был нужен ему потому, что он вообразил себя «вождем простого народа», а затем начала выискивать других возможных врагов, обегая взглядом сидевших у овального стола гостей. Она подтрунивала и над вами, дон Мануэль, утверждая, что вы затаили на нее обиду за то, что она часто встречается с вашими политическими противниками. Подшучивала она и над графиней-герцогиней, говоря, что та навсегда останется ее соперницей во всем, что касается покровительства комическим актерам, тореро и поэтам. И вдруг повернулась в мою сторону, наши глаза встретились, и по легчайшему движению ее губ я прочитал — уверен, что прочитал правильно, — обращенные ко мне слова: «А тебе, Фанчо, не нужны даже горящие факелы; чтобы покончить со мной, у тебя есть твои фиолетовые и зеленые краски, но ты это сделаешь только тогда, когда я сама попрошу об этом, правда?» Я растерялся, ведь другие тоже могли догадаться, о чем она говорила, и к тому же сам не мог понять, насколько это было шуткой, а насколько это надо было принимать всерьез. После этого эпизода я замкнулся в себе и до конца ужина больше не вслушивался в разговоры за столом. Я только наблюдал за ней, смотрел, как она поворачивается то в одну, то в другую сторрну, как жестикулирует и смеется, и без конца спрашивал себя, откуда взялась эта нелепая идея о яде, которой она явно была одержима.
(Удерживаюсь, чтобы не сказать дону Фанчо, что ядами, как мне кажется, был больше одержим он сам. А фраза Каэтаны — если она ее действительно произнесла, сам я ничего не слышал, — была случайной, сказанной между прочим в весьма сложном разговоре, который Каэтана вела в своей обычной манере, как опасную игру, неожиданно говоря в глаза правду: о политическом противостоянии со мной, о заговорщических встречах с Фернандо, Экойкисом и Корнелем, даже о своем соперничестве с королевой, о чем с присущим ему ехидством не преминул напомнить сам принц, для которого не было большего удовольствия, чем поставить присутствующих в неловкое положение. Но Гойя, уйдя с головой в мысли о ядах, при всей своей восприимчивости не заметил, конечно, этих подспудных столкновений. Хотя, по правде говоря, сейчас я начинаю думать, что случайная фраза Каэтаны, которую я не расслышал, была услышана и взята на заметку кем-то из сидящих за столом, кто в тот момент уже имел причины заинтересоваться смертельными ядами…)[83]
Гостей принимали в нескольких подготовленных комнатах первого этажа и там же ужинали в зале, который впоследствии должен был использоваться как кабинет хозяйки дома, ее секретаря и казначея; кроме этих помещений, во дворце были закончены еще часовня, ризница, кухни, комнаты для слуг и родственников, а также четыре комнаты на верхнем этаже — личные апартаменты Каэтаны. Однако, когда ужин уже подходил к концу, ей вдруг взбрело в голову показать гостям весь дворец таким, каким он был к тому моменту, — незаконченным, неотделанным, еще без украшений, она не желала слушать никаких возражений, и вот уже на лестнице выстроились в ряд слуги с масляными светильниками и факелами в руках, готовые сопровождать гостей. Так началась та необычная ночная прогулка, живописное шествие в неровном свете факелов; пестрой толпой мы поднимались по ступеням величественной лестницы, которую, я знал, мне нелегко будет украсить росписью так, чтобы она соответствовала пышному великолепию этого мрамора и золота; Каэтана подробно рассказывала о дворце, стараясь не упустить ни одной детали и внимательно следя, чтобы слуги освещали все пространство и мы ничего не упустили; по мере того как мы поднимались, наши тени все более удлинялись и уже касались высоких потолков, а голоса становились все возбужденнее, так что я уже начинал улавливать громкие восклицания, гулко отражавшиеся от голых стен; потом мы прошли по застекленной галерее вокруг патио — плясавшие в стекле отблески факелов придавали шествию еще более фантастический вид — и оказались в восьмиугольном салоне. выходившем одной из своих граней в зеркальный зал, который мне тоже предстояло украсить моей аллегорией. И там, в плотном кольце пылающих факелов, свет которых бесконечно преломлялся и дробился в зеркалах, — что это было за зрелище, дон Мануэль! достойное гения Тинторетто! — там мы столпились все вокруг застывшей в гордой позе хозяйки дома и, подняв бокалы, которые разносили подоспевшие слуги, выпили за благополучное завершение строительства дворца вопреки всем потугам клеветников и поджигателей. Я любовался причудливой игрой бликов на потолке, завидуя живости и легкости, с которой огонь пылающих факелов набрасывал и смешивал яркие мазки света, создавая фантастические полотна, сменявшиеся с такой непостижимой быстротой, что казалось, будто это одна-единственная картина стремительно развертывается во времени — завораживающая, динамичная и несравненно более интересная, чем все мои эскизы, — и в этот момент кто-то коснулся моей руки, я обернулся: это была она. Я догадался, о чем она говорила мне: сейчас мы все пойдем в твою импровизированную мастерскую; я хотел было возразить, но что могли значить в тот момент мои возражения? Я вообще терпеть не мог показывать незавершенные работы, мне претили бестолковые комментарии и неуместные советы, тем более мне не хотелось демонстрировать мои черновые наброски в тот раз, они мне самому совершенно не нравились. Но не мог же я устроить там сцену и остановить это веселое праздничное шествие, во главе которого шла она сама в развевающихся огненно-красных одеждах, похожая на царицу огня! И вот все мы направились в музыкальный салон, временно превращенный в живописную мастерскую, а теперь вдруг преобразившийся в зал для приема гостей, потому что слуги[84] успели внести туда стулья и разносили напитки и сласти, а в углу уже расположились три музыканта, которые при нашем появлении принялись играть сонату Боккерини. Доведенный до кипения замечаниями болвана Корнеля и невежи Костильяреса, я едва сдерживался, чтобы не показать им на дверь. Но сделать это, конечно, было невозможно, и мне не оставалось ничего другого, как постараться отвлечься от всего, погрузившись в очаровательную музыку маэстро. Кстати, знаете ли вы — правда, я сам только что осознал это, — знаете ли вы, что я даже теперь могу воспринимать музыку настолько, что она доставляет мне удовольствие? Однако в моей мастерской процессия задержалась ненадолго. Герцогине уже не терпелось идти дальше. Она вообще была необыкновенно возбудима, пылкая натура заставляла ее мгновенно и живо реагировать на все, она схватывала все на лету и явно испытывала наслаждение, первой постигая глубинную сущность вещей и положений, когда другие лишь начинали смутно прозревать ее. Вот и тут, не успели гости опомниться, как она уже приказала слугам принести еще вина и объявила, что прогулка окончена. Но…
«Минуту внимания! — обратилась она вдруг к тем, кто находился в голове процессии. — Забыла предупредить вас кве о чем. Знаете ли вы, что Фанчо может стать опасным отравителем? Что в его банках с красками, таких безобидных с виду, хранится больше яда, чем во всех медальонах и табакерках Борджиа?» Я стоял как громом пораженный. Она говорила, не делая пауз, видимо, для того, чтобы я не вставил ни слова, а я не мог взять в толк, зачем ей понадобилось устраивать этот абсурдный спектакль. С кошачьей ловкостью она протиснулась среди растерявшихся гостей к столу, на котором громоздились банки с красками, и выхватила одну из желтых. «Смотрите, эта желтая — видите? А вам известно, что она прямо из Неаполя, прямо оттуда? Осторожно! вы можете умереть даже оттого, что будете долго смотреть на нее! И кстати, я вовсе не намекаю на твою невесту, Фернандо, — дерзко добавила она, неожиданно обращаясь к принцу. — Упаси боже! Надеемся, ты не набрался в Италии отвратительных местных обычаев![85] А посмотрите на эту лиловую, вроде бы ничего особенного, он всегда пользуется ею, когда пишет плащ Иисуса Назаретянина, она кажется такой безобидной, фиолетовый кобальт — так ее еще называют. Но не вздумайте вдохнуть ее запах — у вас тут же застынет кровь в жилах!» Раздались изумленные восклицания, вопросы, чей-то нервный смех. Но я был слишком ошеломлен происходящим, чтобы хоть как-то возразить ей, к тому же в таком состоянии я слышу хуже, чем обычно. А она между тем не унималась. Порхнув, словно бабочка, в развевающихся муслинах, она с ловкостью ярмарочного фокусника заменила фиолетовую на зеленую и теперь демонстрировала ее гостям, поднося банку к их глазам: «А вот зеленая! Цвета лугов и ангельских глаз. Или глаз Люцифера? Так будет точнее! Веронская зелень! Чистый яд!» На этот раз она открыла банку — вы помните это? — насыпала немного порошка на тыльную сторону левой руки и затем поднесла ее к носу — проклятый жест, который я видел столько раз, когда она вдыхала белый андский порошок; она и на этот раз была уже готова вдохнуть его, но тут я опомнился и, бросившись к ней, резким ударом стряхнул порошок с ее левой руки, выхватил банку из правой и в бешенстве закричал: «Вы с ума сошли? Это смертельный яд!» — «Видели? Видели все?» — закричала она в ответ, вырываясь из рук державших ее гостей, — мой удар, на самом деле очень сильный, заставил ее вскрикнуть от боли. Уж и не знаю, что еще мы сделали бы или сказали друг другу, не случись в тот момент происшествие, которое вывело нас из этой достойной сожаления ситуации. Майте — простите, дон Мануэль, ваша супруга, сеньора герцогиня де Чинчон, — вдруг застонала, и начала оседать на пол, и упала бы, если бы ее брат, кардинал, с удивительной быстротой не подхватил ее буквально в самый последний момент. Герцогиню посадили в кресло, и все расступились, чтобы ей было легче дышать, кто-то вспомнил о нюхательной соли, и дон Фернандо тут же достал из кармана и предложил свой флакон с солями, но кардинал успокоил нас всех: «Ничего страшного. Легкий обморок. Быстро пройдет. Наверное, в факелах слишком много смолы», и, вернув флакон принцу, он стал приводить в сознание герцогиню — называл ее по имени, легко похлопывал по рукам и вискам, тихо читал молитву, которую я, еще не придя в себя и будучи довольно далеко от них, не мог расслышать. Через минуту, если помните, по настоянию кардинала все вышли в зеркальный салон, оставив их одних. Помню все довольно полно, не правда ли? Ведь это кардинал, а не вы, пришел на помощь герцогине? Возможно, мне не следовало бы спрашивать об этом…
(Спустя столько лет я объясняю Гойе, что в этом не было ничего странного. Да, помощь Майте оказал мой шурин. Они с детства были очень близки, и, думаю, нет ничего необычного в том, что когда ее отношения со мной стали такими, какими они тогда уже были — натянутыми и холодными, — она искала поддержки именно у кардинала. Но я, конечно же, помог бы Майте, потому что никогда не переставал быть заботливым мужем, кардинал просто опередил меня. Гойя снова начинает извиняться, говорит, что надоел мне, что рассказывает мне как нечто новое историю, в которой я участвовал, как и он, и видел все своими глазами точно так же, как он. Я с ним не соглашаюсь: совсем не «так же, как он», никогда два человека не воспринимают совершенно одинаково одно и то же событие. Например, выходка Каэтаны в мастерской показалась мне не более чем забавной шуткой, да и реакция самого Гойи была, с моей точки зрения, совершенно естественной, и вообще я не заметил в этом происшествии чего-то особенного. И еще одно: на следующий день, когда я узнал, что Каэтана умирает от необычной болезни, которую медики не могут даже определить, у меня в голове не мелькнуло никакой мысли о ядах.)
Такой же праздничной процессией мы возвращались назад, проходя через салон и галереи, но у меня больше не было желания любоваться эффектной игрой света, а когда спустились по широкой лестнице на первый этаж, трио музыкантов уже играло в салоне, и все уселись слушать их. Я предпочел остаться на ногах, поближе к музыкантам — они слишком тихо для моего слуха исполняли чье-то адажио. Поискал глазами имя композитора на партитуре виолончелиста: Гайдн. Она осталась верна музыкальным вкусам покойного герцога[86]. Вслед за адажио прозвучало короткое рондо. Трио наградили аплодисментами. Я обернулся и увидел мелькнувшую в дверях огненную накидку Каэтаны: воспользовавшись перерывом, она выходила из салона. Я решил пойти за ней, высказать ей свои упреки за сцену в мастерской и — главное — просить прощения за мою резкость. Но она шагала слишком быстро. Я только подошел к лестнице, а она уже выходила с нее на втором этаже, я вступил в зеркальный зал, а она в другом его конце уже открывала двери, ведущие в ее апартаменты. Дразнящий огонек ее накидки мелькал все время далеко впереди. Мне так и не удалось догнать ее. Когда я поравнялся с моей мастерской, из нее вышли ваша супруга и ваш кузен в сопровождении слуги со светильником в руках. «Спасибо за гостеприимство, Франсиско, — обратился ко мне кардинал. — Подумай, когда сможешь приехать навестить нас в Толедо. Может быть, найдешь время и напишешь нам два новых портрета[87]. И не играй с ядами». Майте, словно испуганная девочка, вцепилась в руку кардинала, ее тело стало клониться назад, она снова была на краю обморока, но, собравшись с силами, смогла прошептать: «Прощай, Франсиско, приезжай навестить нас». Они принадлежали к тому небольшому кругу людей в Мадриде, которые называли меня Франсиско: не Фанчо, не Пако, не Гойя — Франсиско. Так они привыкли называть меня с детства, когда я писал их в первый раз, еще вместе с родителями, и так они продолжали обращаться ко мне и потом. Я всегда их любил, и они всегда прекрасно относились ко мне. Я смотрел, как они короткими шагами шли через зеркальный зал, он держал ее под руку, она прижималась к нему, и вспоминал, что так они ходили всегда — он укорачивал шаг, чтобы идти с ней в ногу; такими я видел их еще в Аренас-де-Сан-Педро, когда они, взявшись за руки, шли в сад ловить бабочек или возвращались после молитвы; помню, как она уходила спать, а инфант дон Луис провожал ее нежным взглядом. Они уже спустились по лестнице, а я все стоял в нерешительности. Каэтана закрыла дверь в свои комнаты, и я не осмеливался постучаться. В конце концов я вернулся в мастерскую и решил заняться работой.
Я пробыл там, должно быть, около часа, приводя в порядок наброски, которые перебирали и передавали из рук в руки гости, и попробовал нарисовать новое «капричо», на котором маха — она — разговаривала со старым аптекарем, — чудовищно деформированный образ меня самого, каким я только что видел свое отражение в зеркалах зала, — и на ее лице была растерянность: она не могла выбрать ни одну из банок, предложенных аптекарем. Я собирался назвать капричо «Что будет надежнее?» — достаточно двусмысленно: хотя поза молодой женщины и масленые глазки старика больше говорили о любовных снадобьях, маха на самом деле искала не что иное, как надежную смерть. В общем, то капричо было просто мимолетным капризом, и через мгновение разорванная на мелкие клочки бумага отправилась в корзину. Я услышал, как у Иеронима пробило два часа, пора было уходить; минутой раньше я видел в окне отъезжающую карету, гости уже начинали отбывать. Я погасил светильники и вышел. Погруженный в темноту зеркальный зал производил гнетущее впечатление, я постарался как можно скорее пройти сквозь его гулкую пустоту и пересечь восьмигранный салон и вздохнул с облегчением, лишь выйдя в галерею, куда в открытое окно вместе со свежим воздухом вливались отзвуки и отблески ночной жизни вечно бурлящего Мадрида.
Сеньора герцогиня, ваша супруга, по-видимому так и не оправившись полностью после обморока, вынуждена была покинуть дворец. На этот раз ее сопровождали вы. По крайней мере так сообщил мне торопливым шепотом Пиньятелли, явно злорадствовавший по поводу того, что кардинал и Пепитц должны будут теперь уехать вместе.
Глядя издалека на Каэтану, я строил предположения, о чем она говорит; Майкес перебирал струны гитары, Рита пела свои всегдашние куплеты, а Каэтана вела оживленный разговор с Костильяресом, она сидела на низенькой скамейке спиной ко мне, положив руку на его колено. И вдруг, воспользовавшись минутным затишьем после аплодисментов, взметнулась, будто колеблемое ветром пламя, и, выхватив гитару из рук Майкеса, запела сама. Теперь я видел ее лицо, она была не похожа на себя: лихорадочный блеск глаз, экстатическая поза, какая-то темная страсть, с которой она пела любовные песни, чередуя их с песнями о смерти, — все это сразу же зародило во мне подозрение, что хотя я и помешал ей вдохнуть зеленую веронскую — кстати, вся эта сцена в конце концов могла быть лишь специально разыгранным фарсом, — она тем не менее добилась своего, утешившись белым андским порошком. Надышавшись им, она всегда преисполнялась какой-то неестественной болезненной энергией; мы, кто хорошо ее знал, сразу же замечали, когда она впадала в это состояние: исчезали прирожденное изящество и грация, пропадала ее несравненная непринужденность, она становилась сухой и колючей, полностью утрачивала свою обычную сердечность. Между тем голос ее звучал все более напряженно, а глаза наполнились слезами, и я с тревогой наблюдал, как черная краска, которой я накрасил ей ресницы, спускается потеками по ее щекам; она, видно, и сама заметила это, потому что, резко оборвав последние такты и договорив скороговоркой слова песни, вернула гитару Майкесу и вышла из комнаты. Однако уже через минуту, приведя себя немного в порядок, вернулась обратно, села отдельно от всех и с бокалом в руках, который то и дело меняла на новый, напряженная и готовая к прыжку, как пантера, стала со странной недоброжелательностью слушать обожаемую кузину Мануэлиту, болтавшую о своем свадебном наряде, о том, когда будет свадьба и куда они отправятся в свадебное путешествие. Она действительно обожала Мануэлиту, но демоны уже овладели ею, и в следующий момент она с кошачьей гибкостью вмешалась в общий разговор: «Ах, душенька, нам уже прискучили твои невестинские россказни, — вкрадчиво проговорила она, — наш вечер стал похож на посиделки у доньи Тадеа[88]. Слишком здесь тихо. Составим-ка лучше заговор! Ты не против, Фернандо? Или совершим преступление, вдохновленное страстью, хотя бы только воображаемой, да, Исидоро? Или, по крайней мере, устроим пожар. Где твои поджигатели, Костильярес? Они мне простят дворец, если я их найму оживлять мои праздники?» Вдруг в ее глазах сверкнула молния. Меня охватило беспокойство. Ведь это могло означать что угодно. «Хотя зачем они нам нужны?» — голос ее дрожал от напряжения. Она подбежала к одному из канделябров, освещавших комнату, выхватила из него свечу, остановилась перед нами — Пиньятелли, Костильяресом и мной, кто знали ее слишком хорошо и уже приготовились вмешаться, — и воскликнула: «Мне достаточно одной этой свечи, чтобы самой поджечь дом!» С этими словами она бросилась к шторам, а мы — к ней, она с криком и смехом отбивалась от нас, а мы тоже смеялись, чтобы разрядить неприятную ситуацию, и наконец Костильяресу удалось схватить ее сзади за локти и оттащить от шторы, Пиньятелли сумел завладеть свечой, а я поливал водой из цветочной вазы огненный фестон, уже окаймлявший расшитые золотом шторы… Осуна успела подбежать к кардиналу и красноречивым жестом умоляла его вмешаться; Майкес с явной насмешкой взял на гитаре несколько трагических аккордов, как бы комментируя гротескную драму, развертывающуюся у него на глазах; Корнель, уже изрядно пьяный, как я полагаю, продолжал дремать, зарывшись в диванные подушки; лицо принца Фернандо не утратило своего дурацкого веселого выражения; Мануэлита обняла своего обрученного; а я с глупым видом стоял среди них с вазой в одной руке и розами в другой[89].
Казалось, она сдалась, но не столько из-за нашего вмешательства, сколько потому, что внутри у нее что-то ослабло, надломилось и исчезло, неожиданно — как бывало с ней всегда. Все вдруг стало ни к чему — дворец, эта ночь, мы, ее гости. Вялым движением она освободилась от рук Костильяреса, тихо — как бы про себя — рассмеялась, подобрала кашемировую шаль и, не сказав ни слова, вышла из комнаты с таким потерянным и печальным видом, что у меня сжалось сердце. Мы посмотрели друг на друга, одни с пониманием, другие с иронией, кто-то разбудил Корнеля, растолковав ему, что уже время уходить, и Пиньятелли, как родственник герцогини, начал прощаться с гостями. Когда мы вышли в вестибюль, я посмотрел наверх. Высокие потолки над великолепной лестницей не были освещены, от них веяло унынием. На верхних ступеньках что-то виднелось. Мне показалось, что это кашемировая шаль. Напоминало темное пятно крови на светлом каррарском мраморе.
(Последняя часть рассказа Гойи дает ясное представление о его тяжелых предчувствиях и упадке духа. Любопытно, что это его не старит. Память страсти — если это память — так в нем сильна, что у меня возникает впечатление, будто я встретился с чем-то необычайно мощным и страдающим — да, раненый бык, вот что это такое.)
III
В тот вечер мы в какой-то момент условились с ней, что встретимся на следующий день в полдень. Пора было снова приниматься за работу. Нам предстояло просмотреть наброски, обсудить, если понадобится, новые идеи, и после этого я снова начну все с начала. «И смотри не забудь, Фанчо, — сказала она мне, когда мы договаривались о встрече, — я хочу отпраздновать открытие дворца как можно скорее, ведь в любой момент к нам может заявиться Наполеон». Присутствовавшие при разговоре встретили шутку улыбками, только кардинал осенил себя крестным знамением; никому тогда не могло прийти в голову, что через несколько лет шутка превратится в трагическую реальность. Однако ей самой уже не довелось увидеть этого. А нам — мне, секретарю, казначею, — когда мы слушали ее, тоже не могло прийти в голову, что она умрет раньше, чем увянут стоявшие в вазах розы.
Я подошел к дворцу около двух часов дня, после недолгой прогулки по Пасео; меня удивило, что за железной оградой не было заметно никаких признаков жизни: дворцовые двери плотно закрыты, сад пуст; дело в том, что, хотя строительные работы давно уже закончились, вокруг дворца постоянно кипела жизнь, всегда можно было видеть десятки слуг, сновавших туда и сюда. Еще больше меня озадачило, что, когда я уже подошел к воротам, выходившим на улицу Императрицы, из них выехало ландо дона Хайме Бонелльса, старого домашнего врача Каэтаны, который лечил герцога в 1795 году. Хотя если вспомнить, что она вызывала медика по всякому поводу, достаточно было кому-нибудь из родственников или слуг почувствовать легкое недомогание, то, пожалуй, не было особых причин волноваться. Однако мне недолго оставалось быть спокойным. В вестибюле я встретил Пиньятелли и Каталину[90], только что проводивших Бонелльса, они с заговорщицким видом говорили о чем-то вполголоса; неожиданно Каталина повернулась и, не поздоровавшись, побежала вверх по лестнице. Пиньятелли, увидев меня, ограничился тем, что нахмурил брови, пожал с мрачным видом плечами и, показав пальцем на второй этаж, сокрушенно потряс головой. Проделав все это, он молча вышел на улицу, оставив меня в полном недоумении. Не было видно ни одного слуги. Огромный пустынный вестибюль и широкая пустая лестница наводили страх. Из бесконечных коридоров и переходов, из помещений второго этажа не доносилось ни звука. Дворец был так велик, что если в одном его конце танцевали или умирали, в другом абсолютно ничего не было слышно. Я сел на стул, поставленный здесь для какого-то просителя, и принялся осматривать стены и потолок; в тот момент, помню, я был совершенно уверен, что мне никогда не придется их расписывать. Незаметно прошли двадцать минут, и я по легкой вибрации плиток пола догадался, что к дверям подъехал экипаж. Минуту спустя Пиньятелли ввел дона Франсиско Дурана, другого домашнего врача, которому здесь в последние годы отдавали предпочтение. Не обращая на меня внимания, они направились к лестнице и стали подниматься на второй этаж. На верхней площадке показалась Каталина, она спустилась на несколько ступеней навстречу Дурану. Все трое тут же скрылись из виду. Тогда я тоже, перешагивая через две ступеньки, поднялся наверх и успел увидеть, как они выходили из галереи. Ее апартаменты находились по другую сторону зеркального зала, рядом с восьмигранным салоном. Моя мастерская была расположена таким образом, что, оставив дверь открытой, я мог видеть из нее всех, кто входил или выходил из той части дворца. Поэтому, чтобы лучше наблюдать за исчезнувшей троицей, которая была так возбуждена, что даже не заметила моего присутствия, я решил зайти в мастерскую и там ожидать дальнейшего развития событий. Рано или поздно Каталина выйдет, чтобы проводить врача, и я тогда смогу ее перехватить.
Я передвинул немного стол и табурет, делая вид, что приступаю к работе; с этой точки мне будет хорошо виден каждый, кто пройдет по зеркальному залу. Прошло довольно много времени, я безуспешно пытался успокоиться, старался гнать от себя тяжелые предчувствия и особенно старался не думать о том, что причиной появления озабоченных врачей мог быть этот дьявольский андский порошок, которым она надышалась сверх меры. Не знаю, в какой именно момент мой взгляд скользнул рассеянно по столу, где, как солдаты на параде, выстроились банки с красками. Страшное подозрение вдруг кольнуло меня — и я бросился к ним. Не хватало зеленой веронской. Невозможно. Но невозможное случилось — ее не было. Я зажмурился, открыл глаза — не было. Может быть, вчера, наводя порядок, я поставил ее на другое место? Нет. Я снова закрыл глаза и глубоко вздохнул, стараясь успокоиться. Просмотрел одну за другой все банки. Вот желтая неаполитанская, вот белая серебряная, вот кобальт фиолетовый, а сейчас, повторял я себе, сейчас появится благословенная зеленая, все это просто ошибка, просто минутное помрачение. Но зеленая не появилась. Пошатываясь, я вернулся к табурету. Руки стали холодными как лед, в пересохшем горле першило. Я вдруг покрылся потом, тело била крупная дрожь. Как это она сказала накануне? «А у тебя остаются твои фиолетовые и зеленые, чтобы покончить со мной…»
(Гойя начинает дрожать. На висках выступает пот. Его голос слабеет и звучит глухо. Он прикрывает веки, словно у него начинается головокружение. Ужасно. Я тоже дрожу. Я ведь тоже знаю, что кто-то похитил яд. Мы уже не в Бордо.
Мы в Мадриде, в его мастерской, и там, среди его банок с красками, нет зеленой веронской.)
Когда я очнулся от оцепенения, оказалось, что в зеркальном зале собралось уже много народа: там были капеллан, казначей, секретарь, несколько горничных и слуг, а также испуганная и бледная Мануэлита Сильва. Одни из них окружали Каталину, другие теснились вокруг Пиньятелли. Мне незачем было задавать им вопросы. Я уже понял: она умирала. В зеркале я увидел, что дверь в ее часть дворца полуоткрыта, и медленно пошел туда. Никто не обратил на меня внимания, и через несколько секунд я вошел в ее апартаменты. Они состояли из двух больших помещений: спальни и гостиной, размером немного поменьше, служившей также гардеробной и туалетной комнатой. Я вошел именно в эту гостиную, в ней не было никого. Дверь в спальню была слегка приоткрыта. Окна, выходившие на запад, закрывали жалюзи, сквозь щели которых пробивался свет летнего дня; тонкие лучики пронизывали полумрак и ломались о мебель. И тут я увидел бокал. Он стоял на туалетном столе, и в нем ослепительными искрами дробился один из пробившихся в комнату лучей. Драгоценный бокал венецианского стекла, подарок папского посла, увитый голубыми и золотыми линиями, сплетающимися в изысканные арабески вокруг эмалевых медальонов тончайшей работы. Он всегда приводил меня в восхищение, а сейчас просто гипнотизировал. Как завороженный я приблизился к нему. Но не решился коснуться.
Бокал, конечно, был до половины полон зеленоватой жидкости. Я говорю «конечно», ибо, что бы в нем ни было налито, я все равно увидел бы что-то зеленое, настолько я был уверен, что существует не только реальная, но и некая мистическая связь между необычной зеленой веронской и венецианским бокалом, а еще я говорю «конечно» потому, что луч света, преломлявшийся в хрустальных стенках и в заполнявшей бокал жидкости, смешивал синий цвет с золотым, и внутри образовалась небольшая вогнутая полость светло-зеленого цвета, почти цвета морской волны. Зеленого цвета!
Скорее какой-то инстинкт, чем звук, заставил меня обернуться. Дверь в спальню открылась, и, словно откликаясь на неслышимый мне зов, из гостиной вошли Каталина и Мануэлита. Их сопровождал врач, который, обменявшись с ними несколькими словами — я присутствовал при этом коротком разговоре, как невидимый призрак, — вернулся в сопровождении Каталины в спальню. Маленькая Мануэлита, стараясь унять волнение, села на стул, стоявший около двери, и приготовилась ждать. И только тут она меня заметила, и лицо ее озарилось бесконечно милой беззащитной улыбкой. И, по-моему, она сказала при этом: «Она умирает…» — однако я не уверен. Может быть, я просто боялся услышать эти слова. Я вздрогнул, и мне пришлось опереться о туалетный стол. Я опять посмотрел на бокал, снова взглянул на Мануэлиту. Мы оба в один и тот же момент отвели глаза. И словно застыли: она — сидя на стуле, как маленькая девочка, отбывающая наказание матери-настоятельницы, а я — на ногах, охваченный страхом и болью; такими нас и застали вернувшиеся Каталина и врач. «Она хочет видеть вас, — обратилась к Мануэлите Каталина, но, заметив мое состояние, добавила: — И вас тоже, дон Фанчо». Мануэлита уже скрылась в спальне. Врач подошел к умывальнику и стал мыть руки, Каталина поднесла ему полотенце; на лице этого вечно сдержанного человека неожиданно появилась теплая улыбка, когда он молча брал полотенце из ее рук. Надежды не было. Странное желание вдруг овладело мной: схватить бокал, унести его и спрятать; было такое чувство, будто это она из глубины алькова молила меня об этом. Я решил дождаться, когда Дуран уйдет. Каталина выйдет проводить его, и тогда я смогу взять бокал. Я уже начал думать о том, как пронести его, чтобы никто не заметил; вполне вероятно, что никто не обратит на меня никакого внимания, а кроме того, все так поглощены случившимся несчастьем, так подавлены, что вряд ли кто-нибудь вообще видел бокал. Но Каталина и Дуран никак не могли окончить ритуального омовения рук, и вот уже вернулась Мануэлита. Не знаю, мне только показалось или на самом деле, выходя из спальни, она на какое-то мгновение задержала взгляд на бокале. Но у меня не осталось времени размышлять об этом: Каталина настойчиво приглашала пройти к алькову. Бокал остался на своем месте. А я направился к его жертве.
(Я храню молчание относительно бокала. Не говорю Гойе ничего. Ни о том, что держал его в руках накануне ночью, когда он был еще невинным венецианским стаканом кватроченто, ни о том, как восхищался изображениями дамы и оленя на двух его драгоценных эмалевых медальонах. Не говорю, что даже сегодня явственно вижу, как он волшебно и загадочно мерцает на туалетном столе Каэтаны.)
Вы меня извините, если я не буду рассказывать о моем последнем свидании с ней? Могу только сказать, что, несмотря на страдания, несмотря на все напряжение тела и духа, на пепельное лицо и воспаленные лихорадкой глаза, она была такой же, как всегда, — насмешливой и дерзкой… дерзкой даже в бреду, даже с Богом и смертью… «Я так любила вас, мой Фанчо, — сказала она мне, — только, кажется, все прошло слишком быстро…» Но я не хочу говорить об этом.
(Видно, что Гойе трудно продолжать рассказ. Я готов сказать ему, чтобы он остановился, но в этот момент снова раздается его голос, слабый и ломающийся, хриплый и сухой, как обожженная глина.)
Потом я вернулся в гостиную. Упал на какой-то стул, опустил голову, ушел в себя. Рядом мелькали фигуры, доносились обрывки приглушенных разговоров. Входили люди: Пиньятелли, капеллан, старый домашний врач Бонелльс, уехавший из дворца два часа назад. Вошел священник с дароносицей. Он поставил ее на туалетный стол, расчистив место между драгоценностями и флаконами с духами. Тут я заметил, что бокала на столе уже нет. Он исчез. Никто ничего не трогал в этой комнате, в ней только говорили о смерти, и, однако, кто-то унес его. Но кто? Может быть, Каталина? И, как бы отвечая на мой немой вопрос, она в этот момент выглянула из дверей спальни — очевидно, она вошла туда в тот момент, когда я выходил оттуда, — и жестом позвала священника. Все поняли, что Каэтана умирает. Комната наполнилась людьми. Появились Осуна, Аро, безутешная Мануэлита, Костильярес. Пиньятелли плакал. Баргас покачнулся и сел в кресло. Берганса кусал пальцы. Я задвинулся в угол и оставался там в тени, не в силах побороть-сковавшее меня оцепенение — так я был потрясен этой смертью; мне казалось, что сквозь занавески пробивается легкий ветерок, обдувает мне лоб, мягко и медленно стирая навсегда память о прошлом. Не знаю, сколько времени я там пробыл. Но помню, что вывело меня из моего состояния: ослепительный блеск. Бокал, ярко сверкая, опять стоял на туалетном столе, на своем прежнем месте. Как по волшебству он исчез оттуда и как по волшебству снова материализовался там, завораживая меня бриллиантовой игрой света. Я обошел вокруг стола, более привлеченный его красотой, чем желанием сделать с ним что-то определенное, и, когда уже собирался взять его в руки, вдруг с удивлением заметил, что он теперь пустой, в нем больше нет никакой жидкости. Пустой и совершенной сухой. Я даже не дотронулся до него. Отдернул руку, будто обжегся. Пальцы и правда горели, как обожженные. Посмотрел вокруг: не наблюдает ли кто-нибудь за мной. В дальнем углу комнаты граф де Аро старался привести в чувство Мануэлиту, которая явно была вне себя: остановившимся, полным боли взглядом Мануэлита смотрела куда-то сквозь меня, словно видела за моей спиной призрак. ОНА умерла.
(Мне кажется, что Гойя плачет. Он шумно дышит, но нет, не от слез, скорее это глухое бешенство. Он наливает стакан бренди и опять забывает предложить выпить и мне. Я показываю жестом, что хотел бы уже завершить нашу встречу, что мне пора уходить, но он энергичным движением останавливает меня. Он хочет закончить свой рассказ. Что ж, дослушаю его до конца.)
Все случившееся было похоже на дурной сон, начавшийся в тот самый момент, когда я вошел во дворец. И вот он кончился. Кончился ужасным пробуждением: ОНА умерла. И я знал как. Но у меня не хватило ума и сообразительности забить тревогу сразу же, как только я обнаружил пропажу банки с краской, — тогда ОНА была еще жива, а теперь какой был смысл говорить об этом, ведь ничего уже не поправить, не исправить, ведь Каталина с горничными начали готовить ЕЕ к погребению, а врачи спорили о причинах смерти, упоминая то летние миазмы, то прилипчивую инфекцию, то привезенную с юга желтую лихорадку. И ни разу в их споре не прозвучало слово «яд». Слово, буквально преследовавшее ее накануне с той минуты, когда я застал ее с серебряными белилами, которыми она мазала шею, и до того, как я стряхнул с ее руки зеленый порошок. Это были мои последние физические соприкосновения с ней, потому что к своему смертному ложу она меня не подпустила, не позволила коснуться ее, но я уже сказал, что об этом не хочу говорить.
На похоронах до меня дошли будоражившие город слухи, что она умерла от яда, а рука убийцы, подсыпавшая яд в ее бокал во время последнего ночного праздника, была все той же таинственной рукой, которая поджигала ее дворец, — рукой народного возмездия, но может быть, дон Мануэль, то была ваша рука, которой творила суд и расправу сама королева, нанося разящие удары из Ла-Гранхи?[91] Не полагаете ли вы, что мне следовало бы явиться в полицию и рассказать там обо всем, что я знал: о том, как исчезла банка с ядом, как бокал оказался вдруг тщательно вымытым, как она сначала в моей мастерской, а потом и во время прогулки по дворцу играла с мыслью умереть от желтой неаполитанской или серебряной белой краски? Но что дали бы мои показания? К чему они могли привести? В лучшем случае еще к одному расследованию… (Его и так провели, но я узнал об этом только потом.) И что это дало бы в результате? Доказали бы, что во дворце исчез смертельный яд? И утвердились бы в некоторых подозрениях, о которых мне доподлинно известно, что их породила клевета…[92] Но к чему сейчас перебирать все эти резоны? Я молчал по одной-единственной причине, которая заставляла меня молчать в течение двадцати лет. Молчал потому, что ее смерть была нашей — ее и моей — тайной. Последней. И возможно… единственной тайной.
Я вернулся во дворец, в мою мастерскую; к тому времени ее завещание уже было прочитано, и наследники заказали мне стенную роспись для ее усыпальницы. Тогда же я узнал, что было проведено расследование. Оно не дало никаких результатов, впрочем, обитатели дворца их и не ожидали, никто из них не верил ходившим тогда слухам. Я заперся в мастерской и с головой ушел в работу. Преодолевая отвращение, я вооружился терпением и готовил эскизы фрески. В случившейся трагедии для меня было только одно утешение: ее завещание включало пункт, касающийся меня, точнее, моего сына Хавьера: наследникам вменялась в обязанность пожизненная забота о нем[93]. Меня, собственно, обрадовало не столько содержание этого пункта, включенного в завещание, которое она составила в феврале 1797 года в Санлукаре, в самый разгар нашего счастья, сколько то, что ни моя последующая ревность, ни разрыв и отдаление, ни мои дерзости и мои, так сказать, «капризы» — ничто не заставило ее это завещание изменить. Такой она была натурой — верной и цельной, ничего общего с тем, что я, слепец, воспринимал как ветреность и небрежность.
В один из тех вечеров, когда я работал в мастерской над эскизом, появился Пиньятелли; он после ее смерти совершенно изменил свое отношение ко мне, стал необыкновенно мягким и грустным, что, думаю, было способом сохранить живой память о ней. Все мы во дворце так или иначе стремились к этому. Пиньятелли пришел сказать, что пункт, касающийся Хавьера, вступил в действие и наследники готовы выполнить и другое ее желание, оно не было включено в завещание, но они прекрасно о нем знали, поскольку она много раз так или иначе его выражала, и согласно этому желанию они собираются вручить мне хрустальный бокал, которым она пользовалась во время своих путешествий; по словам Каталины и казначея Баргоса, она при разных обстоятельствах неоднократно говорила, что бокал должен перейти ко мне, если ей доведется умереть раньше меня. Это был посмертный подарок. И вот теперь они решили передать его мне. Я знал, о каком бокале шла речь. О том, из которого в первый раз мы пили оба по дороге в Санлукар весной 1796 года, то было восхитительное вступление в нашу еще более восхитительную близость. И я помнил, конечно, как она говорила об этом бокале в домашнем кругу, заставляя меня краснеть, так как мне казалось, что все догадываются, что у нас с ним связано. Шесть лет протекло с тех пор, за плечами наш разрыв, ее смерть, и вот вдруг этот подарок как память о прошлом быстротечном, но полном счастье. Я с благодарностью согласился принять его. И Пиньятелли, порасспросив меня о моей работе, сказал, уже уходя: «Обратитесь к Каталине, дон Франсиско, бокал находится у нее». А я, разговаривая с ним, думал только о том холме у дороги, неподалеку от Эсихи, о том полднике, который мы устроили на нем в тени деревьев, вдали от капеллана и Каталины, о том, как она пила из бокала, как подносила его к своим ярким полным губам, как искала взглядом мой взгляд и, протягивая бокал мне, говорила: «Пейте, Гойя…» Тогда она еще не называла меня Фанчо[94].
Вечером того же дня я разыскал Каталину в одной из комнат первого этажа, она была чем-то занята — она всегда бывала чем-то занята, — но тем не менее тут же предложила мне пойти с ней за бокалом. Она повела меня длинными коридорами в сторону часовни и, не доходя до нее, остановилась у маленькой двери и, достав связку ключей, отомкнула ее. Комната, в которую вела маленькая дверь, оказалась отнюдь не маленькой. К тому же это была не просто комната, а какая-то фантастическая сокровищница. Там хранились все богатства, которые должны были украсить дворец и другие ее дома, она собирала все это повсюду, покупала на аукционах, выписывала из Парижа, Милана, Венеции и даже из далекого Стамбула. Не буду описывать эти вещи, хотя они вполне того стоят. Просто вообразите, дон Мануэль, если можно вообразить невообразимое, роскошь гобеленов, эмалевых миниатюр, оружия, часов, мраморных статуй, фарфора, картин, хрусталя, люстр, диванов, курильниц…[95] Каталина открыла стенной шкаф, в нем в строгом порядке стояли керамические, фарфоровые и хрустальные стаканы, некоторые в единственном числе, не в наборах, там были представлены разные эпохи, разные стили, цвета и формы. «Этот, да?» — спросила Каталина, беря в руки хрустальный бокал, тот самый, с которым Каэтана путешествовала, из которого пила во время коротких остановок в пути, кажется, баварской работы, массивного хрусталя алмазной огранки, разбрызгивающий бриллиантовые и рубиновые искры, на редкость красивая вещь, однако мои глаза как магнитом притягивал другой бокал, стоявший на верхней полке: сине-золотой, венецианской работы, с прекрасной эмклью. Никогда в жизни я не лгал так нагло: «Нет, не этот, а тот синий, — сказал я твердо, — я присутствовал, когда ей подарил его папский нунций, и он мне так понравился, что она выразила готовность тут же отдать его мне, если бы это не выглядело неуважением к прелату». Отчасти это было правдой — я действительно присутствовал, когда прелат вручал ей подарок, и действительно восхищался этим маленьким шедевром, — но не думаю, что такая полуправда делала мою ложь более правдоподобной. Каталина, никогда не имевшая задних мыслей и считавшая меня, как я полагаю, таким же прямодушным человеком, как она сама, взглянула на меня с удивлением, но это длилось лишь мгновение. В следующую секунду она уже приняла решение, сняла с полки венецианский бокал и отдала его мне. «Этот так этот, — сказала она, — возьмите какой считаете нужным». Дело было сделано.
(Гойя на глазах вдруг превращается в старика. Немощного, согбенного, дрожащего. Воспоминание о том, как он нечестным путем завладел бокалом, похоже, опустошило и обессилило его, можно было подумать, что с того момента, когда он обменял бокал любви на бокал смерти, он сам начал умирать. Он возвращается к рассказу, и я уверен, что знаю наперед, о чем он будет говорить. Никогда не видел его таким старым.)
Обменяв бокалы, я заменил также одну тайну — нашу общую прекрасную тайну — на другую, тоже нашу общую, но страшную тайну, и обладание этим бокалом, который я спрятал ото всех в моей мастерской, в течение трех месяцев моего затворничества подтачивало мне силы и разрушало организм, будто я болел раком; все это время я не мог заставить себя взять в руки кисть, если только дело не касалось невыносимо тяжелой для меня работы, от которой я тем не менее никогда не смог бы отказаться, то есть если это не было связано с росписью ее усыпальницы[96]. Тишина вокруг меня сгустилась как никогда раньше, потому что теперь ее порождали и питали мое безысходное одиночество и сжимавший сердце ужас. Так длилось до одного события, которое наконец вывело меня из оцепенения. В один из промозглых дней той суровой зимы ко мне в мастерскую явился военный медик дон Хосе Керальто и предложил написать его портрет. Я его почти не знал, и моим первым побуждением было отказаться от заказа. Но когда он понял, что я не хочу браться за эту работу, и уже собирался уходить, я вдруг вспомнил, что он пользовался громкой известностью как знаток в области фармакологии и химии, и сообразил, что это именно тот человек, который мне нужен. Я принял заказ. Когда мы договаривались о цене, он не подозревал, что в моем гонораре я учел и некоторую толику его специальных знаний. Я достал из тайника бокал и в который раз внимательно осмотрел его дно: сохранившийся на нем осадок со временем стал почти невидимым. Мне никогда не хотелось обращаться с этим делом к моим домашним врачам, ведь ложь, к которой в этом случае пришлось бы прибегнуть, не могла не быть слишком очевидной. И разумеется, я не хотел привлекать к этому делу ни Бонелльса, ни Дурана. А теперь проблема решалась сама собой. И вот в один прекрасный день я вошел в дом Керальто с завернутым в чистый холст бокалом. Я рассказал ему историю о проказливом ребенке и его неосторожных шалостях с моими красками; я якобы отнял у него бокал и чисто его вымыл, но опасаюсь, не осталось ли чего на донышке, а то ведь кто-нибудь может выпить что-нибудь из него и, не дай бог, отравиться. Керальто соскреб пинцетом немного осевшего на дно порошка и положил его на ту же лупу, через которую его рассматривал. А во время нашего следующего сеанса он сообщил мне результаты анализа. Осадок оказался почти чистым арсенатом меди. «Не пользуйтесь бокалом для питья, маэстро, — посоветовал он мне. — К тому же это слишком ценная вещь для домашнего обихода, ведь правда?»
В том же январе была еще одна встреча. Мануэлита Сильва, свежеиспеченная графиня де Аро, пожаловала ко мне в мастерскую в сопровождении мужа, графа де Аро; она тоже хотела заказать мне портрет. И в этом случае ее направили ко мне наследники ее покойной кузины, не забывшие, что Каэтана много раз говорила о своем желании подарить Мануэлите на свадьбу ее портрет, написанный мной. Свадьбу сыграли в намеченный день, правда, не так пышно, как задумывали: семейство Сильва должно было соблюдать траур по родственнице. И вот теперь, по прошествии шести месяцев, они пришли за посмертным подарком Каэтаны. Надо сказать, что желание Каэтаны было всем хорошо известно, и мне в этих обстоятельствах было довольно трудно отказаться от работы, ведь это значило бы пойти против ее воли. А к тому же я не уверен, что на мое решение не повлияло то, что я недавно услышал от Керальто, поэтому, когда именно Мануэлита попросила меня написать ее портрет, я уступил ее просьбе и принял новый заказ, уже второй в том году; по правде говоря, мне не пришлось особенно себя пересиливать: миндалевидные, полные слез глаза Мануэлиты навсегда связались в моей памяти с неожиданным исчезновением бокала и его еще более неожиданным появлением, уже пустым и начисто вытертым, нет, думаю, я в любом случае не смог бы отказать ей. Однако я принял заказ с одним непременным условием: портрет я буду писать в моей мастерской, поскольку врачи строжайше запретили мне выходить из дому в эту холодную зиму. Запрет врачей был, разумеется, моей новой ложью. Мануэлита согласилась позировать несколько дней в моей мастерской, и уже во время первого сеанса сине-золотой бокал стоял на самом виду на моем рабочем столе, причем я устроил все таким образом, что со своего места мог видеть, как она будет реагировать, когда увидит бокал прямо перед собой.
И я действительно увидел это, как только мы начали работать: ее детский ротик открылся в гримаске изумления, щеки порозовели, зрачки сузились, будто она не поверила увиденному; она напряженно всматривалась в бокал, словно желала убедиться, что зрение ее не обманывает; ей явно стоило большого труда сохранять выбранную позу, глядя, как мы договорились, прямо перед собой из-под уложенных в греческом стиле волос. Она, конечно, не смогла вытерпеть долгое время, и вскоре под предлогом, что ей надо поправить газовое боа, поднялась с кресла и как бы невзначай приблизилась к моему столу, очевидно, с целью проверить свое первое впечатление. А в следующий раз она вообще не удержалась и с самого начала, не успев даже пройти в гардеробную переодеться, внезапно спросила меня: «А это не тот ли стакан, который был у моей кузины Каэтаны?» Мой ответ был приготовлен заранее: «Да, тот самый. Она завещала его мне. Он стоял на туалетном столе в день ее смерти. Она пила из него, но что именно она пила, так никогда и не удалось установить, потому что чья-то заботливая рука убрала его и вымыла еще до того, как герцогиня умерла». Это была еще одна ложь. Полиция так и не узнала о существовании бокала. Но моих слов оказалось достаточно, чтобы заставить бедное создание нервничать в течение всего сеанса: она не могла спокойно сидеть на месте и то и дело переводила недоумевающий взгляд с меня на бокал и обратно, а я, как ни старался, не мог избежать того, чтобы на портрете в ее детском личике не проглядывала напряженность, особенно заметная в повороте шеи и испуганно-вопрошающем взгляде темных глаз[97].
В день последнего сеанса, когда Мануэлита, собираясь уходить, уже переоделась в зимний костюм и накинула маленькое манто, в котором еще больше походила на девочку, она наконец не выдержала: опустившись снова на стул и спрятав зачем-то руки в меховую муфту, она сказала: «Мне надо кому-нибудь рассказать об одной вещи, и лучше я расскажу это вам, дон Фанчо. Вы ее любили так же сильно, как я. Я вижу у вас этот бокал и думаю, что вы уже кое о чем догадались». Я опустился перед ней на колени, всем своим видом показывая, что если она наконец решилась говорить, то пусть сделает это так, чтобы для меня не пропало ни одно ее слово. Она подняла муфту к подбородку и приготовилась продолжать. В этот момент она казалась мне девочкой, которая собирается признаться в какой-то шалости: то ли она взяла несколько шоколадок без спросу, то ли разбила какое-то украшение.
«Вы помните, что Каэтана перед смертью хотела видеть нас двоих, дон Фанчо? Так вот, едва я вошла в альков, она привстала, поискала что-то среди подушек, достала оттуда табакерку с рапе, вложила ее мне в руки и сказала: „Избавься от нее как хочешь, выброси куда-нибудь или сожги, но так, чтобы никто не увидел. Никто“. Я вся дрожала. Меня испугали ее ужасный вид и жар, с которым она говорила. Я поняла, что вижу ее в последний раз. Как можно было так измениться за одну ночь? „В ней лекарство, которое я принимала втайне от врачей, — продолжала Каэтана, — но эти болваны все равно в конце концов скажут, что я отравилась“. А я подумала, что она и на самом деле отравилась. Яд. Если там был яд, все становилось понятно. С той минуты я уверилась, что моя кузина Каэтана…» Она не смогла закончить фразу, страх стиснул ей горло, она едва не задохнулась. «И я так перепугалась накануне ночью: вся эта сцена в вашей мастерской, эти ужасные слова о ядах, а потом странная шутка со свечой, когда она чуть не подожгла дворец, но главное — в конце, когда она ушла, ни с кем не попрощавшись, и как она шла вверх по лестнице, будто поднималась на эшафот… Я всю ночь после этого не могла успокоиться, не могла уснуть, так меня поразили ее тоска, ее одиночество. А пока я страдала без сна, она принимала яд, и вот теперь я держала в руках эту коробочку, такую безобидную с виду… Голова у меня шла кругом от нахлынувших мыслей. По-моему, именно в тот момент я вспомнила о бокале на ее туалетном столе, на который вы, дон Фанчо, смотрели с таким отвращением… И тут я увидела ее будто в сияющем нимбе: она медленно насыпала яд в бокал как раз в то время, когда мы усаживались в наши экипажи. „Что с тобой, Мануэлита? — спросила она меня. — Ты ведь сделаешь то, о чем я тебя просила?“ И когда я ее успокоила, сказала, что все исполню, она простилась со мной. „Теперь иди, — сказала она. — Не знаю, смогу ли я присутствовать на твоей свадьбе, но ради бога, не вздумайте откладывать ее из-за меня. Мне нравится твой жених. Красивый, изящный, остроумный. Если бы я была лет на десять моложе, то не ты, а я влюбила бы его в себя. Иди же, иди, моя девочка, и будь счастлива“». Я взял из рук Мануэлиты платок, который она достала из муфты, и вытер ей слезы, сопровождавшие улыбку, — улыбку при воспоминании о последней шутке кузины. Тяжело вздыхая и всхлипывая, Мануэлита продолжила свой рассказ: «Когда я вышла в гостиную, то первое, что там увидела, был этот бокал и еще ваши глаза, дон Фанчо, по которым я поняла, что, как ни стараюсь спрятать в кулаке табакерку, вы все равно знаете правду. Вы тоже хотели убрать оттуда тот яд. Но вам надо было войти в спальню, а пока вы были там, Каталина и врач вышли из комнаты, и я осталась одна. Одна наедине с этим бокалом. У меня не было времени долго раздумывать. Я накинула на плечи кашемировую шаль, которая была на ней вечером, спрятала под нее бокал и табакерку с ядом. В дальнем углу зеркального зала я зарыла табакерку в цветочный горшок и вылила туда же содержимое бокала. Никто меня не видел. Тут как раз появился мой жених… мой муж, и мы вместе пошли в комнату Каэтаны. Там уже собрались все, все были взволнованы, говорили вполголоса. Она умирала. Сама не знаю, в какой момент я успела вернуть бокал на туалетный стол. Знаю только, что я выполнила ее желание. А когда я встретилась взглядом с вами, дон Фанчо, то хотела ответить вам — тоже взглядом: все в порядке, я сделала все, о чем она меня просила. Это наша с вами тайна. Я не ошибаюсь, нет? Вы ведь тоже знаете, что моя кузина Каэтана отравилась?»
Я ей солгал. Сказал, что не верю. Что вся эта история с бокалом — плод ее воображения, и единственное, что я заметил, — это что она вымыла бокал, потому что видел, как она ставила его на туалетный стол. А что касается коробочки, этой табакерки с рапе, то тут мне не пришлось даже лгать, так как я прекрасно знал, что в ней хранилось несколько крупинок, которые, и это мне тоже было прекрасно известно, не могли стать причиной смерти. Она слушала меня затаив дыхание и, казалось, боялась неосторожным словом спугнуть чудесную и невероятную новость, прозвучавшую в моих словах. Затем так же молча вытерла последние слезы, поправила падавшие на лоб волосы, убрала платок в меховую муфту и поднялась со стула. «Прощайте, дон Франсиско», — и вышла из мастерской. Она предпочла принять без возражений мою версию случившегося и не думать больше, что ее любимая Каэтана сама убила себя. Хотя я и знал, что Мануэлита не полностью поверила моим словам, я все-таки немного позавидовал легкости, с которой она поддалась обману. Больше я не видел ее. Два года спустя я узнал, что она умерла родами. Бедная нежная девочка. Тогда же умер и врач Керальто, вам это известно?[98] Похоже, что этот бокал сохранил свою пагубную силу. Он покончил со всеми, кто имел к нему какое-нибудь отношение, — кроме меня. Я ведь суеверен, как всякий крестьянин.
С последними мазком на портрете Мануэлиты окончилась и эта история, дон Мануэль. Теперь вы знаете все. За исключением, может быть, самых глубоких мотивов моего поведения, тех, о которых я должен был молчать в течение двадцати лет и о которых хочу говорить сейчас. Чего ради молчать дальше? Ради таинственного договора о бокале, молчаливо заключенного в минуты, когда она агонизировала в соседней комнате… Ради тайны, которую она мне раскрыла, не сказав о ней ни слова… Да ведь это иллюзия влюбленного, если хотите. Будто в момент нашего последнего расставания она сделала жест — признания, сообщничества, благодарности, — жест, оставивший мне утешение близости к ней в последние минуты, до последнего удара ее сердца. Но она хотела, нет — требовала тайны. Это было понятно даже из ее странного желания во что бы то ни стало избавиться от безобидного андского порошка, если, конечно, она в своем бреду не спутала его с ядом. А почему я захотел рассказать вам все это сейчас? Прошло время. Рана затянулась. Мне уже нет нужды цепляться за ту фантазию. Я должен думать об этих бедных королях, которые так перегружены чужой виной, думать также о вас. Вы же собираетесь писать воспоминания, и вы должны написать их, поскольку теперь в вашей власти очистить доброе имя королевы от всей грязи, которая к нему прилипла…
(Гойя продолжает говорить. Я слушаю его вполуха. Кажется, не слишком верю тому, что он мне говорит. И спрашиваю себя, какая истинная, глубинная необходимость заставила Гойю нарушить тот молчаливый договор…)
Нам надо привести наши дела в порядок до того, как мы умрем, дон Мануэль. Освободиться от одних и сжечь другие. Как она с той свечой, помните?
(Гойя смотрит пристально на пламя догорающей свечи.)
МОЙ РАССКАЗ
I
На следующее утро я уехал из Бордо.
Я приказал привести кучера и форейтора, когда еще не было четырех. Кучера еле растолкали, он, разумеется, напился накануне и теперь был не в духе, говорил невнятно и туго соображал. До него никак не доходило, что мы уезжаем и что ему надо запрячь лошадей и уложить мои вещи в карету. Форейтора вообще не оказалось на постоялом дворе, он появился в самый последний момент, когда уже пора было садиться на лошадь и выезжать со двора. И в течение всего первого дня путешествия оба они при каждом удобном случае закрывали глаза и засыпали, а я, хотя тоже спал мало этой ночью, не мог преодолеть бессонницу и раздражительность, не мог избавиться от образов прошлого, которые оживил во мне старик своим рассказом о давно минувшей ночи в Буэнависта; в этом дворце мне довелось потом прожить несколько лет, но никогда раньше воспоминания так не обжигали меня, как сегодня, когда их возродил мучимый воспоминаниями дон Фанчо[99].
Не имело смысла снова встречаться с ним, если я не мог сесть рядом и, глядя ему в глаза, сказать: вы ошибаетесь, дон Фанчо, вы заблуждались все эти годы, но не мучьте себя больше, Каэтана не покончила самоубийством, ее убили. Но этого я не мог сказать, не открыв всей правды, не ответив на его долгий рассказ моим рассказом, в котором все так сходно и так различно с тем, что он мне поведал, и вся эта история предстает в другом свете, она та> же, да уже и не та, она как изнанка того, что он видел с лица, она проясняет истинное преступление, до сих пор скрытое во мраке, она невыносимо тяжела, как древо познания, горьких плодов которого отведал, думаю, только я… не считая, конечно, убийцы. Всего этого я не мог ему сказать. И поэтому ограничился тем, что написал короткую прощальную записку. Форейтор подсунул ее под дверь кондитерской Пока.
И вот я снова пересекал Францию, направляясь в Ниццу, ехал, задернув занавески на окнах кареты, равнодушный к красотам пейзажа, к достопримечательностям Прованса, к величественным ландшафтам, которые в свое время так поразили Пия VII, — словом, ко всему, что не было связано с моими неотступными мыслями о том праздничном вечере во дворце Буэнависта. Память неумолимо возвращала меня в далекое прошлое, к самому началу трагедии. В 1797 год.
То были спокойные времена для Испании, хотя на горизонте понемногу собирались тучи. Был уже заключен Базельский мир, в Сан-Ильдефонсо подписан мир с Францией. В те годы я, уже имея титул Князя мира, старался придать блеск просвещенности моему правительству и даже назначил на должность министра известного возмутителя спокойствия Ховельяноса, что было чрезвычайно трудно переварить людям с реакционными желудками. Меня захватила государственная деятельность, я отдавал ей все силы, что же касается личной жизни, она была сложной и запутанной, как пригоршня черешни с черенками. Годом раньше я познакомился с Пепитой Тудо, и моя любовь к этой девушке — такой грациозной и живой — все больше и больше одерживала верх над благоразумием. Все во дворце, включая самих королей, знали — и надо ли говорить, что именно королева первой обо всем догадалась? — о тесных узах, вскоре связавших меня с шаловливой уроженкой Кадиса. И несомненно, именно эта моя неосторожность заставила королей поторопиться с осуществлением давнишнего плана — женить меня на представительнице высшего сословия, породнив с короной, чтобы с королевскими особами меня связывали не только приязнь и доверие. Вот так и получилось, что не успел я и глазом моргнуть, как вдруг оказался женатым на двоюродной сестре короля — маленькой Марии Тересе де Бурбон-и-Вальябрига, на той самой Майте, с которой вечно что-то случалось и которая постоянно падала в обморок[100].
Но меня тогда переполняли энергия и оптимизм, и все эти осложнения были мне нипочем. В глубине души я желал — и лишь потом мне стала понятна пагубность этого желания — извлечь выгоду из всего, что меня окружало, и наслаждаться одновременно и любовью Пепиты, и высоким положением, которое мне обеспечивал мой брак, и постоянным доверием королей, в чью семейную жизнь, проведя с ними во дворце столько лет, я мало-помалу вошел как свой человек. Чудесным образом мне хватало времени и сил на все: и на то, чтобы исправно выполнять супружеские обязанности, не отказываясь в то же время от Пепиты, и чтобы усердно трудиться на благо королей, работая от зари до зари, а иногда и до полуночи в моем кабинете, успевая сделать все, что они от меня требовали, не жертвуя при этом и своей личной жизнью. Возможно, я просто обладал особым искусством смешивать разные обязанности и разные чувства, даже если они казались абсолютно несовместимыми. Удивительное время, полнокровная жизнь! И так горько сравнивать ее с теперешним прозябанием в изгнании, в упадке, одиночестве, в бесплодных терзаниях[101].
Но возвращаюсь снова на пятьдесят лет назад, в тот бурный и радостный для моей Испании и моей юности 1797 год. Мои необременительные и приятные будни во дворце омрачала лишь одна тень: наследный принц Фернандо перестал к этому времени быть робким и послушным ребенком и превратился в злобного и угрюмого молодого человека, который с каждым днем все более отдалялся от родителей и временами даже проявлял по отношению к ним подозрительность и враждебность, и вся горячая любовь и ежедневные заботы о нем их величеств не могли превозмочь его отчужденность, более того, временами казалось, что родительская ласка вызывает в нем все большее презрение и отвращение. Дон Карлос тяжело переживал пренебрежительное отношение сына, а сердце доньи Марии-Луизы сжималось от страха: с женской интуицией она предчувствовала грядущие тяжелые последствия, к которым может привести характер и поведение Фернандо, хотя, конечно, не могла предвидеть, насколько ужасными они окажутся на самом деле десять лет спустя, причем не только для семьи, но и для всего народа[102].
В какой-то период жизни принца, точно совпавший со временем его возмужания, которое, надо сказать, протекало весьма трудно и в довольно неприятной форме, нас несколько успокаивало, что по мере отдаления от родителей он все более заметно привязывался ко мне. Похоже было, что я служил для него образцом мужчины и он стремился мне подражать, но это, конечно, скорее было просто возрастным юношеским порывом, а не сознательно принятым решением. С каким-то подчеркнутым упрямством Фернандо искал моего общества, ему нравилось засыпать меня вопросами и слушать истории, которые я ему рассказывал, он подражал моей манере одеваться и даже пытался вмешиваться в мою работу, не упускал он и случая оказаться около меня в конюшне, в гардеробной, в зале для игры в мяч или в клубе, будто был дан мне в ученики для подготовки к вхождению в мужской мир, что должно было завершить благочестивое воспитание, полученное ранее от его наставника отца Эскойкиса. Что же касается его августейших родителей, то они питали ко мне такое глубокое доверие и уважение, что привязанность ко мне принца в какой-то степени смягчала им горечь его охлаждения к ним сами\? которое он всячески выставлял напоказ. Так длилось до тех пор, пока вдруг — тогда я думал, что это случилось из-за какой-то моей нечаянной оплошности, но теперь со всей определенностью знаю, что это было результатом зловредного влияния и козней Эскойкиса, — пока вдруг в один прекрасный день Фернандо не отвернулся от меня, и уже я стал жертвой его демонстративного пренебрежения, причем гораздо более сильного, чем то, которое испытывали его родители. Короли были удручены этой переменой, а я предпочел переживать ее молча, надеясь, что резкие изменения в поведении и перепады в настроении совсем еще молодого принца рано или поздно смягчатся и постепенно сойдут на нет[103].
Все эти досадные события не отразились на нашей давнишней дружбе с королевой, более того, они даже укрепили ее. Эта дружба оказалась неколебимо крепкой, потому что питающие ее чувства были неизменно сильны, и со стороны, я думаю, было трудно понять, как она смогла выдержать все трагические превратности судьбы в течение более чем тридцати лет и не угаснуть до последнего вздоха моей высочайшей подруги, до последней минуты жизни опровергавшей все разговоры о моей неверности и неблагодарности[104]. Менее драматичным, хотя, может быть, более важным для меня было то, что в то время, о котором я рассказываю, мне приходилось преодолевать предвзятое ко мне отношение, вызванное появлением в моей жизни Пепиты и моим безоговорочным и быстрым согласием на брак с Майте. Донья Мария-Луиза была не только страстной, она была также на редкость чуткой и справедливой женщиной, которая сумела в самых неблагоприятных условиях сохранить наше чувство, такое глубокое и необычное. Ведь помимо отношений, которые нас соединяли, включая нашу связь покровительницы и фаворита, она была мне также и подруга, и мать. Пусть эти слова воздадут должное нерушимому чувству великой женщины, которая — я это знаю — с высоты своего теперешнего положения у трона Всевышнего все, как всегда, поймет и, как всегда, простит, ибо я, исполняя добровольно взятое на себя обязательство написать воспоминания, должен буду сейчас коснуться некоторых интимных сторон наших отношений.
Мои встречи с доньей Марией-Луизой — помимо нашего постоянного ежедневного общения в присутствии короля — происходили в отведенных мне дворцовых покоях, расположенных в левом крыле здания, которыми я пользовался для отдыха в любое время дня. Ключи от этих комнат были только у меня и еще у слуги, проводившего там уборку, менявшего белье, пополнявшего запасы напитков, сластей и фруктов, — я любил иметь все это под рукой, когда удавалось выкроить время для короткого отдыха во время долгого рабочего дня. Королева, разумеется, тоже имела свой ключ, что, подозреваю, было для всех секретом Полишинеля, хотя она пользовалась им очень осмотрительно, открывая дверь в мои комнаты лишь в строго определенные дни и часы, а именно по вторникам и пятницам в шесть часов вечера. Это было время, которое король неизменно, с присущей ему методичностью, посвящал своему сугубо приватному увлечению — столярничеству. Старый маэстро Бертольдо, руководивший работой краснодеревщиков столярной мастерской при королевском доме «Касита дель Лабрадор» в Аранхуэсе[105], приезжал в эти дни в мадридский дворец и наставлял в столярном искусстве короля в мастерской, сооруженной специально для этой цели; и даже когда двор по несколько месяцев не бывал в Мадриде, пережидая затянувшуюся непогоду в Ла-Гранхе, или Эскориале, или в том же Аранхуэсе, Бертольдо все это время бывал при короле: он сопровождал его в поездках как член королевской свиты, настолько сильно его величество был привержен этому занятию, приносившему ему отдохновение в вечерние часы по вторникам и пятницам. Вот почему, когда мне тоже приходилось бывать с королем в одном из этих дворцов, наши свидания с доньей Марией-Луизой так же, как и в Мадриде, проходили в отведенных мне комнатах. Только болезнь одного из нас, совершенно неотложная дипломатическая встреча или война могли заставить нас отложить свидание. Но так как, откровенно говоря, здоровье у нас обоих было отменное, характер у королевы решительный, что позволяло ей с легкостью отменять приемы самых важных послов, а войны в те годы отличались скоротечностью, то наши тайные встречи по вторникам и пятницам срывались лишь в редких случаях.
А теперь, чтобы вся эта история была понята правильно, мне остается одно — рассказать читателю, в чем, собственно, состояли наши с королевой встречи и в какой атмосфере они проходили.
Закрывшись в моих комнатах, мы переставали быть ее величеством и Мануэлем и как по волшебству превращались в Малу и Ману. Малу и Ману, ласковые имена наших новых ипостасей, были придуманы в самом начале нашей тайной близости. Они были так похожи, что, когда мы называли ими друг друга, они нас еще больше сближали, делали почти одинаковыми, стирали различия, заставляли забывать, что мы принадлежим разным полам. Малу и Ману были друзьями, братом и сестрой, сообщниками, веселыми приятелями, товарищами, единственными членами братства или ложи, созданной специально для них и только для них, они были близнецами, были едины и неразделимы или — что одно и то же — взаимозаменяемы. В комнате с высоким потолком и низко опущенными шторами, в приглушенном мягком свете, как бы окутывающем нас и оберегающем наши игры — ибо наши встречи были не чем иным, как игрой, и я не думаю, что хоть кому-нибудь будет легко понять и поверить, насколько, в сущности, они были невинны, — каждый вторник и пятницу, в шесть часов вечера, рождались заново Малу и Ману, рождались в тот самый момент, когда я, повернув ключ, открывал дверь и, закрыв ее за собой, приближался к широкому белому ложу под украшенным кистями балдахином, где меня, нетерпеливо улыбаясь, уже дожидалась сбросившая одежды счастливая Малу. И сразу же после первого всплеска радости, после первой ласки, первых шуток, понятных только Малу и Ману, потому что они их изобрели друг для друга и только они ими владели и пользовались, я задавал ей главный вопрос, с которого начиналась наша большая игра: «Кого Малу хочет видеть сегодня в гостях?» Хотя этот непременный вопрос должен был задавать Ману, иногда первой его произносила сама Малу — так случалось обычно, когда день выдавался трудным или ею овладевала лень и она предпочитала не утруждать себя лишней заботой, обдумывая, кого бы ей хотелось увидеть. Ведь в конце концов, какой бы из маскарадных костюмов, хранящихся в гостиной, они ни выбирали, под ним всегда скрывался Ману; выбор обычно делала Малу, но иногда и он сам, все зависело от того, кто первый задавал их условный вопрос.
История этих нарядов насчитывала уже двенадцать лет. Она началась однажды в субботу на Масленицу, когда меня, в то время еще кавалергарда Карла IV, мой брат Луис взял с собой на бал-маскарад, проводившийся под неофициальным покровительством тогдашних принца и принцессы Астурийских, которым я к тому времени еще не имел чести быть представленным. В одежной лавке комедиантов квартала Лавапьес я раздобыл костюм бродячего певца и лицедея — хуглара, слегка потертый, но сшитый из добротного бархата ярко-красного цвета, и высокие чулки белого шелка, которые хорошо — может быть, даже слишком хорошо — подчеркивали развитую мускулатуру моих ног, и, прихватив в той же лавке лютню, отправился на праздник. Именно тогда на мне впервые остановила свой зоркий взгляд моя госпожа донья Мария-Луиза, а так как к этому времени она и дон Карлос, уже отметившие своим вниманием и покровительством моего брата Луиса, видели его на балу вместе со мной, то и меня пригласили подойти к ним, и это оказалось не только началом долгой истории маскарадных костюмов, но и поворотным пунктом моей судьбы, давшим новое направление всей моей последующей жизни[106]. Принцесса никогда не могла забыть тот образ, в котором я явился ей в первый раз, — камзол, берет с маленьким черно-зеленым пером, чулки, лютня, — и шутила, что форма королевского гвардейца была на самом деле просто еще одним моим маскарадным костюмом, ничем не лучше, чем другие, и что ей однажды придется установить, кто же такой на самом деле дон Мануэль — хуглар или гусар, — ей доставляло удовольствие играть этими именами.
Три или четыре года спустя, когда уже умер Карл III и она стала королевой, а я, по ее милости, капитаном, мне пришлось однажды вечером сопровождать их величества на бой быков, где они хотели посмотреть выступление знаменитого тореро Пепе Ильо, и так как я во время корриды вполголоса говорил королеве о моем восхищении тореадором, его прекрасным телосложением и богатым, усыпанным блестками костюмом, то чему же было удивляться, что через несколько дней посыльный принес мне обернутую красивой бумагой коробку, из которой я с изумлением и восхищением извлек усыпанный блестками наряд тореро, еще более красивый, чем тот, в котором выступал Пепе Ильо, осыпанный янтарем и перламутром, отороченный ярко-красной и желтой бахромой, — подлинное произведение искусства, а к нему было приложено короткое письмо, в котором говорилось: «Мануэлю, тайному тореадору, который сумеет пронзить шпагой сердце своенравной телочки». Письмо было не подписано, но его смысл, обстоятельства, ему предшествующие, и даже сама его краткость достаточно ясно свидетельствовали о высоком положении автора. Словом, именно в те дни родились Малу и Ману.
Наряд тореро оказался лишь началом обширной коллекции. Не проходило ни единого дня моего рождения, ни именин без того, чтобы я не получал — уже за подписью Малу — очередное поздравление и новый костюм, пополнявший мой маскарадный гардероб; и затем каждую весну, каждое лето и каждую осень я получал подписанные тем же нежным именем записки, сопровождавшие пакеты, их доставляли мне из Аранхуэса, или Ла-Гранхи, или Эскориала, где, консультируясь в часы досуга со своими искусными портными и портнихами, Малу придумывала новые наряды и отправляла их Ману, которого даже в самую изнурительную жару удерживали в Мадриде государственные дела. Так постепенно в моей гардеробной появлялись все новые и новые костюмы, образующие причудливые сочетания эпох и стилей: тореадор соседствовал там с гладиатором и моряком, крестоносец с султаном, император с аббатом, пастух с пиратом, капитан гражданской гвардии с рыцарем-тамплиером, китайский мандарин с индийским раджой и скромным монастырским садовником; а если вспомнить, что там имелись также одеяния персонажей античной мифологии, то станет понятным, почему некоторые из костюмов бывали вынуждены иногда целый год проскучать в шкафу, дожидаясь, пока до них дойдет очередь предстать перед Малу, имевшей, конечно же, своих любимчиков, которых она вспоминала чаще других, отвечая на вопрос: «Кого хочет видеть сегодня в гостях Малу?»; правда, когда она время от времени предоставляла свободу выбора мне, то у какого-нибудь забытого уличного акробата или странствующего рыцаря резко вырастали шансы выйти из забвения.
Пока я на несколько минут выходил в гардеробную, чтобы принять там новый облик, Малу тоже наряжалась кем-нибудь, но делала это более легко и просто, потому что, как бы это ни показалось странным, в интимной обстановке она питала отвращение к маскарадной мишуре, не любила украшений, поэтому эффекта преображения она достигала обычно самыми экономными средствами — простыней, которая больше силой воображения, чем реальным сходством, превращалась в тунику, в сутану, в хламиду, в дырявое рубище пленницы или жалкую накидку спасенной с тонущего корабля путешественницы; несколькими гребнями, которые в ее волосах становились рожками молодой коровы, или крестом над головой мученика, или мечом — моего тореро, гладиатора или Олоферна; ожерелье могло оказаться четками в руках послушницы, узами на ногах Брисеиды или фермуаром на шее мавританской принцессы.
Ибо в конце концов именно в этом и состояла игра. В том, чтобы в момент появления Ману в новом образе Малу ожидала его, уже готовая составить соответствующую этому образу комедийную пару: если Ману был могущественным и свирепым Сулейманом, то Малу встречала его в образе трепещущей рабыни-христианки; и напротив, если в комнату входил грубый и фанатичный крестоносец, он встречал там гордую арабскую красавицу, смотревшую на него с ненавистью и отвращением; отважный моряк должен был быть готовым в любую минуту броситься в море, чтобы спасти стыдливую деву, а похотливый садовник — обнаружить среди роз застывшую в экстазе монахиню; палач отправлял на костер закоренелую ведьму, а благочестивый священник терял дар речи, потрясенный красотой спящей принцессы; бык-Юпитер, блистая великолепием пятнистой шкуры и кривых рогов, похищал Европу; Дафна замирала, превращаясь в дерево, едва ее касались руки влюбленного Аполлона; пожалуй, лишь Ахиллес не знал, с кем ему предстояло встретиться в своей палатке после возвращения с поля битвы — то ли с Патроклом, то ли с Брисеидой: это полностью зависело от непредсказуемого выбора Малу[107]. По мере того как комедия развертывалась, образы персонажей все более размывались, растворялись в действии, где постоянному натиску, взрывной энергии и мощи Ману противостояли бегство и сопротивление Малу, завершавшиеся ее сдачей, а иногда даже агонией и смертью; последнее вообще было ее привилегией, выступала ли она в образе рабыни, ведьмы или телочки. Когда игра заканчивалась, а костюмы персонажей по ходу действия была уже разбросаны по полу или затеряны в простынях, Малу и Ману превращались в самих себя и переходили от одного развлечения к другому, от неистовства к нежности, от игры в грех к игре в невинность. Ибо все это, мой далекий читатель, было лишь игрой.
Мне кажется, что есть один эпизод, который проливает дополнительный свет на историю Малу и Ману и может служить для нее эпилогом. Однажды вечером двадцать лет спустя уже постаревшая Мария-Луиза рассказывала своим итальянским гостям во дворце Барберини о славных временах мадридского двора. И вдруг неожиданно для меня — и к удивлению короля — она повернулась в мою сторону и сказала: «Мануэль, чем рассказывать о том, как красочно все выглядело, давай лучше покажем нашим уважаемым римским гостям, как мы тогда одевались. Поди-ка достань твои старые мундиры и пройдись в них перед нами, чтобы все увидели, каким ты был, и смогли представить, каким был наш двор и все мы…» Отказаться было невозможно. Пришлось распорядиться, чтобы принесли полдюжины парадных, соответствующих моим различным чинам и постам, мундиров, с которыми я не расставался даже вдали от родины, в изгнании, хотя вот уже десять лет не было случая облачиться ни в один из них, а теперь мне предстояло надевать их все, один за другим, и демонстрировать присутствующим, которые будут издавать возгласы удивления и восхищения, потрясенные роскошью и блеском эполет, пряжек, плюмажей на шляпах — даже у наполеоновских генералов не было таких ярких украшений, — но при этом они не поймут весь смысл сцены, не догадаются, что на самом деле происходит в величественном салоне римского дворца, никогда не узнают, что у них на глазах Малу воскрешала Ману, что в этот момент перед ее мысленным взором проносились другие вечера, другие наряды и она вновь видела молодого Ману, увлеченного своим забавным представлением. Однако мне не удалось показать все мундиры. Уже на третьем или четвертом королеву стала бить дрожь, она не то засмеялась, не то всхлипнула и вдруг разразилась слезами и упала в обморок, ее унесли, и на этом вечер закончился. Лишь на мгновение в августейшей старухе воскресла Малу, с любовным пылом и молодым задором старавшаяся оживить игру, будто она могла возродить неиссякаемый источник жизни под складками ее юбки. В общем, это был довольно странный случай, о котором мы никогда не говорили[108]. Однако последние слова, которые донья Мария-Луиза прошептала мне на ухо — ее уже глубоко затянула агония, и она не могла произнести их по-другому, — были все те же: «Кого сегодня хочет видеть Малу у себя в гостях?» Если бы Ману мог, он появился бы перед ней в тот хмурый римский вечер в облике тихой Смерти.
Но вернемся в 1797 год. Однажды, не помню точно, в какой именно день, я зашел в мои комнаты, чтобы немного отдохнуть от работы, и, когда уже закрывал за собой дверь, вдруг с удивлением услышал глухой голос из алькова: «Закрой на ключ». Я машинально выполнил приказ, теряясь в догадках: то ли кто-то из нас двоих — я или донья Мария-Луиза — перепутали день, то ли она по какой-то причине нарушила нашу традицию и решила сделать мне сюрприз. «Что случилось, Малу?..» — начал было я, подходя к алькову, и вдруг замер, словно парализованный, не веря глазам: место Малу на ложе занимал принц Фернандо, его выпуклые полуприкрытые глаза смотрели на меня с насмешкой, толстогубый полуоткрытый рот с отвисающей нижней губой, обнажавшей мелкие острые зубы, покрытые серым налетом, и почти незаметной верхней, терявшейся под непропорционально большим носом, складывался в карикатурную, опасливую и одновременно издевательскую, улыбку. «Ваша светлость…» — только й смог проговорить я и почувствовал, как мое лицо заливает краска, как дрогнули и ослабли колени в предчувствии того, что еще отказывалась понимать моя пошедшая кругом голова. И тогда этот мерзкий сардонический рот произнес неотвратимое: «Я тебя жду, Ману…»
Я едва удерживался на ногах, к горлу подступила тошнота, лицо горело, в висках стучало, но мое смятение увеличилось еще более, когда я заметил чулки и одежду принца, в беспорядке разбросанные по полу, и вспомнил, что в последние недели Малу несколько раз слышала подозрительный шорох и опасалась, что в комнате завелась крыса. Не знаю, сколько времени я стоял как загипнотизированный гнусным взглядом и усмешкой дона Фернандо, лежавшего под простынями совершенно голым — теперь я это знал точно, потому что его нижнее белье было сложено кучкой на персидском ковре, — не реагируя на его настойчиво повторяемый вопрос, отдававшийся молотком у меня в висках, и мучительно думал, не ослышался ли я, действительно ли он назвал меня Ману, а не Мануэлем, и как он вообще оказался здесь… Наконец я очнулся и прервал его встречным вопросом: «Что делает ваша светлость в моих апартаментах? Разве сейчас не время занятий с отцом Эскойкисом?» В ответ он лишь рассмеялся, хлюпая мокрыми губами: «Да будет тебе, Мануэль. Я в первый раз прихожу к тебе. Мог бы быть полюбезнее». Я едва нашел силы, чтобы унять дрожь в ногах и подавить приступ тошноты, однако все еще не мог понять, что происходит, не мог выйти из состояния растерянности. Наконец, собрав все силы, — как утопающий для последнего рывка, — я попытался положить конец нелепой ситуации: «Мне будет очень приятно принять вашу светлость, но в другой раз. Сейчас я должен вернуться к себе в кабинет. Мои секретари уже беспокоятся, да и бедный отец Эскойкис, ваша светлость, уже…» Я говорил слишком долго и не слишком твердо, будто боялся остановиться, будто повторял заклинание, стараясь стряхнуть дурной сон. Но холодный взгляд дона Фернандо не давал мне вырваться из кошмара, упорно возвращая к ужасной реальности его присутствия в моей комнате, в моем алькове, в моей постели. И его голос, когда он меня прервал, был таким же жестким и холодным, как его взгляд: «Не будем терять времени, Мануэль, ведь о нас уже беспокоятся. Я тоже хочу играть. Давай же, спрашивай меня». Что-то в моем мозгу опустилось, как занавес, предохраняя от понимания отвратительного смысла его приказа. Глухим, безразличным голосом я ответил: «Хорошо, ваша светлость. О чем я должен спрашивать?» Принц снова улыбнулся, хотя, возможно, это была не улыбка, а гримаса, и, зловеще помолчав — его молчание мне показалось бесконечным, — произнес, отвратительно кривляясь, голосом своей матери: «Кого хочет Фену видеть сегодня у себя в гостях?»
Он сказал «Фену». Теперь не понять было невозможно. Я почувствовал себя так, будто очутился в тесной клётке и чья-то безжалостная рука одним рывком сдернула с меня одежду, выставив на всеобщее позорище голым, беззащитным, жалким, испуганным. Тошнота еще сильнее стиснула горло, я весь дрожал от страха, стыда и гнева, моля судьбу, чтобы все происходящее оказалось лишь сном, мерзким и комичным бредом, но голос дона Фернандо звучал наяву и неумолимо возвращал меня к действительности. «Спрашивай, — настойчиво повторял он. — Это приказ».
И тут мои колени окрепли, я перестал дрожать, выпрямился и стоял теперь неподвижно и твердо, молча глядя на моего палача. Он понял, что я отказываюсь повиноваться, и сказал: «Хорошо, как хочешь, Мануэль. Я могу обойтись и без твоей помощи». И, обвязав концы простыни вокруг шеи, что должно было изображать тунику, он высокомерно взглянул на меня своими рачьими глазами и не терпящим возражения голосом произнес: «Фену хочет принять Сулеймана».
Меня захлестнула ненависть к подлому головастику с чешуйчатой кожей, и подобно тому, как глоток горькой настойки подстегивает уставшего бегуна, эта ненависть придала мне энергии и позволила собраться с силами; я вспомнил, что тоже облачен немалой властью, и пригрозил принцу, что возьму его за уши и отведу к отцу, да еще расскажу преподобному Эскойкису об извращенности его подопечного, но, конечно, в этот момент я уже плохо соображал, и единственное, чего достиг своими предупреждениями и угрозами, был дьявольский смех Фернандо. «Ты совсем рехнулся, дружище Мануэль, — забавлялся он. — Единственный, кто здесь может угрожать, это я. И как раз тем, что расскажу все королю или преподобному. Хотя эта угроза, на мой вкус, слишком слабая: ведь отец такой дурак, что с него хватит просто уволить тебя, а Эскойкис вообще не имеет той власти, которая ему мерещится. Пожалуй, если ты мне не подчинишься, я обращусь прямо в инквизицию, донесу им на тебя и на эту шлюху — мою мать». И, вытащив откуда-то из-под простыни ключ, добавил: «Я не дам вам времени сговориться и отвертеться ни от этого ключа, который я выкрал из шкатулки у матери, ни от ваших маскарадных костюмов, которые вы храните здесь в шкафах». А затем, понизив голос до неприятного шепота, завершил: «Ну, хватит. Фену хочет принять Сулеймана. Что тебе остается, Ману? Убить меня?»
Я был поражен. Я как раз думал о том, чтобы убить его, стереть с лица земли, хотя и знал, что не смогу сделать этого, что теперь попал в его руки и мне остался только один выход: стать Сулейманом[109].
Если те минуты, которые я стоял перед кроватью, были самым ужасным событием, которое мне довелось пережить, то и последующая покорность, с которой я переодевался в гардеробной, оказалась не намного легче, потому что была замешена на унижении и злости. Я попал в ловушку, и у меня не* было иного выхода — как предельно ясно объяснил мне дон Фернандо, — кроме как постараться получше исполнить роль Сулеймана. И я испытывал горечь, зная, что исполню ее хорошо и что визит Сулеймана к Фену, несмотря на все мое к нему отвращение, пройдет как по маслу. Фену его возбуждал. Таков уж был Ману. И я чувствую моральную необходимость пояснить — меня замучит совесть, если я не сделаю этого, — что я уже не в первый раз вступал в близкие отношения с особами моего пола. Когда мне было двенадцать лет, каноник-духовник кафедрального собора в Бадахосе совратил меня и обучил кое-каким вещам, показавшимся мне необыкновенно приятными, которые он делал стоя на коленях в зале муниципального совета, а затем, когда я уже служил в королевской гвардии, еще до того, как мне исполнилось восемнадцать лет, после одной разгульной пьяной ночи меня соблазнило красивое и нежное тело служившего вместе со мной иностранца[110]. Но дон Фернандо, при всем моем уважении к нему как к наследному принцу, которому действительно впоследствии довелось — не важно, каким путем, — взойти на трон и продержаться на нем добрых двадцать лет, по-человечески был мне противен до омерзения, и я заранее содрогался от отвращения при одной только мысли, что мне придется касаться его.
Но, конечно, в алькове все прошло именно так, как я предчувствовал, переодеваясь в гардеробной. С моей стороны это был чисто животный акт, совершённый не с удовольствием, а со злостью, а для него — просто исполнение каприза, удовлетворение нездорового любопытства. Потом дон Фернандо с мрачным видом собрал свои одежды, кое-как натянул их на себя в самом темном углу комнаты и, перед тем как выйти, швырнул ключ на кровать. Уже в дверях придушенным, невыразительным голосом он произнес: «Больше никогда к тебе не приду. Я тебя ненавижу. И буду ненавидеть до последней минуты жизни».
Он выполнил свое обещание. С того дня, подстрекаемый Эскойкисом, который, я полагаю, никогда не узнал о приключении Фену, он начал плести против меня интриги: он спокойно и неторопливо предавался этому занятию, принесшему плоды лишь десять лет спустя, после Аранхуэса и Байонны, но и тогда он не успокоился. Его ненависть преследовала меня до самой его смерти — а ведь я, в конечном счете, лишь выполнил его желание — и даже после того, как он умер, я ощущал ее, настолько сильно он опутал и осложнил мою жизнь своими кознями.
Короли, разумеется, никогда не узнали об этом случае. Мне не составило труда вернуть донье Марии-Луизе похищенный ключ, сказав, что она забыла его во время нашей последней встречи; однако, по правде говоря, с того дня игра с переодеванием стала мне в тягость, и, должно быть, мое неприятие этого развлечения как-то передалось королеве, она теперь все чаще откладывала его то под предлогом неотложного дела, то из-за недомогания, и однажды мы просто не вернулись к игре, и шелк на моих костюмах в шкафах гардеробной стал понемногу ветшать.
Хотя принц был тогда почти ребенком, он без особого труда находил выход для своей ненависти ко мне, в чем ему искусно помогал Эскойкис, постоянно запугивающий его россказнями о моих происках. Через несколько недель после той нашей встречи, когда принцу исполнилось четырнадцать лет, он в день своего рождения стал выпрашивать у отца разрешение присутствовать на всех заседаниях Государственного совета, якобы для того, чтобы овладеть искусством управления страной; король, в очередной раз продемонстрировав мудрую предусмотрительность, отказал принцу в его просьбе, поскольку его образование и воспитание были пока еще далеки от того состояния, когда это имело бы смысл. Дон Фернандо пришел в бешенство, он так плакал и кричал, что весь дворец мог услышать, что именно я, подхлестываемый непомерными амбициями, сумел повлиять на короля и не допустить принца к государственным делам. Двор был до такой степени взбудоражен случившимся, что я стал уговаривать короля немедленно освободить меня от должности и позволить на время удалиться от двора Я больше не мог выносить интриги и зависть и с каждым днем все более настойчиво повторял королю мою просьбу, и он наконец, по своей душевной доброте, а также, возможно, желая развеять слухи, распускаемые сыном, согласился принять мою отставку. Так у меня выдались два счастливых года, когда я был свободен от власти и от всех официальных обязанностей, но когда я вновь вернулся к ним (не говорю — к королям, потому что моя дружба с ними никогда не ослабевала), то вокруг принца уже сколотилась настоящая банда, поставившая себе целью окончательно разрушить мою политическую карьеру, и более того, они стремились бросить тень на Марию-Луизу, опорочить ее и удалить с трона.
Несколько лет спустя, в 1802 году, как я уже рассказал в моих «Мемуарах», у меня произошло жестокое столкновение с принцем в связи с его намечавшейся свадьбой с принцессой Марией-Антонией Неаполитанской. Я советовал его отцу, королю, повременить с этим браком, поскольку принц ни по своей молодости (ему, правда, уже исполнилось восемнадцать), ни по умственному развитию, остававшемуся весьма низким, несмотря на все принятые королем меры, ни по своим моральным качествам пока еще не был готов принять на себя ответственность главы семьи и получить приличествующую этой ответственности свободу. Я считал, что принцу необходимо сначала завершить образование и что путешествие в две-три европейские страны — в ту эпоху мы называли это «погружением в наш век» — поможет ему быстрее преодолеть отставание в развитии. Короли рассказали о моих сомнениях Кабальеро, а этот бесчестный министр не преминул сообщить о них принцу, дом которого — это средоточие слухов и заговоров — он регулярно посещал. Дон Фернандо пришел в неописуемую ярость от моего вмешательства, он расценил его как злокозненное, и стал даже утверждать, что я покусился на права короны, словом, это происшествие лишь усилило его ненависть ко мне[111]. Королева, как ни странно, в вопросе о браке сына была не согласна со мной и всячески торопила свадьбу. Дело в том, что в это же время должно было состояться венчание и свадьба инфанты Исабель с братом Марии-Антонии, которому предстояло взойти на трон королевства Неаполя и Обеих Сицилий, принеся тем самым новую корону семье. Эти соображения перевесили, и в конце концов был назначен день двойного бракосочетания, но это уже не могло смирить гнев дона Фернандо. Такой напряженной сложилась ситуация, получившая, естественно, отклик и в гнезде заговорщиков — доме принца, который посещала сама герцогиня Альба, — когда в середине июля 1802 года…
II
То лето я проводил вместе с королевским двором в Ла-Гранхе. Их величества каждый раз со все большей настойчивостью выражали желание видеть меня, будто моя физическая приближенность к ним имела большее значение для управления государственным кораблем, чем моя работа в Мадриде непосредственно с правительством и министерствами; я, как обычно, уступил, рассчитывая использовать эту передышку для разработки новых проектов, подготовки дипломатических демаршей, а также для того, чтобы разобраться с народными жалобами и волнениями, которые всегда приносит с собой летний зной. Королева по мере того, как наши вторничные и пятничные игры все дальше уходили в прошлое — в прошлое, но не в забвение, — все более нетерпеливо добивалась моего общества, будто нам было достаточно сесть друг против друга с картами в руках, чтобы отогнать опасности, которые, как ей подсказывало ее изощренное чутье, нависли над Испанией, над короной и над ее семьей; эти опасности, если называть вещи своими именами, так или иначе исходили от принца, от окружавшей его камарильи сообщников и подстрекателей с их неуемной подрывной деятельностью; именно в дворцовых апартаментах принца брала начало бурная река клеветы и вздорных слухов. Принц тем летом не пожелал уезжать из Мадрида, утверждая, что хочет до свадьбы закончить курс учения, которое, как всем нам было прекрасно известно, он уже давно, забросил; это была одна из причин, по которой меня отговаривали ехать в Ла-Гранху, но королева настаивала на своем, приводила королю тысячу важных доводов, и он в конце концов не выдержал ее напора и приказал мне быть с ними, вот почему этим летом я проводил дни среди садов и фонтанов, а ночи за бесконечной карточной игрой в crapaud, сидя около доньи Марии-Луизы, которая, как я уже сказал, чувствовала себя более спокойно за судьбу страны и за свою собственную судьбу, пока я был рядом и она могла погладить мне колено, как некий талисман.
В середине июля я получил с моей личной корреспонденцией короткое письмо, сообщавшее: «Коломбина возвратилась домой после последней поездки, Арлекин снова обхаживает ее, Капитан Фракасс покинул свою полевую палатку, и все трое принялись разучивать новое комическое интермеццо. Не благоразумнее ли вам прочитать его до премьеры? Благожелатель». Это было ясное предупреждение. Пока я терял время в Ла-Гранхе, мои противники вовсю использовали его в Мадриде. Герцогиня (Коломбина) вернулась из Андалусии, встречалась с Фернандо (Арлекином) и с Корнелем (Капитаном), все трое затеяли какую-то новую махинацию, связанную с Италией и, весьма вероятно, с Неаполитанским королевством. Использованный в письме шифр был мне совершенно понятен: маски комедии дель арте меняли имена в соответствии с национальностью тех, кто находился за ширмой; так, если бы они, к примеру, были французами, Арлекин назывался бы Сганарелем. Но в данном случае было ясно, что дело касается итальянцев. Злоба, которую питал ко мне неаполитанский двор из-за моей попытки убедить короля отложить двойную свадьбу, а также его застарелая неприязнь к нашей французской политике открывали широкие возможности для наших домашних врагов, работавших без перерыва все лето, включить в свою интригу Неаполь. Вечером того же дня я показал письмо королям. Донья Мария-Луиза не скрывала, как ей неприятна самая мысль о моем возвращении в Мадрид, но в сложившейся ситуации была согласна, что мне не остается ничего другого, как ехать туда, поскольку мой корреспондент в последней фразе письма намекал, что передаст мне секретные документы, которыми манипулируют «наши комики». В общем, на рассвете я тронулся в путь.
В Мадриде, не заезжая домой, я сразу направился в королевский дворец. В моих дворцовых апартаментах хранилось достаточно одежды, так что я смог переодеться с дороги, и, уже коротая время в ожидании автора письма, я решил, что проведу хотя бы одну ночь с Пепитой, не беспокоя без необходимости Майте, чье молчание, в котором я угадывал зреющее негодование, мне с каждым разом становилось все труднее переносить. Решив во дворце несколько срочных дел, я отправил Пепите записку с сообщением о моем возвращении, а ближе к вечеру собрался заехать к Гойе, чтобы взглянуть, как движется работа над заказанным мной. «ню», и заодно поговорить с доном Фанчо о моем новом конном портрете — донья Мария-Луиза во время моего пребывания в Ла-Гранхе взяла с меня слово, что я непременно закажу его. Но этой второй задачи при посещении Гойи мне не удалось выполнить, а потом навалились дела, я все откладывал разговор о новом портрете, и когда наконец начал его, Гойя, довольно неубедительно ссылаясь на плохое здоровье, решительно отказался от этого заказа[112].
Должен повторить, что моя встреча с Каэтаной произошла совершенно случайно, я вовсе не планировал ее заранее, как мог бы подумать ревнивый Гойя, и она оказалась для меня счастливой именно потому, что была случайной. Каэтана бросила мне язвительную фразу, я полагаю, Гойя ее расслышал: «Можешь привести с собой любую из твоих женщин», а затем, повернувшись к маэстро спиной и понизив голос до осторожного шепота, сказала: «Я рада, что ты вернулся. Дело того стоит. Приходи сегодня вечером, улучим минуту, и я покажу тебе бумаги. Но будь настороже. Фернандо и Корнель тоже приглашены».
Могу представить, как ошеломлены и растеряны мои читатели. Еще бы: Каэтана де Альба работала на банду мерзавцев, замышлявших вооруженное выступление? Мне опять придется обратиться к прошлому, чтобы объяснить, каким образом возникла эта необычная ситуация, когда бывшая любовница, которая по стечению обстоятельств стала моим главным политическим противником, позднее превратилась в союзницу, сообщницу и — чтобы уж быть абсолютно точным, используем слово, которое не только не пугало саму Каэтану, но даже забавляло ее, — в моего шпиона.
Еще в те времена, когда я был офицером гвардии, образ юной герцогини де Альба, стремительной в движениях, осененной копной роскошных черных волос, всегда в празднично-радостном настроении, известной своими вольными мыслями, а иногда и вольным нравом, будоражил сны и не давал покоя наяву всей королевской гвардии, и мне в особенности. Но несмотря на свою знаменитую простоту, она по рождению и положению была далека от нас, как планета, недоступна, как имение испанского гранда. Были годы, когда герцогиня со свойственной ей энергией и фривольностью соперничала с самой принцессой Астурийской, и с моей стороны было бы непростительной ошибкой тогда отдать одной из них в присутствии другой хоть малейшее предпочтение в чем-нибудь, так ревностно они следили друг за другом, соревнуясь во всем — в нарядах, драгоценностях, приемах, кавалерах и — добавим также — в фаворитах[113].
И так уж распорядилась судьба, что десять лет спустя я на свой лад и своим путем тоже стал одной из первых фигур в стране, а легкомысленная юная герцогиня превратилась в зрелую прекрасную женщину, и однажды, в 1794 году, наши пути пересеклись — мы встретились в моем кабинете, я был уже премьер-министром, и она просила моего патронажа над благотворительным гуляньем, которое она организовывала на Сан-Исидорском лугу; оставшись — наедине, мы оба почувствовали, какой шанс нам предоставляет судьба, и оба поняли, что не сможем отказаться от него. Надо сказать, нам не довелось пережить ни увертюры любви, ни любовных разочарований, нам просто повезло сразу же угадать друг в друге непревзойденных соперников противоположного пола, и мы оба почувствовали, что должны принять вызов, даже если все ограничится лишь телесным соединением, так два искусных дуэлиста обречены сразиться между собой, две породистые лошади сойтись на бегах, где выяснится, кто из них на самом деле является наилучшим, так фортепьяно и скрипка искусно ведут тайное соревнование, исполняя сонату. Может показаться бахвальством то, что я скажу, и, конечно, я не сказал бы этого раньше, но теперь, в мои восемьдесят, когда жизнь постепенно сводится к ожиданию смерти, теперь я могу спокойно говорить о том, что в двадцать семь лет был самым блестящим мужчиной, что никому так не завидовали при дворе, как мне, и что никто не осмелился бы смотреть, как я, не опуская глаз, в глаза Каэтаны, говоря ей взглядом: если ты первая среди самок, то и мне нет равных среди самцов[114]. Вот так после той встречи, подчиняясь судьбе, неумолимо влекшей нас друг к другу, мы стали любовниками; мы оба хотели этого, нам не нужны были ни ухаживание, ни соблазнение, не надо было ни сопротивляться, ни преодолевать сопротивление, для нас не существовало ничего, кроме нас самих, нашей войны полов, которую мы завершили единственно возможным для нас образом — на равных.
Еще раз подчеркиваю: у нас не было любовных чувств, как не было и никаких притязаний на них, но именно это ощущение неограниченной свободы оказалось ловушкой, которую мы сами себе поставили, потому что уже на следующий день мы нетерпеливо искали новой встречи, и на следующий — опять, наше возбуждение только возрастало, нас вдруг захлестнула бесконечная весна. Весна, которую прервали раньше, чем мы догадались принять меры предосторожности, чтобы скрыть ее: слухи о наших встречах дошли до королевы и обернулись неистовой бурей, сметавшей все на своем пути. Меня обвинили в измене и пригрозили лишением всех привилегий и скандалом, в который была бы втянута и герцогиня. Слегка покривив душой, слегка притворившись и искренне покаявшись, я смог вернуть все на свои места. Но донья Мария-Луиза ясно поняла, какая ей грозит опасность, и сумела — тогда она еще была молодой — полностью устранить возможность повторения того, что случилось. Каэтана и я несколько лет потом не встречались[115]. Именно в эти годы я познакомился с Пепитой, влюбился в нее и женился на Майте; говорю это без всякого сарказма, а если он все-таки улавливается, то относится скорее к судьбе, так причудливо связавшей нас троих. Каэтана овдовела, у нее появились любовники более низкого положения: художник Гойя, тореадоры — Костильярес и, вероятно, Пепе Ильо, и этот комический актер — его имя я запамятовал, и в конце концов, может быть, с отчаянья или досады — хотя раньше я за ней таких чувств не знал, — она начала посещать апартаменты дона Фернандо и примкнула к его политической банде, интриговавшей против королевы и против меня. Только где-то в начале 1800 года мы начали снова встречаться. Мы смогли повторить всю технику страсти, но чудо не повторилось. Она оставалась чужой, недоверчивой, неуверенной, я чувствовал это даже в ее манере бросать на меня подозрительный взгляд сквозь приопущенные густые и необыкновенно длинные ресницы, словно она опасалась увидеть в моих зрачках безжалостное свидетельство прожитых ею лет[116]. Когда у нее бывали приступы тоски, она признавалась, что ей надоело все на свете — и мужчины, и политика, она говорила, что ищет другие стимулы к жизни. С этого и началось наше необычное сотрудничество. Поскольку у нее сложилось весьма плохое впечатление о принце и вся его активность стала казаться ей мелкими дрязгами, поскольку она не находила никакой политической отваги в том, чем по инерции продолжала заниматься, и не видела ничего полезного для Испании в проектах и замыслах, в которых участвовала, она пришла к решению — это была исключительно ее, не моя, идея, — что пора сменить ориентацию, не ставя в известность ту группу, и начать работать на меня, ибо только меня она признавала как государственного мужа, король же внушал ей презрение, а к королеве она по-прежнему питала ненависть, поэтому она верила, что именно мне, а не малодушному Фернандо с его развращенной камарильей удастся привести государственный корабль в надежную гавань[117]. Все началось с ее легкой шутки в постели в ее дворце в Монклоа, но два дня спустя в мой кабинет принесли объемистый пакет, в котором я обнаружил чрезвычайно ценную информацию о корреспонденции отца Эскойкиса и связях, которые тому удалось установить с папским посольством. Мы продолжали с ней тайно встречаться, но на этот раз для того, чтобы договориться о наших кодах, или чтобы она сообщила мне, что замышляли накануне у принца, или чтобы получить от меня срочное задание узнать о чем-нибудь. Иногда мы ложились с ней в постель, но очень редко. Мы были теперь не любовниками, а конспираторами.
Даже после того, как я ушел с праздника, самого грустного, который мне когда-либо приходилось видеть, — чего стоила одна эта сцена, когда Каэтана с факелом разыгрывала клоунаду перед гостями, да еще этот мрачный финал, оборвавший встречу… — я все еще не мог избавиться от тяжелого чувства, мне даже было трудно дышать, и хотя я почти готов согласиться с Гойей, признававшим за Каэтаной непревзойденное искусство гостеприимства, в ту ночь она, мягко говоря, была не на высоте. А мне лично это стоило нескольких часов крайнего напряжения, скрашенных лишь чтением документов, которые она в удобный момент сумела мне передать[118]. Правда, тот праздник вообще оказался ночью неприятных совпадений. Во-первых, неосмотрительность Каэтаны, которая пригласила меня приходить «с любой из моих женщин», и неожиданное, по крайней мере для меня, появление Майте с ее братом. Все мы вынуждены были лицемерно притворяться, что не замечаем возникшей неловкости, и особенно Майте, Пепита и я, наиболее затронутые этой ситуацией, которая хотя и возникла случайно, казалась неожиданно открывшимся обманом. Я знал, что Майте даже не упрекнет меня дома, но для меня гораздо тяжелее будет ее глухое, гнетущее молчание. Что касается Пепиты, то ей всегда хватало умения сохранять спокойствие и держаться в тени, так что привлечь к ней без крайней необходимости всеобщее внимание в такой неприятный момент значило нанести ей серьезную и абсолютно незаслуженную обиду. И во-вторых, когда наконец обстановка стала мало-помалу разряжаться, граф де Аро вдруг совершенно некстати заговорил о двух близких свадьбах — тема была слишком щекотливой, чтобы обсуждать ее в присутствии меня и принца. Дон Фернандо, который не упускал случая уколоть меня, особенно при людях, зловещим голосом ответил поздравившему его графу: «Да, я женюсь в сентябре, и пусть поостерегутся те, кто нз-за своих амбиций вознамерился помешать моему счастью». Незачем говорить, что я не принял вызова. Ограничился коротким замечанием: «Их величества решили сделать из этих двух свадеб настоящий национальный праздник». На что принц живо возразил: «А разве это не национальный праздник, Мануэль?» — а я так же живо ответил: «Второй после вашего дня рождения, ваше высочество»[119]. Атмосфера накалилась до предела, но в этот момент вошла герцогиня в сопровождении Гойи и Пиньятелли, вошла смеясь чему-то, и это, как я хорошо помню, быстро сняло возникшее напряжение. Однако в течение одного лишь часа мне пришлось быть главным действующим лицом в этих двух чрезвычайно неприятных инцидентах. К этому добавилась дерзкая выходка Каэтаны во время ужина, когда она говорила о своих врагах: пока речь шла об Осуне или Костильяресе, это еще было терпимо, но когда она коснулась своих отношений со мной и с королевой, это уже выглядело скабрезно. Принц в очередной раз воспользовался возможностью съязвить, и мне даже показалось, что в нем зародилось новое подозрение: он, похоже, испугался, что Каэтана ведет с ним нечестную игру, — в общем, почти вплотную приблизился к тому, чтобы открыть правду. «Не бойся герцогини, Мануэль, — громко сказал он мне с другой стороны стола. — Когда она бывает у меня, то в наших разговорах всегда принимает твою сторону и защищает тебя». А затем, повернувшись к Каэтане, добавил: «Надеюсь, ты поступаешь точно так же, когда бываешь у сеньора Годоя». Действительно, было полное впечатление, что он говорит о двойной игре Каэтаны, но та и бровью не повела, полностью проигнорировала намек, если это на самом деле был намек? и продолжала свои поиски врагов. Однако принц в этот вечер не был расположен молчать, он снова заговорил, обращаясь к хозяйке дома: «Годой не поджег бы дворец, Каэтана, он никогда не сделает этого, пока не убедится, что я нахожусь внутри, так что можешь не беспокоиться; и я, кстати, теперь понимаю, почему ты пригласила его в последний момент: это ведь для того, чтобы обезопасить нас на эту ночь от пожара». И он засмеялся своим ужасным хлюпающим смехом, от которого все испытали неловкость, только Гойе его подлинная или добровольная глухота позволила в тот момент не испытать это чувство. А минуту спустя принц нашел повод, чтобы коснуться прежнего соперничества между Каэтаной и его матерью, его жесты были так же грубы, как его язык; ткнув ножом в сторону Пиньятелли, он злобно заговорил: «Раньше ваши стычки были просто забавой молокососов, выслали того, из-за кого началась эта свара, и все уладилось, но теперь, Каэтана, дело касается Испании, и мы не можем сослать ее в Париж, чтобы вы смогли успокоить ваши нервы». Эту вздорную шутку принца, поддержанную неуверенным смехом немногих гостей, я всегда вспоминал потом, как темное пророчество событий, порожденных политическими махинациями его камарильи, которые через шесть лет привели к тому, что судьбы Испании решались во Франции. Но в ту ночь мысль о подобном конце не могла прийти в голову никому, включая самого принца. Вообще, его язык коробил большинство гостей, и они с тоской вспоминали о недавнем прошлом, когда принц был еще неразговорчивым, замкнутым подростком. Время неузнаваемо изменило его, превратив хмурого молчуна в сущую язву общества[120].
Прогулка при свете факелов стала для всех передышкой. Напряжение спало, разговор потерял общую нить. Принц наконец умолк, а Каэтана временно переключила внимание на гостей, старалась теперь быть любезной хозяйкой и, казалось, утратила интерес к своим беспокойным играм. Еще когда мы входили в мастерскую Гойи, она успела шепнуть, что в удобный момент передаст мне бумаги, но вот уже наступила глубокая ночь, а удобный момент все никак не выдавался; я начал беспокоиться, и она, будто почувствовав мое состояние, на минуту приблизилась ко мне, когда мы слушали сонату Боккерини, и быстрым шепотом предупредила: «Когда все пойдут вниз, задержись тут, а потом жди меня в моих комнатах».
Ее страстная филиппика о ядах и обморок Майте облегчили мою задачу. После того как гости, оставив Майте и моего шурина в мастерской Гойи, вышли в зеркальный зал, мне не составило труда слегка преувеличить озабоченность ее состоянием и остаться в мастерской, пока все не скрылись из виду в галерее. В неровном свете факела, который держал в руках задержавшийся с нами слуга, хрупкая фигурка бедняжки Майте, смежившей глаза и склонившей головку на пурпурное плечо бережно поддерживающего ее брата — кардинала, казалась нежной и грустной картиной. У меня, однако, уже не было времени любоваться ею..
Почти бегом я пересек пустой зал, освещенный мерцающими отблесками далеких факелов, направляясь в комнаты Каэтаны. Я знал, где они расположены, потому что два раза посетил их на рассвете, когда Каэтана еще не обосновалась окончательно во дворце. Было приятно увидеть теперь ее апартаменты обставленными мебелью, обжитыми, хорошо освещенными. Я приготовился ждать герцогиню, что было для меня нелегко. Всегда трудно ждать женщину в ее комнате. Чувствуешь себя там словно в другом мире, боишься сделать лишнее движение, сесть, закурить или почитать что-нибудь. И не то чтобы этот мир был враждебным, просто он какой-то странный, чуждый, негостеприимный и ты в нем то ли непрошеный гость, то ли пленник. Я с возрастающим нетерпением ждал, когда появится Каэтана. Именно тогда я в первый раз увидел бокал. Мне никогда не доводилось видеть его раньше. Это было настоящее произведение искусства; я смотрел, как свет свечей мягкими волнами переливается в глубине стекла, и чувствовал, что постепенно успокаиваюсь. Потом я взял его в руки, чтобы полюбоваться эмалью — дамой с высокой прической, оленем с высокими рогами, чудесными арабесками из бирюзы и золота, провел кончиком указательного пальца по его тонкому краю, постучал ногтем по хрустальной стенке, чтобы услышать, как он звенит[121]. В этот момент раздались чьи-то шаги. Я поставил бокал на место и подошел к двери, которую оставил открытой. Вошла Каэтана, и мы на минуту задержались в комнате. Я обнял ее и поцеловал. Давно уже я не видел ее такой очаровательной. (Могло ли мне тогда прийти в голову, что я на самом деле целую последний портрет Гойи.) В тишине послышался какой-то звук. Каэтана обернулась и всмотрелась в зеркала зала. «Твоя жена. Твой шурин. И Гойя», — прошептала она, и мы закрыли дверь. Мы опять были одни. И конечно, не думали ни о какой опасности.
От одного лишь присутствия женщины комната преобразилась, приобрела тепло и смысл. Каэтана подошла к туалетному столу, передвинула бокал, будто почувствовала, что я только что трогал его. Затем внимательно посмотрела на себя в зеркало: «Боже мой! Этой ночью я настоящая маха!» Ей вообще нравилось играть этим словом. Но в тот момент она произнесла его без всякого юмора, просто констатировала факт. Я улыбнулся, снова обнял ее за талию и поцеловал в шею. «Не целуй меня там, — прошептала она, — можешь отравиться». Я не понял, что она имеет в виду, мне ведь было неизвестно, что произошло раньше. Но момент был неподходящий, чтобы задавать вопросы. «Пожалуй, лучше поторопиться, — сказал я. — Нам нельзя долго отсутствовать». Она засмеялась, отстранилась от меня и прошла в спальню. «Которая из твоих женщин самая ревнивая? — спросила оттуда со смехом. — Готова поспорить, что ревнивее всех та, из Ла-Гранхи». Я не ответил. Я сел на стул у туалетного столика, спиной к свету канделябров, и ждал, когда она вручит мне бумаги. Вскоре она вернулась с ними. Это было письмо — четыре или пять сложенных листов, исписанных высокими и узкими буквами, знакомый почерк дона Фернандо; письмо адресовалось его будущей свекрови — королеве Неаполитанской, к которой он обращался весьма типичным для него образом: «Моя дорогая и единственная мать», что было мерзко, поскольку ясно говорило об отвращении, которое он питал к своей настоящей матери. Все письмо было написано в такой же льстивой манере и содержало подробнейшую и точнейшую информацию о наших последних стратегических соглашениях с Францией и Англией; эти соглашения были, конечно, государственной тайной, которую надлежало строжайше хранить не только принцу Астурийскому, но и любому честному испанцу[122]. Но принц не был любым испанцем, он был подлым испанцем, злобным интриганом, готовым привести страну к катастрофе, что впоследствии и сделал ради удовлетворения своих низких страстей и из-за ненависти ко мне и к своим родителям. А у родителей разрывались сердца: они любили его как сына и одновременно подозревали в нем врага, которому тем не менее постоянно оказывали доверие в государственных делах; он же, если и не узнавал что-то от них или от своих шпионов, получал все необходимые сведения от министра Кабальеро, бывшего не столько нашим сотрудником, сколько его сообщником, ведь добросердечный дон Карлос IV никогда не переставал верить ему; и вот теперь появилось доказательство, документ, это подробнейшее письмо, многословный донос, полный лжи и клеветы, яркое свидетельство извращенности его автора, письмо, отдававшее нас в руки неаполитанским Бурбонам, а через них — в руки Меттерниха и Питта, что неизбежно должно было привести к еще большей изоляции страны и к ослаблению ее позиций в противостоянии императору Франции[123]. Читая письмо, я совершенно забыл о присутствии Каэтаны, которая, устроившись удобно на диване, играла кистями кашемировой шали и неотрывно смотрела на меня, ожидая, по-видимому, вспышки моей страсти как высшей награды за выполненную работу. «Как письмо пропало в твои руки?» — наконец очнулся я. «Это просто черновик, — последовал ответ. — Письмо уже отправлено в Неаполь. Но мне поручили перевести его на французский и на английский, ведь сам принц не может сделать перевода»[124]. «Значит, он намерен послать его также в Англию и французским роялистам, — заключил я. — Ты знаешь точно, с кем он поддерживает там связь?» — «Не знаю, но узнаю, — уверила меня Каэтана. — Я же не смогу переводить всю эту лесть, все эти комплименты, которые он расточает перед своей свекровью, мне придется заменить их другими, и я узнаю, кому они…» И тут мы в первый раз услышали шум.
Это был даже не шум, а легчайший шорох, какой мог возникнуть оттого, что кто-то случайно коснулся двери, но также мог быть просто вздохом инертной материи, из тех, что так часто слышатся ночью. Каэтана мгновенно насторожилась и поднялась с дивана. Я инстинктивно спрятал листы письма за бортом мундира. «Выпьешь что-нибудь? — спросила вдруг Каэтана. — У меня тут есть замечательный херес. Мне подарили его недавно, когда я была в Санлукаре. Я специально держу его здесь для некоторых из моих гостей…» Я сразу понял ее игру. Если кто-нибудь нас подслушивал, то он должен был подумать, что у нас любовное свидание, конечно при условии, что не слышал нашего предыдущего разговора о письме, чего, по правде говоря, я очень опасался. Но мне уже не оставалось иного выхода, кроме как поддержать Каэтану. «Сейчас я не буду пить, — ответил я, беря ее за руку и не позволяя наполнить бокалы, стоявшие на столике около трех оплетенных бутылей. — Поцелуй меня». Мы поцеловались. Я еле слышно прошептал ей на ухо: «Что мне делать с письмом?» Она ответила так же тихо: «Я его переписала для тебя. Сейчас принесу копию». Мы снова поцеловались, напряженно вслушиваясь в тишину, обволакивающую нас словно плотная вата, сквозь которую пробивалось приглушенное звучание далекого трио, исполнявшего теперь что-то из Гайдна. И хотя ничто не выдавало присутствия за дверью кого-нибудь, кто нас подслушивал, мы все равно должны были продолжать игру. Все еще обнимая ее, я вернул ей письмо, и она снова вышла в спальню, чтобы обменять черновик письма на копию. И будто молчание могло выдать нашу вину, я почувствовал, что надо произнести хоть слово и уже приготовился было сказать что-нибудь, но в этот момент мой взгляд опять упал на венецианский бокал. «Хорошо, пожалуй, я выпью, — громко сказала я, — но только если ты нальешь мне вино в этот бирюзовый бокал». — «А у тебя острый глаз, — отозвалась, возвращаясь, Каэтана. — Это коллекционная вещь». — «Я так и подумал. В жизни не видел такого красивого бокала, — ответил я, беря у нее из рук копию письма. — Поэтому я и хочу пить из него, это будет означать, что я тебе не безразличен». У меня тогда было такое чувство, что письмо и бокал — это нечто единое, что между ними существует некая глубокая связь, поэтому пить вино из бокала было для меня как бы добрым предзнаменованием, тайным знаком, говорившим, что я прочитаю сейчас письмо или в крайнем случае смогу унести его с собой. Конечно, на самом деле это не было никаким тайным знаком — просто бессознательная ассоциация, неожиданно родившаяся в нашей игре. Каэтана наполнила бокал хересом: «Ну что же, пей!» Я сделал первый глоток. «А мне?» — томно прошептала она. Я поставил бокал на столик, обнял ее и, целуя, влил из моего рта в ее рот немного вина, наивно полагая, будто паузы в нашем разговоре заставят соглядатая за дверью поверить, что он застал нас в разгар любовной сцены. Но одновременно я безошибочно ощущал, что по мере того, как разыгрывался наш спектакль, Каэтана становилась для меня все более желанной. «Оставь бутылку здесь, — громко сказал я в сторону двери, прерывая поцелуй. — Допьем, когда вернемся из спальни. А сейчас я хочу быть с тобой. Идем же в альков!» Игра разожгла в нас пламя страсти, она больше не была комедией. «Идем! — как эхо повторила Каэтана. — Уже не важно, если обратят внимание на наше отсутствие. Принц так глуп, что и вправду думает, будто это ты поджигаешь мой дворец». Каэтана тоже больше не притворялась.
Обнявшись и страстно лаская друг друга, мы поспешили в спальню и, уже подходя к ней, во второй раз услышали посторонний шум: сначала какой-то глухой удар, а потом быстрое шарканье — затихающий звук чьих-то удаляющихся шагов. На этот раз не могло быть никаких сомнений: нас подслушивали, но я все-таки хотел удостовериться в этом своими глазами. Оставив герцогиню у дверей спальни, я тихо вышел в коридор. Он был пуст. Зеркальный зал тоже казался пустым. Но вдруг краем глаза я уловил в зеркале какое-то движение: легкая тень пересекла светлое пятно у открытой двери в мастерскую Гойи. Однако когда я посмотрел в ту сторону, было уже поздно: тень исчезла, все застыло в неподвижности, дверной проем мастерской загадочно мерцал ровным светом. В какой-то момент я подумал о Гойе, но тут же отогнал эту мысль: его грузная фигура крестьянина не смогла бы с такой быстротой пересечь обширный зал по скользкому мраморному полу. И тут я понял, что тот, кто шпионил за нами, спрятался в его мастерской, из которой нет другого выхода, и мне достаточно пройти туда, чтобы разоблачить его. Однако кто кого на самом деле разоблачит в этом случае? Все еще не зная, на что решиться, я сделал шаг и почувствовал что-то под ногой. Нагнувшись, поднял с пола непонятный предмет — мягкую на ощупь небольшую вещицу, легко уместившуюся у меня на ладони. Я подошел к полоске света, падавшей из комнаты Каэтаны. В руке у меня был чехол из тончайшего сафьяна с вытесненным на нем гербом Астурии, а внутри — флакон с солями дона Фернандо, тот самый, который в моем присутствии вернул принцу мой шурин после того, как взял, чтобы помочь Майте. Так, значит, это дон Фернандо подслушивал нас под дверью! Но что он мог услышать? Только наше любовное воркование? Или еще что-то, открывшее ему, что Каэтана — моя, а не его союзница. Если он действительно понял это, то сейчас, наверное, его одолевает бешенство, он спрятался от всех и со страхом ожидает приближающегося приступа (именно эти приступы, которые никто не осмеливался назвать эпилептическими, он пытался остановить своими солями)[125]. Что было делать? Наконец я принял решение. Я опустил флакон с солями в карман и решил пока не говорить ни о чем Каэтане. Можно было объяснить подозрительные шумы неожиданным порывом ветра, скрипом плохо закрытой оконной рамы в зеркальном зале, полосканием шторы. Дело в том, что единственное, о чем я мог думать в ту минуту, это как буду обнимать и ласкать ее.
Она опустила свои руки — огненно-красное платье соскользнуло с тела и осталось лежать на ковре, как огромная раскрывшаяся алая роза.
Я спустился вниз после Каэтаны. Проходя через полутемный зеркальный зал, я видел Гойю; о чем-то задумавшись, он сидел в своей мастерской против окна. То, что он был у себя, лишний раз подтверждало, что не он шпионил за нами. Я мог бы войти к нему и спросить, кто заходил в мастерскую полчаса назад, но заранее знал, что он назовет мне имя владельца хрустального флакона с пробкой из ляпис-лазури, который лежал сейчас в моем кармане. Так и не задав вопроса, я быстро спустился на первый этаж. В вестибюле мне встретился шурин, дон Луис, направлявшийся в дворцовую часовню вместе с капелланом Каэтаны. Войдя в салон, я направился к дону Фернандо и протянул ему флакон с солями: «Мне кажется, это ваш, ваше высочество». Он буквально вырвал его у меня из рук, не в силах сдержать свою ярость. На нас никто не смотрел. У нас снова появилась общая тайна. На этот раз она заключалась в том, что принцу нравилось подкрадываться по коридорам к чужим спальням и подслушивать, что происходит за закрытыми дверями[126]. Теперь я был совершенно уверен, что он не слышал первой части нашего разговора с Каэтаной.
Во дворце я задержался ненадолго. Майте снова стало плохо, и я понял, что не могу не поехать вместе с ней домой. Всю дорогу туда мы молчали. Я понимал, что это молчание порождено глубокой болью, которая не могла излиться в упреках и плаче. Может быть, она не могла простить мне, что неожиданно встретила в Мадриде, да еще в обществе Пепиты, а может быть, заметила мое отсутствие в течение часа на празднике. Все может быть. Я этого никогда не узнал. С нею я никогда ничего не знал. Она предпочитала молчать[127].
III
На следующий день в моем рабочем кабинете в правительстве появилась взволнованная и чем-то расстроенная Пепита. Известно ли мне что-нибудь о Каэтане? Ведь вчера она была плоха, очень плоха, она подхватила где-то лихорадку, и врачи не ждут ничего хорошего. Я бросил все дела, мы вместе вышли на улицу Ареналь и почти бегом направились к дворцу Буэнависта. Когда мы вошли в него, Каэтана была уже мертва. Она лежала в своей кровати, белая как мел, покрытая белыми розами, которые постоянно поправляли и обновляли обожавшие ее служанки. Выходя из спальни в ее гостиную, я задержался у туалетного столика: все на нем было как вчера, все оставалось на своих местах, и бокал стоял там же, где я его видел накануне, но — он был пуст! Меня, помню, очень озадачило это, и всю обратную дорогу я не мог думать ни о чем другом, кроме как об этой странности. А темные и противоречивые слухи о причинах смерти герцогини, которых я наслушался накануне похорон, заронили во мне подозрение, что тайна ее смерти была как-то связана с венецианским бокалом. Это подозрение все более перерастало в уверенность. Я старался вспомнить события той ночи в их точной последовательности, но мне это не удавалось, так я был поражен и потрясен смертью Каэтаны, за которой, как я уже предчувствовал, скрывалось преступление; я начинал догадываться, что ее убила не лихорадка, а рука прячущегося во мраке преступника. Вокруг меня звучали голоса Аро, Осуны, Корнеля. Я рассеянно прислушался: они говорили об эпидемии и об Андалусии. Я молчал, не вступая в разговор, глядя поверх плеча графа-герцога на пустой бокал. И не мог оторвать от него взгляда.
Каталина Барахас, постаревшая за одну ночь лет на десять, но полностью сохранившая самообладание, не впала в прострацию, как мужчины этого дома — потерянный Пиньятелли и другие, толпившиеся в растерянности вокруг кровати Каэтаны, — попросила всех нас выйти в зеркальный зал и подождать там, пока она будет готовить комнаты герцогини к приему все возрастающего числа людей, подъезжавших к дворцу, чтобы проститься с Каэтаной. Мы послушно вышли. Но я, подождав, пока все снова соберутся в привычные группы, вернулся в маленькую гостиную. Каталина торопливо складывала в шкатулку казавшиеся ей ненужными вещи с туалетного стола — какие-то сережки, пряжки, гребень, янтарный опрыскиватель. Она удивленно взглянула на меня, оставила на время работу и слегка наклонилась в мою сторону, словно ожидая некоего приказа, который объяснил бы мое неожиданное появление. Ее готовность выполнить любое распоряжение несколько меня стесняла, но я тем не менее заговорил: «Вчера я был здесь с вашей госпожой, мы пили вино, я пил из этого голубого бокала. Мне хотелось бы…» — начал я осторожно. Она посмотрела на меня долгим грустным взглядом и мягко сказала: «Ваша светлость, конечно, не думает, что госпожа выпила с вином какой-то яд…» Нахмурив лоб, она задумалась на минуту, и затем добавила: «Ведь госпожа тоже пила из этого бокала, когда раздевалась…» Неожиданно она запнулась и умолкла, глядя с удивлением и испугом на бокал. «Как странно, — ее голос упал до шепота, — как странно, ведь госпожа выпила совсем немного, несколько глотков, а бокал теперь пуст. Кто мог?..» Она снова умолкла и посмотрела на меня. Каталина была умной и сообразительной женщиной, но теперь растерялась. «Ваша светлость, вы знаете что-то?» Я отрицательно покачал головой. «Но ведь этого не может быть, правда? — ее голос вновь окреп, в глазах вспыхнула надежда. — Если вы тоже пили из этого бокала, значит, в нем не было яда, значит, виной всему андалусийская лихорадка». Она закрыла шкатулку и, казалось, ожидала, что я выйду, положив тем самым конец нашему странному диалогу. Я мог бы возразить на ее слова, мог бы сказать: «Да, все это так, но лишь при условии, что никто не подмешал яду в бокал в тот промежуток времени, когда я уже пил из него, а она еще не пила». Но я сдержался и не сказал ничего. Она застыла с полуоткрытым ртом, будто вслушивалась в не произнесенные мною слова и напряженно обдумывала их. «Но у кого могла подняться на нее рука?» — спросила она вдруг голосом не служанки, а глубоко страдающей подруги. «Извините меня, я помешал вашей работе», — сказал я наконец. «Спасибо вам, ваша светлость, — ответила она. — Мне и правда „надо привести тут все в порядок“». Она слегка поклонилась, взяла с табурета кашемировую шаль Каэтаны и начала ее складывать. А у меня все, звучал в ушах ее вопрос: «У кого могла подняться на нее рука?» Я вышел из спальни.
Я шагнул в полутемный коридор и неожиданно получил ответ на мучивший меня вопрос: тусклый свет, процеженный сквозь жалюзи спальни, выхватил на миг из полумрака лицо принца. Можно было подумать, что моя ненависть к нему вызвала это видение. Но это было не видение, это был он, он сам, и всего в каких-нибудь двух шагах от меня. Я чувствовал, что не могу находиться рядом с ним в ограниченном пространстве коридора, где, даже ничего не видя, мы ощущали присутствие друг друга и слышали дыхание. Я поспешил в сторону зала, а он, как я догадался по звуку шагов, проскользнул в маленькую гостиную. Он, безусловно, хотел найти там свое мерзкое письмо к неаполитанской королеве. Значит, Каталине опять придется оторваться от работы. Но на этот раз вряд ли разговор пойдет о ядах.
Мне надо сделать перерыв и попытаться успокоиться, не следует давать волю чувствам, тем более что главное из них — это ненависть, а я должен ясно изложить версию смерти Каэтаны де Альба, как она сложилась в моей голове. Нет, Каталина, никто не хотел причинить вреда твоей госпоже, никто не собирался отравить ее. Не она была назначена в жертвы. Жертвой должен был стать я.
Дон Фернандо ненавидел меня, я был его заклятым врагом. Ревность и злоба обострили его ум, и он сделал неприятное открытие, заставившее его испытать глубокое унижение: той ночью он понял, что Каэтана де Альба перешла в другой лагерь, что она предала его и мы смеялись над ним и вместе обдумывали, как окончательно его сокрушить. Незаметно, словно крыса, он прокрался по темным гостиным и коридорам, как делал обычно, к чужим дверям, чтобы убедиться в правоте своих подозрений; прильнув к замочной скважине, он слушал, как ликует его враг, получивший секретнейший документ, которым теперь, безусловно, воспользуется, чтобы натравить на него родителей и еще больше отдалить его от власти, он слушал тосты предателей и ярко представлял себе, как они предаются любовным утехам (а они, в довершение его позора, так же ярко могли представить затаившегося за дверью соглядатая, в бессильной злобе корчившегося в темноте)[128]. Вот тогда-то и выпал из его кармана флакончик с солями, а его в этот момент, очевидно, спугнул какой-то шум, и он уже думал только о том, как скрыться; он добежал на цыпочках до зеркального зала и, увидев открытой дверь в мастерскую Гойи, не раздумывая юркнул в нее, и пока глухой художник, не замечая его присутствия, продолжал работать над картиной, принц, еле переводя дыхание от волнения и страха, обшаривал крысиными глазками стол, уставленный горшками и банками с красками, и тут его взгляд наткнулся на банку с зеленым порошком, который, как он понял из недавнего разговора, был смертельным ядом. Искушение оказалось слишком сильным. Предатели удалились в спальню, он хорошо это слышал. И слышал, как его заклятый враг пообещал, что будет пить вино из красивого бокала, когда вернется… Дальнейшие события следовали чередой, без пауз. Дон Фернандо схватил банку, вернулся к комнатам Каэтаны и, вновь обратившись крысой, скользнул в маленькую гостиную, подсыпал яд в стоявший на туалетном столе бокал и тут же ретировался, но уже не осмелился вернуть банку с остатками порошка на место, а каким-то образом избавился от нее и присоединился к гостям, судя по всему не обратившим внимания на его недолгое отсутствие.
Но спустя полчаса он увидел, как я вхожу в салон и направляюсь прямо к нему; я вернул ему флакон, потерю которого он, возможно, и не заметил. О чем он мог думать в тот момент, глядя на мою ироническую улыбку? О том, что я догадался, что он подслушивал под дверью? Что я выиграл очередную схватку и теперь потешаюсь над ним? Он не знал, что бокал стоит нетронутый на своем месте, дожидаясь жертвы, кем бы она ни оказалась. Хочу думать, что он не намеревался хладнокровно отравить Каэтану. И только на следующий день понял, что произошло.
Народ Мадрида ясно показал, что готов забыть обиды и тяжбу за землю Хуана Эрнандеса, люди были потрясены смертью своей всегдашней подруги и защитницы и искренне оплакивали ее; однако, как это обычно бывает в Мадриде, сострадание вскоре сменилось любопытством, было разменено на нелепые слухи; ситуация еще более усложнилась после того, как покойную герцогиню, согласно ее желанию, похоронили тайно от всех, что вызвало новую волну слухов о причинах и обстоятельствах смерти. И вскоре весь Мадрид говорил, что «наша де Альба» — так ее называли — умерла от отравления, и все гадали, кто в этом виновен, и, как правило, находили виновных в высших кругах. Никто не придал особого значения словам Гойи, что эта смерть была «местью народа», что ее осуществила та же таинственная рука, которая поджигала дворец; не нашло большого отклика и предположение, что семеро наследников, среди которых было два врача, могли вступить в сговор с целью сократить жизнь своей благодетельницы, чтобы поскорее получить наследство. Раньше я уже говорил, что в то время все слухи так или иначе задевали меня и королеву, и на этот раз они нас не минули. По изощренным расчетам циничных умов, ревность королевы — а в ее соперничестве с де Альбой я был лишь одним из многих поводов — соединилась с политической борьбой после того, как де Альба вступила в союз с принцем, поэтому отравить герцогиню означало для нас не только убрать ее с пути, но и сделать ясное предупреждение всем, кто собирался вслед за ней примкнуть к партии Фернандо. При этом, как водится, подозрения не коснулись тех, кто на самом деле мог оказаться убийцей: никто не задумался, что накануне смерти Каэтана устроила праздник, на котором любой из гостей имел возможность подмешать яд к ее еде или вину; вместо этого говорили о долгом постепенном отравлении, которое якобы и послужило причиной прогрессирующего ухудшения здоровья Каэтаны, о том, что постоянное отравление малыми дозами опия в конце концов и привело ее к смерти. Нам с королевой приписывались тайные встречи со странными личностями, имеющими дело с ядами, участие в таинственных ритуалах и черных мессах, не первой и не последней жертвой которых стала Каэтана[129]. Так обстояли дела, когда их величества вызвали меня в Ла-Гранху.
Слухи, которыми жил Мадрид, конечно, дошли до королей. Не скажу, чтобы это их слишком расстроило, они уже привыкли быть мишенью придворного и народного злословья, но дон Карлос тем не менее позаботился, чтобы именно по инициативе короны было начато расследование обстоятельств смерти Каэтаны, и немедленно издал указ, согласно которому мне надлежало контролировать соответствующие действия министра внутренних дел. Тем же вечером, когда мы играли в crapaud, королева, которая, как оказалось, знала о празднике у Каэтаны гораздо больше, чем я мог предположить, отложила вдруг в сторону колоду карт и спросила: «Как ты думаешь, Мануэль, от чего умерла де Альба?» Я ожидал этого вопроса: «Я думаю, ваше величество, она умерла от андалусийской лихорадки, так считают врачи». — «Но ты ведь был у нее накануне, мне рассказали даже, что в начале ночи вы оба уединились в ее комнатах, так что ты должен был заметить, что она больна…» Я не верил своим ушам. Коварство принца было просто непостижимо: желая уязвить свою мать и поссорить меня с ней, он поторопился рассказать ей о том, что было на празднике, и, конечно, об этом промежутке времени, когда мы с Каэтаной отсутствовали (а сам он использовал это время, чтобы совершить свое гнусное преступление). «Если у вас есть такие надежные информаторы, ваше величество, то не знаю, что я еще могу добавить…» Донья Мария-Луиза была слишком нетерпелива, чтобы говорить намеками и обиняками, и, смешав карты, — эту партию я должен был выиграть, — обратилась ко мне с откровенным и довольно нескромным вопросом: «Полноте, Мануэль, что ты там делал, когда заперся с этой?..» Самый хороший ответ — копия письма дона Фернандо неаполитанской королеве — хранился у меня во внутреннем кармане мундира. Не было смысла и дальше хранить в тайне личность «Доброжелателя». Предъявив письмо, я не только оправдывал мое уединение с герцогиней, но и дискредитировал доносчика. Потому что если до этой минуты я не осмеливался заявить королям, что их наследник — убийца, то теперь я чувствовал себя вправе нанести мощный удар этому подонку.
Следствие длилось несколько дней, и каждый вечер я получал полный отчет о его результатах. Никто не верил в яд. Каталина Барахас не упомянула о разговоре со мной и ограничилась утверждением, что «никто не мог желать зла такой доброй и щедрой женщине». К моему облегчению, никто из опрошенных не показал, что принц Астурийский покинул салон, где собравшиеся слушали трио, и поднялся на верхний этаж. Никто не видел, как он входил и выходил из комнаты покойной. Никто не обратил внимания на венецианский бокал, который тогда — я узнал это от Гойи — так органично вписался во множество принадлежавших Каэтане вещей. Оба врача решительно отвергали возможность ошибки, хотя их диагнозы не совпадали; они упрекали друг друга в небрежности, приписывая ее возрасту, правда, в одном случае имелся в виду слишком юный, а в другом — слишком преклонный возраст. Банку с зеленой веронской не нашли (да ее скорее всего и не искали), и вполне вероятно, что она затерялась в еще не убранном строительном мусоре, оставшемся около дворца. Флакон в сафьяновом чехле с солями выпал в темноте из кармана, был затем поднят и возвращен владельцу, однако ни владелец, ни тот, кто нашел флакон, никак не прокомментировали столь незначительное происшествие. Пауза, возникшая при возвращении флакона, разрасталась концентрическими волнами и в конце концов превратилась в сплошное всеобщее молчание. Чернь забыла свои подозрения с той же беспечностью, с которой их породила. Годы спустя дон Фернандо смог стать королем Испании. Его упрекали в чем угодно, находили в нем какие угодно недостатки, но никто никогда не сказал, что он — убийца.
Эпилог
Я больше не видел Гойю после нашей встречи в Бордо. В моей памяти он навсегда сохранился таким, каким был в тот последний раз: глубоким стариком с живыми глазами, неотрывно следящими за пламенем догорающей свечи, будто наблюдая тайное жертвоприношение, на котором сжигались память, верность, любовь. Три года спустя, в конце 1828-го, я узнал, что он умер. А за несколько дней до этого моя дочь сообщила из Мадрида, что скончалась Майте, моя жена, чье здоровье уже давно было серьезно подорвано. И хотя я не видел ее с 1808 года и за прошедшие двадцать лет не получил от нее ни строчки, это известие имело для меня огромное значение. Только теперь я наконец почувствовал себя совершенно свободным, смог жениться на Пепите, упорядочить мою личную жизнь, обрести душевное спокойствие, которой, никогда не имел. Сообщение о смерти Гойи, пришедшее в тот момент, уже не могло глубоко меня тронуть.
Через два месяца в Риме ко мне явился друг моей дочери, доставивший корреспонденцию, среди которой было письмо с короткой надписью: «Вручить Мануэлю после смерти Майте». Я узнал почерк моего шурина Луиса, умершего за пять лет до этого — в 1823 году. Что могло означать его посмертное послание? Потертый конверт возбуждал дурное предчувствие. Я медлил несколько дней, не решаясь прочитать его. У меня даже возникло искушение бросить письмо в огонь. Оно вызывало во мне не любопытство, а страх. Наконец ночью, накануне приезда Пепиты в Пизу, где должна была состояться наша свадьба, на которую было получено папское благословение, я собрался с духом и вскрыл конверт. Ограничиваюсь здесь тем, что переписываю это письмо.
Письмо
Дорогой Мануэль!
Я болен. Уже много месяцев здоровье мое из рук вон плохо и с каждым днем становится еще хуже, я чувствую все более ясно, что Господь решил призвать меня к себе. Я еще молод, мне нет и сорока пяти, но ты знаешь, что я от рождения был слаб здоровьем, а неприятности и волнения последних лет не способствовали его укреплению. Врачи стараются, впрочем безуспешно, обмануть меня. Я знаю, что мои дни сочтены, и хочу дожидаться конца со спокойной совестью. Это и заставляет меня взяться за перо. Вот уже двадцать лет меня гнетет тяжкий груз; но теперь я хочу избавиться от него и почувствовать себя свободным, чтобы принять смерть, как подобает христианину, и чтобы мой дух не тревожили никакие иные дела, кроме моего собственного спасения.
Я думаю, Майте вскоре последует за мной. Ее здоровье тоже подорвано годами страданий, особенно мучительных оттого, что в течение последних пятнадцати лет ты ни разу ее не видел, ничего о ней не знал и — насколько я знаю — даже не написал ей ни строчки, и я видел, что она с каждым годом все глубже погружается в беспросветное уныние; мне это было понятно по самым разнообразным признакам, однако при всем моем опыте священника я так и не смог разгадать, вызвана ли ее боль моральными причинами, или это болезнь духа, или просто следствие слабости, неспособности вырваться из окутавшей ее атмосферы страдания, из опутавших ее тончайших тенет печали, этой воистину дьявольской сети. Бедная моя сестра! Сказать по правде, я не желаю ей долгой жизни, особенно после моей смерти, когда она останется совсем одна. Я был ей опорой — сама она так никогда и не смогла найти утешения в любви к Всевышнему и после моей смерти останется совершенно беззащитной. Надеюсь, я не слишком превозношу свое нравственное влияние на нее, силу моей любви и ту защиту, которую я оказывал ей и какое-то время еще смогу оказать.
Но я не хочу, да и не должен поддаваться тщеславному желанию говорить о себе самом, о сомнениях, которые меня грызут, о тревогах, которые меня мучат и которые я унесу с собой в могилу. Я пишу, чтобы поговорить с тобой о Майте, а не о себе. И не могу отвлекаться на другие темы. Возможно, у меня уже остается совсем немного времени, чтобы писать о ней, и — что уж точно — еще меньше сил для этого, да и те немногие, чтo оставил мне Бог, тают день ото дня, утекают капля за каплей. Однако я, несмотря ни на что, не теряю веры в Его милосердие. Верю, что Он позволит мне окончить это письмо. Придет время, и ты его прочитаешь. Я распоряжусь, чтобы это случилось после смерти Майте. С таким наказом я оставлю его в руках твоей дочери Карлоты, и она передаст тебе его только тогда, когда это уже произойдет. Ты в это время еще будешь жив, дорогой Мануэль. У тебя крепкое тело и здоровая кровь — наследство твоей крестьянской семьи из Астурийской долины, не то что жалкая водица, текущая в наших — моих и Майте — жилах, из-за которой, я знаю, таким коротким будет наш жизненный путь и мы окажемся на небе гораздо раньше, чем подготовим наши души к этому переселению.
Майте спасется. Я молюсь за нее каждое утро и каждый вечер, я ведь знаю, что она невинна как дитя, любое зло отскакивает от нее, как мячик от каменной стены. А зло для Майте — это сама жизнь, ни больше ни меньше: ее течение, требования, ее каждодневный труд. Майте, в сущности, никогда не была подготовлена и не была готова к жизни, она пустилась в нее, как утлое суденышко в бурное море, неспособное противостоять его натиску, и если не погибла сразу, то лишь благодаря какому-то таинственному инстинкту самосохранения, скрытому в глубинах ее существа; то есть я хочу сказать, что, не будучи созданной для плавания б открытом море, она смогла найти тихую и надежную гавань и укрыться в ней. Этой гаванью стал для нее мой дом, мои заботы, мое присутствие, я сам.
Если позволишь, дорогой шурин, я постараюсь в немногих словах объяснить тебе, кто такая на самом деле Майте, чем она была, и чем стала, и чем была ее жизнь те десять лет, которые ты разделял с ней как ее муж, не принимая и — осмелюсь сказать тебе — никогда не понимая ее самое.
Майте росла, не зная забот и волнений, в замкнутом уютном мирке — в семейном гнезде, которое наши родители обосновали в Аренас-де-Сан-Педро; то, что они выбрали для него именно это место, в какой-то степени омрачило их брак, предопределив их отлучение от короны, от двора, от привилегий, которыми обладают члены королевской семьи. Мы были принцами, но не могли так называться; мы стали типичной буржуазной семьей, но все нас знали как принцев. Словом, мы оказались на обочине двух этих миров: от королевского двора нас отдалили, а в другую среду, в более простое общество, где традиции и привилегии имеют гораздо меньшее значение, мы сами не смогли органично вписаться. И жили изолированно. Как на острове. На этом острове мы и родились, я и Майте. Она росла нежной и робкой, но всегда чувствовала защиту брата, я был старше на три года, но опекая ее с первых дней ее жизни, и появление на свет еще одной сестры ничего для нас не изменило; странная, необычная пара, мы прожили наше детство в неразрывном, почти мистическом союзе, скрепленном безмерной любовью, общностью чувств и тайных игр. Я помогал ей превозмочь физическую слабость, страхи, оберегал от незнакомцев, от взрослых, от всех, а она разрешала мне быть ее странствующим рыцарем, что тоже помогало мне чувствовать себя более сильным и отважным, чем мне было дано от природы. Мы были счастливы. И могли бы и дальше оставаться счастливыми, но жизнь предъявила нам свои требования, от которых нельзя было уклониться; я имею в виду внешнюю жизнь, окружающий мир, принудивший тс оставить благословенный сад, где обитали маленькие насекомые и наши маленькие тайны, где порхали бабочки и наши сновидения, святилище наших игр, полное деревянных солдатиков, игрушечных мечей, фальшивых бород и фантастических картин, которыми нас одаривал волшебный фонарь.
Когда настало время покинуть эту обитель и вступить во взрослую жизнь — момент мучительного расставания, — я совершил поступок, который открывал для меня путь к личному спасению, но в то же время был трусостью и предательством по отношению к Майте: я выбрал для себя стезю священничества. Она, по моему юношескому разумению, менее удаляла меня от магического круга детства, чем военная или дипломатическая карьера, вообще мирская жизнь. Что до Майте, то она понемногу взрослела, но это давалось ей с трудом, как бы против воли; относительна своего будущего она не питала иллюзий, ее более занимали мои успехи в духовном развитии и теологии, чем переживание этапов своего превращения в молодую женщину, которой подобает больше внимания уделять развлечениям, моде и заботам о будущем супружестве. В глубине души мы оба мечтали вернуться в наш сад. И не только мечтали: как только мне позволяли занятия, мы действительно возвращались туда, возвращались к нашей коллекции бабочек, которую она пополняла в мое отсутствие, чтобы сделать мне сюрприз, снова садились, сплетя пальцы, у волшебного фонаря, наслаждаясь разглядыванием картин, но теперь это были главным образом религиозные сюжеты — бегство в Египет, Благовещение, ангелы, ведущие под руки Товита.
Как видишь, я не могу говорить о Майте, не говоря о себе. Не получается, и, наверное, нет смысла с этим бороться. Это письмо так много значит для меня, что я не могу его не написать, оно нужно мне не только для того, чтобы смягчить угрызения совести. Тебя же, Мануэль, я выбрал в качестве хранителя этих заметок потому, что ты был третьим действующим лицом этой истории. Ты, сам того не осознавая, воплощал Жизнь со всей ее жестокостью, неотвратимостью и бессмысленностью, которая вдруг вторглась в наш такой тихий, так плотно укрытый от внешних бурь мирок. Он был словно полое яйцо — безупречно герметичное и страшно хрупкое.
Твой брак с Майте заключили за нашей спиной; я бы даже сказал, чтo и за спиной наших родителей, у которых, правда, наш кузен — король — спросил согласия, но сделал это в такой форме, что отказаться от предложения или хотя бы обсуждать его было совершенно невозможно. Нет ничего более деспотичного, чем милость суверена. В оправдание отца должен сказать, что при всей любви к моей матери он никогда не переставал испытывать чувство вины за их морганатический брак, за то, что его дети были из-за него, как он выражался, «маленькими париями»; поэтому, мне кажется, он и не думал возражать против предложения Карла IV, ведь оно давало ему возможность в какой-то мере исправить эту несправедливость, по крайней мере в отношении Майте, которая после свадьбы должна была носить тот же титул, что и он сам, — герцогини де Чинчон, а кроме того, брак с тобой должен был открыть ей доступ к высшим кругам королевского двора. Все совершилось, как ты помнишь, с необыкновенной быстротой. Сам я, с головой уйдя в суету и радостные переживания, связанные с моими успехами — его святейшество только что возвел меня в сан, — не сообразил в тот момент, что мою сестру попросту приносят в жертву во имя неких сомнительных государственных интересов. И не обижайся, что я говорю о жертвоприношении, дорогой Мануэль, это вовсе не для того, чтобы тебя унизить, ведь ты, я думаю, в этом случае тоже стал жертвой наших варварских нравов.
Вам с Майте ни в коем случае не следовало жениться. Вы не были созданы друг для друга; да и выгоды от вашего брака не оправдали радужных надежд тех, кто его задумал. Правда, надо признать, что и сама Майте ни разу не заупрямилась, не попыталась изменить свою судьбу, которую ей, не спрашивая ее согласия, навязали. Ты, кстати, тоже принял безропотно весь этот замысел, а ей было куда труднее, чем тебе, не подчиниться ему, ведь ей тогда едва исполнилось шестнадцать лет, она еще не достигла ни умственной, ни нравственной, ни даже физической зрелости, стоит ли удивляться, что она пошла на этот брак если не с радостью, то со спокойным смирением, с которым всегда принимала волю родителей, и кто знает, возможно, она даже лелеяла какие-то надежды, связанные с изменением ее положения, с ожидавшими ее почестями. Помню, в те недели мы с ней оба позировали для маэстро Гойи, для нашего дона Франсиско, я — в пышном облачении кардинала, а она — я бы сказал — наряженная взрослой женщиной, какой ей еще предстояло стать, оба мы гордые, светящиеся радостью в предчувствии близкого блестящего будущего, теперь уже раздельного, но все равно блестящего. Есть однако нечто, что потом всегда меня поражало, когда я смотрел на эти два портрета: постепенно я начал угадывать такую неуверенность в наших глазах и позах, такое удивительное отсутствие твердости, что мне стала открываться правда, в которой было нелегко признаться, — на самом деле мы вовсе не обманывались относительно нашего будущего, в нас не было той веры, которую мы хотели бы иметь и убедить в ней других; мы были просто детьми, со страхом входившими в большой мир, где меня ожидало мое высокое религиозное призвание, а она должна была стать придворной дамой. Господь пожелал, чтобы я смог наилучшим образом исполнить ниспосланное мне дело. Но только до определенного момента. Несчастье, обрушившееся на мою сестру, стало и моей Голгофой. Вот так, по воле других людей и с нашего согласия мы навсегда покинули наш рай.
Как священник я знаю, насколько трудно разобраться в интимной жизни супружеской пары. Вот и Майте искала во мне опоры и утешения, когда поняла несостоятельность своего брака, но при этом никогда не была со мной до конца откровенной. Я всегда полагал, что ее первое столкновение с реальной супружеской жизнью окажется для нее ошеломляюще грубым и жестоким. Она не была подготовлена к этому ни инстинктом, ни заботливыми подругами, советы которых так важны при пробуждении девической чувственности. Я понял все это сразу же, когда после вашей свадьбы впервые посетил твой дом. Что-то в ней надломилось. Взгляд стал робким и грустным, походка неровной, качающейся, голос тихим, глухим, бесцветным. Что-то в ней разладилось, умерло.
Вместо того чтобы расцвести красотой зрелой женщины, Майте закрылась, как цветок, и увяла. Видно, первая встреча с жизнью напугала ее навсегда. Не знаю, дорогой Мануэль, каковы были твои интимные отношения с ней, но иногда я думаю, что ее сломала ее собственная безудержная страстность, необузданная животная чувственность, — которую она в себе раньше не подозревала и которую, мне кажется, именно ты разбудил в ней, а она стыдилась ее, чувствовала себя униженной и виноватой. Не знаю, не знаю. Одно ясно: с тобой в ее жизнь вторглись власть и зависимость, королевский двор, демоны и плоть. Но ты был не способен дать ей любовь, которая стоила бы спасения души, ведь правда? Так что у нее не осталось иного выхода, кроме как бежать, бежать в себя самое, в свое внутреннее море тишины, воспоминаний, и еще до того, как уехать из Испании, она, к нашему ужасу, в нем окончательно утонула.
Итак, сначала это были отвращение и страх, потом настала пора материнства; природа с ее неумолимыми требованиями и на этот раз предложила ей слишком жестокое испытание. Беременность протекала тяжело, с осложнениями, роды едва не стоили ей жизни, и в довершение всего — обескураживающее равнодушие к родившейся девочке. Ведь дочь была дитя не любви, а жертвоприношения, если позволишь мне так выразиться, чтобы еще раз напомнить о том, что ваш брак был для Майте жертвой. А может быть, и дитя стыда, если иметь в виду обуревавшие Майте желания, которые мне так трудно примирить с жившим в моем сознании образом девочки из Аренас. Бедная Карлота! Ты же знаешь, она росла без матери, вот откуда ее требовательность, деспотичность, вечная неудовлетворенность. Даже сейчас, при последнем прощании с матерью, она должна чувствовать себя главной, хотя Майте при жизни никогда не относилась к ней как к дочери, никогда не любила ее. Рождение Карлоты открыло для Майте второй круг ада, в который она начала опускаться после замужества. Портрет, написанный Франсиско Гойей во время ее беременности, — я заказал его, еще не догадываясь о величине постигшей ее катастрофы, — изображает Майте оцепеневшей во власти терзавшего ее тогда страха, от которого она тщетно пыталась освободиться, возвращаясь со мной к играм нашего детства. Мы тогда уже не жили постоянно в Аренас-де-Сан-Педро. Мне к тому времени исполнилось двадцать три года, и я уже стал архиепископом Толедским, а ей было двадцать, она готовилась подарить Князю мира его первого отпрыска, и в ней зрела трагедия. Зрели черные мысли о безнадежно разбитой жизни. Я и сам, как ни искал поддержки в вере и пастырских трудах, не мог ни на минуту забыть смертельную тоску, наполнявшую глаза Майте. Она мне рассказала все гораздо позднее, когда вспоминала о кошмаре родовых схваток. В самые тяжелые минуты, когда боль становилась невыносимой, она видела тебя в облике дьявола: именно ты насылал на нее эти страдания. Да, Мануэль, в ее воображении ты вдруг менялся, менялось все твое существо, — и ты вдруг превращался в Люцифера. Начиная с этого времени в глубине ее души из хаоса обид, страха и озлобления стало вырастать бесформенное, но ясно различимое, какое-то бредовое, но вполне осязаемое чудовище — жажда мести. Это был единственный ответ на все, что с ней случилось, который она нашла; она осознавала, как глубоко ранена, понимала, что будущее не сулит ей ничего хорошего, но при этом ей нравилось страдать, она наслаждалась страданием, могла бы жить так и дальше, упиваясь им, но все-таки переломила себя и предпочла ему месть. Она еще не знала, как отомстит. У нее начались галлюцинации, ее преследовали видения твоих мучений, твоей смерти. Но как бы она ни представляла твой конец — на поле битвы, от лихорадки, от падения с вздыбленного коня, — все ей казалось мало, смерть получалась слишком легкой. Она предпочитала увидеть тебя четвертованным, повешенным, сожженным. Нo и этого было недостаточно для ее ненависти. Она не понимала, что ей не хватает самого главного, что никто другой, только она сама должна совершить акт мести. Только так можно было получить удовлетворение, восстановить порядок, гармонию и справедливость в этом мире, только так и не иначе можно было вернуться в наш идиллический сад, снова ловить там со мной бабочек и обсуждать, куда поместить га в нашей коллекции. Все это я осознал уже потом, уже слишком поздно. Если бы я был по-догадливей, то непременно предупредил бы тебя, может быть, это и помогло бы чему-нибудь. По крайней мере вы могли бы расстаться на восемь лет раньше, задолго до твоего падения и изгнания, и тем самым избежать худшего. Потому что худшее случилось. Собственно, как раз о нем я и пишу это письмо.
Ты помнишь тот последний праздник, который устроила Каэтана накануне своей смерти? Мы оба были на нем и неожиданная и такая странная смерть Каэтаны, думаю, навсегда запечатлелась у нас в памяти, но сейчас я буду рассказывать тебе о тех событиях так, как их пережила Майте и как несколько лет спустя она их вспоминала. Постараюсь не отвлекаться на посторонние детали. Майте, как ты, конечно, помнишь, приехала во дворец Буэнависта вместе со мной, полагая, что ты в это время находишься в Лa-Гранхе, но, едва войдя в зал, мы увидели среди приглашенных и тебя, и Пепиту. Это был первый удар для Майте. Она всегда говорила, что не испытывает ревности к Пепите и не желает ей зла, скорее даже сочувствует ей, считая ее другой твоей жертвой. Однако, увидев вас вместе, она подумала, что это ловушка, которую ты, Каэтана и Пепита подготовили ей, чтобы оскорбить ее, публично выставить на смех, поиздеваться. К тому времени она уже была одержима идеей, что является предметом постоянных насмешек для всех, и в первую очередь для тебя, и что именно ты ради каких-то своих целей настраиваешь всех против нее. Вот почему она никогда не приписывала твои ошибки легкомыслию или случайным промахам, а всегда видела в них только желание досадить ей, выставить ее на посмешище, всегда находила в них злокозненную интригу. Да, плохо начался для Майте тот вечер у Каэтаны. Неожиданная встреча выбила ее из колеи, ей стало казаться, что все смотрят на нее с издевкой или жалостью, что ей приготовлены и другие, еще более неприятные сюрпризы. Она подумала, что ты неспроста говоришь о чем-то наедине с Каэтаной (ей было известно, что ты тайно встречаешься с герцогиней: она установила за тобой слежку), она улавливала перешептывание, смешки — и все принимала на свой счет. Твое коварство не имело границ: она ярко представляла, как ты подробно рассказываешь всем о ваших интимных отношениях, о ее несостоятельности как матери и хозяйки дома; фантазии у нее удивительным образом уживались с достаточно ясным восприятием реального мира, поэтому ее поведение ни у кого не вызывало подозрения или тревоги; на самом же деле малейшая деталь могла возбудить ее больное воображение и привести в состояние крайнего возбуждения, но так как она ни с кем не была откровенной и ни с кем не конфликтовала, никто ничего не замечал, и ее подозрения быстро набирали силу и стремительно росли как бы в пустоте, пока не принимали окончательную форму и делались крепкими, как прутья железной решетки, замыкавшие ее внутреннюю тюрьму, в которой она и жила и из которой тайно и безуспешно пыталась бороться со своим унижением.
Позднее, во время ужина, Каэтана шутила по поводу поджогов дворца Буэнависта и обсуждала, кто из присутствующих мог бы быть поджигателем. В ее рискованной шутке задевались сама королева, ты, Осуна и весь народ — всех вас упоминали как возможных злодеев, подпаливающих дворец смоляным факелом. Майте тоже хотела говорить, тоже хотела участвовать в игре, подхватить шутку о возможных поджигателях. «Твое платке слишком уж нарядное, — включилась она в разговор, обращаясь к Каэтане своим слабым, бесцветным голосом. — А кстати, тебе не сказали, что меня видели накануне вечером на Прадо? Что я ехала в моей коляске с зажженным факелом?» Как всегда, желая быть ироничной, она слишком медлила, прежде чем вступить в разговор, ей не хватало остроты, поэтому она не могла удержать внимание присутствующих. Вот и на этот раз никто не обратил внимания на ее шутку, фраза упала в пустоту, Каэтана отделалась какими-то пустыми словами, было ясно, что она пропустила замечание Майте мимо ушей. А та снова почувствовала себя отвергнутой, лишней. Ее не замечали за этим столом, она была ничем, с ней не считались даже как с врагом. Она едва не ушла, ведь даже соседи по столу не смотрели в ее сторону, и это лишний раз подтверждало ужасное подозрение: она просто не существует для них, а если и существует, то лишь как предмет насмешек.
А потом была та прогулка по дворцу, остановка в мастерской Гойи, странная выходка Каэтаны по поводу ядовитой краски. И все это время Майте не могла думать ни о чем другом, кроме как о своей мести; пусть не сейчас, пусть потом, но она непременно отомстит; ее фантазия рисовала вполне конкретные сцены: вот ты споткнулся и катишься кубарем по мраморной лестнице, и вот твое похожее на разодранную тряпичную куклу тело безжизненно распростерлось внизу; картина была такой яркой, что у нее закружилась голова и пришлось ухватиться за перила; а вот огни светильников сливаются вдруг в огромное пламя, в котором под вой исчезающих демонов сгорает твоя черная душа; тут ее начало тошнить от запаха масла в горящих светильниках, так что пришлось прикрыть лицо надушенным платком. А слова Каэтаны о ядах откликнулись в ее воображении пугающе реалистичной картиной: ты корчишься на полу в страшной агонии, тщетно взывая о помощи, но люди вокруг неподвижны, как статуи, они смотрят на тебя с безразличием или презрением. Все так просто, объяснила Каэтана: достаточно понюхать или коснуться кончиком языка этого изумрудно-зеленого порошка; или достаточно, подумала Майте, смешать его с нюхательным табаком или посыпать им салат, растворить в воде, которую пьют перед сном. Эти мысли привели ее в восторг. Наконец-то она сможет увидеть тебя мертвым! Наконец-то исполнится мечта! Бог услышал ее молитвы, теперь она сможет прожить спокойно остаток жизни, сможет забыть тебя. Тут она потеряла сознание.
А когда она снова пришла в себя, то увидела рядом меня, никто уже не говорил о ядах, потом она увидела и тебя, ты был в облике обычного человека, ничего дьявольского. С ней такое случилось не впервые, она часто впадала в транс, потом приходила в себя, возвращалась к реальной жизни, но ненадолго. Мы с ней вышли на какое-то время, к ней уже вернулись силы; в дверях зеркального зала нам встретился возвращавшийся откуда-то Франсиско. И тут дьявол заманил ее в другую ловушку. Она на минуту отвела взгляд — и увидела в зеркале тебя и Каэтану, вы стояли в густой тени коридора. Стояли обнявшись и, мне кажется, целовались и что-то горячо обсуждали шепотом, как заговорщики или влюбленные, а потом скользнули в комнату и осторожно закрыли за собой дверь. Но в последний момент глаза Майте на миг встретились с глазами Каэтаны, и в высокомерном взгляде герцогини ей снова почудилось презрение. Она покачнулась и, чтобы не упасть, схватила меня за руку. Мы вышли. Минута возвращения к реальности закончилась.
Когда капеллан Каэтаны предложил нам посмотреть часовню и я согласился, Майте отказалась под предлогом, что ей хочется отдохнуть и дождаться музыкантов. Я усадил ее среди гостей, а сам отправился с капелланом. И на этот раз я не смог угадать, какая буря ревности и ненависти бушует в этой милой и такой дорогой для меня головке. Майте не стала долго ждать. Около нее сидел Фернандо, мы никогда не были его друзьями, нас отталкивала его жестокость и двуличие, которым он отличался с детства, но вместе с тем мы были близкими родственниками и в каком-то смысле могли довериться ему. Она сказала ему, что вернется через минуту, что боится снова почувствовать себя плохо и помешать музыкантам. Фернандо вновь предложил ей свой флакон с солями. Она согласилась, поймала его на лету и вышла. Пересекла пустой вестибюль, поднялась по лестнице, слабо освещенной несколькими светильниками, прошла по галереям и салонам, где со страхом ловила свое отражение, мелькавшее со всех сторон в зеркалах и стеклах, но не повернула назад, ее будто влек магнит, она неуклонно двигалась в направлении покоев Каэтаны. Проходя мимо мастерской Франсиско, дверь в которую была открыта, видела самого художника, он рисовал что-то, стоя спиной к залу. Миновав мастерскую, она скользнула в темный коридор, держась за стены, ощупью добралась до закрытой двери, перед которой недавно видела вас обоих, и прильнула к ней ухом.
Сначала она не поняла, о чем вы разговаривали, — что-то о письме, о Наполеоне, еще что-то непонятное. Но вот вы заговорили о вине, о бокале и тосте, а потом настало молчание, и она тут же представила, что там у вас происходит, ее душило отчаяние, она слышала ваш смех и была уверена, что вы смеетесь над ней, ненависть захлестнула ее, жгучее желание уничтожить тебя… и в этот момент что-то случилось, какой-то шум, что-то глухо стукнуло у ее ног (она не поняла, что это было), у вас в комнате тут же все смолкло, ее бросило в холодный пот — сейчас ее обнаружат! — и она побежала. Зеркальный зал, казалось, никогда не кончится. Она не успеет пробежать его, если кто-нибудь из вас сейчас выглянет, ее увидят, и в этот момент она поравнялась с открытой дверью мастерской Гойи — и юркнула в нее. Франсиско по-прежнему стоял спиной к двери и ничего не заметил. Послышался шум шагов в проходе. Она поняла, что это ты, — и замерла затаив дыхание. И пока ты стоял рядом, не заглядывая в мастерскую, она едва не умерла от страха… но нет, слава Богу, ей удалось обмануть тебя: шаги удалялись, дверь бесшумно, но плотно закрылась. А она все стояла в мастерской, медленно переводя дыхание, медленно приходя в себя; чувство облегчения смешалось в ней с вновь вспыхнувшей обжигающей ненавистью к тебе, она вся дрожала от возбуждения — маленькая несчастная Немезида в бледно-розовом платье с острым потерянным личиком выпавшего из гнезда птенца. Гойя по-прежнему не замечал ее присутствия, а она смотрела на флакон с зеленой краской, стоявший на столе на расстоянии вытянутой руки, тот самый, из-за которого всего полчаса назад разыгралась бурная сцена между Каэтаной и Гойей. Сказанные тогда слова еще звучали у нее в ушах, их зловещий смысл вдруг поразил ее, голова пошла кругом: смертельный яд! Дьявол ловко разыграл свои карты.
Она снова открыла дверь и остановилась в проеме, держа в руках, как дароносицу, банку с ядом. Прислушалась. Все было тихо. Вы с Каэтаной, наверное, уже закрылись в алькове. Но ведь ты собирался выпить потом вино из того красивого бокала, да, ты обещал это. Ей оставалось только войти в комнату Каэтаны и высыпать немного порошка в бокал, который должен стоять на туалетном столе. А вы, конечно, будете слишком заняты, чтобы услышать ее. Легкими, крадущимися шагами, будто ловила в саду бабочек, Майте вошла в комнату и сразу же увидела бокал. Как он был красив! Как ярко сверкал в свете канделябра! Словно золотисто-голубая бабочка! Она подсыпала в вино яду. Как тихо вокруг. Так тихо бывало, когда она подкрадывалась к бабочкам. Зеленый порошок плавал на поверхности жидкости. Она размешала его серебряным крестиком с бриллиантами, который носила на шее, это был мой свадебный подарок. Затем вытерла крест о бахрому шали, брошенной у туалетного стола. И так же тихо, как вошла, вышла из комнаты. Она все-таки поймала бабочку! Какое счастье!
Могу представить, как она, не видя ничего вокруг, шла обратно через зеркальный зал, как стекла и зеркала отражали и множили ее светящееся сдерживаемой радостью лицо; в галерее она открыла окно, ночной свежий воздух вывел ее из транса, она спохватилась, что надо отделаться от яда, и тут же выбросила банку во двор. Донесся глухой стук. Она спустилась на первый этаж. Снова села на свое место среди гостей. Трио заканчивало дивертисмент. Она увидела Фернандо и вспомнила о флаконе с солями. Надо было вернуть его, но он куда-то делся. Где она могла потерять его? Фернандо, конечно, будет недоволен, ведь это такая ценная вещь. Ее опять охватило уныние. Музыканты кончили играть, раздались аплодисменты. Гости^ заговорили. Фернандо пока не спрашивал о флаконе. Ей захотелось, чтобы я был рядом и как-то помог ей. Но я ушел осматривать часовню, а у нее уже не было сил идти во второй раз по пустому темному дворцу, хотя ей хотелось бы зайти в молельню, помолиться там, попросить помощи, поддержки, просветления. Она взяла в правую руку распятие, прижала его к груди и начала молиться. На нее стали обращать внимание. Но, слава Богу, равнодушие было сильнее любопытства. А возможно, что видя ее с прижатой к груди головой и опущенными глазами, гости просто думали, что она еще не вполне оправилась от приступа. Музыканты снова заиграли. Она вздохнула с облегчением. Это означало передышку. Теперь у нее было время спокойно дождаться моего возвращения; когда я подойду к ней и возьму за руки, к ней опять вернутся силы. Так будет легче дожидаться, когда ты там, наверху, выйдешь из алькова, возьмешь бокал и выпьешь его содержимое. Она видела, как это происходит. Ты появляешься босой, полураздетый, подходишь к туалетному столу, протягиваешь руку, поднимаешь бокал и, произнеся тост, делаешь большой глоток… Бокал падает на пол и рассыпается мелкими осколками, и вот уже слышен протяжный стон. Но это застонала поперечная флейта, выводя драматическую мелодию сарабанды. Появилась Каэтана, глаза ее блестели ярче обычного, небрежной походкой она прошла мимо Майте, не взглянув на нее, и села на полу около музыкантов, облокотившись о подушку, чтобы дослушать финал пьесы. Так что же произошло наверху? Она оставила тебя там одного и ты как раз в эту минуту собираешься пить из бокала вино, а может быть, Каэтана бросила тебя, скорчившегося от боли, на диване около туалетного столика? Однако не слышно было никаких криков. Хотя известно, что испускаемый при агонии крик должен быть достаточно сильным, чтобы пересечь все залы, галереи и коридоры, спуститься по лестнице и достичь слуха того, кто ожидает его с надеждой и страхом. Но никакие предсмертные крики не долетали до гостиной. А вместо них послышались громкие оживленные мужские голоса в вестибюле, она обернулась — и увидела тебя и меня, мы входили в дверь вместе с капелланом. Гости зааплодировали, встали с мест и окружили музыкантов. Она следила за тобой сквозь опущенные ресницы, видела, как ты подошел к Фернандо и вернул ему флакон с солями. В какой-то момент ей показалось, что она уловила твою мимолетную улыбку и что Каэтана, все еще сидевшая на полу, тоже чему-то незаметно улыбнулась. Опять все смеялись над нею, потешались над этим ничтожеством. Не помог даже яд, подсыпанный в бокал с вином. Ты, как всегда, переиграл ее. Взял — и не выпил вино. Не в силах сдержаться, она застонала. Я тут же поспешил на помощь, но ты был ближе и опередил меня. Ты предложил отвезти ее домой, и я не мог ничего придумать, чтобы помешать тебе. А что касается ее, то она, ты знаешь, никогда не умела возражать тебе. А потом ведь покорность — тоже вид мщения. Я знаю, что вы возвращались в молчании. Она все время ждала, что ты скажешь что-нибудь о яде, она хотела этого. Но ты молчал — и это было хуже всего, значит, ты не знал, что она оказалась способной подняться против тебя, нанести удар, ответить на твою жестокость той же монетой и даже превзойти тебя, решившись причинить тебе смертельный вред. Никогда раньше она не ненавидела тебя так сильно, как в эти минуты. За то, что ты остался жив.
На следующий день она узнала о смерти Каэтаны. И сразу поняла, что произошло. Случилось то, что ни разу не пришло ей в голову. Яд был предназначен тебе. Так зачем же Господь смешал все ее расчеты? Она впала в нервную прострацию и не смогла пойти на похороны — это, правда, никому не показалось странным, ведь все последнее время она находилась в угнетенном состоянии; но она к тому же боялась, что вдруг начнет бредить и выдаст себя. Ее акт мести неисповедимым велением судьбы превратился в преступление.
Нет нужды говорить, что ничто из рассказанного здесь я не узнал на исповеди. Просто два года спустя после этих событий она вдруг сама мне обо всем поведала. Однажды жарким летним днем она, исхудавшая и бледная, явилась ко мне в Толедо, где находилась моя архиепископская резиденция, и сказала, что ей надо отдохнуть от ребенка и домашних забот, что она хотела бы провести у меня неделю или две, а может быть, и три, словом столько, сколько я вытерплю. Я сразу почувствовал, что ей нужно нечто большее, чем просто мое общество, но удержался от вопросов и замечаний. Решил дождаться, пока она сама все не объяснит. Она же несколько дней бродила бесцельно по Толедо, заглядывала в монастыри, любовалась мостами, изнемогала под палящими лучами солнца или укрывалась от него в прохладных галереях архиепископата, по которым без видимой цели проходила загадочной тенью, молчаливая и легкая, как те бабочки, которых мы ловили в детстве. Но Л HS собирался торопить ее, я ждал, когда она свыкнется с новым местом, успокоится и сама придет ко мне, я знал, что в конце концов она сделает именно так. И вот как-то в жаркий полдень, когда я отдыхал в тени старой оливы, она медленно, очень медленно, будто во сне, опустилась около меня и, положив руку мне на колено, начала так же медленно говорить; не снимая руки с моего колена, она рассказывала свою историю, будто продолжая начатый давным-давно разговор, будто то, о чем она говорила, не относилось ни к какому определенному времени. Она рассказала мне все. И все было очень странно. Она нисколько не раскаивалась. Не осознавала свою вину и ответственность. По-прежнему считала, что это ты виновен во всем. И в ее страданиях, ее болезнях и, разумеется, во всем, что произошло той ночью. Но ей было невмоготу нести одной груз этой тайны. Она знала, что я разделю его с ней, помогу, как всегда помогал ей в детстве, когда, не в силах справиться со своими секретами, мы усаживались в тени вяза или в укромном уголке на чердаке, чтобы, поклявшись в молчании, выслушать какую-нибудь страшную — и такую невинную — тайну, что-нибудь о порванном сачке для ловли бабочек, из-за чего пришлось молить святых о даровании нового сачка, или об отбитых пальцах у фарфоровой куклы, или о комедии, написанной к именинам отца. И точно так же, придавая своему рассказу не больше значения, чем отбитым пальцам фарфоровой куклы, она поведала мне о том, как умерла Каэтана. Я понял, что Майте лишилась рассудка. — Ее повествование, казалось, не имело начала, точнее, оно терялось где-то в глубине времен или в нашем детстве в Аренас-де-Сан-Педро, и наше детство тоже казалось мне бесконечным, оно длилось, не иссякая, заполняя также наши дни и ночи в Толедо, — нашу такую близкую к смерти молодость; мне в то время исполнилось уже двадцать семь лет, ей — двадцать четыре, но ей теперь до конца жизни не оставалось ничего иного, как рассказывать свою историю, а мне — слушать ее, ей — дрожать от страха, а мне — успокаивать, ей — приходить в отчаяние, мне — утешать, отныне она будет вот так же сидеть у моих ног, а ее рука — покоиться на моем колене или трепетать в моей руке. Так прошло много месяцев, не помню уже сколько, и ее рассказ все тек, не прерываясь, как бесконечный ручей, в который вливались и мои молитвы. У меня тогда было очень много работы с паствой. Но эта работа проходила как бы в другом, иллюзорном времени, была просто передышкой или паузой в течении истинного времени, отмеряющего течение ее бесконечного рассказа.
Когда четыре года спустя ты уехал из Испании, она, не сказав мне ни слова, собрала свои вещи и окончательно переехала жить со мной. На этот раз она привезла с собой и девочку, которая уже подросла и скрашивала наш досуг своими милыми проказами, но Майте строго следила за тем, чтобы, как только вечерело, няньки уводили Карлоту, после этого она сама усаживалась у моих ног и без помех продолжала свой рассказ. И смотри, какая странность: она в эти годы больше ничего не хотела знать о тебе, не отвечала на твои письма, с отвращением отказывалась слушать те, которые ты писал мне, резко обрывала всех, кто спрашивал что-нибудь о тебе; но так бывало днем, а когда наступал вечер, ты становился единственной темой разговора, она погружалась ad infinitum в воспоминания о вашей супружеской жизни. Воспоминания, конечно, доходили только до того дня 22 июля, из которого, похоже, сами демоны черпали череду ярких, отшлифованных во всех деталях, ужасных и опасных образов: поцелуй в зеркале, яд на столе Гойи, бокал на туалетном столе, серебряный крест с бриллиантами, размешивающий порошок в вине… И еще одна картина, воображаемая: Каэтана, ничего не подозревая, пьет вино у себя в спальне.
Прошло время. Я принял на себя политические обязанности, которые отдалили меня от Толедо и от нее, хотя мне не удалось избавиться от воспоминаний о ней. Я был в Кадисе с кортесами, занимался в Мадриде делами регентства, принимал в Валенсии того, кого народ назвал Желанным. В 1814 году король выслал меня в Толедо, где я вновь встретил, ее; она очень изменилась — с головой ушла в молитвы и варенья; теперь это была грузная, светившаяся довольством женщина с моложавым лицом, несколько глуповатая, потому что говорила только о том, как она молится и ест, о Боге и пирожных, не слишком отделяя одно от другого. Моя ссылка в Толедо длилась шесть долгих, тоскливых лет; и страдал я там не столько от того, что решением суверена, утратившего ко мне доверие, был отлучен от политики, сколько из-за тяжелого чувства, которое возбуждала во мне эта новая Майте, ловившая раньше любой случай, чтобы остаться со мной наедине, а теперь занятая лишь поглощением сластей вопреки запретам ее врача. Теперь она почти никогда не говорила о прошлом. А если и говорила, то ограничивалась холодными, сухими, безличными замечаниями, как человек, которому достаточно бросить два-три слова о хорошо известном деле, не заслуживающем ни особого внимания, ни переживаний. Все это, полагал я, было знаком ее частичного выздоровления от помешательства, но выход из помраченного состояния не был ни прямым, ни безболезненным. В сущности, ей просто удалось избежать худшего и выжить. И вот — «Отче наш» и марципаны. Да простит мне Бог мою непочтительность, но я просто хочу нарисовать тебе как можно более правдивую картину.
Три года назад, когда к власти опять пришли либералы, я тоже вернулся к политической деятельности в качестве президента хунты нашей провинции. И мне снова пришлось отдалиться от Майте. Она осталась в Толедо, но теперь она жила с Карлотой, с мужем Карлоты, итальянцем, и внуками, наполнившими ее жизнь новым смыслом; было просто удивительно видеть это позднее пробуждение материнского инстинкта в женщине, ранее совершенно равнодушной к своей собственной дочери. В общем, в ней уже не осталось ничего ни от той девочки из Аренаса, дожидавшейся, когда я завершу мое религиозное образование, ни от бледной, дрожащей от испуга женщины, приехавшей двадцать лет тому назад в Толедо. А ведь это, напоминал я себе, жизнь одного человека, ее жизнь со всеми ее страданиями и муками, с бурями, бушующими в глубине ее души, как в глубине тихого омута. Да, и вот еще что: теперь она растолстела сверх всякой меры, врачи уже отчаялись привести ее в норму, они говорят, что она больше доверяет своим вредным привычкам, чем медицине, и оставляют ей лишь несколько лет жизни.
И тем не менее она переживет меня. Мне уже приходит конец, Мануэль. Посмотри на мою жизнь. Добавь к тому, что я слаб от рождения, все те невзгоды, что мне довелось пережить вместе со страной в течение пятнадцати лет военных нашествий, братоубийственных раздоров, несбывшихся надежд, провалившихся планов, невыполненных начинаний, брошенных дел; и главное, добавь к этому страдания Майте, которые ведь были и моими страданиями, и все это время не оставляли меня ни на мгновение, потому что, когда я терял ее — сначала в ее браке с тобой, а затем в ее помешательстве, — это каждый раз было для меня ничем не восполнимой потерей, и знаешь, сейчас я даже с умилением и тоской вспоминаю давние вечера в Толедо, когда она устраивалась у моих ног, брала меня за руку и, положив голову мне на колени, начинала бесконечный рассказ о своей трагедии. Я — чувствовал — нет, чувствую — ее как часть самого меня.
Ты помнишь этот капричо Гойи, который он назвал «Волаверунт»? Женщина поднимается в воздух, надо лбом, в ее волосах, большая бабочка, словно лучистая звезда, а внизу свора монстров вцепилась ей в ноги. Каждый раз, когда я вижу эту картину, я думаю о душе Майте, которую увлекало в полет легкое порхание бабочек ее детства, мягкая и нежная тайна нашей совместной юности, но она, как ни старалась оторваться от земли, так никогда и не смогла взлететь: ее полет прервали монстры — светская жизнь, демон, плоть, все, что ты невольно привнес в ее жизнь.
Еще раз хочу сказать тебе, Мануэль: это не обвинение. Но у меня болит сердце и оттого, что ты пренебрег Майте, и от ее страданий, ее крестного пути. Я не мог не написать тебе. Теперь я кончаю. Мне нелегко далось это письмо. Возможно, оно еще более сократило мою жизнь. Мне надо собраться с силами. Я прошу Господа, чтобы он поскорее взял меня к себе, лучше всего, прямо этой ночью. Я уйду с Майте: не с теперешней, но с Майте воспоминаний, не с той, в которую вцепились монстры, а с той, которая с бабочками.
Да хранит тебя Бог, Мануэль. Твой шурин (который хотел бы никогда не быть им).
Конец эпилога.
Прошло двадцать лет после того, как я получил это письмо. Мало-помалу я свыкся с ним, неторопливо и тщательно с ним рассчитался моим собственным рассказом о той ночи 22 июля 1802 года. В конечном счете моя ошибка родилась из чисто случайной путаницы: флакон с солями — чего я не знал — принц одолжил Майте, и одна эта незначительная деталь перечеркнула то, в чем я был уверен в течение тридцати лет, сняла вину с принца и лишила меня славы разоблачителя, которую я мог бы обрести перед лицом истории, хотя никогда не воспользовался этой возможностью. Но главное состоит в том, что письмо Луиса открыло мне мое ужасное невежество не в отношении того, у кого был или не был флакон с солями, но в отношении Майте, в отношении того, что скрывалось за ее молчанием. Где же начинаются преступления в этой дьявольской истории?
При одном из моих переездов в новый дом куда-то затерялся рисунок махи, сделанный Гойей, и бокал, в котором был яд. Я никогда не видел гравюру, о которой говорили мне он сам и Луис, — «Волаверунт». Смог бы я уловить в ней какой-то особый смысл? Я уже подзабыл латынь. Не знаю даже, что значит это слово — «Волаверунт».
Париж, 1848
Литературно-художественное издание
АНТОНИО ЛАРРЕТА
КТО УБИЛ ГЕРЦОГИНЮ АЛЬБА, ИЛИ ВОЛАВЕРУНТ
Ответственный редактор Александр Гузман
Редактор Александр Ильин
Художественный редактор Валерий Гореликов
Технический редактор Мария Антипова
Корректоры Татьяна Бородулина, Екатерина Думова
Верстка Антона Вальского
Директор издательства Максим Крютченко
Подписано в печать 29.09.2004. Формат издания 75Х1001/32- Печать высокая.
Гарнитура «Петербург», Тираж 4000 экз. Усл. печ. л. 12,51. Изд. № 662. Заказ № 784.
Издательство «Азбука-классика». 196105, Санкт-Петербург, а/я 192.
Отпечатано с фотоформ в ФГУП «Печатный двор» Министерства РФ по делам печати, телерадиовещания и средств массовых коммуникаций. 197110, Санкт-Петербург, Чкаловский пр., 15.
Санкт-Петербург Издательство „Азбука-классика“ 2004
Antonio Larreta Volaverunt
Copyright © 1980 by Antonio Larreta
Перевод с испанского Ю. Ванникова
Оформление серии Вадима Пожидаева
Ларрета А.
Л 25 Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт: Роман / Пер. с исп. Ю. Ванникова. — СПб.: Азбука-классика, 2004. — 288 с.
ISBN 5-352-00662-Х
УДК 82/89 ББК84.7У Л 25
© Ю. Ванников, перевод, 2004 © „Азбука-классика“, 2004
Антонио Ларрета — видный латиноамериканский писатель, родился в 1922 г. в Монтевидео. Жил в Уругвае, Аргентине, Испании, работал актером и постановщиком в театре, кино и на телевидении, изучал историю Испании. Не случайно именно ему было предложено написать киносценарий для экранизации романа Артуро Переса-Реверте „Учитель фехтования“. В 1980 г. писатель стал лауреатом престижной испанской литературной премии „Планета“ за роман „Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт“.
Примечания
1
Имеются в виду студенческие волнения во французской столице в мае 1968 года. (Здесь и далее подстрочные примечания переводчика, кроме с. 20.(занумерованы примечания автора, расположенные в книге в конце каждой главы. Прим. верстальщика fb2-файла.))
(обратно)2
Ошибки свойственны людям (лат.).
(обратно)3
Альфонс XIII — король Испании в 1902–1931 гг. В результате начавшейся в 1931 г. революции был изгнан из страны, жил во Франции, затем в Италии. Умер в 1941 г.
(обратно)4
Petite histoire — рассказ, история (фр.).
(обратно)5
1 "Критические и апологетические мемуары", относящиеся к истории правления сеньора Карла IV Бурбона, действительно были опубликованы Годоем между 1836-м и 1842 годами (в первоначальном — испанском — издании они состояли из шести томов). Дон Мануэль датирует свое "Предуведомление для читателя" 1848 годом, из чего можно заключить, что этот новый "Мемуар" — названный кратким лишь применительно к представлениям о размере произведений этого жанра, свойственным барокко, — был написан между началом 1847 года (для Годоя это и был его "порог восьмого десятка"," поскольку он родился в 1767 году) и 1848 годом.
(обратно)6
2 "Мемуары" Годоя завершаются 1808 годом, доходя до событий при Байонне[130] или даже захватывая несколько месяцев после ее падения. Автор не сообщает никаких сведений о смерти герцогини и вообще ни разу не упоминает саму герцогиню, таким образом полностью игнорируя влияние, которое столь известная, деятельная и отважная личность оказывала на общественную жизнь Испании Карла IV, притом что ее необычная женственность, любезность и страстность натуры уже обеспечивали ей место в светской хронике и в хронике уголовной. Или в истории искусства, всегда фатально связанной с хроникой преступлений.
(обратно)7
3 Действительно, в 1848 году из лиц, имевших то или иное отношение к смерти герцогини, в живых оставались только Годой, умерший три года спустя, и Пепита Тудо, которая скончалась лишь в 1868 году.
(обратно)8
4 Этот чрезмерно витиеватый, перегруженный и напыщенный стиль еще в большей степени, чем Годою, был присущ аббату Сицилии, тому самому, кому, по рекомендации Мартинеса де ла Росы, поручили окончательное редактирование "Мемуаров"; Сицилия, несомненно с целью продлить действие контракта и тем самым увеличить вознаграждение, коварно разбавлял текст водой. Достаточно напомнить, что Менендес-и-Пелайо[131], неукоснительный поборник языковой ортодоксии, квалифицировал испанский язык "Мемуаров" как "извращенный".
(обратно)9
5 У Годоя была только одна дочь, от герцогини де Чинчон, — Карлота, родившаяся в 1800 году (в знаменитом портрете Гойя обессмертил беременность ее матери) и вышедшая в 1820 году замуж за знаменитого итальянца — герцога Русполи, при этом сама она носила титул герцогини Шведской, который, по ходатайству ее дяди кардинала Луиса де Бурбона, разрешил ей оставить Фердинанд VII после того, как он лишил титулов Годоя. От незаконной связи с Пепитой Тудо Годой имел двух мальчиков: Мануэля и Карлоса, безвременно умершего в 1818 году в Пизе, где папская дипломатия обязала поселиться Пепиту, чтобы не скандализировать Рим ее внебрачным сожительством с Годоем. В 1848 году отпрыски другого сына, Мануэля, учились в Париже и жили со своим дедом в его доме на улице Нёв де Матюрен.
(обратно)10
6 Дон Мануэль вполне мог держать в памяти "Дона Альваро, или Силу судьбы" герцога де Риваса и перевести "силу судьбы" как "волю рока" — подобно тому, как при переводе на итальянский это сделал в своей опере Верди, но это произошло 14 лет спустя, следовательно, Годой не мог ее слышать. И по "воле рока" именно мы оказались теми, кому во исполнение последней воли дона Мануэля выпало отложить публикацию этого интересного документа вплоть до 1951 года, хотя мы имели возможность сделать это намного раньше[132]. И пусть мне будет дозволено добавить, что я не могу слышать "Дона Альваро" Верди — знаменитое начало дуэта во втором акте ("В этот торжественный час…"), где как раз дону Карлосу доверяют какие-то бумаги, не могу слышать этого, не вообразив, что это сам дон Мануэль разговаривает со мной или поет из загробного мира.
(обратно)11
1 После смерти Марии-Луизы в Риме и Карлоса IV в Неаполе в январе 1829 года Годой был вынужден покинуть дворец Барберини, где он жил до того вместе с ними, и укрыться на вилле Кампителли — просторном особняке, который он сам подарил когда-то Сокорро Тудо, сестре Пепиты, и где Сокорро и ее третья сестра, Магдалена, обосновались со своими семьями. Дети, игравшие за стенами того, что Годой называет "своими комнатами", составлявшими только часть виллы, могли быть только детьми Сокорро и Магдалены.
(обратно)12
2 Пр-видимому, было бы уместно освежить в памяти читателя, что происходило в Испании в 1824 году. После вторжения Ста Тысяч Сыновей Святого Луиса и казни Риего, совершенной за год до этого, реакция свирепствовала с невиданной силой. Сам Гойя, весьма важное лицо в этой истории, дошел до того, что стал уже опасаться за свою свободу. Между январем и апрелем 1824 года под нависшей угрозой возможных доносов он искал убежища в доме одного каноника, а в мае под предлогом лечения на целебных водах просил у короля разрешения выехать во Францию, в Пломбьер.
(обратно)13
3 Эти переговоры, в которых принимали участие испанский посол в Риме и ватиканское ведомство иностранных дел, увенчались успехом только через шесть лет, когда Годой, уже вдовец после смерти герцогини де Чинчон, женился на Пепите Тудой и обменял свой высоко ценимый и оспариваемый титул Князя мира на поместье Бассано близ Сутри, владельцу которого Папа Римский дал в свое время титул князя Римского, но за это поместье, помимо отказа от испанского титула, Годой должен был заплатить 70000 пиастров. Шурином Годоя был не кто иной, как кардинал Луис де Бурбон, архиепископ Толедский, который до самой своей смерти в 1823 году занимался по доверенности Годоя его тяжбами и исками; потом эта обязанность легла на плечи Карлоты, дочери Годоя, и она кончила тем, что сама судилась с отцом из-за денег.
(обратно)14
4 Моратин, Сильвела и генерал Герра действительно жили в Бордо в 1824 году, кроме них там жили и другие испанские эмигранты — Пио Молина, генерал Пастор, дон Дамасо де ла Торре, художник Бругада. Но в это время там, конечно, не могло быть Ириарте, который умер за десять лет до этого, в 1814 году, о чем Годой не знал в "4824 году или забыл в 1848-м.
(обратно)15
5 По пути из Испании Гойя проезжал через Бордо; пробыв два месяца в Париже, он действительно обосновался в Бордо в октябре того же года. До того как написать в ноябре письмо Годою, он уже обратился к Фердинанду VII с прошением продлить разрешение на проживание во Франции, опять-таки под предлогом воображаемого водолечения.
(обратно)16
6 Стало быть, Гойя нарисовал свое знаменитое "Еще учусь" сразу, как только приехал во Францию, в порыве энтузиазма, вызванном его первыми французскими открытиями: техникой литографии и гением самого Делакруа. До сих пор этот рисунок датировался весьма неопределенно, как относящийся к бордоскому периоду (1824–1828), но письмо Гойи рассеивает сомнения.
(обратно)17
7 Это место письма подтверждает то, что до сих пор было лишь wishful thinking[133] искусствоведов: Гойя не только видел полотна молодого Делакруа во время своего пребывания в Париже, которое совпадает с выставкой его великолепных "Scenes des Massacres de Scio" в Салоне 1824 года, но, кроме того, и познакомился с ним лично, был в его мастерской и воздал должное его мастерству.
(обратно)18
8 Годой действительно жил во дворце Барберини с того момента, как приехал с королями в Рим, и до самой их смерти. Его несколько загадочное упоминание о садах Тиволи, возможно, является не чем иным, как литературным оборотом или проявлением личного вкуса. Что касается титулов, то похоже, что Годой уже отказался от их употребления, хотя по-прежнему продолжает настаивать перед Фердинандом VII на своем праве пользоваться ими.
(обратно)19
9 Набросок, который Гойя послал Годою и который, несмотря на некоторые портретные отличия, так напоминает известный "Волаверунт", исчез, из чего можно допустить, что потерю копии довершило и уничтожение оригинала. Во всяком случае, невозможно установить, не является ли он одним из тех двух рисунков, которые в 1828 году, после смерти художника, были внесены в опись его имущества под номером 15 и идентифицированы как "Два капричос, эскизы". Можно считать, что интересующий нас рисунок действительно является одним из них; но можно также думать, что благодаря чьей-то заинтересованной руке он исчез или хранится до сего дня где-нибудь в укромном месте, вдали от внимания общественности и от каталогизаторов произведений Гойи.
(обратно)20
10 Это одна из наиболее очевидных ошибок в воспоминаниях — и кратких, и полных — дона Мануэля. Он не мог присутствовать в ноябре 1824 года в Риме на представлении "Лукреции Борджиа", потому что Доницетти еще не написал ее и впервые она была поставлена в миланской "La Scala" только в 1833 году. Либо Годой намеренно искажает действительность, либо он смешал две оперы со сходным содержанием, либо спутал постановку оперы в Риме с какой-то более поздней постановкой в "Opera de Paris", где, возможно, у него и возникла эта ассоциация стакана с ядом, порожденного фантазией Доницетти, с похожим стаканом его собственных воспоминаний.
(обратно)21
11 Сам Годой в своих "Мемуарах" дает понять, что почти все его книги и бумаги были конфискованы и впоследствии исчезли и лишь немногие из них смог спасти и вернуть ему Мюрат. Уничтожение и утаивание документов, вольное или невольное, характеризует вообще все, что касается жизни и смерти Каэтаны де Альба. Как будто потомки были заинтересованы стереть все, что о ней известно, и не оставить ничего, кроме загадочного лица на портретах и рисунках Гойи. Но даже и они не все смогли спастись от инквизиции, как мы показали в девятом пункте комментариев к этой главе.
(обратно)22
1 На этом прервалось мое чтение. Не хватало, думаю, одной или двух страниц донесения с выводами, которые не меняют существенно содержание донесения. Гипотеза об отравлении была отвергнута из-за отсутствия улик, непризнания ее врачами и особенно из- за отсутствия видимых причин. Ее посчитали плодом народного воображения и придворного злословия, подогретых царившей тогда жарой.
(обратно)23
1 Не известно, по какой причине, возможно, что и по более веской, чем застарелое соперничество с королевой, герцогиня де Альба входила во враждебную королеве и Годою тайную группу, объединявшуюся вокруг вызывающей споры фигуры молодого принца Астурийского; другой заметной личностью в этой группе был министр Корнель, имевший интимную связь с герцогиней где-то около 1800 года, однако было бы весьма рискованным предполагать, что кто-либо из любовников имел на герцогиню сильное интеллектуальное влияние и мог склонить ее примкнуть к той или иной политической партии. С другой стороны, было так же. маловероятно, что существовала хоть какая-нибудь естественная симпатия между двумя столь разными личностями — такой жизнелюбивой и независимой женщиной, как герцогиня, и таким бездушным и мрачным мужчиной, как будущий Фердинанд VII. Уместно предположить, что герцогиня с увяданием ее привлекательности просто решила немного поиграть в политику, как это делали в ее положении многие другие замечательные женщины.
(обратно)24
2 Наверняка найдутся люди, которые будут считать, что угрызения совести Годоя граничат с лицемерием, но если вспомнить тот образ неподкупной личности, который он сам несколько лет назад пытался создать в своих "Мемуарах", то надо признать, что в этом свидетельстве восьмидесятилетний старец старается быть искренним.
(обратно)25
3 В дальнейшем мы еще подчеркнем специально: употребление яда было так распространено в Европе начиная с Возрождения, что приписывать венценосцу или высокому правителю убийство путем отравления выглядело не более необычно, чем в наше время предполагать, что какой-нибудь глава государства подстрекает тайные службы устранить политически опасное лицо посредством огнестрельного оружия.
(обратно)26
4 Годой явно лжет Гойе. Идея обосноваться в Англии никогда не была более чем смутным прожектом, обсуждавшимся в его дружеской переписке с лордом Холландом. Замечание об "исключении Парижа" — несомненно, из-за большей нестабильности французских правительств той эпохи — призвано подкрепить правдоподобие высказанной лжи. Письмо в целом выдает его автора как хитрого политика, всегда способного уклониться от ответа, который мог бы его скомпрометировать, в данном случае — от ответа, который он должен был дать на предложение Гойи "сообщить ценные факты, относящиеся к прискорбному происшествию".
(обратно)27
5 В этом отношении Годой сдержал свое слово. В "Мемуарах" он практически не уделяет внимания ничему личному, ничему частному. Даже намек на его женитьбу на герцогине Чинчон связан исключительно с политическим аспектом этого союза. Ни разу не появляется в нем Пепита Тудо, не упоминается не только о его отношениях с королевой, не упоминается даже молва о существовании этих отношений. Все это он пытается покрыть неопределенной и никогда не уточняемой формулой — "клевета и злословие".
(обратно)28
6 Годою, когда он писал это письмо, было 57 лет. И возможно, что бездействие и неудачи действительно могли пагубно подействовать, как он сам утверждает далее, на его некогда сильное и красивое тело бывшего генералиссимуса и бывшего гвардейца.
(обратно)29
7 Годой столько лет не видел Гойю, что предпочитает весьма туманно говорить о "родственниках, которые сопровождают" его, нигде не упоминая ни подругу Гойи донью Леокадию Вейсс, ни ее сыновей; он, правда, рискует вспомнить Хавьера, сына Гойи, которого, возможно, он видел вместе с отцом до 1808 года, когда тому было 24 года и который теперь, когда ему было уже за сорок, вероятнее всего, жил отдельно.
(обратно)30
1 Ни в одной биографии Годоя, ни, разумеется, в его "Мемуарах" нет и намека на это путешествие и на связанные с ним надежды: надежды на что? — на возвращение в Испанию? на государственный переворот?
(обратно)31
2 Обратите внимание, как Годой бессознательно колеблется между лицемерной условностью и доверительной простотой, называя одних и тех же лиц в одном и том же абзаце то "графиня Кастильофьель", то "Пепита и все мои". Это, подобное маятнику, качание между соблюдением приличий и исповедальной откровенностью присуще всему "Краткому мемуару".
(обратно)32
3 Возможно, что Годой непреднамеренно преувеличивает беспокойство, которое могла причинить его поездка в 1825 году папскому ведомству внешних сношений и его секретным службам. Попросту говоря, это еще одна его иллюзия.
(обратно)33
4 Гастрономические традиции Лиона уходят в глубокую древность.
(обратно)34
5 И в своих "Мемуарах" Годой так же, а может быть еще, более пространно и настойчиво, стремится создать "привлекательный образ", когда дело касается его культурно-политической программы конца XVIII — начала XIX века; при этом действительно нельзя не признать, что его правительства были умеренно просвещенными и в них входили многие выдающиеся мыслители и ученые того времени, благодаря которым было сдельно много хорошего, но их, надо сказать, никто не преследовал, как это делал впоследствии одержимый инквизиторским рвением Фердинанд VII.
(обратно)35
То любезный, то угрюмый (фр).
(обратно)36
Сплетница, испанская болтушка, обожающая семейные скандалы (фр.).
(обратно)37
6 Гойя, как мы уже видели, начинал говорить о Пломбьере и своем водолечении всякий раз, как наступало время просить короля Испании о продлении отпуска, однако в действительности он, кажется, никогда не собирался ехать туда лечиться, что бы там ни говорила в своих путаных воспоминаниях эта услужливая дама.
(обратно)38
7 Кондитерская, в которой собиралась испанская "intelligentsia", принадлежала находящемуся в изгнании испанцу по имени Браулио Пок.
(обратно)39
8 И на самом деле он был скопирован Гарнье и без ложной скромности воплощен в Парижской Опере.
(обратно)40
9 Сильвела действительно находился в Бордо в 1825 году, ему было тогда только сорок четыре года.
(обратно)41
10 "Нелепый самообман", о котором пишет Годой, обусловлен всей совокупностью противоречий, свойственных испанским идеологиям в эпоху правления Карла IV, когда одни и те же идеалы просвещения и прогресса нередко разделялись представителями противоборствующих политических лагерей; противоречия достигли наибольшей остроты в период между нашествиями французов, то есть во время правления Наполеона и Войны за независимость. Но в целом эта тема выходит за рамки данных комментариев.
(обратно)42
11 Моратину в 1825 году было шестьдесят четыре года, и в декабре того же года, спустя шесть недель после встречи с "дряхлым", как пишет Годой, старцем, с этой "развалиной", Моратин тяжело заболел, и после нескольких кратковременных периодов улучшения болезнь свела его в могилу, он умер в 1828 году.
(обратно)43
12 Баулио Пок, как мы уже сказали, был земляком Гойи.
(обратно)44
13 Меткое наблюдение Годоя, которое, возможно, дает нам ключ к правильному пониманию портрета Гойи, написанного Висенте де Лопесом в 1826 году, на котором Гойя изображен "обуржуазившимся", весьма непохожим на свои автопортреты; до сих пор это различие приписывали скорее особенностям видения самого Лопеса, чем каким-либо изменениям его модели, но именно это предположение следует из замечания Годоя.
(обратно)45
Голос мало что может (ит.).
(обратно)46
Голос не обманывает (фр).
(обратно)47
14 Безусловно, Годой восхищался искусством Малибран в более позднюю эпоху, когда он уже жил в Париже, но это ретроспективное сопоставление, напомним, сделано им уже в 1848 году.
(обратно)48
Ветерок (ит.).
(обратно)49
Легкий ветер (фр.).
(обратно)50
15 И в данном случае говорить о "месье Крещендо" мог только Годой 1848 года: этим насмешливым прозвищем французы наградили Россини уже в последние годы его карьеры.
(обратно)51
16 Леокадия Вейсс познакомилась с Гойей на свадьбе его сына Хавьера с Гумерсиндой Гойкоэчеа, ее двоюродной сестрой; тогда Леокадии было 15–16 лет, поэтому в описываемое время ей должно было быть около тридцати пяти. Что касается связи с Гойей, то, хотя и нельзя точно датировать ее начало, известно, что она возникла где-то в 1813 году, когда Леокадия окончательно порвала с Вейссом.
(обратно)52
Гвалт (фр.).
(обратно)53
Болтовня (фр.).
(обратно)54
17 Не только Годой, но и вообще никто не мог с уверенностью определить, была или не была Росарита Вейсс дочерью Гойи, хотя Гойя любил ее как отец. Годой также не грешит против истины, говоря, что о ее дальнейшей судьбе как художницы мало что известно и что она была учительницей рисования молодой Исабелы II.,
(обратно)55
18 Известно, что Гойя использовал шляпу, похожую на описанную Годоем, когда работал над фресками в церкви Сан Антонио. де ла Флорида, а кроме того, существует предположение, хотя и не доказанное точно, что он надевал подобную шляпу и тогда, когда писал черные картины в своей Кинта дель Сордо — Доме Глухого. Сам Гойя еще за много лет до этого увековечил себя в таком виде на нескольких автопортретах.
(обратно)56
19 Утверждения Годоя совпадают с тем, что говорится в критической литературе и биографиях Гойи. Весь 1825 год — за исключением нескольких недель весной, когда Гойя снова заболел (так же как в 1793 и 1816 годах), — художник целиком посвятил работе над миниатюрами с изображением быков, получивших название "бордоских".
(обратно)57
Отравление свинцом.
(обратно)58
1 Упомянутый вечер в Аламеде скорее всего можно отнести к 1785 году, к тому времени, когда Гойя пишет первые портреты герцогини — графини Бенавенто-Осуна. Каэтане де Альба было тогда 23 года. Десять лет спустя, незадолго до того, как Гойю назначили директором Академии Сан-Фернандо (ее почетным председателем была как раз мать герцогини), его навестили герцоги де Альба, и он получил заказ написать их обоих, что тогда же и выполнил. С этого времени Гойя начинает посещать герцогиню, которая в конце того же года стала вдовой, а в 1796 и 1797 годах отношения между художником и его моделью-подругой-покровительницей достигают кульминации. Именно к этому времени относится их совместное пребывание в Санлукаре-де-Баррамеда, чудесным свидетельством которого остается альбом рисунков, на одном из которых изображена герцогиня, играющая со своей чернокожей служанкой.
(обратно)59
2 Портрет, о котором несколько путано говорит Гойя, — самое известное из всех созданных им изображений герцогини: она предстает на нем в черном платье и черной мантилье, указывая пальцем на землю. Портрет действительно (противно всякой логике) находился у художника, когда в 1812 году умерла его жена Хосефа Байэу и была произведена опись имущества, передаваемого по нотариальному акту его сыну Хавьеру. Это полотно фигурирует там как "Портрет де Альбы под номером 16, <оцененный в> 400 реалов".
(обратно)60
3 Сады Хуана Эрнандеса, излюбленное место отдыха и развлечений жителей Мадрида, оставались открытыми для всех до тех пор, пока герцогиня не предъявила на них старинные права собственности, вернула их себе и построила на их территории дворец Буэнависта. Этот поступок сделал ее крайне непопулярной, и герцогиня, столь любимая прежде жителями Мадрида, теперь нередко обнаруживала, что ее подвергают хуле в бульварных листках, расклейке которых не смогли воспрепятствовать ни инквизиция, ни король. После смерти герцогини Годой, как нам известно, добился, чтобы местная власть — аюнтамьенто — выкупила для него дворец Буэнависта, а после падения самого Годоя дворец отошел под военный музей, был резиденцией регента (1840), а затем в нем размещались турецкое посольство, артиллерийское управление и, наконец, военное министерство.
(обратно)61
4 Упоминаемые эскизы росписи стен и потолков не сохранились. Возможно, их уничтожил сам Гойя, поскольку он был недоволен ни разработкой тем, ни их исполнением; не исключено также, что на решение уничтожить эскизы, восславляющие герцогиню, повлияла ее смерть.
(обратно)62
5 Историки чаще всего упоминают о желтой лихорадке 1803 года, явившейся катастрофой для Андалусии (сам Годой посвятил многие страницы своих воспоминаний описанию этой эпидемии и рассказу о мерах, предпринятых для борьбы с нею), однако вспышки эпидемии происходили каждое лето, и в 1802 году, как видно из текста, она была достаточно серьезной.
(обратно)63
6 Гойя, несомненно, не питал склонности к мифологическим сюжетам, в чем он тут и признается. Кроме четырех или пяти первых произведений, относящихся к годам его ученичества в Италии, живопись Гойи в целом не содержит никакой мифологии, за исключением разве что его собственной, которую можно найти в "Капричос" и "Сумасбродствах", — и это в самый расцвет неоклассицизма.
(обратно)64
7 Таким образом, здесь находит подтверждение одна из наиболее распространенных точек зрения относительно создания мах: Гойя написал их по заказу Годоя, собственностью которого они были в момент конфискации его имущества в 1808 году. Что касается галантного кабинета, то он действительно существовал (хотя в 1802 году, возможно, еще в виде проекта во дворце Буэнависта), и кроме мах в нем были такие шедевры, как "Венера с зеркалом" Веласкеса, "Школа любви" Корреджо и "Вакханка" Тициана, которые Князь мира приобрел у наследников герцогини.
(обратно)65
8 Гойя здесь весьма просто объясняет то, что так волновало критиков, — загадку невыразительного лица махи.
(обратно)66
9 Кроме сообщения о допросе, текст которого Гойя воспроизводит по памяти с замечательной точностью, все следы процесса и даже решение о его прекращении бесследно исчезли из следственных архивов инквизиции. Очевидно, параллельно этому следствию велось какое-то другое, которое было заинтересовано в сокрытии всех следов. Здесь мы сталкиваемся с еще одним случаем замалчивания всего, что так или иначе связано с жизнью и чудесами знаменитой Каэтаны.
(обратно)67
10 Благодаря этому месту наконец появилась возможность точно датировать письмо Гойи к Сапатеру, которое комментаторы относят к весьма широкому периоду — между 1795 и 1800 годами; Гойя пишет своему другу в Сарагосу: "Жаль, что ты не мог быть у меня и видеть, как ко мне в мастерскую заявилась наша де Альба с тем, чтобы я раскрасил ей лицо, и как вышла от меня расписанной…" Письмо могло быть написано только двадцать третьего числа, утром, когда Гойя еще не знал, что "наша де Альба" умирает в своем дворце.
(обратно)68
11 Письмо королевы сохранилось и было опубликовано. Донья Мария-Луиза говорит в нем буквально следующее: "Сегодня у нас была эта де Альба. Она и Корнель приезжали отужинать с нами, потом она уехала; она очень изменилась — стала похожа на сушеную рыбу, думаю, теперь она тебя не соблазнила бы, как раньше, надеюсь также, что ты раскаешься в том, что было…" Намек на старую любовную интригу между Годоем и "этой де Альба" достаточно прозрачен.
(обратно)69
12 Интерес к американским растениям и их редким медицинским свойствам был настолько велик в Испании той эпохи, что каждый год публиковалось сразу несколько томов "Перуанской флоры" дона Иполито Руиса и дона Хосе Павона. Сам Годой в первом томе своих "Мемуаров" пишет: "В те годы мы получали все новые посылки для пополнения собраний перуанской и чилийской флоры, которые нам отправлял наш ботаник Хуан Пафалья; было получено более ста новых видов, способствовавших не только расцвету науки, но и развитию медицины, поскольку многие из присланных нам растений, корений и коры обладали необычными свойствами". И нет ничего удивительного в том, что одно из этих растений с "необычными" свойствами оказалось в руках герцогини.
(обратно)70
13 Действительно, Гойя дважды писал Тирану — в 1794 и 1799 годах, но Риту Луна, насколько известно, он не писал до 1814 года, поэтому либо существовал какой- либо другой утерянный к этому времени портрет актрисы, либо Гойю обманывает память, либо память обманывает Годоя, когда он вспоминает рассказ Гойи. Тирана и Рита Луна были знаменитыми актрисами, и вполне логично, что именно они приходят Гойе на ум в тот драматический момент, когда он гримирует герцогиню.
(обратно)71
14 Серебряные белила, называемые также свинцовыми или белилами Кремса (углекислый свинец), практически были единственной белой краской, которой пользовались художники вплоть до середины XIX века; они относятся к самым ядовитым художественным краскам. Вызываемая ими болезнь носит мрачное название "сатурнизм" [56]. От сатурнизма умер бразильский художник Портинари. Однако в данном случае опасения Гойи явно чрезмерны, ибо, хотя и не рекомендуется глубоко вдыхать запах серебряных белил, эффект отравления ими имеет кумулятивный характер: он проявляется лишь при накоплении определенного числа незначительных воздействий. Правда, не один Гойя преувеличивал опасность серебряных белил, их всегда считали опасными и применяли все меры предосторожности.
(обратно)72
15 Фиолетовый кобальт представляет собой мышьяковистую соль кобальта и требует особой осторожности в обращении; желтая неаполитанская — антимониат свинца, а веронская зелень (как ее называют во Франции), или темно-зеленая (в Испании), или изумрудно-зеленая (в Англии), швейнфуртская зелень (в Германии) является соединением соли мышьяковистой кислоты с ацетатом меди. Это и есть самая опасная из всех красок; чтобы скрыть ее ядовитость, ей дают самые фантастические имена. (Зеленая Шеля, употреблявшаяся в более отдаленные времена, была простым арсениатом — не исключено, что Гойя использовал именно эту краску, называя ее именем другой, близкой к ней зеленой.) Не должно удивлять, если Гойя называл ее веронской зеленью. Не говоря уже о том, что он вполне мог привыкнуть к этому названию во время своего пребывания в Италии, существует и другое объяснение: дело в том, что на испанскую живопись второй половины XVIII века большое влияние оказал венецианец Тьеполо, известно также, что Гойя не избежал этого влияния; Тьеполо же, по-видимому, называл зеленую краску "веронской", восприняв это название от маэстро Паоло.
(обратно)73
16 Как мы помним, эти три человека, а также дон Карлос Пиньятелли, оба домашних врача герцогини и ее камеристка донья Каталина Барахас были наследниками, которым герцогиня завещала свое личное состояние в завещании, составленном в Санлукаре-де-Баррамеда еще пять лет назад — 16 февраля 1797 года, — из чего можно заключить, что ее уже давно посещали мысли о смерти.
(обратно)74
17 Во время возведения дворца, как свидетельствуют документы, было совершено несколько попыток его поджога."
(обратно)75
18 Исидоро Майкес и Рита Луна составляли супружескую пару, оба были известными комиками; Костильярес — один из лучших тореро тех лет; графы-герцоги Бенавенто-Осуна — представители самой древней и самой знатной испанской аристократии, причем в первую очередь зто касается графини-герцогини — блестящей женщины, достойной соперницы герцогини де Альба при сверкающем предзакатным блеском дворе Бурбонов.
(обратно)76
19 Этот досадный эпизод (а также, как мы еще увидим, письмо Ховельяноса) ставит под сомнение умение Годоя, которым он так гордился, вести сразу несколько параллельных жизней таким образом, что они не сталкивались и не мешали друг другу. Раньше это называлось грубой бестактностью.
(обратно)77
20 Гойя знал ее совсем маленькой, потому что в 1783 году, в самом начале своей карьеры придворного художника, он писал инфанта дона Луиса (брата Карла III) вместе с его морганатической семьей — женой и двумя детьми — в их загородном доме в Ареиас-де-Сан-Педро. Существует семейный портрет, где они изображены все вместе, и отдельный портрет Марии Тересы (того же 1783 года), на котором сделана следующая надпись: "Сеньора донья Мария Тереса, дочь сеньора инфанта дона Луиса, в возрасте двух лет и девяти месяцев". Это объясняет, почему девятнадцать лет спустя Гойя продолжает называть ее Майте.
(обратно)78
21 По-видимому, Каэтана де Альба, приглашая Годоя так неформально и наспех, тем не менее предполагала, что он явится на праздник со своей законной супругой, и поэтому именно появление Пепиты положило начало всему происшествию.
(обратно)79
22 Мануэлита де Сильва-и-Вальдстейн, вышедшая замуж за графа де Аро, когда ей еще не исполнилось четырнадцати лет, год спустя после свадьбы была изображена Гойей (подробнее об этом будет рассказано ниже), а в 1805 году она умерла. По отцовской линии она приходилась близкой родственницей герцогине, которая также принадлежала к роду Сильва-и-Альварес де Толедо.
(обратно)80
Сорт нюхательного табака.
(обратно)81
23 Годой здесь впервые открыто признает то, что до сего дня было лишь предметом противоречивых спекуляций, основанных на слухах, зафиксированных бытописцами той эпохи, а также на знаменитом "ревнивом" письме королевы и на некоторых других косвенных свидетельствах.
(обратно)82
24 Либо графиня-герцогиня отказалась впоследствии от этого проекта, либо Гойя, который уже за пятнадцать лет до этого разговора писал народные сцены для Аламеды, а пять лет назад — свои не менее известные сцены с колдунами, на этот раз не пожелал браться за третью серию подобных картин. Не забудем, что после смерти герцогини Гойя, как он рассказывает сам, долгое время вообще ничего не писал.
(обратно)83
25 Новое предположение о возможном убийце. Теперь мы по крайней мере знаем, что, по мнению Годоя, убийцей был один из сотрапезников на том праздничном ужине.
(обратно)84
26 Для тех, кого поражает, что герцогиня, если верить Гойе, имела в своем распоряжении целую армию слуг, поясним, что после ее смерти их насчитали триста с лишним душ.
(обратно)85
27 Весьма неосторожный (или, наоборот, хорошо обдуманный — все зависит от того, как посмотреть) намек герцогини на мрачную славу неаполитанского двора в связи с принятым там слишком свободным обращением с ядами. Не будем забывать, что — как можно видеть из "Мемуаров" Годоя, а также из его переписки с Наполеоном и даже с самой Марией-Луизой — три года, прошедшие после свадьбы Фернандо до смерти его жены принцессы Марии-Антонии Неаполитанской, ознаменовались целой чередой покушений на королеву, которая опасалась, что в любой момент ее могут отравить люди, подосланные неаполитанским королем. Не исключалось также, что отравителем могла стать и ее собственная невестка. По иронии судьбы обстоятельства смерти принцессы, которая скончалась от туберкулеза, но при жизни боялась взять в рот хоть что-нибудь, что не прошло строжайший контроль (о ее "пристрастии к салату, чистому уксусу и блинчикам с моццареллой и острым перцем" упоминает сама королева в одном из своих писем), породили подозрения, павшие как раз на ее свекровь. Годой старался развеять их. Вся эта история достойна того, чтобы изобразить ее "неаполитанской желтой".
(обратно)86
28 Герцог де Альба умер молодым в 1795 году, вскоре после того, как Гойя написал его прекрасный портрет, на котором он показан листающим партитуру Гайдна.
(обратно)87
29 Гойя написал несколько портретов Луиса и Марии Тересы де Бурбон-и-Вальябрига. Он, как мы уже говорили, изобразил их в возрасте шести и трех лет соответственно на общем семейном портрете, а потом по отдельности на двух портретах, образующих диптих, как Гойя обычно писал супружеские пары благородного сословия или буржуа, да они, в общем, и были такой парой; портреты Луиса уже как кардинала и Марии Тересы, уже обрученной с Годоем, Гойя закончил в 1797 году; в последний же раз он писал их в 1800 году: это его самый знаменитый портрет беременной в то время Марии Тересы и портрет Луиса в одеянии кардинаяа-архиепископа. Что касается "новых портретов", о которых говорит кардинал, Гойе уже не довелось написать их: 1800 год оказался последним для этой пары.
(обратно)88
30 Возможно, это та самая донья Тадеа Ариас де Энрикес, портрет которой Гойя писал восемью годами раньше.
(обратно)89
31 Документы той эпохи засвидетельствовали этот порыв герцогини, грозящей поджечь свечой свой собственный дом. Небольшое различие состоит лишь в том, что ей приписывались иные слова: "Я своими руками сделаю то, что не удалось сделать другим!"
(обратно)90
32 Каталина Барахас — камеристка герцогини и, как мы уже знаем, одна из шести ее наследников.
(обратно)91
33 Не следует упускать из виду, что смерть от яда была самым обычным делом в Европе той эпохи. Чтобы не ходить за примерами слишком далеко и не углубляться в мрачные истории семейства Борджиа, среди которых был даже один Папа-отравитель, напомним только о деле Парацельса, или о нашумевшем "affaire de poisons" — "деле о ядах", потрясшем в 1679 году Францию, так как в нем оказалась замешана сама любовница Людовика XIV мадам де Монтеспан, или о том, что именно при испанском дворе конца XVIII — начала XIX века имели место по крайней мере четыре случая, вызвавших сильнейшее подозрение в отравлении, — покушение на Ховельяноса (1797), смерть герцогини Альба (1802), ужасное состояние, в котором, как мы уже видели, несколько лет (с 1802 по 1805 годы) пребывала королева Мария-Луиза, страдавшая от страха, что ее отравит подстрекаемая родственниками невестка Мария-Антония Неаполитанская, и, наконец, смерть той же Марии-Антонии (1805), в которой молва обвиняла ее свекровь, решившую таким образом освободиться от постоянно мучившего ее страха. И примерно в те же годы (1792) не кто иной, как Моцарт, умирал в Вене, охваченный ужасным подозрением, что его отравили, впоследствии это предположение — что его убийцей был маэстро императорской капеллы Сальери — укрепилось еще более. В те времена при австрийском дворе смерть от яда называли не иначе как "итальянской болезнью".
(обратно)92
34 Согласно некоторым письменным свидетельствам, подозрения в отравлении герцогини коснулись и шести ее наследников, которые якобы на некой сходке решили устранить завещательницу. Гойя либо не знал об этих слухах, либо уже не помнил о них в 1825 году. По-видимому, он был непоколебимо уверен в том, что все подозрения падали лишь на королеву и Годоя; это, собственно, и объясняет его более позднюю исповедь.
(обратно)93
35 Действительно, в завещании, составленном герцогиней, фигурирует и сын художника Хавьер. Он объявляется там наследником, которому причитается указанное в пункте 16, а в этом пункте говорится, что остальным ее наследникам надлежит выплачивать "сыну художника Франсиско де Гойи десять реалов в день пожизненно".
(обратно)94
36 Существует письмо Марианито — внука Гойи, сына Хавьера и Гумерсинды Гойкоэчеа, адресованное Кардераре, которому он иногда продавал кое-какой антиквариат, что позволяло ему выжить. В письме говорится: "Уважаемый сеньор! Будучи лишен средств к существованию и зная Вашу приверженность к антикварным вещам, посылаю Вам бакал, тот самый, который всегда брала с собой в путишествия герцогиня и которым она пользовалась, когда жила загородом. Это герцогиня де Альба. Да. Ма. Тереса де Сильва. Она аставила этот бакал моему деду чтоб тот хранил его как память о ней". Как можно догадаться, Гойя в семейном кругу объяснял появление у него венецианского бокала обстоятельствами, которые на самом деле относились к другому стакану.
(обратно)95
37 Дон Мануэль, присвоивший многие самые дорогие драгоценности герцогини, разумеется, мог легко представить себе эту картину. Возможно ли, чтобы Гойя забыл об этом?
(обратно)96
38 Стенная роспись исчезла со своего первоначального места — гробницы герцогини в церкви Отцов Миссионеров Спасителя, известной как церковь Послушника. Сохранился только один набросок, возможно, именно его Гойя делал в тот момент, когда появился Пиньятелли и сказал ему о бокале.
(обратно)97
39 Эскиз к портрету графини де Аро полностью подтверждает слова Гойи: хотя юная модель, безусловно, выглядит на нем привлекательной, в повороте ее головы и в глазах можно уловить это напряжение и страх.
(обратно)98
40 Действительно, и графиня, и доктор Керальто, написанные Гойей предположительно в начале 1803 года, в самый разгар зимы, умерли в 1805 году, и с их смертью исчезли двое из трех свидетелей, которые могли сказать что-то о бокале с ядом. Не исключено, что это было убийство…
(обратно)99
1 Хотя Годой лишь бегло касается этой темы, уместно напомнить, что после смерти герцогини де Альба он с разрешения королей добился того, что аюнтамьенто (муниципалитет) Мадрида сам приобрел для него дворец Буэнависта, и Годой, не страдая от избытка щепетильности, устроился там, где при трагических обстоятельствах умерла его бывшая подруга и любовница. И так же, как королева использовала свое положение, чтобы купить по дешевке драгоценности герцогини — после того как ей не удалось попросту присвоить их по королевскому указу, — Годой сумел завладеть большей частью принадлежавших Каэтане произведений искусства, среди них, в частности, "Венерой с зеркалом" Веласкеса, "Школой любви" Корреджо, одной из мадонь Рафаэля и даже, как свидетельствуют документы эпохи, ее слугами.
(обратно)100
2 Большинство историков также придерживаются мнения, что Мария-Луиза поспешила со свадьбой Годоя, чтобы нейтрализовать его страсть к Пепите Тудо. Сам Годой в своих "Мемуарах" рассказывает, что Кар- лос IV ввел его в свою семью "с тем, чтобы… поднять на такую высоту, где я стану недосягаемым" (имеется в виду недосягаемым для политических противников). И дальше: "Этот план, как и назначение меня министром, был порожден исключительно его абсолютной волей. Карлос IV так организовал все, что мое согласие, свадьба и выполнение необходимых формальностей следовали друг за другом практически непрерывно. Я подчинился ему так же безоговорочно и покорно, как делал это и в других случаях". А немного далее можно найти единственный намек на Пепиту в связи с ходившими по этому поводу слухами: "Время расставит все по своим местам и развеет клевету, которую распространяли враги и завистники, утверждая, что этой свадьбой я разрываю другие священные узы". Как бы то ни было, не остается сомнений, что Мария Тереса де Бурбон-и-Вальябрига на долгие семнадцать лет стала жертвой "государственных интересов", то есть сентиментальных переживаний королевы, и черствости будущего мужа, не смевшего ослушаться королевской воли.
(обратно)101
3 Начиная с 1848 года Годой ностальгически вспоминает эту золотую эпоху. В 1819 году умерли короли, а в 1835 году Пепига оставила его одного в Париже, чтобы лично вести в Мадриде нескончаемые судебные тяжбы Годоя, и никогда больше не вернулась к нему. Годой теперь стал неким экстравагантным "месье Мануэлем" (по-видимому, большим выдумщиком), который любил греться на солнышке на скамейке в саду Пале-Рояля, где он рассказывал своим недоверчивым друзьям — маленьким детям — истории о древних битвах и забытой славе. Полное одиночество, несомненно, располагало Годоя к идеализации своей юношеской способности соединять работу с любовью. Правда, свидетельства той эпохи действительно подтверждают его исключительную погруженность в государственные дела, однако тот же Ховельянос в своем дневнике отмечает, что цинизм, с которым Годой выставлял напоказ свою аморальную любовную жизнь, вызывал отвращение. "Князь пригласил нас на обед в свой дом, — рассказывает он. — Справа от него сидела княгиня, а слева, бок о бок, Пепита Тудо… Это зрелище окончательно привело меня в смущение; душа не принимала его; я не мог ни есть, ни поддерживать разговор, я был возмущен увиденным и вскоре сбежал оттуда; в тот вечер дома я чувствовал себя усталым и подавленным, хотел заняться чем-нибудь, но только напрасно терял время". Этот пассаж из дневника, свидетельствующий о крайней строгости нравов Ховельяноса, в то же время дает наглядное представление об упоминаемом Годоем "искусстве" смешивать разные чувства, "даже если они казались совершенно несовместимыми".
(обратно)102
4 Мятеж в Аранхуэсе. Падение Бурбонов. Вторжение Наполеона. Война.
(обратно)103
5 Сегодня документально подтверждено, что природная недоверчивость молодого Фернандо и его склонность к- жестоким интригам были многократно усилены злонамеренным влиянием священника Эскойкиса, которого за несколько лет до описываемых событий не кто иной, как сам Годой, назначил наставником принца.
(обратно)104
6 Годой не преувеличивает. Герцогиня де Лука, бывшая королева Этрурии, дочь Карлоса IV и Марии- Луизы, вскоре после смерти матери рассказала своему брату Фернандо: "За день до смерти она подозвала меня к кровати и сказала: "Я умираю. Советую тебе выйти за Мануэля. Когда будешь с ним, поймешь, что никто никогда не сможет любить тебя и твоего брата так, как он". Я поцеловала ей руку и сказала, что люблю ее всем сердцем. Это был наш последний разговор…"
(обратно)105
7 Память снова подводит Годоя. Дворец "Касита дель Лабрадор" — Хижина пахаря — был построен позднее, уже в начале XIX века, правда, по приказу все тех же Карлоса IV и Марии-Луизы.
(обратно)106
8 Рассказ Годоя о его первой встрече с принцем и принцессой Астурийскими развенчивает одну легенду и частично объясняет другую. Представляется совершенно не заслуживающей доверия версия, согласно которой Карлос и Мария-Луиза в первый раз обратили на него внимание, когда лошадь молодого Мануэля вдруг встала на дыбы и он, укрощая ее, продемонстрировал незаурядную смелость и умение; другая версия гласит, что внимание принца и принцессы привлекла сначала гитара Мануэля, что, по-видимому, следует рассматривать как экстраполяцию действительно имевшего места случая — его появления на балу в наряде хуглара с бутафорской лютней в руках.
(обратно)107
9 Обращает внимание не только высокий уровень классической культуры двух этих лиц, который сегодня может пок^затьря даже необычным, особенно если учесть, что впоследствии никто не считал их высокообразованными людьми, но также и то обстоятельство, что разыгрываемые Малу и Ману "комедии" находятся в прямом родстве с темами европейской литературы конца XVIII — начала XIX века. Жестокий турок и христианская пленница или их противоположность — крестоносец и арабка — неизбежно воскрешают в памяти произведения лорда Байрона; стыдливая дева с тонущего корабля и моряк явно навеяны книгой Бер-нардена Сен-Пьера "Поль и Виргиния"; палач и Еедь- ма напоминают нам о жестоких сценах английского готического романа; садовник и монахиня — безусловно, образы французской романтической литературы. Но прежде чем вообразить Марию-Луизу и Годоя прилежными читателями последних издательских новинок, следует вспомнить, что писатели воплощали в своих произведениях мифологию, жившую в умах общества еще до того, как она была отражена в книгах.
(обратно)108
10 Эпизод с мундирами во дворце Барберини описывает и Боссе в своих "Memoires anecdotiques sur l'in- terieur du palais imperial" с той только разницей, что, по Годою, этот случай произошел незадолго до смерти королевы, а согласно Боссе — несколькими годами раньше.
(обратно)109
11 Можно предположить, что Годой, не выносивший Фердинанда VII, сильно сгущает краски, рассказывая об этом происшествии, тем более интересно сопоставить его с другим широко известным и исторически достоверным инцидентом, случившимся в 1814 году, во время поездки Фердинанда из Валенкая в Валенсию, связанной с принятием им королевского сана. Его противником на этот раз по странному стечению обстоятельств оказался не кто иной, как шурин Годоя — кардинал Луис де Бурбон, бывший в то время председателем Конституционного Регентского Совета, уже переместившегося к тому моменту в Леванте, где он должен был принять присягу короля. Свиты Фердинанда и кардинала встретились в Пусоле, в 18 километрах к северо-востоку от Валенсии. Фердинанд и кардинал вышли из своих карет, и каждый стал дожидаться, когда другой пойдет ему навстречу. В конце концов кардинал не выдержал и направился к Фердинанду, и тот протянул ему руку для поцелуя — как король. Но поскольку он еще не принес присягу на конституции и не мог считаться законным королем, кардинал, естественно, заколебался. Фердинанд, помедлив с минуту, покраснел от гнева, ткнул руку в нос кардинала и приказал: "Целуй". Кардинал наклонился и поцеловал. Невольно напрашивается вопрос: разве это "целуй" при всей несхожести обстоятельств не напоминает самодурство и упоение властью, которое продемонстрировал принц в спальне Годоя?
(обратно)110
12 Во второй главе своих "Мемуаров", после рассказа о том, как он был принят в гвардию Карла III, Годой пишет: "У меня было там два товарища, братья Жубер, французы, оба родились во Франции, получили там образование, были прекрасно подготовлены, отличались прилежанием, исполнительностью, нежным нравом и хорошими манерами, с ними меня связывали узы дружбы, глубокой и пылкой, какой она бывает в юношеские годы". Обращает на себя внимание повторение — много лет спустя — этой характеристики — "нежный". Возможно, не будет слишком смело предположить, что именно один из Жуберов был тем самым "иностранцем", который соблазнил Годоя?
(обратно)111
13 Во второй части "Мемуаров" Годоя можно найти подробное описание неудавшейся попытки автора убедить Карлоса IV отложить эту свадьбу. Там же сообщается, что она была назначена на 14 апреля 1802 года.
(обратно)112
14 Как мы уже знаем, после смерти герцогини Гойя вообще перестал писать. Однако в письме к Сапатеру по поводу макияжа герцогини Гойя упоминает о заказе на конный портрет, из чего следует, что Годою все-та- ки удалось уговорить его.
(обратно)113
15 Не кто иной, как Пиньятелли, которого Гойя так часто упоминает в своем рассказе, был объектом знаменитого соперничества между герцогиней и тогдашней принцессой Астурийской. Рамон Гомес де ла Серна пишет о нем: "…красивый гвардейский офицер, счастливый влюбленный, разжег костер страсти сразу двух дам, но его погубили их подарки: перстень с крупным бриллиантом, который он получил от де Альба, и золотая шкатулка, которую ему поднесла принцесса". Дон Рамон де ла Серна забавляется, рассказывая в деталях, как принцесса с этим перстнем на руке появляется на балу во дворце, чтобы полюбоваться яркой краской, заливающей лицо соперницы, а пылающая негодованием де Альба порывает с Пиньятелли и в отместку дарит парикмахеру золотую шкатулку, которую Пиньятелли уже успел передарить ей, — парикмахер у нее был общий с принцессой. Все кончилось тем, что Пиньятелли сослали в Париж. "Разгоревшаяся между ними вражда, — завершает свой рассказ автор, — проявлялась в самых разных формах, дело дошло да того, что де Альба одевала своих служанок в наряды, похожие как две капли воды на те, что принцесса получала из Парижа…" Как видим, у Годоя были все основания говорить о вражде этих дам.
(обратно)114
16 Череда любовных побед, засвидетельствованных бытописцами эпохи, действительно говорит о чрезвычайно высокой сексуальной энергии премьер-мини- стра и герцогини, однако замечания Годоя об их красоте, если судить по портретам этой пары, несколько преувеличены, по крайней мере на современный вкус.
(обратно)115
17 Трогательная наивность, с которой Годой, сам того не подозревая, характеризует себя морально. Был ли он чем-то большим, нежели благодарный и добросердечный жиголо королевы?
(обратно)116
18 Прожитых ею лет… Герцогине к этому времени исполнилось тридцать восемь. Годой был на пять лет моложе.
(обратно)117
19 Неприязнь Годоя к Фернандо, будущему Фердинанду VII, настолько сильна, что невольно возникает сомнение в объективности его оценок этой личности, однако история свидетельствует, что в них нет преувеличения: Испания никогда не имела такого злокозненного, такого отвратительного правителя.
(обратно)118
20 Пожалуй, это не слишком любезно со стороны Годоя по отношению к герцогине, в апартаментах которой в ту ночь, и не только в ту ночь, как он сам признается дальше, он занимался не одним лишь чтением писем Фернандо…
(обратно)119
21 Готовясь к этой двойной свадьбе принца Фернандо и инфанты Исабель, Карлос IV и Мария-Луиза, как говорится, из кожи вон лезли с того самого момента, как итальянские жених и невеста сошли с корабля в Барселоне и прибыли в королевский дворец в Аран- хуэсе на бутафорском корабле, достойном занять почетное место в музее аллегорических фигур века барокко.
(обратно)120
22 Воистину, Годой также не упускает ни одной возможности высказать свое мнение о принце…
(обратно)121
23 Бокал, практически ничем не отличающийся от того, который описывают Гойя и Годой, был в 1979 году выставлен в Британском музее в экспозиции "Золотой век венецианского стекла".
(обратно)122
24 Это письмо принца будущей свекрови сохранилось в архиве королевы Неаполитанской. По низости содержания оно сопоставимо только с печально знаменитым письмом того же автора, отправленным в октябре 1807 года императору Франции.
(обратно)123
25 Годой в коротком абзаце касается стольких аспектов международной политики, что прокомментировать их в одном примечании не представляется возможным, настолько сложной и запутанной была испанская дипломатическая стратегия в эпоху Карла IV. Поэтому ограничимся здесь замечанием, что письмо Фернандо действительно было предательством по отношению к родителям и тем самым по отношению к правительству его страны.
(обратно)124
26 У принца были и гувернеры, и учителя, но проходил год за годом, а он, к отчаянию родителей, ничему не мог научиться. Говорят, что он всю жизнь оставался невежей. Однако его высказывания, которые цитирует Годой в "Мемуарах" и "Кратком мемуаре", свидетельствуют о незаурядной хитрости принца.
(обратно)125
27 Воспоминания Годоя — единственный документ, сообщающий, что принц был подвержен припадкам; возможно, это был истероидный синдром, провоцируемый фрустрацией ц злобностью, однако еще не превратившийся в эпилепсию, о которой пишет Годой.
(обратно)126
28 Но разве не то же самое произошло пятью годами раньше?
(обратно)127
29 Такое поведение герцогини де Чинчон вызвало впоследствии озабоченность королевы. В нескольких письмах, адресованных Годою, она тревожится по поводу холодного молчания, в которое замкнулась герцогиня. Так, 3 января 1806 года Мария-Луиза пишет: "Я хотела бы, чтобы твоя жена поговорила с тобой, а не уходила в полное молчание…" И 10 января 1807 года: "Мне очень жаль, что с твоей женой не все в порядке и что она такая молчаливая, ведь это вредит ее здоровью; да поможет ей Бог, пусть облегчит ее душу, сделает ее более открытой и спокойной…"
(обратно)128
30 Эпитет "бессильный" употреблен здесь явно не случайно: Фернандо действительно страдал импотенцией, от которой, правда,
со временем ему удалось вылечиться. Известно, что он почти целый год не мог завершить плотским союзом свой брак с
Марией-Ан- тонией Неаполитанской, и это явилось причиной озабоченности его родителей и отчаяния самой принцессы.
(обратно)129
31 Ходили также слухи — Годой не упоминает о них, — что королева использовала яд кураре, с которым оба они в какой-то степени были знакомы. Действительно, Мария-Луиза и ее брат Фердинанд, герцог Пармский, были в детстве учениками Кондильяка (что отчасти опровергает расхожее представление о ее интеллектуальной ограниченности), а Кондильяк был хорошо знаком с южноамериканской практикой использования кураре и с посвященными этому яду исследованиями Ла Кондамина, опубликовавшего в 1751 году (то есть в год рождения Марии-Луизы) брошюру о своем путешествии и открытиях; что касается Годоя, то он в 1799 году беседовал с Гумбольдтом (Гумбольдт встречался в Мадриде с тогдашним государственным секретарем Испании Уркихо, но виделся также с королями и с Годоем), а энциклопедические познания этого выдающегося натуралиста об американской флоре не могли не включать сведений о кураре. Все это позволяет заключить, ^то Мария-Луиза и Годой имели возможность обладать обширной информацией об этом яде и для них не составляло труда приобрести его в Америке. Однако подобные подозрения по понятным причинам могли появиться не у простого народа, а лишь у образованных людей.
(обратно)130
Байонна — город на юго-западе Франции, недалеко от Бискайского залива, где после мадридского восстания 5 мая, направленного против французских войск, встретились Наполеон, Карл IV, королева и Годой, а также Фердинанд. Вскоре после этой встречи Наполеон издал декрет о возведении на испанский престол Жозефа Бонапарта.
(обратно)131
Марселино Менепдес-и-Пелайо (1856–1912) — выдающийся испанский историк, библиограф и литератор. Труды Менен- деса-и-Пелайо считаются образцовыми с точки зрения языка и стиля.
(обратно)132
Это единственное место, где маркиз де Пеньядолида посвящает нас в свои намерения: отложить публикацию "Краткого Мемуара" с 1936 года, которым датируется его "Предуведомление", до 1951 года, когда он был уже не в состоянии опубликовать что-нибудь, так как был погребен на Пер-Лашез, где пребывает и сейчас; и также погребенным останется и "интересный документ", и его собственный пролог, пока я не найду их после очередного проявления воли рока (прим. автора).
(обратно)133
Благие пожелания, принятие желаемого за действительное (англ.).
(обратно)


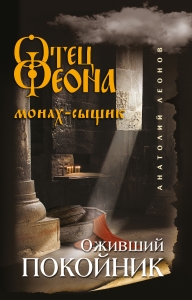

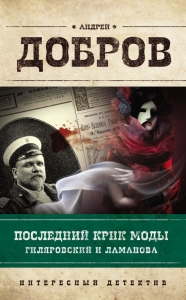
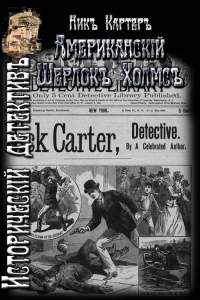



Комментарии к книге «Кто убил герцогиню Альба, или Волаверунт», Антонио Ларрета
Всего 0 комментариев