Филип Керр Друг от друга
Посвящается Джейн
Боже, даруй мне милость принять безмятежно то, чего нельзя изменить, мужество изменить то, что изменить возможно, и мудрость отличить одно от другого.
Рейнольд Нибур
Пролог
Берлин, сентябрь 1937
Я помню, какая чудесная тем сентябрем стояла погода. Называли ее — «погода Гитлера». Даже природа благоволила Адольфу Гитлеру. Помню, как он держал громовую речь, требуя для Германии иностранных колоний. Пожалуй, тогда мы в первый раз и услышали от него фразу «жизненное пространство». Но ни у кого и мысли не мелькнуло, что для расширения жизненного пространства для нас необходимо, чтобы сначала погибли миллионы.
Я жил и работал в пространстве под названием Берлин. Работы там для частного детектива было хоть отбавляй. Прежде всего, конечно же розыск пропавших. Исчезали в основном евреи. Многих убивали в глухих переулках или отправляли в концлагеря, о чем власти не заботились уведомлять их семьи. При этом нацисты развлекались от души. Официально евреев поощряли к эмиграции, но, так как им запрещалось забирать с собой имущество, на такой шаг мало кто решался. Правда, некоторые изобретали всяческие хитроумные уловки, чтобы вывезти свои деньги из Германии.
Одна, например, такая. Еврей помещал на депозит в германский суд большой запечатанный пакет, набитый ценностями, с уведомлением: «Распоряжение на случай смерти такого-то», как бы перед отъездом в отпуск за границу. Там еврей «умирал», и подавалось прошение во французский или английский суд запросить у германского суда пакет, содержащий распоряжение на случай смерти. Немецкие юристы были только довольны оказать услугу коллегам, пусть даже французам или англичанам. И таким манером довольно много удачливых евреев ухитрялось воссоединиться со своими наличными и драгоценностями, которых хватало для начала новой жизни в новой стране.
А другая хитроумная схема была придумана — хотя в такое и трудно поверить — отделом по еврейскому вопросу службы безопасности, СД. Это помогало евреям уезжать из Германии, а попутно обогащало офицеров СД, участвующих в сделке. Называли мы ее схемой «еврей — разносчик товаров», на идиш — точер.
Я узнал о ней, когда ко мне обратились двое клиентов, страннее которых я в жизни не встречал: Пауль Бегельман, богатый бизнесмен, немецкий еврей, владевший несколькими гаражами и торговавший машинами по всей Германии, и эсэсовец-штурмбаннфюрер доктор Франц Зикс, начальник отдела по еврейскому вопросу в службе безопасности, СД. Меня вызвали на встречу с ними в Гогенцоллерн-палас на Вильгельм-штрассе, в скромный департамент, занимавший всего три кабинета. Позади стола Зикса помещались портрет фюрера и целая выставка дипломов юридических ученых степеней из разных университетов: Гейдельберга, Кенигсберга и Лейпцига. Вполне вероятно, Зикс был наци-мошенником, но наци-мошенником наивысшей квалификации. Лет тридцати, обликом далеко не ариец, он совсем не походил на идеал Гиммлера: темноволосый, губы сложены в самодовольную улыбку, и на еврея похож не меньше, чем Пауль Бегельман. От Зикса слегка веяло одеколоном и лицемерием. На столе у него стоял бюст основателя Берлинского университета Вильгельма фон Гумбольдта, прославившегося еще и тем, что он сформулировал тезис о невмешательстве государства в личную жизнь своих граждан. Но, по-моему, в этом пункте штурмбаннфюрер Зикс вряд ли был с ним согласен.
Бегельман был постарше Зикса, повыше ростом, с темными вьющимися волосами и губами толстыми и розовыми, будто мясной рулет. Он вроде бы улыбался, но глаза выдавали страх — ему явно не терпелось выскочить из-под пристального внимания СД. В этом здании, в окружении черных мундиров, он походил на мальчишку из хора, пытающегося подружиться со стаей гиен. Говорил почти все время только один Зикс. Как я слышал, Зикс был из Маннгейма, славившегося крепкими традициями «Общества Иисуса». В щегольском черном мундире Франц Зикс больше походил не на обычного мерзавца из СД, а именно на монаха-иезуита.
— Герр Бегельман выразил желание эмигрировать из Германии в Палестину, — без промедления приступил он к делу. — Естественно, он испытывает тревогу за свой бизнес в Германии и последствия для местной экономики, которые могут возникнуть после его продажи. Ради того чтобы помочь герру Бегельману, наш департамент предложил решение проблемы, в осуществлении которого можете помочь вы, герр Гюнтер. Официально герр Бегельман не эмигрирует — остается гражданином Германии, работающим за границей. Он станет служить в Палестине в качестве торгового представителя собственной компании. Таким образом, он сможет получать жалованье и иметь долю от прибылей, одновременно следуя политике нашего департамента — поощрять эмиграцию евреев.
Я не сомневался, что прибыли бедняга Бегельман согласился делить не с рейхом, а с Францем Зиксом. Закурив, я цинично ухмыльнулся чиновнику СД:
— Господа, я верю, что оба вы будете вполне счастливы. Но никак не могу понять, для чего вам потребовался я. Я не заключаю брачные союзы, я ищу компромат для разводов.
Зикс чуть покраснел и неловко покосился на Бегельмана. Он обладал властью, но недостаточной, чтобы угрожать человеку вроде меня. Запугивать студентов и евреев ему было не привыкать, но устрашить взрослого арийца — уже вне его полномочий.
— Нам нужен человек… которому герр Бегельман может доверить… доставить письмо из Берлинского банка Вассермана в Яффу, в Англо-Палестинский банк. Такой человек нам требуется, чтобы открыть кредит и арендовать помещение в Яффе, где разместился бы новый автосалон. Аренда поможет юридически подкрепить новое предприятие герра Бегельмана. Нам также нужно, чтобы наш агент доставил определенные предметы собственности в Англо-Палестинский банк. Естественно, герр Бегельман готов заплатить существенный гонорар за эти услуги: тысяча английских фунтов будет выдана в Яффе. И естественно, СД обеспечит всю необходимую документацию, подготовит все бумаги. Вы отправитесь туда как официальный представитель автосалона Бегельмана, а неофициально будете действовать как тайный агент СД.
— Тысяча фунтов. Хм, большие деньги, — уронил я. — Но что случится, если гестапо начнет задавать мне вопросы насчет этого дела? Им, пожалуй, не понравятся кое-какие мои ответы. Про это вы подумали?
— Разумеется! — отрубил Зикс. — Вы меня что, за идиота принимаете?
— Я — нет, но за гестапо не отвечаю.
— Так получилось, что я посылаю еще двух агентов в Палестину для сбора информации, это согласовано на высшем уровне. Нашему департаменту поручили расследовать возможности насильственной эмиграции евреев в Палестину. Для полиции безопасности, ЗИПО, вы станете одним из исполнителей этой миссии. Если гестапо вздумается задавать вам вопросы о поездке, вы будете в полном праве ответить, как и два других наших человека, что вы занимаетесь разведкой, выполняете приказы генерала Гейдриха и по причинам безопасности операции обсуждать ваши задания не вправе. — Приостановившись, Зикс раскурил тонкую вонючую сигару. — Вы ведь выполняли какую-то работу для генерала и прежде, верно?
— И все еще стараюсь забыть об этом. — Я покачал головой. — Со всем моим уважением, герр штурмбаннфюрер, но, если двое ваших людей уже едут в Палестину, зачем же вам понадобился еще и я?
Бегельман откашлялся.
— Разрешите мне, герр штурмбаннфюрер? — робко спросил он с сильным гамбургским акцентом.
Зикс, пожав плечами, равнодушно кивнул головой. С тихим отчаянием Бегельман взглянул на меня. На лбу у него проступил пот, как я подозревал, не только из-за необычно теплой сентябрьской погоды.
— Затем, герр Гюнтер, что ваша репутация бежит впереди вас.
— Не говоря уже о вашей отличительной черте — метко сшибать мишени, — прибавил Зикс.
Взглянув на Зикса, я кивнул. Пора кончать церемониться с этим юристом-мошенником.
— То есть вы желаете сказать, герр Бегельман, что не доверяете ни этому департаменту, ни его сотрудникам?
Лицо у бедняги Бегельмана страдальчески исказилось.
— Нет, нет, что вы! Дело совсем не в этом!
Меня забавляла ситуация, и я был не в силах остановиться:
— Вам не позавидуешь… Одно дело быть ограбленным, и совсем другой коленкор, когда грабитель еще и просит вас помочь поднести добычу к машине.
Зикс закусил губу. Я видел, что с гораздо большим удовольствием он перекусил бы мне вену на шее. Единственно, почему он сдержался и промолчал, — категорическим отказом я еще не ответил. А может, сообразил, что я и не откажусь. Тысяча фунтов есть тысяча фунтов.
— Пожалуйста, герр Гюнтер. — С превеликой радостью Зикс предоставил все упрашивания Бегельману, и тот продолжал: — Вся моя семья будет очень, очень вам благодарна за помощь.
— Ну да, тысяча фунтов. Я уже слышал.
— Чем-то не устраивает вознаграждение? — Бегельман оглянулся на Зикса, ища подсказки, но не получил. Штурмбаннфюрер был все-таки юристом, а не барышником и торговаться не собирался.
— Да нет же, герр Бегельман, — возразил я. — Плата щедрая. Проблема во мне. У меня аллергия разыгрывается, когда ко мне начинают ластиться собаки определенной породы.
Но оскорбляться Зикс упорно не желал — профессиональное качество юриста. Готов отбросить все человеческие чувства ради главной цели — делать деньги.
— Надеюсь, грубите вы, герр Гюнтер, не служащему германского правительства, — пожурил он меня. — А то кое-кто, пожалуй, может решить, слыша подобные высказывания, будто вы против национал-социализма. В наше время такая позиция не очень-то полезна для здоровья.
Я покачал головой:
— Вы неправильно меня поняли. В прошлом году у меня был клиент по имени Герман Зикс. Промышленник. Нагрел меня по полной программе. Надеюсь, это не ваш родственник.
— Как ни грустно — нет. Я родом из очень бедной семьи, из Маннгейма.
Я посмотрел на Бегельмана. Мне было жаль его. Следовало бы, конечно, ответить «нет». Но я все-таки сказал «да».
— Ладно, я согласен. Но вам, господа, лучше вести со мной честную игру. Я не из тех, кто прощает и забывает. И подставлять вторую щеку тоже не в моих привычках.
Очень скоро я пожалел, что ввязался в махинацию Зикса и Бегельмана. На следующий день я в одиночестве сидел у себя в агентстве. На улице поливал дождь. Мой партнер, Бруно Штахлекер, ушел по делу, которое мы сейчас расследовали. Так он сказал, но скорее всего он не дает разориться бару в Веддинге. Раздался стук в дверь, и вошел посетитель в кожаном пальто и широкополой шляпе. Назовите это обостренным чутьем, но я сразу догадался: он из гестапо, еще до того как он показал мне, раскрыв ладонь, маленький круглый жетон. Лет гостю было около двадцати пяти, но на макушке уже проглядывала лысина; у него был маленький кривой рот и остренький слабый подбородок, рассмотрев который я заподозрил, что парень больше привык избивать, чем быть битым. Не проронив ни слова, гость бросил мокрую шляпу на пресс-папье, расстегнул пальто, открыв аккуратный темно-синий костюм, и, плюхнувшись по другую сторону стола, вынул сигареты и закурил — и все это неотрывно буравя меня взглядом, словно орел, нацелившийся на добычу.
— Симпатичная у вас шляпа, — заметил я после минутной паузы. — Где стащили? — И, сняв ее с пресс-папье, бросил ему на колени. — Или вы просто хотели, чтобы я сообразил, что на улице идет дождь?
— В «Алексе» мне говорили, что ты крутой парень. — Он стряхнул пепел на ковер.
— Когда я служил в «Алексе», то и вправду был крутым. — «Алексом» называли Главное полицейское управление, КРИПО, на берлинской Александер-плац. — Там мне выдали такой маленький кругляш — жетон полицейского. С пивным жетоном КРИПО в кармане любой может прикинуться крутым, — пожал я плечами. — Но если так говорят, значит, это правда. Настоящие полицейские из «Алекса» не врут.
Маленький рот, по-прежнему туго сжатый, скривился в усмешке: не блеснуло и краешка зубов, плотно стиснутые губы походили на свежий, накрепко зашитый шрам. Парень снова сунул сигарету в рот, точно желая наслюнявить кончик нитки, чтобы легче было продеть ее в игольное ушко. А может, в мое? По-моему, ему было без разницы.
— Значит, ты — тот бык, который догнал Гормана-душителя.
— Это было так давно… Ловить убийц было гораздо легче до того, как к власти пришел Гитлер.
— О? А чего так?
— Ну, во-первых, они не так густо плодились, как сейчас. И потом, тогда это было важным делом. Защищая общество, я получал настоящее удовлетворение. А теперь я даже и не знаю, с кого начинать.
— Подозрительно ты как-то изъясняешься. Будто не одобряешь того, что сделала для Германии Национал-социалистическая рабочая партия.
— Вот уж нет. — Я поумерил наглость. — Все, что делается для Германии, я одобряю. — Я тоже закурил, предоставив ему плутать в моих двусмысленностях, тешась воображаемой картинкой, как мой кулак входит в контакт с его острым подбородком. — У тебя есть имя? Или бережешь его только для друзей? Помнишь, кто это такие? Люди, которые присылают тебе открытку ко дню рождения. Когда твой, не сомневаюсь, ты помнишь.
— Может, и ты сумеешь стать моим другом, — улыбнулся он. Очень мне эта улыбка не понравилась. Она намекала: у него на меня кое-что имеется. Острием кинжала высверкнула из его глаз искорка. — Может, мы сумеем помочь друг другу. Ведь для этого и существуют друзья? Может, я тебе, Гюнтер, окажу услугу, а ты будешь так чертовски благодарен, что черкнешь мне открыточку ко дню рождения, про которые ты тут трепался. — Он покивал. — Мне бы понравилось. Это было бы так любезно. С маленьким внутри сообщеньицем.
Я выдохнул дым в его сторону. Его фиглярство начало меня утомлять.
— Сомневаюсь, что тебе придется по вкусу мое чувство юмора. Но очень хочется, чтоб я ошибался. Приятное разнообразие, когда гестапо ловит тебя на таких ошибках.
— Я инспектор Герхард Флеш, — объявил он.
— Приятно познакомиться, Герхард.
— Я возглавляю отдел по еврейскому вопросу в ЗИПО, — добавил он.
— А знаешь что? Я вот подумываю, а не открыть ли мне такой отдел и у себя в агентстве. У всех уже есть. Видно, способствует процветанию бизнеса. В СД есть, в Министерстве иностранных дел есть, а теперь, оказывается, и в гестапо имеется.
— Сферы действий СД и гестапо разграничены приказом о функциях, подписанным рейхсфюрером СС. В функции СД входит установление бдительного надзора за евреями и доклад об итогах его нам. Но на практике гестапо яростно сражается за власть с СД, и в сфере дел о евреях конфликт этот проявляется ярче, чем в любой другой.
— Это все очень занимательно, Герхард. Но я не вижу, чем могу помочь. Черт побери, я ведь даже не еврей!
— Нет? — Флеш усмехнулся. — Тогда позволь мне объяснить. До нас докатился слушок, что Франц Зикс и его люди на оплате у евреев. Берут взятки в обмен на облегчение им выезда из страны. Чего у нас пока нет — так это доказательств. Вот тут на сцену, Гюнтер, и выступаешь ты. Ты раздобудешь их для нас.
— Герхард, ты переоцениваешь мое мастерство. Не так уж я искусен в перелопачивании дерьма.
— Эта миссия СД по сбору информации в Палестине… Почему туда отправляешься именно ты?
— Мне, Герхард, требуется отпуск. А там я загорю, поем апельсинов. Говорят, солнце и апельсины очень полезны для кожи. Ну и потом, — пожал я плечами, — я подумываю об обращении в другую веру. Говорят, в Яффе отлично делают обрезание, если успеть до обеда. — Я покачал головой. — Кончай ты, Герхард. Это связано с разведкой. А об этом, ты сам понимаешь, я не могу болтать с человеком из другого департамента. Если тебе не нравится, так обсуди тему с Гейдрихом. Правила устанавливает он, не я.
— Те двое, с кем ты поедешь, — напирал он, и глазом не моргнув, — нам бы хотелось последить за ними. Выяснить, не злоупотребляют ли они ответственным положением, в котором очутились. У меня даже есть полномочия предложить тебе некоторую сумму на расходы. Тысячу марок.
Так, все будто сговорились дать мне подзаработать. Тысяча фунтов здесь, тысяча марок там. Я уже стал чувствовать себя чиновником в Министерстве юстиции рейха.
— Очень щедро с твоей стороны, Герхард. Тысяча марок — огромный пряник. Но ты не был бы из гестапо, если б не приберег для меня и удара кнутом. На случай, если я не сластена, как вы рассчитывали.
Флеш скривил губы в улыбке-шраме:
— Вот будет невезуха, если твое расовое происхождение станет объектом расследования. — И он смял сигарету в пепельнице.
Гестаповец принялся раскачиваться на стуле взад-вперед, отчего кожаное пальто его громко поскрипывало — такое чувство, будто он только что купил обновку в сувенирной лавке гестапо.
— Мои родители прилежно посещали церковь, — возразил я. — Не знаю, какие факты вы сможете нарыть, чтобы швырнуть мне в лицо.
— А твоя прабабушка с материнской стороны? Есть вероятность, что она была еврейкой.
— Герхард, читай Библию. Все мы, если копнуть поглубже, евреи. Но в данном случае ты ошибаешься. Она была католичкой. И очень, по-моему, истовой.
— Однако фамилия у нее была Адлер, верно? Анна Адлер.
— Да, все правильно. Адлер. И что из того?
— А Адлер — еврейская фамилия. Живи она сейчас, ей, скорее всего, пришлось бы добавить к своему имени «Сара», чтобы мы сразу понимали, кто она. Еврейка.
— Даже если это и правда, Герхард, что Адлер — еврейская фамилия, хотя по-честному я понятия не имею, еврейская она или нет, это все равно делает меня евреем лишь на одну восьмую. А согласно разделу второму, статье пятой Нюрнбергского закона, я, следовательно, не еврей. — Я усмехнулся. — Длины твоему кнуту, Герхард, явно не хватает.
— Часто расследование оказывается таким дорогим и хлопотным! Даже для бизнеса на самом деле немецкого. И случаются ошибки… Проходят месяцы, пока все возвращается в нормальную колею.
Я кивнул, признавая правоту его слов. Нельзя отказываться от просьб гестапо, иначе неприятностей не оберешься. И серьезных. Выбор у меня был между жизненной катастрофой и тошнотворным — типично немецким — согласием. И оба мы знали: я сделаю то, чего они желают. Хотя это поставит меня в положение — выражаясь мягко — крайне неловкое. Ведь у меня была почти полная уверенность, что Франц Зикс набивает карманы шекелями Пауля Бегельмана. Но меня совсем не прельщало затесаться между СД и гестапо в их борьбе за власть. С другой стороны, ничто не указывало на то, что те двое, кого я буду сопровождать в Палестину, люди нечестные. К тому же они наверняка заподозрят, что я шпион, и станут со мной осторожничать. И скорее всего ничего я не раскрою. Вот только удовлетворит ли гестапо это «ничего»? Способ выяснить существовал только один.
— Ладно, — буркнул я. — Но я не стану подыгрывать вашим людям и городить горы лжи. Чего не могу, того не могу. И даже пробовать не стану. Если они нечестны, то я сообщу вам: да, это так, и скажу себе, что добросовестно выполнил обычную работу детектива. Может, стану мучиться потом, а может, и нет. Но если люди окажутся честные, то и делу конец, понятно? Я не намерен оговаривать кого-то ради того, чтобы у вас и других тупиц на Принц-Альбрехт-штрассе оказалось преимущество. Даже если ты и твой лучший кастет станете доказывать мне, что я должен поступить именно так. И пряник свой можешь оставить при себе. Неохота мне приучаться к сладкому. Сделаю я для тебя, Герхард, эту грязную работенку. Но уж как карты лягут. Никаких крапленых колод. Ясно?
— Ясно. — Флеш поднялся, застегнул пальто и нацепил шляпу. — Хорошей тебе поездки, Гюнтер. Сам я в Палестине никогда не бывал, но слыхал, там очень красиво.
— А может, тебе и стоит прокатиться? — весело предложил я. — Спорю, тебе там понравится. В момент приживешься. В Палестине отделов по еврейскому вопросу полно.
Из Берлина я уехал в последнюю неделю сентября, поездом через Польшу доехал до порта Констанца в Румынии. И только там, сев на теплоход «Румыния», я наконец встретил тех двоих из СД, оба они были сержантами, которые по легенде представлялись журналистами, пишущими для «Берлинер тагеблатт». Газета эта до 1933 года принадлежала евреям, а потом ее конфисковали нацисты.
Главным был Герберт Хаген. Второго звали Адольф Эйхман.[1] Хагену было лет двадцать с хвостиком, интеллигентного вида, выпускник университета; семья его принадлежала к высшим слоям общества. Эйхман был несколькими годами постарше; до того как вступить в партию и СС, он торговал бензином в Австрии и сейчас рвался подняться повыше. Антисемитами оба были странными: их властно притягивал иудаизм. У Эйхмана имелся большой опыт работы в отделе по еврейскому вопросу, он даже говорил на идиш и большую часть плавания провел за чтением книги Теодора Герцля «Еврейское государство». Идею этой поездки подал Эйхман, и, к его удивлению и радости — он никогда прежде не выезжал никуда из Австрии и Германии, — его начальники согласились. Хаген был большим приверженцем идеологии нацизма и истовым сионистом, веря, что «самый ярый враг партии — еврей» и в подобную же чепуху и что «решение еврейского вопроса возможно только одно — очищение Германии от евреев». Слушать его рассуждения на эту тему я терпеть не мог. Мне они представлялись бредом сумасшедшего, будто рассуждения некоей злобной Алисы в Стране чудес.
Ко мне оба относились с подозрением, как я и предполагал, и не только из-за того, что я не состоял в СД, но и потому, что я был старше них — Хагена так вообще на десять лет. И вскоре они в шутку стали называть меня «Папашей», что я сносил с достоинством. Во всяком случае, с большим, чем Хаген, которого я в отместку (к великому удовольствию и развлечению Эйхмана) стал называть Хирамом Шварцем, так звали юнца, недавно опубликовавшего свой дневник, и это очень злило Хагена. В результате ко второму октября, когда мы доехали до Яффы, Эйхман испытывал ко мне большее расположение, чем его более юный и менее опытный коллега.
Внешность у Эйхмана была ничем не впечатляющая, и я еще тогда подумал, что, пожалуй, он из тех, кто лучше смотрится в форме. А вскоре даже начал подозревать, что форма и стала главной причиной его вступления в СА, а потом в СС. Потому как для службы в регулярной армии, если в то время вообще существовала армия, он вряд ли годился: росточка ниже среднего, с кривыми ногами и худющий — дальше некуда. На верхней челюсти поблескивали две золотые коронки, а в других длинных зубах было полно пломб. Голова напоминала череп — почти точная копия черепа на кокардах эсэсовцев — костлявая, с запавшими висками. Меня поразило: как же он похож на еврея! И мелькнула мысль, что, пожалуй, его ярая антипатия к древней нации как раз отсюда и проистекает.
С той минуты, как «Румыния» пришвартовалась в Яффе, для этих парней из СД все пошло наперекосяк. Видимо, англичане заподозрили, что Хаген с Эйхманом из немецкой разведки, и после долгих споров выдали им разрешение сойти на берег всего на двадцать четыре часа — к сильнейшей досаде Эйхмана, все планы которого рухнули. Мне визу, позволявшую оставаться в Палестине тридцать дней, выдали незамедлительно и без проблем. Как в насмешку, потому что пробыть тут я намеревался самое большее дней пять. Эйхман всю дорогу из порта в отель «Иерусалим», стоявший на окраине знаменитой германской колонии, не переставал сокрушаться по поводу изменения планов. Ехали мы туда вместе с багажом в коляске, запряженной лошадьми.
— Ну и что теперь делать? — громко сетовал он. — Все самые важные встречи назначены на послезавтра. А к этому времени мы должны вернуться на пароход.
Я улыбался про себя, наслаждаясь его смятением, — меня радовала любая препона для СД. И еще хорошо, что это освобождало меня от тягот изобретать какие-то небылицы для гестапо. Шпионить за людьми, которым отказали в визе, никак невозможно. Я даже потешил себя мыслью: а вдруг гестапо подобный поворот покажется забавным, и мне простят отсутствие конкретной информации.
— Может, Папаше встретиться с ними? — предложил Хаген.
— Мне? — вскинулся я. — Забудь, Хирам.
— И все-таки я никак не пойму, почему это тебе дали визу, а нам нет, — все скулил Эйхман.
— Да потому, разумеется, что он помогает этому жиду и доктору Зиксу, — высказался Хаген. — Еврей, видно, и организовал его поездку.
— Может, и так, — откликнулся я. — А может, вы, парни, просто не слишком-то здорово справляетесь с работой. Будь вы половчее, так придумали бы для прикрытия чего получше этой байки, будто вы оба работаете для нацистской газеты. Да мало того что нацистской, так вдобавок еще конфискованной у прежних владельцев, евреев. Выбрали бы чего поскромнее. — Я улыбнулся Эйхману. — Скажем, назвались бы торговцами бензином.
До Хагена юмор дошел. Но Эйхман был все еще слишком расстроен и не уловил, что над ним насмехаются.
— Франц Рейхерт! — осенило его. — Из Германского агентства новостей. Я могу позвонить ему в Иерусалим. Думаю, он знает, как связаться с Файвелем Полкесом. Но вот как нам все-таки связаться с Хадж Амином, ума не приложу. — Он вздохнул. — Что же теперь делать-то?
Я пожал плечами:
— А что бы вы стали делать сейчас? Сегодня. Если б все-таки получили свою тридцатидневную визу?
— Ну, — Эйхман тоже пожал плечами, — посетили бы германскую колонию франкмасонов в Сароне. Поднялись на гору Кармель. Взглянули на еврейские фермерские поселения в долине Джезрил.
— Тогда мой вам совет — вперед! Посетите и поднимитесь. И позвоните Рейхерту. Объясните ситуацию и возвращайтесь на корабль. Завтра он отплывает в Египет, так ведь? Значит, как прибудете туда, отправляйтесь в британское посольство в Каире и подайте заявление на новую визу.
— Он прав, — поддержал меня Хаген. — Именно так нам и следует поступить.
— Мы можем подать заявление еще раз! — закричал Эйхман. — Конечно же! Получим визу в Каире и снова приедем сюда, по суше.
— В точности как дети Израиля, — прибавил я.
Коляска выехала с узких грязных улиц старого города в новый город Тель-Авив и набрала скорость, катясь по дороге пошире. Напротив башни с часами и арабских кофеен стоял Англо-Палестинский банк, где мне полагалось встретиться с управляющим и отдать ему рекомендательные письма от Бегельмана и из банка Вассермана и конечно же горбатый сундучок, который Бегельман поручил мне вывезти из Германии. Что в нем — я понятия не имел, но, судя по тяжести, вряд ли коллекция марок. Тянуть с визитом в банк не стоило, я ничего не выигрывал. Не в таком городе, как Яффа, наводненном враждебно настроенными арабами (хотя, возможно, они принимают нас за евреев, а к ним местное палестинское население особой любви не испытывает). Поэтому я велел кучеру остановиться и с сундучком под мышкой и письмом в кармане вылез, оставив Эйхмана и Хагена ехать дальше в отель с остальным моим багажом.
Управляющим банком оказался англичанин по имени Квинтон. Руки у него были коротковаты для пиджака, а светлые волосы до того тонкие, что казалось, их нет вовсе. Курносый нос в россыпи веснушек и улыбка молодого бульдога. Познакомившись с ним, я невольно представил себе сурового папашу Квинтона с длинной линейкой в руке, заставлявшего сына зубрить немецкий. Учитель, надо думать, из него был отличный, потому что молодой мистер Квинтон говорил на превосходном немецком, разбавляя речь эмоциональными междометиями, точно декламируя «Гибель Магдебурга» Гете.
Квинтон провел меня к себе в кабинет. Там на стене висела крикетная бита и несколько снимков команд. Под потолком медленно крутился вентилятор, гоняя горячий воздух. За окном открывался великолепный вид на Магометанское кладбище и Средиземное море за ним. Часы на башне невдалеке пробили час, и муэдзин с мечети по другую сторону Хауэрд-стрит призвал правоверных на молитву. Да, далековато меня занесло от Берлина.
Управляющий вскрыл конверты ножом — надеюсь, для разрезания бумаги — в форме маленького ятагана.
— Правда, что евреям в Германии не разрешается исполнять Бетховена и Моцарта? — поинтересовался он.
— Музыку этих композиторов им запрещено исполнять на еврейских концертах, — ответил я. — Но не просите меня, мистер Квинтон, объяснить почему, я не в состоянии. По-моему, вся наша страна попросту рехнулась.
— А вы бы попробовали пожить тут! Евреи и арабы готовы глотки друг другу перегрызть. А мы — посередке. Ситуация невыносимая. Евреи ненавидят британцев, потому что те не позволяют, чтобы все желающие приезжали на жительство в Палестину. А арабы ненавидят нас, потому что мы вообще разрешаем евреям приезжать сюда. В данный момент нам везет: друг друга они ненавидят сильнее, чем нас. Но в один прекрасный день вся страна ринется на англичан, нам придется уехать, и тут станет еще хуже. Попомните мои слова, герр Гюнтер.
За разговором Квинтон читал письма и сортировал бумаги: какие-то листы были чистыми, но с подписью. Наконец он принялся объяснять, что делает:
— Это письма-аккредитации. И образцы подписей для новых банковских счетов. Один из них станет общим счетом для вас и доктора Зикса. Все верно?
Я нахмурился: мне не особенно нравилась идея делить что-то с начальником отдела по еврейскому вопросу в СД.
— Ну, не знаю…
— С этого счета вы должны снять деньги для аренды собственности тут, в Яффе, — сказал он. — А также свой гонорар и на расходы. Остаток будет выплачен доктору Зиксу по предъявлении банковской книжки, которую я дам вам для передачи ему, и паспорта. Пожалуйста, объясните ему все как следует. Банк настаивает, чтобы владелец банковской книжки имел при себе также и паспорт. Только тогда ему будут выданы деньги. Это ясно?
Я кивнул.
— А можно взглянуть на ваш, герр Гюнтер?
Я протянул ему паспорт.
— Снять офис в Яффе вам поможет Соломон Рабинович, — заметил он, пролистывая мой документ и переписывая номер, — польский еврей, но человек разумный и очень предприимчивый. Такого больше в этой безумной стране и не найдешь. У него контора на улице Монтефиоре в Тель-Авиве, примерно в полумиле отсюда. Я дам вам его адрес. Само собой, в арабском квартале ваш клиент не захочет снимать помещение. Это означало бы напрашиваться на неприятности.
Он вернул мне паспорт и кивнул на сундучок Бегельмана:
— Как я понимаю, это ценности вашего клиента, которые он желает хранить в нашем сейфе в ожидании его прибытия в страну?
Я опять кивнул.
— В одном из этих писем дается опись содержимого сундука, — сказал он. — Желаете проверить ценности по описи, прежде чем передавать нам?
— Нет.
Обойдя стол, Квинтон забрал сундучок.
— Господи, а тяжеленный! Подождите тут, пожалуйста, я распоряжусь выписать для вас банковскую книжку. Желаете чаю? Лимонада, может быть?
— Чаю, — попросил я. — Чай будет очень кстати.
Завершив дела в банке, я отправился в отель. Оказалось, что Хаген и Эйхман уже ушли. Так что, приняв прохладную ванну, я поехал в Тель-Авив, встретился с Рабиновичем и попросил его подыскать подходящее помещение для Пауля Бегельмана.
Своих спутников из СД я увидел только за завтраком на следующее утро. Слегка помятые, они спустились, жаждая выпить черного кофе. Накануне они устроили себе разгульную ночку в клубе где-то в старом городе.
— Перебрали араки, — прошептал Эйхман. — Это местная выпивка такая. Виноградное вино со вкусом конопли. Старайся не пить, если удастся.
Улыбнувшись, я закурил и отогнал дым, заметив, что его замутило.
— Сумели связаться с Рейхертом?
— Да. Он тоже был с нами вчера. Но с Полкесом — нет. Так что он может появиться тут, разыскивая нас. Ты не возражаешь встретиться с ним буквально на несколько минут и объяснить ситуацию?
— Какую ситуацию?
— Что планы у нас переменились. Мы все-таки не сумеем сюда вернуться. Рейхерт думает, что нам вряд ли повезет и в Каире получить визу.
— Сожалею, — вздохнул я. Хотя вовсе не сожалел.
— Передай ему, что мы уехали в Каир, — продолжил Эйхман, — и остановимся там в отеле «Националь». Попроси, пусть приедет к нам на встречу.
— Ну, не знаю, — протянул я. — Неохота мне ввязываться в ваши дела.
— Но ты же немец, — настаивал он. — Значит, уже ввязался, желаешь ты того или нет.
— Да, но вы нацисты, а я нет.
Эйхман оторопел:
— Как это — работаешь на СД и не нацист?
— Таков уж он, забавный старый мир. Только не говори никому.
— Послушай, пожалуйста, встреться с ним, хотя бы из любезности. Я могу, конечно, оставить для него письмо, но будет выглядеть приличнее, если ты поговоришь с ним лично.
— Кто он вообще, этот Файвеля Полкес? — осведомился я.
— Палестинский еврей, работает на «Хагану».
— А «Хагана» — это что?
Эйхман утомленно улыбнулся. Он сидел бледный и обильно потел. Мне было его почти жалко.
— Не очень-то много ты знаешь про эту страну, верно?
— Хватило, чтобы получить тридцатидневную визу, — съязвил я.
— «Хагана» — это подпольная военная организация евреев и разведслужба.
— То есть ты имеешь в виду — террористическая организация?
— Ну, можно сказать и так.
— Ладно. Я встречусь с ним. Из любезности. Но мне нужно знать все. Владея лишь обрывками информации, с подонками-убийцами я встречаться не стану.
Эйхман колебался. Я знал, он мне не доверяет. Но то ли у него было такое глубокое похмелье, что ему было уже наплевать на все, то ли он наконец понял, что иного выбора, как только играть со мной честно, у него нет.
— «Хагана» хочет, чтобы мы поставляли оружие для борьбы с англичанами тут, в Палестине, — ответил он. — А если СД продолжит способствовать эмиграции евреев из Германии, они также предлагают снабжать нас информацией о войсках англичан и передвижениях их флота в Восточном Средиземноморье.
— Евреи помогают своим же гонителям? — расхохотался я. — Но это ж абсурд! — Эйхман не смеялся. — Ведь правда?
— Все не так, — возразил Эйхман. — СД уже финансировала несколько тренировочных лагерей для сионистов в Германии. Там молодые евреи будут обучаться вести сельское хозяйство, это им понадобится, чтобы стать фермерами на палестинской земле. А «Хагана», финансируемая национал-социалистами, всего лишь один из возможных вариантов нашей политики. И это одна из причин, почему я приехал сюда. Оценить точно, какова численность людей в «Хагане», «Иргуне» и других еврейских добровольческих группировках. Слушай, я понимаю, трудно поверить, но дело в том, что евреи англичан не любят еще больше, чем нас.
— А при чем здесь Хадж Амин? Вы с ним тоже должны встретиться? — поинтересовался я. — Он ведь араб?
— Хадж Амин — на случай, если наша просионистская политика не сработает. Мы планировали встретиться с некоторыми членами Верховного арабского комитета; тут, в Палестине — с Хадж Амином. Но, похоже, англичане распорядились о роспуске комитета и аресте его членов. Несколько дней назад в Назарете был убит помощник верховного комиссара Галилеи, и Хадж Амин скрывается в старом городе в Иерусалиме, но хочет попробовать ускользнуть оттуда и встретиться с нами в Каире. Так что, как сам видишь, в Яффе у нас одна забота — Полкес.
— Напомни мне, Эйхман, чтобы я никогда не садился играть с тобой в карты, — бросил я. — А уж если сяду, то чтоб ты непременно снял пиджак и закатал рукава рубашки.
— Передай Файвелю Полкесу только одно — пусть приедет в Каир. Он поймет. Но ради всего святого, не вздумай упоминать великого муфтия.
— Что еще за муфтий?
— Хадж Амин, — пояснил Эйхман. — Он и есть великий муфтий в Иерусалиме. Верховное лицо религиозного закона в Палестине. Англичане назначили его в тысяча девятьсот двадцать первом году, что делает его самым могущественным арабом в стране. Он яростный антисемит. В сравнении с ним фюрер просто обожает евреев. Хадж Амин объявил евреям джихад. И потому «Хагана» и «Иргун» жаждут видеть его мертвым. И потому лучше, чтобы Файвель Полкес не знал, что мы планируем встретиться и с Амином. Полкес конечно же заподозрит, что такая встреча состоится. Но это уж его проблема.
— Надеюсь только, что она не станет моей, — вздохнул я.
День спустя после того, как Эйхман с Хагеном отбыли на пароходе в Александрию, в отеле «Иерусалим» объявился разыскивающий их Файвель Полкес. Польский еврей лет за тридцать, дымящий без перерыва. Щеголял он в помятом легком костюме и соломенной шляпе. Ему явно не мешало побриться, но в сравнении с русским евреем, сопровождавшим его и тоже не вынимавшим сигареты изо рта, он казался гладко выбритым. Спутнику его, Элиаху Голомбу, было за сорок, и весь он, с мощными плечами и обветренным лицом, точно был высечен из гранита. Пиджаки у обоих были застегнуты на все пуговицы, хотя жарища стояла обжигающая. Застегнутый в жаркий день пиджак означает обычно одно. Когда я объяснил ситуацию, Голомб выругался по-русски, а я, стараясь сгладить ситуацию — эти люди были все-таки террористами, — указал на бар и пригласил их выпить. За мой счет.
— Ладно, — кивнул Полкес, говоривший на хорошем немецком. — Но не здесь. Давайте двинем куда-нибудь еще. У меня машина на улице.
Соглашаться меня совсем не манило: одно дело — выпить с ними в баре отеля и совсем другое — отправляться неведомо куда в машине с людьми, чьи застегнутые пиджаки недвусмысленно сообщали: они вооружены и, вероятно, опасны. Заметив мое замешательство, Полкес заверил:
— Приятель, ты будешь в полной безопасности. Воюем мы против англичан, не против немцев.
У отеля мы погрузились в салон двухцветного «райли», и Голомб отъехал медленно, как человек, не желающий привлекать к себе лишнего внимания. Мы двинулись на северо-восток, через германскую колонию роскошных белых вилл, известную под названием Маленькая Валгалла, затем, повернув налево, переехали через железнодорожные пути в Хашакар-Херцл. Еще раз свернули налево в Лилиен-Блум и остановились у бара, по соседству с кинотеатром. Находимся мы, сообщил Полкес, в центре садового пригорода Тель-Авива. Воздух тут благоухал ароматом цветущих апельсиновых деревьев и моря. Все выглядело аккуратнее и чище, чем в Яффе. Во всяком случае, более по-европейски. И я отметил это вслух.
— Естественно, ты чувствуешь себя как дома, — согласился Полкес. — В этом районе живут только евреи. А поселись тут арабы, и весь пригород превратился бы в писсуар.
Мы зашли в кафе со стеклянной витриной вместо передней стены, вывеска была написана на иврите, называлось кафе «У Капульски». По радио играла музыка, по-моему еврейская. По плиточному полу возила тряпкой женщина, ростом почти карлица. Заднюю стену украшал портрет старикана, немного похожего на Эйнштейна, но без вислых усов, с буйной шевелюрой, в рубашке с открытым воротом. Кто это такой, я понятия не имел. Рядом с этим портретом висел еще один: человека, похожего на Маркса. Я узнал основателя современного сионизма Теодора Герцля, потому что у Эйхмана в папке (которую он именовал «досье евреев») лежала его фотография. Глаза бармена следили за нами, пока мы, отодвинув занавеску из бус, шли в душный задний зал, заставленный ящиками с пивом; стулья там были опрокинуты на столы. Полкес спустил три стула на пол, а Голомб прихватил из ящика три пива, сдернул с бутылок крышечки большими пальцами и водрузил их на стол.
— Ловкий трюк! — похвалил я.
— Ты бы посмотрел, как он открывает консервы с персиками, — обронил Полкес.
Здесь тоже была жарища. Сняв пиджак, я закатал рукава рубашки. Но оба еврея остались сидеть в пиджаках, по-прежнему наглухо застегнутых. Я кивком указал на бугры у них под мышками:
— Все нормально. Я видел пистолеты и прежде. Увижу ваши, мне не станут потом сниться кошмары.
Полкес перевел мою речь на иврит, Голомб, улыбаясь, покивал, оскалив большущие зубы, желтые, словно обычно он обедал сеном, и снял пиджак. Полкес — тоже. У каждого из них оказалось при себе по здоровущему «Уэбли». Мы закурили, отхлебнули по глотку теплого пива и поглядели друг на друга. Я больше внимания уделил Голомбу, потому что главным тут, похоже, был он.
— Элиаху Голомб, — сказал Полкес, — член Верховного командования «Хаганы». Он одобряет радикальную политику вашего правительства в отношении евреев, так как «Хагана» убеждена, что это способствует укреплению силы еврейского населения в Палестине. Что означает одно: в перспективе еврейское население по численности превзойдет арабское, и тогда мы сумеем завладеть всей страной.
Теплое пиво я всегда терпеть не мог и ненавижу хлебать его из бутылки. Меня бесит, когда приходится пить из бутылки. Лучше уж не пить вовсе.
— Давайте кое-что проясним, — сказал я. — Это не мое правительство. Я ненавижу нацистов. И будь у вас хоть капля здравого смысла, вы тоже ненавидели бы их. Это кучка чертовых брехунов, ни единому их слову верить нельзя. Вы верите в свое дело. Это замечательно. Но в Германии мало во что стоит верить. Разве только в то, что пиво всегда следует подавать холодным и с высоченной шапкой пены.
Полкес переводил мои слова, и, когда он закончил, Голомб закричал что-то на иврите. Но я еще не завершил своей обличительной диатрибы.
— Желаете знать, во что верят нацисты? Люди вроде Эйхмана и Хагена? В то, что ради Германии можно мошенничать. Ради нее можно лгать. И вы — чертовы простаки, если считаете по-другому. Даже теперь эти два нацистских клоуна готовятся встретиться в Каире с вашим другом, великим муфтием. Они заключат с ним сделку. А потом, на другой день, заключат сделку с вами. После чего отправятся обратно в Германию и станут выжидать, какая из двух больше понравится Гитлеру.
Появился бармен с тремя кружками холодного пива, поставил их на стол.
— Думаю, — улыбнулся Полкес, — ты понравился Элиаху. Он хочет знать, зачем в Палестине ты. С Эйхманом и Хагеном.
Я рассказал им, что я частный детектив и про поручение Пауля Бегельмана.
— Так что теперь вам известно, тут нет ничего благородного, — заключил я. — Мне просто щедро платят за труды.
— Ты не кажешься мне человеком, который действует исключительно ради выгоды, — заявил Голомб через Полкеса.
— Я не могу позволить себе иметь принципы, — ответил я. — В Германии — нет. Там люди с принципами кончают в концлагере Дахау. А я побывал в Дахау. И мне там совсем не понравилось.
— Ты был в Дахау? — удивился Полкес.
— Да, в прошлом году. Мимолетный, можно сказать, визит.
— Много там евреев?
— Около трети заключенных. Остальные — коммунисты, гомосексуалисты, иеговисты и с десяток немцев с принципами.
— А ты кто?
— Человек, выполняющий свою работу. Как я вам уже говорил, я частный детектив, из-за чего иногда попадаю в крайне опасные ситуации — в нынешние времена такое в Германии случается очень даже легко. А я порой об этом забываю.
— Может, ты не прочь работать на нас? — спросил Голомб. — Нам было бы полезно узнать, что на уме у тех двоих, с кем нам предстоит встретиться. И особенно полезно узнать, о чем они договорились с Хадж Амином.
Я рассмеялся. Последнее время все только и желают, чтобы я за кем-то шпионил. Гестапо хочет, чтоб я шпионил за СД, а теперь «Хагана» вербует меня шпионить для них. Мне даже стало казаться, что не ту я себе профессию выбрал.
— Мы заплатим тебе, — продолжил Голомб. — В деньгах-то мы не ограничены. Файвель Полкес — это наш человек в Берлине. Сможете с ним встречаться время от времени и обмениваться информацией.
— От меня вам в Германии никакой пользы, — возразил я. — Я всего лишь частный детектив, старающийся заработать на жизнь.
— Тогда помоги нам тут, в Палестине. — У Голомба был глубокий, мрачный голос, очень гармонирующий с обилием волос на теле. Он напоминал мне дрессированного медведя. — Мы отвезем тебя в Иерусалим, оттуда вы с Файвелем на поезде поедете в Суэц, а потом в Александрию. Заплатим тебе, сколько попросишь. Помоги нам, Гюнтер. Помоги сделать эту страну достойной. Все ненавидят евреев, и правильно. У нас нет ни порядка, ни дисциплины. Мы слишком долго замыкались только на себе. Наша единственная надежда на спасение — это массовая эмиграция евреев в Палестину. Европа для евреев закончилась, герр Гюнтер.
Полкес перевел последние слова и пожал плечами:
— Элиаху — сионист-экстремист. Но его мнение разделяют многие члены «Хаганы». Лично я не согласен с тем, будто евреи заслуживают ненависти. Но он прав в том, что нам нужна твоя помощь. Сколько ты хочешь? Стерлинги? Марки? Может, золотые соверены?
— Из-за денег я вам помогать не стану, — покачал я головой. — Все суют мне деньги.
— Но ты нам все-таки поможешь, — заключил Полкес. — Верно?
— Да, помогу.
— Почему?
— Потому что я был в Дахау, господа. Лучшей причины для помощи и придумать не могу. Если бы вы видели концлагерь, то поняли бы.
Каир — это бриллиант в ручке веера — дельте Нила. Так, во всяком случае, описывает его мой «Бедекер». Вообще-то я этому путеводителю доверяю, но мне город показался больше похожим на вымя на брюхе коровы, которое кормит представителей всех племен в Африке; на континенте это был самый большой город. Но слово «город» — не совсем точное определение для Каира. Каир не просто метрополия, он — настоящий остров, историческое, религиозное и культурное сердце страны; город, ставший моделью для всех других, строившихся после него, но оставшийся неповторимым. Каир и притягивал, и вызывал у меня тревогу.
Я поселился в отеле «Националь», в квартале Исмаил, находившемся меньше чем в километре от Нила и музея Египта. Файвель Полкес жил в «Савое», который располагался на южном конце той же улицы. Размерами «Националь» не уступал крупной деревне, а номера там были огромные, как зал для боулинга. Некоторые были приспособлены под курильни, оттуда доносился едкий запах, и не меньше десятка арабов сидели там на полу, скрестив ноги, куря трубки-кальяны, размерами и формой походившие на лабораторные реторты. В вестибюле сразу бросался в глаза огромный щит английского информационного агентства «Рейтер», и, когда ты входил, так и казалось, что сейчас увидишь лорда Китченера, восседающего в кресле, почитывающего газету и крутящего нафабренные усы.
Я оставил записку для Эйхмана, а позже встретился с ним и Хагеном в баре отеля. С ними пришел третий немец — доктор Рейхерт, тот самый, что работал в Германском агентстве новостей в Иерусалиме, но он, извинившись, быстро ушел, жалуясь на расстройство желудка.
— Съел, видимо, что-то не то, — заметил Хаген. Я прихлопнул муху, усевшуюся мне на шею:
— А может, наоборот, что-то ест его.
— Вчера вечером мы были в баварском ресторане, — объяснил Эйхман, — рядом с Центральным вокзалом. Только сдается мне, ресторан этот не очень-то баварский. Пиво было ничего, сносное. Но венские шницели, по-моему, готовили из конины. А то и из верблюжатины.
Застонав, Хаген схватился за живот. Я сказал им, что привез с собой Файвеля Полкеса и тот остановился в «Савое».
— Вот и нам тоже нужно было там остановиться, — пожаловался Хаген и тут же добавил: — Я знаю, зачем Полкес приехал в Каир, но зачем ты пожаловал сюда, Папаша?
— Ну, во-первых, мне показалось, наш еврейский друг до конца так и не поверил, что вы и в самом деле тут. Так что можешь назвать мой приезд жестом доброй воли, если желаешь. А еще одна причина — я разделался со своим поручением быстрее, чем рассчитывал. И решил, что лучшего случая посмотреть Египет мне не выпадет.
— Спасибо, — поблагодарил Эйхман. — Ценю, что ты привез его сюда. Иначе мы, пожалуй, могли и не встретиться.
— Гюнтер — шпион, — упорствовал Хаген. — Нашел кого слушать.
— Мы подали заявление на получение палестинской визы, — продолжил Эйхман, игнорируя парня. — И нам снова отказали. Хотим подать еще одно завтра в надежде, что наткнемся на консула, который не испытывает неприязни к немцам.
— Не немцев англичане не любят, а нацистов, — объяснил я ему и замолк, но, поняв, что подворачивается удобный случай снискать их расположение, добавил: — Однако кто знает? Может, чиновник, к которому вы попали в прошлый раз, был жид.
— Вообще-то, — заметил Эйхман, — он был, по-моему, шотландец.
— Послушайте, — я взял тон усталой откровенности, — буду играть с вами в открытую. Совсем не ваш босс Франц Зикс попросил меня шпионить за вами, а некий Герхард Флеш из гестапо, из отдела по еврейскому вопросу. Он пригрозил, если я откажусь, как следует поворошить мое расовое происхождение. Конечно, это блеф. В моей семье жидков нет. Но сами знаете, каковы эти гестаповцы. Пропустят человека через все круги ада, пока докажешь, что ты не жид.
— Ну ты-то, Гюнтер, уж меньше всех похож на еврея, — сказал Эйхман.
Я пожал плечами:
— Он охотится за доказательствами коррумпированности вашего департамента. Конечно, доказательства я мог бы ему представить еще до отъезда из Германии — я про свою встречу с Зиксом и Бегельманом. Но я ничего не сказал.
— А что теперь ты намерен ему сообщить? — осведомился Эйхман.
— Немного. Что визы вы не получили, а потому подходящего случая следить за вами у меня не было. Я понял только, что вы мошенничаете с расходами на поездку — какую-то информашку надо же ему подкинуть.
Эйхман покивал:
— Ладно, нормально. Хотя доискивается он, разумеется, вовсе не этого. Гестапо нужны факты посерьезнее, чтобы оттянуть на себя все функции нашего департамента. — Он хлопнул меня по плечу. — Спасибо, Гюнтер. Ты настоящий мужик. Да, можешь сказать ему, что я купил новый легкий костюм, «тропик», за счет расходов. И он отвяжется.
— Но ты и правда купил его за счет расходов, — вставил Хаген. — Не говоря уже о целой куче всякого барахла: тропические шлемы, и москитные сетки, и туристические ботинки. Рюкзак у тебя раздулся, как у итальянского солдата. Не купил только самое нужное — пистолеты, а мы вот-вот отправимся на встречу с самыми опасными террористами на Среднем Востоке…
Эйхман скривился, что не составило ему особого труда: обычное его выражение всегда напоминало гримасу, а губы вечно кривились в циничной ухмылке. Всякий раз, когда он поглядывал на меня, казалось, сейчас он выпалит, что ему не нравится мой галстук.
— Ну извини, — бросил он Хагену, — что я могу теперь поделать?
— Мы уже заходили в наше посольство, просили у них оружие, — сообщил мне Хаген, — но там не выдают без официального разрешения из Берлина. А если мы запросим Берлин, над нами будут смеяться.
— А разве нельзя зайти в оружейный магазин и купить? — удивился я.
— Англичан так тревожит ситуация в Палестине, что они запретили в Египте продажу оружия, — объяснил Хаген.
Я все придумывал способ, как бы втереться на их встречу с Хадж Амином, и теперь меня осенило — как.
— Я могу достать оружие, — предложил я. Я знал человека, который наверняка одолжит мне револьвер.
— Но где? — удивился Эйхман.
— Я ведь служил полицейским в «Алексе», — начал я, не собираясь посвящать их в подробности. — Всегда есть возможность раздобыть оружие, особенно в таком огромном городе. Надо только знать, где искать. А подпольная жизнь во всем мире одинакова.
Я отправился в «Савой» к Файвелю Полкесу.
— Я нашел способ попасть на их встречу с Хадж Амином, — сообщил я ему. — Они боятся «Исламского джихада», Мусульманского братства молодежи, «Хаганы», но как-то умудрились забыть свое оружие в Германии.
— И правильно боятся, — отозвался Полкес. — Если бы ты не согласился шпионить за ними, мы могли бы прикончить их. А вину взвалить на арабов. У нас это и раньше удачно получалось. Вероятно, у великого муфтия бродят сходные мысли — взвалить какое-то свое преступление на нас. Тебе, Берни, тоже следует быть поосторожнее.
— Я им обещал, что куплю оружие, и предложил им свои услуги телохранителя.
— Ты знаешь, где купить оружие в Каире?
— Нет. Я вообще-то надеялся попросить твой «Уэбли».
— Без проблем. Я легко могу раздобыть другой. — Сняв пиджак, он расстегнул наплечную кобуру и протянул мне ствол. «Уэбли» весил не меньше тома энциклопедии и был почти таким же громоздким. — Отличная точность, сорок пятый калибр, — объяснил он. — Если тебе придется стрелять из него, запомни две особенности. Во-первых, отдача у него, точно мул лягается. И второе, за ним тянется кое-какой хвост, ты понимаешь, про что я. Так что потом непременно брось его в Нил. И еще — будь осторожен.
— Про это ты мне уже говорил.
— Я серьезно. Бандиты Хадж Амина уже убили Льюиса Эндрюса, помощника верховного комиссара Галилеи.
— Я думал, это твоя группа поработала.
— На этот раз, — ухмыльнулся Полкес, — нет. Мы сейчас в Каире. А Каир — не Яффа. Англичане тут ведут себя осторожно. Хадж Амин не задумываясь прикончит вас троих, стоит ему заподозрить, что вы готовы заключить сделку с нами. Так что, даже если его слова не придутся тебе по душе, притворись, будто нравятся. Эти люди безумны. Они религиозные фанатики.
— Да ведь и вы тоже. Разве нет?
— Нет. Мы просто фанатики. А это разница. Мы не рассчитываем, что Бог радуется, когда мы сносим кому-то башку. А они — да. Вот это и делает их безумцами.
Встреча происходила в просторном люксе, забронированном Эйхманом для себя в отеле «Националь». На великом муфтии Иерусалима — он был ниже на голову всех остальных в комнате — красовались тюрбан и какая-то длинная черная хламида. Чувства юмора он был явно лишен напрочь и держался с видом важным, чванливым и значительным, чему, несомненно, весьма способствовало раболепие, с каким суетились вокруг него спутники. С превеликим любопытством я вдруг обнаружил, что он на удивление похож на Эйхмана. Для полного сходства Эйхману не хватало только седеющей бороды. Может, именно этим объясняется, что они так хорошо поладили?
Сопровождали Хадж Амина пятеро, все в мышиного цвета костюмах «тропик» и тарбушах, египетском варианте фески. Переводчик смотрел глазами убийцы, щеголял усиками а-ля Гитлер, только седыми, а на шею ему наползал второй подбородок. В руках он держал толстенную резную трость, под пиджаком, как и у всех других арабов — за исключением самого Хадж Амина, — бугрилась наплечная кобура.
Хадж Амин, ему было чуть за сорок, говорил только на арабском и французском, но переводчик у него был отличный. Германский журналист Франц Рейхерт, уже оправившийся от расстройства желудка, переводил на арабский слова чиновников из СД. Я устроился поближе к двери, слушая беседу и изображая бдительность, подобающую телохранителю, на роль которого я сам напросился. В основном разглагольствовал Хадж Амин — я был в шоке от агрессивности его антисемитизма. Хаген с Эйхманом евреев тоже не любили — явление в Германии достаточно распространенное. Они рассказывали анекдоты про евреев, желали, чтоб тех исключили из общественной жизни Германии, но до Хадж Амина им было далеко — тот ненавидел евреев неистово, как собака ненавидит крыс.
— Евреи, — надрывался Хадж Амин, — так сильно изменили жизнь в Палестине, что, если не взять ситуацию под контроль, это неизбежно приведет к уничтожению в Палестине арабов. Мы не возражаем, когда люди приезжают в страну как гости. Но евреи явились в страну как враждебные оккупанты, привезли с собой все ловушки современной европейской жизни, а они — оскорбление самим корням священного ислама. К европейскому образу жизни мы не привыкли и не желаем его. Мы хотим, чтобы страна наша оставалась такой, какой была до того, как к нам понаехали евреи. Такой прогресс нам не нужен. Не нужно процветание. Прогресс и процветание — это враги истинного ислама. И хватит с нас всяких переговоров. С англичанами, евреями, французами. Теперь вот с немцами. Заявляю вам — сейчас только меч решит судьбу нашей страны. Вы должны знать это, если политика Германии — поддерживать сионизм. А наша политика — истребить всех сионистов и их сторонников под корень, до последнего человека.
Но пришел я на встречу, герр Эйхман, не для того чтобы угрожать вашему фюреру. Германия не империалистическая страна, вроде Британии. И в прошлом она не вредила ни одному арабскому или мусульманскому государству, а во время войны была союзником Оттоманской империи. Я и сам служил в оттоманской армии. Германия всегда воевала с нашими империалистическими и сионистскими врагами: с французами, британцами, русскими, американцами. И за это мы испытываем к вашему народу благодарность и восхищаемся его военными талантами. Только, герр Эйхман, не надо больше присылать к нам евреев.
Я прочитал великую книгу фюрера. В переводе, конечно, но льщу себя надеждой, что понял умонастроение автора. Он ненавидит евреев из-за поражения, которое они принесли Германии в тысяча девятьсот восемнадцатом году. Он ненавидит евреев, потому что еврей Хаим Вейцман[2] изобрел ядовитый газ, от которого фюрер пострадал в войну — временно ослеп. Он ненавидит евреев, потому что именно еврей вовлек Америку в войну на стороне британских сионистов и помог нанести поражение Германии. Все это, господа, мне понятно и близко, потому что я тоже ненавижу евреев по многим причинам. Но больше всего — за их гонения Христа, который был пророком Аллаха. А потому для мусульманина убить еврея означает обеспечить себе немедленное блаженство в раю в величественном присутствии Всемогущего Бога.
Евреи не только ярые враги мусульман, они — угроза миру. Признание этого факта стало величайшим открытием фюрера. Действовать в соответствии с этим открытием, я считаю, — его великая миссия. Действовать жестко, потому что еврейскую проблему не решить, высылая евреев в Палестину. Необходимо найти другое решение, радикальное. Передайте это своим начальникам. Лучший способ расправиться с еврейской проблемой — это осушить поток беженцев из Европы. И я даю фюреру торжественный обет: я стану помогать ему в уничтожении Британской империи, если он пообещает ликвидировать все еврейское население Палестины. Все евреи повсюду должны быть уничтожены.
Даже Эйхмана покоробили речи великого муфтия. А Хаген, делавший записи, рот раскрыл в изумлении от откровенной жестокой простоты предложения муфтия. Рейхерт тоже оторопел. Но они все-таки сумели взять себя в руки и пообещали Хадж Амину, что точно передадут его мысли своим начальникам в Берлине. Обменялись официальными письмами, и Эйхман закончил беседу заверениями, что они обязательно встретятся еще. Никаких важных соглашений заключено не было, но у меня осталось чувство, что суждения муфтия произвели на обоих чиновников СД весьма сильное впечатление.
Когда великий муфтий с сопровождающими покидал номер «Националя», его араб-переводчик напоследок с улыбкой заметил: англичане твердо убеждены, что все еще крепко держат Хадж Амина запертым в ловушке в мусульманском районе Иерусалима (хотя они конечно же не осмеливаются вторгаться туда для его розысков).
Мы переглянулись, закурили и удивленно покачали головами.
— Никогда не слыхал подобного бреда, — заметил я, подходя к окну и глядя, как Хадж Амин и его люди загружаются в неприметный бронированный автофургон. — Сумасшествие чистейшей воды. Этот тип вконец спятил.
— Да, — согласился Хаген. — И все-таки в его безумии проглядывает некая незамысловатая логика, как считаете?
— Логика? — чуть недоверчиво повторил я. — Что ты имеешь в виду?
— Я согласен с Гюнтером, — вступил Рейхерт. — Мне тоже все это представляется настоящим безумием. Что-то вроде крестового похода. Не поймите меня неправильно, я не поклонник евреев, но нельзя же уничтожать целую расу!
— Сталин уничтожил в России целый класс, — возразил Хаген. — Если подумать, даже два или три класса. Расправившись с буржуазией, кулаками и крестьянами, он мог бы нацелиться и на евреев. Последние пять лет Сталин занимается тем, что вынуждает украинцев умирать голодной смертью. А почему нельзя уморить голодом евреев? Конечно, это порождает множество проблем. Так что по сути мое мнение остается неизменным: нам следует и дальше высылать их в Палестину. Ну а что уж тут с ними произойдет — это не наша забота.
Хаген тоже подошел к окну и закурил.
— Хотя я считаю, что учреждению независимого еврейского государства в Палестине нужно всячески препятствовать. Это я понял после того, как приехал сюда. Такое государство вполне сумеет проводить дипломатическое лоббирование против правительства Германии — склонить Штаты к войне с нашей страной, например. Этому следует помешать.
— Я надеюсь, что все же никто не отрицает необходимости куда-то высылать мерзавцев? — спросил Эйхман. — На Мадагаскар бессмысленно. Туда евреи ни за что не поедут. Так что или сюда, или… ну, как Хадж Амин предлагает… Хотя не думаю, чтобы кто-то в СД согласился на такое решение проблемы. Это уж через край.
Рейхерт взял письмо муфтия. На конверте было написано: «Адольфу Гитлеру».
— Как думаете, он высказывает нечто подобное и в письме?
— Без сомнений, — ответил я. — Вопрос в другом: как вам поступить с письмом?
— И речи быть не может о том, чтобы не передать его начальству! — Мысль о возможности утаить письмо великого муфтия шокировала Хагена больше, чем высказывания этого фанатика. — Просто нереально! Это дипломатическая корреспонденция.
— Но не дипломатичная, — обронил я.
— Тем не менее письмо обязательно требуется доставить в Берлин. Отчасти ради этого, Гюнтер, мы и приехали сюда. Нам нужно предъявить какие-то результаты нашей миссии. Тем более теперь, когда мы знаем, что за нами следит гестапо. Плутовать с расходами — одно, а прокатиться в Палестину попусту — совсем другое. Это выставит нас дураками в глазах генерала Гейдриха и уничтожит возможность карьеры в СД.
— Разумеется, про это нечего и думать, — поддержал Эйхман, у него желание выдвинуться любыми способами было не меньше, чем у Хагена.
— Гейдрих, может, и негодяй, — заметил я. — Но негодяй умный. Он слишком умен, чтобы, прочитав письмо, не понять, что муфтий — совершеннейший псих.
— Все возможно, — сказал Эйхман. — К счастью, адресовано письмо не Гейдриху, верно? А фюреру. И ему лучше знать, как реагировать на…
— Один безумец другого всегда поймет, — перебил я. — Ты это хочешь сказать, Эйхман?
От ужаса Эйхман чуть не задохнулся:
— Ничего подобного! И в мыслях такого… — Побагровев до корней волос, он беспомощно оглянулся на Хагена и Рейхерта. — Господа, пожалуйста, поверьте мне. Ничего такого я не имел в виду. Я безмерно восхищаюсь фюрером!
— Конечно, Эйхман, конечно, — покивал я.
Эйхман наконец перевел взгляд на меня:
— Гюнтер, ты ведь не расскажешь Флешу? Пожалуйста, пообещай, что не сообщишь в гестапо.
— И не собирался. Да забудь. Ну а что вы собираетесь делать с Файвелем Полкесом? Как насчет «Хаганы»?
К Полкесу в Каир для встречи с Эйхманом и Хагеном приехал Элиаху, едва успев проскользнуть до того, как англичане закрыли границу после нескольких взрывов бомб, устроенных в Палестине арабами и евреями. Перед встречей я увиделся с Голомбом и Полкесом в их отеле и пересказал им все, что говорилось на встрече с Хадж Амином. Некоторое время Голомб призывал всяческие беды с небес на голову муфтия. Потом попросил моего совета, какую линию поведения избрать с Эйхманом и Хагеном.
— Думаю, тебе следует постараться убедить их, что в любой гражданской войне с арабами победит «Хагана», — посоветовал я. — Немцы восхищаются силой и любят победителей. Только англичане обожают побитых собак.
— Мы победим, — твердо заявил Голомб.
— Они-то этого не знают. Думаю, будет ошибкой просить у них военной помощи — они расценят это как признак слабости. Вы должны убедить их, что вооружены лучше, чем на самом деле. Что у вас имеется артиллерия, танки, самолеты. Возможности проверить, правда ли это, у них все равно нет.
— А как нам это поможет?
— Если они придут к выводу, что победите вы, — объяснил я, — тогда сочтут, что дальнейшая поддержка сионизма — правильная политика. Если же в вашей победе усомнятся, тогда и не угадать, куда они станут высылать из Германии евреев. Я слышал, даже на Мадагаскар.
— Мадагаскар? — изумился Голомб. — Что за нелепость!
— Послушайте, самое важное — убедить их, что еврейское государство может существовать, не являясь угрозой для Германии. Вы же не хотите, чтобы они вернулись в Германию с убеждением, что великий муфтий прав? И всех евреев в Палестине следует истребить?
Встреча прошла гладко. На мой взгляд, Голомб и Полкес тоже рассуждали как фанатики, но, по их словам, не как религиозные безумцы. Впрочем, после бреда великого муфтия любые иные рассуждения казались вполне разумными.
Через несколько дней мы отплыли из Александрии на итальянском пароходе в Бриндизи, там пересели на поезд и 26 октября вернулись в Берлин.
Эйхмана потом я не видел почти год. Но как-то, работая над очередным делом, которое привело меня в Вену, случайно встретился с ним на Принц-Ойген-штрассе, что в Одиннадцатом округе, чуть к югу от площади, которая позже стала называться Сталин-плац. Эйхман выходил из дворца Ротшильдов, который после вторжения вермахта в Австрию в марте 1938 года отняли у владевшей им еврейской семьи, давно ставшей символом богатства, и теперь превратили в штаб-квартиру СД в Австрии. Эйхман к этому времени стал унтерштурмфюрером. Походка его была теперь бойкой и энергичной. Евреи уже стремительно убегали из страны, и Эйхман впервые в жизни обрел настоящую власть. Его отчет начальству после возвращения из Египта явно произвел большое впечатление.
Мы перекинулись всего парой слов, и он тут же забрался в служебную машину и укатил. Я еще, помню, подумал: вот едет эсэсовец, больше всех из носящих форму СС похожий на еврея.
И после войны, натыкаясь на его имя в газете, всякий раз думал про него то же самое. И еще одно я всегда вспоминал про Эйхмана. На пароходе, по пути из Александрии, когда его не трепала морская болезнь, он поведал мне о том, что составляло предмет его непомерной гордости: мальчишкой он жил в Линце и учился в одной школе с Адольфом Гитлером. Может, этот факт отчасти объясняет то, кем он стал. Не знаю.
1
Мюнхен, 1949 год
Наш отель располагался совсем близко от места, где раньше находился концлагерь. Однако, объясняя, как к нам добраться, мы старались без крайней необходимости об этом не упоминать. Отель стоял в восточной части средневекового города Дахау в конце мощеной, обрамленной тополями дороги и отделялся от бывшего концлагеря — сейчас переселенческого пункта для немецких и чешских беженцев от коммунистов — речкой Вюрм. Отель наш — это трехэтажная вилла с крутой двухскатной крышей из оранжевой черепицы и балконом, опоясывающим весь второй этаж, полыхавший красной геранью. Дом знавал и лучшие времена. После того как нацисты, а потом и военнопленные покинули лагерь, постояльцев почти не было, разве что изредка поселится какой инженер-строитель, помогающий руководить частичным сносом концлагеря, в котором я и сам провел несколько очень неприятных недель летом 1936-го. Власти не видели необходимости сохранять остатки лагеря для настоящих или будущих посетителей. Однако большинство жителей городка, и я в том числе, придерживалось мнения, что лагерь — единственная возможность для привлечения денег в Дахау. Но пока надежд на это было мало, потому что мемориальная церковь стояла недостроенной, а братская могила, где было похоронено больше пяти тысяч человек, никак не обозначена. Наплыва туристов в городок не наблюдалось, и, несмотря на все мои старания с геранью, отель потихоньку приходил в упадок. Так что, когда новенький «бьюик-родмастер» затормозил на нашей короткой подъездной дороге, я сказал себе, что двое его пассажиров скорее всего заблудились и остановились, только чтобы узнать дорогу к казармам Третьей американской армии, хотя трудно было понять, как они ухитрились проехать мимо них, не заметив.
Из «бьюика» вышел водитель, потянулся, как ребенок, и взглянул на небо, словно бы недоумевая, что птицы еще поют в таком месте, как Дахау. У меня тоже частенько мелькали такие мысли. Пассажир остался сидеть в машине, глядя прямо перед собой и, возможно, от всей души желая находиться где-нибудь подальше. В чем я ему целиком сочувствовал и, имей я такой же сверкающий зеленый седан, я бы точно катил себе мимо, без задержки. Оба были в штатском, но водитель одет гораздо лучше пассажира. Лучше одет, лучше откормлен, и со здоровьем у него явно было побогаче — во всяком случае, так мне показалось. Танцующей походкой он взбежал по каменным ступеням и уверенно вошел через парадную дверь отеля, точно дом принадлежал ему. И я поймал себя на том, что вежливо киваю загорелому человеку, без шляпы, в очках, с лицом шахматного гроссмейстера, просчитавшего все возможные варианты матча. На заблудившегося он был совсем не похож.
— Вы хозяин? — осведомился он, едва войдя в дверь. Фразу он произнес легко и непринужденно, на хорошем немецком, не глядя на меня в ожидании ответа и небрежно разглядывая интерьер. Здесь все было предназначено для того, чтобы придать помещению уютный вид, но такой уют годился, разве что если жить тут с дояркой. Всюду колокольчики для коров, прялки, чесалки для пеньки, грабли, точила и большой деревянный бочонок, на крышке которого валялись «Зюддойче цайтунг» двухдневной давности и подлинный древний экземпляр «Мюнхенер штадтанцайгер». Стены украшали акварели с изображением местных пейзажей, сценок провинциальной жизни тех времен, когда художники — получше Гитлера — приезжали в Дахау, привлеченные неповторимым очарованием реки Ампер и болотами Дахау; сейчас болота уже почти все осушили и превратили в поля. Акварели — такой же китч, как и часы с кукушкой из золоченой бронзы.
— Ну, можно сказать, хозяин я. Во всяком случае, пока моя жена нездорова. Она сейчас в госпитале в Мюнхене, — ответил я.
— Надеюсь, ничего серьезного. — Американец по-прежнему не смотрел на меня. Его, похоже, куда больше интересовали акварели, чем здоровье моей жены.
— Наверное, вы ищете американские казармы в старом концлагере, — высказал я догадку. — Вы свернули с дороги, а надо было ехать прямо через мост, через речной канал. Отсюда недалеко. По другую сторону вон тех деревьев.
Наконец он оглянулся на меня, и в глазах у него блеснуло лукавство, как у кота.
— Тополя, да? — И пригнулся, выглядывая из окна в сторону лагеря. — Рады, конечно, спорить могу, что тут растут деревья. Так ничто не напоминает вам, что рядом был концлагерь, а? Очень, очень кстати эти тополя.
Игнорируя скрытое обвинение в его тоне, я тоже подошел к окну:
— И вот тут вы, наверное, и заблудились.
— Нет, нет! — возразил американец. — Я не заблудился. Именно этот отель я и искал, если это «Шродербрау».
— Да, это «Шродербрау».
— Значит, мы попали, куда ехали.
Американец был пониже меня, среднего роста, с маленькими руками и ногами. Его рубашка, галстук, брюки и ботинки — всё было различных оттенков коричневого, только пиджак из светлого твида, красивый и явно дорогой. А золотой «ролекс» на запястье подсказал мне, что в гараже у него в Америке стоит машина, пожалуй, подороже «бьюика».
— Мне нужны две комнаты на две ночи, — заявил он. — Для меня и моего друга.
— Боюсь, наш отель вряд ли вам подойдет, а я могу лишиться лицензии.
— Я никому не проболтаюсь, если не скажете вы.
— Пожалуйста, не сочтите меня бестактным, сэр, — я перешел на английский — языку я учился самостоятельно, — но знаете, мы, можно сказать, уже закрыты. Отель принадлежал моему тестю, пока он не умер. А у нас с женой дела идут неважно. По очевидным причинам. А теперь, когда она заболела… — Я пожал плечами. — Да и повар из меня, мягко говоря, посредственный, а вы, я вижу, человек, привыкший к комфорту. Вам будет гораздо удобнее в другом отеле, в «Зиглербрау», например, или «Хёрхэммере» на другом конце города. Оба отеля одобрены для проживания американцев. И в обоих имеются отличные кафе. Особенно в «Зиглербрау».
— Я правильно понимаю: других гостей в отеле нет? — спросил он, не обращая внимания на мои возражения и попытки говорить по-английски. Он изъяснялся по-немецки, понятно, не как мой соотечественник, но со словарем и грамматикой все было в полном порядке.
— Правильно, — подтвердил я. — Номера пустуют. Я же сказал, мы вот-вот закроемся.
— Я спросил только потому, что вы все время повторяете «мы». Ваш тесть умер, жена в больнице. Но вы все твердите «мы», точно тут есть кто-то еще.
— Привычка держателя отеля. Здесь только я и мое умение безупречно обслуживать постояльцев.
Американец вытянул пинтовую бутылку ржаного виски из кармана пиджака и поднял, демонстрируя мне этикетку.
— А могут ваши навыки безупречного хозяина обеспечить пару чистых стаканчиков?
— Это мигом! — Я никак не мог сообразить, что ему нужно. Но уж точно не две комнаты по дешевке — вид у него совсем не тот. И если в его ботинках, до блеска отполированных, и таилась какая ядовитая крыса, я еще ее не учуял. Но вот виски пахло великолепно — честное слово старого гурмана. — А как же ваш друг в машине? Он к нам не присоединится?
— Нет, он не пьет.
Я принес стаканы и не успел спросить, желает ли он добавить в виски воды, как американец уже наполнил оба до краев. Подняв свой против света, он медленно проговорил, задумчиво разглядывая меня:
— Знаете, а вы мне кого-то напоминаете, но вот кого, никак не могу вспомнить.
Я пропустил его замечание мимо ушей. Такое может отпустить только американец или англичанин. В сегодняшней Германии никто не желает припоминать никого и ничего — привилегия побежденных.
— Ну ничего, всплывет, — тряхнул он головой. — Я никогда не забываю лиц. Ладно, неважно. — Он отпил виски и отставил стакан в сторону. Я отхлебнул свое. Я оказался прав: виски было отличным, про что я ему и сказал.
— Послушайте, — начал он. — Так случилось, что ваш отель очень подходит для моих целей. Мне требуются, как я уже сказал, две комнаты на ночь. А может, на две. Зависит от обстоятельств. Деньги у меня есть. Наличные. — Вынув из заднего кармана пачку новехоньких дойчмарок, он снял серебряный зажим и, отсчитав пять двадцаток, что было раз в пять больше цены за две комнаты на две ночи, шлепнул их на стол передо мной. Такие деньги предполагают отсутствие лишних вопросов.
Я допил виски и позволил себе перевести глаза на пассажира, по-прежнему сидящего в «бьюике» на улице. Последнее время я стал несколько близорук, а потому прищурился, стараясь разглядеть его получше. Американец опередил мои вопросы:
— Вы удивляетесь, что с моим другом? Не из странненьких ли? — Он снова наполнил стаканы и ухмыльнулся. — Не волнуйтесь. Теплых чувств друг к другу мы не испытываем, коли вы такое подумали. Если вам доведется поинтересоваться его мнением обо мне, то, думаю, он ответит, что ненавидит меня всем нутром, мразь такая.
— Приятный компаньон в путешествии, — заметил я и взялся за вновь полный стакан. До сотни марок я пока что не дотрагивался, по крайней мере руками. Однако глаза мои то и дело утыкались в эти пять купюр, и американец, заметив это, сказал:
— Давай же, бери деньги. Мы оба знаем, что они тебе нужны. Этот отель не видел постояльцев с того дня, как мое правительство прекратило судебное преследование преступников в Дахау, то есть с прошлого августа. А тому уже почти год, точно? Неудивительно, что твой тесть покончил с собой.
Я молчал. Запашок притаившейся крысы уже щекотал мне ноздри.
— Несладко, наверное, тебе приходится, — продолжил американец. — Очень несладко. Теперь, когда судебные процессы закончились, кому охота приезжать и проводить тут отпуск? Дахау — это вам не Кони-Айленд, верно? Конечно, может, тебе еще и повезет. Может, заполучите с десяток евреев, которым придет охота прогуляться по аллее памяти.
— Переходи к сути, — перебил я.
— Ладно, — согласился американец, залпом допил виски и достал из кармана золотой портсигар, — герр комиссар Гюнтер.
Я принял предложенную сигарету и позволил ему дать мне прикурить. Спичку он зажег о ноготь большого пальца.
— Ты все-таки поосторожнее, — заметил я, — а то, пожалуй, испортишь себе маникюр.
— Или его мне можешь испортить ты? Так?
— Все может быть.
— Не стоит хамить мне, приятель! — расхохотался он. — Другие уже пробовали — эти фрицы до сих пор выгребают крошево изо рта.
— Ну, не знаю, — протянул я. — Не похож ты как-то на крутого парня. Или в этом сезоне у крутых модно так одеваться?
— Знаешь ты там чего или не знаешь, Берни, старина, не так уж для меня и важно. Позволь для начала рассказать тебе, что знаю я. А знаю я много. Например, что вы с женой приехали сюда прошлой осенью, чтобы помогать старику управлять отелем. А он покончил с собой как раз накануне Рождества, и твоя жена свихнулась из-за этого. И что раньше ты служил криминал-комиссаром в «Алексе», в Берлине. Полицейским был. Как и я.
— Ты не похож на полицейского.
— Спасибо. Принимаю как комплимент, герр комиссар.
— Комиссаром я был десять лет назад. Служил инспектором, потом частным детективом.
Американец резко кивнул на окно:
— Тот парень в машине прикован к рулю наручниками. Он военный преступник. Таких ваши газеты называют «Красная Куртка».[3] В войну он работал тут, в Дахау. Сжигал трупы в крематории, за что и был приговорен к двадцати годам тюрьмы. Если спросишь меня, так он заслуживает, чтоб его вздернули на виселице. Все они заслуживают виселицы. Но если б его повесили, то он не сидел бы сейчас в машине, помогая мне в расследовании. И я не имел бы удовольствия познакомиться с тобой.
Янки пустил струю дыма в резной деревянный потолок и снял крошку табака со своего розового красноречивого языка. Врежь я ему коротким апперкотом — он лишился бы его кончика. Я был заодно с парнем в машине, ненавидевшим янки. Мне тоже не нравились манеры американца и чувство превосходства, какое он тут демонстрировал. Но бить его, пожалуй, не стоит. Я находился в американской оккупационной зоне, и оба мы знали: американцы легко могут обеспечить мне немалые неприятности, а я их не желал. Особенно после всех трудностей, что поимел с Иванами. Так что кулаки свои я попридержал. К тому же мешало еще одно маленькое обстоятельство — сотня марок. А сотня марок они и есть сотня марок.
— Парень этот, что сидит в машине, оказывается, был другом твоего тестя. — Отвернувшись, янки двинулся в бар. — Думаю, он с дружками своими, эсэсовцами, частенько наведывался сюда. — Я увидел, как он обежал взглядом грязные стаканы на стойке, забитые окурками пепельницы и пивные потеки на полу. Всё мои следы. Бар был единственным местом в отеле, где я по-настоящему чувствовал себя как дома.
— Наверное, твой бар знавал времена и получше, а? — Он расхохотался. — Знаешь, Гюнтер, тебе, по всему видать, надо снова стать копом. К гостиничному делу ты не годишься, это уж точно.
— Никто не умоляет тебя оставаться тут и брататься со мной.
— Брататься? — снова расхохотался он. — Ты думаешь, мы этим занимаемся? Нет, что ты! Я никак не могу испытывать братских чувств к человеку, способному жить в таком месте.
— Не напрягайся. Я в семье единственный ребенок и потому подобных чувств начисто лишен. Если откровенно, по мне так лучше окурки из пепельниц выковыривать, чем болтать с тобой.
— Знаешь, Вольф, тот парень в машине, — перебил американец, — такой предприимчивый тип! Прежде чем сжигать трупы, он выдергивал у них щипцами золотые коронки. А еще у него был секатор — откусывать пальцы с обручальными кольцами. У него даже водились специальные щипцы, ими он обыскивал интимные местечки мертвецов, разыскивая свернутые купюры, драгоценности и золотые монеты. Поразительно просто, чего он только не находил. Хватило добра, чтобы заполнить ящик из-под винных бутылок. Он его в саду твоего тестя закопал перед самым освобождением лагеря.
— И ты желаешь выкопать его?
— Лично я копать не собираюсь. А вот он, — американец ткнул пальцем в парадную дверь, — выкопает, если соображает, что для него хорошо, а что плохо.
— А почему ты решил, что ящик еще там? — осведомился я.
Он пожал плечами:
— Сто процентов, что герр Хендлёзер, твой тесть, не нашел его. Если б нашел, так отель пребывал бы в куда лучшем состоянии. И, возможно, тогда он не положил бы голову на рельсы, словно Анна Каренина. Хотя пари держу — дожидаться поезда ему пришлось гораздо меньше, чем ей. Вот уж что у вас, фрицев, отлажено превосходно. Тут я отдаю вам должное. В вашей проклятой стране всё по-прежнему работает с точностью часов.
— А сотня марок за что? Чтобы я держал рот на замке?
— Ну да. Но молчать тебе следует не потому, почему ты думаешь. Видишь ли, я оказываю тебе услугу. Тебе и всем остальным в городке. Ведь если выплывет, Гюнтер, что в твоем саду кто-то выкопал ящик с золотом и драгоценностями, все жители поимеют массу хлопот с другими охотниками за сокровищами. Сюда хлынут беженцы, солдаты, английские и американские, отчаявшиеся немцы, алчные Иваны. Короче, в кого ни ткни — все! Вот почему я действую неофициально, без шума. Так-то, друг.
— Слухи о сокровище могут оказаться выгодными для бизнеса, — возразил я, снова возвращаясь к столу; деньги по-прежнему лежали там. — Это может привлечь в город толпы народа.
— А когда они ничего не найдут? Подумай об этом. Дело может обернуться головной болью — я такое уже наблюдал.
Я кивнул. Не могу сказать, что меня не одолевало искушение взять его деньги, но я не желал иметь никакого касательства к золоту, извлеченному изо рта трупов, и потому подтолкнул купюры обратно к нему.
— Копай на здоровье. И можешь делать что пожелаешь с тем, что найдешь. Но запах твоих денег мне не нравится. Похоже на долю от мародерства. А в мародерстве я ни в войну не участвовал и, уж конечно, не желаю участвовать сейчас.
— О-о-о! Надо же! Фриц с принципами. Черт, а я считал, Адольф Гитлер поубивал всех таких парней.
— Номер стоит три марки за ночь, — заявил я. — За каждую комнату. Плата вперед. Горячая вода есть и днем, и ночью. Но если пожелаешь чего еще, кроме пива или чашки кофе, то плата за это отдельная. Еда для немцев все еще нормирована.
— Все по-честному, — откликнулся он. — А насчет тебя я ошибался. И мне вроде как надо извиниться. Извини.
— И мне вроде как надо извиниться. — Я плеснул себе еще немного его виски. — Каждый раз, как я смотрю на эти деревья, я вспоминаю, что происходило по другую сторону посадок.
2
Спутник американца был среднего роста, темноволосый, с оттопыренными ушами, темные пасмурные глаза опущены. В толстом твидовом костюме и простой белой рубашке. Галстук отсутствовал: несомненно, из опаски, как бы он на нем не повесился. Со мной он не заговаривал, я с ним тоже. Когда он вошел в отель, голова его втянулась в узкие плечи, словно на него давил груз стыда, — другого объяснения придумать я не сумел. Но, может, я все нафантазировал. В общем, мне стало жаль его. Если б карты легли по-другому, возможно, в машине американца сидел бы я.
Была и еще причина для моей жалости: вид у него был совсем больной, его била лихорадка. Вряд ли ему справиться с задачей копать яму в саду. Так я и сказал американцу, когда тот приволок инструменты из недр багажника.
— Он же совсем больной, ему в больницу надо.
— Туда он и отправится. Потом. Если найдет ящик, то получит свой пенициллин. — Янки пожал плечами. — Не будь у меня такого рычага, так он вообще не стал бы мне помогать.
— Я думал, вам, янки, полагается следовать Женевским конвенциям.
— О, мы и следуем. А как же! Но эти ребята, они не обычные солдаты, а военные преступники. Некоторые из них убили тысячи людей, а потому поставили себя вне рамок защиты военнопленных.
Мы прошли за Вольфом в сад, там американец бросил инструменты на траву и приказал ему приступать. День стоял жаркий. Слишком жаркий, чтобы копаться где-то, кроме как в собственных карманах. Вольф на минуту привалился к дереву, стараясь определить, где зарыт ящик, и вздохнул.
— Вроде бы тут, — прошептал он. — Вот, прямо тут. Можно стакан воды? — Руки у него тряслись, а лоб покрылся потом.
— Принеси ему, Гюнтер, пожалуйста, стакан воды, — попросил американец.
Вернувшись с водой, я увидел, что Вольф уже держит в руках мотыгу. Он размахнулся, чтобы всадить ее в землю, и чуть не свалился. Поймав его за локоть, я помог ему сесть. Американец совершенно безмятежно прикуривал сигарету.
— Можешь не торопиться, Вольф, дружище. Спешки никакой. Вот почему я и взял номера на две ночи, ясно? Он не совсем готов для садовых работ.
— Этот человек не способен ни к какой физической работе, — возразил я. — Взгляни только на него. Он на ногах-то еле держится.
Щелчком американец стрельнул спичкой в Вольфа и иронически фыркнул:
— И что, ты воображаешь, он посочувствовал хоть одному заключенному в Дахау? Черта с два!
Скорее всего, когда кто-то падал, стрелял ему в затылок, и всё. А неплохая идея! Избавит меня от хлопот тащить его снова в тюремный госпиталь.
— А я думал, тебе требуется найти драгоценности.
— Разумеется. Но сам я копать не собираюсь — у меня модельные туфли от «Флоршейма».
Я сердито отобрал мотыгу у Вольфа.
— Если есть хоть тень надежды избавиться от тебя до вечера, — буркнул я, — так я сам стану копать.
И воткнул мотыгу в траву, будто в череп американца.
— Ну это уж, Гюнтер, твое дело. Или, как там выражаются англичане, твои похороны.
— Нет, похороны как раз не мои. Но если не возьмусь копать, то станут его. — И я снова замахнулся.
— Спасибо, товарищ, — прошептал Вольф и, сев под дерево, привалился к стволу и прикрыл глаза.
— Ух, фрицы! — ухмыльнулся американец. — Держитесь вместе, а?
— Немцы мы или кто — тут разницы нет, — отозвался я. — Я помог бы кому угодно при таких обстоятельствах. Пусть даже человек мне и не особенно нравился бы. Даже тебе бы помог.
Где-то с час я махал мотыгой, потом работал лопатой и наконец, выкопав около метра грунта, наткнулся на что-то твердое: лопата стукнула, как о крышку гроба. Американец быстро подскочил к краю ямы, глаза его впились в землю. Я снова принялся копать и подцепил ящик размером с небольшой чемодан. Увесистый такой. Я бросил его на траву к ногам американца. А подняв глаза, наткнулся взглядом на короткоствольный «бульдог» 38-го калибра, специальный полицейский.
— Ничего личного, — обронил янки, — но человеку, выкопавшему сокровище, вполне может явиться мыслишка, что и он заслуживает доли. Особенно такому благородному, который отказывается от сотни марок.
— А вот теперь меня снедает желание превратить твою физиономию в кровавое месиво!.. И лопата как раз наготове.
Он помахал револьвером:
— Бросай давай лопату! Да поскорее! На всякий пожарный.
Наклонившись, я поднял лопату и забросил на цветочную клумбу. Сунул руку в карман и, заметив, как он подобрался, рассмеялся:
— Какой-то ты для крутого парня чересчур нервный. — И, вынув пачку «Лаки Страйк», закурил. — Те фрицы, которые до сих пор выгребают осколки изо рта, скорее всего просто небрежно очистили яйца. Либо так, либо наплел ты тут мне небылиц.
— А теперь, — прикрикнул он, — вылезай из ямы, бери ящик и тащи его в машину!
— Ах да, у тебя ж маникюр, — съязвил я.
— Вот именно.
Выбравшись из ямы, я уставился на него, потом опустил глаза на ящик.
— Ты — настоящий подонок! — бросил ему я. — Но в свое время я встречал подонков и похлеще тебя и знаю, что говорю. Причин хладнокровно убить человека полно, но отказ тащить ящик в списке не значится. А потому я иду в дом, умоюсь и выпью пива, а ты можешь отправляться хоть к черту на рога. — И я, развернувшись, зашагал к дому.
Курка американец не нажал.
Минут через пять, выглянув из окошка ванной, я увидел, что ящик к «бьюику» медленно, с трудом тащит Вольф. А янки, по-прежнему держа револьвер наготове и нервно поглядывая на окна, точно боясь, что у меня может найтись винтовка, открывает багажник. Вольф бросил ящик внутрь. После чего оба забрались в машину и стремительно уехали. Я спустился вниз, прихватил из бара пива и запер парадную дверь. В одном американец был прав: хозяин отеля из меня паршивый. И самое время признать это. Я разыскал лист бумаги и большими красными буквами написал на нем: «ЗАКРЫТО ДО ОСОБОГО ОБЪЯВЛЕНИЯ», прикрепил лист на стекло двери и вернулся в бар.
Спустя два часа и вдвое большее количество кружек пива я сел на электричку до главного Мюнхенского вокзала. Оттуда я прошел разбомбленным центром до угла Людвиг-штрассе, где сел на трамвай и поехал к Швабингу. Тут почти все здания напоминали мне меня самого: лишь фасады создавали впечатление, что улица пострадала незначительно, а на самом деле внутри все было выжжено, уничтожено. Пора и мне подремонтироваться. Но я не знал, как это осуществить, пока я занимаюсь тем, чем занимаюсь. Работая детективом в отеле «Адлон» в начале тридцатых, я поднахватался навыков в управлении роскошным отелем, но это оказалось плохой подготовкой к управлению маленьким. Янки прав: мне следовало вернуться к тому, что я умел лучше всего. Я намеревался рассказать Кирстен, что хочу выставить отель на продажу, а сам снова пойду в частные детективы. Конечно, сказать ей можно, но рассчитывать, что она выкажет хоть малейшие признаки понимания, не приходится. У меня хотя бы фасад сохранился, а от прежней Кирстен остались одни руины.
Главная государственная больница находилась на северном конце Швабинга, но ее приспособили под американский военный госпиталь, что означало — немцам придется лечиться где-то еще. Всем, за исключением ненормальных — этих лечили в госпитале Института психиатрии Макса Планка. Находился он сразу за углом от главной больницы, на Крепелин-штрассе. Кирстен я навещал по возможности часто, но на мне ведь висел еще и отель. Последнее время я мог ходить в госпиталь только через день.
Хотя из палаты Кирстен открывался вид на парк, условия в палате я не назвал бы комфортными. Окна были забраны решетками, а все три соседки Кирстен были серьезно больны. В комнате пахло мочой, и иногда одна из женщин истошно визжала, истерически хохотала или бросалась в меня какой-то дрянью. К тому же кровати кишели паразитами. На бедрах и руках Кирстен краснели точки укусов, а как-то и меня самого здорово покусали. В Кирстен я с трудом узнавал женщину, на которой женился. За десять месяцев после отъезда из Берлина она состарилась на десять лет. Длинными седыми немытыми космами висели отросшие волосы, глаза точно две потухшие лампочки. Она сидела на краю железной кровати, уставившись в зеленый линолеум, будто увлекательнее зрелища и не видела никогда. Похожа была бедняжка на жалкое чучело неведомой зверушки из коллекции музея на Рихард-Вагнер-штрассе.
После смерти отца Кирстен впала в состояние глубокой депрессии, стала много пить и разговаривать сама с собой. Сначала я предполагал, она считает, что я ее слушаю, но скоро с болью понял — нет, не тот случай. И потому обрадовался, когда она замолчала. Но беда в том, что она вовсе перестала говорить, и, когда стало очевидно, что она накрепко замкнулась в себе, я вызвал врача, и тот порекомендовал немедленную госпитализацию.
— У нее острая форма кататонической шизофрении, — такой диагноз поставил доктор Бублиц, психиатр, лечивший Кирстен, спустя неделю после ее госпитализации. — Заболевание довольно распространенное. После того, через что прошла Германия, чему тут удивляться? Почти пятая часть наших пациентов страдает от какого-то типа кататонии. У Нижинского, танцовщика и хореографа, такое же состояние, что и у фройляйн Хендлёзер.
Семейный врач семьи Кирстен, лечивший ее с самого детства, поместил Кирстен в госпиталь под девичьей фамилией (и, к моему раздражению, исправить эту ошибку не было никакой возможности, так что вскоре я перестал поправлять врача, когда он называл Кирстен — фройляйн Хендлёзер).
— Она поправится? — спросил я доктора Бублица.
— Трудно сказать.
— Ну а как Нижинский теперь?
— Прошел слух, что он умер, но слух оказался ложным. Он еще жив. Хотя и остается под наблюдением психиатров.
— Думаю, это и есть ответ на мой вопрос.
— О Нижинском?
— О моей жене.
Последнее время я редко видел доктора Бублица. В основном сидел рядом с Кирстен, причесывал ей волосы, иногда прикуривал для нее сигарету и вставлял ей в уголок рта; там сигарета и оставалась, пока я не вынимал ее, потухшую. Иногда от дыма, попадавшего ей в лицо, Кирстен смаргивала, и это было единственным признаком жизни, какой она подавала; отчасти потому я и совал ей сигарету. Случалось, я читал ей газету или книгу, а пару раз, когда дыхание у нее было слишком уж зловонным, даже чистил ей зубы. В этот раз я рассказывал ей про свои планы насчет отеля и себя.
— Мне надо что-то делать со своей жизнью. Не могу я больше оставаться в отеле. Иначе мы окажемся тут оба. Так что сегодня, после больницы, я отправлюсь к вашему семейному адвокату и выставлю отель на продажу. Потом я планирую занять немного денег под залог отеля у герра Коля в Вехсель-банке и начать на них собственный бизнес. Конечно, как частный детектив. У меня нет таланта управлять отелем. Полицейская работа — вот единственное, что я умею делать. Арендую офис и небольшую квартиру тут, в Швабинге, чтобы быть поближе к тебе. К тому же этот район Мюнхена, ты знаешь, всегда немного напоминал мне Берлин. И тут дешевле всего. Из-за разрушений после бомбежек. Было бы идеально найти помещение где-нибудь поближе к Вагмюллер-штрассе: там офисы Баварского Красного Креста и туда прежде всего обращаются люди, разыскивающие пропавших. Думаю, я сумею заработать на вполне приличную жизнь, занимаясь такими розысками.
Я и не рассчитывал, что Кирстен как-то отзовется, и, разумеется, она меня не разочаровала. Она по-прежнему не отрывала глаз от пола, точно моя новость была самой грустной из тех, что она услышала за много-много месяцев. Я примолк, закурил сигарету и глубоко затянулся, а потом смял ее о подошву башмака и сунул окурок в карман — грязи в палате хватало и без него.
— В Германии пропадает много людей, — добавил я. — Так же, как при нацистах. — Я покачал головой. — Не могу я дальше жить в Дахау. Тем более один. Сыт по горло, уже тошнит. Так себя чувствую, что впору ложиться сюда, в больницу, вместо тебя.
Я чуть было из собственной шкуры не выпрыгнул: соседка в палате вдруг визгливо, пронзительно расхохоталась. После чего повернулась лицом к стене и стояла так до конца моего посещения, раскачиваясь, словно старик-раввин. Может, она знала нечто, о чем я пока даже не догадывался? Говорят ведь, что безумие — это всего лишь способность заглянуть в будущее. И, знай мы будущее, пожалуй, кто угодно из нас завизжал бы. Главное в жизни — как можно дольше не позволять будущему вторгаться в настоящее.
3
Сертификат о денацификации мне пришлось получать в Министерстве внутренних дел. Так как я никогда не был членом нацистской партии, то особых трудностей не возникло. В Главном управлении полиции (там мне требовалось подтвердить сертификат) работало много людей, которые, как и я, раньше были эсэсовцами, не говоря уже о том, что некоторые служили в гестапо или СД. К счастью для меня, оккупационные власти не придерживались мнения, что если офицеров из КРИПО, криминальной полиции, или ОРПО, патрульной полиции, перебросили в эти нацистские полицейские организации, то это повод не допускать человека к работе в новой Германии. Только люди помоложе, начинавшие карьеру в СС, гестапо или СД, сталкивались с настоящими трудностями. Но даже в этом случае существовали пути обойти «Закон об освобождении от национал-социализма и милитаризма»: ведь если ему следовать со всей строгостью, то в Германии вообще не осталось бы полицейских. Хороший полицейский — всегда хороший полицейский, даже если он и был когда-то мерзавцем-нацистом.
Я подыскал небольшой офис на Галери-штрассе, напротив большой почты, над букинистической лавкой, на том же этаже находились кабинет дантиста и обменный пункт. Именно такое помещение мне и требовалось: тут я чувствовал себя респектабельным, насколько это вообще возможно в здании с сохранившейся камуфляжной расцветкой, которая защищала его от бомбежек союзных войск. В войну здесь располагался небольшой филиал Военного министерства, находившегося на Людвиг-штрассе, и в старом шкафу я наткнулся на покрытые плесенью портреты Гитлера и Геринга, пустой ящик из-под гранат, патронташ от винтовки и каску М42 с «гребнем», которая оказалась мне впору. Рядом с парадной дверью находилась стоянка такси и торчал киоск, торгующий газетами и сигаретами. Я украсил медной табличкой с моим именем дверь нижнего этажа, а на стенку внизу повесил почтовый ящик. В общем, обустроился.
Я прогулялся по центру Мюнхена, оставляя свои новенькие визитки во всех учреждениях: в Красном Кресте, Информационном бюро вермахта, Институте культуры Израиля, в «Америкен Экспресс», офисе «Потерянная собственность» полицейского управления. Я даже заглянул к нескольким старым знакомцам, которые имели возможности подкинуть мне клиентов: к бывшему полицейскому по фамилии Корш (он теперь работал старшим репортером в американской газете «Нойе цайтунг»), к моей бывшей секретарше Дагмар (она трудилась в городском архиве на Винзерер-штрассе). Но главным образом путешествовал я по офисам многочисленных мюнхенских юристов, расположенных во Дворце правосудия и его окрестностях. Если кто и преуспевал в американскую оккупацию, так это юристы. Мир может в один прекрасный день рухнуть, но юристы выживут и займутся документами.
Первое мое дело пришло как раз от юриста и по странному совпадению было связано с Красными Куртками из Ландсберга. Впрочем, второе — тоже, что, возможно, уже никаким совпадением не было. И следующее за ними также оказалось из той же оперы. Любое из них могло бы перевернуть мою жизнь, но перевернуло только третье. И даже теперь мне трудно сказать наверняка, имели ли касательство к нему два других расследования.
Эрих Кауфман был юрист, неоконсерватор и член так называемого Гейдельбергского союза юристов, центрального координирующего органа по освобождению заключенных Ландсберга. 21 сентября 1949 года я отправился в роскошный офис Кауфмана, находившийся в здании рядом с Дворцом правосудия на Карлсплац. Впечатление было такое, что на площади идет сражение: грохот от бетономешалок, молотков, визг пил — дворец спешно ремонтировали. Дату я запомнил, потому что буквально накануне в новом парламенте выступал представитель правых сил Альфред Лориц, требуя немедленной и всеобщей амнистии для всех, кроме самых серьезных военных преступников — под этими он подразумевал уже мертвых или тех, кто был в бегах. Я читал его выступления в «Зюддойтче цайтунг», когда вошла секретарша Кауфмана, чтобы отвести меня в роскошные апартаменты, которые он скромно именовал офисом. Не знаю, что поразило меня больше всего: кабинет, статья в газете или секретарша, — уж сколько времени прошло, как меня не обласкивала ресницами такая миленькая маленькая фройляйн. Ласковость ее я приписал новому костюму, который сидел на мне как влитой. Однако костюм Кауфмана был куда шикарней, и облегал он владельца, как и положено дорогому костюму.
На вид Кауфману было лет под шестьдесят. Не было сомнений: передо мной еврей, да и имя на дверной табличке выгравировано на иврите — приятная замена недавней желтой звезды Давида в его окнах. Я этому только порадовался: обстановка в Германии возвращалась к нормальной. Что с Кауфманом происходило в войну, я представления не имел, но про такое у людей не спрашивают. Однако за несколько лет после ухода нацистов он, очевидно, весьма преуспел. Не только его костюм был лучше моего, но и все остальное тоже. Туфли явно сшиты на заказ, руки выхолены, а булавка в галстуке сверкала, как подарок ко дню рождения от самой царицы Савской. Даже зубы у него были лучше моих. В пухлых пальцах он крутил мою визитку и, не тратя времени на пустые любезности, приступил прямо к сути. Я ничуть не возражал: на выражения почтения я и сам не очень-то горазд, особенно после пребывания в русском лагере военнопленных. Вдобавок мне не терпелось раскрутить свой бизнес.
— Я хочу, чтобы вы побеседовали с одним американским солдатом, — начал Кауфман. — Это рядовой Третьей армии США по имени Джон Иванов, охранник в тюрьме номер один для военных преступников. Знаете, где она?
— В Ландсберге, наверное.
— Правильно. Именно там. Проверьте его, герр Гюнтер. Выясните, что он за человек: надежный или нет, честный ли, искренний или скользкий тип. Как я полагаю, конфиденциальность дел своих клиентов вы соблюдаете?
— Разумеется, — отозвался я. — Держу рот на замке покрепче, чем Рудольф Гесс.[4]
— Тогда строго конфиденциально сообщу вам, что рядовой Иванов выдвинул ряд обвинений касательно обращения с Красными Куртками и сообщил, что так называемых военных преступников в июне прошлого года намеренно казнили так, чтобы люди умирали долго и мучительно. Я дам вам адрес, где вы встретитесь с Ивановым. — Открутив колпачок ручки с золотым пером, он стал писать на листке бумаги. — Кстати, по поводу вашего замечания о Гессе. У меня, герр Гюнтер, чувство юмора отсутствует. Его из меня выбили нацисты. Выбили в буквальном смысле слова, могу вас заверить.
— Если честно, то и мое чувство юмора не на высоте. Из меня его вышибли русские. Так что вы поймете: я не шучу, когда говорю, мой гонорар — десять марок в день плюс расходы. Предоплата за два дня вперед.
Он и глазом не моргнул. Видно, нацисты над ним здорово поработали — по векам лупить у них особенно хорошо получалось. Но все-таки я сообразил, что, скорее всего, оценил свою работу чересчур низко. Работая в Берлине, я предпочитал, чтобы люди ворчали насчет моего гонорара. Таким образом я избегал клиентов, жаждавших выкачать из меня побольше информации за гроши. Вырвав листок из блокнота, Кауфман протянул его мне.
— На вашей визитке, герр Гюнтер, написано, что вы немного объясняетесь по-английски. Это действительно так?
— Да, — по-английски подтвердил я.
— А свидетель, по-моему, владеет начатками немецкого. Ваш английский поможет вам узнать его получше. А может, даже и завоевать его доверие. Из американцев лингвисты не ахти какие. У них, как и у англичан, островной менталитет. Правда, англичанин уж если говорит на немецком, то говорит хорошо, а американцы считают, что изучение любых иностранных языков — пустая трата времени. Вроде как игра в футбол, раз сами они играют в какую-то непонятную его разновидность.
— Иванов — фамилия, похожая на русскую, — заметил я. — Может, он и по-русски говорит. Я по-русски говорю прекрасно. Выучился в лагере.
— Вам повезло. Я про то, что вам удалось вернуться домой. — Он окинул меня долгим оценивающим взглядом. — Да, очень повезло.
— Это уж точно. Здоровье у меня хорошее, хотя я и получил порцию шрапнели в ногу. Да по голове схлопотал пару лет назад. Из-за этого случается иной раз — затылок зудит. Обычно, когда происходит нечто бессмысленное. Как сейчас, например.
— О? А что же сейчас бессмысленного?
— С чего вдруг еврея так заботит, что случилось с десятком поганых военных преступников?
— Вопрос справедливый, — покивал он. — Да, я еврей. Но это не означает, герр Гюнтер, что интересует меня только месть. — Поднявшись, Кауфман подошел к окну, подозвав меня властным кивком.
Мимоходом я заметил фотографию Кауфмана в мундире немецкого солдата времен Первой мировой войны и диплом доктора наук университета Галле. А встав рядом с ним, разглядел: его светло-серый, в тонкую полоску костюм даже еще дороже, чем мне показалось издалека. Ткань шелковисто зашуршала, когда Кауфман, сняв очки в черепаховой оправе, энергично стал протирать их платком ослепительной белизны, таким же безупречным, как и воротничок его рубашки. Меня больше интересовал сам Кауфман, чем вид на Карлс-плац с высоты птичьего полета, открывавшийся из окна его офиса. Я чувствовал себя Исавом, стоящим рядом с благополучным братом своим Иаковом.
— Это Дворец правосудия и здание суда, — сказал он. — Года через два — а может, дай-то бог, и раньше, потому что этот грохот сводит меня с ума, — они станут такими же, как прежде. Можно будет войти и поприсутствовать на судебном процессе, не подозревая даже, что когда-то здание было разрушено бомбами союзных войск. Может, кстати, зданию это и пойдет на пользу. Но закон — это нечто иное. Он создается людьми, герр Гюнтер, а потому — милосердие выше правосудия. Амнистия для всех военных преступников — вот что будет благоприятствовать рождению новой Германии.
— Включая и преступников вроде Отто Олендорфа? Того, что виновен в смерти почти ста тысяч человек?
— Для всех! — отрезал он. — Я один из многих, в том числе и евреев, кто считает, что политическая чистка, навязанная нам оккупационными властями, несправедлива во всех отношениях и провалилась с чудовищным треском. Необходимо как можно скорее прекратить преследование так называемых беглецов от закона, а всех, остающихся в заключении, освободить. И подвести, таким образом, черту под печальными событиями этой достойной сожаления эпохи. Я, а также группа юристов-единомышленников и высшие церковные иерархи намерены подать прошение американскому верховному выездному судье о заключенных в Ландсберге. Сбор любых свидетельств дурного обращения с заключенными — необходимый первый шаг для нашей петиции. И то, что я еврей, абсолютно тут ни при чем. Я ясно изложил свою позицию?
Мне понравилось, что он не погнушался прочитать мне небольшую лекцию о новой Федеративной Республике. Уже давно никто так не старался ради повышения уровня моего образования. Да и кроме того, наши деловые отношения с ним только зарождались, и нахальничать было пока еще не с руки.
К тому же он еще и юрист, и случается ведь, когда вы грубите юристам, они обвиняют вас в оскорблении и запихивают в тюрьму.
Итак, я отправился в Ландсберг и встретился с рядовым Ивановым, а вернувшись, отправился снова на встречу с Кауфманом. Вот тут-то как раз и подоспел момент произнести все нахальные фразочки, какие я сумел придумать. А ему пришлось выслушать их и проглотить. Потому что разговор с клиентом называется у нас, частных детективов, отчетом, а предоставляемые мною отчеты зачастую вполне могут сойти за оскорбление у человека, не привыкшего к моей манере. Особенно если факты отчета совсем не похожи на те, какие он желал бы услышать, если хочет спасти подонков вроде Отто Олендорфа от виселицы. Потому что Иванов оказался вруном и обманщиком, хуже того, стукачом — безмозглая обезьяна, которая только и рвется подло свести счеты с американской армией, да еще вдобавок и получить за это вознаграждение.
— Я совсем не уверен, — приступил я, — что он вообще работал в Ландсберге. Он понятия не имеет, что в тысяча девятьсот двадцать четвертом году одним из заключенных там был Гитлер. Или про то, что замок был построен только в тысяча девятьсот десятом. Он не знает, что семеро повешенных в Ландсберге в июне тысяча девятьсот сорок восьмого года были нацистскими врачами. Сказал, что палачом там Джо Мальта, — в действительности Мальта ушел из армии еще в тысяча девятьсот сорок седьмом. В Ландсберге уже новый палач, и его имя держится в тайне. Еще Иванов сказал, будто виселица расположена в помещении, а на самом деле она на улице. Такое человек не может не знать, если он на самом деле работает в тюрьме. Мой вывод — работал он только в лагере для перемещенных лиц.
— Ясно, — протянул Кауфман. — Вы, герр Гюнтер, провели чрезвычайно тщательное расследование.
— Мне встречались люди еще более бессовестные, чем Иванов, — заключил я свой отчет, чуточку даже наслаждаясь ситуацией, — но только в тюрьме. Единственное, что поможет сделать из Иванова убедительного свидетеля, — это сотняжка долларов, вложенная в Библию, на которой он станет приносить присягу.
Кауфман помолчал с минуту. Потом, выдвинув ящик стола, вынул коробку и, достав из нее деньги, заплатил мне остаток гонорара наличными. И наконец заметил:
— У вас такой довольный вид.
— Я всегда доволен после хорошо сделанной работы.
— Вы не до конца откровенны. Ну же! Мы оба знаем, тут кроется что-то еще.
— Ну разве что я даже рад, что Иванов оказался мошенником, — признался я.
— Вы не верите в возможность возрождения справедливой Германии?
— В Германию — верю. А людям вроде Отто Олендорфа, — нет. Быть подлецом не входило в обязательные условия для вступления в СС, хотя, конечно, немало помогало. Уж я-то знаю. Какое-то время я и сам состоял в СС. Может быть, это отчасти объясняет, почему я не попадаю в ногу с вашей новой Федеративной Республикой. А может, я просто чуточку старомоден. Но понимаете ли, есть нечто такое в человеке, который убил сто тысяч мужчин, женщин и детей, что у меня вызывает отвращение. И я склонен думать, что наилучший способ для новой Германии взять старт с разгону — это повесить и его, и ему подобных.
4
Кауфман вовсе не произвел на меня впечатления человека раздраженного неудачей — всего лишь напыщенного от осознания важности миссии и уверенного в своей правоте. И думаю, ему не понравились язвительные намеки по поводу его помощи Красным Курткам. Так что подозреваю, следующего клиента направил ко мне именно он, зная, что это мне не понравится, но отказаться я не смогу себе позволить. По крайней мере, не теперь, когда я только-только начал разворачивать дело. А возможно, он даже надеялся изменить мое мнение насчет способа, гарантирующего лучшее начало для обновленной страны.
По телефону меня попросили доехать поездом до Штарнберга, где меня встретят на машине. Все, что мне было известно о клиенте, — его имя, барон Штарнберг, то, что он бывший директор «И.Г. Фарбен», некогда крупнейшего в мире химического концерна, и что он очень богат. Кое-кого из директоров «И.Г. Фарбен» судили в Нюрнберге за военные преступления, но фон Штарнберг в их число не вошел. Я понятия не имел, какую работу он хочет мне предложить.
Поезд полз через долину Вюрм, мимо проплывали красивейшие пейзажи Баварии, и через полчаса мы прибыли в Штарнберг. Приятно для разнообразия подышать не пылью мюнхенских строек. Штарнберг оказался небольшим городком, построенным на уступах рядом с озером. На сапфирово-голубой воде озера бриллиантами посверкивали под утренним солнцем яхты. Над озером высился древний замок герцогов Баварских. Сказать про Штарнберг «живописный» — значит не сказать ничего. Не успел я и минуту полюбоваться городком, как мне захотелось приподнять на нем крышечку и полакомиться клубничным мороженым.
На вокзал за мной прикатил старый «майбах-цеппелин». Шофер проявил любезность и сунул меня на заднее сиденье, а не в багажник: сунуть туда любого, сошедшего с поезда, возможно, всегда было его первым порывом. Ведь в отделке заднего сиденья серебра хватало, чтобы снабдить Одинокого Рейнджера[5] пулями на ближайшие сто лет.
Дом находился минутах в пяти езды от вокзала. Медная табличка на одном из столбов-обелисков ворот сообщала, что это вилла, но, на мой взгляд, дом просто постеснялись в открытую назвать дворцом. Мне потребовалась целая вечность, чтобы одолеть ступеньки, ведущие к парадной двери, где субъект, словно изготовившийся для интимного — щека к щеке — танца с Джинджер Роджерс,[6] ждал, чтобы взять у меня шляпу и послужить мне проводником по мраморным прериям, простиравшимся передо мной. Он не расставался со мной до самой библиотеки и только там, молча развернувшись, двинулся в обратный путь, как видно, опасаясь не успеть домой до темноты.
В библиотеке обнаружился невысокий человечек, оказавшийся вполне даже приличного роста, когда я подошел на такое близкое расстояние, что расслышал: он кричит, предлагая мне выпить шнапса. Я ответил «да» и сумел получше разглядеть его, пока он манипулировал с большущим графином из стекла и золота. Человек был при очках и эксцентричной седой бороде, при взгляде на которую мной овладело сомнение: уж не придется ли мне угощаться шнапсом из лабораторной реторты.
— В старой приходской церкви в нашем городке, — произнес он голосом настолько скрипучим, будто в гортань ему высыпали полтонны гравия, — главный алтарь в стиле позднего рококо выполнен Игнацем Гюнтером. Это, случайно не ваш, родственник?
— Игнац, герр барон, был паршивой овцой в нашей семье, — бодро ответил я. — В хорошем обществе мы никогда не упоминаем его имя.
Закашлявшись, барон подавился смешком и справился с кашлем, только закурив и глотнув дыма. Заодно он как-то умудрился пожать мне руку кончиками пальцев, предложить сигарету из большущей, как словарь, золотой коробки, пожелать мне здоровья и отхлебнуть шнапса. И только после этого барон обратил мое внимание на фотографию — портрет молодого человека лет тридцати, с лицом наивным и простодушным и ослепительной белозубой улыбкой. Похож больше на кинозвезду, чем на штурмбаннфюрера СС. Солидная серебряная рамка вместе с золотой сигаретной коробкой возбудили во мне подозрения, что прежде в домашнее хозяйство Штарнбергов вкладывались немалые средства.
— Мой сын Винсенц, — сообщил барон. — В такой военной форме, что легко счесть, будто и он — паршивая овца в нашей семье. Но вот уж он, герр Гюнтер, никак не паршивая овца. Нет и нет! Винсенц всегда был добрым мальчиком. Пел в школьном хоре. И столько у него всегда водилось домашних зверушек, когда он был маленьким, что его комнаты скорее походили на зоопарк.
Мне это понравилось — «комнаты»! Это много говорило о детстве Винсенца фон Штарнберга. И мне понравилось, как барон говорит по-немецки: так говорили прежде, до того как немецкий запестрел американскими словечками: «Лаки Страйк», «кока-кола», «о'кей», «джиттербаг» и хуже всего — «вау!».
— А у вас, герр Гюнтер, есть дети?
— Нет.
— Ну что может отец сказать про своего единственного сына? Я знаю одно: он совсем не такой мерзавец, каким его изображают. Уверен, уж вы-то лучше всех это поймете. Вы ведь и сами состояли в СС, верно?
— Я служил полицейским, герр барон, — бледно улыбнулся я. — До тысяча девятьсот тридцать девятого года в КРИПО, а в тридцать девятом, для того чтобы усилить эффективность работы — так, по крайней мере, нам объяснили, — нас объединили с гестапо и СД и сформировали новый департамент РСХА — Главное ведомство государственной безопасности. Боюсь, никому из нас особо выбирать не приходилось.
— И то верно. Предоставлять людям выбор не очень-то у Гитлера получалось. Все мы вынуждены были совершать поступки, которые нам не очень нравились. И моему сыну в том числе. Он был юристом. Многообещающим юристом. В СС он вступил в тысяча девятьсот тридцать шестом. В отличие от вас по собственному выбору. Я остерегал его, просил проявить осторожность, но привилегия сыновей — пренебрегать отцовскими советами, пока не становится слишком поздно. Это всегда стоит отцам здоровья и преждевременных седин. В тысяча девятьсот сорок первом Винсенц стал помощником командира оперативного карательного отряда в Литве. Вот так… Они называли его как-то по-другому. Не то — отряд специальных акций, не то еще как-то нелепо. В их обязанности входили массовые убийства. При нормальных обстоятельствах Винсенц ни за что бы не ввязался в такой кошмар. Но, как и многие другие, он чувствовал себя связанным присягой, которую давал лично фюреру. Вы должны понять: он делал то, что делал, из уважения к этой присяге и государству, но всегда внутренне категорически не одобрял происходящего.
— То есть вы хотите сказать, что он всего лишь выполнял приказы.
— Именно. — Барон проигнорировал, а может, просто не заметил сарказм моего тона. — Приказы есть приказы. И от этого факта не уйдешь. Люди, подобные моему сыну, герр Гюнтер, всего лишь жертвы субъективных оценок истории. Ничто не порочит честь Германии больше, чем заключенные в Ландсберге. И мой сын один из них. Красные Куртки, как называют их газеты, представляют серьезнейшее препятствие для восстановления нашего национального суверенитета. А мы должны обрести его, если намерены внести свою лепту, как хотят того американцы, в дело защиты Запада. Я имею в виду, разумеется, предстоящую войну с коммунизмом.
Я вежливо покивал. Вторая прочитанная мне за последнее время лекция. Барон фон Штарнберг не любит коммунистов, что было и так ясно по окружающей обстановке. Живи я так, я тоже не любил бы коммунистов. Не то чтобы я так уж их обожал. Но богатств никаких у меня нет, а потому у меня с ними больше общего, чем с бароном, у которого денег навалом и который вовсе не собирался запускать руку в карман и помогать Америке выиграть войну против коммунизма, пока Америка относится к его сыну как к обыкновенному преступнику.
— Его уже судили? — осведомился я.
— Да. И приговорили к смерти в апреле тысяча девятьсот сорок восьмого. Но после петиции генералу Клею этот приговор был заменен пожизненным заключением.
— Тогда я просто не понимаю, чем могу помочь, — вежливо сказал я, удержавшись и не прибавив, что, по моему личному мнению, «паршивой овце» баронской семьи и так уже посчастливилось больше, чем он мог рассчитывать. — Ведь он же не отрицает, что сделал то, что сделал? Верно?
— Нет. Отнюдь. Как я уже объяснил, в свою защиту он сумел бы сказать лишь одно: что он не мог действовать иначе, чем действовал. Теперь мы хотим обратить внимание правительства на тот факт, что Винсенц никогда не имел ничего личного против евреев. Наоборот. После окончания университета он читал право в университете Гейдельберга и там в тысяча девятьсот тридцать четвертом году хлопотал, чтобы меры, принятые гестапо против студента, укрывавшего дома евреев, были приостановлены. Звали этого студента Вольфганг Штампф. Вот я и хочу, герр Гюнтер, чтобы вы разыскали Штампфа. Найти его необходимо, потому что тогда мы сможем присоединить его свидетельские показания касательно Гейдельбергского еврейского дела к прошению о досрочном освобождении Винсенца. — Барон вздохнул. — Моему сыну всего тридцать семь, герр Гюнтер. Впереди у него еще целая жизнь.
Я подлил себе еще немного превосходного шнапса барона, стараясь заглушить тошнотворный привкус во рту. Выпивка заодно помогла мне проглотить бестактное замечание, что у Винсенца, в отличие от множества литовских евреев, которых он убивал пусть даже из уважения к офицерской присяге эсэсовца, впереди все-таки есть жизнь. Теперь у меня уже не оставалось сомнений: нового клиента ко мне направил именно Эрих Кауфман.
— Вы говорите, барон, это случилось в тысяча девятьсот тридцать четвертом? — уточнил я. Тот кивнул. — С тех пор много воды утекло. Откуда вы знаете, что Штампф еще жив?
— Потому что недели две назад моя дочь Хелен Элизабет видела Вольфганга Штампфа в Мюнхене. В трамвае.
Я постарался убрать из голоса даже тень удивления:
— Ваша дочь ездит в трамвае?
Барон слабо улыбнулся, точно подтверждая всю нелепость такого предположения:
— Ну что вы! Она ехала в машине. Из Глиптотеки. Остановилась на светофоре и, случайно подняв глаза, увидела его в окне трамвая. Она совершенно уверена: это был он.
— Глиптотека… — протянул я. — Это в Квартале Музеев, верно? Так, что же у нас там… Восьмерка ходит от Карлс-плац до Швабинга. Тройка и шестерка тоже до Швабинга. А еще тридцать седьмой от Гогенцоллерн-штрассе до памятника Марксу. Она конечно же не помнит, какой это был номер трамвая? — Барон покачал головой. — Ладно, неважно, я разыщу для вас этого человека.
— Если найдете, я заплачу вам тысячу марок.
— Ну и прекрасно. Но после того как я найду Штампфа, остальное, барон, дело уже ваше и ваших адвокатов. Я не стану выступать защитником вашего сына. Так лучше. Лучше для вашего сына.
А что еще важнее, лучше для меня. Я и без того плохо сплю по ночам, а если еще и кинусь на защиту убийцы, принимавшего участие в массовых расстрелах…
— Герр Гюнтер, люди так со мной не разговаривают, — чопорно осадил он.
— Надо привыкать, барон, сейчас у нас республика. Не забыли? Вдобавок я — тот парень, который точно знает, как разыскать для вашего сына тайный козырь. — Что, само собой, было блефом, но уж чересчур угрожающе раздулись его тонкие аристократические ноздри. Я слишком далеко зашел, размахивая перед ним, как плащом матадора, своими моральными принципами. Теперь требуется убедить его, что грубоватость — всего лишь отличительная черта моего поведения, а для выполнения поручения я все-таки подхожу лучше всех. — Рад, что вы предложили достойное вознаграждение, потому что у меня это дело займет всего несколько дней, а за десять марок в день плюс расходы я и гробиться бы не стал.
— Как вы собираетесь это сделать? Я ведь уже и сам наводил справки.
— Я, конечно, мог бы рассказать вам. Но тогда я останусь без работы. Для начала мне обязательно потребуется побеседовать с вашей дочерью.
— Разумеется. Я скажу ей.
А правда была в том, что я понятия не имел, с чего начинать. В Мюнхене живет восемьсот двадцать одна тысяча человек. Большинство из них католики и не особенно болтливы — держат язык за зубами даже на исповеди.
— Вам требуется что-нибудь еще? — спросил он.
Моя наглость была уже совершенно забыта.
— Если хотите, можете выдать мне небольшой аванс. За тридцать марок вы получите в полное свое распоряжение весь остаток моей недели и утешение от сознания, что прошение об освобождении вашего сына почти уже отправлено в Ландсберг.
5
Как известно, немцы очень педантичный народ. Мы строго придерживаемся всех правил и предписаний и иногда ведем себя так, будто документы и справки — это единственные признаки подлинной цивилизации. Даже когда дело касается систематического истребления целой расы, ведется статистика, пишутся протоколы, делаются фотографии, отчеты и записи. Сотни, а то и тысячи военных преступников могли бы успешно избежать приговоров, если бы не наша немецкая одержимость цифрами, именами, адресами. Хотя много документов было уничтожено во время бомбардировок, я все-таки не сомневался, что где-нибудь да разыщу адрес Вольфганга Штампфа.
Начал я с Главного управления полиции, наведавшись в бюро регистрации и паспортный отдел, но никаких следов его там не обнаружилось. Тогда я проверил в Министерстве внутренних дел на Принц-Регент-штрассе. Поискал даже в Обществе германских юристов — Штампф ведь из Мюнхена и обучался на юриста, как сообщил мне барон. Затем, рассудив, что вряд ли Штампфа миновала военная служба, я отправился в Баварский госархив на Арсис-штрассе, где хранились записи с 1265 года. Документы там ничуть не пострадали от бомбежек и пожаров. Но и тут мне не повезло: единственно, что я узнал, — архивы Баварской армии были перемещены на Леонрод-штрассе. И вот там-то наконец я обнаружил имя, которое искал, в списках офицеров Баварии. Замечательнейший образчик ведения документации! Составлен в алфавитном порядке по годам, написан от руки лиловыми чернилами. Гауптман Вольфганг Штампф, 1-я Гебиргсдивизия, именовавшаяся прежде Баварской горной дивизией. Теперь у меня были полное имя, адрес и даже фотография, а еще фамилия командира отряда Штампфа.
Правда, такого адреса в Восточном Мюнхене теперь не существовало, бомба сровняла дом с землей 13 июля 1944 года — так сообщала табличка на развалинах. Никаких идей у меня больше не возникло, и я решил пока что покататься на трамваях — а именно на тройке, шестерке, восьмерке и тридцать седьмом — с похищенной из досье фотографией Штампфа. Но прежде мне предстояла встреча в Глиптотеке с дочерью барона.
Хелен Элизабет фон Штарнберг пришла в бежевой юбке по колено, желтом свитерке, достаточно облегающем, чтобы понять — перед вами женщина, и в шоферских перчатках свиной кожи. Мы с приятностью пообщались. Я показал ей украденный из армейских архивов снимок.
— Да, это он, — подтвердила девушка. — Хотя, конечно, на фото он гораздо моложе.
— Ясное дело. Снимали-то тысячу лет назад. Наверняка тысячу — ведь Гитлер заявлял, что именно столько просуществует Третий рейх.
Хелен Элизабет улыбнулась, и на минутку возникло сомнение, что у нее есть брат, орудовавший в низшем кругу ада. Блондинка, точно бы спустившаяся из Берхтесгадена.[7] Если Гитлеру довелось когда-то повстречаться с барышней, похожей на Хелен Элизабет, легко понять, с чего вдруг у него появилась такая одержимость блондинками. Так или иначе, улыбающаяся Хелен Элизабет была похожа на существо из иного мира.
Возможно, я неправильно судил о ней, но избавиться от мысли, что такая девушка никогда не ездит в трамваях, я никак не мог. Попытался было представить ее в трамвае, но всякий раз получалась нелепость: тиара на жестянке с бисквитами.
— Вы не родственник Игнацу Гюнтеру? — поинтересовалась девушка.
— Он мой прапрадедушка. Но, пожалуйста, об этом — молчок.
— Ни за что, никому на свете, — пообещала она. — Он создавал скульптуры ангелов. Некоторые получились такие красивые. Кто знает? Может быть, вы, герр Гюнтер, станете нашим ангелом.
То есть, как я понял, ангелом семьи фон Штарнберг. Удачно, что день стоял чудесный, а потому я находился в хорошем настроении и не ответил резкостью: если я помогу ее братцу, то обернусь «черным ангелом» — именно так люди называли прежде эсэсовцев. Может, поэтому я пропустил ее реплику мимо ушей, а скорее всего оттого, что девушка была, как это раньше называлось, настоящий «персик». Давно, во времена, когда люди еще не забыли, как выглядят персики и каковы они на вкус.
— В Бюргерзаале, — сказала Хелен Элизабет, указывая на другую сторону Кенигс-плац, — есть прекрасная группа ангелов-хранителей, созданная Игнацем Гюнтером. Каким-то образом они уцелели в бомбежку. Взгляните на них как-нибудь.
— Непременно. — Я отступил, давая ей открыть дверцу «порше». Девушка села в машину, помахала рукой в перчатке из-за треснувшего лобового стекла, запустила мотор и умчалась.
А я отправился через Карлс-плац в «Стахус», главный транспортный центр Мюнхена, названный в честь гостиницы, некогда тут стоявшей. По Нойхаузер-штрассе я вышел на Мариен-плац. Это место сильно пострадало в войну. Под строительными лесами были сооружены специальные проходы для пешеходов, а многие провалы между разрушенными бомбами зданиями застроены одноэтажными временными магазинчиками. Укрытый строительными лесами Бюргерзаал стал неприметным, как пустая пивная бутылка. Как и все другие здания в этом районе Мюнхена, церковь восстанавливали. Каждый раз, проходя по городу, я поздравлял себя: мне просто повезло, что почти весь 1944 год я провел в Белоруссии. Досталось Мюнхену здорово. Ночь на 25 апреля 1944 года стала одной из самых страшных в истории города. Часовня выгорела почти дотла, пострадал главный алтарь, однако скульптуры Гюнтера уцелели. Но розовые щеки и хрупкие руки совсем не отвечали моим представлениям об ангелах-хранителях. Скорее они напоминали мне мальчишек-проституток в бане в Богенхаузе. Я сомневался, что Игнац — мой предок, но ведь двести лет прошло — кто может сказать наверняка? Мой отец не знал в точности, кто была его мать, не говоря уже об отце. В общем, я бы изобразил скульптурную группу ангелов иначе. В моем представлении ангел-хранитель должен быть вооружен чем-то более смертоносным, чем надменная улыбка, элегантно оттопыренный мизинец и глаз, косящий на Жемчужные Врата в поисках поддержки. Ведь даже сейчас, через четыре года после окончания войны, моя первая мысль, когда я просыпаюсь: где я оставил свой карабин?
Выйдя из церкви, я сразу же запрыгнул на шестерку, идущую через Карлс-плац. Мне нравятся трамваи. Не нужно беспокоиться, что не хватит бензина, и вполне безопасно оставлять их на глухих, опасных для здоровья улочках. Трамваи — замечательное средство передвижения, если у вас нет денег купить машину, а летом 1949-го мало у кого, кроме американцев и барона фон Штарнберга, они водились. К тому же трамваи идут именно туда, куда вам требуется, при условии, что вы сообразили выбрать правильный маршрут. Я не знал, куда ехал Вольфганг Штампф или откуда, но решил: больше шансов наткнуться на него в одном из этих трамваев, чем в каком-то другом. Для детективной работы вовсе не всегда требуется мозг такого размера, как у этого философа из Вены, Витгенштейна. Я доехал на шестерке до Зендлингер-Тор-плац, вышел там и пересел на восьмерку, в обратную сторону. Трамвай шел по Барер-штрассе к Швабингу, и я доехал на нем до Кайзер-плац и церкви Святой Урсулы. Насколько мне было известно, в ней тоже имелись скульптуры Игнаца Гюнтера, но, заметив тридцать восьмой, идущий по Гогенцоллерн-штрассе, я быстро вскочил в него.
Я сказал себе: проезжать весь маршрут на каждом трамвае — смысла нет. Шансов засечь Штампфа гораздо больше, если колесить по центру Мюнхена: пассажиров полно, кто-то входит, другие покидают вагон. Иногда детективу приходится играть роль статистика и просчитывать возможные варианты. Я катался на трамваях и на верхней площадке, и на нижней. Наверху было лучше, потому что тут разрешалось курить, но тогда не было видно входящих и выходящих. Сидели наверху преимущественно мужчины, они ведь почти все курильщики, а женщины, если и курили, предпочитали не демонстрировать этого на публике. Не спрашивайте меня почему. Я детектив, а не психолог. В общем, рисковать мне не хотелось. А вдруг Штампф не курильщик? К тому же дочь барона ни за что бы не увидела Штампфа, находись он наверху. И уж точно не из окна «порше-356» — машина слишком низкая. Вот будь она в кабриолете, тогда еще возможно. Но из купе — нет, ни за что.
Отчего я вдаюсь в такие подробности? Потому что подобные мелочи помогают мне вспомнить работу полицейского. Стертые в кровь ноги, пот, заливающий глаза, постоянное напряжение. Я снова начал всматриваться в лица, стараясь найти в заурядных чертах пассажиров, сидящих напротив, хоть какие-то отличительные признаки. Их можно найти у большинства самых, казалось бы, обычных людей, стоит только приглядеться… Но я едва не пропустил его, когда он спускался вниз, — трамвай был переполнен. У Штампфа были острые темные глазки, высокий лоб, тонкогубый рот, ямочка на подбородке и пёсий нос, которым он все подергивал, будто шел по следу. Отличительный признак Штампфа бросался в глаза сразу: у него не было одной руки.
Я вышел из трамвая следом за ним и тоже двинулся на вокзал Хольцкирхнер. Там Штампф сел на пригородный поезд, идущий на юг — в Мюнхен-Миттерзендлинг. Я тоже. Потом он отшагал больше километра пешком по Цилштатт-штрассе к небольшой современной вилле в конце аллеи. Понаблюдав за домом с минуту, я увидел, как в верхних комнатах вспыхнул свет.
Мне было абсолютно все равно, проведет Винсенц фон Штарнберг двадцать лет в Ландсберге или нет. Пусть его хоть повесят в камере, привязав гирю к щиколоткам. И наплевать, даже если его отец умрет от разбитого сердца. И захочет ли Штампф давать показания в пользу старого университетского приятеля или нет, мне тоже было без разницы. Но я все-таки нажал кнопку звонка на двери, хотя и убеждал себя, что это ни к чему. Я не желал распинаться и уговаривать Штампфа ради штурмбаннфюрера СС фон Штарнберга или ради его отца барона. Хотя бы даже и за тысячу марок. Но ради «персика» можно и постараться, чтобы отразиться ангелом в светло-голубых глазах Хелен Элизабет.
6
Тремя днями позже я получил заверенный чек на тысячу немецких марок, которые мне предстояло снять с личного счета барона в «Делбрюке и компании». Давненько я не зарабатывал такой кругленькой суммы, поэтому оставил чек лежать на столе — любовался им, изредка поднимая и перечитывая вновь и вновь, говоря себе: да, ты и вправду вновь занялся своим делом. Приятное чувство довольства собой продержалось целый час.
Зазвонил телефон. Доктор Бублиц из Института психиатрии Макса Планка сообщил мне, что Кирстен заболела. Поднялась температура, а теперь ее состояние резко ухудшилось, и ее перевели в городской госпиталь рядом с Зендлингер-Тор-плац. Выскочив из офиса, я догнал трамвай, потом чуть ли не бегом миновал сады Нассбаум по пути к женскому отделению госпиталя на Майс-штрассе. Половина здания напоминала строительную площадку, а другая — руины. Я пробрался через строй бетономешалок, обогнул цитадель кирпичей и досок и поднялся по каменным ступеням. Под подошвами моих туфель похрустывала рассыпанным сахаром строительная пыль. Монотонно, гулко отдавался в больничном лестничном колодце перестук молотков, как будто доисторический дятел-великан долбил дыру в гигантском дереве. На улице пара отбойных молотков вели бой за последний окоп Мюнхена. А кто-то сверлил зубы страдальцу-великану, пока другой отпиливал ногу его жене, еще большей мученице. Плескалась, билась во дворе вода, точно в какой-то подземной пещере. Больной шахтер или глуховатый сталевар преисполнились бы благодарности за такой мир и покой, но людям с нормальным слухом женское отделение — все окна стояли нараспашку — казалось настоящим адом.
Кирстен лежала в маленькой отдельной палате, примыкавшей к главной. У нее был сильный жар. Кожа отливала желтизной, волосы прилипли к голове, будто она только что их вымыла, глаза закрыты, дыхание частое, поверхностное. Вид у Кирстен был совсем больной. Медсестра, сидевшая рядом, была в защитной маске.
У моего локтя возник мужчина в белом халате. Приземистый здоровяк со светлыми, разделенными пробором посередине волосами, в очках без оправы и гинденбурговскими усищами. Остро торчал жесткий воротничок — таким только мозоли срезать, а ниже сидел галстук-бабочка, словно спорхнувший с коробки шоколадных конфет.
— Вы ближайший родственник? — рявкнул он.
— Я ее муж, Бернхард Гюнтер, — ответил я.
— Муж? — Он полистал записи. — Фройляйн Хендлёзер замужем? Тут не записано.
— Значит, когда ее семейный доктор определял ее в Институт психиатрии, то этого не указал. Может, мы забыли его на свадьбу пригласить, не знаю. Такое случается. Послушайте, давайте сменим тему. Что с ней?
— Боюсь, герр Гюнтер, тему сменить мы не можем, — вскинулся доктор. — Есть правила, и им полагается следовать. Состояние здоровья фройляйн Хендлёзер я вправе обсуждать только с ее ближайшими родственниками. Может, при вас есть брачное свидетельство?
— Нет, я не ношу его с собой, — терпеливо сказал я, — но я принесу в следующий раз. Устроит? — Умолкнув, я минуту-другую терпел негодующий, сверлящий взгляд доктора. — Кроме меня у нее больше никого нет, — прибавил я. — Могу вас заверить: больше к ней никто не придет. — Я подождал еще. По-прежнему молчание. — Если все это вас не убеждает, тогда ответьте мне, почему же она, если не замужем, носит обручальное кольцо?
Доктор бросил взгляд через мое плечо. Увидев на пальце Кирстен обручальное кольцо, снова кинулся листать записи, как будто там могла найтись подсказка — какой же курс поведения ему выбрать.
— Как-то все очень неправильно, — буркнул он. — Однако, учитывая ее состояние, придется мне поверить вам на слово.
— Спасибо, доктор.
Стукнув пятками, он коротко кивнул мне. У меня сложилось впечатление, что медицинскую степень он получил в госпитале в Пруссии, где выдают солдатские сапоги, а не стетоскопы. Хотя, по правде, сцена для Германии была достаточно обычной. Немецкий доктор всегда считал себя личностью весьма значительной, чуть ли не Господом Богом. Или, пожалуй, еще хуже: может, это Бог думает, будто он — немецкий доктор.
— Доктор Эффнер, — представился он. — Ваша жена — фрау Гюнтер — серьезно больна. Весьма и весьма. И улучшения не наблюдается. Никакого, герр Гюнтер. Ее доставили к нам ночью. Мы делаем все, что в наших силах, — будьте уверены. Но, по моему мнению, вы должны быть готовы к худшему: эту ночь она может не пережить. — Говорил он, точно пушка стреляла — короткими яростными залпами, словно бы учился, как вести себя у постели больного, в «Мессершмитте-109». — Мы, конечно, стараемся облегчить ее состояние, но все, что можно было сделать, уже сделано. Вы понимаете?
— То есть вы хотите сказать, она может умереть? — Наконец и мне удалось пальнуть в него ответным залпом.
— Да, герр Гюнтер. Именно. Состояние у нее критическое, как вы сами видите.
— Но как же так? — недоумевал я. — Я ведь навещал ее всего несколько дней назад, и с ней все было нормально.
— Температура очень высокая, — ответил доктор, как будто это объясняло все. — Вы сами видите, хотя я не советую вам подходить к ней слишком близко: бледность, прерывистое дыхание, анемия, распухшие гланды — все это симптомы тяжелого гриппа.
— Гриппа?
— Старики, бездомные, заключенные, пациенты психиатрических больниц, умственно отсталые, как ваша жена, особенно подвержены вирусу гриппа.
— Но Кирстен не умственно отсталая! — Я свирепо нахмурился на него. — Она всего лишь в состоянии депрессии. И все.
— Таковы факты, герр Гюнтер. Факты! Респираторные заболевания — наиболее распространенная причина смерти среди умственно отсталых индивидуумов. А с фактами не поспоришь.
— Я бы поспорил даже с Платоном, герр доктор, — я прикусил губу, чтобы удержаться и не придушить Эффнера, — особенно если факты неверны. И буду благодарен вам, если вы не станете заявлять о неизбежности смерти с такой безапелляционностью. Она еще не умерла. На случай, если вы не заметили. Или, может, вы из тех врачей, которые предпочитают изучать пациентов, а не лечить их?
Раздув ноздри, доктор Эффнер глубоко вдохнул, встал по стойке «смирно» еще смирнее, если такое возможно, и вскричал:
— Да как вы смеете предполагать такое! Одна мысль, будто я не забочусь о своих пациентах… Это неслыханно! Возмутительно! Мы делаем все, что можем, для фройляйн Хендлёзер. Доброго вам дня, герр Гюнтер! — И, взглянув на часы на руке, ловко повернулся на каблуках и галопом умчался.
Брось я ему вслед стул, мне стало бы легче, но это никак не помогло бы ни Кирстен, ни другим больным. Шуму со стройплощадки и так хватало.
7
В госпитале я оставался несколько часов. Медсестра пообещала мне, что позвонит, если случится перемена к худшему, а так как телефон у меня был только в офисе, то, значит, туда мне и следовало идти, не домой. Да и Галери-штрассе ближе к госпиталю, чем Швабинг. Всего двадцать минут пешком. И вполовину меньше, когда ходят трамваи.
На обратном пути я заглянул в пивную «Пшорр» на Нойхаузер-штрассе подкрепиться пивом и сосисками. Ни того ни другого мне не хотелось, но это старая привычка полицейского — есть и пить, когда выпадает случай, а не когда хочется. Еще я купил четвертушку «Черной смерти» и припрятал в кобуру. Анестезия на случай, который, как я догадывался, весьма вероятен. В панэпидемию 1918 года я уже потерял первую жену. И навидался достаточно людей, умиравших от гриппа в России. Так что симптомы мне известны. Синеют руки и ноги, горло забито мокротой, от которой невозможно избавиться, прерывистое дыхание, слабый запах гниения… Жестокая правда была в том, что я не хотел сидеть у постели и смотреть, как умирает Кирстен. У меня не хватало духу. Я говорил себе, что хочу запомнить Кирстен полной жизни, но знал, на самом деле все не так — я слишком труслив, чтобы сидеть с ней до конца. Кирстен могла бы ожидать от меня большего. Я и сам ожидал от себя большего.
Войдя в офис, я включил настольную лампу, поставил бутылку возле телефона и прилег на зеленую кожаную софу, скрипящую и стонущую, ее я перевез сюда из бара своего отеля. Рядом с софой стояло кресло с украшенной мебельными гвоздями спинкой и посекшимися, залоснившимися подлокотниками, за креслом — стол с откидывающейся крышкой, а пол прикрывал вытертый зеленый ковер — всё тоже из отеля. Круглый стол и четыре стула занимали другую половину моего кабинета, на стене висели две карты Мюнхена в рамках. На небольшой книжной полке расположились телефонные справочники, железнодорожное расписание и буклеты и брошюры, которые я прихватил в Информационном бюро вермахта на Зоннен-штрассе. Все потертое, захватанное — местечко в точности для человека, у которого не хватает смелости сидеть рядом с умирающей женой.
Через некоторое время я поднялся, плеснул себе глоток «Черной смерти», выпил и снова свалился на софу. Кирстен всего сорок четыре года. Она слишком молода, чтобы умирать. Несправедливость судьбы подавляла меня, подтачивала мою веру в Бога, если считать, что таковая у меня еще оставалась. Мало кто, вернувшись из советского лагеря для военнопленных, еще верит во что-то, кроме как в предрасположенность человека к бесчеловечности. Однако не только мысль о нелепости смерти жены грызла мне душу, но и ощущение какого-то рокового невезения. Потерять двух жен из-за гриппа — это уже нечто большее, чем просто невезение. Это похоже на вечные муки в аду. Выжить в войну, когда погибло столько немцев, только для того, чтобы умереть потом от гриппа! Да это несправедливость пострашнее, чем эпидемия 1918 года, унесшая миллионы жизней. Хотя смерть всегда представляется несправедливой на взгляд тех, кто остался в живых.
В дверь постучали. Открыв, я увидел высокую привлекательную даму. Она неуверенно улыбнулась мне, взглянула на табличку на двери:
— Герр Гюнтер?
— Да.
— Я увидела свет с улицы. Я звонила вам днем, но вас не было. — Если бы не три небольших полукруглых шрамика на правой щеке, ее можно было бы назвать настоящей красавицей. Шрамики напомнили мне три маленьких завитка на лбу у актрисы Цары Леандер в каком-то старом фильме о матадорах, его очень любила Кирстен. Ах да, «Хабанера», по-моему, тридцать седьмой год. Тысячу лет назад.
— Я еще не подыскал себе секретаршу, — сказал я. — Я не очень давно открыл агентство.
— Вы — частный детектив? — спросила она удивленно, пристально разглядывая меня, словно пытаясь определить, что я за человек и можно ли мне доверять.
— Так написано на двери, — ответил я, осознавая, что сейчас не выгляжу человеком, на которого можно положиться.
— Возможно, я совершила ошибку, — произнесла дама и покосилась на бутылку на столе. — Простите, что побеспокоила.
В другое время я вспомнил бы о вежливости и уроках, данных мне в школе любезностей, проводил бы ее к креслу, убрал бутылку и учтиво осведомился, какая у нее проблема. Может, даже предложил бы выпить и сигарету, чтобы успокоить посетительницу. У клиентов, переступивших порог частного детективного агентства, часто шалят нервы. Особенно у женщин. Познакомившись с детективом, увидев его дешевый костюм, ощутив запах его тела и резкого одеколона, потенциальный клиент порой задумывается: а может, лучше и не знать того, что ему хотелось узнать. В нашем мире и так чересчур много правды и избыток мерзавцев, всегда готовых запульнуть вам ее прямо между глаз. Но сейчас мне было совсем не до вежливостей и любезностей. Когда умирает жена, такое случается. Машинально я отступил, будто бы молчаливо приглашая ее переменить решение и все-таки войти, но она застыла на месте. Возможно, уловила запах спиртного и слезливое жалостное выражение в моих глазах и решила, что я забубённый пьянчуга.
— Доброй ночи. — Гостья переступила туфельками на элегантных высоких каблуках. — Извините.
Я проводил ее на площадку и смотрел, как она идет по линолеуму к лестнице.
— И вам доброй ночи.
Она не оглянулась. Ничего больше не сказала. И исчезла, оставив после себя шлейф хрупкого, зыбкого благоухания. Я втянул носом остатки ее аромата — приятное разнообразие после запахов больницы.
8
Умерла Кирстен сразу после полуночи, к этому часу я уже достаточно наглотался «анестезии» и чувствовал себя сносно. Трамваи не ходили, и я отправился в больницу пешком, только чтобы доказать, что я могу вести себя, как следует в таких случаях. Я видел ее живой, на нее мертвую смотреть мне не требовалось, но так полагалось. Я даже захватил свидетельство о браке. Лучше пойти сейчас, пока она еще не совсем перестала походить на человеческое существо. Меня всегда поражало, как стремительно происходит перемена. В какую-то минуту человек бурлит жизнью, словно корзина, полная котят, а всего через несколько часов у него уже вид старой восковой куклы из Гамбургского паноптикума.
Встретили меня другая медсестра и другой врач. Оба получше, чем те, из дневной смены. Медсестра посимпатичнее, и врач показался мне гораздо человечнее доктора Эффнера.
— Я очень вам сочувствую, — проговорил он шепотом, как бы выказывая должное уважение смерти, но потом я понял: стоим-то мы в отделении и вокруг спящие женщины. — Мы сделали все, что смогли, герр Гюнтер. Но она действительно была серьезно больна.
— У нее был грипп?
— Скорее всего да.
— Как-то странно, — заметил я. — Я не слыхал, чтоб кто-то еще болел гриппом.
— Вообще-то, — возразил он, — у нас уже есть несколько случаев. В соседней палате тоже лежит больная гриппом. Мы очень тревожимся, как бы болезнь не распространилась. Уверен, вам незачем напоминать о последней серьезной вспышке гриппа в тысяча девятьсот восемнадцатом и о том, сколько тогда умерло народу. Вы ведь и сами все помните?
— Даже лучше, чем вы.
— Уже только по этой причине, — продолжил он, — оккупационные власти прилагают все усилия, чтобы не допустить возможного распространения инфекции. А потому нам бы хотелось получить ваше разрешение на немедленную кремацию, чтобы предотвратить распространение вируса. Я вполне понимаю, герр Гюнтер, насколько сейчас вам тяжело: потерять жену — ей бы еще жить и жить! — это ужасно. Могу только предполагать, что вы сейчас переживаете. Мы не стали бы обращаться с такой просьбой, если б не считали это крайне важным.
Он заикался и запинался, особенно если сравнить его речь с образчиком холодного безразличия, продемонстрированного суровым доктором Эффнером. Я дал ему побуксовать еще немного, мне не хотелось перебивать нескончаемые, искренние выражения сочувствия, заглушавшие наплывающие на меня воспоминания: о том, что, прежде чем стать пациенткой клиники для душевнобольных, Кирстен долго пребывала в унынии и тоске, много пила, а до того путалась с кем попало, особенно с американцами. Еще в Берлине сразу после войны я заподозрил, что она не просто вертихвостка, делающая это за сигареты и шоколад, — тогда так поступали многие женщины, хотя, может, и не так явно получали от этого удовольствие. И почему-то казалось вполне правильным, что теперь, после ее смерти, американцы распоряжаются Кирстен, как считают нужным. В конце концов, с ее телом, когда она была жива, они часто вытворяли, что желали. Так что, когда доктор закончил нашептывать соболезнования и уговоры, я кивнул:
— Что ж, док, сыграем по-вашему. Если считаете, что действительно необходимо поступить именно так…
— Понимаете, на этом настаиваю не столько я, сколько янки. После того, что происходило в тысяча девятьсот восемнадцатом, они очень обеспокоены, как бы в городе снова не вспыхнула эпидемия.
Я вздохнул:
— И когда вы желаете произвести кремацию?
— Как можно скорее, то есть немедленно. Если не возражаете.
— Но мне все-таки хотелось бы увидеть ее.
— Да, да. Конечно же, конечно. Но постарайтесь не дотрагиваться до нее, хорошо? Так, на всякий случай. — Он подал мне хирургическую маску. — Вот, наденьте. Мы уже открыли в палате окна, проветриваем помещение, но рисковать все-таки не стоит.
9
На следующий день я отправился в Дахау, чтобы встретиться с адвокатом семьи Кирстен и сообщить ему новость. Крумпер занимался продажей отеля, но пока что без особого успеха. Похоже, никто не желал покупать дом в Дахау, так же как раньше никто не желал останавливаться в этом отеле. Контора адвоката располагалась рядом с рынком. Из окна позади его стола открывался чудесный вид на церковь Святого Иакова, городскую ратушу и фонтан перед ней, возле которого меня всегда тянуло помочиться. Офис Крумпера тоже походил на строительную площадку, только на полу вместо кирпичей и досок высились груды папок и книг.
Крумпер был прикован к инвалидной коляске из-за ранения, полученного в одну из многочисленных бомбежек Мюнхена. Брюзгливый, с моноклем, голосом как у персонажа мультфильма и трубкой под стать, одетый всегда небрежно, юристом он был вполне компетентным. Крумпер мне нравился, несмотря на то что родился он в Дахау и, прожив там всю жизнь, ни разу не полюбопытствовал: а что же творится к востоку от городка? Во всяком случае, так он утверждал. Услышав о смерти Кирстен, он заметно опечалился. Юристы всегда впадают в грусть, когда теряют выгодных клиентов. Переждав, пока иссякнет поток его соболезнований, я спросил: как он считает, может, мне следует сбавить цену на отель.
— Нет, не стоит, — осторожно высказался он. — Я уверен, кто-нибудь да купит его, пусть даже и не под отель. Вот только вчера заходила женщина, интересовалась домом. У нее возникло несколько вопросов, на которые сам я не сумел ответить, и я позволил себе дать ей вашу визитку. Надеюсь, вы не возражаете, герр Гюнтер?
— А она назвала свое имя?
— Сказала, ее зовут фрау Шмидт. — Он вынул изо рта трубку, раскрыл сигаретницу на столе и предложил мне угоститься. Я прикурил, и он продолжил: — Хороша собой. Высокая. На щеке — три маленьких шрамика. Возможно, от шрапнели. Но не похоже, чтоб она так уж из-за них переживала. Большинство женщин отрастили бы волосы подлиннее, чтобы прикрыть шрамы, а она — нет. Да и не портят они ее внешность. Но все-таки не каждая чувствовала бы себя так уверенно, правда?
По описанию Крумпера выходило, что это та самая женщина, которая заходила ко мне накануне вечером. Но у меня не сложилось впечатления, что интересовала ее покупка отеля.
— Да, все верно, — согласился я. — Может, она состоит в обществе дуэлянтов, в клубе типа «Тевтония». И похвальба шрамами делает ее еще привлекательнее для какого-нибудь забияки с рапирой в руках? Что там за чепуховину нес кайзер насчет этих старых клубов? Что они вроде как самая лучшая подготовка, какую может получить молодой человек для будущей жизни.
— Может, и так, герр Гюнтер. — Крумпер потрогал небольшой шрам у себя на скуле, словно бы и сам прошел подготовку, столь ценимую кайзером. Он помолчал минуту-другую, открывая папку, лежавшую на захламленном столе. — Ваша жена оставила завещание, — проговорил он наконец. — Она все оставляла своему отцу. Но после его смерти нового завещания не сделала. Так что, как ее ближайший родственник, теперь все наследуете вы. Отель. Несколько сот марок. Картины — их несколько. И машину.
— Машину? — Вот так новость! — У Кирстен была машина?
— У ее отца. Он ее прятал всю войну.
— Да, у него здорово получалось прятать всякое-разное, — заметил я, вспоминая ящик, закопанный его другом-эсэсовцем в саду. Я не сомневался, отцу Кирстен про ящик было прекрасно известно, хотя американец, выкопавший его, считал по-другому.
— В гараже мастерской по ремонту автомобилей «Фулд».
— По дороге в Клайнберхофен? — Крумпер кивнул. — А что за машина?
— Я не очень-то разбираюсь. Видел герра Хендлёзера в машине как-то перед войной. Он очень ею гордился. Какой-то двухцветный кабриолет. Дела у него тогда, безусловно, шли лучше, и он мог позволить себе купить автомобиль. Но в начале войны он даже колеса закопал, чтобы не реквизировали. — Крумпер протянул мне связку ключей. — И я знаю, хотя он и не ездил на автомашине, но очень о ней заботился. Я уверен, что она на ходу.
Несколькими часами позже я возвращался в Мюнхен уже на отличной двухдверной «ханзе-1700», выглядевшей такой же красивой, как в день, когда ее выкатили с автозавода «Голиаф» в Бремене. Я отправился прямиком в госпиталь — забрать прах Кирстен, а потом поехал в Дахау, на Лайтенбергское кладбище, где договорился встретиться с местным гробовщиком, герром Гартнером. Я передал ему пепел и заказал на другой день короткую заупокойную службу.
Вернувшись домой, в Швабинг, я снова принял толику «анестезирующего». Но на этот раз шнапс не сработал. Чувствовал я себя одиноким, будто рыбка в унитазе. Ни родственников у меня не осталось, ни друзей, с кем можно бы поговорить. Один только парень в зеркале в ванной — этот здоровался со мной каждое утро. Но последнее время даже он утомился со мной разговаривать и частенько приветствовал лишь ухмылкой, точно я вконец ему опротивел. Может, мы все стали противными. Мы, немцы. Американцы смотрят на всех нас с тихим презрением, делая исключение разве что для девушек по вызову и всяких других шлюшек. И не требовалось быть ясновидящим, чтобы прочитать мысли наших новых друзей и защитников. «Как вы допустили, чтобы случилось такое? — как бы спрашивали они. — Как могли натворить то, что натворили?» Подобный вопрос я и сам частенько задавал себе. Но ответа у меня не находилось. И вряд ли у кого-то из нас он когда-нибудь отыщется. Да и какой тут вообще возможен ответ? Просто однажды в Германии такое случилось… лет эдак тысячу назад.
10
Через неделю она пришла снова. Та, высокая. Высокие женщины всегда привлекательнее низеньких, особенно красотки того типа, который обожают мужчины-коротышки: на самом деле они не такие уж и высокие, просто такими кажутся. Эту женщину выше делали прическа, шляпа, громадные каблуки и высокомерие. Вот высокомерия у нее точно было хоть отбавляй — по виду, помощь ей требовалась, как Венеции дожди. Я всегда ценил это качество в клиенте. Мне даже нравится, когда меня нанимают люди, не привыкшие к словечкам типа «пожалуйста» или «спасибо». Это будит во мне дух и упорство золотоискателей.
— Герр Гюнтер, — начала она, — мне требуется ваша помощь. — Очень осторожно она присела на краешек моей скрипящей зеленой софы. Портфеля из рук она не выпускала, прижимая его к груди, будто опасаясь за его сохранность.
— О? А почему вы так решили?
— Вы ведь частный детектив?
— Да. Но почему я? Почему вы не обратились к Прейзингам на Фрауэн-штрассе? Или к Кленце на Августинер-штрассе? Это солидные агентства со штатом сотрудников…
Она чуточку оторопела, будто бы я стал расспрашивать, какого цвета на ней нижнее белье. Ободряюще ей улыбнувшись, я подумал про себя, что, пока она не разговорится, придется мне догадываться о причинах ее визита самому.
— Это я стараюсь, фройляйн, выяснить: вам меня кто-то порекомендовал? В нашем бизнесе об этом полезно знать.
— Не фройляйн, фрау. Фрау Варцок. Бритта Варцок. Да, вас мне рекомендовали.
— Вот как? И кто же?
— С вашего позволения, имени я предпочла бы не называть.
— Но вы ведь та дама, которая заходила к герру Крумперу, моему адвокату, на прошлой неделе? Это вы интересовались моим отелем, выставленным на продажу? Только тогда вы назвались Шмидт, по-моему.
— Да. Глупость, конечно, признаю. Но понимаете, я не была уверена, захочу я вас нанять или нет. Я уже заходила пару раз сюда, но вас не заставала, а записки в почтовом ящике оставлять не стала. Консьерж сказал, у вас вроде бы есть отель в Дахау. Я решила, что сумею разыскать вас там. Увидела табличку «продается» и отправилась в контору Крумпера.
Что-то из этого могло быть правдой, и пока что суетиться я не спешил. Мне доставляли удовольствие и ее замешательство, и стройные длинные ноги, потому отпугивать ее мне не хотелось. Но поддразнить немножко вреда не принесет.
— Но, однако, когда вы зашли сюда на днях, то сказали, что совершили ошибку.
— А теперь передумала. Вот и все.
— Передумали раз, пожалуй, передумаете и в другой. И посадите меня в лужу посреди дороги. А в нашем деле такая ситуация очень даже некстати. Я должен быть уверен, фрау Варцок, что решили вы твердо. Это ведь не шляпку покупать. Как только расследование начинается, переиграть уже нельзя. Его нельзя вернуть обратно в магазин и заявить — это мне не подходит.
— Герр Гюнтер, я не идиотка, — откликнулась она. — И, пожалуйста, не говорите со мной так, будто я не в состоянии продумать последствия своих поступков. Прийти сюда было нелегко. Вы понятия не имеете, как трудно далось мне решение. Иначе не взяли бы такой покровительственный тон. — Говорила она ровно, без всяких эмоций. — Это всё из-за шляпы? Я могу ее снять, если она так вас раздражает. — И наконец-то выпустила из рук портфель, поставив его на пол у ног.
— Наоборот, шляпка мне очень нравится, — улыбнулся я. — Пожалуйста, не снимайте. И простите, если мои манеры вас обидели. Но, по-честному, в агентство столько посетителей приходит, которые только попусту отнимают время, а я свое очень ценю. Работаю я в одиночку, и если стану работать на вас, то уже не смогу взять другого клиента. У кого-то, возможно, потребность в моей помощи гораздо настоятельнее, чем у вас. Вот так обстоят дела.
— Сомневаюсь, что кто-то нуждается в ваших услугах больше, чем я, герр Гюнтер, — возразила она, и в голосе ее я расслышал дрожь, зацепившую меня за чувствительное местечко где-то около сердца. Я предложил посетительнице сигарету.
— Я не курю, — покачала она головой. — Мой… доктор говорит, сигареты очень вредны.
— Знаю. Но рассуждаю так: курение — самый изящный способ убить себя. И к тому же предоставляет вам перед кончиной время для улаживания всех ваших дел. — Закурив, я проглотил дым. — Итак, фрау Варцок, что же у вас за проблема?
— Вы так серьезно это сказали. Насчет способа убить себя.
— Я побывал на русском фронте, фрау. После этого каждый день воспринимается как подарок. — Я пожал плечами. — Так что ешьте, пейте и веселитесь, потому что завтра страну могут оккупировать Иваны, и тогда единственным нашим желанием станет — умереть, если мы еще будем к тому времени в живых. Хотя надежда выжить — довольно слабая: при помощи атомной бомбы на то, чтобы убить шесть миллионов человек, потребуется всего шесть минут, а не шесть лет. — Я прикусил сигарету и ухмыльнулся. — А потому: что такое пара колец дыма в сравнении с облаком-грибом?
— Так вы были на войне?
— Конечно. Мы все на ней побывали. — Сейчас я не видел их, но знал, они — тут. Три шрамика на щеке маскировал краешек черной вуали сбоку ее шляпки. — И вы тоже, судя по всему.
Она тронула лицо:
— Вообще-то мне очень повезло…
— Только так и нужно на это смотреть.
— Двадцать пятого апреля тысяча девятьсот сорок четвертого года Мюнхен бомбили, — стала рассказывать она. — Говорят, на город сбросили тогда сорок пять фугасных и пять тысяч зажигательных бомб. Одна попала в мой дом, меня ранило тремя раскаленными медными кольцами, сорванными с бойлера. Могло бы попасть и в глаза. Поразительно, как мы все это вынесли, правда?
— Верно.
— Герр Гюнтер, я хочу выйти замуж.
— Несколько неожиданное заявление, дорогая. Мы ведь только что познакомились.
Она вежливо улыбнулась:
— Однако есть проблема: я не знаю, жив ли еще человек, за которым я замужем сейчас.
— Если он пропал в войну, фрау Варцок, вам лучше разыскивать его через Информационное бюро вермахта, — посоветовал я. — Телефон сорок один девятьсот четыре.
Номер я знал, потому что, когда погиб отец Кирстен, пытался навести справки о ее брате. Новость, что его убили в сорок четвертом, только ухудшила ее состояние.
Фрау Варцок покачала головой:
— У меня другая ситуация. Я знаю, что после окончания войны он был еще жив. Весной тысяча девятьсот сорок шестого мы встретились в Эбенси, рядом с Зальцбургом. Это была короткая встреча. Понимаете, мы больше не жили вместе как муж и жена. С конца войны — нет. — Она вытянула платочек из рукава своего дорогого пиджака и, смяв, зажала в ладони, точно заранее готовясь заплакать.
— А в полицию вы обращались?
— В германской полиции сообщили, что это дело в ведении австрийской. А в Зальцбурге посоветовали идти к американцам.
— Янки тоже не станут его разыскивать.
— Вообще-то, может, и станут… — Фрау Варцок сглотнула комок бурных эмоций и глубоко вдохнула. — Да, думаю, они могут быть заинтересованы в его розыске…
— О?
— Я, правда, ничего не рассказывала им про Фридриха. Так его зовут — Фридрих Варцок. Он родом из Галиции, которая до Австро-прусской войны тысяча восемьсот шестьдесят шестого года входила в состав Австрии, потом стране была предоставлена автономия. А после тысяча девятьсот восемнадцатого она стала частью Польши. Фридрих родился в Кракове в тысяча девятьсот третьем. Поляк он был насквозь австрийский, герр Гюнтер. А потом стал насквозь германским, после того как к власти пришел Гитлер.
— А почему вы считаете, что ваш муж представляет какой-то интерес для американцев? — спросил я, но, уже задавая вопрос — такой вот я проницательный, — сообразил сам.
— Фридрих был человеком с большими амбициями, но, надо признаться, небольшого ума. Перед войной он работал резчиком по камню, и мастером был довольно хорошим. Он был, герр Гюнтер, активным, энергичным — настоящий мужчина. Наверное, потому-то я и влюбилась в него. Когда мне было восемнадцать, я и сама была… бойкой.
В этом я не сомневался ни секунды. Было очень легко представить себе, как она в коротком белом платьице, с лавровым веночком на голове проделывает разные акробатические штуки с обручем в красивеньком сладком пропагандистском фильме от доктора Геббельса. Женскую силу и энергичность олицетворяли тогда пышущие здоровьем крепенькие блондинки — удачнее и не придумать.
— Буду с вами откровенной, герр Гюнтер. — Она промокнула глаза уголком платка. — Фридрих Варцок был… нехорошим человеком. В войну он вытворял жуткие вещи.
— Сейчас, я думаю, никто из нас не может заявить, что совесть у него чиста.
— Это верно, герр Гюнтер, но есть поступки, которые человек вынужден совершать, ради того чтобы выжить, а есть другие, когда выживание ни при чем. Поэтому под амнистию, которая сейчас обсуждается в парламенте, мой муж не подпадает.
— Ну, я не стал бы так категорически утверждать, — возразил я. — Если уж такой отпетый мерзавец, как Эрих Кох, готов рискнуть и выползти из подполья, чтобы претендовать на защиту по новому закону, значит, кто угодно может на это надеяться.
Эрих Кох был гауляйтером Восточной Пруссии и комиссаром рейха на Украине, где совершались страшные злодеяния. Я знал о них не понаслышке: кое-что наблюдал собственными глазами. Кох делал ставку на получение защиты по новому Основному закону Федеративной Республики, который запрещал смертную казнь и экстрадицию по всем новым судебным делам о военных преступлениях. Сейчас Кох находился в тюрьме в британской оккупационной зоне. Время покажет, насколько его решение оказалось дальновидным.
Я начинал понимать, в чем состоит проблема и чем мне предстоит заниматься. Муж фрау Варцок станет третьим разыскиваемым мной нацистом подряд. И благодаря Эриху Кауфману и барону фон Штарнбергу, от которого я получил благодарственное письмо, похоже, я становлюсь человеком, к которому теперь всегда станут обращаться, если проблемы связаны с Красными Куртками или скрывающимися от правосудия военными преступниками. Мне это не особо нравилось. Не для того я вернулся в частный сыск. И, возможно, я отказал бы фрау Варцок, примись она уверять меня, что ее муж не имел против евреев ничего личного или что он — всего лишь жертва неправильной оценки исторического момента. Но пока что ничего такого она не говорила, напротив, настойчиво убеждала меня в обратном.
— Нет, нет, Фридрих — дурной человек! Его не амнистируют. После всего, что он наделал, — нет! И он заслуживает любого наказания, какое ему вынесут. Больше всего меня порадует известие, что он мертв. Поверьте мне.
— Да я верю, верю! А может, расскажете мне, что же он все-таки сделал?
— Перед войной он вступил в национал-социалистическую партию и в СС, где поднялся до чина гауптштурмфюрера. Его перебросили в Польшу, в лагерь Лемберг-Яновска. И тут настал конец человека, за которого я вышла замуж.
Я покачал головой:
— Никогда не слышал про Лемберг-Яновска.
— Ну так радуйтесь, герр Гюнтер! — воскликнула она. — Яновска не был похож на другие лагеря. Начинался он как завод, входивший в Германские оружейные заводы во Львове. В сорок первом году там работало около шести тысяч евреев и поляков. Фридрих отправился туда в начале сорок второго, и на несколько дней с ним поехала и я. Командовал лагерем человек по имени Вилхаус, а Фридрих стал его помощником. Немецких офицеров, вроде моего мужа, служило в лагере человек двенадцать или пятнадцать. Но большинство охранников были русские, они добровольно пошли на службу в СС, спасаясь от участи военнопленных. — Покачав головой, фрау Варцок сильнее сжала и без того уже скомканный платок, словно выжимая жуткие воспоминания из хлопка. — Когда Фридрих приехал в Яновска, туда прибыла новая партия евреев. Евреев было очень много. И моральный дух — если можно такое сказать про Яновска, — дух лагеря переменился. Заставлять евреев производить оружие для рейха стало уже не главным — работников хватало, — гораздо проще было просто убивать их. Убийства не были систематическими, как в Аушвиц-Биркенау. Нет, их убивали поодиночке, способами, какие эсэсовцам приходили в голову. Каждый эсэсовец убивал на свой излюбленный лад. Каждый день там совершались убийства: евреев стреляли, вешали, топили, закалывали штыком, потрошили им внутренности, распинали на кресте — да, герр Гюнтер, и на кресте евреев распинали тоже. Вам трудно такое вообразить? Но это правда. Женщин закалывали ножами или рубили на части резаками. Детей использовали в качестве мишеней на стрельбище. Я слышала историю, что заключали пари: сумеет ли эсэсовец разрубить ребенка пополам топором с одного удара. И каждый эсэсовец был обязан вести счет, скольких евреев он убил, потом всех заносили в общий список. Так были убиты, герр Гюнтер, триста тысяч человек. С особой жестокостью. Хладнокровно. Хохочущими садистами. И мой муж был одним из этих садистов.
Рассказывая, фрау Варцок, смотрела не на меня, а в пол, и скоро я увидел, как на ковер упала слеза, следом — вторая.
— Не знаю точно, когда именно, потому что Фридрих скоро перестал писать мне, но он принял на себя командование лагерем. И позволял, чтобы при нем продолжали твориться убийства. Как-то он все-таки написал мне — сообщил, что лагерь посетил Гиммлер и сиял от удовольствия: как замечательно идут дела в Яновска! Лагерь был освобожден русскими в июле тысяча девятьсот сорок четвертого. Сейчас Вилхаус уже мертв. Думаю, его убили русские. Фрица Гебауэра, бывшего начальником лагеря до Вилхауса, судили в Дахау и приговорили к пожизненному заключению. Сейчас он в Ландсбергской тюрьме. Но Фридриху удалось сбежать в Германию, где он оставался до конца войны. Тогда мы несколько раз общались. Нашему браку — конец, и если б я не была католичкой, то обязательно развелась бы с ним.
В конце тысяча девятьсот сорок пятого Фридрих исчез из Мюнхена, и у меня не было от него никаких известий до марта тысяча девятьсот сорок шестого. Он скрывался. Раз только связался со мной и попросил денег: он планировал сбежать из страны. Он связался с организацией «Старые товарищи» — называется «ОДЕССА» — и дожидался нового паспорта на чужое имя. Деньги, герр Гюнтер, у меня есть. И я согласилась дать их ему. Потому что хотела, чтобы он исчез из моей жизни. Навсегда. Тогда у меня еще не появлялось мыслей, что я могу снова выйти замуж. Шрамы у меня были страшные. Хирург немало потрудился, чтобы сделать мое лицо более привлекательным. Большую часть оставшихся денег я потратила на гонорар ему.
— Оно того стоило, — обронил я. — Отличная работа.
— Вы очень добры. И вот теперь я познакомилась с приличным человеком, за него мне хотелось бы выйти замуж. А потому я хочу знать, жив Фридрих или умер. Понимаете, он обещал, что напишет мне, как только доберется до Южной Америки — туда уехало большинство эсэсовцев. Но письмо так и не пришло. Те, кто бежали с Фридрихом, уже написали своим семьям, все живут в безопасности, кто в Аргентине, кто в Бразилии. А от моего мужа — ничего. Я советовалась с кардиналом Иозефом Фрингсом из Кёльна, и он сказал, что повторный брак в Римской католической церкви невозможен без свидетельства о смерти Фридриха. Вот я и подумала: вы ведь и сами состояли в СС, так, наверное, у вас больше возможностей выяснить, жив он или мертв. И в Южной ли он Америке.
— Вы очень неплохо информированы, — заметил я.
— Не я, — возразила фрау Варцок, — мой жених. Он мне все это рассказал.
— А чем он занимается?
— Он юрист.
— Хм, я мог бы и сам догадаться.
— То есть?
— Да так, ничего. Знаете, фрау Варцок, не всякий, кто состоял в СС, такой приветливый и ласковый, как я. Некоторым из этих «старых товарищей» совсем не нравятся вопросы даже от людей вроде меня. То, о чем вы просите, может быть опасным.
— Я это вполне понимаю, — кивнула она. — Мы хорошо оплатим ваши хлопоты. У меня еще остались деньги, и мой жених достаточно обеспеченный человек.
— Верю. Бедных юристов не бывает. — Я закурил новую сигарету. — Подобное расследование может стоить немалых денег. Расходы разные. Затраты на разговоры…
— На разговоры? — удивилась она.
— Ну да. Большинство людей и рта не раскроют, и пальцем не пошевельнут, пока не увидят картинку. — Вынув купюру, я показал на Европу и быка. — Вот эту.
— Полагаю, в том числе и вы.
— Не скрою, я завожусь от денежек, как и все в наши дни. Включая юристов. Моя такса — десять марок в день плюс расходы. И никаких расписок. Вашему бухгалтеру, возможно, не понравится, но ничего не попишешь. Покупать информацию сложнее и дороже, чем почтовый набор. Какую-то сумму я беру авансом. Это некое возмещение, вдруг вы внезапно рассердитесь на что-нибудь… Видите ли, я могу вытянуть пустышку. А клиенту всегда досадно, если ему приходится платить ни за что.
— Двести марок аванса вас устроит? — предложила фрау Варцок.
— Две сотни всегда лучше одной, — согласился я.
— И весомое вознаграждение, если отыщете какие-то доказательства жизни или смерти Фридриха.
— Насколько весомое?
— Ну, не знаю. Надо подумать.
— Неплохо, чтобы вы поскорее закончили мыслительный процесс. Так мне будет лучше работаться. Во сколько вы оцените мой успех, если я разыщу для вас информацию и вы сумеете выйти замуж?
— Тогда, герр Гюнтер, я заплачу вам пять тысяч марок.
— А вам не пришло в голову предложить столько кардиналу? — полюбопытствовал я.
— То есть вы имеете в виду… как взятку?
— Нет, фрау Варцок, не как, а конкретно — взятку. Простую и недвусмысленную. На пять тысяч марок можно купить целую связку четок. Черт, ведь именно так Борджиа и нажили свое богатство. Это всякому известно.
Фрау Варцок была шокирована:
— Сейчас церковь уже не такая!
— Нет? Уверены?
— Я не могла, — пробормотала она. — Брак это таинство, и он нерасторжим.
— Что ж, вам виднее. — Я пожал плечами. — У вас есть фотография вашего мужа?
Она нагнулась к портфелю, вынула конверт и протянула мне три снимка. Первый — стандартный студийный портрет мужчины с огоньком во взгляде и широкой улыбкой на лице. Чуть слишком близко посаженные глаза, но кроме этого ничто не могло бы натолкнуть на мысль, что на фото — лицо убийцы-психопата. Вполне обыкновенный работяга. Вот это и было самым страшным в концлагерях и спецгруппах. Всюду самые обыкновенные парни: юристы, судьи, полисмены, фермеры и резчики по камню, — они и совершали массовые убийства. На втором снимке Варцок, уже чуть заматеревший, подбородок наплывает на воротничок мундира, стоит по стойке «смирно», правая рука утонула в лапе сияющего Генриха Гиммлера. Росточком Варцок даже не дотягивал до Гиммлера. Рядом с Гиммлером стоял группенфюрер СС — лицо его было мне незнакомо. Третья фотография, снятая в тот же день: на ней шестеро офицеров-эсэсовцев, среди них Варцок и Гиммлер. На землю падали тени, видимо, тогда был солнечный денек.
— Эти две были сделаны в августе сорок второго, — пояснила фрау Варцок. — Как видите, Гиммлеру показывают Яновска. Вилхаус был пьян, и все было совсем не так радужно, как кажется на фото. На самом деле Гиммлер не одобрял бессмысленной жестокости. Во всяком случае, так мне сказал Фридрих.
Она вновь полезла в портфель и вынула несколько листков, напечатанных на машинке.
— Вот некоторые факты из досье Варцока в СС. Его номер в СС. Номер в НСДАП. Его родители — оба они уже умерли, так что про какие-то подсказки с этой стороны можно забыть. У него была подружка, еврейка по имени Ребекка, он убил ее перед самым освобождением лагеря. Возможно, сумеете что-то узнать от начальника лагеря Фрица Гебауэра. Я не пробовала.
Я пробежал глазами приготовленные ею бумаги. Педантичная женщина, надо отдать ей должное. А может, бумаги готовил ее жених-юрист. Я снова вернулся к фотографиям. Как-то трудно было представить ее в постели с мужчиной, пожимающим руку Гиммлеру, однако встречались мне и более несовместимые пары. Я мог понять, что прельстило в ней Варцока. Он был коротышка, она — девушка высокая. Хотя бы в этом он подпадал под свой тип. Труднее было понять, что в нем нашла она. Высокие женщины если и выходят замуж за коротышек, так только потому, что у тех нехватка лишь в сантиметрах роста, а денег — с избытком. Однако вряд ли резчик по камню так уж много зарабатывал, даже и в Австрии, где надгробия резьбой украшают куда обильней, чем где-нибудь еще в Европе.
— Не понимаю, — протянул я. — Почему вообще такая женщина, как вы, вышла замуж за подобного недомерка?
— Потому что я забеременела, — ответила она. — Иначе ни за что бы не вышла. А после того как мы поженились, я потеряла ребенка. А развестись я не могла…
— Ладно. Но, предположим, я найду его. Что будет тогда? Про это вы думали?
Ноздри у нее сузились, она прикрыла на минутку глаза, на лице проступила жесткость, не заметная раньше, — будто высунулась стальная рука, замаскированная до того бархатной перчаткой.
— Вы упоминали Эриха Коха, — сказала она. — По мнению моего жениха, с тех пор как Кох вышел из подполья в мае, англичане — а заключен Кох в тюрьму сейчас в их зоне — рассматривают запросы об экстрадиции от Польши и Советского Союза, где Кох совершал преступления. Мой жених считает, что, несмотря на Основной закон и амнистии, какие может пробить Федеративная Республика, англичане все-таки согласятся на экстрадицию Коха в зону русских и в Польшу. А у моего жениха информация достоверная. И если Коха признают виновным в суде Варшавы, то по законам Польши ему неизбежно грозит смертная казнь. Хотя Германия такие приговоры склонна юридически отклонять. Мы полагаем, такая же судьба постигнет и Фридриха Варцока.
— Понятно, — усмехнулся я. — Теперь я вижу, что у вас с мужем было много общего. Вы похожи на члена семейства Борджиа, я их уже упоминал.
Например, на Лукрецию Борджиа. Очень красивая, но безжалостная.
Она залилась ярким румянцем:
— Неужели вас действительно заботит, что произойдет с таким человеком? — Она махнула фотографией мужа.
— Не особенно. Я помогу вам искать вашего мужа, фрау Варцок. Но помогать затягивать петлю на его шее не стану. Даже если б он заслуживал этого в тысячу раз больше.
— А что такое, герр Гюнтер? Вы чересчур щепетильны?
— Может, и так. Потому что я видел, как вешали людей, как их расстреливали. Видел, как людей разносило в клочья, как их морили голодом до смерти, сжигали огнеметами и давили гусеницами танков. Развлечения хоть куда, но спустя какое-то время понимаешь, что насмотрелся до тошноты. И даже перед собой нельзя притвориться, будто не видел ничего такого, потому что за закрытыми веками всегда, стоит тебе заснуть, проплывают эти картинки. А возможность избежать этих видений есть, да и всегда была. Уже невозможно отговориться, что ты ничего не мог предпринять и что приказ есть приказ, и рассчитывать, что люди проглотят это, как бывало прежде. Так что — да, я полагаю, я несколько щепетилен. В конце концов, оглянитесь: куда нас завела безжалостность?
— Вы — настоящий философ, да?
— Все детективы, фрау Варцок, философы. Приходится. Ведь им требуется распознавать, сколько из того, что рассказывают клиенты, можно проглотить без опаски, а что лучше спустить в канализацию. Кто из клиентов безумен, как Ницше, а кто — всего лишь безобидный сумасшедший, вроде Маркса. Вы упомянули про двести марок аванса…
Фрау Варцок снова наклонилась к портфелю, вынула бумажник и отсчитала мне в руку четыре купюры.
— А заодно я прихватила немного настойки болиголова, — сказала она. — Если б вы отказались, я бы пригрозила, что выпью его у вас на глазах. Но если вам все-таки удастся разыскать моего мужа, можете угостить его. Такой вот прощальный подарок от меня.
Я улыбнулся ей. Мне нравилось ей улыбаться. Она была из тех клиентов, кому не вредно лишний раз показать зубы, так, на всякий случай. Намекнуть, что и я умею кусаться.
— Я напишу вам расписку, — сказал я.
Наш деловой разговор завершился, и фрау Варцок встала — благоуханное облачко духов, оторвавшись от ее восхитительного тела, угодило в мои дыхательные пути. Без каблуков и шляпы, прикинул я, ростом красавица не выше меня. Но когда все было при ней, я чувствовал себя ее любимым евнухом. Сдается мне, именно на такой эффект она и рассчитывала.
— Берегите себя, герр Гюнтер, — попрощалась она, обернувшись у двери, — ну просто сама забота и благовоспитанность.
— Всегда стараюсь изо всех сил. Практика в этом смысле у меня была обширная.
— А когда начнете розыски?
— Ваши две сотни приказывают — приступай немедленно!
— А как и откуда начнете?
— Переворошу кое-какие камни и взгляну, что из-под них выползет. Учитывая, что убито шесть миллионов евреев, камней в Германии — выбирай — не хочу!
11
Детективное расследование несколько напоминает ситуацию, когда ты входишь в кинозал, а фильм уже начался. Ты не знаешь, что произошло в начале, и, пока отыскиваешь дорогу в темноте, неизбежно отдавливаешь кому-то ноги или заслоняешь экран. Случается, зрители ругают тебя, но чаще только вздыхают или укоризненно цокают, убирая подальше ноги, и изо всех сил стараются притвориться, будто тебя тут нет. А если ты станешь задавать вопросы соседу, реакция непредсказуема: он тебя или посвятит в сюжет и перечислит исполнителей, или ты можешь получить по губам свернутой в трубку программой. Короче, платишь деньги и пользуешься возникающими возможностями.
Но использовать возможность — это одно. А испытывать свою везучесть — совсем другое. Я не собирался расспрашивать о «старых товарищах» в одиночку, без поддержки друга. Люди, которым грозит виселица, случается, очень ревностно оберегают свою частную жизнь. При мне не было револьвера с тех пор, как я уехал из Вены. Теперь я решил вооружиться. На всякий пожарный.
По закону 1938 года оружие можно было купить только по предъявлении особого разрешения, но у большинства моих знакомых какое-то оружие все же имелось. Однако в конце войны генерал Эйзенхауэр приказал конфисковать в американской оккупационной зоне все личное оружие. А в советской зоне дело обстояло еще строже: немца, у которого находили хоть один патрон, могли застрелить на месте без всяких церемоний. Раздобыть в Германии пистолет было так же сложно, как купить банан.
Был у меня один знакомец по имени Штубер, Фэксон Штубер, он водил валютное такси и мог достать что угодно, в основном у американской солдатни. Помеченные буквами «ВТ», эти машины предназначались исключительно для пользования людей, у которых водились валюта или иностранные обменные купоны, то есть «ИОК». Понятия не имею, как раздобыл их отец Кирстен, но я обнаружил с десяток у него в бардачке машины. Наверное, сберегал на покупку бензина на черном рынке. Я истратил часть, чтобы заплатить Штуберу за пистолет.
Мелкий парнишка, чуть старше двадцати, с усиками, похожими на рядок муравьев, усевшихся над верхней губой, а на голове у него красовалось черное кепи офицера СС, с которого были содраны знаки различия и украшения. Ни один из американцев, садившихся в его ВТ, не догадался, что это на самом деле за кепи. Но я знал. Мне чуть самому не пришлось носить черное кепи. Но до этого все-таки не дошло. Носил я, как мне и было положено, военный вариант серого цвета как часть униформы
«М37 СС», введенной после 1938 года. Думаю, кепи Штубер нашел или ему кто-то подарил. Он был слишком молод и никак не мог служить в СС. Даже такси водить — и то слишком молод. В маленькой белой руке парня оружие, которое он раздобыл для меня, смотрелось самым взаправдашним боевым, но в моей затянутой в перчатку ладони больше напоминало водяной пистолетик.
— Слушай, я же оружие просил, а не игрушечную пукалку!
— Да ты что? — возмутился Штубер. — Это ж «беретта» двадцать пятого калибра! Очень даже прекрасный пистолет. В обойме восемь патронов, и я притащил тебе еще и коробку запасных. У него переламывается ствол, так что вставить или вышибить патрон легко и просто. Тринадцать сантиметров длиной, а весом всего грамм триста.
— Я и бараньи котлеты видел побольше.
— Только, Гюнтер, не с твоей продуктовой карточкой, — усмехнулся Штубер.
Можно было подумать, что сам он каждый вечер объедался стейком. Хотя, если учесть, кто у него пассажиры, может, и объедался.
— Мощнее оружия тебе в этом городе и не требуется, если только ты не задумал устроить тут «ОК Коралл».[8]
— Мне нравятся пистолеты, которые люди могут разглядеть. Разглядит человек пушку, так у него сразу появится время на размышление.
А с этим пугачом никто не воспримет меня всерьез, пока я на самом деле кого не пристрелю.
— Да этот малютка пробил больше дырок, чем ты можешь себе представить! Слушай, если желаешь чего помощнее, я могу, конечно, достать. Но понадобится больше времени. А мне показалось, ты торопишься.
Мы катались еще несколько минут, пока я раздумывал. Прав Штубер был в одном. Я действительно торопился. В конце концов, вздохнув, я сказал:
— Ладно, беру.
— По-моему, так самое отличное оружие для этого города: эффективное, удобное, не бросается в глаза.
Можно было подумать, он рекламирует членство в Геррен-клубе,[9] а не погремушку какой-нибудь шлюхи. Поблескивающая фальшивыми камешками кобура явно кричала, что именно ей оружие и принадлежало. Скорее всего, какой-нибудь Джи Ай конфисковал его у своей «детки». Возможно, девка поймала его в ловушку, наведя пистолетик с намерением выкачать из него еще несколько лишних марок, а он силой отнял его. Я только надеялся, что ребята-баллистики из управления полиции не разыскивают эту «беретту». Кинув кобуру обратно Штуберу, я вылез из такси на Шеллинг-штрассе, сочтя, что бесплатная поездка до нужного мне места — самое малое, чем он может вознаградить меня, впарив игрушку девчонки по вызову.
Войдя в дверь «Нойе цайтунг», я попросил скуластого носатого рыжего парня за стойкой вызвать Фридриха Корша. Пока Корш спускался, я просматривал первую страницу газеты. И наткнулся на статью об Иоганне Нойхаузлере, помощнике протестантского епископа Мюнхена, он был участником различных группировок, пытавшихся добиться освобождения Красных Курток из Ландсберга. По мнению епископа, американцы «в садизме не отстают от наци». Он повествовал о надзирателе тюрьмы — американце, не называя его имени, по словам которого условия в Ландсберге «не поддаются описанию». У меня мелькнула догадка, кто этот американский солдат, и я разозлился, что еще и епископ повторяет всякие враки и полуправды Джона Иванова. Очевидно, все мои действия от имени Эриха Кауфмана пропали впустую.
Фридрих Корш в мою бытность комиссаром в «Алексе» в 1938–1939 годах был молод и служил криминал-ассистентом в КРИПО. Не видел я его почти десять лет, но как-то, прошлым декабрем, случайно с ним встретился на Розен-штрассе. Он ничуть не изменился, только на глазу появилась кожаная повязка и он со своим длинным подбородком и усиками в стиле Дугласа Фербенкса стал похож на пирата-головореза, что, может, очень даже и кстати для журналиста, работающего в американской газете.
Мы отправились в «Остерию Бавария» — некогда излюбленный ресторан Гитлера — и заспорили, кто будет платить по счету, между тем вспоминая старые времена и составляя список живых и погибших. Но когда я поделился с ним своими подозрениями, что информатор епископа Нойхаузлера из тюрьмы Ландсберг — врун и мошенник, Корш отказался даже слушать мои возражения, что заплачу я.
— За такие сведения ланчем тебя угощает моя газета.
— А я-то надеялся разжиться сведениями у тебя. Я сейчас разыскиваю одного военного преступника.
— Все разыскивают.
— Его зовут Фридрих Варцок.
— Никогда про такого не слыхал.
— Одно время он служил помощником начальника трудового лагеря рядом с гетто во Львове. Назывался лагерь — Лемберг-Яновска.
— Больше похоже на сорт сыра.
— Это в Юго-Восточной Польше, рядом с украинской границей.
— Вот уж несчастная страна, — заметил Корш. — Я потерял там глаз.
— Как посоветуешь мне действовать, Фридрих? Откуда начать?
— А что именно тебе нужно?
— Мне нужно раздобыть сведения, жив этот Варцок или умер, если жив, где находится. Его жена — моя клиентка. Она хочет снова выйти замуж.
— А отчего попросту не получить заверенную справку в Информационном бюро вермахта? Они всегда готовы помочь. Даже бывшим эсэсовцам.
— Его видели живым в марте тысяча девятьсот сорок шестого года.
— Так что, ты желаешь выяснить, велось ли по его делу следствие?
— Да, правильно.
— Все военные преступления, совершенные нашими старыми друзьями и начальниками, расследуются в настоящее время союзниками. Хотя идут разговоры, что в будущем этим займется наша Генеральная прокуратура. Однако сейчас лучше всего танцевать от Центрального регистрационного бюро военных преступников и подозреваемых; правда, их так называемые реестры — их около сорока — широкой публике недоступны. Фактически расследования лежат на юридических службах армии, они занимаются всеми преступлениями, совершенными в войну. И есть еще ЦРУ. У них имеется некий Центральный регистрационный офис. Но ни ЦРУ, ни юридические службы армии, боюсь, не допустят к документам частное лицо. Есть еще Американский центр документов в Западном Берлине. Вот там, думаю, частному лицу возможно навести справки. Но только с разрешения генерала Клея.
— Нет, спасибо, — отозвался я, — я предпочитаю держаться от Берлина подальше. Из-за русских. Мне пришлось уехать из Вены, чтобы удрать от полковника русской разведки, который положил на меня глаз, стараясь завербовать в МВД, или как там еще называется теперь советская секретная полиция.
— Так и называется, МВД. Ну, если не желаешь ехать в Берлин, есть еще Красный Крест. У них имеется международная служба поиска. Но это для перемещенных лиц. Возможно, там известно что-то. А есть еще еврейские организации. «Бриха», например. Она начиналась как организация для тайной переброски беглецов, но с момента учреждения Государства Израиль они активизировались в охоте за «старыми товарищами». Похоже, они не очень-то доверяют немцам или союзникам в таких операциях. И не могу сказать, что виню их. Да, и еще один парень в Линце… Этот ведет собственную охоту на нацистов на частные пожертвования от американцев. Зовут его Симон Визенталь.
— Не думаю, — покачал я головой, — что стану беспокоить какие-то еврейские организации. С моим-то прошлым? Нет уж.
— Что ж, разумно, — заметил Корш. — Мне тоже с трудом представляется, чтобы какой-то еврей рвался помогать человеку, служившему в СС. — И рассмеялся нелепости такого предположения.
— Так что обращусь-ка я к союзникам.
— Слушай, а ты уверен, что Львов в Польше? Думаю, ты обнаружишь, что раньше он действительно принадлежал Польше, но теперь входит в состав Украины. Специально, чтоб осложнить для тебя дело.
— А ты не согласишься мне помочь? — спросил я. — Ты работаешь в американской газете, у тебя же должен быть какой-то доступ к янки. Не мог бы ты разузнать хоть что-то?
— Наверное… — протянул Корш. — Ладно, попробую.
Я написал имя Фридриха Варцока на листке, а под ним название трудового лагеря в Лемберг-Яновска. Сложив листок, Корш сунул его в карман.
— А что случилось с Эмилем Бекером? — спросил он. — Помнишь его?
— Его янки повесили в Вене два года назад.
— За военные преступления?
— Да нет. Но вообще-то если бы покопались, так непременно нашли бы свидетельства военных преступлений.
Корш покачал головой:
— У всех нас, если приглядеться, найдутся грязные пятна на физиономии.
Я пожал плечами. Спрашивать Корша, чем он занимался в войну, я не стал. Я знал только, что войну он закончил криминал-инспектором в РСХА, что означало — он был как-то связан с гестапо. Но не было смысла портить приятный ланч расспросами о таком прошлом. Он тоже не выказал любопытства по поводу моих военных подвигов.
— Так за что же тогда его повесили? — спросил он.
— За убийство американского офицера. Слышал, Эмиль по уши увяз в спекуляциях на черном рынке.
— Вот в это я охотно верю. Про черный рынок. — Корш поднял бокал с вином. — Ну ладно, все равно выпьем за него.
— Да, — поднял и я бокал, — за Эмиля, бедолагу и прохвоста. — Я выпил до дна и спросил: — А как это такой коп, как ты, вдруг переделался в журналиста?
— Из Берлина я улизнул перед самой блокадой, — начал Фридрих. — Получил подсказочку от одного Ивана, он был мне обязан. И прикатил сюда. Мне предложили работу корреспондента в отделе уголовной хроники. Рабочий день почти такой же, зато оплата куда выше. Я выучил английский. Заимел жену и детей. Симпатичный домик в Нимфенбурге. — Он покачал головой. — Понятно, что Берлину конец — это всего лишь вопрос времени, когда его захватят Иваны. Война, кажется, была тысячу лет назад, честно. И скоро все эти военные преступления ничего не будут значить. Хоть какие. Когда грянет амнистия. Ведь все хотят ее сейчас, верно?
Я кивнул. Кто я такой, чтобы спорить с тем, чего хотят все?
12
Я поехал на запад от Мюнхена, в средневековый городок Ландсберг. Городская ратуша, баварские готические ворота и знаменитая крепость делали городок историческим местом. В войну он почти не пострадал. Бомбардировщики союзников обходили Ландсберг далеко стороной: тут находились тысячи иностранных рабочих и евреев, заключенных в тридцати одном концлагере в окрестностях города. После войны эти самые лагеря американцы использовали для поселения в них перемещенных лиц. Самый большой из них еще сохранился; там обитало больше тысячи евреев — перемещенных лиц. Хотя Ландсберг был гораздо меньше, чем Мюнхен и Нюрнберг, нацистская партия считала его одним из трех наиболее важных городов в Германии. До войны он был местом паломничества немецкой молодежи. Не из-за архитектуры или по религиозным мотивам — если только не считать нацизм религией, — а потому что люди стремились взглянуть на тюремную камеру в Ландсберге, где Адольф Гитлер отсидел почти год после неудавшегося «пивного путча» в 1923-м и написал там «Майн кампф». Судя по всем сведениям, отбывал срок Гитлер в ландсбергской тюрьме с большим комфортом. Построенная в 1910-м внутри стен средневековой крепости, тюрьма была одной из самых современных в Германии, и с Гитлером обращались скорее как с почетным гостем, а не как с опасным революционером. Начальство предоставило ему возможность встречаться с друзьями и писать книгу. Если б не его заключение в Ландсберге, то, пожалуй, мир никогда бы и не услышал о Гитлере.
В 1946 году американцы переименовали ландсбергскую тюрьму в Тюрьму номер один для военных преступников, и после Шпандау в Берлине она стала самым крупным карательным заведением в Германии: тут сидело больше тысячи военных преступников, которых судили в Дахау, около ста после Нюрнбергского процесса и около десяти после процессов над японскими военнопленными в Шанхае. Больше двухсот военных преступников были повешены в Тюрьме номер один, и многие похоронены неподалеку, на кладбище часовни Шпоттинген.
Попасть в Ландсберг, чтобы увидеться с Фрицем Гебауэром, было нелегко. Пришлось позвонить Эриху Кауфману, поунижаться и покланяться, чтобы уговорить его связаться с юристами Гебауэра и убедить их, что мне можно доверять.
— О, думаю, мы можем на вас, герр Гюнтер, положиться, — сказал Кауфман. — Вы очень хорошо поработали для барона фон Штарнберга.
— За то малое, что я сделал, мне заплатили, — ответил я. — И очень щедро.
— Но ведь и удовлетворение хорошо сделанная работа приносит тоже, верно?
— Ну, до некоторой степени, — согласился я. — Но эта принесла немного. Не столько, как работа над вашим делом.
— Это вы про ненадежность свидетельств рядового Иванова? А я думал, так как вы сами бывший эсэсовец, то рьяно возьметесь освобождать «старых товарищей» из тюрьмы.
Именно этой реплики я и ждал.
— Это верно, — я решил тоже прочитать ему лекцию, — в СС я служил. Но это не означает, что я не заинтересован в правосудии, герр доктор. Люди, которые убивали женщин и детей, заслуживают тюрьмы. Люди должны знать: дурные поступки наказываются. Вот такое у меня представление о новой здоровой Германии.
— Но многие возразят, герр Гюнтер, что военные всего лишь выполняют свой долг.
— Это мне известно. Тут я иду против большинства.
— Опасный подход.
— Может, и так. Мнением такого человека, как я, можно пренебречь, даже если я прав. Но вот от высказываний епископа Нойхаузлера отмахнуться не так легко. Даже если он и не прав. Представьте, насколько уменьшилось удовлетворение от работы, когда я прочитал в газете, что он сказал про ужасные условия содержания Красных Курток. Такое впечатление, что никто не потрудился поставить его в известность, что Иванов, на чьи слова он ссылается, — мошенник и вор, на уме у которого только корысть.
— Нойхаузлер — ставленник людей куда более беспринципных, чем я, герр Гюнтер, — сообщил Кауфман. — Надеюсь, вы поймете, что я тут ни при чем…
— Стараюсь изо всех сил.
— …людей вроде Рудольфа Ашенауэра, например.
Это имя я слышал и раньше. Ашенауэр был адвокатом в Нюрнберге и юридическим советником почти семисот ландсбергских заключенных, в том числе и одиозного Отто Олендорфа.
— Вообще-то, — прибавил Кауфман, — с Ашенауэром мне и придется говорить, чтобы добиться для вас допуска в Ландсберг для встречи с Гебауэром. Он — его адвокат. И был адвокатом всех обвиняемых в массовых убийствах при Малмеди.
— А что, Гебауэр — один из них?
— Потому-то мы и стараемся вытащить его из американской тюрьмы, — объяснил Кауфман. — Уверен, причину вы и сами понимаете.
— Да. В этом случае могу понять.
Припарковав машину, я направился по эспланаде замка к будке охранников у крепости. Там я показал документы и письмо из офиса Ашенауэра дежурному Джи Ай, негру. В ожидании, пока он отыщет мою фамилию в списке сегодняшних посетителей, я любезно улыбнулся и попытался попрактиковаться в английском.
— Приятный сегодня денек, правда?
— Пошел ты, фриц, на хрен.
Я все улыбался. Может, я не совсем точно понял смысл слов, но выражение его лица подсказало: дружелюбия проявлять он не склонен. Разыскав, наконец, в списке мою фамилию, он бросил мне обратно документы и ткнул в сторону белого четырехэтажного здания с крутой крышей из красной черепицы. Издалека здание напоминало школу, но вблизи выглядело именно тем, чем и было: тюрьмой. Все тюрьмы пахнут одинаково: дрянной едой, сигаретами, потом, мочой, монотонностью и отчаянием. Еще один каменнолицый полисмен-военный проводил меня в комнату с видом на долину Лех. Она простиралась за окном, сочная, зеленая, благоухающая последними ароматами лета. В такой день находиться в тюрьме ужасно, хотя в какой, собственно, приятно? Я присел на дешевенький стул за дешевый стол и подвинул к себе дешевую пепельницу. Американец вышел, заперев за собой дверь, и я представил себе, каково это — быть членом подразделения Малмеди и сидеть в Тюрьме номер один.
Малмеди — это местечко в Бельгии, в Арденнском лесу. Там зимой 1944-го, во время последнего крупного контрнаступления германских войск, в битве при Балдже подразделением Ваффен СС были убиты восемьдесят четыре сдавшихся в плен американских солдата. И теперь все семьдесят пять человек подразделения сидели в Ландсберге, отбывая долгие тюремные сроки. Многим из них я сочувствовал: не всегда есть возможность охранять военнопленных в разгар боя. А если отпустить солдата, то существует вероятность, что позже вы снова встретитесь с ним в бою. Вторая мировая — это вам была не игра, разыгрываемая джентльменами, где пленного освобождают под честное слово и он его держит. Не такую мы вели войну. А так как эти эсэсовцы сражались в одном из самых жестоких боев Второй мировой, то вряд ли было разумно обвинять их в военном преступлении. Тут Кауфман прав. Но я не был уверен, что мое сочувствие распространяется и на Фрица Гебауэра, потому что до службы на передовой в Ваффен СС оберштурмбаннфюрер Гебауэр служил начальником лагеря Лемберг-Яновска. Он, видимо, отправился добровольцем на Западный фронт, что требовало определенного мужества; а может, причиной его появления на передовой стало отвращение к службе в трудовом лагере.
Я услышал звук открываемого замка, и металлическая дверь распахнулась. Обернувшись, я увидел на редкость привлекательного мужчину лет под сорок. Высокий, широкоплечий, Фриц Гебауэр держался аристократически и даже красную арестантскую куртку умудрялся носить как смокинг. Прежде чем сесть, он слегка поклонился мне.
— Спасибо, что согласились на встречу, — проговорил я, выкладывая на стол между нами пачку «Лаки Страйк» и спички. — Курите?
Гебауэр оглянулся на солдата, оставшегося в комнате.
— Это разрешается? — по-английски спросил он у него.
Солдат кивнул, и Гебауэр вытянул сигарету и элегантно закурил.
— Откуда вы? — спросил он.
— Живу в Мюнхене, — ответил я, — но родился в Берлине.
— Я тоже, — кивнул он. — Я просил, чтобы меня перевели в берлинскую тюрьму, там меня могла бы навещать жена, но, похоже, это невозможно. — Он пожал плечами. — Им-то, янки, не все ли равно? Мы все для них — мразь. Совсем не солдаты — убийцы. Справедливости ради надо сказать, что среди нас есть и убийцы. Убийцы евреев. Лично я служил на Западном фронте, где этим не занимались.
— В Малмеди, верно? — уточнил я, закуривая. — В Арденнах?
— Да, — подтвердил он. — Отчаянный был бой. Нас буквально прижали к стенке. Нам самим было б только уберечься, где уж там стеречь сотню сдавшихся в плен янки. — Гебауэр глубоко затянулся и поднял глаза на зеленый потолок. Кто-то постарался и покрасил стены и пол тоже зеленым. — Конечно, для янки не имеет значения, что у нас не было никаких условий для содержания пленных. И никто ни на минуту не задумался и не произнес вслух, что солдаты, сдающиеся в плен, — трусы. Мы бы не сдались. Ни за что! Такова ведь и была сущность эсэсовцев, верно? Сохранить свою честь, а не искать лазеек для спасения! — Он снова глубоко затянулся. — Ашенауэр сказал, вы и сами служили в СС. Значит, понимаете, о чем я говорю.
Я бросил беспокойный взгляд на охранника. Мне как-то совсем не нравилось распространяться про мою службу в СС в присутствии служащего американской военной полиции.
— Мне бы не хотелось об этом говорить.
— Он ни слова по-немецки не понимает, — успокоил Гебауэр. — Здесь мало кто из американцев знает немецкий. Даже офицеры ленятся учить. Только некоторые офицеры из разведки владеют немецким языком. Наверное, янки не видят в этом смысла.
— Может, считают, что, если станут учить наш язык, это умалит их победу над нами.
— Возможно, — согласился Гебауэр. — В этом отношении они еще хуже французов. Зато я все лучше говорю на английском.
— Я тоже достиг некоторых успехов. Мне кажется, в американском английском перемешалось столько языков…
— Что вряд ли удивительно, когда наблюдаешь, какое там происходит смешение национальностей и рас, — сказал он. — Любопытный народ — американцы. Это надо же додуматься — поместить нас в Ландсберг! Ведь тут фюрер написал свою великую книгу. Мы все до единого черпаем в этом утешение. Я сам до войны приезжал сюда, чтобы взглянуть на его камеру. Сейчас с двери бронзовую табличку конечно же сняли, но мы и так знаем, которая именно — его. Так же как мусульманин не ошибется, в каком направлении лежит Мекка. Это поддерживает наш дух.
— Я тоже воевал. На русском фронте, — сообщил я, открывая ему часть своих прошлых достижений. Упоминать о моей службе в Германском бюро военных преступлений в Берлине сейчас казалось не совсем к месту. — Служил офицером разведки в армии генерала Шорнера, а до войны был полисменом в «Алексе».
— «Алекс» мне хорошо известен, — улыбнулся он. — До войны я работал юристом в Вилмерсдорфе и часто заходил в «Алекс» для разговора с каким-нибудь мошенником. Как же мне хотелось бы снова очутиться там!
— До того как вступить в Ваффен СС, — перебил я его воспоминания, — вы служили в трудовом лагере Лемберг-Яновска.
— Верно, — подтвердил он. — Германские оружейные заводы.
— Вот об этом времени я и хотел бы порасспросить вас.
На секунду лицо его исказилось отвращением при воспоминании.
— Это был принудительный трудовой лагерь, построенный вокруг трех заводов во Львове. Я отправился туда в мае тысяча девятьсот сорок второго руководить заводами. За поселенческий лагерь, где жили евреи, отвечал кто-то другой. Там, по-моему, творились дурные дела. Но на мне был только завод. Что означало, что между мной и другим начальником возникали определенные трения: кто командует лагерем на самом деле. Строго говоря, руководить должен был я. Тогда я был первым лейтенантом, а тот другой — вторым лейтенантом. Однако его дядя имел чин генерал-майора СС — некий Фридрих Кацман, шеф полиции Галиции, человек очень влиятельный. Отчасти он и стал причиной, почему я уехал из Яновска. Вилхаус — так было имя другого командира — ненавидел меня. Завидовал, так я думаю, или хотел большей власти. И он пошел бы на что угодно, лишь бы избавиться от меня. Это был только вопрос времени, он так или иначе добился бы своего. Состряпал бы ложное обвинение или еще что-нибудь придумал. Вот я и решил сбежать, пока могу. Вторая причина — держаться за такое место не стоило. Так там было мерзко. На самом деле мерзко. Останься я там, такая служба не сделала бы мне чести. И я подал заявление о вступлении в Ваффен СС, ну а остальное вам известно. — Гебауэр взял еще одну сигарету.
— В этом лагере служил еще один офицер, — сказал я. — Фридрих Варцок. Помните такого?
— Да, конечно. Он входил в команду Вилхауса.
— Я сейчас частный детектив, — объяснил я. — Ко мне за помощью обратилась жена Варцока. Ей необходимо выяснить, жив он или мертв. Она хочет снова выйти замуж.
— Разумная женщина. Варцок был настоящей свиньей. Все они там были скоты. — Он покачал головой. — Она тоже скорее всего свинья, если вышла за такого подонка.
— Так вы никогда не встречали ее?
— Вы хотите сказать, она не похожа на свинью? — улыбнулся он. — Так-так. Нет, я ее никогда не видел. Я знал, что Варцок женат. Он даже вечно хвастался, какая у него красивая жена. Но в лагерь ее ни разу не привозил. По крайней мере, пока я был там. В отличие от Вилхауса. У того жена и маленькая дочка жили в лагере. Можете такому поверить? Я бы свою жену и ребенка на десять километров к подобному месту не подпустил. И что бы дурного вы ни слышали о Варцоке, — все правда. Наверняка. — Он положил сигарету в пепельницу, сцепил руки за головой и откинулся на стуле. — Чем могу вам еще помочь?
— В марте тысяча девятьсот сорок шестого Варцок жил в Австрии. Его жена думает, что, возможно, он обратился к «Старым товарищам», они называют себя просто «Товарищество», за помощью, чтобы удрать из страны. С тех пор она ничего о нем не слышала.
— Пусть считает, что ей повезло.
— Понимаете, она католичка, — объяснил я. — И кардинал Йозеф Фрингс сказал ей, что она не вправе снова выйти замуж, не представив каких-то доказательств смерти Варцока.
— Кардинал Фрингс? Он хороший человек. — Гебауэр улыбнулся. — Никто здесь и слова дурного про Фрингса не скажет. Он и епископ Нойхаузлер больше всех стараются вызволить нас отсюда.
— Да, я слышал. Я надеялся, что сумею получить от вас какую-то информацию, которая поможет мне выяснить, что же случилось с Варцоком.
— Но какую?
— Ну, не знаю. Что он был за человек. Обсуждали ли вы с ним, как сложится жизнь после войны. Не упоминал ли он про какие-нибудь свои планы на будущее.
— Я уже сказал вам: Варцок был свинья.
— Можете поподробнее?
— Вам требуются детали?
— Да, пожалуйста. Любые.
Он пожал плечами:
— Когда я находился там, Лемберг-Яновска был обычным трудовым лагерем. Рабочих там жило столько, сколько нужно было для производства. Это позже они стали путаться друг у друга под ногами. Но мне все равно присылали все новых и новых. Тысячи евреев. Сначала мы переправляли лишних в Белцек. Но через какое-то время нам указали: мы должны сами управляться с ними. Для меня было совершенно ясно, что подразумевалось под этим приказом, и, говорю вам честно, я не желал этим заниматься. И потому отправился добровольцем на передовую. Но еще до того, как я уехал, Варцок и Рокита — еще один ставленник Вилхауса — потихоньку превращали наш лагерь в лагерь смерти. Пока что не на промышленном уровне, как в других лагерях, вроде Биркенау. В Яновска не существовало газовых камер. Что ставило перед подонками вроде Вилхауса и Варцока определенные проблемы. Как же убивать лишних евреев? И евреев отводили на холмы позади лагеря и там расстреливали. Залпы выстрелов были слышны даже на заводе. Весь день. А иногда и ночью. Но этим еще повезло. Тем, кого расстреливали.
Скоро оказалось, что Вилхаусу и Варцоку доставляет огромное удовольствие убивать людей. И пока солдаты расстреливали толпы евреев, эти двое убивали ради забавы. Люди, вставая утром, делают зарядку, Варцок занимался зарядкой на свой лад: расхаживал по лагерю с пистолетом и наугад отстреливал заключенных. А иногда подвешивал за волосы женщин и тренировался на них в стрельбе, как на мишенях. Убить для него было все равно что выкурить сигарету, выпить чашку кофе или высморкаться — нечто абсолютно обыденное. Он был скотиной. И ненавидел меня. Оба они меня ненавидели, и он, и Вилхаус. Вилхаус поручал Варцоку изобретать новые способы убивать евреев. И Варцок старался. Через какое-то время у них появились излюбленные способы убийства. По-моему, после того как я уехал, они даже стали производить в госпитале эксперименты на людях.
Потом я слышал, что лагерь ликвидировали в последние недели тысяча девятьсот сорок третьего. Красная армия освободила Львов только в июле тысяча девятьсот сорок четвертого. Многие заключенные из Яновска были перемещены в концлагерь в Майданеке. Если желаете разузнать, что случилось с Варцоком, вам стоит побеседовать с другими людьми, работавшими в Яновска. Ну, например, с Вильгельмом Рокитой. Был еще один офицер, по фамилии Вепке, имени его не помню, он был комиссаром гестапо и дружил с Варцоком. Дружил Варцок и еще с двумя парнями из СД: шарфюрером Раухом и обер-вахмистром Кепихом. А вот живы они или погибли — понятия не имею.
— Варцока последний раз видели в Эбенси, под Зальцбургом, — сказал я. — Его жена говорит, бегство ему помогали организовать «Старые товарищи», то есть «ОДЕССА».
— Нет, — покачал головой Гебауэр. — «ОДЕССА» и «Товарищи» совсем разные организации. «ОДЕССА» управляется американцами, не немцами. Да, исполнители там — многие из тех, кто работает и на «Товарищей», но во главе стоит ЦРУ. ЦРУ и создало эту организацию для помощи некоторым нацистам в побеге, если те перестают приносить им пользу.
И я не думаю, чтобы Варцок мог заинтересовать ЦРУ как агент. Начать с того, что в разведывательной службе он полный ноль. Если он все-таки удрал, так только с помощью «Товарищей», или «Паутины», как эту организацию иногда называют. Вам следует порасспрашивать кого-нибудь из «пауков», куда он мог сбежать.
Для следующей фразы слова я подбирал с крайней осторожностью:
— Моя покойная жена всегда боялась пауков. Панически. Каждый раз, когда она натыкалась на паука, мне приходилось идти и расправляться с ним. Самое забавное, сейчас, когда она умерла, я ни разу не видел ни одного паука. И даже не знаю, где искать их. А вы?
Гебауэр усмехнулся.
— Он правда ни слова не говорит по-немецки, — заверил он, имея в виду охранника. — Все в порядке. Здесь про «Товарищество» много чего толкуют. Честно, даже не знаю, насколько этим разговорам можно верить. Ведь, в конце концов, никому из нас сбежать так и не удалось. Нас поймали и засунули в эту тюрьму. Боюсь также, герр Гюнтер, то, чем вы занимаетесь, чревато серьезной опасностью. Одно дело пользоваться тайными маршрутами спасения, и совсем другое — расспрашивать про них. Вы взвесили риск, на который идете? Да, даже вы, человек, который сам служил в СС. Хотя вы не первый эсэсовец, кто сотрудничает с евреями. Есть один парень в Линце, охотник за нацистами, его зовут Симон Визенталь, тот пользуется услугами эсэсовца-информатора.
— Я рискну.
— Если бы вы желали исчезнуть из Германии, — продолжил Гебауэр, — то самое лучшее — обратиться к профессионалам. Баварский Красный Крест прекрасно справляется с розыском пропавших. И полагаю, что у них имеются профессионалы и по проделыванию обратной операции. Их офис тут, в Мюнхене, верно?
— На Вагмюллер-штрассе, — кивнул я.
— Разыщите там священника, некоего отца Готовину, покажите ему билет в один конец в какой-нибудь местный городок, в названии которого имеется двойная буква «с», ну хоть в Пайссенбург, к примеру. Или Кассель, если бывали там. А может, и в Эссен. Вам следует зачеркнуть все остальные буквы на железнодорожном билете, пусть останутся только эти — «сс». Когда будете говорить со священником или с кем-то еще в «Товариществе» первый раз, то покажите этот билет. И тут же спросите, не может ли он порекомендовать вам, где остановиться в городке, куда у вас билет. Вот, в общем, и все, что мне известно. Да, и еще одно: вам станут задавать вопросы по видимости вполне безобидные. Если, к примеру, священник спросит, какой ваш любимый гимн, ответьте: «Как велико искусство Твое». Сам я этого гимна не знаю, знаю только мотив. Немного похож на «Хорста Весселя».
Я начал было благодарить его, но он отмахнулся:
— Когда-нибудь, герр Гюнтер, и мне может понадобиться ваша помощь.
Я надеялся, что он ошибается. Но ведь работа есть работа, так что, может, я и не откажусь помогать Гебауэру, если он обратится ко мне. Ему здорово не повезло, вот и все. Во-первых, командовал тем подразделением Ваффен СС в Малмеди другой офицер, лейтенант-полковник СС Пайпер. И расстрелять пленников приказал Пайпер, не Гебауэр. И потом — по крайней мере, так было написано в газетах — отряд нес крупные потери и находился в положении самом критическом. При подобных обстоятельствах приговаривать Фрица Гебауэра к пожизненному заключению представлялось мне слишком суровой мерой. Гебауэр прав: сдаваться в плен в таком сражении было все равно что просить взломщика присмотреть за вашим домом, пока вы в отпуске. На русском фронте ни от кого не ждали, что станут брать пленников. Чаще всего мы своих пленных убивали, а противник убивал наших. Мне повезло, Гебауэру — нет. Вот и все. Такой уж была эта война.
Я поспешно покинул Ландсберг с чувством, с каким Эдмон Дантес удирал из замка Ив после тринадцатилетнего заточения. Я мчался обратно в Мюнхен, будто меня в офисе поджидали золото и бриллианты. Так действуют на меня тюрьмы. Всего пара часов в бетонных стенах, и я уже мечусь в поисках ножовки.
Очень скоро после моего возвращения раздался телефонный звонок. Звонил Корш.
— Где ты был? — требовательно спросил он. — Я названиваю тебе все утро.
— Прекрасный сегодня денек, — отозвался я. — Вот я и решил прогуляться в Английский сад. Поесть мороженого, пособирать цветочки.
Пожалуй, именно этого мне и хотелось больше всего. Чего-нибудь обыкновенного и невинного: побыть на свежем воздухе, где не вдыхаешь запахов других людей. Меня не оставляли мысли о Гебауэре, человеке моложе меня, которому предстоит провести всю жизнь за решеткой, если только епископ с кардиналом не пробьют для него и остальных амнистии. Чего бы только Фриц Гебауэр не отдал за рожок мороженого и прогулку к китайской пагоде!
— Ну как? Получилось у тебя с янки? — поинтересовался я у Корша, чиркая спичкой по дну ящика стола и прикуривая. — Есть что-нибудь о Яновска и Варцоке?
— Советы создали специальную комиссию по расследованию деятельности этого лагеря.
— Немного необычно, верно? С чего это вдруг?
— Потому что, хотя там заправляли германские офицеры и неофицерский состав, — объяснил Корш, — большинство убийств совершалось русскими военнопленными, добровольно записавшимися на службу в СС. Для этих самое главное было количество. Убивать как можно больше и как можно быстрее. Такой приказ они выполняли под страхом смерти. Но с нашими «старыми товарищами», офицерами, все обстояло по-другому. Для них убийства были в удовольствие. В досье очень мало материалов на Варцока. Большинство заявлений свидетелей — о начальнике завода Фрице Гебауэре. Берни, он, видать, отъявленный мерзавец, каких мало!
— Расскажи-ка мне про него поподробнее, — попросил я, чувствуя, как мне скручивает желудок.
— Этот миляга обожал душить женщин и детей голыми руками. Еще ему нравилось, связав людей, оставлять их зимой в бочках с водой на всю ночь. Единственная причина, почему он отбывает пожизненное только за то, что произошло в Малмеди, та, что Иваны не разрешили свидетелям выехать в американскую зону на судебный процесс. Иначе Гебауэра скорее всего повесили бы, как Вайса, Эйхелздорфера и прочих.
Мартин Вайс был последним комендантом Дахау, а Иоганн Эйхелздорфер командовал в Кауферинге IV — самом большом лагере под Ландсбергом. Узнать, что человек, с которым я провел утро, человек, которого я посчитал вполне приличным парнем, на самом деле такой же гнусный, как эти двое, было для меня ударом. Сам не пойму, отчего я, собственно, так удивился. Если я что и узнал нового на войне, так то, что люди, вполне приличные на вид, законопослушные, семейные, способны на самые зверские убийства и жестокости.
— Ты еще на телефоне, Берни?
— Да, я тут.
— После того как Гебауэр уехал из Яновска в тысяча девятьсот сорок третьем, лагерем стали управлять Вилхаус и Варцок, и всякая маскировка, будто это трудовой лагерь, была отброшена. Массовое уничтожение людей, медицинские эксперименты — чего только в Яновска не творилось. Вилхауса и некоторых других повесили русские. Их казнь даже засняли. Поставили их в кузов грузовика с петлями на шеях, а потом грузовик рванул с места. А Варцок и кое-кто еще пока на свободе.
Жену Вилхауса, Хильду, разыскивают русские. Так же как еще одного капитана, некоего Груэна. И комиссара гестапо Вепке. И двоих сержантов: Рауха и Кепиха.
— А чем отличилась жена Вилхауса?
— Убивала заключенных для забавы своей дочки. Когда русские подошли близко, Варцок и остальные перебрались в Плазцов, а потом в Гросс-Розен — лагерь беженцев под Бреслау. Другие отправились в Майданек и Маутхаузен. А оттуда — кто знает? Если спросишь меня, Берни, то искать Варцока — все равно что булавку на сеновале. Будь я на твоем месте, то забыл бы об этом и взял себе другого клиента.
— Значит, ей повезло, что обратилась она ко мне, а не к тебе.
— Видно, отличное у нее чутье.
— Ага, я пахну приятнее.
— Это уж, Берни, ей лучше знать… И вообще, пошел бы ты к нам работать. Федеральное правительство предпочитает, чтобы мы шагали в ногу с янки. Не то, не дай бог, отпугнем инвестиции, которые могут поступить в страну. Вот потому-то оно и желает, чтобы со всеми этими расследованиями военных преступлений было покончено и мы все спокойно жили дальше и делали деньги. Нам пригодился бы хороший частный детектив.
— Для раскапывания тайных грязных историек, которые не испортят никому завтрак? Так?
— Коммунисты, — отозвался Корш, — вот о чем желают читать люди. Шпионские страсти. Истории про жизнь в русской зоне и как она там ужасна. Заговоры для дестабилизации нового федерального правительства.
— Спасибо, Фридрих, нет! — отрубил я. — Если им и вправду охота читать про такое, то я уж скорее примусь за расследование своего прошлого.
Положив трубку, я закурил сигарету от окурка прежней: курение помогало мне обдумывать детали. Так я поступаю, когда работаю над делом, а оно вдруг начинает интересовать не только меня, но и других. Фридриха Корша, к примеру. Некоторые курят, чтобы расслабиться. Другие — чтобы подстегнуть воображение или сосредоточиться. А у меня это комбинация того, другого и третьего. И чем больше я раздумывал, тем яснее воображение подсказывало: меня только что предостерегли, пытаясь отпугнуть от дела, а потом сразу же попытались подкупить предложением о работе. Сделав еще затяжку, я смял сигарету в пепельнице. Ведь никотин — наркотик, правильно? Слишком я много курю. Что за безумная идея — Корш пытался запугать меня, а потом подкупить? Наркотический бред, да и только.
Я вышел глотнуть кофе и коньяка. Тоже, между прочим, наркотики. Так что, может, выпив, я увижу все в другом свете. Ладно, стоит попробовать.
13
Вагмюллер-штрассе вливается в Принц-Регент-штрассе между мюнхенским Национальным музеем и Домом искусств. Дом искусств сейчас приспособили под американский офицерский клуб. Национальный музей только что открылся после капитального ремонта, и теперь снова можно лицезреть городские сокровища, любоваться на которые на самом деле никому не хочется. Вагмюллер-штрассе находится в районе под названием Лехель, это тихие кварталы жилых домов, построенных во времена германской промышленной революции для преуспевающих немцев. Лехель и сейчас местечко тихое, но только оттого, что половина домов лежат в руинах. Другую половину или уже отремонтировали, или ремонтируют, и в новых домах живут новые преуспевающие мюнхенцы. Даже без мундиров свежеиспеченных богачей легко узнать по ежику причесок, по жующим жвачку ртам, громкому лающему хохоту, широченным брюкам, красивым портсигарам, удобным английским туфлям, «кодакам», запечатлевающим их награды, а прежде всего — по их манере держаться и чувству абсолютного превосходства, исходящему от них, шибающему в нос, словно запах дешевого одеколона.
Красный Крест находился в четырехэтажном желтоватом, из дунайского известняка, особняке, расположенном между довольно-таки роскошным магазинчиком, торгующим нимфенбургским фарфором, и частной художественной галереей. Внутри особняка бурлила жизнь: трещали пишущие машинки, громко хлопали дверцы бюро с папками, заполнялись бланки, спускались и поднимались люди в открытом лифте. Через четыре года после окончания войны Красный Крест все еще занимался людскими несчастьями — ее последствиями. Суматохи добавляли еще и маляры; мне не потребовалось поднимать голову, чтобы догадаться, что потолок красят белым: весь коричневый линолеум был заляпан кляксами белой краски. За столом, больше напоминавшим стойку пивного бара, женщина с косами и лицом розовым, словно ветчина, старалась избавиться от старикана, то ли еврея, то ли нет — национальность угадать я никогда не умел.
Проблема состояла в том, что по-немецки он изъяснялся с большим трудом, мешая его с русским. Слова на родном языке старик произносил, на всякий случай отворачивая голову, — а вдруг она поймет ругательства? Я поправил доспехи, взлетел на белого коня и направил копье на «ветчину».
— Может, я сумею помочь? — обратился я к ней, а потом заговорил с посетителем по-русски. Оказалось, он разыскивает брата, тот находился в концлагере Треблинка, потом в Дахау, и, наконец, его перевели в лагерь Кауферинг. У старика закончились деньги, а ему требуется добраться до лагеря перемещенных лиц в Ландсберге. Он надеялся, что Красный Крест поможет ему. По взгляду, брошенному на него «ветчиной», я понял, что его надежды вряд ли сбудутся, и, дав старику пять марок, объяснил, как добраться до вокзала на Байер-штрассе. Он многословно поблагодарил меня и оставил на съедение «ветчине».
— В чем там у него было дело? — потребовала она у меня ответа.
Я рассказал.
— С тысяча девятьсот сорок пятого года в Красный Крест подано шестнадцать миллионов запросов о розысках пропавших, — ответила она на обвинение, которое, видимо, разглядела в моих в глазах. — Почти с двумя миллионами возвратившихся мы беседовали о пропавших людях. В нашей картотеке еще числятся пропавшими без вести шестьдесят девять тысяч военнопленных, один миллион сто тысяч служащих вермахта и почти двести тысяч гражданских лиц. Это заставляет нас строго соблюдать все надлежащие процедуры. Если мы начнем давать по пять марок каждому пройдохе, который заходит к нам просто так с улицы с жалостной историйкой, мы в момент разоримся. Вы удивитесь, сколько таких попрошаек является сюда в поисках своих давно пропавших братьев. А на самом деле ищут они одного — подачки на выпивку.
— Тогда очень удачно, что пять марок он получил от меня, а не от Красного Креста, — заметил я. — Я могу позволить себе такую трату. — От моей теплой улыбки она не растаяла ни на каплю.
— А что я для вас могу сделать? — холодно осведомилась «ветчина».
— Я ищу отца Готовину.
— У вас есть договоренность о встрече?
— Нет. Подумал, мне лучше избавить его от хлопот приходить на встречу ко мне в Главное управление полиции.
— В управление полиции? — Как и большинство немцев, «ветчина» еще побаивалась полиции. — На Этт-штрассе?
— С каменным львом перед парадной дверью, — прибавил я. — Да, правильно. Случалось там бывать?
— Нет! — отрубила она, теперь желая одного — отделаться от меня, и поскорее. — Поднимитесь на лифте на второй этаж. Найдете отца Готовину в отделе паспортов и виз. Комната двадцать девять.
Лифтер на первый взгляд был не моложе меня. И только после пристального второго я разглядел, что у него одна нога и шрам на лице, а годков ему всего двадцать пять — двадцать шесть от силы. Я вошел с ним в кабину лифта, назвал этаж, и он сноровисто стал манипулировать кнопками с мрачной целеустремленностью человека, готового палить из двадцатимиллиметрового «Флака-38» — военного орудия с ножными педалями и запрокидывающимся сиденьем. Выйдя на втором этаже, я чуть не оглянулся проверить, не поразил ли он выстрелом цель. И очень удачно, что не оглянулся, иначе споткнулся бы о человека, красящего плинтус, который тянулся вдоль длиннющего, как зал боулинга, коридора.
Отдел паспортов и виз оказался государством внутри государства. Еще больше пишущих машинок, многочисленные бюро с папками, горы разнообразнейших бланков и армия толстомясых бабищ. У каждой такой вид, будто она слопала на завтрак весь паек Красного Креста вместе с оберткой и бечевкой. Тут же крутился какой-то парень с пятидесятимиллиметровой камерой на треноге. Из окна была хорошо видна статуя Ангела Мира на другом берегу реки Изар. Возведенная в 1899 году в память Франко-прусской войны, статуя мало что значила тогда и, уж конечно, ничего не значила сейчас.
Я все-таки детектив, а потому, чтобы определить, кто есть отец Готовина, мне потребовалось всего несколько секунд. Ну, некоторые отличительные признаки, безусловно, бросались в глаза: черный костюм, крест, болтавшийся на шее, узкое полукружье белого воротничка. Облик его совсем не наводил на мысли об Иисусе, скорее о Понтии Пилате. Густые темные брови — вот и все волосы, какие у него имелись. Череп похож на вращающийся купол-крышу на Геттингенской обсерватории, а уши без мочек напоминали крылья демона. Губы у него были толстые, как и пальцы, а нос широкий и крючком, торчащий клювом гигантского осьминога. На левой щеке сидела родинка — размером и цветом ну вылитая пятипфенниговая монетка, а орехово-карие глаза отчего-то вызвали у меня в памяти Вальтера-миннезингера.[10] Я ощутил его взгляд как укол шила, и отец Готовина подошел, словно учуяв полицейский запах от моих ботинок. А может, запах коньяка у меня изо рта. Но и его представить трезвенником было так же невозможно, как вообразить поющим в Венском хоре мальчиков. Если бы семейство Медичи еще поставляло для церкви священников, то отец Готовина точно был бы одним из них.
— Могу я вам помочь? — осведомился он голосом тягучим, словно жидкость для полировки мебели, и растянул губы, обнажив белоснежные, как его воротничок, зубы. Эта гримаса сошла бы за улыбку, пожалуй, только в подвалах святой инквизиции.
— Отец Готовина? — уточнил я.
Он едва заметно кивнул.
— Понимаете, я еду в Пайссенберг, — сообщил я, демонстрируя ему железнодорожный билет, который купил заранее. — Хотел бы посоветоваться, нет ли у вас там знакомых, у кого я мог бы остановиться.
На билет он лишь взглянул, но было понятно, что глаза его не пропустили, как видоизменилось название пункта назначения.
— По-моему, там имеется неплохой отель, — ответил он. — «Берггастхоф Грайтнер». Но, возможно, сейчас он закрыт. Вы едете несколько рановато для лыжного сезона, герр?..
— Гюнтер. Бернхард Гюнтер.
— Там, правда, есть еще красивая церковь, из нее открывается на редкость привлекательный вид Баварских Альп. И кстати, тамошний священник — мой друг. Возможно, он сумеет помочь вам, если вы зайдете в церковь Святого Духа сегодня, часов в пять. Я дам вам рекомендательное письмо. Но предупреждаю, он страстный музыкант. Если вы задержитесь на какое-то время в Пайссенберге, то он непременно затянет вас в церковный хор. Отрабатывать свой ужин, так сказать, пением гимнов. У вас, герр Гюнтер, есть любимый гимн?
— Любимый? Может, вот этот — «Как велико искусство Твое». Мне кажется, эту мелодию я люблю больше всего.
Прикрыв глаза, он фальшиво изобразил благочестие:
— Да, гимн чудесный. — И кивнул. — Значит, в пять часов.
Я покинул его, вышел из здания и двинулся через центр города в направлении церкви Святого Духа, но скорее все-таки к «Хофбраунхаусу» — мне требовалось глотнуть пива.
С крутой красной крышей, розовыми стенами, арочными окнами и массивными деревянными дверьми «Хофбраунхаус» казался неким сказочным дворцом. Всякий раз, проходя мимо, я чуть ли не ждал, что увижу нотрдамского горбуна, спрыгивающего с крыши, чтобы спасти злополучную цыганочку (если предположить, что в Германии еще остались цыгане), унести ее с центра мощеной площади. Или что по брусчатке средневековой улицы пройдет доктор Фауст. Вот такой уж косный, с провинциальной гнильцой городишко Мюнхен. Не случайно именно отсюда началось восхождение Адольфа Гитлера, правда, в другой пивной, «Бюргербраукеллер», всего в нескольких кварталах от «Хофбраунхауса», на Кауфингер-штрассе. Но не только из-за призрака Гитлера я редко захаживал в «Бюргербраукеллер». Главной причиной было то, что я не любитель пива «Лёвенбрау». Предпочитаю темные сорта. Да и еда в «Хофбраунхаусе» получше. Я заказал картофельный суп по-баварски, свиные ножки с картофельными клецками и салат из капусты с домашним беконом. Свои мясные купоны я берегу.
Несколько кружек пива и сладкий пудинг на десерт, и я отправился дальше, в церковь Святого Духа на Тал. Как и почти все здания в Мюнхене, церковь пострадала от бомбежек. Крыша и свод были снесены напрочь, частично разрушен внутренний интерьер. Но колонны в нефе возвели снова, крышу перекрыли — сейчас в церкви уже могли идти службы. Священник, не Готовина, стоял лицом к главному алтарю, по-прежнему впечатляющему. Мелодичный голос гулким эхом отдавался в полупустой ободранной церкви, точно голос Пиноккио, запертого, как в ловушке, в чреве кита. Я почувствовал, как губы и нос у меня сморщились в протестантском отвращении. Мне был несимпатичен образ Бога, который мирится с тем, что ему поклоняются на римский лад пронзительными песнопениями. Не то чтобы я когда причислял себя к протестантам. После того как я выучился выговаривать имя Фридриха Ницше — точно нет.
Отца Готовину я нашел под остатками хоров, рядом с бронзовым надгробием герцога Фердинанда Баварского. Я последовал за ним в деревянную исповедальню, больше похожую на разукрашенную фотобудку. Отодвинув серую занавеску, он вошел внутрь. Я вошел с другой стороны и преклонил колени рядом с решеткой — как угодно Богу, посчитал я. В исповедальне как раз хватало света, чтобы видеть макушку лысой, как бильярдный шар, головы священника. Точнее, клинышек ее — маленький, блестящий, как крышка от медного чайника. В полутьме и тесноте исповедальни голос отца Готовины звучал особенно вкрадчиво и угрожающе. Кто ж знает, возможно, перед сном священник, уложив свой голос на решетку-гриль, оставлял его на всю ночь коптиться на углях из ореховых чурбачков.
— Расскажите мне немного о себе, герр Гюнтер, — попросил он.
— До войны я служил комиссаром в КРИПО, — начал я. — Так я попал в СС. Ездил в Минск как член спецгруппы боевых действий под командованием Артура Нёбе. — Свою службу в Бюро расследований военных преступлений и разведчиком в абвере я опустил. СС никогда не любило абвера.
— У меня чин оберлейтенанта СС.
— В Минске была проделана хорошая работа, — заметил отец Готовина. — Сколько евреев вы ликвидировали?
— Я служил в полицейском батальоне, — ответил я. — Нашей задачей было заниматься карательными отрядами НКВД.
Готовина подавился смешком:
— Со мной, оберлейтенант, можно не лукавить. Я — на вашей стороне, и для меня нет разницы, убили вы пятерых или пять тысяч. Так или иначе, вы выполняли Божью работу. Евреи и большевики — всегда синонимы. Только американцы настолько тупы, что не понимают этого.
За будкой исповедальни в церкви запел хор. Оказывается, я слишком сурово судил католические песнопения. Голоса певчих звучали гораздо приятнее для уха, чем слова отца Готовины.
— Мне нужна ваша помощь, отец.
— Естественно. Оттого-то вы и здесь. Но сначала нам нужно пройтись не торопясь, а уж потом припускаться бегом. Я должен удостовериться, что вы — тот, за кого себя выдаете, герр Гюнтер. Нескольких простых вопросов будет достаточно. Так, для моего спокойствия. Например, можете вы процитировать клятву верности эсэсовца?
— Конечно. Хотя мне и не пришлось приносить ее. Как служащий КРИПО я автоматически стал членом СС.
— И все-таки хотелось бы послушать.
— Ладно. «Я присягаю тебе, — слова застревали у меня в горле, — Адольф Гитлер, как фюреру и канцлеру рейха в верности и храбрости. Я присягаю тебе и всем, кого ты назначишь командовать мной, в повиновении ценой самой своей смерти. И да поможет мне Бог».
— Вы так красиво ее произнесли, герр Гюнтер… Но сами вы никогда не приносили этой клятвы?
— Берлин всегда стоял особняком от всей Германии, — ответил я. — Люди там небрежнее относились к традициям. Но ведь я наверняка не первый эсэсовец, который говорит вам, что не приносил клятвы.
— А может, я просто проверяю вас. Хочу посмотреть, насколько вы честны. Честность — самое лучшее человеческое качество, как по-вашему? В конце концов, мы же в церкви. Здесь лгать не полагается. Подумайте о своей душе.
— В нынешние времена я предпочитаю не думать о ней вовсе. По крайней мере, без выпивки в руках. — И это был честный ответ.
— Те absolve,[11] герр Гюнтер, — произнес отец Готовина. — Теперь вы чувствуете себя лучше?
— Да, точно что-то стряхнули с моих плеч. Типа перхоти.
— Это хорошо, — одобрил он. — Чувство юмора пригодится вам в новой жизни.
— Но я не хочу новой жизни.
— Даже через Христа? — Отец Готовина опять рассмеялся. А может, это он просто прочищал горло? — Расскажите мне про Минск, — попросил он. Тон у него переменился с шутливого на более деловитый. — Когда город сдался германской армии?
— В июне тысяча девятьсот сорок первого года.
— И что случилось тогда?
— Вы знаете или желаете узнать?
— Я желаю узнать, что знаете вы. Чтобы просверлить дырочку в вашей голове и взглянуть, персона вы грата или нон грата. Итак, Минск.
— Вам требуются нюансы и оттенки или писать картину широкими мазками?
— Давайте картину.
— Хорошо. Итак, в первые же часы оккупации сорок тысяч мужчин и юношей собрали для регистрации. Их держали в поле под дулами пулеметов и светом прожекторов. Были они всех национальностей: евреи, русские, цыгане, украинцы. Через несколько дней попросили назваться еврейских врачей, юристов и ученых. Так называемая интеллигенция. Их оказалось две тысячи. И я полагаю, именно эти две тысячи препроводили в соседний лес и расстреляли там.
— Вы, естественно, в этом никакого участия не принимали. — Отец Готовина произнес это так, точно разговаривал с младенцем-плаксой.
— Вообще-то я находился в городе. Расследовал другое зверство, на этот раз совершенное Иванами.
За исповедальней шла своим чередом служба, священник произнес: «Аминь». И я тоже бормотнул: «Аминь». Самое подходящее слово при рассказе о Минске.
— Скоро ли после вашего прибытия было организовано минское гетто? — осведомился отец Готовина.
— Меньше чем через месяц, двадцатого июля.
— Какую территорию оно занимало?
— Около трех десятков улиц, по-моему, и еврейское кладбище. Гетто оцепили рядами колючей проволоки и поставили несколько сторожевых вышек. Перевезли туда сто тысяч людей.
Из разных мест, многих издалека: из Берлина, Франкфурта.
— В минском гетто было что-то необычное, отличное от других?
— Не вполне уверен, что правильно понял вопрос, отец. Обычного там вообще ничего не было.
— Я хотел спросить, где евреи из того гетто встретили свою смерть? В каком лагере?
— А-а, понятно. Нет, не в лагере. По-моему, большинство обитателей гетто были убиты в Минске. Да, это, конечно, странность. Когда гетто в октябре тысяча девятьсот сорок третьего года ликвидировали, там оставалось всего около восьми тысяч человек. Из первоначальных ста тысяч. И я понятия не имею, что с этими восемью тысячами произошло дальше.
Все оказалось гораздо сложнее, чем я предполагал. Большую часть того, что я рассказывал ему про Минск, я узнал на службе в бюро, в частности расследуя заявление Вильгельма Кюбе. В июле 1943 года Кюбе, генерал-комиссар СС, командовавший в Белоруссии, подал официальную жалобу, заявляя, что Эдуард Штраух, командир местного СД, лично убил семьдесят евреев, которые были наняты на работу Кюбе, и присвоил их ценности. Расследованием дела поручили руководить мне. Штраух, который в этих убийствах был виновен наверняка — как и во многих других, выдвинул контробвинение против Кюбе: его босс позволил больше чем пяти тысячам евреев спастись от ликвидации. Выяснилось, что Штраух прав, но он не стал дожидаться, пока истина восторжествует.
Кюбе был убит, прежде чем я успел определиться с каким-то выводом по делу. Скорее всего Штраух и расправился с ним, подложив бомбу ему под кровать в сентябре 1943-го. Несмотря на все мои старания, вину за это убийство быстро взвалили на русскую горничную Кюбе и девушку повесили. Подозревая соучастие Штрауха в убийстве Кюбе, я начал новое расследование, но гестапо приказало прекратить его. Подчиниться я отказался, и очень скоро меня отправили на русский фронт. Но ничего этого я вовсе не желал открывать отцу Готовине. Конечно же ему вряд ли захочется слушать, как я сочувствовал бедняге Кюбе. Вот вам и милосердие Господне.
— Минуточку… — продолжил я, — я припоминаю, что случилось с теми восемью тысячами евреев. Шесть тысяч отправили в Зобибор. А две тысячи уничтожили в Малом Тростинце.
— С тех пор мы все жили счастливо, — заключил отец Готовина и рассмеялся. — Для человека, который занимался только карательными отрядами НКВД, вы очень хорошо осведомлены, герр Гюнтер, обо всем, что происходило в Минске. Знаете, что я думаю? Что вы просто скромничаете. Последние пять лет вам приходилось прятать, так сказать, лампу под корзиной. В точности как говорится в главе одиннадцатой от Луки, стихи с тридцать третьего по тридцать шестой.
— Так вы читали Библию! — наигранно удивился я.
— Конечно. И теперь готов сыграть роль доброго самаритянина — помочь вам деньгами, новым паспортом, оружием, если вам требуется. Помогу и с визой, при условии, если вы собрались в Аргентину. Там обосновалось большинство наших друзей.
— Как я вам уже говорил, отец, — перебил я, — новая жизнь мне не нужна.
— Тогда чего же вы хотите, герр Гюнтер?
Я ощутил, как он напрягся.
— Скажу. Сейчас я частный детектив. У меня имеется клиентка, которая разыскивает мужа. Эсэсовца. Ей давно пора бы получить открытку от него из Буэнос-Айреса, но она уже три с половиной года не имеет от мужа вестей. Вот она и наняла меня выяснить, что с ним случилось. Последний раз она видела его в Эбенси под Зальцбургом в марте тысяча девятьсот сорок шестого года. Он был уже в «Паутине». Жил в тайном убежище в ожидании новых документов и билетов. Портить ему жизнь она не хочет. Единственное, чего она добивается, узнать, жив он или мертв. Если умер, то она сможет снова выйти замуж. Но если жив, ей нельзя. Понимаете, отец, проблема в том, что она, как и вы, католичка. Истинно верующая католичка.
— Какая трогательная история, — обронил священник.
— Мне понравилась.
— Не говорите, сам догадаюсь. — Смех неузнаваемо преобразил его. Совсем другой человек, несколько выведенный из душевного равновесия. — Вы тот самый человек, за которого она желает выйти замуж!
Я пережидал его смех. Возможно, у меня просто был шок. Не каждый день встречаешь священника, который, растягивая губы, гримасничает, будто бывший немецкий — а теперь уже голливудский — актер Питер Лорре в роли сумасшедшего доктора.
— Нет, отец, все именно так, как я вам рассказал. В этом отношении я похож на священника. Люди приходят ко мне со своими проблемами, а я пытаюсь помочь им. Разница одна — помощи от парня с главного алтаря я не получаю.
— У вашей клиентки есть имя?
— Бритта Варцок. А имя ее мужа — Фридрих Варцок. — И я рассказал ему все, что знал про Варцока.
— Да, этот Варцок мне по душе, — заявил отец Готовина. — Но три года и ни единого слова? Вероятнее всего, он уже мертв.
— Если по-честному, не думаю, что она добивается хороших новостей.
— Так почему бы не сказать ей то, что она желает услышать?
— Это было бы неэтично, отец.
— Требуется немалая смелость, чтобы прийти ко мне с такого рода просьбой, — тихо произнес Готовина. — Я ценю такое качество в человеке. «Товарищество» легко, скажем так, настораживается. Да и дело Красных Курток не добавляет спокойствия, не говоря уже о перспективе новых казней. Война уже четыре года назад закончилась, а янки все еще рвутся вешать людей, как какой-нибудь болван шериф в дешевом вестерне.
— Да, я могу понять, почему иные из моих «старых товарищей» могут разнервничаться, — согласился я. — Ничто не сравнится с виселицей, если хочешь выработать в человеке такое полезное качество, как осторожность.
— Посмотрю, может, и удастся кое-что разузнать, — задумчиво проговорил он. — Давайте встретимся в Галерее искусств рядом с Красным Крестом послезавтра в три. Если задержусь, ну… развлеките себя осмотром экспозиции.
Мимо исповедальни потянулись прихожане. Отец Готовина, отодвинув занавеску, вышел, смешавшись с верующими. Выждав с минуту, я последовал за ним, крестясь, единственно из желания не обращать на себя внимания. Хотя осенять себя крестом, на мой взгляд, так же нелепо, как раскачиваться перед стеной, падать ниц лицом к городу на Среднем Востоке или выбрасывать вверх перед собой руку с криком «Хайль!». Все эти действия не несут в себе ни малейшего смысла, только создают множество неудобств для ближнего. Если история чему и научила меня, так тому, что истово верить во что бы то ни было — крайне опасно. Особенно в Германии. Беда наша в том, что мы слишком всерьез воспринимаем веру.
14
Прошло два дня. На город наступал теплый погодный фронт: метеоролог на «Радио Мюнхен» предсказывал, что вот-вот подует фён — ветер, сильно заряженный статическим электричеством из-за того, что он пронесся над Альпами, прежде чем добраться до нас. Я гулял по Мюнхену, и порывистый ветер сушил мне лицо, вызывал слезы на глазах. А может, глаза у меня слезились, оттого что я чересчур рьяно прикладывался к бутылке.
Серьезнее всех конечно же восприняли фён американцы, они не выпускали детей из дома, чтобы не подвергать их опасности, как будто ветер нес нечто куда более страшное, чем с десяток положительно заряженных ионов. А может, им было известно что-то, неведомое остальным? Теперь, когда Иваны в прошлом месяце взорвали свою атомную бомбу, возможно все, что угодно. Ну, как бы там ни было, фён сослужил весьма полезную службу. На фён мюнхенцы взваливали вину за все. Они беспрерывно брюзжали из-за ветра. Одни жаловались, будто из-за фена у них усилилась астма, другие приписывали ему обострение ревматизма, а многие заявляли, что из-за ветра их мучают постоянные головные боли. Если у молока появлялся странный привкус, а пиво наливалось без пены — это все фён. В моем квартале, в Швабинге, женщина с нижнего этажа жаловалась, что из-за этого ветра у нее в приемнике сплошной треск. А в трамвае я даже услышал, как мужчина заявил, что ввязался в драку из-за фена. Ладно, хоть какое-то разнообразие, а то прежде все валили на евреев. Но что из-за фена люди вспыхивали как спички и раздражались чаще обычного — это точно. А может, так и начался у нас нацизм. Из-за фена. Правительство всегда кидаются свергать люди нервные и раздраженные — иначе не бывает.
В такой сухой и ветреный день я отправился на Вагмюллер-штрассе и встал у Галереи искусств рядом с офисом Красного Креста. Пришел я раньше назначенного времени. Я, как правило, прихожу на встречу заранее. Если точность имеет отношение к королям, то я из тех, кому нравится являться загодя, чтобы проверить, не спрятана ли мина под ковром.
Галерея называлась «Оскар и Шайн». В районе обосновалось большинство торговцев произведениями искусства. Они покупают и продают мюнхенских модернистов — сецессионистов и постимпрессионистов. Я знаю, потому что как-то прочитал об этом в витрине галереи на Бриннер-штрассе. Но эта галерея несколько отличалась от остальных. Особенно внутри. Интерьер ее был выдержан в авангардном стиле «Баухауз», который очень не одобряли нацисты. Смотрелись футуристически не только открытая лестница и свободно стоящие стены, но и картины, которые производили ошеломляющее впечатление своей яркостью и бессмысленностью.
Я знаю, что мне нравится. И большая часть того, что мне нравится, не настоящее искусство: картины, где понятно, что изображено, и всякие безделушки. Когда-то у меня была фарфоровая фигурка дамы с банджо — так, поделка, барахло. Стояла она на каминной полке рядом с фотографией Гата, и это было мое пристанище в стране филистимлян. А если мне хотелось наблюдать движущуюся красоту, то я шел и любовался Морин О'Салливан в фильме про Тарзана.
Пока я слонялся по галерее, за мной неотступно следили глаза девушки в дорогом черном шерстяном костюме; возможно, она уже сожалела из-за фена, что надела такой теплый. Худая, пожалуй, даже слишком; длинный мундштук у нее в руках легко мог сойти за еще один длинный желтоватый палец. На затылке красивой головы — узел густых длинных каштановых волос. Она подошла ко мне, оборонительно сложив крест-накрест руки, вероятно, на случай, если ей потребуется ткнуть меня острым локтем, и кивнула на полотно, которое я рассматривал под всеми углами, оценивая мастерство художника, словно бы завзятый любитель живописи.
— И как ваше мнение? — поинтересовалась девушка, указывая мундштуком на стену.
Я чуть склонил набок голову, смутно надеясь, что несколько измененный угол взгляда на полотно позволит мне выступить не хуже историка искусства Бернхарда Беренсона, и попытался представить себе спятившего сукина сына, малюющего эту картину, но на ум приходил только пьяный шимпанзе. Я открыл рот, намереваясь промямлить хоть что-то. Потом захлопнул снова. На картине одна красная линия шла в одну сторону, вторая — синяя, устремлялась в другую, а черная старательно притворялась, будто не имеет никакого касательства ни к одной из них. Да, полотно написал модернист, это уж точно. Более того, ее автор определенно подошел к своей работе очень серьезно, предварительно изучив процесс изготовления лакричных леденцов. Такая картина на стене, мне кажется, заставляла даже и мух, залетевших в окно в поисках спасения от фена, призадуматься. Я взглянул еще раз, и мне показалось, что картина произнесла: «Не насмешничай. Какой-нибудь идиот выложит за меня хорошие денежки». Указав на стену рядом с полотном, я высказался:
— Думаю, вам следует приглядывать за этим сырым пятном, не то оно расползется по всей стене.
— Это полотно Кандинского! — заявила она, не дрогнув ни единой ресницей из окружавшего глаза частокола. — Он был одним из самых выдающихся и влиятельных художников своего поколения.
— А кто влиял на него? «Джонни Уокер»? Или «Джек Даниэлс»?
Она улыбнулась.
— Наконец-то! — обрадовался я. — Я знал, у вас получится, если постараетесь. А вот в Кандинском я так не уверен.
— Некоторым людям нравится.
— Да? Отчего же не сказали раньше? Тогда и я куплю парочку его картин.
— Хотелось бы мне, чтобы вы и правда купили, — вздохнула она. — Хотя бы эту. Бизнес как-то вяловато идет последнее время.
— Да это все фен! — сообщил я ей новость.
Расстегнув пиджак, девушка принялась обмахиваться полой, отчего мне и самому стало приятно. Не только из-за долетавшего до меня сквознячка, пропитанного запахом духов, но и из-за глубокого декольте блузки, открывшегося под пиджачком. Будь я художником, я назвал бы это состояние вдохновением. Или что там говорят художники, когда видят девичью грудь, двумя куполками поднимающую ткань блузки? Клянусь: она точно была достойна листа бумаги и угольного карандаша.
— Наверное, вы правы. — Красавица пустила струйку воздуха и сигаретного дыма себе на лоб, оттопырив нижнюю губку. — Скажите, вы зашли сюда картины посмотреть или просто посмеяться?
— Возможно, за тем и за другим. Истинное декадентство состоит в том, чтобы ничего не принимать всерьез, — объяснил я. — А уж тем более декадентское искусство.
— Вам действительно не нравится эта картина?
— Буду честен. Совсем не нравится. Но я рад, что ее выставили и этому не помешали люди, смыслящие в искусстве не больше моего. Смотреть на нее — все равно что заглянуть в мысли человека, который расходится во мнениях с вами почти во всем. Из-за этого мне некомфортно. — Печально покачав головой, я вздохнул. — Но, наверное, это и есть демократия.
Вошел еще один посетитель. Жующий жвачку. В огромных спортивных башмаках и с дорогим фотоаппаратом. Настоящий любитель живописи. Во всяком случае, человек с большими деньгами. Девушка переключилась на него и повела по залу показывать картины. А вскоре появился отец Готовина, и мы, выйдя из галереи, отправились в Английский сад, где сели на скамейку и закурили, не обращая внимания на задувающий в лицо сухой теплый ветер. По тропинке прискакала белка, похожая на меховой палантин, удравший от хозяйки, и замерла перед нами в надежде на лакомство. Щелчком Готовина стрельнул в зверька спичкой, а потом носком до блеска отполированной туфли пнул в сторону мехового попрыгунчика. Священник явно не принадлежал к любителям природы.
— Я сделал несколько запросов о муже вашей клиентки, — приступил он, не глядя на меня. В ярком дневном свете голова у него казалась янтарного цвета, цвета крепкого темного пива. Он говорил, не вынимая изо рта сигарету, и она дергалась вверх-вниз, словно дирижерская палочка, наводящая порядок в мятежном оркестре гортензий, лаванды, горечавок и ирисов, расстилавшихся перед нами. Я понадеялся, что цветы послушаются его указаний, не то он еще примется пинать их, как белку.
— В Рупрехтскирхе, в Вене, — продолжил он, — есть священник, который помогает, как и я, «Товариществу». Он итальянец. Отец Ладжоло. Варцока он помнит очень хорошо. Тот появился с железнодорожным билетом в Гюссинг сразу после Рождества тысяча девятьсот сорок шестого года. Ладжоло отправил его на тайную квартиру в Эбенси, дожидаться нового паспорта и визы.
— Какая организация выдавала паспорта? — поинтересовался я так, из любопытства.
— Красный Крест. Может, Ватикан. Наверняка мне неизвестно. Но откуда-то из этих двух организаций, можно не сомневаться. Виза была аргентинская. Ладжоло или кто-то из его подручных съездил в Эбенси и передал документы, деньги и билет до Генуи. Там, как планировалось, Варцок должен был пересесть на пароход в Южную Америку. Варцок и еще один «старый товарищ». Но только в Генуе они так и не появились. Что случилось с Варцоком, никто не знает, а вот второго несколько месяцев спустя нашли мертвым в лесу под Талгау.
— А этого как звали? Как было его настоящее имя?
— Гауптштурмфюрер СС Вилли Хинтце. Бывший заместитель шефа гестапо в польском городке Торн. Хинтце нашли в неглубокой могиле. Он был раздет. Его убили выстрелом в затылок, поставив на колени на краю ямы. А одежду бросили на труп сверху. Так его казнили.
— А Варцок с Хинтце прятались на одной тайной квартире?
— Нет.
— Они знали друг друга прежде?
— Нет. Первый раз должны были встретиться на пароходе в Аргентину. Ладжоло посчитал, что обе тайные квартиры раскрыты, и перестал ими пользоваться. Все решили, с Варцоком произошло то же, что и с Хинтцем. Их настиг «Накам».
— «Накам»?
— После войны Израильской бригаде — добровольцам из Палестины, которые вступили в спецотряд британской армии, — зарождающаяся еврейская армия «Хагана» приказала сформировать тайную группу мстителей. Одна группа этих политических убийц, базирующаяся в Люблине, стала называть себя «Накам», что на иврите означает «месть». Их единственная цель — отомстить за гибель шести миллионов евреев.
Отец Готовина вынул изо рта сигарету, словно только ради того, чтобы ловчее изобразить улыбочку — усмехались даже его ноздри и глаза. Смею даже предположить, что если б у человека были мускулы, управляющие ушами, то он усмехался бы и ими тоже. В сравнении с усмешкой хорватского священника зловещая ухмылка того уехавшего в Голливуд актера, Конрада Вейдта, занимала второе место, а коварная леденящая улыбка Белы Лугоси в роли Дракулы едва дотягивала до третьего.
— От Израиля никогда ничего хорошего ждать не приходится, — яростно выпалил он. — А уж от «Накама» тем более. Первоначальный план «Накама» был отравить резервуары Мюнхена, Берлина, Нюрнберга и Франкфурта и убить таким образом несколько миллионов немцев… У вас, герр Гюнтер, вид такой недоверчивый…
— Только потому, что россказни про евреев, будто бы отравляющих колодцы христиан, гуляют еще со Средних веков.
— Могу вас заверить, я говорю совершенно серьезно. В данном случае это правда. К счастью для вас и меня, командование «Хаганы» узнало про этот план и, указав, что погибнет также много британцев и американцев, вынудило «Накам» отказаться от такого плана. — Готовина рассмеялся своим безумным смехом. — Маньяки. И еще удивляются, почему мы желаем избавить от евреев приличное общество.
Теперь он щелчком отправил окурок в несчастного голубя, закинул ногу на ногу и поправил крест на мускулистой шее, прежде чем продолжить свой рассказ. Впечатление такое, будто ведешь беседу с великим инквизитором Томасом Торквемадой.
— Однако «Накам» не подчинился, и они придумали отравить лагерь военнопленных под Нюрнбергом, где содержатся тридцать шесть тысяч заключенных эсэсовцев. Они пробрались в пекарню, поставлявшую хлеб в лагерь, и отравили две тысячи буханок — собирались больше. Но все равно пострадало несколько тысяч человек, а пятьсот умерли. Можете мне поверить. Об этом имеется и протокольная запись. — Он перекрестился и на секунду вскинул глаза к небу — в это время облака, точно проклятые души со страниц Данте, заслонили солнце, накрыв нас обоих озерцом тени.
— Теперь, после этой акции, они занимаются только убийствами, простыми и незамысловатыми. С помощью евреев из британской и американской разведок они внедрились в хранилища документов в Линце и Вене и стали отслеживать так называемых военных преступников, используя как прикрытие эмиграционную организацию. Сначала они установили местонахождение освобожденных из лагерей военнопленных. Следить за этими было легко, особенно получая подсказки от союзников. А затем, подготовившись, приступили к казням. Повесили нескольких человек. Но одному удалось выжить, и они сменили тактику: мелкая могила, пуля в затылок — они копируют действия «батальонов порядка» в Восточной Европе.
Готовина позволил себе тонкую улыбку, близкую к восхищению:
— Действуют они очень эффективно. Количество «старых товарищей», казненных «Накамом», колеблется между тысячью и двумя. Нам это стало известно, потому что наша группировка в Вене сумела схватить одного члена «Накама», и тот перед смертью выложил им все, что я только что рассказал. Так что, герр Гюнтер, вам следует остерегаться жидков, а не англичан или янки. Тех волнует лишь одно — коммунизм, и случается, они даже помогают нашим людям бежать из Германии. Нет, остерегаться вам следует лишь еврейских ребят. А особенно тех, кто не похож на евреев. Тот, которого наши в Вене схватили и пытали, был абсолютно арийского типа. Представляете? Красавец.
— Так что же можно сообщить моей клиентке?
— Вы что, Гюнтер, не слушали? Варцок мертв. Будь он жив, так уже танцевал бы в Аргентине танго. И это факт. Доберись он до Аргентины, его жена давно бы уже получила от него известие, поверьте мне.
— Я имел в виду, каково теперь ее положение в глазах Римской католической церкви?
Готовина пожал плечами:
— Пусть потерпит еще немного и подает заявление. Суд определит, считается ли она свободной и может вступить в новый брак или нет.
— Суд? Вы имеете в виду — со свидетелями и всем прочим?
— Забудьте, герр Гюнтер. — Готовина раздраженно отвел взгляд. — Архиепископ лишит меня сана, если узнает хоть десятую часть того, о чем я вам рассказал. Так что повторять где-то свои слова я ни под каким видом не стану ни перед каноническим судом, ни этой дамочке. И даже вам не буду. — Поднявшись, он уставился на меня сверху вниз. Солнце освещало его сзади, и он казался всего лишь темным силуэтом, а не реальным человеком. — И вот вам еще совет. Бесплатный. Бросьте вы это дело. «Товарищество» не любит расспросов и не любит ищеек, даже тех, которым мнится, будто вынюхивание сойдет им с рук, потому что у них тоже когда-то имелась наколка под мышкой. Для людей, которые задают слишком много вопросов о «Товариществе», все кончается смертью. Я ясно все растолковал, господин ищейка?
— Давненько мне не угрожал священник, — отозвался я. — Теперь я понимаю, как чувствовал себя Мартин Лютер.
— При чем тут Лютер! — Голос у Готовины стал еще раздраженнее. — И больше не смейте обращаться ко мне. Даже если сам премьер-министр Израиля Давид Бен-Гурион попросит вас выкопать яму в его саду в полночь. Доехало, господин ищейка?
— Словно сообщение поступило от самой святой инквизиции, перевязанное красивой ленточкой и припечатанное свинцовой печатью с ликом святого Петра.
— Я так понимаю, это означает «да»? Но у тебя, Гюнтер, лицо еретика. Не тот у тебя типаж, чтоб остерегаться совать нос в дела, которых не следует касаться.
— Вы, отец, не первый, кто говорит мне такое. — Я встал. — Мне удобнее принимать угрозы стоя.
Но насчет моего лица Готовина был прав. Глядя на его базиликообразную голову, крест и воротничок, меня так и тянуло отправиться прямиком домой, отпечатать девяносто пять своих тезисов и приколотить к дверям его церкви. Я попытался изобразить благодарность за то, что он открыл мне, и — заодно — что-то вроде легкого раскаяния, однако понимал: лицо мое выражает лишь бунтарство и бесстрашие.
— Но все равно спасибо. Я ценю вашу помощь и добрый совет. Немного духовного руководства нам всем полезно. Даже и таким, как я, неверующим.
— Не поверите мне, крупно промахнетесь, — холодно проговорил он.
— Я, отец, и сам не знаю, во что верить. — Теперь я специально прикидывался тупым. — Правда не знаю. Знаю лишь одно: жизнь — это лучшее из того, что я когда-либо видел прежде. И, возможно, она лучше того, что я увижу, когда умру.
— Это, Гюнтер, похоже на атеизм. А атеизм в Германии всегда опасен.
— Ну, какой атеизм, отец! Это всего лишь то, что мы, немцы, называем мировоззрением.
— Оставь это Богу. И не суйся в чужие дела, если соображаешь, что для тебя хорошо, а что плохо.
Я смотрел ему вслед, пока он не скрылся за воротами сада. Вернулась белка. Цветы воспряли. Голубь встряхнул головой, пытаясь очухаться после меткого попадания окурком. Облако уплыло, и снова ярко засияло солнце и зазеленела трава.
— Нет, он не святой Франциск Ассизский, — сообщил я им всем. — Да вы как пить дать уже поняли это и сами.
15
Вернувшись в офис, я позвонил по номеру, оставленному фрау Варцок. Низкий раскатистый голос, возможно женский, чуть менее настороженный, чем охрана тюрьмы Шпандау, ответил: фрау Варцок сейчас нет дома. Я назвался и оставил свой телефон. Голос без ошибок повторил сообщение. Я поинтересовался, говорю ли я с горничной, и голос подтвердил, да, это горничная. Положив трубку, я попытался представить себе эту горничную, но каждый раз она получалась похожей на Уоллеса Бири,[12] одетого в черное платье, с метелкой из перьев в одной руке, а другой сжимающего шею какого-нибудь тощего мужичонки. Я слышал, сейчас немало немецких женщин переодевается в мужское платье, чтобы их не изнасиловали Иваны. Но теперь у меня впервые появилась мысль, что предприимчивый гомосексуалист мог переодеться горничной по противоположным мотивам.
Время еле ползло, так же как и машины за моим окном. Медленно проехали несколько легковушек, пара грузовиков, мотоцикл военной полиции США. На другой стороне улицы на почту не спеша входили, а через некоторое время выходили люди. Любой, кто ждал письма в Мюнхене, знает, что спешить бесполезно — ждать придется долго. А для таксиста на стоянке у парадной двери время тянулось еще томительнее, чем для меня. Но зато он мог себе позволить сбегать без малейшего риска в киоск за сигаретами и вечерней газетой. А я был уверен, стоит мне отлучиться — и я пропущу звонок.
Через какое-то время я решился на провокацию: накинув куртку, я вышел, оставив дверь открытой, и направился в туалет. Подойдя к двери, я приостановился на минутку и лишь представил себе, что бы я там сделал… как раздался телефонный звонок. Старый трюк детективов, только почему-то в кино его никогда не показывают.
Звонила Бритта Варцок. После хриплых рулад горничной голос ее звучал сладко, как у мальчика-хориста. Она чуть запыхалась, точно бежала.
— Вы поднимались по лестнице? — поинтересовался я.
— Я немножко нервничаю, вот и все. Разузнали что-нибудь?
— Много чего. Хотите приехать сюда? Или мне приехать к вам? — Ее визитку я крутил в пальцах. Поднес к носу: от карточки слабо пахло лавандовой водой.
— Нет! — поспешно, резко ответила она. — Вам не стоит приходить, если не возражаете. У нас ремонт. Беспорядок, все покрыто простынями от пыли. Нет-нет. Давайте встретимся в «Вальтер-шпиле», в отеле «Фир Яресцайтен».
— Вы уверены, что там принимают марки?
— Вообще-то нет. Но плачу я, так что вам, герр Гюнтер, нечего тревожиться. Мне там нравится. Это единственное место в Мюнхене, где умеют прилично смешивать коктейль. А у меня предчувствие, что крепкая выпивка мне не помешает. Независимо от того, что вы мне сообщите. Ну, скажем, через час? Вам подходит?
— Я приду.
Я положил трубку, ощущая беспокойство: как-то слишком уж рьяно она воспротивилась моему приходу в дом на Рамерсдорфе. А что, если существует другая причина, отчего она не желает моего посещения? Не та, какую она услужливо мне предоставила? Что, если она утаивает от меня что-то? И я решил проследить за Бриттой после нашей встречи.
Отель находился всего в нескольких кварталах от меня, рядом с Резиденц-театром, который все еще отстраивали после бомбежек. Снаружи отель выглядел большим, но ничем не примечательным, что само по себе было примечательно, так как после бомбежек отель сгорел почти дотла. Надо отдать должное строителям Мюнхена. Имей они достаточно кирпичей и сверхурочных, так и Трою вмиг отстроили бы.
Я вошел через парадную дверь, готовый поделиться со здешним рестораном своим обширным опытом держателя отеля. Интерьер — сплошной мрамор и дерево, что вполне соответствовало выражению на физиономиях работающих тут «пингвинов». Громогласно жаловался на что-то консьержу американец военный; консьерж поймал мой взгляд в тщетной надежде, что я вмажу янки по уху и хоть ненадолго заткну его. Но за ту цену, что они брали с постояльцев за ночь, консьерж может и потерпеть. Ко мне подлетел какой-то тип похоронного вида в визитке и прицепился будто рыба-лоцман. Согнувшись в поклоне, он осведомился, не может ли мне помочь. В больших отелях такое поведение обслуживающего персонала именуют сервисом, но мне показалось просто назойливостью, словно он поинтересовался, как это жалкая личность вроде меня имеет наглость даже помышлять о том, чтобы втереться в общество обычных их посетителей.
— Да, спасибо, — улыбнулся я, постаравшись убрать из голоса колючки. — У меня назначена встреча в ресторане «Вальтершпиль».
— С гостем отеля?
— По-моему, нет.
— Вам известно, сэр, что в отеле платят иностранной валютой?
Мне понравилось, что назвал он меня «сэр». Очень с его стороны вежливо. Возможно, словечко это брошено, потому что я принял утром ванну. А возможно, потому, что выкинуть меня отсюда у него не получится: я слишком для него массивен, превосхожу габаритами.
— Да, знаю, — ответил я. — Раз уж вы об этом упомянули, то могу сообщить, что мне это не нравится. Но знать я знаю. И дама, с которой у меня назначена встреча, тоже знает. Я напомнил ей по телефону. Я еще возразил против вашего отеля, говоря, что могу предложить сотню местечек и получше, но она сказала, что иностранная валюта для нее не проблема. Из чего я заключил: валюта у нее есть. Вообще-то я еще ни одним глазком не видел цвета ее денег, но, когда она придет, предлагаю обыскать ее сумочку, чтоб у вас нервишки не шалили, когда увидите, что мы угощаемся тут вашей выпивкой.
— Я уверен, сэр, — деревянно проговорил тот, — такой необходимости не возникнет.
— И не волнуйтесь. Пока она не появится, я ничего заказывать не стану.
— С февраля будущего года отель станет принимать дойчмарки.
— Хм, будем надеяться, моя дама появится раньше.
— «Вальтершпиль» сюда, сэр. Налево.
— Спасибо. Ценю вашу помощь. Я и сам занимался гостиничным бизнесом — служил детективом «Адлоне» в Берлине. И знаете что? По-моему, ваш отель круче того по обслуживанию. В «Адлоне» ни у кого бы не достало смекалки поинтересоваться у человека, может ли он себе позволить посещение ресторана или нет. Даже и в голову бы никому не пришло. Вы превосходно справляетесь с работой. Так держать!
Я направился к ресторану. В зале имелся еще один выход на Маршталл-штрассе и ряд шелковых кресел для людей, ждущих автомобили. Я взглянул на меню и цены — поистине баснословные! — и присел в кресло — ждать прихода моей клиентки с долларами, или иностранными купонами, или чем там еще она собиралась расплачиваться. Метрдотель стрельнул на меня глазом и поинтересовался, буду ли я обедать. Я ответил, что надеюсь на это, и наш разговор закончился. Всю желчь во взгляде он приберег для крупной дамы, сидевшей в другом кресле. Я назвал ее «крупная», но на самом деле имел в виду — толстая. Вот что получается, когда походишь женатым какое-то время. Ты перестаешь высказывать напрямую то, что у тебя на уме. Только так люди и сохраняют брак. Все успешные браки держатся на некотором лицемерии. И лишь в неудачных супруги всегда выкладывают друг другу правду.
Итак, женщина, сидевшая напротив меня, была толстая. И голодная. Я догадался, потому что она беспрерывно что-то жевала, извлекая из сумки, когда думала, что метрдотель не смотрит на нее, то бисквит, то яблоко, то кусочек шоколадки, еще бисквит, маленький сэндвич. Еду она доставала из сумочки, как другие женщины достают косметику: пудру, помаду и подводку для глаз. Кожа у нее была очень бледная, белая, а под подбородком обвисла розовыми складками; казалось, будто ее лицо только-только ощипали от перьев. Из ушей большими конфетинами свисали огромные янтарные серьги. В случае нужды она, пожалуй, закусила бы и ими. Сэндвич она заглатывала не хуже, чем гиена свиную ножку. Еда словно в воронку втягивалась в отверстие ее рта.
— Жду кое-кого, — пояснила она.
— Тот же случай.
— Мой сын работает на янки, — хрипло продолжила толстуха. — Он пригласил меня на обед. Но мне не хочется заходить в зал без него. Там все так дорого.
Я кивнул, но не потому, что был согласен с ней, а потому, что у меня появились опасения: если я перестану двигаться, то она слопает и меня.
— Очень дорого, — повторила она. — Я ем сейчас, чтобы не есть слишком много, когда мы сядем за стол. Пустая трата денег, мне кажется. За какой-то там обед — такие деньги! — И она вгрызлась в новый сэндвич. — Мой сын — директор Американских зарубежных авиалиний, офис на Карлс-плац.
— Я знаю, где это.
— А вы чем занимаетесь?
— Я частный детектив.
Глаза ее на минутку вспыхнули, и я подумал: сейчас, того гляди, наймет меня разыскивать пропавший пирожок. Так что очень удачно, что именно в эту минуту через дверь на Маршталл-штрассе вошла Бритта Варцок.
Сегодня она была в длинной черной юбке, приталенном белом пиджаке, длинных черных перчатках и белых лакированных, на высокой шпильке туфлях. На голове красовалась белая шляпа, точно позаимствованная у нарядного кули. Широкие поля удачно прикрывали шрамы на щеке. Шею Бритты украшали пять ниток жемчуга, а на руку была нацеплена сумочка с бамбуковой ручкой, откуда она вынула, здороваясь со мной, пять марок. Купюра отправилась к метрдотелю, тот приветствовал посетительницу с подобострастием, достойным придворного английской королевы Виктории. Пока он изо всех сил лебезил, я заглянул поверх ее руки в сумочку. И успел заметить флакончик «Мисс Диор», чековую книжку Гамбургского кредитного банка и пистолет двадцать пятого калибра — брата-близнеца того, что лежал в кармане моей куртки. Толком я не успел разобраться, что меня встревожило больше: то, что у нее есть счет в Гамбурге, или никелевая «погремушка».
Я прошел за Бриттой в зал в воздушном потоке духов, почтительных поклонов и восхищенных взглядов. За взгляды я никого не винил. Как и мисс Диор, держалась Бритта изящно и с абсолютной уверенностью в себе: точно принцесса, шествующая на коронацию. Полагаю, именно высокий рост автоматически делал ее центром внимания. Попробуй выглядеть по-королевски, если макушка у тебя едва достает до дверной ручки! Но вполне возможно, внимание привлекали ее изысканный наряд и красота. И, разумеется, все это не имело никакого касательства к субъекту, шагавшему следом, как паж за госпожой.
Мы сели. Метрдотель, который, похоже, видел ее тут и прежде, протянул нам меню размером с кухонную дверь. Бритта заявила, что она не так уж и голодна, мне же есть до смерти хотелось, но ради нее я согласился, что и я сыт. Затруднительно сообщать клиентке, что муж ее мертв, когда рот у тебя набит сосисками и квашеной капустой. Мы заказали выпивку.
— Вы часто бываете здесь? — поинтересовался я.
— Перед войной бывала часто.
— Перед войной? — улыбнулся я. — Вы не выглядите настолько старой.
— О нет, я совсем старенькая, — возразила она. — Вы всем своим клиенткам льстите, герр Гюнтер?
— Только некрасивым. Им это нужно. Вам — нет. Вам я совсем не льщу. Я констатирую факт. На вид вам не больше тридцати.
— Мне было всего восемнадцать, когда я вышла замуж. Было это в тысяча девятьсот тридцать восьмом. Ну вот. Я и открыла вам, сколько мне лет. Надеюсь, вам очень стыдно, что вы добавили год к моему возрасту. Еще целых четыре месяца мне будет всего только «за двадцать».
Принесли коктейли. Она заказала себе «Бренди Александер», очень подходивший к ее шляпе и пиджаку, а я взял «Гибсон», надеясь хотя бы луковкой закусить. Я переждал, пока Бритта выпьет пару глотков, и лишь потом открыл ей, что мне удалось раскопать. Выложил я все напрямик, без всяких эвфемизмов или вежливых недомолвок, вплоть до конкретных деталей: что еврейский отряд политических убийств заставил Вилли Хинтце выкопать себе могилу и встать на колени на край ее, а потом его убили выстрелом в затылок. После ее рассказа о том, как они с женихом надеются, что Варцока, если он жив, схватят и экстрадируют в страну, где вешают всех нацистских преступников, я не сомневался: с такой новостью Бритта сумеет справиться.
— И вы считаете, то же самое произошло и с Фридрихом?
— Да. Человек, с которым я беседовал, почти уверен в этом.
— Бедняга Фридрих, — вздохнула она. — Не самый приятный способ умереть, правда?
— Случалось мне видеть и похуже. — Я закурил. — Надо бы сказать, что я сожалею, но вряд ли эти слова подходят к вашему случаю. По нескольким причинам.
— Бедный, бедный Фридрих, — повторила Бритта. Допив коктейль, она заказала еще по одному для нас обоих. Глаза у нее увлажнились.
— Вы переживаете, будто вам и вправду его жаль, — заметил я.
— Были у него и хорошие качества. Да, в самом начале определенно были. А теперь он мертв. — Бритта вынула платочек и очень осторожно промокнула уголки глаз.
— Но вернемся к нашему делу: знать, фрау Варцок, одно, а убедительно доказать церковному СУДУ — совсем другое. «Товарищество» — люди, которые пытались помочь вашему мужу, не из тех, кто станет присягать на чем-то, кроме разве что эсэсовского кинжала. Человек, с которым я встречался, совершенно четко высказал мне это вполне конкретными словами.
— Он угрожал вам?
— По-моему, да, — ответил я. — Но я вовсе не хочу взваливать бремя тревог на вас. Угрозы — это часть профессионального риска в моей работе. Я, в сущности, пропустил их мимо ушей.
— Пожалуйста, герр Гюнтер, будьте осторожны, — попросила Бритта. — Мне не хотелось бы иметь грех на совести.
Прибыла вторая партия выпивки. Расправившись с первым бокалом, я поставил его на поднос официанту. Вошла моя знакомая толстая дама с сыном, работавшим в Американских зарубежных авиалиниях, и они устроились за соседним столиком. Я поскорее съел луковку, пока толстуха не успела ее попросить. Сын был конечно же немцем, но на нем был габардиновый костюм, будто сошедший со страниц журнала «Эсквайр». Такие еще носят посетители чикагских ночных клубов: очень просторный пиджак с широкими отворотами и совсем уж необъятными плечами, брюки, тоже широкие, эффектно сужавшиеся к щиколоткам, специально чтобы сделать заметнее коричневые с белым туфли. Рубашка под пиджаком простая, белая, галстук — кислотно-розового цвета. Ансамбль дополнялся двойной цепочкой для ключей непомерной длины, болтавшейся на узком кожаном ремне. Если толстая дама не проглотила ее, значит, сынок был у нее на первом месте, а еда — на втором. Хотя не сказать, чтоб он так уж ценил это; его глаза уже шарили по стройной фигуре Бритты Варцок. В следующую минуту он отодвинул стул, отложил салфетку, по размерам напоминающую наволочку, и подскочил к нашему столику, как будто знал Бритту. Улыбаясь и чопорно кланяясь, что выглядело нелепо в сочетании с его совсем неофициальным костюмом, он проговорил:
— Как поживаете, милая леди? Как развлекаетесь в Мюнхене?
Фрау Варцок окинула его пустым взглядом. Он поклонился снова, точно надеясь, что поклон подстегнет ее память.
— Разве вы меня не помните? Феликс Клингерхофер. Мы с вами познакомились в самолете.
— Думаю, вы ошибаетесь, — покачала она головой. — Приняли меня за другую, герр?..
Я едва не расхохотался вслух. Сама мысль, что Бритту Варцок можно принять за другую — ну разве что перепутать с одной из трех граций, — была слишком смехотворна. Да еще с этими тремя шрамиками на щеке. Еву Браун и то легче с кем-то спутать.
— Нет, нет, — настаивал Клингерхофер, — я не ошибаюсь.
Про себя я согласился с ним: с ее стороны довольно неуклюже было прикидываться, будто она забыла его имя, ведь он только что назвал себя. Я сидел молча, выжидая, как развернется спектакль дальше.
Перестав обращать всякое внимание на Клингерхофера, Бритта перевела взор на меня и обронила:
— Так о чем мы говорили, Берни?
Мне показалось довольно странным, что именно в этот момент она вдруг решила обратиться ко мне по имени. Я на нее не оглянулся, не спуская глаз с Клингерхофера в надежде, что мой пристальный взгляд подвигнет его сказать что-нибудь еще. Я даже улыбнулся ему. Чтобы у него и мысли не зародилось, будто я намереваюсь обойтись с ним грубо. Но, поклонившись в третий раз, он пробормотал извинения и вернулся к своему столику. Лицо его приобрело тот же оттенок, что и его яркий галстук.
— Кажется, я уже рассказал вам, с какими странными людьми мне доводилось сталкиваться, выполняя ваш заказ, — заметил я.
— А этот разве не странный? — прошептала Бритта, нервно косясь в сторону Клингерхофера. — Честное слово, я понятия не имею, с чего вдруг ему пришла в голову идея, будто мы знакомы! Никогда прежде не видела его.
Честное слово. Обожаю, когда клиенты произносят эту фразу. Особенно клиентки. Все мои сомнения — а вдруг все-таки она говорит правду? — тотчас рассеялись.
— В таком-то костюме, — прибавила она, что было уж совсем ни к чему, — думаю, я его точно запомнила бы.
— Да, безусловно, — согласился я, наблюдая за Клингерхофером, — определенно запомнили бы.
Открыв сумочку, фрау Варцок вынула конверт и протянула мне.
— Я обещала вам вознаграждение. Вот.
Я заглянул внутрь. Купюр было десять, и все красненькие. Не пять тысяч марок, но все равно щедро. Более чем. Я сказал ей, что это слишком много.
— В конце концов, — добавил я, — сведения мало чем помогают вашему делу.
— Напротив. Помогают, и даже очень. — Она на секунду приложила руку с безупречным маникюром к груди. — Даже если информация, как вы опасаетесь, не поможет мне на суде, вы себе не представляете, какой груз снят с моей души, как важно мне было узнать точно, что Фридрих никогда не вернется. — И, взяв мою руку, она подняла и поцеловала ее, будто бы с искренней благодарностью. — Спасибо вам, герр Гюнтер. Большое спасибо.
— С нашим удовольствием.
Я сунул конверт во внутренний карман и для верности застегнул его. Мне понравилось, как она поцеловала мне руку. И вознаграждение тоже пришлось по душе. И понравилось, что премиальные она выдала сотенными купюрами, красивыми, новенькими, с дамой, читающей книгу рядом с глобусом. Мне даже начала нравиться ее шляпа и три шрамика на щеке. Все мне в ней очень нравилось — за исключением маленького пистолета в сумке.
Женщины, таскающие при себе оружие, не нравятся мне почти так же сильно, как мужчины с пистолетом за поясом. «Беретта» и мелкий инцидент с герром Клингерхофером, не говоря уже о том, как категорически она отказалась пригласить меня к себе в дом, наводили на мысль, что в Бритте Варцок кроется нечто большее, чем видит глаз. А глаз видел женщину, по красоте не уступающую Клеопатре.
— Вы ревностная католичка, фрау Варцок, — начал я. — Ведь так?
— К сожалению, да. А почему вы спросили?
— Только потому, что обсуждал со священником ваше положение, и он порекомендовал, чтобы вы воспользовались старым приемом иезуитов — ответы давали двусмысленные. То есть говорили одно, а думали совсем другое. Ради благой цели. По-моему, такой прием был рекомендован основателем ордена иезуитов Ульрихом Цвингли. По словам священника, с которым я беседовал, Цвингли утверждает, что большим грехом, чем сама ложь, явится дурное действие, которое воспоследует, если не прибегнуть ко лжи. В данном случае вы — привлекательная молодая женщина, желающая выйти замуж и создать семью. Священник, с которым я беседовал, полагает, что, если б вы забыли о том факте, что видели мужа живым весной тысяча девятьсот сорок шестого, вам потребовалось бы только добиться постановления, что Варцок мертв, и тогда вмешивать церковь не нужно вовсе. А теперь, когда вам известно, что муж ваш действительно мертв, какой в этом будет вред?
— То, что вы говорите, герр Гюнтер, — пожала плечами фрау Варцок, — очень любопытно. Возможно, мы переговорим с кем-нибудь из иезуитов, послушаем, что он порекомендует. Но я не могу лгать в таких вопросах. Тем более священнику. Боюсь, что для католички лазеек тут не существует. — Бритта допила коктейль и промокнула губы салфеткой.
— Да это так, вариант просто, — стал оправдываться я.
Она вынула из сумочки и положила на стол пять долларов и сделала движение уйти.
— Нет, нет, пожалуйста, не провожайте, — остановила она меня. — Мне очень неловко, я ведь помешала вам пообедать. Пожалуйста, останьтесь и закажите что-нибудь. Тут хватит, чтобы расплатиться и за еду. Ну хотя бы допейте бокал.
Встав, я поцеловал ей руку и проводил ее взглядом. На герра Клингерхофера она даже не посмотрела, тот снова залился румянцем, крутя цепочку для ключей, потом улыбнулся — через силу — матери. Одна моя половина рвалась последовать за Бриттой, а другая требовала остаться и попытаться вытянуть из Клингерхофера еще кое-какие сведения. Верх одержал Клингерхофер.
Все клиенты — лгуны, твердил я себе. Я еще не встречал ни одного, кто относился бы к правде не как к товару, выдаваемому строго по карточкам. И если детективу известно, что его клиент — лгун, то это единственная правда, которая его касается, и вот тогда он получает некоторое преимущество. Не моя забота знать всю подноготную Бритты Варцок, даже при условии, что абсолютная правда существует. Как и у других клиентов, у нее свои причины не открывать мне всего. Конечно, я несколько подрастерял былую форму — она всего лишь третья моя клиентка после открытия агентства в Мюнхене. И все-таки, говорил я себе, незачем было так уж очаровываться ею. Тогда бы я не так сильно удивился. Ошарашило меня даже не то, что я поймал ее на совершенно беспардонном вранье, а то, что, оказывается, она вообще способна лгать. Католичка-то из нее такая же, как из меня — папа римский. Конечно, не обязательно всякому католику знать, что Ульрих Цвингли был вождем швейцарских протестантов в шестнадцатом веке. Но уж то, что основателем ордена иезуитов был Игнатий Лойола, известно каждому католику. А если она готова врать, что она католичка, тогда и во всем остальном тем более может соврать. В том числе и про беднягу Клингерхофера. Я забрал доллары и подошел к его столику.
Фрау Клингерхофер, похоже, преодолела свои прежние сомнения насчет цен в «Вальтершпиле» и трудилась над бараньей ножкой с истовостью механика, расправляющегося с заржавленными свечами зажигания при помощи гаечного ключа и резинового молотка. Она не переставала поглощать еду ни на секунду, даже когда я, поклонившись, сказал «Хэлло!». Вероятно, она не остановилась бы, даже если б барашек вдруг заблеял. Ее сын, Феликс, тесно общался с телятиной, отрезая от нее аккуратные маленькие треугольнички, точно Сталин на газетных карикатурах, отрезающий ломтики от карты Европы.
— Герр Клингерхофер, — приступил я, — думаю, мне надо извиниться перед вами. Не в первый раз случается такое. Понимаете, моя дама близорука, но категорически не желает носить очки. Вполне возможно, что вы действительно уже встречались с ней, но, боюсь, она просто не узнала вас сейчас. Где вы с ней познакомились? В самолете как будто, вы сказали?
Клингерхофер вежливо привстал.
— Да, — подтвердил он. — В самолете. Мы летели из Вены. Я часто там бываю по делам. Она ведь там и живет? В Вене?
— Она так вам сказала?
— Ну да, — кивнул он, явно умиротворенный моими извинениями. — У дамы какие-то неприятности? Моя мать сказала, вы детектив.
— Да, но у нее нет никаких неприятностей. Я всего лишь обеспечиваю ее личную безопасность. Что-то вроде телохранителя при ней. — Я улыбнулся. — Она летает на самолетах, а я добираюсь поездом.
— Такая привлекательная женщина, — вставила фрау Клингерхофер, выковыривая кончиком ножа костный мозг.
— Вы тоже так считаете? — подхватил я. — Фрау Варцок разводится с мужем. Насколько мне известно, она еще окончательно не решила, останется жить в Вене или переберется сюда, в Мюнхен. Вот почему я немного удивился, услышав от вас, что она живет в Вене.
Вид у Клингерхофера стал задумчивым, он помотал головой:
— Варцок? Нет, я уверен, она называла другую фамилию.
— Может, девичью? — предположил я.
— Нет, она точно сказала «фрау» и… что же за фамилия? — все пытался припомнить он. — Не фройляйн. Такую женщину — она ведь хороша собой — слушаешь очень внимательно. Замужем она или нет. И уж тем более, если человек холостяк, как я, и очень хочет жениться.
— Найдешь еще, — буркнула его мамаша, слизывая мозг с ножа. — Наберись только терпения, и все.
— Может, Шмидт? — предположил я; этим именем она назвалась при первой встрече герру Крумперу, адвокату моей покойной жены.
— Нет, и не Шмидт… Я бы запомнил…
— Моя девичья фамилия была Шмидт, — пояснила его мамаша.
Я поболтался у их столика еще минуту-другую: может, он все-таки вспомнит фамилию, которой назвалась Бритта. Но он так и не вспомнил. И, еще раз извинившись, я направился к двери.
Ко мне бросился метрдотель, высоко приподняв локти и подскакивая на ходу, точно танцор:
— Сэр, все в порядке?
— Да, — ответил я, отдавая ему доллары Бритты. — Скажите мне кое-что. Вы уже видели мою даму прежде?
— Нет, сэр! Такую леди я бы точно запомнил.
— У меня просто сложилось впечатление, что вы ее уже встречали. — Пошарив в кармане, я выудил пять марок. — А может, вы эту леди узнали?
Метрдотель улыбнулся, глядя чуть ли не застенчиво:
— Да, сэр. Боюсь, что да.
— Бояться тут нечего. Она не укусит. Эта — нет. Но если увидите ту, другую, мне бы хотелось об этом услышать. — Я сунул купюру вместе со своей визиткой в нагрудный карман его фрака.
— Да, сэр. Разумеется, сэр.
Я вышел на Маршталл-штрассе в смутной надежде, что еще застану Бритту Варцок, садящуюся в машину. Но она уже давно уехала. Улица была пуста. Ну и к черту ее, ругнулся я и отправился к площадке, где припарковал свой автомобиль.
Все клиенты — лгуны.
16
Шагая к Максимилиан-штрассе, я обдумывал, чем займусь завтра. Проведу день без военных преступников-нацистов, Красных Курток, жуликоватых хорватских священников и загадочных богатых вдов. Утром я хотел побыть на кладбище, попросить прощения у жены за все свое прежнее пренебрежение ею. И надо позвонить, наконец, герру Гартнеру, похоронному агенту, сказать, какую надпись я хочу сделать на мемориальной табличке. А еще нужно переговорить с Крумпером, пусть сбросит цену на отель. В очередной раз. Хоть бы погода, пока я буду на кладбище, была хорошей. Думаю, Кирстен не стала бы возражать, если я заодно немножко погреюсь на солнышке. А днем, может, загляну еще разок в галерею живописи — ту, что рядом с Красным Крестом, разведаю, нельзя ли записаться на интенсивный курс по изучению живописи. Приятно, когда молодая, стройная и привлекательная женщина берет тебя за руку и водит по музею, растолковывая, что красиво, а что нет и как различать, когда картину малевал шимпанзе, а когда писал парень в маленьком черном берете.
А уж если не выгорит, тогда отправлюсь в «Хофбраухаус», прихватив английский словарь, пачку сигарет, и проведу вечерок со смазливой брюнеткой. А то, может, и с несколькими — молчаливыми, с красивыми густыми волосами, безо всяких историй про тяжелую женскую долю, — и пусть все сидят вдоль барной стойки. В общем, где бы я ни очутился, я твердо намеревался забыть свои нынешние тревоги по поводу Бритты Варцок.
Машину я оставил в нескольких кварталах, развернув к Рамерсдорфу, на случай, если мне придет фантазия проверить адрес, который мне дала Бритта. Нельзя сказать, чтоб я так уж рвался следить за ней после двух бокалов «Гибсона», — нет. Хотя бы насчет спиртного Бритта Варцок сказала правду. Коктейли в «Фир Яресцайтен» действительно подавали отличные.
Максимилиан-штрассе расширилась, переходя в вытянутую площадь под названием Форум. Думаю, кто-то когда-то решил, что площадь походит на древнеримскую, — может, оттого, что там высились четыре статуи, отдаленно напоминавшие классические. На мой взгляд, площадь сейчас стала походить на форум Траяна в Риме больше, чем прежде, потому что Этнографический музей, стоящий на правой, если идти к реке, стороне площади, превратился после бомбежек в руины. Оттуда-то и появился первый из них. Габаритами и ростом со сторожевую вышку, в сильно помятом бежевом полотняном костюме, он целеустремленно шагал в моем направлении, широко распахнув руки, словно пастух, старающийся перехватить отбившуюся от стада овцу.
Не желая попасть в его объятия, я тут же подался в сторону, в направлении церкви Святой Анны, где обнаружил второго направляющегося ко мне парня. Этот был в кожаном пальто, шляпе-котелке и с тростью в руке. Что-то в его лице мне совсем не понравилось. Да и само лицо тоже: глаза цвета цемента, а губы словно треснули в улыбке, наводившей на мысль о колючей проволоке. Когда я, быстро повернувшись, стремительно кинулся по Максимилиан-штрассе, эти двое тоже припустились бегом, а я угодил прямиком под ноги третьему, который уж вовсе не походил на сборщика денег на благотворительные цели.
Я сунулся в карман за пистолетом. Совету Штубера оставить пулю в стволе я не последовал, и теперь мне потребовалось бы еще возиться с затвором, чтобы послать патрон в ствол, и только потом стрелять. Так что выстрелить я бы все равно не успел. Едва пистолет оказался у меня в руке, как ко мне подскочил человек с тростью и треснул меня этой тростью по запястью. На секунду мне показалось, что он сломал мне руку. Пистолетик безобидно звякнул металлом о камни мостовой, и я чуть не грохнулся с ним рядом — такая острая боль пронзила мне руку. К счастью, руки у меня две, и вторая заехала нападавшему локтем в живот. Удар получился основательный, и попал я, куда метил, — вышибить дух у нападавшего в котелке хватило, но на ногах он удержался.
Подоспели двое других. Я поднял согнутые руки, изготовляясь к бою, залепил могучий удар в лицо одному и вмазал отличный правый хук в подбородок другого. Почувствовав, как голова у него дернулась, будто воздушный шарик на палочке, я увернулся от полета кулака размером с небольшие Альпы. Но все было без толку. Больно огрела по плечам трость, и руки у меня бессильно повисли вдоль тела. Тут же рывком куртку сдернули с моих плеч, и руки оказались прижатыми к бокам. Вдобавок мне так двинули кулаком в живот, что тот прилип к позвоночнику, а я рухнул на колени, выбросив остатки обеда из коктейля с луковкой на свою маленькую «беретту».
— Эй, взгляните-ка на его пистолетик! — призвал один из моих новых друзей и пинком отшвырнул оружие — на всякий случай: вдруг у меня еще хватит дури попробовать схватить его. Но пробовать я не стал.
— Подними его на ноги! — распорядился тип в котелке.
Громила сгреб меня за шиворот и вздернул в положение, отдаленно напоминавшее стоячее. На минутку я повис у него на руках, полусогнувшись, словно человек, выронивший мелочь, шляпа медленно сползала у меня с головы. Взвизгнув шинами, рядом затормозила огромная машина. Кто-то заботливо подхватил мою все-таки свалившуюся шляпу, а державший меня за шиворот сунул мне пальцы под ремень и отволок к бровке тротуара. Смысла сопротивляться не было никакого. Действовали они слаженно — было понятно: такое они уже много раз проделывали и прежде. Теперь они взяли меня в крепкое кольцо, один распахнул дверцу машины и зашвырнул на заднее сиденье мою шляпу, другой волочил меня, будто куль картошки, а третий держал наготове трость, на случай, если я воспротивлюсь намерению отправиться с ними на пикник. Вблизи все они пахли и выглядели, будто персонажи с картины Иеронима Босха: мое бледное, потеющее, смирившееся лицо окружала триада — глупость, скотство и ненависть. Перебитые носы. Черные дырки меж зубов. Злобные глаза. Отросшая за день щетина на щеках. Желтые никотиновые пальцы. Воинственные подбородки. Пивное дыхание. Они здорово накачались пивом, прежде чем явиться на встречу: словно меня похищала гильдия баварских пивоваров.
— Нацепи на него лучше наручники, — посоветовал «котелок». — На всякий пожарный. Не то еще отмочит какой фортель.
— Пусть попробует, огрею его вот этим, — ответил второй, показывая дубинку.
— А все-таки надень наручники.
Громила, державший меня за ремень и воротник, на минутку ослабил хватку. Вот он шанс — удирай! — приказал я себе. Но беда в том, что ноги приказу повиноваться не желали, словно принадлежали человеку, который не пользовался ими уже несколько недель. Да к тому же меня попросту оглушили бы ударом дубинки по голове. Били меня и раньше, и моей голове совсем это не нравилось. А потому я вежливо позволил громиле схватить себя лапами за руки и защелкнуть железо на моих запястьях. Потом он приподнял меня, схватился за мой ремень и вбросил в машину, точно человека — пушечное ядро.
Шляпа и сиденье машины смягчили удар. Когда громила влез следом за мной в машину, дверца с другой стороны открылась, и обезьяна с дубинкой взгромоздила бедро, размерами с шину, рядом с моей головой, утолкав меня в середину. Такой вот получился сэндвич, где я был начинкой. Тип в котелке устроился на переднем сиденье, и мы поехали.
— Куда мы едем? — услышал я свое хриплое карканье.
— Тебе без разницы, — буркнул тот, что с дубинкой, и нахлобучил мне шляпу на лицо. Я не стал сдвигать ее, предпочитая сладкий запах моего масла для волос пивному перегару и вони пережаренного сала, застрявшей в их одежде. Мне нравился запах ободка моей шляпы. В первый раз я понял, почему маленький ребенок таскает за собой свое одеяльце и почему одеяльце называется «утешителем». Запах от моей шляпы напоминал мне о нормальном человеке, каким я был всего несколько минут назад и каким надеялся стать снова, когда эти бандюги отпустят меня. Запах, конечно, не совсем как от прустовского печенья «мадлен», но похоже.
Ехали мы в южном направлении. Я понял это, потому что нос машины, когда меня в нее впихнули, смотрел на восток, на Максимилиан-штрассе. И вскоре после начала поездки мы пересекли мост и повернули направо. Закончилась поездка немного быстрее, чем я ожидал. Мы заехали не то в гараж, не то на какой-то склад. Двери перед нами поднялись, пропуская, и тут же, как только мы въехали, опустились. Мне не требовались глаза, чтобы приблизительно понять, где мы находимся. Кисло-сладкий запах хмелевого сусла, идущий от трех самых крупных мюнхенских пивоварен, был такой же достопримечательностью города, как статуя Баварии. Даже через фетр шляпы он чувствовался крепко и остро, как запах свежевспаханного поля.
Дверцы машины распахнулись. Шляпу у меня с лица сдернули, а меня наполовину вытолкали, наполовину выволокли из машины. К троим с Форума прибавился тот, что сидел за рулем, и еще двое, что поджидали нас на полузаброшенном складе. Вокруг валялись разбитые поддоны, пивные бочонки и ящики с пустыми бутылками. В углу приткнулся мотоцикл с коляской. Перед машиной стоял грузовик. Над головой виднелась стеклянная крыша, вернее, бывшая стеклянная, потому что почти все разбитое стекло лежало под ногами. Оно хрупало, словно лед на замерзшем озере, пока меня подталкивали, ведя к человеку поопрятнее других, руки у него были поменьше, ноги тоже, а лицо украшали маленькие усики. Я понадеялся, что мозг у него все-таки достаточно большой, чтобы понять, когда я говорю правду. Мой живот еще так и оставался прилипшим к позвоночнику.
Этот, что поменьше, был в серой куртке с темно-зелеными отворотами и карманами в форме дубовых листьев, манжеты и нашлепки на локтях тоже были зеленые. Брюки из серой фланели, башмаки коричневые, в общем, он был похож на фюрера, готового устроить веселую ночку в Берхтесгадене.
Голос у него был мягкий, вежливый, что могло бы показаться приятным разнообразием, да только опыт давно научил меня: как правило, такие вот тихие и вежливые и есть самые отъявленные садисты — тем более в Германии. Тюрьма в Ландсберге забита тихоголосыми, вежливыми субъектами.
— Вам повезло, герр Гюнтер, — проговорил он.
— Да, мне тоже так кажется, — согласился я.
— Вы действительно служили в СС?
— Стараюсь этим не бахвалиться.
Он стоял совершенно неподвижно, чуть ли не по стойке «смирно», руки опущены по швам, словно он принимал парад. Выправка эсэсовца высокого чина, глаза и манера разговаривать — тоже. Тиран вроде Гейдриха или Гиммлера — один из тех психопатов в пограничном состоянии, которые командовали полицейскими батальонами в дальних уголках великого Германского рейха. Совсем не тот, с кем проходят шуточки, взял я себе на заметку. Настоящий нацист. Такого сорта людей я особенно ненавидел теперь, когда предполагалось, что мы как бы избавились от них.
— Да, мы проверили вас, — продолжил он, — по нашим спискам батальонов. У нас имеются списки бывших эсэсовцев, и вы, да будет вам известно, числитесь в них тоже. Вот поэтому я и сказал, что вам крупно повезло.
— Я сразу догадался. У меня возникло отчетливое чувство причастности к СС, как только ваши парни захватили меня.
Все эти годы я помалкивал себе в тряпочку, как и все остальные. Но, может, из-за крепкого пивного запаха и их нацистских повадок мне вдруг вспомнился один эпизод: штурмовики, зайдя в бар, набросились на еврея и стали избивать его, а я молча вышел, никак не вмешавшись. Случилось это году, наверное, в 1934-м. Мне следовало сказать тогда хоть что-то. И вот теперь, когда я знал, что меня не убьют, мне вдруг захотелось поквитаться за тот случай. Выложить напрямую этому маленькому нацистскому солдафону, что я на самом деле думаю о нем и ему подобных.
— Я бы не стал, герр Гюнтер, так легкомысленно говорить об этом, — мягко сказал он. — Единственная причина, почему вы еще живы, та, что вы значитесь в этих списках.
— Очень рад слышать это, герр генерал.
Он поморщился:
— Вы знаете меня?
— Нет, но мне знакомо такое поведение. Спокойствие и уверенность, что вас непременно послушаются. Ваше абсолютное чувство превосходства представителя избранной расы. Что не так уж удивительно, учитывая, какого формата люди на вас работают. Такое ведь типично для генералов СС, верно? — Я с отвращением оглянулся на парней, которые притащили меня сюда. — Найти пару садистов-недоумков для выполнения грязной работы, а не то, еще лучше, людей другой национальности — латышей, украинцев, румын…
— Мы тут все, герр Гюнтер, немцы, — возразил маленький генерал. — И все — «старые товарищи». Даже вы. Что делает недавнее ваше поведение тем более непростительным.
— И что же такого я натворил? Забыл начистить свой кастет?
— Должны были соображать получше и не соваться всюду, задавая вопросы о «Паутине» и «Товариществе». Не всем, герр Гюнтер, приходится скрывать так мало, как вам. Есть и такие, кто ходит под угрозой смертного приговора.
— В вашей компании я охотно этому верю.
— Ваша наглость не делает чести ни вам, ни нашей организации, — заключил почти печально генерал. — Моя честь — это моя верность. Разве для вас эти слова ничего не значат?
— Для меня, генерал, это всего лишь слова на пряжке ремня. Очередная нацистская ложь типа «Сила через радость».
Другая причина, по какой я кинулся высказывать маленькому генералу все, что тянуло мне душу, была та, что у меня самого мозгов не хватило дослужиться до генерала. Убивать меня они, может, и не намеревались, но избить вполне могут. И здорово. Мысль, что они хотят избить меня, сидела в мозгу с самого начала. Таков был, не сомневался я, расклад. И я рассудил, что при данных обстоятельствах ничего не теряю, высказываясь откровенно.
— А может, это самая лучшая ложь. Моя любимая. Ее состряпали в СС, чтобы заставить людей легче воспринимать ситуацию. Работа делает вас свободными.
— Вижу, герр Гюнтер, придется нам перевоспитывать вас, — сказал генерал. — Ради вашего же блага, разумеется. Чтобы вы в будущем избежали новых, еще больших неприятностей.
— Можете разукрашивать свои действия как желаете, генерал. Но такие, как вы, всегда предпочитали избивать людей…
Фразы я не успел докончить. Генерал кивнул одному из парней — тому, что с дубинкой, и точно спустил собаку с поводка. Мгновенно, без малейшей заминки, тот сделал шаг вперед и изо всех сил саданул меня дубинкой по рукам, а потом по плечам. Я скорчился, стараясь руками — все еще в наручниках — защитить голову.
Наслаждаясь работой, тот тихонько загоготал, когда от боли я свалился на колени. Зайдя сзади, он врезал мне сверху по позвоночнику — убийственный, сокрушительный удар, от которого рот у меня наполнился вкусом «Гибсона» вперемешку с кровью. Лупит мастерски, подумал я, удары такие, что причиняют максимум боли.
Упав на бок, я остался лежать на полу у его ног. Но если я надеялся, что он поленится наклониться для удара, то ошибся. Стянув куртку, парень перебросил ее типу в котелке. И принялся лупцевать меня с новой силой. Охаживал по коленкам, по щиколоткам, по ребрам, по ягодицам, голеням. Всякий раз, как он ударял, раздавался глухой стук, будто выбивали ковер ручкой от метлы. Пока я молился, чтобы избиение прекратилось, кто-то начал сыпать ругательствами, точно ярость ударов удивляла человека, и только через несколько мучительных секунд до меня дошло: ведь это я сам выплевываю брань. Били меня и прежде, но никогда — так основательно. И может, я не отключался так долго только потому, что он избегал ударять меня по лицу и голове, и я никак не мог впасть в спасительное беспамятство. Самые непереносимые муки начались, когда он принялся бить по второму кругу, по тем местам, где я уже был избит до синяков. Вот тут-то я не выдержал и начал орать, словно злясь на себя, что никак не могу потерять сознание, удрать от боли.
— Ну хватит пока что, — наконец остановил его генерал.
Тяжело дыша, парень с дубинкой наперевес отступил и отер лоб.
Котелок захохотал и протянул ему куртку со словами:
— Что, Альберт, самая твоя тяжелая работенка за неделю?
Я застыл на полу. Болела каждая частичка моего тела. И все за десять красненьких «леди». Завтра, когда посмотрю на себя утром в зеркало, решу, не попросить ли еще тысячу на примочки. И то при условии, что у меня достанет духу взглянуть на себя. Но, как оказалось, они со мной еще не кончили.
— Поднимите его, — приказал генерал, — и приведите сюда.
Отпуская шуточки, ругаясь, какой же я тяжеленный, они подтащили меня к генералу, стоявшему рядом с пивным бочонком. На крышке бочонка лежали молоток и стамеска. Ни молоток, ни стамеска мне совсем не понравились. И уж совсем не пришлось мне по душе, когда громила взялся за них с видом человека, который сейчас примется ваять скульптуру. Во мне поднялось тошнотворное жуткое предчувствие, что я и есть та самая необработанная мраморная глыба, которую предстоит обтесать, как говорил Микеланджело. Привалив меня спиной к одному бочонку, они уложили мои скованные руки на деревянную крышку другого. Я принялся выдираться, пустив в ход остатки сил, но они только хохотали.
— Храбрец-то, а? — заходился громила.
— Боец, ничего не скажешь, — согласился котелок.
— Заткнитесь, вы, оба! — прикрикнул генерал. И, захватив мое ухо, больно выкрутил. — Слушай меня, Гюнтер, внимательно слушай, — сказал он тоном чуть ли не ласковым. — Ты совал свои толстые пальцы в дела, которые тебя совсем не должны касаться. В точности как тот дурной голландский мальчишка, заткнувший пальцем дырку в дамбе. И знаешь что? Историю про него нам до конца так и недорассказали. И что самое главное — умолчали, а что же случилось с его пальцем? А вы, герр Гюнтер, догадываетесь, что случилось с его пальцем?
Я громко завопил, когда кто-то из них плотно прижал мою левую руку к крышке. Когда острый край стамески вонзился в сустав мизинца, я на секунду забыл про боль, терзавшую остальные части моего тела. Огромные сальные лапы, удерживавшие меня, напружинились от возбуждения. Сплюнув кровь, я ответил генералу:
— Намек до меня дошел. Я предупрежден, генерал. Навечно.
— Совсем не уверен, — буркнул тот. — Видишь ли, предостережение действует эффективно, только когда подкреплено видимыми последствиями.
Когда оставлено некое наглядное напоминание, что может случиться с человеком, если он опять примется совать пальцы в наши дела. Покажите ему, господа, о чем я толкую.
В воздухе сверкнуло что-то блестящее — молоток вроде бы — и опустилось на рукоятку стамески. На мгновение меня пронзила неописуемая боль, и тут же я нырнул в накативший с Альп густой туман. У меня вырвался стон, и глаза закрылись.
17
От меня не могло так мерзостно вонять. Да, я обмочился. Но все равно так разить не должно. Пахло от меня хуже, чем от запаршивевшего бродяги. Таким тошнотворным, отвратительно-сладковатым запахом аммиака воняет от людей, которые не мылись и не меняли одежду несколько месяцев. Я попытался отвернуться, но зловоние не исчезло. Я валялся на полу. Кто-то схватил меня за волосы. С трудом я открыл глаза и увидел: под носом у меня небольшой коричневый флакон с нюхательной солью. Генерал встал, завинтил пробку и сунул его в карман куртки.
— Дайте ему глотнуть коньяку, — распорядился он.
Сальные пальцы уцепили меня за подбородок и ткнули мне стакан между губ. Вкуснее я ничего в жизни не пил. Жидкость заполнила рот, я попытался сглотнуть, но без особого успеха. Попытался снова, и на этот раз несколько капель просочилось в горло, и сразу по телу будто теплая волна прошла. Наручники с меня уже сняли, а левая рука была обмотана окровавленным носовым платком. Моим собственным.
— Поставьте его на ноги, — приказал генерал.
И меня рывком подняли на ноги. От боли стоять я не мог: куда-то уплывало сознание, и мне захотелось снова лечь. Кто-то всунул мне в правую руку стакан с коньяком. Я поднес его к губам — стекло застучало о зубы. Рука у меня тряслась, как у старика. Ничего удивительного. Я и чувствовал себя столетним стариком. Допив остатки — порция оказалась изрядной, — я уронил стакан на пол. Меня качало, словно я стоял на палубе корабля.
Передо мной маячил генерал. Так близко, что я видел, какие у него голубые — арийские — глаза. Равнодушные, жестокие, ледяные, как сапфиры. В уголках его губ гуляла легкая улыбка, точно он намеревался поведать мне нечто очень забавное. Оказалось, действительно намеревался. Однако соль шутки я сразу не уловил. Он ткнул мне под нос что-то маленькое, розовое. Сначала мне показалось, что это недоваренная креветка — с кровью на одном конце, грязная на другом. Совсем неаппетитная. Но потом я понял: это был мой собственный мизинец. Генерал затолкал мне его в ноздрю. Улыбка стала заметнее.
— Вот что случается, когда суешь свои грязные пальцы в дела, которые тебя не касаются, — тихим, интеллигентным голосом человека, любящего Моцарта, наставительно произнес он. Нацист-джентльмен. — И считай, тебе повезло. Если бы мы решили, что ты сунул в наши дела нос, то и нос отхватили бы, не только палец. Я доступно излагаю, герр Гюнтер?
Я что-то невнятно пробурчал, подтверждая. Все нахальство из меня выбили. Палец, почувствовал я, стал выскальзывать из ноздри. Но генерал, успев поймать, засунул мне его в нагрудный карман, словно ручку, которую одалживал на минутку.
— Сувенир! — сказал он мне, продолжая радостно улыбаться, и, отвернувшись, бросил типу в котелке: — Отвезите герра Гюнтера, куда попросит.
Меня снова отволокли к машине и втолкнули на заднее сиденье. Я прикрыл глаза. Мне хотелось одного — заснуть и не просыпаться. Как Гитлер.
Дверцы машины захлопнулись, заурчал мотор. Один из моих «товарищей» двинул меня локтем, чтоб я очнулся:
— Куда желаешь, Гюнтер?
— В полицию, — предложил кто-то. К моему удивлению, оказалось, что это я и говорю. — Я желаю заявить о нападении.
— Но мы и есть полиция! — захохотали на переднем сиденье.
Может, правда, а может, и нет. Мне в общем-то было все равно. Теперь уже все равно. Машина тронулась и быстро набрала скорость.
— Ну, так куда его отвезем? — поинтересовался кто-то через минуту-другую. Чуть приоткрыв глаза, я посмотрел в окно. Похоже, двигались мы в северном направлении. Река была слева.
— Может, в магазин, где продают пианино? — прошептал я.
Им это показалось крайне забавным, я и сам чуть было не расхохотался, но, когда попытался, стало так больно — не до смеха.
— Ишь какой крутой! — заметил громила. — Он мне нравится. — Раскурив сигарету, он, нагнувшись, сунул ее мне в губы.
— Потому ты и отрубил мне палец? — еле слышно спросил я.
— Ну да! Тебе еще повезло, что ты мне нравишься, понял?
— Когда есть такие друзья, голем, то и враги не нужны.
— Как он тебя обозвал?
— Голем какой-то.
— Словечко слюнтяев, — заметил котелок. — Только не спрашивай меня, что оно значит.
— Слюнтяев? — переспросил я по-прежнему шепотом, но они прекрасно меня расслышали. — Кто такие слюнтяи?
— Евреи, — пояснил громила и больно ткнул меня в бок. — Так что, слюнтяйское это словцо? Как он и сказал?
— Да. — Мне не хотелось дразнить его. Не теперь, когда на моих руках осталось всего девять пальцев. Мне нравились мои пальцы, и, что важнее, нравились они и моим подружкам в те прежние дни, когда у меня еще водились подружки. Так что я воздержался объяснять ему, что голем — это такой огромный тупой монстр, лишь отдаленно напоминающий человека. Безобразный, как само зло. К такому уровню откровенности громила еще не готов. И я тоже. И потому я ответил:
— Означает здоровенного такого парня. Крутого, как вареное яйцо.
— Тогда это точно он, — согласился водитель. — Здоровеннее не бывает. И круче тоже.
— По-моему, меня сейчас вырвет, — сообщил я.
Громила тотчас выдрал у меня изо рта сигарету и, опустив окно, выбросил, потом подтолкнул меня к струе прохладного ночного воздуха, ворвавшейся в салон.
— Тебе свежий воздух нужен, и все, — сказал он. — Через минуту все будет в норме.
— Как он там? — нервно оглянулся водитель. — Совсем мне ни к чему, чтоб он блевал в моей машине.
— Порядок. — Громила отвинтил крышку на плоской фляжке и влил в меня еще немного коньяку. — Верно? А, крутой парень?
— Ладно, уже неважно, — вмешался котелок. — Мы на месте.
Машина остановилась.
— На месте — это где? — выдавил я. Они выволокли меня из машины и подтащили к хорошо освещенному входу, где прислонили к штабелю кирпичей.
— Тут государственный госпиталь, — сообщил громила. — Богенхаузен. Отдохни малость. Кто-нибудь да наткнется на тебя вскорости. И сделают все, что положено. С тобой, Гюнтер, будет полный порядок.
— Какая забота! — Я попытался собраться с мыслями, сосредоточиться и прочитать номер машины. Но в глазах у меня двоилось, а потом и вообще все почернело. А когда я снова сумел сфокусировать взгляд, машина уже уехала, а рядом со мной опустился на колени человек в белом халате.
— Что, чересчур крепко ударили по спиртному?
— Ударил не я. Другие. И не по спиртному, а по мне. Лупили, будто любимую грушу Макса Шмелинга.[13]
— А вы уверены? — засомневался он. — От вас пахнет коньяком. И очень сильно.
— Они мне дали выпить, — объяснил я. — А то мне поплохело — после того как они отрубили мне палец. — И я в подтверждение помахал у него перед лицом окровавленным кулаком в платке.
— Хм… — Доказательство, похоже, его не убедило. — У нас лечится много пьянчуг, которые сами себя калечат, а потом являются сюда. Они воображают, нам тут делать нечего, только их беды расхлебывать.
— Послушайте, мистер Швейцер,[14] — прошептал я, — меня измолотили в месиво. Так будете вы мне помогать или нет?
— Может быть. Ваше имя и адрес? И так, на всякий случай, чтобы я не чувствовал себя идиотом, если наткнусь на бутылку в вашем кармане, — как зовут нового канцлера?
Имя и адрес я ему назвал.
— Но как зовут нового канцлера, понятия не имею, — добавил я. — Я еще до сих пор стараюсь забыть имя последнего.
— Ходить можете?
— До кресла-каталки, может, и добреду, если покажете, где оно.
Он выкатил инвалидную коляску из-за дверей и помог мне усесться.
— А на случай, если вдруг поинтересуется старшая сестра, — сказал он, вкатывая меня внутрь, — имя нового федерального канцлера — Конрад Аденауэр. Если она учует запах коньяка, прежде чем мы успеем снять с вас одежду, то вполне может спросить. Пьяниц она не терпит.
— А я — канцлеров.
— Аденауэр был мэром Кёльна, — сообщил человек в белом халате, — пока англичане не сместили его за некомпетентность.
— Что ж, значит, со своими новыми обязанностями он справится превосходно.
Наверху врач разыскал медсестру, чтобы помогла мне раздеться. Девчонка была премиленькая, и даже в госпитале она наверняка нашла бы более приятное зрелище, чем мое бледное тело все в синих полосах от трости — ну просто флаг Баварии!
— Господи Иисусе! — вырвалось у доктора, когда он вернулся осматривать меня. Кстати о Христе. Я стал гораздо лучше представлять себе, как он себя чувствовал, после того как с ним закончили разбираться римляне. — Что же с вами произошло?
— Я же говорил — меня избили.
— Но кто? Почему?
— Сказали, что они полицейские, — ответил я. — Может, просто потому, что хотели, чтоб я вспоминал их добрым словом. Я-то всегда думаю о людях только плохо — такой вот у меня недостаток. А еще — вечно суюсь не в свои дела и слишком распускаю язык. Именно от этого, думаю, они и желали остеречь меня, если читать между синяков.
— Хм, с чувством юмора у вас полный порядок, — заметил доктор. — И у меня предчувствие, что утром оно вам очень даже понадобится. Синяки ваши мне не нравятся.
— Мне тоже.
— Сейчас сделаем рентген. Проверим, нет ли переломов. А потом накачаем болеутоляющим и взглянем на ваш палец.
— Да сейчас смотрите — он у меня в кармане куртки.
— Вообще-то я имел в виду культю. — Я позволил ему размотать платок и осмотреть остаток мизинца. — Потребуется наложить пару швов, — заключил доктор. — Обработать антисептиком… Но проделано очень аккуратно. Отрублены две верхние фаланги. Как они сделали это? Ну, то есть чем отрубили?
— Молотком и стамеской.
Доктор и медсестра сочувственно поморщились. Меня била дрожь. Медсестра набросила мне на плечи одеяло, но дрожь не унималась, я потел, и мне ужасно хотелось пить. Когда я начал зевать, доктор ущипнул меня за мочку уха.
— Ну теперь даже не тратьте напрасно слов, — сквозь стиснутые зубы прошептал я. — Я понял: вы считаете, что я душка.
— У вас шок. — Он помог мне улечься на кровать, медсестра накрыла меня несколькими одеялами. — Вам повезло, что вы так быстро оказались у нас.
— Сегодня вечером все считают меня настоящим везунчиком, — пробормотал я. Мне стало совсем худо. Я разволновался, как форель, пытающаяся плыть на стеклянном кофейном столике. — Скажите мне, доктор, может человек летом заразиться гриппом и умереть?
— Гриппом? — переспросил он. — О чем вы говорите? У вас нет гриппа.
— В том-то и странность. А чувствую я себя так, будто у меня грипп.
— И вы не умрете.
— В восемнадцатом году от гриппа умерло несчитаное количество людей. Как же вы можете быть так уверены, док? Люди без конца умирают от гриппа. Моя жена, например. И вторая моя жена тоже. Не знаю почему, но что-то мне не понравилось. Я не про жену. Хотя и она мне последнее время не нравилась. Вначале — да. Нравилась, и сильно. Но уже с конца войны — нет. И уж тем более, когда мы переехали в Мюнхен. Может, я и заслужил сегодняшние побои. Из-за этого. Понимаете? Я, док, все заслужил. Все, что со мной сотворили.
— Чепуха! — сказал доктор, потом вопрос мне вроде задал, что ли. Я не разобрал. Я уже ничего не разбирал.
Снова сгустился туман. Он валил, точно пар из сосисочной в холодный зимний день. Берлинский воздух. Его ни с чем не спутаешь. Будто вернулся домой. И только частичка меня осознавала, что все неправда, я просто второй раз за вечер теряю сознание. И это немножко напоминает смерть. Но все-таки лучше. Все лучше, чем быть мертвым. Может, я действительно везунчик, только этого не понимаю? Пока я могу отличить жизнь от смерти, все более-менее нормально.
18
Наступил день. В окна лился солнечный свет. Пылинки дрожали в сверкающих лучах, точно в свете небесного кинопроектора. А может, то были ангелы, посланные, чтобы передать мне благую весть небес. Или мельчайшие крупинки моей души, рвущиеся к посмертной славе, бесстрашно разведывающие путь к звездам? Луч чуть заметно переместился, словно стрелка гигантских солнечных часов, и, наконец, коснулся изножья кровати, даже сквозь простыню и одеяла согрев пальцы ног, словно напоминая, что мои мирские дела еще не завершены.
Потолок был розовый. С него на медных цепочках свисал огромный стеклянный плафон. Внутри, на дне, валялись четыре дохлые мухи, словно самолеты, подбитые в ожесточенной битве насекомых. Покончив рассматривать потолок, я переключился на стены. Такого же розового цвета, как потолок. К одной прислонился медицинский шкафчик, полный флаконов, пузырьков и бинтов. На противоположной стене висел большой снимок замка Нойшванштайн, самого знаменитого из трех королевских дворцов, возведенных для Людвига II Баварского. Иногда этого короля называют Безумный Людвиг, но после того, как я попал в госпиталь, я уразумел, что отлично его понимаю, потому что с неделю сам находился в полубезумном состоянии. Несколько раз я обнаруживал себя запертым в самой высокой башне этого замка, той, где установлен флюгер и откуда открывается просторный вид с высоты орлиного полета на сказочную страну. Ко мне даже захаживали семь гномов и слон с большими ушами. Розовый, само собой.
Ничего удивительного в этом не было. Так, во всяком случае, убеждали меня медсестры. Я ведь болел пневмонией, а заболел, потому что сопротивляемость организма к инфекции понизилась из-за побоев, которыми меня угостили, а еще оттого, что я заядлый курильщик. Пневмония началась как сильный грипп, и первое время врачи так и считали, что у меня грипп. Я запомнил, как они говорили об этом, потому что грипп представлялся мне гнусной насмешкой судьбы. Потом состояние мое ухудшилось. Дней восемь-девять держалась такая высокая температура, что я стал наведываться в Нойшванштайн. А потом температура упала почти до нормальной. Я подчеркиваю — почти, потому что, учитывая дальнейшие события, я находился в состоянии каком угодно, только не в нормальном. Во всяком случае, только так я могу объяснить свои поступки.
Протянулась еще одна долгая неделя, когда ничего не происходит и не на что смотреть. Даже медсестры не развлекали меня. Все они были солидные немецкие фрау, обремененные мужьями и детьми, с двойными подбородками, мощными ручищами, кожей точно апельсиновая кожура и грудями-подушками. В накрахмаленных белых передниках и шапочках они выглядели и вели себя, будто закованные в броню. Хотя, будь они даже красавицами, разницы никакой. Я был слаб, как новорожденный. К тому же либидо мужчины сходит на нет, если его объект приносит, выносит и опустошает наполненное подкладное судно. Вдобавок все мои мысли неизменно занимало одно — месть. Вот только кому?
Кроме уверенности, что люди, превратившие меня в кровавое месиво, действовали по наущению отца Готовины, я ничего о них больше не знал. Ну еще что они бывшие эсэсовцы, как и я сам, и, возможно, полицейские. Священник был моей единственной реальной ниточкой, и постепенно я пришел к решению отомстить именно отцу Готовине.
Разумеется, я соображал, насколько серьезна и трудна такая задача. Он был здоровенным мужиком, и в моем ослабленном состоянии мне конечно же с ним не тягаться. Пятилетняя девчушка со сладкой булочкой в кулачке хорошим правым хуком легко могла размазать меня по полу детской комнаты. Но даже будь я достаточно крепок, он, разумеется, узнает меня и прикажет потом своим дружкам из СС меня прикончить — он совсем не показался чересчур щепетильным в таких делах. В общем, для расправы со священником потребуется оружие. Поняв это, я пришел к мысли, что мне придется убить его. Выбора у меня, похоже, нет.
Убить человека за то, что он натравил других людей избить тебя, — это я, возможно, несколько погорячился, но случившееся вывело меня из равновесия. И еще кое-что повлияло на мое решение: после всего, что я увидел и натворил в России, я меньше чем прежде ценил человеческую жизнь. В том числе и свою собственную. Не то чтобы я был таким уж истовым квакером — я и в мирное время убил нескольких человек, хотя удовольствия мне это, клянусь, не доставило. В первый раз, конечно, тяжело, но во второй — убивать уже легче. Пусть даже и священника.
Разобравшись с вопросом, кому мстить, я занялся вопросом — когда и как. Размышления на эту тему привели меня к выводу: если мне удастся убить отца Готовину, то очень бы неплохо потом слинять на какое-то время из Мюнхена. А может, и навсегда. Так, на всякий случай, не то его дружки из «Товарищества», любители отрубать пальцы, пожалуй, сложат два и два и получат в сумме — меня. Решение же проблемы, куда сбежать, подсказал мне доктор Хенкель.
Высоченного, как фонарный столб, Хенкеля отличали седой армейский бобрик и нос размером с эполету французского генерала. В молочно-голубых глазах чернели карандашными остриями точечки зрачков. Точь-в-точь две икринки на блюдечках мейсенского фарфора. Лоб его прорезала морщина, глубокая, как наезженная колея, а подбородок — из-за ямочки — походил на эмблему «фольксвагена». Величественное, властное лицо, великолепно смотревшееся бы у бронзового герцога пятнадцатого столетия верхом на коне, отлитого из расплавленных пушек и установленного перед дворцом с обширными пыточными подвалами. Его очки в стальной оправе чаще всего располагались на лбу, редко когда на носу, а на шее болтался ключ от медицинских шкафчиков в палатах — в государственном госпитале часто крали наркотики. Был доктор загорелым и подтянутым, что неудивительно: у него имелось шале под Гармиш-Партенкирхеном, и он почти каждый уик-энд отправлялся туда — лазить по холмам летом и ходить на лыжах зимой.
— А почему бы вам не поехать туда? Погостите у меня немного, — сказал он как-то. — Самое подходящее местечко для выздоравливающего. Свежий горный воздух, здоровая пища, тишина и покой. Очень скоро придете в норму.
— Вы такой заботливый, — заметил я. — Для доктора, я имел в виду.
— Может, вы мне нравитесь.
— Неудивительно: я сейчас легко нравлюсь людям — сплю почти целые сутки. Вы видите меня, доктор, в мои лучшие дни.
Поправив мою подушку, он заглянул мне в глаза:
— А может, я разглядел Берни Гюнтера лучше, чем он думает.
— А-а, вы обнаружили мои скрытые достоинства. И это после всех моих стараний запрятать их поглубже!
— Не так уж глубоко они спрятаны, — возразил он. — Если знаешь, что искать.
— Хм, вы начинаете беспокоить меня, вы ведь видели меня голым. И я даже не накладываю макияж. И волосы, наверное, в полном беспорядке.
— Вам повезло, что вы валяетесь на спине беспомощный, как котенок, — погрозил он мне пальцем. — Услышу еще подобные замечания, превращусь из заботливого врача в буйного боксера. Я, кстати, считался в университете многообещающим спортсменом. Поверьте, Гюнтер, вскрыть рану я умею так же быстро, как и зашить.
— А разве это не противоречит «гиппократической» клятве, или как там вы, распространители таблеток, называете эти слова, когда воспринимаете себя слишком всерьез? В общем, что-то греческое.
— Ну, в вашем случае я, пожалуй, сделаю исключение и задушу вас трубкой фонендоскопа.
— Тогда мне так и не доведется услышать, почему я вам понравился, — вздохнул я. — Знаете, если вы и вправду испытываете ко мне искренние чувства, раздобудьте мне сигаретку.
— С вашими-то легкими? И думать забудьте. Послушайте моего совета: бросайте курить. Пневмония скорее всего оставила в легких очаги. — И, выдержав паузу, добавил: — Это не шутки.
Где-то за дверьми заверещала дрель. Здесь тоже шел ремонт, как и в том госпитале, где умерла Кирстен. Иногда кажется, нет в Мюнхене места, где бы не велись строительные работы. Я знал, доктор Хенкель прав. Дом в Гармиш-Партенкирхене — то, что доктор прописал. Там гораздо тише и покойнее, чем на стройплощадке, где я сейчас обретаюсь.
Даже если доктор этот стал говорить подозрительно похоже на «старого товарища». И я решил проверить.
— Может, я никогда и не расскажу вам о людях, совершивших надо мной «лапоприкладство», — сказал я. — У них, безусловно, есть и скрытые достоинства. Ну, знаете, типа чести и верности. И раньше они носили черные кепи с забавными такими эмблемками, потому что им хотелось быть похожими на пиратов и пугать маленьких детишек.
— Вообще-то вы говорили мне, что они — полицейские, — заметил доктор. — Те, кто избил вас.
— Копы, детективы, юристы, доктора… Вереница тех, к кому могут броситься за помощью «старые товарищи», бесконечна.
Спорить со мной доктор Хенкель не стал.
Я прикрыл глаза. Я устал. Разговоры изматывали меня. Теперь меня утомляло все. Даже моргать и одновременно дышать было в тягость. Меня даже сон утомлял. Но больше всего — «старые товарищи».
— А кем были вы? — осведомился я. — Инспектором концлагерей? Или вы всего лишь еще один человек, который просто выполнял приказы?
— Я служил в Десятой бронетанковой дивизии СС «Фрундсберг».
— Как это, черт подери, врач оказался в танке? — удивился я.
— Если честно, я решил, что в танке будет безопаснее. Собственно, так и получилось. Мы были на Украине с сорок третьего до июня сорок четвертого. Потом нас перебросили во Францию. Затем Арнем, Берлин и Шпремберг. Мне повезло — удалось сдаться в плен янки. — Он пожал плечами. — Я не жалею, что вступил в СС. Те эсэсовцы, которые выжили, останутся мне друзьями до конца моей жизни. И я сделаю все для них. Все, что угодно.
О моей службе в СС Хенкель меня не расспрашивал. Он соображал, что к чему. Про такое человек говорит сам или молчит. Мне никогда об этом распространяться не хотелось. Я видел, ему любопытно, но оттого преисполнялся только еще большей решимостью молчать. Пусть думает что хочет — какая мне разница.
— Признаться, — сказал доктор, — вы окажете мне огромную услугу, если поедете в Мёнх. Так называется мой дом в Зонненбихле. Там сейчас гостит один мой друг — вы бы составили ему компанию. Он с самого конца войны в инвалидной коляске, у него тяжелая депрессия. А вы поможете ему взбодриться. Знаете, вам обоим общение пойдет на пользу. В доме живет медсестра, и еще одна женщина приходит готовить. Вам там будет комфортно.
— Этот ваш друг…
— Эрик.
— Он из «старых товарищей», верно?
— Он служил в Девятой бронетанковой дивизии СС, — подтвердил Хенкель. — «Хохенштауфен». И тоже был в Арнеме. Его танк подбил английский бронебойный снаряд в сентябре сорок четвертого. — Хенкель примолк. — Но он не нацист, если вас это беспокоит. Мы не были членами партии.
Я улыбнулся:
— Не знаю, стоит ли упоминать, но я тоже в партии не состоял. Однако позвольте вам дать бесплатный совет. Никогда не сообщайте людям, что не состояли в партии. Они решат, что вам есть что скрывать. Меня прямо-таки поражает, куда подевались все нацисты. Наверное, их всех переловили Иваны.
— Никогда об этом не задумывался.
— А я просто притворюсь, что не слышал вас. Чтобы потом не слишком разочаровываться, когда ваш друг окажется Гебхардом, умным братом Гиммлера. Ему, как вы помните, в отличие от Генриха и Эрнста, не пришлось в сорок пятом глотать цианистый калий.
— Он вам понравится, — заверил Хенкель.
— Конечно. Будем посиживать у камина и петь друг другу перед сном «Хорст Вессель». Я буду читать ему главы из «Майн кампф», а он — услаждать мой слух статьями доктора Геббельса. Как вам такая картинка?
— Похоже, я ошибся, — помрачнел Хенкель. — Забудьте, что я приглашал вас, Гюнтер. Я передумал. Вряд ли вы будете ему полезны. Вы даже более ожесточены, чем он.
— Снимите ногу с тормоза танка, док, — остановил я его. — Я поеду. Где угодно будет лучше, чем здесь. Если останусь тут, скоро мне потребуется слуховой аппарат.
19
Одна медсестра в госпитале была родом из Берлина. Звали ее Надин. Мы с ней отлично ладили. Жила она в Берлине на Гюнтцель-штрассе в Вилмерсдорфе, очень близко от Траутенау-штрассе, где когда-то жил я, — почти соседи. Раньше она работала в госпитале «Чарити»; там летом 1945-го ее изнасиловали двадцать два человека — Иваны. После чего она утратила всякую любовь к этому городу и переехала в Мюнхен. У нее было тонкое, аристократическое лицо, длинная шейка, прямые плечи и красивые ноги. Всегда уравновешенная, спокойная; по какой-то причине я ей приглянулся. Надин и отвезла записку маленькому Фэксону Штуберу, знакомому таксисту, с просьбой навестить меня в госпитале.
— Господи, Гюнтер! — воскликнул таксист. — Видок у тебя, как у протухшей квашеной капусты.
— Сам знаю. Потому мне и приходится лежать в госпитале. Что поделаешь? Случается и такое, человеку нужно как-то зарабатывать на жизнь.
— Согласен всей душой. Потому-то и пришел.
Не устраивая суматохи, я отправил его в кладовку, где висела моя одежда и лежал во внутреннем кармане куртки бумажник, а в бумажнике прятались десять красненьких «леди».
— Найдешь?
— Красненьких «леди»? Да это мои самые любимые девочки.
— Их десять. И все они твои.
— Людей я не убиваю, — заторопился он.
— Видел я, как ты водишь машину, так что это всего лишь вопрос времени, дружище.
Я рассказал ему, что мне требуется. Фэксону пришлось сесть поближе, чтобы слышать, потому что временами голос у меня становился совсем слабым, похожим на кваканье уже проглоченной лягушки.
— Короче, — подвел он итог, — я выкатываю тебя отсюда, везу, куда требуется, и привожу обратно в госпиталь. Правильно?
— Устроим все во время посещений, и никто даже не заметит, что я отлучался. К тому же мы наденем комбинезоны строителей. Свой я натяну прямо поверх пижамы. Строители в этом городе — невидимки… В чем дело? — насторожился я. — Что это у тебя с лицом?
— Сомнения у меня. Потому что, Гюнтер, я новорожденных котят видал покрепче тебя. Ты и до стоянки не доберешься.
— Об этом я позаботился. — Я показал ему пузырек с жидкостью, который прятал под матрасом. — Это первитин. Я его стянул у врачей.
— И ты надеешься, он поставит тебя на ноги?
— Достаточно надолго, чтобы я успел сделать то, что задумал. В войну им угощали пилотов люфтваффе, когда у тех совсем кончались силы. И они летали даже без самолетов.
— Ладно, — буркнул Штубер, убирая красненьких «леди». — Но если ты хлопнешься в обморок или кувыркнешься на дороге, не жди — работать носильщиком я не стану. Больной ты там или нет, Гюнтер, но мужик ты здоровущий, поднять тебя и штангисту Йозефу Мангеру было б не под силу. Даже если бы от этого зависела та золотая олимпийская медаль, которую он получил в тридцать шестом. И еще. Как я слыхал, эта красная микстура развязывает человеку язык. Так вот, я ничего не желаю знать, понятно? Какие там у тебя секретные замыслы — не мое дело. И как только ты мне болтанешь чего, я вправе отказаться от нашей сделки. Ясно?
— Поллитровка «Отто» не бывает яснее, — заверил я.
— С этим порядок, — ухмыльнулся Штубер, — я не забыл. — И, вытащив пол-литра «Фюрст Бисмарка» из кармана, сунул мне под подушку. — Только не пей слишком много. Ячменный шнапс и эта твоя «бычья кровь», пожалуй, не больно-то поладят друг с дружкой. Я вовсе не желаю, чтоб ты блевал в моем такси.
— Насчет меня, Фэксон, не волнуйся.
— Да я не за тебя, я за себя переживаю — убирать-то мне. Это только кажется, что насчет тебя…
— Понимаю, понимаю. Психологи даже название придумали для такого случая — гештальт.[15]
— Ну в этом, Гюнтер, ты больше меня кумекаешь. Ты тут такого нагородил, что, по-моему, тебе голову проверить не мешает.
— Всем нам не помешает, Фэксон, дружище. Всем. Слыхал про коллективную вину? Ты такой же плохой, как Йозеф Геббельс, а я — как Рейнхард Гейдрих.
— Рейнхард — кто?
Я улыбнулся. Гейдрих, шеф политической полиции Германии, протектор Богемии и Моравии, конечно, уже больше семи лет как мертв — убит участниками Сопротивления. Но все-таки немного удивительно, что Штубер даже и не слышал про него. Может, таксист моложе, чем я считал.
Или я гораздо старше, чем себя ощущаю. Что едва ли возможно.
20
От «бычьей крови» в венах я чувствовал себя, будто мне только что исполнилось двадцать один. Понятно, почему это средство прописывали пилотам люфтваффе. Хлебнув хорошую дозу такого стимулирующего сока, человек без малейших колебаний посадит самолет хоть на крышу Рейхстага. Чувствовал я себя определенно лучше, чем выглядел, но знал, что совсем не так энергичен, как нашептывает мне допинг. Шагал я, как младенец, который только-только учится ходить. Руки и ноги болтались, будто я позаимствовал их у выброшенной на помойку куклы; мертвенно-бледное лицо, грязный, мешком висящий комбинезон, спутанные волосы и башмаки, которые были мне велики на несколько размеров, — еще только проткнуть шею стрелой, и я пройду любой кастинг на участие в фильме о чудище Франкенштейна. А если я при этом пытался заговорить, то получалось еще хлеще: в сравнении с моим голосом рык любого монстра звучал обольстительным сопрано Марлен Дитрих.
Я дошагал до лифта, а там плюхнулся в инвалидную коляску. В госпитале толклось полно посетителей, и никто не обращал внимания ни на меня, ни на Штубера, а меньше всех врачи и медсестры: обычно они пользовались случаем и в часы посещений устраивали себе перерыв или занимались бумажной работой. Работой они были перегружены, а платили им гроши.
Штубер быстро покатил меня к своему «фольксвагену-жуку». Я забрался на пассажирское сиденье и, сберегая силы, предоставил ему возможность закрыть дверцу. Обежав машину, он запрыгнул на место, мотор взревел, и только тогда я сообщил ему, куда ехать. Он раскурил две сигареты, одну передал мне, выжал сцепление, и мы тронулись по направлению к окружной дороге.
— Куда дальше? — осведомился он, крепко удерживая руль слева, — мы пока ехали по окружной.
— Через мост, — ответил я. — На запад по Максимилиан-штрассе, потом по Хильдегард-штрассе…
— Скажи просто, куда надо, — проворчал он. — Я, между прочим, таксист, не забыл? Вон видишь, маленькая лицензия из Управления муниципального транспорта. Означает, что город я знаю, как «киску» твоей жены.
«Бычья кровь» позволила мне пропустить колкость мимо ушей. Да и потом, лучше уж такое настроение, чем извинения и замешательство, которые, пожалуй, затормозят парня. А сейчас требовались скорость и активность, пока не улетучились действие стимулятора и моя злость.
— В церковь Святого Духа на Тал, — бросил я.
— В церковь? Зачем это тебе в церковь? — Он призадумался над загадкой, пока мы мчались через мост. — Или у тебя появились другие соображения? Если так, то церковь Святой Анны ближе.
— Вот тебе и твои познания в гинекологии, — откликнулся я. — Святая Анна еще закрыта. — Когда мы ехали через Форум, я мельком заметил угол, где «старые товарищи» угостили меня дубинкой, прежде чем засунуть в машину. — И я не передумал. Да ведь ты сам просил меня поменьше трепаться. Так какое тебе дело, что мне понадобилось в церкви? Тебя не касается. Сам сказал, что и знать не желаешь.
Штубер пожал плечами.
— Подумал просто, что ты перерешил. И все дела.
— Перерешу — узнаешь первым. Ну, где «погремушка»?
— У тебя под ногами. — На полу валялась кожаная сумка для инструментов. Я был так взбудоражен, что не заметил ее. — В сумке… В ней еще гаечные ключи и отвертки — на случай, если кто любопытный сунет нос.
Медленно наклонившись, я втянул сумку на колени. На боку сумки напечатан герб города и штемпель «Служба доставки почты автотранспортом. Луизен-штрассе».
— Сумка, наверное, автомеханика, — пояснил Штубер. — Забыл у меня в такси.
— С каких это пор автомеханики стали пользоваться валютными такси?
— С тех самых, как стали трахать американских медсестер. Девица была высший класс. Немудрено, что парень инструменты свои позабыл. Они не могли оторваться друг от друга. — Штубер покачал головой. — Я на них поглядывал в зеркало заднего вида. Она так энергично шарила языком, словно ключ от дверей у него в штанах разыскивала.
— Очень романтичную картинку ты рисуешь. — Я открыл сумку. Среди инструментов лежал автоматический кольт американского производства. Отличная машинка, довоенного выпуска, сорок пятый калибр. Глушитель, навинченный на дуло, — самоделка, но почти все глушители самодельные. А кольт — для глушителя оружие идеальное. Единственная проблема — длина: вместе с глушителем выходило больше сорока сантиметров. Это хорошо, что Штубер отдавал и сумку. Таскать револьвер в руке — все равно что вооружиться Экскалибуром, волшебным мечом короля Артура.
— Револьвер чист, как само Рождество, — прибавил Штубер. — Достал его у черномазого сержанта, который нес охрану в Клубе американских офицеров во Дворце искусств. Он поклялся жизнью своей черной мамаши, что револьвер и глушитель последний раз пускал в ход рейнджер из американской армии, чтобы убить эсэсовского генерала.
— Значит, револьвер этот счастливый, — заметил я.
— Ты, Гюнтер, — покосился на меня Штубер, — такой странный!
— Тебе кажется.
Мы поехали по Хохбрухен, не теряя из виду «Хофбраухаус», где — необычно для этого времени дня — жизнь била ключом. Какой-то пьяный в кожаных штанах, шатаясь, ковылял по тротуару и едва не наткнулся на тележку, с которой торговали крендельками. В воздухе был разлит запах пива, куда более густой, чем обычно, даже для Мюнхена. Ватага американских солдат вразвалку шагала по улице, по-хозяйски, самодовольно, напитывая воздух запахом сладкого виргинского табака. Военная форма на парнях чуть не лопалась, а их пьяный хохот раскатывался автоматными очередями. Где-то вдалеке духовой оркестр грянул «Марш старых товарищей», и один из солдат принялся отбивать чечетку. Мотив марша отлично подходил для выполнения моего плана.
— Чего это тут за суматоха? — проворчал я.
— Первый день Октоберфеста, — пояснил Штубер. — Праздник пива. Америкашек везде полно. Такси сейчас нарасхват, а я тут тебя раскатываю.
— За это с тобой расплатились. И весьма щедро.
— Да ладно, я не жалуюсь. Просто не так сказал. Буду их возить, когда освобожусь, вот что хотел сказать.
— А ты сначала думай, сынок, а потом уж со мной делись. — Мы доехали до церкви. — Сверни налево и притормози у боковой двери. А потом помоги мне выбраться из твоей ореховой скорлупки. Чувствую себя горошиной в уличной игре «Три карты».
— Ты, путаешь, Гюнтер, это игра в наперстки, для простаков, — поправил он. — Горошину накрывают одним из трех наперстков, а потом…
— Заткнись и открой дверцу, погонщик «жука».
Штубер остановил такси, выпрыгнул, обежал машину и распахнул дверцу. Меня утомило даже наблюдать за ним.
— Спасибо, — буркнул я и, как оголодавшая собака, втянул ноздрями воздух.
На рыночной площади жарили миндаль и разогревали крендельки. Еще один духовой оркестр заиграл польку. Танцевать меня что-то не тянуло, а хотелось мне под эту музыку одного — усесться в комфортное кресло и отдыхать. На праздничном лугу, в Терезиенвизе, веселье наверняка в полном разгаре. Пышногрудые девушки в широких сборчатых юбках демонстрируют, разнося по четыре пивные кружки в каждой руке, свою хорошую физическую подготовку. Идут парадом пивовары с надутыми от гордости, лоснящимися лицами. Ребятишки поедают имбирные пряничные сердечки. Толстые животы наполняются пивом: одни пьют, стараясь забыть о войне, а другие — пускаясь в сентиментальные воспоминания о ней.
Я войну помнил слишком хорошо. Особенно отчетливо — жуткое лето 1941-го. Вот почему я и очутился здесь. План «Барбаросса» — три миллиона немецких солдат, в том числе и я, и более трех тысяч танков одновременно двинулись через границу в Советский Союз. С мучительной отчетливостью вспоминался Минск. И Луцк. Я помнил все, что случилось там. Несмотря на все мои усилия, вряд ли мне удастся стереть из памяти те события.
Скорость продвижения удивляла нас не меньше, чем Поповых. Так мы называли в те дни Иванов.
21 июня 1941 года мы еще стояли на советской границе, страшась неизвестности, а уже через пять дней прошли — поразительно! — целых триста километров и очутились в Минске. Под массированным артиллерийским огнем, бомбежками и напором наших танков Красная армия терпела жестокие поражения, и многие из нас думали, что война уже закончена. Но русские продолжали сражаться, когда другие — французы, например, — уже давно бы сдались. Упорство русских объяснялось, по крайней мере частично, тем, что подразделения НКВД обуздывали всеобщую панику угрозами расстрела на месте. И солдаты знали: это не пустые угрозы, потому что всем конечно же было известно о судьбе, постигшей тысячи украинцев и поляков, политических заключенных в Минске, Львове, Золочеве, Дубно и Луцке. Вермахт с такой скоростью продвигался по Украине, что у отступающих Советов не хватало времени эвакуировать заключенных из тюрем НКВД. Но НКВД совсем не желал, чтобы, те попали в наши руки: ведь тогда они могли перейти на нашу сторону. А потому, прежде чем покинуть эти города, предоставив их судьбе, люди из НКВД поджигали тюрьмы — вместе с запертыми там заключенными. Хотя нет, не совсем так. Немцев они забирали с собой — видимо, намереваясь обменять их позднее на своих военнопленных. Но что-то у них не получилось. Позже мы обнаружили тех немцев в клеверном поле по дороге к Смоленску. Их раздели и расстреляли.
Я служил в резервном полицейском батальоне при 49-й армии. Нашей задачей было разыскивать карательные отряды НКВД и пресекать их деятельность. Разведка донесла, что отряды из Львова и Дубно ушли на север к Луцку, и в наших легких бронированных автофургонах и бронемашинах «Пума» мы попытались добраться туда, опередив их. Луцк — это маленький городок на реке Стырь с населением в семнадцать тысяч жителей. Там находилась резиденция епископа Римской католической церкви, что вряд ли вызывало особую симпатию у коммунистов. Прибыв туда, мы обнаружили, что почти все население собралось вокруг тюрьмы в тревоге о судьбе своих родственников-заключенных. Одно крыло тюрьмы уже вовсю пылало, но нам удалось бронемашинами свалить стену и спасти жизни более чем тысяче мужчин и женщин. Однако почти три тысячи других не дождались нас. Многих убили выстрелами в затылок. Других — гранатами, брошенными в окна камер. А большинство просто сгорели. Мне никогда, до конца дней своих, не забыть запаха горящей человеческой плоти.
Местные жители показали нам, в какую сторону ушел карательный отряд, и мы пустились в погоню. В бронированных автофургонах ехалосъ легко, укатанные проселочные дороги были не хуже бетонных. Скоро мы настигли их в местечке Голоби. Завязался бой. У них даже не хватило времени выбросить свои красные корочки, в которых к тому же — крайне некстати — имелись фотографии. Они не успели избавиться и от досье на убитых заключенных, а у одного даже найтись в кармане ключи от тюрьмы в Луцке. Мы захватили в плен двадцать восемь мужчин и двух женщин. Все — не старше двадцати пяти—двадцати шести лет. Самой молодой женщине было только девятнадцать. Было трудно представить, что эта привлекательная, славянского типа, с высокими скулами девушка принимала участие в массовом убийстве. Один из пленных говорил по-немецки, и я спросил его, зачем они это сделали. По сталинскому приказу, ответил он, и за невыполнение их самих бы расстреляли. Несколько моих солдат предложили забрать пленных с нами — повесить их потом в Минске. Но мне не нужна была лишняя обуза, и мы расстреляли всех, по четыре группы в семь человек, и двинулись дальше на север, к Минску.
В местечке Замосцъ, в Польше, я присоединился к 316-му батальону, пришедшему из Берлина. До этого 316-й и 322-й, с которыми мы действовали вместе, находились в Кракове. В то время, насколько мне было известно, полицейские батальоны не были замешаны в массовых казнях. Я знал, что многие из моих коллег — антисемиты, не все, конечно, но это никак не проявлялось, пока мы не вошли в Минск. Там я составил отчет и приложил два десятка удостоверений личности, которые мы конфисковали, перед тем как расстрелять их владельцев. Случилось это 7 июля.
Мой начальник, полковник СС Мундт, поздравил меня с успешной акцией, но объявил порицание за то, что мы не привезли с собой двух женщин: их следовало повесить тут. Оказывается, из Берлина поступил новый приказ: всех женщин из НКВД и партизанок следует вешать принародно в назидание жителям Минска.
По-русски Мундт говорил и читал лучше, чем я тогда. До его назначения в Специальную оперативную группу «Б» в Минске он служил в отделе по еврейскому вопросу Главного управления безопасности. Именно он и заметил кое-что насчет расстрелянных нами пленных энкавэдэшников. Но даже когда он прочитал вслух их имена, до меня не сразу дошло.
— Каган, — читал он, — Геллер, Залмович, Полонский. Ну что, еще не сообразили, оберштурмфюрер Гюнтер? Они же все евреи. Вы расстреляли еврейский карательный отряд НКВД. Это же доказывает, что фюрер прав: большевизм и иудаизм — два яда из одного флакона.
Но тогда я не придал этому особого значения. Я же не знал, когда мы расстреливали пленных, что все они — евреи. И убеждал себя: какая, в конце концов, разница, они же хладнокровно убили тысячи людей и заслуживали смерти. Но так было в то утро, 7 июля. А днем я уже стал смотреть на полицейскую акцию, которой командовал, иначе. Днем я услышал о «регистрации», в результате которой были выявлены и расстреляны две тысячи евреев. А на следующий день я присутствовал на «акции» карательного отряда СС под командованием молодого полицейского офицера, которого я знал еще по Берлину. Шестеро мужчин и женщин были расстреляны, и их тела брошены в братскую могилу, где уже лежало не меньше сотни трупов. Вот в эту минуту я и осознал истинную цель полицейских батальонов. В эту минуту моя жизнь переменилась навсегда.
Мне повезло, что генерал, командующий Специальной оперативной группой «Б», Артур Нёбе, был до войны профессиональным детективом и моим старым приятелем — он служил шефом Берлинской криминальной полиции. Я отправился к нему и попросил перевести меня в вермахт на передовую. Он поинтересовался причинами. Я объяснил, что если останусь здесь, то меня обязательно расстреляют за неподчинение приказу, это только вопрос времени. И добавил: одно дело расстрелять человека, потому что он член карательного отряда НКВД, и совсем другое — убивать кого-то только потому, что он — еврей. Нёбе мои рассуждения показались забавными.
— Но оберштурмфюрер Мундт сообщил мне, что люди, которых вы расстреляли, были евреями.
— Да, но расстрелял я их не потому — возразил я.
— В НКВД полно евреев, — заметил он. — Ты же это знаешь, правда? И если ты захватишь еще один карательный отряд, там тоже будут евреи. И что тогда?
Я молчал. Я не знал — что.
— Я знаю одно. Я хочу воевать, а не заниматься массовыми убийствами людей.
— Война есть война, — нетерпеливо бросил он. — Но, честно говоря, мы в России, пожалуй, откусим больше, чем сумеем проглотить. Нам необходимо победить здесь как можно скорее, если мы желаем обезопасить себя на зиму, что означает — сейчас не время для сантиментов. А вообще у нас с нашей собственной армией забот полно, нам не до пленных красноармейцев и местного населения. Можешь не сомневаться, задача нам предстоит трудная и для ее выполнения не каждый годится. Мне, Берни, и самому все это не по душе. Я ясно изложил?
— Яснее некуда. Но я предпочел бы стрелять в людей, которые в ответ тоже стреляют. Такой вот я странный.
— Ты слишком стар для передовой. Ты там и пяти минут не продержишься.
— И все-таки я рискну.
Нёбе смотрел на меня еще с минуту, а потом потер свой длинный хитрый нос. У него было типичное лицо полицейского: проницательное, но непроницаемое и как бы добродушное. До того дня я и не думал о нем как о нацисте. Мне было известно наверняка, что всего три года назад он участвовал в армейском заговоре с целью свергнуть Гитлера, как только Англия объявит войну Германии вслед за аннексией Судет. Но англичане в 1938-м войны, само собой, так и не начали. А Нёбе… что ж, он смог уцелеть в житейских бурях. К тому же в 1940-м, после того как Гитлер одержал победу над Францией всего за шесть недель, многие переменили о нем мнение. Эта победа показалась многим немцам неким чудом, даже тем, кто не любил Гитлера и всего, за что тот ратовал. Думаю, Нёбе тоже оказался в их числе.
Он мог бы приказать расстрелять меня, хотя я никогда не слышал, чтобы кого-то расстреляли за неповиновение так называемому «Приказу о комиссарах», ставшему лицензией на убийство гражданского населения на территории СССР. А мог бы отправить меня в штрафной батальон — были и такие. Но Нёбе командировал меня в разведотдел «Иностранные армии Востока» Гелена, там я провел несколько недель, приводя в порядок захваченные отчеты НКВД. А позже меня перевели снова в Берлин, в Бюро расследований военных преступлений. Я всегда считал, что это Нёбе сыграл со мной такую шутку, у него всегда было весьма своеобразное чувство юмора.
Я старался придумать всяческие оправдания тому, что произошло в Луцке. Я же не знал, что они евреи. Они же были убийцами — убили почти три тысячи человек, а может, и больше. И убивали бы политических заключенных и дальше, если б мы не расстреляли их.
Но в остатке всегда выходило одно.
Я расстрелял тридцать евреев. Тех заключенных они убили, чтобы предотвратить их сотрудничество с фашистскими оккупантами — что почти наверняка и произошло бы. Сталин действительно приказал завербовать большое количество евреев в НКВД, потому что знал: им есть за что ненавидеть немцев и они будут хорошими солдатами. Я же принял участие в самом крупном преступлении в истории.
И я ненавидел себя за это. Но еще больше я ненавидел СС, за то что невольно стал соучастником проводимого ими геноцида. Никто лучше меня не знал, что творилось от имени Германии. И такова была настоящая причина, почему я шел в эту церковь, задумав убийство. Не только из-за того, что был зверски избит и лишился мизинца, а из-за чего-то гораздо более значительного. Побои всего лишь заставили меня очнуться, осознать до конца, кто эти люди и что они сотворили. Не только с миллионами евреев, но и с миллионами немцев, таких же, как я. Со мной лично. Вот за такое стоило убить.
21
Я сидел в проходе построенной в пятнадцатом столетии церкви Святого Духа рядом с исповедальней, ожидая, пока она освободится. Я почти не сомневался: Готовина там, потому что двое других священников, которых я видел в первое свое посещение, находились сейчас в поле моего зрения. Один, по виду очень мягкий, отзывчивый, тихонько беседовал, с сострадательной улыбкой кивая, с крупной, похожей на торговку женщиной у парадной двери. Второй, чахлого сложения, с темными волосами и усиками сутенера, прихрамывая, шел к главному алтарю, опираясь на трость с серебряным набалдашником.
В церкви удушающе пахло ладаном, свежеструганой древесиной и строительным раствором. Человек с повязкой на глазу пытался настраивать орган, но, наблюдая за ним, я проникался уверенностью: он попусту теряет время. Рядов за шесть-семь впереди меня в молитве преклонила колени женщина. Яркий свет лился через высокие арочные окна, над ними светились круглые маленькие оконца. Потолок напоминал крышку на коробке с бисквитом, разукрашенную всякими финтифлюшками. Кто-то подвинул стул, и в пещерной гулкости церкви резкий звук отдался возмущенным трубным ревом осла. Теперь, когда я как следует рассмотрел главный алтарь, сооруженный из черного мрамора, позолоченный, он напомнил мне роскошную гондолу венецианского гробовщика.
«Бычья кровь» понемножку выветривалась из моей головы. Мне уже хотелось прилечь отдохнуть. Полированная деревянная скамья, на которой я сидел, стала казаться такой удобной и соблазнительной. Но тут зеленая занавеска в исповедальне дрогнула и отодвинулась: появилась привлекательная женщина лет тридцати. В руке она держала четки, перекрестилась довольно небрежно — так мне показалось. Облегающее красное платье подчеркивало красоту ее фигуры, и было легко понять, отчего она провела в исповедальне так много времени. Судя по ее внешности, задержалась она не из-за каких-то мелких грешков; такая была создана определенно лишь для одного смертного греха, и он вопиет к самым небесам, стоит вам дотронуться до нее в правильных местечках. Прикрыв на миг глаза, красавица сделала глубокий вдох, отчего мое либидо подскочило к самому верху колонн рококо, а оттуда снова ухнуло вниз. Алые перчатки на ней были в тон сумочке; сумочка в тон туфлям; туфли в тон губной помаде, а губная помада алела, как вуаль на маленькой шляпке, украшавшей, как ей и полагалось, голову женщины. Алый, безусловно, был ее цвет. Красавица выглядела живым воплощением некоего слова, своего рода квинтэссенцией его, и слово это было — секс. Глядя на нее, вы говорили себе, что Книга Откровения — название очень удачное. Красавицей в алом была Бритта Варцок.
Меня она не заметила. Ни единым жестом она не выказала никакого раскаяния — крутанулась на каблучках-шпильках и быстро зацокала к выходу из церкви. На мгновение я остолбенел. Будь я удивлен меньше, то успел бы заскочить в исповедальню и вышибить мозги отцу Готовине. Но, пока я опомнился, священник уже вышел оттуда и направился к алтарю. Перекинувшись парой слов с чахлым священником, он исчез в глубине церкви за дверью.
Он тоже меня не заметил. Может, пройти следом за священником-хорватом в ризницу, мелькнуло у меня, и убить его там? Однако теперь возникли вопросы, на которые нужно бы добиться от него ответов, а на это меня не хватит. Вопросы о Бритте Варцок. Но сначала следует набраться сил, да и ситуацию не мешает толком обдумать.
Подхватив сумку с инструментами, я медленно зашаркал к выходу. Прохладный воздух немного взбодрил меня. На церковной башне часы отбили полчаса. С трудом выбравшись из церкви, я прислонился к девушке, украшавшей афишную тумбу и жизнерадостно рекламирующей крем «Нивея». Для смягчения моей ожесточившейся души потребовалась бы целая банка «Нивеи», не меньше. А еще лучше — сама эта девушка.
Бойко подкатил «жук» Штубера. На мгновение мне показалось: сейчас машина переедет меня. Но Штубер резко тормознул и, перегнувшись через пассажирское сиденье, распахнул дверцу. Я недоумевал — чего это он так торопится? Но тут же сообразил: ведет он себя исходя из предположения, что я убил в церкви человека. Я взялся за дверцу.
— Все нормально, — заверил я. — Спешки никакой. Я ничего не сделал.
Тогда Штубер спокойно вылез, помог мне забраться в машину, будто я был его старой мамочкой, и, благополучно загрузив мои мощи, прикурил для меня сигарету. Очутившись на водительском месте, он резко газанул на холостом ходу, переждал, пока проедет небольшая группка велосипедистов, и помчался стрелой.
— А чего ж ты передумал-то? — поинтересовался он.
— Из-за женщины.
— Для того они и созданы, я полагаю. Наверное, она была послана Богом.
— Только не эта. — Я затянулся сигаретой и поморщился, когда ее жар опалил мой свежий шрам. — Кто именно ее послал, понятия не имею, но твердо намерен выяснить.
— Таинственная незнакомка, да? Симпатичная?
— Носит тогу, живет в храме, обожает амброзию и человеческие жертвоприношения.
— Такие хуже всех, — с видом знатока сказал Штубер. — Знаешь, у меня есть теория, что любовь — это всего лишь временная форма душевной болезни. Как только поймешь это, так сумеешь ее побороть, вылечиться.
Штубер завел историйку про одну свою подружку, которая паршиво с ним обошлась, и я отключился, задумавшись о Бритте Варцок.
Какая-то частичка мозга пыталась убедить меня: возможно, она все-таки лучшая католичка, чем я ее считал. Тогда ее встреча с отцом Готовиной — простое совпадение, и только. Может, она и вправду пришла на исповедь, может, была честной со мной. Минуту-другую я прислушивался к себе, а потом отмел все придуманные доводы: их породила та самая частичка моих мозгов, которая до сих пор идеализировала человека. Спасибо тебе пребольшое, Адольф Гитлер, теперь нам всем известно, чего стоит такой идеализм.
22
Шли дни, мне становилось лучше. Подоспел и уик-энд, когда доктор Хенкель сказал, что я уже могу отправиться в поездку. У него был новенький, цвета бордо, «мерседес», четырехдверный седан; он им очень гордился. Доктор позволил мне сесть сзади, чтобы мне было удобнее ехать — до Гармиш-Партенкирхена было почти сто километров. Из Мюнхена мы выехали по автобану номер два, тщательно продуманному и отлично построенному шоссе, проходившему через Штарнберг, там я рассказал Хенкелю о бароне, фамилия которого дала название городку, и о сказочном доме, где тот жил, о «майбах-цеппелине», на котором он ездил в магазины делать покупки. И так как доктор обожал машины, то заодно рассказал ему и про дочь барона Хелен Элизабет и ее «порше-356».
— Машина недурная, — заметил Хенкель, — но я предпочитаю «мерседесы». — И стал рассказывать мне о других машинах, стоявших в его гараже в Рамерсдорфе. Там же приютилась и моя «ганза», которую Хенкель любезно пригнал со стоянки, где бедняжка осталась в тот вечер, когда меня захватили «товарищи».
— Машины — мое хобби, — признался он по дороге, — как и горы. Я взбирался на все самые высокие пики в Альпах.
— И на Цугшпитце? — Ради Цугшпитце, самой высокой горы в Германии, большинство туристов и ездили в Гармиш-Партенкирхен.
— Подумаешь, высота! — фыркнул он. — Так, прогулочка. Ты и сам на нее сумеешь забраться через пару недель. — Доктор покачал головой. — Однако всерьез меня интересует только тропическая медицина. В Партенкирхене имеется небольшая лаборатория, там янки разрешают мне работать. Я в довольно дружеских отношениях с одним американцем, старшим офицером. Он пару раз на неделе приходит играть в шахматы с Эриком. Тебе он понравится. Прекрасно говорит на немецком и чертовски хороший шахматист.
— А как вы познакомились?
— Я был его пленным! — рассмеялся Хенкель. — В Партенкирхене был лагерь военнопленных, я руководил там госпиталем. А лаборатория принадлежала госпиталю. У янки конечно же имелся собственный врач. Человек вполне симпатичный, но он умел только давать таблетки. А если требовалось хирургическое вмешательство, то обращались ко мне.
— Как-то немножко странно заниматься тропической медициной в Альпах.
— Напротив, — возразил Хенкель, — видишь ли, воздух тут очень сухой и чистый. И вода тоже чистая, что делает Альпы идеальным местом: нет опасности загрязнения образцов.
— Да, вы человек с широким кругом интересов.
Мои слова ему, похоже, понравились.
Вскоре дорога пошла через болота, и через некоторое время показался Гармиш-Партенкирхен, и мы наконец увидели Цугшпитце. Так как родился я в Берлине, то горы недолюбливал, особенно Альпы. Они всегда казались мне какими-то оплывшими, будто кто-то по небрежности передержал их на солнце.
Через три километра уши мне заложило, и мы очутились в Зонненбихле, уже совсем рядом с Гармишем.
— Самая активная жизнь, конечно, в Гармише, — сказал Хенкель. — Там и все олимпийские сооружения, остались еще с тысяча девятьсот тридцать шестого года, есть отели — правда, большинство реквизировано янки, пара боулингов, офицерский клуб, несколько баров и ресторанов. Альпийский театр и станции фуникулеров на Ванк и Цугшпитце. Почти все находится под контролем Третьей армии США. Янки здесь нравится. Они сюда со всей Германии приезжают для — как они называют — «ВР», восстановления и развлечения. Играют в теннис, гольф, соревнуются в стендовой стрельбе, а зимой катаются на коньках и лыжах. На каток в Винтергарте стоит посмотреть. Местные девушки очень дружелюбны, а в двух из четырех кинотеатров даже крутят американские фильмы. Так почему бы янки и не любить такое местечко? Многие американцы живут в США в городках, которые ничем не отличаются от Гармиш-Партенкирхена.
— Есть только одно отличие, — заметил я, — их городки не заняты армией оккупантов.
Хенкель пожал плечами:
— Ну не такие уж янки и плохие, когда узнаешь их поближе.
— Восточноевропейские овчарки тоже, — кисло возразил я. — Но я бы не хотел, чтоб такая овчарка бегала по моему дому весь день.
— Ну вот и приехали! — объявил Хенкель, сворачивая с главной дороги на гравиевую, подъездную, бежавшую между двух групп величественных сосен, а потом через пустое зеленое поле, на границе которого высился трехэтажный деревянный дом с крышей крутой, как знаменитый девяностометровый гармишский лыжный трамплин. Первое, что бросалось в глаза, — большой герб на стене дома: золотой с черным щит, на котором изображены луна на ущербе, пушка с ядрами и ворон. Я расшифровал для себя герб так: рыцарь, от которого Хенкель происходил, развлекался на всю катушку, стрелял из пушки в ворон при свете серебристой луны. Под этой живописной ерундистикой вился какой-то девиз по-латыни. Дом стоял на границе поля, круто спускающегося в долину, что открывало перед его обитателями великолепнейший вид. Ничто не мешало любоваться им, ну, может, только изредка облачко-другое да порой случайная радуга.
— Наверное, ваша семья никогда не страдала боязнью высоты, — заметил я. Да и от нищеты не страдала тоже, тянуло меня добавить.
— Вид роскошный, верно? — Хенкель притормозил у парадной двери. — Никогда не устаю любоваться им.
Над дверью, массивной, словно позаимствованной из жилища бога Одина, красовался уменьшенный вариант герба. Дверь распахнулась, и за ней обнаружился человек в инвалидном кресле: колени ему прикрывал плед, а у плеча стояла медсестра в форме. Медсестра показалась мне потеплее пледа, и я инстинктивно угадал, кого из них предпочел бы иметь на коленях. Да, я явно шел на поправку.
Человек в коляске был крупного телосложения, с длинными светлыми волосами и бородой, какую человек прицепил бы для важного разговора с Моисеем. Нафабренные усы перерезали лицо, как крестовина у палаша. На нем были синяя замшевая куртка с роговыми пуговицами, рубашка с отложным воротником и на шее цепочка из кусочков рога, олова и жемчужин. А на ногах дорогие черные туфли на высоком каблуке и с торчащим языком. Такие надевают, когда желают перещеголять человека в кожаных шортах. Вересковая трубка, которую он курил, издавала острый запах ванили, напоминавший запах пригоревшего мороженого. А в общем, похож он был на Альпа — дядюшку девочки Хайди.[16]
Медсестра, стоявшая у инвалидной коляски, — вылитая старшая сестричка этой девочки. В розовой по колено широкой юбке в сборку, белой блузке с низким вырезом и короткими рукавчиками-фонариками, в белом хлопковом фартуке, кружевных гольфах и туфлях таких же уместных, как на ее подопечном. Я догадался, что она медсестра, потому что на блузке у нее были прикреплены часики вверх ногами, а на голове красовалась белая шапочка. Блондинка, но не солнечно-сияющая или золотистая, а загадочная, таинственная, печальная; на такую можно наткнуться на поляне, когда она заблудилась в густом лесу. Чуть капризно выгнутые губы, глаза цвета лаванды. Я как мог старался не пялиться на ее грудь. Стараться-то я старался, но она будто пела мне, присев на скалу на реке Рейн, а я вел себя как бедный глупый моряк, зачарованный музыкой. Все женщины по натуре своей — медсестры. Нянчиться с кем-то заложено в них природой. Одни больше похожи на медсестер, другие — меньше. А некоторые умудряются пользоваться обликом медсестры как самой большой хитростью Далилы. Медсестра в доме Хенкеля как раз к последнему типу и принадлежала. Впрочем, на ней и моя старая потрепанная армейская шинель смотрелась бы роскошным вечерним платьем.
Хенкель заметил, как я облизываю губы, и ухмыльнулся, помогая мне выбраться из «мерседеса»:
— Я же говорил, тебе тут понравится.
— Мне нравится, что ты оказался прав.
Мы вошли, и Хенкель познакомил меня с ними. Человека в инвалидном кресле звали Эрик Груэн. А имя медсестры было Энгельбертина Цехнер. Имя ей очень подходило, ведь Энгельбертина означает — светлый ангел. Оба при виде меня оживились. Еще бы, дом-то совсем не из тех, куда гости то и дело заскакивают ненароком. Разве что с парашютом кто спрыгнет. Так что, возможно, они просто обрадовались новому человеку. Даже если человек этот довольно-таки замкнутый. Мы обменялись рукопожатиями. У Груэна рука была мягкой и влажноватой, словно он почему-то нервничал. А ладонь Энгельбертины оказалась твердой и шершавой, как наждак; это меня удивило, и я подумал, что работа частных медсестер имеет свои неприятные стороны. Я присел на широкую, удобную тахту и испустил глубокий блаженный вздох.
— Поездочка была долгой, — заметил я, озираясь в огромной гостиной.
Энгельбертина уже взбивала подушку у меня за спиной, и я заметил татуировку на ее левой руке, почти под мышкой. Вот, пожалуй, и объяснение, отчего руки у нее стали такими жесткими и грубыми. Сдается мне, что ожесточилась и она сама. Но пока что я выбросил всякие глупые мысли из головы, к тому же на кухне готовилось что-то вкусное, и впервые за много недель я почувствовал, что хочу есть. В дверях появилась еще одна женщина. Тоже привлекательная, но не похожая на ангела: средних лет, крупная и слегка увядшая. Эту звали Райна, и она служила в доме кухаркой.
— Герр Гюнтер — частный детектив, — сообщил Хенкель.
— Это, наверное, очень интересная работа, — откликнулся Груэн.
— Когда становится интересно, то обычно самая пора хвататься за пистолет, — сказал я.
— Как, любопытно, человек приходит к такой работе? — поинтересовался Груэн, снова раскуривая трубку. Энгельбертине дым, похоже, не нравился, она отгоняла его от лица ладонью. Груэн на нее никакого внимания не обращал, а я сделал мысленную пометку не курить в доме, лучше на улице.
— Раньше, до войны, я служил в Берлине, — объяснил я, — детективом в КРИПО.
— А вы когда-нибудь поймали убийцу? — вступила в разговор Энгельбертина.
Обычно я отмахиваюсь от таких вопросов, но на эту женщину мне хотелось произвести впечатление.
— Один раз. Поймал душителя по фамилии Горман.
— Я помню этот случай, — покивал Груэн. — Шумное было дело.
— Ну, это было давно.
— Знаешь, Энгельбертина, нам следует вести себя поосторожнее, — заметил Груэн. — Не то герр Гюнтер вызнает все наши маленькие грязные секреты. Наверное, он уже начал приглядываться к нам.
— Не волнуйтесь, — успокоил я его. — На самом деле я никогда не был особо хорошим полицейским. У меня всегда были проблемы с начальством.
— Как-то это не по-немецки, старина, — высказался Груэн.
— Ну да, потому-то я и угодил в госпиталь. Меня остерегли, чтоб я бросил дело, над которым я работаю. Но предупреждение не подействовало.
— Вы, наверное, очень наблюдательный, — сказала Энгельбертина.
— Тогда бы я не допустил, чтоб меня избили, — возразил я.
— Это вы верно говорите, — согласился Груэн.
Они с Энгельбертиной принялись обсуждать свой любимый детективный рассказ, что стало для меня сигналом отключиться ненадолго: детективные истории я терпеть не могу. Я оглядел окружающую обстановку: шторы в красно-белую клетку, зеленые ставни, крашенные от руки шкафчики, пушистые меховые ковры, двухсотлетние дубовые балки, огромный камин, картины с цветами и виноградными лозами и — это уж в каждом альпийском доме непременно — старая упряжь. Зал огромный, но я все равно чувствовал себя здесь уютно, как ломтик хлеба в тостере.
Подали ланч. Я поел с удовольствием. Съел больше, чем, мне казалось, я одолею. Потом поспал в кресле. А проснувшись, увидел, что мы с Груэном остались одни. Похоже, он сидит тут уже некоторое время и смотрит на меня каким-то странным взглядом — я посчитал, что ситуация требует объяснений:
— Для вас, герр Груэн, тоже требуется провести расследование?
— Нет-нет, — заверил он. — И, пожалуйста, называйте меня Эрик. — Он откатил инвалидную коляску чуть назад. — У меня просто возникло чувство, будто мы уже встречались прежде. Ваше лицо кажется мне знакомым.
— Уж такое, наверное, у меня лицо, — пожал я плечами. И мне вспомнился американец, навестивший мой отель в Дахау. Тот тоже сказал нечто похожее. — Удачно, что я стал полицейским, — прибавил я. — Не то из-за моей физиономии меня вечно арестовывали бы за то, чего я не совершал. Вместо кого-то другого.
— Вам в Вене доводилось бывать? — поинтересовался он. — Или в Бремене?
— В Вене да. А в Бремене нет, никогда.
— Бремен… Неинтересный городишко. Совсем не похож на Берлин.
— В наши дни в Берлине интереснее всего, — поддержал я разговор. — Вот почему я и не живу там. Слишком опасно. Если и случится новая война, то начнется она в Берлине.
— Но вряд ли там опаснее, чем в Мюнхене. Для вас, я имею в виду. По словам Генриха, бандиты вас чуть не убили.
— Чуть — это да, — подтвердил я. — А где, кстати, доктор Хенкель?
— В лабораторию уехал, в Партенкирхен. До обеда мы его уж точно не увидим. А может, и к обеду не вернется. Теперь, когда вы тут, герр Гюнтер…
— Берни, пожалуйста.
Он вежливо наклонил голову:
— Я хочу сказать, теперь он уже не чувствует себя обязанным обедать со мной, как обычно. — Перегнувшись, он взял мою руку и дружелюбно пожал. — Я так рад, что ты здесь. Иногда мне тут так одиноко.
— Но у тебя же есть Райна и Энгельбертина. Так что не проси меня жалеть тебя.
— О, они обе, конечно, очень милые. Не пойми меня неправильно. Если бы Энгельбертина не заботилась обо мне, я бы совсем пропал. Но для разговора мужчине нужен другой мужчина. К тому же Райна все время на кухне — держится обособленно. А из Энгельбертины собеседница не бог весть какая. И смею заметить, в этом нет ничего удивительного. Бедняжке выпала тяжелая жизнь. Думаю, в свое время она сама тебе все расскажет.
Я кивнул, вспомнив номер, вытатуированный на руке Энгельбертины. За исключением Эриха Кауфмана, еврейского адвоката, который поручил мне первое дело в Мюнхене, больше я ни разу не встречал еврея, побывавшего в лагере смертников. Ведь большинство узников погибли, а уцелевшие уехали в Израиль или Америку. И про лагерные номера я знал только потому, что прочитал статью в журнале. Я еще подумал тогда: такую татуировку еврей может носить даже с гордостью. Свой номер эсэсовца я удалил весьма болезненно, с помощью зажигалки.
— Она еврейка? — спросил я. Я не знал, еврейская ли фамилия Цехнер, но по-другому объяснить происхождение синих цифр у нее на руке не мог.
Груэн кивнул:
— Была заключенной в Аушвиц-Биркенау. Это был один из самых страшных лагерей. Он находился под Краковом, в Польше.
Брови у меня поползли на лоб.
— А она знает? Про тебя, про Генриха? И про меня? Что все мы служили в СС?
— А как ты думаешь?
— Думаю, если б знала, то села бы на первый же поезд и укатила в лагерь для перемещенных лиц в Ландсберг. А оттуда первым же пароходом в Израиль. С какой бы стати ей оставаться тут? — Я покачал головой. — Вряд ли мне все-таки здесь понравится.
— Ну, так вот тебе сюрприз! — почти гордо заявил Груэн. — Она знает! Про меня и Генриха, во всяком случае. И более того, ей все равно.
— Но, господи боже, как же так? Не понимаю…
— Видишь ли, после войны, — объяснил Груэн, — она приняла католичество и теперь верит во всепрощение. И в работу, которая ведется в лаборатории. — Эрик нахмурился. — Да не смотри ты, Берни, так удивленно. Не она первая, таких довольно много. Евреи были, если помнишь, первыми христианами. Но вот за то, что она сумела преодолеть все, случившееся с ней, — он в изумлении покачал головой, — я по-настоящему ею восхищаюсь.
— Трудно не восхищаться, когда видишь такую красавицу.
— Это правда. И понимает, что все безумие осталось в прошлом.
— Меня тоже пытаются в этом убедить.
— Прости и забудь — так говорит Энгельбертина.
— Любопытная штука прощение, — обронил я. — Кое-кто ведет себя так, будто сожалеет, что существуют шансы на истинное прощение.
— Все в Германии сожалеют о том, что произошло, — заметил Груэн. — В это ты хотя бы веришь?
— Само собой, мы сожалеем. А как же! Сожалеем, что нас победили. Сожалеем, что наши города превратились в руины, а страна оккупирована армиями четырех стран. Сожалеем, что наших солдат обвиняют в военных преступлениях и сажают в тюрьму в Ландсберге. Сожалеем мы, Эрик, о том, что проиграли. А больше — ни о чем. И никаких свидетельств обратному я не вижу.
— Может, ты и прав, — вздохнул Груэн.
— Да ладно, — огрызнулся я, — не старайся из вежливости со мной соглашаться. Ведь по правде — откуда мне-то, черт побери, знать? Я всего-навсего детектив.
— Будет тебе, — улыбнулся он. — Тебе ведь полагается знать, кто совершил преступление? И ты наверняка угадываешь, так?
— Люди не желают, чтобы полицейские оказывались правы, — возразил я. — Они хотят, чтобы правым был священник. Или правительство. Ну пусть хоть адвокат. Это только в книгах люди хотят, чтобы правы были копы. А в жизни почти всегда предпочитают, чтобы мы во всем ошибались. Тогда, думаю, они испытывают чувство превосходства. И кроме того, Германия покончила с теми, кто всегда прав. Сейчас нам требуется парочка честных ошибок.
Вид у Груэна стал несчастным. Я улыбнулся:
— Эрик, черт побери, ты же сам сказал, что соскучился по настоящим разговорам. Ну вот и дождался!
23
Мы неплохо ладили, Груэн и я. Спустя короткое время он мне даже стал нравиться. Уже много лет у меня не было никаких друзей. Еще и из-за этого я скучал по Кирстен. Она долго была моим лучшим другом, а не только женой и любовницей. До наших бесед с Груэном я даже не понимал, как сильно мне недостает друга. Было что-то в этом человеке, что импонировало мне. Может быть, то, что он, прикованный к инвалидной коляске, все-таки сохранял бодрость духа; бодрее меня, во всяком случае, он был точно. Хотя это в общем-то нетрудно. А может, мне нравилось то, что он всегда находился в хорошем настроении, хотя со здоровьем у него была беда: случались дни, когда ему бывало так худо, что он даже с кровати встать не мог, и тогда я оставался наедине с Энгельбертиной. Изредка, когда он чувствовал себя достаточно хорошо, он ездил с Хенкелем в лабораторию в Партенкирхен. До войны Груэн был врачом, и ему доставляло удовольствие помогать Хенкелю. В таких случаях я тоже оставался вдвоем с Энгельбертиной.
Когда мне стало получше, я начал вывозить Груэна на прогулки: катал его с часок по саду взад-вперед. Хенкель оказался прав: для поправки моего здоровья Мёнх оказался местом лучше некуда. Воздух тут был свеж, как утренняя роса на горечавках, а зрелище, открывавшееся на гору и долину, постепенно размягчало мое сердце. В альпийских лугах жизнь стала представляться мне гораздо приятнее, чем раньше, тем более что и дом, и условия были тут по высшему разряду.
Как-то, когда мы прогуливались по тропинке, отлого спускавшейся по склону горы, я поймал пристальный взгляд Груэна, устремленный на мою руку, лежавшую на подлокотнике его кресла.
— Надо же, а я только сейчас заметил… — проговорил он.
— Что?
— У тебя же нет мизинца.
— Вообще-то один есть, — возразил я. — Но было время, когда имелось два. По одному на каждой руке.
— Еще детектив называется, — проворчал Эрик, подняв левую руку и показывая, что и у него тоже мизинец отсутствует. В точности как у меня. — Вот тебе и твоя наблюдательность. Знаешь, я уже начинаю сомневаться, друг мой, что ты вообще работал детективом. А если ты им и был, то вряд ли таким уж замечательным. Как там говорил Шерлок Холмс доктору Ватсону? Ты смотришь, но не видишь. — Ухмыльнувшись, Груэн подкрутил кончик уса, явно наслаждаясь моим удивлением и минутным замешательством.
— Что за чушь ты несешь! — заспорил я. — Ты сам знаешь, что не прав. Ведь я для того сюда и приехал, чтобы отключиться на какое-то время от прежней жизни. Что я и стараюсь делать.
— Пустые отговорки, Гюнтер. Сейчас ты скажешь, что болен, или еще какую-нибудь чепуховину выдумаешь. Например: ты не заметил, что у меня нет мизинца, оттого что после побоев у тебя отошла сетчатка глаза. И потому же не замечаешь, что Энгельбертина немного влюблена в тебя.
— Что? — Я остановил коляску, стукнув по тормозу, и обошел Груэна спереди.
— Ну да, это же бросается в глаза. — Он улыбнулся. — А еще называешь себя детективом.
— Про что это ты — влюблена?
— Я не говорю — безумно. Я говорю — немного. — Вытащив трубку, Эрик принялся набивать ее. — Нет, ничего такого она не говорила. Но ведь я хорошо ее знаю. Достаточно хорошо, чтобы понимать: влюбиться так, немного — вот и все, на что способна бедная женщина. — Груэн похлопал себя по карманам. — Кажется, забыл спички. У тебя нет с собой?
— Чем докажешь? — Я кинул ему коробок.
— Теперь уже поздно изображать из себя настоящего детектива! — хохотнул он. — Твоей репутации нанесен непоправимый ущерб. — Он истратил две спички, пока ему удалось раскурить трубку, и он перебросил коробок мне обратно. — Доказательства? Ну, не знаю. То, как она смотрит на тебя. Когда Энгельбертина видит тебя, дружище, ее глаза неотступно следуют за тобой. А когда говорит с тобой, то без конца поправляет волосы. А стоит тебе уйти из комнаты, тут же закусывает губу, как будто ей тебя уже не хватает. Поверь мне, Берни, признаки мне известны. Есть две вещи в жизни, на какие у меня особое чутье. Резиновые шины и любовные романы. Хочешь верь, хочешь нет, но я был великим ходоком. Сейчас я, конечно, в инвалидной коляске, но в женщинах разбираюсь по-прежнему недурно. — Пыхнув трубкой, Эрик ухмыльнулся мне. — Не сомневайся, она немного влюблена в тебя. Изумлен, да? Признаться, я и сам удивляюсь. Удивляюсь и немного, могу признаться, ревную. Но что поделать, ошибка весьма распространенная: всегда предполагаешь, раз девушка хороша собой, то и вкус в выборе мужчин у нее хорош.
Я расхохотался:
— Она, пожалуй, и влюбилась бы в тебя, не красуйся у тебя на физиономии проволочная мочалка.
Эрик смущенно потеребил бороду.
— Считаешь, мне следует избавиться от нее?
— Будь я на твоем месте, то сунул бы ее в мешок, добавил парочку камней поувесистее и поискал хорошую глубокую речку. Чтоб сразу избавить беднягу от мучений.
— Но мне нравится моя борода, — заспорил он. — Я так долго ее отращивал.
— Призовую тыкву выращивать тоже долго. Но ее же не тащат с собой в постель.
— Наверное, ты прав, — как всегда добродушно уступил он. — Хотя могу назвать причины и поважнее, чем борода, отчего Энгельбертина не заинтересовалась мной. В войну я потерял способность пользоваться не только ногами.
— А как все произошло?
— Особо тут рассказывать нечего. Правда. Нужно только знать, как действует бронебойный снаряд. Никаких разрывных зарядов. Он пробивает броню танка, а потом уже прыгает внутри, как резиновый мяч, убивая и калеча все, обо что ударяется, пока не иссякнет энергия. Просто, но очень эффективно. Я единственный, кто выжил в моем танке. Хотя тогда это было трудно заметить. Жизнь мне спас Генрих. Если б он не был врачом, то меня тут не было бы.
— А как вы познакомились?
— Мы знали друг друга еще до войны, — ответил он. — Встретились в медицинском колледже во Франкфурте в тысяча девятьсот двадцать восьмом. Мне полагалось бы учиться в Вене, где я родился, но случилось так, что мне пришлось спешно оттуда уехать. Была одна девушка, я бросил ее в интересном положении. Ну, понимаешь, как это бывает. Эпизод, боюсь, довольно-таки постыдный. Но ведь всякое случается, правда? После окончания колледжа я получил работу в госпитале в Западной Африке, поработал там немного. Потом — Бремен. А когда началась война, нас с Генрихом перестало занимать спасение жизней людей. И мы вступили в Ваффен СС. Генриха интересовали танки — его интересует все, у чего есть мотор. А я увязался за компанию, так сказать. Родители не очень-то обрадовались, что я выбрал военную службу. Им не нравился ни Гитлер, ни нацизм. Сейчас отец уже умер, а мать со мной не разговаривает с самой войны. Ну, в общем, для нас с Генрихом все шло хорошо до тех пор, пока меня не ранило. Вот и вся моя история. Ни медалей у меня, ни славы. Но попрошу без жалости, с твоего позволения. Если честно, досталось мне по заслугам. Однажды я поступил дурно. И я не про девушку. Я про службу в СС, про то, как мы пронеслись через Францию и Голландию, убивая людей, когда нам взбредет в голову.
— Все мы совершали поступки, которыми не можем гордиться, — тихо сказал я.
— Может, и так. Иногда мне даже трудно поверить, что подобное вообще происходило.
— В этом и разница между войной и миром, вот и все. На войне убийства представляются уместными и вполне обычными. А в мирное время все по-другому. В мирное время человек беспокоится, как бы после убийства на ковре не осталось жуткого грязного пятна. Беспокойство из-за грязи на ковре и возможных последствий убийства — и есть единственная реальная разница между войной и миром. — Я схватился за сигарету. — Еще не Толстой, но я буду оттачивать свой афоризм и дальше.
— А мне нравится, — одобрил Эрик. — Хотя бы потому, что гораздо короче, чем у Толстого. Последнее время я засыпаю, если читаю что-то длиннее автобусного билета. Ты мне нравишься, Берни. А потому я даже дам тебе хороший совет насчет Энгельбертины.
— Ты, Эрик, мне тоже нравишься. Но ни к чему советовать мне держаться от нее подальше потому, что ты относишься к ней, как к сестре. Хочешь верь, хочешь нет, но я не из тех, кто пользуется случаем.
— В том-то и дело, — сказал он. — Ты не мог бы использовать Энгельбертину, даже будь твое имя Свенгали,[17] а она рвалась бы петь в отеле «Реджина Палас». Нет, если кто и воспользуется случаем, так это она. Поверь мне. Это тебе следует соблюдать осторожность. Она будет играть на тебе, как на «Стейнвее», стоит тебе пустить ее на краешек вертящегося стула у рояля. Иногда, когда на тебе играют, это даже развлекает. Но только в том случае, если тебе про эту игру известно, и ты ничего не имеешь против. Говорю я тебе все это только затем, чтоб ты не слишком увлекся ею. И запомни: девушка не из тех, на ком женятся. — Эрик вынул изо рта трубку и задумчиво оглядел чашечку. Я опять кинул ему спички. — Энгельбертина уже замужем.
— Уловил. Ее муж сгинул с концами в каком-то лагере.
— Нет. Вовсе нет. Он — американский солдат. Энгельбертина вышла за него замуж, а вскоре он испарился. Скорее всего дезертировал. И от нее, и из армии. Сущее безобразие, если ты допустишь, чтобы она оболванила тебя и навязалась в клиентки, поручив тебе разыскивать ее мужа. Он парень никчемный, и лучше, чтоб так и оставался в пропавших. Лучше для всех.
— Но это уж ее дело, верно? Она большая девочка.
— Да, вижу, это ты заметил, — поддразнил Эрик. — Поступай как знаешь, легавый. Только не жалуйся потом, что я тебя не предупреждал.
Щелчком отбросив сигарету, я ударил по тормозу на коляске.
— Не переживай, — бросил я ему. — Я покончил со всеми блондинками и исчезнувшими мужьями. И мизинец-то свой я потерял из-за розысков пропавшего мужа. А я таким методам обучения поддаюсь легко. Как собака Павлова. Пусть какая-нибудь домохозяйка только намекнет, что ее старик припозднился после карточной игры и не могу ли я отправиться поискать его, как я тут же кинусь надевать железные рукавицы, обряжаться в доспехи. — Я покачал головой. — Я старею, Эрик. И уже не подскакиваю так высоко, как прежде, после того как меня изобьют.
Я покатил Груэна обратно в дом. Он устал и сразу отправился в постель, а я прошел к себе в комнату. Через минуту раздался стук в дверь. Энгельбертина. В руке она держала пистолет. Маузер. Предназначенный для стрельбы по дичи, покрупнее мышей. К счастью, не направленный на меня.
— Подумала, может, ты спрячешь его… — начала она.
— Только не говори, что убила кого-то.
— Нет, но боюсь, что Эрик может убить себя. Понимаешь, это его пистолет. Иногда Эрик впадает в депрессию, и мне кажется, бывает готов покончить с собой. Я решила, лучше спрятать оружие где-нибудь в безопасном месте.
— Большая штуковина. — Я забрал у нее пистолет и проверил, стоит ли он на предохранителе. Нет, не стоит. Я нажал на предохранитель. — Эрик и сам может позаботиться о своем оружии. Да и не производит он впечатление человека, способного на самоубийство.
— Это все напускное! — возразила Энгельбертина. — Вся эта его жизнерадостность. Он совсем не такой. Я хотела выбросить пистолет, но потом подумала, нет, нельзя. Кто-то может найти, и произойдет несчастный случай. И еще подумала, ты ведь детектив и сумеешь разобраться, как поступить правильно. — Она порывисто схватила меня за руку. — Ну пожалуйста! Если ему придется просить пистолет у тебя, то за время вашего разговора может передумать.
— Ладно, — уступил я.
Когда Энгельбертина ушла, я спрятал маузер в ванной, позади сушильного шкафа.
Как обычно, из кухни доносились вкусные запахи. Интересно, что будет на обед, гадал я. А еще гадал, правда ли то, что Груэн сказал про Энгельбертину. Ждать, пока все мои сомнения развеются, мне оставалось недолго.
24
Иногда Энгельбертина мерила мне температуру, давала пенициллин и осматривала культю мизинца, покрытую шрамами, — и все с ласковой озабоченностью, так ребенок ухаживает за больным кроликом. Когда она взяла в привычку целовать мой мизинец, я понял, что тянет ее к моей кровати не как к кровати больного. Про ее жизнь я никогда не расспрашивал, решив: если ей захочется, расскажет сама. И однажды, когда она осматривала мой палец в кокетливой, уже описанной манере, это случилось.
— Я австриячка. Я это тебе уже говорила? Нет вроде. Иногда я говорю, что я из Канады. Не потому, что и правда из Канады, а потому, что Канада спасла мне жизнь. Не страна. Канадой называлась одна из смотровых зон в Аушвице, где мы, девушки — а нас там было около пятисот, — должны были проверять, не спрятаны ли какие ценности в пожитках вновь поступавших пленных, перед тем как их отправляли в газовые камеры. — Она говорила ровным голосом, без эмоций, словно описывала обычную работу на фабрике. — В Канаде мы получали еду получше, чем другие, одежду поприличнее и спали достаточно. Нам даже разрешили отращивать сбритые при поступлении волосы.
В Аушвиц я попала в сорок втором. Сначала меня послали работать в поле. Это было очень тяжело. Я бы точно умерла, работай я так и дальше. Все руки себе загубила. А в Канаду я попала в сорок третьем. Конечно, тоже не летний лагерь для отдыха. И там много чего случалось. Нехорошего. Меня три раза насиловали эсэсовцы, когда я была там. — Передернув плечами, Энгельбертина будто сбросила с себя воспоминания. — Первый раз было хуже всего. Он меня избил потом, из чувства вины, что ли. Но ведь мог и убить, что иногда и случалось. Из страха, что девушка кому-то расскажет. Второй и третий раз я не сопротивлялась, так что не знаю, можно ли назвать это настоящим изнасилованием. Я не хотела… но и чтоб били, тоже не хотела. В третий раз я даже попыталась получить удовольствие — вот это была ошибка. Потому что, когда в лагере в том же году, но чуть позже открыли бордель, эсэсовец про это вспомнил, и меня перевели туда, проституткой.
Никто, правда, заметь себе, не называл заведение борделем. И мы, конечно, не считали себя тогда проститутками. Мы просто выполняли работу, а заключалась она в том, чтобы выжить. Назывался бордель «блок двадцать четыре», и обращались с нами там сравнительно хорошо. У нас была чистая одежда, душ, медицинское обслуживание. Нам даже давали духи. Не могу передать тебе, какое это было наслаждение — снова приятно пахнуть! Ведь перед тем целый год мы пахли разве что потом или еще чем похуже. Мужчины, которые занимались с нами сексом, были не эсэсовцы — тем не разрешалось. Хотя некоторые рисковали. Но большинство ограничивалось подглядыванием за нами. У меня появился постоянный дружок из пожарной бригады Аушвица. Чех. Он очень хорошо ко мне относился. Однажды в жаркий день даже провел тайком в бассейн пожарной бригады. Купальника у меня не было. Помню, как приятно было ощущать солнце на голом теле. Все мужчины там были ко мне так добры, уважительны и смотрели на меня с обожанием. Этот день запомнился мне как самый счастливый в жизни. Парень был католиком, и нас тайно обвенчал его знакомый священник.
Все у нас было хорошо до октября тысяча девятьсот сорок четвертого, когда заключенные в лагере подняли мятеж. Мой друг участвовал в нем, и его повесили. Потом, когда Красная армия подошла совсем близко, нас вывели из лагеря. Мы стояли долго; если люди падали в снег, их пристреливали. Наконец нас погрузили в вагоны и повезли в Берген-Белзен, где жилось куда тяжелее, чем в Аушвице, всего ужаса я даже описать не могу. Начать с того, что там не было еды. Вообще никакой. Два месяца я голодала. Если б меня не кормили так хорошо в блоке двадцать четыре, то в Белзене я бы точно умерла. Когда в апреле сорок пятого англичане нас освободили, я весила меньше сорока килограммов. Но все-таки осталась жива. И это — главное. Все другое не имеет значения, верно?
— Да, — согласился я.
— Вот что я пережила, — пожала плечами Энгельбертина. — В Аушвице у меня было четыреста шестнадцать клиентов. Я считала и горжусь, что выжила. И потому рассказываю тебе все. А еще потому, что хочу, пусть люди знают, что делали с евреями, коммунистами, цыганами и гомосексуалистами во имя национал-социализма… Ты, Берни, мне нравишься, и, если случится, что ты захочешь меня, лучше тебе знать о моем прошлом. После войны я вышла замуж за янки. Но он сбежал, когда узнал, что я была проституткой в концлагере. Эрик думает, я из-за этого переживаю, но на самом деле — нет. Совсем. Да и какое имеет значение, со сколькими мужчинами я спала? Зато я никогда никого не убила. По-моему, с грехом убийства на душе жить гораздо тяжелее. Вон как Эрику. Он казнил французских партизан в отместку за убийство немецких раненых. Мне не хотелось бы с ним поменяться. Такое прошлое гораздо хуже моего. Ты согласен?
— Да, — ответил я. — Вполне.
Я дотронулся до лица Энгельбертины кончиками пальцев. На щеке у нее шрамиков не было, но я не мог не думать о шрамах в ее душе. Их было самое малое четыреста. В сравнении с ее испытаниями мои казались вполне заурядными, хотя я, конечно, понимал, что это не так. В войну мне много чего довелось повидать, так что, возможно, я просто был лучше подготовлен, чем она. Некоторых мужчин, пожалуй, оттолкнул бы ее рассказ — мужчин вроде ее янки. Меня — нет. Может, для меня обернулось бы к лучшему, если б оттолкнул. Но у меня после ее рассказа только возникла мысль: между нами есть что-то общее.
Энгельбертина закончила наносить мазь на обрубок моего пальца, забинтовала и закрепила пластырем.
— Ну, — заключила она, — теперь ты знаешь все и поймешь, откуда у меня появились навыки шлюхи. И тут уж я ничего не могу поделать. Когда мне нравится мужчина, я иду с ним в постель. Вот так все просто. А ты, Берни, мне нравишься. Очень.
Случалось, мне делали и более прямые и недвусмысленные предложения, но только в мечтах. Она была похожа на грацию в древнеримском эротическом шоу, и я был только счастлив позволить ей играть на мне, если ей припадет охота. Как на «Стейнвее». К тому же в последние годы женщины смотрели на меня озадаченно, с жалостью или любопытством, и ничего больше в их взглядах мне прочесть не удавалось. Так что попозже в тот же вечер, когда Груэн уже спал, а Хенкель уехал обратно в Мюнхен, в государственный госпиталь, Энгельбертина пришла ко мне в комнату лечить доступными ей способами. И следующие десять дней мое здоровье, к взаимному нашему удовольствию, все улучшалось. К моему — уж точно.
Странно себя чувствует человек, когда после долгого воздержания занимается любовью. Точно снова присоединяешься ко всему человечеству. Как показали дальнейшие события, ни любви там не было, ни слияния с человечеством. Но тогда я про это не знал. Ну да мне не привыкать бродить в потемках — это профессиональный риск для любого детектива. Даже после того как дело закрыто, просто поразительно, как много сыщику остается неизвестным.
Кстати, про Бритту Варцок я даже не был уверен, закрытое она дело или нет. Мне, правда, щедро заплатили, но сколько же осталось непонятного! В один прекрасный день я все-таки ухитрился вспомнить, наконец, ее телефон и решил позвонить и задать пару-тройку вопросов, выяснить некоторые детали, которые мучили меня. К примеру, откуда она знает отца Готовину. А также, подумал я, пора бы ей узнать, как тяжко мне досталась ее тысяча марок. И вот, пока Энгельбертина помогала Груэну в ванной, я поднял телефонную трубку и набрал ее номер.
Голос горничной я узнал сразу. Уоллес Бири в черном платье. Когда я попросил позвать ее хозяйку, тон, уже настороженный, превратился в презрительный, точно я предложил ей встретиться за романтическим ужином, прежде чем отправиться ко мне домой.
— Мою кого? — прорычала она.
— Вашу хозяйку, — повторил я. — Фрау Варцок.
— Фрау Варцок? — Презрение обернулось насмешкой. — Она мне не хозяйка.
— Ладно, так кто она вам?
— А вот это не ваше дело!
— Послушайте, — уже отчаиваясь, взмолился я, — я — детектив. И вполне могу сделать это моим делом.
— Детектив? Вот как? — все так же насмешливо. — Не больно-то вы великий детектив, раз не знаете, кто здесь живет.
Да, не промахнулась. Удар по самолюбию я получил чувствительный.
— Я говорил с вами как-то вечером, несколько недель назад. Называл свое имя и дал номер телефона. Просил передать фрау Варцок, чтобы перезвонила мне, а значит, вы хотя бы разговариваете с ней. И еще. По закону является правонарушением чинить полицейскому препятствия при исполнении обязанностей. — Я же не сказал ей, что не работаю в полиции. Что, между прочим, тоже правонарушение.
— Минутку. — Она брякнула трубкой, как будто ударили по басовой клавише ксилофона. Я расслышал приглушенные голоса, потом долгая пауза, и наконец трубку взяли снова — раздался мужской голос, интеллигентный, смутно знакомый… Но — откуда бы?
— Назовите себя, пожалуйста, — произнес мужчина.
— Меня зовут Бернхард Гюнтер. Я детектив. Фрау Варцок — моя клиентка. Этот номер она дала мне для связи с ней.
— Фрау Варцок здесь не живет, — холодно, но вежливо сообщил мужчина. — И никогда не жила. Какое-то время мы принимали для нее сообщения, когда она находилась в Мюнхене. Но сейчас она, по-моему, уже уехала домой.
— О? И куда же это?
— В Вену.
— У вас есть номер телефона, по которому с ней можно связаться?
— Нет, но есть адрес. Желаете, чтобы я вам его назвал?
— Да, пожалуйста.
Новая долгая пауза — мужчина, видимо, искал запись, затем произнес:
— Хорл-гассе, сорок два, квартира три. Девятый округ.
— Спасибо, герр?.. Послушайте, кто вы? Дворецкий? Спарринг-партнер горничной? Кто? Откуда мне знать, что адрес не фальшивый? Может, вы придумали его, чтобы отделаться от меня?
— Я сообщил вам все, что мог. Правда.
— Послушайте, тут замешаны деньги. Большие деньги. Фрау Варцок наняла меня, чтобы я отыскал наследство. И обещала весьма существенный гонорар. Заработанного мне не получить, пока я не свяжусь с ней. Обещаю десять процентов от гонорара, если вы сообщите мне еще кое-какую информацию. К примеру…
— Прощайте, — перебил голос. — И пожалуйста, не звоните сюда больше.
И телефон умер. Я тут же позвонил опять. Что еще я мог сделать? Но на этот раз ответа не дождался. А в следующий раз оператор сообщил мне, что нужный мне телефон неисправен. Я сидел в огромной луже, и брюк на смену у меня не было.
Я еще обдумывал вероятность того, что Бритта Варцок обвела меня вокруг пальца и я ничего достоверного про нее не знаю — таинственная незнакомка! — когда из ванной появился еще один незнакомец. Он сидел в инвалидной коляске Груэна, которую катила, как обычно, Энгельбертина, но, выбитый из колеи телефонным разговором с Уоллесом Бири и его дружком, я только через несколько секунд сообразил, что передо мной — Эрик Груэн.
— Ну, как тебе? — поинтересовался он, поглаживая свое гладко выбритое лицо.
— Ты сбрил бороду, — промямлил я, как полный идиот.
— Энгельбертина сбрила. Так как тебе?
— Без нее гораздо лучше, — вмешалась Энгельбертина.
— Твое мнение мне уже известно, — отмахнулся Эрик, — я спрашиваю Берни.
Я пожал плечами.
— Без нее тебе гораздо лучше, — повторил я.
— Ты выглядишь моложе, — добавила Энгельбертина. — Моложе и красивее.
— Ты нарочно так говоришь.
— Нет, это правда. Ну скажи ты, Берни!
Я кивнул, теперь внимательно разглядывая лицо Эрика. В чертах его проскальзывало что-то смутно знакомое. Перебитый нос, воинственный подбородок, плотно сомкнутые губы и гладкий лоб.
— Моложе? Да, по-моему, да. Но есть что-то еще, не могу определить точно — что. — Я покрутил головой. — Нет, не пойму. Может, Эрик, ты на самом деле был прав, когда сказал, что тебе кажется, будто мы встречались прежде. Теперь, когда ты избавился от охранника на физиономии, твое лицо кажется мне таким знакомым…
— Правда? — переспросил он неуверенно, будто и сам сомневался.
Энгельбертина шумно, досадливо фыркнула:
— Вы что, не видите? До чего ж вы оба глупые! Это ж очевидно! Вы похожи, как братья. Ну да! Как братья!
Мы с Груэном взглянули друг на друга и тут же поняли: а она права! Мы действительно похожи. Но Энгельбертина все-таки притащила зеркало и заставила нас наклониться друг к другу и посмотреть на отражение.
— Вот кого один напоминал другому, когда вы смотрели друг на друга! — победно объявила она. — Самого себя!
— Я всегда хотел иметь старшего брата, — сказал Груэн.
— Почему это «старшего»? — возмутился я.
— Но это же правда. — Эрик принялся набивать трубку. — Ты выглядишь, как моя постаревшая копия. Побольше седины, определенно больше побитый жизнью. И еще. Мне кажется, у тебя вид не такой умный, как у меня. А может, просто озадаченный. Будто ты никак не можешь вспомнить, где ты забыл шляпу.
— Ты забыл упомянуть, что я повыше ростом, — перебил я. — Сантиметров на семьдесят.
Взглянув на меня в упор, он ухмыльнулся и закурил трубку.
— Нет, по зрелом размышлении ты все-таки намного глупее меня. Глупый детектив.
Я вспомнил Бритту Варцок: бессмысленно, что она наняла меня, если подозревала, что отец Готовина сам связан с «Товариществом». А может, знала наверняка, а я был слишком глуп и не распознал, какова на самом деле была ее цель. Да, похоже, так оно и есть: я — глупый детектив.
25
На следующий день приехал на уик-энд Генрих Хенкель и объявил, что сразу же отправится в свою лабораторию. Груэн не слишком хорошо себя чувствовал и остался в постели, и Хенкель пригласил с собой меня.
— Ты ведь к тому же, — добавил он, — толком не видел Гармиш-Партенкирхена, а, Берни?
— Нет еще.
— Тогда тебе обязательно нужно поехать. Посмотришь. Да и прогулка тебе на пользу пойдет.
С горы мы ехали медленно, что оказалось к лучшему, потому что за поворотом дорогу, бегущую параллельно железнодорожным путям, переходило стадо коров. Чуть погодя Хенкель объяснил:
— Железная дорога делит город на две части. Гармиш, слева от нас и к востоку от железной дороги, посовременнее — там находится Олимпийский лыжный стадион. Партенкирхен, лежащий к западу от дороги, старее — в этой части базируется большая часть армии янки.
Многие здания Гармиш-Партенкирхена напоминали мюнхенские церкви в стиле изысканного рококо. Городок не выглядел бы более католическим, даже если бы папа римский владел тут лыжным шале. Но по дорогам проезжали почти только одни джипы и грузовики американской армии, а на каждом втором здании болтались «звезды и полосы». Даже не верилось, что мы вообще в Германии.
— Господи! — воскликнул я. — Того и гляди, разрисуют реквизированные дома картинками с Микки-Маусом.
— Ну и ладно, ничего страшного. И знаешь, намерения у них самые что ни на есть благие.
— Так же, как у святой инквизиции, — огрызнулся я. — Тормозни у табачной лавки. Мне нужно купить «Лаки».
— Я же предупреждал тебя! — возмутился Хенкель, но машину все-таки остановил.
— Свежий воздух значительно уменьшает вред от курения.
Выбравшись из машины, я зашел в лавку. Купил сигарет, а потом еще раз обошел магазин, смакуя ощущение, что снова могу вести себя, как нормальный здоровый человек. Продавец подозрительно провожал меня глазами.
— Что-нибудь еще? — Он ткнул в меня черенком своей пенковой трубки.
— Нет, просто смотрю.
Он сунул в рот трубку и стал раскачиваться с пятки на носок. Я обратил внимание на его башмаки, разукрашенные эдельвейсами, дубовыми листьями и баварскими сине-белыми лентами — самые германские башмаки на свете.
— Тут магазин, — буркнул он, — а не музей.
— Это вы правильно заметили. — И я быстро вышел — дверной колокольчик резко звякнул.
— Уютный городок, — бросил я Хенкелю, усевшись в машину, — и местные жители приветливы, как цепные собаки.
— Да нет, когда узнаешь их поближе, они очень дружелюбны, — возразил он.
— Забавно. То же самое утверждают люди после того, как их собака тебя покусает.
Мы двинулись на юго-запад Партенкирхена, к подножию Цугшпитце, мимо отеля «Пост» с клубом для американских офицеров, отеля «Генерал Паттон», штаб-квартиры американской армии и лыжной базы «Зеленая стрела». Полное впечатление, что нахожусь я в Денвере, в штате Колорадо. В Денвере я никогда, правда, не бывал, но, как мне кажется, он очень похож на Партенкирхен. Патриотичный, показушный, сверх меры разукрашенный, недружелюбный и — в общем — немного нелепый.
Мы проехали по улице типичных старых альпийских домов, и Хенкель свернул на подъездную дорогу к двухэтажной оштукатуренной вилле, опоясанной деревянным балконом, с нависающей крышей, большущей, как палуба авианосца. На стене красовался рисунок: германский лыжник-олимпиец. Я догадался, что он немец, потому что его правая рука была поднята, будто к чему-то тянулась, но к чему — разобрать невозможно. И, наверное, теперь только немец мог бы понять, отчего у него вскинута рука. Все в Гармиш-Партенкирхене сейчас было подчинено Дяде Сэму и его благополучию, даже с трудом верится, что когда-то тут царил Дядя Адольф.
Выйдя из «мерседеса», я запрокинул голову на Цугшпитце, нависшую над домами застывшей волной серой морской воды. Услышав выстрелы, я вздрогнул и, кажется, даже шарахнулся в сторону. А потом оглянулся. Хенкель рассмеялся.
— У янки по другую сторону реки стенд для стрельбы по тарелочкам, — объяснил он, направляясь к двери. — Все, что ты тут видишь, реквизировано американцами. Они разрешили пользоваться лабораторией для моих экспериментов, до войны она принадлежала местному госпиталю на Максимилиан-штрассе.
— А разве госпиталю больше не нужна лаборатория?
— После войны госпиталь стал тюремным общежитием для умирающих, — он искал ключ от входной двери, — для неизлечимо больных немецких военнопленных.
— А чем они больны?
— У большинства психические расстройства, — пояснил он. — Это не по моей части. Многие умерли в результате вспышки эпидемии вирусного менингита. Остальных перевели в мюнхенский госпиталь примерно с полгода назад. Сейчас здешний госпиталь превратили в место отдыха и реабилитации для американского обслуживающего персонала.
Хенкель отпер дверь и вошел. Но я застыл на месте, уставившись на машину, припаркованную через дорогу. Машину эту я уже видел. Красивый двухдверный «бьюик-родмастер», сверкающий, зеленый, с «белобокими» автопокрышками и задним бампером, широченным, как альпийский склон.
Оторвавшись, наконец, от этого зрелища, я последовал за Хенкелем, прошел по узкому коридору, где было очень жарко. На стенах висело несколько снимков спортсменов: Макси Хербер, Эрнста Байера, Вилли Богнера, — на принятии олимпийской присяги. Воздух в помещении был с каким-то химическим привкусом, попахивало также гнильцой и чем-то ботаническим, типа мокрых садовых перчаток.
— Закрой за собой дверь! — прокричал Хенкель. — Тут необходимо сохранять тепло.
Повернувшись к двери, я услышал за спиной голоса, а когда снова обернулся, то обнаружил, что коридор загораживает человек, которого я сразу узнал, — тот самый американец, что заставил меня копать яму в моем саду в Дахау.
— Ба! Да это ж наш фриц с принципами! — завопил янки.
— По твоему тону не похоже, что ты мне комплимент отвалил, — отозвался я. — Ну, как жизнь молодая? Удалось еще подворовать еврейского золотишка в последнее время?
Он ухмыльнулся:
— В последнее время — нет. Не так уж много его осталось. А ты? Как бизнес в отеле? — Ответа моего он дожидаться не стал, а, не спуская с меня глаз, крикнул: — Эй, Генрих! Где ты раскопал этого фрица? И какого черта приволок сюда?
— Я же тебе рассказывал. — В коридоре показался Хенкель. — Это тот самый человек, с которым я познакомился в госпитале.
— Так это он — тот детектив, про которого ты говорил?
— Ну да. А вы что, уже встречались раньше?
Сегодня на американце было серое кашемировое пальто. Под пальто серая рубашка, серый шерстяной галстук, серые фланелевые брюки и черные туфли с узором из дырочек. Очки были тоже другие — в черепаховой оправе. Он, как и тогда, в Дахау, был похож на самого большого умника в классе.
— Только в моей прежней жизни, — ответил я Хенкелю, — когда я был владельцем отеля.
— У тебя был отель? — Хенкель взглянул так, будто сама идея показалась ему нелепой до крайности. Что, конечно же так и было.
— А догадайся, где находился этот его отель? — насмешливо-презрительно спросил американец. — В Дахау, недалеко от бывшего концлагеря. — Он раскатисто расхохотался. — Господи, да это все равно что открыть оздоровительный курорт на кладбище!
— Но ничего, для тебя и твоего приятеля вполне подошел, — огрызнулся я. — Этого дантиста-любителя.
— Он имеет в виду, — рассмеялся Хенкель, — Вольфрама Ромберга?
— Его самого, — подтвердил американец. Хенкель, подойдя, положил мне руку на плечо.
— Майор Джейкобс служит в ЦРУ, — сообщил он, увлекая меня в соседнюю комнату.
— Я как-то и не принял его за армейского капеллана, — буркнул я.
— Он очень помог нам с Эриком, он наш друг. ЦРУ предоставило мне это помещение и выдает деньги на исследования.
— Только их почему-то всегда не хватает, — ехидно вставил Джейкобс.
— Медицинские исследования дорого стоят, — ответил Хенкель.
Мы очутились в кабинете, очень аккуратном, типично медицинском. На полу большой шкаф с папками. В бидермейеровском книжном шкафу десятки медицинских книг, а наверху — череп, рядом — бронзовая голова мужчины, похожего на микробиолога, подарившего миру пенициллин, Александера Флеминга; табличка сообщала — да, это он и есть. Аптечка на стене рядом с фотографией президента Трумэна. Письменный стол орехового дерева в стиле рококо, похороненный под грудами бумаг и блокнотов, и еще один череп, приспособленный под пресс-папье. Четыре или пять стульев вишневого дерева. Хенкель указал через двойные стеклянные раздвижные двери на лабораторию, очень недурственно оборудованную.
— Микроскопы, центрифуги, спектрометры, вакуумные приборы, — перечислял Хенкель, — все это стоит больших денег. Майору приходится иногда изыскивать какие-то неофициальные источники финансирования, чтобы наша работа могла продолжаться. В том числе — обер-шарфюрера Ромберга разыскал и его тайничок в Дахау.
— Все верно, — проворчал Джейкобс; отодвинув гардину, он подозрительно всматривался из окна в сад позади виллы. Там затеяли шумную свару птицы. Мне нравится, как в природе решаются проблемы, — я бы сейчас и сам не прочь как следует врезать Джейкобсу.
— Как майор поступил с украденными ценностями бедолаг из лагеря, — через силу улыбнулся я, — это, безусловно, не мое дело.
— Вот теперь, фриц, ты угодил в самую точку, — покивал Джейкобс.
— А чем именно ты занимаешься, Генрих? — полюбопытствовал я.
— Ради бога, — оглянулся на Хенкеля Джейкобс, — не рассказывай ему.
— А почему бы и нет? — удивился тот.
— Ты ничего про этого типа не знаешь. Не забывай, вы с Эриком работаете на американское правительство. Я бы добавил, под грифом «секретно», но сильно сомневаюсь, что вы, парни, даже умеете выговаривать это слово без ошибок.
— Он гостит в моем доме, — стоял на своем Хенкель. — Я доверяю Берни.
— А я все пытаюсь понять — с какой такой стати? — возмущался Джейкобс. — Или это эсэсовские дела? «Старые товарищи»?
Откровенно, я и сам до сих пор немного удивлялся.
— Я объясню тебе, — ответил Хенкель. — Эрику порой становится одиноко, и мне кажется, у него возникают мысли о суициде.
— Господи, мне б такое одиночество, как у Эрика! — фыркнул Джейкобс. — С ним девица эта, которая ухаживает за ним, как ее там, Энгельбертина, что ли. Как мужик может жаловаться на одиночество, когда рядом такая женщина? Для меня загадка!
— Тут он прав, — вступил я.
— Видишь? Даже фриц со мной согласен.
— Мне бы не хотелось, чтобы ты называл его так, — тихо сказал Хенкель.
— Фриц? А что тут такого?
— Это всё равно как если б я называл тебя евреем. Или даже жидом.
— Да ладно, привыкай, приятель! — хохотнул Джейкобс. — Сейчас жиды при власти, и вам, фрицам, придется делать то, что они вам велят.
Хенкель оглянулся на меня и четко, раздельно, как будто специально, чтобы позлить майора, проговорил:
— Мы пытаемся найти лекарство от малярии.
Джейкобс шумно вздохнул.
— Но я думал, что лекарство от малярии давно есть, — удивился я.
— Нет, — возразил Хенкель, — есть несколько способов лечить ее. Одни средства более эффективны, другие менее. Хинин. Хлороквин. Атебрин. Прогуанил. У многих имеются довольно неприятные побочные эффекты, и, разумеется, болезнь со временем становится устойчива против этих медикаментов. Нет, когда я говорю лекарство, то подразумеваю нечто большее.
— Слушай, ты уж отдай ему и ключи от сейфа, а? — перебил его Джейкобс.
Хенкель продолжил, ничуть не замешкавшись из-за явного недовольства янки:
— Мы разрабатываем вакцину. Стоящее дело, как считаешь, Берни?
— Ну… наверное.
— Пойдем, взглянешь. — Хенкель провел меня через первые стеклянные двери.
Джейкобс потянулся за нами.
— У нас двое стеклянных дверей, чтобы поддерживать определенную высокую температуру в лаборатории. Пожалуй, тебе лучше снять куртку. — Хенкель сдвинул первые двери, прежде чем открыть вторые. — Если я нахожусь тут долгое время, то обычно хожу только в легкой рубашке. Здесь тропический климат, как в оранжерее.
Как только он раздвинул вторые двери, меня обволокла жара. Хенкель не преувеличивал — точно входишь в джунгли. Лицо Джейкобса стало мокрым от пота. Я снял куртку и закатал рукава рубашки.
— Ежегодно, Берни, от малярии умирает почти миллион человек, — продолжил Хенкель. — Миллион! — Он кивнул на Джейкобса. — Ему требуется вакцина, чтобы прививать солдат от малярии перед их отправкой в ту часть мира, какую американцы намереваются оккупировать. В Юго-Восточную Азию, например. А уж в Центральной Америке вакцина жизненно необходима!
— Почему бы тебе не черкнуть статейку в газеты? — возмутился Джейкобс. — Расскажи уж всему чертову миру, чем мы тут занимаемся.
— Мы с Эриком хотим спасать жизни. — Хенкель и внимания на Джейкобса не обратил, он снял куртку и расстегнул воротничок рубашки. — Подумай, Берни: если именно немцы сумеют найти средство для спасения миллиона жизней в год, это может существенно сбалансировать счет, предъявляемый Германии за то, что она сотворила в войну. Согласен?
— Может, и так, — признал я.
— Миллион спасенных жизней ежегодно! Через шесть лет, пожалуй, даже евреи смогут простить нас. А через двадцать и русские…
— Он хочет подарить вакцину русским, — пробурчал Джейкобс. — Ну красота!
— Вот, Берни, что помогает нам не отчаиваться в случае неудач и двигаться вперед.
— Не говоря уже о куче денег, которые они огребут, если им удастся синтезировать вакцину, — добавил Джейкобс. — Миллионы долларов.
— Нет, — покачал головой Хенкель, — майор не понимает, что на самом деле нами движет. Он немного циничен. Верно, сэр?
— Как скажешь, фриц.
Я оглядел лабораторию-оранжерею. Две рабочие стойки по обе стороны комнаты. На одной — самое разнообразное оборудование, в том числе несколько микроскопов. На другой расставлено множество стеклянных контейнеров. Под окном, выходящим в аккуратный сад, — три раковины. Мое внимание привлекли стеклянные контейнеры. В двух кипела жизнь. Даже через стекло был слышен звон многочисленных комаров, словно крохотные оперные певцы репетировали, пытаясь взять самую высокую ноту. У меня мурашки по коже забегали от одного взгляда на них.
— Это наши ВИП-персоны, — сказал Хенкелль. — Culex pipen. Разновидность комаров, водящихся в стоячих водах, а следовательно, и самых опасных. Они и есть переносчики болезней. Мы стараемся вырастить в нашей лаборатории собственных. Но время от времени приходится заказывать новые экземпляры из самой Флориды. Яйца и личинки на редкость устойчивы к низким температурам, поэтому отлично переносят перелеты. Зачаровывающее зрелище, а? Такая мелкота, а несет смерть, заражая малярией. Для большинства людей болезнь смертельна. Результаты исследований, с какими я знаком, подтверждают: для детей болезнь почти всегда фатальна. А вот у женщин сопротивляемость организма выше, чем у мужчин. Причины не известны никому.
Меня передернуло, я отступил от стеклянного контейнера.
— Генрих, ему не нравятся твои маленькие друзья, — заметил Джейкобс. — И не могу сказать, что я виню его. Я и сам терпеть не могу этих убийц. Мне снятся кошмары, что самый мелкий вылетел на волю и покусал меня.
— Уверен, у них вкус получше, — съязвил я.
— Вот почему нам и нужны еще деньги. На покупку современного оборудования. Электронный микроскоп нужен. Новые предметные стекла для микроскопов, контейнеры улучшенной изоляции, — слова были адресованы майору Джейкобсу, — чтобы предотвратить подобный несчастный случай.
— Мы над этим работаем, — бросил Джейкобс и нарочито зевнул, как будто бы устал слышать в сотый раз одно и то же. Он вынул было портсигар, но под осуждающим взглядом Хенкеля передумал. — В лаборатории не курить, — пробормотал он, засовывая портсигар обратно в карман. — Ладно.
— Надо же, вспомнил, — улыбнулся Хенкель. — Значит, у нас прогресс.
— Надеюсь, — проворчал Джейкобс. — Вот только и ты не забывай держать крышку плотно закрытой на нашем проекте, как мы и договаривались. — Он скосил на меня глаза. — Проект должен оставаться секретным. — И они с Хенкелем снова увлеклись спором.
Я отвернулся и, заметив старый экземпляр «Лайфа», валявшийся на стойке рядом с микроскопом, взялся за него. Ну что ж, будем улучшать свой английский. Я листал страницы — американцы на фото все такие благополучные. Новая раса господ! Я взялся читать статью, озаглавленную «Побитое лицо Германии», иллюстрированную сделанными с воздуха фотографиями немецких городков и больших городов после бомбардировок ВВС Великобритании и 8-й армией ВВС США. Майнц напоминал деревушку после урагана, а над Юлихом точно экспериментировали с первой атомной бомбой. Впечатляющее напоминание о нашем поражении.
— Да еще разбрасываешь где попало бумаги и документы, — ворчал Джейкобс. — По-настоящему секретные. — С этими словами он выхватил у меня из рук «Лайф» и ушел через стеклянные двери обратно в офис.
Заинтересовавшись, я поспешил следом. И Хенкель тоже.
Остановившись у письменного стола, Джейкобс нашарил в кармане цепочку с ключами, открыл кейс, забросил журнал туда и запер. Я недоумевал: что такого могло быть в этом журнале, какие секреты? Каждую неделю «Лайф» продается по всему миру, у журнала тираж несколько миллионов. Разве только они используют его для шифровок.
Хенкель тщательно сдвинул за собой стеклянные двери и хохотнул:
— Ну, теперь Берни решит, что ты попросту спятил. И я с тобой заодно.
— А мне плевать, что он там подумает, — огрызнулся Джейкобс.
— Джентльмены, — вмешался я, — все было очень занимательно. Но мне, пожалуй, пора. День чудесный, и мне полезно прогуляться. Так что, если не возражаешь, Генрих, попробую-ка я вернуться домой пешком.
— Но, Берни, это ведь больше шести километров, — напомнил Хенкель. — Ты уверен, что одолеешь?
— Думаю, да. Во всяком случае, попытаюсь.
— Может, возьмешь мою машину? А меня отвезет майор Джейкобс.
— Нет-нет, спасибо. Со мной все будет в порядке.
— Извини, что майор был так груб, — сказал Хенкель.
— Не злись, — повернулся к нему Джейкобс. — Ничего личного. Его появление было неожиданностью для меня. А в моем деле сюрпризы ни к чему. В следующий раз встретимся с ним у тебя дома. Выпьем. И все пройдет тихо-мирно. Верно, Гюнтер?
— Конечно, — поддакнул я. — Выпьем, а потом пойдем покопаемся в саду. Как в добрые старые времена.
— Немец с чувством юмора! — хмыкнул Джейкобс. — Это мне нравится.
26
Когда тебя принимают на службу в полицию, то вначале ставят на патрулирование. И ты истаптываешь свой участок вдоль и поперек, выглядывая малейший непорядок. Из автофургона с полосой, едущего на скорости пятьдесят километров в час, особо много не разглядишь. Коли же тебе удалось выбиться в детективы, привыкай топать в тяжелых ботинках по тротуару. Я и привык. Если б я уехал из лаборатории Хенкеля на «мерседесе», то ни за что не заглянул бы в окошко «бьюика» майора Джейкобса и не обнаружил, что машина не заперта. Не оглянулся бы я и на виллу и не вспомнил, что увидеть дорогу и машину из окна кабинета невозможно. Майор Джейкобс мне категорически не нравился, несмотря на то, что он вроде как извинился. И конечно, никаких причин шарить в его машине у меня не было. Но куда деваться. Я — ищейка, сыскарь, профессиональный разнюхивалыцик, подглядыватель, и всюду сую свой нос. К тому же мне был чертовски любопытен человек, заставивший меня копать яму в саду в поисках еврейского золота и такой весь засекреченный — чтобы не сказать одержимый паранойей, — что даже запер от меня старый экземпляр «Лайфа».
«Бьюик» мне понравился. Переднее сиденье просторное, как полка в спальном вагоне; руль размером с велосипедную шину и приемник, словно позаимствованный из музыкального автомата в кафе. Спидометр на приборной доске показывал, что машина развивает скорость больше двухсот километров в час, рядом счетчик, чтобы водитель знал, когда пора заправляться бензином. Под счетчиком находилось перчаточное отделение, рассчитанное на человека с немаленьким размером перчаток, побольше, чем у Джейкобса.
Перегнувшись через сиденье, я щелчком открыл его и сунул внутрь руку. Так, «смит-вессон» 38-го калибра с красивой рифленой рукояткой. Тот самый, из которого Джейкобс целился в меня в Дахау. Дорожная карта Германии. Открытка в честь двухсотлетнего юбилея Гете. Американское издание «Дневников Геббельса». Путеводитель по Северной Италии. А внутри путеводителя, на странице с Миланом, квитанция из ювелирного магазина. Имя ювелира Примо Оттоленги, а квитанция на сумму десять тысяч долларов. Логично предположить, что именно в Милане Джейкобс и продал еврейские ценности из ящика, выкопанного в моем саду. Тем более что на квитанции стояла дата — примерно через неделю после его визита ко мне. Еще нашлось письмо из мемориального госпиталя «Рочестер Стронг», из штата Нью-Йорк, с перечислением медицинского оборудования, отправленного в Гармиш-Партенкирхен через авиабазу Рейн-Майн.
Валялся в отделении и блокнот. Первая страница его оказалась чистой, но я сумел различить на ней отпечатки слов, написанных на предыдущей, вырванной. Я позаимствовал несколько страничек в надежде, что позже мне удастся, зачернив следы, прочитать, что было написано Джейкобсом.
Я сложил все обратно в бардачок, захлопнул его и оглянулся на заднее сиденье. Там лежали экземпляры «Геральда», «Зюддойче цайтунг» и сложенный зонт. Что ж, улов невелик, но я все-таки узнал о Джейкобсе немного больше, чем знал прежде. Узнал, что пользуется он серьезным оружием, куда сбыл ценности. Узнал, что его интересует доктор Геббельс, а может, и этот фриц Гёте тоже, под настроение. Случается, мелочи помогают раскопать многозначительную информацию.
Выбравшись из машины, я тихонько захлопнул дверцу и зашагал на северо-восток в направлении Зонненбихля, срезая путь через территорию бывшего госпиталя, а теперь центра реабилитации и отдыха для американских служащих.
Я начал подумывать, не пора ли возвращаться в Мюнхен и, пока нет новых клиентов, попытаться разыскать таинственную Бритту Варцок. Может, стоит наведаться в церковь Святого Духа, а вдруг она объявится там снова. Или опять потолковать с беднягой Феликсом Клингерхофером из Американских зарубежных авиалиний, вдруг сумеет вспомнить что-то еще кроме того, что живет она в Вене.
Обратная дорога в Мёнх заняла больше времени, чем я рассчитывал. Я не учел, что по большей части она шла в гору, и даже без рюкзака на спине в дом я вполз отнюдь не счастливым странником. Расшнуровав ботинки, я растянулся на кровати и прикрыл глаза. Энгельбертина только спустя несколько минут обнаружила, что я вернулся, и зашла ко мне. По ее лицу я тотчас понял: что-то неладно.
— Эрик получил телеграмму, — сказала она. — Из Вены. Его мать умерла. Он очень расстроился.
— Вот как? А я думал, они ненавидят друг друга.
— Ну да. В этом все и дело. Он осознал, что уже никогда больше не сможет помириться с ней. Никогда. — Она показала мне телеграмму.
— Вряд ли мне удобно читать ее… — бубнил я, уже бегая глазами по строчкам. — А где Эрик?
— У себя в комнате. Сказал, хочет побыть один.
— Что ж, это понятно, — вздохнул я. — Потерять мать — это потяжелее, чем расстаться с любимой кошкой… Если только ты не кот.
Энгельбертина грустно улыбнулась и взяла меня за руку.
— А у тебя есть мать?
— Была. И отец тоже, если мне не изменяет память. Только где-то по пути я потерял обоих. Такая вот небрежность.
— И я тоже, — опять вздохнула Энгельбертина. — У нас с тобой много общего, верно?
— Да, — без особого энтузиазма согласился я. На мой взгляд, общее у нас было только одно, и это происходило либо в ее спальне, либо в моей. Я еще раз взглянул на телеграмму: — Тут говорится, что Груэн получает большое наследство.
— Да, но только если он лично съездит в Вену, встретится с юристами и заявит на него права, — пояснила она. — Но я не представляю себе, как это можно осуществить. В его теперешнем состоянии поездка просто невозможна.
— Он настолько плох?
— То, что он прикован к коляске, — еще полбеды. Но ему еще вырезали селезенку.
— Про это я не знал. Это серьезно?
— При потере селезенки увеличивается риск подхватить инфекцию, — объяснила она. — Селезенка — это вроде как фильтр крови и ее резервный запас. Вот почему Эрик так легко устает. — Энгельбертина покачала головой. — Очень сомнительно, чтоб ему удалось добраться до Вены. Даже на машине Генриха. Вена ведь почти в пятистах километрах отсюда?
— Не помню. Я уже давно не живу в Вене. И не могу сказать, чтобы я особо обожал венцев. Они оказались отъявленными немцами, только на австрийский лад.
— Как Гитлер?
— Нет, Гитлер был очень немецким австрийцем. Вот в чем разница. — Я примолк. — А о какой сумме идет речь, как думаешь? Я о наследстве.
— Наверняка не знаю. Но семье Груэн принадлежал один из самых больших сахарных заводов в Центральной Европе. — Энгельбертина пожала плечами. — Так что, наверное, очень много. А на сладкое все падки, верно?
— В Австрии точно, — согласился я. — Там на сладкое летят, как…
— А ты ничего не забыл? — перебила она меня. — Я, между прочим, австриячка.
— И спорю, очень этим гордишься. Когда нацисты аннексировали Австрию в тысяча девятьсот тридцать восьмом, я жил в Берлине и помню, как австрийские евреи хлынули в Берлин, потому что надеялись, что берлинцы терпимее венцев.
— И как — терпимее?
— Некоторое время были. Берлин нацисты никогда особо не жаловали, знаешь ли. Им потребовалось много времени, чтобы поставить город на колени. Много времени и много крови. Берлин служил просто витриной для известных событий, но истинным сердцем нацизма всегда был Мюнхен. И не удивлюсь, если остается им до сих пор. — Я закурил. — Знаешь, Энгельбертина, я завидую тебе. У тебя хотя бы есть выбор: называть себя австриячкой или еврейкой. А я немец, и уже ничего не могу с этим поделать. А сейчас это все равно что носить метку Каина.
Энгельбертина сжала мне руку.
— У Каина был брат, — заметила она. — А у тебя есть друг, человек, похожий на тебя, словно родной брат. Может, ты сумеешь помочь ему, Берни? Ведь это твоя работа — помогать людям?
— Ты говоришь так, будто быть детективом — благородное призвание. Парсифаль, Святой Грааль и пять часов Вагнера! Это не обо мне, Энгельбертина. Я скорее рыцарь пивной кружки и три минуты могу послушать какую-нибудь музычку полегче.
— Ну так соверши хоть разок что-нибудь благородное! — отрезала она. — Что-то хорошее, бескорыстное. Я уверена, ты сумеешь придумать — что. Для Эрика, например.
— Ну, не знаю. Зачем совершать хорошие поступки?
— Я могу тебе сказать. Если у тебя есть время и терпение слушать и желание переменить свою жизнь.
Ну вот, дождался. Это она, конечно, о религии. Нет, я не стану обсуждать эту тему, а уж тем более с ней.
— Впрочем, кое-что я смогу сделать, — заторопился я. — Кое-что благородное. Ничего благороднее, не опрокинув в себя пары кружек пива, придумать я пока не могу.
— Что ж, давай послушаем. Сейчас мне как раз хочется, чтобы ты произвел на меня впечатление.
— Моя дорогая девочка, тебе всегда этого хочется, — ответил я. — Но я тут ни при чем. Ты смотришь на меня так, как будто думаешь, что я не способен совершить ничего дурного. Но я способен. И совершаю. — Я помолчал немного. — Скажи, ты действительно считаешь, что я сильно похож на Эрика?
Она кивнула:
— Ты и сам это знаешь, Берни.
— Из близких родственников у него была только мать, так?
— Да. Только мать.
— И она не знала, что он прикован к инвалидному креслу?
— Знала, что он тяжело ранен, — и все. Подробности ей были неизвестны.
— Тогда скажи: как ты думаешь, я смогу сойти за него?
Энгельбертина пристально взглянула в мое лицо, чуть поразмышляла и закивала:
— Замечательная идея! Насколько я знаю, он уже лет двадцать не был в Вене. А за двадцать лет люди здорово меняются.
— Особенно за такие двадцать, — вздохнул я. — Где его паспорт?
— Блестящая мысль! — воскликнула Энгельбертина.
— Но не очень благородная.
— Зато практичная. А в этой ситуации практичность еще получше благородства. Мне бы такое и в голову не пришло!
Встав, она открыла бюро, вынула бумажный пакет и протянула его мне.
Я достал паспорт и фотографию. Срок действия паспорта еще не вышел. Критически вгляделся в фото. Потом передал паспорт ей. Энгельбертина взглянула на снимок и пробежала пальцами по моим волосам, словно проверяя, не слишком ли много в них седины.
— Конечно, прическу тебе придется сменить, — заметила она. — Ты старше Эрика. Но вот забавно, выглядишь ты не намного старше… Да, ты вполне сможешь сойти за него. — Она подпрыгнула на кровати. — Слушай, а почему бы не спросить его самого?
— Нет, — остановил я ее. — Давай подождем до вечера. Сейчас он наверняка слишком расстроен и не может толком ни о чем думать.
27
— Безумная идея! — воскликнул Эрик, когда я закончил излагать ему свой план. — Ничего безумнее в жизни не слыхал.
— Но почему? — недоуменно спросил я. — Ты же говорил, что никогда не встречался с вашим семейным адвокатом. И он не знает, что ты в инвалидной коляске. Покажу ему твой паспорт, и он увидит копию человека с фотографии, несколько постаревшую и немного пополневшую. Я подпишу бумаги. И ты получаешь наследство. Что может быть проще? Если нет никого, кто помнит тебя по-настоящему.
— Моя мать была очень трудным человеком, — сказал Груэн, — и друзей у нее было немного. Проблемы у нее возникали не только со мной. Мой отец с трудом выносил ее. Она даже на его похороны не пошла. Но послушай, им же известно, что я врач. Предположим, тебе зададут какой-нибудь медицинский вопрос…
— Я ведь еду забрать наследство, — возразил я, — а не устраиваться на работу в госпиталь.
— И то правда. — Груэн рассматривал содержимое своей трубки. — И все-таки есть в этом что-то, что мне не по душе. Как-то нечестно это.
— Эрик, Берни прав. — Энгельбертина поправила плед у него на ногах. — Что может быть проще?
Груэн взглянул на Хенкеля и протянул паспорт ему. Хенкель по поводу моего плана еще не высказался.
— Генрих, а ты как думаешь?
Хенкель долго вглядывался в фотографию.
— Сомнений, что Берни легко сможет сойти за тебя, постаревшего, по-моему, никаких, — заключил он. — И нет также сомнений, что для наших исследований деньги весьма пригодятся. Майор Джейкобс все тянет и тянет с покупкой электронного микроскопа. Говорит, нам придется подождать до весны будущего года, когда утвердят новый бюджет.
— Про это я и забыл, — протянул Груэн. — Ты прав. Деньги нам очень пригодятся. Деньги моей матери поддержат нашу работу. — Он горько рассмеялся. — Господи, вот бы она разозлилась!
— Я истратил, Эрик, значительную сумму своих денег, — продолжал Хенкель. — Мне не жалко — ты же знаешь. Я сделаю, что угодно, чтобы синтезировать эту вакцину. Но на Джейкобса в последнее время мало надежды. Если б у нас появились деньги, мы смогли бы позволить себе избавиться от него и вообще от янки. Тогда наше научное достижение станет исключительно немецким, как и было задумано.
— Что ж, если Берни и в самом деле поедет вместо меня, это действительно решит множество проблем. Самому мне туда никак не добраться. В этом ты прав.
— Вопрос в том, Берни, — сказал Хенкель, — справишься ли ты? Ты ведь только-только встал на ноги — вчера жаловался, что быстро устаешь.
— Со мной все в порядке, — отмахнулся я от его тревог. — Все будет отлично.
Во всех отношениях отдых в доме Хенкеля пошел мне на пользу. Я чуть пополнел, посвежел. И даже поднаторел в шахматной игре, благодаря полезным подсказкам Груэна. На первый взгляд, комфортнее мне и быть не могло, будь я даже блохой в гриве любимого коня императора Калигулы. И все-таки мне ужасно хотелось съездить в Вену. Одна из причин была та, что, потрудившись над листками из блокнота майора Джейкобса, я сумел прочитать отпечаток адреса в Вене. Хорл-гассе, 42, квартира 3, Девятый округ. По любопытному совпадению, тот же самый адрес, что продиктовали мне по телефону, когда я искал Бритту Варцок. А другой причиной была Энгельбертина.
— Тогда я согласен, — заявил Груэн, вдыхая искру жизни в трубку. — Но у меня есть несколько условий, и их обязательно придется учесть. Первое: Берни, мы тебе заплатим. Моя семья богата, и я буду навечно у тебя в долгу за эту услугу, так что оплата будет достойной. Думаю, двадцать тысяч австрийских шиллингов соответствующая сумма за оказание такой ценной услуги.
Я кинулся было протестовать, что это слишком много, но Груэн покачал головой.
— Не желаю даже слушать никаких возражений. Если не согласишься на такой гонорар, тогда я не соглашусь на твою поездку.
— Ну, если настаиваешь… — Я пожал плечами.
— И не только гонорар. Разумеется, я оплачу все твои расходы. И остановиться ты должен в отеле, какой выбрал бы я сам теперь, когда стал богат.
Я кивнул, спорить с такой щедростью мне совсем не хотелось.
— И третье условие, более деликатного свойства. Может, ты помнишь, когда-то я рассказывал тебе, что бросил в Вене девушку. Конечно, поздновато я опомнился, согласен, но мне все-таки хотелось бы как-то загладить вину. Ее ребенок — мой ребенок. Сейчас ему уже двадцать один год. И я хотел бы передать им деньги. Только предпочел бы, чтобы они не знали, что это от меня. Ты навестишь их как частный детектив, нанятый клиентом, который предпочитает остаться неизвестным. Ну, что-нибудь в таком роде. Я уверен, Берни, способы тебе известны.
— А что, если они умерли? — предположил я.
— Ну, если умерли, значит, умерли. У меня есть адрес. Сделай это, пожалуйста.
— А я попрошу Джейкобса помочь с нужными документами, — прибавил Хенкель. — Тебе потребуется разрешение для проезда через британскую, французскую и американскую зоны. И пропуск для русской оккупационной зоны. Как будешь добираться?
— Лучше всего на поезде, — ответил я. — Так я привлеку меньше внимания.
— Обычно я обращаюсь в турагентство в Мюнхене, — сказал Хенкель. — Попрошу их купить для тебя билет. Когда отправишься?
— А как скоро Джейкобс сумеет раздобыть нужные документы?
— Думаю, не задержится. У него хорошие связи.
— Это я уж давно сообразил.
— Если через сутки? — спросил Хенкель.
— Тогда, значит, поеду послезавтра.
— Но на чье имя заказывать? — растерялся Хенкель. — На твое или на Эрика? Вопрос требуется тщательно продумать. Предположим, тебя обыщут и найдут у тебя еще один паспорт, тогда, естественно, сделают вывод, что один из них — фальшивый, а ты — нелегальный беженец из русской зоны. Тебя передадут русским и бросят в трудовой лагерь. — Он нахмурился. — Риск, Берни, большой. Ты точно уверен, что желаешь ехать?
— Будет выглядеть странно, — сказал я, — если пропуск у меня будет на одно имя, а регистрация в отеле на другое. Это легко проверить, и семейному адвокату Эрика вряд ли понравится. Так что все: билеты, пропуска и броня в отеле должно быть оформлено на имя Эрика Груэна. А мой паспорт я оставлю в мюнхенской квартире. Все равно, — пожал я плечами, — мне не хотелось бы пользоваться в Вене своим паспортом. Иваны, возможно, уже куда-то занесли мое имя. Последний раз, когда я был там, у меня случилась стычка с полковником МВД, неким Порошиным.
— А как насчет похорон? — вмешался Груэн.
— На похороны идти рискованно, — заметил Хенкель.
— Но если не приду, это покажется странным, — возразил я.
— Верно, — согласился Груэн. — Я телеграфирую адвокатам, что приезжаю. Попрошу, пусть заведут открытый счет на мое имя в банке матери. Чтобы, как только приедешь, ты мог взять свой гонорар и деньги на расходы. Ну и нужную сумму для Веры и ее ребенка. — Он бледно улыбнулся. — Вера Мессман. Так ее зовут. Ту, что я бросил в Вене.
— Мне бы тоже ужасно хотелось прокатиться в Вену, — вздохнула Энгельбертина, по-детски надув губы.
Я улыбнулся, стараясь изобразить сожаление, но в душе ощущал радость: я избавлюсь от Энгельбертины, хотя бы ненадолго. Я начал понимать, почему ее второй муж-янки улепетнул в Гамбург. У меня и раньше были женщины, которые спали со многими мужчинами — моя жена, например, хотя четырехсот, конечно, у нее не наберется. И когда я служил в «Алексе», там вечно ошивались шлюшки. И мне нравились некоторые. Нет, не только из-за неразборчивых сексуальных связей Энгельбертины мне было не по себе рядом с ней, а из-за множества странных мелочей, которые я в ней подметил.
Ну, например, она встает всякий раз, когда в комнату входят Груэн или Хенкель. Несколько необычной казалась мне и та почтительность, какую она им выказывает, чуть ли не на грани раболепия. Или — она старается не встречаться с ними взглядом. Всякий раз, как кто-то из них смотрел на нее, она утыкала глаза в пол и иногда даже опускала голову. Возможно, это нормальное явление среди немцев в отношениях наниматель — служащий. Особенно если учесть, что они врачи, а она медсестра. Германские доктора могут быть вызывающими оторопь солдафонами, как я сам обнаружил, когда умирала Кирстен.
И еще кое-какие чудачества я заметил в Энгельбертине; они меня раздражали, словно липкая паутина, которую стараешься отодрать от лица. Смешной для зрелой женщины инфантилизм: ее комната была забита мягкими игрушками, их дарили Груэн и Хенкель. В основном медвежата — десятка три-четыре. Они сидели плечом к плечу с задумчивыми глазами-бусинками, рты туго сжаты, вид такой, будто они планируют вооруженный захват комнаты хозяйки. Я подозревал, что первой жертвой медвежьей зачистки, которая последует за захватом, паду я сам. Слишком уж по-разному мы с медвежатами смотрели на вещи. Кроме, вероятно, одной. Очень возможно, что второй жертвой медведей станет граммофон «Филко», свадебный подарок исчезнувшего янки. Если не сам граммофон, то одна пластинка, которую Энгельбертина обожала. Довольно унылая баллада «Прощай, прощай» из мюзикла Зигмунда Ромберга «Голубой рай», ее пела на пластинке Лале Андерсен. Энгельбертина ставила ее снова и снова, и очень скоро я уже на стенку лез от этой музыки.
И еще одно — ее истовая вера в Бога. Каждый вечер, включая и те, когда она занималась со мной сексом, она вылезала из кровати и, встав на колени, крепко сжав руки и закрыв глаза, молилась вслух.
Случалось — в те ночи, когда я слишком уставал и не мог уйти из ее комнаты, — я слушал ее молитвы, и меня удивляло, насколько же чаяния и надежды Энгельбертины для себя и для мира банальны — такие навеяли бы скуку даже на игрушечную панду. После молитвы она неизменно раскрывала Библию и перелистывала страницы в поисках ответа от Бога на ее просьбы. Чаще всего вечная Книга позволяла ей прийти к правдоподобному заключению, что ответ ей и вправду дан.
Но самое идиотское и раздражающее в Энгельбертине было то, что она считала себя обладательницей дара лечить наложением рук. Несмотря на медицинское образование, которое она имела, она иногда клала на голову посудное полотенце, руки — на свою жертву-пациента и постепенно впадала в некий транс: начинала шумно сопеть носом и бурно дергаться, как человек на электрическом стуле. Однажды она проделала такое и со мной. Убедить меня ей удалось только в одном — она совершенно слетела с катушек.
Последнее время я получал удовольствие от ее общества, только когда она, встав передо мной на колени, вцеплялась обеими руками в простыню, словно надеялась, что очень скоро все это закончится. Что обычно и случалось. Мне хотелось удрать от Энгельбертины, как коту охота вырваться из липких объятий неуклюже ласкового ребенка. И как можно быстрее.
28
Я взглянул на оловянное австрийское небо, с которого сыпал снег на крышу машины Международного патруля, прихорашивая ее слоем взбитых сливок. Из четырех человек в грузовичке, возможно, только русский лейтенант, глядя на снег, чувствовал тоску по родине. У остальных вид был озябший и недовольный. Даже бриллианты в ювелирной лавке, мимо которой я сейчас проходил, казалось, подмерзли. Я поднял воротник пальто, натянул шляпу поглубже на уши и быстро зашагал по Грабен, мимо памятника в стиле барокко, возведенного в память сотни тысяч венцев, умерших от чумы в 1679 году. Несмотря на снег, а может, наоборот, благодаря ему, в кафе «Грабен» было людно и оживленно. В двери-вертушки бесконечной чередой торопливо заходили хорошо одетые, стройные женщины с покупками. Мне предстояло убить еще полчаса до встречи с семейным адвокатом Груэнов, и я поспешил за ними.
В заднем зале располагалась эстрада для небольшого оркестра и стояло несколько столиков; за ними сидело несколько дохлых рыбин, маскирующихся под мужчин; они играли в домино, нянчили пустые кофейные чашки, читали газеты. Найдя свободный столик поближе к двери, я присел, расстегнул куртку, приметил мимоходом красивую брюнетку и заказал черный кофе в высоком бокале с шапкой сливок наверху. А еще большую порцию коньяку — справиться с холодом. Так, по крайней мере, я старался убедить себя. Но на самом деле понимал, что нервничаю — скоро мне предстоит первая встреча с адвокатом Груэна. От общения с адвокатами мне всегда становилось неуютно, точно от мысли, что я могу подцепить сифилис. Коньяк я выпил весь, но кофе одолел только полбокала. Нужно все-таки и со здоровьем считаться. И снова вышел на улицу.
Расположенная в начале Грабен Колмаркт была типичной венской улицей: галерея живописи на одном конце и дорогая кондитерская на другом. «Кампфнер и партнеры» оккупировали три этажа в доме номер пятьдесят шесть, между магазинчиком, торгующим изделиями из кожи, и церковной лавкой, зайдя в которую я чуть не поддался искушению купить себе четки — на удачу.
За столом секретарши на первом этаже сидела рыжая девица, принаряженная и разукрашенная в соответствии со статусом. Я сказал ей, что пришел к доктору Бекемайеру, и она попросила подождать в приемной. Я двинулся было к стулу, но, так и не сев, стал смотреть из окна на снег — так смотришь, прикидывая, подходящая ли у тебя обувь для снегопада. В магазине Бретшнайдера продавались отличные ботинки, с которыми мы — я и мои деньги на расходы — вполне могли познакомиться поближе. При условии, что с адвокатом все получится как надо.
Я смотрел на снег, летящий перед витриной магазинчика «Вышивка», где Фанни Школман — так гласило имя на витрине — и несколько ее помощниц вышивали что-то мелкое при свете, обещавшем сделать их слепыми в самый короткий срок.
Позади меня скромно покашляли и, обернувшись, я увидел человека в аккуратном сером костюме с жестким воротником, скроенным не иначе как Пифагором. Под белыми гетрами сверкали черные туфли, точно металлические детали новенького велосипеда. Росточка он был невеликого, а чем ниже мужчина, тем тщательнее он одевается. Этот был — ну прямо как с витрины магазина. И сам весь такой из себя энергичный и целеустремленный. Ростом он едва ли дотягивал до полутора метров, и все же имел вид человека, способного зубами горностая загрызть. Будто его мамочка молилась родить терьера, но в последнюю минуту взяла и передумала.
— Доктор Груэн? — осведомился он.
Я не сразу сообразил, что обращается он ко мне. Пришлось напомнить себе свое новое имя. Я кивнул. Он любезно поклонился.
— Я доктор Бекемайер. — Он жестом пригласил меня в кабинет позади него. — Пожалуйста, герр доктор, вот сюда. — Голос у него поскрипывал, словно дверь в Трансильванском замке.
Я вошел в кабинет, где воспитанный огонь горел спокойно и умеренно, как обычно во всех каминах адвокатов, видимо, из страха, что его загасят.
— Разрешите ваше пальто? — попросил он.
Я послушно стянул пальто и наблюдал, как адвокат аккуратно пристраивает его на вешалке красного дерева. Потом мы уселись по обе стороны стола — я в кожаное кресло с заклепками на спинке, казавшееся меньшим братом того, в котором устроился он сам.
— Прежде чем мы приступим, — сказал он, — извините за беспокойство, но я попрошу подтвердить вашу личность, герр доктор. Понимаете, размеры состояния вашей покойной матушки требуют проявлять крайнюю осторожность. Учитывая всю необычайность обстоятельств, уверен, вы понимаете, что мне надлежит кое в чем удостовериться. Позвольте взглянуть на ваш паспорт?
Я уже тянулся за паспортом Груэна. Все адвокаты под своей тускло-бледной кожей одинаковы. Не отбрасывают тени и спят в гробах. Я без единого слова протянул документ.
Открыв паспорт, адвокат принялся тщательно изучать его, пролистав все странички, прежде чем снова вернуться к фотографии и описанию владельца. Я спокойно выдержал его взгляд, обшаривший мое лицо, а потом вновь уткнувшийся в фотографию. Любое замечание могло возбудить подозрение. Люди всегда становятся болтливы, когда теряют самообладание. Я чуть задержал дыхание, смакуя аромат коньяка, застрявший в легких, и молча ждал. Наконец он кивнул и протянул мне паспорт.
— Теперь все? — осведомился я. — Официальная идентификация тела и всякое такое закончено?
— Не совсем. — Адвокат открыл папку на столе, сверился с чем-то, напечатанном на верхнем листе бумаги, и снова закрыл ее. — Согласно моей информации, Эрик Груэн покалечил левую руку в одна тысяча девятьсот тридцать восьмом. Он потерял две верхние фаланги мизинца. Могу я взглянуть на вашу левую руку, герр доктор?
Подавшись вперед, я положил левую руку на его книгу записей. По лицу у меня гуляла улыбка, хотя, возможно, мне нужно бы озадаченно нахмуриться. Но меня поразила странность: оказывается, он получил увечье еще до войны, а у меня почему-то сложилось впечатление, что мизинец он потерял одновременно с селезенкой и способностью ходить. И еще меня насторожил факт, что адвокат, доктор Бекемайер, так точно осведомлен о подробностях анатомии Груэна. И если бы не случайное совпадение, то, пожалуй, моя идентификация как Эрика Груэна могла и не состояться. Другими словами, мой палец или, вернее отсутствие его оказалось куда более важным, чем я предполагал.
— Кажется, все в порядке, — улыбнулся он наконец. И тут в первый раз я заметил, что у него нет бровей, а волосы на голове — скорее всего парик. — Конечно, вам требуется, герр Груэн, подписать еще кое-какие бумаги как ближайшему родственнику, а также для того, чтобы вы могли открыть кредит в банке, пока завещание не вступит в силу. Хотя не думаю, что возникнут какие-то проблемы. Завещание я составлял сам. Как вам, возможно, известно, ваша мать всегда пользовалась услугами банка Шпэнглера, всю свою жизнь, и, естественно, они ожидают, что вы придете снять деньги на цели, оговоренные в телеграмме. Банковский служащий, герр Треннер, готов помочь вам во всем.
— Не сомневаюсь.
— Я правильно понял: остановились вы в «Эрцгерцоге Райнере», герр доктор?
— Да, люкс двадцать пять.
— Очень разумный выбор, если позволите высказать мое мнение. Администратор, герр Бентхайм, мой друг. Всегда ставьте нас в известность, и меня, и его, если мы можем чем-то помочь, чтобы сделать ваше пребывание в Вене как можно приятнее.
— Спасибо.
— Панихида состоится завтра в одиннадцать, в Карлскирхе. Это всего в нескольких кварталах от вашего отеля. На другом конце Гасхаус-штрассе. Похороны в семейном склепе на Центральном кладбище — это во французском секторе.
— Я знаю, где Центральное кладбище, герр Бекемайер, — кивнул я. — И кстати, пока не забыл, спасибо вам за то, что все организовали. Как вы знаете, мы с матерью не особо ладили.
— Для меня это большая честь, — произнес он. — Я двадцать лет был адвокатом вашей матери.
— Наверно, всех других она умудрилась оттолкнуть от себя, — холодно заметил я.
— Она была старой женщиной, — заметил он, как будто это служило исчерпывающим объяснением всему, что происходило между Эриком Груэном и его матерью. — Но все-таки ее смерть оказалась для всех неожиданной. Я считал, она проживет еще несколько лет.
— Значит, она совсем не страдала.
— Совершенно. Я видел ее накануне дня ее смерти в Главном госпитале Вены на Гарнизон-гассе. Она выглядела вполне здоровой. В постели, да, но очень бодрая и жизнерадостная. Так любопытно…
— Что именно?
— Как иногда является смерть. Когда мы совсем не ждем ее. Вы придете, доктор Груэн? На похороны?
— Разумеется.
— Да? — слегка удивился он.
— Что было, то прошло — так я всегда говорю.
— Такие чувства достойны восхищения. — Тон такой, словно он сам себе не вполне верил.
Вытащив трубку, я принялся набивать ее. Трубку я начал курить, стараясь стать еще больше похожим на Эрика Груэна и чувствовать себя им. Трубки и всякие штучки, им сопутствующие, я не особо любил, но не мог придумать ничего лучшего, чтобы убедить себя, что я — Эрик Груэн, разве что купить себе инвалидное кресло.
— На похороны придет кто-нибудь еще, кого я знаю? — небрежно осведомился я.
— Придут несколько старых слуг, — ответил он. — Но знаете вы их или нет, точно не скажу. Придут и другие люди, конечно. Имя Груэнов еще кое-что значит в Вене. Что вполне понятно. Я полагаю, вы не пожелаете возглавить шествие скорбящих, герр доктор.
— Нет, это было бы чересчур. Предпочитаю держаться во время процессии где-нибудь на заднем плане.
— Да, да, так, наверное, будет лучше, — покивал он. — Учитывая все обстоятельства. — Бекемайер откинулся на кресле и, пристроив локти на подлокотниках, свел кончики пальцев вместе. — В телеграмме вы написали, что намереваетесь ликвидировать свои акции в «Груэн Сахар».
— Да, верно.
— Могу я предложить, чтобы объявление об этом вы отложили до, ну скажем, вашего отъезда из города? — осторожно проговорил он. — Дело в том, что подобная продажа привлечет большое внимание. А так как вы человек замкнутый, подобное внимание вам будет, пожалуй, нежелательно. Вена — маленький городок. Люди много болтают. Сам факт вашего присутствия здесь и то может вызвать немало толков. И даже, осмелюсь предположить, некоторое злословие.
— Ладно, — согласился я. — Я не возражаю отложить объявление на несколько дней.
Адвокат нервно постукивал пальцами, словно мое присутствие в его кабинете выводило его из равновесия.
— Могу я также поинтересоваться, в ваши намерения входит оставаться в Вене долго?
— Нет. Мне нужно еще уладить одну личную проблему. Ничего такого, что требовало бы вашего вмешательства. После чего я, скорее всего, вернусь в Гармиш.
Бекемайер улыбнулся, наведя меня на мысль о маленьком каменном Будде.
— Ах, Гармиш! Такой славный старый городок. Мы с женой ездили туда на зимние Олимпийские игры, в тридцать шестом.
— А Гитлера видели? — поинтересовался я, ухитрившись наконец раскурить трубку.
— Гитлера?
— Ну вы же помните такого? На церемонии открытия?..
Улыбка на лице у него еще держалась, но он испустил шумный вздох, будто к его гетрам был прикреплен маленький клапан.
— Политикой мы никогда особо не интересовались, ни моя жена, ни я. Но, наверное, мы видели его, хотя издалека.
— Издалека, оно всегда безопаснее, — покивал я.
— Все это кажется таким нереальным. Точно в другой жизни.
— Доктор Джекил и мистер Хайд, — поддакнул я. — Да, я очень хорошо понимаю, что вы имеете в виду.
Молчание затянулось, и, наконец, улыбка Бекемайера окончательно испарилась, как запотевшее пятно с оконного стекла.
— Ну так что, — нарушил я паузу. — Давайте я подпишу эти бумаги?
— Да, да, конечно. Спасибо, что напомнили. Со всеми этими воспоминаниями, боюсь, я почти забыл о нашем главном деле.
В этом я сильно сомневался. Я не мог себе представить, чтобы Бекемайер что-то забыл, кроме разве что Рождества или дня рождения маленькой дочки — если предположить, конечно, что существо всего с одной парой хромосом способно репродуцировать нечто большее, чем желеобразный экземпляр в юридической акватории.
Бекемайер, выдвинув ящик стола, достал футляр с ручками, извлек из него золотой «Пеликан» и протянул его обеими руками мне, точно презентуя фельдмаршальский жезл. Затем последовали десятка два-три документов, я расписался на всех — не отличишь от завитушек Груэна. Практиковался я в Гармише, чтобы уметь с легкостью изобразить такую же подпись, как в паспорте. С которой, кстати, Бекемайер незамедлительно и сверился. После чего я вернул ручку и, так как дело наше было явно завершено, встал и снял с вешалки свое пальто.
— Приятно было познакомиться, доктор Груэн. — Адвокат снова поклонился. — Всегда буду стараться преданно служить интересам вашей семьи. Можете на это положиться, герр доктор. Так же, как можете положиться на мою полнейшую скромность относительно вашего местопребывания. Несомненно, меня будут расспрашивать, как с вами связаться. Будьте уверены, я стану противостоять со всей моей обычной энергией. — Он в отвращении покачал головой. — Уж эти венцы! Они обитают в двух мирах. Один — это мир фактов. А второй — мир слухов и сплетен. Чем больше богатство, тем большими слухами оно обрастает. Но что тут можно поделать, герр доктор…
— Я благодарен вам за все, — перебил я. — Увидимся завтра на похоронах.
— Так значит, вы там будете?
— Я же сказал, что приду.
— Ну да, верно. Простите. Признаюсь вам честно, память у меня уже не та, что прежде. Ужасно адвокату признаваться в этом клиенту, но что поделать, от фактов не уйдешь. Здесь в Вене нам трудно пришлось после войны. Всем приходилось иметь дело с черным рынком, чтобы выжить. Иногда кажется, я так много забыл. А иногда я думаю, пожалуй, оно и к лучшему. Особенно раз я адвокат. Приходится быть таким осторожным. Моя репутация. Положение фирмы. Живу я, понимаете ли, в русской зоне. Я уверен, вы понимаете.
Я отправился обратно в отель, чувствуя странное беспокойство: было что-то странное в поведении доктора Бекемайера, чего я никак не мог уловить и объяснить. Я чувствовал себя человеком, который пытается удержать в руках угря: всякий раз, когда мне казалось, будто я схватил его, угорь выскальзывал. Я решил, что передам нашу любопытную беседу Эрику Груэну, когда позвоню ему с хорошей новостью, что встреча с адвокатом прошла без сучка без задоринки и его наследство, можно считать, уже получено.
— А как погода в Вене? — спросил Груэн. Деньги как будто его и не интересовали. — У нас тут вчера вечером валил сильный снег. Генрих уже смазывает лыжи.
— Здесь тоже идет снег, — доложил я.
— А какой у тебя отель?
Я с гордостью окинул глазом свой люкс.
— Сижу, жду, пока поисковая партия вернется из ванной и доложит мне, какая она, — сказал я. — В номере все просто прекрасно, только вот эхо гуляет.
— Энгельбертина тут рядом. Говорит, она посылает тебе горячий привет. Скучает по тебе.
Я даже губу изнутри прикусил, содрав кожицу.
— Я тоже по ней скучаю, — соврал я. — Послушай, Эрик, этот звонок обойдется тебе в половину твоего наследства, так что давай я лучше перейду к сути. Как я и сказал, я встретился с Бекемайером, и все прошло гладко. То есть он вполне убежден, я — это ты.
— Отлично, отлично.
— Но было в нем нечто странное. Чего-то он недоговаривал. Чего-то все ползал вокруг да около. Я никак не мог раскусить, в чем все-таки дело. У тебя есть какие-нибудь догадки?
— Думаю, да, могу предположить. — Он рассмеялся иронически, и голос у него стал смущенным, как у человека, позаимствовавшего вашу машину без вашего разрешения. — Был период, несколько лет назад, когда все думали, что старик Бекемайер и моя мать были, ну, хм… любовниками. Если он показался тебе странным, то скорее всего причина в этом. Наверное, он подумал, что тебе про это известно. Вот и смущался. Глупо, что я забыл тебя предупредить.
— Что ж, пожалуй, может быть и так. Сегодня собираюсь навестить твою прежнюю подружку. Ту, которую ты бросил посреди дороги.
— Помни, о чем я просил, Берни. Она не должна знать, что деньги от меня. Иначе, пожалуй, еще откажется взять.
— Да, ты говорил, неизвестный благодетель.
— Спасибо, Берни. Я действительно тебе очень благодарен.
— Забудь, — посоветовал я и опустил трубку на рычаг.
Спустя некоторое время я опять вышел и доехал на автобусе до «Отель де Франс», чтобы съесть ланч. Он был открыт для всех, хотя еще принадлежал французской оккупационной армии. Еда там, по словам консьержа в моем отеле, была лучшей в городе. Да к тому же находился отель сразу за углом от нужного мне дома.
29
До Лихтенштейн-штрассе, сердца Девятого округа, я добрался, уже когда дневной свет начал потихоньку меркнуть, а это в Вене лучшее время суток. Разрушения от бомб, не такие страшные, как в Мюнхене, а с Берлином уж и вовсе несравнимые, в сумерках совсем не бросались в глаза, и было очень легко вообразить себе город великой имперской столицей, какой он некогда был. Небо превратилось в лиловато-серое, и снегопад наконец прекратился, что ничуть не уменьшило энтузиазма людей, покупавших лыжные ботинки в магазине, расположенном дверь в дверь с домом, где жила Вера Мессман.
Войдя в дом, я начал подниматься по лестнице, что было бы совсем нетрудно, если б я не перенес пневмонию и так превосходно не пообедал. Квартира ее находилась на верхнем этаже, и мне несколько раз пришлось останавливаться, чтобы отдышаться, наблюдая, как изо рта вырываются облачка пара. Металлические перила кусались от холода. Пока я добрался до квартиры, опять повалил снег, и снежинки бились об окна лестничных пролетов крошечными ледяными пульками, вылетая из винтовки какого-то небесного снайпера. Я прислонился к стене, ожидая, пока смогу хотя бы поздороваться, и через некоторое время постучался в дверь фройляйн Мессман.
— Мое имя — Гюнтер. Берни Гюнтер, — представился я, снимая вежливо шляпу и протягивая ей свою мюнхенскую визитку. — Все в порядке. Я ничего не продаю.
— И отлично, — откликнулась женщина. — Потому что я ничего не покупаю.
— Вы — Вера Мессман?
Она стрельнула взглядом на мою карточку, на меня:
— Ну, это зависит…
— Например, от чего?
— От того, думаете ли вы, что это сделала я, или нет.
— Сделали что? — Я не возражал, пусть она поиграет со мной. Одно из преимуществ моей работы — возможность поддразнивать привлекательных брюнеток.
— О, ну вы знаете. Убила Роджера Экройда.
— Никогда не слыхал про такого.
— Агата Кристи, — подсказала она.
— И про нее тоже.
— Разве вы не читаете книг, герр… — Женщина опустила глаза на карточку, опять поддразнивая меня. — Гюнтер.
— Никогда! Для бизнеса просто губительно создавать впечатление, будто я знаю больше, чем рассказывают мне клиенты. По большей части они желают, чтобы человек, даже если он и не полицейский, вел себя, как полицейский. А полицейский, который цитирует Шиллера, им ни к чему.
— Ну хотя бы о нем вы слышали.
— О Шиллере? Само собой. Он тот парень, который заявил, что истина обитает в гуще обмана. Эту цитату мы повесили над входной дверью агентства. Он святой покровитель всех детективов.
— Да вы входите, герр Гюнтер, — пригласила она, отступая. — В конце концов, сверхосторожный достигает малого. Это тоже Шиллер, на случай, если не знаете. Он покровитель не только детективов, но и одиноких женщин.
— Каждый день узнаешь что-то новенькое, — заметил я и вошел в квартиру, с наслаждением вдыхая, проходя мимо Веры Мессман, запах ее духов.
— Нет, совсем не каждый. — Она закрыла за мной дверь. — И даже не каждую неделю. И не в Вене. И уж во всяком случае, не в нынешнее время.
— Может, вам стоит покупать газету?
— Отучилась от этой привычки. В войну.
Я взглянул на Веру еще раз. Мне понравились ее очки. В них у нее был такой вид, будто она прочитала все книги на полках, которые тянулись вдоль прихожей. Очень мне нравится, когда женщина, которая сначала кажется простенькой, все больше хорошеет, чем дольше ты на нее смотришь. Вера Мессман была как раз из таких. Через какое-то время у меня сложилось впечатление, что женщина она весьма и весьма красивая. Красивая женщина, которая зачем-то носит очки. Не то чтобы сама она сомневалась насчет своей внешности. И поведение ее, и манеру разговаривать отличала спокойная уверенность. Если б существовал конкурс красоты среди библиотекарш, Вера легко и просто выиграла бы его. Ей даже не пришлось бы снимать очки и распускать каштановые волосы.
Мы все еще неловко топтались в прихожей. И мне еще предстояло осчастливить ее, хотя, судя по ее разговору, сам мой приход уже стал для нее приятным разнообразием.
— Так как я никого не убивала, — сказала она, — и не состояла в преступной любовной связи — во всяком случае, с прошлого лета, меня страшно интригует, зачем все-таки ко мне пожаловал частный детектив.
— Расследованиями убийств я не занимаюсь, — сообщил я, — во всяком случае, с тех пор как перестал быть быком, то есть полисменом. Я разыскиваю пропавших людей.
— Тогда у вас работы невпроворот.
— И для меня приятное разнообразие быть вестником хороших новостей, — продолжил я. — Мой клиент, он предпочитает остаться неизвестным, желает вручить вам некоторую сумму денег. Взамен вам ничего не надо делать. Ничего. Только зайти завтра днем в банк Шпэнглера, в три часа, и расписаться на бланке в получении наличных. Вот, в общем, и все, что мне позволено сказать вам. Ну и еще назвать сумму. Двадцать пять тысяч шиллингов.
— Двадцать пять тысяч? — Вера сняла очки, что позволило мне убедиться, насколько я был прав. Она была настоящая красавица. — Вы уверены, тут нет никакой ошибки?
— Нет, если вы — Вера Мессман, — заверил я. — Но вам, конечно, надо захватить с собой какое-то удостоверение личности в банк, подтверждающее, что вы — это вы. Банкиры куда менее доверчивы, чем детективы. — Я улыбнулся. — Особенно в банках как этот, расположенный в международной зоне.
— Послушайте, герр Гюнтер, если это шутка, то не очень смешная. Двадцать пять тысяч человеку вроде меня… Да кому угодно. Это деньги серьезные.
— Теперь, если желаете, я уже могу уйти. И вы больше никогда не увидите меня. — Я пожал плечами. — Послушайте, я могу понять, что вы разнервничались из-за того, что я вот так свалился к вам на голову. Может, и я нервничал бы, окажись на вашем месте. Так что, пожалуй, я пойду. Но только обещайте мне, что придете в банк в три. В конце концов, что вы теряете? Ничего.
Повернувшись, я взялся за ручку двери.
— Нет, пожалуйста, не уходите. — Вера направилась в гостиную. — Снимите шляпу и пальто и проходите.
Я сделал, как было велено. Я не прочь делать, что велят, если распоряжается женщина не очень строгих моральных правил. В комнате я увидел кабинетный рояль с поднятой крышкой, а на пюпитре — ноты Шуберта. Перед высоким двустворчатым окном расположилась пара синих стеганых кресел с серебряными позолоченными дельфинами, у стены манило присесть канапе, обитое цветастой тканью с золотой отделкой и с валиками-подлокотниками. Красовалась еще парочка фигурок арапчат, похоже, не страдавших от холода, и высился большой резной шкаф с головками купидонов на двери. В изобилии висели старые картины, и имелось настенное дорогое зеркало из муранского стекла: оно отразило меня, смущенно озирающегося, — неуместная тут фигура, точно слон, забредший в лавку игрушек. У подножия французских мраморных часов увлеченно читал книгу бронзовый щеголь. Как я понимаю, не детектив Агаты Кристи. В таких комнатах книги обсуждаются чаще, чем футбол, женщины сидят сдвинув колени, а по радио слушают заунывную музыку цитр. Комната сказала мне, что Вере Мессман не особо сильно нужны деньги, так же как не требуются и очки. Но она снова нацепила их и направилась к аккуратному маленькому столику с напитками под зеркалом.
— Выпьете? — предложила она. — Есть шнапс, коньяк и виски.
— Шнапс, — попросил я. — Спасибо.
— Пожалуйста. Если желаете, можете курить. Сама я не курю, но мне нравится запах табака. — Вручив мне бокал, она повела меня к синим креслам.
Я уселся, вынул трубку, оглядел ее и сунул обратно в карман. Сейчас я снова стал Берни Гюнтером, не Эриком Груэном, а Берни Гюнтер курит сигареты. Я вынул табак и принялся сворачивать самокрутку.
— Мне нравится смотреть, как мужчина делает самокрутку, — заметила она, наклоняясь на кресле вперед.
— Если б пальцы у меня не были такими холодными, я управлялся бы ловчее.
— Вы и так прекрасно справляетесь. Я тоже не прочь курнуть, когда закончите.
Я завершил работу, раскурил сигарету и протянул ей. Вера затянулась с искренним наслаждением, будто бы изысканной сигаретой. Потом протянула мне обратно. И даже не закашлялась.
— Конечно, я догадываюсь, кто это, — проговорила она. — Мой анонимный благодетель. Это Эрик, верно? — Она покачала головой. — Ладно, вам не обязательно говорить. Но я — знаю. Я случайно несколько дней назад увидела газету. Там было что-то о смерти его матери. Не требуется быть Эркюлем Пуаро, чтобы понять: он наложил руки на ее деньги и теперь желает возместить ущерб, самоуверенно считая, что такое возможно после его мерзкого поступка. И я вовсе не удивляюсь, что он послал вас, вместо того чтобы явиться ко мне самолично. Наверное, не осмеливается показаться мне на глаза из страха — чего уж там такие, как он, боятся — не знаю. — Вера, пожав плечами, глотнула из бокала. — Для сведения. Когда он бросил меня в двадцать восьмом, мне было всего восемнадцать. Ему ненамного больше, кажется. Я родила девочку, Магду.
— Да, я хотел спросить вас о дочери, — спохватился я. — Мне поручено передать и ей такую же сумму, как вам.
— Вряд ли вы сможете. Магда погибла. Ее убило во время воздушного налета в сорок четвертом. Бомба попала в ее школу.
— Сожалею, — пробормотал я.
Сбросив туфли, Вера красиво села, подобрав под себя ноги.
— Так, на всякий случай, скажу еще, что не держу на него зла. В сравнении с тем, что творилось в войну, не такое уж страшное преступление он совершил, бросив беременную девушку одну. Ведь так?
— Да, наверное.
— Но все-таки я рада, что он прислал вас. Его мне не хотелось бы видеть. Особенно теперь, когда Магда погибла. Неприятно было бы. И от него лично мне не захотелось бы брать деньги. Однако двадцать пять тысяч шиллингов… Не могу сказать, что они не пригодятся. Несмотря на то, что вы видите вокруг, сбережения у меня не очень-то большие. Мебель эта, конечно, дорогая, но она вся осталась мне от матери. И еще квартира. Все это — память о ней. Квартира тоже принадлежала ей. У нее был отменный вкус.
— Да, — вежливо согласился я, оглядываясь. — Действительно.
— Но смысла продавать что-то — никакого, — продолжала Вера. — Для такой мебели сейчас у людей нет денег. Даже янки такая не по карману. Пока — нет. Я жду, пока снова возникнет спрос. Но теперь, — Вера молча подняла бокал, предлагая за это выпить, — теперь, может, мне и не нужно будет ждать. — Она отпила еще немного. — Значит, все, что мне нужно сделать, это зайти в банк и расписаться?
— Ну да. Вам даже не нужно называть его имя.
— Совсем замечательно.
— Всего лишь войдете в дверь, я буду вас там ждать. Мы зайдем в отдельный кабинет, и я передам вам наличные. Или банковский чек, как предпочитаете? Все просто.
— Когда дело касается денег, просто никогда не бывает.
— Не стоит смотреть дареному коню в зубы. Вот вам мой совет.
— Это, герр Гюнтер, плохой совет, — возразила она. — Задумайтесь только, какие огромные счета придут от ветеринара, если лошадка хворая. А бедные глупые троянцы? Не стоит забывать, что приключилось с ними. А загляни они дареному коню греков в зубы, то увидели бы Одиссея и его дружков, спрятавшихся внутри. — Вера улыбнулась. — Вот в чем польза классического образования.
— Да, в ваших словах есть смысл, — согласился я. — Но непонятно, как вам удастся проверить зубы в данном конкретном случае.
— А все потому, что вы полицейский, который не полицейский. О, я вовсе не хочу быть грубой. Но, может быть, будь у вас несколько больше воображения, вы сумели бы придумать способ, как мне поближе приглядеться к пони, которого вы мне привели.
Вытянув самокрутку из моих пальцев, Вера сделала короткую затяжку, прежде чем смять ее в пепельнице. Потом сдернула очки и подалась ко мне, пока ее губы чуть не уткнулись в мои.
— Ближе, — попросила она и, приоткрыв губы, прижала сочный рот к моему.
Поцелуй затянулся. Когда она отпрянула, в глазах у нее плавился мед.
— И что же ты обнаружила? — спросил я. — Какие-то признаки греческого героя увидела?
— Осмотр я еще не закончила. Пока что — нет. — И, встав, она взяла меня за руку и потянула.
— Куда пойдем? — поинтересовался я.
— Елена ведет тебя в свой дворцовый будуар, — объявила она.
— А ты уверена? — Я посопротивлялся секунду. — Может, теперь моя очередь изображать Кассандру. Будь у меня побольше воображения, я бы, пожалуй, и подумал, какой я раскрасавец, что мне оказывают подобное гостеприимство. Но мы оба знаем — нет, я совсем не такой. Так что, быть может, отложим до тех пор, пока ты получишь свои двадцать пять тысяч?
— Ценю твои слова. — Она по-прежнему держала меня за руку. — Но я и сама не то чтобы в расцвете юности, герр Гюнтер. Позвольте мне рассказать о себе. Я шью корсеты. У меня магазинчик на Ваза-гассе. Все мои клиенты женщины, это понятно само собой. Большинство мужчин, каких я когда-то знала, умерли или стали инвалидами. Вы — первый с неизувеченным телом, разумный на вид мужчина, с каким я говорю за последние полгода. Последний, с кем я обменялась больше чем десятком слов, был мой дантист, а зубы я уже давным-давно не проверяла. Ему шестьдесят семь, и у него плоскостопие, возможно, только по этой причине он еще и жив. Мне через две недели исполнится тридцать девять, и я уже обучаюсь на вечерних курсах стародевичеству. Я даже обзавелась котом. Гуляет сейчас. Ведет жизнь поинтереснее моей. Сегодня я рано закрыла магазинчик. Но чаще всего по вечерам я прихожу домой, готовлю еду, читаю детектив, принимаю ванну, еще раз читаю перед сном и ложусь в постель, одна. Раз в неделю я хожу в церковь Марии на Гештаде и прошу отпущения грехов за поступки, которые я шутливо именую своими грехами. Нравится? — Вера улыбнулась, немножко горько, как мне показалось. — В твоей визитке написано, ты из Мюнхена, то есть, когда ты закончишь дела в Вене, ты вернешься туда. Что дает нам дня три, ну, четыре, самое большее. Что я там цитировала из Шиллера? Не следует осторожничать чрезмерно. Я говорила вполне серьезно.
— Насчет моего возвращения в Мюнхен ты права, — сказал я. — Думаю, из тебя получился бы очень хороший частный детектив.
— Боюсь, из тебя швея-корсетница получилась бы не очень.
— Ты бы удивилась, сколько я знаю насчет женских корсетов.
— О, очень надеюсь. Но я твердо намереваюсь выяснить, да или нет? Я понятно изъясняюсь?
— Очень даже. — Я снова поцеловал ее. — А ты носишь корсет?
— Минут через пять, — она взглянула на часы, — ты снимешь его. Умеешь снимать дамские корсеты, а? Просто вынимаешь все маленькие крючочки из всех маленьких петелек, пока во рту у тебя не пересохнет и ты не начнешь слышать, как часто я дышу. Можешь, конечно, попробовать сорвать его. Но мои корсеты очень добротные. Их сорвать не так просто.
Я пошел следом за ней в спальню.
— Это твое классическое образование… — пробормотал я.
— И что с ним?
— Что все-таки случилось с Кассандрой потом?
— Греки выволокли ее из храма Афины и изнасиловали. — Вера пинком захлопнула за собой дверь. — Лично я ничуть не возражала бы.
— «Ничуть не возражала бы» — эти слова ласкают мне слух.
Она перешагнула через платье, а я чуть отступил, чтобы как следует разглядеть ее. У нее была прекрасная, пропорциональная фигура. Я ощутил себя Кеплером, восхищающимся золотым сечением. Но только я знал, что, в отличие от него, получу гораздо больше удовольствия. Возможно, он никогда и не видел женщину в красиво сшитом корсете. А если видел, тогда, значит, я лучший математик, чем считал себя в школе.
30
Я остался у Веры на ночь, и хорошо, потому что сразу после полуночи в ее квартиру забрался незваный гость.
После нашего раннего вечернего представления она пыталась соблазнить меня дать ночное шоу, когда вдруг замерла на мне.
— Послушай, — прошептала она. — Слышишь? — И когда я ничего не сумел услышать, кроме собственного тяжелого дыхания, прибавила: — В гостиной кто-то есть. — Она легла рядом со мной, натянула простыню до подбородка и ждала, пока я соглашусь с ней.
Я лежал тихо, и наконец тоже услышал: шаги по паркетному полу. Я тут же скатился с кровати.
— Ты ждешь кого-то? — спросил я, спешно натягивая брюки и прилаживая подтяжки на голые плечи.
— Конечно нет, — прошипела Вера. — Сейчас ведь полночь.
— У тебя есть какое-нибудь оружие?
— Детектив ты. Разве у тебя нет пистолета?
— Иногда ношу. Но не когда путешествую через русскую зону. Из-за пистолета можно загреметь в трудовой лагерь. Или еще того хуже.
Вооружившись хоккейной клюшкой, я рывком распахнул дверь.
— Кто тут? — громко спросил я, нашаривая выключатель.
В темноте что-то шевельнулось. Я услышал, как кто-то выскочил в коридор, а потом в дверь. Я уловил слабый запах пива, табака и мужского одеколона — и по лестнице загремел топот сбегающих ног. Я стремглав припустился за вором, но, добежав до площадки первого этажа, поскользнулся босой ногой и упал.
Поднявшись, проковылял по последнему пролету лестницы и выбежал на улицу, успев только заметить, как человек скрывается за углом Туркен-штрассе. Будь на мне башмаки, я бы погнался за ним, но с босыми ногами по снегу и льду не разбежишься. Мне только и оставалось, что снова подняться наверх.
У входной двери, когда я добрался до верхней площадки, стояла Верина соседка. Она подозрительно окинула меня острыми глазками, что было довольно-таки нахально с ее стороны: похожа она была на невесту, от которой сбежал бы от алтаря даже монстр Франкенштейна. Жидкие прилизанные волосы у нее были собраны хвостиком на затылке, руки похожи на высохшие когтистые лапки рептилии, длинным белым саваном спадала с плеч ночная рубашка. Даже безумец, вроде Мартовского Зайца, понял бы всю тщетность попыток выдать за женщину эту карлицу с усиками.
— К фройляйн Мессман, — заикаясь, выговорил я, — в квартиру забрался вор.
Не проронив ни слова, эта страшила с выпирающими костями чуть дернулась, будто напуганная птица, и нырнула к себе в квартиру, захлопнув за собой дверь с такой силой, что по заледеневшему лестничному колодцу прокатилось эхо, словно в заброшенном могильном склепе.
Вернувшись к Вере, я увидел, что она накинула халат, на лице — тревога и страх.
— Он удрал, — дрожа от холода, сообщил я.
Сняв халатик, она набросила его мне на плечи и, бесстыдно голая, прошествовала на кухню.
— Я сварю кофе, — сказала она.
— Что-нибудь пропало? — поинтересовался я, следуя за ней.
— Нет, насколько я вижу, — ответила она, — а сумка была в спальне.
— Может, он пришел за чем-то специально?
Она поставила на плиту кофеварку:
— Отсюда ничего легко не унесешь.
— А раньше к тебе забирались воры?
— Нет, никогда. Даже русские не вламывались. У нас безопасный район.
Я рассеянно смотрел на ее обнаженное тело, пока она расхаживала по кухне, и на минутку мысли мои опять обратились к судьбе Кассандры, но решил не упоминать вероятность, что у взломщика на уме было нечто иное — не грабеж.
— Странно, что случилось это, как раз когда тут находился ты, — обронила Вера.
— Но остаться меня уговорила ты. Помнишь?
— Извини.
— Ладно, неважно. — Я вернулся в коридор, решив обследовать замок на двери. Он оказался марки «Эвва» — отличный замок. Одного внимательного взгляда было достаточно, чтобы понять, как взломщик проник в квартиру. Необходимости ковыряться отмычкой, взламывать или отжимать дверь не было — ключ от двери болтался на шнурке под почтовым ящиком.
— Замка он не взламывал, — объявил я. — Ему не понадобилось. Взгляни.
Вера вышла в коридор и наблюдала, как я сдергиваю шнурок с двери.
— Не очень разумно оставлять так ключ, если женщина живет одна, — укоризненно произнес я.
— Верно, — виновато согласилась Вера. — Обычно я закрываю дверь на задвижку, когда ложусь спать. Но сегодня вечером у меня, видно, мысли были заняты другим.
Я запер дверь на задвижку.
— Вижу, придется преподать тебе урок профилактики преступлений, — сказал я, ведя ее обратно в спальню.
31
После многолюдной панихиды в Карлскирхе похоронный кортеж, сопровождающий гроб Элизабет Груэн, медленно двинулся по Зиммерингер-Хаупт-штрассе к Центральному кладбищу Вены. Я добрался до церкви — барокко с приметным сверкающим куполом, а от нее ехал в «кадиллаке-флитвуд», за рулем сидел американский солдат в увольнении, он подрабатывал шофером. Все в Вене подрабатывали где-то на стороне. Кроме разве что мертвых. А вот если вы мертвы, тогда Вена, пожалуй, лучшее для вас место в мире. Центральное кладбище в Одиннадцатом округе — пятьсот акров и два миллиона усопших — это как город в городе: прямые улицы, деревья и цветы, красивые статуи и изысканная архитектура. При условии, что у вас есть деньги и вы мертвы, конечно, вы можете провести тут вечность, обитая в монументальном великолепии, какое обычно доступно только императорам, монархам и тиранам.
Фамильный склеп Груэнов представлял собой бункер черного мрамора с орудийную башню на линкоре «Бисмарк», на котором скромными золотыми буквами выведено «Семья Груэн», а у основания сооружения имена нескольких Груэнов, погребенных внутри, в том числе и отца Эрика — Фридриха. Фасад украшала бронзовая фигура скудно одетой женщины, которая была как бы сломлена горем, но на самом деле больше походила на разудалую дамочку, которая провела бурную ночку в «Ориенталь клубе», повеселившись там на славу. Так и тянуло помчаться разыскать для нее теплое пальтецо и притащить чашку крепкого черного кофе.
Склеп был, если судить по стандартам египетских фараонов, самый скромный, однако с четырьмя сфинксами — тоже черного мрамора — по одному в каждом углу, так что не сомневаюсь, все потомки Птолемеев все-таки чувствовали бы себя вполне уютно в этом интерьере. И когда я вышел оттуда, отдав положенный последний долг матери Эрика, то так и ждал, что могильщик обыщет меня на предмет золотых скарабеев и наковырянных драгоценных камней. Но и без того я поймал на себе столько подозрительных и враждебных взглядов, что можно было подумать, будто я Моцарт, разыскивающий свою безвестную могилу. Даже священник — он в своей лиловой накидке походил на французское пирожное в витрине кондитерской — и тот злобно покосился на меня.
Я надеялся, что, нацепив темные очки — день был холодный, но яркий, солнечный — и держась поодаль от других скорбящих, я сохраню относительную анонимность. Только доктор Бекемайер знал, как он считал, кто я, поэтому я никак не ожидал столь бурного выражения чувств от одной из служанок Элизабет Груэн.
Краснолицее, костлявое, дурно одетое существо, похожее на говяжью тушу в мешке, она недвусмысленно дала мне понять, как относится к тому, что Эрик Груэн вообще явился на похороны. Когда она говорила, то ее вставная челюсть подпрыгивала, точно от легкого землетрясения в голове.
— У вас еще хватило наглости явиться сюда! — с явным отвращением прокаркала эта старая ведьма. — После всех этих лет. После всего, что вы сделали. Ваша мать стыдилась вас, вот что! Стыдилась, и ей было отвратительно, что Груэн так поступает. Позор! Ваш отец отстегал бы вас кнутом!
Я промямлил какую-то банальность, что все случилось так давно, и быстро направился к главным воротам, где оставил американца с машиной. Несмотря на холод, на кладбище царило оживление. Двигалась другая похоронная процессия, и несколько человек шагали в том же направлении, что и я. Я почти не обращал на них внимания. Даже на джип международного патруля, припаркованный чуть поодаль от «кадиллака», не посмотрел. Я сел в машину, и американец рванул с места, будто преступник, за которым гонятся.
— Какого черта? — заорал я. — Я ведь на похоронах присутствовал, а не банк грабил.
Водитель, совсем юный парнишка с ежиком волос и ушами словно две внушительных размеров дверные ручки, мотнул головой на зеркало заднего обзора.
— Международный патруль, — сказал он на вполне сносном немецком.
Я обернулся взглянуть через заднее окно. И правда, джип сел нам на хвост.
— Чего им нужно? — завопил я, пока он гнал машину по Зиммерингеру.
Лихо свернув на узкую боковую улочку, он ответил:
— Или гонятся за тобой, приятель, или за мной.
— За тобой? Но что ты сделал?
— Моя машина, — перекрикивал мотор водитель, — только для оккупационных служащих. А еще — сигареты, выпивка и нейлоновые чулки в багажнике.
— Распрекрасно просто! — возмутился я. — Пребольшое тебе спасибо! Только мне и не хватало вляпаться в неприятности с полицией в день похорон моей матери. — Сказал, только чтобы ему стало плохо от таких слов.
— Да ладно, не волнуйся, — белозубо ухмыльнулся он. — Пусть сначала поймают. Эта машина запросто обгонит какой угодно джип, у нее в моторе четыре слона. Если не вызовут по радио подмогу на перехват, тогда оторвемся. Кроме того, эту патрульную наверняка ведет американец. Такое правило. Наша машина, наш водитель. А американские водители не безумцы. Вот если рулит Иван, тогда у нас проблемы. Таких бешеных водителей, как Иваны, нигде нет.
С русскими я ездил и знал, что парнишка не преувеличивает.
Мы мчались через восточные окраины в центр. Джип не терял нас из виду до самой железной дороги, и только тут мы сумели оторваться.
— Вот. — Я кинул несколько купюр на заднее сиденье, когда мы добрались до парка Модена. — Высади меня на углу. Дальше пешком дойду. У меня нервы не выдерживают.
Я выскочил, захлопнул дверцу и проводил взглядом «кадиллак» — машина, пронзительно взвизгнув шинами, помчалась по Цаунер-гассе. Я двинулся следом, на Сталин-плац, потом вниз по Гассхаус-штрассе, обратно к себе в отель. Да, насыщенное выдалось утро. Но оказалось, день у меня только начинался.
Я подкрепился легким ланчем и поднялся в свой номер отдохнуть перед встречей с Верой Мессман в банке. Только я успел лечь, как в дверь тихонько постучали. Не сомневаясь, что это горничная, я, поднявшись, открыл. Мужчину, стоявшего за дверью, я узнал: видел его на похоронах. На минутку я подумал, что придется выслушать еще одну порцию обвинений: как я посмел навлечь бесчестье на глубокоуважаемую семью Груэн. Но гость, почтительно сдернув шляпу, молчал, прижав ее к груди и крепко вцепившись в поля.
— Да? — спросил я. — В чем дело?
— Герр Груэн, я служил дворецким у вашей матушки, — ответил он, как мне показалось, с венгерским акцентом. — Тибор Медгэсси. Могу я поговорить с вами минутку? — Он нервно оглянулся на коридор. — Наедине, герр Груэн? Всего несколько минут, если будете так любезны.
Был он высок и для человека его возраста хорошо сложен, по моим прикидкам, ему было около шестидесяти пяти. А может, и больше. Пышная грива седых кудрявых волос, темные зубы, которые казались выточенными из дерева, очки с толстыми стеклами в металлической оправе, темные костюм и галстук. Выправка у него была почти военная — наверное, Груэны предпочитали именно таких слуг.
— Хорошо, входите. — Я наблюдал, как он, прихрамывая, вошел. Я закрыл дверь.
— Ну? Так в чем дело? Чего вы желаете?
Медгэсси явно одобрительно оглядел номер.
— Очень красиво, герр Груэн, — заметил он. — Правда, очень красиво. Не виню вас, что вы предпочли остановиться здесь, а не в доме своей матери, особенно после того, что случилось утром на похоронах. Достойно всяческого сожаления. Я уже отругал ее. Пятнадцать лет я служил дворецким вашей матушки и в первый раз слышал, чтобы Клара говорила что-то непозволительное.
— Клара, значит, говорите?
— Да, это моя жена.
Я пожал плечами:
— Послушайте, забудьте. Чем меньше обсуждаешь, тем лучше. Я благодарен вам, что вы пришли извиниться, но, правда, это все пустяки.
— Но, герр доктор, я пришел не для того, чтобы извиниться.
— Вот как? — Я покачал головой. — Тогда зачем же?
Дворецкий раздвинул губы в едва заметной, непонятной улыбке, словно из-за высокого глухого забора на миг показалось чье-то лицо.
— Дело вот какое, герр Груэн, — начал он. — Ваша матушка оставила нам немного денег в своем завещании. Но завещание она составляла давно, и смею сказать, сумма, ею оставленная, вполне обеспечила бы нас, если бы недавно не произошло падение курса австрийского шиллинга. Конечно, она намеревалась внести исправления, но умерла так внезапно, что у нее просто не хватило времени. Так что мы с женой оказались в несколько затруднительном положении. Того, что она оставила, не хватит, чтобы удалиться на покой, а в наши годы искать другую службу уже поздно. Вот мы и подумали, может, вы сумеете помочь нам, герр доктор. Вы теперь стали богаты, а нам много не надо. Мы бы и вовсе ничего не стали просить, если б ваша матушка сама не намеревалась изменить завещание. Можете хоть доктора Бекемайера спросить, если не верите мне.
— Понятно, — протянул я. — Но с вашего позволения, герр Медгэсси, ваша жена Клара разговаривала со мной вовсе не так, будто нуждается в моей помощи.
Дворецкий переступил с ноги на ногу и встал по стойке вольно.
— Она, герр Груэн, просто немного расстроилась из-за внезапной кончины вашей матушки в госпитале, вот и все. А также потому, что со дня смерти Международная полиция все время приезжает к нам и задает о вас вопросы — они желали узнать, приедете ли вы в Вену на похороны.
— А с какой стати полиция союзников так уж интересуется мной? — И, еще недоговорив фразы, я вспомнил, как мы удирали с Центрального кладбища. Похоже, мой водитель-американец зря за себя боялся. Похоже, гнался Международный патруль за Эриком Груэном, а не за спекулянтом с черного рынка.
Медгэсси снова мелькнул загадочной улыбкой из-за своего «забора».
— Не нужно так, герр Груэн. Мы не дураки, моя жена и я. Если мы не говорим про это никогда, это еще не значит, что мы про это не знаем. — Было ясно, что речь идет явно не о девушке, брошенной в беде, а о чем-то гораздо более важном. — Так что, пожалуйста, не надо говорить со мной, будто я законченный идиот. Мы просим только об одном: о возможности и дальше служить вашей семье, как уж сможем. Потому что не могу себе представить, чтобы вы остались в Вене. Официально, во всяком случае.
— И как именно, по вашему мнению, вы можете служить мне? — терпеливо спросил я.
— Нашим молчанием, герр Груэн. Мне были известны почти все дела вашей матушки. Она была такая доверчивая. И очень неосмотрительная, если вы понимаете, о чем я.
— Вы шантажировать меня пытаетесь, что ли? Так чего сразу не назовете сумму? Сколько?
Медгэсси досадливо покрутил головой:
— Нет, герр Груэн, какой там шантаж! Мне не хотелось бы, чтобы вы так воспринимали мою просьбу. Мы хотим продолжать служить вашей семье. Ну и должного вознаграждения за преданность. Вот и все. Может, то, что вы совершили, герр доктор, было и правильно. Не мне судить. Но будет справедливо, если вы признаете свой долг нам. Например, за то, что мы не сообщили полиции, где вы живете. В Гармише, верно? Очень симпатичный городок. Сам я там не бывал, но слышал, он очень красивый.
— Сколько? — повторил я.
— Двадцать пять тысяч шиллингов, герр. Это не много, учитывая все обстоятельства. Если подумать, герр доктор.
Я растерялся, не зная, что же ответить. Было очевидно, что Эрик Груэн был не до конца откровенен со мной. Крылось в его прошлом нечто такое, из-за чего его приезд в Вену весьма интересовал союзников. Или, может быть, дело в убийстве тех военнопленных во Франции, про которых упоминала Энгельбертина? Почему бы и нет? Ведь заключили союзники в тюрьму в Ландсберге десятки эсэсовцев за массовое убийство в Малмеди. Какова бы ни была причина, ясно одно: с Медгэсси мне требуется потянуть время, пока я не переговорю с Груэном. А пока что выбор у меня невелик — придется согласиться для видимости на шантаж дворецкого. Со всеми документами, какие у меня имелись на имя Эрика Груэна, я вряд ли мог снова превратиться в Берни Гюнтера и сделать вид, что я тут ни при чем.
— Хорошо, — сказал я. — Но мне потребуется какое-то время, чтобы раздобыть деньги. Официально завещание еще не вступило в силу.
Лицо у гостя стало жестким.
— Не стоит дурачить меня, герр Груэн. Я-то никогда не предам вас. Но вот жена… Да вы и сами поняли на похоронах. Скажем, через двадцать четыре часа. В это же время завтра. — Он взглянул на свои карманные часы. — То есть в два часа. У вас вполне хватит времени съездить к Шпэнглерам и организовать все, что необходимо.
— Отлично, — согласился я. — До завтра. — Я открыл ему дверь, и он вышел, прихрамывая, словно вальсируя сам с собой. Я невольно отдал ему должное. Дельце они с женой провернули очень красиво. Хороший коп, злой коп. И вся эта трескотня насчет преданности — ход очень эффектный. Особенно то, как он мимоходом обронил названия: банк Шпэнглера, Гармиш.
Закрыв дверь, я тут же кинулся к телефону и попросил соединить меня с домом Хенкеля в Зонненбихле. Через несколько минут с коммутатора перезвонили: там не отвечают. И мне ничего не оставалось, как только надеть пальто и шляпу и отправиться на такси в банк.
Почти все здания на узкой мощеной улочке уже были восстановлены. На одном конце стояла желтая оштукатуренная церковь со шпилем, похожим на ракету «Фау-2», а на другом — живописный фонтан с дамой — леди выбрала не самый удачный день для прогулки топлес. В массивном портале стиля барокко зеленая дверь банка Шпэнглера походила на поезд Гитлера, застрявший в железнодорожном туннеле. Я подошел к швейцару в цилиндре, сообщил ему имя человека, на встречу с которым я пришел, и поднялся по лестнице, широкой как автобан, — шаги мои отдавались эхом от потолка надтреснутым звоном разбитого колокола.
Герр Треннер уже поджидал меня на верху лестницы. Он был моложе меня, но выглядел так, будто уже родился с седыми волосами, в очках и визитке. Он угодничал и извивался, как вьющееся японское растение. Он повел меня в комнату, где стоял стол и два стула. На столешнице лежали двадцать пять тысяч шиллингов и, как договорено, стопка наличных поменьше, на покрытие моих повседневных расходов. На полу, рядом со столом, примостилась простая кожаная сумка — нести деньги. Треннер протянул мне ключ от комнаты, проинформировав меня, что он в моем распоряжении на все то время, что я останусь в банке, дернул в поклоне головой и оставил меня одного. Я уложил в карман деньги на расходы, запер дверь и снова спустился вниз — ждать у парадной двери Веру Мессман. Было без десяти три.
32
Я ждал почти до половины четвертого, пока наконец не уверился: Вера все-таки передумала принимать деньги от Груэна и не придет. Так что я опять поднялся наверх, переложил деньги в сумку и отправился к ней домой.
До Лихтенштейн-штрассе через центр ходьбы было минут двадцать. Я позвонил в дверь Веры, потом постучал. Даже покричал через щель почтового ящика, но дома никого не было. Ну разумеется, сказал я себе, сейчас всего четыре. Она в своей лавке. За углом, на Ваза-гассе. Вчера я застал ее дома только потому, что магазинчик рано закрылся. Но сегодня обычный рабочий день. Да… ну ты и детектив, Берни Гюнтер.
И я отправился за угол. Наверное, я надеялся, что она все-таки возьмет деньги, когда увидит такую сумму наличными. В зрелище твердой валюты есть что-то, что изменяет решения людей. Во всяком случае, так подсказывал мне собственный опыт. И я подумал, что ее решительное «нет» при виде денег с помощью моих уговоров превратится в мягкое «да». Но если и это не сработает, я проявлю суровость и попросту прикажу ей принять деньги Груэна. Не сможет же она ослушаться приказа, ведь ночью в спальне она была так уступчива?
Окнами магазинчик выходил на задний двор Института химии Венского университета. Вывеска над витриной гласила «Вера Мессман. Салон пошива корсетов, корсажей, подвязок и бюстгальтеров». В витрине застыл дамский манекен в розовом шелковом корсете и бюстгальтере. На рядом расположенном рисунке девушка с бантом в волосах рекламировала еще более роскошные образцы нижнего белья. Она показалась мне похожей на Веру, только очков не хватало. Когда я открыл дверь, над головой у меня тренькнул крошечный колокольчик. Я увидел простой прилавок, покрытый стеклом, не больше карточного столика, и рядом — еще один женский манекен в подвязках. В задней комнате под потолком тускло горел свет рядом с примерочной кабинкой, отгороженной тяжелой шторой. Перед этой святая святых стояло кресло — явно для мужчины с набитым бумажником, который располагался тут, с хозяйским удовлетворением наблюдая, как появляется из-за шторы любовница в красивом белье, сшитом на заказ. Кто это сказал, будто я лишен живого воображения?
— Вера? — окликнул я. — Вера, это я, Берни. Почему ты не пришла в банк?
Машинально я выдвинул узкий ящик прилавка: в нем лежало с десяток черных бюстгальтеров, плотно спрессованных, точно рабы на корабле, плывущем на плантации в Вест-Индию. Подцепив один, я почувствовал пальцами жесткую проволоку, и у меня мелькнула мысль, что эта интимная вещица напоминает сооружение для первых опрометчивых попыток человека взлететь в воздух.
— Вера? — повысил я голос. — Я полчаса прождал в банке. Ты забыла или передумала?
Мне совсем не хотелось вторгаться в заднюю комнату: еще наткнусь там на упитанную венскую домохозяйку в одних трусиках. Сунувшись в другой ящик, я вытянул вещицу, отдаленно напоминавшую акведук; поднапрягшись, я опознал в ней пояс с подвязками. Проползла еще минута. В витрину заглянула женщина и изумилась, увидев меня с кружевной вещицей в руках. Бросив пояс на место, я все же пошел дальше — может, Вера где-то наверху, если здесь имеется верхний этаж.
— Вера?
Тут я наткнулся взглядом — сердце у меня кувыркнулось — на женскую ногу в чулке, без туфли, видневшуюся из-под шторы примерочной. Я взялся за штору, чуть помедлил, готовясь к зрелищу, которое — я это знал — меня ожидает, и рывком отдернул занавеску. Там лежала Вера, она была мертва. Нейлоновый чулок, которым ее задушили, перетягивал ей шею, обвившись почти невидимой змеей. Глубоко вздохнув, я прикрыл на минутку глаза. Через минуту-другую я перестал вести себя как обычное человеческое существо и начал размышлять и действовать как детектив. Вернувшись снова к двери, я запер ее, так, на всякий случай. Меньше всего мне сейчас требовалось, чтобы какая-нибудь Верина клиентка застала меня, когда я осматриваю мертвое тело. Я вошел в примерочную, задвинул за собой штору и опустился на колени подле трупа Веры, желая проверить, а может, она все-таки жива. Но кожа у нее была совсем холодная, и мои пальцы, когда я сунул их под петлю чулка и попытался нащупать пульс, ничего не ощутили. Вера была мертва уже несколько часов. В ноздрях, на деснах и на щеке у нее засохла кровь. Вокруг подбородка и на шее виднелось множество царапин и синяков. Глаза были закрыты. Я видел пьяниц, выглядевших еще и похуже, но они все-таки были живы. Ее волосы лежали вокруг головы спутанными прядями, а разбитые очки валялись на полу. Стул в примерочной опрокинут набок, по зеркалу змеилась широкая трещина. Все ясно и очевидно: Вера яростно боролась за свою жизнь, прежде чем сдалась. Заключение еще раз подтвердилось, когда я поднял ее руки и увидел ссадины на костяшках пальцев. Похоже, ей удалось ударить нападавшего. И возможно, не один раз.
Я встал, оглядел пол и, увидев окурок, подобрал. Сигарета «Лаки», а вот для меня никакой «лаки», удачи то есть, в этом не было. В моем номере такими окурками забита пепельница. Я сунул его в карман. Косвенных улик против меня и так более чем достаточно, нечего дарить полиции еще и эту. Эту ночь я провел у Веры, презервативом не пользовался. Вера сказала, что у нее безопасные дни, и это еще одна причина, почему ей так хотелось лечь со мной в постель. А это значит, что анализы после вскрытия покажут мою группу крови.
Я поискал Верину сумочку — надо бы взять оттуда ключ, чтобы зайти в ее квартиру и хотя бы свою визитку забрать. Но сумочка исчезла. Может, ее прихватил убийца? Возможно, тот самый, что проник в ее квартиру накануне ночью. Я выругал себя за то, что снял ключ со шнурка. Оставил бы, и мог бы сейчас войти в квартиру. Вне всяких сомнений полиция обнаружит мою карточку, а соседка, наблюдавшая, как я возвращаюсь в Верину квартиру в одних брюках и с хоккейной клюшкой в руках, сумеет подробно описать меня полиции. И описание совпадет с полученным от женщины, которая видела меня через витрину магазинчика несколько минут назад. Да-а, влип…
Я выключил свет и обошел магазин, протирая все, к чему прикасался, попавшимися мне под руку женскими трусиками. Мои отпечатки в ее квартире повсюду, конечно, но оставлять их еще и на месте преступления — совсем уж тупость. Открыв парадную дверь, я протер ручку, закрыл дверь и снова запер, потом опустил шторы на двери и на витрине. Если повезет, то обнаружат тело только через день-два.
Задняя дверь выходила во двор. Я поднял воротник пальто, поглубже нахлобучил шляпу, взял сумку с деньгами Веры и вышел. Уже темнело, и я старался держаться ближе к центру двора, подальше от освещенных окон и раннего серпика луны. На противоположном конце двора я, пройдя закоулком, открыл дверь, выходившую на улицу, пересекавшуюся с Ваза-гассе. Это была Хорл-гассе, и название что-то напоминало мне. Хорл-гассе, Хорл-гассе…
Я дошел до Рузвельт-плац. Посреди площади стояла церковь, возведенная в благодарность
Богу за сохранение жизни молодому императору Францу-Иосифу после покушения на него. Вроде бы Рузвельт-плац раньше называлась Геринг-плац. Я вспомнил, что Геринг давно, в 1936 году, был моим клиентом. Но Хорл-гассе все не выходила у меня из головы. И тут меня осенило — ну конечно же Хорл-гассе! Ведь это адрес Бритты Варцок! И тот же адрес я обнаружил отпечатавшимся на чистом листке блокнота, найденном в «бьюике» майора Джейкобса. Вытащив записную книжку, я посмотрел номер дома. По этому адресу я планировал зайти, как только закончу дела Груэна, но теперь момент изменить планы показался мне подходящим. Еще и потому, что я заинтересовался: простое ли совпадение то, что дома Бритты Варцок и Веры Мессман находятся поблизости?
Развернувшись, я зашагал по Хорл-гассе на восток. Для того чтобы найти дом сорок два, мне потребовалось ровно две минуты. Он находился сразу перед трамвайной линией, там, где Хорл-гассе вливается в Туркен-штрассе. Венская полицейская академия была всего в пятидесяти метрах отсюда. Я остановился перед порталом в стиле барокко. Пара атлантов высились тут вместо колонн, поддерживая антаблемент, украшенный гирляндами веток плюща. Маленькая дверь, врезанная в основную, большую, была открыта. Я зашел и остановился у почтовых ящиков. В здании было всего три квартиры — по одной на каждом этаже. На ящике, принадлежавшем квартире на верхнем этаже, стояло имя Варцок. Он разбух от почты, явно не вынимавшейся уже несколько дней. Но я все-таки потопал наверх.
Поднялся по лестнице. Дверь квартиры оказалась не заперта. Я толкнул ее и сунул голову в неосвещенный коридор. В квартире веяло холодом. Слишком уж тут было холодно для жилья.
— Фрау Варцок? — окликнул я. — Вы дома?
Квартира была огромная, с высоченными потолками и большими окнами. Одно из них было распахнуто. Неприятный запашок — какой-то застоявшийся, гнилой — забил мне ноздри и горло. Я вынул платок прикрыть нос и обнаружил, что в руках у меня трусики, которыми я вытирал отпечатки пальцев в лавке Веры Мессман. Да ладно, без разницы. Я прошел дальше, твердя себе, что здесь никого не может быть: никому не выдержать долго холод и такой запах. Потом подумал, нет, кто-то же должен был открыть окно, а раз еще пахнет, то открыли его недавно. Я выглянул на улицу: мимо с грохотом катился трамвай. Вобрав в себя побольше свежего воздуха, я двинулся в сумеречные глубины комнат, туда, где запах чувствовался сильнее. Вдруг вспыхнул свет, и, крутанувшись, я очутился лицом к лицу с двумя мужчинами. У обоих в руках были нацеленные на меня пистолеты.
33
Нельзя сказать, чтобы они были могучего сложения, и, если б не пистолеты, я легко мог бы убежать, растолкав их в стороны. По виду оба чуть умнее, чем средний бандит, вооруженный пистолетом, но так, ненамного. Лиц я сразу не рассмотрел. Требовалось вглядеться в них попристальнее, чтобы они хоть как-то отпечатались у вас в мозгу. Я всегда внимательно изучаю лицо человека, прицеливающегося в меня из пистолета, — и я вглядывался изо всех сил. Что не помешало мне поднять руки — это уже просто вопрос хороших манер, когда на сцене появляется огнестрельное оружие.
— Как тебя зовут, фриц? И что ты тут делаешь? — сурово спросил полицейский с пегими волосами, бородой и усами, прикрывающими слабовольный рот, что придавало его лицу некоторую мужественность. Очки в светлой оправе увеличивали глаза со слишком широкой радужной оболочкой вокруг желтовато-карих зрачков. На нем был темный костюм, короткая кожаная куртка, а на голове — маленькая шляпа булочника с вмятиной на тулье — трильби, из-за нее казалось, будто он вот-вот водрузит на нее поднос с хлебом.
Несмотря на грозный голос, казалось, что он сам толком не понимает, что, собственно, тут делает.
— Доктор Эрик Груэн, — назвался я. Какое бы там преступление ни совершил Эрик, но с паспортом Эрика Груэна в кармане ничего другого, как только назваться его именем, не оставалось. Да к тому же из того, что сказал мне Медгэсси, выходило, что охоту за Груэном вела полиция союзников, а не австрийская. А в том, что эти полицейские — австрийцы, сомнений у меня не было. Такие пистолеты — сверкающие, новенькие автоматические маузеры — выдали всем копам венских денацифицированных полицейских сил.
— Документы! — потребовал второй коп.
Медленно я опустил руку в карман. У обоих, вместе взятых, полицейского опыта, похоже, не больше, чем у скаут-мастера. А я не желал, чтоб меня пристрелили только потому, что какого-то копа-недоучку подвели нервы. Я осторожно протянул им паспорт Груэна и снова поднял руки.
— Я друг фрау Варцок, — добавил я и принюхался. Смрадным запашком тянуло не только в комнате, но и от всей ситуации. Если сюда явились полицейские, значит, случилось что-то дурное. — Послушайте, а с ней все в порядке? Где она?
Второй полицейский все еще рассматривал паспорт. Меня не тревожило, что он вдруг решит, что там не я, а также я ничуть не сомневался, что ему не известно ни про какие совершенные Груэном преступления.
— Тут написано, вы из Вены, — проговорил он. — Но по вашему разговору не похоже, что вы венец. — Одет он был так же, как его коллега, только отсутствовала шляпа булочника. Улыбка кривилась на щеке, по другую сторону от той, куда был свернут нос. Возможно, он считал, что это придает ему вид ироничный или даже скептический, но улыбка получилась всего лишь косой и невнятной. Подбородок у него почти отсутствовал, а линия волос на высоком лбу точь-в-точь совпадала с линией длинного шрама в форме буквы «S». Он вернул мне паспорт.
— До войны я жил в Берлине десять лет, — объяснил я.
— Доктор, значит?
Они понемногу успокаивались.
— Да.
— Ее доктор?
— Нет. Послушайте, кто вы? И где все-таки фрау Варцок?
— Полиция, — ответил тот, что в шляпе, сверкнув у меня под носом жетоном. — Дойчмейстер-плац.
Ну что ж, логично. Их отдел находился меньше чем в сотне метров от того места, где мы находились.
— Она — там, — добавил тот, что со шрамом.
Оба убрали оружие и провели меня в ванную, отделанную кафелем. Эта комната строилась во времена, когда ванная была бы не ванной, если в ней не могла помыться целая футбольная команда. Но сейчас в ней находилась всего одна женщина. Из одежды на ней был только нейлоновый чулок, затянутый узлом на шее. На такой узел Александр Македонский и внимания бы не обратил, но для женщины хватило. И труп, и вода, в которой он лежал, уже приобрели тошнотворный зеленоватый оттенок. Вокруг жужжали мухи. Любопытно, что на трупы всегда слетаются мухи, даже в самый отчаянный мороз. Прежде чем пулей вылететь оттуда — запах не вдохновлял задерживаться тут надолго, — я успел понять: эту женщину я вижу первый раз в жизни.
— Господи боже! — охнул я, выскакивая из ванной, как человек, который видел труп последний раз в медицинской школе, а не полчаса назад. На этот раз к носу я прижал руку — трусики благополучно прятались в кармане. Я ринулся прямиком к открытому окну и высунулся на свежий воздух. Но даже хорошо, что зловоние заставило меня давиться минуту-другую, иначе, пожалуй, я ляпнул какую-нибудь глупость насчет того, что труп в ванной совсем не Бритты Варцок. Что усложнило бы ситуацию, учитывая, что говорил сейчас коп в шляпе.
— Простите, увидеть такое… — Полицейский последовал за мной к окну. — Для меня это тоже стало шоком. Фрау Варцок давала мне когда-то уроки игры на фортепьяно, еще когда я был мальчишкой. — Он указал на пианино за дверью. — Мы только что сами нашли ее, когда вы вошли. Соседка снизу сообщила о запахе, и еще почта накопилась в ящике.
— Откуда вы ее знали? — осведомился второй коп, глазами поедая сумку, с которой я пришел и, вероятно, терзаясь догадками, что там внутри.
Изобретая на ходу, я плел какую-то историю, стараясь придерживаться правдоподобной цепочки причинных связей. Трупу в ванной было никак не меньше недели — из этого и следует исходить.
— Я знал ее мужа Фридриха, — говорил я. — Еще до войны. До того, как он… — Я пожал плечами. — Где-то с неделю назад я получил от нее письмо. Дома, в Гармише. Она писала, что с ней приключилась беда. Мне потребовалось какое-то время уладить дела с моей врачебной практикой, и в Вену я приехал совсем недавно.
— Письмо при вас? — перебил коп со шрамом.
— Нет. Боюсь, я оставил его в Гармише.
— А какая беда? — не отставал он. — Она написала?
— Нет. Бритта — не из тех… была не из тех, кто легко делится своими проблемами. Письмо было совсем коротенькое. Она только просила меня приехать в Вену как можно скорее. Я позвонил перед тем как выехать из Гармиша, но мне никто не ответил. Однако я все-таки приехал.
Я принялся мерить пол шагами, как человек, расстроенный свалившимся несчастьем. Как в общем-то и было. Мертвое тело Веры Мессман еще слишком живо стояло у меня перед глазами. Пол застилали несколько симпатичных ковриков, стояли элегантные стулья и столы, в шкафах — великолепный нимфенбургский фарфор. Ваза с цветами, погибшими, похоже, так же давно, как женщина в ванной. На каминной полке выстроились в ряд фотографии в рамках. Я подошел поближе. На одной она выходит замуж за человека, лицо которого я узнал, — это Фридрих Варцок в эсэсовской форме. Я огорченно покачал головой, хотя огорчался совсем не из-за того, что могли вообразить себе полицейские, а из-за весьма дурного предчувствия — неприятные события, которые начались с того дня, как женщина, назвавшаяся Бриттой Варцок, явилась ко мне в агентство, еще не закончились.
— Кто мог такое сотворить? — повернулся я к полицейским. — Кроме как…
— Да?
— Не секрет, что Фридриха, ее мужа, разыскивают за военные преступления, — сказал я. — И, конечно, слухи-то разные ходят. О еврейских отрядах мщения. Может, явились сюда, разыскивая ее мужа, а потом взяли и убили ее.
Полицейский в шляпе покачал головой.
— Идея недурная. Но так случилось, что, скорее всего, нам уже известно, кто ее убил.
— Уже? Поразительно.
— Вы, случайно, не слышали от нее о человеке по имени Бернхард Гюнтер?
Постаравшись скрыть удивление, я изобразил задумчивость.
— Гюнтер, Гюнтер… — повторил я, словно копаясь в самых дальних уголках памяти. Если я желаю выкачать из полицейских какую-то информацию, сначала нужно сунуть кусочек и им. — Да, правильно, по-моему, я слышал это имя раньше. Но не в связи с Бриттой Варцок. Несколько месяцев назад в моем доме в Гармише появлялся человек — мне кажется, его так и звали, Гюнтер. Он сказал, что он частный детектив и разыскивает свидетеля, который может помочь ему при подаче апелляции для моего старого товарища, некоего фон Штарнберга. Он отбывает сейчас срок за военные преступления в Ландсбергской тюрьме. А какой из себя ваш Бернхард Гюнтер?
— Мы не знаем, — признался коп со шрамом. — Но из того, что вы нам рассказали, он тот самый, которого мы разыскиваем. Частный детектив, агентство в Мюнхене.
— Вы можете нам рассказать еще что-нибудь про него? — попросил другой.
— Да, но послушайте, вы не возражаете, если я присяду?
Меня как ударило.
— Пожалуйста.
Они прошли за мной к просторному кожаному дивану, на котором я и устроился. Вынув трубку, я начал было набивать ее, потом приостановился.
— Вы не против, если я закурю?
— Валяйте, — сказал шляпа. — Хоть вонь заглушите.
— Он был не очень высокий, — начал я, — хорошо одет. Немного даже слишком фасонисто, можно сказать. Каштановые волосы. Карие глаза. Вряд ли родом из Мюнхена. Откуда-то еще. Скорее всего из Гамбурга. А может, из Берлина.
— Из Берлина он, — сказал шрам. — Раньше полицейским был.
— Да, пожалуй… Ну знаете, самодовольный такой и несколько навязчиво услужлив. — Я запнулся. — Без обид, господа. Я всего лишь имею в виду, что он был очень вежлив. Должен сказать, он не произвел на меня впечатления человека, способного на убийство. С вашего позволения. За годы моей врачебной практики встречались мне психопатические личности, но ваш герр Гюнтер не принадлежит к ним. — Откинувшись на диване, я пыхнул трубкой. — А почему вы решили, что убил он?
— Мы нашли его визитку на каминной полке, — ответил шляпа. — На ней была кровь. А еще мы нашли носовой платок, запачканный кровью, с его инициалами.
Я вспомнил, как прижимал носовой платок к обрубку мизинца, останавливая кровь.
— Но она ведь была задушена, — осторожно сказал я. — Не думаю, что кровь что-то доказывает.
— Платок валялся на полу в ванной, — возразил шрам. — Мы заключили, что, наверное, она успела ударить его, прежде чем умерла. В общем, мы сообщили об убийстве в Международную полицию на Картнер-штрассе. Похоже, что и у янки есть досье на Гюнтера. Они сюда уже едут. Из Штифтказерне. Мы даже подумали, вы и есть янки, пока вы не стали звать фрау Варцок. И не увидели сумку.
Я насторожился при упоминании Штифтказерне. Там была расположена штаб-квартира Американской военной полиции в Вене, на Марияхилфер-штрассе. Но там же находилась и американская разведка. Я бывал там прежде. Еще в те дни, когда ЦРУ называлось БСС, Бюро стратегических служб.
— В сумке одежда, — сказал я, — я ведь рассчитывал пробыть тут пару дней.
Я лихорадочно соображал: неувязочка у них вышла с адресом. Но времени расспрашивать их у меня не было. Если у американцев есть на меня досье, то вполне вероятно, и фото тоже. Нужно сматываться отсюда, и поскорее. Но как? Если копы что и обожают, так это вцепляться в свидетеля. С другой стороны, они терпеть не могут сыщиков-любителей — посторонних, которые считают, будто могут дать дельные советы.
— Штифтказерне, — задумчиво проговорил я. — Это ведь Американская военная полиция, да? И ЦРУ. Не Международная полиция. Интересно, во что такое могла впутаться Бритта, если в дело вмешалась американская разведка?
Один коп взглянул на другого.
— Мы разве что-нибудь сказали про ЦРУ?
— Нет, но это же понятно из ваших слов.
— Да?
— Ну конечно, — покивал я головой. — Я служил в абвере в войну, так что имею определенный опыт и даже могу помочь, когда явится американец. К тому же я встречался с Берни Гюнтером и знал Бритту Варцок. Я врач и по-английски говорю — тоже может пригодиться. И, само собой разумеется, я умею хранить молчание, если дело секретное и имеет отношение к ЦРУ и австрийской полиции.
— Может, позже вы и сумеете помочь нам, доктор, — промямлил шляпа, — когда мы получше обследуем место преступления. — Он поднял мою сумку и понес ее к дверям.
— Мы с вами свяжемся, — добавил другой полицейский, уцепив меня под руку и помогая подняться.
— Но вы же не знаете, где я остановился! — воскликнул я. — А я не знаю ваших имен.
— Позвоните попозже на Дойчмейстер-плац и сообщите нам адрес, — сказал шляпа.
— Я — инспектор Штраус. А он — помощник криминалиста Вагнер.
Я с напускной неохотой встал, всячески демонстрируя, как мне не хочется уходить, и позволил довести себя до дверей.
— Я остановился в «Отель де Франс», — солгал я. — Это тут, неподалеку. Вы знаете этот отель?
— Знаем, знаем! — нетерпеливо сказал шляпа и протянул мне сумку.
— Хорошо. Значит, я позвоню вам позднее. Ждите. А какой у вас номер телефона?
Шляпа протянул мне визитку.
— Да, пожалуйста, позвоните позднее. — Он изо всех сил старался сохранить на лице приветливое выражение.
Толчок в спину — и я очутился на лестничной площадке, дверь за мной захлопнулась. Страшно довольный своим представлением, я быстро сбежал по лестнице и притормозил перед квартирой этажом ниже, откуда якобы поступил звонок насчет запаха и скопившейся почты. Все эти утверждения казались мне неправдоподобными. Начать с того, что никакого запаха на этом этаже не чувствовалось и никакая любопытная соседка не высунула нос из двери, чтобы поинтересоваться, что же там, наверху, произошло. А высунула бы непременно, если б история, которую мне поведали полицейские, была правдой.
Я уже хотел продолжить поспешное отступление, когда услышал шаги пролетом ниже, и, выглянув из окна второго этажа, увидел черный седан «меркурий», припаркованный у дома. Решив, что, пожалуй, самое умное — убраться с дороги американца, я поспешно постучался в дверь.
Через несколько томительных секунд дверь открыл мужчина в брюках и жилетке, с таким обилием волос на всех видимых участках тела, что казалось, на каждом отдельном волосе у него щетинились волоски поменьше. В сравнении с ним даже Исав выглядел бы лысым, как оконное стекло. Я сунул ему визитку полицейского и нервно оглянулся через плечо: шаги все приближались.
— Извините, что беспокою вас, — сказал я, — но можно войти и побеседовать с вами?
34
На визитку инспектора Штрауса Исав пялился, мне показалось, вечность, и наконец пригласил меня войти. Протиснувшись мимо, я учуял запах обеда. Пахло не очень хорошо: стряпали на старом затхлом жире. Дверь он закрыл всего за секунду до того, как янки должен был свернуть за поворот на лестнице и увидеть второй этаж. Я тихонько испустил вздох облегчения.
Прихожая в квартире была такой же, как и этажом выше, — огромная, как автобусная станция. У парадной двери лежал серебряный поднос для почты и высилась стойка для зонтов, сделанная из слоновьей ноги. Но с тем же успехом нога могла принадлежать толстухе в фартуке, возникшей на пороге кухни. Ее поддерживали два костыля, нога у нее была только одна.
— Кто это там, Хайни? — окликнула толстуха.
— Это полиция, дорогая.
— Полиция? — удивилась она. — А что им понадобилось?
Значит, я все-таки оказался прав. Эти люди явно не обращались в полицию.
— Извините, что побеспокоил вас, — начал я, — но в квартире наверху произошел несчастный случай.
— Что случилось?
— Боюсь, на этой стадии расследования я не могу сказать вам ничего определенного. Однако позвольте спросить, когда вы в последний раз видели фрау Варцок? И была ли она одна или с кем-то? А может, вы слышали какой-то необычный шум наверху?
— Мы ее уже больше недели не видим. — Хайни рассеянно расчесывал волосы на руке пальцами. — Я подумал, она уехала. Ее почта так и лежит в ящике.
Сложным маневром женщина на костылях подступила ко мне поближе.
— Мы с ней почти не общаемся, — включилась она. — Здрасте, доброе утро — и все. Она замкнутая тихая женщина.
— Даже когда она дома, мы не очень-то много слышим, — подхватил Хайни. — Только ее пианино, да и то летом, когда окно открыто. Она так красиво играет. До войны даже давала концерты. Когда у людей еще были на музыку деньги.
— Теперь к ней в основном приходят дети и их матери, — сказала жена Хайни. — Она дает уроки музыки.
— Неужели больше никто?
Оба помолчали.
— С неделю назад заходил кое-кто, — сказал Хайни. — Один янки.
— В форме?
— Нет, — покачал он головой. — Но их же сразу отличаешь: походка, башмаки, стрижка. Да по всему понятно.
— А какой из себя был этот янки?
— Хорошо одет. В красивой спортивной куртке. Хорошо отглаженные брюки. Не очень высокий, но и не низкий. Среднего, в общем, роста. В очках. Золотые часы на руке. Очень загорелый. Да, и еще, почему я догадался, что он американец: его машина была припаркована у дверей. Американская, зеленая такая, с «белобокими» шинами.
— Спасибо, — поблагодарил я, забирая назад карточку Инспектора. — Вы нам очень помогли.
— Да что случилось-то? — не сдержала любопытства жена Хайни.
— Если кто спросит, я вам ничего не говорил, — предупредил я. — Мне не положено рассказывать. Пока — нет. Но вы такие достойные люди. Я вижу. Не из тех, чтобы болтать направо-налево. Фрау Варцок мертва. Возможно, ее убили.
— Убили! Здесь? — ошеломленно повторила толстуха. — В нашем доме? В этом районе?
— Я и так уже сказал больше, чем следовало. Послушайте, один из моих подчиненных побеседует с вами о подробностях, но позже. Вам лучше сделать вид в разговоре с ним, будто это для вас новость. Договорились? Иначе меня могут уволить.
Я чуть приоткрыл дверь. Шагов не слышно.
— И получше заприте за мной дверь, — посоветовал я и вышел.
На улице уже совсем стемнело и снова сыпал снег.
Выскочив из здания, я зашагал к стоянке такси, где взял машину до своего отеля. Оставаться в отеле, когда я знал, что Эриком Груэном Международная полиция интересуется не меньше, чем Берни Гюнтером, было невозможно. Быстро соберу вещи, съеду из отеля и зарулю в бар, а там попытаюсь сообразить, что же предпринять дальше.
Когда такси подкатило к отелю, я увидел у входа машину «МП». Меня и так уже поташнивало, а теперь желудок скрутило с новой силой, будто кто-то старательно выжимал его после стирки. Я попросил водителя остановиться на углу. Расплатившись, я с самым безучастным видом, как бы ненароком, замешался в небольшую кучку любопытных зевак, сбившуюся у входа: им явно до смерти хотелось посмотреть, как будут выводить арестованного. Два военных полисмена стояли на страже дверей «Эрцгерцога Райнера», никто не мог ни войти, ни выйти из отеля.
— Что тут за суета? — обратился я к худющему старикану, с любопытством разглядывавшему полицейских.
— Приехали кого-то арестовывать. Но вот кого, не знаю, — с готовностью ответил он.
Я неопределенно покивал и бочком выбрался из толпы, уверенный, что приехали они не иначе как за мной. После случая на кладбище сомневаться не приходилось. Соваться в другой отель я тоже не видел смысла. Если полиция ищет Эрика Груэна, то все отели и пансионы — первое, что они кинутся прочесывать. А потом — железнодорожные вокзалы, автобусные станции, аэропорт. Усиливался ветер, снег сыпал мне в лицо мелкими иголками.
Торопливо шагая по темным улицам, замерзший, преследуемый, уставший, я чувствовал себя маньяком — Питером Лорре в фильме Фрица Ланга «М». Будто действительно это я убил двух женщин. Единственное, что утешало, — у меня есть деньги, и немалые. С деньгами из этой мышеловки еще можно попробовать вывернуться.
На Шварценберген-штрассе я заскочил в венгерский бар «Королева чардаша» продумать следующий ход. В баре играл оркестр с цитрой. Заказав кофе с пирожным, я попытался размышлять под сентиментальную, меланхоличную музыку. Прежде всего требуется подыскать пристанище на ночь, и существует только одно место, где постель можно получить так же легко, как кофе с пирожным, — были бы деньги. Я, конечно, рискую, возвращаясь туда всего лишь через пару лет. Но особого выбора у меня нет. Для меня сейчас риск — нечто неизбежное, как старость — если мне повезет дотянуть до старости, и смерть — если не повезет. И я направился к «Ориенталю» на Петерс-плац.
С его сумеречными кабинками, полураздетыми девицами, иронической пародией на оркестр, сутенерами и проститутками «Ориенталь» весьма напоминал иные из прежних клубов, какие я знавал в Берлине в декадентские застойные времена Веймарской республики. Говорили, что «Ориенталь» был излюбленным местечком венских нацистских бонз — воротил, управлявших городом. Теперь клуб стал излюбленным местом спекулянтов черного рынка и нарождающейся интеллигенции. Из развлечений предлагались тут также кабаре «Египетская ночь» — предлог для многих девушек одеваться, как рабыни, то есть едва прикрываясь лоскутком ткани, — и казино. А где казино, там всегда куча легких денег. А где легкие деньги, там проститутки. Когда я в последний раз заходил в клуб, там толклись непрофессионалки — так, вдовы и сироты, продающиеся за сигареты и шоколад или просто чтобы свести концы с концами. И у меня там случилась интрижка с одной. Имени ее уже не помню. Но с 1947-го все кардинально переменилось. Теперь девушки в «Ориентале» — профи с глазами жесткими и равнодушными, занимает их одно — деньги. Так что теперь подлинно восточными остались только декорации.
По винтовой лестнице я спустился в зал, где оркестр грянул американскую песенку не то «Время для слёз», не то «Мне хочется плакать». Видимо, услышали, что кто-то спускается. Посещать «Ориенталь» американским служащим не разрешалось, но, конечно, если они не в военной форме и с наличными в кармане, их не удержать. Вот почему время от времени в клубе проводились облавы Международного патруля. Но случались они обычно гораздо позднее — к тому времени я уже исчезну. Устроившись в кабинке, я заказал бутылку коньяка, несколько яиц, пачку «Лаки» и, уверенный, что очень скоро найду кровать на ночь, углубился в распутывание клубка событий, произошедших после моего приезда в Вену. И до Вены.
Это было непросто. Насколько я понял, меня подставили — я главный подозреваемый в двух убийствах, — и, по всей видимости, это дело рук ЦРУ. Американцем в зеленой машине мог быть, судя по описанию соседа фрау Варцок, только майор Джейкобс. Но кто такая на самом деле женщина, выступившая под именем фрау Варцок, которая приходила ко мне в Мюнхене в агентство, я понятия не имел. Настоящая фрау Варцок была мертва, убита Джейкобсом или другим агентом ЦРУ. Очень вероятно, что адрес ее мне дали для того, чтобы впутать в убийство. По той же причине Эрик Груэн снабдил меня адресом Веры Мессман. Что означало: все они — Хенкель, Джейкобс и Груэн — действовали заодно. А вот ради какой такой цели, мне пока неведомо.
Принесли коньяк и сигареты. Я налил себе и закурил. У барной стойки уже сбилось несколько девушек, посматривающих в мою сторону. Интересно, у них действует закон старшинства, или, как на стоянке такси, клиентов они разбирают в порядке живой очереди? Я чувствовал себя куском рыбьего филе в проулке, кишащем кошками. Оркестр переключился на песенку «Стань клоуном», что тоже вполне подходило к случаю. Не такой уж я великий детектив, ведь им полагается замечать всякие мелочи. А клоунов, наоборот, легко обдурить — они всегда попадаются на удочку — ради смеха публики. Я исполнил эту роль блестяще.
У стойки спорили две проститутки. Скорее всего, предмет спора — я: кому из них достанется сомнительная честь подцепить меня. Я понадеялся, что достанусь рыженькой. В ней играла хоть какая-то жизнь, а жизнь рядом мне была сейчас остро необходима. Потому что чем больше я размышлял о ситуации, тем сильнее мне хотелось вышибить себе мозги. Будь у меня под рукой пистолет, я всерьез задумался бы над таким вариантом. Но пистолета не было, и я опять взялся ломать голову над ловушкой, в которую угодил.
Если фальшивая Бритта Варцок была связана с Хенкелем, Груэном и Джейкобсом с самого начала, то напрашивается версия, что именно они и подстроили, чтобы я лишился мизинца, а потом попал в госпиталь на попечение Хенкеля. Ведь те парни, которые покалечили меня, отвезли прямиком в госпиталь, так? А нашел меня у дверей Хенкель. Платок, которым я останавливал кровь, вдруг оказывается на месте убийства настоящей Бритты Варцок. Заодно с моей визиткой. Красиво обстряпано. И то, что я лишился половины мизинца, оказалось решающим фактором. Теперь я это понимал. Иначе я вряд ли мог сойти за Эрика Груэна. Конечно, физического сходства между собой и Груэном я не разглядел, пока тот не сбрил бороду. Но они-то наверняка об этом сходстве знали. Возможно, с того самого дня, когда Джейкобс объявился в моем отеле в Дахау. Он ведь тогда сказал, что я кого-то ему напоминаю. Может, тогда же его и осенила идея выдать меня за Эрика Груэна, чтобы настоящий Груэн мог сбежать с новым паспортом. И конечно же идея сработает еще эффективнее, если человека, назвавшегося Эриком Груэном, арестуют за военные преступления. Какие он там совершил? Массовое убийство военнопленных? Или чего похуже? Возможно, преступления, связанные с медициной. Нечто такое гнусное, что Джейкобс не сомневался — следователи любых политических взглядов и религиозных верований не успокоятся, пока не засадят доктора под арест. Немудрено, что Бекемайер и прислуга Элизабет Груэн несказанно удивились, увидев меня в Вене.
И подумать только, фактически я добровольно вызвался приехать сюда! Очень остроумный штрих — подтолкнуть меня вызваться на поездку самому. С маленькой помощью Энгельбертины, разумеется. Где уж мне было что-то сообразить: она так старательно припорашивала мне глаза песком. Отвлекала меня своим роскошным телом. Если б я не поймался на подсказку выдать себя за Эрика Груэна, она, очевидно, выдала бы идею прямым текстом. Но как они могли предвидеть смерть матери Груэна? Разве что кто-то помог старушке отправиться в последний путь. Возможно ли, что сам Груэн спланировал смерть матери? А почему бы и нет? Между матерью и сыном никакой любви не было. И Бекемайер, и Медгэсси — оба удивлялись внезапности кончины старухи. Скорее всего, и ее тоже убил Джейкобс. Или нанял кого-то из ЦРУ или «ОДЕССЫ». Но я никак не мог взять в толк: зачем понадобилось убивать Веру Мессман и настоящую Бритту Варцок?
Одно было ясно вполне: я вел себя как последний кретин. Но на какие же хлопоты они пустились! Я чувствовал себя, как миниатюрная картина старого мастера, которую вставили в массивную, позолоченную, в обильных завитушках раму — они предназначены подчеркивать значимость полотна. Я же, заключенный в раму, казался себе каким-то мелким для такого хитроумного, по-византийски коварного заговора, сплетенного вокруг меня.
Я чувствовал себя марионеткой, жалким клоуном, который только и заслуживает, чтобы его били по лицу, снова и снова.
— Можно присесть?
Подняв глаза, я увидел — победила рыжая. Лицо у нее раскраснелось, словно победа в состязании за удовольствие оказаться в моей компании далась ей нелегко. Чуть привстав, я улыбнулся и указал на стул напротив:
— Пожалуйста, будьте моей гостьей.
— Для того я и здесь. — Рыженькая, плавно изогнувшись, скользнула на стул. Изгибалась она гораздо красивее, чем те, что давали представление на сцене пагоды в «Ориентале». — Меня зовут Лили. А вас?
Я чуть не расхохотался. Моя личная Лили Марлей, мечта солдата! Очень типично для проститутки взять себе имя покрасивее.
— Эрик, — отрекомендовался я. — Желаешь выпить, Лили? — Я знаком подозвал официанта. У него были усы Гинденбурга, голубые глаза Гитлера и манеры Аденауэра. Точно тебя обслуживают пятьдесят лет германской истории. Лили взглянула на официанта надменно.
— Он ведь уже взял бутылку, так? — Официант кивнул. — Тогда принеси только еще бокал. И кофе с молоком. Да, кофе. — Официант кивнул и без слова удалился.
— Ты пьешь кофе? — спросил я.
— Я могла бы заказать рюмку коньяку, но раз ты уже заказал бутылку, то я вольна пить, чего захочу, — объяснила она. — Таково правило. — Рыженькая улыбнулась. — Не возражаешь? Сэкономим тебе немного денег. Да и день у меня сегодня был трудный — днем я работаю в обувном магазине.
— В каком?
— Этого я тебе сказать не могу. Не то еще зайдешь и подведешь меня.
— Но тогда я и себя подведу.
— И то правда, — согласилась девушка. — Но все-таки лучше, чтоб ты не знал. Представь, какой шок, если ты увидишь меня настоящую, как я приношу туфли и помогаю покупателям натягивать их на ноги.
Она угостилась моей сигареткой, и, поднося девушке спичку, я получше рассмотрел ее. Зеленые, алчно поблескивавшие глаза, очень белые меленькие зубы, чуть выдающаяся вперед нижняя челюсть. У остренького носа — легкая россыпь веснушек. Из-за этого девушка казалась проницательной и смекалистой, может, такой она и была.
Яйца мне принесли вместе с ее кофе, наполовину разбавленным молоком. Пока я ел, девушка болтала о себе и курила, прихлебывая кофе и запивая его капелькой коньяку.
— А я тебя раньше тут не видела, — заметила она.
— Да, я давненько сюда не заглядывал, — покивал я. — Сейчас я живу в Мюнхене.
— Мне бы тоже хотелось жить в Мюнхене. Где-нибудь подальше от Вены, во всяком случае. Там, где рядом нет Иванов.
— Ты думаешь, янки лучше?
— А ты так не считаешь?
Я отмолчался. Ее вовсе не интересовало мое мнение об американцах.
— Как насчет того, чтобы поехать к тебе?
— Эй, прекрати красть мои реплики! — воскликнула рыженькая. — Это мне полагается пригласить тебя.
— Извини.
— И вообще, чего ты так спешишь?
— Я весь день на ногах провел. А ты сама знаешь, каково это.
Она постучала по бутылке ногтем, длиннющим, как нож для разрезания бумаги.
— Эрик, ты ведь не травяной чаек попиваешь, — строго сказала она. — Он скорее уложит тебя, чем ты подцепишь меня.
Я протянул руку через стол, чуть приподняв — давая ей увидеть стошиллинговую купюру у меня в ладони.
— Мне требуется немножко заботы, и все. Никаких изысков. Это будет самая легкая сотня, какую ты сунешь себе в бюстгальтер.
Рыженькая рассматривала сотенную, точно предложение каннибала насчет бесплатного ланча.
— Тебе нужен отель, мистер, — заключила она. — Не девушка.
— Мне не нравятся отели. Люди сидят в одиночестве у себя в номере, в ожидании, пока нужно будет собирать вещи. А мне так не хочется.
— Какого черта! — Она прикрыла мою ладонь своей. — Я тоже не прочь смотаться отсюда пораньше.
35
Небольшая, но уютная квартирка Лили находилась во Втором округе, на Верхней Дунай-штрассе. Я отлично выспался рядом с Лили, проснувшись за ночь только раз: меня разбудил гудок баржи, плывущей по каналу к реке. Утром девушка и удивилась, и обрадовалась, что ей пришлось удовлетворять только мое желание позавтракать.
— Ну и ну! В первый раз со мной такое, — заметила она, готовя нам кофе. — Видно, теряю привлекательность. Или так, мистер, или ты бережешь «его» для мальчиков.
— Ни то ни другое, — возразил я. — Как ты насчет того, чтобы заработать еще сотняжку?
Более уступчивая днем, чем вечером, Лили охотно согласилась. Девушкой она была неплохой и, как это ни странно звучит, неиспорченной. Ее родители погибли в 1944-м, когда ей было всего пятнадцать, и все, что у нее имелось, она заработала сама. Достаточно обычная история, в том числе и то, что ее изнасиловали двое Иванов. Она была хорошенькая и понимала, ей повезло, что только двое. В Берлине я знал женщин, которых насиловали по пятьдесят—шестьдесят раз за первые месяцы оккупации. Мне Лили нравилась. Нравилось, что она не ноет и не жалуется. И то, что не задает слишком много вопросов. Достаточно сообразительная, она поняла, что, возможно, я скрываюсь от полиции, и у нее хватало ума не приставать с расспросами о причине.
По пути на работу в обувной магазин на Картнер-штрассе она показала мне парикмахерскую, где я мог побриться, — все мои вещи остались в отеле. Сумку я все-таки прихватил с собой. Лили мне, конечно, нравилась, но я не настолько доверял ей, чтобы оставлять у нее двадцать пять тысяч австрийских шиллингов — могла и украсть. Я побрился и постригся, купил в магазине рубашку, белье, носки и дорогие башмаки. Мне важно было выглядеть респектабельным. Я направлялся в русскую комендатуру, где раньше находилось Управление образования, с целью заглянуть в их досье на разыскиваемых военных преступников. Человеку, который служил в СС, сбежал по дороге в русский лагерь военнопленных и убил русского солдата, не говоря уже о двух с лишним десятках энкавэдэшников, рисоваться в русской комендатуре — риск, и немалый. Но этот риск, как я счел, все-таки меньше, чем обращаться с расспросами в Главное управление Международной полиции. Вдобавок я довольно бегло говорил по-русски, знал имя важного полковника МВД и все еще имел при себе визитку инспектора Штрауса. И если все это не поможет, что ж, попробую сунуть взятку. Судя по моему опыту, все русские в Вене, да и в Берлине тоже, деньги брали охотно.
Во Дворце правосудия на Шмерлинг-штрассе в Восьмом округе находилось и Объединенное командование союзников в Вене и управление Международной полиции. Флаги всех четырех стран развевались на этом внушительном здании, на самом верху — флаг страны, которая в данный момент осуществляла полицейский контроль в городе; сейчас — французский. Напротив Дворца правосудия помещалась русская комендатура, легко опознаваемая по портретам Дяди Иосифа и громадной подсвеченной красной звезде, от которой снег перед зданием казался розоватым и мокрым. Войдя в величественный вестибюль, я спросил у одного из охранников, в каком кабинете занимаются расследованием военных преступлений. Удивленный, что с ним заговорили по-русски, да еще так вежливо, он направил меня в комнату на верхнем этаже, и с замирающим сердцем я начал подниматься по каменным ступеням.
Как и все общественные здания в Вене, Управление образования было построено во времена, когда император Франц-Иосиф правил империей в шестьсот семьдесят тысяч квадратных километров, в которой проживало больше пятидесяти миллионов населения. В 1949 году в Австрии было чуть больше шести миллионов. Самая великая европейская империя давно сгинула, но вы бы о том ни за что не догадались, поднимаясь по лестнице этого монументального здания. Наверху стоял деревянный указатель с грубо намалеванными на кириллице названиями отделов. Сверяясь с ним, я завернул в другое крыло, где и обнаружил кабинет, который разыскивал. Табличка на маленькой деревянной подставке рядом с дверью была на немецком: «Советская комиссия по военным преступлениям, Австрия. Расследование и рассмотрение преступлений фашистских оккупантов и их пособников, участвовавших в чудовищных зверствах германского правительства». В общем, излагалось все доходчиво.
Постучавшись, я вошел в небольшую приемную. Через стеклянную перегородку виднелась просторная комната с несколькими свободно стоящими книжными шкафами и десятком бюро. На стене висел большой портрет Сталина, рядом портрет поменьше, пухлого человека в очках, возможно, Берии, главы советской тайной полиции, рядом — обтрепанный советский флаг. По другой стене тянулся монтаж: фотографии Гитлера, нацистский митинг в Нюрнберге, снимки освобожденных концлагерей, груды мертвых тел, Нюрнбергский процесс и несколько осужденных военных преступников, стоящих на люке виселицы, — доходчиво и поучительно.
В приемной тощая, сурового вида женщина в военной форме подняла глаза от машинки и приготовилась обращаться со мной, как с фашистским оккупантом, каковым я конечно же и являлся. Грустные запавшие глаза, заметно искривленный нос, челка рыжих волос, угрюмо сомкнутые губы и скулы высокие, как у «Веселого Роджера». Погоны на ее форме были синие, что означало, она — из МВД. Интересно, как она относится к закону Федеральной Республики об амнистии? Вежливо, на хорошем немецком служащая осведомилась, какое у меня дело. Я, протянув ей визитку инспектора Штрауса, заговорил с ней, как если бы пробовался на роль в пьесе Чехова в русском драматическом театре — в общем, на самом моем лучшем великорусском.
— Извините, что побеспокоил вас, товарищ. Запрос у меня не официальный. Я здесь не по службе. — Я поторопился сказать это, чтобы задушить в зародыше любой порыв попросить показать мой несуществующий жетон полицейского. — Имя Порошин из МВД вам что-то говорит?
— Генерала Порошина я знаю. — Тон ее сразу изменился. — Он в Берлине.
— Возможно, он уже звонил вам, — продолжил я, — чтобы объяснить, зачем я приду.
Она покачала головой:
— Боюсь, что нет.
— Неважно. В общем, мне требуется справка об одном нацистском преступнике из Австрии. Генерал посоветовал обратиться в ваш отдел. Офицер-юрист в этом отделе, сказал он, один из самых квалифицированных в Государственной специальной комиссии. И что если кто и сумеет помочь мне выследить нацистскую свинью, которую я разыскиваю, так только этот офицер, то есть вы.
— Генерал так сказал?
— Это были его точные слова, товарищ, — подтвердил я. — Он и ваше имя назвал, но, боюсь, я запамятовал. Извиняюсь.
— Первый помощник юрисконсульта Кристотонова, — назвалась она.
— Да, верно. Именно это имя он и назвал. Еще раз извините, что забыл. Мой запрос касается двух эсэсовцев. Один родился тут, в Вене. Его фамилия Груэн. Эрик Груэн. Г-Р-У-Э-Н. Второй — Генрих Хенкель. Хенкель — как марка шампанского. А вот где он родился, мне точно не известно.
Лейтенант быстро встала со стула. Упоминание имени Порошина сделало свое дело, чему я не удивился. Он и меня пугал, сначала в Вене, а потом, два года спустя, в Берлине. Открыв стеклянную дверь, она провела меня к столу, пригласила сесть и повернулась к большому деревянному шкафу. Вытянув ящик длиной с ее руку, она стала перебрасывать карточки. Ростом женщина оказалась выше, чем мне показалось. Наглухо застегнутая блузка невыразительного мышиного цвета, черная длинная юбка, армейские сапоги и ремень на талии, тоже черные, сверкающие, как гладь деревенского пруда. На правом рукаве блузки виднелась нашивка: знак, что она была ранена в бою, а на левой стороне груди висели две медали. Русские носят сами медали, а не нашивки, как янки, словно так гордятся ими, что не желают снимать никогда.
С двумя карточками в руке Кристотонова подошла к бюро и стала рыться там. Потом, извинившись, вышла через заднюю дверь. Я гадал, уж не отправилась ли она проверять мою историю в австрийской полиции, а то и у самого Порошина в Берлине — вдруг вернется в кабинет с ТТ в руке или, того хуже, с парочкой солдат-охранников. Закусив губу, я приклеился к стулу, отвлекая себя мыслями о том, как Груэн, Хенкель и Джейкобс одурачили меня, вроде бы посвятив в свои тайны; как Джейкобс сыграл изумление при виде меня и притворялся, будто не доверяет мне. Как «Бритта Варцок» поручила мне бессмысленные розыски, всего лишь с одной целью: заставить меня поверить, будто нападение, в результате которого я потерял мизинец, вызвано тем, что я задавал неуместные вопросы насчет «товарищей».
Кристотоновой не было уже десять минут, но тут она вернулась с двумя папками и положила их на стол передо мной. И даже дала мне блокнот и карандаш.
— Вы читаете по-русски? — спросила она.
— Да.
— А где научились?
— Я служил офицером разведки на русском фронте.
— И я тоже. Там и выучилась немецкому. Но, по-моему, ваш русский лучше моего немецкого.
— Спасибо за комплимент.
— Кто знает… — Но она тут же спохватилась и замолчала. Так что досказал за нее я:
— Да. Кто знает, может, мы были противниками когда-то. Но теперь, надеюсь, мы на одной стороне. На стороне справедливости. — Чуть избито, конечно. Странно, но русский почему-то всегда будит во мне сентиментальность.
— Досье есть и на немецком, и на русском, — сказала она. — И еще. По инструкции, когда вы закончите, придется попросить вас подписать документ, в котором говорится, что вы читали досье, и этот документ тоже будет приобщен к делу. Вы согласны, инспектор?
— Конечно.
— Очень хорошо. — Кристотонова выдавила улыбку. Зубам ее требовался дантист не меньше, чем мне новый паспорт. — Желаете чая?
— Спасибо, да. Если вас не затруднит. Очень любезно с вашей стороны.
— Не стоит благодарности. — Она ушла, сухими листьями прошуршала ее нижняя юбка, а я остался, раскаиваясь в своих первых недобрых мыслях о ней. Она оказалась гораздо дружелюбнее, чем показалось на первый взгляд, — я такого даже предположить не смел.
Открыв досье Груэна, я погрузился в чтение.
Сведения более чем полные. Послужной список Груэна в СС. Его членство в Нацистской партии — в партию он вступил в 1934-м. Его офицерское звание. Отчет о его службе в СС — «доблестная». Первым открытием стало то, что Груэн никогда не служил в танковой дивизии СС и не воевал ни во Франции, ни на русском фронте. Как оказалось, он вообще никогда не был на передовой. И согласно его медицинской карте, достаточно подробной — в ней упоминалась даже потеря мизинца, он никогда не был ранен. Последнее медицинское обследование Груэна проводилось в марте 1944 года. Ничего тогда не упустили. Даже легкую экзему отметили. Но никакого упоминания о потере селезенки или повреждении позвоночника. Уши у меня загорелись, пока я читал отчет. Неужто Груэн симулировал болезнь? И он вовсе не прикован к инвалидному креслу? И с селезенкой у него все в порядке? Если так, то они и впрямь играли на мне, как на рояле. Не был Груэн и младшим офицером, как он утверждал. В досье имелись копии его сертификатов о повышениях в чине. Последний, датированный январем 1945-го, сообщал, что войну Эрик Груэн закончил в чине оберфюрера СС — старшего полковника Ваффен СС. Но совсем уж встревожило меня то, что я прочитал дальше. Хотя я уже и предчувствовал нечто подобное после открытия, что он никогда не служил в танковой дивизии СС.
Родом из богатой венской семьи, Эрик Груэн считался блестящим молодым врачом. После окончания медицинского колледжа он поработал какое-то время в Камеруне и Того, где написал две значительные статьи о тропических болезнях, их опубликовали в «Германском медицинском журнале». По возвращении, в 1935-м, он вступил в СС и стал членом Национального департамента здравоохранения; тогда возникли подозрения, что он принимал участие в экспериментах над умственно неполноценными детьми. После того как разразилась война, он стал работать врачом в Лемберг-Яновска, потом в Майданеке и, наконец, в Дахау. В Майданеке он заразил восемьсот советских военнопленных тифом и малярией, после чего изучал течение этих болезней. В Дахау он помогал Герхарду Розе, бригадному генералу, в медицинском обслуживании люфтваффе. Имелись протоколы допроса Розе. Профессор Института тропической медицины Роберта Коха в Берлине, Розе проводил эксперименты с летальным исходом на заключенных концлагерей в Дахау, разрабатывая вакцины от малярии и тифа, для чего намеренно заразили более тысячи пленных в Дахау, в том числе и много детей.
Читать о подробностях экспериментов было мучительно. На судебном процессе над врачами Дахау в октябре 1946 года католический священник, некий отец Кох, дал показания, что его отвезли на малярийную станцию в Дахау, где каждый день на полчаса между ног ставили коробку с комарами. Через семнадцать дней его отпустили, а через восемь месяцев у него случился первый приступ малярии. Другим священникам, детям, русским и польским заключенным и, конечно, множеству евреев повезло еще меньше: за три года, пока продолжались эти эксперименты, их умерло несколько сотен.
За эти преступления семь нацистов, так называемых врачей, были повешены в Ландсберге в июне 1948 года. Розе был одним из пяти, приговоренных к пожизненному заключению. Еще четверых врачей приговорили к различным срокам тюремного заключения: от десяти до двадцати лет. Семерых признали невиновными. На суде Герхард Розе оправдывал свои действия, доказывая, что вполне разумно пожертвовать «несколькими сотнями» людей ради получения профилактической вакцины, которая спасет десятки тысяч жизней.
Помогали Розе и многие другие врачи, среди них Эрик Груэн и Генрих Хенкель, а также медсестра-капо[18] по имени Альбертина Цехнер.
Альбертина Цехнер. Вот это да! Энгельбертина Цехнер из заключенной еврейки превратилась в капо и медсестру в медицинском блоке в Майданеке, а потом в Дахау. Никакой проституткой в лагерном борделе она не была.
В досье Груэна сообщалось, что он еще в бегах, — разыскиваемый военный преступник. Розыски Груэна офицером-юристом 1-го Украинского фронта и двумя юристами-офицерами советской специальной государственной комиссии окончились неудачей. Прилагались заявления от заключенных трех лагерей и Ф.Ф. Брушина, судебного эксперта-медика из Красной армии.
Последней страницей в досье был бланк, тоже оказавшийся для меня сюрпризом: я обнаружил следующую запись: «Досье изучалось американскими оккупационными властями в Вене, октябрь 1946 г., в лице майора Дж. Джейкобса, Армия Соединенных Штатов».
Вернулась Кристотонова со стаканом горячего чая, ложкой и маленьким пакетиком с кусочками сахара. Я поблагодарил ее и стал листать досье Генриха Хенкеля. Оно оказалось менее подробным, чем у Груэна. Перед войной он участвовал в акции «Т4» — нацистской программе эвтаназии в психиатрической клинике в Хадамаре. В войну штурмбаннфюрер Ваффен СС Хенкель служил заместителем директора Германского института военных научных исследований, затем в Аушвице, Майданеке, Бухенвальде и Дахау. В Майданеке помогал Груэну в его экспериментах по тифу, а позже в Дахау — по малярии. В ходе медицинских исследований Хенкель заодно собрал большую коллекцию черепов представителей различных рас. Хенкель, как считали, был расстрелян американскими солдатами в Дахау, сразу после освобождения лагеря.
Я откинулся на стуле. Мой громкий вздох снова привел лейтенанта Кристотонову ко мне — тяжкий вздох жалости к самому себе она приняла за нечто иное.
— Нелегко читать?
Я кивнул, горло мне сдавило так, что с минуту я не мог выговорить ни слова. Я допил чай, подписал протокол, поблагодарил ее за помощь и вышел на улицу. Как приятно снова вдохнуть чистый свежий воздух. Но тут из Дворца правосудия вышло четверо военных полисменов — удовольствия как не бывало. Они забрались в грузовичок, готовые ехать патрулировать город. Следом за ними вывалились еще четверо и еще. Я замер около дверей, мусоля сигарету и наблюдая с безопасного расстояния, пока они все не уехали.
Конечно, о судах над нацистскими врачами я слышал. Помнил, как был удивлен, что союзники сочли справедливым повесить президента Германского Красного Креста, пока не прочитал, что он проводил эксперименты по стерилизации и заставлял евреев пить морскую воду.
Многие, в том числе Кирстен, отказывались верить любым свидетельствам, представленным на судебном процессе. Кирстен утверждала, что фотографии и документы, фигурировавшие на четырехмесячном процессе, все подделаны и что выжившие свидетели врут. Она считала это грандиозным надувательством, представлением ради того, чтобы еще больше унизить Германию. Мне и самому трудно было постигнуть, как мы, немцы, цивилизованная нация, могли совершать такие жуткие, чудовищные преступления, пусть даже во имя медицинской науки. Постигнуть трудно, да. Но не так уж трудно поверить. После событий, случившихся со мной лично на русском фронте, я стал верить, что способность человеческих существ на бесчеловечность поистине безгранична. Возможно, это — наша бесчеловечность — больше всего и делает нас людьми.
Теперь я более-менее разобрался в их замысле. У меня оставался только еще один вопрос. Но я знал, где искать ответ.
Когда последняя машина Международного патруля отъехала от Дворца правосудия, я отправился пешком к Хелден-плац, где стоял Новый дворец, также занятый русскими военными и украшенный большим портретом их правителя. Сводчатой аркой я прошел на мощеную площадь — раньше тут располагалась школа верховой езды, сейчас лошади все перевезены в безопасное место, подальше от русских, — к Национальной библиотеке.
В библиотеке было прохладно и пусто. Сначала я заметил только уборщика, который натирал паркетный пол в зале, огромном, как футбольное поле. Подойдя к столу, я подождал, пока на меня оглянется библиотекарша, сосредоточенно заполнявшая каталожную карточку. Табличка на ее столе гласила: «Справки», с тем же успехом на ней могло значиться «Cave canem» — берегись собаки. Прошло минуты две, прежде чем она — очки ее отсверкивали азбукой Морзе «Убирайся вон!» — наконец снизошла заметить мое присутствие и взглянула на меня:
— Да?
Седые волосы отливали синевой, губы сурово сжаты. Под двубортным темно-синим пиджаком пряталась белая блузка, из кармана выглядывала цепочка слухового аппарата. Она чем-то напомнила мне гросс-адмирала Дёница, отбывающего сейчас свой десятилетний срок. Наклонившись, я указал на одну из мраморных статуй:
— Вообще-то, мне кажется, этот тип ждет даже дольше меня.
Библиотекарша оскалила зубы. Они оказались лучше, чем у русской служащей — ее явно кто-то подкармливал белками и кальцием.
— Это Национальная библиотека Вены, — жестко проговорила она. — Если вам охота посмеяться, то предлагаю отправиться в кабаре. А если нужна книга, то, возможно, я сумею вам помочь.
— Мне нужен журнал, — сообщил я ей.
— Журнал? — Она выплюнула это слово, словно название венерической болезни.
— Ну да. Американский. У вас есть американские журналы?
— К сожалению, да. Какой журнал вы разыскиваете?
— «Лайф». Номер от четвертого июня тысяча девятьсот сорок пятого года.
— Пройдите со мной, пожалуйста. — Она поднялась из-за своего обшитого деревом линкора.
— С превеликой радостью.
— Большая часть нашего фонда хранится с семнадцатого века, это книги из собрания принца Евгения Савойского, — сообщила она. — Однако ради удобства наших американских посетителей мы храним и журналы «Лайф». Если честно, то только их они и спрашивают.
Через пять минут я уже сидел за длинным узким столом, проглядывая журнал, который майор Джейкобс отнял у меня. На первый, поверхностный взгляд, совершенно непонятно почему. На первой странице помещено открытое письмо начальников объединенных штабов США американскому народу. Я листал страницы: все заполнены снимками бравых американских военных с роскошными белозубыми улыбками, рекламой. Вот красивая фотография: Хэмфри Богарт сочетается браком с Лорен Бэколл, и еще одна — даже ещё красивее: Гиммлер, снятый через несколько минут, после того как он принял яд. Мне она понравилась больше, чем снимок Богарта. Я перекинул еще несколько страниц. Снимки английского морского курорта. И вот оно! На странице сорок третьей короткая статейка про то, как восемьсот осужденных из трех американских исправительных учреждений вызвались добровольно подвергнуться заражению малярией, чтобы медики могли изучать на них эту болезнь.
Легко понять, отчего Джейкобс так разнервничался. То, что Американский институт научных исследований проделал в тюрьмах Джорджии, Иллинойса и Нью-Джерси, очень походило на эксперименты нацистских докторов в Дахау.
Американцы повесили немецких врачей за то, что сами вытворяли в своих же тюрьмах. Правда, все осужденные вызвались добровольно, но ведь и Груэн с Хенкелем могли пустить в ход тот же аргумент. Энгельбертина, или Альбертина, была тому доказательством. Читая эту статейку в «Лайф» и рассматривая фотографии, я ощутил зуд. Не тот, какой возникает, когда видишь людей с бутылками, наполненными зараженными москитами, прижатыми к низу животов, — картинка, от которой странно веяло средневековьем и инквизицией. Нет, такой возникает, когда у тебя рождается подозрение: происходит что-то недоброе. Зуд, который не проходит, пока ты не расчешешься в кровь.
Отыскав медицинский словарь, я прочитал о симптомах малярии и вирусного менингита и заключил, что у этих болезней некоторые симптомы совпадают. В Баварских Альпах, где комары не так чтобы уж тучами летают, легче легкого списать смерть нескольких десятков человек, умерших от малярии, на вспышку эпидемии вирусного менингита. И никто ничего не заподозрил. То есть все умершие немецкие военнопленные использовались для медицинских экспериментов, так же как и восемьсот американских осужденных. Не говоря уже об узниках Дахау и Майданека. Трудно верится, но эксперименты на людях, за которые были повешены семь нацистских врачей в Ландсберге, по-прежнему проводились, теперь уже под опекой ЦРУ!
36
Международный телефон и телеграф находились на Алзер-штрассе в Девятом округе. Я подошел к оператору. Он был похож на барсука: нос торчком, а волосы — седые на концах и темные у корней. Я назвал ему номер Гармиша, купил килограмм монеток и прошел в телефонную будку, на которую он указал. Дозвониться я всерьез не надеялся, но решил, что попытаться все-таки стоит. В ожидании соединения я думал про то, что я им скажу, надеясь сдержаться и не пустить в ход ругательства, какие мы употребляли на русском фронте. В кабинке я просидел минут десять, прежде чем зазвонил телефон и оператор сказал мне, что меня соединили. Через минуту-другую трубку на том конце подняли, и я услышал далекий голос. Находился Гармиш меньше чем в пятистах километрах отсюда, но звонок шел через передаточный пункт в Линце, находившийся в русской зоне оккупации, потом его провели через Зальцбург (в американской зоне) и Инсбрук (во французской). Французские власти считались самыми неумелыми из всех четырех, и плохое качество соединения скорее всего — их вина. Узнав голос Эрика Груэна, я быстро скормил пригоршню десятигрошевых монеток телефону, и через пятнадцать—двадцать секунд мы уже говорили. Груэн, казалось, искренне обрадовался, услышав меня.
— Берни, — начал он, — я надеялся, что ты позвонишь. Так хотелось сказать тебе, как я сожалею, что из-за меня ты ввязался в такую неприятную историю. Правда.
— Неприятная история, — повторил я. — Ты так называешь свои старания сунуть шею другого человека в петлю, предназначенную для тебя?
— Извини, Берни, пришлось. Понимаешь, я не могу начать новую жизнь в Америке, пока Эрика Груэна не объявят официально умершим или не посадят в тюрьму за его так называемые военные преступления. Можешь винить за это Джейкобса. Он заявил, что по-другому ЦРУ не согласится. Если когда-нибудь выплывет, что они разрешили нацистскому врачу въезд в Америку, им придется дорого расплачиваться. Вот так все просто.
— Это я могу понять, — сказал я. — Но зачем было убивать двух ни в чем не повинных женщин, если все, что тебе нужно было, — это чтобы за тебя расплатился я? Могли бы организовать мой арест в отеле, и все.
— Ну что ты! Ты бы заявил, что ты — Берни Гюнтер. Союзные власти наверняка проверили бы твою версию и выяснили, кто ты есть на самом деле. Нет, нам нужна была гарантия, что сунуться Берни Гюнтеру будет некуда. Когда станешь планировать свой следующий ход, обдумай это, Берни.
Наказание за убийства, тем более такие отвратительные, какие совершил ты, — смертная казнь. Берни Гюнтера повесят, если поймают. Но если арестуют Эрика Груэна, тогда ты можешь отделаться пожизненным заключением. А если учесть, что происходит в Федеральной Республике сейчас, выйдешь на свободу лет через десять. А то и через пять. Отсидишь за меня срок, а когда выйдешь — тебя будут ждать деньги в банке. Если как следует подумаешь, Берни, то сам согласишься, что я на редкость щедр. Ты ведь уже получил деньги, так? А еще двадцать пять тысяч шиллингов, кругленькая сумма, будут ждать тебя, когда ты выйдешь из Ландсберга. Ну, Берни, я ведь мог и гроша ломаного не положить на твое имя.
— Да, ты очень щедрый. — Я продолжал разговор, надеясь, а вдруг он проговорится, обронит хоть кроху информации, которая сгодится мне, чтобы вырваться из Вены.
— Знаешь, будь я на твоем месте, я бы явился в полицию сам. Как Эрик Груэн, разумеется. И тебе лучше поторопиться, пока не арестовали Берни Гюнтера и не повесили его. А то будет и еще чего похуже.
Я протолкнул в щель еще несколько монеток и засмеялся:
— Не представляю, что же такое может произойти, у меня и так положеньице — поганее некуда. Тут уж вы расстарались!
— Да нет, может, — возразил он. — Поверь мне. Вена — закрытый город, Берни. Из него не так-то легко выбраться. И при данных обстоятельствах, думаю, отряду израильских мстителей не потребуется много времени, чтобы выследить тебя. Как уж они там себя называют? «Накам»? В общем, что-то похожее на название мыла. Ты знаешь, что они базируются в Австрии? Так вот, Линц и Вена — центры их операций. А майор Джейкобс очень хорошо знаком с некоторыми из этих «обмылков». Может, потому, что сам из таких, а может, потому, что кое-кто из этих мстителей трудятся одновременно и на ЦРУ. Знаешь, как раз «обмылок» из ЦРУ и убил настоящую фрау Варцок. Что вряд ли удивительно после того, что она творила в Лемберг-Яновска. Жуткие вещи. Я знаю, я ведь там был. Настоящей зверюгой была эта женщина. Убивала евреев ради спортивного интереса.
— Ты-то убивал ради прогресса науки! — вставил я.
— Вот ты, Берни, иронизируешь, — укорил он. — Но я не виню тебя. Хотя то, что ты сказал, чистая правда. Никогда и никого я не убивал ради забавы. Я — врач. И никто из врачей не убивал просто так.
— А Вера? Её убийству у тебя какое оправдание?
— Не могу сказать, чтоб я его одобрял. Но Джейкобс посчитал, это поможет прижать тебя к ногтю поплотнее.
— Может, я все-таки сдамся как Берни Гюнтер, — заявил я. — Только ради того, чтобы помешать вашим планам.
— Да пожалуйста! Но у Джейкобса имеются в Вене влиятельные друзья. Почему-то я думаю, они раздобудут крепкие улики, что ты — Эрик Груэн. И даже ты поймешь, что так разумнее, когда окажешься в заключении.
— Скажи, у кого возник этот замысел?
— У Джейкобса. Он парень очень изобретательный, наш бравый майор. У него блеснула идея, когда они с Вольфрамом Ромбергом приехали покопаться в твоем саду в Дахау. Он сразу заметил сходство между нами, как только увидел тебя, Берни. Первоначально он планировал снова приехать в Дахау и организовать для тебя ловушку там. Но ты внезапно переехал в Мюнхен и вернулся к своему прежнему занятию. И тогда мы придумали, как заставить тебя пуститься на розыски Фридриха Варцока, чтобы ты решил, будто наступил на мозоль «старым товарищам» и заслужил хорошую трепку. Так мы лишили тебя мизинца. Эти старые досье СС скрупулёзны до противности, описывают мельчайшие подробности. Умный был ход со стороны майора, верно? Ведь это первое, что кинется проверять любой следователь или еврейские мстители — все ли пальцы на месте.
— А женщина, которая наняла меня?
— Моя жена. Первый раз она отправилась навестить тебя в Дахау, но ты уже оттуда уехал. Тогда она зашла к тебе в офис, чтобы хорошенько разглядеть тебя, убедиться, прав ли Джейкобс насчет нашего сходства. И согласилась, да, сходство имеется. Вот тогда мы сели вместе с майором и продумали операцию, что, должен признать, очень нас всех развлекло. Будто сочиняешь пьесу, придумываешь действующих лиц, всякие достоверные обоснования, чтобы легенда сработала. А потом осталось только заманить тебя в Гармиш, чтобы мы с тобой получше познакомились.
— Но ты вряд ли мог предвидеть смерть твоей матери, — сказал я. — Или мог?..
— Она уже давно болела, так что умереть могла в любой момент. Но так получилось, что мы немного облегчили ей уход в другой мир. Убить человека в больнице — проще простого. Особенно если он лежит в отдельной палате. Мы оказали ей услугу, совершили доброе дело.
— Ты позволил ее убить. — Я сунул новую порцию монеток в телефон. — Собственную мать!
— Нет, не убить! — энергично возразил Груэн. — Совсем нет. Это была эвтаназия. Такая практика существует и сейчас. Гораздо чаще, чем ты предполагаешь. Всю медицинскую систему вот так разом не изменить. Эвтаназия с тридцать девятого года — неотъемлемая часть нормальной больничной практики в Германии и Австрии.
— Ты убил собственную мать ради спасения своей шкуры.
— Отнюдь, Берни. Я пошел на это ради науки. В нашей ситуации цель оправдывает средства. Я думал, Генрих объяснил тебе всё. Всю важность наших экспериментов. Вакцина от малярии стоит всего, что было совершено ради нее. Я думал, ты понял это. Что такое несколько сотен жизней, ну, может, пара тысяч, в сравнении с миллионами, которых спасет вакцина? Моя совесть, Берни, чиста.
— Знаю. Оттого-то все еще ужаснее.
— Но ради того, чтобы наши опыты продвинулись, нам просто необходимо получить доступ к медицинскому оборудованию американцев. К лабораториям. Инструментам. Деньгам.
— К новым заключенным, — подсказал я. — Вроде тех немецких военнопленных в Гармиш-Партенкирхене. Кто же заподозрит, что они умерли в Альпах от малярии? Надо отдать тебе должное, Эрик. Это было очень умно. И куда же ты отправишься? В Атланту? Нью-Джерси? Иллинойс?
На минуту Груэн запнулся.
— С чего ты взял, что я собираюсь туда? — осторожно поинтересовался он.
— Может, я просто лучший детектив, чем ты считал.
— Не пытайся искать меня, Берни. Во-первых, кто тебе поверит? Ты — военный преступник, твое слово против слова человека, которому доверяет само ЦРУ. Уж поверь, Джейкобс добросовестно покопался в твоем прошлом, дружище. И обнаружил весьма любопытные фотографии: ты и рейхсфюрер Гиммлер, ты и генерал Гейдрих, ты и Артур Нёбе. Нашелся даже твой снимок с Германом Герингом. Понятия не имел, что у тебя такие громкие знакомства. «Обмылкам» это понравится. Заставит их думать, что ты — заметная фигура. Что Эрик Груэн был гораздо важнее для рейха, чем он был на самом деле.
— Эрик, я найду тебя! — пригрозил я. — Всех вас. И убью. Тебя, Хенкеля, Джейкобса и Альбертину.
— А, так ты и про нее разнюхал. Ну, Берни, ты тоже даром времени не терял. Поздравляю. Какая жалость, что твои таланты детектива не пробудились пораньше. Ладно, что ж мне ответить на твои пустые угрозы?
— Они не пустые.
— Повторю то, что уже говорил. Мои новые друзья — люди очень влиятельные. Если попытаешься преследовать меня, за тобой кинутся охотиться не только «обмылки», но и ЦРУ.
— Ты еще забыл упомянуть «ОДЕССУ».
Эрик расхохотался:
— Ты что, воображаешь, тебе много известно про «ОДЕССУ»?
— Достаточно, чтобы понять: они помогали подставить меня. Они и твой дружок, отец Готовина.
— Значит, не так-то уж и много. Вообще-то отец Готовина не имеет никакого касательства к тому, что с тобой случилось. Он вовсе не член «ОДЕССЫ». И мне не хочется, чтобы ты как-то мстил ему. В самом деле, его руки чисты.
— Да? Тогда почему твоя жена ходила на встречу с ним в церковь Святого Духа в Мюнхене?
— Э-э… не удивлюсь, если отец как-то связан со «Старыми товарищами», — опять рассмеялся Груэн. — Ничуть. Но с «ОДЕССОЙ» точно нет, с ЦРУ тоже. А то, что моя жена заходила к нему… Визит был вполне невинный, могу тебя заверить. Видишь ли, отец Готовина часто ездит в тюрьму Ландсберг. Он там капеллан. И иногда я передаю через него сообщение своему другу. Он отбывает пожизненный срок за так называемые военные преступления. Готовина возит ему медицинские журналы. И всего-то.
— Герхарду Розе, — подсказал я. — Это он твой друг, я полагаю.
— Да. Ты и правда времени не терял. Недооценивал я тебя — по крайней мере, в этом отношении. Вот и еще причина, почему деньги моей матери придутся так кстати, Берни. Заплатить за апелляцию. Он выйдет из тюрьмы через пять лет. Попомни мои слова. Должен выйти. Это и в твоих интересах тоже.
— Эрик, — перебил я. — Пока я с тобой прощаюсь. У меня закончились монетки. Но я обязательно разыщу тебя.
— Нет, Берни. Мы больше не увидимся. В этой жизни — нет.
— Тогда в аду.
— Да. В аду возможно. Прощай, Берни.
— Auf Wiedersehen, мой друг, auf Wiedersehen.
Я положил трубку, уставился на свои новые ботинки, вспоминая разговор, и вздохнул с облегчением: стало быть, «ОДЕССА», а не «Старые товарищи» стояла за всем, что приключилось со мной. Не сказать, чтобы я уже благополучно выбрался из венских лесов. Пока нет. Но если, как говорил мне Гебауэр и о чем напомнил Эрик Груэн, «ОДЕССА» и «Товарищество» никак не связаны, тогда бояться мне следует только ЦРУ и «ОДЕССУ». А значит, можно попросить «старых товарищей» из СС помочь мне исчезнуть из Вены. Обращусь в «Паутину». Как любая другая обычная нацистская крыса.
37
Я подумал, что церковь на Рупрехтс-плац не случайно стала местом связи в Вене для «старых товарищей», которые были в бегах, скрываясь от правосудия, — она находилась неподалеку от бывшего Главного управления гестапо в Вене. Церковь была самой старой в Вене и выглядела на свои века, хотя табличка у входа объясняла, что церковь пострадала в результате бомбежек союзников. Внутри было холодно, как в польском коровнике, и интерьер был почти такой же примитивный. Даже Мадонна походила на молочницу. Но для любопытного посетителя церкви тут таился сюрприз. Сбоку от алтаря в стеклянном гробу хранились мощи какого-то святого. Очень похоже на скелетик Белоснежки, слишком долго и напрасно ждавшей, пока явится принц и спасет поцелуем любви от подобного смерти забытья.
Отец Ладжоло, о котором мне рассказал отец Готовина, итальянский священник, связанный со «Старыми товарищами», худобой лишь чуть уступал этим мощам и не намного лучше сохранился. Почти бесплотный в длинной черной сутане, с кудрявыми волосами, смуглый, он показался мне типичным итальянцем. Его лицо уместно было бы в толпе на полотне старого флорентийского мастера. Я последовал за ним в боковую апсиду и протянул железнодорожный билет в Прессбаум. Как и в Мюнхене, я зачеркнул на билете все буквы, кроме «сс».
— Я хотел узнать, какой католический храм в Прессбауме вы мне порекомендуете, отец, — проговорил я.
Посмотрев на билет и услышав мой тщательно сформулированный вопрос, отец Ладжоло чуть покривился, как будто очень недовольный моим появлением, и на минуту мне показалось, он сейчас ответит, что ничего о Прессбауме ему не известно.
— Возможно, я сумею помочь вам… — сказал он с сильным итальянским акцентом. Почти таким же сильным, как запах кофе и сигарет, сопровождавший его. — Не знаю. Все зависит… Пойдемте со мной.
Священник провел меня в ризницу, где было потеплее, чем в церкви. Там стоял сосуд со святой водой, газовая плита, шкаф для церковного облачения, на стене висел деревянный крест, а в открытую дверь виднелась уборная. Он притворил дверь, через которую мы вошли, и запер ее. Потом подошел к столику с чайником, чашками и блюдцами.
— Кофе? — предложил он.
— Пожалуйста, отец.
— Садитесь, друг мой. — Он указал на одно из двух кресел с протертой обивкой.
Я сел и вынул сигареты.
— Не возражаете? — Я протянул ему «Лаки».
Он издал смешок:
— Нет, совсем не возражаю. — И, взяв сигарету, добавил: — Думаю, что некоторые апостолы были курильщиками, как считаете? В конце концов, они же были рыбаками. Мой отец — рыбак из Генуи. А все итальянские рыбаки курят. — Он зажег газ, потом прикурил. — А уж когда Христос вошел на рыбацкую лодку и разразился шторм, все они точно закурили. Человек курит, когда испытывает страх, курение помогает скрыть, что он боится, отвлекает. А если вы, попав в сильный шторм на море, начинаете молиться или петь гимны, это вряд ли поможет вам преодолеть страх, верно?
— Думаю, все зависит от гимна, — отозвался я, догадавшись, что мне подали условную реплику.
— Что ж, может и так. А какой ваш любимый гимн?
— «Как велико искусство Твое», — без запинки ответил я. — Мне нравится мелодия.
— Да, вы правы, — он уселся в кресло напротив, — гимн красивый. Лично я предпочитаю наши итальянские марши «И Canto degli Arditb или „Giovinezza“. — Он хихикнул, называя эти походные песни молодчиков Муссолини. — Мне говорили, мотив вашего гимна похож на „Хорст Вессель“. — Священник пыхнул сигаретой. — Так давно не слышал этой песни, даже почти забыл слова. Не напомните?
— Вы же не хотите, чтобы я пел ее?
— Отчего же? — сказал Ладжоло. — Если не возражаете, потешьте старика — спойте, пожалуйста.
„Хорст Вессель“ я всегда терпеть не мог. Слова, однако, помнил достаточно хорошо. Были времена в Берлине, когда, гуляя по городу, вы слышали песню несколько раз на дню, и уж непременно в кино перед новостями и во время новостей с фронта. А на Рождество 1935-го несколько человек затянули ее в церкви во время рождественского богослужения. Но сам я пел „Хорст Вессель“, только когда нельзя было не петь, иначе рискуешь быть избитым. Откашлявшись, я затянул глухим баритоном:
Знамена вверх! В шеренгах плотно слитых СА идут, Спокойны и тверды. Друзей, Ротфронтом И реакцией убитых, Шагают души, В наши встав ряды. Свободен путь Для наших батальонов, Свободен путь Для штурмовых колонн! Глядят на свастику С надеждой уж мильоны, День тьму прорвет, Даст хлеб и волю он. [19]Священник кивнул и протянул мне кофе. С благодарностью обхватив обеими ладонями чашку, я вдохнул горько-сладкий аромат.
— Желаете последние два куплета? — осведомился я.
— Нет-нет. — Он улыбнулся. — Все в порядке. Я всегда прошу людей спеть. Приходится соблюдать осторожность, знаете ли. Надо же проверить, с кем имеешь дело. Понимаете? — Он перебросил сигарету в угол рта, прищурился от дыма и вынул блокнот и карандаш.
— Не уверен, что „Хорст Вессель“ поможет, — заметил я. — К тому времени, когда Гитлер пришел к власти, русские наверняка знали слова не хуже нашего. Некоторых в концлагерях даже силой заставляли учить.
Отец Ладжоло громко отхлебнул кофе, не обратив внимания на мои слова.
— Ну а теперь, — сказал он, — кое-какие детали. Ваше имя.
— Эрик Груэн.
— Номер партийного билета, удостоверения СС, звание, место и дата рождения.
— Вот. — Я протянул листок с записями, которые сделал, изучая досье Груэна в русской комендатуре.
— Спасибо. — Ладжоло пробежал записи глазами. — Есть у вас при себе документы, удостоверяющие личность?
Я протянул ему паспорт Эрика Груэна. Внимательно пролистав его, он сунул и его, и листок в блокнот.
— Пока мне придется подержать все у себя. Ну а теперь объясните, что толкнуло вас обратиться к нам.
— Моя собственная глупость, отец, правда, — ответил я, удрученно нахмурившись. — У меня умерла мать, чуть больше недели назад. Вчера состоялись похороны на Центральном кладбище. Я, конечно, знал, что рискованно показываться в Вене, но мать-то у человека одна, верно? В общем, понадеялся, а может, все обойдется, если не буду лезть людям на глаза. Я даже не был уверен, что меня действительно ищут союзники.
— А приехали вы под своим настоящим именем?
— Ну да, — пожал я плечами. — В конце концов, прошло уже больше пяти лет, и в газетах читаешь о возможности амнистии для… „старых товарищей“.
— Боюсь, что нет. Пока, во всяком случае, нет.
— Но оказалось, меня разыскивают. После похорон меня узнали. Один из слуг моей матери пригрозил мне, что, если я не дам ему определенную сумму денег — абсурдно огромную, — то сообщит властям, где меня найти. Я схитрил, решил потянуть время и поехал обратно в отель, намереваясь съехать оттуда и немедленно вернуться домой, но там меня уже поджидал Международный патруль. С тех пор слоняюсь по Вене, провожу время в барах и кафе. Соваться в какой-то другой отель или пансион боюсь. Вчера вечером зашел в „Ориенталь“, позволил какой-то девице подцепить меня и провел ночь с ней. Я просто не мог придумать, куда мне деваться.
Ладжоло пожал плечами, как бы соглашаясь со мной:
— А где вы жили до сих пор? Я имею в виду, до Вены.
— В Гармиш-Партенкирхене. Местечко тихое, спокойное. Никто там не обращает на меня никакого внимания.
— А вернуться туда можете?
— Нет. Человек, который шантажировал меня, знает, где я живу. Не сомневаюсь, что, не получив денег, он немедленно сообщит союзным властям о моем адресе.
— А та девушка, у которой вы провели ночь, — спросил он, — ей можно доверять?
— Пока я ей плачу, думаю, да.
— А вы ей о себе что-нибудь рассказывали?
— Нет. Ничего.
— Это правильно. Ей известно, что вы пошли ко мне?
— Нет, конечно же, отец! Никто про это не знает.
— Вы сможете переночевать у нее еще одну ночь?
— Да. Я даже уже договорился.
— Отлично, — одобрил он. — Потому что мне потребуются по крайней мере сутки, чтобы организовать ваш побег из Вены. — Это весь ваш багаж? — Он указал на сумку.
— Да. Все остальные вещи в отеле — зайти за ними я не рискую.
— Разумеется, не стоит. — Он вынул изо рта сигарету. — Встретимся здесь завтра днем, часа в четыре. И будьте готовы к отъезду. Наденьте теплую одежду. Купите, если нет. А еще я хочу, чтобы вы до завтрашнего дня сфотографировались. — Священник нацарапал адрес в блокноте и, вырвав листок, протянул мне. — На Элизабет-штрассе, напротив Оперы, есть магазин. Спросите герра Вайера. Зигфрида Вайера. Он наш друг, ему можно доверять безоговорочно. Скажите ему, что вас прислал я. Он знает, что требуется делать. Я записал вам его номер телефона на случай, если вас что-то задержит: „вэ“ двадцать шесть четыреста двадцать пять. Держитесь подальше от вокзалов, телеграфов и почт. Сходите в кино, в театр. Куда-нибудь, где потемнее, где много народу. Сколько у вас денег?
— Хватит, чтобы пока продержаться, — ответил я.
— Отлично. А оружие?
Я заколебался, слегка удивленный таким вопросом от служителя Бога.
— У меня нет.
— Будет совсем худо, если вас арестуют сейчас, — заметил отец Ладжоло, — когда мы запустим весь наш механизм в действие, чтобы вызволить вас из Вены.
Открыв шкаф для церковного облачения, священник снял замок с небольшого сундучка. Внутри лежало несколько пистолетов. Он взял один — красивый маузер, вынул магазин короткими, в желтых никотиновых пятнах пальцами и проверил, заряжен ли, прежде чем протянуть мне.
— Вот, — сказал он. — Возьмите. Но пустите его в ход только в случае крайней необходимости.
— Спасибо, отец, — поблагодарил я.
Ладжоло, подойдя к задней двери ризницы, открыл ее и вышел в узенький переулок, огибавший церковь сбоку, под какими-то строительными лесами.
— Когда придете завтра, — велел он, — не входите через церковь. Пройдите этим проулком. Дверь будет отперта. Войдите, сядьте и ждите.
— Да, отец.
— Ну, до завтра.
38
На следующий день я уехал из Вены. За рулем сидел немец по имени Вальтер Тиммерман. Родился он в Вене, но жил в Пфангштадте. Он работал на американскую армию, доставляя армейскую газету „Звезды и полосы“ в Зальцбург и Вену из типографии в Грисхайме, поэтому его „додж“ — грузовик с парусиновыми бортами — никогда не обыскивала военная полиция ни одной из четырех властей. Возвращаясь в Германию, грузовик вез непроданные экземпляры, чтобы их могли переработать. Среди этих-то газет я и прятался, когда мы пересекали границу оккупационных зон. А остальное время сидел в кабине с Тиммерманом, слушая его болтовню, а поговорить, как он признался, он любит, потому что почти всегда ездит в одиночку, а в дороге, случается, бывает так тоскливо. Меня это вполне устраивало, и я узнал, что Вальтер служил в люфтваффе в Грисхайме, там его застал конец войны, и там же он начал шоферить для янки два года назад.
— Работать на них не так уж и плохо, — продолжал он, — когда узнаешь их получше. Большинство американцев только и мечтает вернуться поскорее
домой. Из всех четырех властей работать у них — лучше всего. Но вот солдаты из них, наверное, самые паршивые. Серьезно. Им на все наплевать. Если бы русские пошли на нас сейчас войной, они бы и не заметили даже. Поэтому-то мне так многое сходит с рук. Янки все поголовно заняты спекуляцией. Спиртное, сигареты, грязные книжонки, лекарства, женское трикотажное белье — чего я только не возил для них. Поверь, ты не единственный незаконный груз в моем грузовике.
Какой еще незаконный груз находился в грузовике в данный момент, он не уточнил, а я не стал спрашивать. Но насчет отца Ладжоло я его спросил.
— Я католик, понимаешь? — сказал он. — А отец обвенчал нас с женой, когда еще служил в другом приходе, в церкви Святого Ульриха в Седьмом округе. Еще в войну. Моя жена, Джованна, наполовину итальянка. Ее брат служил в СС, и отец Ладжоло помог ему сбежать из Австрии после войны. Теперь он живет в Шотландии. Представляешь? В Шотландии! Играет в гольф все время. Теперь у него новое имя, дом, работа. Он горный инженер в Эдинбурге. Кто додумается искать его в Эдинбурге? Никто. Вот с тех пор я и выручаю отца Ладжоло, когда ему требуется переправить „старого товарища“ куда-то, где до него не дотянутся своими кровавыми лапами русские. Если спросишь меня, Вена кончилась. Станет такой же, как Берлин, попомни мои слова. В один прекрасный день они просто нагрянут сюда на танках, и никто пальцем не шевельнет, чтобы остановить их. Янки считают, что такого никогда не случится. А может, им попросту наплевать. Этого ужаса вообще бы не произошло, если б они заключили мир с Гитлером и не навязали нам безоговорочную капитуляцию. Пока у нас еще Европа, которая похожа на Европу, а не на строящиеся Советы.
Поездка была долгой. На дороге из Вены в Зальцбург действовало ограничение скорости — шестьдесят километров в час, а в деревнях и маленьких городках — не больше двадцати. После нескольких часов разглагольствований Тиммермана об Иванах и янки, я готов был затолкать ему в глотку весь оставшийся тираж газеты „Звезды и полосы“.
В Зальцбурге мы выехали на мюнхенский автобан и поехали побыстрее. Вскоре мы уже пересекли границу Германии. Ехали мы сначала на север, потом на запад через Мюнхен. Вылезать из грузовика в Мюнхене не имело смысла. Я не сомневался, что Джейкобс постарался, чтобы там меня караулила полиция. И пока у меня не будет нового паспорта, самое лучшее — тихонько сидеть там, куда меня везли. Проехав Ландсберг, мы повернули на юг к Альпам. Моя поездка закончилась в старом бенедиктинском монастыре, расположенном в холмах соблазнительно близко от Гармиш-Партенкирхена, который, как сказал мне Тиммерман, лежал всего в девяноста пяти километрах к западу, и я не сомневался, очень скоро я не устою перед искушением.
Монастырь располагался в красивом готическом здании с розовыми кирпичными стенами и двумя высокими колокольнями, похожими на пагоды, которые были видны задолго до того, как мы миновали главные ворота. Но, только въехав на территорию, вы по-настоящему осознавали подлинные размеры монастыря и приходили к неизбежному выводу: как же богата и могущественна Римская католическая церковь. Такой громадный монастырь в таком маленьком городишке в глухомани! Какими же финансовыми и человеческими ресурсами располагает Ватикан! И „Старые товарищи“ как его дополнение. Интересно, почему церковь обеспечивает крысиные лазейки бывшим нацистам и военным преступникам в бегах?
Грузовик затормозил, и я выскочил. Я находился во внутреннем дворе, большущем, как плац для военных парадов. Тиммерман вел меня через базилику, размерами с самолетный ангар, с алтарем, который только императору Священной Римской империи показался бы скромным. Мне разукрашенный завитушками резной алтарь напомнил польский рождественский торт. Играл орган, и сладкоголосый хор местных мальчиков нежно выводил печальную мелодию. Если б не могучий запах пива, атмосфера была бы, как и полагается, вполне святой. Следом за Тиммерманом я прошел в маленький кабинет, где нас встретил монах, по виду не брезгующий кружкой-другой пива. У отца Бандолини, настоящего здоровяка, живот входил в дверь первым, а ручищи были как у мясника. Короткие серебристо-седые волосы повторяли цвет серых глаз, а резкими твердыми чертами лица он походил на языческих богов, вырезанных из дерева. Он встретил нас хлебом, сыром, холодным мясом, пикулями и стаканом пива, сваренного в монастыре, а также теплым приветствием. Гостеприимным жестом пригласив меня поближе к огню, он осведомился, не случились ли какие трудности в нашей поездке.
— Все было в полном порядке, отец, — заверил Тиммерман и вскоре, извинившись, ушел: ему хотелось успеть вернуться в Грисхайм сегодня вечером.
— Отец Ладжоло сказал мне, что вы врач, — сказал отец Бандолини после ухода Тиммермана. — Это так?
— Ну да, — пробормотал я, страшась, вдруг меня попросят применить свои медицинские познания, тут-то и обнаружится, что Груэн я — фальшивый. — Но медициной я не занимался с довоенных времен.
— И вы католик?
— Конечно, — заверил я, сочтя, что разумнее принять веру людей, которые мне помогают, — хотя и не очень ревностный.
— Ну уж какой есть, — пожал плечами отец Бандолини.
Я тоже пожал плечами.
— Почему-то мне с детства казалось, что монахи-католики очень хорошие.
— Когда живешь в монастыре, легко быть хорошим католиком. Вот почему большинство тут — хорошие католики. В подобном месте не очень-то много искушений.
— Ну, не знаю. Пиво, к примеру, у вас отличное.
— Вы тоже так считаете? — усмехнулся он. — Его здесь варят по старинному рецепту уже несколько сот лет. Может, из-за него мы тут и остаемся.
У него был негромкий голос благовоспитанного человека, оттого я подумал, что неправильно расслышал его, когда, после того как я поел, он стал объяснять, что монастырь — в том числе и монашеская обитель Святого Рафаэля, располагающаяся здесь, — помогает германским католикам-эмигрантам с 1871 года, и среди них было много католиков-неарийцев.
— Вы сказали — „католики-неарийцы“?
Он кивнул.
— Это что, такой мудреный церковный термин, обозначающий итальянца? — уточнил я.
— Нет, так мы называем евреев. Многие из них стали католиками, конечно. Но других мы просто называли католиками, чтобы убедить Бразилию или Аргентину принять их.
— Но ведь это было довольно опасно?
— О да. Очень. Гестапо чуть ли не десять лет держало нас под наблюдением. А один из наших братьев даже умер в концлагере за помощь евреям.
Вот интересно, очевидна ли для него ирония ситуации: сейчас он помогает Эрику Груэну, гнуснейшему военному преступнику. Вскоре я выяснил: да, вполне очевидна.
— Это Божья воля, что братству Святого Рафаэля теперь приходится помогать тем, кто когда-то организовывал преследование его, — сказал он. — И кроме того, теперь враг другой, но не менее опасный. Враг, который считает религию опиумом, отравляющим души людей.
Но самое поразительное ждало меня впереди.
Поселили меня не в монастыре с остальными монахами, а в больничном изоляторе, где, как заверил меня отец Бандолини, мне будет гораздо удобнее.
— Ну, во-первых, — говорил он, ведя меня через просторный квадратный двор, — там теплее. В комнатах разрешается топить камины. Там удобные кресла, а ванные гораздо лучше оборудованы, чем в монастыре. Еду вам будут приносить, а когда пожелаете, можете приходить к нам на мессу в базилику. И дайте мне знать, если пожелаете получить отпущение грехов. Я пришлю к вам священника. — Открыв массивную деревянную дверь, он провел меня через комнату капитула в изолятор. — И вы не будете тут в одиночестве, — добавил он. — У нас уже живет двое гостей. Они покажут вам, что тут к чему. Оба дожидаются эмиграции в Южную Америку. Я вас познакомлю. Но не беспокойтесь: у нас не поощряется употребление прежних имен, по причинам вполне очевидным. С вашего позволения, и я стану называть вас тем именем, какое будет вписано в вашем паспорте, когда документ прибудет из Вены.
— А сколько обычно на это уходит времени? — поинтересовался я.
— Иногда несколько недель. А потом вам потребуется виза. Возможно, отправитесь вы в Аргентину. Сейчас все, по-моему, едут туда. Тамошнее правительство с большим сочувствием относится к немецким эмигрантам. И, конечно, вам предстоит плыть на пароходе. — Он подбадривающе улыбнулся. — В общем, думаю, придется вам примириться с тем, что пожить у нас вам предстоит месяц, а то и два.
— Мой отец живет тут неподалеку, — заметил я. — В Гармиш-Партенкирхене. Очень бы хотелось повидаться с ним до отъезда из страны. Думаю, это последний мой шанс.
— Вы правы, Гармиш совсем близко. По прямой — около ста километров. Мы доставляем туда, на американскую базу, наше пиво. Янки обожают пиво. Может, сумеете съездить на грузовике со следующей партией. Посмотрю, чем смогу вам помочь.
— Спасибо, отец, я вам очень благодарен.
Конечно, я не собирался в Аргентину, а только в Гамбург, как только получу новое имя и паспорт. Гамбург мне нравился всегда. Дальше от Мюнхена и Гармиша и того, что я намеревался сделать в Гармише, я уехать не мог, если не покидать пределы Германии. Но в мире не существовало мотива, побудившего бы меня вдруг отправиться на тихоходном пароходе в банановую республику, как „старые товарищи“, с которыми меня сейчас познакомят.
Тихонько постучавшись, отец Бандолини открыл дверь, за ней обнаружилась небольшая уютная гостиная, а в ней два человека, вольготно расположившиеся в креслах с газетами. На столе стояла бутылка виски и лежала початая коробка сигар „Регент“. Хороший признак, подумал я. На стене висело распятие и портрет папы Пия XII, на голове у него красовалось нечто вроде пчелиного улья. Почему-то, может, из-за маленьких очков без оправы и аскетичного лица, но папа показался мне похожим на Гиммлера. К тому же он оказался точной копией одного из мужчин, сидевших в комнате. Последний раз этого человека я видел в январе 1939-го, он стоял между Гиммлером и Гейдрихом. Еще помню, я подумал тогда: какой же он простецкий, заурядный. И даже сейчас мне с трудом верилось, что на него ведется бешеная охота, как ни за одним другим военным преступником в Европе. На вид — обычный человек, как многие: остролицый, узкоглазый, с немножко оттопыренными ушами, а над маленькими гиммлеровскими усиками — длинноватый нос, на котором сидят очки в темной оправе. Похож он был на еврея-портного, сравнение это, как я знал, страшно его злило. Человек этот был Адольф Эйхман.
— Джентльмены, — обратился отец Бандолини к этим двоим, сидевшим в гостевой монастыря, — хочу представить вам человека, который погостит у нас какое-то время. Это доктор Хаузнер. Карлос Хаузнер.
Таким было мое новое имя. Отец Ладжоло объяснил мне, что, когда человеку дают новое имя, подходящее для Аргентины, лучше, чтобы оно наводило на мысль о двойной национальности: вроде бы немец, но с примесью южноамериканской крови. Вот так и получилось, что я стал зваться Карлосом. В Аргентину мне не надо, но с полицией двух стран на хвосте я едва ли мог позволить себе затеять спор об имени.
— А это, — отец Бандолини протянул руку в сторону Эйхмана, — герр Рикардо Клемент. — Он повернулся ко второму. — Педро Геллер.
Эйхман ничем не выдал, что узнает меня. Он коротко, холодно поклонился и пожал мою протянутую руку. Выглядел он старше, чем должен бы. По моим подсчетам, было ему чуть больше сорока, но он почти совсем облысел, а в очках, из-за стекол которых смотрели уставшие, затравленные глаза, как у зверя, слышащего лай гончих — вот-вот догонят, — казался куда старше. Костюм из толстого твида, полосатая рубашка и небольшой галстук-бабочка делали его похожим на мелкого клерка. Но в его рукопожатии от клерка ничего не было. Рукопожатиями с Эйхманом я обменивался и раньше, тогда руки у него были мягкие, почти нежные, но теперь это были руки рабочего, как будто после войны ему пришлось зарабатывать на жизнь изнурительным физическим трудом.
— Рад познакомиться, герр доктор, — произнес он.
Второй был гораздо моложе, посимпатичнее, поприличнее, чем его злополучный компаньон, одет, при дорогих часах и золотых запонках. Светлые волосы, синие ясные глаза, а зубы — будто позаимствовал у американской кинозвезды. Рядом с Эйхманом парень возвышался, как флагшток, а держался этот красавец как журавль редкой породы. Я пожал руку и ему, обнаружив, что у него хороший маникюр и кожа мягкая, как у школьника. Вглядевшись в Педро Геллера, я предположил, что лет ему едва ли больше двадцати пяти. Непонятно, какие такие военные преступления, которые гонят его в Южную Америку под новым именем, он мог совершить в восемнадцать—девятнадцать лет.
Под мышкой у Геллера торчал испано-немецкий словарь, а еще один лежал открытый на столе перед креслом, где сидел Эйхман-Клемент. Геллер улыбнулся:
— Мы только что проверяли друг у друга испанские слова. Рикардо язык дается гораздо легче, чем мне.
— Правда? — Я мог бы добавить, что Рикардо знает и идиш, но воздержался. Я оглядел гостиную: шахматная доска, игра „Монополия“, книжный шкаф, полный книг, газеты и журналы, новый радиоприемник „Дженерал электрик“, кофейник, чашки, забитая окурками пепельница, одеяла — одно прикрывало ноги Эйхмана. Нетрудно было догадаться, эти двое проводят немало времени запертые в этой комнате — в ожидании нового паспорта, чтобы сбежать в Южную Америку.
— Нам очень повезло, что в монастыре, — сказал отец, — есть священник из Буэнос-Айреса. Отец Сантамария обучает испанскому наших двух друзей и рассказывает им об Аргентине. Это удача, когда едешь куда-то, уже владея языком.
— Вы хорошо доехали? — поинтересовался Эйхман. Если он при виде меня и разнервничался, то никак этого не показал. — Откуда вы?
— Из Вены. — Я пожал плечами. — Поездка получилась вполне сносной. А вы, герр Клемент, знаете Вену? — Я пустил по кругу свои сигареты.
— Нет, не очень, — ответил он, едва заметно сморгнув. Да, надо отдать ему должное. Держится он отменно. — Австрия мне совсем незнакома. Я из Бреслау. — Он взял сигарету и позволил мне поднести огонь. — Хотя теперь город этот в Польше и называется Вроцлав или как-то там еще… Можете себе представить? А вы из Вены, герр?..
— Доктор Хаузнер, — подсказал я.
— Доктор, значит? — Эйхман усмехнулся. Зубы у него с тех пор лучше не стали, отметил я. Несомненно, его забавляло, что он знает: никакой я не доктор. — Полезно, что рядом будет медик, правда, Геллер?
— Да, верно. — Геллер закурил. — Я тоже всегда хотел стать врачом. Ну, до войны то есть. — Он грустно улыбнулся. — Теперь уж наверняка никогда не стану.
— Вы еще молодой, — возразил я. — А когда человек молод, возможно всё. Уж поверьте. Я и сам когда-то был молодым.
Но Эйхман покачал головой.
— Это утверждение было верным до войны. В Германии было возможно всё. Да. И мы доказали это миру. Но не теперь. Боюсь, теперь это перестало быть правдой. Не сейчас, когда половиной Германии управляют варвары-безбожники. Согласны, отец? Объяснить вам, господа, что такое на самом деле Федеративная Республика Германия? Мы — окоп для укрытия на передовой новой войны. Войны, которую ведут…
Эйхман оборвал себя и улыбнулся:
— И чего это я разошелся? Какое это теперь имеет значение! И само „сегодня“ тоже не имеет значения. Для нас „сегодня“ существует не больше, чем „вчера“. Для нас есть только „завтра“. Надежда — вот все, что у нас осталось.
39
Монастырское пиво действительно было отменное. Называлось оно „траппистское“, и варили его в строго соблюдаемых условиях и только монахи-бенедиктинцы. А другое их пиво называлось „Шлюкерармер“ и было медного цвета с белой, цвета сливочного мороженого, пеной. У этого вкус был сладковатый, отдающий шоколадом, и крепость, опровергающая его аромат и происхождение. Гораздо легче было представить, что пьют его американские солдаты, а не богобоязненные монахи-аскеты. Американское пиво мне пробовать тоже доводилось. Только страна, где когда-то был сухой закон, могла варить такое — не пиво, а крепленая минеральная водичка. И только в такой стране, как Германия, способны варить пиво такой крепости, что оно заставляет монаха рисковать тем, что Лютер приколотит свои девяносто пять тезисов на дверь храма в Виттенберге. Так сказал мне отец Бандолини, и только по этой причине он предпочитал вино.
— Если спросите меня, то вся Реформация и случилась из-за крепкого пива, — высказал он свое мнение. — Вино — вот самый подходящий напиток для католика. От него люди становятся сонными и дружелюбными. А от пива, наоборот, все задираются и кидаются спорить. Посмотрите на страны, где пьют много пива. Там почти все — протестанты. А страны, где пьют вино? Католики.
— А как же русские? — спросил я. — Они пьют водку.
— Это спиртное помогает человеку обрести забвение, — сказал отец Бандолини, — но с Богом оно никак не связано.
Однако все это было менее интересно, чем то, что он сообщил мне чуть позже, а именно: грузовик с монастырским пивом отправляется в Гармиш-Партенкирхен уже сегодня, и я могу ехать.
Я захватил пальто и пистолет, но сумку с деньгами решил оставить у себя в комнате. Ключ от двери у меня имелся, и мне все равно придется возвращаться за моим новым паспортом. Я пошел за отцом к пивоварне, где уже грузили ящики с пивом.
На стареньком двухцилиндровом „фрамо“ ехали двое монахов. У обоих — явные признаки пристрастия к перевозимому грузу — пиву. У бородатого отца Штойбера пузо было с мельничный жернов, а дородный отец Зихофер походил на обожженный в печи бочонок. В кабине грузовика хватало места для всех троих, только если мы одновременно выдыхали воздух и втягивали животы. Пока мы доехали до Гармиш-Партенкирхена, я стал чувствовать себя плоским, как сосиска на сэндвиче саксонского пастора. Но беда была не только в тесноте. Мотор „фрамо“ в пятнадцать лошадиных сил позволял ехать лишь со скоростью пешехода, к тому же мы частенько буксовали на покрытых льдом горных дорогах. Так что пришлось очень кстати, что Штойбер, служивший на Украине в самую суровую русскую зиму, был отличным водителем.
В город мы въехали не с севера, а с юга, по Гриземер-штрассе, в тот район Партенкирхена, где проживало большинство американцев. Монахи сказали мне, что груз они доставляют в отели „Элбзи“, „Хрустальные источники“, „Паттон“, в офицерский клуб и на лыжную базу „Зеленая стрела“. Они высадили меня на перекрестке Цугшпитце-штрассе и Банхоф-штрассе и, похоже, даже обрадовались, когда я сказал, что обратно в монастырь постараюсь добраться сам.
Я разыскал улицу со старыми виллами в альпийском стиле, где Груэн и Хенкель проводили свои последние эксперименты. Номер дома я вспомнить не мог, но отыскать виллу с рисунком лыжника на стене особого труда не составило. В отдалении я слышал приглушенные выстрелы — стреляли по тарелочкам так же, как и тогда. Единственная разница — сейчас земля была покрыта снегом. Сахарной глазурью снег обливал крыши пряничных домиков и все вокруг них. Никаких признаков „бьюика-родмастера“ Джейкобса; там, где он был припаркован, громоздилась лишь куча лошадиного навоза. В городе я видел сани, и рассчитывал, что смогу нанять кого-то, чтобы добраться в Мёнх, после того как закончу разведку на вилле.
Что, собственно, я рассчитывал найти там, я и сам толком не знал. По содержанию моего последнего разговора с Эриком Груэном трудно было угадать, уехал он и остальные из этого района или нет. Но очень может быть, что они все еще тут: вряд ли они ожидают, что я улизну из Вены так скоро. Вена — город закрытый, и вырваться из него непросто. Насчет этого Груэн был прав. И все-таки он конечно же соображал, что деньги, которые он дал мне как компенсацию, весьма облегчат мое возвращение в Гармиш. Но даже если заговорщики еще здесь, то, уж конечно, предприняли какие-то меры предосторожности. Я крепче стиснул пистолет в кармане и двинулся вокруг дома заглянуть в окно лаборатории. Очень удачно, что в Вене я купил высокие ботинки и гетры: я утопал в снегу по колено. А вокруг Мёнха снега навалило наверняка еще больше.
Свет в окнах виллы не горел. И в лаборатории тоже было темно. Я старательно расплющил нос о стекло и смог разглядеть даже кабинет за двойными стеклянными дверьми. В кабинете — тоже никого. Выбрав подходящее полено из аккуратной поленницы под балконом, я огляделся: какое бы окно половчее разбить. Сугробы снега позади меня заглушили звон разбитого стекла. Глубокий снег — лучший друг взломщика. Осторожно я отломил острые осколки, оставшиеся в раме, просунул руку, поднял задвижку, открыл раму и забрался внутрь. Под ногами у меня захрустело стекло, когда я спрыгнул на пол лаборатории. Все тут оставалось в точности, как было в тот раз.
Я подошел к стойке. Комары обеспокоенно замельтешили, когда я положил ладонь на стеклянную стенку их обиталища — проверить, насколько она теплая. Оказалось, им в самый раз, то есть даже жарче, чем в комнате. Комарики чувствовали себя лучше некуда. Но поправить это легко. Я отключил нагреватели, поддерживающие жизнь этих смертоносных насекомых. Еще и ледяной воздух врывается через разбитое окно — так что все они подохнут через несколько часов.
Я открыл и задвинул за собой обе стеклянные двери, проходя в кабинет. И сразу понял — я не опоздал. Рядом с пресс-папье, в центре стола лежали четыре новехоньких американских паспорта. Взяв один, я раскрыл его. Женщина, которая была известна мне как фрау Варцок, жена Груэна, теперь превратилась в миссис Ингрид Хофман. Я заглянул в другие. Генрих Хенкель стал Гасом Брауном. Энгельбертина — миссис Бертой Браун. А Эрик Груэн видоизменился в Эдуарда Хофмана. Я начал было списывать новые имена. А потом попросту сунул все четыре паспорта себе в карман. Без них этим мерзавцам никуда не уехать. И без билетов на самолет — они тоже лежали на столе. Я взглянул на дату, время и место назначения. Мистер и миссис Браун и чета Хофман улетали из Германии сегодня вечером. Все билеты взяты на полуночный рейс до базы ВВС Лэнгли в Виргинии. Все, что мне требовалось, — сидеть тут и ждать. Кто-то — возможно, Джейкобс — непременно скоро явится, чтобы забрать билеты и паспорта. А когда он придет, я заставлю его отвезти меня в Мёнх, где, загнав в
угол беглецов от правосудия, рискну и позвоню в мюнхенскую полицию. Пусть разбираются.
Я уселся, вынул пистолет — тот, что мне дал в Вене отец Ладжоло, — снял с предохранителя и положил оружие на стол перед собой, предвкушая встречу с моими старыми друзьями. Я схватился было за сигарету, но передумал. Ни к чему, а то майор Джейкобс учует дым, едва войдет в дверь.
Прошло полчаса и, слегка притомившись, я решил порыться в бюро с досье; когда я буду разговаривать с полицией, то получится гораздо убедительнее, если я представлю подтверждающие мои слова документальные свидетельства. Не тому, что Груэн и Хенкель ставили эксперименты на евреях в Дахау. Это известно. А тому, что они продолжают начатое, используя как подопытных кроликов местных немцев-военнопленных. Полиции это понравится не больше, чем мне. Если по какой-то случайности суд не предъявит обвинения Груэну, Хенкелю и Цехнер за то, что они творили в войну, ни один германский суд не оставит без внимания массовые убийства немецких военных.
Папки были аккуратно расставлены в алфавитном порядке. Записей до 1945 года не было, зато на каждого человека, которого заразили малярией после окончания войны, велась детальная история болезни. Первая, которую я просмотрел, — медицинская карта лейтенанта Фрица Ансбаха, он был военнопленным, которого лечили от нервной истерии в Партенкирхенском госпитале. Малярией его заразили в конце ноября 1947 года. Когда его начали трясти приступы, ему стали вводить испытываемую вакцину споровакс. Через семнадцать дней Ансбах умер. Причина смерти: малярия. Официальная причина — вирусный менингит.
Я пролистал еще несколько папок из верхнего ящика. Похожая история. Я сложил их на столе, приготовившись взять с собой, когда поеду в Мёнх. Теперь у меня было все, что требовалось. И я даже уже решил не открывать средний ящик этого зловещего бюро. Но что-то как будто толкнуло меня, и я все же открыл. Иначе я никогда бы не наткнулся на папку с фамилией „Хендлёзер“.
Я медленно прочитал досье. Потом перечитал еще раз. Мне встретилось множество медицинских терминов, абсолютно незнакомых, но кое-что я все же понял. Десяток графиков, показывавших температуру „объекта“, сердечный ритм до того, как они поместили ее руки в коробку, содержащую около ста зараженных москитов, и после. Я вспомнил, как подумал тогда, что жену искусали блохи или постельные вши. Все время, пока жена лежала в психиатрической больнице Макса Планка, там появлялся Хенкель со своим маленьким ящиком смерти. Они вводили ей вакцину споровакс IV, но лекарство не подействовало. Так же, как не действовало и на других. И Кирстен умерла. Ее смерть объяснить было легко: малярию можно списать хоть на грипп, хоть на вирусный менингит, особенно в немецком госпитале, где не хватает оборудования, препаратов для анализов. Мою жену убили… Желудок у меня съежился, точно проткнутый воздушный шарик. Эти подонки убили мою жену так же наверняка, как если бы приставили ей к голове револьвер и вышибли мозги.
Я опять уткнулся в медицинскую карту. Поместили ее в госпиталь по ошибке, как женщину одинокую и с неправильным диагнозом — „умственно неполноценная“, а потому сделали вывод: ее никто не хватится. Когда Кирстен перевели в госпиталь, она „поддалась“ болезни. „Поддалась“. Сформулировано так, будто она всего лишь устала и, поддавшись усталости, заснула, а не умерла. Точно они не знали разницы, как не знали, что у этой несчастной женщины был муж.
Я прикрыл глаза. Стало быть, не блохи и не вши. А укусы комаров. А комар, который укусил меня, когда я был в госпитале? Может, единственный, выбравшийся из коробки? Может, вот оно — объяснение так называемой пневмонии, которой я заболел, после того как меня избили подручные Джейкобса из „ОДЕССЫ“. Может, никакая это и не пневмония была. А слабо выраженная форма малярии. Хенкель не сумел распознать. Ему и в голову не пришло подозревать, что моя лихорадка может иметь причиной „энтомологический переносчик инфекции“, как они это называли. Так же как у него не было никаких поводов заподозрить, что Кирстен Хендлёзер была моей женой. Что, может, и к лучшему. Не то угостили бы меня еще и спороваксом.
Новость кардинально меняла ситуацию. Реакция полиции представлялась мне непредсказуемой. А мне требовалась уверенность, что эти люди понесут должное наказание за их преступления. Значит, наказать их я должен сам. Внезапно я гораздо лучше понял мстителей из еврейских отрядов „Накам“. Что это за кара — несколько лет отсидки в тюрьме — для негодяев, которые совершили зверские преступления? Для людей вроде доктора Франца Зикса из департамента управления безопасности „по делам евреев“. Того самого, что в сентябре 1937-го послал меня в Палестину. Израиль, как теперь мы должны называть эту страну. Я понятия не имел, что случилось потом с Паулем Бегельманом, евреем, чьих денег так жаждал Зикс. Но Зикса я видел потом в Смоленске, он командовал специальной оперативной группой, которая истребила семнадцать тысяч человек. И за это ему вынесли приговор — всего двадцать лет заключения. А если новое федеральное правительство Германии добьется своего, то он выйдет на поруки, не отсидев и четверти срока. Пять лет за убийство семнадцати тысяч евреев! Неудивительно, что израильтяне считают: их долг казнить таких людей собственноручно.
Услышав какой-то щелчок, я открыл глаза, с опозданием поняв, что щелчок этот — взводимый курок на „смит-вессоне“ тридцать восьмого калибра. Красивый револьвер с рубчатой рукояткой — я уже видел его в бардачке „бьюика“ Джейкобса. Оружие я всегда хорошо помню. Особенно если оно нацелено мне в физиономию.
— Отодвинься от стола, — спокойно приказал майор, — и положи руки на голову. Всё — медленно. У моего тридцать восьмого калибра очень легкий курок, выстрелит — не заметишь, стоит твоей руке чуть подвинуться к тому маузеру. Я заметил на снегу твои следы. Надо же так наследить! Какой ты неосмотрительный!
Откинувшись на стуле, я положил руки на голову, не спуская глаз с черного зрачка ствола, — тот все приближался. Мы оба знали: нажми он на курок, и я покойник. Тридцать восьмой калибр снабжает человеческий череп десятком дополнительных вентиляционных отверстий.
— Будь у меня побольше времени, — сказал Джейкобс, — я бы полюбопытствовал, как это ты умудрился сбежать из Вены так быстро. Впечатляет. Предупреждал же я Эрика, чтобы не давал тебе денег. Ты с их помощью вырвался из Вены, так? — Подавшись вперед, он осторожно взял со стола мой пистолет.
— Ну что ты! Деньги все еще при мне.
— О? И где же они? — Он поставил на предохранитель мой автоматический пистолет и засунул его за ремень брюк.
— Недалеко, — ответил я. — Можем поехать и забрать их, если желаешь.
— А могу, Гюнтер, вышибить их из тебя рукояткой револьвера. Но тебе повезло, время поджимает.
— Торопишься на самолет?
— Именно. А теперь давай сюда паспорта.
— Какие еще паспорта?
— Если мне придется просить второй раз, лишишься уха. И не обманывай себя, будто кто-то примчится на выстрелы. Тут за углом такая пальба по тарелочкам стоит!
— Довод неплохой. Можно опустить руку достать их? Они в кармане пальто. Или ты предпочитаешь, чтоб я зубами доставал?
— Только указательным пальцем и большим. — Отступя на шаг, Джейкобс приставил револьвер к моей голове. Тут он заметил открытую папку передо мной. Не было смысла давать ему лишний повод нажать на курок, поэтому, вытянув паспорта из кармана, я бросил их поверх папки.
— Чего это ты там читал? — Забрав паспорта и билеты, он спрятал их в карман своего короткого кожаного пальто.
— Записи о болезни одного из пациентов твоих протеже. — Я захлопнул папку.
— Руки на голову! — рявкнул Джейкобс.
— Думаю, врачи из них не слишком умелые. За всеми их пациентами водилась прегадостная привычка — умирать. — Я изо всех сил старался унять злость, но уши у меня горели. Я надеялся, он подумает — из-за холода. Мне дико хотелось превратить его морду в кровавое месиво, но сначала надо увернуться от выстрела.
— Победа стоит всех расходов, — заметил он.
— Легко говорить, когда платишь не ты.
— Военнопленные нацисты? — ухмыльнулся майор. — Вряд ли кто заплачет о десятке больных фрицев.
— А тот парень, которого ты вез в Дахау? — напомнил я. — Он тоже из этих нацистов-военнопленных?
— Вольфрам? Так, расходный материал. Тебя мы выбрали по той же причине, Гюнтер. Ты тоже расходный материал.
— А когда иссяк местный источник больных военнопленных? Начали использовать неизлечимо больных из мюнхенской психиатрички? Совсем как в старые добрые времена. Они тоже расходный материал, да?
— Это глупость. Не стоило им пускаться на такой риск.
— А знаешь, я могу понять, почему они решились, — сказал я. — Они преступники. Фанатики. Но ты, Джейкобс! Тебе известно, что они творили в войну. Я видел досье в русской комендатуре в Вене, там твоя подпись. Опыты над заключенными. Многие из них были евреи, так же как ты. Тебя это не трогает? Совсем?
— Это было давно, — ответил Джейкобс, — а исследования — сейчас. И что еще важнее, будут завтра.
— Ты говоришь, как один мой знакомый. Упертый нацист.
— На опыты уйдет еще год-два, — продолжил майор, прислонившись к стене и чуть расслабляясь, и у меня даже мелькнула мысль: не появилась ли у меня четвертушка шанса? А может, он надеялся, что я кинусь на него, и у него будет предлог застрелить меня? Если считать, что предлог ему требуется. — Вакцина от малярии куда важнее, чем торжество правосудия и возмездие. Ты хоть представляешь, сколько может стоить такая вакцина?
— Нет ничего важнее возмездия, — вскинулся я. — В моем кодексе — нет!
— Очень удачно, Гюнтер, что у тебя такие воззрения. Потому что ты будешь играть главную роль на выездном процессе карающего правосудия, тут, в Гармише. У вас, у немцев, по-моему, нет такого названия, а мы называем его — суд „кенгуру“. Не спрашивай меня почему. По сути это — неофициальный суд, на котором отбрасывают всякие там юридические формальности. Израильтяне называют такой суд „Накам“ — месть. Приговор суда приводится в исполнение через минуту после вердикта. — Он вскинул револьвер. — Поднимайся, Гюнтер! — Я встал. — Теперь ступай в коридор и шагай впереди меня.
Он попятился из двери, пока я подходил к нему. Я молился: хоть бы что-то отвлекло его, заставило оторвать от меня глаза, ну хоть на полсекунды! Но и он, разумеется, прекрасно все понимал и был настороже.
— Запру тебя в местечке приятном и теплом, — приговаривал он, подталкивая меня по коридору. — Открой дверь и топай вниз.
Я выполнял в точности все, как он приказывал, чувствуя револьвер тридцать восьмого калибра, нацеленный мне точно между лопаток. С трех-четырех шагов такая пуля прошьет меня насквозь, оставив дырку размером с австрийскую двухшиллинговую монету.
— А когда я тебя запру, — продолжал он, спускаясь по лестнице позади меня и включая на ходу свет, — то позвоню кое-каким моим знакомым в Линце. Друзьям. Один из них служил раньше в ЦРУ. А теперь в израильской разведке. Так им, по крайней мере, нравится себя называть. На самом деле они убийцы. Так называю их я. И для того их и использую.
— Наверное, именно они убили настоящую фрау Варцок, — предположил я.
— Я бы, Гюнтер, не стал проливать по ней слез после всего, что она наделала в войну.
— А бывшая подружка Груэна, Вера Мессман? — не унимался я. — Ее тоже они убили?
— Конечно.
— Но она-то преступницей не была. Что ты им наговорил про нее?
— Придумал, что была охранницей в Равенсбрюке. Это была тренировочная база для эсэсовок-надзирательниц. Знал про такую? Британцы повесили немало женщин из Равенсбрюка. Ирму Гриз, например, ей было чуть больше двадцати. Но некоторым удалось смыться. Я сказал им, что любимым развлечением Веры Мессман было натравливать волкодавов на евреев, собаки разрывали их в клочья. По большей части информация, которую я сливаю им, правда. Но случается, что подсовываю в список человечка, который вовсе и не был нацистом. Вроде Веры Мессман. А теперь вот тебя, Гюнтер. Вот уж они довольны будут тебя заполучить! Они давно за Эриком Груэном охотятся. Получат все нужные документы, доказывающие, что ты — Груэн. На случай, если тебе вздумается оспаривать это, чтобы спастись. Публичный суд союзных сил в Германии, конечно, действовал бы более дотошно. Но правительство, да и союзники, не надрываются, выслеживая военных преступников. Единственно, кто по-настоящему охотится на них, — израильтяне. И как только они сочтут, что убили Эрика Груэна, мы закроем на него досье. И русские тоже. А настоящий Эрик Груэн будет чист и на свободе. Вот так ты и сыграешь свою роль, Гюнтер. Расплатишься за него. — Я спустился до конца лестницы. — Открой дверь и войди.
Я стоял не двигаясь.
— Если желаешь, — любезно предложил Джейкобс, — могу прострелить тебе ногу, и будем надеяться, что ты не истечешь кровью и не подохнешь за те три-четыре часа, которые им потребуется, чтобы добраться из Линца сюда. Выбор за тобой.
Открыв подвальную дверь, я вошел. До войны я сумел бы расправиться с ним. Тогда я был проворнее. Моложе и проворнее.
— А теперь сядь и руки на голову!
И снова я повиновался. Я услышал, как дверь позади меня захлопнулась, и на минуту ослеп в темноте. В замке повернулся ключ, и вспыхнул свет, включенный снаружи.
— Тебе есть о чем подумать, — громко сказал Джейкобс за дверью. — А пока они едут, мы успеем в аэропорт. Сегодня в полночь Груэн, Хенкель и их леди отправятся в путь, к новой жизни в Америке. А ты будешь валяться мордой вниз в мелкой могиле.
Я промолчал. Да и сказать, собственно, мне было нечего. Ему, во всяком случае. Я надеялся только, что израильтяне, которые приедут из Линца, хорошо понимают по-немецки.
40
Некоторое время я слышал, как наверху расхаживает Джейкобс, а потом все стихло. Поднявшись, я лягнул дверь — помогло выплеснуть злость и чувство бессилия, но никак не способствовало побегу. Сделана подвальная дверь была из дуба. Я мог колотить по ней хоть целый день, но даже не поцарапал бы. Я огляделся — нет ли хоть какого-нибудь инструмента?
Ни окон в подвале, ни других дверей не было. Пол и стены бетонные. В углу исходил жаром радиатор центрального отопления, обжигающе горячий, как электрическая лампочка, лежали какие-то старые кухонные принадлежности — я предположил, что лаборатория наверху когда-то была кухней. Еще тут валялось несколько пар лыж, ботинок и палки, коньки и велосипед без шин. Я поразмахивал лыжей на манер копья и решил, что она может быть полезна, если израильтяне явятся, вооруженные лишь силой Господней. Но если с оружием, то беда. По этой причине я отказался от подобного же плана использовать коньки.
Среди разного барахла тут стоял небольшой ящик с запыленными бутылками рислинга. Отбив горлышко у одной, я без особого удовольствия выпил содержимое. Гаже теплого рислинга ничего нет. Мне стало жарко. Я снял пальто и пиджак, закурил сигарету и перенес внимание на объемные пакеты, сложенные по обе стороны радиатора. Все адресованы майору Джейкобсу, с наклейками „Правительство США. Срочные лабораторные образцы“. На других было написано: „Крайняя осторожность. Обращаться бережно. Хранить только в теплом месте. Опасность инфекционной болезни. Содержат живой материал. Вскрывать только профессиональному энтомологу“.
Вряд ли отряду израильских мстителей помешает прикончить меня пара эскадронов комаров, но все-таки я вскрыл упаковку одной коробки и снял крышку. Коробка была забита соломой, а внутри — удобный портативный домик для друзей Хенкеля и Груэна. На двух листках бумаги шла опись содержимого посылки: „В инсектарии находятся живые анофелесы, яйца, личинки и взрослые особи, мужские и женские. Взрослые особи в москитных садках. В инсектарии находятся также всасывающие трубки для извлечения москитов из садков и питательный кровяной раствор для поддержания жизни насекомых в течение тридцати дней“.
В двух других посылках находились такие же коробочки, а в четвертой по описи — лупы, пинцеты, слайды, чашки Петри, пипетки, комплект для биопроб, сачки и хлороформ. Последнее заставило меня задуматься: а может, удастся усыпить одного из израильтян. Но снова я отступил перед реальностью — не так-то просто наброситься на человека, когда тот целится в тебя из пистолета.
Прошло часа два. Я, еще раз угостившись теплым вином, прилег на пол. Кроме как спать ничего больше не оставалось. Рислинг действовал почти как хлороформ.
Вскоре меня разбудили шаги наверху. Я сел, меня поташнивало. Не столько от вина, сколько от тревоги и волнения — что же теперь случится со мной? Если только у меня не получится убедить этих людей, что я совсем не Эрик Груэн, меня — и сомневаться не приходится — пристрелят, в точности как предсказывал Джейкобс.
Где-то с полчаса я слушал, как двигают наверху мебель, и чувствовал дым от сигарет. Даже как будто доносился смех. Потом на лестнице затопали тяжелые шаги, и следом раздался скрежет ключа в замке. Поднявшись, я отступил в дальний угол подвала, постаравшись избавиться от мыслей, какую радость испытывают сейчас мстители: наконец-то они добрались до одного из самых чудовищных военных преступников. Дверь распахнулась, и на пороге возникли двое: на лицах у них читалось молчаливое отвращение, а в руках посверкивали новенькие автоматические пистолеты сорок пятого калибра.
На обоих были свитера под горло и лыжные брюки. Один был помоложе, каштановые волосы у него стояли ежиком, словно он только что вышел из парикмахерской, и ему их чем-то намазали: маслом или кремом, брови тоже мохнато топорщились, а большие карие глаза напоминали собачьи, впрочем, он вообще лицом походил на собаку. Спутник его был повыше, еще некрасивее, с ушами как у слоненка и широким длинным носом.
Они повели меня наверх осторожно, точно я тащил невзорвавшуюся бомбу. В кабинете стол был передвинут, за ним лицом к лаборатории сидел мужчина, а перед столом — единственный стул. Мужчина вежливо пригласил меня сесть. Говорил он как американец. Когда я сел, он наклонился вперед, облокотившись на стол и сплетя пальцы, словно намереваясь помолиться, прежде чем приступить к допросу. Рукава рубашки были засучены — может, хотел показать, что настрой у него самый деловой, а может, просто из-за жары в комнате. Помещение пока еще не остыло. Густые седые волосы сваливались ему на глаза, а уж тощий он был, словно ленточка экскрементов, тянущаяся за давно не кормленной золотой рыбкой. Нос поменьше, чем у его соратников, но так, ненамного. Однако к размеру носа не особо кто стал бы присматриваться, отвлекал его цвет. Столько лопнувших капилляров расцвечивало этот нос, что он полыхал, как мухомор. Взяв ручку, обладатель диковинного носа изготовился писать в новом красивом блокноте.
— Ваше имя?
— Бернхард Гюнтер.
— Как вас звали прежде?
— Меня всегда звали Бернхард Гюнтер.
— Какой у вас рост?
— Метр восемьдесят семь.
— Размер обуви?
— Сорок четвертый.
— Размер пиджака?
— Пятьдесят четвертый.
— Номер партийного билета в НСДАП?
— Я никогда не состоял в нацистской партии.
— Номер удостоверения СС?
— Восемьдесят пять тысяч четыреста тридцать семь.
— Дата рождения?
— Седьмое июля тысяча восемьсот девяносто шестого года.
— Место рождения?
— Берлин.
— Ваше имя?
— Бернхард Гюнтер.
Мой дознаватель, вздохнув, отложил ручку. Чуть ли не нехотя он выдвинул ящик стола и достал папку, открыл и протянул мне паспорт на имя Эрика Груэна. Я раскрыл его.
— Это ваш паспорт? — спросил он.
— Фотография моя, — пожал я плечами, — но я никогда не видел этого паспорта прежде.
Он протянул мне другой документ.
— Копия досье СС на Эрика Груэна. Тут тоже ваша фотография, правильно?
— Фотография моя, а досье СС — не мое.
— Заявление о приеме в СС, заполненное и подписанное Эриком Груэном, и медицинская карта. Рост — метр восемьдесят восемь, светлые волосы, глаза голубые, отличительный признак — отсутствие мизинца на левой руке. — Он протянул мне документ. Я взял его — автоматически — левой рукой. — У вас тоже отсутствует на левой руке мизинец. Это вы вряд ли можете отрицать.
— Это долгая история, — сказал я. — Но я не Эрик Груэн.
— И еще фотографии, — продолжал мой дознаватель. — Вот вы пожимаете руку рейхсмаршалу Герману Герингу, снято в августе тридцать шестого года. На другой вы с обергруппенфюрером Гейдрихом в замке Вевельсбург, в Падерборне, в ноябре тридцать восьмого.
— Как видите, я не в нацистской форме, — вставил я.
— А вот ваша фотография, где вы стоите рядом с рейхсфюрером Генрихом Гиммлером, снятая, по-видимому, в октябре тридцать восьмого года. Он тоже не в нацистской форме. — Он улыбнулся. — Что, интересно, вы обсуждали? Эвтаназию, может, акцию „Т-четыре“?
— Я встречался с ним, верно. Но это не означает, что мы посылали друг другу рождественские открытки.
— Ваше фото с группенфюрером СС Артуром Нёбе. Минск, сорок первый год. На этом снимке вы в военной форме. Так? Нёбе командовал специальной оперативной группой, которая убила — сколько евреев, Аарон?
— Девяносто тысяч, сэр. — У Аарона акцент был скорее английский, чем американский.
— Девяносто тысяч евреев. Верно.
— Я не тот, за кого вы меня принимаете.
— Три дня назад вы находились в Вене, правильно?
— Да.
— Ну вот, хоть с чем-то согласились. Улика номер восемь: заверенное свидетельство Тибора Медгэсси, бывшего дворецкого семьи Груэн в Вене.
Когда ему показали вашу фотографию, ту, из вашего эсэсовского досье, он однозначно опознал вас как Эрика Груэна. А есть еще свидетельство дежурного клерка отеля „Эрцгерцог Райнер“. Вы там останавливались после смерти вашей матери Элизабет. Он также опознал в вас Эрика Груэна. Это был необдуманный поступок — приехать на похороны. Глупо, но понять можно.
— Да послушайте же! — взорвался я. — Меня подставили! Майор Джейкобс. Подставил красиво и хитроумно. Настоящий Эрик Груэн покидает страну сегодня вечером. Он летит за границу на самолете из американского военного аэропорта. Он будет работать для ЦРУ, Джейкобса и американского правительства — создавать вакцину от малярии.
— Майор Джейкобс — человек честный и достойный. Человек, который ставит интересы Государства Израиль даже выше интересов собственной страны. Порой создавая немалые проблемы для себя. — Откинувшись на стуле, он закурил. — Послушайте, ну чего вы упираетесь? Признайтесь в преступлениях, совершенных вами в Майданеке и Дахау. Признайтесь в том, что сделали, и все для вас пройдет легче. Я вам обещаю.
— Легче для вас. Мое имя — Бернхард Гюнтер.
— Как вы раздобыли себе это имя?
— Это мое настоящее имя.
— Настоящий Бернхард Гюнтер мертв, — объявил дознаватель и протянул мне листок бумаги. — Вот копия свидетельства о его смерти. Он был убит „ОДЕССОЙ“ или какой-то другой организацией „старых товарищей“ в Мюнхене два месяца назад. Вероятно, для того, чтобы вы могли присвоить его имя. — Он выдержал паузу. — Вместе с этим искусно подделанным фальшивым паспортом. — И он протянул мне мой собственный паспорт. Тот, который я оставил в Мёнхе перед поездкой в Вену.
— Но паспорт не фальшивый, — возразил я. — Он — настоящий. А вот тот, другой, — фальшивка. — Вздохнув, я покачал головой. — Но если я мертв, какое имеет значение, что я говорю. Вы убьете не того человека. Хотя, конечно, вам это не в первый раз. Вера Мессман тоже не была военной преступницей, как наплел вам Джейкобс. Так получилось, я могу доказать вам, что я тот, за кого себя выдаю. Двенадцать лет назад в Палестине…
— Ты подонок! — завопил здоровяк со слоновьими ушами. — Мерзавец и убийца! — Быстро подскочив ко мне, он крепко вмазал мне чем-то твердым, зажатым в кулаке. Я думал, тот, кто помоложе, удержит его. Но нет. Такого не удержать, разве что с помощью крупнокалиберного пулемета. Удар свалил меня со стула. Меня будто шибанул заряд в пятьдесят тысяч вольт. Все тело горело и покалывало, а голову словно закутали в толстое влажное полотенце, так что я не мог ни слышать, ни видеть. Тут на голову мне навернули еще одно полотенце, и наступила тишина и темнота, остался только волшебный ковер. Он взмыл со мной в воздух и понес куда-то, где Берни Гюнтер — настоящий Берни Гюнтер — наконец почувствовал себя как дома.
41
Вокруг было бело. Лишенный блаженного видения, но очищенный от грехов, я лежал во временном пристанище в ожидании, что они решат, как надумают со мной поступить. Я надеялся, что медлить они не станут — очень было холодно. Холодно и мокро. Не раздавалось ни звука, но ведь так и должно быть. Смерть — дама не из шумливых. Но не мешало бы добавить тепла. Странно, но одной стороне лица было гораздо холоднее, чем другой, и на какой-то жуткий момент мне показалось, что я уже в аду. Какие-то ритмичные звуки я все же расслышал, и не сразу, через минуту-другую, понял: это же мое собственное дыхание — земные мучения еще не завершились. Медленно я оторвал от снега голову и увидел человека, копавшего землю в нескольких шагах от меня. Что за странное занятие в лесу посередине зимы? Непонятно, зачем он копает.
— Почему это я должен копать? — простонал он. Только этот, единственный из трех, говорил без акцента.
— Потому что это ты, Шломо, огрел его, — объяснил другой голос. — Не ударил бы, он сам копал бы себе могилу.
Копавший отшвырнул лопату.
— Сойдет! Уж больно земля твердая. Вот-вот повалит снег, до весны труп никто не найдет.
Тут в голове у меня болью отозвался пульс. Видно, объяснение, зачем парень копал землю, заставило сердце биться сильнее. Я застонал, приложив руку ко лбу.
— Приходит в себя, — констатировал голос.
Парень, копавший землю, вылез из могилы и рывком поставил меня на ноги. Тот самый бугай, который ударил меня. Шломо. Немецкий еврей.
— Ради бога! — воззвал голос. — Не лупи ты его больше!
Я с трудом огляделся. Могилку мне вырыли в леске на склоне горы над Мёнхом. Подняв руку к голове, я нащупал шишку величиной с мячик для гольфа. Хороший удар — личный рекорд Шломо.
— Держи его прямо. — Это распорядился мой дознаватель. Нос его плохо переносил холод. Стал совсем как в песне, без конца звучащей по радио последнее время: „Рудольф — наш красноносый северный олень“.
Шломо и Аарон — тот, что помоложе, — ухватив меня за руки пальцами, цепкими, как клещи, поставили прямо. Они получали громадное удовольствие от всей процедуры. Я начал было говорить.
— Тихо! — зарычал Шломо. — Еще получишь слово, нацистский ублюдок!
— Раздевайся, — приказал дознаватель.
Я не пошевелился. Меня только покачивало от удара по голове, вот и все мои движения.
— Разденьте его! — последовал приказ.
Шломо и Аарон грубо принялись за дело, швыряя одежду в мелкую могилу передо мной. Весь дрожа, я попытался согреться руками, как меховой накидкой. Но меховая накидка все-таки была бы лучше: солнце нырнуло за гору, а ветер набирал силу.
Теперь, когда я стоял голый, дознаватель заговорил снова:
— Эрик Груэн, за преступления против человечества вы приговариваетесь к смерти. Приговор будет приведен в исполнение немедленно. Желаете что-то сказать?
— Да. — Собственный голос показался мне чужим. Для этих евреев, конечно, он и был не мой. Они считали, что принадлежит голос Эрику Груэну. Несомненно, они ожидали, что я выкрикну что-нибудь вызывающее, типа „Да здравствует Германия!“ или „Хайль Гитлер!“. Но ни нацистская Германия, ни Гитлер и в мыслях у меня не ночевали. Думал я о Палестине. Может, Шломо врезал мне за то, что я не назвал страну Израилем? В любом случае времени у меня оставалось в обрез, если я желал убедить их не посылать мне пулю в затылок. Шломо уже проверял магазин своего огромного автоматического кольта.
— Пожалуйста, послушайте меня! — отбивая дробь зубами, начал я. — Я не Эрик Груэн. Произошла ошибка. Настоящее мое имя — Берни Гюнтер. Я частный детектив. Двенадцать лет назад, в тысяча девятьсот тридцать седьмом году, я выполнял работу в Израиле для „Хаганы“. Шпионил за Адольфом Эйхманом для Файвеля Полкеса и Элиаху Голомба. Мы встретились в кафе в Тель-Авиве, оно называлось „У Каплински“. Каплински или Капульски — точно уже не помню. Оно рядом с кино было, на Лилиен-Блум-штрассе. Если позвоните Голомбу, он вспомнит меня. Он подтвердит, что я — это я. Я уверен. Он вспомнит, как я одолжил пистолет у Файвеля. И как я посоветовал ему поступить тогда.
— Элиаху Голомб погиб в сорок шестом, — обронил дознаватель.
— Ну тогда Файвеля Полкес. Спросите у него.
— Боюсь, я представления не имею, где он сейчас.
— Полкес был человеком „Хаганы“ в Берлине, — торопился я. — Писать ему я должен был на адрес в Иерусалиме. Мистеру Мендельсону. По-моему, это фабрика „Бецлалел“. Улицы не помню. Но помню, что должен был сделать заказ на медный предмет с серебряной насечкой и фотографию шестьдесят пятого госпиталя. Понятия не имею, что это означает. Но он сказал, это послужит сигналом для кого-то в „Хагане“ связаться со мной.
— Может, он и правда встречался с Элиаху Голомбом, — злобно кинул Шломо дознавателю. — У того ведь были контакты с начальниками СД. В том числе и с Эйхманом. Ну и что из того? Ты же видел фотографии, Цви. Мы знаем, он был приятелем типов вроде Гейдриха и Гиммлера. И всякий, кто пожимает руку этому ублюдку Герингу, заслуживает пулю в затылок.
— А Элиаху Голомба вы застрелили? — спросил я. — За то, что он пожимал руку Эйхману?
— Элиаху Голомб — герой Государства Израиль, — жестко ответил Цви.
— Рад слышать, — еле выговорил я — у меня уже зуб на зуб не попадал. — Но спросите себя вот о чем, Цви. С чего бы вдруг он доверил мне адрес и имя, если б не доверял мне? А пока думаете про это, заодно поразмышляйте и еще об одном. Если вы убьете меня, то никогда не найдете, где скрывается Эйхман.
— Вот теперь я уверен, брешет он все! — заорал Шломо и толкнул меня в могилу. — Эйхман мертв! — Он плюнул в могилу рядом со мной и передернул затвор кольта. — Кому и знать, как не мне: мы сами его убили!
Могила была меньше метра глубиной и, свалившись, я не ушибся. Во всяком случае, никакой боли я не почувствовал: слишком замерз. И я выговаривал себе жизнь. Я надрывался криком, убеждая их:
— Значит, вы убили не того! Я знаю точно. Только вчера я разговаривал с Эйхманом! Я отведу вас к нему! Я знаю, где он прячется!
Шломо направил револьвер мне в голову.
— Ты! Брехливый нацистский ублюдок! Ты что угодно наплетешь, лишь бы спасти свою шкуру!
— Ну-ка, Шломо, опусти пистолет, — скомандовал Цви.
— Ты что, купился на это дерьмо? — запротестовал Шломо. — Да он с три короба набрешет, лишь бы мы не прикончили его!
— В этом я ни минуты не сомневаюсь, — кивнул Цви. — Однако как офицеру разведки мне полагается оценить любую информацию, которая поступает к нам. — Он зябко передернул плечами. — Но делать это зимой на горе я решительно отказываюсь. Отведем его в дом и там допросим еще раз. А потом уже решим, что с ним делать.
Крепко ухватив меня за руки, они отбуксировали меня в дом, конечно же теперь пустой. Я сообразил, что, вероятнее всего, Хенкель снимал его. Либо снимал, либо ему было наплевать, что станет с домом. Насколько я знал, по документам, которые я подписывал в Вене, в офисе Бекемайера, все состояние Груэна переводилось в США. А значит, эти двое очень долго смогут жить там вполне комфортно и безбедно.
Аарон сварил кофе, и мы все с благодарностью выпили по чашке. Цви набросил мне на плечи плед. Тот самый, что когда-то прикрывал ноги Груэна, пока он сидел в инвалидной коляске, изображая из себя калеку.
— Ну хорошо, — приступил Цви. — Теперь давай поговорим об Эйхмане.
— Окажите любезность, — попросил я. — Всего минуту. Позвольте и мне задать вам кое-какие вопросы.
— Ладно. — Цви взглянул на часы. — У тебя ровно одна минута.
— Тот человек, которого вы убили. Как вы опознали в нем Эйхмана?
— У нас была подсказка, что это он, — объяснил Цви. — И он не удивился, увидев нас. И не стал отрицать, что он — Эйхман. Думаю, отрицал бы, будь он кем другим. Ведь так?
— Может быть. А может, и нет. Вы проверяли его зубы? У Эйхмана две золотые коронки еще до войны стояли. Про них наверняка написано в его медицинской карте эсэсовца.
— Времени у нас не было, — признался Цви. — И темно было.
— А помните, где закопали труп?
— Конечно. Существует целый лабиринт подземных туннелей, которые СС планировало использовать для тайного убийства тридцати тысяч евреев из концлагеря Эбенси. Труп спрятан под грудой камней в одном из туннелей.
— Вы сказали „Эбенси“?
— Да.
— А подсказка поступила от Джейкобса, верно?
— Откуда ты знаешь?
— Вы слышали о Фридрихе Варцоке?
— Ну да, — подтвердил Цви. — Он был заместителем начальника концлагеря в Яновска.
— Слушайте, я уверен, что человек, которого вы застрелили, был не Эйхман, а Варцок. Это же легко проверить. Вам только нужно вернуться в Эбенси и осмотреть тело. И будете знать точно, что я говорю правду — Эйхман все еще жив.
— Почему же Варцок не отрицал, что он Эйхман? — удивился Цви.
— А смысл? Отрицал бы, что он — Эйхман, так был бы вынужден признаться, что он — Варцок. И вы все равно убили бы его.
— И то правда. Но с какой стати Джейкобс подсунул нам „куклу“?
— Не знаю. Знаю одно — Эйхман находится в девяноста километрах отсюда. Я знаю, где он прячется. Могу отвести вас к нему.
— Да врет он! — вклинился Шломо.
— Шломо, можно подумать, ты не желаешь найти Эйхмана, — обратился я к нему.
— Эйхман мертв! — гнул свое Шломо. — Я сам застрелил его.
— Разве вам позволено рисковать и ошибаться в таком деле?
— Еще, пожалуй, угодим в ловушку, — ворчал Шломо. — Нас всего трое. Ну, предположим, найдем мы Эйхмана. И что?
— Если попросите его полюбезнее, то Эйхман назовет вам мое настоящее имя и подтвердит, что я действительно ездил в Палестину перед войной. Жизнь невиновного человека в обмен за помощь в обнаружении Эйхмана — по-моему, нормальная сделка.
— Ну а как же все эти фотографии? — вступил Аарон. — Ты же служил в СС. Знался с Гейдрихом и Гиммлером. И Нёбе. Станешь это отрицать?
— Не стану. Но все не так, как выглядит. На объяснения потребуется слишком много времени. До войны я был полицейским. Нёбе был начальником криминальной полиции, я детективом. Вот и все.
— Цви, оставь меня с ним на пяток минут, — попросил Шломо. — Я выясню, говорит он правду или нет.
— Почему ты считаешь, что труп в туннеле — это Фридрих Варцок? — не обращая внимания на слова Шломо, спросил Цви.
— Знакомый священник, он работает на „Старых товарищей“, рассказывал, что Варцок исчез из тайного убежища под Эбенси. Планировалось, что
Варцок отправится в Лиссабон и сядет на пароход в Южную Америку. Туда же, куда сейчас направляется Эйхман. Они сделали вывод, что вы убили Варцока, так же как убили Вилли Хинтце.
— Ну, насчет Хинтце — это точно, — согласился Цви. — Тогда я работал на ЦРУ, или „ОСС“, как мы раньше называли его. А Аарон был в британской военной разведке. Вилли Хинтце мы действительно убили. В лесу под Талгау. Через несколько месяцев после Эйхмана. То есть человека, которого мы приняли за него. Брат Эйхмана и его жена ходили в небольшую деревушку рядом с Эбенси. Мы взяли местечко под наблюдение. В шале, в лесу рядом с деревней, жило четверо мужчин. Человек, которого мы убили, совпадал с описанием, какое у нас имелось на Эйхмана.
— Знаете, что я думаю? — сказал я. — Семья Эйхмана специально водила вас за нос, для того чтобы он мог прятаться где-то еще.
— Да, — кивнул Цви. — И такое бывало.
Я свое сказал. Я выдохся и попросил сигарету. Цви дал мне. Я попросил еще чашку кофе. Аарон налил. Уже кое-что, наметились сдвиги.
— И что будем делать, босс? — повернулся Аарон к Цви.
Цви раздраженно вздохнул.
— Заприте его куда-нибудь, пока я думаю.
— Куда? — оглянулся на Шломо Аарон.
— В ванную, — решил тот. — Там нет окон, а дверь запирается.
Сердце у меня в груди дало сбой. Именно в ванной спрятал я пистолет, отданный мне Энгельбертиной. Тот самый, из которого, как она заявила, может застрелиться Эрик. Но там ли еще оружие?
Два еврея отвели меня в ванную. Я выждал, пока не услышал, как из замка с обратной стороны вынули ключ, и только тогда, открыв сушильный шкаф, сунулся за резервуар горячей воды. В первую секунду я схватил пустоту, но уже в следующую пистолет очутился у меня в руке.
Магазин в маузере не больше зажигалки. Я перевернул пистолет и замерзшими, трясущимися пальцами вытряхнул его из рукоятки. Восьмимиллиметровые патроны размером приблизительно с перо солидной авторучки и на вид не более опасные. Но ходила в свое время в КРИПО поговорка: „Не в том суть, чем стреляешь, а в том, куда попадаешь“. В магазине было семь патронов и один в казеннике. Я понадеялся, что не придется истратить ни одного. Но если и придется, я знал, что неожиданность сыграет мне на руку — кто же ждет, что у голого человека, едва прикрытого лишь пледом, вдруг окажется оружие.
Я загнал магазин обратно, снял с предохранителя — пистолет был готов к стрельбе. Эти люди — профессиональные убийцы. Если дойдет до стрельбы, мне очень повезет, если хоть одного достану. Я попил воды, воспользовался туалетом и спрятал пистолет под плед, там, где я придерживал его у шеи. Хотя бы не сдохну как собака. Я навидался, как убивают людей на краю рва, и знал, что лучше застрелиться самому, чем принять такую смерть.
Я сидел на краю ванной и думал о Кирстен и о людях, убивших ее. Если мне удастся спастись, я обязательно отомщу им, твердил я себе. Хотя бы гнаться за ними пришлось до самой Америки. На авиабазу уж точно съезжу. Но — на какую? Американские военные авиабазы разбросаны по всей Германии. Тут я вспомнил про письмо, на которое наткнулся в бардачке Джейкобса, из госпиталя „Рочестер Стронг“, отправленное в Гармиш-Партенкирхен через авиабазу Рейн-Майн. Сто процентов, именно в Рейн-Майн они и двинулись. Я взглянул на часы. Почти шесть. Самолет на Виргинию улетает в полночь. Наконец я услышал, как поворачивается ключ в замке ванной. Даже если б Цви не целил в меня из пистолета, я бы все понял по его лицу.
— Не проехало, да?
— Извини, — ответил тот, — но то, что ты рассказал, слишком уж фантастично. Если даже ты не тот, за кого мы тебя принимаем, все равно ты — эсэсовец. В этом ты сам признался. И потом, эти снимки… где ты с Гиммлером и Гейдрихом. Они были заклятыми врагами моего народа.
— Ну что ж, — сказал я. — Судьба.
Цви отступил от двери и махнул пистолетом в коридор.
— Давай, иди, — мрачно велел он. — И покончим скорее с этим.
Крепко вцепившись в маузер под пледом, я вышел из ванной и зашагал впереди него. Аарон ждал у парадной двери, Шломо — на улице. Но оружие пока что я видел только у Цви. Что означало, первым мне придется застрелить его. Мы вышли из дома в темноту. Шломо предусмотрительно включил наружный свет, чтобы они могли видеть, что делают. С трудом мы стали взбираться по склону к деревьям и открытой могиле, ждавшей меня. Я уже рассчитал, когда сделаю первый ход.
— Наверное, это ваше представление о высшей справедливости, — обронил я, — такая вот унизительная казнь. — Говорил я храбро, но желудок мой скрутило в узел. — А на мой взгляд, это делает вас такими же подонками, как эти гады из специальных оперативных групп. — Я надеялся, что хотя бы один из них — Аарон, может быть, — почувствует хоть какое-то отвращение к себе, и отвернулся. Сначала я убью Цви, а следом — Шломо. Шломо, единственного из всей троицы, мне действительно хотелось убить. Голова у меня по-прежнему нещадно болела. На краю могилы я остановился, оглянулся. Находились все трое меньше чем в двух метрах от меня — в пределах досягаемости даже для плохого стрелка. Давно мне не приходилось убивать человека. Но сейчас не место для колебаний. Если потребуется — убью всех троих.
42
Было отчаянно холодно. Ветер хлестнул мне пледом по голове. Мою одежду, валявшуюся в могиле, уже припорошил снег. Но я снегу радовался. На снегу будет видна кровь, если я попаду в человека. Я хороший стрелок — лучше стреляю из пистолета, чем из винтовки, это уж точно, — но из восьмимиллиметрового на открытом воздухе легко промахнуться. Другое дело сорок пятый калибр. Если Цви или Шломо выстрелят — точно ранят, и буду валяться, пока не умру от потери крови.
— А последняя сигарета? — спросил я. Отвлеки противника любым пустяком, а уж тогда кидайся на него, — так нас учили в полицейской академии.
— Ты хочешь курить? — не поверил Цви.
— Шутишь? — удивился Шломо. — В такую-то погоду?
Но Цви уже полез за сигаретами. Тут я сбросил плед, мигом повернулся и выстрелил. Пуля угодила ему в щеку, рядом с левым ухом. Я выстрелил опять и срезал ему кончик носа. Кровь Цви брызнула на шею Шломо, на воротничок его рубашки. Здоровяк потянулся за кольтом под мышкой — в этот раз я попал ему в горло, — он упал навзничь на снег, как тяжелый рюкзак. Прижав руку к адамову яблоку и булькая, словно кофеварка, он все-таки нащупал рукоятку и вытянул кольт из кобуры, невольно нажав на курок, когда оружие появилось перед его удивленным лицом: его пуля уложила Цви наповал. Я для верности пальнул Шломо между глаз, одновременно быстро шагнув к Аарону. Изо всех сил я лягнул его в пах замерзшей ногой. Несмотря на боль, он вцепился в мою ногу и держал, пока я не ткнул ему пистолетом в глаз. Только тогда, завопив от боли, он отпустил меня. Поскользнувшись на снегу, я свалился, глядя, как Аарон пятится, шатаясь, и, наткнувшись на неподвижное тело Шломо, падает рядом с ним. Кое-как поднявшись на колени, я нацелил маузер ему в голову и заорал, чтоб не трогал свой пистолет. Аарон то ли не слышал меня, то ли предпочел не услышать, но он выдрал кольт из кобуры и стал возиться, пытаясь привести в боевое положение. Однако пальцы у него замерзли, как и у меня, только мой указательный уже лежал на курке, и у меня оказалось достаточно времени, чтобы как следует прицелиться. Я прострелил молодому еврею икру, парень заверещал от боли, точно побитая собака, выронил оружие и схватился за ногу. Мне показалось, стрелял я пять или шесть раз, но может, и больше, наверняка я не помнил. Я подобрал пистолет Цви, а свой забросил в деревья. Потом забрал оружие Аарона и Шломо и быстро забросил туда же. Аарон был надежно выведен из строя, и я, подойдя к мелкой могиле, выгреб оттуда свою полузамерзшую одежду и принялся одеваться.
— Я не хотел убивать тебя, — пыхтел я, повернувшись к Аарону, — и сейчас не хочу. Мне надо, чтобы ты выслушал меня. Меня зовут не Эрик Груэн, и я никогда Груэном не был. Когда-нибудь, если только это вообще в человеческих силах, я убью этого человека. Мое имя Бернхард Гюнтер, и всегда было таким. Я хочу, чтобы ты передал это тому фанатику, который сейчас стоит во главе „Хаганы“. И запомни, это Бернхард Гюнтер открыл вам, что Адольф Эйхман еще жив. Так что за вами теперь должок. Только в следующий раз, когда станете разыскивать Эйхмана, ищите его уже в Аргентине, потому что именно туда мы оба и отправляемся. Он по причине вполне очевидной, а я — потому, что Эрик Груэн — настоящий Эрик Груэн — подставил меня, убедив выдать себя за него. Он и его дружок Джейкобс. И теперь мне нельзя оставаться в Германии: слишком велик риск. Ты понял?
Закусив губу, Аарон кивнул.
Я закончил одеваться. Подняв наплечную кобуру Шломо, я засунул в нее кольт. Потом, обыскав карманы здоровяка, прихватил деньги, сигареты и зажигалку.
— Где ключи от машины? — спросил я.
Аарон, сунув руку в карман, перебросил мне ключи, запачканные кровью.
— Припаркована в самом начале подъездной дороги, — буркнул он.
— Я забираю вашу машину и пистолет твоего босса. Так что не пытайся преследовать меня. Оружием я владею прилично и если увижу тебя еще раз, то непременно доделаю работу. — Я прикурил две сигареты, одну Аарону, другую себе, и отправился вниз по холму, к дому.
— Гюнтер! — окликнул он. Я обернулся. Теперь он сидел, но был очень бледен. — Пусть сейчас это и без толку, но все-таки скажу: я верю тебе.
— Спасибо. — Я приостановился на минутку. Из ноги у него по-прежнему текла кровь, кровотечение оказалось сильнее, чем я предполагал. Если он останется тут, то умрет или от потери крови, или от холода.
— Идти можешь?
— Вряд ли.
Подняв Аарона на ноги, я помог ему доковылять до дома. Там я разыскал простыни и, разорвав на полосы, наложил импровизированный жгут.
— Мне жаль, что так получилось с твоими друзьями, — сказал я. — Я не хотел. Но у меня не было выбора. Сам понимаешь: или они, или я.
— Цви был хороший парень. Но Шломо немного псих. Тех двух женщин задушил Шломо. Он рвался убить всех нацистов на земле, до последнего.
— Не могу его винить. — Я закончил перевязку. — Слишком много нацистов еще разгуливают на свободе. Только я не из них, понимаешь? Груэн и Хенкель убили мою жену.
— Кто такой Хенкель?
— Еще один врач-нацист. Но объяснять слишком долго. Я должен догнать их. Понимаешь, Аарон, я намерен сделать за вас вашу работу, если удастся. Может, я уже и опоздал. Может, кончится тем, что убьют меня. Но попытаться я должен. Потому что так поступает мужчина, когда кто-то хладнокровно убивает его жену. Пусть даже между нами все было кончено, она все-таки была моей женой, а это кое-что значит. Верно ведь? — Я отер лицо обрывком простыни и направился к выходу, задержавшись только, чтобы проверить телефон. Аппарат был мертв.
— Телефон не работает, — сообщил я. — Вызову для тебя „скорую“, как только подвернется возможность.
— Спасибо, — отозвался он. — И удачи тебе, Гюнтер. Надеюсь, ты их разыщешь.
Я вышел на улицу и, пройдя по подъездной дороге, нашел машину, черный „меркурий-седан“. На заднем сиденье лежало теплое кожаное пальто. Надев его, я сел за руль. Бак почти полон, автомобиль развивает скорость свыше ста километров в час — могу успеть встретиться с друзьями до полуночи.
По дороге я заехал в лабораторию в Гармиш-Партенкирхене. Папки Джейкобс забрал с собой, но они меня не интересовали. Спустившись в подвал, я забрал пару посылок и документы, которые — как я надеялся — откроют мне доступ на военную авиабазу США. План так себе, но я помнил слова Тиммермана, перевозчика „Звезд и полос“, о беспечности американцев. На это я и рассчитывал — ведь мне немедленно нужно было передать срочную посылку для майора Джейкобса.
Вызвав по телефону „скорую“ для Аарона, я двинулся к Франкфурту. Про этот город мне было мало что известно, только что он находился в пятистах километрах отсюда и заполонен янки. Похоже, Франкфурт янки обожали даже больше, чем Гармиш. И жители Франкфурта тоже любили американцев. И кто бы стал винить их? Янки принесли с собой работу и деньги, и город — когда-то заштатный — обрел репутацию одного из самых богатых в Федеративной Республике. Авиабаза Рейн-Майн, расположенная всего в нескольких километрах к югу от Франкфурта, была главным американским аэропортом в Европе. Именно с Рейн-Майна снабжался Берлин во время знаменитой операции „Виттлс“, воздушного моста, с июня 1948-го по сентябрь 1949-го. Из-за стратегической важности Рейн-Майна все дороги во Франкфурт и из него были после войны срочно отремонтированы, и сейчас это лучшие автобаны в Германии.
До самого Штутгарта я ехал быстро, но там опустился туман, настоящее море тумана. Беспрерывно сигналя, я поносил его отборными ругательствами, пока не вспомнил, что и самолеты в туман не летают. Тогда я немного воспрянул духом. При таком тумане еще оставалась надежда успеть вовремя. Но что я буду делать, когда я доберусь туда? У меня при себе меня имелся, конечно, кольт сорок пятого калибра, но мое желание отомстить после случившегося в Мёнхе заметно поубавилось. Да и вообще, хладнокровный расстрел четверых, а то и пятерых человек — это слишком даже для разгневанного мстителя. И еще прежде, чем добраться до авиабазы — приехал я туда чуть за полночь, — я уже твердо знал: убить женщин я не смогу. Что касается их спутников, то я понадеялся, что они хотя бы будут сопротивляться. Затормозив у главных ворот аэропорта и выключив мотор, я взял документы, поправил галстук и зашагал к охраннику. Я очень надеялся, что не забуду слова и вранье пройдет гладко — недаром же я репетировал свою речь всю шестичасовую поездку.
Охранник, голубоглазый блондин под два метра ростом, откормленный и разомлевший в тепле — он был в толстой габардиновой куртке, в берете, шарфе и вязаных шерстяных перчатках, — вряд ли будет проявлять повышенную бдительность. Бедж на куртке сообщал, что его фамилия Шварц. А поскольку он был больше похож на немца, чем я сам, я на минутку подумал, что он по ошибке попал не в ту армию. Но он разговаривал по-немецки не лучше, чем я по-английски.
— У меня срочная посылка для майора Джонатана Джейкобса, — объявил я. — По расписанию он должен вылететь в Штаты сегодня в полночь. На авиабазу Лэнгли, в Виргинию. Майор прикомандирован к Гармиш-Партенкирхену, и посылки прибыли уже после того, как он уехал в аэропорт.
— Ты приехал из самого Гармиша? — удивился охранник и пристально посмотрел на мое лицо. Я вспомнил сокрушительный удар, которым угостил меня Шломо. — В такой туман?
Я кивнул.
— Ну да. В кювет угодил. Вон, синяк заработал. Еще повезло, могло быть и хуже, сам понимаешь.
— Поездка, конечно, еще та.
— Конечно, — скромно подтвердил я. — Взгляни на документы и посылки. Груз и в самом деле очень срочный. Медицинское оборудование. И я обещал майору, если посылки прибудут после его отъезда, так я уж постараюсь, чтобы они нагнали его. — Я нервно усмехнулся. — Ты, может, проверишь, не улетел еще самолет?
— Вряд ли. Сегодня вечером ни один самолет не взлетел, — ответил Шварц. — Даже птички на земле отсиживаются из-за чертова тумана. Так что тебе повезло. У тебя полно времени — до утра точно, так что успеешь и наговориться, и выпить со своим майором. — Но по спискам он все-таки проверил и сказал: — Взгляни-ка, на рейс в Лэнгли четверо сверхкомплектных.
— Сверхкомплектных?
— Ну да, штатских, то есть пассажиров.
— Доктор Браун с женой и доктор Хофман тоже с женой, — проговорил я. — Верно?
— Все правильно, — подтвердил охранник. — Твой майор Джейкобс привез их сюда часов пять-шесть назад.
— Если они не улетели, где же они сейчас?
Шварц ткнул в сторону летного поля.
— Тебе из-за тумана не видно. Поезжай туда и держись левой стороны, увидишь пятиэтажное здание. На одной стороне надпись „Рейн-Майн“, а позади маленький отель, пристроенный к казармам. Вот там, скорее всего, и найдешь майора. Столько суматохи с этим полуночным рейсом в Лэнгли. И все из-за тумана. Да, сэр, уверен, они уже устроились там на ночь. Уютненько, как жучочки в половичочке.
— …жучочки в половичочке… — повторил я фразу, зачарованный образностью английского языка. И тут у меня возникла мрачная идея. — Да, понятно. Пожалуй, не стану я его беспокоить, а? Он наверняка спит. Может, подскажешь, где багажное отделение? Оставлю посылки там.
— Рядом с казармами. Мимо не пройдешь. Сияют как рождественская елка.
— Спасибо, — поблагодарил я и направился к своей машине. — О, и кстати. Я родом из Берлина. Спасибо за все, что вы сделали для нашего города. Воздушный мост, а? Вообще-то я еще и из-за этого не поленился прикатить сюда. Из-за Берлина.
Шварц ухмыльнулся:
— Всегда пожалуйста.
Я снова забрался в машину и въехал на авиабазу, надеясь, что моя действительно искренняя благодарность развеет все его подозрения, если они у него возникли, конечно. Этому психологическому трюку я выучился, когда был офицером разведки в войну: элементы абсолютной правды придают убедительность самому беспардонному вранью. То, что я сказал про воздушный мост, — правда.
Показалось здание аэропорта Рейн-Майн — белое строение в стиле „Баухауз“, столь ненавистном нацистам: огромные окна, голые стены и неперегороженное внутреннее пространство. Я оставил машину на стоянке, прихватив с заднего сиденья одну посылку. И тут увидел зеленый „бьюик-родмастер“ Джейкобса, припаркованный всего в нескольких шагах от места, где я оставил „Меркурий“. Я приехал куда надо. Прижав пакет к боку, я зашагал к зданию. Позади меня, на границе тумана, чернели несколько самолетов „С-47“ и один „Локхид Констеллейшн“.
Я прошел боковой дверью в багажное отделение размерами с большую фабрику. По всей его длине в шестьдесят или семьдесят метров бежала конвейерная лента, множество раздвижных дверей выходило на взлетно-посадочные полосы. Несколько автопогрузчиков замерли там, где остановились, и десятки багажных тележек и погрузочных ящиков с саквояжами, чемоданами, армейскими рюкзаками, дорожными сумками, солдатскими сундучками, пакетами и посылками стояли повсюду, точно ожидая отправки по „воздушному мосту“. Весь груз отправлялся в США, в самые разные штаты Америки: от авиабазы Боллинг в Вашингтоне до Вандерберга в Калифорнии. Где-то тихонько играло радио. В дверях маленького подсобного помещения сидел на ящике, помеченном „Стекло. Не кантовать“, американский военнослужащий с тоненькими усиками, как у Кларка Гейбла, в замасленном комбинезоне и огромной шляпе, уставший и скучающий.
— Чего надо? — нелюбезно спросил он.
— У меня опоздавший груз на рейс в Лэнгли, — ответил я.
— Тут никого нету, кроме меня. Ночь на дворе. Да и рейс до утра задержали. Это ж надо, какой туман! Черт! Теперь я не удивляюсь, что вы, парни, проиграли войну. Сажать самолеты и взлетать отсюда — надорвешься. — Он указал на пакет у меня под мышкой: — Этот, что ли?
— Ну да.
— Есть у тебя на него какие бумаги?
Я показал ему документы, которые прихватил в Гармише, и повторил то же объяснение, что и охраннику у ворот. Он порассматривал их немного, нацарапал свою подпись внизу и ткнул большим пальцем через плечо.
— Вон, метрах в пятидесяти стоит контейнер с надписью „Лэнгли“. Сунь свою посылку туда — и все дела. Утром все погрузим. — Он встал с ящика и захлопнул за собой дверь.
Я пошел в указанном направлении и скоро увидел нужный контейнер. Рядом с ним возвышались нью-йоркскими небоскребами два кофра с наклейками „Доктор и фрау Браун“ и „Доктор и фрау Хофман“ — очень кстати. Замки дешевенькие, вскрыть такие даже самым немудрящим перочинным ножиком пара пустяков, и я открыл оба кофра в полминуты. Лучшие грабители в мире получаются из бывших полицейских.
Открытые кофры походили, скорее, на предметы мебели: в одной половине было отделение для одежды, задернутое шелковой занавеской, и вешалки в тон; а в другой — четыре выдвижных ящика. На идею меня натолкнул охранник у ворот. О жучках в половичках. Уютно им не только в половичках, но и в красивом большом кофре.
Открыв посылку, я вынул инсектарий из соломенного гнезда. Затем садки, они и сами напоминали маленькие деревянные кофры. Внутри жужжали и раздраженно попискивали насекомые, точно жалуясь, что их так долго держали взаперти. Даже если взрослые особи не перенесут обратного перелета в Штаты, их яйца и личинки, не сомневался я, помня слова Хенкеля, выживут обязательно. Возиться с трубками времени не было. Я поставил садок с насекомыми в один из выдвижных ящиков и, ткнув в тонкую сетку ножом, быстро отдернул руку, задвинул ящик и крепко запер кофр. То же самое я проделал со вторым кофром. Меня не укусили. Но их покусают обязательно. И я задумался: а может, с десяток укусов анофелесов, переносчиков малярии, окажется как раз наилучшим стимулом для Хенкеля и Груэна для создания их вакцины? Ради блага людей я понадеялся на это.
Я вернулся к машине, но, наткнувшись взглядом на зеленый „бьюик“, подумал: какая вопиющая несправедливость — Джейкобс останется безнаказанным. По привычке я дернул дверцу — она, как и тогда, оказалась незапертой. Слишком соблазнительно, такой шанс упустить невозможно. И я, притащив инсектарий из второй посылки, поставил его на пол, рядом с местом водителя. Проткнул сетку садка и стремительно захлопнул дверцу машины.
Конечно, я мечтал о другой мести. Меня ведь не будет рядом с ними, и я не увижу их последних секунд. Но я утешал себя тем, что справедливость, не без моего участия, все же восторжествует. И это здорово.
Я двинулся обратно к монастырю, где Карлоса Хаузнера дожидалась сумка с деньгами, а немного погодя и новый паспорт вместе с билетом в Южную Америку.
Эпилог
Прошло несколько месяцев, а я все еще гостил в монастыре в Кэмптене. К нам присоединился еще один беглец от правосудия, и в конце весны 1950-го мы вчетвером ночью пересекли границу Австрии и перебрались в Италию. По дороге четвертый куда-то исчез, и больше мы никогда его не видели. Может, передумал ехать в Аргентину, а может, с ним расправился еще какой-нибудь отряд мстителей.
Мы поселились в Генуе, в тайном убежище, где священник-францисканец, отец Эдуардо Дёмётр, вручил нам новые паспорта из Красного Креста.
Мы подали заявления об иммиграции в Аргентину. Президент Аргентины Хуан Перон был поклонником Гитлера и сочувствовал нацистам. В Италии он организовал ДАИЕ, Делегацию аргентинской иммиграции в Европе. ДАИЕ пользовалась полудипломатическим статусом, и у нее были офисы в Риме, где рассматривались прошения, и в Генуе — там потенциальные иммигранты в Аргентину проходили медицинское обследование. Но все это были пустые формальности, потому что во главе ДАИЕ стоял монсеньор Карло Петранович, хорватский католический священник, который и сам был беглым военным преступником, а прикрывал его епископ Алоиз Хьюдал, духовный наставник германской католической общины в Италии. Нашему бегству помогали и два других католических священника. Один — сам архиепископ, а второй — монсеньор Карл Бауэр. Но чаще других мы видели в тайном убежище отца Дёмётра, он был венгром по национальности и служил в церкви прихода Сан-Антонио неподалеку от офиса ДАИЕ.
Я часто спрашивал себя, почему так много римских католических священников рискуют помогать нацистам. Но вернее было спросить об этом отца Дёмётра, и он объяснил мне, что сам папа осведомлен о помощи, оказываемой беглым военным преступникам-нацистам, и даже, заверил отец, поощряет ее.
— Никто из нас не стал бы помогать вам, если б не святой отец, — добавил он. — И дело не в том, что папа ненавидит евреев или любит нацистов. Ведь и многие католические священники подвергались гонениям в фашистской Германии. Нет, тут политические мотивы: Ватикан разделяет страх и отвращение Америки к коммунизму.
Ну, теперь понятно.
Все заявления на разрешение иммиграции, поступающие от ДАИЕ, должны были быть одобрены Иммиграционной службой в Буэнос-Айресе. Так что нам пришлось ждать в Генуе почти шесть недель; за это время я хорошо узнал город и полюбил его. Особенно старый город и гавань. Эйхман носа из дома не высовывал из страха быть узнанным.
Но Педро Геллер стал моим постоянным спутником, и вдвоем мы обошли много церквей и музеев Генуи.
Настоящее имя Геллера было — Геберт Кулман, он служил штурмбаннфюрером СС в 12-й Гитлеровской молодежной бронетанковой дивизии СС. Это объясняло его молодость, но не стремление сбежать из Германии. И только к концу нашего пребывания в Генуе он рассказал про то, что с ним случилось.
— Отряд наш находился в Каене, — начал он. — Бои шли там жестокие, могу вас заверить. Приказ был — пленных не брать, из-за того, что негде было их держать. И мы расстреляли тридцать шесть канадцев, которые, если по-честному, точно так же расстреляли бы нас, если б ситуация случилась обратная. В общем, наш бригадефюрер сейчас отбывает пожизненный срок за этот расстрел в канадской тюрьме, хотя первоначально союзники приговорили его к смерти. Адвокат в Мюнхене проконсультировал меня, объяснил, что мне тоже грозит пожизненное, если меня будут судить.
— Эрих Кауфман? — перебил я.
— Да. Откуда вы знаете?
— Неважно.
— Он считает, что ситуация улучшится года через два. Самое большее, через пять. Но я не хочу рисковать. Мне всего двадцать пять лет. Майер, мой бригадефюрер, за решеткой с декабря сорок пятого. Пять лет. Мне ни за что не выдержать пять лет, и уж тем более пожизненное. Вот я и сваливаю в Аргентину. В Буэнос-Айресе полно возможностей заняться бизнесом. Кто знает? Может, мы с вами вместе откроем дело.
— Что ж, все может быть.
Когда я услышал имя Эриха Кауфмана, то почти порадовался, что уезжаю из Федеративной Республики Германия. Я все же принадлежу старой Германии, как Геринг, Гейдрих, Гиммлер и Эйхман. В новой Германии не было места для человека, который зарабатывает на жизнь, задавая неловкие вопросы, а ответы оказываются неожиданными и страшными. Чем больше я читал про новую республику, тем сильнее меня тянуло поскорее уехать к жизни попроще и солнцу поярче.
Когда на наши заявления наконец дали согласие, 14 июня 1950-го, Эйхман, Кулман и я отправились в аргентинское консульство, где в наши паспорта Красного Креста шлепнули штампик визы: „Постоянная“ и выдали временные удостоверения личности; их нам следовало предъявить полиции в Буэнос-Айресе для получения законного на территории Аргентины паспорта. Через три дня мы погрузились на „Джованну“, корабль, держащий курс на Буэнос-Айрес.
Теперь Кулман знал мою историю, но Эйхман пока молчал. Только после нескольких дней плавания Эйхман счел возможным наконец узнать меня и открыть Кулману, кто он на самом деле. Потрясенный Кулман пришел в ужас и больше никогда с ним не разговаривал, а в беседах со мной неизменно называл его „эта свинья“.
Я не осуждал Эйхмана, права не имел, да и не хотелось. Несомненно, он преступник, но на корабле он выглядел таким жалким и одиноким. Он знал, ему никогда больше не увидеть ни Германии, ни Австрии. Мы не очень часто общались с ним. Он старался держаться особняком. Думаю, его мучили угрызения совести. Мне хочется так думать.
В день, когда мы вышли из Средиземного моря в Атлантический океан, мы стояли с ним вместе на корме корабля, следя, как медленно исчезает за горизонтом Европа. Оба молчали. Наконец Эйхман тяжело вздохнул:
— От сожалений мало проку. Сожаления — штука бесполезная. Годятся только для маленьких детишек.
Те же чувства испытывал и я.
Примечания автора
Отряды „Накам“, или „Месть“, действительно существовали. Сразу после войны группа евреев из Европы, многие из которых прошли через лагеря смерти и чудом уцелели, организовали Еврейский легион. Другие действовали в рамках армий США и Британии. Их неизменная цель была отомстить убийцам шести миллионов евреев. Казнили они две тысячи нацистских военных преступников и планировали несколько крупномасштабных репрессивных акций, часть которых осуществили. Среди прочих существовал план отравить водные резервуары Берлина, Нюрнберга, Мюнхена и Франкфурта и убить несколько миллионов немцев; но этот план, к счастью, так и не был реализован. Однако план отравить хлеб для тридцати шести тысяч немецких военнопленных эсэсовцев в лагере для интернированных лиц под Нюрнбергом был приведен в исполнение, хотя и не в задуманном масштабе: пострадали четыре тысячи эсэсовцев и тысяча человек умерли.
В лагере Лемберг-Яновека, одном из самых страшных в Польше, узником был Симон Визенталь. Там было уничтожено двести тысяч заключенных. Фридриха Варцока, помощника начальника, так никогда и не поймали. Эрика Груэна, нацистского врача, тоже.
Адольф Эйхман и Герберт Хаген действительно посещали Израиль. Эйхман пытался стать экспертом по еврейскому вопросу, планировал выучить язык, встречался с представителями „Хаганы“ в Берлине.
Великий муфтий Иерусалима Хадж Амин аль-Хусейн был ярым антисемитом, организовавшим несколько погромов в Палестине, в результате которых погибло много евреев. Он ратовал за „окончательное решение еврейской проблемы“ еще в 1920 году. Встречался с Эйхманом в 1937-м, а первая его встреча с Адольфом Гитлером состоялась 28 ноября 1941 года. Случилась она меньше чем за восемь недель до Ванзейской конференции, на которой Рейнхард Гейдрих изложил планы нацистов по поводу „окончательного решения еврейской проблемы в Европе“.
Во время войны Хадж Амин жил в Берлине, был другом Гитлера и лично сформировал в Боснии Мусульманскую дивизию СС численностью в двадцать тысяч человек; она истребляла евреев и партизан. Он пытался убедить люфтваффе бомбардировать Тель-Авив. Представляется вполне вероятным, что его идеи оказали глубокое влияние на ход мыслей Эйхмана. Многочисленные еврейские организации после войны пытались добиться судебного процесса над Хадж Амином как над военным преступником, но потерпели неудачу, несмотря на тот факт, что, вполне вероятно, он был виновен не меньше, чем Гейдрих, Гиммлер и Эйхман, в истреблении евреев. Хадж Амин был близким родственником Ясира Арафата. Полагают, что Арафат изменил имя, ради того чтобы скрыть родство с одиозным военным преступником. До сего дня многие арабские политические партии, самая заметная среди них „Хесболлах“, отождествляют себя с нацистами и используют нацистскую символику.
В 1945 году Американское ведомство научных исследований и развития проводило медицинские эксперименты на заключенных тюрем в попытках разработать вакцину против малярии. Смотри „Лайф“ от 4 июня 1945 года, страницы 43–46.
Примечания
1
Речь идет о Карле Адольфе Эйхмане (1906–1962) — нацистском военном преступнике, непосредственно причастном к уничтожению миллионов евреев. После разгрома фашистской Германии бежал в Аргентину. В 1960 г. был схвачен агентами израильской разведки и приговорен к смертной казни
(обратно)2
Хаим Вейцман (1874–1952) — профессор химии, с 1903 г. до окончания Второй мировой войны жил в Англии. Один из лидеров сионистского движения, сумевший добиться поддержки сионизма со стороны английского правительства. Первый президент Государства Израиль (1948–1952)
(обратно)3
Преступники, приговоренные к смерти, носили красные куртки
(обратно)4
Гесс Рудольф (1894–1987) — один из главных военных преступников Германии. С 1925 г. — секретарь Гитлера, с 1933-го — его заместитель по партии, лично ответственный за развязывание Второй мировой войны. На врученном ему в 1945 г. обвинительном заключении международного военного трибунала написал: „Я ничего не помню“
(обратно)5
Одинокий Рейнджер — благородный герой американских вестернов. Стреляет пулями, отлитыми из серебра с собственной шахты
(обратно)6
Легендарный танцевальный дуэт Джинджер Роджерс и Фреда Астора снискал феерическую популярность в американском кинематографе в 30-х гг. XX в.
(обратно)7
Берхтесгаден — городок в Баварских Альпах, в окрестностях которого находилась летняя вилла Гитлера
(обратно)8
В „ОК Коралле“ в Томбстоуне, в штате Аризона, произошла знаменитая перестрелка, в ней за 30 секунд Док Холлидей и Уайт Эрп убили троих преступников
(обратно)9
Геррен-клуб — общественный клуб в Берлине, члены которого рассматривали себя как объединение национальной немецкой элиты
(обратно)10
Имеется в виду поэт Вальтер фон дер Фогельвейде (1170–1230)
(обратно)11
Тебе отпускаю (лат.). Первые слова формулы отпущения грехов у католиков
(обратно)12
Бири Уоллес — известный американский актер, в начале карьеры снимался в женских ролях
(обратно)13
Шмелинг Максимилиан Адольф Отто — боксер, единственный абсолютный чемпион мира из Германии, был назван лучшим спортсменом столетия
(обратно)14
Швейцер Альберт (1875–1965) — философ-теолог, врач и гуманист. Лауреат Нобелевской премии мира
(обратно)15
Гештальт — форма, конфигурация (нем.). Представители гештальтпсихологии объясняли целостность восприятия человеком действительности наличием в его сознании сформировавшихся образов — гештальтов
(обратно)16
Дядя Альп и девочка Хайди — персонажи романа Йоханны Спири „Хайди“
(обратно)17
Свенгали — герой романа Дж. Дюморье „Трильби“ (1894), гипнозом внушающий Трильби певческий талант
(обратно)18
Капо — надзиратель из числа заключенных
(обратно)19
Перевод Юрия Нестеренко
(обратно)

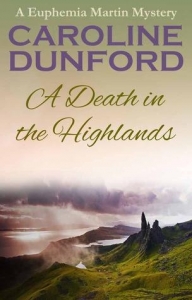




Комментарии к книге «Друг от друга», Филип Керр
Всего 0 комментариев