Павел Сутин Апостол, или Памяти Савла
От автора
Первое – об использовании названия, звучавшего прежде. Книга с названием «Памяти Савла» уже издавалась десять лет тому назад. Это была беспомощная и вторичная книга (я называю тот текст «книгой» только потому, что он был в итоге исполнен типографским способом). Ее издал Владимир Панченко исключительно из доброго ко мне отношения. Настоящая книга имеет мало общего с вышеупомянутой. Второе – о плагиате (обвинения вероятны). Однажды я прочел остроумную статью «Кто убил Иисуса Христа?» – ее содержание почти полностью приводится в письме Луция Кассия Лонгина к Сексту Афранию Бурру. Та статья (она указана в разделе «Библиография») побудила меня вновь обратиться к опробованному сюжету.
Третье – о развязной интерпретации. Эта книга ни в коей мере не претендует на историческую реконструкцию. Исторический роман я считаю самым трудным и интересным из всех литератур, и не посягаю на этот жанр. Вольное использование нынешней терминологии применительно к событиям первого века новой эры, таким образом, должно быть мне извинено.
Выражаю глубокую признательность Ефиму Наумовичу Улицкому, знатоку иудаики, библиотекарю и архивариусу Московской синагоги, что в Большом Спасоглинищевском переулке. Ефим Улицкий дружелюбнейше помогал мне литературой и экспертизой. Никогда не забуду его великодушные слова: «Ах, Павел, резвитесь, сколько вашей душе будет угодно. Явных несообразностей я в этом тексте не нашел. А что до деталей… Кто там помнит, как оно было на самом деле?»
…А Савл терзал церковь,
входя в домы, и, влача
мужчин и женщин,
отдавал в темницу…
Деяния, Глава 8, стих 3Потные, мордатые евреи,
Шайка проходимцев и ворья,
Всякие Иоанны и Матфеи
Наплетут с три короба вранья!..
«Клятва вождя»– …шутки! Погоди, ты что такое говоришь?!
– Я не идиот, чтобы так шутить!
– Что еще он сказал?
– Удалили селезенку и почку. Еще повреждена… Ну слово такое, красивое!..
– Плевра?
– Нет. Перегородка, такая…
– Диафрагма?
– Да! И еще это… Черт, да я не понимаю этих слов! Сеня, поезжай сам туда, ладно?
– Я сейчас позвоню в реанимацию.
– Сеня, позвони, пожалуйста! И поезжай, ты там всех знаешь!
– Послушай… А до операции он в сознание не приходил?
– Да какое там!
– Что еще известно?
– Его нашла какая-то тетка. Выгуливала собаку часов в двенадцать, а он лежал за машиной. Он там бог знает сколько пролежал, в снегу.
– Тёма, не части, я тебя прошу! Что еще сказал Шишкин?
– Кто? У тебя что-то трещит в трубке.
– Заведующий реанимацией – что он сказал Никону?
– Сейчас, момент, я записал. Проникающее ранение брюшной полости, ранение селезенки и правой почки.
– Кто его оперировал? Шнапер? Чистов?
– Да не знаю я! Мильтоны вызвали «скорую», его отвезли в Первую градскую. Они записную книжку нашли в куртке. Там на первой странице написано «Наши». И телефоны. Никона телефон. Они ему позвонили ночью, описали его, Никон его и опознал с их слов. Частника поймал чудом, приехал в полтретьего в Первую градскую. Ему операцию делали в это время.
– Вот беда.
– Что? Сеня, громче говори! Я тебя плохо слышу. Я сейчас Гаривасу позвоню.
– Я сам ему позвоню. И тебе позвоню, будь на телефоне.
– Никон сказал, что там плохие дела. Мало шансов.
– Так, сейчас половина восьмого. Позвоню тебе часа через два.
– Ну как так? Посреди Москвы…
* * *
– …что я скажу. Ты, майор, много воли взял себе. Молчи! Ты крутишь шашни с Каиаху, ты усылаешь дамасскую центурию куда вздумается, ты арестовываешь проповедников по своей прихоти, а после выпускаешь их из-под стражи без соблюдения протокола! Я закрыл глаза на поход Агерма, но Агриппа Руф из Тира направил жалобу в особую канцелярию принсепса. Руф негодует и доносит о самоуправстве Траяна Агерма. Коли ты не знаешь, так я тебе скажу. Принсепсом нынче учреждена особая канцелярия «a libellis». Там разбирают письма о злоупотреблениях магистратов и прокураторов. До меня дошел слух, что в Ерошолойм посланы с инспекцией децумвиры!
– Тебе есть, что им ответить. Это обычная экспедиция. Ты и Вителлий получили известия о лагере зелотов близ Тира. Туда отправлена центурия Агерма.
– Меня не надо учить, что говорить инспекторским. Но им станет известно о дезертире! Это пятнает мою резидентуру, это пятнает меня!
– Поверь, господин мой Светоний, что я легко заморочу головы инспекторским.
– И как же ты это сделаешь? Дезертировал офицер из уроженцев! У него имелись отличия, о нем упоминали в послании к принсепсу!
– Так я разъясню децумвирам, что на деле не было никакого дезертирства! Мы инсценировали предательство, и храбрый офицер нынче входит в доверие к зелотам.
– На все у тебя есть ответ… А ты верно знаешь, что он мертв?
– Скажу тебе прямо, господин мой Светоний: я не уверен в том, что он мертв. Эти олухи в Дамаске поспешно захоронили тело, а скрупулезного опознания не провели. Они, видите ли, нашли жетон. Так что с того? Лицо-то было изуродовано. Он бывал во всяких делах, он мастер на такие трюки. Но вот за что поручусь – он никогда не объявится под прежним именем. Он погиб или предстанет другим человеком. С другим именем и другой судьбой. И всем инспекторским, что только есть на Палатине, не доказать, что из Ерошолоймской резидентуры дезертировал офицер.
– Как могло случиться такое? Он был отменным офицером!
– Я уже неделю думаю об этом, господин мой Светоний. Вспоминаю наши с ним разговоры, наши дела и споры. Видно, просчитался я, когда…
* * *
«Неужели когда-то, где-то, кому-то это время покажется интересным? Неужели кто-то – с любовью и грустью – станет описывать это время? Вспоминать, исследовать, рисовать – так же, как рисовались дос-пассосовский Нью-Йорк, джойсовский Дублин, как хэмовский Париж двадцатых, как зимний Петербург „Других берегов“? Я же это время ненавижу. С той самой поры, когда мне стала понятна категория «мое время». Имя ему – тоска. Ненавижу одинаковые панельные города, загаженное Замоскворечье, угрюмо-зеленый школьный коридор, отцовский партстаж – «мы верили, мы трудились, такое время было». Чего только ни вместилось в эту мою ненависть. Штабеля банок с баклажанной икрой в гастрономе на Пятницкой. Тошнотные, брылястые морды генсеков. Безбрежный кумач, что полощется по огромной стране – от края до края. По стране, безудержно счастливой от надоев, выплавок, бамов и вьетнамца с афганцем на орбите. У меня никогда не получалось с юмором относиться к очереди за кроссовками. К Первомаю, двум телеканалам, интернациональному долгу, жидкой сметане и дацзыбао с чугунным названием «Правда». Никакого юмора – одно унижение. Как в той песенке: «И в передышке все забыто – короткий век, угрюмство быта. И все трагичное смешно». Угрюмство быта. Умри – лучше не скажешь. Как Борька Полетаев говорил: «Я не знаю, существуют ли параллельные миры. И ДНК принимаю лишь на веру, своими глазами не видел. И черные дыры для меня непостижимы. Но я совершенно точно знаю, что никогда не увижу города Пуэрто-де-ла-Крус, где дома из желтого известняка, где пальмы на набережной зелеными метелками. И где никто не знает, что такое норма отпуска в одни руки». Хотя… Это ведь тоже фактура – «мое время». Обстоятельства действия, так сказать. Всегда, при всем бессердечии нравов, найдется место интересности. Всегда, ей-богу! Вот описана, к примеру, Москва шестидесятых и семидесятых. Трифоновым описана. Ох, елки-палки – как описана и живописана! Так, что мороз по коже от виртоузного пера. Пера, точного и жесткого, как кольт. И мягкого, как беличья кисточка династии Минь или, там, Цинь. А время-то как он преподнес! Запахи времени, вонь его, затхлость. Но – и с дуновениями, с пряностями! Как будто провел ладонью по времени и все ощутил. Все шершавинки, пупырышки и царапины. И ведь это, черт подери, больше чем литература – это гуманитарная микробиология! Так скрупулезно выписать обидки и победки, судьбочки и счастьица… И все это в контексте и подтексте брутальной державы… Чего это я разошелся? Вова Никоненко называет такие размышления: «нести пургу». Я сейчас несу типичную пургу. Непременно надо в пятницу съездить к Сене. Он расскажет какую-нибудь историю про Талейрана, Уильяма Питта или лорда Дизраэли. Он раскурит ароматную трубку и нальет в хрустальные рюмки армянского коньяка из академического стола заказов. Сеня барственно опустится в кожаное кресло, мы выпьем по рюмке, я закурю «Дымок». И жизнь заиграет, и я перестану нести пургу. А может, позвать мужиков к себе? В пятницу? У Тёмки, говорят, новая барышня. Никоненко прооперировал технолога винодельческого совхоза из-под Кутаиси. Значит, будет хорошая выпивка – «Эгриси» или даже «Греми». Да, в пятницу. А то что мы все у Сени да у Сени?..»
Непременно надо собрать мужиков до отъезда. Он улетит двадцать девятого и вновь увидится с мужиками только в будущем году.
Каждый год в конце декабря он привычно ехал в Домодедово («У нас с друзьями есть традиция. Тридцать первого декабря мы ходим в баню»). А билет заказывал в начале месяца. Он молод, у него пока немного крепких привычек, обыкновений и ритуалов, но одно правило соблюдал – Новый год встречал с родителями.
«Салон» собирался по пятницам. Первым пышное слово «салон» произнес Вова Никоненко. Они собрались у Сени отпраздновать кандидатскую Бравика. Приехали из пятидесятой больницы, где проходила защита, торопливо накрыли стол. Настроение царило приподнятое. Вот оно, началось – пошли кандидатские, а там и докторские пойдут, взрослеем-мужаем! Бравик защитился прекрасно, вел себя на защите непринужденно. Только чаще нужного проводил ладонью по редким волосам (у Бравика намечалась лысина, но это, как ни странно, ему шло, завершало солидный образ). Академик Кан после защиты, пожимая Бравику руку, сказал: «Для работы такого уровня вы, Григорий Израилевич, не в обиду будь сказано, очень молоды. Тем отраднее видеть… Прекрасно начинаете».
Тёма Белов, хихикая, прошептал на ухо диссертанту:
– Опосля зазвал в свою вотчину и сказал при всем окружении…
Итак, они вернулись с защиты, открыли шпроты, нажарили картошки. Порезали селедку, вывалили в пиалы лечо, достали из холодильника «Байкал» и «Дюшес». Сеня величественно поставил на стол три бутылки «Ахтамара», и все зааплодировали. Тёма заломил бровь и сказал из «Хождения по мукам» (там красноармеец так говорил Рощину):
– То-то оно и видно, милок, что ты из богатеньких.
И еще так получилось, что все оделись неповседневно. Несвойственным образом. Например, почти все оказались при галстуках. А Никоненко, Сергеев и диссертант надели костюмы.
Никон аккуратно разлил по рюмкам коньяк, выпрямился, посмотрел на мужиков и обнаружил, что тут чуть ли не светский прием. Громила недоуменно оглядел друзей и пробормотал:
– Это… Короче… Ничо себе! Салон!
Все расхохотались. И верно, странно было видеть мужиков при таком параде. А после, уже не сговариваясь, приезжали к Сене в брюках, наглаженных рубашках и в галстуках. И, ей-богу, в этом что-то было. Еще не стиль, но уже некая манера.
– Автопробегом по бездорожью и разгильдяйству! – веселился Тёма. – Ответим вселенскому хаму аккуратным внешним видом!
Он тогда сказал Тёме:
– Знаешь, что мне особенно нравится в «Семнадцати мгновениях»? Как он картошку печет в сорочке и пуловере. И листья сгребает в отглаженных брюках.
А Никон как-то сказал за столом Генке Сергееву:
– Гена, будь добр, подай, пожалуйста, зажигалку.
Надо знать Никона, чтобы прочувствовать элегантность этого «будь добр». Да нет же, громила совершенно нормальный человек. Вежливый, негромкий, вечно старушек подсаживает в троллейбусы. Он внешне впечатляет, это да. Плечи, ручищи, шея, как секвойя, хулиганье за версту обходит, милиционеры обращаются исключительно на вы. Но чтобы так непринужденно, за столом, другу: «Будь добр, подай, пожалуйста»!
Гена тогда принес к Сене бутылку виски «Белая лошадь». Эта коняга Генке обошлась рублей в сорок. На Калининском продавался «Камю» по шестьдесят и «Белая лошадь». Прежде они виски не пили, был иной стандарт роскоши – армянский коньяк. На «салонах» пили «Ахтамар». Но и «Арагви» по четырнадцать был очень даже прекрасен! (Великолепно, кстати, шла и «Пшеничная», и «Московская» пролетала нормально, да и «Русская», в общем, не застревала.) Короче говоря, они несколько месяцев играли в респектабельных джентльменов посреди развитого социализма. А потом Вова Гаривас прикрыл этот цирлих-манирлих, когда явился к Сене с бабочкой и в цилиндре. Настоящий цилиндр – где взял? Одному богу известно.
Посмеялись и вновь стали приходить в джинсах.
Почти всегда встречались у Сени Пряжникова на Метростроевской. Летом съезжались на Сенину дачу в Перхушково. А в прочие времена года – на Метростроевскую. Дядя Петя, Сенин отец, эти встречи одобрял. А сам Сеня легко вошел в роль хозяина салона.
– Уютнее жить, благородные доны, когда мы собираемся вот так, ввечеру, – бархатно говорил Сеня. – Выпиваем добрый коньяк и говорим весело и неспешно. Так мы отгораживаемся от грубых реалий и тусклых лет.
– Слушай, Сеня, – сказал он однажды. – Что за представление мы тут устраиваем? Три мушкетера, дьявол раздери, три товарища. Девять дней одного года, семь самураев, четыре танкиста и собака. Мы же, вроде, взрослые люди? Ты уверен, что это не театральщина?
Сеня усмехнулся и ответил:
– Славные люди собираются, Мишка. При чем тут, скажи, театральщина?
Сеня взял с кресла семиструнную гитару и пропел:
Надоело говорить и спорить, И любить усталые глаза. В флибустьерском дальнем синем море Бригантина поднимает паруса.А он тогда отреагировал быстро (у них принято отвечать в тон, не задерживаясь), он прищурился и продекламировал:
Романтика, романтика небесных колеров. Нехитрая грамматика небитых школяров.Он уже и представить не мог, что когда-то у него не было этой компании.
«– Никон пришел?.. Никон, слушай, это – что-то! Он опять поставил мне в этом месяце десять дежурств!..
– Генка, чисти картошку, твоя очередь!
– …даю на три дня, и ни минуты больше! Мы с Ольгой вчера читали, ржали до судорог! Мне больше всего понравилось про то, как они Ломоносова ваяли. Только не затевай ксерить, я уже договорился, отксерят. Чудо, а не писатель! Он в Таллине жил, сейчас в Нью-Йорке…
– Сень, а где мои тапки?.. А при чем тут Берг? Берг, е-мое, ну сколько раз я просил!
– …жрать хочу. Дайте тушенки!
– Только погаси, пожалуйста, папиросу, и не надо так размахивать руками. Что именно он тебе не дает оперировать? Простатэктомию? И правильно, что не дает.
– Сеня, я сосну часика два. Нет уж, как борщ поспеет, так ты меня разбуди…
– Да пошел ты!
– Да пошел ты сам!
– Тихо! Тихо, мужики! Давайте думать, что Бравику подарим. Помните – как в том анекдоте: «Книга у него уже есть». Думайте!
– Какой Алан Силлитоу? Это детский сад…
– Вот это вот место, Гена. Это древняя вещь – «Whiter shade of pale», шестьдесят седьмой год.
– Гена, как там картошка?
– …офигительная девчонка! Трахаться хочет – как Филипок учиться…
– За чужую печаль и за чье-то незванное детство нам воздастся мечом и огнем, и позором вранья…
– Гена, ты посолил? Так посоли же! И укропчику туда, укропчику!»
Он уже не представлял своей жизни без этих вечеров, без этих голосов.
Экселенц третий год отпускал его на «рождественские каникулы». Осталось собрать мужиков перед отъездом. И еще надо было прекращать эти страдания с йодированием. Нерационально получалось. Громоздко, грязно, вонюче, и выход получался невысокий. А главное – все это было тривиально.
– Миха, надо что-то выдумать, – сказал Димон три дня тому назад. – Что с фильтром? Порешай эту проблему, и все пойдет.
Он ответил:
– Ну да. Возьми, значит, и «порешай». Вынь да положь. Мне грифель нужен. Много грифеля. Анод должен быть полым, ясно?
– Зачем полым? – спросил Димон. – Грифель, ну, это понятно. А почему полым?
– А потому полым, – сказал он, – что надо его охлаждать изнутри. Анод будет нагреваться. Раствор нагреется, и поры в фильтре забьются.
– Понимаю, – пробормотал Димон. – Верно, нужно охлаждать. А чем?
– Да водой же, чучело! – сказал он. – В аноде должна циркулировать вода. Теперь про фильтр. Надо сделать большой стакан из необожженного фарфора, поставить этот стакан внутрь большой емкости. А анод – внутрь стакана. И все это дело заливается электролитом. Фарфоровый стакан станет фильтром, ясно? Готовая посуда не пойдет. Она из обожженного фарфора, а там поры заплавлены.
Тут Димон вспомнил, что одна из его барышень закончила Строгановку и теперь работает в Гжели.
– Фарфор будет, – сказал он. – Фарфор не проблема. И грифель не проблема – у меня батареи есть. Армейские, купил у одного по случаю. Ну ладно, давай так. Ты займись анодом, а на мне фарфор.
И они сели ломать разъемы. Паскудное это было занятие – ломать разъемы. Сидели, крошили прочный эбонит кусачками, царапали руки и матерились. Скусывать с плат легче, но в разъемах намного больше материала. Пока ломали разъемы, Димон рассказывал про батареи. А он вполуха слушал и думал, что систему охлаждения можно смастерить из водоструйного насоса. Насос в прошлом году списали, но поломка в нем пустячная, поправимое дело. А полость для охлаждения в грифеле можно высверлить электродрелью.
– Дима, будь осторожнее, – напомнил он. – Максимальная осторожность!
– Мы, кажется, договорились обо всем? – благодушно сказал Димон. – Ни о чем не беспокойся. Все будет чики-чики.
Однако Дорохов волновался. Он волновался всякий раз, когда думал о том, что происходит за рамками его задачи. Рассчитать, сколько нужно едкого натра, придумать, как лучше всего гасить «лисий хвост», – это было внутри рамок. Аффинаж, посуда под кислоты, сами кислоты и скупка проявителя (на реакции уходило много щелочи, они в огромных объемах покупали проявитель в «Кинолюбителе» на Соколе, в пакетиках по шесть копеек) – это было внутри рамок. Вне рамок был поиск покупателей, передача продукта, получение денег, и он не представлял, как все будет. Только деньги представлял – крепкие пачки красных десяток, заклеенные крест-накрест бумажными трехполосными лентами, плотно уложенные в «дипломате» с никелированными замками.
Зазвонил телефон.
– Да…
– День добрый, – сказали из трубки. – А Александра Яковлевича можно услышать?
– Александр Яковлевич не по этому номеру, – ответил он.
Экселенц в кабинете не бывал подолгу. И его разыскивали по всем телефонам лаборатории.
– А у него не отвечает.
– Тогда не знаю. Что-нибудь передать?
– Это Гольдфарб беспокоит.
Ого! Он знал, кто такой Александр Давидович Гольдфарб. Старинный друг экселенца, известный диссидент и завлаб. Только в отличие от их «лаб» на Варшавке, та «лаб» находилась в Колумбийском университете, государство U.S.A., город N.Y., штат одноименный.
– Это Дорохов Михаил, – сказал он. – Александра Яковлевича сейчас нет. Кажется, он у Дебабова. Я передам, что вы звонили.
– Передайте, пожалуйста, Миша, будьте так любезны, – сказал Гольдфарб. – А ваши дела как?
Надо же, Гольдфарб его помнил. Они виделись мельком в кабинете у экселенца. Экселенц проворчал, кивнув на любимчика: «Полюбуйся, Алик, – еще один талантливый бездельник».
«Талантливый бездельник это хороший сотрудник, которого плохой руководитель не загрузил работой, – сказал Гольдфарб, потягивая чай в кресле экселенца. – Саша, ты дай мне парня на полгода. Верну шелковым, и с готовой докторской. Ей-богу».
– Спасибо, Александр Давидович, хороши мои дела, – ответил Дорохов. – Все у меня в порядке.
– Я уж больше не стану звонить, Миша, у нас тут первый час. Лягу спать, поскольку устал от трудов. Вы, Миша, если не затруднит, передайте, пожалуйста, руководству, что я руководству завтра позвоню в это же время. Хорошо? Как ваша докторская? Зреет?
Дорохов польщенно засопел.
– Не будем спешить, – сказал Дорохов степенно. – Научный труд надо выстрадать. Им надо пропотеть. Поспешность неуместна. И не факт, что моя докторская нужна человечеству. Как говорит экселенц: кандидатские диссертации тем выгодно отличаются от докторских, что пишутся докторами. В то время как докторские пишутся кандидатами.
– Ну-ну, – сказал Гольдфарб. – Вы чем сейчас занимаетесь?
– Обращенно-фазовой хроматографией. Панкреатической эрэнказой. Собственно, чем занимался, тем и занимаюсь.
– Да-да, я помню. Я почему спросил – у нас с вашим шефом есть кое-какие общие планы. Впрочем, он сам вам расскажет. До свидания, Миша. Рад был вас услышать.
– Всего доброго, Александр Давидович, – Дорохов положил трубку.
Короткий разговор с Америкой Дорохова немного взволновал. Гольдфарб сказал: «кое-какие общие планы». Дорохов в последнее время замечал, что шеф чаще прежнего разговаривает с Гольдфарбом по телефону, посылает ему статьи. Лаборатория Гольдфарба занималась, в числе прочего полезного, жидкостной хроматографией пептидов. Точек соприкосновения у старых приятелей имелось более чем достаточно. Экселенц же в последнее время выглядел оживленно и даже мечтательно.
Две недели тому назад Дорохов напрямую спросил его про статьи и про телефонные звонки. Сказал, что, как он замечает, беседы шефа с Гольдфарбом перестали носить частный характер. Экселенц в ответ обаятельно улыбнулся.
Дорохов однажды пошутил: «У вас, Алексан Яклич, внутри есть специальный приборчик – „обаятель“. Вы его периодически включаете в различных режимах мощности».
Времена менялись не на шутку. Дорохову было известно, что один парень из Молгенетики уехал в июле «на стажировку». Поговаривали, что уехал запросто, безо всякой райкомовской бодяги. Отправился на стажировку в State New York University, как будто на преддипломную практику на фармкомбинат в Олайне Латвийской ССР или на конференцию в Варне. И когда Дорохов пил чай с Гольдфарбом и экселенцем, тогда, весной – он внимательно прислушивался к разговору двух насмешливых мэтров.
«Три китайца, индус, два пуэрториканца. Паренек из Миннесоты и девочка из Нью-Джерси, кореянка, Джук Ян. Такие пироги, Саша. Нашу науку делают иностранцы. Это, старик, общепризнанный факт».
Дорохов все понял. Когда Гольдфарб говорил «наша наука», он имел в виду науку американскую. И следовало из тона Гольдфарба, что советские ученые тоже имеют полное право делать американскую науку. И что в ближайшее время советские ученые смогут заняться этим так же легко и просто, как пуэрториканцы с китайцами.
Слышать это было непривычно.
Не верилось, что все это по-настоящему. Что очередь за «Московскими новостями» – на самом деле. Да и было уже что-то подобное. Пятьдесят шестой год, доклад Хрущева, стихи на «Маяковке», всеобщая радостно-недоверчивая оторопь, и щенки – пылкие, уповавшие на «истинный марксизм», и сбивчиво лепетавшие о «ленинских нормах». Однако в пятьдесят шестом танки шли по Будапештским мостам.
Не верилось, что все кончается. Просто протухла советская эпоха и стала рассасываться. И Гольдфарб с экселенцем на полном серьезе разговаривают о том, что для экселенца есть хорошее место в Сан-Диего. Елки зеленые – хорошее место! Это все равно что: «Тут есть одна неплохая планетка рядом с Проксимой Центавра. Не Волосы Вероники, конечно, туда не пробиться, но, однако, и не Волопас, с его дурным климатом и вредным для здоровья жестким излучением». Гольдфарб говорил: «Сразу, Саша, начинай присматривать ребят. Диплом биофака это, как у нас говорят, брэнд. Учи уму-разуму талантливых бездельников, пусть статьи подбирают, резюме пишут, английский подтягивают».
И теперь, после приезда Гольдфарба (запросто, кстати, приехал «отказник», почетный клиент КГБ и сподвижник академика Сахарова – тоже примета времени!), Дорохов совершенно ясно понимал: экселенц метит в Штаты. И, допуская эту вероятность, ощущал нервозность. Не от того, разумеется, была эта нервозность, что экселенц бросит его с недописанной докторской. Это исключено. А оттого, что экселенц полушутя может сказать однажды, что Дорохову пора собирать чемодан. Поскольку Дорохов с экселенцем завтра отправляются в Нью-Йорк, в Калифорнию, на Альдебаран.
«Сразу, Саша, начинай присматривать ребят».
«Мы же не хуже других. Да лучше мы, чего там».
Дорохов сел в тонконогое креслице, поставил на колено чашку Петри, достал из нагрудного кармана синего халата надорванную пачку «Дымка» и закурил.
Вот странное дело: позвонил из зазеркалья Гольдфарб, нездешний уже человек, весело потрепался с Дороховым – и Дорохов начал фантазировать о том, как они с экселенцем отринут прах.
«Я давно уже ненавижу все это. Субботники, очереди… Ложь официальной истории… Господи, ну это же все знают, каждый, кто читать и думать умеет – знает. Ненавижу все эту мерзость, вранье… Убивают. Елки зеленые, они же убивают все время. Вся новейшая история – одно сплошное убийство. Все их днепрогэсы на убийстве, магнитки, великие победы – все на костях! Меня трясет, когда я их рожи брылястые вижу. Андропов, говорят, стихи писал и в винах разбирался. А Гитлер пейзажи рисовал – тоже художественная натура… Стихи он писал, гадина, морда холеная, глаза оловянные. А Сашку Лифшица превратили в инвалида. За что? Еврейский язык преподавал. Ребят готовил к отъезду. Сунули парня в Сербского. Сульфазин-аминазин, вязки… Ривка мужа не узнала, когда ее к нему пустили. Какие, к черту, стихи, какие вина?! Я к ней приехал, сидим с ней на диване, я ее по голове глажу… Она подстриглась, как мальчишка, волосы короткие, мягкие. Я ее по голове глажу, ересь какую-то несу: мол, Ривка, все образуется, скинемся с ребятами, адвоката найдем… Мы с ней на втором курсе любовь крутили, она меня таким штучкам научила, я только диву давался – откуда наша ветхозаветная Ривка так умеет? А потом у них с Сашкой что-то… щелкнуло. Совпало. И все сразу поняли, и я понял, и Кротов, и Беккер – там больше не надо мельтешить. И какая бы наша Ривка вкусная ни была, и как бы славно она прежде ни давала – туда больше лезть не надо. Там – щелк. Там люди слиплись, как две ириски. На свадьбу только самых своих позвали, человек, может быть, десять, включая родных. Шатер такой, на палочках, над ними держали… Я, конечно, веселился, я же не думал, что у Ривки это искренне (нет, не с Сашкой, упаси бог, – я имею в виду это мракобесие «справа налево»). А потом как-то заехал к ним вечером, сидели на кухне, я привез «Ахтамар». Сашкина вера выпивку поощряет. Кабы не это, так совсем грустно было бы инвалидам пятой группы. У советского еврея жизнь не сахар, осложнена многими обстоятельствами. А ежели и бухн‘уть нельзя – хоть вешайся. Но им можно. А иной раз – так просто предписано. Так велено набираться, чтобы, как это Сашка говорит, «нельзя было отличить Мордехая от Амана». Короче, сидим на кухне, накатили по первой, по второй. Сидим, как люди, Ривка палтуса пожарила. Я встал, сыра подрезать. Беру ножик из серванта – ножик, как ножик, ручка зеленая, полупрозрачная. Ривка как вскинется! Миша, говорит, извини, это мясной нож. У нее такое лицо было – как будто мир рухнет, если я этим магическим ножиком из «Промтоваров», нарежу нормальный пошехонский сыр.
Им давно надо было ехать. Их бы выпустили, за Сашкой тогда ничего не было. Никакого «распространения», никакого «хранения». Они такие «на выезд», что дальше некуда. Что Сашкин шнобель, что Ривкины очи суламифины. «Let my people go». Но Сашка заявил (Ривка мне все рассказала, когда я ее по голове гладил): «Я обязан помочь. Мне помогли – теперь я обязан помочь». Собрал группу молодых ребят, учил языку, читал им каждую неделю по главе ихнего катехизиса. Ривка этот сумасшедший язык выучила, за полгода выучила. Это ведь Сашка меня заразил Сирийской провинцией. Я как раз тогда прикидывал – что за время выбрать для своего парня. Собирался уже определить его в Реформацию, в сподвижники к Мюнстеру. Мне, собственно, все равно было, какую эпоху сделать задником. Одно требовалось – кризис общественной морали. Но однажды я послушал Сашку и понял, что тот овечий выпас у черта на краю, те глинобитные городки и упертый, воинственный народец – это то, что мне надо. То, что началось в Сирийской провинции в правление Тиберия, поучительнее всякой Реформации. Реформация, елки зеленые, рядом не стояла. Собственно, она стала малозначащей производной, уж простите мне это примитивное понимание теологии. Человеческая мораль была впервые внятно озвучена там, в пыльных городках Самарии и Десятиградия, в кедровых рощах Галилеи, на рынках Кесарии и Сихема, на овечьих выпасах Идумеи! Там, выражаясь выспренно, зародились Большая Мораль и Большая Ложь. Но чего у Сашки не отнять, так это следования фактам. Это, черт побери, марксистско-диалектическая закваска! Тора – Торой, а история – историей. Сашка увидел, что я интересуюсь, и тут же дал мне Юста Тивериадского. А потом еще дал на три дня Ренана. Где взял, а? Настоящий Ренан. Брокгаузъ и Ефронъ, 1912 г. Санктъ-Петербургъ. Не хило, да? И все. Я заболел тем временем, и все в моей голове встало на места. И я сразу понял, с чего начнет герой и кем он станет…
Сашка с Ривкой в синагогу ходили, на Архипова. Она насквозь гэбэшная, это любой младенец знает. Там все сто раз сфотографированы. В мае Сашку забрали. Пригласили «поговорить». Один раз, другой. На третий раз он у них там остался. Это ладно. Не он первый, не он последний. Но потом он, видно, уперся, и они его в Серпы сунули. А Серпы это жуткое учреждение. Про Йозефа Менгеле знает весь мир. А вот скажите: знает весь мир про профессора Снежневского? Сеня рассказывал, что советские психиатры в мировом медицинском сообществе – парии. Что советские психиатры для западных врачей – гестаповцы. И так получилось еще, что за месяц до того, как они Сашку забрали, Сеня мне дал «Возвращается ветер». Господи, я прочитал, и у меня руки тряслись. Вроде, все знаю, и вообще, чем можно человека удивить после «Архипелага»? А вот прочитал эту книгу, «обменяли хулигана на Луиса Корвалана» – колотило от ненависти. Звери. Животные. И это же как пророчество – Сеня дает почитать «Возвращается ветер», а через месяц Сашку Лифшица сажают в Серпы. Не знаю, что эти мрази там с ним творили. Просто я ждал, что Сашка окажется – на свидании с Ривкой ли, на суде ли, ну, я не знаю… на лагерной фотографии – измученным, исхудавшим, запуганным. А все же получилось не так. Ривка слезами захлебывалась, ее головенка под моей ладонью тряслась. «Миша! Мишенька! Что же это за зверство, Мишенька?! Он же овощ, он меня узнал с трудом. Что они там делают с ним?! У него губа отвисла, и слюни текут… Гады! Гады! Фашисты, нелюди». Не понадобился адвокат. Сашку вдруг выпустили. Да и не выпустили, а буквально выкинули. И через два месяца они с Ривкой уехали. Я бы проводил, не забоялся. Ривка сама сказала: «Мишенька, не надо. Тебе тут жить. Не светись в аэропорту. Неизвестно, как тут еще все обернется. Сахарова выпустили из Горького, а Марченко так и умер в тюрьме. Нас родители проводят. Они тоже собираются. Мы приедем, устроимся, Сашу в Стране подлечат – и тогда родители подтянутся».
Да чего там. Они сейчас всю эту фигню затеяли, про Сталина пишут в газетах, про поворот рек. А я хочу знать: палачей судить будут? Лицемерие одно. Вранье. И безнадежно это, безнадежно. И всегда нищета будет, и за всем надо в очередях стоять, и если даже денег нароешь – тратить придется украдкой…»
Дорохов докурил и подошел к окну. По Варшавке проезжали машины, полз желтый «Икарус» с гармошкой посередине. На площадке одиноко стояла машина экселенца.
«Он в институте, – подумал Дорохов. – Надо показать ему форезы. Он вчера уже скандалил из-за форезов, а сегодня просто убьет».
Дорохов хотел было пойти в комнату Кострова – он там вчера вечером оставил форезы, – но опять сел в жесткое, поскрипывающее кресло.
«И вот получается, что можно от всего этого убежать. А экселенц… Он обаяшка, легкий циник, успешный. Сорок лет, доктор наук, беспартийный, еврей. В контексте эпохи такое словосочетание – «успешный человек, докторнаук, беспартийный, еврей – и все это в сорок лет» – чистейшей воды оксюморон! Катахреза. Сухая вода, холодный огонь, одна из праворадикальных фракций Верховного Совета СССР. Он приедет в Колумбийский университет со своими работами, а работы у него высочайшего уровня. И будет у экселенца человеческая жизнь. Наука, идеологически не подкрашенная, любые реактивы по каталогам, любая аппаратура – только заяви. А парткомов, субботников, «…а потом, досыпая, мыедем в метро, в электричках, трамваях, автобусе, и орут, выворачиваянутро, рупора о победах и доблести…»– вот этого больше не будет. А если говорить прямо: кого экселенц потянул бы за собой? Наше молекулярно-биологическое дело – дело коллективное. Понадобятся верные помощники. Конечно, Серж. И Машка Орлова… Еще Лара Изотова и этот, молоденький… Костя Конин. Продуктивный парень. Ну и я. Да собственно, в первую очередь – я. Хочу я паковать чемодан? Или вот так. Спрямим. Если проще: на что я надеюсь? Нет, я не о величии, не о жизненном успехе. Я о том, чего мне хочется больше всего на свете. Могу я это «больше всего на свете» упаковать в чемодан? Наша с Димоном алхимия – «джентльмен в поисках десятки». Персональное сопротивление советской скудости. Кто я на сегодняшний день? Умеренно способный молодой человек, племянник бывшей жены экселенца. Тетя Таня осталась ему другом, он относится к ней с теплотой, и часть теплоты распространяется на меня. Я нормальный выкормыш, сподвижник и наперсник. Я любимый еврей экселенца. В этой констатации, как сказал бы сам экселенц, «ощущается явный привкус парадокса»: из нас двоих еврей вовсе не я, а определенно он. В прошлом году экселенц спросил: слушай, а чем ты вообще занимаешься? Я опешил – как чем, говорю? Секвенированием триптических пептидов, чем же еще мне заниматься? Это понятно, кивнул он, это на работе. А по выходным? Татьяна говорила, что ты в детстве стихи писал… Я вот вчера вечером подумал – а что там мой Мишка поделывает?
«Мой Мишка». Ну а что? Да, мне приятно, что я «его Мишка». Он яркий человек, незаурядный. Серж как-то хмыкнул: ты, мол, Миха, типичный адепт, ты при Саше Риснере на все сто процентов.
Я люблю смотреть, как он заваривает кофе. Мне вообще нравится смотреть, как он что-нибудь делает руками. Из него получился бы прекрасный ювелир. Или зубной техник. Он любой предмет берет в руки быстро и бережно. И видно, что предмету хорошо в его руках. У него на столе стоит пишущая машинка «Оливетти». Когда он на ней печатает… Он очень интересно выглядит, когда печатает. Нет, ей-богу, можно сказать, что все это своеобразная поэтизация экселенца. Но он – штучка. Он особенный. Однажды я увидел, как он печатает на машинке, и сразу вспомнил тот великий фильм. Сенин батя купил в спецмагазине видеомагнитофон. Это же чудеснейшая штука – видеомагнитофон! Заполучить домой мировое кино – вот что такое видеомагнитофон! Сейчас их полно. У Ирки Шмелевой есть видеомагнитофон, у экселенца, естественно, есть. Смотрели с ним летом фильм Боба Фосса «Весь этот джаз». А каких-то пять лет назад иметь дома видеомагнитофон – все равно что держать на кухне спектрограф. Или компьютер. Впрочем, компьютеры-то не такая редкость, у экселенца дома компьютер есть, «Макинтош». В лаборатории у нас есть компьютеры. Кстати, Димон правильно говорит: наше с ним дело попрет, когда в НИИ начнут ставить настоящие компьютеры. Тогда все эти железные шкафы с перфокартами будут списывать. А материала в шкафах на многие килограммы. Так вот, про фильм. Первые две недели Сениного владения видеомагнитофоном мы с мужиками целыми ночами смотрели все, что удалось раздобыть. Про «Queen», где они там в снегу поют «We will rock you». «Греческую смоковницу», конечно, «Живи и дай умереть», про Джеймса Бонда… Всякую ерунду, короче. Но смотрели и хорошие фильмы, настоящие – «Гарольд и Мод», «Кто-то пролетел над гнездом кукушки». И вот тогда-то я впервые увидел «Godfather». Я обмирал, когда этот фильм смотрел! Как правильно надо понимать жизнь, чтобы такое снять! Нет, это, как книги Трифонова, ей-богу! Так вот, про то, как экселенц печатает на «Оливетти». Там, в «Godfather», есть один момент: начинается гангстерская война, и бойцы мафиозной семьи «ложатся на тюфяки», в подполье уходят, короче. И это так здорово снято – кадры намешаны, сквозь одну картинку просматривается другая, все в быстром темпе, крутятся типографские машины, крупные заголовки перечисляют убитых, все стильно, «желто-коричнево», под старую съемку, музыка играет, пианино. И короткий эпизодик, без слов. Так, зарисовка. За пианино, которое невесть как оказалось в квартире с тюфяками, сидит гангстер. Небритая, но вполне культурная морда, расстегнутая сорочка, наплечная кобура. О пианино облокотились еще двое, те еще зверюги, с тонкими усиками. Кажется, что вот сейчас схватят автоматы и пойдут косить. А тот, что играет (там еще звучит то ли регтайм, то ли блюз, короче, что-то жутко американское), – он играет вдохновенно! Устало играет, но и страстно, и в углу рта у него сигара. Когда я вижу, как экселенц печатает на «Оливетти», я почему-то сразу вспоминаю того гангстера за пианино. Ну не бред? И вот он меня спросил: а чем ты вообще занимаешься? Ё-мое, я же всегда «подальше от начальства, поближе к кухне». Но вот когда экселенц снял джезву со спиртовки, поставил ее на журнальный столик, на красную плетеную болгарскую подставку кружочком, когда он плавно и быстро, ни капли не промазав мимо чашки, разлил густой, с рыхлой пеной, кофе («Арабика», двадцать рублей килограмм), когда сел в низкое кресло (а он и садится ловко: только что стоял – оп! и уже непринужденно сидит). Ну, в общем, когда он спросил меня и чашку с кофе ко мне придвинул… Мне вдруг захотелось рассказать ему про Севелу. Даже Сене я почти ничего не рассказывал. Хоре не рассказывал – а подмывало! Она так чудесно умеет слушать, что я готов часами разливаться соловьем. Никому я не рассказывал о своей книге, – а экселенцу бы рассказал…
Уже поздно было, часов девять. Только Серж сидел в своей комнате, и Великодворская возле крутилась. Экселенц меня спросил, а мне вдруг захотелось ему рассказать, какую замечательную историю я придумал, и как я читаю теперь Гая Светония Транквилла, и Эвальда, и Нельдеке, и выуживаю оттуда…
Дорохов уже собирался пойти за форезами, как услышал за дверью неторопливые шаги. Дверная ручка повернулась, и вошел экселенц.
* * *
…Плешивый темнил. Он солгал, что давно приглядывает за Севелой. Когда он мог приглядывать? Уже пять лет, как Севела почти не жил в Эфраиме. Когда-то, может быть, приглядывал – когда Севела был мальчишкой. Так он за всеми приглядывает, плешивый рабби. Позавчера плешивый с чего-то остановил Севелу в проулке. Косился, вонючка старая, и шепелявил: «Ты всегда был смышленным парнишкой, молодой Малук», «такие, как ты, выходят в люди, молодой Малук». Битый час, вонючка такая, расспрашивал – как Севеле служится у отца? Да какое ему дело?! «Давно тебя не было видно в городе». Что, ему не известно, что Севела четыре года учился в Schola? Весь Эфраим знает про романскую диплому молодого Малука, а старая вонючка не знает? Почему он темнит? Почему расспрашивает? И с чего заговорил об отце? Это все Эфраим. Тут принято говорить околичностями. Эфраим – город Книги, невеселый и послушный. Не то что Яффа. Там сам воздух свежее от того, что в городе живут иеваним и финикийцы. Нет, воистину, какая же разница между пестрой многоязыкой Яффой и тихим Эфраимом! Всего сотня миль лежит между двумя городами, а кажется, будто сотня лет между ними лежит. И разница эта не деньгами меряется, не в одеждах разница, и не в говоре. Нравы совсем другие в приморской Яффе. Там нет этой упрямой вековой ненависти к чужеродцам. А уж на любимую Александрию Эфраим совсем не походит. Как славно в Александрии. Всю жизнь бы там провел. В тамошнем воздухе и малейшего привкуса нет от овечьего глинобитного захолустья. А в родном Эфраиме, пропади он пропадом, все – захолустье.
А плешивый рабби что-то про Севелу вызнавал. Зачем это ему?
С тех пор как Севела вернулся, отец, что ни месяц, усылал его из Эфраима. В этом году Севела прожил дома месяца, может быть, три, не больше.
Мама злится на отца, хочет, чтобы мальчик после четырех лет институции побыл при ней. Но отец говорит: «Ты пойми, женщина, – пусть он сам теперь. Пусть научится договариваться с людьми, научится водить обозы в Каппадокию. И за хорошую цену пусть бьется сам! Это нужнее всех лекций. И кстати – когда он в поездках, мне проще избавить его от милуима. Нечего ему мозолить глаза кохенам. Магистрат, женщина, берет на заметку всех молодых людей. Полгода на него еще полюбуются, а потом пошлют в милуим. На общественные работы с дипломой не посылают, а коли объявят призыв – так прихватят и твоего мальчика, женщина. Так что пусть уж он водит обозы. Когда его в городе нет – дам на лапу в магистрате и скажу: путешествует по делам дома».
Поговаривали, что наместник скоро упразднит милуим. Впрочем, говорили и другое: нынешний первосвященник умеет выжимать из романцев большие вольности для Провинции. Объяви синедрион милуим – тогда бы Севела отправился в Идумею, в драные холщовые палатки. Бегать с сопляками в марши со связкой дротиков за спиной, натирать кровавые мозоли, мучиться потницей и поносами. Не надо бы этого. Ему хватило уязвления плоти во всех видах. Отец, бесконечного ему здоровья, продержал Севелу в черном теле все четыре года институции. Он дотошно высчитал, бережливый рав Иегуда – сколько требуется, чтобы сынишка не подох с голоду, и высчитанного придерживался неукоснительно.
Однокурсники держали выезды, одевались в шелк и лен, давали ужины. А Севела покупал самые дешевые списки и камышовые стилосы, подержанные чертежные инструменты и комковатый воск, которым пользуются рыночные писари. Все эти скудные четыре года институции Севела экономил на любой малости. Любому вольноотпущеннику был по средствам лупанарий – но не Севеле, будь оно все проклято! Когда становилось невмоготу, когда ломило в мошонке, Севела начинал пялиться на паланкины матрон. А скучающие распутницы, поймав голодный взгляд студиозуса, норовили, садясь в носилки, поддернуть столу – чтобы мелькнула полная белая голень. Чтобы у студиозуса заходили желваки и он возмечтал о пышных ягодицах и хриплом стоне распластанной вниз животом дебелой жены романского администратора. Тогда он отдавал сбереженные гроши грязноватой голенастой девчонке с окраины.
Но, так или иначе, время это закончилось. Севела вернулся домой, он служит у отца. Тот, надо отдать ему должное, положил большое – прямо сказать, неожиданно большое! – жалование.
И все же – плешивый. Почему он гримасничал больше обычного, и подмигивал, и напускал на себя такой важный вид? Он, верно, расспрашивал людей. Весь квартал знает, что сын Малука закончил обучение и вернулся, чтобы служить у отца. Что там копошилось в плешивой голове рабби, когда он таинственно прошепелявил: «давно тебя не видно»?
Севела в Эфраиме не засиживался. Дважды провожал обоз в Яффу – с овсом и оливами. Отгружал кедр на барки, что рав Иегуда отправлял из Аполлонии и Доры в Понт и Фаселис. Продавал шерсть кушанам (не очень-то приятные клиенты эти кушаны – дикари, и верить нельзя ни в чем; когда рав Иегуда снаряжал для них обоз с шерстью, то нанимал в Батанее стражников), пшеницу возил в Десятиградие, там второй год неурожай. Еще плавал в Александрию, где у отца теперь пай в пяти маслобойнях. А половину зимы Севела прожил в Галилее, у родных. Нет, не просто гостил, конечно. Отец внимательно следит, как идут дела в их большой фамилии. Отцу стало любопытно – с чего это его двоюродный брат из Мегидо, славящийся осторожностью, взял ссуду. Азария Барцум отродясь не рисковал и не брал в долг. Он всегда рассчитывал только на те деньги, что были в кассе. Любое одалживание казалось ему, человеку старого воспитания, ловушкой, рискованным предприятием. Когда отец узнал, что мар Барцум взял у финикийцев ссуду под залог мельницы и присоединил к своему наделу западный склон холма, – он забеспокоился. Старшему Малуку было достоверно известно, что склон годится под один лишь виноград. И лоза на том склоне растет двухсотлетняя, элитная, из Эшкола, годами лелеянная лоза. Барцумы от века занимались овцеводством, а тут – лоза.
«Погости-ка ты у моего двоюродного брата, яники. Ему будет приятно, – сказал отец. – Ты теперь образованный человек. Может быть, ему понадобится твой совет… И посмотри по сторонам, яники. Может быть, нам следует обратить внимание на виноделие в Галилее? Может быть, Азария знает то, чего я не знаю? Посмотри по сторонам».
Да уж, Севела «посмотрел по сторонам». В деловую поездку отправил рав Иегуда младшего сына, в скучную и сугубо деловую поездку. С первого же дня в поместье Барцумов из всех возможных сторон Севела сразу выбрал одну – ту, где мелькали загорелые щиколотки и подрагивали твердые грудки пятнадцатилетней Ривки Барцум.
«Да, да, дядя Азария, – рассеянно говорил Севела, прохаживаясь с дядюшкой вокруг мельницы, пахнувшей мучной пылью и свежеспиленным кедром. – Вы совершенно правы, дядя Азария. Паевые фонды – это выгодно. За ними будущее».
А сам стрелял глазами вслед за круглой задницей троюродной сестры. Ривка невинно хлопала ресницами, ахая, слушала рассказы столичной штучки, иоппийского почетного стипендиата. На восьмой день, случайно столкнувшись с троюродным братом в овчарне, благовоспитанная дочь мар Барцума просунула узкую прохладную ладонь под полу туники родственника, сжала его член и, хихикнув, прошептала: «Сколько можно болтать попусту, братик?». И куда после этого вылетели из головы Севелы все двести сорок восемь повелений и триста шестьдесят пять запретов? Повалились с родственницей прямо на опилки в пустых яслях. Что вытворяла, бесовка! Где только научилась?! Ох.
В середине месяца аудиная он вернулся в Эфраим. На улице диктатора Камилла (в Эфраиме этот квартал называли люди именем Хасмонеев, и улица это звалась улицей Маттатиаху Хасмонея) он повстречал Амрама, дружка детских лет.
– Ну как там Иоппия? – спросил Амрам.
Первые месяцы Севела отчаянно скучал по Яффе, по людному порту, по незатейливым кутежам с однокурсниками, по запаху жареных орехов, что всегда разносился над факультетской улочкой. Эфраим – скучный город. Но в нем, однако, можно жить – если тебя зовут Малук. Севеле нравилось, как с ним здороваются на улицах, нравилось, что соседи по кварталу видят в нем теперь не малыша Севелу, а младшего Малука, отцовского партнера и будущего преемника.
Но этот небрежно-всеведущий тон! (От неловкости был тот тон, от одной только неловкости – это Севела понимал). Мол, не лыком шиты, мол, знаем кое-что о Яффе, как там сейчас, а? И захолустная манера называть Яффу на романский лад – Иоппия. Иоппия!.. Тьфу! Дурачье захолустное! Чтоб отставало от него это дурачье, он подмигивал в ответ – мол, да, суета, колготня в Яффе, беспутный город. Тогда от него отступались.
Он и Амраму ответил:
– Что мне Иоппия? Я домой вернулся. Служу у отца.
Амрам одобрительно кивнул. Не назовись мужлан – Севела, наверное, и не признал бы его.
– Женюсь, – степенно сказал Амрам. – Будь гостем на свадьбе. Ты женат?
Севела виновато развел руками, и оба они рассмеялись. Амрам смеялся оттого, что почувствовал превосходство над образованным, но неженатым еще старым дружком, холостым парнем, сопляком, если рассудить. А Севела – оттого, что удалось скоро закончить натужный разговор. Он хлопнул Амрама по плечу, они простились, и Севела пошел в контору. Возле магистрата он столкнулся с приказчиком из дома Фирхимов, поболтал с ним.
* * *
Александр Яковлевич Риснер руководил лабораторией номер двадцать восемь уже семь лет. Говорить завлабу «экселенц» придумал Серж Борухов. Он перед майскими праздниками принес в лабораторию ксерокопию «Жука в муравейнике», не жмотничал, давал читать. В «Жуке», как известно, есть такой персонаж – Рудольф Сикорски. Главный герой обращается к нему: «экселенц». В лаборатории это прижилось. Звучало почтительно, но и вместе с тем вольно. По-западному. Риснер обращение принял.
Риснер был талантлив и энергичен. Серж говорил, что экселенц – это А-Янус и У-Янус одновременно, и без какого бы то ни было раздвоения. А Танька Великодворская называла Риснера иностранным словом «менеджер».
– Блестящий менеджер от науки, – важно сказала Танька. – Видит перспективы, знает дело и разбирается в людях.
Риснер относился к сотрудникам по-человечески. Он наваливал на Сержа работу, потом наваливал еще, а потом отходил в сторонку, грустно смотрел на него, склонив набок красивую седеющую голову, и еще наваливал.
– Трудись, Пуржик, – печально говорил Риснер. – Тебе нужно трудиться много. Ты способный. Кому трудиться, как не тебе?
Сержа в лаборатории звали «Пуржик», там атмосфера имела быть совершенно домашняя. Есть гадюшники, где перемывают кости, подставляют ножку и стучат. Есть богадельни, где пьют чай, курят и вяжут. В двадцать восьмой лаборатории на Варшавке работали. Играли на «Макинтоше», когда Риснера не было, менялись книгами – и работали. Здорово выпивали «клюковку» на вечеринках. Риснер декламировал тоном телекомментатора: «Революционный способ получения спирта из опилок разработан учеными НИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов! Опилки погружаются в спирт! Выносятся из института! И тщательно отжимаются!» Выезжали на овощные базы, проводили подписку на «Комсомольскую правду». И работали. Трудились продуктивно и беспечально, разговаривали цитатами из «Понедельника» и «За миллиард лет…». В кабинете Риснера под портретом Уотсона было написано стеклографом: «Наука это способ удовлетворения собственного любопытства за государственный счет».
И притом, все в лаборатории было по-домашнему. Росли на подоконниках кактусы, на столах стояли фотографии в рамках, праздновались дни рождения и устраивались розыгрыши. У каждого было прозвище. Таньку Великодворскую звали длинно и по-пижонски – «Грейтъярдовская». Дорохова звали «Дор». Сержа Борухова – «Пуржик». Ну и так далее.
Риснер умел накрутить темп, защищались у него четко. Вместе с тем он терпеливо относился к человеческим слабостям. К Великодворской, с ее постоянными опозданиями на работу и общей безалаберностью. Еще экселенц по-христиански относился к Кетино Иремашвили, добрющей полной квочке. Кети божественно готовила хачапури и сациви. Она привозила из дома «Хванчкару» и «Алазанскую долину». Была она сплетница, всеобщая мамочка и ни черта не понимала в поставленных перед лабораторией задачах. Собственно, этой низкозадой, славной, заполошной девушке с усиками нечего было делать в науке. Но папа с мамой из Кобулети определили ее в столичную аспирантуру, и экселенц терпел дуреху и шаг за шагом, стоически вел ее за руку к защите. Кети хорошо пела. На вечеринках она, не дожидаясь, пока попросят, брала гитару и начинала низко и волнующе: «Виноградную косточку в теплую землю зарою». А грузинских песен она знала превеликое множество. Уже ко второй вечеринке все грузинские песни для Дорохова слились в одну – грустную, страстную и бесконечную. Экселенц доверительно жаловался Дорохову: «Когда я слышу грузинское пение, со мной делается родимчик. Эти гортанные рулады жестоко напоминают мне о том, что Иремашвили во вторник опять пережала ферулу. Душевный она человек, но руки у нее не оттуда растут».
Кого еще терпел экселенц? Он терпел Машку Орлову. Машка тоже приходила на работу, когда ей вздумается. Экселенц терпел ее кавалеров, которые перепирались с вахтерами. Терпел ее прогулы и лживые «больничные» (молоденький участковый терапевт был до оторопи влюблен в Машку и готов был выдавать ей больничные хоть еженедельно), терпел ее бесконечное курение в комнате Сержа и распущенный язык. Машка громко рассказывала анекдоты, которые вогнали бы в краску бригаду такелажников. Впрочем, терпеть Машку было не так трудно, она была умница и трудяга со светлой головой, хоть и приходила на работу, когда ей вздумается. И вообще она была отличной девчонкой. Когда восьмого марта гуляли у Великодворской, на Усачевке, Дорохов потанцевал пару раз с Машкой под Поля Мориа. Покурил с ней на кухне и, подогретый «клюковкой», начал фантазировать: не пригласить ли девушку завтра на рюмку чая? Но Машка, тоже хорошо поддав «клюковки», стала доверительно рассказывать про нового кавалера. И видно было, что влюблена по-настоящему. Она была красивая и теплая, но такая своя в доску, что не стоило к ней подкатываться. А за кавалера – Серегу из соседней лаборатории, симпатичного, вежливого парня – Машка теперь собиралась замуж.
Кто еще испытывал терпение Риснера? Маугли! Это был тот еще крендель с маком! Его звали Раджав, он приехал из Бомбея. Худенький, смуглый, с печальными карими глазами. Первый год аспирантуры он ходил в черном тюрбане. Летом всей лабораторией выехали на семинар в Пущино, устроили пикник с купанием на Оке. Оказалось, что у аспиранта из Бомбея под тюрбаном особым образом намотаны длинные волосы. Перед тем как боязливо зайти в воду, он бережно размотал тюрбанчик, и на смуглую спину скользнул блестящий тяжелый жгут. «Во дает! – ахнула спелая белокожая Машка. И добавила с материнской ноткой: – Маугли».
На втором году аспирантуры парень подстригся «под канатку» и приобрел нормальный облик. Русского поначалу не знал совсем, а английский его был, деликатно выражаясь, своеобразен. То есть говорил аспирант Начьяпандра бегло и английскую речь понимал. Беда в том, что язык, на котором бойко лопотал аспирант в чалме, занимал отдельное место в мировой лингвистике. Маугли курлыкал и булькал, время от времени из его рта вылетали смутно узнаваемые звукосочетания. Был даже тест на способность общаться с Маугли: кто с первого раза соображал, что такое «петипай» (thirty five), общаться с аспирантом мог. Таких звали в переводчики, когда беседовали с Маугли. Ко второму году Маугли заговорил по-русски, и оказалось, что парнишка юморной и компанейский.
А еще в лаборатории работала Хорькова. К ней Риснер относился тепло и уважительно. Оля Хорькова была «особой, приближенной к императору». Риснер приглашал ее в кабинет, когда принимал зарубежных коллег. Он и сам нормально спикал, но с «софт рашн эксент». А Хорькова журчала по-английски так, что подтянутые сухонькие профессора из Йеля и Стэнфорда чувствовали себя как дома у мамы. Через полгода после знакомства Дорохов спросил у Хорьковой: «А откуда, девушка, у нас такой английский?»
Она ответила: «Училка была фантастическая. У нас все в классе на английском думали. И никаких репетиторов. Наша Анна Яковлевна всех вышколила, как Павел Первый. У нас в девятом классе неприличным считалось Голсуорси не читать на языке. Чесс-слово».
Когда тетя Таня устроила Дорохова в двадцать восьмую лабораторию, Сеня сказал: «К Риснеру попал? Ох, елки-палки, Москва маленький город! У Риснера Хорькова работает. Мы десять лет в одном классе. Ты с ней подружишься, клянусь! Девушка умная до неприличного».
Хорькову в лаборатории звали «Хоря» и «Хоречка». Ее и в школе так звали. Сенины одноклассники из шестидесятой школы, что на Герцена, за бывшим «Стойлом Пегаса», несколько раз в году собирались у преподавательницы английского. Прозвище у нее странное – «Лошадь». Ничего, впрочем, от лошади не было в жизнерадостной интеллигентной старушенции. Когда Дорохов оформился в отделе кадров, Сеня позвал его с собой к «англичанке».
– Неловко как-то, – смущенно сказал Дорохов. – Я же там никого не знаю.
– Все очень ловко, – отмахнулся Сеня. – И с коллегой познакомишься. Я Хоречку очень люблю, Миха. И ты полюбишь. Она редкий человечек.
В скромно обставленной двухкомнатной квартире в Староконюшенном Дорохова представили Анне Яковлевне.
– Очень рада, – тепло сказала «англичанка». – Проходите, Миша. Сейчас вам чаю нальют… Девочки! Налейте ребятам чаю! Есть коньяк, хотите? Вы чем занимаетесь, Миша?
– Он будет работать вместе с Хорей, Анна Яковлевна. Его распределили в Институт генетики, в лабораторию Риснера, – сказал Сеня, снимая тяжелое драповое пальто с каракулевым воротом.
Сеня носил дурацкое «номенклатурное» пальто. Вова Гаривас это пальто называл: «группа товарищей»: «…в аэропорту Домодедово Леонида Ильича встречали Константин УстиновичЧерненко и Юрий Владимирович Андропов с группой товарищей».
– Я отлично помню Сашу Риснера, – сказала старушка. – Он ведь тоже учился в нашей школе. Он теперь известный ученый. А был такой худенький, трогательный. Оленька! Иди познакомься с Мишей, он распределился к Саше Риснеру.
В прихожую вышла маленькая полная блондинка. И с первого взгляда на нее Дорохов почувствовал, что жизнь подарила ему чудесное знакомство.
Хоря располагала к себе любого, располагала сильно и сразу. Встретив таких людей, хочется им нравиться и их интересовать. Лицо тонкое и светлое. Серые глаза, правильный носик, насмешливые губы.
(Когда Сенин отец купил видеомагнитофон, и вся компания насмотрелась западных фильмов, Дорохов неожиданно понял, на кого Хоря очень похожа – на молоденькую американскую актрису Джоди Фостер.)
Вскоре Дорохов стал заезжать к Хоре по вечерам – потрепаться, попить чаю на чистенькой крохотной кухне. Хоря жила в Очаково, с мамой. Человечек она была крайне сдержанный и самодостаточный. И дружила, несмотря на молодость, с известными людьми – с Мамардашвили, с Сойфертом, с Львом Разгоном. Это, кстати, Хоря рассказала Дорохову, что милейшая Анна Яковлевна была переводчицей в Испании, в достопамятное время того колокола, который прозвонил по всем романтикам, что только есть на свете. Анна Яковлевна лично знала Кольцова, Мате Залку, Андре Марти. А потом – четырнадцать лет в казахстанских концлагерях.
Дорохов провел на кухне у Хори многие часы. Пил чай, попивал коньячок. Постукивая ладонью по столешнице, напевал ей свое любимое:
А над Окой летят гуси-лебеди. А над Окой кричит коростель. А тут по наледи да курвы-нелюди Двух зэка ведут на расстрел…И еще он ей читал:
В брюхе «дугласа» ночью скитался меж туч И на звезды глядел. А в кармане моем заблудившийся ключ Все звенел не у дел…Хоря, глядя в глаза, внимательно дослушивала и тоже ему читала:
Родиться бы сто лет назад И – сохнущей поверх перины — Глядеть в окно и видеть сад, Кресты двуглавой Катарины…Словом, они подружились. Но по-особенному. Хоря слушала, шутила, сама рассказывала. Но близко не подпускала. Умела мило общаться, но к себе не подпускать. О ее личной жизни Дорохов не знал почти ничего. Не знал, есть ли у нее друг сердца (пару раз, впрочем, какой-то рыжий заморыш встречал ее на проходной, Дорохов шутливо спросил, но Хоря категорически не поддержала). О ее семье Дорохов знал только то, что видел – маму, замужнюю сестру, работавшую на шереметьевской таможне, и отца, который много лет был в разводе с ее матерью, но с Хорей был близок. Хоря занималась интерлейкинами. В марте ей предстояла предзащита. О жизненных планах Хоря говорила уклончиво, отшучивалась. Но кое-что проскальзывало. Так Дорохову казалось. Почему-то ему думалось, что Хоря свое будущее никак не связывает с лабораторией на Варшавке. И с Москвой не связывает, и с СССР. Обо всем, что происходит в отечестве, она говорила с равнодушным презрением. Хотя так все говорили, все так шутили: «по-советски-молодецки», «зато мы делаем ракеты и покорили Енисей», «мы рождены, чтоб Кафку сделать былью». А Хоря казалась Дорохову человеком, который все для себя решил. В отличие от говорунов, готовых балагурить в институтских курилках, Хоря все просчитала по-настоящему. И еще Дорохову казалось, что она не хотела, чтобы дурацкая случайность, ненужный конфликт помешали ей однажды сделать неуловимое движение… И оказаться по ту сторону реки, подальше от очередей, подальше от «Морального кодекса строителя коммунизма».
Хоря как-то сказала: «Жизнь, Мишка, дается человеку только один раз. И прожить ее нужно там».
Сеня, разумеется, растрепал Хоре, что Дорохов «пишет». Весной, заехав к Хоре на вечерний чай, Дорохов увидел тот номер «Юности» трехлетней давности. Номер лежал на кухонном столе.
– Что? – осторожно спросил Дорохов. – Разбор полетов?
Хоря рассмеялась. (Она приятно смеялась, негромко, как колокольчик.)
– Сенька предупредил, что ты будешь щетиниться, – она поставила на плиту чайник. – А что сейчас пишешь?
– А может, я сейчас и не пишу ничего, – буркнул Дорохов.
– Быть того не может. Спорим, что пишешь? Есть хочешь? Яичницу сделать?
– Нет, спасибо. Это тебе Сеня дал?
– Ты про журнал? Сама нашла. Лимон клади. Мне понравилось. Особенно хороши диалоги. Как у Хемингуэя.
– Ему платили построчно, – усмехнулся Дорохов. – Оттого и диалоги. Он тот еще был деляга, между прочим.
– А тебе сколько за это заплатили? – неожиданно спросила Хоря.
– Сто восемьдесят рублей, – оживился Дорохов. – Я даже не ожидал.
* * *
…на свадьбе танцевали хору. Еще бы! Амрам был из периша, Севела знал, что так и будет – хора, насупленные лица стариков и топотание в такт барабану. Севела – с детства, с того времени, когда был подростком, когда мог уже хоть что-то понимать в лицах и людях – не любил ветеранов, облезлых бородачей с сердитыми глазами. Воинственное старичье, они вызывали у Севелы только опасливую неприязнь. Топочут, воинственные старикашки. Тоскуют, поди, по тому времени, когда у них были силы, чтобы заваривать кровавую жуть, чтобы правоверно резать и богопослушно жечь. Угрюмое следование Книге – вот вся их жизнь. А случись такое, дай им Предвечный еще одну молодость, еще малую толику сил – так опять будут резать и жечь. И жених, дуралей, туда же: когда во дворе раздалось гулкое постукивание, и гости постарше, понимающе переглянувшись, стали выходить – Амрам сдвинул густые брови и выпятил подбородок. Он так показывал невесте, что дух Маккавеев жив в их семье. А девочка была темная пастушка из Самарии. Тихонькая, неприметная, из правильных. Отец арендатор, живет масличной рощей. Севела на дух не терпел забитых деревенских тихонь. Амрам женился на правильной девушке. Что на такой жениться, что пинками загнать еще одну овцу в кошару – разницы нет.
Во дворе танцевали хору. В администрации наместника на хору смотрели сквозь пальцы. Хора была одной из «окраинных» вольностей, которую дозволяли романцы, это Севела знал. Четыре года в Яффе научили Севелу видеть Провинцию из отдаления. Для обычного жителя Эфраима мир за пределами Провинции был страшным и иллюзорным. Оттуда приплывали огромные корабли с рыжебородыми, светлоглазыми многобожниками, налетали на тонконогих конях безжалостные парфяне, приходили, грохоча маршевым шагом, легионы романцев. Безбожие и опасность – только это и было за пределами Провинции.
Но то знал обычный уроженец Эфраима, а Севела – случилась же ему такая удача! – на четыре года вынырнул из глинобитного убожества… Он знал другое. Знал, что седая старина называется «история», что в ней есть имена и даты. Он теперь знал, что было в этой земле, которая зовется Провинцией, в последние пять сотен лет. О зелотах знал, о Хасмонеях, о столетиях Неволи Египетской, о том, как романцы с великой кровью, упрямо и трудно, подминали под себя гористую пустынную страну, что лежит между Аравией и персами.
Со времен легата Кая Созия романцы не нежничали с «непримиримыми». Партизан распинали безо всяких разговоров. Дважды уличенные в нелояльности высылались в безводную Мармарику. А вполголоса повспоминать славные времена Хасмонеев – что ж, это дозволялось. Разрешалось потоптаться под стук барабана, посверкать глазами и после разойтись по городским усадьбам и глинобитным домишкам.
Отец считал, что администрация поступает умно, негласно дозволяя хору.
– Романцы правильно рассудили, – с усмешкой говорил он. – Пусть люди расходуют воинственность в хоре. Пусть люди грозно пляшут. Пусть напляшутся досыта. Пусть пляшет весь дом Израиля. Пляшет до полного изнеможения! А поутру пусть возвращается к делам.
Квартальные после аккуратно отписывались: такого-то дня такого-то месяца в таком-то доме собирались люди по случаю бармицвы младшего сына хозяина, люди танцевали танец, так называемый «боевой», но нарушения общественного спокойствия не было, имена гостей прилагаются. И через пару дней рабби квартала отзывал в сторону хозяина дома и делал благодушное внушение. А хозяин, чрезвычайно гордый тем, что его насупленное геройство не осталось незамеченным, уверял рабби, что праздник был узкосемейным. И предвкушал, как будет сдержанно отвечать на вопросы соседей по прилавку или товарищей по цеху: «Что ж, да, трое ветеранов почтили вчера мой дом. Был рав Цоер. Да, тот самый, из отряда Менахема Галилейского. После стола, конечно, был танец. А что тут странного? Вам прекрасно известно, мар Симон, что наша семья в достопамятное время держала сторону Антигона-Маттития».
Когда началось топотание, Севела встал из-за стола и ушел в сад. Там, шипя и потрескивая, чадно горели плошки с маслом. На низких скамеечках под платанами сидели молодые люди, друзья жениха. Севела узнал нескольких. Чудо, что узнал – мальчишки, с которыми он ходил в иешиву, плутовал, дрался, воровал виноград, репу и оливы, теперь уже были мужчинами, заматеревшими и бородатыми. Севелу тоже узнали, два раза окликнули, улыбнулись, махнули рукой. Странное дело – Севела вдруг мимолетно, вскользь, почувствовал себя по-домашнему, почувствовал себя своим. Видно, что-то осталось в нем от того парнишки, каким он покинул Эфраим. Под платанами сидели его давнишние дружки. Пастухи, виноградари, гончары, контрабандисты и ам-гаарец. И он тоже был ам-гаарец, и это, может быть, осталось в его взгляде, походке, повадках. Недаром ему кивнули, молчаливо признали за своего. Может быть даже, здесь сидели те, кто помнил, какой шорох наводили в квартале Севела с Кривым Ицхаком, всем известные «колючие ребята». Севела взглядом поискал Ицхака, особенно и не надеясь найти. Да чего там, не мог Кривой здесь оказаться. Амраму немного радости было бы от такого гостя. Кривой уже в четырнадцать лет был безудержным. Он воровал – и тем жил. Он безжалостно дрался – и тем жил. Он плевал на все.
«И если будет у человека сын буйный и непокорный, не слушающий голоса отца своего и голоса матери своей, и наказывали они его, но он не слушал их …»
И тем страннее было все это видеть, зная, что отец Кривого был кохен, человек праведный и властный. Кривой обокрал семью и поселился в окраинных трущобах. А до этого отец розгой и кулаком вбивал в него Книгу. Кривой знал Книгу не хуже иного кохена. Он жену старшего брата растлил – даром, что сладострастная баба была выше него на голову и тяжелее вдвое. Вот удалец – щенок, и стручок не вырос, а попользовал взрослую бабу! И когда все расписывал дружкам, так еще и приговаривал из «Ахарей»: «Наготы жены брата твоего не открывай: это наготабрата твоего». Он верен был одним только дружкам. Однажды Кривой, Севела и Гамаль выследили менялу из квартала Ур. Крадучись шли за ним, потом Ицхак рванулся вперед, ударил высокого мужчину свинчаткой в затылок, натянул ему на голову плащ. Они повалили менялу в пыль и избили. Кривой сорвал с пояса саддукея полотняный кошель. Человек жалобно завизжал, на шум прибежали стражники, человек пять. Они разом привычно перебросили на спины ножны, одним движением смотали в жгут шерстяные плащи – чтобы не мешало бежать, броситься в рывок, но и чтобы накрутить на руку плотный узел, могущий защитить от выпада ножом. Они выскочили из-за угла, поднимая сандалиями клубы пыли, и молча, не тратя мгновений на оклик, бросились к ам-гаарец. Севела тогда мгновенно сообразил – только бегство! Они с Кривым и Гамалем были тертые, колючие, они были ам-гаарец. Они давно уже без боязни заходили в таверны и весело резались на ножах с окраинной рванью. Но они щенки. А в городскую стражу берут после двадцати лет, это хожалые мужчины. Стражников не сбить наскоком и не испугать. Оставалось Севеле только бежать. Не раздумывая, не сговариваясь – бежать, сколько есть ног и сил. Севела метнулся к полуразвалившейся стене, швырнул, расцарапав живот, тело через стену и понесся. Побежал, перескакивая через кучи мусора, спотыкаяясь о корзины, ударяя плечом в ветхие калитки, сшибая с ног людей нищего квартала, где только дешевых шлюх и мог искать меняла. Севела убежал, ему повезло. И Гамалю повезло – он прыгнул сквозь кусты, свалился в канаву и замер там, в гнилой воде, рядом с вздувшейся дохлой псиной. Гамаль долго пролежал в канаве, его вырвало от нестерпимого смрада, он окунул голову в глинистую воду, чтобы стражники не услышали, как он там регочет. А вот Кривому не повезло. Его скрутили, стянули ремнями локти, пинали в живот и в пах, отволокли в участок. И там Кривому досталось мучений. Меняла успел заметить, что ам-гаарец трое, и Кривого допытывали про дружков. После Севела узнал, как оно было. Отцу все рассказали, один из стражников оказался братом отцовского приказчика. Первый день был самым тяжким. Ранним утром пришел дознаватель, положил на столик табличку и стилос, поставил кувшин с водой. Кривого притащили и бросили на пол. Его били весь день. В перерывах стражники пили воду и ели козий сыр с ячменными лепешками. Кривому сыра не предложили. Ему даже воды не дали в первый день, только били. Когда парень захрипел и обмочился с кровью, его зашвырнули в чулан с земляным полом. Наутро пришел врач, окатил бредящего Ицхака водой, промял ребра, сказал, что три ребра сломаны и чтобы с левой стороны сегодня не били. Дознаватель сломал Кривому оба мизинца и шевелил ими. Ицхак хрипло выл, судорожно дергал ногами. Он плевал в дознавателя, бормотал: «…а человек, который нанесет увечьеближнему своему, как сделал он, так пусть будет сделано с ним, перелом заперелом, око за око, зуб за зуб: какое увечье нанесет он человеку, такое жедолжно быть нанесено ему». Дознаватель поливал Кривого водой и скучно говорил: «Отдай дружков, парень. Взяли тебя, так отдай дружков. Должен быть порядок. Хочешь некалечным выйти, так отдай дружков…»
Ицхак не отдал друзей. Следствие выдержал, угнали в Негев. Вернулся с ирригационных работ – иссохший, желтый, с левой стороны трех зубов не было. Чуть не сдох от кровавого поноса, большой палец гноился на левой стопе. Рафаил, старший брат, тогда окончил курс, он вылечил Кривого от костного нагноения. Рафаил тайком проводил Кривого в госпиталь по ночам, совал ему в зубы щепу, чтобы парень кричал потише. Расковыривал рану, вылущивал гнилые кусочки кости, накладывал повязки с бальзамами. Кривой отмочил струпья в микве Малуков, отмылся, соскреб паршу. Отец и бровью не повел, когда Кривой объявился в доме, – у сына гостит друг; друзья бывают разные, бывают ухоженные и упитанные, а бывают завшивленные, в рваных туниках, изможденные, с грязной повязкой на правой стопе. Всякие бывают друзья. Но если сказал, что он друг – так принимай его и со вшами, и оборванного, и с дурной репутацией. Рав Иегуда тогда равнодушием оказал полное доверие сыну. Севела смотрел на Кривого с восхищением. Не отдал его Кривой, и Гамаля не отдал! Ирригационные работы выдержал, и изнасиловали его, конечно, в участке, и били страшно и долго – а не отдал! Восемь месяцев оттрубил там, где люди превращаются в кости, завернутые в пергамент, где люди падают в пышущий песок, и их тем песком присыпают, где только белое небо и белый жгучий песок с желтыми камнями. Но не отдал ведь страже Севелу с Гамалем звереныш! Нет тех слов в Книге, какие бы ни оплевал и ни обгадил своим языком и всей вседневной жизнью звереныш! Но что-то было такое в мутной душе, что муки его не сломали, и дружков не отдал. Он был вор, по крови – вор, повысшему назначению – вор. Нож пускал в ход, не задумываясь. Неосторожных соплюх притискивал и валял по темным углам и в глухих рощах.
Дрался он отлично, бешено дрался. Выходил один – против двоих, против троих. Левый глаз у него был бельмом затянут, – ну так это ему ничуть не мешало, он и одним глазом видел за двоих. Коли была охота драться, так он не раздумывал. Нагло ухмылялся, метко плевал противнику в лицо, чтобы обозлить, и сразу бил. В глаза бил, в кадык, стопой в пах. Дрался до конца, пока глупыш, что с ним связался, не валился в серую уличную пыль, выхаркивая кровь.
Он был несгибаемый, Кривой Ицхак. Он грязный был и подлый, опасный и изворотливый. Но что-то в нем было от подлинных левитов. От самарийских партизан, которых тысячами распинали солдаты Помпея. От людей Аристобула, что до последнего бились с победной когортой Корнелия Фавста. От фанатичных, ни в грош жизнь не ставивших, что некогда ворвались в землю Кнаан, что-то в нем было. И от тех преданных и убежденных что-то было в насмешливом уголовнике, что, «опоясавшись мечами», прошли, пропахали лагерь Моше, деловито закалывая предателей, жалких золотолюбцев, смердящих губителей духа Израиля. Кривой был шпана и вор, насильник и безбожник. Но стержень в нем есть – тот самый стержень, на который возможно нанизать честь и славу. Ему бы в легионарии. Мог бы попасть в квоту для уроженцев и стать легионарием. До триария он бы дослужился непременно – один поход, и быть ему триарием. Но в легионе дисциплина, а это не для Кривого. Но стержень в нем был.
А в туповатом Амраме стержня не было и быть не могло. И в иоппийских однокурсниках Севелы тоже. И в друзьях Рафаила – небедных и изнеженных молодых людях, напудреных, чернящих волосы миртовым вином и отварной кожицей порея. Или в отбеливающих волосы уксусными дрожжами и маслом мастикового дерева, завсегдатаев театра и литературных кружков, говорунов, с выщипанными на руках волосами, в приятных молодых людях из карнавально-беспечной Байи – в них тоже не было стержня.
Словом, Кривого Ицхака Севела не нашел в вечернем саду.
Надо будет завтра зайти к его отцу, подумал Севела, может быть старик что-то знает о Кривом.
Севела взял с дощатого стола медный стакан, сам налил себе вина из жбана. Осмотрелся, выискивая, где бы присесть.
Тут его позвали.
– Севела! Адон Малук!
Севела обернулся. К нему, приветливо улыбаясь, шел худощавый мужчина с лицом тонким и бледным, выбритым по романской моде.
– Да, я Малук, – сказал Севела. – Младший сын рав Иегуды.
– А я учился со старшим сыном рав Иегуды, – обрадовался мужчина. – Я Нируц. Тум Нируц. Мы были в одной иешиве с Рафаилом.
Севела вежливо кивнул.
– Как живут твои домашние? – спросил Нируц.
– Отец много трудится, – сказал Севела. – Рафаил сейчас в отъезде. А в нашем доме все благополучно.
Мужчина мягко взял Севелу за локоть и сделал несколько шагов по дорожке.
– Я вот слышал, что рав Иегуда купил пай в александрийских маслобойнях, – вкрадчиво произнес он. – Это мудро. Твоего отца очень уважают в Эфраиме.
Севела пожал плечами. Приобретение маслобоен в конторе не обсуждалось, но недавно отец показал Севеле паевые документы, велел прочесть.
Нируц легко улыбнулся. У него было породистое лицо. Насмешливо заломленная бровь, тонкие ноздри, морщинки у губ, быстрые глаза – все говорило о том, что когда этот человек захочет обаять, увлечь, рассмешить – то устоять перед ним невозможно.
– Ты ведь не так давно вернулся в Эфраим? Верно? – спросил Нируц. – Год, полтора?
– Полгода, – сказал Севела.
– А знаешь, отчего именно в Александрии твой отец недавно поставил свою крепкую ногу?
Севела сделал лицо равнодушное и уверенное. Он не спрашивал отца: почему Александрия? И разговаривать о семейных делах вне дома – пусть даже с таким славным человеком – он не хотел.
– Но-но! Не делай такое важное лицо! – необидно рассмеялся Нируц и прикоснулся к плечу Севелы. – Это дела вашей семьи, я понимаю. Я лишь изумляюсь уму рав Иегуды. Но взгляни сам. Взгляни и восхитись, молодой Малук. Два слова – мол и маслобойни. Всего два слова. Мол, маслобойни и еще коммерческий гений рав Иегуды. Объяснить тебе, молодой Малук?
– Хорошо, – сдался Севела. – Объясни мне, адон Нируц. Что значит «мол и маслобойни»?
– Садись, – сказал Нируц. – Ты очень похож на брата. Он, помнится, тоже выпячивал подбородок, когда надо и не надо. Все Малуки гордецы. Садись, выпьем вина.
Они опустились на скамью. Нируц подлил в стакан Севелы из баклаги, которая незаметно появилась в его руке.
– В прошлом году закончилась реконструкция Александрийского порта, – изрек Нируц, будто начинал сказку. – В Александрии теперь много места. Туда теперь плывут все – иберийцы, бритты, иеваним, неаполитанцы, сицилийцы, колонисты Понта. А мол Яффы обветшал – знаешь? Его построили при Ироде. Тогда это была прекрасная гавань и великолепный мол. Считалось, что это шедевр строительного искусства.
Севела слушал, дважды пригубил вино.
– Еще мой дед поставлял лес для строительства мола. Сосновые сваи, младший Малук, сосновые сваи! – Нируц хитро подмигнул. – Ирод поручил строительство мола архитектору, который строил Себасту. Он был малый не промах, тот архитектор. Наверняка разбогател на строительстве мола. Если не разбогател еще раньше, на строительстве Кесарии и Себасты. Восемь тысяч свай пошло на мол. И были они из сосны. А надо бы им быть дубовыми! Ирод о разнице в породах древесины так и не узнал – еще бы, государю было не до свай, он отстраивал Масаду и Гирканию.
– Маслобойни, адон Нируц, – напомнил Севела.
История про мол занятна, но при чем тут маслобойни?
– Прошло меньше тридцати лет, а мол пришел в полную негодность, – продолжил Нируц. – Три месяца тому назад наместник утвердил смету ремонта мола. Твоему отцу это, скорее всего, стало известно. В Александрии порт перестроили, а в Яффе вскоре оставят два или три причала. Один отведут под военные суда. Вот и все, молодой Малук. Теперь нужно торговать из Александрии. Торговать нужно из Александрии, а рав Иегуда – мудрый человек.
– Забавно, – Севела усмехнулся.
– Забавно тебе, молодой Малук, – благодушно сказал Нируц и отпил из стакана. – Что одному забавно, то другому выгодно. Как живет Рафаил?
– Что? А, Рафаил. Он врач. Ну да ты, верно, знаешь.
– У него обширная пациентура? – живо спросил Нируц.
– Он теперь много времени проводит в Байе, – уклончиво сказал Севела. – Кроме врачебной работы у него есть еще… иные дела.
Рафаил уже два года учился драматургии. Вновь подался в студиозусы, стал жить в Байе (жить голодно и холодно), писал Севеле, что мечтает пройти курс у знаменитого Мнестера. Конечно, отцу это не нравилось. Да и самому Севеле это не очень нравилось. Они с отцом хотели бы, чтобы Рафаил составил себе прочную, многолетнюю пациентуру.
– Будешь ему писать – скажи, что встретился со мной. Скажи, что я желаю ему успеха. Рафаил был славным парнем. Думаю, он и остался таким.
– Хорошо, я передам ему твои слова.
– Мне пора идти, – сказал Нируц. – Я рад, что мы познакомились. Ты очень похож на брата. Давай еще встретимся и поговорим. Хорошо?
– Непременно, – сказал Севела.
– Мое почтение рав Иегуде, – сказал Нируц, поднимаясь со скамьи. – Да, кстати. Почему твой отец купил маслобойни? В Александрии сейчас спрос на зерно, а твой отец взялся за масло. Почему? Армейский подряд? Не иначе как армейский подряд. Тогда рав Иегуда не только мудр, но и удачлив, как никто. Армейский подряд это долгие и прочные деньги. До встречи, молодой Малук.
– До встречи, Нируц, – сказал Севела.
Он смотрел на прямую узкую спину человека в светлой тунике, пока тот не скрылся за низкой дверью в стене. Нируц быстро прошел по саду, на ходу попрощавшись с двумя гостями постарше, легким шагом пересек площадку с длинным столом и скользнул в калитку.
И Севеле сразу стало скучно. Ему захотелось уйти, ему нечего здесь делать – среди периша, в кругу повзрослевших и поугрюмевших сверстников.
Севела поставил на край стола стакан, нашел среди гостей Амрама и его отца, поблагодарил, пожелал жениху счастья, первенца-сына и достатка в семье. А потом сослался на ранний, якобы, отъезд по семейным делам и ушел.
Отец еще не спал, когда Севела вернулся домой. Рав Иегуда сидел в кабинете и перекладывал темные листы из толстой стопки. Через приоткрытую дверь были видны край стола, стопка листов, желтый подрагивающий от легкого сквозняка полукруг света от лампы. Отец беззвучно шевелил губами и медленно скручивал прядь короткой бороды.
Все в доме было как обычно. Ночь пришла в дом Малуков. На маминой половине уже спали. В густой темноте двора стрекотали цикады, шуршали ветви смоковницы, еле слышно постукивали под ночным ветерком головки чеснока, развешенные на шнурах. В стойле громко вздыхали и терлись о перегородки боками волы. Пахло старым деревом и погасшим очагом.
Севела глядел на отца, склонившегося над бумагами, и чувствовал, как ему становится покойно.
Он так всегда сидел до поздней ночи, рав Иегуда. Он работал – и семья не знала нужды. Он неторопливо перебирал документы – и Рафаил прошел дорогое обучение в лекарской Schola. Отец делал записи в столбцах и графах – и Севела получил романское образование. Иегуда Малук – сын пастуха из Итуреи, водовоз, лоточник, управляющий фермой, скромный лавочник, лишь после тридцати чудом трудолюбия и чистейшей репутации ставший главой торгового дома «Малук и сыновья», – работал по ночам. Он и днем не поднимал головы от контрактов и конносаментов. И Севела получил диплому. Отец отдавал указания писарям, не передоверял ни одной малости управляющим – и из Самарии в Каппадокию шли обозы с маслинами и шерстью, из Яффы на Родос и в Неаполь плыли барки с пальмовым маслом. Во все концы Магриба, от Александрии до Капуи, от Газы до Херсонеса тянулись крепкие связи дома Малуков. Отец и в субботний день мог закрыться в кабинете. Он говорил Севеле, виновато улыбаясь: «Яники, Он меня извинит. Я ведь такой маленький, яники, а Предвечный непостижим в своей огромности. Он извинит меня, я тебя уверяю. Ведь Он понимает. Ему все известно, каждая сущая мелочь, каждая травинка и песчинка. И Он, конечно, знает, что кедр для Фаселиса должно отгрузить день в день, а моим тамошним партнерам нет дела до субботы».
Севела переступил с ноги на ногу, скрипнула половица. Отец поднял голову и, прищурившись, посмотрел в дверной проем.
– Это ты, яники?
– Да, папа, – Севела вошел в кабинет. – Не хотел тебе мешать.
– Я уже закончил, – рав Иегуда сдвинул стопку бумаг на край стола.
Севела присел за столик писца, вытянул ноги и привалился к стене.
– На свадьбе весело было? – спросил отец. – Этот Амрам, он ведь из периша?
– Я не видел его несколько лет. Хотелось посмотреть на старых дружков, – сказал Севела, взял из подставки стилос, повертел в пальцах. – В какой-то миг даже понадеялся, что встречу Кривого. Помнишь Кривого? Глупость. Что там делать Кривому? Незачем было идти к Амраму. Он невесту взял – деревенщину. Вроде и просидел рядом с ней весь вечер, а лица уже не помню.
– Ты слишком много времени провел в Яффе, яники. А в Эфраиме иные нравы, и спрос на деревенских невест здесь неизменно высок, – рав Иегуда лукаво улыбнулся. – Когда пришло время жениться мне, двоюродный дядя Борух привез меня в Галилею, в деревню, и вывел ко мне трех своих дочерей.
– Вот как? – весело спросил Севела. – И как ты поступил?
– Я выбрал младшую, – довольно сказал рав Иегуда. – И ни разу не пожалел.
– Папа, – неожиданно произнес Севела, – скажи, почему ты купил пай в маслобойнях?
Отец заломил бровь и прокашлялся в ладонь.
– Хорошо, что у тебя есть к тому интерес. Меня Предвечный за что-то наказал старшим сыном – писакой. А у тебя, хвала Предвечному, есть интерес к семейному делу. Я поставил ногу в Александрии, потому, что мар Иефтах из Яффы пересказал мне протокол заседания магистрата. Они наконец будут реконструировать мол.
– Мол?
«Мол и маслобойни, молодой Малук».
– Ну да, мол, – отец кивнул. – Видишь ли, порт Яффы больше нам не годится, мало места. На пирсы долгая очередь. Я устал давать взятки портовым. Дешевле отгружать из другого места. А в Александрии порт расширен, все большие сделки теперь будут совершаться в Александрии.
– А почему масло, папа?
Рав Иегуда хитро улыбнулся и погладил бороду.
– Мне повезло, – словно извиняясь, сказал он. – Когда-то я помог Берл-Шеду из Коммагена. Крепко помог. Наверное, даже спас его. Он был таможенным старшиной, погрел руки, его прихватили. Новый наместник менял администрацию, на таможне был аудит. А мы с Берл-Шедом оба из Итуреи, отцы дружили. Ему нужно было откупиться, и я дал ему денег.
– И что потом?
– Он оказался благодарным человеком, – сказал отец с интонацией, в которой сочетались удивление и удовлетворение. – Прошло много лет, Берл-Шед занял видное место в Александрии. Он из тех, что никогда не идут на дно. Не могу сказать, что мар Берл-Шед… – он умолк, словно подыскивая слова, могущие в полной мере живописать добродетели Берл-Шеда. – Словом, встречаются люди более щепетильные, чем он. Однако Берл-Шед умен и удачлив. Я ценю в людях эти качества. Он теперь начальник департамента армейских поставок в Александрийском администрате.
Севела подавил восхищенный выкрик: «Нируц! Умница Нируц!».
– Короче говоря, земляк выхлопотал мне армейский подряд. Теперь полные три года наш дом будет поставлять масло в гарнизоны на северном побережье. – Рав Иегуда посмотрел на сына, наблюдая, как тот оценит известие. – Каково, яники?
– Хорошая сделка, папа! – искренне сказал Севела. – Любой коммерциант такому позавидует!
– Пустое, пустое, яники, – польщенно пробормотал отец. – Случай… Удача. И немного дружбы. А с чего ты спросил про Александрию?
– Встретил странного человека, – медленно сказал Севела. – Прежде не видел таких. Поговорил с ним немного, а показалось, что дружу с ним много лет.
– Бывает такое, мой яники. Немного поговорил, а показалось, будто давние друзья, так? – рав Иегуда хитро улыбнулся. – Это свойство, что ты в нем приметил, называется обаянием.
– Он сказал, что ты мудрый человек, и что торговать теперь нужно из Александрии. Его зовут Тум Нируц. Он учился вместе с Рафаилом.
– Нируц, – отец хмыкнул и прищурился. – Я знаю семью Нируц.
– Кто они?
Рав Иегуда шевельнул кустистыми бровями, пробормотал:
– Необычные люди.
– Богаты?
– Да, – уважительно и уверенно ответил отец. – Да. Это крепкий дом.
– Почему ты сказал, что они необычные люди?
– Они как будто чужаки, – доверительно сказал отец. – Живут замкнуто. Здесь такое не остается без внимания.
– Что значит «чужаки»? Что делать в Эфраиме чужакам?
– Дед адона Тума был ветераном Четвертого Легиона. Ему по выслуге полагался надел в Провинции, он выбрал для жительства Эфраим и занялся торговлей. При Ироде сделал состояние. Ты, может быть, хочешь спать?
– Рассказывай, папа, прошу тебя!
– Мордехай Нируц, дед твоего нового знакомого, происходил из благонравнейшей семьи периша. Он родился в Кесарии Филипповой, а в Рим попал мальчишкой, после разгрома Аристобула, – сказал рав Иегуда. – То было в год консульства Цицерона, яники. Это уже седая старина, давнее время. Помпей тогда поставил Гиркана первосвященником, отстроил Гадару. Ты ведь любознателен в истории, яники? В тот год вся Сирия стала римской провинцией, а Скавр был ее первым проконсулом. Горькое это было время для дома Израиля. Рухнуло все, над чем трудились Хасмонеи. Они были жестокими и упрямыми, эти Хасмонеи. Жестокие мечтатели. Джбрим дорого обошелся их неуемный нрав. Аристобула препроводили в Рим в цепях, и Антигона, его сына, и трех его дочерей. Аристобул с детьми фигурировали в триумфе Помпея. И тогда же Помпей привел в Рим восемь тысяч наших. Почти всех очень скоро освободили, да… Палатину нужна была наша диаспора. На Палатине всегда заседали умные люди. Они предвидели, что Провинция доставит Риму немало хлопот. Римские вершители, сенаторы, создали маленькую часть Провинции у себя под боком. Создали нашу диаспору из тех восьми тысяч liberitis.
– Зачем же?
– Управление людьми – сложное дело, мой родной. Тут нужны огромные знания и могучая воля. – Рав Иегуда передвинул коробочку с писарским песком. – Особливо если управлять людьми, живущими на другом конце Ойкумены. Да еще такими беспокойными людьми, как джбрим. Дед молодого Нируца был одним из тех восьми тысяч. Он пошел в рекруты, храбро воевал. Говорят, что получил золотую armillae за кампанию в Дакии… Он выслужился до centurio prior, командовал манипулой, и за штурм Амиды его наградили corona muralis. Он первым взобрался на стену. У романцев это высоко ценится – первым взобраться на стену. Пусть даже тебя с этой стены сейчас же сбросят, и ты сломаешь себе шею. Но коли ты герой и первым залез на стену – тебе окажут почести и наденут на твою пустую голову corona muralis. Дед адона Тума был доблестным солдатом, а после стал умелым офицером… Адон Мордехай воспитал сына в романской вере. И сын его воспитывал своего сына свободно. Так что они особняком, эти Нируцы. Они по крови джбрим, а по духу романцы. Я скажу больше, яники: они космополиты и безбожники. Мне дважды приходилось иметь дело с Цебаотом Нируцем, мы с ним кедр поставляли в Брундизий. Мар Цебаот – честный и умный человек. Хотя не очень удачливый. А что до адона Тума, то о нем говорят разное. Говорят, что он не участвует в делах отца. Что он занят на какой-то службе в Ерошолойме.
– Так мне не принимать его дружбу? – осторожно спросил Севела.
– Э! Ты взрослый человек, яники! – протестующе сказал отец. – Реши сам, с кем водить дружбу, а кого сторониться. Они странные люди, эти Нируцы, да. Но кто сказал, что они недостойные люди? Поздно. Пора спать. С утра займись кедром, малыш. Боюсь, у фаселисской таможни вырос большой и грязный зуб на наш дом. В Фаселисе хотят наш кедр, Кседомент с компаньонами хотят еще шесть барж, они торопят меня и готовы принимать кедр чуть ли ни плотами. Но фаселисский таможенный старшина насчитал такую пошлину на обычный ливанский кедр, как будто это сандал. Я вот о чем подумал, яники: а ежели разгрузить барку в Олимпусе? От Олимпуса до Фаселиса десять миль или чуть боле. Зато Олимпус отстраивается, там нет таких несуразных пошлин. Поразмысли над этим. Доброй ночи, яники. Погаси светильник на галерее.
Отец встал и зевнул.
– Доброй ночи, папа, – сказал Севела.
Он встал, провожая отца и…
* * *
– Давай-ка пройдемся, – сказал Сеня. – Погода чудесная.
Он достал из кармана куртки трубку и стал набивать ее на ходу.
– Классный у тебя табак, – сказал Дорохов. – Где берешь?
– Это «Нептун», болгарский.
– Не, я не про этот. Я про тот, который ты дома куришь.
– «Клан», – сказал Сеня. – Голландский. Папа шесть пачек привез из ФРГ.
Они прошли под арочкой «Кропоткинской» и двинулись по Гоголевскому. Осень стояла сухая и теплая. И в конце октября выдалась прекрасная погода. Они с Сеней любили побродить по Гоголевскому, по переулкам за Министерством обороны, по Суворовскому. Разговаривали, присаживались на лавочки, курили. Сегодня у Дорохова был библиотечный день, а Сеня взял больничный на неделю. У него с почками было нехорошо, давняя болезнь. Он пару раз в году брал больничный. А один раз долго лежал у себя в Первой градской.
– Как твои анализы?
– Ничего, – сказал Сеня. – Более-менее.
Он не любил говорить о своей болезни. Как-то Дорохов спросил у Никона: а что с Сеней? Ничего хорошего, сквозь зубы ответил Никон, поликистоз, надо наблюдаться, леспенефрил пить.
Дорохов сегодня выспался как следует, а потом приехал к Сене. На прошлой неделе он дал ему первые три главы.
Они выпили кофе, потом Сеня сказал, что ему надо в химчистку, на Крыленко. Они зашли в химчистку, там был санитарный день. Вышли к памятнику Энгельсу, и Сеня предложил прогуляться. Дорохов накануне сидел с Димоном до ночи, часов до двух. Они еще возились с царской водкой, но уже по инерции. Да, конечно, что-то можно добывать, грязные крохи… И с кислотами нет проблем – «солянка» нормально продавалась в хозяйственных, тридцатипроцентная, для очистки от накипи. Азотную кислоту приятель Димона достал в лаборатории нефтезавода в Капотне. Но только все равно это тупиковый путь – растворять материал в царской водке. Выход смешной. А грязи и вони – до жути. Придумали восстанавливать металл гидразином, получилось чуть лучше. Но все равно – прошлый век. В конце лета кучу времени убили на йодирование. Тоже не то. Грязно, опасно – цианиды. А вчера к Дорохову пришло решение. Сначала он подумал, что надо делать переочистку, по второму разу растворять грязную смесь в «царской водке». А вслед за этим пришла в голову мысль про анодное растворение.
– Слушай, Димон, надо делать электролиз, – сказал он.
И тут все встало на места.
– Точно! – выдохнул он. – Ну конечно!.. Чего мы возимся с царской водкой? Надо работать с азоткой. У меня есть мысль.
– Мы ж об этом говорили, – сказал Димон. – Выход маленький.
– Выход будет что надо, – сказал он.
Все сопоставилось. Растворять материал в азотной – раз. Проводить анодное растворение – два. Фильтровать слитую взвесь через фарфор – три. Раз, два, три. А шлам по второму разу растворять, анодировать и фильтровать.
Он вернулся домой и еще час сидел за столом, рисовал на листе схему. Схема получалась простая. Как раньше-то не допер?
– Прочел? – спросил Дорохов. – Давай, не томи.
– Конечно, прочел, – Сеня пыхнул трубкой. – Тебя что интересует? Я рядовой потребитель литературы. Если тебе грамотный анализ нужен – так за этим лучше к Тёме. Или к Борьке.
– Ладно, ладно, старый, – сказал Дорохов. – Я тебя спрашиваю, а не Тёму с Борей. До них черед дойдет.
– С публикацией, конечно, могут возникнуть проблемы, – сказал Сеня. – Не та тема, мягко говоря. И национальная среда… не самая популярная в наших широтах. Хотя, по нынешним временам… Черт его знает. А может быть, и напечатают. Сам видишь, что творится. «Детей Арбата» ведь напечатали.
– Какое у тебя впечатление?
– Хорошее. Во-первых, я увидел, что ты стараешься добросовестно трудиться. Люблю, когда люди добросовестно трудятся. Я многого не понял в этих главах, но вижу, что ты копаешь. Литературы, поди, перелопатил кучу?
– Не без того, – согласился Дорохов. – Порыться пришлось как следует.
– Чувствуется. Перегружаешь, конечно. Начитался, набил полную голову. Очень густо с терминологией. Чувствуется, знаешь, что начитался и теперь фонтанируешь.
– Что еще чувствуется?
– Байка есть такая. Про Моцарта… Моцарта спросили о музыке кого-то из тогдашних композиторов. Он ответил: «Слишком много нот». Вот и у тебя, как мне кажется – слишком много нот.
Они неспешно шли по Гоголевскому. Их обгоняли мамаши с колясками и старушки. На лавочках сидели студенты с подружками, курсанты, курившие папиросы, и длинноволосые «системники» с «ксивниками» на немытых шеях. Стояла чудесная погода. Проносились где-то сбоку и сверху троллейбусы, дул теплый ветерок, у одной из скамеек сгрудились пожилые шашисты. Они передвигали шашки на доске и громко спорили. Шашисты Гоголевского бульвара напоминали Дорохову «пикейных жилетов» из «Золотого теленка».
– Ну, давай присядем, – сказал Сеня.
Они нашли пустую лавочку и сели. Дорохов достал из кармана «Дымок» и закурил.
– Куришь ты черт знает что, – сказал Сеня.
– Не отвлекайся, – сказал Дорохов. – Что еще «чувствуется»?
Он откинулся на жесткую спинку лавочки, положил ногу на ногу и затянулся едким «Дымком».
Сеня взялся за истертый чубук, выпустил облачко дыма.
– Не обижайся, старик, у тебя получается интересная книга… Но, ей-богу, ты суетишься. Мне кажется, что ты спешишь выплеснуть все, что узнал и понял. Все слова из того времени, все названия, события… Почему, скажи на милость, твои герои то и дело срываются в монологи? Вот отец его, к примеру. Нормальный торгаш, а изъясняется, как профессор с истфака.
– Аромат времени есть?
– В смысле? А… Да. Ты там такого нагородил, что некая атмосфера ощущается, да. Количество трансформируется в качество. У меня только один вопрос.
– Ну? – мрачно сказал Дорохов.
Он вообще-то надеялся, что Сеня станет хвалить. Просто похвалит, безо всякого анализа.
– Чего ты набычился? – сказал Сеня. – Да потрясающая у тебя книга, Мишка. Хвалить я буду потом. А сейчас давай по косточкам разберем.
– Какой у тебя вопрос?
– Зачем тебе все это?
Дорохов усмехнулся. Он знал, что Сеня так спросит.
– Игра свободного разума, старик, – сказал он небрежно.
– Вот оно что, – издевательски сказал Сеня. – Молодой человек прочитал Гессе и теперь говорит мне про игры свободного разума. Ты хочешь сделать литературную карьеру? В совписы хочешь?
– Ты с ума сошел, – буркнул Дорохов. – Мне докторской надо заниматься. Какая, к черту, литературная карьера?
– Тогда чего ты хочешь, Мишка? Я вижу, что ты совершаешь непонятные мне телодвижения. Во-первых, ты пишешь книгу. И книгу серьезную. Никакие это не игры свободного разума. Во-вторых, ты выдумываешь какую-то химическую методику. Зачем ты папу допытывал про электролиз?
Дядя Петя недавно рассказывал Дорохову, как они с коллегами в пятидесятых прикладные задачи решали «на коленке». Научные темы в те времена давали бесчисленные ответвления, и приходилось на ходу выдумывать вспомогательные устройства, опережая приборостроение. В тот вечер дядя Петя рассказал интереснейшие истории из области гальванопластики.
– Ты что-то такое выдумал, на грани фола. Чем ты занимаешься?
– Я занимаюсь выплавкой драгметаллов, Сеня, – сказал Дорохов просто. – Золото добываю из технических сплавов.
Сеня вынул изо рта трубку и прокашлялся.
– Ты спятил, что ли, брат-храбрец? – тихо спросил он. – Насколько я знаю, это уголовно наказуемо. Да и не в этом дело. Почему золото? Что за виражи, Миха?
– Погоди, старый, – сказал Дорохов. – Мы же не первый день знакомы.
– Во дурак-то. Ну щенок. А я-то думаю. «Жигули» купить хочешь? Дачу хочешь, да?
– Да! – вдруг заорал Дорохов. – Да! Парень из глубинки хочет жить красиво! Хочет дачу, хочет кушать в «Праге», хочет в Дагомысе рассекать!.. Это не я спятил – это ты спятил! Какая дача? Ты посмотри, что за жизнь вокруг!
– Тише. Не шуми.
– Посмотри, какая жизнь вокруг нас. Муть. Тоска. Ты пойми, старый, – мне страшно бывает. Мы Бродского декламируем, изображаем ареопаг интеллектуалов… Чудим, коньячок попиваем, строим башню из слоновой кости…
Сеня молчал и сопел трубкой.
– Такие мы все классные, – выговорил Дорохов сквозь зубы. – Я защитился, Бравик защитился. Кандидаты всевозможных наук…
– Да ладно тебе, Миха, – сказал Сеня. – Мы ж не шурупы, и не хиппи.
– Это, Сеня, от комплекса неполноценности. Мы так играем, будто у нас за плечами Тринити-колледж. Так вся жизнь пройдет за умными разговорами. И никогда не узнаем, что это такое – махнуть из Парижа в Нью-Йорк на «Конкорде». Или надраться с утра в кафешке в Гринвич Виллидж. У наших предков жизнь украли, и у нас крадут. Я убежать хочу от заурядности, Сеня. Любым способом. Не надо мне «Жигулей», я в метро читаю. Я половину всего, что прочел, в метро прочел.
– Не ори, – сказал Сеня. – Ты так орешь, что голуби разлетелись.
Дорохов перевел дух и безнадежно махнул рукой.
– Мой батя – инженер, талантище… Он в каком-нибудь «Дженерал Моторс» звездой мог быть. Председателем совета директоров. У него четыреста восьмой «Москвич», инфаркт в семьдесят девятом и служебный коттедж на заводской базе отдыха. Очень любит поговорить про цель в жизни, про трезвый подход. А у самого жизнь украли.
– Миха, Юр Саныч редкий человек, – укоризненно сказал Сеня. – К чему ты его приплел? Ты объясни мне, зачем тебе авантюра с золотом?
– Так в том-то все и дело, Сеня! Человек он редкий, а жизнь ему выдала на два с полтиной. А ему по труду и таланту положено в «Дженерал Моторс», главным начальником и миллионером. И у нас с мужиками то же самое. Все красавцы, как на подбор. Но получат за свою жизнь два с полтиной. И Гаривас, и Борька с его германистикой, и Тёма. Нас эта жизнь, как твой отец говорит, пережует. А я от всего этого хочу убежать. Ладно, старик, извини. Истерику я тебе устроил. Потом договорим. Разложим на две серии.
– Я, может, что-то не так сказал. – Сеня нахмурился. – Извини. Про «Жигули» – это глупость, конечно. Ты мне не чужой человек, я не хочу, чтобы ты влетел в неприятности. Просто у тебя странный какой-то набор – то книгу пишешь, то драгметаллы выплавляешь. И все это для того, чтобы убежать от заурядности. Тебе не грозит заурядность, Миха, поверь.
– Я ненавижу жизнь, которая вокруг нас. Ладно, потом продолжим. Тебе эти главы понравились?
– Да, – сказал Сеня серьезно. – На мой взгляд, это литература.
– Я не про свою персональную заурядность говорю, – помолчав, сказал Дорохов. – Мне, конечно, всегда хотелось писать. Я не первый год этим занимаюсь. Графоман со стажем. Ты считаешь, что мне заурядность не грозит. Она всем грозит. И Гаривасу, и Тёме, и тебе. Мы все классные, умные, ты салон собираешь. А жизнь свое возьмет, и проживем мы ее скучно.
– Разве мы скучно живем?
– В итоге получится скучно. Угадало нас с умом и талантом родиться в СССР.
– Мудришь ты, брат-храбрец, – неодобрительно сказал Сеня.
* * *
…неделя. Ранним утром в контору прибежал мальчишка-посыльный и принес записку. Старший приказчик хотел положить ее на рабочий стол рав Иегуды, но мальчишка сказал, что записка для молодого хозяина.
– Там тебе письмо, – отец показал подбородком на стол.
– Письмо? – удивился Севела.
Рафаил писал на домашний адрес. А больше ни от кого Севела писем не ждал.
Он взял листок. Писано было на лацийском, небрежно, с брызгами.
Здравствуй, молодой Малук. Мы ведь хотели встретиться? Поужинаем вместе. На улице Ташлих, один квартал от колодца, есть таверна. Она без вывески, это место домашнее, для одних только завсегдатаев. Узнаешь по красной двери. Малому у входа скажи, что идешь по моему приглашению.
Нируц.
– Это прислал Нируц, – сказал Севела. – Он приглашает покутить.
– Иди, – сказал отец. – Мы сегодня рано управимся. Ты ведь сумел обойти таможенные препоны в Фаселисе?
– Я написал господину Кседоменту. Для него не составит труда вывозить лес из Олимпуса. Я подсчитал, во что нам это встанет – сорок ассов с повозки. Пошлина обошлась бы в тридцать раз дороже.
– Иди и пируй с молодым Нируцем, – велел отец. – Нируцы необычные люди, но никто не сказал, что они неумные люди. Цебаот Нируц, при всех его странностях, человек дельный. Он богат, яники, очень богат. Словоблуды и проходимцы редко становятся богаты.
Рав Иегуда опустился в кресло, потрогал указательным пальцем бровь и сказал:
– Коли молодой Нируц пошел в отца, то это хорошее знакомство. Тебе пора обзаводиться крепкими дружескими связями. Ни «Минха», ни «Маарив» не подскажут тебе, куда качнется на следующей неделе курс афинской драхмы. И «Дварим» не присоветует, как совершить надежный фрахт из Тира в Сиракузы. Но это сделают твои добрые друзья и надежные партнеры… Не таращи глаза, яники, будь так добр! В моих словах нет кощунства – один лишь здравый смысл! Когда бы я в своей вседневной жизни не разделял высокое и насущное – семья ела бы один ячменный хлеб. Коли разумный человек не сумеет найти компромисса с Книгой, ему не на что будет отпраздновать Рош-Хашана. Теперь за работу, яники, а вечером иди пировать с молодым Нируцем. Я держу тебя в конторе до ночи, а между тем сказано: «Благословен ты за пищу и средства к существованию, виноградную лозу и плод виноградной лозы».
На закате Севела нашел таверну на улице Ташлих. Низкая, крашенная охрой дверь видна издали. Это домашняя кухня, где готовили на вынос. В скромном месте Нируц пожелал устроить пирушку.
– Меня пригласил адон Нируц, – сказал Севела привратнику.
Толстяк в грубошерстном хитоне, кряхтя, поднялся. Домашняя кухня, видать, была хитрая, а жирный отваживал чужих. Он ловко крутанул в волосатых пальцах короткую дубинку, но, услышав про Нируца, опустился на скамью.
Севела, пригнув голову, вошел, спустился по узкой кирпичной лесенке в помещение с прокопченными потолочными балками и стал выглядывать Нируца в душной полутьме.
Приличное место, видно с порога. Столы выскоблены, на полу настелено незатоптанное сено, на стенах висят связки трав и лука. По залу сновали два подростка, носили к столам горшки и тарелки. В похожие места Севела ходил в Яффе. Романцы эти заведения называют vinariae, в них можно досыта поесть за гроши, за два асса. В таких местах подают еду простую и сытную: печеные орехи, ячменную кашу, вареную баранью голову. И кипяченое вино – критское, родосское, мед. Но то в Яффе, а в Эфраиме Севела покуда еще не встречал таких vinariae и не раз о том жалел.
– Эй, Малук!
Севела обернулся на голос. Слева от входа сидел Нируц.
– Рад видеть тебя, – сказал он, привстав.
– И я рад тебя видеть, – ответил Севела.
– Всегда сажусь за этот стол, – сказал Нируц и хлопнул ладонью по столешнице, отскобленной до желтизны. – Здесь сквозняк. Меньше чаду.
Севела сел и оглядел небольшой зал. Посередине, за большим, на шестерых, столом трое кохенов из судейских горячо спорили, сблизив лоснящиеся лица. Они ели маленькие пирожки и жареные бобы.
В противоположном углу ужинали трое господ офицеров. Эти были в увольнении, не в патруле. Легионарий без панциря и скутума мог быть только в увольнении. Господа сидели прямо, ели аккуратно и неторопливо. Романцы, офицерская косточка. Нарочитой медлительностью, сдержанностью за сытным столом они воздавали себе за недели тяжелой службы. После месяца в лагере хочется чавкать, жадно откусывать и жрать наперченное, сочное, протекающее жирком ароматное мясо, большими глотками пить сладкое родосское, набивать брюхо, заскорузлое от солонины и сухарей. Но, помятуя, что ты гражданин, надо держать спину прямо и есть неторопливо. Это называется «достоинство». Это бремя, гордость и обязанность гражданина Рима – соблюдать достоинство. Господа офицеры ели медленно, отыгрывались за многомесячное пребывание в прокаленных солнцем лагерях с выцветшими палатками и смердящими нужниками. И пили господа офицеры одну только воду из зеленого стеклянного графина. Легионарии походили друг на друга, как братья – черные от загара, сухие, мускулистые, в одинаково вытертых на плечах шерстяных рубахах, с фиолетовыми пропотевшими платками на шеях. Кожаные balteus с короткими, тяжелыми pugio в деревянных ножнах спутанной грудой лежали на столе, рядом с зеленым графином и оловянными тарелками с жареной бараниной.
– Что за место? – спросил Севела. – Почему нет вывески? Толстяк у входа сказал, что это домашняя кухня.
– Таверна Хуна-Финикийца, славное местечко, – ответил Нируц. – Он, деляга, держит ее как домашнюю кухню. Конечно, он не должен подавать здесь вино. Но подает. Я не раз видел, как стража томно закрывает глаза на дела Хуна-Финикийца. К тому же сюда ходят офицеры, поэтому никогда не случается драк.
– А вино? – небрежно спросил Севела.
Он умел отличить критское от родосского, мог даже сказать, какого урожая вино. Одна из наук, что без труда дались ему в Яффе.
– Эшкольское. Молодое эшкольское, – гордо сказал Нируц, так, как будто это он был хозяином кухни. – Терпкое и свежее… Впрочем, если ты захочешь фалернского, Финикиец пошлет к соседу. Эй, Финикиец! Мой друг пришел, можно подавать.
Дверь на кухню приоткрылась, выглянул остролицый человек. Он вопросительно посмотрел в сторону Нируца, запястьем отвел со лба слипшуюся прядь. Лоб влажно блестел, сальные курчавые волосы схвачены грязным платком. Из приоткрытой двери слышался стук ножа о разделочную доску, трещал жир на сковороде. Из-за головы остролицего всплеснул желтым огонь жаровни. В ноздри ударил запах супа со специями.
– Корми нас, Финикиец! – крикнул Нируц.
Остролицый кивнул и пропал на кухне – нырком, так же шустро, как выглянул.
– Что здесь подают?
– Я велел готовить седло барашка, адон Севела, – сказал Нируц. – Тебе понравится. Финикиец держит таверну в расчете на легионариев. Но такой кухни в Эфраиме больше нет. И вот что – приглашал я, и плачу я.
– Это значит, что я приглашу в следующий раз, – ответил Севела. – Офицерская таверна мне по средствам, адон Нируц.
Остролицый в два приема принес дымящееся блюдо с бараниной и глубокие миски с перченым супом, две скворчащие глиняные сковороды с луком и маслинами и большой кувшин с охлажденным вином.
Вскоре молодые люди съели баранину, сладкий пирог и выпили по полному стакану молодого эшкольского. Легионарии надели перевязи, расплатились и, сыто отрыгивая, ушли. После скрупулезных подсчетов расплатились и ушли судейские. Нируц вновь наполнил стаканы, а Севела несколько запоздало произнес:
– Благословен ты, Господь, за землю и пищу, и плод виноградной лозы, и за урожай полей, и за землю прекрасную, добрую, обширную…
– И за этот суп из баранины, и за этот пирог с фигами, – сказал Нируц, придвигая к Севеле стакан.
Севела укоризненно посмотрел на повесу. Нируц смущенно добавил:
– Да, да, конечно. Извини, Малук. Я, знаешь ли, чересчур свободно воспитан.
– Отец предупредил меня о том, как ты воспитан, – сказал Севела, подмигнул и комически вздернул брови.
– О, эта репутация нашей семьи! – понимающе сказал Нируц. – Ну разумеется. Дедушка сделал слишком хорошую карьеру в легионе. А папа чересчур образован. Цебаот Нируц не соблюдает субботу. Цебаот Нируц любит Рим и все римское, он покупает списки Овидия и Марциала. Он послал сына в Рим и заплатил немыслимые деньги за его образование. И теперь весь добродетельный, богобоязненный Эфраим косо посматривает на семью Нируц. Ну разумеется.
– Ты учился в Риме? – ревниво спросил Севела. – Ты не шутишь? Ты жил в Риме?
– Я посещал экономический лекторий Суллы Счастливого, молодой человек! – величественно сказал Нируц и, перегнувшись через стол, хлопнул Севелу по плечу. – Но ты совсем не пьешь.
Они подняли стаканы, кивнули друг другу и выпили ароматного эшкольского.
И сразу же сгладилась минутная неловкость, возникшая от ненужного шутовства Нируца. И далее молодые люди болтали о том о сем, и Севела, кстати сказать, пару раз забыл произнести «благословен ты, Господь наш, владыка вселенной, сотворивший плод виноградной лозы», и ничего страшного от этого не случилось. Севела рассказал Нируцу об отцовском армейском подряде. (Тысячу раз отец говорил Севеле, чтобы тот не болтал; это должно стать твоей абсолютной привычкой, яники, говорил отец, не говори, пока тебя не спросили, а когда спросили – тоже ничего не говори, расскажи подходящую к случаю историю и только через час-другой, уже поразмыслив, ответь; но Нируцу можно было рассказывать, и даже сболтнуть можно было этому славному, доброжелательному молодому человеку, от него нечего ждать дурного.) Севела рассказывал о студенческих приключениях в Яффе, о Рафаиле и его увлечении драматургией. Нируц не оставался в долгу, его истории о жизни римских студиозусов из Schola Economica были поинтереснее и повольнее, чем истории Севелы! Нируц небрежно говорил такое, что Севела диву давался и завистливо ловил каждое слово – да! это жизнь в метрополии!
Когда в таверну зашел вечерний патруль, Нируц и глазом не повел. Хун-Финикиец выскользнул из кухни, что-то шепнул на ухо старшему патруля, кивнув на молодых людей. Стражники приняли от Финикийца по ломтю хлеба с козьим сыром, старший сунул в наплечную торбу баклагу.
– …Но что очаровало меня там более всего – терпимость. Терпимость, мой Севела! – Нируц с громким стуком поставил стакан. – Это непостижимый город. Этот город рассылает легионы во все концы Ойкумены, но принимает любого. Ко всему он терпим – к чуждым верованиям, к чуднейшим канонам, к рекам переселенцев отовсюду – Галлия, Иберия, Понт, Армения. Он приглядывается, проверяет, требует пошлину и мзду, дерет три шкуры и привлекает к общественным работам. Но он берет под крыло! И требует единственного – лояльности. Удивительный город!
– Хотел бы я повидать Рим, – мечтательно сказал Севела.
– Состоятельному молодому джбрим не так трудно повидать великий город. Из Тира и Яффы что ни день отплывают суда. Но вот скажи мне: а чего бы ты хотел еще?
Севела удивленно поднял брови.
– О чем ты? Мне бы повидать Рим. Да разве ж получится такое? Дела нашего дома меня не отпустят.
– Мне любопытно, молодой Малук, – Нируц прислонился спиной к стене, взял из тарелки маленький кусочек козьего сыра, положил его в рот, прожевал и отхлебнул эшкольского. – Я встретил тебя на свадьбе этого чурбана. Не хотел я туда идти, к этим дремучим периша. Но отец сказал, что не пойти будет невежливо. Отец старается не раздражать соседей без нужды. Я пошел на эту свадьбу и узнал младшего брата парня из нашей иешивы. Я ходил в класс «далет», а Рафаил в класс «шин». Младший брат оказался таким же славным парнем, как и старший. Умным парнем – сразу видно, что умным. У тебя же диплома, верно? А Рафаил – хирург. Рав Иегуда не экономит на детях. Ты умный и образованный парень. Скажи: чего бы ты хотел получить от жизни в нашей благонравной, козьей, послушной Провинции?
– Как ты странно спрашиваешь… – Севела потер ладонью лоб. – Хорошо. Ты пригласил меня со всем уважением. Я отвечу.
Он вытянул ноги под столом, сделал глоток из тяжелого стакана. В животе приятно пекло, и чадный воздух домашней кухни уже был Севеле приятен. Хун-Финикиец, меняя блюда, уже подмигивал ему, как старому знакомому. А Нируц, наверное, – хорошее знакомство. Отец разбирается в людях.
«Чего бы я хотел? После скудных ученических лет. После того, как заслужена, наконец, вожделенная диплома. Ну, например, я хотел бы, чтобы мне не надо было сидеть над бухгалтерскими книгами. То есть я не прочь некоторое время посидеть над ними. Но, будь все проклято, я хочу плыть к Фаселису! К его известняковому амфитеатру, к термам. К гавани с галечной прибрежной полосой, к горам Анатолии, сине-зеленым от пышных сосен. Да, да! Мне мало одних коносаментов. Я хочу сам сопроводить оливы в Херсонес. Я хочу видеть Херсонес. Хочу видеть ветренный Брундизий! Хочу в большой мир. Бухгалтерские книги не пустят меня в большой мир. Они меня прикуют к головной конторе. Эфраим это глухая, тоскливая окраина… И Провинция тоже глухая окраина. И не хочу, чтобы придирчивый взгляд кохена лип ко мне. Чтобы назойливо спрашивал меня, соотнес ли я с Книгой каждый прожитый день. И вот еще что. Я хочу знать, что будет завтра. О, будь все проклято, не хочу быть маленьким и несведущим! Почему я так взволнован? Какой же странный человек этот Нируц. Разве я много выпил? Да нет же! Просто этот очаровывающий человек умеет разбередить душу. Совсем не хочу управлять людьми… Но и не хочу, чтобы кохены говорили мне – что делать, а чего не делать. Я изучал историю Магриба, читал Плутарха. Я знаю, что мир не такой, каким его представляют кохены».
– Я хочу быть свободным и знающим, – Севела поставил стакан на стол. – Я не хочу быть… маленьким.
– Провинция не позволит тебе быть свободным, Малук, – грустно сказал Нируц. – Это не то место и не то время, чтобы быть свободным… Эй, Финикиец! Мы допили твой крохотный кувшин! Неси еще!
Тут по лестнице прогрохотали частые, тяжелые шаги, и в зал…
* * *
– Как дела? – спросил экселенц. – Привет.
– Здрасьте, – сказал Дорохов. – Все в порядке. Сейчас фарезы принесу.
– Да бог с ними, с фарезами, – безразлично сказал Риснер и присел на край стола. – Давай кофе выпьем.
Дорохов, нисколько не удивившись, достал из шкафа чашки. Риснер, наметавшись по лаборатории, часто пил с ним кофе. Кофе угощали всех, кто был поблизости. Если это случалось в кабинете Риснера, то пили зерновой, «Арабику».
– Вам Гольдфарб звонил, – сказал Дорохов, включив электрический чайник. – Минут двадцать назад. Завтра перезвонит, сейчас у них ночь.
– Да, я помню, – Риснер кивнул. – Алик, некоторым образом, у нас под ногами. На противоположной стороне планеты.
Он сел в кресло и положил ногу на ногу. Когда Риснер сидел в кресле нога на ногу, скрестив тонкие пальцы на колене, хотелось его ваять. «Современный советский ученый в перерыве между решением научных задач».
– Я у тебя на столе видел справочник.
– Какой именно? – рассеянно спросил Дорохов. – У меня там много справочников.
Он положил в зеленые толстостенные чашки по три ложки кофе.
– Или это не твой? Про металлы. А?
– Мой, – сказал Дорохов. – Сахар?
– Сахар – сладкий яд. А зачем тебе справочник по металлам?
– Да так. Надо было посмотреть кое-что.
Дорохов поставил перед Риснером чашку и присел на табуретку.
– Ты чем это занимаешься, дружок? – Риснер подул на кофе. – Я, конечно, не Эркюль Пуаро, но я ведь и не идиот.
– Да так, – пробормотал Дорохов. – Развлекаемся с приятелем. Джентльмен в поисках десятки.
– Слушай, Мишка, кончай! Все мы жили на мэнээсовскую ставку, и никто с голоду не помер. И печку твою я видел. Это уже не шутки, Мишка, уж лучше джинсами спекулируй. Хочешь, я попрошу Алика, он тебе джинсы привезет?
Дорохов про себя чертыхнулся. Печку он обхаживал третий месяц. Сначала просил Серафима ее продать – ну так это было смешно. Серафим придумал печь еще на пятом курсе, потом три года доводил ее до ума, по ней и защитился. Печь была великолепная – легкая «таблеточка» из асбеста диаметром сантиметров сорок. Свободно давала полторы тысячи градусов. На прошлой неделе Дорохов все-таки упросил Серафима дать печь на месяц. Димон торопился наплавить все, что у них уже получилось, ему нужна была «быстрая» печь. Серафим привез печь в институт, и Дорохов на какие-то полчаса оставил ее на столе. Экселенц же, как назло, вошел и увидел. А соображает экселенц молниеносно, Эркюль Пуаро так не соображал. Экселенц, конечно же, все выстроил. Справочник по металлам, забытый на столе. Стопку плат, которая с дребезгом вывалилась из дороховского портфеля на лестнице, когда они с экселенцем спускались в вестибюль и Дорохов уронил портфель. Плавильную печь сверхоригинальной конструкции, которую Дорохов поставил на подоконник, как на постамент.
– Если тебя поджимает… Ну, я все понимаю, – сказал Риснер. – Попробую выбить тебе лаборантскую ставку. Хорошо, пусть не ставку. Но полставки я тебе выбью. Ты не стесняйся, скажи. Решим этот вопрос.
– Ставка. Полставки, – пробормотал Дорохов. – «Чтобы того купить, и сего купить, а на копеечки ж только воду пить».
– Не понял…
– «А сырку к чайку или ливерной? Тут – двугривенный, там – двугривенный. А где ж их взять?»
– Не понял, – сердито повторил Риснер. – При чем тут ливерная?
– Не в ставке дело, Алексан Яклич, – сказал Дорохов. – Ставка погоды не сделает. Нищета это одна из форм несвободы.
– Ладно, – сказал Риснер и достал из нагрудного кармана пачку «Мальборо». – Как хочешь. Только не ввяжись в аферу.
Дорохов пожал плечами и кивнул.
– Возьми хорошую сигарету, – Риснер протянул Дорохову пачку. – Какую же ты дрянь куришь.
– У нас заграничных друзей нет, – пробурчал Дорохов, закуривая. – Что есть, то и курим.
– Распустил я тебя, – печально сказал Риснер. – Зачем звонил Алик?
– Не знаю, – Дорохов пустил в потолок струю ароматного дыма. – Говорит, что у вас есть общие планы.
– Алик немножко торопит события. Ты понимаешь вообще, к чему он клонит?
– Понимаю, конечно, – сказал Дорохов. – Это, так сказать, на поверхности.
– Сейчас очень суетливое время, – сказал Риснер. – Скоро пионеры понесут в металлолом железный занавес. Сейчас очень важно все правильно рассчитать. А у тебя глаза загорелись? Хотел бы в Нью-Йорк?
– Не знаю, – Дорохов пожал плечами. – Честно говорю: не знаю.
– Верю, – ответил Риснер, глубоко затянулся, выпустил из полуоткрытого рта клуб дыма и втянул в себя, как проглотил. – Волнуют такие разговоры, правда?
Риснер насмешливо глядел на Дорохова, и сигарету держал самыми кончиками тонких пальцев.
Все понимает, подумал Дорохов. И слово нашел самое верное – «волнуют».
– Да, – согласился Дорохов. – Такие разговоры молодому советскому ученому вести непривычно. А вы сами хотите в Нью-Йорк?
– Нет, – экселенц отрицательно качнул красивой головой. – Туда я не хочу. Там Алик, нам двоим там будет тесно. Ты когда улетаешь?
– Послезавтра, – беспокойно сказал Дорохов.
Он все боялся, что Риснер в последний момент отменит «рождественские каникулы».
– А что там у тебя?
– В смысле?
– В Сибирске. Ты ведь в Сибирск летишь?
– Как «что»? Мама, папа. Я всегда Новый год встречаю с родителями.
– Да, я помню, Татьяна говорила. Там мороз, наверное?
– Да уж наверняка, – хмыкнул Дорохов. – Там зима так зима. Минус тридцать и сугробы.
– До чего вы все похожи! – сказал Риснер. – Ганькина тоже как начнет рассказывать про свой Бийск – будто песню поет. И такая, знаешь, светлая грусть в глазах. И чем больше вы про зимы и сугробы рассказываете, про просторы и тайгу – тем явственнее, знаешь ли, некая снисходительная нотка. Мол, разве ж в Москве зима? Разве ж в Москве лес?
– Зима в Москве – дерьмо, – подтвердил Дорохов. – Каша. Слякоть.
– Ага. Но жить вы предпочитаете в Москве. Вдали от любимых сугробов. Ты мне напоминаешь писателя-почвенника, который воспевает родные нивы, проживая на улице Горького. – Риснер затянулся. – А кроме Нового года тебя вообще домой не тянет?
– Нет, – твердо сказал Дорохов. – Не тянет. Я восемь лет в Москве живу.
И подумал, что в Сибирск он всякий раз улетает с удовольствием, но на третий-четвертый день ему всегда хочется домой, на Полянку.
– Ну лети, – вздохнул Риснер. – Лети, сокол. Отдохни там. И подумай на досуге. Тема твоя – не то чтобы новаторская. Но прикладная, понимаешь? Она сейчас востребована и еще долго будет востребована. Ты всегда будешь при деле. Здесь ли, в Нью-Йорке ли.
– Это что, официальное предложение? – шутливо спросил Дорохов.
– Это официальное предложение подумать, – сказал Риснер серьезно. – Ты подумай как следует: как жить дальше собираешься. И с металлами осторожнее. Это не шутки. Это лет пять общего режима.
– Строгого, – сказал Дорохов. – Я узнавал.
* * *
…было после? После опять был рабби. И повестка.
Через пять дней после ужина у Хуна-Финикийца Севела шел по площади Праздника Опресноков и встретил рабби Рехабеама. Севела спешил в санитарный департамент, он пересекал площадь и еще издали заприметил костлявого квартального. Нелепая, как пугало, фигура в коричневом хитоне и фиолетовом тюрбане двинулась навстречу. Тюрбан мотался взад-вперед, а грязные полы хитона с коричневой бахромой из разлохматившихся ниток вздергивались, обнажая худые голени и запыленные стопы с шишковатыми пальцами. От поспешного шага рабби кожаный хошен на животе сбился набок.
Севела замедлил шаг, остановился, сделал приличествующий поклон и вопросительно посмотрел на рабби.
– Здравствуй, Малук, – сказал плешивый периша. – Хорошо, что я тебя встретил.
– Мир вам, рабби Рехабеам, – сказал Севела. – Я вам нужен?
– Пройдемся немного, молодой Малук. Я хотел кое-что тебе сказать.
Они пошли рядом. От неопрятного старика несло застарелым потом. Севела задышал ртом. Плешивый снял тюрбан, вытер тряпицей бледную лысину в веснушках, вновь насадил тюрбан на голову.
– Так чем могу быть полезен, рабби? – сказал Севела. – Я сейчас спешу в санитарный департамент. Мне надо успеть за сертификатом на пальмовое масло.
– Ты успеешь получить сертификат, молодой Малук, – по-стариковски причавкивая, сказал плешивый. – Ваш обоз уйдет вовремя. Тебя хочет видеть инспектор.
– Не понимаю, рабби. Кто хочет видеть меня?
– Ты все понимаешь, молодой Малук. Городской инспектор велел передать тебе повестку. Вот, возьми. Что ты замер? Прими повестку и иди по своим делам.
Рехабеам сунул в руку Севеле свернутый в трубку лист. Севела скомкал повестку в ладони и глухо спросил:
– Зачем я нужен инспектору? Почему повестка? Объявили милуим? Я не уклоняюсь…
– Это не милуим, Малук! Не надо опасаться, ты законопослушный человек, твоего отца знает весь Эфраим.
Отцу Севела ничего не сказал. С утра он пошел в контору и просидел там до полудня. Отец два раза подходил к нему, стоял за спиной.
– Чем-то озабочен, яники? – спросил отец.
– Папа, я сегодня уйду пораньше, – сказал Севела. – Мне надо встретиться с Нируцем.
– Разумеется, яники. Конечно, иди.
Севела сложил в шкаф письменные принадлежности и таможенный устав свободного города Олимпуса. Он вышел на улицу и зашагал к кварталу менял. То и дело переходя на бег, он пробрался между рядами писарских лотков, перешел по шаткому мостку через канаву и, уже запыхавшись, стал подниматься по крутому переулку, изгибавшемуся влево. В конце переулка высился просторный двухэтажный дом из ноздреватого бежевого ракушечника.
Тогда, после ужина у Финикийца, Севела с Нируцем долго бродили по улицам, разгоряченные вином. Севела жадно расспрашивал Нируца о Риме. Нируц рассказывал, но и сам тоже расспрашивал Севелу – хорошо ли тот сидит в седле, умеет ли читать географические карты, говорит ли на иеваним? Ты как будто хочешь нанять меня, смеялся Севела. В голове шумело, в животе пекло, ночь была теплой, а на душе было хорошо от того, что теперь есть новый друг, дельный человек. В седле сижу плохо, поведал Севела, но когда-то хорошо метал дротики, перед институцией меня один раз угнали в милуим, я там кое-чему научился. А к чему тебе мой иеваним? Главный ритор моего курса был иеваним, и он меня выделял. Так что я хорошо говорю на языке греков (он хотел щегольнуть перед новым другом, назвал иеваним так, как их зовут романцы). А вот и мой дом, сказал Нируц и показал рукой на большое светлое строение. Зайдем? В погребе есть фалернское. Для одного дня довольно, засмеялся Севела. Тогда запомни, где мой дом, сказал Нируц и хлопнул Севелу по плечу. До встречи, мой новый друг, адон Севела. До встречи, мой друг, адон Тум.
Севела подошел к воротам и трижды стукнул медным кольцом. Открыли не сразу, Севела стоял перед воротами с пересохшим ртом, чувствуя, как между лопаток стекают капли пота. Послышался хруст шагов по гравию, и створка приоткрылась.
– Севела! – удивленно сказал Нируц и широко распахнул створку.
– Как хорошо, что я тебя застал! – обрадовался Севела и переступил с ноги на ногу. – Мы можем поговорить?
– Мы можем поговорить о чем угодно, – сказал Нируц. – И когда угодно. Рад тебя видеть, молодой Малук. Пойдем на галерею, я принесу холодной воды. Ты что – бежал? Что-то случилось? Выглядишь так, будто за тобой гонятся.
– Мне нужно с тобой посоветоваться, – сказал Севела в спину Нируцу.
Они шли к дому по дорожке, выложенной галечником.
– Сейчас ты выпьешь воды, переведешь дух, и мы обо всем посоветуемся, – через плечо сказал Нируц. – Выглядишь ты взволнованно. Дома все хорошо?
– Да, все хорошо…
Они поднялись на широкую галерею, затененную густо разросшейся лозой. Из кухни на первом этаже вышел прислужник, задрал голову. Нируц пощелкал пальцами и сделал движение кистью. Человек кивнул и вскоре поднялся на галерею с большой миской винограда, запотевшим кувшином и стаканами.
– Садись, – сказал Нируц. – Я налью тебе воды.
Они сели на подушки по разные стороны маленького помоста, устланного покрывалом. Прислужник поставил кувшин и миску.
– Так что случилось, Малук? – спросил Нируц.
Севела жадно отпил из стакана, пальцем собрал пот над верхней губой и сказал:
– Я ворвался, как безумный. Ты, верно, занят, Нируц. Мне нужен совет.
– Я ничем не занят, бездельничаю вторую неделю. Я в отпуске, Малук. Рассказывай, Малук, рассказывай.
– Отцу я не стал ничего говорить. – начал Севела и еще раз отпил из стакана. – Но я не знаю, как мне себя там вести. А вот ты, мне кажется, знаешь, как надо вести себя с ними. Отца я не хотел волновать. А больше мне посоветоваться не с кем. Кроме тебя. Прости, что я ворвался.
– Мальчик, прошу тебя, не горячись так! – сказал Нируц. – Где тебе предстоит «вести себя»? И с кем это «с ними»?
– Я получил повестку от городского инспектора! – понизив голос, сказал Севела.
– Вот как? И от какого инспектора? – поинтересовался Нируц. – От санитарного инспектора? От инспектора по иешивам и Schola?
– Все куда серьезнее, адон Тум! Я получил повестку от инспектора Внутренней службы!
– О, это персона! – уважительно сказал Нируц и отщипнул от грозди крупную ягоду. – То-то, я смотрю, ты очумел и таращишь глаза…
– Послушай, я не расположен шутить вовсе! Может быть, для тебя визит в инспекцию Службы – дело привычное. Может быть, ты каждую неделю заходишь туда поиграть в кости с инспекторами и побеседовать о результатах последних ауспиций. По всему видно, что у тебя широкий круг знакомств. А я обычный коммерциант, я не нарушал романских законов, и не могу представить, зачем им понадобился!
– Пожалуйста, успокойся, – попросил Нируц, оттянул вырез туники и подул на грудь. – Ты коммерциант, ты не нарушал законов. И тебе нечего бояться.
– Тогда зачем меня вызывают, Нируц? Почему меня?
– Думаю, что инспектор сам скажет тебе. Если только ты не струсишь и не сбежишь с отцовским обозом в Газу. А коли сбежишь, о тебе могут просто забыть. У них, верно, полно важных дел, они и отпишутся: вызываемый, мол, нынче в длительной отлучке или болен. А то и пришлют повторную повестку. Но, думаю, тебе стоит пойти к романскому инспектору.
– Легко тебе говорить, – Севела насупился. – Тебя-то инспектор не вызывал.
– Ох, кто только меня ни вызывал, – беспечно протянул Нируц и взял еще ягоду. – И куда только меня ни вызывали. Мальчик, поверь, по всем повесткам нужно приходить готовно и бестрепетно. А что до этого ведомства, так молва его демонизирует. Что взять с людей? Им, чуть что, мерещатся ужасы и облыжные обвинения, пытки и соглядатаи.
Нируц сцепил пальцы на затылке и потянулся.
– Внутренняя служба это не санитарный департамент, Нируц, – сказал Севела.
– А ты думаешь, что, стоит войти туда, как тебе вырвут ногти? Покажут двадцать доносов про то, как ты замыслил украсть общественную уборную, что на улице Фавста Отважного?
Севела поджал губы.
– Все не так, Севела, мальчик, – сказал Нируц. – Я бывал в присутствиях Внутренней службы. В санитарном департаменте куда веселее. И вызывают-то тебя, дурачка… чтобы зарегистрировать твою диплому. А? Почему нет? Или для того, чтобы получить совет образованного коммерцианта относительно… намерения городского казначейства закупить в Антиохии двадцать возов зерна для поддержки вольноотпущенников. И нечего тебе волноваться.
Севела стал успокаиваться. Собственно, он начал успокаиваться с того момента, как Нируц открыл ему дверь. Один вид этого человека, теперь вальяжно сидящего напротив, действовал на Севелу успокаивающе.
«Он прав, мало ли причин вызвать меня? Таких, как я, с романской дипломой, в Эфраиме немного, да. А я прибежал, ворвался – стыдно».
– Действительно, все может быть очень просто. Ты прав, – смущенно сказал Севела и тоже взял ягоду. – Извини, я вел себя глупо.
– Пустое… Когда тебе назначено?
– В повестке сказано «до заката».
– Так иди. Не надо бояться городского инспектора. Он должностное лицо, у него к тебе дело. Прямо сейчас и ступай. А после расскажешь мне. Я не думаю, что тебя задержат там больше чем на час. Не та ты персона, адон Малук, чтобы городской инспектор беседовал с тобой дольше. Встретимся вечером у Финикийца. Хорошо?
– Хорошо, – Севела кивнул. – Вечером. Спасибо, Нируц.
Подул свежий ветерок…
* * *
Двадцать седьмого, в последнюю ночь перед отлетом, Дорохов с Димоном просидели до трех часов. Печь набирала нужную температуру, потом выбивало пробки. Димон, тихо матерясь, шел в темноте в прихожую, опрокидывал стулья, сдвигал в сторону зеркало на стене, придавливал толстую белую кнопку на щитке. Они опять включали печь. В три часа Дорохов вспомнил, что еще не собрался. Он сказал: «Все, хватит. Хорош, Димон. Я уже ни черта не соображаю».
Он попрощался, оделся и вышел на Стромынку. Шел легкий снежок, вокруг не было ни души. Дорохов остановил грязный «каблук» и за пятерку доехал до Полянки. Ложиться он уже не стал. Собрал подарки, проверил билеты, навел порядок (не любил возвращаться в неприбранную комнату). Потом заварил крепкий чай, вернулся в комнату с кружкой, сел в кресло и стал читать «Ожог». Книгу дал Вова Гаривас. Ксерокопия была плохого качества, делали ее на очень старом аппарате. (Дорохову вдруг вспомнилось слово «линотип».) Копировали на один бесконечный рулон, а потом резали на листы. Поэтому толстая кипа выглядела неаккуратной, разлохмаченной. Но читалась – взахлеб. Абсолютно несоветская книга. Немудрено, что усатого плейбоя лишили советского гражданства. Перебьется без гражданства, раз пишет такие книги.
Вечер накануне удался на славу. Ребята собрались-таки у Дорохова.
Сеня сказал: «Конечно, мужики. Вам, наверное, у меня надоело. Давайте соберемся у Мишки. Только договор – разгрузим хозяина. Я принесу бухло. Никон с Тёмой – еду. А с Мишки одна только территория».
Никон шумно вдвинулся в прихожую, достал из спортивной сумки банку с разделанной селедкой. Сначала хотели сделать селедку под шубой, а потом махнули рукой и подали просто так, с лучком и маслом. Потом, когда уже все собрались, сварили картошку, посыпали укропом.
Бравик привел с собой Галку Пасечникову. Галка, темноволосая красавица, питала странную слабость к Бравику. Нет-нет, это был не роман. Романов в Галкиной жизни было достаточно, для романа Бравик Галке не годился. Бравик нравился ей «по-человечески». Она однажды сказала Тёме и Никону: «Это единственный мужик среди вас, „ковбоев Мальборо“. А вы все – трепачи и хулиганье».
Галкин отец был кагэбэшником, служил в разведке. Галка все детство прожила в Перу и Аргентине, у нее была огромная коллекция пластинок с танго и самбой. Сначала, конечно, никто из них танго танцевать не умел, но Галка терпеливо учила, и кое-что у некоторых стало получаться.
Пасечникова принесла пластинки, Дорохов достал с антресолей старый стереопроигрыватель «Аккорд-стерео». Магнитофон «Сатурн-202 стерео» под черной пластмассовой крышкой на защелках стоял у стены. Но Дорохову не хотелось ставить бобины, перематывать, находить любимые песни, а утром разбирать завалы катушек. Обойдемся сегодня пластинками, решил он. Тем более, что особенной музыки гостям и не требовалось. Не было сегодня нужды ни в «Крим», ни в «Джефферсон эйрплэйн». Пластинками обойдемся – «АББА» есть, «Тич-Ин» есть, подумал Дорохов, под Галкины самбы-румбы попляшем. Он подсоединил к «Аккорду» колонки от «Сатурна».
Никон привел Пашку Гулидова по прозвищу Фельдмаршал. Тот был младше Никона на три года. Они подружились в стройотряде, на Курилах. Это только называлось «стройотряд», на самом деле они там вкалывали на рыбзаводе, пластовали кету по шестнадцать часов в сутки. Никон рассказывал про «красную икру ведрами». Ложкой, рассказывал, черпали из ведра, мазали на хлеб и водку заедали… С тех пор громила видеть не мог красную икру и красную рыбу. Пашка Фельдмаршал окончил музыкальную школу по классу виолончели. Никон звал его Инспектором Гулом и Паганини. Пришел Сеня, принес пять бутылок «Варцихе». Через десять минут в дверь позвонили Гена Сергеев с Борей Полетаевым. Они принесли газировку «Байкал» и были рады, что им выпала недорогая позиция. Проездом из Сокольников заглянула Нинка Зильберман. Позвонила из метро и томно сказала: «Мишунь, я на Пиросмани собралась, в музей народов Востока. Не составишь компанию?» Дорохов ответил Нинке, что соскучился по ней, что сейчас подтянутся мужики, и Галка здесь, и чтобы Нинка не ходила к народам Востока, поздно уже, закроются сейчас все музеи, а тотчас бежала к Дорохову. Нинка согласилась, и Дорохов поручил ей купить полкило масла. Последним пришел Тёма Белов. Перед тем как войти в квартиру, он пропустил вперед худощавую шатенку с серьезным лицом. Шатенка была красивая, изящная и немножко высокомерная.
– Кравцова Вера Сергеевна, – представил даму Тёма. – Доктор-стоматолог.
Девушка слегка поджала губы (Дорохов сообразил, что Тёма несколько перебирает в атаке на доктора-стоматолога) и поздоровалась.
– Я не Вера Сергеевна. Просто Вера. Без отчества. Или у вас положено по отчеству? Артем сказал, что у вас тут очень… светски.
– Вера, проходите, – Дорохов широко улыбнулся. – У нас можно как угодно. Хоть по позывным. Позвольте пальто.
И, оттеснив замешкавшегося Тёму, он ловко принял у девушки пальто с беличьим воротником.
Тёма недовольно поглядел на Дорохова и протянул полиэтиэленовый пакетик с малосольными огурцами.
– Деликатес, старик, – величественно сказал он. – Взял такси, заехал на Черемушкинский рынок. Держи.
– Такси. Черемушкинский рынок. – Дорохов развел руками и взял кулек. – К чему этот шик?
Вера уже прошла в комнату. Тёма ткнул Дорохова кулаком под ребро, бросил ему на руки куртку и тихо прошипел:
– Чего лезешь? Я разве не сумею принять у барышни пальто?
И суетливо юркнул вслед за Верой Сергеевной.
Дорохов ухмыльнулся, повесил на крючки Тёмину куртку и пальто с беличьим воротником.
«Что-то мне подсказывает, что Тёме ничего не обломится, – подумал он. – Отчего-то мне кажется, что тут наш живчик не отобедает».
В общем, это был, конечно, не «салон». Галка, Нинка Зильберман, докторица Вера Сергеевна. «Салон» – это когда только мужики. Но все равно получилось хорошо. Перед тем как накрыть на стол, пропустили по паре стопок «Варцихе», Дорохов поставил пластинку группы «Мэйвуд», песенку про Пассадену. Сразу стало празднично. Никон с Бравиком сели на диван. Тёма, галантно придерживая Веру за локоть, подводил ее к гостям, церемонно знакомил. Дорохов заметил, что Боря Полетаев смотрит на доктора-стоматолога. Изящная шатенка как будто почувствовала взгляд и подняла глаза. Полетаев смутился, погасил сигарету в пепельнице, встал со стула, неловко кивнул, сказал:
– Добрый вечер. Борис.
Вера Кравцова протянула ему руку. Боря окончательно растерялся, взял ее кисть двумя руками и замер.
– Старик, ты не заснул? – несколько беспокойно сказал Тёма. – Отпусти Веру, я как раз хотел показать ей фотографии. Вера, мы в Звенигород ездили осенью. Грибы, рыбалка. Фотографии получились роскошные. Мишка, где твой альбом?
– Извините, – пробормотал Боря и отдернул руки.
– Я потом посмотрю фотографии, – сказала Вера. – Там, наверное, на кухне надо помочь. Миша, фартук какой-нибудь у вас найдется?
Она ушла на кухню, к Пасечниковой и Нинке. Через пару минут Вера уже чистила картошку над мойкой. Чистила картошку – и никакого вам высокомерия. Фартука не нашлось, она завязала на талии рукава стройотрядовской куртки. Никон оставил Бравика и подносил Вере одну рюмку за другой. Она брала рюмку, осторожно нюхала коньяк и лихо выпивала. Через пару часов, когда компания развеселилась вовсю, Вера призналась Дорохову, что прежде коньяка не пила. Она раскраснелась, глаза заблестели, отчего вся ее сдержанность улетучилась, а красота и изящество стали еще очевиднее. И когда Галка поставила одну из своих пластинок, оказалось, что Вера умеет танцевать танго. В партнеры она выбрала не шустрого Тёму, а стеснительного Полетаева. Широкоплечий мешковатый Боря бледнел и смущался, но тоненькая Вера творила с ним чудеса – Полетаев почти попадал в такт. Когда сделали перерыв в танцах, Фельдмаршал вдруг заявил, что сейчас сыграет пьесу для виолончели, замечательная пьеса, называется «Звездочет». А еще он может сыграть на виолончели «Лестницу в небо». Но Пашку погнали на кухню следить за варящейся картошкой. А Никон с Тёмой написали Галкиной помадой на Пашкином инструменте: «Гварнери дель Джезу Инкорпорейтед. Please! No Stairway To Heaven».
Вечер удался на славу. Докторица Вера нашла в холодильнике две банки скумбрии в масле и молниеносно приготовила паштет с луком и майонезом. Она вообще оказалась хозяйственной, эта докторица, за три минуты сделала паштет, живенько, буквально из ничего, настрогала салат. Несколько картофелин разрезала пополам, запекла в духовке и подала с расплавленным пошехонским сыром – объедение. И выпивалось в тот вечер замечательно, и даже под гитару попели, как в турпоходе или в Звенигороде. Фельдмаршал играл, пели любимую песню Дорохова: «Проходит жизнь, проходит жизнь, как ветерок по полю ржи». Еще пели: «Все бы ладно, и все бы ничего, да с замком никак не сладить». И это: «Трамваи подорожали – вот и едем в подводе. А те, кто нас провожали, – их осталось по двое…». Тёмка, Гена и Дорохов любили петь на стихи одного малоизвестного поэта, Алексея Путалова. Его не печатали, но в каэспэшных кругах стихи Путалова знали. Тёма с Фельдмаршалом спели:
Когда мы все совсем уедем, Отключим счетчик, телефон… Мы отведем кота соседям, Закурим, сядем, выйдем вон, Пройдем досмотры и отчалим К иным местам и временам, Напишем письма, отскучаем, Привыкнем к запахам и снам, Мы сможем, выдержим, сумеем — Усердно, постоянно, днесь… Мы лишь тогда уразумеем: Здесь все останется, как есть. Здесь будут вьюги, будут мчаться Такси, как призраки карет. Здесь станет осенью качаться Лес на Николиной Горе…Никон с Сеней и Бравиком ушли на кухню и говорили там о докторских делах. У Бравика и Никона смежная с Сеней специальность. Они «почечные хирурги», а Сеня – «почечный терапевт», нефролог. Бравик, Гена и Никон однокурсниками и теперь вместе работали в шестьдесят четвертой больнице. Дорохов слышал от них, что отделение это особенное, очень престижное, руководит им авторитетный человек, Самуил Наумович Шехберг. Дорохов как-то раз его видел, когда заезжал на работу к Никону. Кряжистый смуглый дядька с мудрыми карими глазами. Седоватый, колоритный, как Чингачгук. Дорохов тогда решил, что обязательно спишет с Шехберга кого-нибудь из джбрим. А может даже и самого папашу.
С соседями по коммуналке Дорохов ладил. Его гости не шумели, места общего пользования он убирал без напоминаний. И потом, в его комнату вел отдельный ход с черной лестницы, была у коммуналки такая архитектурная особенность. Когда к Дорохову приходили друзья, соседи этого почти не слышали.
Дорохов очень любил свою коммуналку. Жилплощадь у него была роскошная, чего там. Пять лет назад, когда куковал в общаге на Юго-Западной, в самых сладких снах ему не виделось, что будет жить на Полянке. В малонаселенной квартире, в просторной комнате с эркером и отдельным входом. Ясное дело, если б не отец, так не было бы этой роскоши.
Дорохов с Ленкой поженились на четвертом курсе. Если Ленкины родичи и мечтали об иногороднем зяте, то здорово это скрывали. Дорохов сразу им сказал, что они с Ленкой будут снимать. Ленкина мамаша, Софья Дмитриевна, сообщила: Михаил, вы входите в хорошую семью. Надо приноравливаться к ее порядку, в старину, знаете ли, такое называлось «примак». Вобла пересушенная, «приноравливаться» он к ней должен! Да он ни на миг не допускал, что будет жить у Ленкиных родичей! Что Софья Дмитриевна, крыса манерная, что свекр, отставной козы барабанщик, генерал-майор инженерных войск. Я, важно сказал тесть, испытываю большое беспокойство – сможете ли вы, Миша, обеспечить Елене тот уровень комфорта, который она имела благодаря нам с Софьей Дмитриевной?
Чего там, сумели они расположить к себе будущего зятя. «Снимать, только снимать!» – думал Дорохов, когда они с Ленкой вышли после чаепития. Ничего, однокомнатную где-нибудь в Чертаново или Бирюлево можно снять рублей за восемьдесят. Он, кстати, приглядел уже квартиру. Нормальная «хрущоба» на Балаклавке, на втором этаже. Темноватая, правда. Но зато до метро всего четыре остановки. Родители с первого курса подкидывали по сотне в месяц, стипендию он получал повышенную. Подработать можно, перекрутимся. И потом, Ленка – она же как танк. Если ей чего-то хотелось, остановить ее никто не мог. Ни родичи, ни законы природы, ни жилищный вопрос. А тогда ей захотелось Дорохова. Господи, как они трахались в общаге! Ленка только в комнату входила, как сразу все с себя стаскивала. Через часок Дорохов заваривал кипятильником цейлонский чай, они торопливо жевали пирожки с ливером, курили. Потом Ленка говорила: «О господи. Опять тебя хочу. Кошмар какой-то. Ну давай, давай, сигаретку гаси, гаси быстренько, иди сюда».
Серега Еремин, сосед, покорно высиживал в читалке по полдня, когда Ленка приезжала. Серега классный парень. Умница, чистоплотный до одури. Занимался «сэ-нэ» – боевой разновидностью дзюдо.
«У тебя гости сегодня? – деликатно спрашивал Еремин. – Ты не торопись никуда, у меня все равно сегодня тренировка. А потом я пойду в читалку».
И стали бы снимать, но отец все решил иначе. Он приехал на совещание в министерстве, остановился в «Национале».
Отец раз пять в год бывал в Москве. Дорохов приезжал к нему в «Националь» или в «Москву», они шли в ресторан. Или отец заказывал завтрак в номер. В студенчестве Дорохову нечасто удавалось пошиковать, жил, как все, покупал в деканате «единый», парадные джинсы «Супер Райфл» берег, на занятия ходил в польских. Родители присылали ровно столько, сколько было нужно для питания и «прожитья». В конце лета Дорохов на пару недель мог съездить в Гурзуф или в Прибалтику. Но на это он сам зарабатывал, в стройотрядах. Отец сказал ему еще на первом курсе: никаких подработок, никаких погрузок-разгрузок, в дворники не вздумай наняться или, там, в сторожа. Это все чушь, дурацкая романтика, этого не нужно. Сейчас твоя задача – учиться. (Тот редкий случай, когда папа выразился без занудства.) Ну, погорбатишься ты несколько ночей, сказал он, ну, на ресторан заработаешь или на магнитофон. Магнитофон у тебя, кстати, есть. Да, деньги какие-то будут. Но это же так. Прочного заработка это не даст. Не будешь высыпаться, успевать, появятся «хвосты». Конечно, я учился в другое время. Тогда, знаешь, пожрал два раза в день – и счастлив. У нас общага была на Литейном, восемь человек в комнате, выживали складчиной. Да, я представляю себе соблазны московского студента. Ты сейчас сосредоточься на главном – на учебе. Сносную жизнь мы с мамой тебе обеспечим.
Так вот, отец приехал, за ужином Дорохов сказал ему, что они с Ленкой женятся. Удивительно, но отец встретил новость спокойно, фактически одобрительно.
«Что ж, – сказал отец. – Ты не мальчишка уже. Скоро диплом. Если интересует мое мнение: я не возражаю. Думаю, и мама в принципе не будет против. Хотел бы, конечно, познакомиться с невесткой. Это можно, я надеюсь?»
На следующий вечер они ужинали втроем. Ленка отцу понравилась. Отец выпил рюмку коньяка (повод нешутошный, объявление о помолвке). Назавтра отец поехал к Ленкиным, в Реутов. И когда Дорохов увиделся с Софьей Дмитриевной спустя два дня, будущую тещу было не узнать. «Мы с Юрием Александровичем все обсудили», «Юрий Александрович так здраво смотрит на жизнь», «как считает Юрий Александрович». Короче, выяснилось, что у Ленкиных достраивается кооператив, а отец без лишних слов внес половину. В феврале шестнадцатиэтажный дом в Новогиреево сдали, и Дорохов с Ленкой въехали в пахнущее сырым цементом и обойным клеем двухкомнатное великолепие. А до февраля перекантовались. Месяц все-таки прожили у Ленкиных родичей. Софья Дмитриевна была совершеннейший ангел, а генерал-майор инженерных войск про уровень комфорта больше не заикался. На него произвела неизгладимое впечатление гранитно-мраморная интонация отца – «Кооператив?! А-а-тлично! У нас с супругой кое-что отложено. Я думаю, мы так поступим. От нашей семьи – пять тысяч рублей». Два месяца жили на даче Сениных родителей, в Перхушково. Это только слово одно, что дача – настоящий дом, с газом, с водопроводом.
А когда через год с Ленкой разводились, отец опять разобрался. Дорохов решительно сказал: «Пап, я хочу разводиться. Не сложилось». Отец вздохнул: «Ну что ж. Не очень это хорошо, конечно. Но я, знаешь, в студенческие браки не верю. А тебе будет наука. Чтобы быть мужем, надо что-то из себя представлять. И не морщись, пожалуйста. Тут одного мужского естества мало. Надо профессией владеть, цели перед собой ставить, видеть перспективы. Тогда и жена будет уважать, и в себе будешь достоинство чувствовать».
Отец вновь поехал к Софье Дмитриевне и ее генералу, и сказал: «Не получилось у ребят. Сейчас им нужно расстаться по-людски. Давайте вспомним, с чего начинали. В кооперативе Михаилу принадлежит половина. Это, я думаю, обсуждению не подлежит. Надо обдумать хороший размен».
Дорохов бы так не смог. Он бы развел интеллигентские сопли и оказался в пятиэтажке, в десятиметровой комнате, с видом на Кольцевую автодорогу. Или вообще где-нибудь в Балашихе.
«Наши условия такие, – сказал Ленкиным отец. – Или однокомнатная в дальнем районе, или хорошая комната в центре».
Софь Дмитна принялась вякать про то, как провинциального юношу взяли в приличную семью.
«Бросьте, – равнодушно сказал отец. – Без нас вы бы этот кооператив не потянули. И говорить тут не о чем. Хотите – сами этим занимайтесь, хотите – займусь я. Комната не меньше пятнадцати метров, в пределах Садового кольца. И не будем спорить, потому что спорить тут не о чем».
Софь Дмитна поджала губы. Через три месяца разменяла квартиру на однокомнатную в Филях и комнату на Полянке – вариант просто блестящий, теще повезло. «Молодые» ее знакомых, выпускники Института Стран Азии и Африки, перед длительной командировкой в Лаос срочно съезжались с ветхой бабушкой. Пара отправилась в Лаос, бабушка переехала в Новогиреево (Дорохов видел бабушку, понимал, что она в Новогиреево не задержится, очень скоро отправится по месту окончательной прописки), Дорохов поселился на Полянке, Ленка вернулась к родичам. А «однушку» в Филях стали сдавать за те же фатальные восемьдесят рублей.
Такова была история дороховского воцарения на Полянке. Редко кому из знакомых Дорохова еще до окончания института посчастливилось получить такую роскошную жилплощадь. Вова Гаривас снимал, Никон и Бравик жили с родителями.
А Дорохов теперь был сам по себе, да еще на Полянке, и эркер, и отдельный вход, и все это на пятом курсе. Да, папам надо ставить памятники. Или одну двадцатиметровую стеллу из гранита, на Смоленской площади, и надпись позолотой: «Всем папам иногородних студентов – благодарная Россия».
Ближе к полуночи на кухню вышла Марина Анатольевна, милейший человек, медсестра из поликлиники на Арбате. Приветливая, интеллигентная, всегда усталая и очень «трудящая», как говорил про нее Гаривас. Она поздно ложилась спать, Дорохов стрелял у нее сигареты, когда за полночь кончались свои. У Марины Анатольевны жила деликатная пожилая овчарка Муся – огромная седая псина. Летом Муся целыми днями сидела на стуле, положив передние массивные лапы на подоконник. Муся была достопримечательностью Полянки. Большая серая собака, грустно глядящая на прохожих из открытого окна.
– Здрасьте, Марин Анатольна! – пробасил Никон. – Не очень шумим?
– Нормально, ребята, – добродушно откликнулась соседка. – Развлекайтесь. Дело молодое.
Она поставила чайник на плиту, прислонилась спиной к стене и закурила «Опал».
Никон встал с подоконника, предложил:
– Марин Анатольна, коньячку, а? Рюмочку?
– Лишнее, – отрицательно качнула головой соседка. – Давление поднимется. Какая погода назавтра, Володя? Не слышал прогноз?
– Зима, елки-палки! – сказал Никон. – Снег, холод. Так себе прогноз.
– Марина, пойдем к нам, – пригласил Дорохов. – Мы там песни поем, коньячок.
– Спасибо, Мишунь. Поздно, у меня завтра прием утренний, чайку попью и лягу. Слушайте, ребята, у Муськи понос. Что ей дать, а?
– Мужики! – требовательно произнес Дорохов. – Никон, Бравик! Беда с собакой, понос! Тяжелый недуг. Чем лечить? Быстро говорите!
– Фталазол, – негромко сказал Бравик. – Две таблетки.
– Да ладно? – Никон поднял бровь. – Ты чо – ветеринар?
– Какая разница? – проскрипел Бравик. – Млекопитающее. Тот же обмен, тот же химизм. Сульфаниламид, действует в просвете кишечника. Дайте собаке две таблетки, Марина Анатольевна.
– Все поняла, Григорий Израилевич, – Марина Анатольевна погасила окурок в консервной банке. – Растолку в порошок, и дам с водой.
– Марин, у нас там торт, хорошие люди. Коньяк замечательный, грузинский, – сказал Дорохов и приобнял соседку за плечи.
– Развлекайтесь, молодежь, – отмахнулась Марина Анатольевна. – Мишунь, ты междугородние оплатил? Ты не тяни с этим, а то Бобышев вонь поднимет.
– Оплатил, оплатил, – проворчал Дорохов.
Во всей квартире он один делал междугородние звонки.
Потом они вернулись в комнату. Там уже творилось черт знает что. Пьянющий Фельдмаршал (пьянющий, но не утративший постановки пальцев!) рубил на гитаре «Чардаш». А Нинка, Галка и докторица Вера Сергеевна плясали канкан. Пашка играл «Чардаш», а девицы плясали канкан! Нормально? И сдержанная Вера Сергеевна плясала со всеми как миленькая. Это надо было видеть. Это уже было не так тихо, тут отдельный вход в комнату не спасал. Но Дорохов не собирался успокаивать гостей. Ничего, потерпят соседи.
…А у нас кто-то в окна ломился. Благородный дон Румата, говорят, ночьюгуляли…
…Сказывают, гость у них… Что я вам скажу, брат Тика. Благодарение богу, что у нас в соседях такой дон. Раз в год загуляет, и то много…
В общем, вечер удался.
А через день Дорохов улетел.
* * *
…здание на улице Зерубабель он видел не раз. Обнесенное каменной стеной старинное здание, построенное, верно, еще при Селевкидах. В Эфраиме немного было таких старых построек.
Севела решительно подошел к калитке в каменной стене и постучал. Тотчас на уровне лица без скрипа открылось квадратное окошко. Севела, ничего не говоря, поднес к окошку повестку.
– Сейчас, – глухо сказали из-за калитки. – Открываю.
Негромко лязгнул засов, калитка отворилась, и бородатый привратник в темном хитоне сказал:
– Проходите, адон. Имя ваше?
– Малук, – представился Севела. – Сын Иегуды Малука из квартала Хасмонеев. Мне передал повестку рабби Рехабеам. Куда мне идти?
– Мир вам, – сказал привратник. – Прошу на второй этаж. Вас примет инспектор Мирр.
Севела прошел через маленький двор по дорожке из выщербленного красного кирпича. У крыльца высился старый кипарис, под ним стоял клокастый ослик. Он моргал и, сгоняя оводов, подергивал шкурой на крупе. У коновязи разговаривали два молодых рабби в фиолетовых тюрбанах. Когда Севела взялся за дверную ручку, один из них сказал:
– Он так ловко увязывает «Незикин» и эти их Двенадцать Таблиц. Я, право, тогда оказался в замешательстве.
Второй ответил:
– Все они казуисты и обучены словесной гимнастике. Их юстиция идет от разума. Подлинный же Закон может исходить только от Предвечного. Но что ты поделаешь, эта юстиция хороша! Она несет в себе человеческое лукавство, человеческую изворотливость, но она лаконична и недвусмысленна. А институт апелляций? Это умно и человеколюбиво. На действия легата апеллируют викарию, на викария – префекту претория. Правда, пытают у них повсеместно. У нас так не пытают.
Первый рабби плюнул с досадой:
– Двенадцать Таблиц закладывают фундамент права. Человеколюбие – вот это ты верно заметил. А наше захолустье жестоко и невежественно.
– Как и любое захолустье, – подытожил второй рабби.
Над двором мелькали стрижи, громко зудели оводы, из окна на втором этаже доносилось монотонное: «…шестого дня месяца иперберетая была произведена опись всего движимого и недвижимого… Кодификация проведена стандартно…»
Дом выглядел неухоженно, лепнина на фронтоне местами осыпалась, некрашенные деревянные жалюзи рассохлись и потрескались. Справа от двери блестела начищенная медная табличка – «Внутренней службы городское Управление. Канцелярия наместника».
Севела глубоко вдохнул, потянул дверь на себя и вошел в обшарпанный вестибюль. Несколько мгновений Севела, прислушиваясь, постоял, потом поднялся на второй этаж. Деревянная лестница скрипела громко и тягуче. Третья дверь слева была приоткрыта. Он постучал.
– Войдите, Малук, прошу! – громко пригласили из-за двери.
Севела оказался в большой комнате с дощатым полом и стеллажами, уходящими под потолок. У окна с прикрытыми ставнями – отчего в комнате было полусумрачно и прохладно – стоял широкий стол, заваленный разной писчей мелочью, табличками, новыми и переломанными стилосами, папирусными свитками и листами. Из-за стола выглядывала спинка стула с плоской пестрой подушечкой. На стеллажах громоздились папки, перевязанные бечевками. Пахло воском, горячим сургучом и уютной затхлостью библиотеки.
– Здравствуйте, Малук, – голос доносился справа и сверху.
Севела быстро обернулся. На приставной лесенке у стеллажа стоял маленький щуплый человек. В полутьме Севела разглядел только тщедушную фигуру и светло-русые короткие волосы. Человек бросил на полку пачку папирусов и ловко спустился с лесенки.
И встал перед Севелой, любезно улыбаясь.
– Я увидел вас из окна, – сказал человек. – У коллег день нынче неприсутственный, так что посетитель может быть лишь ко мне.
Севела коротко поклонился.
Перед ним стоял гражданин. Романец был из армейских, о том свидетельствовали холщовая лацерна с простой пряжкой и разношенные калиги.
– Мир вам, – почтительно сказал Севела. – Да, адон, я Севела Малук. Мне передали повестку.
– Я инспектор Луций Мирр, – представился русоволосый. – Это хорошо, что вы не стали мешкать с визитом. С завтрашнего дня я буду неимоверно занят. У нас грядет пора отчетов, я в это проклятое время делаюсь невменяем. И совершенно недоступен для посетителей. Давайте сядем, адон Малук.
Инспектор этот, конечно же, служил в Провинции не первый год. Говорил он непринужденно, бойко и даже по-самарийски пришептывал. Он, верно, уже и думал на арамейском.
Офицер шустро прошел к столу, сел и ладонью показал Севеле на табурет. Севела еще раз поклонился и присел, оказавшись, таким образом, через стол с Мирром.
– Превосходно. Вы пришли, и пришли до отчетов, будь они прокляты. Как бы вы предпочли разговаривать, адон? – спросил Мирр, недовольно оглядывая стол. – Выбирайте сами, как вам удобнее. Свалка. Всегда свалка и хлам. Это что? Это зачем? Весенние списки. Весенние?! О! Клодий искал их со слезами. Так, это? Почему здесь? Неописуемо. Это? Не знаю… Ничего уже не знаю и не понимаю. Так как мы с вами станем говорить, адон Малук?
Севела оторопело слушал бормотание офицера Мирра. Тот же тем временем освобождал стол от письменных приборов, свертков, обрывков папируса, ящичков, мешочков с песком и прочего канцелярского мусора. Руки инспектора порхали над столом, как две беспечные птахи. Из нагромождений писчей мелочи инспектор брезгливо, по одному ему известному признаку, выдергивал вещицы и листки. Одни предметы он небрежно откладывал, другие попросту сбрасывал на пол. По инспектору было видно, что его раздражает беспорядок на столе, но искоренить его инспектор не в силах, и сжился с ним.
– Простите, – сказал Севела. – Я, кажется, не все понимаю.
– Как бы вы хотели построить наш разговор? – рассеянно спросил Луций Мирр, швырнув на пол странного вида деревянную конструкцию, похожую на транспортир с тремя стрелками. – Могу пригласить писца. Тогда беседа будет носить характер официальный, если угодно – протокольный. В этом случае вам надо будет дать присягу. Это формальность. В протокольном регистре есть графа «частное» и есть графа «архив». Вот во втором-то случае вам надо будет поставить подпись под протоколом беседы. Но это – когда мы закончим.
– Я могу попросить воды?
– Воды? Почему нет? – Мирр кивнул. – Я сейчас же распоряжусь.
Он выскользнул из-за стола, открыл дверь и зычно рявкнул:
– Пулибий! Проснись! Воды в мой кабинет!
Потом он вернулся к столу и присел на походный раскладной стульчик рядом с табуретом Севелы.
– Сейчас принесут. Жара удушающая! В Ершолойме спасают холмы и ветер. В Яффе – море. А в Эфраиме жара переносится тяжело. А вы здесь родились?
– Я родился в Галилее. Когда наша семья переехала в Эфраим, мне было три года.
– Я родился в Никополе Эпирском. Жил там до двадцати лет. Я привык к морскому климату. Одно время служил в Колхиде. Как это у поэта: «на берегу незамерзающего Понта».
Вдруг Мирр замолчал, внимательно посмотрел на Севелу, коротко улыбнулся, потом еще раз улыбнулся, улыбка стала шире, и наконец инспектор расхохотался.
– Извините меня, Малук, – сквозь смех сказал Мирр. – Я не хотел вас обидеть. Но у вас только что было такое лицо…
Севела сел прямо, сцепил кисти и хрустнул пальцами.
Мирр сказал добродушно:
– Вы так забавно подобрались, адон Малук. Я вот вам сказал, что родился в Никополе, а у вас сделалось такое лицо, будто вы разгадали мой хитроумный замысел. Признайтесь, вы подумали, что инспектор разыгрывает перед вами профессиональный спектакль? Непринужденный разговор о погоде, а после доверительный рассказ о том, где родился…
– Простите? Не понимаю.
– Я же обещал вам воду!
Мирр вновь поднялся и крикнул в дверной проем:
– Пулибий! Воду немедленно, бездельник!
Тут же послышались торопливые шаги, и из дверного проема две волосатые руки протянули инспектору бронзовый жбан и стакан.
– Вот, прошу вас, Малук. В подвале ледник, у нас всегда есть холодная вода.
Мирр сам налил воды в стакан из мутного стекла. Было слышно, как в жбане позвякивают кусочки льда.
– Благодарю, – Севела выпил холодной воды.
– Так как? – спросил Мирр, усевшись в кресло.
– Простите?
– О боги! Малук, ну что вы заладили – «простите, простите»! Мне звать стенографа, или мы станем говорить без него?
– Без него, – твердо сказал Севела.
– Превосходно. А о чем мы станем говорить?
Мирр склонил голову к худому плечику.
– Я не знаю, адон инспектор.
Мирр побарабанил пальцами по столу.
– Вы не издеваться ли явились сюда, адон коммерциант?
– Я вас не понимаю, – напряженно сказал Севела.
– И я тоже вас не понимаю, Малук. Вы просили вас принять, и я нашел время. Я нынче занят, как никогда! Вы же сидите напротив и глупо лепечете!
– Я не просил меня принять! Я получил повестку!
– Мы всегда посылаем повестку! Особенно в тех случаях, когда инициатива исходит не от нас! – раздраженно сказал Мирр. – Малук, я готов любезничать с вами до бесконечности. Но я хотел бы знать, зачем я это делаю. Вы попросили вас принять. Я написал повестку, передал ее через этого безумца, вашего квартального. Вы пришли и мнетесь, как девица! Допускаю, что вам нечем заняться. Но, знаете ли, набиваться на прием к инспектору Внутренней службы это не самый правильный способ заполнить досуг. И перестаньте вы хлестать воду! Она со льдом, вы осипнете!
«Да, кажется, тут простое недоразумение, – с радостью подумал Севела. – Сейчас он отпустит меня».
– Мне передали повестку, – кротко начал он.
– Это я уже слышал. Про повестку я уже слышал.
– Мне передали повестку, я пришел. Но я вовсе не просил о приеме, адон инспектор.
– Как это «не просил»? – озадаченно сказал Мирр и яростно потер затылок. – А кто же тогда просил?
Севела пожал плечами.
– О, боги, – пробормотал Мирр. – Но мне доложили…
Он встал (в третий уже раз), вышел из-за стола, открыл дверь и гаркнул:
– Пулибий, кишки твои на изгородь! Пригласи ко мне тессерария Клодия! Поторопись!
Инспектор, конечно же, был из армейских. По всему видно было, что он человек ученый. Однако категоричность обращений к невидимому Пулибию выдавала армейскую закваску.
По коридору прошумели тяжелые шаги, вошел здоровяк в вылинявшей тунике. Он, не глядя на Севелу, кивнул инспектору и вопросительно замер.
Мирр шагнул вплотную к здоровяку и что-то шепнул ему на ухо.
– Я докладывал, – проворчал здоровяк. – Тебя просили обратить внимание на мотивацию.
– Да я, кишки на изгородь, не знаю ручателя! У меня же отчет, Клодий! – с сердцем сказал Мирр. – Мне сейчас не до мотиваций! Ручательство. Не квартальный же, в самом деле! Юноша ничего не понимает, ему дали повестку…
Здоровяк наклонился к уху инспектора.
– Ты шутишь? – ошеломленно сказал Мирр. – Что ему делать в этой дыре?
– Да он родился здесь, – прогудел здоровяк. – Семья живет здесь, отец, сестры. Позавчера приходил.
– Это меняет дело… Это серьезно, Клодий. Кстати, я нашел твои весенние списки. Да, ты меня удивил, кишки на изгородь! Это персона! Ну, раз он ручается, то и я отнесусь со всем вниманием.
Здоровяк кивнул, развернулся и ушел.
– Что-нибудь прояснилось, адон инспектор? – осторожно спросил Севела.
– Да, прояснилось. У вас серьезный ручатель.
– Простите?
– Опять «простите». Нет, он невозможен! – простонал Мирр.
Он вернулся к столу.
– Скажите, Малук, вы ведь служите у отца, верно?
– Да.
– А ваш старший брат?
– Рафаил – хирург.
– У него есть пациентура?
– Нет, – Севела покачал головой. – У него было место в городском госпитале. Потом отец помог ему купить кабинет в Северном квартале. Но пациентуру брат не сложил.
– А вы дружны с братом?
– Да, очень дружен, – сказал Севела. И добавил: – Мой брат увлечен драматургией. Он хочет писать пьесы. Он уехал в Байю и учится в классе одного известного театроведа. Кажется, Лициния.
– А с отцом ваш брат ладит?
– Вы же понимаете, адон Мирр, наш отец, рав Иегуда, не может быть доволен выбором брата, – сказал Севела, стараясь правильно подбирать слова. – Отец всю жизнь положил на то, чтобы семейный торговый дом процветал. Он хотел, чтобы мы с Рафаилом были ему помощниками. На наше обучение отец денег не жалел. Я получил диплому в Яффе. Рафаил стал врачом. В планах отца нашлось бы место и врачу.
– Да, понимаю, – торопливо сказал Мирр. – А ваш брат подался в сочинение пьес. Никакому отцу не понравится такое… Не спросите меня, зачем я вас пригласил?
– Я посоветовался с другом, – ровно сказал Севела. – Мой друг полагает, что Внутреннюю службу может интересовать уроженец Провинции, недавно закончивший образование.
– Да, конечно, с другом… – сказал Мирр со странной интонацией. – Он прав, ваш друг. Да, я пригласил вас потому, что вы молодой образованный человек и, несомненно, в скором времени ваша деятельность… э… послужит благу Провинции. Да, именно так.
Севела вдохнул через нос. Мирр рассеянно сбросил на пол пару листов, потом сказал:
– А вот о брате вашем еще. Он в ссоре с отцом?
– Это невозможно. В семьях джбрим не ссорятся с отцами.
– Я неподобающе выразился, – Мирр поднял указательный палец. – Но любимец отца все-таки вы?
– Пожалуй, так, – согласился Севела. – Когда я выбрал торговое образование…
– А вы могли выбирать? – с иронией спросил Мирр. – Разве в семьях джбрим сыновья выбирают?
– Мог, отчего же. Отец предложил мне выбор. Коммерческий курс в Яффе или архитектурная Schola в Александрии. Я выбрал торговое образование.
– И выбор этот предполагал, что вы станете помощником отцу?
– Видите ли, я младший. Когда родился Рафаил, семья еще не была состоятельной. Отец трудился, не покладая рук. А когда родился я, все уже было иначе. Отец заласкивал меня.
– Да, – с одобрительной улыбкой сказал Мирр. – Джбрим – трогательные отцы, они заласкивают детей. Римлянин воспитывает сына сдержанно.
– Это Провинция, адон Мирр, – позволил себе замечание Севела. – Восток. Здесь жарко. И отношение отцов к детям теплее, чем в других местах Магриба. А наши матери! Матери джбрим, адон, это одна только бесконечная нежность.
– Я это знаю, – Мирр кивнул. – Я шестой год служу в Провинции. Женщины Провинции растворяются в детях. А у вас есть дети? Вы любите детей, Малук?
– Я покуда холост. Детей у меня нет.
– А у меня два мальчика, – доверительно сказал инспектор. – Поверьте, Малук, вас ждет необыкновенное счастье, когда вы станете отцом. Казалось, все уже было. И любовь, и настоящие друзья, и важная служба. Но вот вы берете на руки комочек в пеленках – и жизнь начинается вновь… Что-то я разболтался. Вы сейчас опять вообразите, что я намеренно располагаю вас к себе.
Они помолчали. Потом Мирр потер пальцами уголки глаз и спросил:
– Вам нравится служить у отца?
– Да, – без колебаний сказал Севела. – Он поощряет мою самостоятельность.
– Вы выезжаете из Провинции?
– Выезжал два раза по делам семейного торгового дома.
– Нравятся ли вам путешествия?
– Очень нравятся.
Мирр наклонил голову, потом поставил локоть на стол и подпер подбородок ладонью.
– Скажите-ка мне вот что, Малук. А коли без обиняков – вы хотели бы всю жизнь провести в Провинции? Заниматься одной лишь коммерцией всю жизнь? Без обиняков, Малук, ну же.
– Нет, адон инспектор, – неожиданно для самого себя быстро ответил Севела. И повторил: – Нет.
Мирр одобрительно взглянул на Севелу и…
* * *
Дорохов толкнул дверь подъезда и спустился со ступеней на плотно утоптанный снег. Во дворе было тихо, только со стороны гаражей слышалось шарканье лопаты – кто-то отгребал снег от ворот гаража. Морозно и солнечно. Иней на ветках, замерзшие простыни на бельевых веревках. Ничего не изменилось. У подъезда, где раньше жил Витька Муромцев, тетка в синтетической шубе чистила снегом половик. Здесь так чистили половики, ковры и паласы – расстилали, забрасывали снегом, потом сметали снег веником. Дорохов тоже так чистил палас, когда жил в этом дворе. После он вносил грузный рулон в квартиру, и там становилось свежо, словно холодный, в искрящейся пудре снежинок палас прихватывал с улицы кусочек январского дня. У подъезда, где жил Андрюха Вильмс, два пацана «щелкали» о штакетник. Дорохов опустил на снег сетку с пустыми молочными бутылками и присмотрелся. Пацаны по очереди пуляли черной таблеткой в верхний край заборчика. Шайба сильно била по штакетнику, и стреляющий звук летел через двор. Дорохов немного постоял на снегу в растоптанных мягких валенках с резиновой подошвой. Старый отцовский «гаражный» полушубок сидел колом. Но в нем было тепло и уютно. И кроличья ушанка с тесемками, завязанными на затылке, была хоть и великовата, но тоже уютна. Дорохов, стоял перед своим подъездом в отцовском тулупе, в своих старых валенках и ушанке. Густой иней, куржак, празднично серебрил ветки тополей. У гаражей человек отгребал снег, тетка в нейлоновой шубе лупила веником по половику. С дальней стороны двора донеслась музыка. Дорохов прислушался.
«Малиновки заслышав голосок, припомню я забытые свиданья! Три жердочки, березовый мосток! Старинная речушка без названья!»
Да, тут это принято было – чтобы весь двор слышал. Выставляли в форточку колонку и врубали музыку. Когда он учился в пятом классе, отец купил проигрыватель «Концертный-3». Какое там «стерео» – не слышал тогда никто ни о каком «стерео». Папа привез белый, раскладывающийся ребристый ящик, и счастливый Мишка выставил колонку в форточку. Квартира на втором этаже. Нормально так включил музыку. Через минуту в дверь заколотили.
В соседнем подъезде были похороны. Когда стали выносить гроб, то со второго этажа, где пятиклассник Дорохов поставил в форточку колонку, грянуло: «Я еду к морю, еду! Я еду к ласковой волне!». Скандал был – мама дорогая.
Из подъезда Лехи Беркасова мужчина в «аляске» бережно выкатил детскую коляску. Дверь, притянутая пружиной, громко хлопнула. На деревянную горку посреди двора девочка в синем пальто втаскивала алюминиевые санки. За домами прозвенел трамвай.
Дорохов криво улыбнулся.
Так он чувствовал себя всякий раз – будто не уезжал. Восьмой раз он выходил утром в растоптанных валенках, в тулупе с жесткими стружками меха, в ушанке, вытертой и залоснившейся на затылке. Выходил на поскрипывающий снег в морозное солнечное утро и всякий раз так себя чувствовал – как будто не уехал отсюда восемь лет тому назад.
Он поднял сетку, вышел из двора, пересек трамвайные рельсы, оскользнувшись на отшлифованной стальной полосе. Миновал парикмахерскую, ателье меховых изделий «Белочка», почтовое отделение номер восемьдесят и свернул за угол, к булочной. Летом на углу стояли аппараты с газировкой, на зиму их убирали. Восемь лет он не пил газировку из этих аппаратов – прилетал в Сибирск только на Новый год. В витрине булочной висел большой круг, а по краю его шла надпись (он сейчас на надпись не посмотрел, он ее помнил, всю жизнь мимо этого круга ходил): «Чай утоляет жажду и повышает работоспособность». Слово «работоспособность» располагалось вверх ногами. И в центре круга нарисована дымящаяся чашка. По низким ступенькам он поднялся в гастроном, прошел мимо вино-водочного отдела, мимо касс, мимо полок с персиковым соком и солянкой в банках. Сегодня молоко привезли в пакетах. Иногда привозили в бутылках, а иногда – в пакетах. Он сдал пустые бутылки, потолкался у штабеля проволочных ящиков и положил в сетку десяток влажных, булькающих тетраэдров. Потом вернулся к кассам. Кассиршей оказалась бывшая одноклассница. Он сразу вспомнил, как ее зовут – Лена Бояринова. Молодая женщина с остреньким бесцветным лицом, не поворачивая головы в белом чепчике с полоской елочного серебристого «дождя», скучно сказала: «Рубль двадцать».
Он положил в черную плошку пятерку, Бояринова сыпанула три восемьдесят сдачи и сказала, глядя на клавиши кассового аппарата: «Следующий. Мелочь готовьте».
Выходя из гастронома, он подумал, что когда в семьдесят восьмом праздновали с классом Восьмое марта у Сереги Пашкина на Заозерной – они с Ленкой танцевали под «Бабье лето». Ленка занималась художественной гимнастикой, фигура у нее была классная, точеная. Они танцевали несколько раз. Под «Голубые гитары» – «Было небо выше, были звезды ярче, и прозрачный месяц плыл в туманной мгле», и под Карела Готта тоже танцевали, и под Мирей Матье. Неудобно было приглашать Ленку в четвертый раз, тем более что Игорек Рыбин уже набычился. Он два раза ходил с Ленкой в кино, в классе считалось, что они «гуляют». Но когда зазвучало «Бабье лето», Ленка встала с дивана и показала Дорохову глазами: давай? Он шагнул навстречу, взял ее холодную ладонь, приобнял за тренированную талию и шепнул ей в ухо, что песня вообще-то называется «Индейское лето», а никакое не «бабье». Ленка хихикнула, прижалась к нему и сказала: «А чо индейское-то? Чо, про Гойко Митича песня, да?». Вот дура-то, прости господи.
Как будто не с ним это было.
Во дворе он сказал «здрасьте» смутно знакомой бабуле у подъезда Маринки Сарапкиной.
«Здравствуй, Миша», – легко ответила бабуля. Они целую вечность сидели на лавочках у подъездов, эти бабули. Восемь лет для них ни черта не значили. Вот эта, к примеру, в предыдущий раз здоровалась, наверное, еще с десятиклассником Мишей, дом шесть-бэ, первый подъезд. И помнит, как он, шкет, тут носился с клюшкой «ЭФСИ» или на велике «Салют». А теперь old lady преспокойно сказала «здравствуй» кандидату химических наук. И для ее забеленных старостью глазок, для платка ее пухового и вытертой цигейковой шубки малоразличим интервал между шкетом на «Салюте» и кандидатом наук с наметившейся лысиной. «Здравствуй, Миша» – и все тебе дела. И не было, вроде, этих восьми лет, и нервически-трусливой абитуры не было, и первых курсов – пьянки-гулянки, общага на Юго-Западе, обживание Москвы, – и любви с Ленкой, и распределения к Риснеру.
Он сунул руку в карман. Но сигарет в полушубке не оказалось. Он уже хотел подняться в квартиру, взять сигареты и вернуться к подъезду. Хорошо было бы сейчас смести рукавицей снег, сесть и покурить в тихом дворе. Он взялся за дверную ручку, и тут его окликнул плечистый мужик в куртке с барашковым воротником.
В этом городе каждый третий носил куртки из чертовой кожи с меховым воротником. Фактура воротника варьировалась, преобладала овчина, но встречалась и цигейка, и ондатра, и даже бобровые воротники попадались. А высшим шиком были «аляска» плюс шапка из дорогого меха – норка или ондатра. Полагалось носить шарф машинной вязки, светло-серый, с полосками на концах, «исландский». Или пестрый, красно-фиолетовый, мохеровый «шотландский». Причем этикетку на шарфе, лейбл, следовало выставлять наружу. На ногах у знающего себе цену здешнего жителя могли быть зимние сапоги на «манной каше» или зимние кроссовки (что ценилось гораздо выше). Девушки одевались ослепительно, но тоже единообразно. Землячки выплывали на мороз в длинных пальто с норковым воротником или в колоколообразных цигейковых шубах. И опять-таки норковая шапка и мохеровый шарф. Красота неописуемая. Год за годом Дорохов, приезжая на Новый год, отстраненно наблюдал здешних модников. Идет, значит, такое пугало: ондатровая шапка, под ней пылает и клубится синий с красным шарф лейблом наружу. Затем «аляска» или чертова кожа с черным барашком. Ниже – наглаженные брюки. А под всем этим великолепием – зимние кроссовки на четырехслойной подошве и с закругленными резиновыми носами. Оглядывая земляков, Дорохов с симпатией вспоминал разнообразно одетую московскую публику: сумочки и рюкзачки, штаны «бананы» с карманами на бедрах, куртки с капюшоном, короткие болгарские дубленки, лыжные шапочки с кисточкой, вязаные наголовники, похожие на загнутую пароходную трубу, и болоньевые утепленные пальто из «Польской моды».
Дорохов остановился, подошел, пожал мужику руку. У того были черные усы скобкой и сросшиеся брови. Одноклассник. Шура Раков. Встретить двух человек из своего класса за пятнадцать минут декабрьского утра – это нормально здесь.
– Привет, Шура.
– Здорово! Иду, смотрю – Миха. Ты чо, к родителям?
– Ну. С наступающим тебя.
– Тебя тоже с праздником, – Шура шмыгнул носом. – Я твоих часто вижу. Батя твой все с «Москвичем» ковыряется. Говно, не машина. «Москвич» это как игра «Конструктор» – чтобы разбирать и собирать. Ты как, при колесах в Москве?
– Откуда? Это мне не по деньгам.
– А я «волжанку» взял летом. Калымили в Молдавии. Три года уже ездим бригадой. Цех строили в виносовхозе. Ну чо, вижу – надо машину брать, а то деньги разлетятся. Цех сдали, аккордная премия, все дела. Набежало, короче, под два куска. Дозанял, взял у тестя «волжанку». Бегает нормально. Покурим?
Он протянул Дорохову надорванную пачку «Памира» и, поплевывая, стал расспрашивать: где Дорохов работает, какой у него оклад. Потом спросил, есть ли у Дорохова дети. Дорохов ответил, что детей у него нет, холост.
– У меня двое, – сказал Шура. – Девочки. Пять и три.
– А супруга твоя кто?
– Да Танька же! – вдруг обрадовался Шура. – Танька Новикова! Мы сразу после школы расписались. Помнишь Таньку? Она из «ашников». Мы с девятого класса гуляли. Чо, не помнишь?
– Да помню, конечно! – уверенно сказал Дорохов.
– Ну! – бодро сказал Шура. – Сразу после школы расписались, зимой. Все наши на свадьбе были. Романовская, Солодовникова, Васька Паршуткин. В «Лотосе» свадьба была. Расписались, съездили к вечному огню, потом в «Лотос». Нормально так все было. Рыба с дружинниками схлестнулся. Таньку украли, все как полагается. Лудковский свидетелем был, шампанское пил из туфли. Гусар, типа! Ваську потом призвали, в Афгане служил.
Ваську Паршуткина Дорохов встретил на улице, когда приезжал на третьем курсе. Васька был поджарый и возмужавший, полгода как дембельнулся. В Афгане заслужил медаль «За отвагу», перенес желтуху и дизентерию. Они тогда простояли на улице больше часа, курили, горбились от мороза. Потом взяли в гастрономе «Сибирскую» и пошли к Дорохову. В школе они не дружили, но уважительно друг к другу относились. Васька шестой в семье, отец – алкаш, конченый человек. А Васька хороший парень, труженик. Когда после восьмого класса ездили в трудовой лагерь, пололи свеклу в совхозе – Васька делал две нормы. Он жил на Заозерной, через дом от Сереги Пашкина.
Пришли тогда к Дорохову, мама разогрела голубцы, сидели в дороховской комнате. Дорохов выпил несколько рюмок, а Васька так и не притронулся. Он не пил, на папашу насмотрелся в детстве.
«Ты пойми! – настойчиво втолковывал Васька. – Если бы мы в Афган не вошли, его бы американцы заняли. Ты пойми, когда наш десант в Кабуле высаживался, американские транспортники уже барражировали. Или мы, или они. А теперь легче будет, пуштуны на нашей стороне. У меня командир был – золото, не мужик. Такой души человек! Князькин Виктор Николаевич. У нас вообще в группе „Чайка“ такие люди были! Князькин, классный мужик, честный. Никогда его не забуду. Я в Газни служил. Такие операции! Я тебе рассказать не могу, не положено. Такое было! На МИ двадцать четвертых вылетали, на поддержку разведгрупп. Караваны брали, досмотры, все такое. Разведгруппы выручали. В группе „Скоба“ пилот был, Николай Майданов. Герой Советского Союза. С такими людьми меня, Миха, жизнь свела! Да ты пей, на меня не смотри. Но ты пойми: если бы мы в Афган не вошли…»
– Купреев «сельхоз» закончил, щас на молокозаводе, начальник цеха, – сказал Шура. – Славка Бордунов рисовал классно, помнишь? Политех закончил, я его видел на майские. В культклуб ходит, качается. Здоровый – не узнать.
Шура отчего-то рассказывал об одноклассниках печально. Почему-то он взял такой тон – говорить об одноклассниках грустно, элегически. Как будто перечислял утраты.
Они еще немного постояли на скрипящем снегу, выпуская из губ струйки кислого дыма. Дорохов спросил: что еще слышно про наших?
– Кто где, – сказал Шура. – С Палычем вместе учились в автодоре. Лудковский в дивизии Дзержинского служил, у вас там, в Москве. Рыбин после армии мореходку закончил в Калининграде. Плавает на танкере, в загранку ходит. Я его мать видел в прошлом году, он ей из Канады шубу привез… Сидор сидит. Ну, Сидор это… – Шура цыкнул и сплюнул. – Ясно было, что сядет.
Дорохов понимающе кивнул. Сидор был тот еще фрукт.
– Волосатов медицинский закончил, – продолжил Шура. – В областной больнице работает. Рудик Шварц на заводе, бригадир. Танкостроительный, имени Баранова. Помнишь?
Дорохов опять кивнул. Он и Рудика Шварца помнил, славный был парень, и завод имени Баранова помнил. Они там на суботнике цех подметали и мусор выносили.
– А ты чо, часто приезжаешь? – спросил Шура. – Я уж не помню, когда тебя видел последний раз.
– На Новый год всегда приезжаю.
Он ждал вопроса «нукактаммосква?».
– Как Москва? – спросил Шура. – По дому не скучаешь?
Дорохов уже собрался объяснять, что в Москве живет восемь лет, что у него, собственно, там «дом». Потом ему пришел в голову удачный ответ.
– Что ей сделается, Москве? Стоит.
Шура удовлетворенно кивнул. Наверное, почувствовал взаимопонимание. Из интонации его вопроса и лаконизма дороховского ответа следовало, что о Москве все известно, а в Сибирске жизнь спокойнее и правильнее, хоть и снабжение хуже.
– Пойду, – Дорохов бросил в сугроб окурок. – Елку пора ставить. Привет… – он опять забыл, как зовут Шурину жену, – всем передавай.
– Своих поздравь от меня, – сказал Шура.
Дорохов пожал мозолистую ладонь и вошел в подъезд.
Он не елку торопился ставить, ему хотелось к машинке. То есть не то чтобы хотелось — ему надо было к машинке. К машинке было надо, а хотелось-то взять какую-нибудь «книгу из детства» и залечь на диван. Поставить рядом миску с кедровыми орешками, подложить под спину подушку, ноги укрыть пледом, включить торшер, валяться и читать «Гектора Сервардака» или «Тома Сойера за границей». Еще можно было вытащить из шкафа «Смока Беллью» или «Четырех танкистов и собаку» Януша Пшимановского, лежать до самого вечера, раскусывать сладковатые орешки.
В большой комнате папа включит «Время» или «Международную панораму». На кухне брякнет о конфорку сковорода, простучит о доску нож, зазвонит телефон, мама скажет тете Вале, что Мишка вчера прилетел, завтра его увидишь, нет, не изменился, курит только много и бреется редко. Ну, про это он мне не рассказывает, сама у него спроси. Какие там внуки, я уж и не надеюсь…
– Работай в кабинете, – предложил отец. – Я тебе мешать не буду.
– Лучше я у себя, пап, – сказал Дорохов. – Прокурю тебе кабинет, ты за год не выветришь.
Папа, наверное, думал, что он пишет статью. Папа с воодушевлением встречал каждую его статью. То, что все статьи в соавторстве с экселенцем, папу не настораживало.
– Продуктивный научный руководитель это очень хорошо, – говорил отец. – Это, сын, до определенного момента – как мощный буксир. С докторской не тяни. Раз есть возможность, раз шеф тебя не притормаживает – не тяни. А то ведь, знаешь, по-разному бывает. Я иной раз гляжу: вырастит научный руководитель кандидата наук – и все. Начинает притормаживать. Кому-то второй доктор наук на кафедре не нужен. Или в отделе. Кто-то угрозу своему величию видит. А у тебя все способствует написанию докторской. Не упусти время.
Вчера Дорохов взял с отцовского стола округлую умильную «Эрику» с истертым до желтого рычажком каретки, отнес к себе. Его комната выглядела нежилой. Мелочей в ней всяких не было, раскрытой книжки, магнитофонных бобин на полу, портфеля на кресле, пачки «Примы» или «Астры» на подоконнике. Вместо темно-красных, плотных штор мама повесила тюлевые занавески. Самодельные стеллажи полупусты, почти все свои книги он понемногу вывез. Раньше на полу стояли катушечный «Сатурн-202 стерео», усилитель «Олимп», а в углах – колонки. Аппаратуру Дорохов вывез еще на первом курсе, сберег ее в общаге. Кое-что все же здесь сохранилось со школьных времен. Старенькие черные «варежки» висят на гвоздике, и под ними лежит на полу истертая коричневая груша. На стене по-прежнему висит политическая карта мира, Тихий океан исписан номерами телефонов. Возле острова Александра Селькирка – телефон Людки Зотовой. А ниже, возле Чили – номер Аркаши Самсонова, 65-27-24. Слева от Панамского канала – Аньки Балашовой номер, 65-17-25. А возле мыса Горн – телефон Ковбоя, 65-09-80. Над письменным столом с исцарапанной полировкой приколот иголками плакатик из чешского журнала «Атлетика» – французская сборная, чемпионат мира семьдесят шестого года. А на стене напротив – постеры «Bad Сompany» и «Queen» – «News Of The World», с ужасным гигантским роботом.
Он поставил на стол «Эрику», которая берет четыре копии, вот и все, и этого достаточно, нашел в кладовке настольную лампу с гнущейся стойкой и почти отмытой, еле-еле проглядывающей надписью голубым фломастером: «NAZARETH – CLOSE ENOUGH FOR ROCK’N’ROLL!». Поставил пепельницу, положил сигареты, прикнопил к раме плотное покрывало с диванчика (любил, чтобы в комнате свет был только от настольной лампы) – и достал из сумки папку. Заправил лист, опробовал машинку: «рпрапылвненупаивтжо». «Эрика» работала отлично, плавно и четко. Легко, почти как электрическая. Едва коснешься клавиши пальцем – и тихий щелчок. Сеня говорил, что Дорохов писательство обставляет сентиментально. Сеня год тому назад подарил Дорохову прелестную «Mercedes Prima». Эту машинку Сенькин дедушка в тридцать втором году переделал под русский шрифт. «Эрика» тоже была сентиментальной, милой и старомодной. Дорохов не смог бы работать на громоздкой учрежденческой «Ятрани».
– Ма, я поработаю пару часов, – сказал Дорохов, заглянув на кухню, где замечательно шкворчало. – Ма, я буду курить, честно предупреждаю.
– Что ты хочешь на обед? – спросила мама. – Кабачки хочешь? Или голубцы?
– Я все хочу, – сказал он. – И кабачки, и голубцы. И борщ хочу. А соленые огурцы есть?
– Конечно, – мама улыбнулась. – Господи, я как подумаю, как ты там по столовкам. Огурцы есть, капуста есть. Тетя Валя принесла грибы. Она чудесно маринует белые.
Дорохов представил, как за новогодним столом выпьет ледяной водки из хрустальной рюмки и наколет на вилку желто-коричневый ломтик в маслянистом прозрачном маринаде.
– Все хочу! – плотоядно сказал он. – Home, sweet home! Я немного поработаю, потом пообедаем. Потом я с папой в шахматы сыграю. Вечером поставлю елку и буду смотреть фотографии.
В большой комнате, в шкафу лежали толстые альбомы с фотографиями. Семейные автомобильные путешествия – Иссык-Куль, Боровое, Прибалтика.
– Как трогательно, – насмешливо сказала мама и вынула из холодильника банку со сметаной. – Не забудь заглянуть к первой учительнице. Старушка будет рада.
Он хмыкнул, почесал нос и ушел в свою комнату. Сел за стол, заправил в машинку свежий лист и закурил.
«Итак, начнем, благословясь. Где я его оставил? Он у меня, значит, вернулся от инспектора…»
* * *
«…принят для беседы Севела Малук, торгового сословия, сын Иегуды Малука, квартал Хасмонеев. Ручателем выступил предъявитель жетона „Hermes, XXXIV“. Предъявитель находился в то время в Эфраиме, в отпуске. Знаю, что ручатель – уроженец города Эфраима и хорошо знает семью Малуков.
Впечатление от беседы сложилось наиблагоприятнейшее. Малук – образованный и серьезный молодой человек. Его мотивация вызывает уважение.
По разумению тессерария Клодия Деста очень верно, что наместник Вителлий обязал иных из здешних риторов (их прозывают kohen) обучаться праву. Были устроены семинары о Двенадцати Таблицах. Преподавал юстист Веллей Патеркул. Риторы учатся увлеченно и прилежно. Замечено, что особый интерес у них – к спискам речей консула-суффекта Домиция Афра. Видно, молодым риторам нравятся лаконизм и логика почтенного Домиция.
Луций Мирр.
Эфраим. Городская инспектура».
* * *
Они прекрасно встретили Новый год. Все было, как в прошлый раз, и как в позапрошлый, и как пять лет тому назад. Мама сделала салат, который в семье называли «кафедральным». Много лет назад мама на Восьмое марта приготовила такой салат у себя на кафедре. С тех пор салат с яблоками, соленым огурцом и говядиной называли в семье «кафедральным». Были также пельмени, холодец, соленые огурцы (огурцы и помидоры солил отец, Дорохов не знал солений вкуснее, чем отцовские), форшмак, тертая редька и маринованные белые грибы.
Они послушали поздравление генерального секретаря, бой курантов, Дорохов открыл «Советское» шампанское. («Пап, ну не бред? Советское шампанское… Антисоветское бургундское. Христианско-радикальное анжуйское.)
На тонкой желто-коричневой коре выступили янтарные капельки. Тускло поблескивали большие шары с поблекшим рисунком. Подберезовики с прищепкой и сосульки на нитяных петлях. Невесомые снегурочки со свекольным румянцем и гирлянды. «Мы в пух и прах наряжали тебя, мы тебе верно служили. Громко в картонные трубы трубя – словно на подвиг спешили».
Отец каждый шар, каждого попугайчика, каждую стеклянную ракету и часы, показывавшие без пяти двенадцать, аккуратно заворачивал в обрывок газеты, когда убирал сосну седьмого или восьмого января. И обрывки тоже сохранялись годами. Позавчера Дорохов украшал сосну и, стряхивая сигарету в пепельницу-сувенир – шину с алюминиевым сердечником и надписью «Шинный завод, Белая Церковь» (отец не курил, но из командировок привозил пепельницы «Шинный завод, Бобруйск», «Шинный завод, Ярославль»), читал пожелтевшие программы телепередач на двадцать пятое декабря семьдесят пятого года из «Вечернего Сибирска», фельетоны из «Сибирской правды» семьдесят седьмого и прогнозы погоды из «Молодого Сибиряка» восемьдесят первого. Забавно было теперь, в декабре восемьдесят шестого, читать программы телепередач и радио. «Утренняя почта», 10–00. «Сельский час», 11–30. «Ленинский университет миллионов», 13–00. Художественный фильм «За облаками небо», 19–30. По второй программе «Экран развлекает», 20–00. Киноэпопея «Освобождение», 21–00… Статья «Непокоренные» из «Известий». Статья поместилась на обрывке почти целиком, и Дорохов заинтересовался: кто это там у них такой был «непокоренный» в сентябре восемьдесят второго? Присел на пол, прочитал. Оказалось – палестинские партизаны в Ливане, бандиты. Ну да, осень восемьдесят второго, оккупация части Ливана Израилем. Дорохов хмыкнул, вспомнив, что даже тогда, в восемьдесят втором, он уже знал, что операция сил самообороны Израиля называлась «Мир Галилее». Израилю надоели нападения с территории Южного Ливана. И Сашка ему потом дал номер «Израиль сегодня», там написано было, что сирийцы хозяйничали в Южном Ливане как у себя дома. Интересная страна Израиль, ага. Сколько лет арабцы воюют еврейцев? С самого начала, с сорок восьмого года. И чего? А ничего. Еврейцы неизменно чистят арабцам рыло. Сколько раз полезли магометане – столько раз получили в рыло. Не фартит арабцам, нет, видимо, за ними исторической правды. Дорохову, в общем, до фонаря было, кто там кого одолеет, не было у него там близких родствеников. Арафат – подонок, та еще сволочь, по вислогубой роже видно, что жулик… Дорохов расправил обрывки и сложил их в стопку, на дно фанерного ящика, где хранились елочные украшения.
В одиннадцать позвонил Сеня. Потом звонил Вова Гаривас. Поздравил, сказал, что они будут встречать у Сени, на Метростроевской, что он только что отстоял жуткую очередь за красной икрой в «Смоленском», купил три банки. А сейчас переоденется, и они с Олей (новая девушка Гариваса, Дорохов ее еще не видел, знал только, что учится на журфаке) поедут к Сене. Будут Никон, Тёма Белов, Борька Полетаев и Гена. А Саня Берг уехал в горы, будет в Терсколе своем любимом встречать Новый год. Бравик встречает дома, с родителями и братом Пашкой. Еще Гаривас добавил, гаденько хихикая, что с той докторицей у Тёмы, увы, ничего не вышло. На Метростроевскую Тёма приедет один, так он сегодня мрачно сказал Гаривасу. Дорохов передал всем поздравления.
«Мы тебе еще позвоним», – пообещал Гаривас.
Дорохов озабоченно подумал, что они, черти, действительно позвонят ему в три часа ночи, в соответствии с разницей во времени между Москвой и Сибирском. Надо будет забрать телефон в большую комнату. Поддадут и вспомнят про друга во глубине сибирских руд.
Когда пробило двенадцать, Дорохов взял фужер за тонкую ножку, легко прикоснулся к родительским фужерам. Выпили холодное шампанское, а потом он сразу налил себе коньяка. Он знал, что папа хранил бутылку «Арарата» год, наверное. Берег к его приезду.
– Ну, сын, давай поговорим о планах, – сказал отец, когда мама вышла на кухню, чтобы поставить чайник.
– Ты же все знаешь про мои планы, пап, – Дорохов закурил.
Экселенца отец видел два раза – в позапрошлом году и перед Дороховской защитой. В первый раз Дорохов привез отца в институт, провел по лаборатории, познакомил с Хорей, Костровым и Сержем. Потом они пили чай в комнате Дорохова, и вошел Риснер. Он приоткрыл дверь, заглянул, заломил бровь и вошел. Позже Дорохову подумалось, что экселенц с порога сообразил, кто этот невысокий крепкий мужчина с внимательными темными глазами. Может, это и было совпадением, но Дорохову показалось, что гениальный экселенц при первом же взгляде на отца выбрал верную манеру. С чьим-нибудь другим отцом Риснер мог бы повести себя легко и чуточку запанибрата. Но папу Риснер просчитал с порога. Он уважительно приподнял брови и сделал несколько неторопливых шагов, пока отец поднимался из кресла.
– Юрий Александрович? – с расстановкой, даже немного торжественно сказал Риснер (как будто все предшествующие годы он жил в нетерпеливом ожидании Юрия Александровича). – Очень рад познакомиться с вами. Риснер.
И протянул руку.
– Дорохов, – спокойно ответил отец и пожал протянутую руку.
Все это звучало привычно для отца – четко и веско. Как на совещаниях в министерстве. Как при встрече с начальниками цехов. Короткое и солидное «Риснер». И ответное доброжелательное и деловое «Дорохов».
Экселенц любезно осведомился: не хочет ли гость кофе?
Отец сказал, что сын только что поил его чаем.
Риснер церемонно показал ладонью на кресло.
Они присели друг напротив друга.
Экселенц чуть хмурился от важности момента.
Отец пристально смотрел на Риснера.
Риснер сплел пальцы на колене и сказал, что Михаил – перспективный и целеустремленный ученый. (Как будто знал, что это специально для отца слова: «перспективный» и «целеустремленный».) Дорохов какое-то время беспокоился, что отец заиграет в мужичка из провинции (мог папа, мог!), станет прятать неловкость за наигранной простотой. А Риснер в ответ будет суетливо расхваливать аспиранта. Нет, экселенц с отцом сразу друг друга просчитали и друг другу понравились.
– Работает хорошо, – сказал экселенц. – Задачу перед собой поставил. Сроки мы с ним наметили.
Отец удовлетворенно кивнул. Мудрый змий экселенц как будто знал, что отец хочет слышать именно эти слова – ясные и короткие. «Задача поставлена», «сроки намечены». Отец с Риснером проговорили больше часа. Дорохов вскоре ушел в комнату к Великодворской.
– Родительская инспекция? – сочувственно спросила Танька. – Да ладно, чего ты смущаешься? Обычное дело. Вы, кстати, с отцом здорово похожи. А кто он у тебя?
– Главный инженер шинного завода, – сказал Дорохов и, непонятно, зачем, добавил: – Кавалер ордена Трудового Красного Знамени.
– Серьезно? Да ты не волнуйся. Экселенц тебя расхвалит.
– Не мели ерунды, – сказал Дорохов. – Чего мне волноваться?
Когда Дорохов вернулся в комнату, отец с Риснером опять жали друг другу руки.
– Был очень рад познакомиться с вами, Юрий Александрович.
– И я рад. Рад, что сын в хороших руках.
Дорохов поморщился.
Старый князь Волконский дает сыну письмо для Кутузова.
Д’Артаньян-пэр вручает сыну письмо к де Тревилю.
Впрочем, отец и тут остался верен себе. Независимость и достоинство он всегда полагал главными качествами мужчины. Но и признавал определенные «правила игры».
«Хлеб за брюхом не ходит, – говорил отец. – Все под кем-то росли… Это не я придумал. Стелиться перед руководителем ни к чему, но лояльность – это другое дело. Не плюй в колодец – пригодится воды напиться».
– У тебя прекрасные перспективы, – сказал отец. – Московская аспирантура, энергичный научный руководитель. Сейчас очень важно не упустить время.
Опять двадцать пять. Сколько раз Дорохов слышал эту тягомотину? Раз пятьсот. Дорохов иногда даже мечтал услышать что-нибудь этакое, к примеру: «Сын, елки-палки! Трудиться на благо советской науки – дело почтенное. Но имей в виду главное: чем скорее ты защитишь докторскую, тем скорее получишь соответствующий оклад. Получишь лабораторию или отдел. Или даже институт. А это – независимость! Независимость от всяких партийных и общественных прохиндеев. Возможность в полной мере удовлетворять собственное любопытство за государственный счет. Это „Жигули“ седьмой модели. Это поездки на международные симпозиумы. Это хорошая квартира в Ясенево или Чертаново. Это нормальная жизнь. Не отдельно взятая квартира, нет! И не отдельно взятые симпозиумы! Но все вместе. Жизненный успех. А успех – он везде успех. Что в Стэнфорде, что в Калтехе, что на Марсе. Поэтому рви пуп, сын!» Но ни разу ничего подобного он не услышал.
Как-то папа объяснял Дорохову, что такое «ньютон». Дорохов учился в шестом классе, и физика у него шла туго.
«Слушай внимательно, – терпеливо говорил отец. – Один ньютон это сила, которая сообщает телу массой один килограмм ускорение один метр в секунду за секунду. Тебе понятно?»
Шестикласснику Дорохову не было понятно.
«Ну, – уныло бормотал шестиклассник. – Ну, а это… Сколько он весит? Сколько весит ньютон?»
«Слушай внимательнее, – невозмутимо говорил отец. – Ньютон это сила…»
И так далее. А надо-то было папе рявкнуть: «Чучело! Ньютон не может весить! Как не может весить секунда! Ньютон – еще одна единица измерения! Вот раньше в твоей пустой голове были секунды, метры, килограммы. А теперь вот тебе еще ньютон, чучело!»
Вот тогда бы Дорохов все понял.
Ребенком Дорохов не дружил с отцом. Тот всегда был на работе. Когда приходил – закрывался в кабинете и подолгу изучал непонятные бумаги. И когда летом выезжали на заводскую базу отдыха (за их семьей много лет был закреплен коттедж с хлипкой дверью, вибрирующим холодильником «Саратов» и черно-белым телевизором «Рекорд»), отец два-три раза в неделю возвращался в город. Его звали к телефону из административного корпуса, потом на песчанную дорожку, усыпанную сухими сосновыми иголками, медленно, шурша шинами, выезжала серая «Волга». Отец отбывал «наводить порядок» – как он с виноватой усмешкой говорил маме.
Дорохов дружил с мамой. Она выписывала журнал «Советский экран», читала стихи Ахмадулиной и Асадова, интересовалась дороховскими школьными любовями и с механической регулярностью выводила отца в театр. В театре отец скучал, но в походах в театр был некий семейный порядок. Культурные события были так же обязательны, как бритье или замена тормозных колодок у «Москвича». Папа повязывал югославский галстук, надевал синий финский костюм-тройку (на работу он ездил в сером, гэдээровском) и шел с мамой на «Валентина и Валентину» или «Утиную охоту».
В раннем детстве папа был родной, от него пахло «Шипром», они ходили в цирк. Папа покупал сливочный пломбир в картонном стаканчике, ничего вкуснее не было этого пломбира. Сверху была розочка из крема, мальчик расковыривал ее плоской деревянной палочкой и слизывал густое мороженое. Папа приходил за ним в детский сад. Мальчик, звонко хлопая подошвами сандаликов, выбегал из «группы», отец приседал на корточки, мальчик бросался к нему на шею. «Сынуля, – тихо говорил отец и осторожно гладил по макушке. – Мой ты золотой». Или в воскресенье папа сидел на диване, читал газету «За рубежом», в ванной шумела стиральная машина, работал пластмассовый репродуктор, передавали «Последние известия» или «Радионяню». Мальчик забирался по диванной спинке к папе на плечи и утыкался лицом в короткие, тронутые сединой волосы. Отец прихватывал за маленькую спину, мягко стаскивал на колени, дул в ухо и целовал в шею.
А потом эта нежность ушла, забылась, растаяла. Дорохов подрос. Отец проверял дневник, выговаривал. Отец не понимал, что нет никакой возможности идти в парикмахерскую, что в классе все пацаны стригутся так, чтобы уши закрыты были. Отец не понимал, зачем надо носить большой круглый значок (покупался большой пластиковый значок с какой-нибудь ерундой, стеклышко аккуратно вынималось, ерунда выбрасывалась, вставлялся вырезанный из «Кругозора» кружочек с Джоном Ленноном или Высоцким) – «Что это за образина бородатая? Зачем это тебе?».
В семидесятых они ездили на вишневом четыреста восьмом «Москвиче» в Боровое, на Иссык-Куль, в Байанаул. Отец делал удочки из ивы, учил плавать. В гараже в ожидании лета хранилась целая туристическая индустрия – польская палатка, надувные матрасы, резиновая лодка, раскладные столик и стулья, бензиновая плитка. Отец в поездках отлично все организовывал: брал лодки на лодочных станциях, легко получал места в кемпингах. Если случалась какая-то заминка, не пропускали машину в заповедник или вдруг не оказывалось мест в пансионате – отец неторопливо шел к телефону, находил начальство. Спокойно представлялся: Дорохов Юрий Александрович, Сибирский шинный завод, депутат Сибирского городского Совета. Сразу находились места, машину всюду пропускали, выделяли катер для экскурсии по озеру, маму катали на водных лыжах. По утрам Дорохов просыпался раньше всех, забирался к маме под одеяло, шептал: «Мы поводим сегодня с папой, ма!». Торопливо съедал манную кашу или картошку с тушенкой и нудел: «Ну пап! Ну ты уже побрился! Давай, поехали!»
Отец заводил припудренный пылью «Москвич», они уезжали на пустынную проселочную дорогу. Отец сажал Дорохова на жесткие колени, обтянутые индийскими джинсами «Милтонс», и они «водили». Колени скользили под дороховской попкой, когда отец выжимал сцепление или притормаживал. Отец включал вторую передачу и легонько подгазовывал. А Дорохов, сопя от удовольствия, цепко держался за гладкий, с пупырышками, руль.
А потом начался сложный возраст, когда родители раздражают, когда они враги и тюремщики. Отец хмурился из-за тройки по физике, из-за того, что Дорохов не хотел идти в парикмахерскую, не желал носить школьную форму – дурацкую темно-синюю курточку с белым пластиковым шеврончиком на правом рукаве и алюминиевыми пуговицами, плохо скроенные брюки.
«Все в ателье шьют. Лута с Рыбой в джинсах ходят. Луте отец штатовские купил, „Супер Райфл“. Ты мне всю дорогу „Рилу“ покупаешь, а она не трется. Ну привези мне нормальные из Москвы. Шестьдесят рублей стоят, итальянские, „Риорда“».
Когда Дорохову было пятнадцать, он снял флаг. Впоследствии это событие упоминалось родителями, как катастрофа. От этого события велся временной отчет в обе стороны. «Мы ездили в Пицунду за год до того, как Мишка снял флаг». «Да ну глупости же, Юра! Ты все забыл. Леночка развелась с ним в семьдесят восьмом, через год после того, как Миша снял флаг».
Накануне Первомая Дорохов прогуливался вечером с Валеркой Ковбоем. Его родители в семьдесят седьмом переехали в Москву. Отца Валеркиного перевели из НИИ аэрофотосъемки в институт «Гидропроект». Проезжая на троллейбусе от «Динамо» к «Соколу», Дорохов, завидев высотку «Гидропроекта», иногда вспоминал Валеру. Ковбой в семьдесят девятом поступил на физфак МГУ, а потом распределился в Курчатовский институт на Октябрьском поле. Но в Москве Дорохов со старым дружком так ни разу и не встретился.
Так вот, они с Ковбоем гуляли вечером возле телецентра. Черт их попутал снять один из красных флажков, что натыкивают в гнезда на фонарных столбах в преддверие народных праздников. Ковбой подсадил Дорохова, тот вынул из гнезда узкий флажок, кое-как приколоченный обойными гвоздиками к круглому, свежеошкуренному древку. Они решили, что завтра пойдут на демонстрацию с собственным флагом. Из вахты телецентра выглянул милиционер и дружелюбно сказал: «Э! Ребята! А ну – подойдите-ка на минутку».
Они подошли. Сержант завел их в проходную, быстро запер дверь и вызвал по телефону «пэ-эм-гэ». Навсегда Дорохов запомнил, что такое ПМГ – «передвижная милицейская группа». И тут началось такое, что здорово напугало пятнадцатилетнего Дорохова. Составили протокол, позвонили Валеркиной маме, она пришла, выслушала лейтенанта, кусая побелевшие губы, и расписалась в протоколе. На следующий день в школе устроили судилище. Три комсомольских собрания провели. А после третьего Дорохову стало страшно по-настоящему. Во-первых, он понял, что игры закончились. Екатерина Константиновна, учительница литературы, открыла книжечку с надписью «Конституция СССР» и со слезой прочла статью про советский флаг. Дорохов не просто снял со столба флажок. Он посягнул на главную советскую святыню. Петр Федорович, географ, однорукий фронтовик, очень любивший отнюдь не по-отечески хлопнуть по тугому заду иную девятиклассницу, угрюмо сказал, что он под Сталинградом с этим знаменем ходил в атаки (Дорохов представил, как Петя-Федя бежит под пулями, сжимая в кулаке маленький нейлоновый флажок со свежеоструганным древком), а теперь всякие паскудыши позорят память героических отцов. А вот Серега Пашкин, комсорг, сказал дело. Они курили с Серегой в туалете, на перемене, и Серега сказал: «Слышь, Миха, если из комсомола исключат – кранты. В институт не поступишь». «Во-вторых» было куда гаже. Через много лет после того, как Дорохов снял флаг, Гаривас принес к Сеньке стенограмму приснопамятной сессии ВАСХНИЛ сорок восьмого года. Зрелые люди, с седыми бородками, в очках, с научным «томов многопудьем» за плечами, находясь в здравом уме и твердой памяти, произносили мертвящий бред. Тёма, Генка, Гаривас, Сеня – они ту вакханалию поняли вполне адекватно, омерзительно им было читать эту жуть. Но не дети были, все знали, не первую такую книгу приносил им Гаривас. Так что они даже и веселились. Даже коллекционировали словечки из того палаческого абсурда.
«Это, Тёма, извиняюсь, вейсманизм-морганизм какой-то», «Вы чо на меня навалились-то, блин, как белочонкинские банды?», «Слышь, Никон! И прямо протокол составили, да? Но зуб-то мужику выбил? Выбил, колись? О! Выбил. Так что органы, брат, никого просто так не арестовывают».
А Дорохов не веселился ничуть. Он массовое безумие видел собственными глазами, когда ему было пятнадцать лет, и никаких веселых воспоминаний у него от этого не осталось. Одно только омерзение и страх. Сопляком был, а понял, как легко превратить людей в стадо. Раз плюнуть.
С Волосатовым он ходил в детский сад, и с Кешенковым, и с Мухаметшиным. С Олежкой Путинцевым три года занимался плаванием, вместе «второй взрослый» получали. С Аркашей Самсоновым вместе собирали концерты «Deep Purple», ходили на толкучку, таясь от дружинников, меняли «Take the heat off me» и Сюзи Куатро на «Made in Japan». Класс был дружный, жили в двух соседствующих дворах, почти все ходили в один детский сад. К тому времени, как Дорохов снял флаг, уже собирались на «вечера», танцевали, обжимались. Пары создавались-распадались, всякие там записочки, выяснения отношений. На Восьмое Марта отряжали выборных за гвоздиками для девчонок. С седьмого класса между собой не «стыкались». Если кто входил в пики, то Пашкин с Лутой мигом растаскивали: «Хорош! На своих не залупаться!». В начале восьмого класса Шкаровский и Козин из девятого «А» отметелили возле столовой Леху Беркасова. Леха возбухнул, Шкару не пропустил без очереди. Козин сделал ему «смазь», а Шкара подсек (самбист был, умел), разбили нос Лехе, и очки разбили. И портфель еще его потом пинали по всему коридору. Леха опоздал на географию, зашел – сопатка в крови, руки трясутся. Пашкин встал, хлопнув крышкой парты: «Кто?..» Все поднялись без разговоров, даже тихий Купреев, даже Пайков. После географии отправили парламентера: в три за гаражами, стыкнемся, чо вообще себе позволяете? Девятый «А» удивился: нюх потеряли, мелкие? Но пришли, восемь на восемь, как предложено. Махаловка была душевная. Боре Удовенко порвали ухо, Путинцеву вмяли внутрь верхние зубы, их потом выправляли, полгода ходил со скобками. Дорохову Шкаровский так навесил по яйцам, что чуть не вырвало от чудовищной боли. Но и старшим перепало, ей-богу, перепало. Шура Раков отгрузил Козину в торец, тот на спину просто повалился. Пашкин с Рыбой уделали Зудельмана, нос сломали. Дорохов, когда очухался, выскочил против Барановского, провел хороший правый прямой в голову. Аж плечо загудело. Барановский поплыл, Дорохов шагнул влево, примерился и завалил Барановского, натурально завалил. Полгода, наверное, потом вспоминали пацаны: «А как Миха тогда Барановского на жопу посадил…». Потом мирились, братались и жили со старшими душа в душу до самого их выпуска. Короче, дружный был класс.
А на третий день собраний и проклятий Дорохов увидел, как глаза у пацанов словно подергиваются поволокой. И Пашкин, и Слащев, и Игорек Рыбин под требующим взглядом завуча завороженно бормотали: «Поступок, это… Порочащий… Звание, ну… комсомольца…» Дорохов стоял у доски, как у расстрельной стены, и изумленно глядел в пустые глаза пацанов. Подняли Пайкова, он сказал: «Исключить из комсомола».
Отец узнал только на пятый день. Он грохнул кулаком по столу, рыкнул: «Ты что, ребенок маленький, что ли? А Валера чем думал? Вы порознь-то хороши, а вместе…».
Отец приехал в школу. Перед этим он переговорил по телефону со своим директором Колоколовым, членом бюро обкома.
«Гаси это в самом зародыше, – сказал Колоколов (Дорохов подслушивал по параллельному телефону). – А то они там все будут сейчас… святее папы. Испакостят мальчишке будущее».
«Подросток совершил необдуманный поступок, – тяжело сказал отец в учительской. – Но преподавательский коллектив, кажется, хочет представить случившееся как идеологическую диверсию?»
Потом отец выдержал паузу и внимательно оглядел завуча, директрису и биологичку-парторга. Те смешались. Отец был сед и величав. На лацкане пиджака поблескивал депутатский значок.
«Вы хотите опорочить мое доброе имя коммуниста? – с легко обозначенной угрозой спросил отец. – Я в партии с сорок шестого года. Что за судилище вы тут устроили?»
Судилище прекратилось на следующий же день. Колоколов организовал звонок из обкома: «Не стоит устраивать из подростковой шкоды политический демарш». Дорохов отделался выговором в учетной карточке (сняли через полгода). Отец сказал, вернувшись из школы: «Уже не маленький, осторожнее пора быть. Можешь всю жизнь себе поломать подобной глупостью. Думай, когда что-то делаешь».
Вот тогда Дорохову хотелось обнять отца. Пятнадцать лет ему было всего, но он тогда понял: мудрый папа взял его, сопляка, за шкирку и вытащил из крупных неприятностей.
А сейчас отец опять завел тягомотину. И чтобы поменять тему, Дорохов спросил:
– Пап, а чего ты не остался в Ленинграде?
– Когда не остался? – недоуменно спросил отец. – Зачем мне там оставаться? Я там и без того проторчал неделю. Там, понимаешь, в «ка-бэ-три» правая рука не знает, что левая делает. Погоди, ты про что?
Отцу, наверное, показалось, что Дорохов говорит о ноябрьской командировке.
– Я вообще, – сказал Дорохов. – Глобально, так сказать. Вот, пап, скажи – почему ты там не остался после аспирантуры?
– Господи, воля твоя, – отец досадливо поморщился. – Чего это ты вдруг об этом заговорил? Да у меня тогда другие планы были. Я и не думал там оставаться.
– Какие планы, пап?
– Была возможность устроиться в отраслевой институт во Львове. Там хорошие возможности роста намечались, докторская. Ты думаешь, что я так тебя терзаю насчет докторской? – отец усмехнулся и провел рукой по седому ежику. – Свою-то докторскую я так и не написал.
– Зачем она тебе? Ты и так…
– Э, не скажи! – отец покачал головой. – Я, если хочешь знать, своего потолка достиг. А если бы я был доктором наук, то это уже другой уровень. Ну конечно, мне не раз предлагали. Сам знаешь, как у нас некоторые замминистра становятся докторами наук. Но это же липа. Это не для меня, – отец коротко повел подбородком. – А для полноценной докторской у меня ни сил, ни времени нет. И не будет.
– А я бы остался в Ленинграде, – сказал Дорохов. – Из кожи бы вон вылез, а остался.
– Пустой разговор, – отец опять поморщился. – Ты же не представляешь, что это было за время. Господи, да голодуха же была! Я тогда думал не о том, чтобы в столичном городе зацепиться. Мне были нужны перспективы. В Оренбурге намечалось хорошее место, начальником цеха. Давали комнату. Приехал туда, вижу – с жильем плохо, одни обещания. А я уже на маму виды имел, – отец улыбнулся и подмигнул. – Человек я ответственный, для семьи нужно жилье. И тут, представляешь, счастливый случай! На коллегии министерства обсуждался кадровый вопрос Сибирского завода. И мой научный руководитель, Николай Кузьмич Петраков. Член-корреспондент, лауреат Сталинской премии – не шутка!.. Он меня рекомендовал на должность начальника технического отдела. У меня был производственный опыт, кандидатская степень. В те времена кандидатская степень очень много значила, особенно для производственника.
Отец отломил корочку, намазал паштетом.
– Приехал в Сибирск. С поезда сразу на завод, представился руководству. Получил через полгода отдельную квартиру. Знал бы ты, что такое в те времена была отдельная квартира для молодого специалиста! Начальники цехов в коммуналках жили…
Отец цыкнул языком, сказал «эх!» и махнул рукой.
– Через полгода мама закончила институт. Мы подали заявление, маму в Сибирск распределили. А ты говоришь – Ленинград. Ну что мне тогда Ленинград? У меня кандидатская – передовой в то время станок!
Отец широко улыбнулся. Словно то время приблизилось к нему. Словно он вновь увидел двадцатипятилетних главных инженеров и тридцатилетних директоров. Увидел цеха, за считанные месяцы выросшие в чистом поле. Увидел молоденьких итээровцев, которые приехали в Сибирск из столичных вузов. Увидел, как мама стоит на пероне с фибровым чемоданом в руке, в суконных ботиках.
Отец оттянул вниз узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу на сорочке.
– Какой там Ленинград, к чертовой матери, – пренебрежительно сказал он. – Тогда, если хочешь знать, молодые специалисты… Ну, те, кто самостоятельнее, кто о будущем своем думал. Так вот тогда молодые специалисты не столичные города на себя примеривали, а строящиеся комбинаты и градообразующие предприятия! Потому что там были перспективы. Страна после войны на ноги вставала, Мишка! Голодное время было, трудное. Тогда такие биографии делались, такие большие дела делались! А, ладно. Что-то я в патетику ударился. Ты в Москве остался – приветствую. И с комнатой удачно получилось… Со временем у тебя будет и квартира, и все будет. Главное – не упусти возможность научного роста! С шефом тебе повезло, серьезный человек. И под себя не гребет. А это, Мишка, нечасто бывает. Я поначалу хотел, чтобы ты остался в МИТХТ. Хотел, скрывать не буду. Но тут Татьяна позвонила, говорит: я его устрою. Честно сказать, я тогда сомневался. Протекции протекциями, но надо смотреть вперед. Чтобы кроме благожелательного руководителя была еще стоящая научная тема. А теперь я рад, что так получилось. В высшей степени удачно.
– Я бы на твоем месте пуп порвал, но остался бы в Ленинграде, – упрямо сказал Дорохов.
– Мальчишка ты еще, – снисходительно сказал отец. – Помнишь поговорку: «Лучше быть первым в деревне, чем вторым в Риме»?
– Надо в Риме в первые пробиваться, – пробормотал Дорохов сквозь зубы. – И черт с ней, с деревней.
– Послушать тебя, так вне Москвы жизни нет, – недовольно сказал отец, вытер лоб салфеткой, скомкал ее и бросил на стол. – Это тоже, между прочим, как это сейчас модно говорить, комплекс. Комплекс провинциала.
– «Провинция – категория несвободы», – сказал Дорохов. – Пап, я же не московские магазины имею в виду. Ты же понимаешь.
– Не умничай. Ты не первый раз так говоришь, мне это не нравится. Да, ты любишь Москву, это я понимаю. Сам люблю, знаешь, прогуляться по Волхонке, по Горького… Помню, восход с мамой встречали на Ленинских горах. У тебя увлечения, друзья. Ты рос начитанным парнем, компания у тебя хорошая. Стоящие ребята, я рад, что ты с ними дружишь. Однако есть еще кроме Москвы большая страна! И страну эту построили неглупые люди! Промышленность создали, науку создали. Москва это хорошо. Но и ты будь сам по себе! Один статус москвича тебе жизненного успеха не обеспечит. Напиши докторскую, заработай на кооператив, семью создай.
И Дорохов прикусил язык. Подумал: а где бы он был сейчас, если бы не папа? Кто бы ему, столичной штучке, обеспечил неголодные пять лет института и роскошную комнату на Полянке?
Когда мама принесла «Прагу», Дорохов уже набросал на салфетке общий вид «Милихрома».
– Вот видишь, – объяснял Дорохов, увлекшись. – Это коллектор фракций. Здесь колонка с устройством ввода образца. И вся штука в том, чтобы прогнозировать эффективность разделения пептидов в зависимости от крутизны градиента.
– Понятно, – кивал отец. – Терминология незнакомая, но логику происходящего понимаю. Знаешь, любой, кто в школе уразумел схему возгонки нефти…
– Вот этим я и занимаюсь, пап, – Дорохов ткнул пальцем в салфетку. – Вся эта байда позволяет выделить в чистом виде составляющие белковой молекулы оболочки вируса клещевого энцефалита. Я, правда, выделяю другие белки. Интерфероны. Это иммунные белки, они нас от гриппа спасают. А надо, чтобы еще от рака спасали.
– Докторскую двигай! – энергично сказал отец.
– Так, ученые! Пьем чай! – велела мама. – Но коньяк разрешаю не убирать. Мишка, что это ты тут надымил?
– Ма! Пап! Ну Новый год же, господи! – возмутился Дорохов. – Да что же вы меня шпыняете-то, как школьника!
Он налил маме мускат «У Красного Камня», а отцу рюмку «Ахтамара».
– Берег к твоему приезду, – сказал отец. – Хороший коньяк?
– Сказочный, – Дорохов поднял большой палец. – Коньяк с легендой.
– Это что значит? – удивился отец.
– Ну, хороший, значит. Редкий.
– «С легендой», – отец подмигнул маме. – Московские словечки. Давай, сын. За докторскую!
Они чокнулись и выпили. То есть это Дорохов с мамой выпили, а отец сделал крохотный глоток и поставил почти полную рюмку на стол.
* * *
– …вежлив с тобой?
– Он доброжелательный человек. И искренний. Он, конечно, не прост…
– Все ли он все тебе разъяснил?
– Велел прийти за подорожной… Я не знаю, как сказать отцу.
– Если хочешь, я пойду к рав Иегуде вместе с тобой.
– Нет. Такое я должен объявить без заступников.
– Рав Иегуда умен на десятерых. Он мудрый и добрый. Он не рассердится на тебя.
– Сначала обучение. Пять месяцев. Те, у кого нет дипломы, учатся полтора года. А для дипломантов – пять месяцев. Присваивается чин.
– Суб-лейтенант. – Это первый офицерский чин в Службе.
– И, ты знаешь, он сказал, что служба вне пределов Провинции обязательна. Пусть только год – но не в Провинции…
* * *
Третьего января нового, тысяча девятьсот восемьдесят седьмого года Дорохов прилетел в Домодедово. «Ту-154» вынырнул из облаков, мягко стукнулся колесами о бетон и трясуче покатился, покачивая грязно-серыми крыльями. За продолговатым окошком понеслись назад самолеты и автозаправщики, наплыло длинное здание аэропорта. Объявили, что первыми из самолета выходят пассажиры второго салона. Дорохов прошел к выходу, задевая сумкой спинки сидений. Многие спинки были опрокинуты вперед, повсюду валялись измятые салфетки, конфетные фантики, пустые бутылки из-под газировки «Буратино». Пахло леденцами и нагретой пластмассой. В пустеющем салоне было душно, по ногам тянуло холодом. Дорохов сказал «до свидания, спасибо» стюардессе в форменном синем пальтишке, взял сумку на плечо и ступил на подрагивающий трап. Дул сырой порывистый ветер. По взлетному полю катились составы из тележек. Пассажиры редкой колонной шли к галерее аэропортовского здания.
Желтые «Икарусы» подходили один за другим. Он заплатил контролерше рубль десять, получил билетик, положил сумку на колени и откинулся на спинку кресла.
– Извиняюсь, вы местный? – спросил сосед.
– Да, – сказал Дорохов. – Москвич.
Подумал: владею, милостивый государь, особняком в Замоскворечье, статский советник, потомственный дворянин из рюриковичей.
– Не подскажете, как в «Шереметьево один» доехать? В Одессу лечу.
– Доедете до конечной, это будет аэровокзал, – сказал Дорохов. – А оттуда автобус до «Шереметьево один». А еще лучше – зайдите в аэровокзал и посмотрите свой рейс. Не исключено, что у вас регистрация в аэровокзале. Зарегистрируетесь прямо там, и вас до самого самолета довезут.
– Спасибо, молодой человек, – сосед снял шапку и положил на колени. – А я вас вроде в самолете видел. Из Сибирска прилетели?
– Да.
– По делам там были, или как?
– По делам, – сказал Дорохов.
Сеня предлагал его встретить на машине, звонил накануне. Дорохов поблагодарил и отказался. Сеня зимой не водил машину. Чтобы встретить Дорохова, ему бы пришлось раскочегарить отцовскую «Победу». Ни к чему это.
Автобус ехал по Каширскому шоссе, за окнами проносились многоэтажки.
Отец встал в пять, пошел в гараж, прогрел «Москвич». Мама сделала яичницу с гренками. Когда оделись, она крепко обняла Дорохова и долго так держала. Потом поцеловала в щеку, сказала:
– Присели…
Отец сел на табуретку, Дорохов на подзеркальник, мама – в кресло в большой комнате.
– Мишка, тетю Таню целуй от нас, – сказала мама и встала. – И кури поменьше! Слышишь?
– Пока, мам, – сказал Дорохов. – Я мало курю. Позвоню, как прилечу.
– Помни, что я тебе говорила. В Баянауле в августе чудесно.
Мама накануне уговаривала Дорохова приехать летом. Чтобы они, как прежде, поехали в Баянаул на машине.
– Ма, я лучше зимой к вам. Пока, ма. Я позвоню, как прилечу.
Они с Тёмой и Сеней планировали в конце сентября поехать в Гурзуф. Они уже были в Гурзуфе в прошлом году – сказочное место. Артек рядом, скалы Адалары, Ай-Даниль, Ботанический сад. До Ялты рукой подать. Договорились с хозяйкой, что напишут ей, предупредят, чтобы оставила за ними сараюшечку.
Отец выехал со двора на Проспект Мира. Светофор на перекрестке мигал желтым. Дорохов зевнул. Спать хотелось отчаянно. Он допоздна сидел у сосны и смотрел фотографии в огромном зеленом альбоме. Потом выпил пару рюмок «Ахтамара» и слушал пластинку Никитиных. У него было несколько кассет с Никитиными, он любил «Балладу о Марии-Анне» и «Бричмуллу». А больше остального он любил «Сон об уходящем поезде». Осенью выпустили пластинку Никитиных. Он купил две штуки в «Рапсодии», на Кирова. Одну пластинку послал маме. Она тоже любила Никитиных. Она и Визбора любила, и Вероника Долина ей нравилась. А от Галича мама однажды просто оторопела. Дорохов на втором курсе привез кассету.
«Быть бы мне поспокойней – не казаться, а быть. Здесь мосты, словно кони, по ночам – на дыбы. Здесь всегда по квадрату на рассвете полки. От Синода к Сенату – как четыре строки».
«По-осеннему деревья налегке. Керосиновые пятна на реке. Фиолетовые пятна на воде. Ты сказала мне тихонько: „Быть беде…“. Я позабыл твое лицо, я пьян был к полдню! Я подарил твое кольцо – кому, не помню…»
«Господи, Мишка! – сказала мама потрясенно. – Я же никогда этого не читала и не слышала! Господи, какое чудо!..»
Дорохов смотрел на фотографии с пояснительными подписями четким отцовским почерком («Мы с Танюшей застряли в грязи подЧелябинском, меняем проколотое колесо»), стряхивал пепел в автомобильную шину и по третьему разу слушал «Сон об уходящем поезде».
«Один и тот же сон мне повторяться стал. Мне снится, будто я от поезда отстал. Один, в пути, зимой, на станцию ушел, а скорый поезд мой пошел, пошел, пошел…»
«Черт, да это же я от поезда отстал. Скоро тридцатник, а кто я, что я? Посредственность. Обычный мэнээс, нормальный графоман. А где-то – «…любят лечь – так лечь. А рубят – так с плеча …» Ничего, ничего. Прорвемся».
Он лег спать во втором часу, а в половине шестого мама его разбудила.
– Не выспался? – сочувственно спросил отец, когда они выезжали из двора. – Сидел, конечно, допоздна?
– Ничего, пап. Посплю в самолете.
– Тебе завтра на работу надо?
– Совершенно не обязательно, – сказал Дорохов. – Я в отпуске до пятницы. А тебе надо?
– Заеду на пару часов. Провожу тебя и заеду.
Дорохов знал, что отец заедет не «на пару часов», а на полдня. Сроду такого не было, чтобы отец больше суток отсутствовал на заводе.
Они проехали мимо телецентра. Дорохов увидел ярко освещенную проходную и вспомнил, как они с Ковбоем сняли тот флажок.
– Ковбой-то – в Москве живет, – сказал он. – Знаешь?
– Кто? А, Валера, – отец кивнул. – Подельник твой. Да, ты говорил. Так они же, вроде, давно переехали. Чего ты вдруг вспомнил?
– Да так. Он жил тут неподалеку. С Аркашей Самсоновым в одном доме. Вот в этом.
Он показал на пятиэтажку слева.
– Видишься с ним в Москве? – отец поправил очки.
– Нет, – Дорохов покачал головой. – Так ни разу и не видел. Года три назад, когда домой приезжал, слышал от кого-то из «ашников», что он физфак закончил.
– Он толковый был парнишка, – сказал отец. – Воспитанный. Когда звонил – всегда «пригласите, пожалуйста, Мишу». Хороший парень.
Дорохов тоже улыбнулся, вспомнил, какой скандал однажды разразился в школе из-за Ковбоя, это уже в десятом классе было. Валера здорово разбирался в футболе, сам хорошо играл. Вокруг него всегда были ребята, которые интересовались футболом. Они ходили с блокнотами, где были таблицы игр на сезон. Стояли возле столовой и обсуждали: как сыграл «Пахтакор» с «Черноморцем» и «Зенит» с киевским «Динамо». Ребят становилось все больше, и обсуждали результаты игр они все азартнее. А потом какая-то падла настучала. Оказалось, что толковый и воспитанный Ковбой уже вторую четверть руководит школьным тотализатором. Ставки скромные – рубль, полтора. Но Ковбой успел приобрести кассетный магнитофон «Легенда» и коньки «Ботас». Никто из болельщиков не раскололся. Ковбоя таскали к директрисе. Но он молчал, глядел на директрису невинно и обиженно.
– Слушай, а Семен где работает? – спросил отец. – Он какой врач?
– Нефролог, – ответил Дорохов. – Работает в Первой градской.
– А Артём?
– Тёмка с филфака. Литературу в школе преподавал. Сейчас работает в «Литературной газете». Пишет эссе, но так пока, в стол.
– Нравятся мне твои ребята, – с добром сказал отец. – Компания у вас дружная. Это славно. И люди серьезные, не разгильдяи какие-нибудь.
Мужиков отец видел не раз. Осенью, когда приезжал на коллегию, даже попал на «салон». Папа приехал на Полянку вечером – а они там все в костюмах и галстуках.
И тут Дорохов вспомнил, о чем хотел спросить отца. Хотел, да так и не спросил.
– Мы перед отъездом говорили с экселенцем, – как бы между прочим сказал он.
– С кем?
– С Александром Яковлевичем. У нас перспективное направление, понимаешь.
– Так, – отец кивнул. – И что?
О перспективах, планах и докторской отец готов был говорить сколь угодно и когда угодно. Хоть в шесть утра, по пути в аэропорт.
– Это, конечно, все так. Предварительно. Короче говоря, не исключена возможность работы за границей.
– Прекрасно! – твердо сказал отец. – А где? В гэ-дэ-эр?
В прошлом году Дорохову невероятно повезло, и он съездил в Дрезден, на конференцию молодых ученых, секция биоорганической химии. Если быть точным, то повезло ему с Риснером. Это Риснер убедил Дебабова, что от института надо послать именно Дорохова Михаила Юрьевича, члена ВЛКСМ, кандидата химических наук.
Так Дорохов побывал в ГДР. Отца это, помнится, очень воодушевило. «А-а-атлично! Первая зарубежная командировка. Хорошее начало, Мишка!»
– О чем речь идет? – спросил отец. – Стажировка? Надолго? Месяц? Три?
– Надолго, пап, – сказал Дорохов. – Может быть, не на один год. Но это пока так, прикидки.
– Ну а куда? Нет, я понимаю, сглазить боишься. Ты намекни хотя бы. Чехословакия?
– Немного подальше, пап. Как ты вообще к работе за границей относишься?
– Как я могу относиться? Пару лет поработать в Чехословакии! Или в гэ-дэ-эр. Это, знаешь, в послужной список – очень даже не лишнее. Расширишь кругозор, новые деловые знакомства. Одобряю.
Отец плавно выехал на Проспект Маркса и остановился на пустом перекрестке.
– Я ведь не на один год могу поехать, пап. Пока еще ничего не решено, шеф только планирует.
– Даже не раздумывай! Редкий шанс! Эх, черт возьми! Вам, современным ученым, сейчас все возможности! Завидую. Ей-богу, завидую. Два года в Чехословакии – прекрасно!
Отец вздохнул и рукой в перчатке опять поправил очки.
– Может, еще ничего не получится, – пробормотал Дорохов.
Он уже жалел, что затеял разговор. Все равно он бы не смог сейчас набраться храбрости и рассказать про Гольдфарба. А обо всем остальном – о разговорах с Хорей, о своих раздумьях и очереди за «Московскими новостями» на «Новокузнецкой» – об этом смешно с папой заговаривать. И папа тут же доказал, что об этом заговаривать не стоило.
– Время наступило новое! – убежденно сказал он. – Мишка, здоровые силы в партии и обществе берут верх.
– О господи, – прошептал Дорохов. – Пап, может, мы быстрее поедем, а?
* * *
…несколько лет. В Ерошолойме, в архиве Службы, на втором этаже серого дома, что неподалеку от Дамасских ворот, хранятся подорожные, докладные, списки курсантов, экзаменационные листы и записи о чинопроизводстве. Там, верно, лежат на одном из стеллажей записи о Севеле из Эфраима, молодом человеке торгового сословия, сыне Иегуды Малука. Архивы подобны колумбариям, судьбы и деяния сберегают в могильном покое. Архив одинаково равнодушно сохраняет пять лет молодости суб-лейтенанта и десять лет почтенной старости легата. Открыв выцветшую папку, трудно вообразить: а что же значили для человека, чье имя на корке, те годы, что выписаны под именем?
Такие «несколько лет ранней молодости» – мало того, что они необыкновенно значимы, – вспоминая их, невольно впадаешь в торжественную грусть. Нет, это не просто значимые годы. Это стена. Высокая, гладкая, ни звука с той стороны. Прохладные шершавые блоки положены без зазора, не вскарабкаться – только обломаешь ногти. За стену не заглянуть, не передать записку, не перекрикнуться с молоденьким беспечным парнишкой, что остался по ту сторону. Такая перемена происходит лишь раз, в ранней молодости. Случилась она, легла морщинка между бровей, взгляд стал тяжелее и увереннее, и вот оно – прежнего Севелы нет и не будет никогда.
И когда миновали эти самыерубежные несколько лет, он – до словечка, до мельчайшего движения губ и бровей – помнил тот разговор с Нируцем, в вечернем саду, за домом, когда старики угрюмо плясали хору, а молодежь пила вино в саду.
Что стало бы с ним, не будь Нируца? Кем бы он был без Нируца? Каким бы жалким бессильем мучился? Как скоро превратился бы в прижимистого торговца, одним лишь делом поглощенного и делом живущего? Как тоскливо терзался бы молодой (а вскоре и немолодой, семейный и осанистый, почтенный и повязанный по рукам и ногам торговлей, домом) Севела ничтожной своей, несведущей малостью? Стал бы еще одним послушным и крохотным под руками пастырей? Прожил бы всю свою – короткую или длинную – жизнь смирно и сыто. Так повозка катится по колее от одного поселения до другого, от одних городских ворот до других, от свежего утра до ветреного вечера.
Служба усылала его в Аравию, Киликию и на фронтир, к парфянам. Эпир, Мармарика и Новый Карфаген – всюду он побывал, энергичный, любопытный суб-лейтенант. Конечно же, он вновь увидел метрополию. Проехал – удивляясь, завидуя и любуясь – от Тарента до Остии. Поднялся, сжав кулаки, на Форум. Изумленно озираясь, прошел через лес статуй из мрамора и бронзы. Облизывая пересыхающие губы, во все глаза смотрел на Комиций, на базилику Эмилия, на Большой Цирк и храм Юпитера Статора. Рим оглушил и ослепил. Молодой Малук увидел мощь и совершенство гигантского человеческого жилища. Cевелу все изумляло, даже шестиэтажные муравейники в квартале Субурра, где на стенах писались объявления о сдаче квартир внаем, где развращенный, бездельный плебс поколениями жил от одной раздачи хлеба до другой, где десятки семей теснились на одном этаже, а смердящие отбросы вываливались на узкие улицы. Но и эти многоэтажные ульи поражали огромностью и совершенной планировкой. Рим был необозрим, он гудел и кипел, праздновал и перестраивался, трудился и никогда не засыпал. Удальство сиккариев, стоическое упорство зелотов – все это представлялось теперь Севеле бессмысленным окраинным разбоем. Дела Провинции могли быть только скучны тому, кто видел Капитолий и Большую Клоаку, библиотеки и педагогии, бесконечные, до горизонта тянущиеся воинские лагеря – геометрическое чудо фортификации по обе стороны Аппиевой дороги. Провинция представала крохотной и убогой, когда молодой человек смотрел на исполинские акведуки и несокрушимые пропилеи Рима.
Что дал своему народу Предвечный? – думал Севела. Что дал людям дотошный и непрощающий канон? Скудную страну, которая пожирает самое себя? Удушающие правила, злое отрицание всего непохожего? Ну а корни, истоки, трактование истории народа джбрим – не сомнительно ли все это? От самых седых начал – не сомнительно ли? Пришествие Моше в земли хиттейцев и моавитов, грабительский рейд, что веками прозывается благочестивым подвигом… А спрашивал ли кто хиттейцев, эдомитов и амалекитов: благом ли было для сих народов вторжение отрядов Моше в их земли? Предвечный отвел джбрим Кнаан? Земли Сихона и Ога? Заиорданье и Аялон? Ой ли? Предвечный даровал джбрим прекрасный Эздрелон? Так ли? Думается, что бойцы Моше и Бен-Нуна и без Предвечного взяли бы себе эти земли, бешеные были люди, бешеные и безжалостные. От самых седых начал повелась большая ложь.
«…И будет, когда приведет тебя бог всесильный твой, в страну, которую он поклялся отцам твоим, Аврагаму, Ицхаку и Яакову, датьтебе, – города большие и хорошие, которых ты не строил, и дома, полныевсякого добра, которые не ты наполнял, и колодцы высеченные, которые не ты высекал, виноградники и маслиничные деревья, которые не ты посадил…»
Может быть, Предвечный и сделал так, что люди Иехошуа Бен-Нуна дрались в пешем строю лучше хивейцев. Может быть. Но где, скажите, был Предвечный, когда Шалманассар и Саргон в клочья разорвали Самарию? Чем Он был занят, Непостижимый, когда жирный, смрадный дым стелился над развалинами Сихема, когда солдаты Шалманассара вспарывали животы старикам и насиловали детей? В какую сторону Он смотрел, Вседержащий, когда от Иордана до горы Гаризим легла обугленная пустыня? Джбрим непреложно правы, избраны и угодны Ему, а против них весь богодерзкий мир. Когда джбрим убивают инородцев – се разумно и богоугодно. Когда убивают самих джбрим – се высший промысел. И длится веками кровавая круговерть, и всегда правы джбрим и преступны инородцы. Иешая, сын Амоца, знаменитый обличитель, кричал: «Ашур лишь палка в руках разгневаного Предвечного!» Хороша «палка». Ассирийцы в считанные годы вырезали и выселили все цветущее десятиколенное царство. И знать не знали, что они всего лишь «палка». А тот, кто держал в руке палку? Он что же, Безбрежный, – он сотни лет наблюдал за страданиями детей своих, а в утешение и надежду посылал лишь новые страдания?
Вот так он думал, свежеиспеченный суб-лейтенант.
Он видел старые документы, он прочитывал в книгохранилищах Дамаска и Библоса древние тексты. Их греческая вязь, арамейская угловатость, и лацийская завершенность с ног на голову перевертывали мир. Эти тексты, что неприветливые библиотекари выдавали человеку Службы, – они камня на камне не оставляли от той истории, которую преподавали в Яффе. От того, что талдычили в храмовых законоучилищах. От того, что непреложно рекла Книга Союза, скорбно повествовала Книга Иеремии и победно резюмировал Декалог. В читальнях Севела стал помалу понимать: за пределами Провинции человеческому разуму свободнее. Огромный мир, лежащий за пределами Провинции, равнодушен к учению Книги, и равнодушие это ничуть не обеднило тот мир.
Молодой человек прочел Ксенофонта и Фукидида, Гераклита Эфесского и Анаксагора из Клазомен. Поначалу любознательный суб-лейтенант потерянно чувствовал себя в дебрях эллинской риторики. Однако же он сумел разобраться в приемах Протагора из Абдеры и заковыристых словесах Продика из Кеоса, в писаниях Геродота из Галикарнаса и доказательных уловках Гиппия из Элиды. Молодой Малук тогда рассудил так: долгие рассуждения софистов стоили не меньше строгих умопостроений Платона. Верное понимание сущего неотделимо от малопредметной риторики.
Иеваним открылись во всей своей изощренности и ясности. Без многомудрого говорения иеваним не было бы прагматизма романцев. То, что яффский курс теологии называл «несуразным», «путаным» и «громоздким», перенаселенный аттический ареопаг, мешанина эллинических божественных персоналий – это не варварство, нет! Мир иеваним радостный, сочный, плотский. Такой же яркий, как их открытые всем ветрам храмы, как их расписанные густыми красками статуи. И таков же их ареопаг. Сношения иеваним с богами сложны и сиюминутны. Их боги могущественны, справедливы и прекрасны. Их боги мелочны, похотливы и завистливы. И с их богами можно поладить! Что запрещал Зевс-Громовержец, то лукаво дозволяла интриганка Гера. Солдафон Арес мог сколь угодно колотить кулаком по столу, но супруга его, любвеобильная Афродита, шкодливо, втихую, делала по-своему. Мироздание с чумазым от копоти Гефестом, прохиндеем Гермесом и красавчиком Апполоном было куда радостнее, чем овечьи выпасы, глинобитные кварталы, пустынные дороги и маленькие поля, над которыми царил Предвечный.
Позже, исполняя службу, он допрашивал и опрашивал, разбирал сводки, сверхтерпеливо (как учили!) выискивал. Он ужом (как учили!) пролезал в душу всякого, кто интересовал Службу. Он лгал – двадцать, тридцать раз на дню лгал, сколько надо было, столько и лгал, и обещал, и клялся – все для того, чтобы выудить крупицу достоверного. Он изнывал от скуки в высоких присутствиях и имел дело с людьми из канцелярии первосвященника. Ему доводилось разговаривать с левитами и прозелитами. О, у него был презанятный круг общения все эти годы! Он обхаживал интеллектуалов и цеховых старост, он спорил с профессорами и кутил с сиккариями – коренастыми убийцами в засаленной овчине. Он получил то, чего горячо желал щенком, свежеиспеченным дипломантом. Увидел: как управляют людьми, как сберегают покой на границах и как предотвращают смуты.
Чего только не было в его жизни после встречи с Нируцем, после разговора с суб-инспектором на улице Зерубабель. И он всегда соотносил свои поступки с разумением Нируца. Он чувствовал Нируца за своими плечами. Всегда. Каждый день. Год за годом. Нируц выдернул его из ничтожной, послушной жизни. И Севела это благодарно помнил. Всегда помнил. И всякий раз, когда…
* * *
«…лист I
Гриф «архив»
Имя: Севела Малук
Scholа Морешев-Геф
Севела Малук родился в Сепфорисе, что в Галилее, в 34-й год правления Божественного Октавиана, месяца перития, двенадцатого дня. В 37-м году правления Октавиана Августа семья Малуков переселилась в Эфраим. Обучался он в иешиве, в квартале Бир, до 13-го года правления Божественного Тиберия. В том же году стал слушателем Schola при яффском филиале Атенея. С третьего года обучения он почетный стипендиат Иоппийского Союза лесоторговцев. Был принят на негласный учет региональным инспектором, легатом Сервием Страбоном. Окончил курс в 18-м году правления Тиберия, снискал диплому первой категории.
Полгода по окончании курса прослужил в семейном торговом доме. Обратился с письмом к городскому инспектору Луцию Мирру. На приеме у инспектора выказал открытость и здравомыслие. По отзыву Мирра, местных изоляционистских традиций молодой Малук чужд, желает дальнейшего обучения и стремится в метрополию. Ручательство суб-инспектора подкреплено ручательством майора Нируца из Ерошолоймской резидентуры. Нируц в своем ручательстве ссылался на давнее знакомство с семьей Малуков и обращал особое внимание региональной инспектуры на широкий кругозор молодого Малука и его независимость в суждениях.
Почтенный Светоний! С чего это Ваш Нируц вообразил, будто Служба есть лучшее поприще для баламута? Молодой человек образован и вышел из хорошей семьи – и того довольно. Намекните Нируцу, чтобы он, нахваливая своих рекрутов, не упирал на «независимость в суждениях».
Плацид.Лист II
Имя: Севела Малук
Отдел: Гермес
Курс введения в специальность – школa Морешев-Геф. Ритор курса – легат Цестий Плацит. Экзамен по специальности «Курация сектантов» Малуком выдержан седьмого дня месяца дассия 20-го года правления Тиберия. Присвоен чин «суб-лейтенант». Получил назначение в Хайфу.
Месяц панем 20-го года правления Тиберия – месяц аудинай 22-го года: курьер региональной инспектуры, Хайфа.
Затем дозволен отпуск для устройства семейных дел.
Месяц перитий 23-го года правления Тиберия – месяц лоос первого года правления Божественного Гая Юлия: помощник районного инспектора, Изреель.
Месяц гарпей 2-го года правления Калигулы – месяц дистр: младший следователь городского Управления, Тивериада.
Месяц ксантик 2-го года пр. К. Малук провел у зелотов, в лагере Элеазара Бар-Галеви, что в Сихеме. Проявил в том деле хладнокровие и храбрость. Своевременно вызнав о замыслах главаря, Малук уберег от нападения местный гарнизон. Тайком покидая лагерь, Малук с товарищем убили пятерых зелотов. По возвращении Малуку дан чин «суб-капитан». Представление к производству сделал полковник Марк Светоний.
Месяц артемизий 2-го года пр. К.: семинар по Левитическому кодексу в Риммоне, Идумея. Ритору семинара Иешуйе Бар-Гоцу представлен как талантливый самоучка из сиккариев. Вошел в полное доверие к ритору, заручился рекомендательным письмом.
Месяц дассий 2-го г. пр. К. – месяц аппелай 3-го г. пр. К.: казначей консульства в Диоскуриаде и Фасисе. Совершил пять поездок в Армению, установил сношения с офицерами пограничной стражи. Казенные деньги расходовал оправданно, тщательно документировал выплаты. Остаток передал офицеру, присланному на смену, и настоял на аудите. Тем была подтверждена замечательная рачительность Малука. Ему дан чин «капитан». Дан также знак «Служебное усердие».
Месяц аудинай 3-го г. пр. К. – месяц панем того же года: секретарь представительства Синедриона в Александрии. Тогда же отослана для высочайшего рассмотрения служебная монография «Культ Атона и Второзаконие. Теософские параллели и аллюзии».
Последовала личная благодарность наместника. Монография рекомендована к изучению в восточных Schola Службы. Семья Малуков указом наместника освобождена от налога на все торговые операции сроком на десять лет. Семье выдано вспомоществование в покрытие убытков от денежного кризиса, имевшего быть во время правления бож. Тиберия.
Месяц перитий 4-го года пр. К. и по настоящее время – старший инспектор резидентуры, Ерошолойм.
Почтенный Светоний! Отвечая на Ваш запрос: из всех выпускников Морешева майор Нируц дважды просил направить в его отдел именно этого офицера. Я хорошо понимаю Нируца. Малук усерден, хорошо образован, среди уроженцев такие редкость. К тому же они с Нируцем родом из одного города.
Ваш Квинтилиан.Гриф «служебная переписка».
Двойное вложение.
«Дорогой Бурр! Эта моя инспекция была настолько суматошной, что я не все успел с Вами обговорить. Только отплыв из Аполлонии, я стал приводить в порядок свои торопливые записи. Погода стоит великолепная, судно сейчас на полпути к Родосу. Госпожа Орестилла с детьми наладилась удить рыбу, они обещают мне сегодня на ужин жареную кефаль. Капитан развлекает меня лекциями о навигации и угощает молодым эшкольским. Увы, стоит штиль, и вонь гребцов проникает даже на верхнюю палубу.
В Ерошолойме я просмотрел рекрутские списки последних трех лет. Прилагаю к сему письму копию одного документа с приписками – это о некоем Севеле Малуке, молодом капитане из отдела Гермес. Парень споро карабкается по служебной лестнице. А наш умница Нируц изо всех сил подпихивает мальчугана в задницу. Прошу Вас, приглядывайте за парнем. Будет жаль, ежели Нируц втянет многообещающего офицера в авантюру. Нируц умен и удачлив, ему многое прощается. Он, кажется, легкомысленно полагает, что я отношусь к нему благодушно, – это не так, Бурр. Я наблюдаю за каждым офицером из уроженцев и ни одному из них не доверяю. Когда придет время осадить Нируца, это будет сделано скоро и твердо. Итак, припоминайте: Севела Малук. А еще лучше – разделите эту парочку. Так будет вернее.
Далее. Перед отплытием моим из Аполлонии Вы сказали, что Светоний излишне мягок с парфянскими эмиссарами. Я помню тот наш разговор, хоть было это за полночь и устали мы тогда безмерно. Я знаю, что парфяне это Ваша самая большая забота. Но примите и резоны полковника Светония. Он двенадцать лет служит в Провинции, он чувствует ее, как чувствуют зуд под лопаткой, тесный башмак, ссадину на локте. Он знает, что говорят на рынках и что говорят в Синедрионе, он знает – знает! не «предполагает», не «догадывается», но знает! – что затеют зелоты на праздник Опресноков, как именно следует ублажить десятиградских кохенов в неурожай и как действовать на фронтире. Вы, я знаю, не мелочный человек. Вы далеки от интриг и подсиживания. Светоний не соперник Вам – он Вам верный помощник. Светоний мыслит широко и положение дел на Востоке оценивает настолько компетентно, что странно это видеть в человеке столь скромного происхождения. Вы ведь читали его докладную о положении на фронтире. Если не знать Светония лично, а только прочитывать его доклады, то представляется интеллектуал, знаток геополитики, а вовсе не армейский ветеран из крестьянских сыновей. Светоний грубоват, вы нередко ссоритесь, но он понимает главное: Палатин не сможет установить прочных сношений с Кушанским царством и Бактрией, не установив таковых с парфянами. Нам нынче как никогда нужен покой на фронтире! Но и ослабление парфян для нас опасно. Коли парфяне перестанут сдерживать хунну, то хунну пойдут на Запад. А кочевники это очень хлопотно. Кочевники это беда. Рим успешно противостоит царствам, чья военная доктрина схожа с римской. Сдерживать же сумасшедших кочевников, да еще в условиях этого изнурительного климата есть сущее мучение для армейских. Наши дипломаты, благодарение Арею-воителю и хитрецу Гермесу, смогли столкнуть персов с армянами. Если случится такое, что армянский царь Артабан захочет взять свое на границе с землями Рима (зная вздорный нрав Артабана, такое можно предположить), то и кушаны поведут себя несговорчиво. И Бактрия, и Согдиана тогда тоже станут задираться. Так что изворачивайтесь, Бурр, изворачивайтесь! Это Восток, тут не годятся прямота и безоглядность. А если Вы поведете себя с парфянами неуступчиво – во что это станет? Задумайтесь о том. Ваша Служба станет жечь форпосты и вешать лазутчиков-факиров. Армейским вновь придется посылать конницу в рейды. Несчастная конница! По выучке своей кавалерия легиона стократно превосходит парфянскую. Но по численности – увы! В Провинции у нас на счету каждая турма, каждая центурия, а потери в рейдах чересчур велики. Ежели парфяне отзовут посольство (чего нам только стоило это посольство!), то на фронтире начнется прежняя кутерьма. Четвертый легион придется растягивать по всей границе. Отважный и многотрудный Четвертый легион! Им от века штопают прорехи на Востоке. Признаюсь Вам: Сенат непременно поставит мне в вину потери Четвертого легиона. А потом парфяне ударят. А они непременно ударят, непременно! И сиккарии поднимут голову. Подобное уже было лет сто тому назад. Когда царь Пакор захватил Сирию, в Провинции тотчас разгорелось восстание. Парфяне вследствие того захватили почти всю Малую Азию.
До ближайших ауспиций я не желаю ничего слышать о парфянах! Пусть уж это будет заботой наместника. Он вошел во вкус восточной дипломатии. Наместник, как я знаю, взял под свое крыло одного всадника, неугодного в метрополии, и тот вполне хорошо совершает дипломатические ходы. Да и я, кажется, отравлен Востоком – стал писать с несвойственными мне прежде длиннотами.
Госпожа Орестилла в восхищеннии от шелка, что Вы подарили.
Ваш Лонгин.И вот еще что. В разговоре с Каиаху обмолвитесь невзначай: принсепс, как Вам стало известно, намерен понизить закупочную цену на ливанский кедр…»
…часть пути, от Гаваона и до самых Долинных ворот, он подогревал в себе злость. И хоть она уже уступала место усталости, но он не давал злости остывать. Он стер колени о чепрак, сбил зад о каменный хребет коняги, лицо покрывала корка пыли, и струйки пота оставляли зудящие дорожки на висках. Временами он ронял подбородок на грудь и погружался в зыбкую дрему. Лошадь спотыкалась – и он вскидывался, хватаясь за холку. Но все берег свою злость.
Он второй день ехал в Ерошолойм на казенных лошадях, низкорослых и худых (а особенно хороша была эта – буланая кобыла с подставы в Бет-Хороне). И час за часом разучивал речь, полную яда и укоризны. Он злобно думал, как войдет в кабинет Нируца и – неторопливо и едко – наговорит дерзостей.
Но на подъезде к Ерошолойму в нем уже не осталось злости – одна только мучительная усталость. И ломота в пояснице, и жгущее саднение у колен, и отвратительное ощущение пыли в носу и в уголках глаз.
Выбравшись из опостылевшей Лидды, он положил себе проехать до Ерошолойма за два дневных перехода. Путь лежал через Бет-Хорон и Михмас. А если свернуть от Михмаса на север – в двадцати милях стоял город Эфраим. В Михмасе Севела выискал здание администрата. В дверях его почтительно встретил ветеран из местных. В городишке он был и за начальника почты, и за начальника стражи. Старик увидел, какая важная птица залетела в Михмас, и угодливо засуетился – вставал, садился, брался за стилос, потом откладывал стилос, преувеличенно внимательно записывал в лист следования, по десятому разу рассказывал, как лучше выехать на Ерошолоймскую дорогу, хотя других дорог близ Михмаса не было. Севела с некоторым усилием вытащил из пальцев без умолку лебезящего начальника лист следования, поблагодарил и поскорее вышел из приземистого домика. В пустой таверне у городского вала он поел пресного мяса и ополоснул лицо из бадьи.
«Всего двадцать миль до Эфраима, рукой подать, – подумал он и смахнул капли с бровей. – Можно доехать еще до заката. Я полтора месяца не писал отцу. Завтра же напишу. Какие-то двадцать миль. Сколько раз я въезжал вечером в Эфраим… Как будто это было не со мной».
Он встал на колоду, переполз в седло (потертости на коленях саднили мучительно), ударил пятками, и кляча потрусила на восток.
После полудня он дважды встречал конные патрули, показывал жетон, верховые сонно салютовали. Он ехал милю за милей, изредка отпивал из баклаги. Солнце пекло немилосердно. За крупом кобылы поднималась пыль и долго висела в воздухе вытянутым облаком. Иногда он переводил кобылу на рысь. Кляча засекалась и храпела, Севела подгонял ее с опаской.
«Если костлявая тварь падет, то это станет последней каплей моих мучений, – думал он. – Если вернусь в Ерошолойм пешим, у меня не достанет сил плюнуть Туму в лицо».
По обе стороны дороги лежали маленькие поля с гречихой и пшеницей в обрамлении кустарника и полуразвалившихся низких стен из песчаника. Вспархивали зяблики, гудели оводы. Ближе к вечеру подул ветерок, солнце опустилось к холмам, дорога пошла вверх. По склонам вились плетеные изгороди виноградников. За одним из холмов, далеко впереди, просунулся, как грязный зуб, узкий четырехугольник Гиппиковой башни. Потом стала видна стена дворца Ирода – тонкая коричневая полоска. Севела заторопил кобылу – и напрасно, кляча выбилась из сил более самого Севелы. Ерошолойм понемногу становился ближе, из большого бурого пятна на фоне блекло-зеленых холмов стали проступать, как крохотные ячеи, домишки Верхнего города. Из колышащегося марева выступила башня Мариаммы. И вот Ерошолойм стал отчетливо виден – изящный абрис акведука, скопище лачуг Нижнего города, различались уже контрфорсы Первой стены и белый купол Иродовой базилики. Солнце опускалось к лысым верхушкам окрестных холмов, к Долинным воротам тянулась вереница возов – чей-то поздний обоз входил в город. Совсем скоро Севела проехал перекресток с дорогой в Вифлеем.
Его путешествие окончилось, он въезжал в город Ерошолойм.
Постовой у арки отклонил вперед копье, Севела натянул повод, нащупал в складках трабеи жетон на ремешке и показал. Долговязый легионарий вгляделся, вытянув шею, выпрямился и уставно пристукнул древком. Севела кивнул. Постовой качнул головой в начищенном шлеме и шагнул в сторону, пропуская всадника под арку. Севела ударил пятками, и измученная буланая кобыла с бет-хоронской подставы трясуче внесла его в тень. Запахло сырым кирпичом и дегтем. Над головой проплыли трещины оштукатуренного свода. Обдало прохладой, и Севела взбодрился – он вернулся в Ерошолойм, его не доконали Лидда и старый болтун, жестокое солнце, оводы, пыль и дрянная еда.
За воротами он повернул налево.
Во дворе башни Фасаила было безлюдно в тот час. Вечерний ветерок всплесками поднимал рыжую пыль с плит, над кровлей дворца Ирода кружили голуби, жара спала. Курсант в серой тунике, упираясь грудью в перекладину, с тягучим скрипом проворачивал колодезный ворот. Стражник у дверей встал с порожка и вышел из-под навеса. Севела спешился и бросил узду на холку. Кобыла грустно покосилась дымчатым глазом и принялась выщипывать пучки жухлой травы, пробивавшиеся между выщербленных плит двора. Подошел караульный, отсалютовал и принял повод.
– Майор Нируц в присутствии? – сипло спросил Севела и выхаркнул темную слюну.
– Да, капитан, – караульный потянул кобылу в сторону. – Ждет вас с полудня, капитан. Велел передать, чтобы вы проследовали в его кабинет. Прикажете воды?
– Да, капрал, полейте. Очень обяжете меня.
Он развязал тесьму на шее и бросил пропыленный плащ на круп клячи. Та испуганно присела на задние ноги и всхрапнула. Капрал отвел кобылу к бронзовому кольцу в стене. Севела расстегнул пояс, положил его у ног, стер шейным платком пот со лба и со стоном размял поясницу.
Капрал, сопя от натуги, поднес полную до краев бадью. Севела наклонился, уперся локтями в колени, и стражник полил ему на голову.
– Уф… – Севела выпрямился и ладонями отер лицо. – Так вы говорите – майор у себя?
– Приказал немедленно пригласить вас, капитан. Ваша туба, капитан.
Он подал Севеле пояс с тубой. Там лежали списки речей проклятого старого болтуна.
– Благодарю, капрал, – Севела подхватил пояс и пошел к входу. – Прикажите принести воды с лимоном в кабинет майора Нируца. Ваш вечный должник, капрал.
Стражник потрепал клячу за холку и повел ее к каменному корыту в углу двора, поить.
Севела поднялся на второй этаж, прошел по узкой галерее. Возле дубовой двери с медными петлями он остановился, хотел было постучать, но потом просто толкнул дверь, вошел и громко сказал:
– Я вернулся, мой майор! Я принес тебе все свое удручение последних двух недель, мой майор!
– Превосходно, – сказал Нируц. – Вот ты и объявился!
Нируц стоял у окна, изящный и нарядный, темные волосы промыты и расчесаны, белизна туники, казалось, делала воздух в кабинете свежее. И даже ногти на ногах – Севела видел их сейчас, Нируц всегда носил открытые матерчатые сандалии – были чисты и отполированы.
Вот этому-то человеку не пришлось трястись по пыли и жаре два дневных перехода, подумал Севела. Этот человек не имеет касательства к лошадям с подстав, пыльным дорогам и дрянной еде в придорожных лавках.
– Отчего ты поджимаешь губы? – спросил Нируц. – Ты что, не рад, что вернулся?
– Я рад. Я две недели мечтал о том, как приду к тебе и выскажу все об этой поездке. «Объявился»… Ты говоришь так, будто я вернулся из отпуска.
– Сядь, прошу тебя, – просительно сказал Нируц. – Ты думаешь, что съездил впустую? Так?
Севела опустился в кресло.
– Мой Тум, я потратил время зря. Две недели я потратил зря.
Нируц сокрушенно покивал и развел руками.
– Две докладные я тебе послал, и ты знаешь, что я думаю об этом Цукаре, – сказал Севела. – Десяток пустобрехов с ним. Обычные болтуны. Спрашивается, почему ты делал такие страшные глаза?
– Но позволь…
– «Запиши до слова», «не упусти ни одной малости»… «Я уверен, что поездка будет важной»… Две недели без бани, две недели болтовни и молитв! И, кстати сказать, две недели без Иды… А теперь ты говоришь, что я «объявился». Мне следовало вернуться уже через три дня! Почему ты не отозвал меня сразу?
– Не сердись, – миролюбиво сказал Нируц. – Тон твоей первой докладной я отнес на счет твоего раздражения. Я хотел, чтобы ты убедился.
– Я убедился на второй день. Сборище бездельных болтунов, пыль, вонь, помойки… За оградой его халупы начинается квартал кожевников. Знал бы ты, какая вонь там стоит! А Цукар – обычный старый чудак. Отчего ты не отозвал меня?
– Но как я мог тебя отозвать?
– Он не мог меня отозвать… – усмехнулся Севела. – Ведь ты же меня поддерживал, майор! Я не раз просил – не надо меня поддерживать… Ну, кто? Горк, да? Горк из Бет-Цура?
– Да, – прямо сказал Нируц. – Да, Горк из Бет-Цура! Так положено. Ты прекрасно знаешь, что так положено! Я верю каждому твоему слову. И отчет напишешь ты, а не Горк. Но так положено. Когда ты понял про Горка?
– В первый же день я это понял.
– Он что же, набивался в друзья?
– Нет… – Севела вытянул ноги. – Он играл в ревнивца. Увидел, якобы, во мне нового фаворита. Он так старался, что противно было смотреть. Пожалуйста, объясни молодому человеку, что надо знать меру.
– Я не хотел посылать его, – равнодушно сказал Нируц. – Мне навязал его Светоний.
Перед глазами Севелы встало остроносое личико Горка из Бет-Цура. Сопляк суетливо записывал каждое слово старика. Да, конечно, сопляк засиделся в резидентуре, а тут его послали агентом, да еще поддерживать самого Малука.
– Я сам его вызову, – пообещал Севела. – Я его сам приглашу. Я ему все разъясню, сопляку… Где его учили? В Риммоне, да? Его учили в Риммоне, сопляка, я уверен.
– В Морешеве. Кажется, он из Морешева.
– Он мне мешал, – сказал Севела сквозь зубы. – Если сопляк из Морешева, то я кожу с него сдеру, с сопляка! Он позорит Морешев и позорит Плацида. Он не агент, а овечье дерьмо. Я распознал его сразу. Он никуда не годится.
Севела словно увидел, как Горк сидит напротив и жует лепешку. И все его остренькое личико ходило ходуном, когда он жевал. Все его личико жевало, когда голодный сопляк откусывал – морщился прыщавый лоб, часто двигался подбородок, шевелился тонкий нос, и на синеватых впалых висках в такт жеванию вспухало… Агент. Выпускник Морешева. Бездарный ублюдок. «Вызову и высеку, – злобно подумал Севела. – Обрадовался, паскудыш – поддерживал самого Малука!»
– Полно тебе, – сказал Нируц. – Две недели без Иды делают тебя невменяемым. Отправляйся домой, пусть девочка вернет тебе человеческий облик.
Севела представил ожидающий взгляд Иды, подрагивающий при движениях зад под тонкой тканью – и сглотнул.
– Да, пожалуй. Мне надо домой, – сказал Севела. – Ты меня распустил. Я стал брюзжать.
– Это так, – Нируц усмехнулся.
– Только прежде объясни, зачем ты послал меня в Лидду! – вспомнил Севела и возмущенно заговорил: – Этот семинар… Это пустейшее занятие! Притом, что они не кохены. Они энтузиасты. И старик – энтузиаст. Это самодеятельный семинар. Таких семинаров десятки в Ерошолойме, к чему было усылать меня в Лидду? Две недели без бани, две недели без Иды…
– Ступай домой, – сочувственно сказал Нируц. – Давно я не видел тебя таким злым.
– Может быть, ты придешь к нам вечером? – спросил Севела.
Он видел, что Нируц тоже расстроен тем, что поездка в Лидду была впустую.
– У тебя будет чем заняться вечером, – Нируц подмигнул. – Мы поговорим завтра, когда Ида вытрясет из тебя все глупости.
– И все же, зачем ты послал меня в Лидду? К чему тебе Левит? Зачем посылать меня в Лидду, если Книга Левита стоит на полке, этажом ниже?
Он до оцепенения устал. Лошадь засекалась на правую переднюю ногу. Проклятая тварь дергалась, всхрапывала, у нее екала селезенка, Севелу за дневной переход растрясло так, что и сейчас еще трясло. А еще он не надел в Лидде кожаные чулки и стер кожу на внутренней стороне колен до крови. И он страстно хотел домой, хотел содрать пропотевшую, пропыленную тунику, хотел в баню, в подогретую воду, хотел прихватить Иду за ее сказочный зад… Он хотел Иду, он хотел горячего супа, холодного вина, хотел проспать до полудня. Но еще он хотел, чтобы Нируц сказал ему, наконец: зачем Севела изнывал в Лидде?
– Ты хорошо конспектировал?
– Как ты велел. Я приложу конспекты к отчету.
– Непременно, – Нируц кивнул. – Мне нужен твой отчет, но твои конспекты мне нужны еще больше… В библиотеке хранится Книга Левита, верно.
– Так в чем же дело? Почему я везу тебе из Лидды то, что есть в библиотеке?
– Я не могу читать канонические тексты! – недовольно сказал Нируц. – У меня нет времени разбирать эти ребусы! Они хороши лишь для кохенов. Кохены купаются в древних словесах, как воробьи в пыли… А мне сегодня нужна суть… Рациональная сердцевина.
– Ты что же, хочешь сказать, что старик донес до меня рациональную сердцевину?
– Почему нет? Ты превосходно обобщаешь. А старик Цукар знает Левитический кодекс, как свою лачугу. Он пересказывает его языком простым и ясным.
– Старый болтун, – сказал Севела. – Собрал дюжину дуралеев и разливается соловьем. В каморке у старика духота, мухи, от бездельников несет… А он зудит и зудит.
– Поговорим завтра, – спокойно сказал Нируц. – Ты устал. Старик знаток, каких поискать. Завтра явись в присутствие и доложи мне по форме. А еще лучше, если ты придешь на службу послезавтра. Нет! Я назначаю тебе двухдневный отпуск, капитан!
Капрал принес жбан с лимонной водой.
– Выпей-ка воды, – сказал Нируц. – О боги, что же это за неуемный службизм…
– А я служака, – упрямо сказал Севела, налил воды и жадно выпил. – Карьерист и честолюбец. Нынче я проехал шестьдесят миль, мой майор. Кляча из Бет-Хорона нанесла мне многие увечья. Я привез из Лидды кровавые потертости, расчесы в паху и фурункул под лопаткой – я его чувствую, он набух и вот-вот прорвется… Я расшиб зад о хребет злокозненной твари, в моих калигах хлюпает зловонная слизь, и половина дорожной пыли Гаваонской дороги сейчас в моих волосах! Я измучен и зол, я произношу монолог, которому позавидовал бы Тит Макций Плавт. И теперь расскажи, мой майор, – для чего все это?
Нируц помолчал, потом уважительно заломил бровь и несколько раз сложил вместе ладони – как граждане делают это на представлении «Хвастливого война» или «Комедии о горшке».
– Хорошо, – сдался Нируц. – Расскажу тебе кое-что. Хотя мне не очень нравится твой дорожный запашок.
– А ты потерпи, – злорадно сказал Севела. – Потерпи его, мой майор. Понюхал бы ты моих товарищей по семинару, мой майор!
Он демонстративно почесал между лопаток.
Нируц подошел к конторке и взял стопку листов.
– Хорошо. Тогда слушай. На прошлой неделе я испросил аудиенции Каиаху…
– Ты все чаще бываешь у Каиаху, – заметил Севела.
– Теперь такое время, что без благоволения Каиаху не обойтись.
– Мне доложить Светонию о прибытии?
– Нет нужды. К тому же он второй день гостит у Бурра, – Нируц махнул рукой. – Я все чаще встречаюсь с первосвященником, а полковник Светоний все больше времени проводит у Бурра… Так о чем я?
– Каиаху, – напомнил Севела и налил себе еще лимонной воды.
– Я заручился поддержкой его высокопреосвященства в отношении мер, применяемых к странствующим рабби, – сказал Нируц скучным голосом.
Он подошел к маленькому окну и толкнул деревянную створку. Яркая полоса света протянулась к низкому столу, конторке у стены и креслу с вытертой подушечкой.
– Что за меры?
– Я намерен их арестовывать и заключать под стражу.
Нируц прикрыл оконную створку, и в комнате опять стало полусумрачно.
– Отдел будет арестовывать странствующих рабби? – с сомнением спросил Севела. – Всех подряд?
– Терпение, – Нируц поднял ладонь. – Нелегко вкратце объяснить усталому человеку, вернувшемуся из Лидды, что происходит нынче в Ерошолойме.
– Что значит «происходит в Ерошолойме»?
– Я без промедления получил аудиенцию и обратил внимание Каиаху на столпотворение во дворе Храма. Я сказал ему, что, по моему мнению, странствующие рабби в последний год необъяснимым образом умножились. Они входят в город, приводят за собой слушателей и дискутируют во дворе Храма. Они превратили двор Храма в Агору. Так я сказал Каиаху. Я пока не стал рассказывать ему о том, что заметил и другое…
– Прости, – перебил Севела. – Что «другое»? О чем ты?
– О некоторых проповедных новациях… – Нируц вздохнул. – Однажды я заметил, что странствующих рабби стало много. Необычно много. В три, в пять раз больше, чем два года назад.
– Тебя это насторожило? Почему?
– Привычка, – Нируц прокашлялся. – Этакая служебная привычка. Я замечаю все, чего не было прежде… Прежде такого не было, а теперь есть.
– Так, – кивнул Севела. – Странствующие рабби. Их стало больше. Они въезжают в Ерошолойм и заполоняют улицы. На площадях и в проулках не протолкнуться от странствующих рабби. Скоро жителям Ерошолойма будет невозможно выйти потому, что улицы забиты странствующими рабби… И потому-то ты отправил меня слушать Книгу Левита?
– Когда я убедился в том, что бродячие проповедники приумножились, я послал бродить с одним из них Горка. И еще двух молодых я отправил весной. Потом я читал их докладные и насторожился еще больше.
Севела опять почесал между лопаток.
– И что же они говорят, эти странствующие рабби?
– Вот тексты проповедей, – Нируц взял со стола стопку листов. – Прочти их, когда отдохнешь после поездки.
– Но отчего ты так встревожен? – спросил Севела и взял у Нируца листы. – Ты говоришь: проповедные новации… Пусть так. Это забота Синедриона. Светоний прикажет тебе преследовать бродячих рабби?
– Это не одни лишь новации. А Светоний ничего в этом не разумеет и никогда не разумел.
– Так что же это?
– Это сообщество. Это обширное и организованное сообщество.
– Мне кажется, что ты опасаешься больше нужного. В этом году бродячих рабби стало больше, и тебя это чуть ли ни пугает… А через пару лет их будет мало. А потом в Самарии или в Итурее объявится вероучитель и скажет, что не д'олжно проповедовать, бродя от города к городу. Тогда странствующих рабби не станет вовсе. Вот ты говоришь – сообщество. Прости меня, Тум, но ты склонен видеть сообщества там, где их никогда не было. Не злись, такое бывало. И про Иосию из Мегиддо ты говорил, что чувствуешь за ним могущественное сообщество. И мы тогда не спали ночей и ломали головы. И Светония ты тогда убедил в том, что за Иосией из Мегиддо стоит сообщество. Я не слишком вольно себя веду?
– Ты ведешь себя вольно, – сказал Нируц. – Но я привык.
Дело Иосии из Мегиддо было конфузом Нируца. Он в ту осень вытребовал у Светония пятерых офицеров из отдела Родос для усиления отдела Гермес. Нируцу даже удалось получить от казначейства внеочередные ассигнования. А в резидентуре нечасто выдавали внеочередные ассигнования. Но Нируц смог убедить главного казначея. И Светония Нируц тоже увлек и заразил своим азартом. Сухопарый, всегда невозмутимый Светоний той осенью часами просиживал вместе с Нируцем, голова к голове. Полковник, озабоченно сводя тонкие брови, читал сводки, торопил Нируца, самолично отдавал распоряжения курьерам и приставам. Нируц ввел в состояние деловитого возбуждения всю резидентуру. Были арестованы восемнадцать человек, на два дня перекрыты дороги на север и восток, задержана почта, и романская почта тоже, агенты Нируца трудились так, как никогда до этого.
А Иосия оказался всего лишь фальшивомонетчиком. Спору нет, он был умен, изворотлив, осторожен. Необыкновенный человек, мошенник, каких поискать. Никогда не сбывал свой товар в Провинции. Содержал десятки перевозчиков и менял. В мастерской близ Газы Иосия с двумя подручными отливал монеты, а после истирал их, наносил щербины и царапины – все для того, чтобы монеты гляделись побывавшими в тысячах рук. Но он был всего лишь фальшивомонетчиком. Мошенником, а никак не главарем соглядатаев из Парфии или Кушанского царства. Когда на допросе Светоний надвинулся на него, как грозовая туча, и загремел своим центурионским рыком, Иосия от парализующего ужаса обмочился. Ни о кушанах, ни о парфянах он, бедолага, слыхом не слыхивал и был напуган до смерти.
– Но вот такого, – Нируц показал на пачку листов, – такого еще не было. Говорю тебе – в Ерошолойме нынче произносится новое учение!
– Это такие толкования, каких не было прежде?
Нируц потер виски.
– Я не смогу тебе объяснить, ты не готов, – сказал он. – Я несколько недель читал списки диспутов. Я прочел списки всех диспутов, что только есть в резидентуре, изучил множество словопрений. «Периша Акко против всех саддукеев», «Ерошолоймские периша против александрийских периша», «Вавилонские периша против эссеев Десятиградия». Но нет. Это другое.
– Что это?
Севела представил, как безбожник Нируц разбирает диспуты между периша и саддукеями, и на мгновение пожалел его.
– Это упрощение, – тихо сказал Нируц. – Гениальное упрощение.
– Не понимаю. У меня за спиной шестьдесят миль, Лидда и старый болтун. Я не понимаю.
– Да, ты не понимаешь. И никто не понимает. А я ведь много этих речей собрал, мои агенты нынче во всех кварталах.
– Да что с тобой, мой майор? Где твоя насмешливость? Сколько раз ты говорил мне, что только насмешливость не дает нам, обреченным на Провинцию, сойти с ума. Так что задумали коварные странствующие рабби?
– Мне не до шуток. Нет, нам надо переговорить завтра. А еще лучше – послезавтра. Поешь, выспись, попользуй Иду.
– Послушай, Тум! Кляча из Бет-Хорона вышибла из меня все доброе. Да, я устал. Однако я готов к любому делу.
Нируц с сомнением покачал головой.
– Ты готов говорить, а думать ты не готов.
– Что за проповеди?
– Неугомонный капитан. Что ж, слушай. Эти проповеди… Они не посягают на Книгу. Но они представляют ее предтечей.
– И за этим я ездил к Цукару? – недоверчиво спросил Севела. – В моей тубе лежит предтеча нового канона?
– Да нет же! – Нируц хлопнул ладонью по подлокотнику. – Но старик умеет излагать предметно и ясно. Мне же теперь нужен вменяемый пересказ Книги Левита. Я не могу, у меня нет времени сравнивать и сопоставлять изначальную редакцию и это… – он показал подбородком на листы.
– Сравнивать и сопоставлять? Зачем?
– Классический текст Книги Левита громоздок и неудобопонятен! Я собирал современные толкования Левитического Кодекса для того, чтобы сравнить их с проповедями бродячих рабби.
– Современные толкования Кодекса помогут тебе изучить проповеди?
– Они помогут изучить проповедников. Что же до самих проповедей… Одно прорастает из другого. Второе из первого. Новый канон – из предтечи… Нищий, болтливый, старый Цукар всю свою долгую жизнь изучает, интерпретирует и комментирует Книгу Левита! Конспекты, которые ты привез, – внятный и лаконичный пересказ Левитического Кодекса. Теперь я положу перед собой проповеди. А рядом положу сжатый и ясный пересказ Книги Левита. И мне станет понятно, куда гнут странствующие рабби. Ступай с глаз моих, капитан. Завтра прочти эти речи, хоть какую-то их часть. И если…
* * *
Он приехал на Полянку, разобрал сумку, проветрил комнату, скоренько помыл пол. Отсоединил телефонный штекер, лег, накрылся пледом и быстро уснул. Спал недолго, часа полтора. Проснулся от писка будильника, сел на диване, путаясь в пледе. За окнами было темно. Он пошел в ванную и ополоснул лицо холодной водой. Вышел на кухню, заварил чай, выкурил сигарету. Посмотрел за окно – шел крупный снег, светились фары проплывавшего троллейбуса. Он подумал: позвоню-ка Сене. Но тут постучала в дверь Марина Анатольевна, у нее сломался рефлектор. С отоплением в эту зиму было неважно, батареи грели слабо, все спасались обогревателями. Он починил Маринин рефлектор и уже поднял телефонную трубку, но опять постучали. В коридоре стоял Бобышев. Междугородние счета пришли, сказал он, глядя мимо Дорохова, безобразие, нам телефон из-за тебя отключат. Дорохов ответил, что счета завтра оплатит, и пусть лучше Бобышев за собой следит. Кто шмотки стирал в ванне, воду оставил включенную и ушел? Ну, кто? Да ты, морда! Весь паркет вспучило, хорошо еще, что под нами никого нет. Сам хорош, огрызнулся Бобышев, все слышали разговорчики твои с дружками. Песенки ваши антисоветские… Думаете, раз ускорение, раз Вавилова оправдали, так можно все оплевывать? Так, пшел отсюда, раздраженно сказал Дорохов, счета положи на полочку и катись. Ишь, туда же – «антисоветчик». Кончилось ваше время, отдыхай…
Он закрыл дверь и подумал, что счет, наверное, немаленький. Они с Хорей звонили в Лондон (черт, тоже примета времени: можно из квартиры свободно позвонить в Лондон), поздравляли Таню Сенокосову с днем рождения. А международный звонок – шесть рублей минута.
А потом позвонил Сашка Лобода.
Замечательный парень. Добрющий, веселый, вечно девками обвешан, как новогодняя елка игрушками. Большой ребенок. Широкий, улыбчивый, душа-человек. Товарищ старший лейтенант. Самый классный инспектор уголовного розыска. Они познакомились, когда Дорохов дежурил в ДНД. Он пришел в опорный пункт правопорядка в семь вечера, повязал красную нарукавную повязку, выслушал инструктаж. Полагалось патрулировать от Малой Бронной до Гоголевского – такая разнарядка была за их институтом. А Сашка, значит, тогда ими руководил.
– А если настоящий разбойник? – спросил Дорохов. – А если нападение или драка? Вступать в схватку?
– Упаси в-в-вас бог, товарищ ученый! – сказал старший лейтенант Московского уголовного розыска (он колоритен был, как Глеб Жеглов, а заикание только добавляло колорита). – Тотчас же замрите, з-з-замаскируйтесь и ждите сотрудника органов.
Сашку за какое-то прегрешение тогда направили руководить дружинниками (после Дорохов узнал, что Сашкины прегрешения были часты и вопиющи). Через полтора часа они присели на холодную лавочку, и Сашка сказал:
– Д-д-добровольная народная дружина – д-д-дело очень утомительное. Стоит м-м-мороз… Согреемся, товарищи.
И вытащил из внутреннего кармана зеленой «аляски» чекушку. «Товарищи» были представлены одним только Дороховым. Машку и Лару Изотову Лобода отпустил почти сразу: «Д-д-добровольная народная дружина – дело ответственное и опасное. Девушек просим отправиться п-п-по месту постоянного проживания».
Они с Дороховым в два глотка выпили чекушку из горлышка, стало теплее и веселее.
– Слушай, М-м-михаил, – сказал Лобода. – Х-х-хватит тут болтаться, п-п-пошли в «Лиру». Я там потом распишусь, где надо, что вы ч-ч-честно отдружинили. Посидим к-к-как люди. Угощаю, не напрягайся. Н-н-нормальный ты, вроде, парень…
В «Лире» они съели по лангету, выпили бутылку азербона «Гек-Гель». Просидели до закрытия, вышли в обнимку, Лобода остановил «Волгу», показал корочки, сказал:
– Т-т-тело следует доставить на Полянку… Миха, звони! Хороший ты мужик, рад был п-п-познакомиться.
Лобода прелестный человек, честный и юморной. Но разгильдяй – мама моя дорогая! Как-то раз он ехал домой на своей «пятерке» и был вдет по самое не могу. За руль в этом состоянии он садился не раздумывая. Во-первых, оберегал милицейский статус, а во-вторых – большое личное обаяние. Сашка мог заговорить любого. Он выползал из машины, улыбаясь во весь рот, и все автоинспекторы становились его лучшими друзьями. Итак, ехал он со службы, приняв на грудь, и ему захотелось отлить. Показалось подходящее место, Лобода выскочил из машины, не заглушив двигатель. Суетливо пробежал по глубокому снегу в сокрытое место, быстро задрал «аляску», расстегнул молнию на джинсах.
О!.. Уф!..
В такие минуты мир, как известно, немножко меняется. Наступает некоторое просветление, но при этом забываешь то, что было несколькими минутами ранее.
Лобода застегнул молнию и глубоко вздохнул.
«О! Троллейбус!» – обрадованно подумал он.
Лобода, пошатываясь, вошел в троллейбус и поехал домой. Мир тем временем продолжал меняться, Лобода понемножку трезвел.
«Стоп, – забеспокоился он, держась за никелированный поручень. – Я как-то по-другому ехал. Я в кресле сидел. Э, хорош, где я?!»
А отъехал он довольно далеко, остановок пять или шесть. Лобода запаниковал. Он выскочил из троллейбуса и в замешательстве встал на заснеженном Ленинградском шоссе. Положение Лободы было грустное: где осталась его машина с работающим двигателем, он сказать не мог. Смутно помнил, что где-то между «Белорусской» и «Соколом». Тогда Лобода достал корочки, ступил на проезжую часть и встал крестом перед патрульным УАЗиком.
– М-м-мужики, – со слезой сказал Лобода трем удивленным милиционерам. – Т-т-товарищи дорогие… Коллеги! Я м-м-машину потерял.
Лободу посадили в УАЗик и поехали искать «пятерку». Проехали до «Белорусской», развернулись. «Пятерка» нашлась за «Динамо». Она стояла у тротуара и обращала на себя внимание широко открытой водительской дверью. Двигатель работал, магнитола крутилась: «She’s crazy like a ful…»
С Лободой вечно случались приключения. Начальство его по-отечески наказывало время от времени, но на работе Сашку ценили, он был отличный опер.
Про работу рассказывать не любил.
– Сашка, у тебя оружие есть? – спросил однажды Дорохов. Ему захотелось взять в руки настоящий пистолет.
– Н-н-ну так! – величественно ответил Лобода.
– Настоящее?
– Н-н-ну так!
– Покажи! – попросил Дорохов.
– В-в-во! – гордо сказал Лобода и протянул крепкий кулак.
Сашка был опер потомственный. Отец его, Анатолий Павлович, полковник, прошел все ступени, службу начинал во времена послевоенного бандитизма. После школы Сашка поступил в Омскую Высшую школу милиции, туда брали тех, кто не служил в армии. А Гаривас, как известно, был родом из Омска. Однажды Дорохов, Лобода и Гаривас усидели две бутылки коньяка «Двин». Дело было на Полянке, Лобода с Гаривасом весь вечер заново проживали омскую топонимику.
– Слушай, к-к-какой парень! – восхищенно сказал Лобода, когда Гаривас ушел. – Х-х-хорошо, что ты меня с ним познакомил!
Дорохов обрадовался, когда услышал в трубке заикание Лободы. Он давно Сашку не видел.
– З-з-здорово, – сказал Лобода. – Ты куда п-п-пропал?
– Привет, Саня, – сказал Дорохов. – Я у своих Новый год встречал. Как дела?
– Н-н-нормально. Капитана получил.
– Поздравляю, Саня! Обмоем четвертую звездочку?
– Давай, я к тебе з-з-заеду.
– Отлично, Сань! – Дорохов подумал, что к Сене он успеет завтра. – Я сейчас до гастронома добегу.
– До к-к-какого ты гастронома добежишь? К тебе капитан Московского уголовного розыска едет!.. Все есть! Я з-з-заказ получил, сервелат финский… Л-л-лечо две банки, друган помидоры из Ташкента привез, б-б-бастурма есть.
– Ну ладно, – сказал Дорохов. – Что пьем?
– Это отдельная история, М-м-миха. «Камю» вас устроит, т-т-товарищ ученый?
– Саня, ты перепутал! Тебе, наверное, не капитана, а полковника дали!
Лобода приехал через час. Он когда входил, сразу ясно становилось, что праздник в дом пришел. Лобода вваливался – большой, веселый, с полиэтиэленовыми пакетами в обеих руках – и становилось понятно: вот он, п-п-праздник пришел.
– Здорово, Миха! – сказал Лобода. – С п-п-прошедшим тебя!
– И тебя тоже. Привет, Санька, раздевайся.
– Б-б-бастурма, – Лобода протянул увесистый брусок. – Настоящая, из Армении.
– Где взял? Ты садись, кури. Я похлопочу на кухне.
– П-п-пойдем вместе. Еще помидоры. Нормально, да – в январе такие помидоры? Бастурму Коля Адамян п-п-привез из Степанакерта, у него родители там. Мы вчера з-з-звездочку обмывали, ребята нанесли всего.
На кухне они в четыре руки все быстренько порезали – твердую темно-красную бастурму в коричневой корочке из специй, большие мясистые помидоры, свежий «Рижский» сервелат. Сразу слюнки потекли, так вкусно все выглядело.
Вернулись в комнату, Лобода сел в кресло.
– К-к-как твои? Здоровы?
– Да, Санька. Все хорошо… – Дорохов поставил на столик тарелки. – Все в порядке. Отдохнул, маминой еды поел. Даже одноклассников повидал. Хорошо съездил.
– К-к-как наука? Движется?
– Прогресс не остановить, – Дорохов сел в кресло напротив. – Ну что – по первой?
– П-п-пора, – согласился Лобода.
Дорохов бережно взял зеленую бутылку, вытащил пробку и разлил по рюмкам.
– Поздравляю вас, ваше высокоблагородие, товарищ капитан, – он чокнулся с Лободой.
– С-с-спасибо, – Лобода кивнул. – Будь здоров, Миха.
– Замечательный коньяк, – Дорохов взял сигарету. – Породистый.
– В-в-вову давно видел?
Лобода всегда спрашивал: давно ли Дорохов видел Вову?
– Перед отъездом, – ответил Дорохов. – Он еще звонил мне тридцать первого.
– Он мне т-т-тоже звонил, звал к Семену Новый год встречать.
– А чего ты не пошел? Тебе все рады были бы.
– У нас ребята из отдела с-с-собирались. А у вас свои дела.
К-к-как-то неловко.
– Глупости. Мужики к тебе хорошо относятся, иначе бы не позвали.
– Л-л-люди вроде нормальные… Но вы вечно про свое говорите – Бродский, там, Гессе, все такое… Семен в прошлый раз музыку включил – я ни фига не понял! Я говорю: Сеня, это ж к-к-какофония! Он смотрит на меня, к-к-как на младенца, говорит: Саша, это великолепная музыка, ты слушай, ты привыкнешь и полюбишь, это, блин, д-д-джитратал… Когда мне привыкать, М-м-миха? От меня руководство п-п-палки требует.
– Да мудришь ты все, – сказал Дорохов. – Зря не пошел. Давай по второй.
– З-з-здрав будь, боярин, – Лобода поднял рюмку.
– И ты здрав будь, товарищ капитан.
Они чокнулись.
– С-с-слушай, а Вова сказал, что ты писатель.
– Трепло твой Вова.
– Не, д-д-действительно, книгу пишешь?
– Оперу пишу, – Дорохов подмигнул.
– А п-п-про что? Про науку? Вы к-к-когда придумаете чо-нибудь от рака?.. Вы не тяните там. Т-т-товарищи ученые, д-д-доценты с кандидатами…
– Нет, не про науку. Так, ладно. С производством тебя, Саня.
Они выпили.
– Н-н-ну как? – спросил Лобода. – Хороший коньяк?
– Великий! Коньяк генеральский.
– М-м-министерский, – кивнул Лобода. – Ну, или зам-министерский. А у вас тоже, это… Культура п-п-пития. У вас с друзьями вроде принято, чтобы бухло хорошее было, я заметил. Это вы, т-т-типа, стиль выдерживаете?
Они налегли на закуску. Бастурма была великолепна – плотная, пряная. И помидоры из Ташкента посреди зимы. Сказка, картина Пиросмани «Кутеж князей».
– Вот, кстати, о книге моей, – сказал Дорохов. – Это не про науку. Это, если можно так выразиться, история с детективной линией.
– Про м-м-мусоров, что ли? – спросил Лобода и опять разлил по рюмкам. – Б-б-брось, не связывайся. В братья В-в-вайнеры, что ли, метишь? Даже не пробуй… Чушь получится, Миха. Т-т-ты же про эту работу ничего не знаешь.
– Нет, это не детектив. Но там есть моменты кое-какие. Я как раз тебя хотел спросить.
– Д-д-давай. Спрашивай, – с готовностью сказал Лобода. – Всегда рад п-п-помочь.
– Даже не знаю, как начать.
Он и вправду не знал, с чего начать. Спросить Сашку: «Какой нынче дают срок за выплавку технических драгметаллов?» Это было бы чересчур прямо.
– Вот слушай. У меня там детективная линия представлена чуть-чуть…
– К-к-краешком по делу проходит, – кивнул Лобода. – И чего?
– Там этого немного. Но есть. И я хочу, чтобы все было достоверно. Терминология, юридические ссылки. Чтобы все правдиво. Чтобы, как ты говоришь, чушь не получилась.
– П-п-понятно, – Лобода закурил. – Что тебя интересует?
– Меня интересует одна специфическая штука. Вряд ли ты сам имел с этим дело. Но, может быть, что-то слышал. У меня в книге один парень, он химик, совершенно случайно, как побочный результат одного из экспериментов, находит способ получения золота высокой пробы из технических сплавов. Ему для работы срочно понадобилось несколько десятков грамм золота, он раскурочивает прибор и из припоя получает золото.
– Так. И ч-ч-чего? – Лобода положил кружок сервелата на ломтик бородинского хлеба.
– Ну, короче. Я написал, а потом подумал – это ж вроде незаконно.
– Понятно, – спокойно сказал Лобода. – Армяне вообще этим занимаются. Я по рыжью не работал. Так что т-т-тебя интересует?
Дорохов тоже закурил и сказал как можно непринужденнее:
– Что вообще за это бывает?
– Возьми Уголовный кодекс, п-п-почитай. Там все написано.
– Где я его возьму?
– В б-б-библиотеке. Давай. Твое здоровье.
Дорохов повел носом над ополовиненной рюмкой – огонь и шоколад!.. «Мед и улей».
– Я с этим не работал, – повторил Лобода. – Ради бога, я завтра п-п-посмотрю кодекс… Или сходи к юрисконсульту, он тебе в-в-все объяснит.
Дорохов подумал: вариант. Вечно мы лезем за советом к знакомым, а можно просто открыть книгу. Или заплатить семь рублей в юридической консультации. Он вспомнил, что возле Сениного дома, во Всеволожском, есть юридическая консультация. Но, опять-таки, за бутылкой коньяка, с Сашкой – это одно. А приходить к юристу и спрашивать, как уголовно наказуется такая алхимия – это совсем другое. Но и Нируц не стал разбирать Книгу Левита, он послал Севелу в Лидду, чтобы тот слушал там толкования рав Цукара.
– Н-н-ну позвони мне завтра. Я узнаю. А когда станешь з-з-знаменитым писателем, не забудь с-с-сказать в интервью: меня, значит, консультировал к-к-капитан Лобода.
– Да я уже вижу это интервью! – уверенно сказал Дорохов. – Вот оно, передо мной. В «Литературке» или в «Известиях». Журналист, значит, спрашивает: как вам удалось добиться такой потрясающей достоверности? Я отвечаю: что тут непонятного? Меня консультировал сам генерал Лобода.
– Генерал Л-л-лобода… – Сашка склонил голову к плечу. – Звучит.
– За генерала Лободу! – предложил Дорохов и поднял рюмку.
– В п-п-перспективе, – согласился Сашка и тоже поднял рюмку.
* * *
«Двойное вложение.
Сексту Афранию Бурру, претору.
Приветствую Вас, Бурр, и благодарю. Госпожа Орестилла в восторге от румян и масел, что Вы ей прислали. Жена утверждает, что бальзамы и умащивания умеют делать лишь на Востоке. Увы, Бурр, целомудренные времена миновали безвозвратно. Еще при жизни моего деда матронам не дозволялось подкрашивать брови. А теперь от сенаторских жен разит амброй, и размалеваны они неприлично.
Вы озадачены, мой Бурр, – так я понял из Вашего письма. Нируц занимается чепухой и Малука принуждает заниматься чепухой. Вы пишете, что Малук впустую провел в Лидде две недели. Провинциальный самодеятельный семинар о Левитическом Кодексе. Кто слушатели? Горожане Лидды и трое приезжих. Агроном, мастер-строитель, двое судейских. Ни одного высокообразованного человека и всего лишь один студиозус. А во главе этой компании – квартальный проповедник, пенсионарий Цукар.
Старик Цукар был ритором в Ямнии, в отставке уже седьмой год. Что еще сказать о нем? Грошовая пенсия, болеет, родственников нет. Пишет комментарии к Книге Левита и знает, что Синедрион никогда не позволит включить их в реестр для студиозусов. Собирает в своем домишке таких же, как он, чудаков и называет это «семинаром». А Нируц послал Малука не в Яффу, не в переполненую греческими риторами Птолемаиду, не на лекции университетского светила в Тир. Нируц послал молодого капитана послушать старого болтуна из захолустья.
Вот только никто не знает Левитический Кодекс лучше Цукара! Старик всю свою жизнь посвятил Кодексу, еще пятнадцать лет тому назад написал труд «О Левите». И Синедрион не без причины продержал Цукара в Ямнии два десятка лет. Таким профессором, как Цукар, могли бы гордиться Яффа и Дамаск. Но Грихен Цукар горд и неуживчив. Однажды, еще будучи ритором, он приехал на конгрегационный съезд в Ерошолойм, вступил там в диспут с кохеном первой череды и разнес его в пух и прах. А кохен тот через десять лет стал первосвященником. Да-да, мой Бурр, однажды Цукар прилюдно высек самого Каиаху! Тот высказался об одном из положений Левитического Кодекса, и Цукар оспорил его слова. Сотни периша увидели, как жалко может выглядеть кохен первой череды рядом с провинциальным ритором. Цукару этого не забыли. Прихвостни Каиаху помешали Цукару сделать университетскую карьеру, услали его в Ямнию и не давали носа оттуда высунуть все эти годы. Старик стал пенсионарием, поселился в Лидде (ему назначили сносную пенсию на условии безвыездной жизни в Лидде). В Синедрионе не жалуют умников.
А знаете ли Вы вообще, мой Бурр, что такое Левитический Кодекс? Это предтеча юриспруденции джбрим, ни больше, ни меньше. Но вот парадокс: Левитический Кодекс содержит в себе такие положения, которые делают невозможным формирование настоящей юриспруденции.
В произведении, которое джбрим называют «Книгой Левита», собраны поведенческие нормативы этого беспокойного народца. Собраны и поданы в форме, напоминающей форму Двенадцати Таблиц. Этика джбрим была впервые произнесена в произведении, именуемом «Декалог». Но «Декалог» это скорее мораль, нежели твердый закон. Вся теософия джбрим, скажу я Вам, это одни только поведенческие нормативы, напоминаемые так и этак, надо и не надо, от самого рождения и до смерти, в оба уха, до оцепенения, до тошноты, до абсолютного растворения ego в сих непреложных текстах. Светской литературы у джбрим нет и быть не может. Их мироздание не предполагает светской литературы, юридической литературы, экономической литературы. У джбрим нет юстиции и экономики, как не может быть пожара в море, квадратных колес и волосатых яблок. Неоткуда взяться. Невозможно. Незачем. У них нет философии, ведь песчинки не философствуют. А каждый джбрим понимает себя лишь песчинкой под пальцами их Предвечного. Собственно их философия (равно как история, литература и юстиция) – это все те же древние тексты, непреложный, агрессивно-назидательный догмат, повеления и запреты. Они не рассуждают и не спрашивают себя и природу, поскольку им нет нужды спрашивать. Их Книга ответила на все вопросы.
Я прочел Левитический Кодекс, в книгохранилище при храме Весты отыскался перевод. Я оставил дела, уединился на вилле и прочел. Перевод неплох, но каково римлянину постигать мораль джбрим! Двадцать дней ушло у меня на то, чтобы увидеть в пространном тексте ростки подлинного юридического права. Более того – права заботливого и милосердного! Я разбирал текст и осознавал, что передо мною не что иное, как недосказанная юриспруденция этих треклятых джбрим! Недосказанная и небывалая по духу. Джбрим не перестают удивлять меня. Человечность сего кодекса доведена до предела возможного. Забота о бедных в сем своде законоуложений поставлена во главу угла. Правила землепользования и купли-продажи наделов обговорены четко и окончательно, раз и навсегда. Поддержка общины, денежные взаимоотношения, опека над вольноотпущенниками – все в пользу малоимущих. Ни в коем случае не доводить члена общины до полного неимения – вот стержень Кодекса Левита. В нем соображения гуманности подавляют право! Искренняя забота о малых и сирых, забота, противоречащая логике, противоречащая всему ходу жизни. Милосердие, беспрерывная опека общины и обережение от разорения – но только в лоне семьи Израиля! Вы понимаете, Бурр? Только в лоне семьи Израиля! Это доминанта их морали. И это тупик. Кто и что обеспечит подобную справедливость? Есть ли у джбрим богатства, коими можно оплатить подобное человеколюбие? У джбрим есть земледелие, они продают за пределы Провинции пшеницу, пальмовое масло и древесину. Но это не обогатит Провинцию настолько, чтобы содержать законоуложение, столь щедрое к неимущим. Их почта – это римская служба. Рудоплавильное дело в руках греков и под неусыпным контролем сенатских инспекторов. Фармацией и ссудными учреждениями ведают финикийцы. А науки у джбрим нет, как нет светской литературы. Их Schola – это романские Schola. Джбрим прекрасные коммерсанты, да. Экспортно-импортные операции – их конек, никто в Магрибе не умеет так выстроить экспорт-импорт, как джбрим. Еще они отважные солдаты, усердные строители и добрые землепашцы. Но для того чтобы народ мог содержать юстицию, подобную Левитическому Кодексу, надобны огромные средства – сконцентрированные и умело направляемые. Для того чтобы прокормить такую радетельную юстицию, нужны огромные богатства. Могущественные ссудные конторы, сношения с финансистами Рима и монетные дворы. Долгосрочные кредиты и система купли-продажи долговых обязательств. А это не для джбрим. Их канон не позволяет одалживать под проценты. Не позволяет одалживать под проценты своим. Заметьте, Бурр – своим! Левитический Кодекс это конгломерат норм, годный лишь для маленькой общины. Он делает невозможной ассимиляцию – экономическую ли, культурную или этническую. А это тупик, говорю я Вам. Залог несокрушимости нашего государства не в гении ее военачальников, а в ассимиляции. Рим раздвигает границы, но не истребляет покоренных, а впитывает их. Риму не удалось впитать джбрим и, боюсь, не удастся никогда.
Джбрим веками следуют своей Книге. И будут следовать. Они отгородились от огромного мира замкнутым догматом, и будут отгораживаться. Пока их не истребят, всех до единого. Потому что их гражданское право, равно как и их мораль (для джбрим вера, юстиция и мораль – суть единое целое), несокрушимой стеной отделяют дом Израиля от соседей по этому уголку Ойкумены. Отделяют, но не защищают. Отгораживают, но и закладывают основу грядущей вражды. И вражду эту им нечем уравновесить – за джбрим нет силы, и они абсолютно неспособны к ассимиляции. Их канон – это вражда со всем, что за пределами дома Израиля. И не будет конца той вражде. Они обречены, Бурр. Их угрюмая мораль сулит им гибель, и ничего иного. Они щетинятся и огрызаются, они ненавидят Рим. Но только Рим оберегает их от аравийских бандитов, от кушан, от парфян, от самоистребления.
Назначение в Ерошолойм это не самая большая удача в Вашей жизни, претор, а джбрим – не самый послушный народ в Ойкумене. Вам нелегко в Ерошолойме. Я стараюсь поддерживать Вас и выезжаю в Провинцию всякий раз, когда это позволяют обстоятельства. То, что я только что назвал расплывчатым словом «обстоятельства», – политическое кишение Палатина. Партия сенатора Лепида следит за событиями в Провинции очень пристально. Но не следует думать, что Лепид палец о палец ударит для того, чтобы использовать расположение принсепса и пополнить измученный Четвертый легион! Мерзавец Лепид всегда рад доносить Сенату и принсепсу о том, что-де самую неблагополучную провинцию Рима курирует проконсул Азии Лонгин. Лепид – грязный политикан, он плюет на интересы Рима, а желает только свалить Вашего покорного слугу. В прошлом месяце мне пришлось произнести речь в Сенате, чтобы напомнить господам сенаторам о том, что же это такое – Провинция. Видели бы Вы их лица! Я сообщил господам сенаторам, что в Провинции вот уже много десятилетий фактически соседствуют три власти – две легальных и одна нелегальная. Какая, право, новость! Представьте, Бурр, что многие из господ сенаторов впервые услышали о зелотах! У Вас делается головная боль и изжога при слове «зелот», а иные почтенные господа с Палатина этого слова не слышали вовсе! Я поведал им, что военная власть принадлежит наместнику, а гражданское управление находится в компетенции Синедриона, и почтенные мужи удивленно раскрыли глаза, услышав слово «Синедрион». Некто из партии Максима Семпрония нарочито непринужденно спросил: кем-де представлен этот самый «Синедрион»? Я ответил, что Синедрион представлен главным образом периша. С тем же успехом я мог сказать ему, что Синедрион представлен сторукими гекантохейрами. Я довел до сведения почтенных коллег, что зелоты располагают разветвленной конспиративной сетью, что их агентура проникла во все уровни административного устройства Провинции. Я вкратце описал сенаторам, что такое террор сиккариев, назвал имена убитых начальников магистратов и привел потери Четвертого легиона, понесенные в партизанской войне. Вот тут сенаторы зажужжали, как растревоженное осиное гнездо! «Назовите имена вожаков!» – гневно потребовал Лепид.
Что ж, я назвал иных. Семпроний изумленно спросил: и сколько же лет их не могут изловить? Год? Три? Я ответил, что сиккария Элеазара Четвертый легион и Внутренняя служба не могут изловить шестнадцать лет.
Вы полагаете, сенат немедленно решил усилить Четвертый легион? Как бы не так! Семпроний и Лепид убедили принсепса в том, что главная опасность сейчас – на фронтире с германцами. А посему, мой Бурр, нам придется управляться теми силами, что у нас есть.
Теперь вот что. Вы что-нибудь слышали о галилеянах? Один из писарей Нируца исправно доносит в мой секретариат обо всех распоряжениях майора. Нируц сейчас весьма обеспокоен численным ростом некой секты галилеян, изучает ее и, говорят, даже углубился в теософию – это Нируц-то!
Нируц нынче становится самостоятельным сверх всякой меры. Я кое-что знаю о нем. Майор получил римское образование, трижды подолгу жил в Риме, рекрутов набирает из романофилов. Три года тому назад он за особые заслуги перед принсепсом и народом Рима снискал личное гражданство. Он и всадником станет, помяните мое слово. Но я не доверяю Нируцу. Его лояльность до поры. Пристально следите за действиями Нируца! Он что-то затеял. За последние полгода он добился того, что в ведение отдела Гермес переданы семь конных подстав в Галилее и Десятиградии. Какие уж там резоны он привел полковнику Светонию (мне кажется, что Марк Светоний опасно подпал под обаяние Тума Нируца), чтобы заполучить подставы – не так важно. Важно другое – Нируц, кажется, создает личную курьерскую службу. Значит, в скором времени он станет рассылать людей на север и восток Провинции и захочет поддерживать с ними быструю связь. Это первое.
Второе: Нируц изучает толкования Второзакония и Книги Левита. Малука он посылал в Лидду, а лейтенанта Шмуэля Зоца – в Кесарию Филиппову, к ритору Заккарии Кесарийскому. Зоц два месяца прожил в доме Заккарии, привез Нируцу восемнадцать списков речей этого ритора. А некого Горка Нируц приставлял к Александру из Газы, странствующему кохену. Нируц собирает записи речей знатоков местного догмата, а не прибегает к громоздким каноническим текстам. Нируц получает через своих помощников самые современные толкования. Нируц образован, но местный догмат ему чужд. Я справлялся у Цестия Плацида, и тот написал мне, что помнит курсанта Нируца. Плацид написал, что даже его, человека весьма терпимого в вопросах веры, неприятно удивляло высокомерное безбожие этого человека.
И последнее. Нируц стал очень любезен с Каиаху. Он несколько раз встречался с первосвященником в приемной наместника – как бы случайно. Теперь проповедников не пускают во двор Храма, это было сделано под предлогом прекращения беспорядков. Смешно! Если и были какие-то беспорядки, то они, несомненно, устроены людьми самого Каиаху. Двор Храма это цель и желанная трибуна для проповедников. Туда приходят ам-гаарец, зелоты, торговцы, риторы, студиозусы, кохены и чиновники. Скажите на милость, Бурр, какому дураку взбредет в голову устраивать беспорядки возле Храма? Не было никаких беспорядков у Храма с тех самых пор, как проповедники устроили там ссору с менялами. Видно, Нируц с Каиаху обо всем договорились, а еще через месяц Нируц начал арестовывать странствующих рабби.
Так подытожим, мой Бурр.
Нируц изучает догмат джбрим, это первое. Нируц делает все, чтобы наладить скорую связь с окраинами Провинции, это второе. Во дворе Храма прекращены проповеди, и Нируц обозначил направление своих репрессалий – странствующие рабби. Это третье.
Нам пора приглядеться к действиям Тума Нируца.
Вам, верно, кажется странным мой интерес к Малуку, Зоцу и прочим людям Светония.
Я прожил немало лет, мой Бурр, и немало повидал. Сам иной раз не могу объяснить: отчего меня тревожат маленькие люди? Но, видите ли, сплошь и рядом большие беды начинаются с действий маленьких людей.
И вот еще что. Я могу доверять или не доверять преторам, префектам и наместникам. Я могу верить или не верить своим секретарям и конфидентам. Могу по сто раз перепроверять сведения из курий и донесения о сенаторских комплотах. Но ведь чему-то я доверять должен! Чему-то, что не подведет и не обманет. Так вот, мой Бурр, когда мне не на кого надеяться и некому верить – я доверяю интуиции, и только ей! Я вышколил и выдрессировал свою интуицию. Она умнела вместе со мной, она совершенствовалась и изощрялась рука об руку с моей политической карьерой. И теперь интуиция громко и беспокойно говорит мне: «Гляди за Нируцем во все глаза, Луций Кассий Лонгин! Гляди за ним и опасайся его! Гляди во все глаза за Провинцией и в любой день жди от нее беды!»
Майор Нируц умен и деятелен. Может быть, он почувствовал надвигающуюся смуту. Джбрим не дерутся за государственность, они дерутся за Предвечного. Потому-то нынешний интерес Нируца к теософии мне кажется тревожным признаком. Может быть, он хочет бороться с грядущей смутой, предотвратить ее и тем самым вырасти в Ваших глазах и в глазах наместника. А может быть, он хочет к этой смуте примкнуть? А может быть, он намеревается во время смуты использовать свой статут для иной цели? Для какой? Может быть все что угодно, когда имеешь дело с такими, как Нируц. Прошу Вас: пристально наблюдайте за Нируцем. Он собрал вокруг себя незаурядных людей – Севела бен Иегуда Малук, Никодим Минуш, Уриэль из Вифсаиды, Шмуэль Зоц. Он собрал отряд молодых храбрецов и умников…»
* * *
Через три дня они с Димоном первый раз сделали все как полагается. Ссыпали мелочь (для первого раза брали только ножки и тонкие контакты) в кислоту. Через три часа, после декантирования, слили раствор в резервуар. В свете шестидесятиваттной лампочки в резервуаре колыхалась безумной красоты красноватая жидкость с искрящимися блестками. Они осторожно поместили в резервуар фарфоровый цилиндр, внутри фильтра установили анод и включили трансформатор. Небольшой плоский трасформатор не гудел и не грелся. Его собрал для них Серафим. Дорохов не говорил ему, зачем нужен трансформатор, сказал только, что требуется не меньше пятнадцати ампер на выходе. Димон говорил про трансформатор от электросварки. Но это было бы хлопотно и громоздко. И кпд у такого трансформатора в условиях квартиры был бы смехотворный. Поэтому Дорохов встретился с Серафимом и предложил тому выполнить его, Дорохова, личный заказ. Серафим вообще-то был типом малоприятным. Расчетливый и прижимистый малый, когда-то он тренировался на Ленгорах с Сашкой Бергом. Как и Сашка, был кандидатом в мастера по горным лыжам. Однажды стояли с Сашкой на остановке возле кинотеатра «Мир», на Цветном. Мимо быстро прошел парень в куртке с капюшоном. Вдруг парень остановился, развернулся и сказал: «Берг, ты?» «Привет! – удивленно сказал Сашка. – Как дела, Сима?» Они повспоминали свой спорт, сборы, тренера Михалыча, обменялись телефонами, и Серафим заскочил в троллейбус. «Жук тот еще, – с усмешкой сказал Берг, провожая взглядом троллейбус. – Честолюбивый, жесткий… Но техника у него была, Мишка, редкая. Катался на европейском уровне. Странно, что он спорт бросил. Он такой, знаешь, – из породы чемпионов». А еще через месяц Дорохов с экселенцем поехали на выставку «Интер-что-то-86» в Сокольниках. Там Дорохов встретил Серафима возле стенда лабораторной электротехники. Узнали друг друга, разговорились. Серафим закончил МИСИС, кандидатскую защитил в одно время с Дороховым. Дорохов рассказал, что у них в «лабе» трудности с фирменным тиристорным трансформатором. Серафим выслушал и дал совет. Дорохов ничего не понял, но достал из сумки блокнот и дословно все записал. А на следующий день показал запись наладчику. «Ты что, в Японию, что ли, летал вчера? – спросил пораженный наладчик. – Это что за гений у тебя такой?» Дорохов потом, когда началась их с Димоном алхимия, с Серафимом советовался не раз. Даже печь у него выпросил. Хотя что-то выпросить у Серафима было ой как нелегко. Тот не имел склонности к филантропии. За двухнедельное пользование печью Дорохов отдал Серафиму набор шведских часовых отверток в черном пластмассовом пенальчике. И когда перед алхимиками встала потребность в хорошем трансформаторе, Дорохов пошел на поклон к Серафиму. Сима не спросил, зачем Дорохову нужен высокоэффективный преобразователь тока для работы в домашних условиях. Он только спокойно выслушал, какие требуются параметры, и так же спокойно назвал цену. Дорохов охнул про себя и позвонил Димону. «А куда деваться? – проворчал Димон. – Ладно, пусть мастерит. Заплатим».
В два часа ночи Димон бережно вынул анод, и на бумагу просыпался тяжелый влажный порошок цвета подгнившей мандариновой кожуры.
– Ну вот, – тихо сказал Димон. – Продукт…
Они прибрались в квартире и сели перекурить.
– Нормально, – сказал Димон. – Сделаем еще пару образцов, установку всю отладим, как надо. Теперь работать и работать!
Дорохов затянулся и спросил:
– А дальше как?
– И дальше все нормально будет, – уверенно сказал Димон.
Димон был из тех людей, у которых всегда все «будет нормально». А если нормально не будет, или уже ненормально, или так ненормально, что полный караул, – то таким людям все равно веришь.
* * *
…велел Иде не шуметь и поднялся на второй этаж. В доме был небольшой таблиний, сообщавшийся с перистилем, но Севела там не работал, он обустроил кабинет наверху, заказал столяру большой шкаф во всю стену и стол для письменной работы. Полтора года тому назад Севела совершил удачную аренду – дом в ста шагах от башни Фасаила. Дом выстроил для себя один из родственников Клавдии Пульхры. Когда Божественный Тиберий ополчился на родню Германика и многих довел до могилы, близким удалось спасти юношу. Ему выхлопотали должность в Ерошолойме и спешно спровадили подальше от неумолимого принсепса. В Провинции молодого Пульхра встретили хорошо. Юноша был образован, трудолюбив и честен, а у наместника всегда большая нужда в дельных людях. Пульхру дали место при дипломатическом департаменте. Молодой романец оказался необыкновенно способен к языкам, с армянскими и кушанскими послами говорил на их родном языке и тем располагал к себе. Те переговоры, что он вел с посланниками восточных царств, почти всегда венчались успехом. Юноша не был стеснен в средствах, родня поддерживала его. К тому же он получал большое жалование, в метрополии чиновник этого статута получал жалование в три раза меньшее. На втором году жизни в Ерошолойме господин Септимий выстроил небольшой, но удобный дом по проекту приезжего архитектора Салюстия. Дом был красивый, но выглядел странно на фоне прилегающего к башне Фасаила квартала. При взгляде на этот дом казалось, что маленький участок Виминальского холма каким-то чудом оказался перенесен в Ерошолойм. Казалось, что красивый дом с недоумением оглядывает неряшливых соседей – приземистые строения с плоскими крышами. Молодой Пульхр прослужил в Ерошолойме пять лет в искреннем уважении коллег и полном благоволении наместника. По метрополии он не скучал, собирал коллекцию кушанского и персидского антиквариата, в свободное от службы время составлял словарь парфянских идиом. Не пьянствовал, не развратничал, жил уединенно и мирно. Но однажды пришло известие, что опала семейства закончилась, и к господину Септимию вернулся майорат – две виллы по Тибуртинской дороге, земли близ Неаполя и множество доходных домов в Капуе. Наследник встретил это известие радостно, но без волнения. Так же спокойно, как он принял ссылку в Провинцию, Пульхр вернулся на Виминальский холм, в семейный дом, чудом не подпавший под проскрипции. Но и дом в Ерошолойме Пульхр продавать не стал. На прощальной аудиенции он доверительно сказал наместнику, что жизнь на Востоке ему нравится, что он оставляет службу лишь на время. Наместник всегда симпатизировал Септимию Пульхру, он провел прощальную аудиенцию тепло и запросто и пообещал, что, когда бы молодой Пульхр ни вернулся в Провинцию – он всегда может рассчитывать на должность двумя ступенями выше нынешней. Пульхр испросил трехгодичный отпуск и без заминки его получил. Следуя совету друга, майора Внутренней службы Тума Нируца, Пульхр сдал дом в аренду.
Вот так Севела поселился в уютном светлом доме близ башни Фасаила.
Здесь были скромный атриум, просторный перистиль, большая кухня с погребом и баня с мозаичным полом. Еще имелись две спальни и экседра на втором этаже – там Пульхр прежде хранил коллекцию. Севела, осматривая дом, пришел в восторг. Арендная плата оказалась невысока, а дом воистину великолепен. Часть мебели Севела выкупил – две инкрустированных перламутром катедры, три курульных кресла с обивкой из парчи, затейливо расшитый бисселий, несколько поставцов из туи и множество кухонной утвари. После недолгого торга с управляющим Пульхра Севела купил бронзовый котел для подогревания кушаний, кипятильник с множеством статуэток, двенадцать кувшинов чеканной работы, полный шкаф патеров, скифосов и киаф. Что Севела не выкупил, то романец, получалось, оставил ему в пользование. В спальне стояла огромная кровать с кедровым остовом, решеткой из бронзовых прутьев и великолепным лебяжьим тюфяком. Светлую экседру на втором этаже Севела сделал кабинетом. В резидентуре у него не было личного кабинета, ему приходилось делить большое, но неуютное и темное помещение с лейтенантом Никодимом и старшим писарем Гиршем. От Никодима остро пахло, а Гирш имел неприятную привычку мычать за работой.
– Хотя бы до полудня не грохочи сковородами, Ида, – попросил Севела. – Мне необходимо сосредоточиться на чтении.
– А мне необходимо тебя откормить, – нахально ответила бесовка и показала розовый язык. – Что ты ел там, в этой Лидде? Лебеду и чертополох? В тебе нет мужских сил. Ты уснул после первого раза, Малук. Это обида для меня, женщины из Пеллы! Я стану греметь сковородами и котлами потому, что намереваюсь жарить и стряпать для тебя!
– Много воли взяла себе! – прикрикнул Севела. Потом виновато добавил: – Ну чего ты хотела, дура из Пеллы? Я проехал шестьдесят миль…
– Я буду шуметь на кухне, пока ты не наешь себе немножко сил, – презрительно сказала бесовка. – Пока не перестанешь засыпать после первого раза.
Она вздернула нос и ушла на кухню.
Севела поднялся на второй этаж. Он сел на стул и положил руки на отполированную столешницу. Поясница еще ныла, но сегодня это было почти приятно, это легкое нытье напоминало о том, как разламывалась спина вчера, на подъезде к Ерошолойму.
Вчера Ида отмыла Севелу и отскребла вязаной рукавичкой. Выбирала вшей из подмышек, окатывала горячей водой, терла губкой, смоченной в щелоке, снова окатывала водой. Девчонка сволокла Севелу на теплый каменный пол в пенных лужицах, встала на его отмытую докрасна спину и переминалась на ней узкими стопами. Потом растерла его чистым, белейшим полотнищем, расчесала промытые волосы, растерла тело ароматным маслом. А затем он, действительно, уснул после первого же раза, да и разом-то тем он был обязан лишь горячей бесовке. Сегодня ноги гудели, правую икру подергивало, в промежности временами слегка ломило, а кожа на спине зудела (гнойник Ида выдавила, ловко нажала, набухший бугорок порскнул и опорожнился желтой кашицей; девчонка сделала соляную примочку, и сегодня гнойника как не бывало), но зудела приятно, от непривычной чистоты, от вчерашней банной рукавицы. И волосы теперь были легкими и благоуханными, а не слипшимися в стружку и сбившимися в пыльный колтун, как вчера, на подъезде к Долинным воротам.
«Долгие поездки хороши хотя бы тем, как блаженно чувствуешь себя на утро по возвращении», – подумал Севела и взялся за первый лист из стопки.
Бледно-желтые папирусные листы исписаны были четким почерком старшего писаря. Гирш выводил аккуратно, там, где в листе попадался плохо размельченный стебель, делал перенос. Прекрасный папирус, все листы в стопке размера единого. Светоний много внимания уделял канцелярским делам и самолично заставлял писарей вести записи разборчиво, следил за тем, чтобы фактура папирусов была хороша, чтобы документы заполнялись и компоновались, как положено по режиму составления служебных записей.
К полудню Севела положил на столешницу последний прочитанный лист и встал. От долгого сидения ноги затекли, он походил по комнате, посмотрел в окно. По двору шла Ида и что-то недовольно говорила служанке. Та семенила за Идой, держа в руках корзинку с фруктами. И верно – в кухне не шумели, пока Севела читал списки, Ида со служанкой ходили на рынок. Севела подумал, глядя из окна на бесовку, что экономка она превосходная. Сварлива, много позволяет себе, но управляет домом умело. И женщина она ласковая и горячая. Чего там говорить, мечтает, конечно, стать полноправной хозяйкой, заполучить Севелу в мужья. Может быть, тем и закончится. У женщин Десятиградия рождаются красивые дети, это известно.
«Да, это странные проповеди, – подумал он. – Если Гирш верно разобрал донесения, если агенты ничего не напутали, все записывали слово в слово – тогда на площади Храма и в кварталах нынче говорится неслыханное».
Памятуя вчерашнее предложение Тума не являться несколько дней в присутствие, Севела решил записи перечесть. А может быть, даже составить служебную записку.
«Может быть, Тум не хочет, чтобы Светоний знал, что я получил списки? – подумал Севела. – Может быть, Тум не ставил Светония в известность, когда направлял агентов на площадь Храма? Так или иначе, но служебную записку писать рано».
Он взял со стола один из листов.
«Сим доношу адону майору следующее. То было семнадцатого дня месяца элула, до полудня. От Нижнего города к Двойным воротам прошел Седекия и с ним пятеро пеших и двое конных. О том Седекии я доносил адону майору восемью днями ранее. Седекия вошел на площадь Храма со своим окружением и стал говорить к горожанам. Многие были тем недовольны, так как вышли после молитвы и укоряли Седекию: он-де говорит там, где лишь кохены учат. Но Седекия отвечал им разумно, с острословием, чем заставил слушать. А те, что пришли с Седекией, громко его одобряли и звали слушать прочих горожан. Седекия начинал говорить спокойно, а потом вошел в раж и вскоре почти кричал. И те, кто случился в ту пору на площади Храма, утихли и долго Седекию слушали. Он говорил вот что. Вы много слушали новых учений, жители Ерошолойма, а нынче можете услышать еще и верное учение. А вот посудите – как трудно помнить все повеления и запреты, сам запутаешься, когда стараешься их соблюдать, а чтобы верно все делать, приходится слушать кохенов всякий день. А между тем надо лишь несколько повелений слушать, и не более. Только повеления те будут главные, их мало, но соблюдать их просто, только помнить их надо и знать, что это богопослушно. А кто хочет слышать главные повеления, пусть приходят завтра сюда, и я буду учить. А сегодня запомните лишь то, что можно обойтись для честной жизни не сотнями повелений и запретов, а лишь несколькими, и это будет богопослушно. И тогда каждый человек будет жить, не прибегая к толкованиям кохенов, и не вспоминая Книгу каждый час и день, а между тем все будет делать так, что разум его освободится для других дел».
«И стражники тоже слушали и не вмешивались, – подумал Севела. – Впрочем, прямой богодерзкости в словах этого Седекии не было. Скажи он прямо: „не живите больше по Книге“, или: „вот другое учение, а Книга есть ложное учение“ – тогда стража, конечно, прервала бы проповедь и Седекию повязала. Но он ведь так не говорил».
Он бросил лист на стол и взял следующий.
«Сим доношу господину майору Службы. Третьего дня в квартале у Ворот Эссеев случилась ссора между старостой шерстобитного цеха рав Ионафаном Шупером и акушером Симоном Матиагу. Последний спешил, будучи вызван к роженице, и на ходу ел тутовые ягоды. Рав Ионафан от порога своего дома сделал замечания молодому Матиагу, что, мол, зазорно есть ягоды в Пост Гедалии. Матиагу же ответил, что он акушер, поутру принял одни роды, а сейчас спешит принять еще одни, благодарение Предвечному, что в городе Ерошолойме так часто родятся дети. И он, акушер, сейчас утомлен и голоден. И ничего дурного от того не будет, если он утолит голод ягодами, пусть даже в Пост Гедалии. И добавил: мол, с чего это рав Шупер взял, что в Пост Гедалии нельзя съесть тутовых ягод? И еще сказал, что когда он принимал восьмого ребенка рав Шупера, и все прошло благополучно, и это был уже второй мальчик, то тогда почтенного рав Шупера менее всего интересовало, как аккуратно он, врач Матиагу, следует Книге. А более всего почтенному старосте нужно было, чтобы родовспоможение прошло благополучно. Тут рав Шупер вспылил и сказал, что не должен молодой Матиагу дерзко отвечать человеку весьма зрелых лет. А Матиагу в ответ нагрубил. Тогда к дому Шупера стали собираться соседи по кварталу. Одни порицали молодого Матиагу, другие говорили, что чересчур придирчив и груб сам рав Шупер. И те, и другие сердились все больше. От ссоры, в которую вовлечен был уже весь квартал, поднялся шум, и стояла громкая ругань. Еще рав Шупер толкнул Матиагу в грудь и назвал наглецом и распущенным. На шум пришли два городских стражника и стали вязать акушера Матиагу, а тот кричал, что спешит к роженице, а его задерживают, и он подаст жалобу в магистрат. Тогда в квартал вошел Аарон, который прошлую перед тем неделю проповедовал в квартале, и с ним трое последователей из Итуреи. Означенный Аарон величавым движением остановил стражников, и они подчинились. Потому, что в Аароне была сила. Аарон сказал: чт'о-де вы, жители квартала, порицаете и задерживаете врача, который спешит оказать родовспоможение? Это преступно, ведь роженица-то сейчас страдает. И еще он сказал: и рав Шупера зачем вы браните? Ведь он искренен в порицании молодого человека. Рав Шупер богопослушен, сказал Аарон, он сделал замечание молодому человеку во благо ему. И тот, и другой правы, сказал Аарон, и добрым будет акушеру принести извинения рав Шуперу, а рав Шуперу следует с уважением отнестись к врачебному статуту адона Матиагу и с сочувствием отнестись к его усталости и к его голоду. Это называется терпимость, жители квартала, сказал Аарон, и сколь ни богопослушны вы, но вот терпимости вам не хватает. А надо ведь так жить, чтобы давать людям то, чего бы сам хотел, чтобы тебе давали. Хочешь, чтобы к тебе были терпимы, так сам будь терпим, и только так. А потому сейчас слушайте меня, сказал этот Аарон. И дальше он стал говорить, и все его слушали, и стражники тоже, и долго никто не расходился, такая большая сила убеждения была в том Аароне. Только акушера Матиагу Аарон сразу отослал, потому что, по его словам, нужды роженицы в то время были важнее, чем любые речи. А потом Аарон говорил следующее: к чему соблюдение Книги, если кому-то больно в то время, когда вы следуете Книге, а можете не следовать буквально, но все же сделать все по Книге, чтобы в доме Израиля родился человек? Пусть идет этот акушер, и ягоды пусть ест, и, если надо для укрепления его сил, то пусть и курятины съест, и другого мяса съест в Пост Гедалии. Лишь бы ребенок родился здоровый и мать осталась жива. Это называется терпимость, жители квартала, говорил Аарон. А вот еще послушайте, говорил он. Многие из вас честны в следовании Книге, но нетерпимы. А Книга не абсолют, нет, и не во всех случаях жизни она может указать. Не бойтесь, что я так говорю о Книге, я ведь сам не боюсь этого, а на Книге выучен, и вся моя доброта из Книги, и ученость моя тоже из Книги. А будет то время, когда, кроме Книги, будет иное знание. В то время все будут терпимы, говорил Аарон, обязательно будет такое время, только надо знать, что может быть такое время. Вот послушайте, я вам расскажу, что может настать такое время…»
Севела отложил лист и взъерошил промытые волосы.
«Откуда он взялся, этот Аарон? – подумал он. – Что он такое говорит в квартале у Ворот Эссеев? „Книга – не абсолют“. Отчего его в клочья не разорвали прямо там, у Ворот Эссеев? И почему стражники зачарованно слушали проповедника, вместо того чтобы вязать ему локти? Не уставшего врача вязать, а именно этого Аарона? Что за необыкновенная сила убеждения в этих бродячих рабби?»
Он походил по маленькому кабинету. Половицы скрипели под ногами, из окна свежо поддувало.
«Нируц хочет арестовывать их, – думал он. – Почему? Какое дело Нируцу и отделу до проповедников, если нет на то приказа Светония? Почему горожане доброжелательно относятся к ним, инспекторы Синедриона не выказывают недовольства, а Нируц твердо намерен заключать их под арест? Чего он мне не договорил, мой майор?»
Тут его позвала Ида.
– Я приготовила овощную кашу и запеченого в тесте цыпленка, – крикнула Ида из кухни. – Ты спустишься, или подать наверх?
– Я спущусь, – громко сказал он в лестничный пролет. – И на сегодня я закончил чтение. Мы с тобой съедим кашу и цыпленка, и я разрешаю тебе выпить вместе со мной эшкольского, сходи в погреб.
– Это честь для меня, женщины из Пеллы, это любезное обхождение, капитан, – насмешливо сказала бесовка. – А потом ты опять станешь читать?
Севела усмехнулся.
«Вчера меня хватило только на один раз, – подумал он. – Но сегодня эта распущенная дрянь получит по полной мере. Пусть наутро жалуется, что у нее саднит и болит. Сейчас я поем, выпью эшкольского – тогда дойдет черед и до болтуньи из Пеллы».
Он спустился по лестнице и сказал:
– Подавай еду, Ида. Сегодня я работать больше не стану, майор назначил мне двухдневный отпуск. Служанку отпусти к родным до завтра, калитку запри. После еды я хочу баню. У меня еще немного болит поясница, потопчись на мне, как вчера.
Ида моргнула и быстро облизнула губы. Она собой хороша была – тонкое лицо, живые глаза и высокий лоб. Севеле не нравились женщины с узким лбом, не нравились крестьянки с покорными глазами. А эта бесовка с большим ртом, тонкими ноздрями и заросшими темным пухом висками ему нравилась так, что он прощал ей капризы и распущенный язык. И даже то, что она иной раз ему отказывала, он ей прощал, сучке. Да, она отказывала ему иной раз, дрянь этакая из Пеллы! И он это сносил!
Они с Идой, сидя друг напротив друга, торопливо съели кашу с овощами и запеченного цыпленка, выпили полторы баклаги эшкольского (и такое он тоже позволял бесовке), потом пошли в баню. Ида с утра развела огонь в печи, баня хорошо держала тепло. Севела помылся нагретой водой. Ида, как вчера, потопталась на его спине. Первый раз он взял ее прямо там, на каменном лежаке. После второго раза он звонко шлепнул ее по ягодице и показал подбородком на дверь. Ида поспешно встала, укутала Севелу полотнищем, промокнула, обтерлась сама и, не прикрываясь (служанку она отпустила) пошла в спальню. Там она торопливо взобралась на кровать с лебяжьим тюфяком, плавно раздвинула полные бедра и замерла, выгнув спину.
Когда за окном стемнело, он уснул, уткнувшись носом в ее влажную мускусную подмышку, чувствуя, как она гладит его по затылку. И засыпая, успел подумать, что и завтрашний день он проведет в чистом, светлом доме, а не в неуютном присутствии, где…
* * *
Димон был крепкий, сухой, ладно скроенный. Лицо его, смугловатое, тонкогубое, с остренькими, карими, широко посаженными глазами, всегда носило выражение деловитой озабоченности. Даже когда Димон смеялся или, хлопнув стопарик, отваливался на спинку стула, закуривал «Казбек» (он закончил училище ракетных войск, через пару лет уволился в запас каким-то хитрым способом, – с того лейтенантства у Димона осталась привычка к «Казбеку») или вел машину – и тогда тоже на лице сохранялась озабоченность. Была в его лице неприятная черточка: в уголках губ скапливалась слюна, как белая пенка. Поначалу Дорохова коробило, потом привык.
Их познакомил все тот же Саня Берг. Саня и Димон выросли в одном дворе на «Войковской», учились в немецкой спецшколе на Куусинена.
Полтора года назад Дорохов приехал к Бергу вечером. Поговорили о разном, попили чаю, Саня показал последние фотографии с Домбая.
В компании про Саню говорили «горный человек». Они с Дороховом попивали чаек, Саня рассказывал, какая там красота, на Домбае. Сказал, что в восемьдесят четвертом он ездил в Болгарию, в Боровец – так это просто смешно, Боровец с Кавказом рядом не стоял, так, плешки лесистые, настоящее катание только в Терсколе и на Домбае. Ну, может быть, в Цее еще. А Цахкадзор – детский сад, и Гудаури – детский сад. Просто поле на большой высоте, наклоненное под небольшим углом… И тут зазвонил телефон.
– О! Димон! Здорово! – сказал Саня. – В смысле, здравия желаю. Прекрасно. Заходи, я дома.
Дорохов отложил фотографии и потянулся к пепельнице.
– Это Димка Беликов, – сказал Саня. – Из метро звонил, сейчас зайдет. Мы из одной школы. Я после школы в МИТХТ поступил, а он ракетчиком стал, товарищем лейтенантом. Два года прослужил и комиссовался. Сейчас в творческом поиске.
– Я пойду, наверное, – нерешительно сказал Дорохов. – Чего я буду вам отсвечивать?
Сказать по правде, уходить ему не хотелось.
– Ерунда! – возразил Саня. – Познакомлю вас, выпьем по рюмочке.
Вскоре пришел Димон.
– Дмитрий, – четко сказал он от порога и крепко стиснул руку Дорохова.
– Михаил, – ответил Дорохов.
Димон снял синие кроссовки с тремя полосками и достал из болоньевой сумки пузатую бутылку.
– Я с кирлом, мужики, – сказал он.
– Это что? – полюбопытствовал Саня и, вытянув шею, взглянул на бутылку. – О господи. А ладно, сойдет.
– Чего «сойдет»? Чего «господи»? Нормальный бренди! – обиделся Димон. – Во, смотри, написано: «бренди». Балованный ты, Берг.
– На заборе тоже написано, – сказал Саня. – Пойду сыр порежу. Может, жрать кто хочет? Ты голодный, Димон?
– Не. Обедал. А вот сыр, лимончик к бренди…
Он поставил на пол болгарскую «Плиску» с парусником на наклейке.
Саня принес на подносе сыр, лимон, оливки марокканские в пиале, шпроты. Дорохов с Димоном уже обменялись несколькими вежливыми предложениями, сразу договорились, что будут на ты.
– Вот это дело, – сказал Димон, оглядев закуску. – Миша, я курсантом был, мы с Бергом так выпивали: второпях все, на газетке, портвешок, вермут. А теперь смотрю, все у него культурно, никаких газеток. А ты тоже с Сеней Пряжниковым дружишь?
– Тоже дружу, – ответил Дорохов.
– У Сени принято культурно выпивать, – уважительно сказал Димон. – Учишься? Работаешь?
– Я МИТХТ закончил. Сейчас в НИИ работаю.
– Так вы из одного института?
– Мы даже с одного факультета, – Берг разлил «Плиску» по рюмкам. – Мужики, со знакомством вас.
Они просидели тогда часа два, допили «Плиску», поставили чай. Димон рассказывал всякие интересные случаи из своего короткого офицерства («Кто в армии служил, тот в цирке не смеется…»), вышли от Сани вместе, прошлись до «Войковской» не спеша. Димон Дорохову понравился. Энергичный парень, подвижный, в машинах разбирается.
Сам Дорохов машину водить так и не научился. Ребенком покрутил руль у отца на коленях, а когда подрос, то папа уже не очень хотел учить вождению – развел обычное занудство: «Хочешь изучать автомобиль – надо начать с самого простого. В выходные время будет – объясню тебе принцип работы двигателя внутреннего сгорания. Почитай правила дорожного движения. Скоро буду менять тормозные колодки – посмотришь». Андрюха Старостин из шестого дома уже сам водил, безо всяких коленок, отец его рядом сидел, а Андрюха ездил, хоть и медленно, по пустырю, за гаражами, но сам рулил. Дорохов несколько раз отца просил: поучи водить. А в ответ – тягомотина про принцип действия двигателей внутреннего сгорания. Нет чтобы дать почувствовать, как машина тебя слушается. Пусть тихонечко, на маленькой скорости, где-нибудь за городом. А там уж подросток Дорохов, глядишь, и тормозные колодки стал бы менять, и в карбюраторах-трамблерах разобрался бы. Но так и уехал из дома, а машину водить не научился. Куда такое годится – в семье машина есть, а пацана к ней не подпустили? Дорохов подумывал записаться летом на курсы.
У Димона, по его словам, «Иж-комби», не новый, конечно, но все же машина, не велосипед. Пока они шли к «Войковской», Димон рассказывал про «Иж». Как про любимую девушку рассказывал.
Потом спросил:
– Миша, а ты, значит, химик?
– Я биохимик, – ответил Дорохов. – Сейчас занимаюсь молекулярной генетикой.
– Это что такое?
– Как тебе сказать… Выделяю из разных микроорганизмов гены, определяющие всякие свойства этих микроорганизмов.
– Зачем это надо?
– Для того чтобы синтезировать некоторые необходимые человечеству вещества. Микроорганизмы эти вещества продуцируют медленно и неохотно. А если выделить ген и несколько его видоизменить, то можно производить нужные вещества в требуемых объемах. Вот, скажем, есть такие белки, интерфероны. Выражаясь языком передачи «Здоровье», эти белки оберегают твой уязвимый организм от всевозможной инфекционной агрессии. От вирусов, к примеру. До сих пор известен был лейкоцитарный интерферрон, человеческий, натуральный, так сказать. А в нашей лаборатории добывают интерферон синтетический. И придают ему свойства, которых естественный интерферон лишен.
– Толковый ты мужик, – сказал Димон. – Слушай, а давай встретимся на неделе? У меня одна затея есть, я б с тобой обсудил. Консультация нужна.
– Никаких проблем. Давай. А хочешь – приезжай ко мне в институт.
– А можно? Это не «ящик»?
– Да какой там «ящик». Подъезжай завтра. Это на Варшавке. Можешь от «Чертановской» ехать, можешь от «Варшавской». А! Так «Пражскую» же открыли! От «Пражской» всего пара остановок.
– Я на машине, – сказал Димон. – Найду. Часа в три удобно?
– Попозже… У меня в два семинар. К пяти где-нибудь.
– Все, договорились, – быстро сказал Димон.
На следующий день Дорохов выписал для Димона пропуск, оставил на вахте. Когда пришел с семинара, Димон курил «Казбек» и мурлыкал с Машкой. «А что вы, Мария, вечерами делаете?.. Спортом занимаетесь? Такой фигуры без спорта быть не может…»
– Здравствуй, Дима, – сказал Дорохов и положил на стол общую тетрадь. – Машка, почему тебя не было? Он мне выговорил. Великодворская заболела, к Иремашвили сестра приехала. И тебя тоже нет.
Машка сделала несчастное лицо.
– Кончай кино! – сказал Дорохов. – Только не надо врать на ходу, ладно? Вообще, нехорошо это по отношению к экселенцу!
– Ой, Мишунь, – Машка замахала руками и округлила глаза. – Какой семинар… Я вся на нервах! Баська родит вот-вот!
– Подруга ваша? – участливо осведомился Димон, поднося Машке зажигалку.
– Собака, колли… Спасибо, – Машка прикурила и кивнула Димону. – Дор, ты меня только не строй, ладно? В клубе на Баськин помет уже очередь. А я хочу вязальную машину купить. Меня Ирка Шмелева надоумила свитера вязать.
– Елки-палки! – рассердился Дорохов. – Какая вязальная машина? Какой помет?.. Слушай, ну чего экселенц за тебя рвет жилы? Он занятой человек, семинар для вас, бездельниц, подготовил!
– Ну ладно, ладно, – зачастила Машка. – Я пойду к нему, извинюсь. Ну ты ж записал все, да?
Она показала на тетрадь.
Машка потушила сигарету, подмигнула Димону и вышла из комнаты. Димон привстал ей вслед. Дорохов показал глазами: сиди, бесполезно.
– Она замуж скоро выйдет, – сказал он. – Бесполезно, Дима. Это она только с виду такая… лихая.
– Стало быть, тут мы не отобедаем, – Димон вздохнул. – Досадно.
– Говори, Дима – чем могу помочь?
Димон подобрался и заговорил. Говорил он долго. Дорохов его не перебивал.
– Я все понял, – сказал он, когда Димон умолк. – Да, неглупую ты штуку выдумал… Короче, это в моей компетенции. Но ведь нужна лаборатория.
– Да никакая лаборатория ни фига не нужна! – горячо сказал Димон. – Это все решаемо, старик! Я сниму квартиру. Вода нужна, ток нужен. Но еще мозг нужен.
– Мозг у меня есть.
– Вот я так и понял сразу!
– Хорошо. Завтра я беру библиотечный день. Приезжай ко мне домой. Все обмозгуем, это дело неспешное. Деньги понадобятся.
– Я машину продаю, – сказал Димон. – Деньги будут.
– Ты подумай все-таки, – осторожно сказал Дорохов. Он совершенно не представлял, как можно одним махом продать такую ценность, как машина.
– Дело-то такое, что можно купить десять машин. Насчет «Ижа» я уже договорился, сосед берет. Квартиру снимем на год, трансформатор куплю. Посуда лабораторная, реактивы. Ничего, соберем оборудование. Что-то стащим, что-то недорого встанет. И печь нужна.
– Слушай, Дима, – сказал Дорохов. – У меня-то с деньгами не очень. И машины нет. Я мэ-нэ-эс, у меня ставка – сто пятьдесят.
– Это здесь ты мэ-нэ-эс, – презрительно сказал Димон и обвел взглядом комнату – термостат с никелированной ручкой, холодильник «Юрюзань», хроматограф, колбы с цитратным буфером, магнитную мешалку, календарь с японскими цыпочками. – А в нашем НИИ ты будешь Самый Главный Научный Миша.
– Хорошо, – сказал Дорохов. – Что положено говорить в таких случаях? Я принимаю ваше предложение, сэр?
– Не знаю, что там положено, – ухмыльнулся Димон. – Не ожидал, что ты согласишься.
Димон пожал Дорохову руку и как бы между прочим спросил:
– А Мария какой кабинет занимает?.. Зайду попрощаюсь…
Он ушел, а Дорохов опять сел в кресло, взял папиросу из пачки, которую оставил Димон, и закурил.
Он вспомнил, как три года назад сидел в аэропорту Якутска восемнадцать часов. Из репродукторов страдала София Ротару – «Лава-а-нда, горная лаванда». Он выходил на улицу, к автомату с газировкой, пил холодную воду с грушевым сиропом. В очередной раз объявляли, что рейс на Новосибирск задерживается до второго пришествия. Дорохов ощупывал зашитую в стройотрядовскую куртку с трафаретом «ССО „Прогресс“ – МИТХТ» пачку двадцатипятирублевок. Он читал «Известия», «Якутскую правду», и «Территорию». Курил, ел в буфете беляши, запивал томатным соком. Позвонил родителям из переговорного пункта, Сеньке позвонил, просадил горсть «пятнашек». Как мог убивал время. И думал, что нельзя так безмозгло – лопатой и мастерком, бензопилой «Дружба» и топором – добывать дензнаки, если у тебя есть голова и воображение.
* * *
…легким шагом вошел в присутствие и поморщился. Здесь пахло пропотевшей одеждой и мышами. Пол неметен несколько дней, на столе Гирша – засохшие корки и виноградные косточки. А сам Гирш глазел в окно и ковырял в носу. Никодим стоял у стеллажа и водил пальцем по корешкам папок.
Севела Лидду уже вспоминал без злобы, как вспоминают дорожное приключение.
– Здравствуй, Гирш, – сказал он. – И ты Никодим. Гирш, позови-ка стражника, пусть выметет пол.
Гирш был малоприятный сосед, зато превосходный перлюстратор, снимал печати с писем и подделывал так, что различить было невозможно. Виртуозный каллиграф, он умел повторить любой почерк.
– Пахнет мышами, – брезгливо сказал Севела.
– Он был в двухдневном отпуске, – пробасил Никодим. – А перед тем две недели – в поездке. Вот и отвык от нашей комнаты.
– А ты, Никодим? – осуждающе сказал Севела. – Твой платок засалился, а туника серая от грязи. Скажи дежурному, пусть нагреет баню.
– Непременно сменю тунику, Малук, – добродушно сказал Никодим. – А тебя майор ждет.
Он родился в Вифании, а в Морешеве обучался на курс старше Севелы. В Schola они знакомства не водили – в Морешеве дружбы не поощрялись, там полагалось учиться с утра до ночи, а не завязывать дружбы. Лейтенант Никодим был добродушен и неглуп, колкости выслушивал с мягкой улыбкой. Никодим два года тому назад увозил Севелу от зелотов.
Он приехал в лагерь под видом троюродного брата Севелы и привез письмо от вероучителя Ядина из Сихема. В письме говорилось, что наставник хочет, чтобы Севела на время оставил богопослушных молодцов, поскольку рав Ядину надо говорить с Севелой и дать поручение в Газу. Молодцы в овчинных куртках «троюродного брата» приняли приветливо. Но Элеазар Бар-Галеви, вожак, угрюмо выспрашивал: как Никодим нашел дорогу к лагерю? Никодим, простецки ухмылялся, показал чертеж, сделанный самим рав Ядином, и пропуск почтенного рав Ядина, работы Гирша. И выглядел он как послушный исполнитель воли почтенного Ядина, как славный мастеровой, сочувствующий богопослушным молодцам. Элеазар, насупясь, долго читал пропуск. Он немного знал грамоту, этот темный самарийский мужик. Лет пятнадцать, как легионарии и Служба не могли подобраться к Элеазару – осторожен и хитер необыкновенно, и чутьем обладал воистину звериным. Вожак прочел, шевеля губами, пропуск на тряпице и велел Севеле поутру отправляться, раз почтенный Ядин призывает ученика. Никодим привез три бурдюка с молодым родосским, связку копченых кур, мешок чеснока и три круга козьего сыра. А еще он привел крепкозадую пятнадцатилетнюю бабу, купил ее в Афуде. Поманил пальцем, спросил: чья? пойдешь со мной? не пожалеешь. Нашел хозяина и купил бабу. Она бежала за лошадью от окраины Афуды, держась за хвост. Молодцы как один восторженно зарычали, когда лучезарно улыбающийся Никодим въехал в замусоренный лагерь с бурдюками, едой и бабой. Еще до заката Никодим стал всем разлюбезным другом. Никодим и зелоты сидели у тлеющего костра, рвали зубами жирных кур, передавали по кругу бурдюк, зычно гоготали. А бабу всю ночь в очередь валяли в палатке и славили Никодима. Костер потрескивал, шумели под ветром кедры, на синем небе светили серебряные звезды.
– Почему ты приехал? – шепотом спросил Севела, улучив момент. – Мне надо пробыть с ними еще пару недель. Элеазар хочет вырезать пост за Афудой. Они думают напасть, когда легионариям привезут жалование. Хотят разжиться деньгами.
– Майор велел выводить тебя сей же миг, – одними губами ответил Никодим, делая вид, что рассматривает плетеный пояс Севелы. – Стало известно, что к Элеазару идут пятеро из Акко, здесь будут к полудню. Один из них – Тавр, кохен. Учился в Яффе в то же время, что и ты. Переночуем, чтобы они не заподозрили неладное. А утром уедем.
О Севеле зелоты знали лишь то, что он родом из Газы, три года был в романской тюрьме, после учился у Ядина из Сихема. Давний знакомец из Яффы был Севеле в лагере Элеазара ни к чему.
Наутро они с Никодимом простились с молодцами, навьючили лошадь, Севела сел верхом, а Никодим повел в поводу. Они миновали последний пост и спустились в лощину. И тут навстречу показался отряд, пятеро конных. Оружия видно не было, но Севела знал наверняка, что под плащами у верховых короткие обоюдоострые мечи, или шестоперы, а еще ножи на поясах. Никодим придержал коня и сошел с тропы, пропуская встречных. Тот, что ехал в голове отряда, рябой здоровяк, свел кустистые брови и пристально осмотрел Никодима с Севелой. Никодим широко улыбнулся и показал: поезжайте, тропа свободна. Всадники несколько мгновений разглядывали встречную пару, потом тронули лошадей и медленно поехали в гору. И уже когда последний из них поравнялся с Никодимом, то второй вдруг натянул поводья, обернулся и стал смотреть на Севелу, морща лоб.
– А постойте-ка, братья!.. – словно что-то припоминая, проговорил человек. – Да ведь я знаю его! Ведь ты Малук? Ты Малук из Эфраима, я знал тебя в Яффе! Тут нечисто, братья!.. А ну – пусть спешится!
Головной в колонне резко развернул коня. Двое быстро спешились, один грубо забрал у Никодима повод. Спешился еще один из отряда. Теперь уж трое стояли на земле. Душевно улыбаясь, Никодим ухватил ближнего к нему всадника за тесьму плаща, пригнул и с хрустом пробил человеку ключицу ножом. Севела мигом выдернул из петли секиру, послал лошадь пятками и наискось ударил головного в шею. Зелот опрокинулся на круп, руки обвисли, кровь облила бороду. Севела скользнул с лошади, покатился под ноги к одному из спешившихся, подхватил под колени, опрокинул, ударил в лоб. Зелоты выхватили романские мечи, один достал Севелу в выпаде, поранил кисть. Но Никодим швырнул в глаза зелоту горсть пыльного песка. Тот ослеп, нелепо замахал мечом, а Никодим ударил в пах и поддернул. После была рубка, Никодим одолел еще одного, человек ахнул и боком обвалился в шуршащий куст. Потом Севела с Никодимом насели на последнего. Севела подсек под колено, а Никодим, уже без спешки, примерившись, ударил в шею.
И удача, что ни один из зелотов не закричал, а ведь до сторожевых было рукой подать. Севела и Никодим торопливо переловили лошадей, взвалили трупы и увели скорбную кавалькаду вниз, в долину. А в лагере Элеазара так и не узнали, что ученик почтенного Ядина был человеком Службы.
Так что он был отважным и надежным человеком, этот Никодим из Вифании – в грязной ли тунике, в чистой ли.
Севела подошел к столу Никодима и положил сверток в промасленном пергаменте.
– Ида послала тебе, – сказал Севела. – Телятина с чесноком. С пергамоном и красным перцем, как ты любишь. Ида питает к тебе слабость.
– Тебе досталась редкая женщина, Малук, – сказал от стеллажей Никодим и почмокал губами. – Даже если бы она больше ничего не делала, а только лишь стряпала, то и тогда лучше ее никого нет.
У Никодима было простецкое лицо. Загорелое, широкое. Маленькие глаза глядели ласково. А круглый, как олива, нос делал лицо Никодима мирным и забавным.
– И все же, пойди в баню, мой Никодим, – сказал Севела. – Я отмывался в бане два дня подряд, мне теперь противно глядеть на твою одежду и черные ногти. А что у майора?
– Он собирается послать тебя на аресты, – сказал Гирш сбоку. – Три ареста, ордера выписаны Светонием.
– Так, – сказал Севела, – три ареста. Он что – ждет меня?
– Да мне кажется, что он всегда ждет тебя, – хихикнул Гирш.
– У меня тоже два ареста, – сказал Никодим. – Ты уж как-нибудь без меня, Малук. Возьми в усиление троих.
Вот это было верно – три стражника равны одному Никодиму.
– А что за люди? – спросил Севела.
– Он все тебе расскажет, – пообещал Гирш. – Иди, он уже дважды про тебя спрашивал.
«Ну да, аресты, – подумал Севела. – Пришла пора арестам. Иначе зачем он давал мне списки?»
Севела поднялся к Нируцу.
– Ну, разве я не был прав? – засмеялся Нируц. – Два дня и Ида. И ты опять офицер Малук, а не грязный обиженный теософ из Лидды.
Севела ухмыльнулся и отсалютовал.
– Ты прочел тексты бродячих рабби?
– Все прочел, но вот понял не все.
– Поговорим о том вечером. Сейчас я направляю тебя совершить аресты. Ордера найдешь в канцелярии. Четыре ареста за тобой, и два за Никодимом. Аресты в разных кварталах, так что советую вам пойти врозь, тогда все сделается быстрее.
– А что за люди? Может быть, это такие люди, что мне лучше не спешить, а объединиться с Никодимом?
Нируц понимающе кивнул – надежнее Никодима в таких делах никого не было.
– Люди не боевые, опасаться нечего. Двое бродячих рабби и их спутники. И еще хозяин дома, где остановился один из рабби.
– Я видел всяких рабби, – Севела пошевелил бровью. – Раз Никодим занят, то я возьму троих в помощь. А тот горожанин, хозяин дома, кто он такой?
– Странноприимца зовут Джусем Пинхор. О нем справлялись у квартального кохена. Тот говорит, что это приличный человек, вдовец.
– Что еще прикажешь?
– Приставы пусть обыщут дома, а ты сам сопроводи арестованных в крепость Антония. Приставам скажи, что плохо им будет, коли попадутся на воровстве. Вели, чтобы арестованных не били. Пусть их покормят утром, и воды дают, сколько те захотят.
– Все будет сделано.
– Расположи к себе мастера Джусема. Будь вежлив, будь громко недоволен, что вынужден конвоировать достойного человека, как последнего вора.
Севела кивнул и встал.
– А Никодима ты тоже предупредил? – спросил он уже в дверях. – Я про мягкое обхождение, воду и прочее.
– С теми, к кому я отправлю Никодима, это ни к чему.
Севела шагнул в дверь.
– Вернись, прошу тебя, – вдруг сказал Нируц.
Севела остановился.
– Сядь, – сказал Нируц. – Еще несколько слов.
Он потер указательным пальцем переносицу.
– Слушаю тебя, – сказал Севела.
– Ты верно знаешь, что твое место в Службе?
– Мое место? – удивленно спросил Севела. – Где же еще мое место?
– Не те слова я говорю…
«Его что-то тревожит, – подумал Севела. – И когда я вернулся из Лидды, он говорил непонятное. Он отправил меня домой на два дня, я ел, нежился в бане. А он просиживал ночи в резидентуре».
Он участливо спросил:
– Что тебя терзает, Тум? К чему такие вопросы?
– Видишь ли, – Нируц прокашлялся. – Видишь ли, у меня шакалье чутье. Сам иной раз не могу объяснить, почему боюсь чего-то. Как это любил говорить Плацид: интуиция есть подсознательное обобщение опыта. Помнишь Плацида?
– Да.
– Во времена моей учебы в Морешеве Плацид любил повторять: «Повышенная чувствительность не исключает практического склада ума. Присмотрись к интуиту – обнаружишь прагматика».
– Послушай, – сказал Севела, – сейчас я отправлюсь с ордерами по указанным адресам. Я посажу в холодную всех, кто указан в ордерах. Я вернусь к тебе, и ты расскажешь, что тебя тревожит. Что бы ты ни затеял – я с тобой.
Нируц склонил голову к плечу и с нежностью смотрел на Севелу.
– Когда я увидел тогда твое лицо, – сказал он. – Там, в саду, на свадьбе… Я приехал к отцу, у меня был месячный отпуск. А когда я получал подорожную до Эфраима, мне неожиданно дали один рекрутский лист. Это было решительно не мое дело… Я решил, что это недоразумение, хотел вернуть лист. Но Светоний сказал: поезжай, посмотри, может быть, среди земляков встретишь достойного человека, тебе пора уже самому выбирать людей. И вот на свадьбе я увидел тебя.
– Тебя на той свадьбе я помню, а все остальное забыл, – сказал Севела. – Ты знаешь, я почти не вспоминаю Эфраим. Работу у отца не вспоминаю, конносаменты, бухгалтерские книги. Как будто это было не со мной.
– У тебя было необыкновенное лицо, – Нируц опустил веки. – Ты смотрел на людей, узнавал многих. Но еще было видно, что тебе совершенно нечего делать там. Ты выглядел так, как будто в любой миг можешь повернуться и уйти. И забыть навсегда всех, кто был в том саду. Я тогда, помнится, сказал тебе, что дружил с твоим братом. Я хотел завязать разговор. Сказать по правде, я терпеть не мог твоего брата. Я мальчишкой был, но на дух не переносил Рафаила. Он казался мне болтуном.
– Мой майор, я после той встречи списался с Рафаилом. Брат ответил, что Тума бен Цебаота Нируца в их иешиве называли «вежливой гадюкой». Советовал держаться от Тума Нируца настолько далеко, чтобы можно было лишь увидеть однажды, как его кто-нибудь прирежет.
– Но когда я увидел тебя, – сказал Нируц, – я подумал, что вот этому-то парню нечего делать в захолустье. Послушай, ты не подведешь меня?
– Что ты такое говоришь, майор?
– Мое проклятое чутье. Я берусь за дело, которое может сломать мою карьеру. Мы с тобой сейчас беремся за дело, которое может уничтожить нас. Ты пойдешь со мной до конца?
– Ты удивляешь меня, – опасливо сказал Севела. – Я с твоего позволения пойду за ордерами.
В канцелярии он взял три листа, сунул в поясную тубу, потом сбежал по лестнице во двор, распахнул дверь кордегардии и крикнул:
– Аристарх, Нусим и Натан! На аресты! Живо, стражники!
В кордегардии затопали, послышался грохот опрокинутой скамьи, приглушенная ругань, из дверей один за другим вышли трое. Они оправляли пояса и дожевывали на ходу, смахивая крошки с бород.
– А ты кто? – спросил Севела, остановив за плечо незнакомого парня.
Стражник был молодой, высокий. Он торопливо завязывал толстыми пальцами тесьму плаща, когда Севела схватил его за крепкое плечо. Румяное белокожее лицо с редкими усиками и выпуклой бородавкой на щеке – Севела видел парня впервые.
– Стражник Гума Зокир, адон капитан! – уставно выкрикнул молодой конвойный и притопнул ногой. – В замену стражнику Нусиму Зокиру!
– Братья?
– Так и есть, братья, адон капитан. Я младший. Семейное, получается, дело. Отец служил, и нас наладил служить. Имею почтение доложить, Нусим Зокир в отпуске со вчерашнего дня! Имею почтение доложить, заменяю означеного Зокира во всех обязанностях!
– Тише, стражник, – Севела обернулся к Натану. – Ты его поучил чему-нибудь? Ты посмотри, какой он сопливый. А у нас аресты, нам надежных людей надобно иметь рядом.
– Всему учил, адон капитан, – сказал Натан. – Третий уж день учу. И Нусим его вразумлял. Присмотрим за молодым, адон. Коли он в брата, так хороший будет стражник.
– Пусть держится при тебе, – приказал Севела. – Он кровь видел?
– Кровь будет? – спросил Натан деловито. – Так я пойду наплечники надену.
– Ты меня слышал? – сердито спросил Севела. – Ты зачем в отряд сопляков берешь, дуралей? Ты что думаешь, раз он Нусима брат, так он и сам, как Нусим? Нусим битый-перебитый, надежный, я его во всех видах видел. А этот губошлеп бородавчатый…
– Присмотрим за ним, адон капитан, – пообещал капрал. – У них семья стражницкая. Парень славный.
– Во все глаза смотри! – строго наказал Севела. – Я хочу бойцов за спиной иметь, а не губошлепов. Крови нынче не будет, думаю. По ордерам значатся люди мирные. Бродячие кохены и один странноприимец из горожан. Но ты, Натан, смотри за молодым! Аресты важные, никаких оплошностей быть не должно. Аристарх, а ты не груби, где не надо!
– Имею почтение, адон! – невнятно сказал Аристарх и проглотил.
– Да что же вы жрете-то, когда время на аресты идти! – с сердцем сказал Севела. – Что, дожрать некогда?.. Аристарх, не бей никого без нужды. Слышал?
– Так, адон… Ужинали мы, – виновато сказал Аристарх.
– Выходите, – сказал Севела. – Ремни взяли? Мешки наголовные, путы? Натан – чтобы все под рукой… До полуночи следует управиться.
И они гуськом пошли из двора в прохладу темного вечера. Севела шел первым. Стражники шагали за ним, поскрипывали ремни, глухо бряцали окольцованные ножны. Натан сопел и источал едкий запах притирания, что от вшей. За оградой…
* * *
Пять лет он зарабатывал руками и ногами, спиной и шеей. Папа присылал с первого курса до последнего, но присылал «на прожитье». А кроме «прожитья» были ведь еще Гурзуф и Рига, кафе «Адриатика» в Староконюшенном, где подают офигительный шашлык и мускат «Лоел». Были джинсы «Джордаш» и кроссовки «Ромика» у фарцовщиков на «Беговой» и в Лужниках. Были еще книжки Урсулы Ле Гуинн, Саймака и Шекли, Юрия Казакова, Ахматовой, Торнтона Уайлдера и Стругацких – у книжных спекулянтов на Кузнецком.
Папина финансовая программа «прожитья» этого не предусматривала. И для Ленки, когда еще не развелись, хотелось покупать всякое – кружавчики там разные, духи «Клима», сапоги на «манной каше».
Короче, надо было зарабатывать. И он зарабатывал, ездил всякий год в стройотряды. Физически он был так себе, не гигант. Но был вынослив, умел взять средний и самый верный темп в любой работе: копать ли, мешать раствор под фундамент вручную, носилки таскать – по два мешка цемента на носилки, каждый мешок – пятьдесят кэгэ. Со второго стройотряда он уже выбился в люди, стал каменщиком, разряды получил – каменщика и плотника-бетонщика, третий разряд. Умел терпеть голод и комаров. Умел сразу обживаться в помещениях на двадцать коек. Не тяготился запахами, многочисленным и бесцеремонным соседством, матом, общением с «местными». Быстро привыкал к грубой одежде, непросыхающим сапогам, однообразной еде.
И каждое утро – зябкое, раннее, но уже наполненное запахом белых досок, цементной пыли, тракторного выхлопа – он встречал, спокойно примериваясь к длинному дню. Не было дурного настроения от завтрака с жидким чаем, серым хлебом и маслом кубиками, не было тоскливого ожидания тяжелой работы. Легко переносил недосып и ломоту в пояснице.
Он сразу отрешался от Москвы, от ее чистых тротуаров, ларьков и афиш.
В тот раз он вообще должен был ехать комиссаром. Но Женя Глущенко, секретарь комитета комсомола, сказал ему, что набирается отряд в Якутскую АССР, Мегино-Кангаласский район, какая-то там богом забытая деревня Хочо.
– Комиссаром туда не получится, – с сожалением сказал Женя. – Назначили уже одного. Активный парень, на курсе отвечает за военно-патриотический сектор. Сергей Сахаров.
– Да обойдусь я без комиссарства этого, Жень, – сказал Дорохов. – Возьму бригаду кладчиков – и нормально.
– Я понимаю, молоденький он еще, этот Сахаров, – сказал Глущенко. – Но шустрый, чертяка. Уже кому надо в райкоме на глаза попался, впечатление произвел.
– Да мне без разницы, Жень, – Дорохов пожал плечами. – Что за работа там?
– По дереву вроде. Коровник, что ли, или телятник.
– Нормально. Поеду. Кто командир?
– Давыдов Вася, четвертый курс.
Узнав, кто будет командиром, Дорохов про себя ругнулся. Вася Давыдов был так себе человечек. До института служил на флоте. У него на предплечье была наколка: «Эсминец „Виктор Кингисепп“, ДМБ 1975» – типа мариман. Дорохов с ним пересекался в первом стройотряде, под Чарджоу. Вася был бригадиром, они с Дороховым работали на соседних объектах. Дороховская бригада строила кошару из шлакоблоков, а бригада Давыдова стелила полы в административном корпусе. Дорохов тогда видел, как Вася покрикивает на бойцов. Покрикивать-то ладно, это нормально. Но Вася бойцов чмырил нешутошно. Как в армии. Как на флоте. Выглядело это паскудно. Из Васи перли разнообразные флотские словечки, повелительная, сквозь зубы, интонация. Даже походка у Давыдова изменилась. Как будто он не пластается в стройотряде с однокурсниками, а учит «салабонов».
Дорохов на это насмотрелся и как-то Васе сказал: «Ты что-то разошелся, Давыдов. Слышь, тебе тут не флот. Тебе ребята в рыло насуют как-нибудь. Ты поспокойнее, дружок, себя веди».
Короче говоря, Дорохов поехал в Якутию. Незадолго до того он прочитал «Территорию» Олега Куваева. Потрясающая книга, куда там Джеку Лондону! В предисловии было сказано, что Куваев получил премию ВЦСПС за лучшую книгу о рабочем классе. Верно, лучше книгу о тундровых работягах представить трудно.
Отряд выехал в первых числах июня, а Дорохов на неделю задержался. Он в июне депонировал первую статью в «Реферативном журнале», надо было оформлять как полагается. Статеечка короткая, на полторы страницы, но первая, он перепечатывал ее раз десять. Дорохов занимался в СНО, у профессора Редькина. В заголовке значилось: «Докторхимических наук Редькин В. Д., Дорохов М. Ю. Московский Институттонкой химической технологии».
Так что он отстал от отряда, поехал один. Летел на «Ил-62» из «Домодедово» в Новосибирск. В аэропорту «Толмачево» перекусил в буфете. Думал, запивая компотом жесткий лангет: черт побери, до родителей рукой подать, семь часов на поезде.
Из Новосибирска он летел в Якутск на «Ту-134». А из Якутска уже добирался до расположения отряда на перекладных. Прилетел ранним утром, доехал на автобусе в центр города, нашел зональный штаб. Отметил комсомольскую путевку, ребята в штабе рассказали ему, как добираться до места. Сначала переправился через Лену до Бестяха. Лена его ошеломила. Сам вырос на большой реке, видывал и Волгу, и Каму. А тут городской катерок, какие ходят в Серебряном Бору, чапал через могучую реку, а галечные берега отстояли друг от друга на километр с лишним. И вода прозрачная, как в горной реке.
Он добирался до расположения отряда целый день. На МАЗе, на стареньком трясучем ПАЗике. На «запорожце» с одним только водительским сиденьем, в коляске мотоцикла. Последние километров пять протопал пешком. Асфальт закончился за Майей, дальше лежал грейдер. Дорогу покрывал толстый слой светло-серой пыли. Когда по грейдеру проезжал КАМаз треста «Якутзолото» с автоматчиком в кабине (эти попутчиков не брали), или водовозка, или автокран, то пыль расплывалась как туман и долго висела в воздухе. Дорохов прошел в тот день километров, наверное, десять. Невозможно хотелось пить. По сторонам от дороги темнела лиственничная тайга, слепни налетали как «Мессершмитты», из кюветов несло болотной гнилью. Несколько раз его подвозили, но все машины шли к Алдану, а деревня Хочо, куда он стремился, стояла в стороне от трассы. Во второй половине дня он остановил мотоцикл с коляской, за рулем сидел рыжеусый мужичок в танкистском шлеме. У мужичка была вода – чистая, холодная, в исцарапанной пластмассовой канистре. Дорохов с наслаждением напился, ополоснул лицо, мужичок терпеливо ждал, подгазовывая. Дорохов влез в тесную коляску, положил на колени рюкзак. Через полчаса мужичок остановил трескучий «Урал» и показал рукой на чуть заметную в траве колею, уходящую вправо. Давай, тут недалеко, сказал мужичок, по дороге иди, не промахнешь, дом увидишь – ваши там. Дорохов, кряхтя, продел руки в лямки рюкзака и размеренно пошел по сырой колее.
Вечерело, и он забеспокоился, что не успеет до темноты. Но вскоре впереди стало светлее, он услышал тонкий зуд бензопилы и вышел на огромную поляну. Он увидел стройплощадку, штабель бревен, гусеничный трактор и зеленые куртки бойцов.
«Выше стропила, плотники!» – подумал он, стащил пропотевшие лямки, сел на рюкзак, закурил. Затягивался и чувствовал, что все московское и институтское из него выходит и уплывает за лиственницы, в траву, в темнеющее небо. А он – как ежегодно, как в прошлом и позапрошлом сезоне – опять готов к запаху гудрона, к шершавой рукоятке мастерка, к дешевому куреву и короткому сну. Все как у Куваева (книжка лежала в рюкзаке).
Отряд разместился в приземистом бревенчатом доме с погребом и большой кухней. Воду подвозили раз в два дня. Имелось озерцо, но пить оттуда возможности не представлялось, озерцо было ледяное, заросшее, с ярко-зеленой водой. Туалет типа «сортир» рыли три дня – через пять «штыков» пошла мерзлая земля с крупинками льда, а еще на «штык» ниже началась собственно мерзлота, долбали ее ломами. Потом придумали разводить в яме костер, за ночь оттаивало на полметра. Приезжал на новеньком УАЗике председатель колхоза, кряжистый, болтливый якут. Председатель привез бойцам картонную коробку «Памира», два мешка гречки (ни разу потом в Москве и прочих местах Дорохов не взял в рот гречки), яблочное повидло в трехлитровых жестяных банках, тушенку, томатную пасту. Обещал обеспечить мясом. Не обманул, обеспечил. На третий вечер из-за лиственниц донесся знакомый шум мотора, показался УАЗик. Машина подъехала ближе, бойцы стали ржать. За машиной поспешала буренка. От коротких рожек к заднему бамперу тянулся ржавый тросик.
«Вот, ёбтыть, мяско вам, студенты, – ласково сказал председатель. – На неделю хватит. А там еще, ёбтыть, подвезу, питайтесь».
Горемыку привязали к навесу, затеялось толковище: как быть с коровой? Теоретиков нашлось до черта. Одни теоретики утверждали, что корове надо перерезать горло – и непременно одним движением. Другие полагали, что надо заколоть в самое сердце – и тоже одним, значит, ударом. Чтобы корова, ёбтыть, не мучилась. Однако никто не брался резать рыжую короткошерстную шею. И пробить одним ударом дышащий бок с подергивающейся от слепней шкурой тоже никто не спешил. Корова тревожно мычала, глядела мутно-фиолетовыми глазами и дважды выпустила из-под хвоста долгую плюхающую струю.
– Кончать ее пора, она засрет тут все, – грубо сказал Давыдов.
Вызвались Саня Кромм и Валера Яровой. Корову отвели от дома, спутали ей ноги. Валера взял кувалду (он здоровый был мужик и решительный), размахнулся и ахнул. Разнесся глухой треск. Корова мягко повалилась на бок. Валера примерился, ударил вниз, сапоги забрызгало кровью. Витя Родионов, пухлый смуглый парень с тонкими усиками, подавился, заклокотал горлом, прижал руки ко рту и побежал за дом.
– Нож давайте! – зычно крикнул Кромм.
А какой нож? Не было у них подходящих ножей, не предусмотрены в стройотрядах мясницкие ножи.
– Да, вашу мать, работнички! – процедил Давыдов.
Он открыл бытовку, вынес бензопилу, стал дергать тросик, с третьего раза завел.
– Вот это кулинария! – нервно сказал кто-то.
Яровой с Кроммом одобрительно скалились, махали Васе руками – давай, мол, быстрее. Давыдов подошел к ним, широко расставил ноги в кирзовых сапогах, наклонился и плавно опустил ревущую пилу на вывернутую бурую шею.
Корову ободрали, разделали, снесли в погреб по частям. А шкуру скоблили по вечерам, вымачивали в озерце, опять скоблили, а потом прибили к двери. Над притолокой с синей надписью «ССО „ПРОГРЕСС“ – МИТХТ» повесили коровий череп с проломленной лобной костью (сначала вываривали, а потом закопали в муравейник).
Давыдов ничем не показал, что помнит давний выговор Дорохова. Вел себя дружелюбно, на совете бригадиров Дорохова с вниманием выслушивал. Но объект выделил не самый лучший. В паре километров от расположения отряда простиралась огромная поляна с круглым озерцом. Местные говорили, что зимой на эти поляны пригоняют оленей. Дорохову в это не верилось. Зачем гнать сюда оленей? Им что, в тундре тесно? А может, коров сюда сгоняли, черт его знает. Якутские коровы размером с хорошую собаку, шустрые и замызганные, штуки четыре, наверное, их съели за тот сезон.
Дорохов с бойцами валили лиственницы, пилили, рыли полуметровые ямы, вкапывали столбы и гнали изгородь по опушке. В день выходило метров по сто. На второй день Дорохов прикинул выработку и расценки: получалось мало. Даже с учетом аккорда и северных – по двадцать рублей в день на бойца. Этого было недостаточно, так в стройотряде не работают. При расчете Вася мог «ка-тэ-у» снизить, вычеты там всякие – питание, инструмент, бензин.
Дорохов обошел проплешину вдоль опушки. С двух сторон поляны тайга поднималась косогором, и нужной толщины лиственницы там росли гуще.
Дорохов вернулся к бригаде, сказал: «Мужики, покурим».
Ребята подошли, сели на траву, достали «Памир».
– Вот так сделаем, – сказал он. – Родиоша и Костя роют ямы. Тридцать ям в день. Получится, Костя?
Борзов сплюнул табачинку и кивнул.
– Я, Копэ и Тренчик пилим вон там, – Дорохов показал рукой на северный край проплешины. – Валим, сучья рубим и скатываем. Потом подносить придется, но все равно выигрыш времени.
Копэ Джинчарадзе из Батуми, могучий коротышка, штангист-перворазрядник, поскреб пальцами щетину на шее, объявил:
– Да подносить – фигня. Я один все поднесу.
– Ну все, решили, – Дорохов поднял литровую канистру и пошел к пиле.
Давыдов пришел на их объект через неделю. Изгородь тянулась уже на треть периметра.
– Ни черта себе, – сказал Давыдов. – Во ударники коммунистического труда.
– Как у вас там? – спросил Дорохов.
– С замками геморрой, – с досадой сказал Давыдов. – Продольные балки на замках, сцепка, типа, такая.
– А твои раньше с деревом работали?
– Хрящ работал, и Слава Васильев. Чо-то не ладится у них с замками.
– Это просто, – Дорохов закурил. – Надпил до половины, и топором стесать. И такой же крюк у встречной балки.
– Ты это Хрящу объясни… Урод безрукий… Нет у них опыта. Кое-как получается, все на соплях. Прораб не примет.
Дорохов промолчал.
– А ты делал замки? – спросил Давыдов.
– Ну, – Дорохов кивнул.
– Давай тогда на тот объект.
Они закончили изгородь через десять дней и перешли на коровник. Хрящ с Васильевым там уже здорово напортачили. Почти все продольные балки пришлось перекладывать. Чихать было опасно под теми балками, а не то что стропила ложить.
И потом еще было много одинаковых дней, много тяжелой работы, гречки и яблочного повидла. Пару недель моросило, над тайгой висела серая хмарь. Дорохов с бригадой закончили обвязку, положили продольные балки. Мошка заедала. Обвязывали полотенцами шею, голицы не снимали, на голову наматывали майку. И репеллент не помогал.
В августе было два выходных – День строителя, законная суточная пьянка. Поехали отрядом в райцентр Майя, председатель дал ЗИЛ со скамейками в кузове. В Майю на праздник съехались шесть отрядов. Из Хабаровского народнохозяйственного, из Омского медицинского. Еще отряд из Тартусского университета. Все в синих чистеньких курточках, с желтыми платками на шеях, половина отряда – девчонки. Литовки говорили с волнующим акцентом, ударения неправильно делали – ах, что за сказка. До обеда произносились речи, приветствия: вздрогнул таежный край от комсомольской поступи, столько-то квадратных метров жилья и производственных помещений войдут в строй летом. Приехал секретарь республиканского комитета ВЛКСМ, тоже сказал речь. Закончили митинг неформально, в духе нового времени – пели в две сотни голосов: «Рельсы упрямо режут тайгу, дерзко и прямо, в зной и пургу». Потом начался праздничный обед. Гуляш с картошкой, свежие овощи, яблочный сок, «Байкал». Валера Яровой с Тренчиком появились к середине обеда, улыбались во весь рот, тащили два ящика, деликатно накрытые куртками. В других отрядах тоже запаслись. Хабаровчане заготовили «Агдам», «777» и «Русскую». Омичи привезли в Майю ящик «Рябины на коньяке», а тартусские ребята выставили джин «Капитанский». Как стемнело, начались танцы. На трибуну внесли магнитофон «Олимп» с усилителем. Танцевали почти всю ночь. Под итальянцев, под «Оттаван» и «АББА». Ребята из Омска разожгли три костра. Дорохов взял кружку и пошел на огонь. Парень из Хабаровска запел Окуджаву – не поддержали. Тогда хабаровчанин запел: «Понимаешь, это странно, очень странно. Но такой уж я законченный чудак». Это приняли. Тренчик сидел рядом с Дороховым, привалясь плечом, покачивал в такт песне головой и кружкой. И Родиоша тоже подпевал: «Опять тобой, дорога, желанья сожжены! Нет у меня ни бога, ни черта, ни жены!».
Хабаровчанин прервался, чтобы выпить, сипло выдохнул в кулак, огляделся и спросил:
– Ребята, может, кто спеть хочет?
– Можно? – неожиданно сказал Дорохов.
Ему передали гитару.
– Эту, наверное, все знают, – сказал он. – Помогайте, мужики.
И запел: «Когда на сердце тяжесть, и холодно в груди, к ступеням Эрмитажа ты в сумерки приди».
Сезон оказался нелегким, и денег вышло меньше, чем Дорохов ожидал. Но та ночь была хороша.
Наутро отряд «Прогресс» вернулся в расположение, день отлеживались, лечились брагой, отдыхали. А потом сезон продолжился до самого расчета.
Когда двадцать восьмого августа плыли на катере от Бестяха к Якутску, Дорохов сидел на корме, курил «Памир» и думал, что больше он никогда руками работать не будет. Хватит. За неполных два месяца он получил тысячу двести. Деньги неплохие, но на Каме он заработал тысячу восемьсот. Из-за борта долетали брызги, носился над Леной осенний уже ветер, он закручивал на огромной реке барашки и сильно прохватывал через застегнутую куртку. «И холодно, и ветер, и сумерки в глазах. Разорванным конвертом закончился азарт».
В потайном кармане приятно топорщилась пачка сиреневых двадцатипятирублевок. Но ныло разочарование, ощущение, будто задумывал подвиг, а получилась глупость. Дорохов дотягивал папиросу, закуривал другую и думал: он, без пяти минут инженер-химик, небезголовый мужик, проторчал в тайге два месяца. А дальше? Получит диплом, защитится. Потолок – триста рублей, да поди еще доживи до этих трехсот. Да в общем не в деньгах дело. Просто копошение какое-то вокруг ничтожное. Вся жизнь – такое копошение. А чтобы как отец – это не по нему. Всю жизнь отвести на грандиозное дело с большой буквы, на какие-нибудь ракеты, заводы. Чтоб инфаркт к сорока, чтоб седые виски, и план вытягивать сквозь скрежет зубовный, и домны пускать, хрипя от натуги.
А я свободы хочу, думал Дорохов и затягивался саднящей папиросой. Книг хороших хочу, сидеть в кабинете со стеллажами до потолка, и курить хороший табак, и бродить по Тверскому вечерами. Но не получится же у меня сидеть в кабинете с полным «Брокгаузом и Ефроном», с кожаным креслом и старинным письменным столом, с коллекцией трубок и волчьей шкурой на темном паркете. Да и нет у меня такого кабинета, а когда будет – одному богу известно. Я в Палангу хочу приезжать не когда отпуск, не когда денег в стройотряде добыл. А когда в голову взбрело, когда мое настроение совпало с шорохом сосен за песчаным пляжем, с мелкими буроватыми волнами, со вкусом «Вана Таллин». (Всякие настроения были в моде. «Слушай, этот фильм так совпал с моим настроением…», «Нет, старик, я ее не пригласил. Я же вижу, что у нее не то настроение…») Я хочу жить вкусно, частно, не интересуясь постановлениями партии и правительства. Что же это за беспокойство во мне такое? Тоска же, тоска! Кусок с лишним заработал, завтра-послезавтра буду в Москве, пройдусь по Гоголевскому. Схожу в кино, в Пушкинский музей на Волхонке. Пойду в «Ангару», на Калининском, или в «Космос», на Горького, закажу жаркое в горшочке, коктейль «шампань-коблер», армянский коньяк. Куплю у халдея пачку «Данхилла» или «Мальборо», такси возьму, покатаюсь по набережным, по Ленгорам. Все так. Но беспокойство не отпускает, и нехорошо на душе. Не будет мне свободы, не будет кабинета с «Брокгаузом и Ефроном».
Еще один раз он вспомнил тот ветреный августовский день, шум судового дизеля и мелкие брызги из-за борта – когда они со Светкой Токаревой вышли из кино. В «Горизонте», на Комсомольском, шел французский фильм «Ассоциация злоумышленников». Веселая киношка про компанию приятелей-парижан. Славный фильм, из тех, что посмотрел бы еще раз. Такой фильм посмотришь – и влюбляешься в героиню. А с героями хочется дружить и звать их «дружище Бобо», «старина Этьен» или «Ксавье, дурачина ты этакий». Хлопать по плечу при встрече, выпивать с ними по стаканчику пастиса или абсента, захаживать в их симпатичные холостяцкие квартиры с видом на крыши пятого аррондисмана. И чтобы музыка звучала такая же, как для них звучит – Джонни Холидей или Жильбер Беко. И чтобы поезда парижского метро шумели, как для них шумят. И банковскими автоматами пользоваться, как они, и «Голуаз» или «Житан» курить, как они курят.
Они со Светкой вышли из теплого зала в промозглый поздний вечер, под колючий дождик. Проехал пустой троллейбус, по ту сторону проспекта чернели окна Хамовнических казарм. Люди переговаривались, расходясь, вспоминали эпизоды и словечки персонажей: «классно», «нормальное кино, надо Тищенко сказать, чтоб сходил», «слышь, ни фига, да – как он сейф лебедкой выдернул?», «ниче у них квартиры». Дорохов остановился, закурил, его толкнули в плечо, вполголоса извинились, под ногами было скользко и грязно.
– Мишунь, ты не заснул? – позвала Светка.
Она подсунула руку под его локоть, они пошли к подземному переходу.
– Пол-одиннадцатого, – неопределенно сказала Светка. – Поехали ко мне, чайку попьем.
А на него накатила тоска. Там сейчас эти французские ребята пьют абсент, утром выйдут на чистую булыжную улицу с разноцветными вывесками, сядут в «Ситроены»…
– Мишунь, ты чего? – беспокойно спросила Светка. – У тебя щека дергается. Тебе плохо, что ли?
– Лучше ко мне, – сказал он. – Там и чайку попьем. Имею бутылку массандровского «Кокура».
– Ой! Чародей! Уболтал! – Светка всплеснула руками. – Своим позвоню только, дай двушку.
Они выпили «Кокур», потом кувыркались часов до трех. Два раза садились на диванчике покурить. Светка сидела по-турецки, в дороховской ковбойке. В бутылке из-под алжирского вина горела свечка. От «Кокура» в животе пекло, от вида Светкиных полноватых ног и ключиц в проеме расстегнутой ковбойки делалось горячо в голове. Дорохов кутался в плед, стесняясь волосатого живота и неспортивного торса.
Светка дотягивала сигарету, гасила, совала руку под плед, шептала: «Еще разок слабо?» Было не слабо.
Среди ночи она сказала: «Все, Мишунь, я обкончалась. Товарищ умер». И заснула. Он укрыл Светку пледом поверх одеяла, приоткрыл фрамугу, вытряхнул пепельницу в окно и опять закурил, стараясь выдувать дым в окно. Из головы не шел фильмец этот забавный. Опять навалилась тоска, тускло стало, скучно, безнадежно. Он сидел на холодном подоконнике, глубоко затягивался, смотрел на безлюдную ночную Полянку, как тогда смотрел на северную реку.
* * *
«Полковнику Марку Светонию
капитана Севелы Малука
Доклад
По ордерам произведены аресты нижеследующих:
Иосиф Ром из Ямнии, вероучитель.
Беньямин Арафа из Газы, вероучитель.
Джусем Пинхор, житель Ерошолойма, гончар, мастерская и дом в вартале Иаким.
Менахем Амуни из Магдалы, вероучитель.
Ром и Арафа арестованы на постоялом дворе, что у моста через Ксист. Амуни и Пинхор арестованы в доме Пинхора.
При вероучителе Арафа была его жена Рахель. «Та» Рахель вступила в перебранку со стражником Аристархом Силлаем, напала на него, вследствие чего стражник принужден был защищаться и нанес женщине побои.
Утром в дом Пинхора вернулся из поездки слуга Руфим Шик. Арестован приставом, поскольку от квартального кохена известно, что Шик к Джусему Пинхору приближен.
Аресты произведены месяца гарпея четырнадцатого дня, в вечернее время. Нарушения общественного спокойствия не было. Арестованные препровождены в крепость Антония, переданы коменданту, о чем сделана запись в арестантский реестр…»
* * *
В соседней комнате зазвонил телефон.
– Мишунь, тебя! – крикнула Машка.
Он отложил гилсоновский «пипетман», аккуратно отодвинул штатив и подошел к телефону.
– Да, але.
– Привет, брат-храбрец.
– Привет, Сеня, – обрадовался он. – Старый, я с самого приезда к тебе собираюсь. Лободу уже видел, Берга, тебя только не видел.
– Так, может, приедешь вечером?
– Приеду. Обязательно!
– Жду тебя к восьми, – сказал Сенька. – У меня поужинаем.
– Ладно. Я тогда еще в «Прагу» заскочу, в кулинарию. Шпикачки куплю или зразы, пожарим с картошкой.
– У меня к тебе разговор будет. Довольно важный.
– Заинтриговал. Случилось что?
– Тут такая штука, старик, – медленно сказал Сенька и посопел в трубку. – Я все дочитал. А ты вообще думал о публикации?
Дорохов криво усмехнулся, присел на край стола и прижал трубку к плечу щекой. Стал вынимать сигареты из заднего кармана, никак не мог докопаться до них, мешал синий лабораторный халат.
– Да как тебе сказать, – невнятно ответил он, прикуривая. – Мечтать не вредно. А практически – нет, не думал. Не представляю я это практически.
– Ну вот, а я, кажется, представляю, – сказал Сенька.
– В смысле? Ты что, показал это кому-то?
Он подумал, что Сенька мог рассказать про книгу отцу, а тот – кому-то из знакомых. А знакомые у дяди Пети были всякие, и члены Президиума Академии наук. А может, из Главлита кто-нибудь или из ТАСС?
– Нет, ну как можно! Я бы у тебя разрешения спросил! – укоризненно сказал Сенька. – Никому я не показывал, сам только позавчера дочитал.
– Ну и как?
Дорохов сел на краю стола удобнее и стряхнул пепел в чашку Петри.
– Это отдельный разговор. Я практическую сторону дела хочу с тобой обсудить.
– Ну ладно, – сказал Дорохов. – К восьми буду, жди.
В половине шестого Дорохова позвал экселенц, усадил напротив, ткнул пальцем в статью Иремашвили и страдальчески закатил глаза.
– Кошмар, – убито сказал экселенц. – Сил никаких нет. Видэлэние, панимаешь, високомолэкулярных фракций. Слушай, я уже не могу это переделывать. Хороший она человек, кто спорит. Но я говорю ей, а все как в стену. Посиди часок, поправь. Прошу тебя.
Дорохов послушно кивнул и ушел править. Когда взглянул на часы, было четверть восьмого. Он быстро собрался, выключил свет и ушел.
– Здорово, Миха, – сказал Сенька, пропуская Дорохова в прихожую.
Они пожали друг другу руки, Дорохов снял куртку и с удовольствием вдохнул воздух старой квартиры. Пахло книгами. Пахло деревом, мастикой, табаком. Где-нибудь, на Лиговке или Сенной – там тоже ароматы. Но там иной воздух. Привкус дыма и прачечной, промозглый холодок с Маркизовой Лужи и волнующая близость Запада. А здесь совсем другие запахи, московские.
Квартиру Пряжниковых на Метростроевской Дорохов любил. Бронзовые безделушки тускло отсвечивали с полок, шаги глушил истертый за века хорезмский ковер. Здесь так славно пить крепкий чай из тончайших чашек, армянский коньяк из позолоченных рюмок, курить «Казбек», «Честерфилд» и «Столичные», добавляя синеватыми струйками дыма еще один хороший запах к аромату этого дома.
– Запек вырезку в фольге, – сказал Сенька. – Нормально? С чесноком… Давай по рюмочке?
– Так никаких же возражений! – сказал Дорохов.
Дорохов выпил рюмку коньяка, захотелось сесть и не вставать.
Он увидел на спинке стула «олимпийку» с надписью «Универсиада-83».
– Берг был?
– Что?.. Да, Санька у меня ночевал, – сказал Сеня, что-то отыскивая в сушилке над раковиной. – Кстати, Миха. Ты помнишь, осенью мне говорил… Про сплавы. Помнишь?
– Да.
– Вы это с Сашкиным одноклассником мастерите?
– Это Берг тебе сказал?
– Ну, – Сеня взял из сушилки большую зеленую кружку. – Он сказал, что ты подружился с парнем из его класса. Шустрый, говорит, мужик, аферюга. Дима, да? Я почему-то сразу подумал, что ты с ним вместе химичишь.
– Сеня, не томи. Давай, говори про публикацию.
– Хорошо, – Сенька сел к столу, стал набивать трубку. – Слушай. У папы есть одна приятельница. Собственно, это мамина подруга.
– Короче, Сеня!
– Не торопи меня! – строго сказал Сеня. Он наклонил чубук, шумно попыхал. – Видишь ли, не может такого быть, чтобы книга писалась без мысли ее опубликовать. Ты можешь сейчас об этом не мечтать, не думать. Но рано или поздно ты захочешь напечататься. Ведь так?
– Так-то так, – согласился Дорохов. – Но это же нереально. По крайней мере, в нынешних исторических условиях. Хорошо, предположим, что получилась настоящая книга. Предположим, что она соответствует требованиям. Хотя у меня на этот счет большие сомнения. Но ты же ее читал, Сеня. Такой опус не лезет ни в какие ворота. Тут тебе и неклассовый подход к истории, и мракобесие, и религиозная пропаганда. А сионизмом просто пропитано, и сочится ядовитыми каплями.
– Погоди, погоди! Ты вообще видишь, что в стране происходит? «Детей Арбата» напечатали, так? «Белые одежды» напечатали?
– Ну.
– И тебя могут напечатать. Времена меняются, брат-храбрец. Еще пара пленумов ЦК в таком ключе – и «Посев» будет в киосках продаваться. Не может же быть такого, Миха, чтобы ты не хотел взять в руки свою книжку. «И вот она, эта книжка – не в будущем, в этом веке! Снимает ее мальчишка с полки в библиотеке! А вы говорили „бредни“, а вот через тридцать лет…»
– «Пылится в моей передней взрослый велосипед».
– Мы отвлеклись, – Сенька пыхнул трубкой. – Я дочитал. Рассказал папе. Возражений нет?
– Да нет, – Дорохов пожал плечами. – А он тоже читал?
– На это у меня разрешения не было, – сказал Сеня. – Я ему только ситуацию обрисовал. Сказал, что Миша написал книгу, выдумал прелюбопытнейшую интерпретацию событий раннехристианского периода. Папа мне на это ответил: поговори с тетей Соней.
– Что за добрая волшебница?
– Тетя Соня… Софья Георгиевна Курганова. Лет пятнадцать, наверное, заведовала отделом прозы «Нового мира». Что скажешь?
– Что ж… Да, наверное… Конечно, надо начинать, – пробормотал он. – А ты ей уже… сообщил?
– Естественно. Сказал, что мой друг написал книгу. Сказал, что я хочу знать ее мнение.
– Ну и выскажет она тебе мнение. А что в сухом остатке?
– Тетя Соня человек умный и знает правила игры. Самая золотая проза «Нового Мира» прошла через ее руки. Понятно, что раз ты пришел к ней с книгой, значит одного ее одобрения или неодобрения тебе мало. Так что в сухом остатке ее протекция.
– А возможна такая протекция?
– Конечно, – уверенно сказал Сеня. – Миха, она интеллигентнейший человек. И я тебе скажу – она из очень влиятельной семьи. Муж ее покойный, между прочим, был председателем Госкино. И соответствующие связи.
– Но это же давно было.
– Что-то давно, а что-то осталось и по сю пору. Таким людям, как она, знаешь ли, достаточно иной раз позвонить по телефону когдатошнему ученику или когдатошнему протеже… Я уже обо всем договорился. Звони тете Соне, она ждет.
Дорохов подумал: а сколько можно целковать? Какой смысл в писательстве, если не надеешься, что книгу прочтет кто-то кроме Сеньки и Гариваса?
– Как, ты говоришь, ее имя-отчество?
– Вот телефон, – Сенька протянул блокнотный листок. – Курганова Софья Георгиевна. Поверь мне, это вполне могут опубликовать. Не теперь, так через пару лет. А если учесть нынешние политические подвижки, так ты еще знаменит станешь. Если только тебя прежде за твою металлургию не посадят.
* * *
…рассказывай!
– Арестованы все?
– Да. Все четверо.
– Сопротивление оказывали?
– Жена Арафы оказала сопротивление. Бешеная сука царапалась. Аристарх ее немного прибил.
– Хорошо, – Нируц кивнул. – Послушай-ка меня.
Севела тут же сел и стал смотреть на своего майора.
– Это сообщество, – сказал Нируц. – Это большое сообщество. За один лишь минувший месяц агенты вызнали про восемнадцать человек в Ерошолойме, двадцать пять в Тире, про десятерых в Яффе… Они произносят проповеди во всех дозволенных к тому местах. Говорят одно и то же, но говорят по-разному.
– Что такое «по-разному»?
– Они произносят одни и те же положения сообразно тому, насколько учены их слушатели. В аудиториях Яффы они проповедуют остроумно и аргументированно, как это принято у иеваним. В кварталах Ерошолойма они говорят просто. В казармах Нижнего города некто Евсевий из Антипатриды проповедовал так, что его два часа слушали легионарии. Слушали с вниманием, не побили, не прогнали, а ржали во всю глотку, когда он загибал про шлюх и ланист, про вороватых децумвиров, про важных наставников юношества, покупающих для любви мальчишек. И притом он прочел проповедь о просвещении. Нет, это замечательно – рассказывать легионариям о пользе просвещения! Но ведь слушали же! Не прогнали, не обидели. Вот послушай некоторые места.
Нируц поискал на столе и взял лист.
– «Должно начинать свое учение с малолетства и продолжать его, сколь можно, и тем отсрочить животную беспомощность или вовсе ее избегнуть. Образованные люди и в старости разумны, а безграмотные и темные в старости делаются забывчивы и жалки. Учение – что светильник, вседневно озаряет жизнь». Каково? Ему бы в кабаках проповедовать трезвость, а в лупанариях целомудрие.
– Но, может быть, это просто чудаки?
– Нет, не чудаки, а сообщество. Их называют галилеянами.
– А отчего они так прозываются?
– Один из их вожаков был родом из Галилеи. Некто Иоханаан. Потому так повелось.
– И что они говорят?
– А говорят проповедники вот что. Предлагают считать непреложным существование некоего богочеловека, который явился в Провинцию, чтобы изменить людей. Богочеловек тот знает истину. Знает, как надо жить, как умирать, как соседствовать с другими людьми. Богочеловек, по их словам, реален, он из плоти. То есть был реален, пока его не убили романцы. До того как романцы зверски убили этого великого и светлого человека, он показывал всевозможные чудеса в доказательство своего божественного происхождения. Излечивал больных, летал по воздуху, присутствовал во многих местах одновременно. Книгу богочеловек не отрицал, но говорил, что время Книги ушло, а пришло время другой правды.
– Какой же?
– Во время долгих странствий по Провинции богочеловек составил свод простых правил праведной жизни. Правил немного. Семь, а может десять… Вот, к примеру: он наставлял делать лишь то, что нравственно. А нравственно поступать только так, как человек хотел бы, чтобы поступали по отношению к нему. И вот что вовсе замечательно в богочеловеке: он-де появился в Провинции для того, чтобы страдать за все недостойные поступки людей. Ему суждено было своей смертью искупить все мерзости, совершенные до его появления. И его мученическая смерть… А по словам бродячих рабби умертвили его зверски, пытали, потом распяли. Это была смерть на деревянном, злейшему врагу не пожелаю такого. Так вот, его мученическая смерть, якобы, возвестила начало новой эпохи. А потом он ожил.
– Ожил? – недоверчиво спросил Севела. – Мертвый ожил? В прах ушел, в пыль ушел, а после ожил. Это все придумки, какие сочиняют иеваним. А как звали-то богочеловека?
– Думается, что персона особого значения не имеет, значение имеет лишь событие.
– Когда же это случилось? Это было в Ерошолойме? Его имя нетрудно узнать.
– На что мне его имя? – Нируц опустил веки. – Не имя важно – важно событие. Событие произошло… О событии сложен миф. А имя можно подставить любое – был бы миф.
Севела потер подбородок.
– Тум, это занятно. Но это не в компетенции отдела. И не в компетенции Службы. Это дело Синедриона.
– Близорукий дуралей! – рассерженно сказал Нируц. – Ты что же – не понимаешь, что миф уже создан?
– Позволь! – Севела тоже повысил голос. – Во-первых, я не вижу в этих речах канона! Я говорил тебе уже, что ты склонен видеть сообщества и каноны там, где их близко не было! Ты вовсе не доказал мне, что галилеяне провозглашают новый канон.
– Я не силен в теософии. У меня нет времени на то, чтобы выложить перед тобой: вот, недоверчивый капитан, тебе все составляющие канона, вот они, все. Мой опыт говорит мне, что это сообщество, а мое проклятое чутье говорит, что это новый канон, и ничто другое!
– Доверяя тебе, твоему чутью, я допускаю, что это канон. Но зачем тебе арестовывать рабби и тех, кто дает им приют?
Нируц поморщился, махнул рукой, словно некогда ему отвечать.
– Конспекты семинаров, что ты привозил мне, нужны были, чтобы сравнить два нравственных норматива, – торопливо сказал он. – Древний и тот, что излагают галилеяне. – Он облизнул губы. – Сотни лет тому назад из Левитического Кодекса могла прорасти подлинная юриспруденция. Но ничего подобного не случилось. Джбрим живут по сотням повелений и запретов, а в запутанных случаях слушают кохенов. А из проповедей галилеян юриспруденцию можно составить хоть завтра!
– Я согласен, – покорно сказал Севела. – Вот он я, перед тобой, гляжу тебе в рот и во всем согласен. Послушнее и доверчивее меня нет никого. Галилеяне провозглашают новый канон, канон этот доступен и хорош, положения его в любой миг можно облечь в форму юстиции. И где тут причина для страха? И где тут повод для арестов?
Нируц откинул голову и глубоко вздохнул.
– Тебе нечасто приходилось думать в последние месяцы, – сказал он. – Ты много разъезжал, резал зелотов, составлял донесения. Но думал ты мало. По-моему, ты мало думал даже тогда, когда писал монографию.
– Когда я в седле, думать некогда… С чего ты вспомнил мою монографию?
– Монография, – презрительно сказал Нируц. – Наукообразная болтовня. Романцы от нее в восторге, а Светоний считает тебя новым Фукидидом… Когда романцы видят офицера из уроженцев, умеющего связать два слова на лацийском, они приходят в неописуемый восторг. А твоя так называемая монография – одна непрерывная компиляция. Тебе хотелось найти сходство между культом Атона и Второзаконием. Разумеется, ты нашел сходство! Такие исследователи, как ты, умеют найти сходство между черной овцой и белой голубкой. Второзаконие ты знаешь, как любой иешивник. А культа Атона вовсе не знаешь, да его никто не знает. Те, с позволения сказать, документы, которыми ты пользовался, – подделки. Они писались через сотни лет после того, как был забыт культ Атона. Но ты ведь хотел произвести впечатление на Светония и Бурра? Так ты произвел впечатление, будь спокоен.
Севела слушал, насупясь. Да, когда в Александрии он от безделья затеял писать служебную монографию, то… Да, ему хотелось обратить на себя внимание Бурра! Дописывая монографию, он уже понимал, что никто ничего не знает о культе Атона.
Однажды, будучи секретарем синедрионального представительства, Севела встречался со старейшинами Александрийской общины. Один из них, рав Заххай, приметил на столе у любезного молодого секретаря лацийский перевод «Хроник царств Египетских».
– Адон секретарь любознателен в истории? – с удивлением спросил седобородый ростовщик Заххай.
– У меня много свободного времени, рав Заххай, – с улыбкой ответил Севела. – Дела Синедриона в Александрии оставляют мне время для чтения.
– Александрия это самое подходящее место для собирателя исторических трудов, – заметил рав Заххай. – Даже после того, как они сожгли Библиотеку.
Только джбрим умеют вложить столько высокомерия в коротенькое слово «они», подумал Севела. Ни Антоний, ни первый принсепс Кай Юлий Октавиан и предположить не могли, что через без малого сотню лет пожилой александрийский джбрим удостоит их память лишь этим равнодушно-брезгливым «они».
– У одного из наших здесь, в Александрии, есть богатая коллекция раритетов, – доверительно сказал ростовщик. – Вы знаете его, адон Малук, он передавал вам взнос общины. Это мар Гицба, антиквар. Вам стоит заглянуть в его контору. Он подыщет для вас подлинники ранних греческих переводов. Вы ведь читаете на иеваним?
– Да, я читаю и говорю на иеваним, – сказал Севела. – Благодарю вас, рав Заххай. Предупредите антиквара, чтобы он приготовил для меня тексты попроще.
Севела купил у мар Гицбы три текста на темном папирусе. То был пересказ короткого царствования Аменхотепа VI, что желал утвердить в Египетском царстве поклонение Атону. Новоизобретенный канон не прижился, да и самого Аменхотепа вскоре не стало. А канон Атона был предан проклятию и забвению. Севела увлекся текстами и написал монографию. Правда, вскоре слог документов, приобретенных у мар Гицбы, показался Севеле чересчур современным. Да и фактура папирусов при более внимательном рассмотрении оказалась не древней. Во времена Неволи не выделывали такого хорошего папируса.
– Высек ты меня? – угрюмо спросил Севела. – Поставил мальчишку на место? Я набитый дурак и компилятор. Я высосал из пальца пустейшую монографию, чтобы удивить Светония и Бурра. Я не умею думать, а умею лишь спорить попусту. Ну и чем я могу быть полезен тебе?
– Я собирал конспекты речей Цукара и Бар-Гоца, – сказал Нируц. – И многие другие речи я тоже долго собирал и изучал.
– Позволь! – недоуменно пробормотал Севела. – Но ведь у Бар-Гоца я был два года тому назад.
– Верно. И два года тому назад меня уже интересовали галилеяне. Вот послушай еще. Я собрал десятки речей галилеян. Они знают, как обращаться к людям. Ни разу не было такого, чтобы перед горожанами распинался златоуст. Ни разу в казармы не забредал для целомудренных речей святоша с постным лицом! И среди адьюнктов в Яффе и Тире не проповедовали простаки с грубыми повадками. В кварталах произносят речи люди крепкие и выглядящие почтенно. В казармах проповедуют балагуры, они и крепкого словца не чураются, и пошутить умеют. А в аудитории приходят образованные риторы в подобающей одежде.
– Скажи-ка, а были такие диспуты, чтобы галилеяне схватились в аудиториях с кохенами? Или же с риторами из иеваним?
Нируц осклабился и встал.
– «Диспут Анакреона из Кесарии с Хананией, что проповедует новое единобожие»! – провозгласил он. – Тот Ханания вошел в здание Schola в одежде ритора и заговорил со студиозусами. Говорил он приятно и увлекательно, говорил о происхождении всего сущего и иронизировал в адрес эллинского учения о рождении мира. Ритор курса не утерпел и вступил с ним в спор.
– Кто победил в том споре?
– Победил смотритель за внутренним распорядком! – весело ответил Нируц. – Он отослал студиозусов в аудитории и выдворил проповедника из здания. Но ритор Анакреон к тому времени являл из себя зрелище жалкое. Доноситель пишет, что ритор брызгал слюной и налился кровью, как сытый клоп. А проповедник Ханания говорил доброжелательно и спокойно. Ко второму часу диспута почти все студиозусы его громко одобряли и подбадривали.
– А ты узнал, кто этот Ханания?
– Я узнал, кто такой Ханания, кто такой Шимон, проповедовавший в Тире, кто такой Аристарх, проповедовавший в Аскалоне. Их много, они говорят схожее. Их много – это повод для беспокойства?
– Почему ты ждешь, что эти галилеяне набедокурят?
– А это следует из истории Провинции, – сказал Нируц.
Они поглядели в глаза друг другу. Нируц добавил:
– И еще мне думается, что этим сообществом руководят люди особые.
– Кто их направляет? Эссеи? Нет? Митраиты?
– Ты ищешь понятное, капитан. Это сообщество направляют такие люди… Я думаю, что галилеян направляют безбожники.
– В Провинции я знаю только двух безбожников – это ты и твой отец! Я многие вольности позволяю себе. И даже Ида мне выговаривает иной раз. Я богодерзкий джбрим и Книгу соблюдаю неусердно. Но я всегда боюсь! Боюсь, что когда-нибудь Предвечный прихлопнет меня, как обнаглевшую блоху. А подлинных безбожников в Провинции быть не может. Как это ты мне говорил однажды: это не то место и не то время.
– Пусть так. Не то место, не то время. Но это необыкновенные люди.
– Что делать с арестованными?
– Пинхора завтра допроси, – Нируц поднялся. – Опасны ли они или нет – их следует запереть. Я ничего о них не знаю. Поэтому мы будем их допрашивать и…»
– …ему угождал? Ничем ты ему не обязан, родства между вами нет. Зачем ты был у него на посылках?
Он мигнул корпусному, и тот ударил Руфима под ребра.
Руфим заскулил и свалился на пол.
– Не лги, – сказал Севела. – Много крутишь. Отвечай ясно, тогда бить не будут.
– Но я же отвечаю, адон… Я же все говорю, адон… – Руфим вполз на скамью и заплакал. – Места он живого на мне не оставил…
– Путано отвечаешь! Зачем ты ему служил? Денег он тебе не платил… Он рассказывал тебе о своем учении? Ну?
Севела кивнул. Стражник подшагнул к Руфиму и коротко ударил его локтем в лицо. Мозгляк опрокинулся на скамью и тонко завыл.
– Не крути, мразь, – сказал Севела. – Не юли, тогда тебя бить не будут.
– Прошу… – невнятно проговорил Руфим. – Больно… Дышать нет сил…
– Полей его, – приказал Севела.
Корпусной поднял с пола бадью и окатил мозгляка. Тот, всхлипывая, сел и размазал по щеке кровавые сопли.
– Говорили один лишь раз, – прохрипел Руфим. – И он от меня отступился. Никогда потом со мной не говорил. Сразу все понял про меня.
– Что он понял?
– Не знаю, что он понял. Но больше мне про свое учение не рассказывал. Сказал только, что я сухая земля. Так и сказал: сухая, говорит, ты земля, в такую землю сажать без толку.
– Почему ты жил при нем?
Севела сел на скамью.
Руфим вздохнул, попытался отодвинуться.
– Не ерзай! Ты три года у него прожил.
– Так отец же его попросил, когда мне пятнадцать было! – жалобно сказал Руфим. – Адон, прошу нижайше – пусть он уйдет, а? Ну так бьет больно, ну мочи ж нет! Все вам, адон, стану рассказывать, только пусть уйдет он!
Севела глянул на корпусного, велел:
– Оставь меня тут с ним.
Стражник пососал осадненную костяшку.
– На галерее буду, адон капитан, – сказал он. – Понадоблюсь когда – крикните, сей миг приду.
– Воды хочешь? – спросил Севела.
– Дали уж мне воды… Мокрый до нитки… – пробормотал мозгляк.
У него тряслись руки, и голова тряслась. Красные капли с подбородка часто падали на мокрую тунику.
Севела снял с крюка холстину и бросил Руфиму на колени.
– Оботрись. Попей воды. Пей, тебе говорят! И не жалоби меня.
– Так он же зверь… Я ж рот еще раскрыть не успею, как он бил уже…
Руфим скомкал холстину и сунул в нее окровавленное лицо.
– Пей, – повторил Севела.
Мозгляк отложил испачканную холстину, нагнулся и зачерпнул ладонями воду из бадьи. Шумно, с присвистом выпил, поперхнулся и опять откинулся к стене.
– Почему ты у него жил?
– Отец у мастера был в хозяйстве. Семь лет был, по закону. Мастер отпустил его, как семь лет прошли, дал денег на обзаведение. Отец дом построил. Мастер хороший человек, поддерживал отца в неурожай. Другие отпустят и знать тебя больше не знают, живи, как сможешь, да от общины кормись. А мастер Джусем об отпущенниках печется. Всех, кто от отца ему достался, держал до семи лет по закону, после отпускал. А потом поддерживал. Семян давал на сев, дома помогал строить.
– Жив твой отец?
– Виноградник у него теперь… Всем мастеру обязан отец. Когда мне пятнадцать лет стало, отец меня отвел к мастеру. Попросил, чтоб он меня взял. В усадьбу ли, в ремесло…
– Ну и что, ты учился у него ремеслу?
– Не учился, – Руфим помотал головой. – Начал учиться, но тут меня братья-газийцы увлекли. Пришли в Ерошолойм братья-газийцы, стали проповеди произносить. Я того наслушался и сказал мастеру, что уйду с ними. Он отпустил. Ну иди, говорит, захочешь – вернешься.
– А долго ты с газийцами бродил?
– Год с ними был. Потом вернулся. Голодно с газийцами, невозможно. Они подаянием живут… Не могу так. Позорно мне просить.
– Отчего ж так долго бродил с ними?
– Газийцы побираются, есть такое… Но учение их верное.
– А теперь почитаешь газийцев?
– Почитаю, адон! Я их учение принял, по сей день живу их учением.
– Есть хочешь? Кормили тебя сегодня?
– Адон капитан видел, как кормили меня сегодня… – тихо сказал Руфим. – Под ребра меня кормили, по лицу кормили. Кровью кашляю – так кормили…
– Вот поговорим, а после еды дадут, – пообещал Севела. – А ну, скажи мне вот что. Какой человек мастер Джусем?
– Добрый человек, – без заминки сказал Руфим.
– А еще какой?
– А не знаю, какой еще. Добрый, и того мне хватит, – сказал мозгляк и неожиданно смело поглядел на Севелу. – Всяких много, и правых много, и твердых много. Вероучителей много, и законоучителей много. А добрых до сей поры мало встречал.
– Так уж и мало?
– Газийцы учат: злоба – что скорлупа. Под скорлупой – добрая суть. И всяк человек добр, надобно только скорлупу пробить. А мастер Джусем – добрый. И вовсе безо всякой скорлупы. Вот и все мои слова, адон.
– А ну, расскажи мне про учение братьев-газийцев. Что тебя-то, безголового, в том учении увлекло?
– Так простота же увлекла, адон! – встрепенулся Руфим. – Понятно же все, адон!
– В чем простота? Обрядов нет? Повелений немного?
– И обрядов нет никаких, адон, и повелений семь всего. А главное-то – понятно, что ты есть, и что есть Предвечный. Где ты, и где он. У кохенов-то как все мудро. Суть божественных положений вовсе теряется, адон капитан!
– Как это так – теряется?
– А за толкованиями теряется!
– А в чем разница между тем, что кохены говорят, и тем, чему братья-газийцы учат?
– Да вы рассудите же, адон! – жарко сказал Руфим. – Ведь сколь многомудро Пятикнижие! В Декалоге еще человек разобраться может, прост Декалог. Но вот Второзаконие-то уже по разуму одним лишь кохенам. А еще по Пятикнижию выходит, что Предвечный непостижим! Вовсе непостижим! И в гневе своем непостижим, и в добром своем. Некогда дал скрижали Предвечный, но после-то сколько писано! Людьми же после писано!.. Сколь ни мудры – а люди!
– А ну, попей еще. Не горячись, попей.
Руфим послушно наклонился к бадье, черпнул ладонями, не столько выпил, сколько на лицо наплескал.
– А у братьев-газийцев разумно все и просто, – он икнул. – У братьев-газийцев так: сколько тебе Предвечный дорог, столько и ты Предвечному мил. И толкования путаные ни к чему. Предвечного любишь – свое тепло ему шлешь. Он то тепло получает и тебе в ответ шлет. Сильнее любишь – больше тепла отдаешь Предвечному. И он это принимает и стократ тебе возвращает. Предвечный человеческим теплом сущ. А кто отверг Предвечного или не шлет ему тепла молитвой и чистой приверженностью – к тому Предвечный равнодушен. И ушел, стало быть, тот человек из-под руки Предвечного, и не будет ему здоровья и радости, и жизни не будет.
– Хороши твои братья-газийцы, – усмехнулся Севела. – Того гляди, у них с Предвечным до торга дойдет. Я вот столько-то тепла Предвечному пошлю, а он мне пусть вот столько-то вернет.
– Ошибка, адон! С Предвечным не выгадывают! – зачастил Руфим. – И еще братья-газийцы верно учат, что человек должен прямо с Предвечным сноситься, но не через кохенов!
– А мастеру Джусему ты рассказывал про учение газийцев?
– А то как же. Он выслушал. Он всех выслушивает.
– И что ответил мастер?
Руфим шмыгнул носом.
– Он меня по щеке погладил. И говорит: а ты представь, что Предвечный тебе и без твоего тепла все свое тепло отдаст. Представь, говорит, дурачина, что Предвечный не сила даже, а одна только доброта. И та доброта сильнее любой силы. Можешь, говорит, такое представить, дурачина ты бродячая? Так он мне ответил.
Севела покосился на мозгляка и с усмешкой спросил:
– А можешь ты такое представить?
– Он сам добрый, и Предвечный у него добр, – выговорил Руфим. – Не могу я такого представить. Я вам так скажу, адон: какой человек сам есть, таким он и Предвечного видит.
– Значит, каков сам человек – таков и его Предвечный. Так?
– А вот то – богодерзкость, адон, – еле слышно сказал мозгляк. – Это что ж получается: сколь людей есть на свете, столько и ликов у Предвечного?
– А вот так и получается, друг мой Руфим, – насмешливо сказал Севела. – Но у мастера твоего получается, что Предвечный добр бесконечно. Пусть ты грязь и смрад, пусть ты гадостен, пусть богодерзок. А Предвечный все же добр. Но ты мне вот что скажи. К чему мастеру Джусему братья-галилеяне? Одна лишь дружба у него с Амуни? Или же он галилеянам содействует в вероучении?
Руфим жалко сморщился.
– Не будет мастеру добра от дружбы с галилеянами.
– Вот как? Почему ты так говоришь?
Руфим замялся.
– Говори. Не то корпусной вернется.
– Мастер в покое жил прежде, – поспешно сказал Руфим. – Посуду делал хорошую, до Десятиградия его посуда славится. Мастер в Тир продавал свою посуду и в Дамаск. Тонкая работа.
– А что же теперь он перестал делать посуду?
– Не в том беда. Мастер учен. Ему отец его много списков оставил. Мастер на иеваним читает, на лацийском. Прежде он как жил? До полудня в гончарне, а после домой идет и читает. И сам пишет… Покойно было.
– А что прежде писал мастер?
– Как мне знать? Я спросил как-то, он ответил: комментарии, мол. Имена еще сказал, я тех имен не запомнил. Слово только запомнил, «комментарии». Он еще сказал: старые письмена-де мертвы и людям безразличны. Но комментариями, говорит, их можно оживить.
– Отчего ж он теперь перестал писать?
– Не перестал. Но теперь одни письма пишет. Много писем. Что ни день, то письмо. И ему шлют. Боюсь я тех писем, что ему шлют.
– Ты читал их?
– Как можно? Да и не прочесть. Я по-арамейски лишь могу… Ему на иеваним пишут.
– Почему боишься этих писем?
– Я потому их, адон, боюсь, что спокойная наша жизнь из-за них закончилась! И сам мастер изменился из-за этих писем, а теперь вот еще и в крепость нас посадили.
– Как приходят письма?
– Три человека привозят. В очередь привозят. Письмо оставляют, ночуют, наутро ответ берут и уезжают.
– А покой, стало быть, кончился?
Руфим стал грызть ноготь на большом пальце.
– Кончился покой в доме мастера, – горестно сказал он. – Как письма те пошли, так мастер заволновался. То мрачен, то смеется.
– Над чем?
– От радости смеется, адон капитан, – сказал Руфим нерадостно. – Спокойствие мой мастер потерял.
– Зелоты в доме бывали?
– Нет! Нет, адон! – Руфим всплеснул руками. – Пинхоры во все времена зелотов сторонились, это твердо знаю! О зелотах мастер говорил плохо. Говорил так: безмозглые убийцы. И еще много плохого про них говорил. Что дом Израиля разоряют, истребляют народ. Он бы зелота на порог не пустил.
– А чему же радуется мастер?
– Да как же мне его понять, адон? – беспомощно сказал мозгляк. – Вы же видите, адон, кто я есть, и кто он. И потом, место-то мое в доме какое? Не того я сословия, чтобы самого мастера Джусема спрашивать.
– Так ведь и мастер твой невысокого сословия, – пренебрежительно сказал Севела. – Не кожевенник, верно. Не водонос… Но гончар – невысокое сословие.
– А вот не скажите! – с обидой возразил парень. – Верно, по цеховому реестру Пинхоры гончары. Но фамилия их состоятельная. Мастер гончарное дело для одного удовольствия содержит. Он в этом деле художником слывет. Работает только на заказ, не партиями, штучно. Он рисует много.
– Рисует? – удивился Севела. – И что же он рисует?
– Орнаменты из растений, узоры рисует. Потом на посуду переносит. Его покойная жена научила.
– Хорошо, Руфим, – Севела встал. – Корпусной тебя больше не тронет. Теперь не врешь, не крутишь. На той неделе выпустят тебя.
– Отчего ж только на той неделе, адон? – жалобно спросил Руфим.
– Я хочу тебя еще порасспросить. Потому побудешь в крепости пока. После выпустят. Ты вот еще что мне скажи. Законный он человек? Говорил ли дурное о романцах когда-нибудь? О Высоком Синедрионе дурное говорил?
Мозгляк еле заметно усмехнулся. Потом тихо сказал:
– Законнее его нет никого. Противоуказного ничего не делал. Людей своих на общественные работы посылал всякий раз, как Синедрион постановит. Я от дома Пинхоров на рытье канав трижды ходил, по месяцу. Законный человек.
– А чего ты усмехнулся? – спросил Севела. – О чем подумал, а?
– Мастер никогда романцев не порицал, – с мелким смешком сказал Руфим. – Но я так думаю, что для него все – как дети. Что романцы, что первосвященниковы люди, что горожане или деревенские – ему все едино. Он среди людей живет… А как будто в пустыне живет. И отец его такой же был, мне мой отец рассказывал. Он сам по себе, мой мастер. Он и Книгу перечитывает без почтения. Очень любит в Книге находить… Как сказать?.. Ну как сказать, адон? Когда в Бытии одно, а в Числах, скажем, уже совсем другое?
– Противоречия?
– Ага! То самое слово. Так и говорит: вот, мол, опять противоречие. Он про Провинцию так говорил: здесь разум спит. И вот еще я что вспомнил. Вы, адон, спросили, чему мастер радуется. Он однажды письмо получил, прочел и потом три дня веселый был. Я спрашиваю: что, мол, мастер, известие доброе получили? Он ответил: люди, говорит, появились, Руфим, новые люди. Ну как такое понять?
– Хорошо, – сказал Севела и толкнул дверь. – Тебя покормят сейчас, я прикажу. Эй, там, кто-нибудь…
…ввели, то Севела подумал: странный гончар. Выглядит, как чиновник или ритор, а на гончара не похож.
Руки у арестованного были маленькие, чистые, не огрубевшие от воды и глины. И ничего от мастерового – ухоженная бородка, галабея из тонкой ткани, белый кефи и изящный витой браслет на левом запястье. Лицо арестованного сохраняло покой и готовность к невзгодам. Большие, карие, близко посаженые глаза, крючковатый нос, высокий морщинистый лоб и тонкий шрам на верхней губе. И ночь в крепости этого человека не напугала.
– Я капитан Внутренней службы Севела Малук, – сказал Севела. – Вы арестованы по указу принсепса, божественного Тиберия. Указ гласит, что все вероучители, противоречащие Синедриону и уклоняющиеся от регистрации, подлежат преследованию и аресту. Указ «О сектах и сборищах» месяца ниссана, семьсот пятьдесят третьего года от основания Рима.
Арестованный вежливо наклонил голову.
– Во всем следую воле адона капитана, – сказал он.
– Иди, – сказал Севела конвойному. – И пришли сюда стенографа. Почему до сих пор нет стенографа?
– Сей миг будет, адон капитан, – сказал конвойный. – Видел его в писарской.
Мимо конвойного в дверь поспешно протиснулся стенограф.
– Живее! – недовольно сказал Севела. – Ты должен приходить раньше меня.
– Прошу простить, адон капитан, – торопливо сказал смуглый писарь в темной, выпачканной воском тунике.
Он сел за столик у двери и стал поспешно выкладывать из торбы папирусные листы, бутылочку с краской, коробец с песком.
– Садитесь на скамью, мастер Джусем, – сказал Севела. И сам сел на жесткий стул. – Это допрос. Произнесите присягу. Знаете форму?
– Да, адон. Джусем Пинхор из Ерошолойма, квартал Иаким, будет говорить открыто и верно. Послушен принсепсу, божественному Каю Юлию и народу Рима.
– Сказано! – громко произнес Севела и хлопнул в ладони.
– Сказано! – повторил писарь и сделал первую запись.
– Присяга произнесена, мастер Джусем, – сказал Севела. – И сим заявляю, что я волен подвергнуть вас пытке, если ваши слова не вызовут у меня доверия. Лишнего не говорите, на вопросы отвечайте просто. Вызывались ли вы когда-нибудь для допросов?
– Никогда прежде на допросах не отвечал.
– Числитесь ли в реестре горожан Ерошолойма, живете ли в городе более десяти лет?
– Числюсь в реестре от рождения. Всегда жил в Ерошолойме, за вычетом того времени, когда отъезжал для обучения.
– Где обучались и чему?
– Год жил в Александрии, обучался там полемике и демагогии в школе ритора Еноха. Еще изучал там язык иеваним и лацийский.
– Бывали в метрополии?
– Нет.
– Мастерской владеете по наследству?
– Мастерская и дом отошли от отца.
– Братья или сестры есть у вас?
– Я единственный сын.
– Что за семья у вас?
– Я вдов, тому восьмой год. Брак был бездетным.
– Отчего не дали развод жене?
– Не хотел другой жены, адон. Потому развода не дал.
– Честно ли следуете Книге? Порицал ли вас когда-либо кохен вашего квартала?
– Книге следую честно. Квартальный кохен никогда не высказывал недовольства.
– Зачем дали приют вероучителю Амуни?
– Дружен с ним и не знаю за почтенным Амуни ничего дурного.
Севела скрестил руки на груди. Стенограф записал последний ответ и в ожидании прикусил стилос.
– Сколько лет вам, мастер Джусем?
– Мне тридцать два года, адон, – ответил гончар. – Я немолод.
– И что с того?
– В моем возрасте люди осмотрительны, адон, – сказал гончар. – Я ценю спокойную жизнь. Не думал, что какой-то из моих поступков подпадает под указ принсепса. Могу спросить вас, адон?
– Да?
– В чем моя вина?
– Вы дали приют людям, чьи проповеди опасны для общественного спокойствия. А значит, вы сами угрожаете общественному спокойствию. Вы дружны с вероучителем Амуни?
– Да.
– Зачем Амуни пришел в Ерошолойм?
– Насколько мне известно, почтенный Амуни в Ерошолойме для проповедей.
– Где он собирался проповедовать?
– Где придется, адон. Говорил, что обратится к горожанам в квартале Иаким, а после пойдет на площадь Храма.
– А известно вам, что его высокопреосвященство Каиаху запретил проповедовать на площади Храма?
– Нет, адон, мне это неизвестно.
– А известно ли это вероучителю Амуни?
– Амуни законопослушный человек. Он не стал бы проповедовать, зная о запрещении первосвященника.
– Много ли вы знаете таких, что разделяют учение Амуни?
– Иных знаю лично, с иными переписывался.
– В Ерошолойме галилеяне известны?
– О братьях-галилеянах давно знают в Ерошолойме.
– А чего хотят братья? Противостоят ли Синедриону?
– Что вы, адон! Управление людьми не для галилеян.
– Какое управление не для галилеян? – быстро спросил Севела.
– Я вопроса вашего не понял, адон капитан, – гончар подался вперед. – Прошу пояснить.
– От политического управления желали бы устраниться братья-галилеяне или от управления духовного?
– Братья-галилеяне не хотят политического управления. А что до управления духовного – это назначение всех вероучителей, что только есть в Ойкумене.
– Скажите, мастер, а вы сами когда-нибудь слышали от братьев-галилеян, от любого из них, что политическое управление им не нужно?
– У братьев-галилеян, адон капитан, есть афоризм. «Счастливы и просветлены кроткие – поскольку им в наследство достанется весь мир».
– Но ведь из этого следует, что людям, к власти не стремящимся, она сама когда-нибудь упадет в руки. Я верно понял афоризм?
– Можно сказать и так. Но ведь можно толковать это иначе. Помимо власти грубой есть власть высшая, и она достается лучшим.
– А чем галилеяне отличаются от прочих вероучителей?
– Я видел всяких вероучителей, – неторопливо сказал гончар. – Но когда узнал рав Амуни, то впервые услышал учение… терпимое.
– В чем эта терпимость?
– Даже не терпимость, нет, – Пинхор опять провел рукой по щеке. – Некая универсальность, если угодно. Видите ли, все учения, что произносятся в Провинции, годятся только для Провинции. Ни один вероучитель из периша или саддукеев не стал бы проповедовать для иеваним. Или для ашур, или для кушан. А в учении братьев-галилеян я услышал слова, что могут быть обращены к любому человеку Ойкумены. Я спросил однажды рав Амуни: для любого ли человека Ойкумены произносится учение братьев-галилеян?
– И что же он ответил?
– Он сказал, что армянин, перс и галл знают, кто они такие, потому что когда-то услышали эти слова: «армянин», «перс», «галл». И в одном лишь звучании разница. Ну еще в языке, на котором они говорят, в одежде, в обрядах, по которым они женятся, вступают в совершеннолетие или выказывают верность своим принсепсам. А в остальном они схожие люди. И одинаково готовы принять красоту и правду. Поэтому учение галилеян обращено ко всем в Ойкумене.
– А разве не терпимы романцы? – сказал Севела с наигранным недоумением. – Ведь они живут по эллиническому канону. Всякий образованный человек знает, что верование романцев это слепок с верования иеваним. И другие каноны они не преследуют, митраитов терпят, зороастрийцев.
– Вы, адон, упрощенно представляете себе канон романцев. Да, их ареопаг тождествен эллиническому. Но романцы, сохранив видимую идентичность божественной конструкции иеваним, привнесли в канон черты, свойственные одним романцам. Эллинический канон светлее. А романская религия несет в себе жестокость и элементы древних верований. Их культ лар, к примеру… Но не стану вас запутывать.
– Я не запутаюсь, – твердо сказал Севела. – И времени у меня достаточно. А скажите-ка, мастер, слышали ли вы от своих друзей-галилеян такие проповеди, что были бы сочинены для ассирийцев? Или для…
…Пинхор? – спросил Нируц, не поднимая головы.
– Гончар ведет себя послушно, – сказал Севела. – Не запирается, рассказывает, что принимал в своем доме галилеян. Говорит, что уважает Менахема Амуни. А еще он говорит, что в учении галилеян нет ничего богодерзкого, что учение это смыкается с основными положениями эссеев.
– А я этого ожидал, – Нируц отложил стилос. – Я знал, что так будет. Он ведь умный человек. Ведь умный?
– Да. Очень умный. Впервые вижу такого образованного гончара. Знает эллиническую теософию, очень тонко проводит грань между иеваним и романцами.
– Необыкновенный гончар. Ритор, а не гончар.
– Скажи-ка: а если за ним нет вины?
– А за ним и нет никакой вины. И не нужна мне его вина. Мне нужна правда о галилеянах.
– Как мне быть дальше? – спросил Севела и подошел к столу. – Как вести себя с гончаром? – спросил он. – Я был вежлив с ним, даже позволял спорить. Как мне вести себя дальше?
– Говори с ним. Узнавай, почему они появились в Провинции и кто их жертвователи.
– Так может быть, мне спросить напрямую?
– А коли он замкнется? – с сожалением сказал Нируц. – Я мог бы отдать его Никодиму. Но если гончар выдержит три круга… Тогда уже любая тонкая работа будет впустую. Он замкнется.
Севела подумал, что воспитанный человек с чистыми маленькими руками может вынести три пыточных круга и сохранить при себе все, что он хочет сохранить. Он выдержит три круга, и Служба будет обязана его освободить и оповестить квартал Иаким о полной невиновности мастера Джусема Пинхора. Только после этого образованный гончар Пинхор не станет больше беседовать с доброжелательным капитаном Малуком.
– Ты можешь спрашивать его лишь о том, чем располагаешь, – сказал Нируц. – Располагаешь же ты тридцатью двумя письмами Амуни, десятью письмами Шехта из Дамаска и еще несколькими письмами с севера. Располагаешь свидетельствами о его поездках в Тир и Яффу. А больше ты не знаешь ничего. Писем тех он не боится, не он их писал, в конце концов. Даже если дознаватели из Синедриона усмотрят в письмах богодерзкое, Пинхора можно будет обвинить лишь том, что он не прекратил переписку. А это невеликая вина. В его поездках нет ничего преступного, он всегда сможет отговориться: совершал поездки по личным надобностям, а с галилеянами встречался непреднамеренно.
– Что же мне искать?
– Говори с ним! Говори с ним много, говори пылко. Слушай его внимательно, но и возражай чаще. Пусть он скажет как можно больше, а ты увлекись тем, что он скажет. И как бы он осторожен ни был, он выдаст подлинную причину приверженности галилеянам.
– Он совсем не осторожен, – заметил Севела.
– И превосходно! Пусть он ничего не скрывает, мастер Джусем из квартала Иаким! Пусть гончар больше говорит, пусть пересказывает учение галилеян, пусть восхищается им, пусть…
* * *
Он нажал кнопку, и за дверью раздалась резкая трель.
Открыли не скоро. Он постоял на лестничной клетке, хотел позвонить еще раз. Почему-то постеснялся, решил ждать. Наконец послышались еле слышные шаги, четко щелкнул замок, дверь открыли.
– Софья Георгиевна? – сказал он. – Добрый вечер. Я Михаил Дорохов, друг Сени Пряжникова.
– Проходите, Михаил, добрый вечер, – ответила стройная пожилая дама. – Вот тапочки.
Дорохов вошел и оказался в просторной прихожей с застекленными двустворчатыми дверьми.
– Пойдемте в кабинет, – сказала Курганова.
Она выглядела моложаво и строго. Чопорно. Все в ней было аккуратно – седая прическа, белая блузка с бантом, темная юбка и тонкая шаль на прямых плечах. Он заметил несколько рамок с фотографиями – на стенах, на полках, на антрацитовой крышке рояля. В одном из фотопортретов вроде бы угадался профиль Пастернака. Пол из крупного паркета, «елочкой», белые вазы. На треугольном с закругленными краями журнальном столике из золотистого дерева лежал номер «Дружбы народов». Торшер на высокой стойке накрывал овалом света два одинаковых низких кресла, покрытых желтоватой пушистой овчиной, стол, обтянутый темно-зеленым сукном, бювар, письменный прибор из малахита и лампу с эбонитовым основанием.
– Садитесь, Михаил, в это кресло, – сказала Курганова. – Я принесу чай. Вы курите?
– А вы?
Она чуть приподняла брови.
– Нет, не курю.
– Тогда я воздержусь, – сказал Дорохов. – Потерплю. У вас некурящий дом, так и я не стану.
– О! – насмешливо сказала Курганова. – «Так и я не стану»… Любите русскую классику?
Дорохов смутился.
– Курите, курите, – добродушно велела Курганова и поставила на столик круглую керамическую пепельницу. – У меня, как вы выражаетесь, «курящий» дом. Сама не курю, но гостям разрешаю.
Она вышла, а Дорохов сел в кресло, положил руки на колени и стал разглядывать книжные корешки.
Скоро Курганова принесла поднос.
– Расскажите о вашей книге, Михаил.
Дорохов набрал в грудь воздуха.
– Я даже не знаю, с чего начать, Софья Георгиевна. Я написал… Это не исторический роман, нет. Это стилизация, в определенном смысле. Я, как бы это сказать, попробовал проинтерпретировать общеизвестные события…
– Вы прежде печатались? – мягко перебила Курганова.
– Нет. То есть да. Давно. Короткая повесть, в «Юности», в апреле восемьдесят третьего.
– А как вы попали в «Юность»?
– Через Сеню. То есть через Сениного друга. Артем Белов, он тогда учился на филфаке. Мы познакомились с Тёмой у Сени. А Тёма потом познакомил меня с редактором из «Юности», Володей Салимоном. Нет, не редактором… Он работал в отделе писем.
– А после не публиковались?
– Нет.
– И попыток таких не делали?
– Софья Георгиевна, я ведь не так давно закончил институт. Потом аспирантура, защита. С восемьдесят пятого года я ничего не писал. А что писал до восемьдесят пятого – слабо. Я сам понимаю.
– Вы пейте чай, Михаил, остывает.
Дорохов бережно взял тонкостенную чашечку и сделал маленький глоток.
– Вы позволите? – спросил он, кивнув на пепельницу.
– Я же вам уже сказала. Курите.
Он достал пачку «Честерфилда». Вчера купил у гардеробщика в «Арбате» пачку. Нельзя же было, право, идти к Кургановой с «Дымком» или «Казбеком». Наивно это, конечно, какое дело пожилой даме до его сигарет? Но он волновался, даже джинсы не стал надевать, выгладил брюки, постирал и высушил на батарее серый пуловер.
– Скажите, Михаил, а какую литературу вы любите?
– Казакова, Нагибина… Трифонова. Больше всего – Трифонова.
Курганова благосклонно кивнула.
– А Платонов?
– Тяжело, – признался Дорохов. – Как-то… вязко.
– Да, – она опять кивнула. – Полюбите позже. Достоевский?
– Боже упаси! – честно сказал Дорохов.
– И это придет позже… А еще?
– Виноградов, – ответил он с некоторым вызовом. – Тарле, Тынянов… Гоголь! Ничего нет лучше!
– Он у меня, Михаил, на втором месте после Достоевского. Знаете, у меня такой есть тест своеобразный. Если человек любит Гоголя – значит, способен ценить стиль. А если читает Достоевского – значит, думает о Боге. Но это так, к слову. Принесли книгу?
– Книгу?
– Вашу книгу.
– Да, конечно! Она в сумке. Там, в прихожей.
– Надеюсь, вы мне ее оставите?
– Так я, собственно, за этим… Если бы вы нашли время… – пробормотал Дорохов. И добавил лицемерно: – Для меня очень полезно было бы ваше мнение.
– Бросьте, – хозяйка поморщилась. – Вам не мнение мое нужно, вам помощь моя нужна. Сеня за вас просил. Я дружила с его мамой, покойной Мариной Васильевной. И Семена знаю с самого рождения, и с Петром, его отцом, дружу уж больше тридцати лет. Сеня утверждает, что вы написали хорошую книгу. Мы с Мариной прочили его в литинститут или на филологический. Сеня в литературе толк знает… Я прочту, а после поговорим. Ничего не обещаю, книгу прочту. Остальное зависит от текста.
– Да-да, я понимаю, – поспешно сказал Дорохов. – Спасибо, что нашли для меня время.
– Времени у меня достаточно. А зачем вы пишете? Хотите литературной карьеры?
Дорохов замялся.
– Давайте начистоту, – сказала Курганова и испытующе посмотрела на Дорохова. – Сеня сказал, вы работаете в НИИ. К чему вам писательство?
– Софья Георгиевна, на такой вопрос ответить непросто.
– А вы попробуйте, – подбодрила Курганова.
– Извольте, – он провел рукой по волосам, нахмурился и заговорил: – У меня есть старинная пишущая машинка «Мерседес-прима». Я живу на Полянке, большая комната, вход отдельный, с «черной» лестницы. Я ненавижу эту жизнь, которая вокруг. Я вечером сажусь за машинку, закуриваю. Сочиняю историю про парня моего возраста. Он жил почти две тысячи лет назад, а думал о жизни так же, как я думаю. Вот и все.
И он выдохнул.
– Сбивчиво, но искренне, – несколько удивленно сказала Курганова. – А вы единственный писатель в Сениной компании?
– Какое там! – фыркнул Дорохов. – У нас есть Тёма Белов, Боря Полетаев, Володя Гаривас… У нас пишущего народа хватает.
– Что ж, кажется, это поколение не безнадежно, – задумчиво произнесла Курганова.
– Софья Георгиевна, там у вас в гостиной фотография… Это Пастернак?
– Да, это Борис Леонидович Пастернак.
– А рядом, над роялем – это кто?
– Саша Гинзбург.
– В смысле – Александр Аркадьевич?
– Да.
– Так он тоже бывал у вас?
– Вы сидите в его любимом кресле. – Курганова грустно улыбнулась. – Он в этой квартире не раз витийствовал. Когда его поисключали отовсюду, даже от поликлиники Литфонда открепили, варвары, – мы с мужем устраивали здесь его домашние концерты. Саша был большой, барственный… Бесконечные бабы… Ангелину свою, впрочем, боялся, как огня. Каждый раз, когда она его ловила, он такой спектакль устраивал – сердечный приступ, удушье… А потом: «Да как ты могла подумать?!»
«И я теперь, значит, здесь…» – подумал Дорохов и еле заметно поерзал в кресле Саши Гинзбурга.
* * *
…прекрасно, мастер Джусем! Да, это место отменно! Вы знаете, мастер – а ведь это поэзия!
– Это лаконично и красиво, адон, – улыбаясь, сказал Пинхор. – А все, что красиво, и есть поэзия.
– Да, – протянул Севела. – И заметьте, мастер, – поэзия не нуждается в правоте. Ей достаточно одной лишь красоты.
– Не соглашусь, адон, – деликатно возразил Пинхор и расправил на коленях складки галабеи. – Настоящая поэзия это гармония. А где гармония, там и правота.
– Я во многих ваших фразах, мастер, слышу умопостроения иеваним, – сказал Севела и прищурился. – Вы сильны в афористике, мастер.
– А вы, мне кажется, заражены прагматизмом романцев, адон Малук, – мягко сказал Пинхор.
– И все же вернемся к этому пастуху…
– Но он не был пастухом, адон! – запротестовал Пинхор. – Это молва назвала его пастухом. Вполне может быть, что он недолгое время пастушествовал. Но это было до того, как он примкнул к братьям-галилеянам.
– Что еще он говорил?
– Он писал. Говорили другие. Саул Генисеретский был заикой. Рассказывают, что слушать его было сущим мучением… Но писал он непревзойденно! Два года тому назад он умер от холеры. Странствовал по Десятиградию, а там начался мор. Саула сопровождал писарь. Он его и похоронил. Записи Саула Генисеретского писарь привез в Тир и передал братьям-галилеянам.
– И как, вы говорите, это называется?
– «Основания», адон. Саул назвал это: «Основания».
– Прочтите еще, – попросил Севела.
– Ну вот, скажем, это… «Избирайте узкие ворота. Ибо в ворота широкие заходят все подряд. В широкие ворота войти проще – да только ведут они к погибели. А потому к погибели короче попасть через широкие ворота». Или вот еще. «Ежели дерево приносит плохие плоды или вовсе никаких не приносит, нужно ли оно? На одно сгодится такое дерево – срубить его и развести из него огонь. И будет тогда польза – огонь».
– А вот это излишне мудрено, – сказал Севела. – Скажете, нет?
– Я скажу другое, адон, – значительно произнес мастер Пинхор. – Мне не довелось встречаться с Саулом Генисеретским. Но, по словам почтенного Амуни, Саул был простым и веселым человеком. И первая редакция его «Оснований» была очень… непринужденной. Он допускал и крепкое словцо, и всякие двусмысленности. Перемежал поэзы простонародными поговорками, иной раз грубоватыми и даже непристойными. А писарь, что шесть лет путешествовал с Саулом, после его кончины объявил себя единственным наследником поэз. Он попытался придать писаниям Саула строгость и величие. Эта правка оскопила остроумные тексты насмешника и праведника Саула Генисеретского.
– Увы, это судьба многих замечательных текстов, – заметил Севела. – А есть у галилеян другие такие умники? Или тот заика был единственным?
– Единственным острословом? Ну что вы! Вот, к примеру, Зарха из Вифании… Едко высмеивал периша и саддукеев. Потому-то синедриональные кохены объявили, что сочинитель памфлетов Зарха смущает умы и клевещет. Всем квартальным Провинции велено доносить, если кто-нибудь из джбрим будет замечен в чтении памфлетов Зархи. Он три года прожил в поселении эссеев. Сочинил множество прекрасных поэз и проповедей. Братья-эссеи кормили и одевали Зарху все три года, но после все же выставили его за ворота.
– Почему?
– Он горький пьяница, Зарха из Вифании, – сокрушенно сказал Пинхор. – И любит мальчиков. Братьям-эссеям надоел всегда пьяный памфлетист, растлевающий мальчиков. Эссеи прогнали Зарху, с тех пор он живет в Тире. Там его терпят. Он написал трактат «О плотском». Ничего, кстати, плотского в нем нет. Вот послушайте: «Не собирайте себе сокровищ на земле, ни к чему это, глупо и суетно. Земные сокровища крадут воры, их отнимают грабители, их вытягивают в тяжбах судейские и вымогают разведенные жены. Их вожделеют нетерпеливые наследники и видят пожертвованием кохены. Нет толку от сокровищ, что на земле, одни хлопоты и страх, суета и морока. А копите-ка лучше сокровища на небе, там не властны ни моль, ни тлен, ни воры. А где сокровище – там и твое сердце. Ежели сердце твое в сундуках да погребах – пожалеть остается такое сердце. А вот коли на небе твои сокровища – так и сердце твое на небе». Каково, адон?
– А как такой Зарха прибился к галилеянам? Он ведь пьяница?
– А что с того, что он пьяница? – спросил Пинхор со снисходительным смешком. – Пьянствует-то тело Зархи. А разум его изощрен и свободен. Думается мне, адон, что пьянство на пользу разуму Зархи.
– И такое бывает. Вы уже двоих одаренных людей назвали. Сдается мне, что ваши единоверцы-галилеяне прибирают всех стоящих. Но Амуни, насколько мне известно, аскет. Как такие люди, как Менахем Амуни, уживаются с такими, как Зарха?
– Превосходно уживаются, адон! – заверил Пинхор. – Иногда дружат, иногда ссорятся и спорят. У галилеян принято ценить главное в человеке – талант, совесть, способность сострадать. За талант и совесть галилеяне могут простить человеку пьянство и любострастие.
– Этим они привлекли вас? – спросил Севела и искоса посмотрел на гончара.
– И этим тоже. Вы не в первый раз спрашиваете, чем очаровали меня галилеяне. Это люди, адон, понимаете, люди. Ни в одном другом сообществе нет такого количества талантливых людей, как среди галилеян. Отчего так получилось? Не знаю. Однажды я приехал в Тир и оказался на собрании в доме почтенного рав Менахема. Меня пригласил туда рав Амуни. Я, помнится, не хотел идти. Но Амуни уговорил меня. Он может уговорить кого угодно. Вы ведь, наверное, уже беседовали с ним, да? Это человек необыкновенного обаяния!
– Нет, я не беседовал с Амуни, – сказал Севела и покачал головой. – Обаянием рав Амуни наслаждается другой офицер. Так что там было на том собрании в Тире?
– Рав Амуни привел меня в скромный дом возле порта. Небогатый, но чистый и гостеприимный дом. Хозяин, рав Менахем бен Ют, служит топографом в тамошнем администрате, у него большая семья, шесть дочерей и два сына. Меня встретили очень приветливо. Мне показалось, что это радушие проистекало оттого, что меня привел Амуни. Я подумал, что если бы он привел в тот дом уличного пса – так и пса встретили бы с почтением.
– Ерунда. Что вы говорите, какие псы? Вас тепло приняли потому, что вы располагаете к себе, вот и все. И что было дальше?
– Собралось множество людей. Поначалу была произнесена недолгая проповедь о пользе общественного радения. В Тире тем годом начали строить акведук, и рав Менахем отправлял сыновей на работы. Молодые люди исправно трудились, Тирский администрат выделил их в послании наместнику. Читал проповедь сам рав Менахем. После началась трапеза. А потом Зарха – он тоже был там – выпил вина и стал читать фрагменты памфлетов. И, вы знаете, все эти доброжелательные и достойные люди, что собрались в доме Менахема – они так веселились! Они вдруг позабыли всю сдержанность, отставили тарелки с едой и взялись за кружки. Они веселились, как юные студиозусы!
– Ну еще бы! – понимающе кивнул Севела. – Еще бы они не веселились! Я и сам от души веселюсь, когда как следует берусь за кружку.
– Это-то мне и понравилось! – горячо сказал гончар. – Почтенные люди выслушали дельную проповедь, а после взялись за кружки с кносским, как подобает в компании добрых друзей. Я вдруг почувствовал себя дома. Всю жизнь живу в Ерошолойме, это город не из последних, я всякое здесь повидал. И людей видел самых разных. Но только на собрании у рав Менахема я чувствовал себя так славно.
– А вы не очень-то привержены к Ерошолойму, мастер. Верно?
– Увы, но Ерошолойм – это задворки мира, – с сожалением сказал гончар. – Здесь мало пытливых и открытых людей. А когда я встретился с рав Менахемом и его друзьями…
– И что же случилось тогда?
– Я ощутил себя свободным. Я понял, что в том доме, в кругу тех людей мне место. Как будто я убежал из глуши – вот как я себя почувствовал.
И тут Севела вдруг вспомнил, как когда-то хотел любой ценой сбежать из Эфраима.
– С вами никогда не бывало такого? – спросил гончар.
– Бывало, – ответил Севела. – И я не люблю захолустье.
– Ведь захолустье – это не географическая категория. Захолустье это разновидность несвободы… Но может случиться так, что новые друзья избавляют от тягот захолустья.
– Мне такое знакомо, мастер, – тихо сказал Севела.
– А еще на том собрании встретился мне замечательный человек, мар Йонатан, он управляет ссудной конторой «Леуми», – продолжил рассказ гончар. – Мы разговорились, и он сказал, что в памфлетисте Зархе погиб незаурядный логик.
– Вы в крепости седьмой день, – сказал Севела. – Вам, должно быть, хочется домой.
– Об этом стараюсь не думать. Пока я желал бы только одного. Чтобы меня не передали другому офицеру.
– Вы ведь один в каземате?
– Да, я один… Меня содержат в крохотной келье. Там даже есть окно.
– Воды достаточно?
– Мне дали бадью для мытья. Руфим приносит еду. Благодарю вас, адон, за то, что вы отпустили Руфима. Он совершенно безвредный человечек. Жил при мне, как кошка.
– Я хотел было порасспрашивать вашего Руфима, но потом выпустил. Пусть уж он носит вам еду.
– Скажите… Если позволено мне будет спросить…
– Спрашивайте, мастер, спрашивайте.
– Может ли случиться так, что меня будет допрашивать другой офицер?
– А вы здесь встречались с теми, кого допрашивали другие офицеры?
– Я слышал, как приволокли моего соседа, сам он идти не мог… И еще я слышал стражников. Они говорили, что этого человека допрашивал офицер Никодим.
– Никому в крепости Антония не хотелось бы свести знакомство с офицером Никодимом, – понимающе сказал Севела и повертел в пальцах стилос. – Я хорошо знаю этого офицера, мы служим бок о бок не первый год. Его подследственным приходится несладко. Нет, мастер, вас не передадут лейтененату Никодиму. И никому другому не передадут. Видите ли, тот человек, которого, возможно, изуродовал на допросе офицер Никодим, – тот человек преступник.
Пинхор хмыкнул и дернул уголком рта.
– Нет, нет! – Севела поднял указательный палец. – Я не о надуманных обвинениях… Человек, которого приволокли после допроса, – подлинный преступник. Убийца, душегуб. Никодиму приходится преследовать и допрашивать зелотов.
Гончар гадливо поморщился.
– Вот и вам не по душе зелоты, – сказал Севела. – Так что не спешите жалеть соседа. А офицер Никодим умеет обезвредить зелота. И узнать от него о других зелотах. Но я что-то разболтался. Вас не передадут другому офицеру еще потому, что я намерен ходатайствовать о вашем освобождении, мастер.
Пинхор медленно положил руки на колени.
– Вам воспрещается выезжать из Ерошолойма, – официальным тоном произнес Севела. – Если вы покинете Ерошолойм, этот проступок подпадет под компетенцию администрации наместника. Последствия нетрудно представить – я предупреждаю вас со всей серьезностью. Человек, отпущенный из-под стражи до полного снятия всех подозрений, не может покидать Ерошолойма и обязан ежедневно являться в резидентуру Службы. Вы будете ходить по краю, мастер. Если преступите указ о выпущенных из-под стражи, вас распнут. Понимаете ли меня? Вас будут судить не местные власти, а претор. А у романцев с джбрим разговор короткий.
– Я понял вас, адон. Я ни в коем случае не покину города.
– И тем спасете свою жизнь. Вас отпустят завтра утром. Вам выдадут жетон, и вы должны не позднее полудня передать этот жетон квартальному рабби. Каждое утро вы будете приходить в резидентуру, это во дворе башни Фасаила. В приемной будете получать жетон и тотчас относить его рабби в квартале Иаким.
– Но к чему это, адон? Я ни за что не уеду из Ерошолойма!
– Такова общепринятая процедура, – сухо сказал Севела. – Вы получаете жетон, передаете его рабби квартала. Рабби передает жетон в синедриональное присутствие. Оттуда жетон вновь поступает в администрацию наместника. Утром вы вновь получаете свой жетон.
– Я понимаю, – сказал гончар.
– Такова общепринятая процедура.
– Еще раз благодарю вас, адон капитан.
– Мы увидимся послезавтра. Я и четверти нужного не узнал от вас, мастер. Хочу прийти к вам домой.
– Буду рад, – смущенно сказал гончар. – Не знаю, правда, что творится в моем доме…
– В вашем доме покой и порядок. Вы, верно, наслышаны о воровстве приставов?
– Мне доводилось слышать, что приставы хозяйничают в домах арестованных, – признался Пинхор.
– Из вашего дома не пропало ни нитки.
– Я буду рад принять вас, – сказал гончар. – Простите, адон, а где вы обучались?
– А к чему это вам?
– Вы, адон… – смешался Пинхор. – Вы образованны. Легко цитируете Марциала и Кохелет. Знаете экономику. Иной раз мне казалось, что вы учились в метрополии.
– Я бывал в метрополии. Но институцию прошел в Провинции. Я учился в Яффе, в торговой Schola.
– Я вот говорил вам, что среди галилеян встретил множество талантливых людей, – сказал гончар. – Пребывание в крепости Антония тоже, представьте, подарило мне несколько замечательных знакомств.
– Вот как?
– На третий день моего заключения меня посетил майор Тум Нируц. Мы проговорили с ним несколько часов.
«Его посетил майор Нируц, – подумал Севела. – А кто еще посетил моего гончара?»
– Вы сказали «несколько замечательных знакомств»? – небрежно спросил Севела.
– Я здесь познакомился с вами, с майором Нируцем и с адоном лейтенантом… С адоном Борухом.
– Он вам понравился?
– В моих обстоятельствах слово «понравился» неприменимо, – сказал гончар. – Он вел себя учтиво, не повышал голоса… Необычный человек. Терпелив, сдержан. Как говорят романцы: корректен. Мне, знаете, показалось, что он родом из понтийских колоний. Такой у него своеобразный выговор.
– Борух, вы говорите?.. Тощий, с рубцом на правой щеке?
– Нет, тот офицер в теле, у него седая бородка. Ему хорошо за тридцать. Я еще подумал – человек зрелого возраста, а выше лейтенанта не выслужился. Один глаз у него карий, а другой серый.
«Бурр! – подумал Севела. – Сам Бурр приходит в каземат к арестованному, а перед ним – Нируц. Да кем они считают моего гончара?! Так дойдет до того, что в каземат к мастеру Пинхору станет ходить наместник».
Претора Секста Афрания Бурра ему довелось видеть трижды. Бурр, низкорослый человек с обезьяньим личиком, бородавкой на скуле и сонными глазами, произвел на Севелу впечатление тягостное. Казалось, что этому романцу попросту лень делать вид, что офицеры из уроженцев значат для него больше, чем денщики. От претора Бурра – как вонь, как зябкость, как скрежет лезвия по камню – шло ощущение брезгливой неприязни. Редко Севеле доводилось встречать среди романских кураторов такого неприятного человека.
– А почему вы опять вспомнили галилеян? – спросил Севела.
– Я вспомнил галилеян? – Пинхор улыбнулся. – Адон, да всю последнюю неделю вы ни на минуту не даете мне забыть братьев-галилеян!
– Вы заговорили о галилеянах, а потом сказали, что пребывание в крепости Антония тоже подарило вам редкие знакомства…
…провел в городском архиве.
– Увы, адон капитан, но у меня в подчинении всего два писаря, – виновато сказал городской архивариус. – Когда еще удастся навести здесь порядок… Два года тому назад весь архив вывезли романцы. Через полгода они вернули его, но вернули не сюда, а в канцелярию первосвященника. А ко мне архив вновь прибыл в таком вот плачевном виде.
– Зачем романцам архив Ерошолойма? – спросил Севела.
Архивариус пожал плечами.
– Романцам принадлежит все в Провинции, – сказал он. – И архив Ерошолойма тоже принадлежит им. Однажды они взяли себе архив. После вернули. За год я восстановил все списки кварталов Старого города. Многое пришлось разузнавать вновь. И потом, жизнь идет. Одни люди умирают, другие рождаются. До квартала Иаким я пока не добрался. Списки квартала Иаким в том самом виде, в каком их привезли из Храма.
Архивариус беспомощно развел руками.
– Когда романцы увозили архив, они сваливали документы в повозки охапками, – сказал он. – Все перемешалось. Что за семья вас интересует?
– Иосафат бен Михаль Пинхор и его сын Джусем.
– Этот Иосафат жив?
– Умер. Дом и гончарная мастерская перешли к единственному сыну.
– А что бы вы хотели узнать, адон капитан? О жителях Ерошолойма я знаю очень много. Может быть, мне удастся что-то вспомнить и об этой семье. Пинхоры, верно?
– Да, семья Пинхор, гончары, квартал Иаким.
– Гончары… Сословие невысокое, но и немногочисленное… А вы знаете, адон, – оживился архивариус, – будет правильнее искать не в квартальных списках, а в цеховых. Ну конечно же! Вот цеховые-то реестры сохранились полностью. Они содержатся в сундуках. Их вывозили в сундуках, возвращали в сундуках, и мне кажется, что к ним даже не прикасались. А в цеховых списках есть все сведения о членах семьи мастера, да и многое другое тоже.
– Прекрасно, адон архивариус! – обрадованно сказал Севела. – Где эти цеховые списки?
Они спустились в подвал. У стены громоздились сундуки.
– Думаю, гончары здесь, – архивариус показал пухлой рукой на четыре сундука слева. – Я буду искать. А вы, адон, быть может, просмотрите центральный стеллаж наверху? Там квартальные списки. Пролистайте, адон капитан. Авось вам попадется нужное семейство.
Севела вернулся на первый этаж и два часа перебирал пыльные стопки списков. Да, архив перемешали безжалостно. Перемешаны были не только кварталы, но и семьи. С суконщиком Иаковом бен Пашхуром соседствовала Иезавель, жена плотника Абитиара бен Абнера, мать троих мальчиков – Абинадаба, Самуила и Семея. Водонос Иоав бен Авессалом хранился с почтенным кохеном Ахитофелем бен Бихри, почившим (приписка плохим почерком) в месяце хешване, седьмого дня, в одинадцатый год правления принсепса Тиберия. Отлученная от семьи уважаемого ювелира Уриэля бен Шатома непотребная девка Сарамея значилась в листе, застрявшем между списками многочисленной семьи колодезных дел мастера Себу Амоса, пришедшим в Ерошолойм из Идумеи и получившим, ввиду крайней своей нужности городу, незанятое жилье в квартале Сухав на правах арендатора.
Но ничего о семействе Пинхор Севела на том стеллаже не нашел. К закату смышленый архивариус отыскал в небольшом окованном ящике свиток с ярлыком «Пинхоры. Гончары. Столовая посуда. Иаким».
– Вот, прошу, – удовлетворенно сказал архивариус. Он протянул Севеле листы, перевязанные старой бечевой. – Здесь сведения из переписи, имевшей быть в пятнадцатый год правления Тиберия.
– Благодарю, адон архивариус, – Севела коротко поклонился. – Я ваш должник. Найдется ли помещение?
– Займите мою комнату, адон. Вам принесут светильник.
– Еще раз благодарю. Я укажу в отчете, что встретил полное ваше содействие.
– Передайте мое уважение адону Нируцу.
– А вы знакомы с майором? – без особого удивления спросил Севела.
Он давно знал, что редкий чиновник в Ерошолойме не знаком с Нируцем.
– Обходительный человек, – мечтательно сказал архивариус. – Признаюсь, что получил эту должность благодаря ему.
«Он вездесущ, мой Тум, – подумал Севела. – Будь я иеваним, когда-нибудь услышал бы от Харона: „Адон Нируц – очаровательный человек! Скольких путников я перевез благодаря его трудам! Как жаль, что вы уже не сможете передать мое уважение майору Нируцу!“. Он всюду побывал до меня, мой Тум».
– А что – майор интересовался архивами? – спросил Севела.
– Адон Нируц нередко бывает в городском архиве. Правда, последний год я его не видел. Пять лет тому назад тогдашний архивариус рав Меродах уже был стар и болен. На эту должность полагалось назначить человека из канцелярии Синедриона. Так уж повелось, что архивом заведует человек из синедриональных… А я об этой должности мечтал, восемь лет ходил в помощниках у рав Меродаха…
– И Нируц составил вам протекцию?
– О да! – толстенький архивариус закивал, отчего заплывшие жирком щеки и шея забавно заколыхались. – Я оказал посильную помощь адону Нируцу, разыскал сведения об интересующем его человеке. И адон Нируц выразил свою благодарность тем, что составил мне протекцию. Сам легат рекомендовал назначить городским архивариусом вашего покорного слугу.
– Майор Нируц, как всегда, не ошибся в выборе, – сказал Севела. – Проводите меня в ваш кабинет, адон архивариус.
В небольшой светлой комнате Севела встал у конторки, положил на нее свиток и развязал старую, ссохшуюся бечеву. Он развернул три запылившихся листа и придавил их деревянным бруском.
Читал он недолго. Джусем бен Иосафат Пинхор в детстве и отрочестве работал при отце. В положенный срок получил цеховую диплому. Получил также дозволение продавать свой товар в «городе Ерошолойме, по всей Провинции и, буде означенному Джусему бен Иосафату пожелается, в Междуречье, к иеваним, в метрополию, в понтийскиеколонии и в иные места».
Еще Севела узнал, что в пятнадцатом году правления божественного Тиберия мастер Пинхор был женат, бездетен, в богодерзкости не замечен, храмовую десятину вносил в срок…
…пришли сумерки, Пинхор снял с полки светильник. Он не позвал Руфима, а сам постучал кресалом, раздул огонек из сухой ветоши и поджег фитиль. Светильник тихонько затрещал, и в комнате стало почти светло и очень уютно. Желтый огонек освещал скромное убранство стола и небольшую комнату с низким потолком. Свет отбрасывал на стены черные нелепые тени. Из кухни слышался громкий шорох, там Руфим перетирал просо. Во дворе потявкивала собака.
– Я загостился у вас, мастер.
– Ничуть, адон Малук, ничуть. Такой собеседник, как вы, в моем доме редкость. И что прикажете мне делать одинокими вечерами? Семьи у меня нет, детей нет. С Руфимом не побеседуешь, глуп Руфим.
– А Амуни я арестовал.
– А Амуни вы арестовали.
– Вы поздно ложитесь?
– Под утро. Я читаю по ночам.
– Я скоро уйду, и вы сможете читать.
– Вы как будто извиняетесь, адон Малук, – с сожалением сказал Пинхор.
– Я вот о чем хотел вас спросить. Когда вы рассказывали об Амуни и Цоере, то мне показалось, что их статут вероучителя для вас значит не так много. Я верно понял вашу интонацию?
– Я испытываю к ним уважение, – без промедления ответил Пинхор. – Это умные люди, честные люди. Чего ж больше?
– Тогда я спрошу прямо, мастер. Вы живете по Книге?
Пинхор коротко вздохнул.
– Живу ли я по Книге… Пожалуй, да. Почти всегда я живу по Книге. Но…
– Но?
– Книгу писали люди, адон Малук.
– И что с того?
– Среди них были мудрые люди, и были люди невеликого ума. Это были люди. Такие же, как вы, как я, как Руфим. Я живу, руководимый своим разумом. Я живу в соответствии со своим разумением о чести и доброте. Почти всегда получается так, что я живу по Книге.
– Немного же в ваших словах богопочитания.
– Я не приемлю нерассуждающего почитания, адон капитан.
– Тогда скажите мне: что вы думаете о Книге?
– Ни больше, ни меньше – о Книге… Что ж, адон Малук, поговорим о Книге.
– О вашем понимании Книги.
– Я понимаю Книгу так. По мере расцветания Книга наполнялась величавостью. Она прирастала текстами сотни лет, и смысл повелений ее все больше скрывался и размывался.
– Я слышу в ваших словах что-то от риторики эссеев.
– Нет, нет. Не торопитесь, адон Малук. Братья-эссеи в меньшей степени погружены в обряды, но в понимании Книги они мало отличаются от периша. Насколько я успел заметить, вы знаете историю.
– Я изучал историю, – сказал Севела. – Я полюбил историю еще в Schola, в Яффе.
– Коли вы любознательны в истории, то от вас не могло укрыться нечто общее во всех канонах Магриба. Будь то канон иеваним, или канон египтян, или канон персов. Всякий канон начинается с того, что людям дается некое знание. Концентрат безусловных положений. Обстоятельства, в которых к людям попадает это знание, предельно… драматичны. Я никогда не слышал о таком каноне, который был дан богами или богом единым в… э-э… бытовых обстоятельствах. Божественный свод положений непременно передается людям в грохоте, дыму, в раскатах грома и бушующем пламени…
Севела покачал головой с деланным испугом:
– Вот это речи, мастер! Мне кажется, что майор Нируц ищет вольномыслие не там, где нужно. Если в Синедрионе дознаются о том, что вы тут говорите – так вас побьют камнями за богодерзкость!
– Ах, оставьте, адон Малук, – сказал Пинхор со скучающей гримасой. – Майора Нируца ничуть не интересует вольномыслие. Я долго говорил с майором, и успел заметить, что его интересуют лишь явления практического свойства. Что до Синедриона – там, знаете ли, слишком много политиков и совсем мало истинных блюстителей… И потом, вы же не станете доносить на меня Синедриону?
– Определенно не стану, – весело сказал Севела.
– Так вот, для любого канона требуется изначальный концентрат знаний. Краткий норматив. Он объявляется при обстоятельствах туманных, при обстоятельствах, не подлежащих анализу. А затем знание умножается, обретает литературную форму и усложняется. И вот оно уже предстает в обличье, сообразном разуму и милосердию народа. Персы обретают канон, отлитый в поэтическую форму. Иеваним хранят предания о богах, обитающих на горе Олимпас. Египтяне поклоняются звероподобным и птицеголовым божествам. А джбрим живут по Книге.
– Понимаю вас, – сказал Севела.
Понимал он пока немногое и со стыдом чувствовал, что на него находит дрема, как это было в доме старого Цукара.
– Если же преодолеть в себе нетерпимость чужим канонам, то можно увидеть схожесть чуждых верований. Я отношусь к Книге с восхищением, поверьте. Книга уже становилась родительницей других канонов, и станет ею еще не раз.
– Вы сказали «схожесть»… Какая схожесть может быть между Книгой и преданиями иеваним?
– Великая философия выросла из тех преданий!
– Но схожесть? В чем же она?
– Она в людях, которые исповедуют несхожие каноны. Она в стремлении к доброму и красивому. Тексты разнятся, но учат схожему. Что вы знаете о Септуагинте?
– Никогда не слышал этого слова.
– Пятикнижие Моше было создано пять веков тому назад. За минувшие столетия кохены свели воедино и преобразовали остальные труды, ныне составляющие Книгу. Все эти части Книги написаны на коренном языке джбрим. За исключением нескольких глав книг Эзры и Даниила, что написаны на арамейском. При Хасмонеях все труды получили свои нынешние названия на коренном джбрим. И тогда же утверждены канонический текст и последовательность книг. Так вот, около трехсот лет тому назад двора Птолемея Второго Филадельфа достиг слух, что у джбрим есть многомудрая книга. Птолемей поступил по-царски прямо. Он согнал в Александрию семьдесят кохенов из вероучительных школ Яффы, Дамаска и Ерошолойма. Но не всех, кто попал под руку его эмиссарам, а лишь тех, кто владел языком иеваним. Их перевезли в Александрию, создали им добрые условия для прожитья и велели перевести Книгу на иеваним. Но расселили их так, чтобы они не могли видеться и сноситься до завершения их труда. Через полгода все семьдесят кохенов перевели Книгу на иеваним, каждый сделал перевод без помощи остальных. И все переводы оказались идентичными! Совпали до слова! Птолемея Второго восхитил труд кохенов. Государь хорошо наградил их и с почетом отпустил по домам. Идентичность переводов убедила Птолемея Филадельфа в существовании направляющей десницы Предвечного. И с тех пор Птолемей Второй, образованный в лоне эллинического канона, жил по Книге! Представьте: государь из иеваним, до той поры живший эллиническим укладом, превратился в богопослушного джбрим! Книга в его правление была официальным каноном государства Птолемеев.
– Может ли такое быть? Вы говорите, что царство Птолемеев исповедовало Книгу?
– Недолгий срок – пока правил Филадельф. Но это было. А тот перевод Книги получил название Септуагинты, то есть «Книги Семидесяти».
– Никогда не слышал этой истории, – изумленно сказал Севела. – Я привык считать, что Книга существует лишь в лоне дома Израиля.
– Книга есть канон, – с расстановкой произнес Пинхор. – И она может смыкаться с иными канонами. И влиять на умы, приверженные иным канонам. Вы не устали?
– Ну что вы!
– Читали вы труды Филона?
– Я читал его труд «О Логосе».
– А кто, по-вашему, был Филон?
– Я не знаю достоверно, – Севела поднял брови. – Родом он, кажется, из Милета. Ритор, последователь Платона…
– Адон Малук, Филон был чистокровным джбрим! И отец его, и дед его были старейшинами общины в Александрии. В Милете он лишь провел несколько лет. Самые известные труды создал в Александрии, в преклонные годы. Его семья была очень богатой и самой эллинизированной семьей среди александрийских джбрим. Он получил образование в лучших Schola, отец посылал его в Рим и Карфаген, в Афины и Коринф. На иеваним и лацийском он говорил свободно, а коренного джбрим почти не знал. Он был ревностным последователем Платона, это верно. Но всю жизнь Филон Александрийский был поглощен тем, чтобы объединить канон джбрим с религией иеваним. Он знал Книгу лишь по Септуагинте и желал сделать ее еще более доступной для греческих интеллектуалов. Всей мерой отпущенного ему таланта он рядил откровения Книги в эллинские одежды. И ему удалось это! Удалось это с помощью философии и аллегорий великого Платона. Филон утверждал, что Предвечный, без сомнения, создал мир. Но влияние, которое Он на мир оказывает, не прямое, а опосредованное Логосом. Душа берет начало из Божественного Источника, учил Филон, и она может постичь его природу. И такая возможность реализуется двумя путями: либо через пророческое озарение, либо посредством внутренней мистической сосредоточенности. Канон джбрим, по Филону, – это орудие для достижения духовного совершенства. А Книга – путь слияния с Предвечным.
– Вы так восхищенно говорите об этом философе, мастер. Видно, его учение того стоит.
– Это учение братьев-галилеян, – спокойно сказал Пинхор.
– Позвольте! – беспомощно сказал Севела. – Так учение галилеян смыкается с эллиническим каноном?
– Не так, – величественно сказал гончар. – Филон Александрийский принял учение галилеян и обогатил его элементами эллинической риторики. Всю жизнь он искал гармонии и обрел ее в учении галилеян. Вероучитель Филон умер два года тому назад в Тире. Кстати, в Синедрионе к Филону относились с величайшим почтением, известно вам это?
– С почтением? То, что вы рассказали о Филоне, вряд ли снискало бы одобрение Синедриона. Вчера – джбрим, сегодня – иеваним, а завтра – безбожник. Так бы сказали о нем в Синедрионе.
– Увы, – гончар наклонил голову. – Синедрион – оплот косности. Но, видите ли, синедриональные кохены первой череды почитали Филона и были ему горячо благодарны не за переход от эллинизма к Книге. А за поступок отважный, а может быть, и безрассудный.
– Что же еще совершил этот Филон?
– За полгода до кончины Филон отправился в Рим и спорил там с принсепсом.
– Спорил с принсепсом? А после живым и невредимым покинул Рим?
– Да. Он спорил с принсепсом и остался жив, – гордо ответил Пинхор.
– Как это было?
– Кай Юлий по прозванию Калигула требовал, чтобы во всех владениях романцев принсепса чтили как живого бога. Для иеваним и романцев такое возможно…
Гончар сделал паузу.
– Да, такое не для джбрим, – сказал Севела.
– Джбрим никак не могли соблюсти тот эдикт. И тогда в Александрии их объявили преступными противителями воле принсепса и народа Рима. Конечно же, это было сделано для того, чтобы безнаказано разбить и разграбить дома джбрим. Начались погромы. До Филона дошли вести о бедствиях Александрийской общины, и он направился в Рим.
– И Калигула принял его?
– Принсепс удостоил его аудиенции. Филон понимал свое отчаянное положение… Калигула казнит патрициев по прихоти или от дурного настроения. В приступе изжоги он велит бросать сенаторов в бассейн с муренами. Чего мог ждать старый джбрим из Александрии? Однако Филон совершил невозможное. Он был хладнокровен и смел. Наверное, неслыханная отвага старого философа изумила Калигулу – он не тронул Филона. Более того, Филон сумел убедить принсепса в том, что джбрим останутся покорными его воле, даже если не станут поклоняться его статуям. Александрийским джбрим было позволено не воздвигать статуй в храмах. Чего там говорить – принсепс мог передумать уже через час. Но, на счастье Филона и всех джбрим Александрии, этого не случилось. Принсепс даже велел александрийцам прекратить грабежи и возместить ущерб.
– Да, это подвиг. И вы говорите: этот человек на закате жизни примкнул к галилеянам?
– Об этом мало кто знает, но это так.
– Вы удивительный собеседник, мастер, – сказал Севела и, склонив голову, посмотрел на гончара. – Сколько я узнал от вас… И надо-то было всего лишь арестовать человека, чтобы узнать о великом философе из Александрии, о трансформации канонов и многом другом.
– Вы хороший слушатель, адон, – улыбнулся Пинхор. – А вот я с годами становлюсь болтлив.
– Мне пора идти, уже ночь, – Севела встал. – Вы не запаздываете в резидентуру?
– Я каждое утро являюсь в резидентуру. Да это совсем и не хлопотно.
– Прощаюсь с вами до завтра, мастер, – сказал Севела…
* * *
Прошло три дня. Он опять сидел в половине шестого за столом в лаборатории. Новиков с Машкой ушли домой. В соседней комнате Великодворская замаливала грехи: постигала «экспрессию пектатлиазы в Е. coli», с каковой экспрессией она хорошо подзатянула, за что экселенц устроил ей грандиозную выволочку «при всех», и был при этом ужасен. Великодворская поехала в Пущино на три дня, а у экселенца не отпросилась. Отпросилась вроде бы у Кострова, но так невнятно, что он этого не помнил. Позавчера утром экселенц сказал ледяным голосом: «Мне все это надоело, Татьяна!».
И дальше Великодворская получила так, как давно не получала. Страх и ужас. Холодное перечисление всех предыдущих прегрешений и убийственные оргвыводы. Отчисление из аспирантуры и занесение во все черные списки, какие только есть на планете. Каленым железом. Огнем и мечом. Навсегда и в назидание остальным.
«Довольно уже с тобой нянькаться, голубушка, я написал докладную Дебабову. Таких аспиранток не бывает, быть не может, и быть не должно! Напиши-ка „по собственному желанию“, и закончим на этом!»
И Танька струсила. Занавесилась темной челкой, жалко заморгала оленьими глазами и села за работу. Третий день приходила в лабораторию в половине девятого и сидела до восьми.
А Дорохов теперь домой не спешил. Он восьмого января в половине третьего ночи дописал последний фрагмент – письмо Лонгина Бурру. Дело сделано, книга закончена. Что получилось – пока одному богу известно. Может быть, чушь. Но теперь уже нечего нервничать. Послушаем, что скажет Курганова.
Вечера у него освободились, непривычно было, что после работы не надо садиться за «Mersedes Prima», вставлять лист, отводить каретку – начнем, благословясь… Он один вечер провел перед телевизором, второй читал «Жука в муравейнике» и «Мартовские иды», спать ложился в половине двенадцатого. Машинка стояла на краю стола и, казалось, недоуменно поглядывала на него: «Эй, ты чего? Давай, заправляй бумагу, поехали».
Вчера приезжал Вова Гаривас, оставил на пару дней свежий номер «Израиля сегодня». Поговорили с ним о том о сем, о «Детях Арбата», о Галиче (в журнале «Искусство кино» опубликовали Галича – «Петербургский романс», «За чужую печаль и за чье-то незванное детство», «Кадиш»).
Дорохов рассказал Гаривасу, как сидел в кресле «Саши Гинзбурга».
– А по каким делам ты попал к этой Кургановой? – спросил Вова.
– Да так, – Дорохов замялся. – Сенька попросил заехать, книгу передать. Она с его покойной мамой дружила.
– Вообще-то, все это поэтизация, – сказал Гаривас. – «Мальчишки были безусы… Прапоры, корнеты…». А представь себе, что тот путч удался. И получилась бы нормальная хунта. Повесили пятерых, так? А если бы Трубецкой не обгадился, если бы вовремя врезали шрапнелью? А не ждали – пока по ним врежут… Они устроили бы такую кровавую кашу, что России и не снилась. Это только начинается все всегда очень романтически. А потом – Конвент, Комитет Общественного Спасения… Дантоны, мараты, фукье-тенвили…
Дорохов открыл «Арагви», выпили по рюмке.
Через полчаса Гаривас сказал:
– Я недавно читал стенограмму пленума, на котором топтали Бухарина. Чего там говорить – страшно. Все страшно. С октября семнадцатого и по сю пору – страшно. Но шевельнулась одна еретическая мыслишка. Вот смотри, – Гаривас закурил и нахмурился. – Сейчас много пишут про то, как он выкосил ленинскую гвардию. Знаешь, Миха, а мне насрать на эту гвардию. Одни убийцы перебили других убийц. А вот мой дед – он-то тут был при чем? Ему совершенно начхать было, кто там правый, кто левый. Кто троцкист, кто бухаринец. Пусть бы они друг друга резали, суки. Но они убили миллионы ни в чем не повинных людей. Мой дед был математик. Они его упекли на шесть лет на Кольский полуостров… А второй мой дед умер в тюрьме. Знаешь, Миха, мне чего-то не жалко эту ленинскую гвардию. Что посеяли, то пожали. Так вот, про стенограмму пленума. Фантасмагория. Шабаш. Бухарина мне не жалко. Интересно, а когда они попивали пивко в Лонжюмо и Цюрихе, они думали о том, что их диспуты закончатся в подвале? Нет, тогда они этого представить не могли. А ведь они были образованными людьми, знали историю…
Сегодня Дорохов остался в лаборатории. Он навел порядок на столе и приготовил на завтра буфер. Аминокислотный анализатор жрал фосфатный буфер, как тот кадавр – селедочные головы.
Великодворская тоже готовила буфер в соседней комнате. Она часто передерживала свой буфер, и в нем плодились микроводоросли.
Потом Дорохов заварил чай и полистал октябрьский номер «Nature» с работой Гидлунда и Орна. Потом вымыл чашку и сел дописывать статью со скучным названием «Хроматографическое поведение человеческого лейкоцитарного интерферона „А“ на сорбентах с сефарозными и силохромными матрицами».
Он выдвинул на середину стола «Ятрань» и вставил в розетку штекер. Машинка низко загудела. Дорохов прикрыл дверь, положил рядом с машинкой стопку исписанных листов, закурил первую папиросу и стал печатать. В комнате пахло пожарищем – Новиков утром пролил на пол хромпик.
Он печатал споро, перед ним лежала рукопись статьи, экселенц ее уже выверил и выправил. Левым полушарием Дорохов гнал текст, а правым переживал, что Курганова может разнести его сочинение по всем правилам редакторской порки. И вот тогда будет и скучно, и грустно, и некому руку подать. Он потратил на книгу год жизни – тут, впрочем, он себя одернул: «год жизни» это перебор. Книгой он занимался по вечерам, ночами и в выходные; и не всякий день он ею занимался – хватало времени и на «приключения тела», и на коньячок с Сеней, и на посиделки с мужиками. Он питал надежды, появились уже кое-какие честолюбивые мыслишки. А главное – он отчаянно хотел, чтобы книга получилась. Чтобы он стал господин писатель. Чтобы это произошло вдруг, без литинститута, без литобъединений, без долгого, кропотливого вхождения в словесную специальность. Вдруг – и все. И объявился, как чертик из табакерки, никому прежде не известный младший научный сотрудник с пухлой папкой под мышкой. А в папке той – потрясающая штука, издевательское переосмысление основ, скептическое напоминание о том, что история делалась живыми людьми, и все каноны, какие есть на свете, тоже писались живыми людьми. И половина той истории, и половина в тех канонах – вранье…
Ну да, как же. Курганова через неделю, или через две, или через три (когда она еще одолеет Дороховское графоманство, она такие книги читала в рукописях и таких людей поила чаем, что этот лепет, эти потуги на исторический анализ у нее зевоту, наверное, только и вызовут) вежливо скажет: «Вам, конечно, еще надо много работать над стилем и композицией, Михаил. Но вы пишите. В вашей… книге что-то есть. Да, определенно – в ней что-то есть. Удачные обороты, яркие образы. Вам надо учиться, Михаил… Разумеется, это вопрос не одного года. Кстати, вы знаете, – эта идея, которая в вашем тексте угадывается, – она уже была задействована у имярек… Но вы все равно пишите, Михаил».
И опять, получается, ты брезгливым щелчком отброшен на стартовую линию. И опять ты непонятно кто. И опять надо начинать с начала. Да и надо ли начинать? А может быть, пора, наконец, забыть обо всем, кроме докторской?
Он потушил в чашке Петри «казбечину» и напечатал: «…на иммобилизированных моноклональных антителах NK-2 из бактериального штамма-продуцента получен чистый человеческий лейкоцитарный интерферон „А“ („альфа-ИНФ-А“), гомогенный при электрофорезе в полиакриламидном геле в присутствии DS-Na и обращенно-фазовой…»
Ну а с другой стороны – а что Курганова? Что, это его последний шанс? Да он еще неделю назад о ней не знал и спал спокойно. А вот в том-то все и дело, что когда не знаешь, когда не поманили еще морковкой, пока не затеплилась надежда – так и не психуешь. А повеяло легким ветерком удачи – и начинаются нервические раздумья. Так, ладно, задвинем… В конце концов, никто не запрещает пуститься во все тяжкие, пойти обычным путем, последовательно – через тупых вахтеров («Вы к кому, молодой человек? Пропуск есть на вас?»), через таких занятых-презанятых дам в отделах рукописей («А вы, простите, откуда? У вас с кем договоренность? Что значит „сам по себе“? Есть определенный порядок, молодой человек, пришлите по почте, рукописи мы не возвращаем…»), через какие-то знакомства («Да, я просмотрел ваш текст… Ну, что вам сказать…»). Отксерокопирую свой опус, разнесу в десять мест и буду ждать. И все. И нечего психовать.
Он вытащил из пачки еще одну папиросу, обмял, постучал толстым табачным столбиком по столу, дунул в мундштук, прикурил.
Три дня тому назад говорили с Сенькой. Он спросил:
– Мишка, я не понял это место, про «мертвые письмена». Что ты имел в виду?
Дорохов ответил:
– Это из Гинзберга. «Комментарии к Талмуду». Саня Лифшиц мне давал в прошлом году «Комментарии к Талмуду». Тягомотина, конечно, неописуемая. Но одна фраза зацепила. Хорошо сказано. «Мертвые письмена следует оживлять интерпретацией».
«…силохром С-80, модифицированный иминодиуксусной кислотой, альфа-фенилэтиламином, бета-нафтиламином и голубым декстраном-2000 („Pharmacia“, Швеция), получали обработкой 5 г эпокси-активированного силохрома С-80 4-мя ммолями соответствующего реагента в растворе, содержащем 3,62 г К2СО3, 74 мл воды и 27 мл диоксана при 80 гр. Цельсия в течение 2,5 часов…»
Скрипнула дверная ручка, он раздраженно покосился.
– Дор, у тебя сигареты есть? – спросила Великодворская.
Она так несчастно выглядела, такая серенькая была, такая заморенная, что он все свое раздражение проглотил.
– Нет у меня сигарет, Танюха, – сказал он. – «Казбек» есть. Хочешь?
– Давай твой «Казбек».
– Не переживай, Танька, – сочувственно сказал Дорохов. – Не отчислит он тебя. Высечет и высушит, потом сам же тебе сопли подотрет. Что ты там делаешь?
– Да ничего уже не делаю, – устало сказала Великодворская. – Статью читаю. Ох, Миха, я такая тупая. Меня, наверное, утопить надо было, когда я маленькая была. Не соотносится у меня ничего с их результатами.
– Что за статья?
– Стоукс и Родес, сентябрь восемьдесят шестого. «Interferon-induced changes in the monocyte membrane: inhibition by retinol and retinoic acid». Отчего ж я дура-то такая, Миха?
– Чаю хочешь?
– Я умереть хочу. У меня еще так в личной жизни все запутанно…
– Так, дуй отсюда, – безжалостно сказал Дорохов. – Завтра Машке расскажешь про личную жизнь.
Он отпил из кружки остывший чай и опять стал печатать.
«Проведенные исследования позволяют выдвинуть несколько предположений об особенностях пространственной структуры интерферона. Результаты обращенно-фазовой хроматографии на использованных ранее и описанных сорбентах указывают…»
И потом – отчего ему показалось, что Курганова поможет напечататься?.. А ведь все уже себе представил! Как она звонит доброму знакомому, который ей (естественно!) многим обязан, кого в далеком прошлом пестовала. Звонит, значит, этому человеку и говорит, что объявилось этакое дарование, кандидат наук, неординарный и многообещающий, с квазиисторическим романом под мышкой. И Кургановой, разумеется, отвечают: одной вашей, Софья Георгиевна, рекомендации достаточно, сей же миг включаем в план издательства! вот молодых кандидатов наук нам и не хватало, завтра ждем… И через месяц-другой публикация, и непременно громкий успех… Да она сто тысяч лет назад вышла в тираж. Не осталось у нее ни связей, ни дружб. Во всяком случае, тех дружб, которые могут быть практически полезны. Это он все себе уже навыдумывал. Это же все литературщина: строгая седая дама, «эти сигареты любил Иосиф», «любимое кресло Саши Гинзбурга»… И с чего ему вообразилось, что она захочет помогать? На кой ей эта филантропия? Ну пришел друг сына старой приятельницы, ну притаранил детективную историю по мотивам новозаветных преданий. И что с того?.. Но ведь хочется, чтобы она помогла! А все потому, что он боится вставать в общую колею – пробиваться, получать отписки рецензентов… Да пока еще доберешься до рецензентов! Кто такой? Откуда? Кандидат наук? Иди, занимайся науками. Пиши заметки в многотиражку, раз зудит. И ведь все у него так, все! Не хочет докторскую выстрадать, большой зарплаты добиться, лабораторию получить, отдел получить, на «Жигули» накопить, на дачу, на кооперативную квартиру в Чертанове – рыжье с Димоном добывает. Хочет, чтобы сразу в дамки. Чтобы – раз и все…
«…это предположение недостаточно объясняет причины сравнительно слабого взаимодействия альфа-ИНФ-А с фенил-сефарозой. На степень связывания интерферона с лигандом большое влияние оказывает…»
Опять открылась дверь, вошла Великодворская.
– Миха, я, наверное, зря в аспирантуру пошла, – жалко сказала она. – Ты говорил – чай у тебя, да?
Дорохов достал из стола пачку.
– Заваривай, бездельница. Сахар в шкафу.
* * *
«Марк пишет Корнелию.
Имею честь передать Вашему Высокопревосходительству Корнелию стенограмму беседы майора Тума Нируца с капитаном Севелой Малуком.
Стенографирование проводилось скрыто.
Двадцать шестой день месяца гарпея, помещение резидентуры, что в башне Фасаила.
Нируц. Доволен моим поручением? Романцы называют такое «синекура». В присутствие являться не надо, на аресты ходить не надо, докладных писать не надо. Знай себе, беседуй с приятным человеком…
Малук. Ну, положим, два дня я провел в архиве, да еще неделю беседовал с этим приятным человеком в неприятном месте…
Н. Я незамедлительно приказал выпустить его из крепости. Как только ты попросил отпустить гончара, я пошел с этим к Светонию.
М. Благодарю тебя за то, что все было сделано без проволочек. Поверь, Пинхора незачем держать в крепости Антония.
Н. Что в архиве?
М. Записи о семье, а более ничего.
Н. Что ты теперь знаешь о Пинхоре? Что он за человек?
М. Он умный и совестливый человек.
Н. Что еще?
М. Он образован, как кохен первой череды. Он образован, как афинский ритор. Он блестяще знает историю. И в философии он сведущ.
Н. Что еще?
М. Он сносится с галилеянами.
Н. А тех, кто поддерживает галилеян деньгами, он знает?
М. Иных знает.
Н. Имена он тебе называл?
М. Он же говорил о добрых знакомых. Конечно, он называл имена. Я написал отчет.
Н. Я еще не читал твоего отчета.
М. Йонатан Шуви, держатель ссудной конторы «Опалим» в Тире. Вениамин бен Дан Хацор, главный механик на верфи в Доре. Гезер бен Асаф Геман, владелец тридцати меняльных лавок на побережье. Бенгадад бен Иегу Кушит, основатель оловянных копей вблизи Иезера. И еще некий Никанор из Сиракуз, собиратель древностей. Этот Никанор пятый год живет в Тире, скупает статуэтки и утварь, перепродает в метрополию.
Н. Ты справлялся о них в синедриональной канцелярии?
М. Я позавчера оставил в канцелярии запрос на этих пятерых. Признаюсь, поражен – какая огромная картотека у синедриональных. Все западное крыло Храма занимает картотека. Сотни тысяч папок, порядок абсолютный!
Н. Да, у них богатый архив.
М. А я ведь перед тем был в городском архиве. Там совершеннейшая путаница, сведений мало, романцы архив разорили.
Н. Что ответили из Синедриона?
М. О Никаноре из Сиракуз у них записей нет. А что до остальных, то это необычные люди! Я запросил о них несколько городских архивов.
Н. То-то я смотрю, ты стал списываться с архивами…
М. В городских архивах есть многое. Надо только искать в цеховых реестрах, а не в квартальных.
Н. Ты сказал, что это необычные люди.
М. Богаты, но состояния сделали сами. Ни один из них гроша не унаследовал. Незаурядные люди, талантливые. Вениамин Хацор, к примеру, изобрел невиданный способ ремонта судов. Корабль помещют в искусственный водоем, после чего спускают воду. Йонатан Шуви уже шестой год практикует в своей ссудной конторе перепродажу долговых записей. В его руках они становятся таким же средством расчетов, что и деньги. Кушит нанимает молодых дипломантов Schola в Яффе. Я помню ту Schola, я сам учился неподалеку. Там крепко поставлено обучение рудоплавильному делу, студиозусов обучают мастера из Иберии. Так вот, этот Кушит присматривает себе работников еще на втором году учения, а самым усердным из них помогает деньгами. Ты можешь себе представить такое? Это ведь кредит! Он оплачивает их обучение, а потом они рассчитываются с ним из своего жалования!
Н. Гончар говорил, что галилеяне получают деньги от этих людей?
М. Обмолвился несколько раз. Он совсем не умеет лгать. И скрывать ничего не умеет. Он очень беспокоится за Амуни. Что с Амуни?
Н. Выпущу завтра же! Я выпущу Амуни, выпущу Рома и Арафа, пусть проваливают или остаются в Ерошолойме, больше их пальцем не тронут.
М. Я понравился гончару. И он мне понравился. Достойный человек. Но беззащитный.
Н. Как?
М. Он умен, но доверчив.
Н. Ну, так ему недолго придется жить, коли он так доверчив.
М. Славный человек.
Н. Ты, я вижу, сдружился с ним.
М. И ты бы с ним сдружился.
Н. Не вздумай только оберегать его.
М. Он одинок.
Н. Все одиноки…»
…все закончится, – сказал Нируц. – Все закончится для нас – и споры, и погони, и страсть…
Он поднял к глазам стеклянный стакан, чуть качнул и закрутил темно-красную жидкость воронкой.
Севела протянул руку и взял со стола плошку с водой. В комнате было прохладно, но у него горело лицо. Он откинулся в кресле и полил на лоб. Холодные струйки, щекоча, сбежали по шее к плечам, на грудь.
– Мы будем тосковать об этом времени, – сказал Нируц. – У нас будут болеть колени и трястись руки. Мы будем мочиться по каплям, мы будем слезливы и болтливы… Мы будем переминать голыми деснами жидкую кашку. И нам тогда будет безразлично – с кем мы когда-то воевали, почему воевали… Чье учение было верным и нужным людям, кого приходилось убивать, а кого защищать. Не по тому мы будем тосковать, переминая кашку. Будем с неутолимой горечью вспоминать то время, когда мы могли прыгнуть в седло и проскакать тридцать миль… Куда проскакать, зачем – безразлично. Ты станешь вспоминать, как вы с Никодимом рубились с зелотами. Что это были за люди? Чего хотели? За что сражались?.. Наплевать тебе будет на то. Будешь думать лишь о том, что мог свалить крепкого бойца. Ты был быстрым и сильным, и шестопер в твоих молодых руках крутился, как легкая веточка… Будешь вспоминать, как мог прохлопотать на своей Иде до самого рассвета… А уж кто в то время заседал в Синедрионе, кто был наместником, почему Служба сбивалась с ног – это тебе будет казаться совершенной безделицей…
Нируц был пьян, они выпили три баклаги. Севела все ждал, что Нируц неловко поднимется из кресла и, спотыкаясь, отправится спать. Или он выпьет последний стакан и вопросительно посмотрит. Севела крикнет Иду, покажет ей глазами на Нируца и повелительно махнет рукой. Бесовка недовольно подожмет губы, но спорить не осмелится, уведет Нируца в спальню, отдастся ему, а потом, ополоснувшись из кувшина, придет и к Севеле.
Но сегодня Нируц пил, как солдат, а спать не хотел. На Иду он не взглянул. Его лицо расплылось и побагровело. Нируц измазал пальцы в соусе и неряшливо вытирал руки о тунику.
Всю неделю Нируц безотлучно провел в резидентуре, там и ночевал, там и ел. Сегодня он пришел в дом Севелы поздним вечером, отказался от бани, жадно поел и стал пить стакан за стаканом. Большую миску с тушеной курятиной он поставил прямо на колени.
– Ляжешь спать?
– Ты хочешь спать? – Нируц поднял глаза.
– Долгий день был сегодня. Я опять читал твои списки. Потом был у Пинхора, провел там два часа. Потом опять читал.
Нируц что-то невнятно пробормотал.
– Что ты сказал?
– Ты двадцать семь списков прочел за две недели, – глухо сказал Нируц.
– Да. Двадцать семь списков.
– Так давай подытожим. События последних недель, Малук. Арест галилеян. Твои разговоры с образованным гончаром.
– Ничего мы сейчас не подытожим, – нелюбезно сказал Севела. – Ты пьян.
– Нет, не пьян.
– Хорошо, – сказал Севела. – Давай подытожим.
– Начинай, – велел Нируц.
Он поставил стакан на стол и прикрыл глаза.
– Четыре года тому назад в Провинции возникло новое учение, сходное с учением братьев-эссеев…
– Семь, – поправил Нируц, не открывая глаз.
– Что?
– Семь лет тому назад это началось.
– Семь лет тому, как в Провинции явилось новое учение. Это учение неконфликтное…
– Не так! – недовольно сказал Нируц.
Он открыл глаза и заворочался в кресле.
– Тогда говори ты, – озлился Севела. – Я еще рта открыть не успел, как ты стал поправлять!
– Ну и кто из нас пьян? – насмешливо спросил Нируц.
Севела потер лицо ладонями и почувствовал, как колется щетина. Уже два дня Ида не брила его, он возвращался в дом заполночь.
– Прости, – сказал он. – Я тоже устал.
– Продолжим, – примирительно сказал Нируц. – Они, между прочим, твердо подчеркивают свою несхожесть с периша. А в Синедрионе-то – одни периша! Восьмая проповедь, самый ветхий лист. Она датирована, и место написания указано. Написано в общине близ Кумрана. Те общинники называют себя Новым Союзом. Еще они называют себя «эвийоним». Еще они называют себя «немудреными» – в противопоставление «книжникам». А «книжники» – это и есть периша.
– В чем же несхожесть?
– Галилеяне решительно заявляют, что Храм давно осквернен. Галилеяне жертвоприношений не приемлют. Они с негодованием говорят о жертвоприношениях.
– Итак, семь лет тому назад возникла и преумножилась секта, чуждая периша и саддукеям, – подхватил Севела. – Прирастает секта выходцами из общин братьев-эссеев. Далее…
– Кого привлекли галилеяне? – вполголоса спросил Нируц, как спрашивают учителя в иешивах, когда хотят подсказать ответ.
– Разных людей привлекли они. Богатых людей тоже привлекли.
– Не только лишь богатых – очень деятельных, заметь! – сказал Нируц. – О сути учения что знаешь?
– Лаконичное учение, – сказал Севела, он тщательно подбирал слова.
– Ну же! Это лаконичное учение, так. Что еще?!
– Ритуалов в нем немного.
– Именно! – сказал Нируц. – А кто поддерживает деньгами эту секту?
– Так я передал тебе список, – растерянно сказал Севела. – Там имена…
– Забудь про имена. Кто эти люди?
– Рудознатцы. Механики, ростовщики. Есть два врача, содержат госпиталь в Аскалоне.
– Плевать, где там они что содержат! Продолжай!
– Менялы. Торговцы. Ученые – химики и анатомы. Виноделы. У Абрахама из Завулона четыре виноградника, продает вино и романцам, и иеваним, дела идут превосходно. Кто еще? Ну да, Хацор. Судостроители.
– Достаточно! – весело сказал Нируц. – Так откуда взялись братья-галилеяне?
– А! – Севела хлопнул себя ладонью по лбу. – А!
Трезвый Нируц с доброй усмешкой глядел на Севелу.
– Мне и в голову не приходило, дураку этакому!
– Механики! Рудознатцы! Химики! Врачи! – отчеканил Нируц и щелкнул пальцами. – Держатели ссудных контор! А еще арендаторы!
– Мебельщики, мануфактурщики… У Симона бен Самуила из Антипатриды полотняная фабрика, шесть тысяч локтей полона продает ежегодно. Я глупец!
– Судовладельцы, – улыбаясь, сказал Нируц. – У Хаима бен Зофа в Апполонии рыбацкая флотилия. Нанимает рыбаков сотнями.
– Это что же… Это ведь… новые люди. А, Тум?
– То самое слово – новые люди! Не было бы Абрахама из Завулона, Хацора из Галилеи, Йонатана из Тира – и галилеян бы не было. Мир меняется, мой капитан – потому-то и родилось в Провинции галилеянское учение.
– Но почему ты думаешь, что они опасны?
– Они не опасны, – спокойно сказал Нируц. – Чего им быть опасными? Торговцы, ученые. Ростовщики. Почтенные люди, деятельные люди.
– Что же тогда тебя тревожит?
– Опасным может стать некое положение вещей. Ты перечислил в докладной нескольких людей, явно сочувствующих галилеянам. А скольких ты не перечислил? А о скольких Служба еще не знает? Но одно несомненно: людей, что поддерживают галилеян деньгами, очень много. И люди эти могущественны. Умны, деятельны и богаты. Ростовщики и торговцы, судостроители и механики. Они выбрали такой канон, который не тянет людей в древность. Они выбрали канон простой и добрый.
Севела глядел на Нируца во все глаза.
– Сотни, а может и тысячи богатых, разумных, деятельных джбрим с единодушием поддержали малочисленную секту! Отчего? Да оттого, что учение братьев-галилеян дважды им подходит! – Нируц хлопнул ладонью по бедру. – Во-первых, это учение внятно. А во-вторых, оно космополитично.
– А это что значит?
– Это значит, что их учение обращено к любому живущему под небом, а не к одним лишь джбрим. И вот еще что – странствующие рабби не стеснены в средствах! Зоц два месяца тому отыскал Schola, где учат риторы-галилеяне. Одна Schola в Иерихоне, одна в Хевроне и одна в Иотапате. Ох и наездился же по Провинции бедняга Зоц! Что там твоя Лидда. Эти Schola процветают, выпускают проповедников и десятками – слышишь? десятками! – рассылают их по Провинции. Как так получилось, что маленькая секта за считанные годы разрослась, как на дрожжах?
– Деньги, – утвердительно сказал Севела.
– Верно! Прагматичным людям понадобилось, чтобы именно эта секта укрепилась, а не другие.
– Один лишь примитивный расчет в твоих словах, – возразил Севела. – Это красивое учение.
– Разве я с этим спорю? – Нируц поднял брови. – Я же сказал тебе: определенное положение вещей. Благое сопоставление обстоятельств. Лаконичное, светлое, красивое учение. Множество богатых, образованных и деятельных людей, что приняли это учение.
– Ты сказал, что опасным может стать положение вещей.
Нируц прищурился.
– А вообрази-ка вот что. Вообрази, что элита Провинции… Не бездельные землевладельцы, не отродье Маккавеев, не синедриональные – но подлинная элита… Финансисты, торговцы, механики и рудознатцы. Представь на миг, что элита эта единодушна с главенствующим каноном. Но не с нынешним, а с тем, что той элитой создан. Сей канон рационален и милосерден. Он не требует от человека скрупулезного соблюдения сотен малообъяснимых запретов и повелений. Представь себе такое.
– Не могу.
– Вообрази замечательное сочетание, – настойчиво сказал Нируц. – Интеллектуалы, финансисты, промышленники – и рациональный, милосердный, лаконичный канон… Что из того станется через десяток лет?!
«Ну а что же еще может статься из такого благого сочетания? – подумал Севела. – Да коли добавить к нему десяток мирных лет. Такое по разуму любому дуралею, для такого не надобно учиться в Яффе коммерции».
– Процветание, – робко сказал он. – Из такого сочетания одно только процветание и может получиться.
– Провинция без запрета на науки! Провинция без запрета на искусства! – повысил голос Нируц. – Провинция без ненависти к чужеродцам!
– Мне это нравится!
– Это понравится не одному тебе. Итак, в одной из романских автономий достигнуто волшебное единодушие между администрацией, элитой, вероучителями и населением. Промышленников и торговцев не вяжут больше по рукам и ногам запреты Книги. Провинция помалу расцветает. Это ведь дело нескольких лет? Два-три хороших урожая, расширение ирригационной сети. Новые верфи и мастерские. Shola, ссудные конторы. Ты это знаешь, ты этому обучался. Ежели горожане и селяне примут учение братьев-галилеян, то зелотам сочувствия не будет – в мире галилеян нет места убийцам. А армейские? Военных из уроженцев сейчас в Провинции уже многие тысячи. Коли их обуть, одеть и экипировать, как должно? Если часть доходов автономии пойдет на обучение и оснащение полков из уроженцев?
– Прекрасно! Не этого ли мы с тобой желаем Провинции?
– Гармония! – выкрикнул Нируц и зло рассмеялся. – Обогащение и покой! Расцвет ремесел и искусств! Главенство прагматиков!.. Как бы не так!
Севела вздрогнул.
– Романцы? Их ты боишься?
– Ну конечно же, романцы! Не допустят они всего этого, не допустят ни за что! – горько сказал Нируц и в три жадных глотка осушил стакан.
– Что они сделают?
– А ты не знаешь, что такое романцы? – оскалясь, отозвался Нируц и с громким стуком поставил стакан на стол. – Ежели они распознают в галилеянах угрозу – тогда кровь! Тогда со всеми механиками да антикварами обойдутся так, что Никодим покажется мамкой-кормилицей. Нужна романцам сильная Провинция? Нужны им наши верфи, ссудные конторы, университеты и оружейное дело? Нужны им, наконец, умелые офицеры и рекруты из уроженцев? Нужно им согласие между вероучителями, интеллектуалами, коммерциантами и фабрикантами? Нет, конечно же, они не прочь пограбить разбогатевшую Провинцию. Но вот какое дело, Малук, – сильная Провинция не позволит себя грабить! И на Палатине такое понимают. Бедная автономия для них предпочтительнее богатой. Как романцы видят богатую провинцию? Налоги. Наделы для ветеранов. Рабы, ливанский кедр, оливы. Зерно из Галилеи, золото из Десятиградия, олово из Самарии. Но вдруг богатой автономии вздумается изменить свой статут? Вдруг ей больше не пожелается оставаться романской автономией?
Севела облизнул губы и заморгал.
– Вот что меня напугало! – сказал Нируц. – Вот что меня напугало, когда я впервые сложил все воедино. А когда я стал получать подтверждения худшим догадкам, когда узнал, что галилеяне строят не только философию, но и юстицию – вот тут испугался всерьез!
– Так ты, стало быть, намерен остановить галилеян?
– Я, знаешь ли, тоже изучал историю и экономику… И усвоил, что скорые перемены – это большая кровь. На этой земле кровь во все времена лилась рекой. Довольно этого. Я не хочу крови джбрим.
– О чем ты?
– Я говорю тебе о крови джбрим. Я говорю о крови неуемных, яростных, безмозглых джбрим! Хочу, чтобы мой народец жил!.. – Нируц схватился за голову и застонал. Он прокричал: – И они, чего доброго, добьются своего, эти теософы и судостроители! Да я уже вижу обращенную Идумею! Обращенную Самарию и Башан. Вижу первосвященника из галилеян на месте Каиаху. Вижу расцветшую Провинцию. Великолепно! Чего еще желать родине?
Он качнулся к столу и, расплескав, налил в плошку кносского. Выпил, облив подбородок, поперхнулся и закашлялся.
– Но я, к глубочайшему моему сожалению, вижу еще кое-что… Немедленную интервенцию романцев вижу. Четвертый легион. Вижу распятых галилеян, и распятых химиков, и рудознатцев. Разрушенные Schola и сожженные города. Известно, как романцы отвечают на усиление автономий. Они выжгут Провинцию, превратят ее в овечью пустошь!
Никогда прежде Севела не видел майора в такой горести и таком отчаянии.
– Да это же страшный мир, мальчик! – безнадежно сказал Нируц. – Мерзкий, безжалостный мир. Надо убивать, чтобы не допустить убийств. А всю мерзость мира понимают лишь те, кто когда-то убежал от заурядности. Ты помнишь наши разговоры в Эфраиме? Ты сказал мне, что хочешь стать знающим и свободным. Прими же знание и свободу, мальчик!.. Я остановлю галилеян во что бы то ни стало. Надо будет их убивать – буду убивать. И ты будешь убивать. Иначе убивать начнут романцы. Вот теперь я и вправду пьян…
…день с раннего утра дул горячий ветер. В такие дни Севела просыпался с тяжелой головой, маялся изжогой и грубил Иде.
Служебное помещение он в тот день делил с одним Гиршем. Никодим накануне убыл в Вифанию. Он пробыл долгое время в кабинете Нируца, потом они вышли вдвоем, спустились на первый этаж. Нируц что-то неслышно сказал. Никодим угрюмо ответил: «Будь спокоен, мой майор. Пусть только две декурии дадут».
Нируц положил руку на плечо Никодима и опять что-то сказал.
Никодим обвесился своими знаменитыми ножами, рявкнул на дежурного и потребовал каурую кобылу. Вышел из присутствия, сплюнул, приторочил торбу и был таков.
У Севелы болела голова, и особенно противен был ему сегодня спертый воздух помещения. А Гирш как обычно мычал, переписывая, и это тоже было неприятнее, чем в другие дни. Когда жара на улице дошла до возможного предела, а Севела выпил второй жбан из погребца, в помещение зашел Нируц.
– Мир вам, сотрудники, – бодро сказал он. – Грустно тут у вас. Эй, Гирш! Сгреби-ка мусор со стола!
– То не мусор, адон майор, – отозвался Гирш, хихикнув. – То обстановка в трудах.
– Малук! – позвал Нируц.
– Здесь капитан Малук, – измученно выговорил Севела. – Капитан Малук в своих должностных обязанностях присутствует, мой майор.
– Помнишь, что за день сегодня?
– День обычный. Отправляем службу. Ветер… Голова звенит, как бубен…
И он опять потер виски.
– Ты не болен ли? – участливо спросил Нируц. – Бессонница?
– Ветер… – повторил Севела и тихо застонал. – Невыносимо… Болит голова, все тело болит…
– Хочешь врача?
– Я знаю этого врача, – неприязненно сказал Севела. – Не надо мне его. Он прохиндей, а не врач.
Офицеров резидентуры пользовал врач из квартала Мар, Луша бен Рафаил. Он бойко сыпал медицинскими терминами, но проку от него было немного.
– Да я и не болен, – сказал Севела. – Просто у меня всегда ноет голова в эту погоду. Никодим вчера уехал. Один уехал.
– Он поехал в Вифанию.
– Почему один?
– Он не будет там один, не беспокойся за него. Его ждет тамошний инспектор, и еще люди. Он поехал с листом следования от Светония. А в Вифании Никодиму дадут в усиление опытных легионариев.
– Легионариев передадут в подчинение уроженцу? – с сомнением спросил Севела.
– Распоряжение Светония. Не волнуйся за Никодима. Ему дадут в подчинение две декурии.
– На какое дело он поехал?
– В Вифанию вошел Шомон с тридцатью людьми. Помнишь Шомона? Вы старые знакомцы. Ты тогда, в Самарии, еле ноги унес от Шомона.
– Никодим меня вывез, – сказал Севела. – Спас меня тогда. Я Никодиму жизнью обязан. Что же ты его без меня послал в Вифанию?
– Никодим нынче нужен в Вифании. А ты нужен в Ерошолойме. Говори с гончаром, узнавай о галилеянах.
– Шомон человек страшный. Опаснее его нет никого в Самарии, мой майор, – хмуро сказал Севела. – И отряд у него – один к одному. Выученные, битые. Тебе, верно, донесли о Шомоне?
– Донесли подробно, – Нируц опустил веки. – Они поселятся в трех домах, намереваются прожить в Вифании неделю.
Шомон Брак был правой рукой неуловимого Элеазара Бар-Галеви. Элеазар поручал Шомону самые опасные дела. Севела хорошо помнил Шомона, много дней прожил рядом с ним в лагере Элеазара. Коротконогий, кривошеий весельчак. Опасный как змея, храбрый и сметливый. Самые скорые и удачные нападения на посты романцев возглавлял Шомон Брак. За его голову была назначена такая же награда, как и за голову Элеазара: двести мер хлеба, двадцать тысяч сестерциев и пожизненное освобождение от романского налога. Только ни один джбрим не осмелился бы донести на Шомона Брака.
– Никодим будет арестовывать людей Шомона? – спросил Севела. – Но на такое не хватит и когорты! Придется оцепить несколько кварталов, оцепить не на один день…
– Не будет он их арестовывать, – Нируц сел на стул. – Гирш, а пойди-ка в канцелярию. Найди запись о Стефане бен Самуиле из Нацерета. Проповедник Стефан бен Самуил, что дискутировал с либертинцами и киренцами. Стражники повязали его, он сегодня предстанет перед синедриональной комиссией.
Гирш вышел.
– Не хочешь говорить при Гирше? – спросил Севела.
– Он доносит обо мне Светонию. Но думается мне, что наш виртуозный писарь доносит обо мне и Бурру.
– Никодим уехал злой как пес. Собрал ножи, секиру взял.
– Молюсь, чтоб уцелел Никодим.
– Не арест? – тихо спросил Севела. – Вспашка, да?
– Арест… – невесело усмехнулся Нируц. – У Шомона тридцать человек, их не повязать. Будут биться, уйдут кварталами. А оцепить невозможно. Какое там может быть оцепление, в Вифании? Я там бывал. Муравейник, а не город, из всякого квартала есть десяток проходов.
– Дома, где они остановились, известны?
– Да. Это известно. За это хорошо заплачено. Они в трех домах. Их вырежут на рассвете.
«Вспашка, – подумал Севела. – А меня рядом не будет. Нируц поручил Никодиму вспашку, а Никодим даже не простился со мной… Удачи тебе, Никодим, друг мой надежный».
То, что в Ерошолоймской резидентуре звалось «вспашкой», было мерой самой решительной. Вспашка делалась, когда зелоты, зашедши в город, поселялись в таких кварталах, которые трудно окружить и отделить мирного джбрим от зелота. На рассвете отряд Службы врывался в квартал и резал всех подряд. Убивали всех, кто жил в указанных домах, – страшное, безжалостное дело… Рубили, прикалывали всех, кто дышит, шевелится, кто вскинулся спросонья, забормотал, протянул руку. Без пощады, без сомнения. Севеле довелось видеть только одно такое дело, и то издали – он командовал оцеплением.
– Тум! – встревоженно сказал Севела. – Послушай, Тум! Полгода не делалось вспашек. Я бывал в Вифании. Там дома стоят густо. Много людей погибнет. А есть ли нужда в этой вспашке?
– Есть, – ответил майор.
– Люди Элеазара и прежде заходили в Вифанию, и в Вифлеем, и в Иродион заходили. И более многочисленными отрядами они заходили туда. Почему ты именно теперь отправил Никодима на вспашку?
– Говорю тебе – есть причина. Я хочу, чтобы в ближайшие месяцы Секст Бурр не писал своему патрону Лонгину тревожных писем. Я хочу, чтобы Лонгин знал, что в Провинции все идет, как шло. Чтобы ни одна малость не привлекла внимания Кассия Лонгина.
– Двадцать человек под началом Шомона… Тяжело будет Никодиму.
– И я думаю о том же, – мрачно сказал Нируц. – Но раз уж они туда забрели, то пусть получат полной мерой. Шомону давно пора выпустить требуху.
– Думаешь, одолеет их Никодим?
– Или одолеет, или сам там ляжет, – без сомнения ответил Нируц. И добавил злорадно: – Ох, как он будет их кромсать!
Когда в родном городе Никодима стало известно, что он поступил в Службу, зелоты убили старшего брата Никодима. Забили во дворе его дома, на глазах у жены и троих детей, шестоперами и дубинками. Перебили ноги и руки, размозжили лицо, искрошили зубы. Добили ударом ножа в горло, выкололи глаза, вспороли живот и натолкали туда навоза.
Севела облизнул губы и представил, как Никодим, получив от Нируца страстно желаемый приказ на вспашку, ведет по улочкам Вифании отряд легионариев. Как он, яростно ощерясь, оборачивается на неловкое бряканье ножен о набедренник, на любой неосторожный звук в сонной тишине улочки. Севела представил, как отряд Никодима быстро крадется по Вифании, как легионарии обнажают мечи и неслышно подходят к воротам и калиткам. Прохладное утро, окраинная улочка, сонное квохтание в курятниках… Осторожные шаги с пятки на носок, побелевшие костяшки кулаков на рукоятях мечей. Прищуренные глаза легионариев, бисеринки пота на висках. Севела представил сморенных к рассвету постовых за глинобитными стенами, раскатисто храпящих молодцов в душных, тесных домишках.
«Он или переубивает всех молодцов Шомона, или сам ляжет. Но он не ляжет там, мой надежный друг Никодим. Он своего дождался. Тум дал ему приказ на вспашку. Кровавое дело совершится нынче в Вифании…»
– Что за Стефан из Нацерета? Ты послал Гирша за сводкой, где указан Стефан из Нацерета.
– Мы с тобой сейчас отправимся в синедриональную комисию, – сказал Нируц. – Каиаху будет недоволен, если я не явлюсь. А ты иди со мной.
– Зачем мне туда?
– Хочу, чтобы ты послушал синедриональных кохенов. Ты ведь думаешь, что твой майор жесток? Ведь так?
Севела пожал плечами.
– Сегодня в Синедрионе будут судить проповедника из Нацерета, – сказал Нируц. – Полюбуйся на синедриональных.
Вернулся Гирш, протянул Нируцу два листа.
– Вот, майор, – сказал Гирш. – Тут об этом Стефане.
– Хорошо… Благодарю, Гирш. Займись своей работой.
Гирш встал к конторке у окна.
– Так что же? – сказал Нируц, разглядывая первый лист. – Стефан бен Самуил Ицхор. Двадцать шесть лет ему. Сирота, восемь лет жил в поселении эссеев. Год назад вызвался на вероучительство, с той поры странствует.
– Странствует? – Севела поднял глаза. – Он не из галилеян ли?
– Нет, он кумранит. В прошлом месяце этот Стефан пришел в Ерошолойм и говорил проповеди в Нижнем городе. Вчера его арестовали по доносу братьев-либертинцев: Стефан-де говорил хулу против Моше и Предвечного… – Нируц встал. – Ну пойдем. Послушаешь синедриональных.
Они шли вдоль Первой Стены. Здесь лежала широкая полоса тени, у подножья густо разросся плющ. Под подошвами скрипели песчинки.
– Этот молодой человек ищет беды, – сказал Нируц. – Он неуравновешен и вспыльчив.
Пригнувшись, они прошли через низкую калитку в стене и оказались на площади Храма.
По краям площади тянулся редкий строй легионариев. В дальнем углу прохаживался тучный краснолицый офицер с соломенной бородкой. Севела прищурился, узнал Сервилия Тулла, центуриона.
– Здесь Тулл…
– Каиаху настоял, чтобы Тулл привел центурию на площадь, – сказал Нируц сквозь зубы.
Они пошли к порталу.
– Адон Нируц! Адон майор Нируц!
Из-за солдатских спин выскользнул кохен.
– Мир вам, рабби Кифар, – Нируц поклонился. – Мы запоздали, прошу извинить.
– Мир вам, адон, – ответил кохен и пристроился рядом с Нируцем. – А я вас жду, его преосвященство уже справлялся… Кто этот офицер?
– Это капитан Малук, старший инспектор резидентуры, – представил Севелу Нируц. – Малук, это рав Кифар, секретарь его преосвященства.
У Кифара были бесцветные бегающие глаза. В углах рта собралась серая слюна. Кохен часто смаргивал, на левой щеке у него рдел созревший прыщ.
Севела поклонился и потянулся за жетоном, но кохен сделал быстрое движение головой, и пятеро легионариев, что стояли у входа, разомкнулись, пропуская. Севела, Нируц и рабби вошли в преддверие.
И там тоже стояли романцы. В мраморном преддверии всякий звук многократно усиливался. Звяканье амуниции, стук древка о каменный пол, лязг налокотника о панцырь – все звучало раскатисто и резко. Легионарии переговаривались, и под высоким сводом их голоса превращались в рокочущий гул. Романцы стояли вдоль стен и оглядывали строгое убранство преддверия. Им, верно, удивительно было видеть храм, в котором нет ни одной статуи.
«Каиаху допустил, чтобы романцы вошли в Храм! – подумал Севела. – Небывалое дело!»
– Как он держится? – спросил Нируц кохена.
– Налево… Нет, нет – сюда… Он ведет себя глупо.
– Дерзит?
Они миновали узкий проход и пошли по галерее. Севела поспешал за кохеном.
– Этот иеваним с первых минут настроил против себя половину комиссии, – неприязненно сказал кохен. – Огрызается и грубит. Заявил рав Иакову, что тот, видите ли, слаб в Декалоге…
– Вполне может быть, что так оно и есть, – сказал Нируц. – Насколько я помню почтенного рав Иакова, его достоинство не в глубоком знании Книги, но в абсолютной преданности его преосвященству.
– Возможно, – осторожно согласился рав Кифар. – Однако дерзить рав Иакову глупо.
– Почему вы говорите, что этот человек – иеваним? – спросил Севела.
– Его зовут Стефаном. Кто же он, если не иеваним? – Кифар покосился на Севелу. – Хотя говорят, что он родом из Нацерета. Странное имя для человека из Нацерета – Стефан. Направо. Сюда. Сиденья для вас во втором ряду.
Кохен с усилием отворил массивную одностворчатую дверь. И тотчас же в уши Севелы ударил гневный крик.
– А так скажи же тогда, богодерзкий Стефан – отчего ты утвержал, что тот кудесник разрушит Ерошолойм и отменит Закон Моше?!
– Не перевирай мою проповедь! – ответил другой голос. – И богодерзким не называй! Я покуда еще не слышал доказательств моей богодерзкости!
Севела ступил в квадратный зал, где посреди в деревянных креслах сидели шестеро кохенов первой череды. Перед ними стоял невысокий человек в холстяной лацерне. За спиной у стоявшего расселись прочие синедриональные, всего здесь было до полусотни кохенов и служек. Два стенографа, склонясь, водили стилосами по таблицам. Нируц взял Севелу за локоть и провел к двум пустым сиденьям. Рабби Кифар мгновенно исчез за рядами. Севела опустился на сиденье, Нируц сел справа.
– Каиаху здесь нет, – шепнул Севела на ухо Нируцу.
Нируц сжал его руку и приложил палец к губам. Потом он кивнул в сторону. Справа, из задрапированной ниши, выглядывало колено под клетчатой полой. Севела подался вперед и увидел человека в кресле. Он увидел хошен с квадратными камнями, цветастые лямки эйфода и венец на шнурах, поверх тюрбана. Обрюзгшее лицо, большой властный рот, мясистый нос и сросшиеся брови – это был первосвященник Каиаху. Уроженец Газы, сын ткача, кохен в Аполлонии и любимец двух наместников, Каиаху бен Эфор.
– Ты говорил слова против святого места и закона Моше! – прокричал престарелый кохен с близко посаженными черными глазами. Старец шагнул к обвиняемому, так, что отлетела пола хитона и мелькнула белая ткань льняных штанов.
– Чушь! – отрезал стоявший и смело посмотрел в лицо кохену, встречая напор. – Трижды чушь! Все, что тебе неугодно, ты объявляешь богодерзким!
– Кто его обвиняет? – тихо спросил Севела.
– Иаков бен Иорам, – шепнул в ответ Нируц. – Того и гляди забьется в падучей. Это излюбленный прием Каиаху. Он выставляет на комиссиях бешеного Иакова. Тот непрерывно кричит на обвиняемых, и люди теряются. Но этот-то парень не из робких.
– Ты все кричишь, рав Иаков, все вопиешь, – свободно сказал Стефан. – Верно, надеешься, что я оглохну. Мне есть что ответить высокой комисии. Только, боюсь, меня тут слушать не захотят.
Колено за драпировкой шевельнулось. И сразу вступил другой кохен.
– Ты вольно проповедовал, Стефан! Ты говорил, что Предвечного нет в Ерошолоймском Храме! – сказал толстый старик со скошеным плечом.
– Не так я говорил! – твердо ответил Стефан. – Вам неверно донесли, почтенные старцы. А может быть, донесли дословно, но вы сами теперь так хотите все представить, будто я оскорбил Храм. А слова мои были такие: Предвечный везде. И в Храме он, и в каждом доме, и над каждой дорогой, и над всеми полями и виноградниками! Я одно говорил и говорю – Храм не есть дом Предвечного! Все мирозданье Ему дом!
Человек повернул голову, и Севела увидел бледное лицо, острый нос и бесцветные губы. На шишковатой голове торчали клочья рыжих волос. Стефан дергал тонкой шеей, и правая щека у него тоже часто дергалась. Маленькие кисти рук и тонкие грязные пальцы с каймой под ногтями тоже не знали покоя. Человек то и дело заводил руки за спину и стискивал кисти. А потом он хватался за пояс, а после начинал теребить полу лацерны.
– Ты пересказывал Книгу, как пересказывают простое письмо, есть о том свидетельства, – сказал второй из комиссии, осанистый, с бородавкой на подбородке. – Ты говорил, что Шломо построил дом для Предвечного, а Предвечный в том доме не поселился. Твои слова?
– Верно! Вот это верно! – храбро сказал рыжий. – Вот тут ваши доносчики не наврали, записали правильно. Не живет в том доме Предвечный! И это не я выдумал, это Искупивший произнес!
– Опять ты бормочешь об искупившем! Третий час уже слушаем эту ересь! – взвился Иаков. – Это твоя богодерзкость, и не вали на своего, как там бишь его, искупившего! Да и не было никакого искупившего! Пятьдесят второй год живу в Ерошолойме, а никакого искупившего здесь не видел!
– Ну, а ты, коли не захочешь, так и Гиппиковой башни не увидишь, Иаков! – Стефан хихикнул. – Ты и заката не увидишь, и восхода, и рынка, что в Нижнем городе, за акведуком. Глаза закроешь и скажешь: а вот не вижу я заката, восхода и рынка! Не хочу их видеть, и не вижу. А коли не вижу – так и нет их!
За спиной у Севелы приглушенно рассмеялись.
Стефан отставил ногу, заложил большие пальцы рук за веревочный пояс и громко сказал:
– Не приписывайте мне лишнего, высокая комиссия! Чту Предвечного не менее вашего. Но вы-то Предвечного под себя ладите!
По залу рассыпался глухой ропот.
– Высокую комиссию оскорбляешь! – тягуче произнес тот, что сидел слева от Иакова, старец с лицом, как засохшая смоква. – Ты в шаге от побития сейчас, а оскорбляешь цвет Синедриона!
– Трижды чушь, – невозмутимо ответил Стефан. – Оскорблять вас мне нужды нет, оскорблять не привычен. И Храма не оскорблял. Только Храм построен из камня. Людьми Храм построен, обычными людьми и из обычного камня. Дерева тут еще немного, черепицы. Но Предвечный не обитает в рукотворном, почтенные кохены!
– Храм свят веками! – привстав, прокричал Иаков. – Ерошолоймский Храм – сердце дома Израиля!
– «Небо мне престол» – так рек Предвечный! – взревел Стефан. – «А земля – то ног моих подножие!» Небопрестол Предвечному, а земля лишь под подошвами его! Так как же Храм, простыми людьми выстроенный, из обычного камня выстроенный, может быть домом для Предвечного?!
И Севела подивился: какой мощный голос может исходить из такого неказистого тела.
– Так кто ж из нас богодерзок, кохены?! – победно загремел Стефан. – Предвечный небо и землю явил. А вы, старцы, показываете на большой каменный дом посреди человеческого города и говорите: се дом Предвечного. Самим-то не смешно?
– Ты побития сам просишь! – угрюмо сказал третий справа первочередный кохен. – Ты третий час упорствуешь, мразь дерзкая!
– Ты не называй меня мразью, старик! – сказал Стефан, как выплюнул. – И не пугайте меня побитием. Вы многих побили. Вы меня погоните и убьете, как ваши отцы гнали и убивали. Вы святому духу противитесь!
Ропот в зале перешел в гул.
– Кого из истинных вероучителей не гнали ваши отцы? – презрительно произнес Стефан. – И вы такие же.
Он замолчал, словно изнемог, плечи поникли. Потом человек распрямился и срывающимся голосом произнес:
– Не пугайте меня побитием, высокая комиссия. Я открывшиеся небеса вижу. И Искупившего вижу. Стоит по правую руку от Предвечного Искупивший!..
За спиной у Севелы кто-то прошептал: «Вот дурачина-то…» Иаков сидел неподвижно и кусал губы. Колено за драпировкой пропало. Крайний слева кохен встал и прошел в нишу. Через полминуты он вернулся и ударил в ладони. Потом ударил еще раз. Стало тихо.
– Высокая синедриональная комисия решила так! – возвестил кохен. – Богодерзкого Стефана бен Самуила, оскорбившего Храм и Закон Моше, побить камнями сегодня же, под скалой у Дамасских ворот!
– Понравилось тебе милосердие синедриональной комиссии? – вполголоса спросил Нируц.
– Он же истерик! – негодующе прошептал Севела. – Они его забьют, а он просто истерик! Дурак и болтун. Они убьют человека за то, что он болтун!
– Угу, – Нируц хмыкнул. – Его сегодня забьют, беднягу. Ты сейчас увидел подлинную практику их диспутов. Понравилось тебе это? Плохо придется галилеянам, коли за них возьмутся синедриональные.
Двое молодых кохенов встали по бокам Стефана, крепко взяли его за локти и вывели из зала.
– И вот что еще тебе скажу, – Нируц наклонился к Севеле. – Стефана арестовали люди первосвященника. Приговорила его комиссия. Его Каиаху приговорил, но запишется, что приговорила комиссия. Так вот – убьют его по приговору кохенов, а молва припишет это Службе. Помяни мое слово!
Зал быстро пустел.
– Тебе не жаль его?
– Жаль? – Нируц пожал плечами. – Я ему сочувствую. Храбрый человек, даром что крикун.
– Ты ему сочувствуешь, и казнь его Службе не на пользу – ты сам так говоришь. Ведь ты хорош с Каиаху? Вступись за парня!
– В своем ли ты уме? – неприязненно сказал Нируц. – Это не мое дело – заступаться перед первосвященником за кого бы то ни было. Меня не касаются дрязги кохенов, капитан. Да они веками спорят друг с другом! Обвиняют друг друга, преследуют, побивают камнями. Проповедник выбрал свою участь, когда надерзил Иакову.
Севела промолчал.
– Я на следующей неделе буду встречаться с Каиаху, он наверняка заговорит об этом Стефане, – немного погодя, сказал Нируц. – И будь спокоен, я выскажу его преосвященству свое полное одобрение!
– Отчего же только одобрение? Выскажи ему восхищение, мой майор.
– Я вот что скажу тебе, – Нируц вздохнул и опустил веки. – Я сочувствую этому крикуну из Нацерета. Он хочет мученической смерти, он хочет встать рядом с его Искупившим. То – его участь, он ее выбрал. Но так нынче складываются дела в Провинции, что этот парень утянет к своему Искупившему множество ни в чем не повинных людей, коли не заткнуть ему рот. И вот еще что, мой человеколюбивый капитан. Синедриональные казнят этого дурака из Нацерета. Но ты мне поверь – он мало чем от них отличается. Окажись перед ним Иаков, как сам он сейчас стоял пред комиссией – так Стефан без раздумий приговорил бы Иакова. Они одной породы люди…
* * *
Он старался не думать о сроке, который назначила Курганова. Решил, что позвонит не через «пару недель», а недели через три, не раньше.
Тут дело тонкое, если позвонить через две недели, можно запросто нарваться на «не было времени, Михаил, позвоните еще через недельку». Он запросто может психануть: вот ведь какая вдовствующая королева, сама пожелала оценить, никто за язык не тянул. Он накрутит себя и вообще не станет перезванивать. (Такие жесты за ним водились.)
Так что он положил себе срок – три недели. Двадцать шестого числа он позвонит и сдержанно спросит: какое впечатление (да, это именно то словосочетание – «какое впечатление») произвел на Софью Георгиевну его труд? Нет, не «труд», надо будет сказать «опус», чтобы прозвучало с самоиронией.
Прошло пять дней. В четверть третьего экселенц зашел в комнату Дорохова, спросил о чем-то. Потом сел, закурил, стал рассказывать про одного чудака, который строит пространственные модели белковых молекул из бумаги и все на свете знает. Может хоть завтра создать вакцину против AIDS, знает первопричину канцерогенеза. Потом экселенц взялся смотреть форезы.
Тренькнул телефон, Новиков поднял трубку.
– Да. Здрасьте… Да, секундочку. Дор, тебя.
– Минуту, Александр Яковлевич, – виновато сказал Дорохов (экселенцу не нравилось, когда отвлекались от собеседования с их светлостью). – Слушаю.
– Михаил?
На мгновение показалось, что это звонит бывшая теща. Дорохов недоуменно подумал: чего это она? Может, с Ленкой что?
– Слушаю вас.
– Здравствуйте, Миша. Я звонила Семену, он дал этот телефон, сказал, что вы тут чуть ли не круглосуточно.
Он не знал, что и сказать… Совершенно не ожидал, что Курганова может позвонить сама, и к тому же на работу.
– Одну минуту…
Зажал микрофон рукой и тихо сказал экселенцу:
– Алексан Яклич, я дико извиняюсь!
– Поторопись, – сказал экселенц. – Я буду у себя.
– Да, Софья Георгиевна, слушаю… – быстро сказал Дорохов. – Добрый день.
– Здравствуйте, Михаил. Не отвлекаю вас?
– Ну что вы!
– Я прочла вашу книгу.
– И какое впечатление… Спасибо, что позвонили, Софья Георгиевна! – сказал он вмиг севшим голосом. – Я, честно сказать, места себе не нахожу. Целый год почти на это угрохал. Какое у вас впечатление от книги, Софья Георгиевна?
– Да самое хорошее у меня впечатление, – немного грустно сказала Курганова. – Умная книга, хороший язык. Огрехов, разумеется, полно… Но это уже дело редактора. Вы приезжайте ко мне вечерком, Михаил. Сможете?
– Спасибо, что позвонили, Софья Георгиевна! – выпалил Дорохов. – Вам понравилось?
– Да, – решительно сказала Курганова. – Вы на славу потрудились. Тут есть о чем говорить. Так вы приедете?
– Господи, да куда ж я денусь-то! – счастливо сказал Дорохов. – Когда вам удобно?
– В семь приезжайте. Успеваете?
– Конечно!
«Надо в четыре смыться. Побреюсь… Галстук… У меня где-то был!»
– Тогда до встречи.
– До свидания, Софья Георгиевна. В семь я у вас.
Он бережно опустил трубку и шумно выдохнул.
«Вот так… Вот так все повернулось…»
Он взял пачку форезов и пошел к экселенцу.
– Что произошло? – изумился Риснер. – Из Инюрколлегии звонили?
– В смысле? – спросил Дорохов, улыбаясь во весь рот.
– Ты выглядишь, будто получил наследство.
– Алексан Яклич, если не возражаете, я сегодня пораньше уйду.
– Ради бога… Ты не влюбился ли?
– Да так… Кое-какая приятная неожиданность, – уклончиво ответил Дорохов.
Без четверти семь он подошел к «Пионеру». Выкурил папиросу возле подъезда. На фонарном столбе висели квадратные часы. Он дождался, пока минутная стрелка подойдет к одиннадцати, поправил под шарфом узел галстука и потянул на себя тяжелую дверь.
– Добрый вечер, Михаил, – сказала Курганова. – Холодно на улице?
– Да нет, градусов десять.
– Славно, что снег идет каждый день. Прошлая зима была совсем бесснежная.
– Я тоже люблю, чтобы снег, – сказал Дорохов. – И мороз очень люблю. Московские зимы это одна слякоть.
– Ну да, вы же из Сибири… Чаю выпьете?
– С удовольствием.
– А коньяку не хотите?
– С удовольствием.
– Вы позитивный человек, – одобрительно сказала Курганова. – Ни от чая не отказываетесь, ни от коньяка.
Он прошел в знакомый кабинет (его папка лежала на письменном столе), опустился в кресло, поискал глазами пепельницу. Потом встал, вышел в гостиную и громко спросил:
– Софья Георгиевна, вам помочь?
– Да, идите сюда, Миша, – ответила Курганова издалека. – Берите рюмки, а я возьму чайник.
Они вернулись в кабинет. Поговорили о погоде, Дорохов воспел сибирские зимы. Она спросила, чем он занимается на работе. Дорохов коротко объяснил. Рассказал про экселенца. Вы так любовно выписали своего Нируца, сказала Курганова, я сразу поняла, что у вас есть наставник. Дорохов улыбнулся, сказал, что «наставник» это очень верное слово. Что его шеф, и вправду, человек необыкновенный.
– А вы когда-нибудь думали о том, что станете заниматься литературой профессионально? – между делом спросила Курганова.
– Конечно не думал. Да я и не ожидал, что вы всерьез отнесетесь… Вы уж простите, Софья Георгиевна, но я как на духу…
– Говорите, Михаил, говорите, – Курганова понюхала коньяк. (Она держала рюмку щепотью, подносила ее сухими бледными пальцами к лицу и вдыхала.)
– Я ожидал, что получу равнодушное напутствие, – Дорохов пожал плечами. – Мол, пишите, Миша, у вас есть задатки… А вы говорите: книга вам понравилась. Вы… Ну я не знаю… Вы держали в руках новомирскую прозу шестидесятых…
– Да оставьте же вы это восторженное сюсюканье, Миша! – Курганова поморщилась. – Придумали тоже… Всякому времени своя проза. Сейчас восемьдесят седьмой год, ваша проза вполне хороша. И вы не лыком шиты.
– Мне очень приятно это слышать… – пробормотал Дорохов.
– Вам приятно это слышать, но хотелось бы практической помощи. Так?
– Да, – честно сказал Дорохов. – Если вы действительно думаете, что и я не лыком шит.
– Хорошо, что не вы кокетничаете… Так все же – вы о профессиональной литературной работе думали когда-нибудь?
– Нет.
– Это неблагодарное дело, – сказала Курганова так, словно отговаривала Дорохова делать литературную карьеру. – Предстоит терпеть и трудиться, трудиться и терпеть… Но я о другом. Постарайтесь понять уже сегодня… – она сделала паузу и посмотрела в сторону. – Литература это профессия. Такая же специфическая профессия, как ваша химия.
– Молекулярная генетика.
– Да… Так вот – это профессия. Со всеми трудностями, особенностями, выгодами и пакостями любой профессии. Коли вы в эту профессию намерены войти – тогда вам надо определиться. Вам надо… поставить на нечто. Понимаете меня? Вам надо как бы сделать ставку… Но надо знать точно – на что ставить! На свою гениальность? Не стоит, поверьте. Вы же первым будете подвергать сомнению свою гениальность каждый день. Самоедство от литературной профессии неотделимо. На успех поставить? А будет ли тот успех? А если нет? Да и успех – уж поверьте мне, всякие я видела успехи – он соотносится с качеством текста весьма косвенно… Гонорары? Смотрите выше, пункт «успех».
– Уверяю вас, что я в литературу не за деньгами, – быстро сказал Дорохов.
– Ох-ох-ох… У вас, Миша, еще восторженный период творчества. Определитесь сейчас: зачем вы идете в литературу? Какой у вас манок? Какой огонек вам светит? Определитесь – это мой вам первый практический совет.
– Я об этом подумаю, – пообещал Дорохов.
И сказал про себя: «Сто раз уже думал».
– Подумайте, Миша, подумайте, – доброжелательно сказала Курганова. – Я знавала многих литераторов. Самыми счастливыми из них были карьеристы и корыстолюбцы. Эти качества прекрасно сочетаются с талантом… А самые несчастные из литераторов – это способные бессеребренники.
Дорохов вежливо поднял брови.
– Что, запутала я вас? Желаю вам самодостаточности, Миша… Получайте удовольствие от писательства. И пусть это для вас будет главным. Все остальное приложится. В большей или меньшей степени, чем вы хотите, – но приложится… Теперь о практической помощи.
Дорохов задержал дыхание.
– Я отдала вашу рукопись своей ученице Лене Зубиной, – сказала Курганова. – Она сейчас заместитель главного редактора в издательстве «Московский рабочий». Книга ваша ей, скорее всего, пришлась по вкусу. Я знаю Лену, знаю ее пристрастия… Качественную прозу она распознает моментально. У Леночки большое будущее. Она будет настоящим… literature-maker – как это американцы называют.
– Спасибо, Софья Георгиевна, – тихо сказал Дорохов. – Спасибо.
– Не в том дело, что за вас просил Сеня. Да, мы с покойной Мариночкой близко дружили, и Сеня мне не чужой… Разумеется, если бы это… – она подбородком показала на папку. – Если бы это оказалось пустой писаниной… Я бы все равно постаралась чем-нибудь вам помочь. Попробовала бы растолковать азы. Ваша книга интересна. В ней множество фрагментов, слабых технически. Но это дело поправимое, этим Лена займется.
– Так вы думаете, что это могут напечатать? – жадно спросил Дорохов.
– Могут, Миша. Времена-то меняются. Вы же читаете газеты… А Лена в издательстве пользуется большим авторитетом, их «главный» к ней прислушивается. Она приезжала ко мне позавчера, взяла вашу папку, а сегодня утром вернула. Судя по тому, как скоро она прочла, книга ей понравилась… Мне еще кое-что в вашей книге симпатично. Вы не боитесь, что у читателя возникнут некоторые аллюзии, и вас определенно не пугает, что эту книгу станут сравнивать с одним широко известным произведением.
«Еще как пугает!» – подумал он.
– С терминологией, конечно, явный перебор… Вы целую лексику выдумали – это похвально. Но обрушивать на читателя столько незнакомых слов просто негуманно… Впрочем, и это можно отладить.
– Но?
– Что еще за «но»?
– Да я все жду, когда прозвучит «но». Знаете, как это бывает: «ваша книга обладает несомненными достоинствами, но …».
– Так никаких «но», – Курганова пожала плечами. – А что до публикации – я вам все сказала. Встретитесь с Леной, подпишете договор и будете работать над текстом.
«Господи… – смятенно подумал Дорохов. – „Договор“… „Работать над текстом…“»
– А скажите-ка, за фактологическую достоверность вы ручаетесь? Ляпы, несоответствия – исключено?.. Даты проверили?
– Нет, нет, за это ручаюсь, – торопливо сказал Дорохов.
– Жаль, что вы не пришли ко мне раньше. Я познакомила бы вас с одним человеком. Его консультации вам бы помогли… Впрочем, и сейчас не поздно. Насколько я знаю Лену – вам свой текст придется перелопатить не один раз. Что-то я еще хотела вам сказать… – она приложила ладони к вискам. – Да, о консультациях! Вы знаете церковь рядом с улицей Крыленко?
– Знаю. Обыденская церковь.
– Да, храм Ильи Обыденного. Настоятель – отец Николай, протоиерей… В миру он Николай Евгеньевич Бурмистров. Рукоположен был в очень зрелом возрасте… Кстати, доктор биологических наук, представьте.
– Священник – доктор наук? – недоверчиво спросил Дорохов. – Что же это за священник? И что же это за доктор наук?
– Ох, как я не люблю этот примитивный атеизм! – сердито сказала Курганова. – Пионерский какой-то атеизм! А Николай Евгеньевич – большой знаток раннехристианского периода.
– Софья Георгиевна, я тут надымил…
– Ничего.
Она повела ладонью – ерунда, мол. Но по лицу скользнуло неудовольствие, и Дорохов пожалел о своем атеистическом пассаже.
– Можно, я еще закурю?
– Форточку только приоткройте… И подайте, пожалуйста, мне шаль, – царственно сказала хозяйка.
Он встал, отдернул штору, открыл, встав на цыпочки, узкую форточку. Взял со стула в гостиной серую шаль из козьего пуха и подал. Курганова поставила рюмку на поднос, укутала плечи и опять взяла рюмку.
– Я в свое время внимательно читала Евангелия. Человек я неверующий, меня это интересовало исключительно как литературное произведение. Я была нормальный советский редактор, но к Библии относилась с величайшим почтением. Поскольку это начало всей литературы, какая только есть на белом свете. Когда я ушла на пенсию, свободного времени прибавилось. Перечла и Евангелия, и Деяния. В семьдесят пятом… Да, это было в семьдесят пятом, летом, тогда еще показывали по телевизору стыковку «Союза» с «Аполлоном». Мы с мужем смотрели эту передачу в Доме творчества, в Дубултах… В августе вернулись в Москву, и на даче у моей приятельницы Тамары Ивановой я познакомилась с Николаем Евгеньевичем. Мы подружились, он давал мне редчайшие книги. Многие – дореволюционного издания: Сергей Булгаков, Бердяев… Не утомила я вас еще?
– Что вы!
– Я ведь читала Евангелия не так, как читают люди верующие. Я же редактор, Миша. Я автоматически оцениваю то, что читаю. Как сказал один мой автор: «прозекторский подход к тексту»… Я могу текстом наслаждаться, увлекаться им могу, но и всегда анализирую, стиль отслеживаю, композиционную стройность… Я перечитывала Новый Завет и вдруг поняла, что на протяжении всего лишь нескольких десятилетий… Я имею в виду тот временной отрезок, когда создавались канонические Евангелия. Так вот, за такое короткое время разом объявились четыре литературных гения! Они одновременно… Ну что для человеческой истории несколько десятилетий? Мгновение. Марк, Матфей, Лука и Иоанн создали четыре шедевра. И притом избежали разногласий в ключевых вопросах. Могло ли такое произойти в действительности? Нет. Либо Евангелия, датируемые первым веком новой эры, писались позже заявленной даты, либо они подверглись правке. И правке безжалостной. Это вам говорит редактор. Канонические тексты, должно быть, мало общего имеют с тем, что в действительности писали Марк, Лука, Матфей и Иоанн… Или те люди, которых впоследствие назвали Марком, Лукой, Матфеем и Иоанном. А теперь, зимой восемьдесят седьмого, я ту же мысль встретила в вашей книге. Если я правильно поняла ваш замысел, конечно.
Вот в чем дело, подумал Дорохов. Книга ей понравилась. Но она потому так быстро меня вызвала, и этой Зубиной книгу дала – потому, что у нас с ней возникла одна и та же догадка. Людям это нравится – когда кто-то разделяет их догадки.
– Скажите, а ваш герой… Он что же, получается – фискал? Он из тайной полиции?
– Он офицер. Служака. Он нормальный человек, понимаете? Не злодей, не палач… Он отправлял свои служебные обязанности. Честно, умело… Он сунулся не в свое дело, и его убили.
– А может, и не убили? – Курганова подмигнула.
– Может быть… А к его судьбе кто-то потом приписал чужие деяния.
– Понимаю, понимаю… Вы вот и жизнь его выписали так… сочно – для того же? Чтоб предстал человек из плоти?
– Именно так! – загорячился Дорохов. – Я там увлекся, конечно, в некоторых местах. Секс, еда, оружие…
– Сексуальные сцены у вас, как бы это сказать… Излишне прямолинейны и не несут подтекста… Мы с отцом Николаем однажды гуляли по Курсовому, по Дмитриевского, дошли до Зачатьевского монастыря. Дело осенью было, листья облетали. Красиво, тихо. Бурмистров говорлив, ему только дай достойную тему… И мы с ним заговорили об апостоле Павле. Николай Евгеньевич сказал, что фигуры значительнее, чем Павел, в христианстве нет. И во всей истории человечества таких личностей наберется десятка два, не более. Павел ведь за двадцать лет создал огромную церковную организацию. Но помимо собственно церкви, он создал христианское богословие. Он был практик, администратор. Но он был и великий теоретик. Он разграничил иудейское мессианство и веру в Спасителя. По Павлу-то Христос пришел спасти не только евреев – но все человечество! Николай Евгеньевич тогда сказал мне, что эти две фигуры – Савл и Павел – они несопоставимы по масштабу. Кроме того, что Савл преследовал христиан, евангелисты ничего о нем не сообщают. Ничего выдающегося, ничего значительного. А тот человек, в которого якобы превратился Савл – он велик. Гениальный моралист, преобразователь мира… На это несоответствие и указывал Бурмистров. Нечто похожее угадывается и в вашем тексте. Но вы поступили просто. Уничтожили своего героя и тем самым предотвратили его трансформацию в апостола Павла.
– Я не думал о том, чтобы разделять Савла и Павла, – сказал Дорохов. – Я больше думал о другом.
– Хотели реабилитировать служаку? У вас ведь получается, что Савл не повинен в смерти святого Стефана, верно?
– Это частность… Я попытался описать живого человека. Чтобы можно было сравнить: вот так оно, скорее всего, было на самом деле, а вот так – с несостыковочками, с закруглениями и упрощениями – в Евангелиях. Ведь Библия это основа основ, так? Если лжет Библия… Хорошо, пусть не лжет. Умалчивает. Недоговаривает…
– Ну хорошо, – несколько поспешно сказала Курганова и пригубила из чашки (кажется, она немного устала). – Вроде бы, все мы с вами обсудили. Звоните Лене, телефон ее я вам сейчас дам… Вам, Миша надо образовываться! И историю надо изучать более глубоко. И историю христианства. Не было бы ни вашего любимого Трифонова, ни вашего любимого Гоголя, кабы не евангелисты.
– Да я бы рад изучать, – сказал Дорохов. – Так работа же… И вообще – бытие…
* * *
– …не пришли вчера? – спросил Пинхор. – Я вас ждал.
– Служба, – коротко ответил Севела. – Могу я войти в дом?
– Конечно, конечно, адон Малук…
Гончар посторонился.
– Есть у вас вода с лимоном, мастер? – спросил Севела.
Он прошел в кабинет. Ему уже было привычно проходить в маленький кабинет Пинхора, где по стенам, на полках теснились свитки.
– Вас ждет вода с лимоном, капитан, держу ее в леднике. Знаю, что вы любите воду с лимоном…
– Благодарю вас, – Севела огляделся. – Вы разбираете библиотеку?
Пачки листов и свитки были разложены по столу, по полкам и на полу.
– Я освободил заднюю комнату, хочу перенести туда мою коллекцию. Хочу, чтобы она хранилась там, где никто не бывает, – сказал Пинхор и переложил свиток из пергамента со стола на полку. – А «библиотека» – громко сказано. Небольшое собрание… В городе есть домашние библиотеки богаче.
«Но не у гончаров», – подумал Севела.
– Вы не пришли вчера… – сказал Пинхор, остановившись в дверях. – Это из-за казни проповедника, да?
– Вы уже знаете?
– Весь Ерошолойм уже знает, – гончар вздохнул. – Вы там были?
– Пришлось. Служба.
– Это все безжалостный Иаков… Мне кажется, что для него любая комиссия – лишь возможность казнить человека. В нем страсть к убийству, в этом Иакове. В Синедрионе много жестоких кохенов, но Иаков хуже всех.
– Вы знакомы с ним?
Пинхор гадливо скривился.
– Я простой гончар, – сказал он. – Иаков – кохен первой череды. Как я могу быть знаком с ним? Но я о нем наслышан.
– Это галилеяне рассказывали вам о кохене Иакове?
– О нем говорят в кварталах. И галилеянам он известен. Если бы хоть малая толика его жестокости была направлена на зелотов…
– О чем вы?
– Я слышал об Иакове от рав Амуни.
– Что говорил Амуни?
– Он крайне дурно отозвался об Иакове.
– У Амуни вражда с ним?
– Нет, не это… Амуни в молодости знался с Иаковом. У них был один наставник. Потом их пути разошлись. Иаков возвысился при первосвященнике, а рав Амуни примкнул к галилеянам.
– Что он говорил об Иакове?
– Амуни назвал его кровожадной гадиной. Амуни ко многим человеческим слабостям относится снисходительно. Но когда речь идет о вопиющем пороке или явном бесчестии, рав Амуни тверд и непримирим.
– Этот синедриональный – выродок, спору нет… Что еще говорил Амуни?
– Говорил, что жестокого Иакова странствующие братья видели там, где первочередному кохену делать нечего. Этого негодяя видели в Итурее. В таком месте, где без дозволения зелотов человек не проживет и дня. А Иакова в тех местах сопровождали и оберегали.
– Не досужая ли это болтовня? – пренебрежительно сказал Севела.
– Рав Амуни к досужей болтовне не склонен. Раз он говорит такое, значит это правда… Проповедника забили?
– Да, – сказал Севела, помрачнев. – Забили. Возле Дамасских ворот.
Он прикрыл глаза, и перед ним встала вчерашняя толпа.
Когда Стефана вывели на обрыв, над толпой повисла тишина. Стражники подтащили человека к тому месту, где холм был словно разрезан надвое, а одна из половин растаяла, пропала без следа. Тридцать локтей высоты было в том обрыве. Стефан не упирался. Лицо его посерело, проповедник закрыл глаза и часто сглатывал. Стражники откачнули его назад и бросили. Толпа ахнула. Человек перевернулся, мелькнули заголившиеся ноги. Проповедник упал спиной на валуны, и раздался громкий хруст. Между глыб торчала белая нога, а там, где видны были светлые волосы, растеклась алая лужа. Нога дернулась и замерла. Иаков гортанно выкрикнул. Из толпы стали выходить люди. Деловито раздвигая остальных, они пошли туда, где торчала нога. Один – рябой, в желтом кефи – натужась, поднял камень. И опять хрустнуло. А толпа мерзко застонала, и сочувствия в том стоне не было – один только грязный интерес. Еще четыре-пять фигур сгрудились там, куда упал человек, руки замелькали, опускались камни, слышался стук с хлюпанием. А потом все кончилось. Голой ноги больше видно не было, и алой лужи видно не было. Громоздилась гора камней, и люди стали расходиться.
Неслышно появился Руфим и поставил перед Севелой стакан с лимонной водой.
«Гадина, жестокая тварь этот Иаков, – подумал Севела. – Он ведь потворствует зелотам, двуличный негодяй…»
– А как вы думаете, мастер, – неторопливо сказал он и поднял глаза на Пинхора. – Если я попрошу Амуни рассказать мне о дружбе Иакова с зелотами?
– Зелотов рав Амуни покрывать не станет, – без сомнения ответил гончар. – Зелоты ему ненавистны. И все, кто покровительствует зелотам – тоже ненавистны. А в особенности те, кто пятнает сан кохена первой череды.
– Кстати, – вспомнил Севела, – а где рав Амуни сейчас? Его должны были отпустить из крепости еще вчера.
– Да, его отпустили, – подтвердил гончар. – Ему даже принесли извинения… Он приходил ко мне, пробыл здесь несколько часов, но потом ушел. Сказал, что его пригласил погостить адон Борух. Тот самый, что разговаривал с ним в крепости Антония. Оказалось, прелюбезнейший человек… Просил рав Амуни рассказать о учении галилеян. У адона Боруха, по словам рав Амуни, есть богатый родственник, он сейчас в отъезде. И адон Борух временно занимает его виллу…
Вот как, подумал Севела. У прелюбезнейшего Боруха есть родственник, имеющий виллу. Гостеприимный Борух приглашает туда арестованных проповедников.
– Не будем больше говорить о Иакове и зелотах. Довольно. Вчера я измучился головной болью… Весь день дул ветер, я совершенно не переношу этот горячий ветер, в такие дни у меня разламывается голова. И сегодня у меня тоже был тяжелый день. А беседы с вами просветляют разум и дают успокоение… Не злоупотребляю ли я вашим вниманием, мастер?
– Ну что вы… – добро сказал Пинхор и улыбнулся. – Я, признаюсь, тоже рад вам. Хотя познакомились мы в неподходящем месте.
– Совершенно неподходящем! – весело сказал Севела. – Мастер, у меня такая служба, что я знакомлюсь с самыми разнообразными людьми в самых непредсказуемых местах!
– Вы молоды, – одобрительно сказал Пинхор. – Вам нравится многообразие жизни, адон Малук. Вы любите приключения, вам интересны люди… Это прекрасно.
– А хотите пойти в таверну, мастер? – вдруг сказал Севела.
– В таверну? – удивился гончар.
– Ну да! Что же мы тут с вами – как два киника… Говорим, да попиваем воду…
– Может быть, вы голодны?.. Я сейчас скажу Руфиму, он принесет вина, пирог. Я-то редко пью вино, но в погребе есть родосское…
– Пойдемте в таверну, мастер! – решительно сказал Севела и встал. – Пойдемте, право. Как два добрых приятеля. Я угощу вас ужином. Мне, сказать по правде, пора хоть как-то отблагодарить вас за гостеприимство и терпение.
– Но я не ем нигде, кроме своего дома… – растерянно сказал мастер Джусем. – Разве что в поездках… А в тавернах шумно. Там случаются драки.
– Ха! – осклабился Севела. – Так подеремся! Вышибем зубы какому-нибудь наглецу! Все, мастер, я не желаю слушать возражений… И потом, вы все еще числитесь под надзором Внутренней службы. И я, надзирающий офицер, настаиваю на немедленном посещении таверны!
– Но расходы за мной, адон…
– Это невозможно! – ответил Севела с театральным высокомерием. – Я – приглашающая сторона. Идемте, мастер.
– Хорошо, – сдался Пинхор. – Я только предупрежу Руфима. А когда мы…
…четвертой кружки кносского мастер Пинхор выглядел оживленно. Его вежливой сдержанности теперь как ни бывало. У гончара блестели глаза, он уписывал жареных цыплят и пирог, говорил громко и за столом сидел расслабленно. Севела после второй кружки рассказал несколько забавных историй, случившихся с ним в поездках. В тех историях фигурировали и воришки, и кабатчики, и непотребные девки. Гончар смущенно кривил губы, но смеялся и даже сам вспомнил что-то курьезное из своей молодости. Так что ужин удался на славу. Двое добрых друзей, один – молодой офицер, а другой – горожанин в возрасте, сошлись в таверне и кутили напропалую.
– Вкусное вино! – восхищенно сказал Пинхор. – Капитан, да я ног не чувствую!
– Теперь я вижу, что вы пьете нечасто. Но голова-то ведь у вас ясная?
– Совсем ясная, адон Малук!
– Вот и славно. Вы, мастер, живете затворником. А всякому здоровому человеку изредка нужна добрая попойка. Короткий миг беспечности, мастер… Голова должна отдыхать от умственной работы. Согласны?
– Согласен, – весело сказал гончар и вновь взялся за кружку.
«Не пришлось бы после тащить его на себе, – озабоченно подумал Севела. – Как, однако, он разошелся!»
– Посмотрите, здесь много романцев, – заметил гончар и кивнул через плечо.
– Я люблю такие места, – Севела взял с блюда цыплячью ножку и разгрыз хрящик. – Где романцы, там вино. Там хорошая кухня. В Нижнем городе таких мест не сыскать.
– Странно это видеть, – сказал гончар и оглядел зал. – Не в праздник, не в семейное торжество… Люди приходят вечером, пьют вкусное вино, радуются…
– Устраивают драки, продают и покупают краденное, выбирают шлюх, – продолжил Севела. – Здесь бывает всякое, мастер. Но сегодня здесь спокойно.
Он подумал: пока он тут распивает с гончаром кносское, Никодим допрашивает людей Шомона. Тех, кто остался в живых после вспашки.
Севела тоже отпил из кружки и неожиданно спросил:
– А вам нравится ваша жизнь, мастер?
Гончар усмехнулся.
– Сейчас мне определенно нравится моя жизнь. Покой, веселье, хороший собеседник…
– Я о другом – о вашем затворничестве. Одно лишь чтение, одно лишь написание комментариев…
– Вы сказали «одно лишь», а назвали уже два занятия, – мягко возразил гончар. – Так добавьте еще дружбу с высокообразованными и высоконравственными людьми, добавьте мое ремесло… А я ведь, адон Малук, владею ремеслом тонким и художественным. Получится не так мало.
– Но вы живете один, без женщины.
– Я живу один – ну так об этом мечтают многие. Пару раз в месяц Руфим приводит ко мне девку, выбирает, надо отдать ему должное, прекрасно… Жениться второй раз я не стану.
– Отчего же? – спросил Севела и осекся. – Простите меня, мастер… Мне не следовало говорить об этом.
– Ну что вы… У нас ведь дружеская попойка, верно? Вы всего лишь задали дружеский вопрос.
Гончар сморгнул и положил руки на стол.
– Я был близок с женой, – ровно сказал он. – Она помогала мне в мастерской. Через месяц после свадьбы она попросила разрешения расписывать посуду, я позволил… У жены оказалась замечательная способность к составлению орнаментов. Собственно, посуда моей мастерской стала пользоваться таким спросом только после того, как за нее взялась Эсфирь. Благодаря жене я узнал, что ремесло может быть изощренным искусством… И никого милее Эсфири для меня не было… Она умерла от оспы, в тот год в Ерошолойме многие умерли… С нами жил ее брат, он тоже умер. Я не заболел, ухаживал за Эсфирью, похоронил ее. Боли уже нет, много времени прошло с тех пор… Боль ушла, но взять другую женщину в свой дом я не могу.
– Не стоило мне заводить этот разговор.
– Это прошло, и я это пережил… Но наша дружеская попойка продолжается?
Севела улыбнулся и подлил в обе кружки из шершавого кувшина.
«Славный человек, – подумал он. – Умный и добрый».
– А позвольте-ка, мастер, еще порасспросить вас о учении галилеян… Вы, мастер, придерживаетесь учения предельно разумного и человеколюбивого. Однако и ваш канон обязывает к соблюдению ритуалов. Галилеяне ведь тоже несвободны от ритуалов, я прав?
– Ритуалы братьев-галилеян немногочисленны и просты, – добродушно сказал гончар. – Их обряды придают бытию радость и удобство.
– Обряды галилеян рациональны? Я верно вас понял?
– Рациональное присутствует во всяком каноне. Шестьсот тринадцать запретов и повелений Книги тоже регулируют телесное бытие. Раздел Книги, именуемый «Зраим», – это сельскохозяйственный регламент… Раздел «Низекин» сродни уголовному праву. «Нашим» есть установления о браке и разводе… Рациональное идет рука об руку с божественным.
– Приведите пример, – потребовал Севела. – Пример рациональной подоплеки божественных писаний.
– Да нет же ничего проще, – покладисто сказал гончар. – Под завесой торжественной ритуалистики почти всегда лежит рациональное… Когда независимый ум проникает под словесную вязь божественных писаний, то делается очевидно, что божественного-то в тех писаниях немного. Даже не знаю, какую частность сделать примером… Вы сказали, что ваш старший брат – врач?
– Сейчас он оставил врачебное дело.
– Вы с ним дружны?
– В юности был дружен, – Севела одним махом ополовинил кружку.
– Некоторые положения медицины вам понятны. Ведь так?
– Я до сих пор помню значение многих медицинских терминов.
– Превосходно. Известно ли вам хоть что-нибудь о природе ежемесячных женских кровотечений?
– Мой брат был акушером, – сказал Севела, не понимая, куда гнет Пинхор. – Мне известно, что ежемесячные кровотечения это часть женского естества. Эти кровотечения есть оборотная сторона материнства.
– Именно так! Хорошо, что вам не претит говорить о таком предмете… «А если у женщины будет кровотечение, и кровь бывает в истечение из плоти ее, то семь дней должна пребывать она в отстранении своем. А когда освободится женщина от истечения своего, она должна отсчитать себе семь дней и потом будет чиста. И семь дней до истечения женщина тоже нечиста.» Это «Ваикра», глава «Мецора»… Семь дней до, семь дней в течение, и семь дней после. Три недели из месяца женщина нечиста. Джбрим могут ложиться с женами лишь в дни, указанные Книгой, в одну лишь из недель женского месяца. Что причиной тому? Божественное? – гончар добродушно улыбнулся. – Известно, что женщина может зачать лишь в середине своего месяца. Маленький народ не может позволить себе роскоши растрачивать мужское семя. Оно должно быть принято в подходящее время, плотское желание должно служить прирастанию дома Израиля. Если же освободить от словесных кружев прочие главы, то вы найдете там и более практические руководства. А божественное значение того, что романцы называют «циркумцизио»? Это еще проще, адон Малук. Ничего богопослушного нет в усечении крайней плоти у младенцев. Лишь практицизм и санитария. Джбрим не должны жить с крайней плотью – слишком жарко на Востоке. Жара и недостаток воды для мытья. Под крайней плотью скапливается грязная слизь, усечение плоти это единственный способ избавиться от пожизненного гнойника. И единственный способ уберечь женщин джбрим от воспалительных болезней, что приводят к бесплодию. А вот кулинария…
– И кулинария тоже? – изумился Севела.
– В жарком климате Востока невозможны крайняя плоть и свинина… А все потому, что джбрим не приучены солить свинину! Ее надо уметь приготавливать, только и всего! Свинина более других пород мяса подвержена гнили. Загнившая свинина приводит к неизлечимой желудочной болезни. Между тем, мясо это питательное и мягкое. Романцы готовят из него множество блюд, и колбасы делают, и коптят. Джбрим же в благоговейном ужасе отшатываются от свинины. А свиньи неприхотливы и смышлены. Содержать их в хозяйстве прибыльно и удобно. Коптильни и знание способов засолки обезопасят мясо от загнивания и накормят тысячи крестьянских семей… Я намеренно привожу примеры самых приземленных сторон бытия, адон Малук.
– Я понял это, мастер. Вы очень убедительны, мастер.
– Вы не раз спрашивали меня: чем образованного человека смог привлечь канон братьев-галилеян? Или, от противного: что может подвигнуть образованного человека на критичное отношение к Книге? Понимаете ли, адон Малук, Книга была создана девятьсот лет тому назад. Нынешняя редакция ее несколько отличается от изначальной, но отличается несущественно. Книга это древнее писание, адон. А в древних писаниях нет и намека на юмор, и меня это пугает. Только юмор спасает от всенародного сумасшествия… У джбрим драматичная история, тяжелая жизнь… И впридачу угрюмый канон. Джбрим – народ непримиримый и воинственный. Великий Иешайя, сын Амоца, оправдывая категоричность Книги, утверждал, что только зверская доктрина может сдерживать зверский народ. Но мир меняется. Уж нет ашур, и Птолемеев нет. И рабство вавилонское больше не повторится…
– Я видел многих кохенов, мастер… И по службе имел с ними дело, и в молодости, когда учился. Ни один из них не говорил о Книге так ясно и дельно.
– Кохены живут Книгой, она в них как кровь. Можно ли ясно и дельно говорить о своей крови?
– А вы? Что думаете о Книге вы?
– Я восхищаюсь Книгой! Вижу в ней великую литературу и строгую юстицию… Книга есть величайшее подытоживание. Она еще станет фундаментом всечеловеческой морали. Мы с вами этого уже не увидим, но будущие поколения людей, выстрадав общую мораль и совершенный канон, поклонятся Книге!
– Первочередным кохенам надо бы поучиться у вас любви к Книге.
– Кохены учат тому, что Книга исходит от Предвечного, – со снисходительной усмешкой сказал Пинхор. – Кохены ежедневно сносятся с Книгой, но не осознают ее величия. Они зачарованно повторяют древние установления, а изощренного рационализма Книги не понимают! И красоты ее не понимают, и смятения ее, и милосердия! Книга для них – что гарнизонный устав для романского триария. Осознать совершенство Книги может лишь тот, кто ходит рядом с богодерзкостью… Книгу сотворили живые люди! Талантливые и безжалостные. Добрые и упрямые. Неуверенные, страшащиеся своей малости и необоримости природы… Приписывать авторство Книги Предвечному – это отрицать чудо человеческого разума!
– Так может быть, могущество человеческого разума дозволено Предвечным?
– А может быть, могущество Предвечного это создание человеческого разума, мой насмешливый капитан? Ведь если оставить нерассуждающую покорность Предвечному, то вокруг себя можно видеть лишь два явления – Книгу и мир. Книгу создали люди…
– Но кто создал мир?
– Люди мир не создавали, – лукаво сказал гончар. – И непонимание происхождения мира – это и есть начало любого канона, мой любезный капитан! А галилеяне говорят: мир существует, и того достаточно. Надо жить в сем мире разумно и радостно. Канон галилеян оставляет человеку право исследовать происхождение мира. А Книга отказывает в этом праве.
– Простите меня, мастер, но я совершенно запутался, – сказал Севела. – Я простой капитан Службы. Я вырос в захолустном городке и только по случайности из него вырвался… Я не готов к таким изощренным умопостроениям.
– Тогда станем пить кносское! – гончар вскинул голову. – Знали бы вы, как я вам благодарен за этот ужин, адон Малук! Я живу одиноко, такие вечеринки для меня – настоящий праздник.
– Последнее, о чем хочу вас спросить, мастер… А во что верите вы? Анализ и скепсис… Литература и юстиция… Но вера?! Невозможно существовать без веры! Сам-то я богодерзок… Но и я верую в высшую силу, в Предвечного верую, хоть иной раз подозреваю, что сущность и облик Предвечного не таковы, какими их речет Книга. И разговоры с вами лишь умножили сумятицу в моей голове. Теперь мне видится в Предвечном что-то от эллинических божеств, а иной раз думаю, что Предвечный есть некая вездесущая субстанция… Так скажите мне: вы-то во что верите?
– Я верю в то, что мир становится добрее, адон Малук, – с очаровательной готовностью ответил гончар. – Продолжается течение жизни, и мир становится добрее. Вот моя вера, адон Малук. Наполним кружки.
– Это ваша вера? – возмущенно сказал Севела. – Вы говорите мне, что верите в добрый мир?! Мастер, вы порой кажетесь мне ребенком, который заблудился на шумном и грязном рынке!.. Смышленым, ухоженным ребенком, которого может ушибить разносчик, обобрать вор, укусить шелудивый пес! Вы неделю провели в крепости, вас не пытали лишь потому… Словом, вас по случайности не пытали. Вы живете в стране, где распятие привычно, а побитие камнями – обыденное развлечение толпы! Вы живете в стране, которая кишит зелотами! Здесь каждый пятый сочувствует этим ублюдкам, а каждый десятый хоть когда-то, да побывал среди них!
– Не горячитесь, друг мой, прошу вас…
– Какое неумное прекраснодушие!.. «Мир становится добрее»… Да мир настолько переполнился ложью и жестокостью, что иногда мне кажется… Мне кажется, что однажды этот мерзкий мир захлебнется в злобе, крови и нечистотах! Захлебнется и сдохнет… Канет. Погибнет в своей блевотине. Злоба этого мира меня пугает, а меня, поверьте, испугать трудно…
– Вы говорите так потому, что до сих пор не узнали другого мира – мира братьев-галилеян, – невозмутимо сказал Пинхор. – А я знаю, что существуют люди, делающие мир разумнее и светлее. Я знаком с этими людьми, я пил с ними вино, жил в их домах, получал их письма.
– Ужин удался, – сказал Севела и поднял кружку. – Но вот ваше прекраснодушие, мастер…
* * *
В субботу позвонил Димон. Телефон долго тренькал, Дорохов не брал трубку, думал, что это Нинке Алимовой звонят. То есть не самой Нинке, а дочке ее, пионэрочке, Светке, как-то вдруг вплывшей в невестин возраст. Еще в прошлом году шмыгала туда-сюда по коридору, троечница, соплюха, с бесцветным хвостиком между остренькими лопатками, портфель с учебниками, гимнастический обруч, скакалка. А в этом году соплюха уже стала томно глазами поводить, краситься. Ножки, там, понимаете ли, образовались, грудки, сережки, кулончики. Повзрослела, коммунальное дитя… И что ни день по телефону ломающийся басок: «Здрасьте… Свету можно?»
– Дядь Миш! – крикнула Светка из-за двери. – Вас!
Он сел за стол и взял трубку.
– Да.
– Здорово, Миха, – сказал Димон. – Чего поделываешь?
– Здорово. Так, ничего особенного. Ты выход посчитал?
– Ну так! Неслабый получается выход. Процентов восемьдесят пять. Если шлам пустить по третьему кругу, то все девяносто процентов. Но это на аптекарских весах.
– Я взвешу на электронных, – сказал Дорохов. – В понедельник подвози продукт. Вечерком, часов в семь. Я пропуск выпишу. Взвесим точно.
– Ладно, я не за этим… Слушай, купец есть.
– Не понял.
– Купец есть, Миха. Я тоже время не терял. Серьезный человек, перспективный. Хочет встретиться.
– В смысле – клиент?
– Ну.
– Димон, это – твое, – сказал Дорохов. – Я свое дело сделал. А все остальное на тебе. Мы так договаривались.
– А все и будет на мне… Просто человек хочет уточнить детали.
– Зачем ему детали? Есть продукт. Хочет сделать анализ – пожалуйста. Дай ему на пробу. Какие еще детали?
– Послушай. У меня настоящий купец. Солидный человек. Работает с частными стоматологами. Это перспективно, понимаешь? Это не такой вариант, что человек один раз взял и отскочил. Это надолго вариант. Я ему сказал, что продукт высочайшей пробы, что мы готовы поставлять регулярно. Его все устраивает.
– И чего?
– Он солидный человек. Хочет убедиться, что у нас технология отлажена. Ему тоже не надо такого, чтобы один раз взять, а потом у нас что-нибудь не заладится.
– Не знаю… – недовольно сказал Дорохов. – Не впутывал бы ты меня, а? Димон, я сделал свою работу. А с клиентами – ты сам.
– Сам посуди – человек хочет убедиться, что ему предлагают продукт, не туфту. Ну поспрошает он тебя, что и как. Опишешь в общих чертах. Он уже завтра готов взять тридцать граммов.
– Зачем это надо? – сказал Дорохов. – Куда ты спешишь? Первый нормальный продукт… Надо взвесить на электронных, настоящий анализ сделать, может, даже спектральный анализ, я с Серафимом договорюсь.
– Тихо, тихо, не пыли! – тревожно сказал Димон. – Сдурел? При чем тут Серафим?
«Да, – подумал Дорохов. – Действительно, глупость…»
Что он скажет Серафиму? «Я тут золотишка добыл. Сделай-ка спектральный анализ, а потом все забудь»?
– Не обязательно через Симу, – сказал Дорохов. – У Сереги Еремина сделаю, в МИТХТ. Или у Свиридыча.
– Да не нужен спектральный анализ, – спокойно сказал Димон. – Это из пушки по воробьям. Не так делается. Я разговаривал с одним малым из Строгановки. Он ювелир. Эксперт, искусствовед, церковной утварью занимается. Оклады там, кадила, все такое… Валера Игошин, в соседнем подъезде живет. Он мне все объяснил. Нужен специальный пробный камень. Берется слиток, проводится по этому камню, получается цветообразующая полоса. По ней определяется проба.
– Вот как… Что ж мы раньше об этом не думали?
– Некогда было. Камень я достану, не вопрос. Но с купцом обязательно надо встретиться.
– Ну ладно… Надо так надо. Когда?
– Давай завтра. Без четверти три на «Тушинской», у первого вагона из центра.
С Еленой Даниловной Зубиной Дорохов созвонился в пятницу. Насколько можно было по телефону понять – симпатичный человек. Деловая, доброжелательная. Назначила ему на вторник, в пять часов. Ничего определенного не сказала, но велела приготовить окончательный вариант рукописи. Еще сказала, что если Дорохов будет править – чтобы правил разборчиво. Чтобы машинистке было понятно. «Чтобы машинистке…»! Елки зеленые, где-то сидит машинистка и ждет, чтобы Дорохов дал ей наконец «окончательный вариант рукописи»!
Он правил текст часа три. Вчера специально взял из лаборатории волоконный маркер, им править было удобнее, чем шариковой ручкой. Буквы получались тонкие и четкие. Дорохов наносил на бумагу желтоватую полоску забеливателя, дул на страницу, дожидался, пока высохнет, а потом писал поверху печатными буквами.
«Настанет же такое время, когда у каждого писателя будет собственный компьютер, – фантазировал Дорохов, сопел и выводил маркером буквочки. – Никаких копирок не надо, никакого забеливателя. Постучал клавишей, убрал ненужное, вставил нужное – и все дела».
В половине второго он исправил «бутыль с холодной водой» на «жбан с лимонной водой». Затем закурил папиросу, исправил «догмат, исключающий иное толкование» на «агрессивно-назидательный догмат». Еще через десять минут замазал забеливателем «вонзил меч» и вывел маркером «всадил лезвие». Так, вроде все. Он встал, открыл форточку, пошел в туалет и вытряхнул пепельницу в унитаз. Пора было ехать на встречу с солидным человеком.
Димон ждал у первого вагона. Они пожали друг другу руки, поднялись наверх и пошли к рынку.
– Где встречаемся? – спросил Дорохов.
– Вон, шалманчик, – Димон показал рукой в нитяной перчатке на павильон с вывеской «Чебуречная». – Здесь.
Они зашли в павильон, в сырое тепло. Пахло подгоревшим маслом, тускло светились плафоны на потолке. У столов стояли люди в верхней одежде, ели чебуреки. Слева от двери, в углу был свободный столик – круглый, мраморный, на высокой стальной ножке. На столешнице виднелись разводы от тряпки и лежал смятый бумажный стакан.
– Помойка, – сквозь зубы сказал Дорохов.
– Да уж, не «Арагви», – согласился Димон. – Тут вермут наливают. Вмажем?
Дорохов отрицательно покачал головой.
– Может, кофе?
– Да какой тут кофе? – гадливо сказал Дорохов. – А, ладно. Тяпнем по стакану. Согреемся.
– Я принесу, – Димон отошел.
Дорохов посмотрел, как Димон у прилавка говорит с продавщицей, достал из кармана «Казбек» и спросил у мужика за соседним столиком:
– Уважаемый, тут курят, не знаете?
– Кури, – мужик откусил половину серого лоснящегося чебурека.
Дорохов расправил бумажный стаканчик и закурил. Вернулся Димон, принес два полных стакана и тарелку. На тарелке лежали три бутерброда с ссохшимся сыром.
– Он подойдет сейчас, – сказал Димон. – Он мужик аккуратный.
– Откуда ты его знаешь?
– Миха, ну я же провожу работу… Посоветовался с людьми. Я сейчас радиорынок исследую. Сначала с вьетнамцами хотел завязаться, потом на армян вышел. У армян тут позиции очень укрепились последнее время… Все берут – лом, песок, технический металл.
– Как его зовут?
– Размик Суренович. Он представляется «Роман Сергеевич».
За спиной у Дорохова, скрипнув, открылась дверь, пахнуло холодом.
– Вот он, – вполголоса сказал Димон.
Дорохов повернул голову вправо. Там стоял невысокий человек в короткой коричневой дубленке и пыжиковой шапке. Человек прищурился, вгляделся в Димона и шагнул к столику.
– Здравствуй, Дима, – человек стащил с руки замшевую перчатку. – А это друг твой?
– Здрасьте, Роман Сергеевич, – Димон поспешно протянул руку через столик.
Человек в дубленке секунду подержал кисть Димона и потер пальцем левой руки в уголке глаза. Смотрел он при этом на Дорохова, на Димона не смотрел.
– Ну, знакомь нас, – сказал человек.
– Миха, это Роман Сергеевич.
«Что-то Димон очень гнется перед ним, – подумал Дорохов. – Не похоже это на Димона».
– Дорохов Михаил Юрьевич, – отчетливо представился он. – Здравствуйте.
– Роман. Можно, я вас без отчества буду звать? Со всем уважением, но без отчества. И вы меня без отчества.
– Конечно. О чем речь. Просто – Михаил.
«Только „тыкни“ мне разок, голубчик, – подумал он. – Пусть потом Димон другого купца ищет».
– Согреваетесь? – Роман кивнул на стаканы с вермутом и заговорщицки подмигнул. – Вы извините, друзья, что в таком непрезентабельном месте… Еще посидим как люди, покушаем. Сегодня у нас, так сказать, рабочая встреча. Минутку… Верунь, три коньячка принеси. И лимончик.
Продавщица кивнула и ушла в подсобку.
– Ну, хорошо. К делу перейдем, – Роман сложил руки на краю столика и спрятал смуглый подбородок с ямочкой в мехе отворотов. – Михаил, Дима мне сказал, что вы делаете металл, и у вас выход высокий. Так?
– Выход у нас сейчас процентов девяносто. Отладим методику – будет и девяносто три.
– Ну да, ну да… – Роман опустил веки. – Михаил, а нельзя ли в общих чертах – как вы металл получаете? Нет, вы поймите меня правильно. Я уже Диме говорил позавчера. Как вы работаете – ваше дело. Но если у нас сотрудничество сложится, то мне надо быть уверенным, что у вас все без фуфла. Ведь гавриков всяких вокруг – до проха… Кто только не химичит. Но металл большей частью средненький идет, триста семьдесят пятая. Мне есть из чего выбирать. Если я с вами завяжусь, хотелось бы знать, в чем ваша изюмина. Понимаете меня?
– Пожалуйста, – сказал Дорохов. – Никаких проблем. Значит так.
Он оперся о край круглого стола, сделал паузу и заговорил, как на семинаре:
– Золото получают амальгамированием или выщелачиванием. Это вы, надо полагать, знаете. Промышленных способов я сейчас касаться не буду, мы говорим о том, что можно сделать в условиях городской квартиры… Значит, на сегодняшний день есть четыре способа растворения и последующего выделения металла. Материал плюс ртуть – раз. Материал плюс смесь соляной и азотной кислот – два. Материал плюс цианиды – три. Но цианиды это дело ядовитое, опасное, и надо воздух «пробулькивать»… Понятно, короче. И четвертый вариант – материал плюс раствор йодида калия и йод-два. Мы с Дмитрием все эти варианты последовательно проработали и убедились в их малой эффективности. Это вчерашний день.
– Так, – Роман поправил шапку. – И что же вы придумали?
– Во-первых я использовал другой растворитель, – Дорохов взял папиросу. – Я взял более подходящий растворитель и разработал оптимальный способ выделения металла из раствора. И теперь у нас с Дмитрием девяносто процентов выхода.
– Ну, то есть вы работаете с азотной кислотой, – равнодушно сказал Роман. – Да, это и чище, и красивее… Но потери большие, Михаил. Много металла уходит в шлам.
– Я разработал методику с применением анодного растворения, плюс переочистка. Плюс еще одна «изюмина», как вы говорите. Я провожу электролиз и оригинальную фильтрацию. И в шламе практически ничего не остается. Ничего. Вот такие дела.
– Что ж, интересно… Девяносто процентов, говорите?
Мужчина снял шапку, Дорохов увидел примятые густые волосы с сильной сединой. Роман выпростал подбородок из пушистых отворотов дубленки и вопросительно посмотрел на продавщицу.
– Несу, Роман Сергеич, – она выбралась из-за прилавка и, переваливаясь, поднесла к столику пластмассовый поднос. На подносе стояли три стопарика с янтарной жидкостью, блюдце с толсто нарезанным лимоном и три бутерброда с копченой колбасой.
– Давайте, за плодотворное сотрудничество, – сказал Роман.
Рукой в перчатке он взял стопарик.
Дорохов с Димоном тоже взяли. Чокнулись, отпили по глотку.
– Пять звездочек? – спросил Дорохов.
– «Ереван»… А как вы добились полного вымывания сплава?
Тут Дорохов глянул на армянина уважительно. Этот человек знал нюансы. Когда в азотке растворяют позолоченные ножки радиодеталей – те сплавы, что внутри позолоты, вымываются. И остаются только пленки самой позолоты. Тончайшие цилиндрики из чистого золота. Все остальное уходит в мусорный осадок, в шлам. А золотые пленочки остаются плавать в азотной кислоте, и взвесь от этого получается красоты фантастической. Но во многих трубочках позолоты остается сплав, он тянет позолоту вниз, и такие «недовымытые» цилиндрики уходят в шлам.
– При анодном растворении сплав вымывается практически полностью, – сказал Дорохов. – Я не знаю, почему это происходит, но это так. У меня установка пока еще наживую собрана… Но метод верный. Простой и эффективный.
– Угу, – прогудел Роман. – Что простой – это хорошо… А вы по образованию химик?
– МИТХТ, кандидат наук. Но это неважно. Это задача для второкурсника.
Роман показал глазами на стопарики, они выпили. Димон помалкивал. Его-то Роман ни о чем не спрашивал.
– Хорошо, – Роман пососал лимонную дольку. – Убедили вы меня.
Дорохов пожал плечами. Не собирался он никого убеждать. Методика есть, методика заработала. Хотите – берите, не хотите – до свидания.
– Ладно, – Роман вздохнул и надел шапку. – Мы на этой неделе с Димой свяжемся.
– Звоните, – сказал Дорохов. – Методика работает. Мы готовы сотрудничать. С вами или еще с кем-нибудь.
Роман коротко глянул на Дорохова и подтянул перчатки. Дорохов почувствовал, как справа переступил с ноги на ногу Димон.
– До свидания, – сказал Роман и вышел.
Из двери по ногам пахнуло холодом.
– Ты чего, Миха? – прошипел Димон.
– Что «чего я»?
– Что ты мелешь? – зло сказал Димон.
– Да расслабься, Димон, – Дорохов допил коньяк (классный коньяк, не хуже, чем у Сени). – А ты чего прогибаешься перед каждым папиком? Что я, дубленок не видел? Шапок я пыжиковых не видел? «Солидный человек»… Зазвал в какой-то шалман…
– Это очень серьезный человек, Миха. Не надо так говорить – «с вами или еще с кем-нибудь». Нам с ним работать.
– Работать надо с тем, кто будет хорошо платить, – сквозь зубы сказал Дорохов. – Пошли.
Они вышли на улицу. После чадного воздуха чебуречной Дорохова прохватил морозец. Он поправил шарф и натянул на уши спортивную шапку-петушок.
– Я домой, – сказал Дорохов. – Завтра встречаемся на квартире. В семь.
Димон ничего не ответил.
– Ну чего ты смотришь на меня так? – сказал Дорохов. – Ты обещал, что весь сбыт будет на тебе. Химия на мне, а сбыт на тебе. Я свою задачу выполнил. Методика работает, металл пошел. Я вообще не хочу ничего знать про покупателей. Ты меня сюда притащил, с Романом этим говорить заставил. Теперь глаза таращишь, тон мой тебе не понравился… Димон, у тебя всего лишь первый покупатель, а ты уже шугаешься.
– Да что ты накинулся-то на меня? – огрызнулся Димон. – Ну да, ты ж у нас Менделеев! Лавуазье, блин!.. А я на побегушках! «Димон – фарфор!», «Димон – гидразин!» Я, Миша, между прочим, тоже свое дело делаю! Это серьезный человек и покупатель перспективный! И не надо с ним так разговаривать!
– Ладно. Договаривайся со своим перспективным покупателем. А меня больше на все эти переговоры не води.
– Уж будь спокоен, – сказал Димон. – В первый и последний раз… Ты мне всех купцов распугаешь. Ладно, давай. До завтра.
* * *
«Сексту Афранию Бурру, претору в Ерошолойме.
Что это с Вами творится, Бурр? Что за сказки Вы мне присылаете? Я слышал, что Восток превращает трезвых людей в пугливых мистиков, и с Вами, похоже, случилась та же беда. Вам бы провести всего один месяц в Риме, наблюдая господ сенаторов. Вам бы побыть, как я это делаю уж который год, в атмосфере цинизма и бесчеловечной расчетливости, среди людей, для которых существует одна лишь политическая выгода, а более ничего. И обещаю, что по прошествии этого месяца Вы выбросите из головы мистический флер загадочного Востока.
А Ваш последний доклад был беспомощен и смешон. Я дожидаюсь от Вас проверенных и перепроверенных сведений, а Вы прислали историю о пылких проповедниках, рьяно оберегающих Храм от суетливых торгашей.
Вы пишете, что проповедники из галилеян устроили в Храме побоище и изгнали оттуда торговцев. Галилеян арестовали, но вскоре отпустили. И Вы дознались, чьими стараниями их отпустили. За проповедников хлопотали Иосиф Аримафейский и Никодим Газийский.
Итак, на площади случилась драка, оттуда изгнали торговцев. Богопослушные проповедники возмутились присутствием торгашей. Все складно и увлекательно. И все чушь – от первого слова до последнего.
Там, близ Храма, нет никаких торговцев, Бурр. Нет и не было. О боги, сколько шуму вокруг этого злосчастного Храма! Джбрим с таким воодушевлением толкуют о своем Храме – можно подумать, что во всей Ойкумене нет здания прекраснее. Я видел этот Храм, в Риме есть бани побольше, чем этот Храм. В длину он, помнится, локтей шестьдесят, в ширину около тридцати, да столько же в высоту. Величественное строение, ничего не скажешь! Только джбрим умеют нагородить столько восторгов вокруг неказистого трехэтажного дома. Там еще, помнится, налеплено множество деревянных пристроек, отчего это несуразное святилище и вовсе походит на огромный постоялый двор.
Так вот, о торговцах: в Храме их не бывало отродясь. Не каждый джбрим может попасть в Храм в обычные дни. И возле Храма, на площади тоже не было торговцев.
Но там были менялы. Знаменитые ерошолоймские менялы, превилегированный цех. Но с чего галилеяне ополчились на менял? Почему грубо прогоняли с мест? Кохены Иосиф и Никодим в своих ходатайствах напирают на «благочестивый гнев» проповедников, «пришедших в возмущение» оттого, что близ святого места собрались торгаши. Любопытно, а где прежде были эти проповедники? И где было их благочестивое возмущение? Хорошо, оставим пока эту внезапную вспышку негодования на их совести. Поговорим о менялах.
Джбрим позволено чеканить деньги. Римские монеты для джбрим по известным причинам не подходят – на римских монетах изображено человеческое лицо, а канон джбрим это запрещает. Поэтому принсепс разрешил им чеканить сикли. Вот сикли-то и продают на храмовой площади. Один сикль стоит на храмовой площади двадцать динариев.
На Апеннинах хватает серебряных рудников, но совсем нет золотых. Золото на Востоке. В метрополии за меру золота дают двенадцать мер серебра. А в Провинции за меру золота дают лишь пять мер серебра. Менялы на храмовой площади продают серебряные сикли из расчета один к пяти. Куда потом девается это золото, вымененное на площади Храма? Его отвозят в метрополию. И там джбрим продают его за серебро, но уже из расчета один к двенадцати. После этого серебро плывет в Провинцию – для того, чтобы вновь быть обмененным на золото из расчета один к пяти. Как Вам нравится такой оборот? Мне достоверно известно, что две трети меняльных столов на храмовой площади принадлежат синедриональному казначейству. Так представьте теперь, какие денежные реки текут через храмовую площадь! Текут куда? Да к периша же, мой Бурр! Прямиком к периша! Это они держат в своих руках храмовую казну и казну Ерошолоймского магистрата. С тех пор как утвердилось это вопиющие соотношение – один к пяти в Провинции и один к двенадцати в метрополии – периша накапливают средства воистину гигантские. И тому уже не один десяток лет. Они вновь и вновь пускают сикли в оборот, и казна Храма прирастает, как пухнет квашня, как плодятся блохи, как поднимается река в половодье! А Провинция меж тем влачит нищенское существование. Земледельцы и цеховые союзы что ни год просят Синедрион о помощи, а им в том отказывают. Периша погрязли в спекуляциях, а Провинция живет скудно. Только римская решительность однажды помогла Ерошолойму не утонуть в дерьме (в буквальном смысле!) – наместник силой изъял средства из Ерошолоймской казны. Он конфисковал восемьсот тысяч динариев у периша, построил водопровод и канализацию. Так что бы Вы думали? Десятки доносов на самоуправство Вителлия настрочили в Сенат оскорбленные, обобранные, несчастные периша.
А каких огромных средств лишается Рим от этих спекуляций! Кстати, когда претор Луций Элий Грат пришел на заседание синедриональной комиссии, где допрашивали тех проповедников, что устроили драку, один из них крикнул претору: «Романец! Да скажи ты им, чтобы твоему цезарю вернули цезарево!». Каково, Бурр? Галилеяне пекутся о выгоде Рима! Сектанты Провинции требуют соблюдения интересов метрополии!
Теперь понимаете, почему проповедники избивали менял на храмовой площади? Они возмущены тем, что в Провинции нищета соседствует с немыслимым обогащением периша. А иные периша поддерживают зелотов. Зелоты убивают римских граждан, они грабят горожан и разоряют земледельцев поборами. Тем временем спекулятивные капиталы периша преумножаются меняльными столами на храмовой площади. А драчливые проповедники желали бы направить денежный поток, питающийся золото-серебрянной спекуляцией кохенов, туда, где деньги послужат благу Провинции – на строительство портов и водопроводов, на субсидии земледельцам, на поддержку вольноотпущенников, на ремонт дорог и учреждение новых Schola.
Вот так-то, Бурр. И никакого вам «благочестивого гнева». Одно лишь радение о своей стране. Иным сенаторам хорошо бы поучиться у тех проповедников.
Эти сектанты устроили погром на площади Храма и тем дали понять первочередным кохенам, что не намерены больше терпеть бесполезную для народа спекуляцию.
Жду Вашего следующего отчета, мой друг. И не посылайте мне больше романтических историй, умоляю…»
…спал, и он плыл на корабле. Он крепко спал, и его плавно покачивало на волнах. Корабль шел вдоль желтых скал, на галечный берег накатывали пенные гребни, поверх скал высились, как зеленые колоссы, огромные сосны с длинными иглами и красноватыми стволами, и ветер доносил волнующий запах цветов. Покой и нега были в нем и вокруг него. Теплая, гладкая палуба медленно кренилась под босыми подошвами – в одну сторону, потом в другую. Натягиваясь под ветром, похлопывал парус, взмывали и падали к лазурной переливающейся воде крикливые чайки. Откуда-то из немыслимой дали стал доноситься мерный глухой грохот, как будто Симплегады врезались одной скальной стеной в другую. Грохот нарастал, он стал резче и чаще, он превратился в оглушающий частый стук…
– Малук! Ну что же ты, Малук!.. Просыпайся!
Он задергался, застонал и рывком сел, путаясь в покрывале. Ида отшатнулась – он едва не ударил ее головой в лицо.
– Что?! Почему… Что стряслось? – сипло сказал Севела.
Он ошалело посмотрел на Иду и провел рукой по лицу.
Кто-то громко и часто колотил в калитку.
– За тобой пришли, Малук, – испуганно сказала Ида. – Тебя вызывают на службу. Выгляни к ним, не то они перебудят всю улицу.
– Адона капитана требуют в присутствие! – раздалось с улицы.
Севела встал, растворил оконную створку и крикнул:
– Перестань стучать, идиот! Я проснулся! Не стучи больше, кишки твои на изгородь!
– Адона капитана спешно зовут в присутствие, – осторожно сказали из темноты. – Прошу извинения, адон капитан. Но майор велел вам быть поскорее.
– Иду, – громко сказал Севела невидимому посыльному. – Замолчи и жди. И не смей больше стучать, не то руки пообрываю!
– Я уже давно тебя тормошу, – обиженно сказала Ида.
– Ложись, – Севела поднял с пола калиги. – Если меня ушлют по службе, я дам знать.
Бесовка недовольно сверкнула глазами и забралась под покрывало. Севела спустился на первый этаж, надел тунику, завязал ремешки калиг и вышел во дворик. Посыльный за калиткой угомонился и больше не колотил. Севела поднял полу туники, помочился и вышел за калитку.
Там стоял молодой Зокир. Парень ковырял в носу и сонно моргал.
– Ты? – удивленно сказал Севела. – Опять брата заменяешь? Чего колотишь, как полоумный?
– Адон майор велел сей миг вас разбудить, адон капитан, – боязливо сказал стражник. – Я уж и тише стучал, и камешки бросал в ставни. Не просыпались вы.
Севела посмотрел на олуха и подумал, что парень все выполняет, как велели, и незачем ему выговоривать. Велели быстро разбудить капитана – он и разбудил. А беречь сон квартала ему никто не велел. Стоит взмокший, бежал сюда во все закорки. И спать, поди, хочет – глаза мутные… Старательный парень.
– Ну хорошо, – мирно сказал Севела. – Хвалю. Скажу Натану, чтоб отметил тебя. Пойдем, стражник.
Он хлопнул парня по плечу и двинулся по улице.
– Что стряслось – знаешь? – поинтересовался он, когда отошли от дома.
– Так все знают в присутствии… – пробормотал парень из-за спины Севелы. – Тому два часа, как повозка приехала…
– Какая повозка? Что ты там бормочешь? – сказал Севела через плечо. – Почему в резидентуру меня зовут посреди ночи?
– Так оно ж, адон… – растерянно сказал молодой Зокир, торопливо поравнялся с Севелой и, вытянув шею, искоса поглядел. – Так повозка же… А он, стало быть, в повозке лежал. Как положили его на плащ во дворе, так майор пошел в кабинет к себе, лица на нем не стало… После его превосходительство Светоний прибыли и тоже к майору поднялись. А майор затем вышел, и сказал: живо, говорит, за капитаном Малуком. Разбуди, говорит, и сей же миг пусть проследует в присутствие.
Ночной вызов (а давно ведь уже не случалось ночных вызовов) Севелу не обозлил. Он шел в прохладной темноте, глубоко вдыхал свежий воздух и был бодр.
– Что ты там бормочешь, молодой? – добродушно сказал Севела. – Какая еще повозка? Кого на плащ положили?
– Так беда ж… – сказал стражник, поспешая за Севелой. – И адона Зоца вызвали, а лейтенант Уриэль с вечера в присутствии, так и не уходил… Весь отдел Гермес нынче созывают. Беда же случилась, адон капитан. Мне велели: беги, сколько сил есть, незамедлительно капитана Малука сопроводи в резидентуру… Прочих стражников тоже по адресам разослали. Всем офицерам из отдела велено прибыть в присутствие сей же час.
– Ты что это такое говоришь? – Севела остановился, встревожась. – Что за беда? Да не молчи же, дуралей!
Стражник тоже встал.
– Что за беда случилась? – тихо спросил Севела.
Дурное предчувствие скользнуло холодком.
– Из Вифании плохое известие, адон, – робко сказал стражник. – Две романские декурии там полегли.
У Севелы перехватило горло. Он с усилием сглотнул, ладони закололо, как иголками, и в висках застучало.
– Ну же! – хрипло вытолкнул он слова. – Никодим?.. Что с Никодимом?!
– Ну, так оно ж… В отряде известно, что друзья вы… – пролепетал парень. – Пал адон Минуш. В бою с зелотами пал третьего дня. Его в повозке привезли, как стемнело… В животе рана с ладонь. И рука левая отдельно лежит, отрубили руку. И еще сзади били, в спине две раны… Врач Луша бен Рафаил тело освидетельствовал, сказал, что раны были смертельные, что сразу умер адон Никодим Минуш.
У Севелы онемели щеки.
– О-о-о!!! – завыл он и вцепился в лацерну стражника.
«Никодим… Никодим… Друг мой надежный… Один пошел в Вифанию. Без меня пошел. Меня от Элеазара вывез, а в Вифании один оказался…»
– Так… Да что же вы, адон… – задушенно выдавил стражник, силясь высвободиться. – В чем я-то виноват, адон?..
– Все… Все… – Севела разжал пальцы. – Пойдем, молодой…
И он побежал по темной улочке.
В присутствии было многолюдно и шумно, как днем никогда не бывало. Во дворе выстроился отряд. Лиц было не различить, строй колыхался темной массой. Слышались приглушенный говор и стук древк о плиты. От отряда отделилась фигура – Натан. Был он хмур, одет по-боевому. Шагнул вперед, отсалютовал своему капитану. Севела кивнул и вошел в резидентуру, запнувшись об истертый порожек. Было полутемно, масляные фонари на стенах испускали колеблющийся свет. По узкому коридору поспешно просеменили два писаря. Прошел, задев Севелу плечом, сутулый капитан из отдела Родос.
«Третьей декурии принять строй! – зычно сказал капитан. – Живо, шлюхины дети! Капрал Азрута – старшим!»
Тотчас же по коридору повалили стражники. Деревянная лестница гудела и скрипела от шагов, по ней, в полутьме, торопливо поднимались и спускались офицеры. Возле кабинета Нируца Севела столкнулся со Светонием.
– Про Минуша, верно, уже знаешь? – спросил полковник.
Выглядел он нездорово. Лицо заросло седой щетиной, веки припухли. Всегда выбритый до блеска, затянутый в ремни, резидентарий Марк Светоний сейчас похож был на неряшливого старика, которого разбудили до рассвета.
– Посыльный рассказал, – коротко ответил Севела.
– Сочувствую… – буркнул Светоний. Он глядел в пол и, видать, не знал, как с Севелой сейчас говорить. – Он был образцовый офицер. Горе у тебя, Малук… Ты хорошего друга лишился.
Севела промолчал.
– Иди к Нируцу, – Светоний взял Севелу за локоть, легко подтолкнул к двери. – О Минуше жалею… Я не раз терял боевых товарищей. Прошел с Марцеллом от Рейна до Дуная. В парфянской компании, в пятнадцатый год правления принсепса Тиберия, я потерял две трети своей центурии… Знаю, что такое – хоронить боевых товарищей… Прими мое сочувствие, капитан.
– Как такое могло случиться, адон полковник? – спросил Севела. – Романцы должны были дать ему опытных бойцов… Никодиму обещали две декурии, я знаю.
В другое время он не осмелился бы спрашивать резидентария. Но нынче, когда погиб Никодим, Севела готов был дерзить любому. Он знать хотел: как такое случилось, что друг его надежный остался без должного усиления?
– Ему дали эти декурии, – мрачно сказал полковник. – Только толку из этого не вышло… Майор все расскажет тебе.
Севела отсалютовал и вошел в кабинет.
Нируц сидел, склонившись над столом, где лежало множество исписанных листов. Поверх документов стоял глиняный светильник, язычок огня метался и шипел. По стенам качались черные тени. Напротив Нируца сидел незнакомый рыжий офицер, он что-то тихо говорил Нируцу и показывал пальцем на строку в документе.
Севела вошел, прикрыл за собой дверь, петля низко скрипнула. Нируц поднял голову и прищурился.
– Пришел… – сказал он и встал, со стуком сдвинув стул.
Севела молча стоял у дверей. Рыжий офицер чуть склонил голову к плечу и с любопытством посмотрел на вошедшего. Нируц подошел вплотную, так, что Севела чувствовал его дыхание.
– Ты, наверное, знаешь уже… – сказал Нируц.
Он приобнял Севелу и прикоснулся своей щекой к его щеке. Они постояли так несколько мгновений, Нируц отстранил Севелу и шагнул к столу.
– Теперь мы без Никодима, капитан, – сказал Нируц безжизненно. – Редкого храбреца убили эти выблядки.
Севела молчал. Глаза щипало, а в груди была холодная пустота.
– Прими мое сочувствие, капитан Малук, – скрипуче сказал от стола рыжий. – Майор мне сказал, что погибший лейтенант Минуш был тебе товарищ.
– Это суб-капитан Траян Агерм из Дамаска, – Нируц показал ладонью на рыжего.
Суб-капитан тем временем разглядывал Севелу. Он не салютовал старшему офицеру и встать не спешил. Севеле доводилось встречать лейтенантов, что не спешили салютовать майорам. И капитанов он видывал таких, что позволяли себе небрежно говорить с центурионами.
Севела всегда таких выскочек сторонился.
Но Траян-Идумеянин был человеком особым, известным.
На вид ему не было и двадцати, однако же Севела знал, что рыжий не так молод, двадцать восемь лет ему. Он любимец Вителлия, и гражданин, хоть и родился в Идумее. Вот уж два года он водит отряд, лукаво прозываемый «курьерской службой». Это наместник Помпоний Флакк некогда велел учредить отряд в сто мечей для тех дел, в которые нельзя посылать легионариев. За два года рыжий прослыл самым безжалостным истребителем зелотов от Газы до Парфии. «Курьерскую службу Флакка» зелоты страшились, как гнева Предвечного. Под началом суб-капитана служили одни уроженцы, они Провинцию знали как свою ладонь. Крестьяне ни за что не давали приюта зелотам, коли знали, что в окрестностях рыщут люди Идумеянина. Рыжий для такой своей славы немало потрудился. По негласному дозволению Вителлия он мог творить все, что заблагорассудится. Когда минувшей осенью большой отряд зелотов вошел в Карнаим, центурия Траяна-Идумеянина сожгла город дотла. Рыжий ранним утром скрытно подошел к Карнаиму и перебил всех зелотов до последнего. Перебил он и без числа жителей, а город спалил. В острастку всем, кто еще захочет принимать зелотов.
Словом, человек был известный.
– Расскажи про Никодима, – сказал Севела. – Как он погиб?
– Вот что, майор… Я, пожалуй, пойду к своим людям, – Идумеянин встал. – Сейчас у вас во мне нужды нет. Вы позволите, адон майор?
– Хорошо, адон Траян, – Нируц кивнул рыжему. – Встретимся утром… Полковник Светоний распорядился, вам отвели казарму в Акре. Велите своим людям быть там, на рынки пусть не ходят.
– Благодарю, – сказал рыжий. – До встречи, майор. До встречи, капитан Малук.
Нируц проводил суб-капитана до двери.
– Почему Идумеянин в Ерошолойме? – спросил Севела, когда Нируц закрыл дверь. – Это из-за потерь в Вифании?
– Нет, – Нируц сел напротив. – Нет… Идумеянин вышел из Дамаска четыре дня тому назад. Тогда еще не было потерь в Вифании.
– Тогда почему он здесь?
– Светоний и Бурр в прошедшую неделю отправили письмо Вителлию. В том письме они просят претора откомандировать Траяна с его центурией в Ерошолойм.
– Зачем Бурру Идумеянин?
– Все тебе расскажу, погоди… Завтра будет совещание с суб-капитаном и его декурионами. Ты тоже будь там.
– Скажи – что было в Вифании?
Нируц глубоко вздохнул и провел ладонью по лицу.
– Всего я не знаю, – сказал он устало. – Я принял донесение романского капрала, что сопроводил тело Никодима… Он, вояка этакий, выгораживает своих… Романцы, конечно же, все свалят на Никодима. Капрал говорит, что Никодим неоправданно поспешно приказал атаковать.
– Как так «неоправданно поспешно»? Они не на праздник шли! Их отправили на вспашку!
– Так и было. Ему выделили две декурии. Но это были декурии не из лучших. Полегли все, в живых остались только пятеро стражников из Вифании и этот капрал. Когда Никодим увидел, что за воинство ему дали под начало, он вытребовал в магистрате еще полтора десятка стражников.
– Им не удалось застать ублюдков врасплох, да?
– Не удалось, – угрюмо сказал Нируц. – Они замешкались у ворот. Когда вошли во двор – зелоты были наготове. Никодим шел в голове отряда, его убили первым. Капрал говорит, что Никодима окружили, едва он оказался во дворе. Отрубили руку и закололи… Больше капрал ничего не видел, кроме зелотских мечей. Говорит, что дрался так, как никогда в жизни не дрался, что мечи мелькали вокруг него, как осы… Сказал, что эти бешеные пастухи во сто крат хуже германцев.
– Так ублюдки ушли?!
– Они ушли гуляючи! – Нируц сплюнул. – Не торопясь ушли, раненых унесли, трупы унесли… Стражники и не пытались их преследовать, рады были, что остались живы… Я их не виню, стражники не могли справиться с ублюдками. Это ведь романцам было поручено перебить людей Шомона, а не стражникам из Вифании… Светоний теперь всю резидентуру поднял на аресты. Полковник в бешенстве. Велел всякого, кто хоть когда-то был замечен в сочувствии зелотам, волочь в крепость Антония.
– А что станет делать в Ерошолойме Идумеянин?
Нируц прокашлялся и сказал:
– Траян поможет укоротить галилеян Тира… Сейчас надобно, чтобы община Тира перестала существовать.
– Тум, эти люди…
– Ты, капитан, слишком увлечен своим гончаром, – холодно сказал Нируц. – Мне кажется, что ты забыл, в чем состоит твой служебный долг.
– Я никогда не забывал о служебном долге! – возмутился Севела. – Но Идумеянин – убийца! Я о нем наслышан предостаточно… Ты что же это – намерен науськать курьерскую службу Флакка на галилеян?.. В своем ли ты уме, мой майор? Галилеяне мирные люди, а ты натравишь на них этого головореза?!
– Не смей так говорить со мной! – крикнул Нируц.
Он выпрямился и уставился Севеле в глаза. Нируц побледнел, его тонкие губы подергивались, глаза сузились, и ничего в нем не оставалось сейчас от благодушного майора, покровительствующего своему земляку. В нем сейчас виделось то граничащее с яростью раздражение, что прорывается у людей, поглощеных наизначимейшим делом, в то время как людей этих отвлекают на чепуху.
– Если я был невежлив – прости, – сказал Севела. – Я твой щенок, ты сделал из меня офицера… У меня голова идет кругом, майор… Никодим погиб, товарища моего надежного убили в Вифании эти твари… К чему травить галилеян? Зачем отдавать их рыжему убийце? Пусть люди Траяна режут зелотов, раз уж Идумеянин пришел в Ерошолойм… Но отчего ты сейчас вспомнил галилеян?
– Я оттого их вспомнил, дуралей, что зелоты в сравнении с галилеянами – пустейшая мелочь! – тяжело произнес Нируц. – Никодима убили… Да я не меньше твоего почитал и любил Никодима! Это же честнейший был человек! Храбрый, разумный! Но пойми ты, дуралей, что он сейчас и мертвый может послужить Провинции!
– Тум, я не понимаю тебя! – в отчаянии выкрикнул Севела и прижал ладони к вискам. – Я часто тебя не понимаю, но сейчас мне страшно оттого, что я тебя не понимаю!
И он ударил обоими кулаками по столу.
Нируц протянул руку и прихватил Севелу за шею.
– Мой ты дуралей, – Нируц хлопнул Севелу по щеке. – Мой ты эфраимский пылкий дуралей… Ведь ты же хотел быть свободным и знающим, мальчик?.. Да не жалей ты галилеян, а жалей несчастную Провинцию!
– Я одно знаю верно, – сказал Севела. – Если Идумеянин прибыл в Ерошолойм для охоты на галилеян – плохи дела галилеян!
– Не тех ты жалеешь, – пробормотал Нируц.
– Как мертвый Никодим может послужить Провинции?
– Ты готов слушать меня?
– Да я и мертвый, кажется, буду готов тебя слушать. Говори. Говори, проклятый казуист!
– Гибель Никодима поможет мне использовать отряд Идумеянина. Не погибни Никодим – Светоний не убедил бы Вителлия отдать отряд Траяна под мое начало. А теперь у Светония есть причина задержать в Ерошолойме центурию Идумеянина. Еще вечером к Вителлию отправили курьера с письмом. Я все сделал для того, чтобы это письмо звучало как можно драматичнее. Думаю, Вителлий не откажет Светонию в просьбе… А второй курьер поскакал в Дамаск, вскоре после первого. Он везет Вителлию письмо от Каиаху.
– Вот как?
– Знал бы ты, чего мне стоило пройти к первосвященнику в полночь! Я описал ему положение дел, сказал, что погиб лейтенант Службы, и упросил его преосвященство спешно написать Вителлию.
– Ты знаешь, что в том письме?
– Он просит претора Вителлия о помощи. Зелоты-де переполнили меру его терпения… Вителлию нужны добрые отношения с первосвященником. А тут такая удобная для него просьба…
– В чем же удобство?
– Так Каиаху же просит Вителлия задержать в Ерошолойме не романскую центурию! На такое Вителлий бы не согласился. Он не может через голову наместника перемещать из Дамаска в Ерошолойм легионариев. А послать отряд уроженцев – чего проще? Рассуди сам: как удачно все складывается теперь для обеих высоких персон! Вителлий выполняет просьбу первосвященника и не вызывает тем самым недовольства наместника. Каиаху лишний раз показывает наместнику свое рвение в преследовании зелотов… А я получаю выученный отряд уроженцев и волен распоряжаться им, как мне надобно. На то есть указание Светония, пожелание Каиаху и – я очень на это рассчитываю – будет распоряжение Вителлия.
– Идумеянин позволит распоряжаться его людьми? – недоверчиво спросил Севела.
– Это моя забота. Мы с Траяном старые друзья. Мне доводилось оказывать ему услуги.
– Ты давно с ним знаком?
– Шесть лет его знаю. Он начинал службу в Ерошолойме. Однажды я спас его от расследования. А обвинение было тяжким…
– Какое?
– Тяжкое обвинение… И если бы не я, то не было бы карьеры Траяна Идумеянина. Уж ты мне поверь.
– Верю, – искренне сказал Севела. – Ты умеешь завязывать прочные дружбы, мой майор.
– Кроме того, мы с суб-капитаном Траяном полностью сходимся во мнениях обо всем, что касается галилеян, – удовлетворенно сказал Нируц. – Он по моей просьбе расследует деятельность дамаскских братьев-галилеян второй месяц.
– Но скажи мне, почему именно теперь ты намерен напустить Идумеянина на галилеян?
– Галилеянами интересуются в Риме. Сам Бурр допрашивал одного из них.
– Гончар говорил, что рав Амуни гостит теперь на вилле у Бурра.
– Амуни не гостит уже у Бурра, – помрачнев, сказал Нируц. – Амуни отправили в Рим.
– Зачем?
– Зачем романцы возят в метрополию слишком умных джбрим? Кажется, Бурр начал понимать, что галилеяне для Рима опаснее, чем зелоты… Я читал стенограмму допроса Амуни. Собственно, это была беседа, а не допрос. Они говорили о Тире. Бурр любит этот город, первое его назначение было в Тир. Амуни разговорился, и теперь претору известно, что в Тире создалась большая галилеянская община. Претор доложит об этом Лонгину. Бурр когда-то был клиентом Луция Лонгина. Он ежемесячно списывается с Лонгином и доносит обо всем, что происходит в Провинции и в Службе. А сенатор Луций Кассий Лонгин – это человек могущественный! Он великий политик… Раз галилеяне заинтересовали самого Лонгина – плохо дело, капитан…
…опять прошел из угла в угол. Постоял у стены, кусая губу, и опять пересек комнату. Дважды скрипнули половицы, визгливо – когда Нируц шагнул от стены, и тягуче – когда он прошел мимо стола. Севела молчал, им овладело оцепенение. Все было предрешено. Несчастных галилеян Тира ждали арест и убийственный путь в Ерошолойм.
– Как теперь все случается скоро… – пробормотал Нируц и закрыл лицо ладонями. – Теперь события понеслись вскачь, одно за другим. Пусть так… Меня изнурило ожидание беды.
Севела все cидел на стуле, он сцепил руки, а спину держал прямо, словно одеревенел. Он уставил взгляд в одну точку на полу, на коричневый спил сучка в навощеной доске.
– Очнись же, капитан! – настойчиво сказал Нируц. – Ты ведь и сам знал, что разговоры когда-то закончатся, верно? Они закончились. Теперь надо пошевеливаться… Ты меня слышишь, капитан?
Севела не ответил.
– Послушай меня. Ты боишься за Амуни, да? Но ты ведь в глаза его не видел! Какое тебе дело до него? Ну да, твой гончар почитает Амуни, знаю… За Амуни бояться не следует. Бурр к нему расположен. Претор беседовал с ним так же, как ты беседовал с гончаром. Бурр отправил c Амуни своего порученца. Смышленый человек, давно его знаю, лейтенант Алексиан Проб…
– Что из того? – разлепил губы Севела.
– Ну наконец-то ты открыл рот, – с облегчением сказал Нируц.
– Амуни будут допрашивать?
– Его будут допрашивать, но обходиться с ним станут мягко. Затем-то Бурр и отправил с Амуни лейтенанта Проба. И гончара твоего тоже никто не тронет.
– Не лучше ли обойтись без Идумеянина?
– Проворнее, чем Траян, в таких делах не найти, – Нируц пожал плечами и добавил: – Идумеянин будет предан в усиление.
– В усиление? Кому в усиление?
– Тебе.
– Что? – ошеломленно спросил Севела. – Я не ослышался?
– Я приказываю тебе взять под начало центурию и выступить в Тир. Траян будет в полном твоем подчинении.
– Зачем делать такое? Это же безвредные люди!
Еще час назад у него сохранялась надежда. Зыбкая, еле живая надежда. Нируц не станет этого делать, шептал он самому себе еще час назад. Это неразумно, в этом нет нужды! – так он шептал себе и своей надежде, и она кивала ему и ободряюще улыбалась. Не станет, шептала в ответ надежда. Это ошибка – поступить так с людьми из Тира, Нируц умен, он откажется от своего замысла, успокаивала надежда.
– Утром ты отправишься в Тир. Проведешь центурию скорым маршем, арестуешь сто двадцать восемь человек и препроводишь их в Ерошолойм, в крепость Антония.
– Но какая в том нужда?!
– Похоже, мне надо начинать сначала, – раздосадованно сказал Нируц. – Сколько уже говорено об этом, но надо начинать сначала…
Он недовольно посмотрел на Севелу и щелкнул пальцами.
– Амуни препровождают в Рим, капитан. Его превосходительство Секст Бурр велел Светонию написать отчет о «вновь объявившейся секте» – цитирую его превосходительство. «Вновь объявившейся»! Каково!.. Скоро Бурр прикажет мне предоставить все записи о расследовании.
– И ты предоставишь Бурру эти записи?
Нируц покосился на дверь, наклонился к Севеле и шепнул:
– Так нет же никаких записей! Есть мои распоряжения о командировках лейтенанта Зоца и капитана Малука. Есть отчеты Зоца и Малука. А более нет ничего!
– Так ты не документировал расследование о галилеянах? – прошептал Севела.
Нируц покачал головой.
– Ни единого документа я не передавал Светонию. Все они хранятся здесь, в этом кабинете.
– Но как же ты отчитаешься перед Бурром?
– Это моя забота… Ты видишь – претор Бурр обратил наконец внимание на галилеян. Он неглуп, этот Бурр. И у него прекрасный наставник… Если в руках романцев будут лишь проповедник Амуни и мои отчеты… А я, уж поверь, сделаю так, чтобы это оказались короткие и бестолковые отчеты! Если у проконсула Азии будут только проповедник Амуни и отчеты майора Нируца, то романцы интерес к галилеянам потеряют. Но для этого нужно, чтобы к тому времени, когда Лонгин прибудет в Провинцию, здесь не было никаких галилеян!
– Сто двадцать восемь человек ты хочешь спрятать от Бурра в крепости Антония! Сто двадцать восемь человек скрытно перевезти из Тира в Ерошолойм! А тамошний магистрат? А что скажут в кварталах? И романцы… Ты проведешь сто двадцать восемь человек многие мили, мимо романских патрулей?
– Ты проведешь, – сказал Нируц.
Севела скривился.
– Ты проведешь эти сто двадцать восемь человек из Тира в Ерошолойм, – повторил Нируц. – А Траян тебе поможет. И в Тире он тебе поможет. Патрули придираться не станут. Романцам будет доложено, что Служба пленила в окрестностях Тира банду зелотов. С тамошним администратом Траян договорится, в Тире слышали о Траяне Идумеянине.
– А романцы? Они удовлетворятся таким объяснением?
– Еще раз говорю тебе – вы же не за галилеянами отправитесь в Тир, дурачина! Вы отправитесь туда за зелотами! И будет на то распоряжение Вителлия и Светония! Спору нет, не надо мозолить глаза романцам. Да, тайком провести сто двадцать восемь человек нелегко… Ну так вот тебе нелегкое дело, капитан! Выполни его!
– Арестовывать только мужчин?
– Еще чего! – сказал Нируц с медью в голосе. – Арестовывать всех, кто живет в указанных домах. Маленьких детей передать соседям – но быстро!.. Всех, кто старше тринадцати лет – гнать в Ерошолойм. Я отвожу вам с Траяном три дня на то, чтобы доставить галилеян в Ерошолойм.
– Тум, друг, но как же это так – три дня?.. – еле слышно спросил Севела. – Да кто же такое выдержит – за три дня из Тира в Ерошолойм? А пища? А вода?
– А пальмовое масло? А притирания и пудра? А паланкины и ванны с ароматными солями? Кто захочет жить, кишки на изгородь, – тот дойдет. И вот еще что. Ты там не нежничай с ними! Сожми зубы, задави свою жалость и веди их в Ерошолойм!
Севела стиснул зубы, как он должен был делать это в дороге из Тира в Ерошолойм.
– Вся галилеянская община Тира должна исчезнуть без следа, – произнес Нируц. – Это их самая многочисленная община. Если ее не станет, романцы забудут о галилеянах.
Севела горько усмехнулся.
Нируц дернул бровью, вопросительно посмотрел, но поскольку Севела ничего не сказал, то Нируц продолжил речь.
– Амуни родом из Тира. Допросив его, проконсул Лонгин пошлет эмиссаров в Тир, – уверенно сказал Нируц. – А там к тому времени никаких галилеян не окажется. И тогда, я надеюсь, Бурр отпишет Лонгину, что секта эта малочисленна и незначима. А все остальное, что нам известно о галилеянах, и все, что они создали, что напридумывали, мы от романцев скроем… Ну а там будет видно.
За окном уже серело предрассветное небо, нежно щебетали птицы. Шум и торопливые шаги в здании резидентуры утихли.
Нируц устало расправил плечи и сказал:
– Будь они все прокляты… Что одни, что другие… Что романцы, что галилеяне.
– Да что ты говоришь такое, Тум? – безнадежно сказал Севела.
Нируц, старший друг, подсказчик и учитель, решения своего уже не изменит. Грязное дело совершится.
Нируц закашлялся.
– Твоего гончара не тронут, – он отер губы. – Ты ведь крепко подружился с ним? Скажи ему только, чтобы держал язык на привязи… И пусть не вздумает писать в Тир!
– Ты что же – таким жестоким способом прячешь галилеян от романцев?
– Прячу, капитан. Я бы зарыл их в песок – кабы мог. Вместе с достопочтенным Амуни, вместе с достопочтенным Шехтом, вместе с Цоером и твоим гончаром. Зарыл бы и насыпал поверху гравия. Замостил бы и велел забыть их имена… Кабы мог. Проклятые умники… Вот так я прячу галилеян от романцев: велю гнать сто двадцать восемь человек из Тира в Ерошолойм! Треть, если не половина, поляжет в дороге… Но их надо спрятать от романцев, капитан. Иначе – беда! Они навлекут на Провинцию страшное бедствие, если я их не спрячу. Если не спрячу в башню Антония, если не спрячу в песок…
«Он заговаривается! – подумал Севела. – Он бредит!»
– Убийственная бессмыслица! – сказал Севела. – Это ведь достойные люди! Хорошие люди!.. Зверство, никчемное зверство!
– Эти достойные люди выйдут Провинции дороже Хасмонеев! Коли романцы разглядят общину Тира… Если я не успею их устранить до того, как Амуни попадет к Лонгину… Да пойми же ты, капитан, – романцы усилят Четвертый легион!
– Что?.. Почему?
– Я многое знаю о сенаторе Луции Лонгине, – сказал Нируц обычным голосом. – Он подлинный стратег и прозорливый политик. Он умен и опасен. Лонгин допросит Амуни. Трех… двух разговоров с Амуни, с этим наивным и говорливым Амуни, ему будет достаточно, чтобы понять, какую опасность представляют галилеяне для Рима! Лонгин высокообразован, и он один из попечителей того самого экономического лектория Суллы Счастливого, где я когда-то обучался. Все эти надменные политиканы из Сената Лонгину не ровня. Он сумеет связать между собой теософию и экономику. Он мгновенно поймет, к чему приведет преумножение галилеян. Ему и часа не понадобится, чтобы это понять. Он все разъяснит сенаторам и потребует мер решительных. Тогда романцы усилят Четвертый легион. Они разместят в Провинции новые гарнизоны…
Севела открыл рот.
– Послушай же меня! – повелительно нажал голосом Нируц. – В Провинции теперь зыбкое равновесие… К романцам в Провинции привыкли, а зелоты не набрали той силы, какую им бы хотелось. Джбрим не любят романцев, да. Но до поры не любят их молча! В Провинции нынче спокойствие. Если положение хоть на малость изменится, если романцы приведут сюда новые когорты – джбрим схватятся за мечи.
Севела облизнул губы.
– Вообрази же, что Рим введет в Провинцию еще несколько когорт! – хрипло сказал Нируц. Его лицо, всегда такое тонкое и насмешливое, теперь пугало. – Их же нужно прокормить, эти когорты!.. Да если бы романцы неслышно вошли и попросили кормить их новые гарнизоны… Но как бы не так! Они будут реквизировать зерно и скот, они будут распинать недовольных. Лонгин начнет искать среди кохенов Синедриона тех, кто, как ему покажется, галилеянам сочувствует. Он вынудит Каиаху совершить перестановки в Синедрионе… И нарушится то самое зыбкое равновесие!
Нируц умолк и вздохнул. Тогда Севела спросил:
– Отчего Лонгину не поручить преследование галилеян Внутренней службе?
– Я рассчитывал на это поначалу, – Нируц вяло махнул рукой. – Этого не будет. Проклятое романское высокомерие… Во Внутренней службе слишком много уроженцев, а романцы им не доверяют. Кроме того, в Галлии, как я слышал, теперь царит мир. Один легион романцы перемещают из Галлии на фронтир с германцами… Они не оставляют легионы на одном месте подолгу. Легионариям нельзя обживаться в провинциях. Легаты начинают питать опасные для принсепса фантазии… Сейчас как нельзя более подходящий момент для перемещения войск из Галлии в Провинцию. Извечное высокомерие романцев, капитан… Надменные романцы! Они готовы ввести новые когорты, но только не положиться на Внутреннюю службу! Они сотворили Службу и выпестовали, но в важных делах полагаются на легион. И вправду, капитан – к чему отдавать законный приказ образованным и лояльным уроженцам? К чему полагаться на людей, которые желают покоя и достатка Провинции? Зачем романцам доверять тем, кто знает Провинцию как свою ладонь, тем, кто годами рассылает агентов от Тира до Газы?! Решительно незачем! Куда как проще победно топотать по Провинции. Разорять земледельцев, отнимать имущество, насиловать и стучать о землю древком – вот, мол, мы, великий Рим! Мы пришли сюда и напомнили, кто хозяин в Ойкумене!
– Странно мне слышать от тебя такое. Ведь ты романофил. Ты предан Риму – я знаю.
– У Рима два лица, капитан, – тускло сказал Нируц. – Рим суров, но Рим и благодушен – когда ему повинуются. К окраинам Магриба Рим всегда повернут лишь одним лицом. Торжествующей, жестокой рожей центуриона.
– А прежде ты любил Рим…
– Я преклоняюсь перед гением Рима. Но я ненавижу Рим.
– Но ты служишь Риму!
– Я служу себе. Я служу правилам, в которых меня воспитал отец. Я служу этим безмозглым и неуемным джбрим… Вот кому я служу. Но я, увы, служу в мире, которым правит Рим.
– А мне-то казалось, что тебе нет дела до нашего народа. Сколько раз я слышал от тебя это «нет дела». И я думал, что тебе «нет дела» и до джбрим.
– Не так, капитан! Не так. Плохо знаешь меня, капитан. Отец воспитал меня космополитом… Но мой отец – джбрим. И я – джбрим. Я говорю на лацийском и иеваним, в Риме я чувствую себя как дома. И в Коринфе, и в Милете я чувствую себя как дома. Но я джбрим – по крови и по миропониманию!
– Никогда прежде ты так со мной не говорил, – сказал Севела с сожалением.
Нируц оскалился, на лице его проявились мстительность и зло – давние, долго скрываемые.
– Рим – это жестокость, – гадливо сказал он. – Безмерная жестокость. Я жил в Риме подолгу, дважды… Я знаю этот народ. Дух Рима это примитивная чувственность и грубость. Того народа простых и честных земледельцев, который расширил Лаций до границ Ойкумены и одолел Ханнубала, – его больше нет. А может, и никогда не было… Основа романского духа во все времена неизменна – жестокость!.. Меняются лишь пределы, в которых проявляет себя романский дух. Они придумали свое идеальное прошлое… Их упоение величием своего государства, их majestas imperii – это высоокомерное равнодушие к людям в колониях и автономиях. Их общественная мораль лицемерна. На словах романские сенаторы пекутся о том, чтобы изгнать подкуп голосов с Марсова поля, рознь из курий, укротить бесчинства в театрах, воцарить справедливость и трудолюбие, возбудить охоту к добрым делам… Все – лицемерие. Романские моралисты толкуют о способности умерять дух, moderationis animi… Романские риторы провозглашают гуманность, целомудрие, справедливость – humanitate, pudicitia, iustitia… Но это – не для автономий! Мир страшен, не знаю я народа, который был бы истинно разумен и добр… Джбрим – угрюмые безумцы… Сколько они существуют, столько истребляют друг друга. Но в жестокости им далеко до романцев! А мне претит жестокость, капитан! Да, я велю гнать десятки мирных людей из Тира в Ерошолойм, под убийственным солнцем, без еды, без отдыха… Если этого не сделать, то Лонгин разглядит в галилеянах подлинную опасность для Рима. И тогда романцы растопчут Провинцию!
– А если галилеянской общины в Тире не станет, так и Лонгин уймется?
Севела в это не верил. И Туму он теперь не верил.
– Только на это и надеюсь. Только на это уповаю. Коли Лонгин не найдет в Тире галилеянского сообщества, то он отвлечется на другие свои дела. Что бы там ни рассказал Лонгину почтенный Амуни, подтверждения этому не будет. Амуни всего лишь проповедник… Мечтатель, вроде гончара Пинхора. Лонгин сможет узнать о Schola, верфях, рудниках и цехах, только если станет их искать. А с чего ему их искать? Он пошлет эмиссаров в Тир, те отпишут, что проповедник Амуни преувеличил число своих единоверцев. Если в Тире не найдут большой общины, Лонгину трудно будет склонить сенаторов к усилению Четвертого легиона. Только на это я и надеюсь.
– Когда мне выступать в Тир?
– Завтра. До рассвета.
Севела почувствовал облегчение.
«Хорошо, что не надо нестись в Тир сию минуту, – подумал он. – Мне нужно несколько часов покоя и тишины, мне нужно побыть в одиночестве… Я не хочу гнать этих несчастных в Ерошолойм. За три дня им не дойти. Это невозможно, даже конный не доберется до Ерошолойма за три дня… Они будут падать в пыль, они изнемогут от жары и жажды. А там ведь будут женщины, много женщин. И подростки…»
– Тум, от Тира до Ерошолойма больше двухсот миль… Прикажи посадить этих людей на судно, пусть их перевезут в Яффу по морю.
– Какое судно? О чем ты? Все вместительные суда у романцев. К тому же, мне передали центурию Идумеянина для охоты на зелотов. Что мне сказать Вителлию? Что я устраиваю зелотам морские прогулки? Я не могу спрятать галилеян нигде, кроме Ерошолойма! Есть резидентура в Бет-Лехеме… Но кто я такой для тамошних? Им тоже прикажешь объяснять, что отдел Гермес из ерошолоймской Службы не этапирует зелотов и сочувствующих, а прячет от проконсула Азии сектантов? Нет другого выхода. Общину галилеян надо спешно этапировать, вести окраинными дорогами, по ночам тоже вести.
– Они погибнут, – коротко сказал Севела.
– Я погорячился, когда говорил «три дня»… Но за пять-шесть дней ты должен доставить их в Ерошолойм. Я пошлю депешу в Скифополь. Оставить там галилеян нельзя. Даже часть их нельзя оставить в Скифополе – крохотный городок. Резидентура размещается в старом романском лагере… Уж и не знаю, что наплету в депеше… Тамошней резидентурой управляет лейтенант Архелай, мы с ним в дальнем родстве. Надеюсь, он даст тебе несколько крытых повозок. Посади в них женщин, и самых слабых тоже посади… Я как-то бывал в том лагере. Там много лет хранятся плащи.
– Плащи?
– Говорю же тебе – это старый, полуразрушенный лагерь романцев… Он невелик, рассчитан на две или три когорты. Пару лет назад я инспектировал скифопольскую резидентуру и помню тот лагерь. Там есть старый склад, заваленый до крыши тряпьем. В лагере хранится огромная груда старых пехотных paenula. Обряди галилеян в армейское рванье. Со стороны твой конвой сможет сойти за отряд милиции.
– Когда мне следует быть в резидентуре?
– Возвращайся после полудня. Переночуй здесь и перед рассветом выступи.
Севела встал.
– Спустись в подвал, – сказал Нируц. – Там Никодим. Простись с ним…
…когда солнце уже поднялось над крышами. Ида вышла из кухни и вопросительно посмотрела.
– Я вечером уеду, Ида, – сказал Севела. – Вернусь через несколько дней.
Она кивнула и ушла. Она привыкла к его спешным отъездам. А он знал, что сейчас Ида соберет его торбу со всем, что нужно в путешествии. Она положит в эту торбу чистую тунику, калиги, сушеные фрукты, письменные принадлежности, шерстяной плащ, одеяло и баклагу с родосским.
Севела поднялся в кабинет, сбросил с ног сандалии и сел за стол. Он придвинул к себе чистый лист, взял из подставки стилос, окунул кончик в краску. Потом отложил стилос, испачкав столешницу, поставил локти на стол и подпер лицо ладонями. Пора уже написать отцу. Он давно не писал отцу и не видел его полгода.
Он на мгновение закрыл глаза и представил, как будет гнать из Тира сто двадцать восемь человек. Они собьют ноги, они будут брести, растянувшись по пыльной дороге, самые слабые вскоре начнут отставать… Люди изранят ноги. А конвойные будут скакать вдоль растянувшейся толпы и подгонять – угрозами и древками… И то одна женщина, то другая, станет бессильно садиться в пыль, роняя пожитки. Кто-то из мужчин не стерпит, ответит на окрик, его ударят, поднимется женский вой… Может быть, кто-то в злобном отчаянии захочет вырвать у конвойного копье. Дурака заколют, отволокут тело в придорожный кустарник…
И во главе этой кавалькады – он, капитан Севела Малук, сын почтенного рав Иегуды из Эфраима.
Он, и только он окажется в ответе за медленное убийство людей, изнуренных жаждой, жарой и дорогой. Вот что уготовил ему давний покровитель и душевный друг.
«Мир становится добрее», – сказал образованный, любезный гончар. Вот вам, мастер Пинхор, эта доброта – на дороге от Тира до Скифополя скоро будет эта доброта… И много лет в резидентурах будут поминать капитана Малука (майора Малука! полковника Малука!). «Это тот храбрец, который уморил десятки людей, этапируя мирных жителей Тира в Ерошолойм?..»
И отец однажды спросит: «Когда это, яники, твоя карьера пошла в гору? Когда ты перегнал ни в чем не повинных джбрим с побережья в Ерошолойм и половину из них оставил на обочинах сарычам и шакалам?»
«Уже несколько недель, с тех самых пор как вернулся из Лидды, гнетет и другое… Я гнал сомнения, я, как теленок, послушно шел по тропке. Послушно следовал логике Тума. Но я уже не доверялся этой логике все последние недели! Я помалкивал, я соглашался и ни разу не заспорил с Тумом. Но я не поверил ему, и теперь это осознаю. Тум не лжет. Он и впрямь считает, что галилеяне навлекут на джбрим большую беду. Но я-то ведь думаю иначе. Что предпримет претор Секст Бурр? Не знаю… Как поступит этот могущественный Луций Лонгин в Риме? И этого не знаю. Действительно ли он склонит романский сенат и самого присепса к тому, чтобы ввести в Провинцию новые когорты?.. Но я не чувствую в логике Тума силы. Нет в ней силы. А он готов поступить безжалостно… Нет, я видел его безжалостность не раз, но тогда это было оправданно. Тогда в его логике была сила. А теперь он поступает… Нет, не в том беда, что он поступает жестоко. Он сотни жестоких приказов отдавал, и я выполнял те приказы, и сам был жесток… Он ошибается. Он выстроил сложное действо, добился прикомандирования Идумеянина, планирует перегнать в подвалы башни Антония Тирскую общину… И на что он рассчитывает в завершение такого похода? На то, что этот могущественный романец Лонгин потеряет интерес к галилеянам, ежели не найдет в Тире их общину? На то, что высокородный романец прекратит отыскание секты, могущей угрожать Риму? Но поступить подобным образом было бы легкомыслием. Легкомыслие не свойственно романцам. Что бы там ни рассказал Амуни на допросах, чего бы он ни утаил – Лонгин знает о галилеянах предостаточно. Не найдя в Тире галилеянскую общину, он будет искать другую. В Иотапате, в Яффе, в Апполонии. Если романский проконсул захочет найти галилеян – он их найдет. Все, что говорит нынче Тум, это его логика против логики романца. Но есть ведь еще одно противостояние – логика Тума против логики галилеян! И сдается мне, что правота галилеян сильнее правоты Тума. Они хотят, чтобы больше новых людей было в Провинции… Джбрим пережили не одно вторжение романцев. Переживут и это – по разумению Тума, неизбежное… Но будет ли вторжение? А если сотни проповедников из галилеян смогут удержать джбрим от восстания? Провинция хочет покоя… Так и романцы хотят покоя в Провинции. Тум заблуждается. И в угоду своему заблуждению он готов запятнать Службу грязным делом и меня запятнать. Я не хочу… Я не стану… Я переступлю через нашу с Тумом дружбу… Что же я – погоню несчастных без еды, без воды, сотни миль… Погоню таких, как мастер Джусем? Все доброе – во мне. И все низкое – во мне же. Сто двадцать восемь человек… Женщины будут валиться в пыль, под ноги к другим людям… Мужчины будут страдать от бессильной ненависти, их будут бить древками, как скот. А всякий из них похож на мастера Джусема. И ведь это не люди Идумеянина будут гнать галилеян по дороге – это огромный, захолустный, бессмысленный Эфраим будет их гнать. Невежественная жестокость станет подгонять древками и плетьми несчастную Тирскую общину, новых людей. Я не хочу… Я не стану…»
И тут он вдруг подумал, что не отцу надо сейчас писать. Есть еще один адресат. Есть еще один человек, которому нельзя не написать сейчас…
Когда сгустились сумерки, Ида на цыпочках поднялась по лестнице и заглянула в кабинет. Малук сидел за столом и быстро писал. Он часто окунал стилос в плошку с краской и торопливо расчеркивал по листу. На краю стола лежали исписанные листы. Малук, пока она, затаясь, смотрела на него, добавил к ним еще пару. Ида оперлась о дверь, скрипнула петля. Малук обернулся. Он прежде смотрел на нее, чтобы сказать, что курятины с фасолью сегодня не хочет, а пусть-ка Ида приготовит свиное вымя с крутыми яйцами, а на закуску подаст латук и вареную спаржу. Или говорил, что лебяжий тюфяк из спальни пора просушить на солнце… Или – что он уезжает в Самарию на пять недель, и нужно собрать торбу. Он смотрел на нее, чтобы сказать: Ида, живо в постель, бесовка, я хочу, чтобы сегодня ты поработала ртом, а ну покажи, что ты умеешь, затейница из Пеллы… Он мог посмотреть и сказать: живо задери столу, я хочу тебя сзади… А иногда он смотрел, чтобы сказать: ублажи адона майора и иди ко мне…
А сейчас Малук посмотрел на нее, и ни голода Ида не заметила в его взгляде, ни похоти.
Он сказал: «Ида, мне нужно чтобы это письмо было отправлено завтра же утром. А вот этот пакет надо переслать моему отцу, в Эфраим. И вот еще что, девочка… Может так случиться, что я не вернусь из Тира. Вот клиентское обращение к адону Хизреви из Яффы. Поедешь туда, найдешь его контору. Жаль, грамоты не знаешь. Так запомни – квартал Шетер, что сразу за зданием магистрата, ссудная контора Аарона Хизреви. А ну повтори».
Она повторила. Она грамоту знала, только Малуку про то не говорила никогда. Двоюродный дядя для забавы обучал ее письму. Она с девяти лет жила у него, с того года, как отец помер на дорожных работах у романцев. Три года прожила у дяди, он вдов был, стар, ведал сбором храмовой десятины в Капернауме. Стар был дядя, но, как Иде двенадцать минуло, он начал к ней ходить по ночам. В первый раз ой как больно было, ой как мерзко… И упрашивала она его, и зажималась, но дядя свое получал. Однако письму и чтению выучил. Она знала грамоту, а Малуку про то не говорила. Да и для чего ему была ее грамота? «Ида, курятины нынче хочу», «А ну, бесовка, ртом потрудись», «Дорожную торбу! Живо, дура этакая из Пеллы!»…
Малук сказал: «Хизреви отдаст тебе по этому обращению две тысячи ауреусов. Тебе того хватит года на три. Мы хорошо с тобой жили, ты славная женщина… Найдешь себе другого хозяина, а посчастливится – так и мужа найдешь. Завтра пойди в почтовое присутствие и отошли письмо. Это письмо в Байю. Понятно тебе? Байя, романский город. И не таращи глаза, дура из Пеллы…
* * *
Вечером он не утерпел и опять взялся править. Хотя понимал, что шлифовать и оттачивать можно до бесконечности, и это может превратиться в манию. Но он опять развязал тесемки, закурил и по десятому разу стал читать, и забеливать, и писать маркером поверху.
Звонил Сенька, спрашивал: как Дорохов поговорил с Кургановой? Замечательно поговорил, сказал Дорохов, два раза с ней встречался, спасибо тебе, Сеня, огромное. Она тебе помогла? Еще как помогла, натуральная литературная карьера намечается! Ну, дай-то бог, вздохнул Сенька, давай, золотоискатель, мости дорогу в бессмертие, удачи тебе, брат-храбрец.
Дорохов просидел над папкой допоздна, выкурил полпачки «Казбека». В половине первого достал из тумбы стола недопитую бутылку «Камю», налил в рюмку и откинулся на спинку стула.
Он прежде один не пил. Он вообще нечасто пил спиртное. Только если встречался с мужиками, или если Лобода заезжал. Ну, с Сеней они могли пропустить по рюмочке. А сейчас ему вдруг захотелось выпить коньяка. Он взял рюмку, отсалютовал папке, лежащей перед ним, и подумал: «За успех нашего безнадежного предприятия». Проглотил коньяк, в животе сразу стало тепло.
«Хорошо», – подумал он и налил еще раз. Выпил, встал, приоткрыл раму и закурил.
«И как же теперь все увязать? – думал он. – Металл мы с Димоном дали – это раз. Книжку того и гляди напечатают – это два. И еще Гольдфарб, и отдел по иностранным сношениям, и рейс „Москва – Нью-Йорк“ – это три. Как все это увязать воедино? Как дальше жить и на что поставить?»
Экселенц накануне сказал:
– Ты долго тут еще?
– Да нет, заканчиваю, – ответил он. – А что? Я вам нужен?
Он посмотрел на часы – четверть восьмого.
– Я сейчас домой, – сказал экселенц. – Подбросить тебя до метро?
– Спасибо, – сказал Дорохов. – Если вам не трудно.
Экселенц иногда подвозил его до Чертановской.
– Слушай, а у меня идея! – энергично сказал экселенц. – Поехали ко мне. Ты есть хочешь?
– Нет. Мы тут с ребятами чаевничали недавно.
У Новикова были бутерброды с «Любительской», а Дорохов с утра прихватил из дома три яйца вкрутую, и еще купил пирожки с повидлом возле «Варшавской». Вечером страшно захотелось есть, они организовали чай, зазвали Таньку Великодворскую. А у Таньки были блинчики с мясом. Получился нормальный ужин.
– Выпьем кофе, – сказал экселенц. – Катерина в командировке, в Каунасе. Я холостюю второй день. Поехали, собирайся. Есть о чем поговорить.
– Собирайся, жду тебя внизу, – сказал экселенц. – Сдай ключи, я пока погрею машину.
Надел светлую дубленку, коричневую кепку из Лондона и ушел.
Дорохов даже обрадовался. Он давно уже не бывал у экселенца дома. Прибрал на столе, взял из шкафа куртку, выключил свет и спустился по лестнице.
– Наверху никого? – строго спросил вахтер.
– Никого, – сказал Дорохов. – Ключ возьмите.
– Помещение обесточили?
– Йес, – сказал Дорохов. – Темнота и безлюдье. До свидания.
Он толкнул стеклянную дверь и вышел из фойе. Экселенц сметал снег с капота новеньких синих «Жигулей» седьмой модели. Экселенц на памяти Дорохова менял уже третью машину. Когда Дорохов пришел работать в двадцать восьмую лабораторию, экселенц водил старую «Волгу» с оленем на капоте. Потом он купил подержанный «Москвич 2140» в исполнении «люкс». В прошлом году в институт пришла разнарядка на пять «Жигулей», и экселенц продал «москвич» знакомому автомеханику Володе Лоффенфельду, а сам купил «семерку». Говорил, что это хоть и двадцатилетней давности модель, но все же «фиат». Еще угадывается в этой машине «фиат», несмотря на все деструктивные усилия Тольяттинского автозавода.
Дорохов посмотрел, как экселенц хлопочет возле машины, как снег летит с капота и попадает в белую полосу света фар, и неожиданно подумал, что через пару-тройку месяцев он и сам сможет купить себе «Жигули». И ни в какой очереди стоять не будет, а поедет на автомобильный рынок в Южном порту и купит подержанную машину.
– Садись, – сказал экселенц.
Дорохов сел, сумку положил на колени. Экселенц задвинул маленький поршень под рулем, двигатель зазвучал тише. Они выехали на Варшавку.
– Попьем кофию, – бодро сказал экселенц и бросил кепку на заднее сиденье. – Давно мы с тобой не пили кофию… Я смотрю, ты чем-то озабочен последнее время. Нет?
– Я вам потом расскажу, – сказал Дорохов. – Если все получится.
– Что получится? О чем ты?
– Вот когда получится, тогда и расскажу.
– Ты самый загадочный младший научный сотрудник из всех младших научных сотрудников, – сказал экселенц и обогнал такси. – Слушай, а ты в разведке не работаешь? Или в контрразведке? А может, ты масон?
Их высочество были в хорошем настроении. Экселенц помигал фарами «газику» и, не дожидаясь, пока тот уступит, обогнал справа. Давно уже Дорохов не видел, чтобы шеф выглядел так беззаботно. Всю последнюю неделю Риснер был хмур и рассеян. Он раздраженно говорил: «Ну что еще?», когда Дорохов заглядывал в его кабинет. Было известно, что он несколько раз встречался со Свердловым, директором Молгенетики. Великодворская нашептала уже, что экселенц будет переходить в Молгенетику и несколько человек, «команду», как это на Западе принято говорить, возьмет с собой. Но Великодворская могла что угодно нафантазировать. Зачем экселенцу Молгенетика, когда он на Варшавке царь и бог? Хотя, с другой стороны, ВНИИ генетики и селекции промышленных микроорганизмов – институт отраслевой, а Молгенетика – академический. Это уже иной уровень, иной решпект.
Они подъехали к пятнадцатиэтажному дому за «Чертановской», экселенц пристроил машину возле подъезда, снял дворники, надел на педали противоугонный замок. В просторном холле трехкомнатной квартиры с «экспериментальной» планировкой Дорохов снял куртку, ботинки, а сумку положил под вешалку. Риснер пошел на кухню, зажег свет, включил шикарный импортный чайник – белый, пластмассовый, закипал мгновенно. И кухня у экселенца была шикарная, метров пятнадцать, наверное. Диванчик уголком, люстра с матерчатым абажуром и маленький телевизор «Электроника» на холодильнике.
– Выпить хочешь? – спросил экселенц и достал из навесного шкафа пакет с зерновым кофе.
– Если с вами только, – сказал Дорохов и присел на диванчик.
Они иногда выпивали по паре рюмок из привозных запасов экселенца.
Риснер открыл створку, вынул из бара (у него и бар был – зазеркаленный шкафчик) четырехгранную бутылку с шотландским гвардейцем на этикетке, поставил на стол две рюмки и налил.
– Джин, – сказал Риснер. – Его хорошо пить с тоником… Но какой может быть тоник в стране дураков?
– Без тоника обойдемся, – примирительно сказал Дорохов. – Станем дуть джин. Как матросы Her Magesty Navy.
Экселенц стоял, прислонившись к серванту.
Худощавый, усталый. Брюки из рогожки, фирменый, тонкой вязки, свитерок. Седоватая прядь через высокий лоб. Породистый человек, нездешний. Не глядя, взял из пачки «Мальборо» сигарету, прикурил от зажигалки «Ронсом».
Громко жужжала кофемолка. За окном шел снег.
Дорохов вытащил из пачки «казбечину» и поискал по карманам спички.
Экселенц высыпал кофе в джезву, залил горячей водой из чайника и поставил на маленький огонь. Когда в джезве поднялась коричневая пена, экселенц разлил кофе в маленькие зеленые чашки и сел напротив.
– Ты наш разговор помнишь? – спросил он.
– Какой разговор?
– Перед Новым годом. Когда Алик позвонил. Помнишь?
– Да. Помню.
– Я тебе тогда предложил подумать. Ты подумал?
Дорохов осторожно сказал:
– А что такое, Алексан Яклич?
Экселенц выдохнул дым длинной тонкой струйкой.
– Миша, сотрудник мой разлюбезный, – экселенц посмотрел Дорохову в глаза. – Я с февраля перехожу в Молгенетику. Есть договоренность со Свердловым.
– А как же лаборатория? А Дебабов знает?
– Естественно. Это же не вчера началось… С ним согласовано. Ты переводишься со мной. И Орлова, и Костров.
– А Хоря?
– Хорькова не пропадет. За нее не волнуйся, – экселенц усмехнулся. – Хорькова, знаешь ли, умница, каких поискать. У нее далекий и интересный прицел. О девушке уже справлялся Колчински. Дебабову звонили из Академии наук, спрашивали: а что это за Хорькова у вас такая замечательная и уникальная, что ею интересуется сам Колчински?
Экселенц подмигнул, и Дорохов вспомнил августовский симпозиум по интерлейкинам и профессора Колчински из Вашингтона. Хорю приставили к нему – переводить и вообще – сопровождать. Она возила Колчински по Золотому кольцу, водила в Алмазный фонд, в Большой театр. Покупала на музыкальной толкучке в Филях для его внука пластинку рок-группы «Черный кофе».
– Ну ладно, давай-ка я открою карты, – сказал экселенц. – Я больше не хочу здесь работать.
– Где здесь, Алексан Яклич?
– Я не хочу больше работать в стране дураков, – спокойно сказал экселенц. – Я много лет играл по здешним правилам. Жил со своей пятой группой инвалидности и занимался наукой, насколько это было возможно. Даже в партию хотел вступить… Чего ты ухмыляешься? Деваться мне было некуда, застрять в завлабах я не хотел… Такие тут правила игры, и других вариантов не было.
– Понятно, – сказал Дорохов.
– А теперь есть другие варианты, – экселенц затянулся. – Мишка, советская наука – это замечательно. Это великолепно. Весь мир в ноженьки должен кланяться советской науке… Луноход и синхрофазотрон. Ландау, Тамм и Арцимович… Понедельник начинается в субботу, и все такое прочее. Но видишь ли, наша страна дураков это в первую очередь глухая провинция. Я уж не стану тебе говорить, что есть места, устроенные разумнее и добрее. Ты не маленький мальчик, сам все знаешь. Жуткая страна, безумная… Но меня как ученого всегда не это удручало. – Экселенц покачал головой. – Здесь провинция, Миша. Глухомань. А я не ракетчик, и не физик-теоретик. Я биолог, мне сорок лет, и я еще кое-что могу. Я нормальный небесталанный ученый, я хочу еще лет двадцать поработать. Без постановлений партии и правительства, на человеческой аппаратуре, с качественными реактивами и без идеологической подоплеки. И я хочу работать, не будучи изолированым от всего человечества! Понимаешь меня?
Дорохов кивнул. Все он понимал. Совершенно ни к чему было экселенцу толкать эту речугу.
– Прекрасно, – удовлетворенно сказал экселенц. – Ты меня понимаешь. Поэтому поступим следующим образом. Мы переходим в Молгенетику. Там будет образован отдел функциональной энзимологии, я буду начальником отдела.
– И что? – тихо спросил Дорохов.
Он вдруг понял, что этот разговор с Риснером стоит в десять раз больше, чем диплом, распределение и защита.
– Где-то через месяц из Колумбийского университета поступит предложение направить туда по научному обмену сотрудника отдела функциональной энзимологии Института молекулярной генетики Академии наук СССР Дорохова Михаила Юрьевича, – экселенц, что называется, наслаждался произведенным эффектом. – Ну как, не страшно? Не страшно тебе, сотрудник мой разлюбезный?
– Страшно, – признался Дорохов. – Елки зеленые, Город Желтого Дьявола… Страшно, конечно.
– Твоя кандидатура должна быть утверждена в Академии наук, в отделе по внешним сношениям. Я говорил о тебе со Свердловым, он поддержит твою кандидатуру.
Дорохов сглотнул и спросил:
– А кроме меня кто еще?
– Орлова, летом.
– Вы знаете, у нее парень есть, – сказал Дорохов. – У них все серьезно.
– Вместе с парнем поедет, – Риснер кивнул. – Потом Костров, потом Лара Изотова…
– А вы?
– За меня, дружок, не беспокойся, – с очаровательным высокомерием произнес экселенц.
И Дорохов подумал: за экселенца беспокоиться не стоит. Экселенца уже ждут на границе машина с забрызганными грязью номерами и лыжи, которые предусмотрительно воткнули в снег. И усталый мудрый Штирлиц уже везет экселенца на «Хорьхе» к «окну на границе», и несется из радиоприемника надтреснутый голос Эдит Пиаф, и все уже решено и продумано…
«…Благослови вас бог, – ответил пастор и неумело пошел на лыжах в том направлении, куда указал ему Штирлиц. Два раза он упал – точно на линии границы. Штирлиц стоял возле машины до тех пор, пока пастор не прокричал из леса, черневшего на швейцарской стороне ущелья…»
– Кофе, – напомнил экселенц. – Ты пей, остынет.
Дорохов машинально взял чашку и сделал глоток.
– Но ты, мне кажется, не удивлен?
– А что, это теперь так легко?
– Не легко, но возможно, – Риснер закурил вторую сигарету. – Теперь, слава богу, это возможно… Все, Мишка, мы отваливаем. А они тут пусть играют в поворот рек.
– И что потом?
– Суп с котом. Ты помнишь политическую карту мира? Между Мексикой и Канадой есть одно местечко… Там можно хорошо поработать.
– Дела… – сказал Дорохов.
У него немножко звенело в ушах, и руки вспотели.
– Ты поедешь на стажировку. «Стажировка» – понятие довольно расплывчатое, может трансформироваться в длительное пребывание. Бесконечно длительное… Есть такая штука – «зеленая карта». Слышал?
Дорохов мотнул головой.
– Ладно, это я тебе потом объясню…. Из ВНИИ генетики ты бы поехать не смог. У нас отраслевой институт, а направление стажеров за рубеж – прерогатива Академии наук. Вот за этим мы переходим в Молгенетику.
– Понятно.
– Нам еще предстоят большие хлопоты, – экселенц потер ладони, словно собирался сию минуту схватить топор или кирку и начинать хлопоты.
– Алексан Яклич… А жить там на что? Вы извините, я плохо соображаю… Хаос в голове… А командировочные? А зарплата? Это что же – в долларах?
– Тебе оплатят билет, – сказал Риснер. – Он, кстати, недорого стоит – рублей сто двадцать. Я даже удивился, когда узнал. Смешные деньги.
– Я буду получать зарплату в Колумбийском университете?
– Немножко не так, – терпеливо сказал экселенц. – Слушай, давай выпьем джина. За успех нашего безнадежного предприятия.
Теперь модно было так говорить – «за успех нашего безнадежного предприятия».
– Объясняю, – экселенц поставил пустую рюмку рядом с пепельницей. – Академия наук оплатит билет и выпустит тебя из страны дураков. Колумбийский университет предоставит производственные помещения и производственные мощности. А вот оплатит твою работу третья сторона. В Америке существуют разнообразные фонды, которые финансируют научные программы. В том числе – приглашение иностранных ученых. Ты слышал когда-нибудь такое имя – Джордж Сорос?
– Нет. Кто это?
– Бизнесмен. Миллиардер. Филантроп.
– Финансист, титан, стоик, – пошутил Дорохов.
– Сорос создал могучий фонд, он так и называется – «Фонд Сороса». Фонд поддерживает науку во всем мире. Здесь про Сороса не знают, а на Западе он знаменитость. Алик с ним тесно сотрудничает и вообще чуть ли не приятельствует.
Экселенц откинулся на спинку стула и взял кофейную чашку.
– А что будет потом? После стажировки?
– Э, мой дорогой!.. – экселенц коротко рассмеялся. – А стоит ли так далеко заглядывать? Еще надо уехать. И там еще надо себя показать… И я, кстати, не могу гарантировать, что ты Алика устроишь! У него высокие требования к сотрудникам. Это я тут с вами нянькаюсь… Тебе придется ох как потрудиться, чтобы Алик тебя зауважал.
– Я понял, – сказал Дорохов. – Алексан Яклич, скажите откровенно: зачем вы этим занимаетесь?
– Теперь моя очередь переспрашивать. Чем я «зачем» занимаюсь?
– Устройством моей судьбы. Ведь не предполагается, что я в Нью-Йорке буду работать у вас? Верно?
– Не предполагается, – экселенц покачал головой, седая прядь закрыла бровь. – Ты будешь работать у Алика. А если я в тебе не ошибаюсь, если у тебя характера и таланта хватит – то в перспективе будешь работать сам по себе.
– Значит, я вам больше не кадр, не помощник… Тогда зачем вы устраиваете мой отъезд? Вы Свердлова просили за меня…
– Прими мои хлопоты как акт человеколюбия, – спокойно сказал экселенц. – Я тебя люблю, не хочу, чтобы ты пропал в стране дураков. Сам я уеду, это вопрос полугода. У меня два варианта. Фрайдман приглашает в Мэриленд. Стоукс осенью принял позицию в Сан-Диего и приглашает меня туда. Скорее всего, я поеду в Сан-Диего, – экселенц мечтательно прищурился. – Всегда мечтал пожить в Калифорнии. Серфинг, роскошный климат… Шучу. Короче говоря, меня здесь скоро не будет, Мишка. Ты способный парень… Но один ты не потянешь. Прокряхтишь в мэнээсах до старости. А в Штатах не пропадешь. Там надо заниматься только наукой, и будет тебе за это честь и хвала… Давай еще по рюмочке. Нравится «Бифитер»?
* * *
…испросил у Светония пятидневный отпуск. Мама прислала письмо. Он за всю свою жизнь получил от мамы три письма. Два письма она послала, когда Севела был в институции, – поздравляла с почетной стипендией Иоппийского лесоторгового союза и с получением романской дипломы. А в третий раз мама написала, когда он вернулся из Самарии, от Элеазара. Почему она тогда ему написала? Кто может ответить? Он вернулся из Самарии, верной гибели избежал чудом. Зелоты не распознали его, и Никодим выручил, вовремя вывез. Он вернулся в Ерошолойм, и каждая жилка в нем тряслась, каждая мышца. Все в нем стонало, болело от непереносимого напряжения последних недель. И за каждым углом мерещилась смертельная угроза, он в темную комнату заходил, сжавшись. По ночам кричал – Ида пугалась, обтирала его мокрым полотенцем. И вино не помогало – он пил вечерами до одеревенения, его рвало, наутро он мучился поносом, зад жгло и саднило. Но вино не давало забытья, не давало отдыха, словно страшная опасность еще стояла за спиной, словно в любой миг ему могли перерезать горло, заколоть во сне, запытать до смерти, под гогот богопослушных молодцов… И вот тогда-то он и получил письмо от мамы.
«Мне почему-то подумалось, что тебе сейчас плохо, яники, – писала она. – Почему-то мне такое приснилось. Несколько дней уже не нахожу себе места. Дай мне знать, мальчик мой родной, если ты болен. Если тебе сейчас плохо – дай знать. Я приеду в Ерошолойм. Поживу в твоем доме, буду готовить тебе курятину с фасолью, как ты любишь. Ты будешь приходить со службы, яники, а я стану встречать тебя дома. Хочешь? Только дай мне знать. Отец отпустит меня к тебе, и провожатого даст. Только дай знать, яники…»
Он тогда прочел это письмо, закрыл лицо руками и заплакал. Гирш удержал на привязи свой блудливый язык и ссутулился над рекомендательным письмом к одному безудержному рабби из десятиградских непримиримых. А Никодим сделал вид, будто ему приспичило, и вышел. Севела мычал, всхлипывал, размазывал слезы по щекам… Как же мама узнала, что он превысил меру своих сил?.. Как она это почувствовала там, в Эфраиме? Он поднялся на второй этаж, сказал Нируцу, что нездоров, что хочет навестить родителей. После написал прошение Светонию. Тот вскоре самолично сошел в офицерское помещение. Никодим и Гирш вскочили. Светоний кивнул им, подошел к столу Севелы, сказал: «Отчего же так официально, Малук? Достаточно было просто сказать мне или майору Нируцу. Разумеется, поезжай в отпуск. Навести родителей, восстанови силы. Ты храбрецом показал себя в Самарии… И почему лишь пять дней? До самых календ гости в Эфраиме… А тебе, Минуш, отпуск не нужен? – Светоний величаво оборотился к Никодиму. – И ты тоже геройски показал себя».
Никодим осклабился и помотал головой. Куплю девку, адон полковник, сказал Никодим, куплю горячую девку на пару ночей, вот и получится отпуск для лейтенанта Минуша.
А Севела спешно собрался, взял хорошую лошадь и уже через день въехал в Эфраим.
Ранним утром он выехал на вершину холма и увидел город. Он проехал через окраину, мимо складов и кузниц. Проехал квартал овчаров, квартал суконщиков. Поторопил лошадь, и она, глухо стуча копытами в утренней тиши, вывезла его на площадь Праздника Опресноков. И вот какое дело – он увидел, как вдоль глинобитной стены движется нелепая фигура! Старый рабби, рав Рехабеам – Севела узнал его.
– Мир вам, рабби, – Севела придержал лошадь. – Здоровы ли вы, рабби?
– А… Молодой Малук, – прошепелявил кохен. – Здравствуй, молодой Малук. Давно не видно тебя.
«Опять меня „давно не видно“! – подумал Севела. – Когда-то он говорил мне такое, а вскоре я попал в Службу. Он со мной так поздоровался, будто и не было этих лет…»
Севела сошел с лошади у ворот, постучал кулаком. Открыл Хаим, старший приказчик, он жил при семье многие годы. И тотчас дом заголосил, во двор вышла мама, служанки выбежали, все радовались. Хаим обнял молодого хозяина. Мама взяла лицо своего мальчика в ладони и без конца целовала. Спустя несколько минут, на галерею вышел отец. Севела бережно отстранил маму и взбежал по лестнице.
– Здравствуй, папа, – сказал Севела.
Отец крепко взял его за плечо, притянул к себе.
Вечером второго дня мама подала ужин. Ели втроем – рав Иегуда, Севела и Хаим. Отец налил Севеле эшкольского, сказал: «Благословен ты, Господь наш, владыка вселенной, сотворивший плод виноградной лозы…». Севела повторил вслед за отцом и после разрешающего взгляда пригубил вино. Они поели, вскоре Хаим встал, сказал, что ляжет в постель. Старик был тронут тем, что его позвали за семейный стол, и теперь спешил оставить Малуков вдвоем.
– Пойдем в кабинет, яники, – сказал отец, отставив стакан.
В отцовской половине ничего не изменилось. Стопка листов лежала на левом краю стола, две бухгалтерские книги – на правом. Пахло старым деревом и травяным отваром. Курящаяся паром кружка стояла на столе (мама на ночь готовила отцу отвар от болей в коленях). Отец грузно опустился в кресло. Севела сел на скамью у стены. В дверь боком вошел слуга. Он нес жаровню на ножках. Парень поставил жаровню в угол, покачал, чтобы угли рассыпались ровно, взял маленький мех, раздул угли – повеяло теплом.
– Иди, – сказал рав Иегуда слуге. – Сын раздует угли, если грелка остынет. Иди, Самир, ужинай.
Слуга еще качнул мех и вышел.
– Второй день ты дома, яники, – сказал отец. – Хорошо тебе здесь? Как мама тебя накормила?
– Дома мне спокойно, – сказал Севела. – А мамина еда чудесна.
– А спать не хочешь еще?
– Не хочу, папа. Вчера устал, проскакал почти весь путь от Ерошолойма. А сегодня отдохнул, спать не хочу. Я так рад видеть тебя…
– Скакал ты быстро, – неодобрительно проговорил рав Иегуда и провел рукой по белой бороде. – Лошадь едва жива… Сбила бабку, Самир сказал, что у нее грыжа. А надо было так гнать?
– Хотел поскорее попасть домой.
– Самир позаботится о лошади, – сказал отец. – Он хорошо смотрит за лошадьми. Дельный парень, бухгалтерии обучается с охотой. Думаю поставить его приказчиком в Фаселисе. У нас теперь склады в Фаселисе.
– Что в конторе? – спросил Севела.
– Дела нашего дома хороши, – рав Иегуда поперхал горлом. – Сегодня не будем о них говорить. В конторе ты мне теперь не помощник, так и о делах говорить незачем.
Севела промолчал. Всякий раз, когда он приезжал в Эфраим (немного было таких случаев, но трижды или четырежды он в Эфраим приезжал за эти годы), отец ворчливо напоминал ему о том, что дела дома Малуков совершаются теперь без Севелы, и никакой радости от того рав Иегуде нет.
– Я хочу услышать другое, – сказал отец. – Несколько лет я не спрашивал тебя ни о чем. Ты оставил семейное дело, яники, и скоропалительно уехал в Ерошолойм. Я ни о чем тебя не спрашивал. Я тебе поверил, принял твое решение.
– Я и сегодня тебе благодарен за это…
– Погоди, яники, – рав Иегуда поднял ладонь. – Не благодари. Твое тогдашнее решение было решением молодого человека. Молодой человек может ошибиться, а может угадать свою удачу. Я надеялся, что ты угадаешь удачу. Но вот теперь прошло несколько лет. Достаточное время, чтобы оценить перспективу. Теперь ты в немалом чине… Уже послужил романцам. Путешествовал, повидал Магриб, жил в Александрии, в метрополии бывал, в Киликии, в Армении… Ты увидел мир, яники. Дослужился до капитана – славное дело… Теперь ты мужчина, мне это видеть радостно. Так вот сегодня я хочу поговорить со своим яники, повидавшим мир и выслужившимся до капитана.
Отец опять погладил бороду и спросил:
– Что за цель у тебя? Что за приз? Хочешь власти? От майората ты отказывался, коммерцию оставил… Что ты не любишь деньги, я знал и прежде.
Раскаленная жаровня поддавала ароматным дымком. Слуга бросил туда веточки можжевельника.
– Ну что ты, папа… Я, знаешь ли, не аскет, и деньги люблю.
– Есть люди, которые любят деньги. И деньги любят этих людей. Кстати, среди таких нередко встречаются аскеты… Ты любишь не деньги, а то, что деньги могут дать. Но какая страсть есть в тебе? Если не деньги и не власть – то что?
– Я служу и каждое следующее звание принимаю с удовлетворением, – сказал Севела. – Любви к власти во мне нет. Я видел тех, кто любит власть. Их легко отличить. У них одинаковые складки у губ, и взгляд у них одинаковый… Мне нужен удобный дом, хорошая женщина, хорошая еда. Для меня невозможно быть… маленьким. Ничтожным быть невозможно.
– Любопытно… – хмыкнул рав Иегуда. – Ничтожным ты быть не желаешь, но и сильным быть не хочешь. А ведь если отставить прекраснодушную болтовню, яники, то силен только тот, кто богат и властен. И никак иначе. А прочие слабы или заблуждаются относительно своего места под небом. Ну да ладно… Никогда ты не жалел о том, что уехал от меня?
– Э, папа… – Севела криво улыбнулся. – От тебя это одно. А из Эфраима – другое.
– Да чем тебе так плох Эфраим? – недовольно пробормотал отец и пошевелил седыми бровями. – Город не хуже прочих. Ты мог жить здесь и выезжать в Яффу. И в Понт мог плавать, и в Александрию…
– Эфраим удушил бы меня. Эфраим усыпил бы меня и состарил до времени. Мне по-всякому жилось, папа… После рекрутирования меня отправили в Морешев-Геф. Я писал тебе про эту дыру. Есть места получше, чем Морешев. Там было скудно, спал на тощем тюфяке, ел дрянь. Но знаешь, папа, какой самый страшный сон снился мне, когда я жил в Морешеве? Как будто я просыпаюсь в своей комнате, в нашем доме. Я просыпаюсь и вспоминаю, что опять живу в Эфраиме, что мне надо умыться, выпить козьего молока, съесть лепешку с оливами и идти в контору. И в этом сне, папа, все было так… завершено, так осязаемо… И вся жуть-то была не в том, что я опять проснулся в Эфраиме, а в том, что я с этим своим возвращением давно смирился! Что мое возвращение – дело давнее, даром что я не помню, как вернулся… Я вернулся, я опять в Эфраиме, и это навсегда… И тогда я кричал и… просыпался еще раз. И оказывался в Морешеве. С каким счастьем я оказывался в этом дерьмовом Морешеве, папа! Мои товарищи косились на меня, как на безумного… Мы там жили в больших комнатах, по пятнадцать человек. Я садился на тюфяке, таращился по сторонам, а соученики глядели на меня с опаской. Полгода, папа, я просыпался два раза. Сначала в Эфраиме, со смертной тоской… А потом еще раз, в Schola Морешев-Геф, среди товарищей-курсантов, на дощатом полу, на тюфяке… А тюфяки там были не самые мягкие, папа. Каждую щель между досками, каждый сучок, каждую занозу я чувствовал через тюфяк. Я совсем не жалею, что уехал из Эфраима, папа.
Отец взял оловянную кружку с отваром, подул на него, отпил, скривился от горечи опротивевшего напитка и поставил кружку на стол.
– Вот еще что, – сказал отец, отерев губы. – Ты отказался от майората.
Севела нахмурился и открыл рот.
– Помолчи-ка! – велел рав Иегуда. – Я уже один раз читал твою беспечную дребедень. Не надо повторять. Итак, от майората ты отказался… То есть это ты думаешь, что отказался от майората! Волею Предвечного, хвала ему и покорность моя, в доме Израиля пока еще отцы решают, кому отдавать майорат! Отцы, а не беспечные младшие сыновья. Что бы ты тогда мне ни отписал – майорат я перевел на тебя. Я оформил это в магистрате, при пятерых свидетелях… Кстати, в каком состоянии твои денежные дела?
– Не бедствую. С производством в капитаны мое годовое жалование составило две с половиной тысячи ауреусов. После вычетов за аренду дома и всех моих расходов у меня остается больше тысячи.
– Недурно, – уважительно сказал старый коммерциант. – А кто ведет твои дела?
– Все офицеры резидентуры держат вклады в романской ссудной конторе.
– Хорошо. Я бы хотел прислать к тебе в Ерошолойм Хаима.
– Папа! – протестующе сказал Севела. – Я могу сам следить за своими денежными делами!
– Не можешь ты за ними следить! – отрезал рав Иегуда. – Ты беспечный щенок, и говорить тут не о чем. Все. Молчи! Хаим приедет в Ерошолойм в будущем месяце и переговорит с управляющим. Незачем иметь дело с романскими конторами. Финикийцы надежнее. Я едва оправился от обесценивания, что было в канун кончины Тиберия.
– Ну вот что, папа, – не вполне почтительно сказал Севела. – Компенсацию за обесценивание романских заемных листов выхлопотал все-таки я. Я, а не твой премудрый Хаим. И не называй меня беспечным щенком.
– Хорошо, это ты выхлопотал компенсацию, – проворчал отец. – Видать, ты хорошо послужил романцам, раз они возместили убытки старому джбрим из Эфраима… Итак, жалованием своим ты доволен?
– Это высокое жалование. Что ты сказал про майорат, папа?
– Ты слышал, что я сказал. Майорат отходит к тебе.
Рав Иегуда наморщил лоб, словно вспомнил о неприятном.
– Ну а чего ты ждал? – раздраженно спросил он. – Не думаешь ли ты, что я оставлю дом Малуков на Рафаила?
– Такие разговоры преждевременны, – сдержано сказал Севела. – На кого бы ты ни счел нужным оставить наш дом, это будет нескоро.
– Я очень стар, яники. Мне пятьдесят шесть лет. Я пока еще, милостью Предвечного, неплохо веду дела. Я трезвый человек и понимаю, что недалеко то время, когда дом Малуков станет жить без меня.
Севела уже хотел возразить, уже готов был произнести уверенные и бодрые слова (слова пустые и противоречащие правде бытия, слова суетливые и жалкие в сравнении с разумными словами отца), но рав Иегуда остановил его плавным движением сухой ладони.
– Не говори пустого, – сказал он. – Не собираюсь я умирать в ближайшие месяцы, не беспокойся. Но майорат это дело наиважнейшее. Рафаилу ты выделишь столько, сколько пожелаешь. Не сомневаюсь, что он получит немало. Но с того дня, как я совершил акт передачи майората, и тому свидетелями были пятеро цеховых старост Эфраима и городской архивариус… Так вот, с того самого дня ты в семье старший сын. Ты, а не Рафаил.
– А он знает о передаче майората?
– Разумеется… Я написал ему, и он ответил, что это мудрое решение. Мне кажется, что он писал искренне. Рафаил вертопрах и актеришка, но он не глуп. И он не корыстен.
– Ты очень строг к нему, – Севела искоса посмотрел на отца. – Мне его занятия тоже не по душе. Но Рафаил не пустой человек. Я тебе вот что скажу, папа… Рафаил поступил так же, как и я. Он тоже хотел вырваться из Эфраима. Я вступил в Службу, а Рафаил живет театром… А ты знаешь, что он добился успеха? Он теперь знаменитость в Байе и Неаполе. Думаю, что он добьется успеха и в Риме. Я слышал, что он поставил пьесы Плавта и Менандра, и что от зрителей нет отбоя.
– Я не понимаю, что такое «поставил пьесы», – пренебрежительно сказал рав Иегуда. – Я не знаю этих романских словечек. Я не знаю, кто такие Плавт и Менандр… Желаю им обоим здоровья и достатка, но в реестре коммерциантов Провинции я таких имен не встречал. А что нет отбоя от любопытствующих – так в метрополии хватает бездельников… Рафаилу там самое место.
Тут Севела подумал, что склонность к театру Рафаил в какой-то мере унаследовал (чего ему, увы, не удалось с майоратом) от отца. Сейчас рав Иегуда актерствовал, показывал простачка, который никогда не слышал о Тите Макции Плавте.
– Помнишь, как мы отправляли кедр господину Кседоменту, яники? – спросил отец. – В коносаментах числилась древесина двух сортов – лучшая и посредственная. И как бы я ни нахваливал Кседоменту кедр, что шел по графе «бета», и как бы Кседоменту ни нравился запах кедровой смолы – он твердо знал, какая цена у этой древесины. И я это знал, и ты. И ничто не заставило бы Кседомента заплатить за среднесортовое дерево как за отборное… Люди живут и умирают поделенными Предвечным на два сорта. Есть дельные люди, и есть те, без кого мир может обойтись. Лучший сорт людей – те, кто владеет делом … – рав Иегуда свел брови и повторил: – делом. Те, кто правит людьми. Кто строит дома и дороги. Кто принимает роды и вскрывает гнойники. Те, кто выращивает хлеб, виноград и овощи, создает механизмы и управляет деньгами. Те, кто владеет воинским искусством и знает науку юстиции. И еще те, кто обучает грамоте… А остальные люди – они невеликого достоинства, бросовый сорт. Рафаилу было угодно заняться театральными представлениями. Я не мешал ему в этом, не отказал в содержании, когда он в своей Байе учился устраивать зрелища для бездельников. Но майората ему не видать, яники! Он актеришка, он бросового сорта. Дом Малуков унаследуешь ты.
– Не будем об этом, – мягко сказал Севела. – Мне не нравятся разговоры о наследстве. Когда мне придется вступить в права наследования, я с благодарностью приму твою волю. И закончим на этом, папа.
– Пожалуй, так, – согласился рав Иегуда. Он опять погладил бороду и направил беседу в другую сторону: – Весной у меня гостил мой двоюродный брат Азария. Помнишь его?
Севела улыбнулся и кивнул.
– Ничего у него не вышло с теми виноградниками, – с некоторым даже злорадством сказал рав Иегуда. – Он помыкался с ними два года и продал… Виноград вырастал дрянной, измельчал, с винодельней тоже не заладилось. Но я думаю, что Азарии просто не достало терпения. Виноградарство – дело долголетнее… Говорил я ему, чтобы нанял винодела из армян. Он меня не послушал. Опять живет мельницей и овцеводством… Зато он выдал замуж младшую дочь, Ивку. У нее уже три девочки.
Севела с первых слов почуял, куда гнет отец.
– Сколько можно жить с экономкой, яники? – недовольно сказал рав Иегуда. – Или в вашей службе недолюбливают семейных?
– Дай мне пару лет, папа. Я обещаю тебе внуков, обещаю заботливую невестку. Больше ничего говорить не стану. Два-три года, папа, и я заведу семью.
– Смотри, яники! – отец погрозил пальцем. – Я напомню тебе эти слова через пару лет!
– Я такой же, как ты, папа. Я знаю, что человеку не должно быть без семьи. Иначе невеликая цена такому человеку.
– Это так, – рав Иегуда качнул седовласой головой.
Он сделал глоток из кружки.
– Карьерой своей ты удовлетворен?
– Видал я карьеры и получше. Однако капитанский чин это немалый статут для уроженца. Да еще в моих годах… Я доволен.
– А молодой Нируц по-прежнему благоволит к тебе?
– Да. Я многим ему обязан, папа. Я двум людям так обязан – тебе и Туму.
– Твой отъезд был для меня неприятной неожиданностью.
Севела отвел глаза.
– Был у меня тогда соблазн – запретить, – рав Иегуда усмехнулся. – Но мы же оба Малуки… Я бы твердо запретил, а ты бы не изволил заметить моего запрета. Я упрям – но так и ты упрям.
Севела пожал плечами: может быть, папа, может быть.
– Как странно вышло… – задумчиво проговорил рав Иегуда. – Мой сын вступил в службу, которая оберегает Провинцию от смут… А я всю жизнь ненавидел смуты и проклятых зелотов. Увы, но джбрим не могут жить без опеки романцев. От междоусобных войн джбрим отвлекали только войны с соседями. Так было всегда. Но романцы, как я полагаю, предпочтительнее, чем ашур и египтяне. Романцы – это покой. Пусть они дерут три шкуры с Провинции. Но только они защитят джбрим от парфян и кушан. И только романцы защитят джбрим от джбрим.
Севела молчал. Он смотрел на отца. Рав Иегуда вновь отхлебнул отвара. Севела подумал, что седины у отца заметно прибавилось, и стало больше мелких морщинок на лице, под глазами. А крупные морщины, те, что Севела знал с детства, стали глубже.
– Так что я рад твоей карьере, – подытожил рав Иегуда.
– Вчера утром, когда я въехал в город… – вдруг вспомнил Севела. – Я встретил на площади нашего квартального рабби. Куда его несло в такое время?.. И ты знаешь, я подумал: а не Предвечный ли уберег меня недавно? И не Предвечный ли руками старого рабби передал мне повестку несколько лет тому назад?
– С чего это ты вдруг заговорил о Предвечном? – насмешливо спросил отец. – Разве Непостижимый сделал твою карьеру? Ты перед Ним хочешь отчитаться? Тебе мало одобрения отца?
– Нет, ты всегда удивлял меня этим! – сокрушенно сказал Севела. – Два человека в моей жизни не боятся Предвечного – ты и Тум.
– Тум?.. А, молодой Нируц. Я ведь как-то говорил тебе, что Нируцы безбожники… Когда ты уехал из Эфраима, я стал меньше времени проводить в конторе. Я последнее время меньше работаю…
– Незачем тебе, папа, много работать. Давно пора перепоручить часть дел управляющим.
– Большую часть дел я намеревался перепоручить тебе, своевольный молодой человек, – желчно сказал рав Иегуда. – Но ты же убрался в Морешев-Геф…
– Я заметил в доме списки, папа, – сказал Севела. – В один заглянул… Кажется, это был Полигистор. Ты читаешь Полигистора?
– А… – отец пренебрежительно повел рукой. – Этот Полигистор – изрядный прохиндей, как мне показалось. Сдается мне, что он мастер понадергать из трудов других риторов. А потом слепить из этих отрывков то, что ему выгодно… Как называется такое?
– Компиляция.
– Я, верно, с десяток трудов осилил после того, как стал меньше времени проводить в конторе. А то и два десятка. И иеваним читал, и романцев, и александрийцев… Добросовестных и пытливых немного. Тех, кто пробавляется… компиляциями, ты говоришь?.. Этих куда больше.
– Но уж тебя-то романские риторы не склонят к безбожию?
Отец цыкнул языком и сказал:
– Мое послушание Предвечному – закоренелая привычка. В моем возрасте не меняют привычек. И до сих пор Предвечный прощал мне некоторое вольномыслие… Так о чем мы говорили?
– Мы говорили о моей службе…
– Мы говорим о твоей жизни, – отец отпил отвар. – Твоя мать недавно проплакала две ночи, а потом послала тебе письмо. Я не стал ее спрашивать, что она там тебе написала… Иногда женщинам следует доверяться. Раз она почувствовала, что тебе тяжело, – значит, так оно и есть. Ты приехал, и я вижу, что тебе и впрямь несладко. У тебя изможденное лицо, яники… У тебя подергивается щека. И еще я заметил, что ты, когда садишься, устраиваешься так, чтобы за спиной оказалась стена. По-моему, все это не от безопасной и нехлопотной жизни. Нет?
– Это от того, что неделю назад мне чуть было не выпустили кишки. Кажется, это не прошло для меня бесследно… Ты говоришь, дергается щека?
– Это пройдет, – участливо сказал рав Иегуда. – Что тебя тревожит, яники?
Севела прислонился затылком к стене и немигающе глядел в потолок. Он молчал, отец его не торопил.
– Меня могли приколоть, как овцу, папа, – сказал Севела. – Коли распознали бы, что я из Службы… Обошлось. А теперь во мне такая усталость… Ни гордости, ни радости. Когда-то казалось, что стану отправлять важную службу. Думал, что Предвечный простит мне распущенность, когда увидит, что я служу для его народа. А теперь одна усталость… И щека дергается, и сплю плохо.
– Вот что, яники, – нежно сказал рав Иегуда. – Позволь-ка отцу поучить тебя. Позволено такое старому коммерцианту, адон офицер?
Севела слабо улыбнулся и кивнул.
– Я всю жизнь торговал. Мне не приходилось убивать и не приходилось подвергаться опасности. Но я попробую тебя укрепить, яники… Я хочу, чтобы ты был силен, мой родной. А силен тот, кто независим. И когда тебе предстоит опасное дело – поменьше размышляй о высшем промысле. Я перевидал множество людей, этого опыта мне не занимать, ты знаешь. И кохенов за свою жизнь я наслушался достаточно. И вот к чему я пришел, когда стал осмысливать свою жизнь…
Старик негромко прокашлялся и положил руки на столешницу. Он двинул белоснежными бровями и вновь заговорил.
– Не ищи высшего смысла. Ты жив, ты молод, ты занят делом – и того довольно. В мире нет морали и нет справедливости. И никогда не будет. И божественного промысла нет – это тебе говорит старый коммерциант. Есть люди – с их страстями, с их трусостью и мерзостью, с их благородством и храбростью. Все светлое и разумное – в нас самих. И все низкое и бессмысленное – в нас же. И не оглядывайся на Предвечного, ты его не увидишь, ему не до людей. Предвечный непостижим, он всюду и нигде. А тот Предвечный, которого выдумали древние кохены – это пугало для полулюдей-полуживотных… Что, боязно слушать такое?
– Не боязно, – сказал Севела. – Странно.
– Все умное и доброе – в нас, – сказал отец. – Все грязное и жалкое – в нас же. И не к чему оглядываться на Предвечного… Я сегодня много говорю, яники. Старый коммерциант стал болтлив…
– Никогда ты не был болтлив. Я думаю, что ты сейчас так говоришь со мной потому, что…
– Я так говорю с тобой! – перебил отец, – я так говорю с тобой потому, что тебе было худо, и ты устал. Я вижу, как непомерно ты устал. Я хочу укрепить своего яники… Послушай меня, родной мой. У всего, чего ты добился, есть цена. И это высокая цена. И всякий раз, когда тебя мучают сомнения, когда кажется тебе, что живешь неверно, пусто – оглянись назад. Ты выучился в Яффе, после – в романской Schola. Ты выучился на совесть. И служил ты эти годы на совесть. Недаром романцы произвели тебя в капитаны. Когда тебе плохо и пусто, оглянись назад и скажи себе: я живу на совесть… Яники, ты будешь служить, будешь расти в чине. Станешь совершать поступки. Чего только потом о тебе не наговорят! Скажут, что ты убивал людей своего народа, скажут, что ты лизал зады романцам… Я знаю людей – они все переврут. Тысячу раз переврут и насочиняют чуши! Про тебя скажут, что разорял дома, что был жесток. Переврут твое имя и твои дела. Скажут, что ты был родом из Киликии, или из Коммагена, или из Тарса, или из Газы… И никто твоего одиночества не вспомнит, и боли твоей не вспомнит. И чести твоей не вспомнит, и отваги… А тебе не должно быть дела до этого, яники! Живи свою жизнь и служи свою службу! Это люди, живые люди, грешные люди меняют мир. Одни люди меняют мир, а другие, много после, сочиняют предания. Я сейчас говорю выспренно, яники… Хочу тебя укрепить. Ты к таким годам подошел, когда совершают поступки. Ты одно помни всякий день: ничего нет выше и значимее, чем поступки. Не оглядывайся на Предвечного, не оглядывайся на людей. Сколько ты ума и совести получил от меня и от своего опыта – настолько и будут твои поступки достойны.
Рав Иегуда протянул руку, взял кружку, допил травяной отвар и с отвращением сказал:
– Какой, однако, дрянью поит меня твоя мать… Каждый вечер я вынужден глотать эти помои! А колени как болели, так и болят. Зимой болят сильнее.
Он отставил кружку и проворчал:
– А майорат отошел к тебе, и говорить тут больше не о чем…
…стемнело, в ворота опять постучал молодой Зокир. В этот раз он не стал кричать и бросать камешки в окна. Он мерно стучал медным кольцом в створку. Он стучал сильно и с равными промежутками. Поначалу Севеле показалось, что в соседнем доме вбивают в дерево гвозди. Севела сдвинул с плеча посапывавшую Иду и поднялся. Внизу он набросил на голые плечи трабею, спустился к воротам, открыл и сказал:
– Опять тебя майор послал?
– Адон майор велел вещи поднести, адон капитан. Вам ведь в поездку нынче.
– Воды хочешь?
– Выпил бы, адон капитан, – признался стражник и облизнул губы.
Севела подумал, что парню сегодня досталось. Досыта набегался по офицерским адресам парень.
– Иди в дом, – велел Севела.
Они с Зокиром вошли в дом. Парень сделал три шага по атриуму и застыл. Севела прошел на кухню, открыл ларь, достал ковригу и сыр.
– Иди сюда! – сказал он.
Парень, стараясь ступать тихо, вошел в кухню.
– Сядь, Зокир, – Севела кивнул на скамью.
Стражник осторожно присел на край скамьи и сложил руки на коленях.
Севела отрезал ломоть от ковриги, отломил большой кусок твердого, крошащегося сыра, положил еду на тяжелую глиняную тарелку. Потом нагнулся, снял массивную крышку погребца, вынул холодный кувшин с затейливой ручкой и налил кносского в толстостенный стакан из мутного стекла. Поставил стакан и тарелку перед парнем и сказал:
– Поешь, Зокир, бравый стражник. Гоняли-то тебя сегодня много, а покормить, поди, забыли.
– Точно так, адон капитан, – парень покивал. – И часу сегодня в резидентуре не находился… Вернулся под вечер – так котел пустой уже, даже сухарей не досталось. Натан мне смоквы дал, но тут адон майор зашел, живо, говорит, ступай за адоном Малуком, торбу поднеси. Так я и смоквы те забыл в кордегардии.
– Ешь, не болтай, – Севела сел напротив.
Парень благодарно посмотрел на Севелу и принялся уминать хлеб и сыр. Хлеб был хороший, мягкий – Ида пекла третьего дня. Зокир чавкал, отхлебывал из стакана. От еды и кносского парень сразу вспотел, на лбу выступили капельки. Севела сочувственно посмотрел на Зокира, встал, порылся в ларе, взял вяленую козлятину. Оторвал кусок сухого волокнистого мяса и положил перед парнем. Потом взял с полки глубокую миску с оливами, полил маслом из бутыли, поставил перед дуралеем.
– Благодарен вам, адон капитан… – невнятно проговорил парень, разжевывая мясо. Он с усилием сглотнул, отер замаслившийся рот и зачастил: – Благословен ты будь, Предвечный, за хлеб и плоды, и за плод виноградной лозы…
– Да поешь же ты, олух! – Севела вздохнул. – Будет время отмолить… Еще хочешь вина?
– Воды бы, адон капитан, не вина… – рассудительно сказал парень. – Коли Натан вино учует, так на выгребную яму велит, дерьмо вычерпывать… Он хоть и дружен с братом, а меня учит строго. Осоловею от вина, а мне еще бегать нынче.
И трех минут не прошло, как парень проглотил ячменную краюху, хороший кусок пахучего сыра, ломоть козлятины и горку олив с маслом. Севела одобрительно посмотрел на него и сказал:
– Если так биться будешь, как жрешь, хороший стражник из тебя получится, Зокир.
Он налил большой стакан воды и, перегнувшись через стол, хлопнул парня по румяной щеке.
Стражник виновато улыбнулся и вытер руки о тунику.
– Так оголодал, адон капитан… – сказал он. – В животе грызло… Благодарен вам навечно, адон капитан.
– Имя напомни, – благосклонно велел Севела.
– Гума! – браво ответствовал парень и рыгнул. – Гума Зокир, адон капитан!
– Вот что, Гума, – молвил Севела. – Сейчас сопроводишь меня до резидентуры, а после будет тебе важное поручение.
– Слушаю, адон капитан! – истово сказал парень, добрал грязными пальцами из тарелки оставшийся комок сыра и быстро сунул в рот.
– Дело будет необычное. Натану докладываться не надо. И даже адону майору нельзя докладываться. Ты про мой статут слышал?
– А как же, адон капитан… Ваш статут особенный. И брат рассказывал, и Натан… Самые важные дела в резидентуре за вами и за адоном Минушем.
Тут парень запнулся, заморгал и пролепетал:
– Ну… Да… Пал адон лейтенант Минуш… Он вашим другом был, про то знаю…
– Мой статут таков, что я вправе самолично отправлять стражников с поручениями! Я адону майору не докладываюсь. А иной раз и адону Светонию не докладываюсь. Ты видел, что в резидентуре нынче гости?
– А как же! Прислана центурия суб-капитана Траяна. Для истребления зелотов, что укоренились в окрестностях Тира.
– Верно, – кивнул Севела. – Это тебе Натан рассказал?
– Так, адон капитан, с утра резидентура – как базар! Все гудит, офицеров созывают, я бегаю по адресам, ноги сбил… Уж известно все. А с суб-капитаном Траяном пришли такие люди – один к одному. Не люди – волки! Амуниция как у легионариев, кони холеные. Плохо придется тирским зелотам.
– Адон Траян передан мне под начало, – веско выговорил Севела. – Резидентура в эти дни совершит важное дело. Хочешь, возьму тебя в это дело?
– Еще бы, адон!.. Нусим так и говорил – держись адона капитана. Коли при нем будешь, так в чине повысишься.
– Тогда слушай. Сейчас выдам тебе жетон. Возмешь в конюшне лошадь. В седле хорошо сидишь?
– Нусим хвалил, – хвастливо сказал парень.
– Я дам тебе письмо. Поскачешь в Тир. Найдешь там рав Менахема бен Юта, доставишь ему это письмо… Менахем бен Ют, запомни!
– Менахем бен Ют, – повторил парень.
– Сможешь добраться до Тира?
– Доберусь, – уверенно сказал парень. – Коли с жетоном, так мне всякий укажет. Я до Каны дорогу знаю. А там уж укажут…
– Повстречаешь романский патруль – покажи жетон. Сроку тебе два дня. Сможешь доскакать до Тира за два дня?
– Смогу, адон капитан! – выдохнул парень и восхищенно уставился на Севелу. – Все сделаю! Тайное поручение, адон?
– Тайное и важнейшее, парень! Я долго раздумывал, какому человеку поручить. Ты мне нравишься. Старателен, брат в Службе… Полагаюсь на тебя.
– Все сделаю, адон капитан! – прошептал парень. – А в капралы произведут за это? Нусим-то – капрал…
– Бери выше, за такое в триарии произведут, – уверенно сказал Севела. – Сделай все, как велю. Менахем бен Ют живет в квартале за верфями, два сына у него… В Тире его знают, найдешь. Лошадь береги. Коли загонишь лошадь – до Скифополя подстав нет. Дам тебе лист следования, в Изрееле предъявишь на подставе, сменишь лошадь. Сил хватит у тебя? Не хвались, подумай! До Тира двести миль.
– Смогу, – пообещал парень таким голосом, что Севела увидел, что молодой Зокир сдохнет в седле, но доедет до Тира за два дня.
– Побудь здесь, – сказал Севела. – Я напишу письмо.
Он поднялся в кабинет и быстро написал на листе десяток строк. В сумерках он уже плохо различал, что пишет, но не было времени разжигать светильник, молодого Зокира следовало отправлять поскорее. Лист он плотно свернул, сунул в маленькую тубу, перевязал ее тонким ремешком и затянул узел. Когда он спустился в кухню, парень опять жевал.
– Перед дорогой, адон капитан… – оправдался стражник, поймав взгляд Севелы. – Когда теперь смогу поесть?
– Верно! – одобрительно сказал Севела. – А я про то не подумал…
Он перерыл ларь и шкаф, свалил на стол сушеное мясо, стопку лепешек, сыр, смоквы, и баклажку кносского сверху положил. Из полотняного покрывала он свернул узел и подтолкнул его по столу к молодому.
– Это в дорогу тебе. Дам еще пять ауреусов. Спрячь в пояс.
– Все сделаю, адон.
– Побудь здесь, я оденусь… А ну, повтори имя человека в Тире!
– Менахем бен Ют! – без заминки сказал парень.
– А как найдешь его?
– Живет в квартале, что за верфью. Найду… Так верно, что могут за такое дело до триария повысить, адон капитан?
– Ты доберись до Тира, Гума Зокир, – сказал Севела. – А поощрение тебе будет.
И подумал: когда все откроется, парню несдобровать. А может быть, и не тронут парня… Поступил по уставу, получил приказ – поехал в Тир… Дурак молодой. Назначат двадцать палок и на выгребную яму…
…совещаться заполночь. Севела принял все резоны Идумеянина. Согласился и с тем, что ни Натана, ни Нусима, ни Переца-Задиру в Тир не возьмут. Рыжий обращался к Севеле указующе. Но не сделать ни одной уступки рыжий не мог, потому Севела соглашался со всем, что он скажет, и ждал конца совещания, чтобы последнее слово осталось за ним, и отряд пошел в Тир через Кесарию Палестинскую.
– Самарию минуем за два дневных перехода, – сказал рыжий и, нагнувшись над столом, мазнул пальцем по карте. Тонкий палец прошуршал по карте от Александриона до Изрееля.
Севела, словно раздумывая, поднял брови, побарабанил подушечками пальцев по подлокотнику, выдержал сообразную паузу и неторопливо сказал, вглядываясь в карту:
– Не лучше ли повести отряд через Антипатриду? А после – на запад, через Кесарию Палестинскую?
– Зачем это? – недовольно спросил Идумеянин.
– Это крюк, – Севела кивнул. – И немалый крюк. Так что я понимаю твое удивление, суб-капитан. Я даже понимаю, что предложение пойти через Антипатриду настолько тебя поразило, что ты изменил своей обычной вежливости и разговариваешь с офицером чина высшего, чем твой, как со своим денщиком.
Рыжий поджал губы.
– Суб-капитан сожалеет о невольной бестактности, – торопливо сказал Нируц. – Не правда ли, суб-капитан?.. Нам предстоит важнейшее дело, все мы теперь озабочены и взволнованы. Извиним друг другу незначительные нарушения офицерского этикета.
– Прошу извинить, – проворчал рыжий и неприязненно глянул на Севелу. Потом добавил язвительно: – Я со всем почтением прошу адона капитана Малука объяснить офицеру меньшего чина: зачем удлинять поход на сотню миль?
– Я докладывал тебе на прошлой неделе, мой майор, – кротко сказал Севела, обернувшись к Нируцу. – Если хочешь, я сейчас принесу тебе сообщение из Сихема. Доносил агент Адриан… Это про отряд Хука Балагура.
– Что такое? – недоуменно сказал Нируц. – Хук весной откочевал в Заиорданье. Или не так?
– Он вернулся в Самарию, мой майор, – с сожалением сказал Севела.
– И что доносит твой человек?
– Адриан.
– Припоминаю, – оживился Нируц. – Адриан! У него ведь должок к Хуку?
– Балагур у него отнял двадцать коров, – сказал Севела. – Угнал в Батанею… Расквитаться у Адриана руки коротки. А едва Балагур объявился в Самарии, Адриан мне написал. Сто восемьдесят бойцов нынче у Хука Балагура, рыщут по всей Самарии.
– Не понимаю, о чем вы говорите, – неприятным голосом произнес рыжий.
– Малук напомнил мне о донесении агента из Самарии, – объяснил Нируц и потрогал мочку уха. – В Самарию из Заиорданья вернулся зелот Хук Балагур. У него большой отряд. Малук думает, что не стоит вам вести людей через Самарию.
– У меня обученная центурия, майор, – высокомерно сказал рыжий. – Меня не беспокоит шайка оборванцев из Заиорданья. Я вырежу этих пастухов, коли они спрятаться не успеют.
– Возможно, – холодно сказал Нируц (он не любил, когда ему обещали подобное). – А возможно, вы потеряете людей. Хук Балагур – беспокойный малый. Он вернулся в Самарию, и невозможно предугадать, где будут разбойничать его люди. Ваш отряд могут задержать, могут потрепать. А это сейчас ни к чему.
– И еще, – добавил Севела, доброжелательно глядя на рыжего. – Подумай о дорогах, суб-капитан. Уж ты-то знаешь, что за дороги в Самарии. Не дороги, а тропы. А до Кесарии Палестинской лежит дорога романской постройки. И выходит так, что крюк до Антипатриды и Кесарии – вовсе и не крюк.
Идумеянин моргнул, склонился над картой, поводил по ней пальцем. Потом поднял голову и кивнул.
– Пусть так. Поедем через Антипатриду.
– Закончим на этом. Вам обоим нужно отдохнуть, – сказал Нируц.
– Я пойду к своим людям, – проскрипел рыжий. – Прощай, майор.
– Желаю удачи, Траян, – тепло сказал Нируц.
– Малук, будь у Дамасских ворот на рассвете, – сказал Идумеянин. – И не отставай на марше. В моем отряде не ждут.
– Я еще не встречал людей приятнее, чем ты, любезный суб-капитан, – сладким голосом сказал Севела. – Если вдруг меня не будет на рассвете у Дамасских ворот – значит, ты перепутал ворота.
Когда рыжий ушел, Нируц спросил:
– Зачем ты злишь его?
– Он высокомерный ублюдок. Любимчик Вителлия… Наглец.
– Не ссорься с ним. Вам неделю быть рядом. В походе не надо ссор.
– Об этом не беспокойся, мой майор. Дела Службы превыше ссор.
Нируц придвинул к себе карту и некоторое время разглядывал. Что-то высчитывал в уме. Потом поднял глаза и сказал:
– Да, неделя… Не меньше.
– Скажи, а что будет потом?
– Потом?
Нируц приподнял брови. Казалось, он сейчас не может и думать ни о каких «потом».
– Да, потом. Рано или поздно тебе придется дать отчет властям. Как ты объяснишь арест жителей Тира? И как ты объяснишь гибель законопослушных людей?
– Невеликая забота, – беспечно сказал Нируц. – Я не первый год в Службе и знаю, как отписываться на запросы романцев.
– А после? После того как ты, предположим такое, успокоишь Бурра? Станешь искоренять галилеян, арестовывая одну общину за другой?
– Я не заглядывал так далеко, – сказал Нируц. – Коли нам троим – тебе, мне и Идумеянину – удастся спрятать галилеян от Лонгина хотя бы на год, то я буду счастлив… Я буду счастлив некоторое время. А потом перестану быть счастлив и стану думать, как придержать галилеян, как обмануть Лонгина, Бурра и наместника, как удержать Каиаху от расправы с галилеянами руками романцев…
– А вот о Вителлии, – перебил Севела. – Идумеянин знает истинную цель похода в Тир. Надо думать, что и наместник Вителлий тоже это знает. Он может донести Лонгину о галилеянах.
– Этого не случится, – сказал Нируц, как говорят о малозначащем. – Наместник Вителлий принадлежит к партии сенатора Лепида. Лепид и Лонгин давние враги. Вителлий интригует против Лонгина, он не станет помогать проконсулу.
– Ни в чем не повинных горожан Тира погонят в Ерошолойм… – сказал Севела. – Я выполню твой приказ. Но это будет грязным делом, мой майор.
Нируц промолчал.
– Позволь еще спросить, – сказал Севела. – Отчего ты не попытался снестись с вдохновителями галилеян? С теми, кто пишет букву их канона.
– Так нет же их, этих вдохновителей, капитан! – Нируц нервно рассмеялся. – Нет у них своего первосвященника, своего верховного жреца!.. В безличии вдохновителей их сила.
Нируц шумно встал, шагнул к большому шкафу и взял с полки несколько листов.
– Вот, – сказал он. – Здесь десятки имен. Подставь любое – и можешь объявлять этого человека творцом галилеянского канона… Иоханаан из Гисхалы! Маннай из Иезера! Какой-то Терентий бен Симон из Тивериады, избавляет от язв и падучей… Десятки вероучителей, и никто не сможет выбрать из них истинного создателя канона! Они бродят по Провинции, они учат в Schola, они помалу склоняют людей к светлому и простому учению. Но их предводителя ты найти не сможешь, нет его.
Нируц швырнул листы поверх карты.
– Я искал их верховного вероучителя! – горячо сказал он. – Агенты сбились с ног, отыскивая этого человека… Хотел бы я договориться с ним. Или запугать его, или прирезать… Но его нет! Можешь любого из галилеян объявить вдохновителем канона, любой подойдет! Гляди!.. Здесь множество имен!
Склонившись над столом, он ткнул пальцем в убористо исписанные листы.
– Рафаил Итурейский! – возгласил Нируц. – Рав Анания бен Изат! Некто Юстин из Иотапаты, двадцати лет ему не исполнилось, а вся Идумея уже услышала от него галилеянское учение… Некто Иесуйя бен Иосиф из Нацерета, цех плотников… Некто Гиркан Сихемский, отставной легионарий, фракиец… Да множество их. Я больше тебе скажу… – Нируц поднял указательный палец и несколько раз повел им перед лицом. – Нет нужды этому учению в первосвященнике. Всякий, кто принял этот канон, может быть вероучителем. Это учение – логика и доброта, разум и мечта… Кто первым озвучил доброту? Кто первым заговорил о мечте? Никогда не узнать этого. А уж много после, капитан… Люди не могут жить без вероучителей, они придумают имя. Когда-нибудь произнесут одно из этих имен, – Нируц шлепнул ладонью по листам, рассыпавшимся поверх карты Провинции. – И объявят, что этот человек и есть отец галилеян.
– Слышал бы тебя сейчас гончар, – пробормотал Севела. – Он объявил бы тебя галилеянином. «Разум и мечта»… «Доброта и логика»…
– Мне не подходит этот канон, – насмешливо промолвил Нируц. – Я презираю людей, а галилеяне, видишь ли, учат любить каждого встречного-поперечного. А с чего их любить? Почти всякий человек по природе своей убийца и не умеет прожить отдельно от стада… Я знаю цену людям, а потому прекраснодушия галилеян не разделяю. К тому же, я с Предвечным не в ладах. А братья-галилеяне не мыслят себя без Предвечного. Он фундамент их миропонимания. Мне же такой фундамент не нужен. Верование меня унижает. Не желаю ничего принимать на веру! Я, Тум Нируц, рожденный Цебаотом Нируцем, существую в сем неуютном мире и твердо знаю, что нет сил добра и сил зла. А есть только земля и небо, дождь и песок, города и море… Есть люди. С их страстями и добродетелями, трусостью и благородством… И я не склонен видеть руку Предвечного в том, что совершено обычными людьми.
– Такое я слышал от отца.
– Рав Иегуда мудр, – утвердительно произнес Нируц. Он нахмурился и кивнул, словно старый Иегуда Малук из Эфраима сейчас подтвердил его правоту. Он кивнул и добавил: – Предвечный не писал проповеди галилеян и не создавал их Schola. Не Предвечный нынче сводит на нет влияние периша и саддукеев… Не Предвечный уводит Провинцию из-под руки Рима и учит джбрим новой правде. Это делают люди, капитан! Эти люди едят, испражняются, совокупляются, эти люди умрут и станут прахом… И не Предвечный пришлет сюда романские войска – это совершат люди, которых называют сенаторами. А я, человек Тум Нируц, нынче должен сделать все возможное, чтобы галилеяне, навлекшие угрозу на мой народ, исчезли… А коли Предвечный поможет им благополучно добраться пешими из Тира в Ерошолойм – я буду только…
* * *
Во вторник Новиков опять позвал его к телефону.
– Михаил? – спросил знакомый голос. – День добрый.
«Кто это? – подумал Дорохов, быстро припоминая. – Бобышев, что ли? Чего это он мне звонит сюда? Черт, знакомый же голос…»
– Это Роман.
– Извините, не узнал, – удивленно сказал Дорохов. – Здравствуйте.
– Михаил, а вы не выйдете на улицу? Переговорить надо.
– Погодите… А как вы этот телефон узнали?
– Дима дал. Так я жду, хорошо? Я тут, в машине, возле входа.
«Что ж ты за козел, Димон? – со злобой подумал Дорохов. – Ни фига себе, он мои телефоны раздает…»
– Танька, будь другом, присмотри за коллектором, – попросил он Великодворскую. – У меня фермент делится. Я отбегу на минутку.
– Иди, я послежу, – сказала Танька.
– Я мигом.
Он не стал одеваться, пошел к лифту в чем был – в синем халате и свитере. Зачем бы там этот Роман ни приехал – Дорохов больше минуты с ним говорить не собирался.
У институтского крыльца стояла видавшая виды белая «Волга». Дорохов открыл дверь и сел на переднее сиденье. Роман приветливо улыбнулся. У него, оказывается, был круглый животик, обтянутый черной водолазкой. Дубленка и пыжиковая шапка лежали на заднем сиденье.
Когда Дорохов сел в теплый салон, солидный человек крутил ручку настройки радиоприемника.
Машина была «с финтифлюшками». Набалдашник рычага передач из прозрачного плексигласа, внутри набалдашника блестела роза. Передние сиденья застелены белой овчиной. На заднем стекле – шторки. И на зеркале заднего вида болталась игрушка – забавный зверек с длинными космами. «К-р-р-расота», как говаривала Эллочка Щукина.
– Здравствуйте, Михаил, – Роман протянул руку.
Дорохов пожал руку, рука была теплая и сильная.
– Здрасьте. Вы извините, я спешу. Работа. Чем обязан?
Роман прокашлялся в кулак и сказал:
– Зачем вы сразу ершитесь? Извините, если я вас от дел оторвал. У меня к вам важный разговор.
– Я вообще не хочу вести никаких разговоров. Ни важных, ни неважных. Все переговоры должен вести Дима. У нас с ним распределение обязанностей. На мне методика, на нем переговоры.
– Дима – мальчик. Дима – «подай-принеси». Чего мне с ним говорить? Методикой владеете вы, а не Дима.
– Хорошо, я вас слушаю.
– Я подумал над тем, что вы мне в субботу рассказали. Поговорил кое с кем. Кажется, у вас действительно высокий выход. У меня к вам предложение.
Он открыл бардачок, взял оттуда пачку «Кента», неторопливо достал сигарету.
– Я обеспечу бесперебойную поставку материала. Бесперебойную, Михаил. И материал будет очень богатый. Я вам так скажу: когда списывают эвээмки, металлосодержащие детали снимают. Остается мелочь. Вы с Димой получали металл из мелочи. А я обеспечу вам материал с высоким содержанием металла.
Он почиркал спичкой о коробок, затянулся и положил руку с сигаретой на руль.
– А где вы его возьмете? – не удержался Дорохов.
– А вам важно, где я его возьму? Есть у меня договоренность в одном месте. – Роман смотрел перед собой, струя дыма расплющилась о ветровое стекло. – На высоком уровне договоренность. Человек – замдиректора по АХЧ.
– И дальше что?
– Будете работать со мной. Металл у нас будут брать по двенадцать рублей. С каждого грамма пять рублей – ваши. Сырье на мне, и весь расходный материал тоже на мне. И сбыт тоже на мне. Я даже не буду вникать в вашу методику. Работайте, и получайте пять колов с грамма.
– А Димон?
– А зачем мне Дима? И вам зачем Дима? Дима – мальчик… Ну, ради бога – шесть рублей с грамма, и пусть Дима будет при вас.
– Нет, – сказал Дорохов.
– Что, больше хотите? – холодно сказал Роман. – Вы вообще представляете, какая это головная боль – продавать? Да вас мусора нахлобучат уже через неделю.
– У меня изменились планы. Я вообще больше не буду работать с металлом.
– Что-то случилось? – недоверчиво спросил Роман.
– Долго объяснять.
– Тогда, может быть, передадите мне вашу методику? За вознаграждение, разумеется. В накладе не останетесь.
«Почему нет?» – подумал Дорохов.
– Не исключено, – сказал он. – Я подумаю. Мне пора, до свидания.
– Всего доброго, – сказал Роман, не поворачивая головы.
Дорохов поднялся на этаж и быстро прошел в Машкину комнату. Резко крутя диск, он набрал номер Димона.
«Только бы он дома был… Чтоб он, сволочь, только был дома…»
– Але, – сказала Вика. – Слушаю вас.
– Вика, привет, это Дорохов. Дима дома?
– Привет. Дома, даю… Дима!.. Миша звонит.
Слышно было, как Димон шлепает тапками по линолеуму.
– Але.
– Ты что делаешь, сволочь?! – прошипел Дорохов. – Какого черта твои бабаи ко мне на работу приезжают?
– Погоди…
– Ты какого хера мои телефоны раздаешь?!
– Миха, ты не въезжаешь…
– Слушай, урод, – сквозь зубы сказал Дорохов. – Это ты не въезжаешь. Ты что обещал? Что ты обещал, когда мы начинали? Что я – в стороне. А знаешь, что я тебе скажу? Трепло ты. Понял?
– Ты как разговариваешь?! – заорал Димон. – Ты что, мальчика нашел?! Ты нюх потерял, Миша?!
– Пошел ты, урод!
– Сам пошел!..
Дорохов бросил трубку. Она ударилась о рычажки и свалилась на стол. Он положил трубку на место и перевел дух. У него от злости даже руки похолодели.
* * *
«…этого письма. И я не думал, что стану писать. Завтра мне предстоит путешествие. Оно из тех путешествий, перед которыми не худо бы „привести в порядок свои дела“, как это говорится у судейских.
Странно тебе будет получить это письмо. Я воображаю, как ты, там, в Байе, берешь в руки пакет, недоуменно глядишь на адрес, выписанный моей рукой, и морщишь лоб – с чего это он пишет мне? Несколько лет отчуждения, несколько лет ты не слышал моего голоса, а я не слышал твоего. И вдруг это письмо. В необычное путешествие мне завтра предстоит отправляться, брат Рафаил. Где это путешествие закончится, когда оно закончится – не знаю этого. Пишу не затем, чтобы объясниться. Не хочу уезжать завтра из Ерошолойма, не сказав тебе, что все эти годы я любил тебя и помнил, что у меня есть брат. Знай же, что в самом скором времени я буду объявлен дезертиром. Меня назовут «персоной, совершившей деяния, преступные принсепсу и народу Рима». Я порываю со Службой и со своим наставником.
Два человека воспитали меня – наш с тобой отец и Тум Нируц. Ты невысокого мнения о Нируце, я помню. Но мнение твое – оно о подростке из вашей иешивы. Майор Тум Нируц это не тот подросток. Это просвещенный и зрелый человек, храбрый и упрямый. Однажды он изменил мою жизнь. Он стал моим наставником, старшим другом и командиром. Когда он отдавал приказ, я брался выполнять приказ так, словно исполнял просьбу друга.
А теперь мой наставник велит мне совершить гнусность. Он научил меня размышлять. Научил без колебаний нарушать регламенты и указы, если того требует моя правота. Именно так я намерен поступить.
Нируц не простит отступничества, прежняя дружба будет забыта. Отныне я в его глазах невесть кто. Предатель, беглец и ничтожество. Я нарушу правила Службы, но не это его оскорбит. Я предам своего командира, своего наставника, я дезертирую в те дни, когда Нируц нуждается во мне, как ни в ком.
Но довольно об этом, я многому учен, надеюсь сберечь голову. Я спрячусь, Рафаил, не стану писать домашним год или три. Коли к тебе придут романские сыскные, ответь им, что ты в давнем раздоре с братом и знать не знаешь, где он теперь.
Теперь о делах нашего дома.
Рафаил, умоляю, вернись в Эфраим! Хоть на полгода вернись!
Прошу тебя, приезжай в Эфраим и поддержи отца. В ближайшие недели резидентуры Внутренней службы объявят меня преступником. Кохены Эфраима тоже объявят об этом в кварталах. Дому Малуков это не навредит. Коммерцианты Провинции уважают отца. Его репутация чиста и непоколебима. Но администрат и недоброжелатели из горожан непременно станут выказывать отцу презрение. Отец стар, негоже, чтобы он, седой труженик, почтенный человек, в одиночку встретил общественное порицание. Будь теперь рядом с ним. Пусть отец видит, что старший сын приехал из метрополии, чтобы разделить с ним трудное время. Ему легче будет снести пересуды соседей, если ты будешь рядом. Примкни я к зелотам – вот тогда периша Эфраима отнеслись бы к отцу с сочувствием. Но в Эфраиме знают, что я служил романцам. Поэтому не будет отцу сочувствия – одни только злорадные пересуды и показное презрение. Переступи через разлад с отцом, не озлись на холодный прием, который может ожидать тебя дома. Приезжай в Провинцию и один год поживи в доме Малуков.
Я составил акт перепоручения майората. Он хранится в нотариальной конторе Аарона Хизреви в Яффе. Ты можешь получить этот документ, когда тебе будет угодно. Приезжай в Эфраим и помирись с отцом. Будь ему помощником до тех пор, пока не определится моя участь.
Четыре года я тяготился нашим разрывом. Не писал тебе, не искал примирения. До слова помню наш последний разговор, помню твою брезгливую гримасу. Как же легко ты принес нашу дружбу в жертву своей брезгливости! Ты высокомерно выговорил мне. «Поприще для властолюбивого ничтожества», «суетливая мерзость тайного могущества» – вот твои слова. Ты упивался своим негодованием, своим отвращением ко всем соглядатаям и доносителям, что только есть в Ойкумене. Ты говорил величаво и гневно, словно стоял на котурнах, а замерший амфитеатр внимал твоему монологу. Будь ты проклят, высокомерный дурак!
Когда ты, дипломированный хирург, оставил службу в госпитале, оставил почтенное врачебное дело, неблагодарно ослушался отца – кто первым бросился защищать тебя? Кто отстаивал перед отцом твое право на выбор стези? Отец немало заплатил за твое образование, отец желал тебе достатка и высокого статута. А ты, получив от него все, что только может получить джбрим от своего отца, даже не изволил объясниться с ним! Ты уплыл в Байю и знать не желал о делах и нуждах дома Малуков! И кто же тогда выгораживал тебя, кто защищал? Малыш Севела! Кто писал тебе всякую неделю, месяцами дожидаясь коротких, небрежных ответных записок? Малыш Севела! Кто, в конце-то концов, упросил отца не лишать тебя содержания (пятьсот ауреусов в год – изрядная сумма)? Малыш Севела! Будь ты проклят, надменный сноб! А когда малыш Севела робко поведал старшему брату о своем выборе, то что же услышал он в ответ? Высокомерный выговор он услышал от любимого старшего брата. Я, коммерциант, отцовский любимчик, цифирная душа, оказался во сто крат терпимее тебя, эстета и острослова! Отчего же ты без должного уважения отнесся к моему выбору? Проклятый ты предатель! Я был тебе хорошим братом, а ты позорным высокомерием зачеркнул нашу братскую дружбу!
И вот что, Рафаил. Придется напомнить тебе о стипендии. Да, о стипендии! Когда ты проходил курс драматургии у Мнестера, эта стипендия, помнится, помогла тебе не подохнуть с голоду. Так вот – половину жалования суб-лейтенанта я положил на ту стипендию. Я-то знал, как скудно тебе в Байе. Быть студиозусом знаменитого драматурга – немалая честь. Но недешевы уроки мастера Корнелия Мнестера. Так вот, это Тум Нируц посодействовал в том, чтобы великовозрастному студиозусу Рафаилу Малуку некий «Союз ткачей Итуреи» определил стипендию как даровитому и достойному молодому человеку. А малыш Севела был теми ткачами. И твой труд «Памяти Вария» вышел в свет не без участия малыша Севелы (что, кстати сказать, ни в коей мере не умаляет достоинств книги). Триста ауреусов было уплачено издателю Севариусу Кумму. Это уже много позже список «Памяти Вария» был периздан и принес немалый доход тебе и книготорговцу. Вот так-то, брат Рафаил.
А думал ли ты хоть раз – по каким дорогам носило эти годы малыша Севелу? Не одиноко ли младшему брату? Хоть по сто раз на день плюй и швыряй навоз в ту сторону, где моя Служба, старший брат Рафаил, обливай презрением тайный сыск, кляни романских прислужников. Но попробуй утверждать, что мое дело безопасно и нехлопотно!
Ты предал меня, брат Рафаил. Предал, когда произнес высокомерную отповедь в ответ на доверительные слова. И после предавал, когда в веселой Байе сочинял эссе об Атиллии и Менандре, когда кутил с поклонниками и развратничал с поклонницами. А малыш Севела тем временем гонялся за зелотами по Самарии и Газе. Ты публиковал комментарии к «Новой аттической комедии», а малышу Севеле могли всякий миг выпустить требуху, стоило лишь ему на миг утратить осмотрительность среди богобоязненных жителей Идумеи. Ты нынче знаменит и небеден. Тебе рукоплещут театры Неаполя и Остии. А хоть раз вспомнил ты малыша Севелу, в то время, как тот сберегал покой в Провинции, вылавливая убийц и смутьянов?
Но полно. Это дело прошлое. Нынче нам вдвоем надо поддержать дом Малуков. Я возвращаю тебе майорат, а ты оставь на один год сценическое дело…
* * *
На Полянке его ждал сюрприз – пожаловал Лобода. Ждал его в машине, у подъезда. Дорохов не сразу заприметил в темноте Сашкины «Жигули», увидел, только когда тот посигналил. Лобода вылез из машины и пожал ему руку.
– Здорово! – обрадованно сказал Дорохов. – Давно ждешь?
– Здорово… Не, минут п-п-пятнадцать. Думаю, подожду с п-п-полчасика. Не появишься – п-п-поеду. Присядь в машину, разговор есть.
«Сегодня у всех есть ко мне разговор», – подумал Дорохов.
– Пошли в дом, Сашка, – сказал он. – Чаю попьем. У меня даже твой «Камю» еще остался.
– Не, мне ехать надо, с-с-садись. П-п-переговорим, и я поеду, – серьезно сказал Лобода. – Давай, садись.
Они сели в машину. Дорохов вынул из кармана куртки «Казбек».
– Что-то случилось?
– Да совпадение одно п-п-произошло… – с непонятной интонацией сказал Лобода. – Я сегодня утром с одним п-п-парнем говорил. Н-н-ну, вспомнил про то, что ты меня спрашивал в прошлый раз. П-п-подумал – надо поговорить с операми, кто золотарями з-з-занимается. Ну вот, поговорил с К-к-костей Ильясовым.
– Так. И чего?
Честно говоря, все это его уже мало интересовало. После разговора с экселенцем Дорохов решил, что поедет к Гольдфарбу. Выйдет книга, он поедет в Колумбийский университет. А вся эта золотодобыча – черт с ней.
– Что ты мне г-г-гусей гнал? Книжку он пишет … Я еще тогда п-п-подумал, что ты для себя интересуешься. Книжку ты, может, и п-п-пишешь… На хрен ты к золотарям лезешь, М-м-миха?
– Да с чего ты взял? – с плохо разыгранным удивлением сказал Дорохов.
– Ты спасибо с-с-скажи, что такое совпадение случилось… Я зашел сегодня к Косте п-п-перекурить. Я говорю: Костян, у меня друг – п-п-писатель. Спрашивал про золотарей. Костя говорит: а т-т-твой друг случаем не химик? Я говорю – ну химик, а что такое? Костя говорит: а мне один человечек дунул, что на армян какой-то Ломоносов вышел, химическую реакцию придумал. Гонит рыжье из т-т-техсплавов, хочет сдавать… Как твоего корешка з-з-зовут?
– Какого еще корешка?
– Дима его з-з-зовут?!
У Дорохова стало сухо во рту.
– Да, – покорно сказал он. – Дима.
– Этот Дима твой – м-м-мудак, – зло сказал Лобода. – С татарами завязывался, т-т-теперь на армян вышел. Он с одним крупным б-б-барыгой перетирал… Амбарцумян, Размик, там, не помню, хуязмик… Костян его давно ведет. Костин человечек д-д-дунул, что этот барыга говорил с т-т-тем химиком… Тут я все понял! Это ты и есть т-т-тот химик!
– Сань, слушай…
– Это т-т-ты слушай! Костян хороший мужик, не крыса. Я ему откровенно все рассказал, посоветоваться чтобы, типа. Он говорит: б-б-быстро вразуми своего охеревшего писателя, чтоб он от этой темы п-п-подальше держался! Потому что, во-первых, армяне сейчас в п-п-плотной разработке. Они касательство имеют к делам по Д-д-дулевскому фарфоровому заводу и п-п-по Бронницкому заводу. А во-вторых, пусть этот химик вообще про золотарей забудет, его нахлобучат, и вся его химия к-к-кончится.
– Саня…
– К-к-колись – плавишь рыжье?
– Да все! Это уже забыто, Саня! Мне уже нет в этом интереса! Мне стажировка в Штаты светит, Саня!
– Сколько з-з-золота вы наплавили?
– Тридцать один грамм. Это на той неделе.
– А д-д-до этого?
– Грамм триста, может быть…
– «Г-г-грамм триста»… Нехило. Восемьдесят восьмая статья, часть т-т-третья. До десяти лет с конфискацией. Т-т-ты как ребенок, Миха… Я тебя сейчас просвещу. Значит так. МУР этим постольку п-п-поскольку занимается. Это называется «незаконный оборот валюты, драгоценных к-к-камней и металлов». Там все в одной статье. Вообще этим ОБХСС занимается. И еще там всякие серьезные инстанции. Техсплавы откуда п-п-прут, как ты думаешь? Из вычислительных машин. А вычислительные машины – г-г-де? Оборонка!.. Не, в научных институтах т-т-тоже. Но оборонка – в первую очередь. Это значит – что? Это значит – к-к-ка-гэ-бэ и Военная прокуратура.
– Саня… У меня сейчас совсем другие планы!
– Где ты с арами в-в-встречался? Ты по ямам ездил?
– По каким ямам?
– Если тебя нахлобучат, я помочь не смогу. И, честно т-т-тебе скажу, – не буду помогать. Я офицер милиции, Миха. Пусть мы с тобой дружбаны, и водку п-п-пьем вместе… Это не значит, что ты можешь з-з-закон нарушать. Но я т-т-тебе не это хотел сказать.
– Слушаю, Саня, – тихо сказал Дорохов.
Про дружбанов, водку и закон Лобода мог и не говорить.
– Ты п-п-пойми вот что. Это не твое, – глухо сказал Лобода. – Рано или п-п-поздно тебя примут. Тебя вычислят, рано или п-п-поздно. И примут, и закроют. Но главная твоя ошибка – т-т-ты не туда лезешь. Это ц-ц-целый мир, Миха, – барыги, золотари… А у тебя свой мир. Сеня там, Вова Гаривас, наука твоя, С-с-стругацкие, джитратал… Вот это твое. Когда человек в чужое суется, где ему б-б-быть не надо, где он н-н-не знает ни хрена, там ему башку снесут н-н-непременно!
В первый раз Дорохов видел, чтобы Лобода так психовал. Сашка даже заикался больше обычного.
– Миха, т-т-ты пойми – ты просто не оттуда. В этой среде серьезные дела д-д-делаются. Люди шляхом торгуют, слитки из техсплавов д-д-делают… Через м-м-московские ямы тонны золота п-п-проходят ежегодно…
– Сань, какие ямы? Я не понимаю.
– Н-н-ну, это места, где рыжье п-п-продают… На Кавказе подпольные мастерские есть, цеха. Из низкопробного золота делаются изделия. П-п-потом это в комиссионки уходит, в ювелирные магазины, через спекулянтов расходится. Д-д-деньги там крутятся немереные. П-п-понимаешь, куда ты сунулся? А ты – п-п-профессор, ученый, тебе туда не надо! Ну да, ты что-то такое офигительное выдумал… Миха, ты г-г-глазом моргнуть не успеешь – тебя барыги повяжут по рукам-ногам.
– Убьют, что ли?
– А убивать н-н-не обязательно, – неожиданно спокойно сказал Лобода. – Есть много способов, чтобы человека заставить. Убивать т-т-тебя никто не станет. А п-п-пахать на барыгу будешь. А могут и п-п-приколоть. Если уже знаешь что-то. Или если планы кому ломаешь. Б-б-без шуток, Миха.
Лобода покопался в кармане «Аляски» и вытащил смятую пачку «Ту-134».
– Но это все д-д-детали, – сказал он, прикуривая. – Главное, что я т-т-тебе хотел сказать, – это не твое. Самое плохое с человеком случается, когда он лезет т-т-туда, где ничего не знает и не п-п-понимает. Вот если бы ты был другой человек, не интеллигент т-т-там, не ученый… Если бы ты был фарца, п-п-при делах, то я бы тебе п-п-просто сказал: Миха, посадят. И все. А т-т-там уже крутись, как хочешь… Не надо больше контачить с золотарями.
– Да я и не собирался… Честное слово, Сашка. Да, делали мы с приятелем металл… Но теперь мне это неинтересно. У меня книгу могут опубликовать, Саня.
– Ты интересный ч-ч-человек, – сокрушенно сказал Лобода и помотал головой. – И книжку ты пишешь, и рыжье п-п-плавишь. И в Америку ты собрался… Вот тоже, кстати – сегодня ты плавишь рыжье, а завтра расхотелось. Передумал, типа! Наигрался. Б-б-беспечный ты человек… Это для тебя игрушки – сегодня захотел, а завтра расхотел. Для тебя игрушки, а для д-д-других не игрушки. Осторожнее надо б-б-быть, Миха.
– Хорошо. Я все понял.
– Что ты п-п-понял?
– Все. Кончено с золотом.
– Г-г-где вы химичили?
– Квартиру сняли в Сокольниках.
– О! Квартиру сняли… Г-г-группа, производство. Полный букет… И п-п-продажа до кучи. Восемьдесят восьмая, часть четвертая… – Лобода опустил стекло, сплюнул. – Сворачивайте все. Мигом! Завтра же! Вывозите свое барахло – т-т-тигли там, реторты, философский к-к-камень… И чтоб ни ары, ни ассирийцы, ни цыгане про вас больше не слышали! И Костины стукачки тоже чтоб про вас б-б-больше не слышали!
– Будет сделано, – покорно сказал Дорохов.
– «Б-б-будет сделано»… Беспечный ты ч-ч-человек… Все, я поехал. Позвоню через пару дней.
– Пока, – сказал Дорохов. – Спасибо тебе, Саня.
– Химик… М-м-менделеев… Как ты меня огорочил, М-м-миха. Ты ж порядочный ч-ч-человек! Ну на хер ты в эту мурку б-б-блатную лезешь? Все, в-в-вали. Видеть тебя не м-м-могу… – Лобода перегнулся через Дорохова и открыл дверцу.
Дорохов вышел из машины. Сашка газанул, задние колеса прокрутились по снегу, и машина быстро выкатила на Полянку.
* * *
«…высокопревосходительству
Луцию Кассию Лонгину, сенатору.
Приветствую Вас, мой господин Кассий.
Вы велели наблюдать за майором Нируцем, что возглавляет Гермес. Как хорошо Вы распознали нрав этого человека! Нируц именно таков, как Вы описали его. Авантюрист и себе на уме.
Двум писарям резидентуры было велено передавать в мою канцелярию копии всех распоряжений и отчетов Нируца. (Полковника Светония я не стал посвящать в свое тайное расследование; по Вашему справедливому замечанию, он и впрямь подпал под обаяние Нируца.) Каллиграф отдела Гермес доносил обо всем, что смог услышать. Но и в его донесениях я не нашел ничего дурного о Нируце. Майору в последние недели случалось отправлять своих людей для мер крайних и решительных. Так, к примеру, он направил лейтенанта Минуша в Вифанию для уничтожения отряда зелотов. Мой доноситель сообщал, что Нируц с капитаном Малуком вели разговоры о секте галилеян. Я побывал в крепости Антония и говорил там с арестованным проповедником Амуни. После я велел отвезти проповедника на свою виллу. Решив поначалу, что эти галилеяне имеют общее с зелотами Галилеи, я трижды подолгу разговаривал с Амуни, облекая допрос в форму любезной беседы. Проповедник оказался законным человеком. Он мечтатель и говорун, вроде иеванимских риторов. От него вреда не будет. Но хочу привлечь Ваше внимание к галилеянам. По словам Амуни, в Тире их уже много. Секта эта мирная (однажды лишь они устроили беспорядок на храмовой площади, о том было в предыдущем письме). Но уж очень много их стало в Тире, мой господин Кассий. Знаю, что и в Иоппии их немало, и в Хайфе. Так нет ли опасности в умножении этих галилеян?
А из последних событий примечательно вот что. В Ерошолойме произошел случай скандальный и позорный – дезертировал офицер из уроженцев.
Было это так. В город прибыла центурия под предводительством Траяна Агерма из Дамаска. Тот Агерм слывет любимцем Луция Вителлия. Усиление Ерошолоймской резидентуры, по словам Светония, было необходимо, поскольку в Вифании зелоты разгромили отряд лейтенанта Минуша. По разумению Светония, следовало громко покарать негодяев-зелотов близ Ерошолойма и в других местах Провинции, дабы Служба показала себя во всей силе. Светоний и Нируц задумали поход в Тир. Нируц вызнал, что в окрестностях Тира зелоты устроили два лагеря. Я тайно встретился с одним из декурионов центурии Агерма. Этот человек – сармат, гражданин Рима, служил под началом легата Квинтиллиана и был разжалован за мародерство. Я говорил с ним и обещал, что он вновь сможет служить в Четвертом Легионе, коли донесет обо всем, что произойдет в походе на Тир.
Центурия Агерма направилась в Тир через Антипатриду и Кесарию Палестинскую. Миновав гору Кармил и выйдя к Кане, центурия остановилась для отдыха. Там Малук оставил центурию. Он намеревался, якобы, опередить остальных, чтобы прибыть в Тир незамеченным и встретиться с агентами. Когда отряд Агерма подошел к Тиру, то был встречен городской милицией. Агерма препроводили в магистрат, где был центурион Агриппа Руф. Он сказал, что в магистрат города Тира поступила жалоба на самоуправство Агерма. Горожане, сказал Руф, ручаются, что в окрестностях города нет зелотов, и просят центуриона защитить их от произвола. Им-де стало известно, что Агерм намеревается незаконно арестовывать некоторых из горожан. Делегаты заверили Руфа, что те горожане, за которыми прибыл Агерм, послушны властям Провинции, принсепсу, народу и сенату Рима. Агерм утверждал, что его отряд совершает обычный рейд и просит лишь фуража и пристанища для своих людей, а назавтра покинет город. Центурион ответил Агерму, что смета Тирского гарнизона не рассчитана на центурию из Дамаска, и будет лучше, ежели отряд Агерма уйдет из Финикии. Агерм пришел в бешенство и надерзил центуриону. Потом он вышел за городские ворота и увел отряд в Птолемаиду. Он отправил письмо Нируцу (что было в том в письме, Друз не знает) и ушел со своими людьми в Батанею. Куда же делся капитан Севела Малук, неизвестно. Спустя несколько дней после бесславного похода на Тир я узнал, что Малук успел предупредить людей из галилеянской общины Тира. Оказалось, что Малук послал в Тир стражника. Преступного сговора в этом нет, я полагаю. Стражник и теперь думает, что выполнял законный приказ своего командира. Полковник Светоний допросил стражника сразу же по возвращении его в Ерошолойм. Тот показал, что по велению капитана Малука отвез в Тир письмо для горожанина Менахема бен Юта. Парня того зовут Гума Зокир, в Ерошолоймской резидентуре его знают как исправного стражника. Я велел Светонию не наказывать его. Более того, я посоветовал полковнику повести себя так, чтобы исправный молодец и далее считал, что честно выполнил законный приказ.
Я же третьего дня отдал приказ об отыскании дезертира, бывшего капитана Службы Севелы Малука. Это будет объявлено в городах и кварталах, на рынках, в магистратах и молельных домах в Идумее, Иудее, Самарии, Галилее, Десятиградии, Гавланитиде, Башане, Итурее и Финикии. Пока не ведаю, куда направился Малук. Думаю, что он придет в одну из галилеянских общин. Нынче же рассылаю агентов по городам.
Еще раз привлекаю внимание Вашего превосходительства к тому, что секта галилеян становится причиной немалых беспокойств.
Бывший Ваш клиент и ныне остающийся
неизбывно благодарным,
претор и консул-суффект
Секст Афраний Буррв пятнадцатый день…»
* * *
Он решил не откладывать в долгий ящик. Как ни противно было говорить с этим мудаком – все же он позвонил Димону. Он ждал, что Димон бросит трубку, и надо будет перезванивать. Или с ходу начнет орать, и посылать, и совестить, начнет свой обычный обиженный гундеж. Про то, что он, Димон, со всеми договаривается, все нужное для работы вовремя привозит, кучу своих денег угрохал, машину продал, а ты, Миха, белая кость, голубая кровь, на всем готовеньком, выставляешь меня треплом перед солидными людьми… И все такое.
Но Димон, не удивившись, что Дорохов ему звонит, быстро сказал:
– Ну чо – ты решил? Работаем с Ромой?
– Нет, Димон. Я работать с ним не буду. И вообще… Ты извини, старик, конечно. Я понимаю – ты столько сил в это дело вложил, кучу времени потратил. Но я все прекращаю. Ухожу на пенсию.
– Не понял, – помедлив, сказал Димон. – В смысле?
– Дима, у меня планы изменились, – сказал Дорохов. – Методику я тебе дарю. На днях все подробно растолкую, и владей на здоровье моей методикой. А у меня изменились планы.
– Ты заболел, что ли? – огорошенно сказал Димон. – Миха, ты что?.. Мы год на это убили!
– Старик, я пас, – сказал Дорохов. – Долго объяснять. У меня скоро будет длительная командировка. А еще – одну важную работу надо закончить… Без обид, старик. А методика – твоя.
– И печь – моя?
– Про печь сам говори с Серафимом. И вот еще что. Слушай, тут такая фигня… Про нас на Петровке знают.
– Откуда известно? – спросил Димон и задышал в трубку.
– Друг предупредил. Он в МУРе работает.
– Это финиш, Миха, – севшим голосом сказал Димон. – А что известно?
– Пока ничего такого. Знают, что к скупщикам приходили люди, которые разработали эффективную методику. Больше ничего. Так что, Дима, будешь потом мою методику использовать или не будешь – пока затаись. И с Романом дружбу кончай.
– Да какая там дружба… То есть мусора точно ничего не знают? Ни как нас зовут, ни кто мы? Да?
– Не знают. Потому меня и предупредили.
– Ну, это еще ничего… – облегченно вздохнул Димон. – Я-то подумал, что квартиру засекли.
– Отуда съезжать надо. Завтра же.
– Так, так… А тот, кто тебя предупредил – он кто, вообще? Он не пошутил?
– Он капитан из МУРа, – сказал Дорохов. – Мой товарищ. Он порядочный человек. Он не пошутил.
– Так, так…
– Чего ты тактакаешь, как пулемет «Максим»? Ты слышал, что я сказал? Вывозить надо все.
– Да я вывезу, – легко сказал Димон. – Хоть завтра. Так ты говоришь – методика моя?
– Твоя. Владей.
– А ты мне все растолкуешь?
– Ради бога… Только приготовь учебник по химии для восьмого класса. Я тебе все на пальцах объясню. Кстати, этот Роман предлагал мне продать методику.
– Да, с Романом нехорошо получилось, – странным голосом сказал Димон.
– А что тут нехорошего? Встретились, поговорили. И разошлись.
– Я его видел сегодня, – сказал Димон.
Дорохову не хотелось говорить о Романе. Но он был рад, что Димон не закатил ему скандал, поэтому сказал:
– Да наплюй.
– У него, кажется, зуб на тебя…
– Что за чушь? Он меня два раза видел. Я ему ничем не обязан. Он сделал предложение, я отклонил.
– Ну, не знаю… – сказал Димон неопределенно. – Он что-то, кажется, навыдумывал себе.
Дорохов чувствовал, что теперь, когда он подарил Димону методику, того не особенно волнует – что там подумает солидныйчеловек. Димон, поди, уже прикидывал, куда он перевезет их барахло и как сам будет теперь химичить и продавать металл.
– Как-то он беспокойно выглядел, – сказал Димон. – Раз десять мне сказал, наверное: урезонь, говорит, Михаила… Он вообще-то мужик спокойный. А сейчас какие-то у него тараканы в голове… Понимаешь, Миха, по-моему, он тебе не поверил.
– Да какое мне дело? Поверил он мне, не поверил… Все. Я ушел на пенсию.
– Мне кажется, он боится, что ты с татарами будешь контачить.
– Бред… С какими еще татарами?
– А не скажи, Миха. Не бред. Роман просек, что у нас большой выход. Ни у кого нет такого высокого выхода. Если ты с другими людьми стал бы работать – ему прямой убыток.
– Да кончай ты этот бред! Ни с какими другими я работать не буду. И вообще – не буду.
– Он-то этого не понимает, – сказал Димон и невесело усмехнулся. – У него свои тараканы в голове. И вообще, он… вязкий какой-то. Вроде солидный, говорит немного. А вязкий… Все мне талдычит: скажи, говорит, другу, что ему надо только со мной дело иметь. А может, он боится, что мы разом продадим много металла и цены опустим. Не верит он, что ты из игры вышел. Видно по нему, что не верит. Он тертый, блин. Крученый-верченый. У него, наверное, в башке не укладывается, как можно соскочить при таком раскладе.
– В смысле?
– Как тебе сказать… Он дядя деловой. Ему такие жесты непонятны – взять и все бросить… Он думает, что ты мимо него станешь работать, вот и психует.
– Ладно, все. Пошел он, – твердо сказал Дорохов. – Вывези только все из квартиры на этой неделе.
– Не вопрос. Хоть завтра. А электрику всю, фильтр, дюар – я забираю?
– Забирай. Печь только верни Серафиму. Или я сам верну.
– Он продаст печь, – уверенно сказал Димон. – Раз я теперь сам себе хозяин, я ему заплачу сколько попросит. Ничего, наберу денег.
* * *
…проснулся и, хоть не слышал еще звуков, но сразу же подумалось, что кто-то есть подле. Он не первый раз просыпался. Бывало так, что близ него слышались голоса и шаги, шуршание одежды и скрип мебели. В одно из пробуждений показалось, что он слышит шорох стилоса и шелест листов. Он просыпался, когда в комнате было пусто. Тогда он звал, приходила женщина, поила его, вкладывала в его руки миску. Он без охоты ел – бобы, порей, вареную брюкву. Один раз женщина принесла мякоть дыни. Он стал жадно есть сладкие, сочные куски. От этого затянувшиеся трещины на губах лопнули, и сок вызвал колющую боль.
Вчера он смог встать. Женщина, держа за запястье, отвела его в отхожее место, усадила на скамью с дырой, и он в первый раз за эти дни облегчился в одиночестве, не терзаясь от стыда. До того, как у него нашлись силы встать, женщина подсовывала под покрывало горшок. Он мало ел эти дни, но облегчаться все же приходилось. От стыда его прохватывал жар, и он тешил себя надеждой, что эта женщина – старуха или рабыня… Нет, за ним ходила не старуха. Руки у женщины были сильные и мягкие. И один раз, когда женщина вытаскивала из-под него таз, его лба коснулась щека – теплая и гладкая. И он еще однажды услышал, как мужской голос позвал: «Мириам!». Женщине что-то сказали, добро и благодарно. Она в ответ мелодично засмеялась… Нет, это была не рабыня.
А теперь он проснулся, и рядом с ним сидел человек.
«Сейчас день», – решил Севела.
Он слышал щебет птиц, овечье блеяние, позвякивание металла. Овца жалобно крикнула, заскребла по земле копытцами, мужской голос выругался.
«Стригали… – подумал Севела. – Сейчас полдень».
Во дворе стригли овец. Стрижку начинают днем, тогда от овечьего пота, выступающего под знойными лучами, шерсть делается тяжелее, ее легче стричь. Сейчас был полдень или того позднее.
Севела пошевелился. Левую половину лица саднило.
– Мир вам, адон Малук, – послышался низкий голос.
– Мир вам. Кто вы?
– Я хозяин дома. Меня зовут Анания Шехт.
– Давно я здесь? – Севела облизнул губы, покрытые шершавой коростой.
– Вы пятый день в моем доме, адон. Я вас не беспокоил до поры. Мириам сказала, что вчера вы вставали…
– Как, вы сказали, зовут вас?
– Анания, адон Малук. Рав Анания бен Эхуд Шехт. Вы в моем доме, адон. В Дамаске.
– Я в Дамаске… Как же я добрался сюда? Я же не помню, как пришел в Дамаск…
– Бедуины нашли вас милях в десяти от городской стены. Лошадь под чепраком завидели, стали ее ловить… А потом и вас увидели. Это большая удача, что вас нашел Маджид. Он в этот год кочует в Сирии, а я продаю ему войлок. Найди вас другой бедуин – так обобрал бы и оставил умирать. Маджид лишь у меня покупает войлок… Верблюд стал щипать колючку, а вы лежали за кустом. Маджид вас увидел. Его племянник стал тащить с вас тунику, и тут вы заговорили, повторяли мое имя. Маджид положил вас на своего белого и привез в Дамаск. Сказал: это твой гость, джбрим Шехт, я нашел твоего гостя, хоть и полумертвый – но это твой гость… Поэтому мне пришлось подарить Маджиду шесть локтей войлока. Ведь он привез мне моего гостя, вот счастье-то… Они проходимцы и вымогатели, эти бедуины. Но я с ними дружу. Они как дети. Надо знать к ним подход, тогда с ними можно иметь дело.
– А как вы узнали, кто я? – спросил Севела, дождавшись, пока этот Шехт умолкнет.
– О! Так на второй же день прискакал посыльный из Тира! Вы, адон, доброе дело совершили для достойных людей, что живут в Тире. Они теперь беспокоятся за вас.
– Это Ют послал вам письмо?
Губы были толстые и непослушные. От каждого слова по губам бежала жалящая боль.
– Рав Менахем просил принять вас со всей заботой. Пишет, что о вас тревожится и рав Джусем из Ерошолойма. Какие, однако, почтенные ручатели оказались у полутрупа, что нашли бедуины!
Севела высвободил руки из-под покрывала и ощупал лицо. Пальцы легли на шершавую повязку.
– Что с моими глазами? – прохрипел Севела.
В эти дни более позорной беспомощности и ломающей боли во всем разбитом теле его мучал ужас слепоты.
– Врач обещал, что вскоре бинты снимет, – успокаивающе сказал Шехт. – Он уже менял повязку, но вы были в забытьи, того не помните… Врач накладывает мазь. Он сказал, что у вас воспалены глаза… От песка и ветра. Это умелый врач, его лавка неподалеку от моего дома, он пользует нашу семью много лет.
– Я помню, как скакал… Вода закончилась. Лошадь еще шла, но я страдал от жажды… Помню, что падал с лошади, хорошо еще, что она далеко не отходила. А потом стали гореть глаза. И я уже ничего не видел…
– Вы впали в беспамятство от жары. И глазная болезнь ваша, адон, от жары и пыли. Маджид сказал, что он поил вас, а вы все бормотали странные слова. Он хорошо понимает арамейский, этот ворюга… Его род кочует до Десятиградия, а иной раз и в Самарию заходит. Маджид сказал – вы шептали мое имя. Да еще бормотали – мол, судьбу не перебороть. Идти против судьбы – это то же, что против копья идти… А может и приврал, ворюга. Бедуины, они ведь как дети, лгут без корысти… Люблю их, признаюсь. Что уж там Маджид расслышал в вашем хрипе… Но он так важен был, когда привез вас на белом! Его белый – красавец! Маджид спит с ним в обнимку… И какая, я вам скажу, высокомерная морда у его дромадера! Маджид положил вас у ворот и сказал: это от судьбы гость, джбрим Шехт. Против судьбы, сказал, не пойдешь, и против копья не пойдешь. Бери, сказал, джбрим Шехт, этого мертвеца, он твой гость, недаром он твое имя назвал… Они бывают очень выспренны, эти дикари.
– Чудо… – прошептал Севела. – Чудо, что я смог дойти до Дамаска…
– Чуда в этом, думаю, нет, а вот удача была на вашей стороне. Вы вот что расскажите-ка мне. Как это вам удалось обмануть Агерма?
– Так вы знаете Идумеянина, рав Шехт? – выговорил Севела.
– Все джбрим Дамаска знают Траяна Агерма по прозванию Идумеянин, – с досадой ответил Шехт. – Как же вам удалось отвязаться от него, адон?
– Как миновали Кану, я велел рыжему расположить центурию на отдых…. Сказал, что хочу незаметно въехать в Тир, встретиться с агентами… Рыжий мне не поверил.
Севела вздохнул и вновь ощутил испытующий взгляд Идумеянина.
Капралы не участвовали в коротком споре у колодца, они стояли в отдалении и показывали спешившимся, чья очередь подводить коня. А рыжий недоверчиво смотрел на Севелу.
«Что за новость, Малук? Что это на тебя нашло?»
«Не твое это дело, суб-капитан. Я принял такое решение, а ты не спрашивай лишнего».
«Не будет толку от твоей поспешности».
«Пустой разговор. Пусть твои люди отдыхают до заката, а я встречу вас в Тире».
Севела наполнил баклагу и прыгнул в седло.
«Сейчас прикажи людям отдыхать, – сказал он сверху вниз. – Я буду ждать вас у верфи».
Он хлестнул по крупу концом узды и послал лошадь в галоп. Колодец и центурия остались за спиной, и недоверчивый взгляд рыжего тоже остался за спиной.
– Долгий же путь вы проделали, – сочувственно сказал Шехт. – Почему же вы в Дамаск поехали, адон? Почему не в другое место?
– Где ж мне прятаться теперь, как не у галилеян? – горько усмехнулся Севела.
От усмешки разошлась трещина на нижней губе.
– Вы разумно поступили, что поскакали в Дамаск, – сказал Шехт. – Не говорю уж о том, что вы спасли людей из Тира. Все братья-галилеяне вам теперь обязаны. Мы не нарушаем романских законов, но вас спрячем… Но ведь вы могли поскакать в Яффу, там тоже большая община.
– Там не знаю никого из галилеян. К трем людям я мог прийти – к Пинхору, Юту и к вам. Пинхор в Ерошолойме, за ним доглядывают. Юта мог арестовать Идумеянин… Оставался только Анания Шехт, что живет в Дамаске, на Прямой улице… Так что написали вам из Тира? Идумеянин остался ни с чем?
– Романский претор в Тире не пустил Агерма в город, – ответил Шехт и хмыкнул. – Идумеянин увел свою центурию из Финикии. Видно, теперь охотится за зелотами в Батанее.
Они помолчали, потом Шехт сказал:
– Вы хотите, может быть, продиктовать письма? Надо дать знать вашим родным.
– Не теперь, – Севела качнул головой. – Брату я написал загодя. В Эфраиме у меня отец с матерью… Для них сейчас будет лучше не получать писем от меня.
– И это разумно, – заключил Шехт. – Потерпите повязку еще два дня. Врач обещал, что вылечит ваши глаза.
– Кто знает, что я сейчас в вашем доме?
– Маджид знает… Но кому станет рассказывать о вас бедуин? Ветру да колючке?.. Знает моя семья. Знает врач. Рав Менахем Ют из Тира знает. Вы послали к нему стражника с письмом, рискованное дело… Он мог донести.
– Парень думал, что выполняет тайный приказ. В письме к Юту я написал то же, что сказал вам. Что знаю трех людей из галилеян, которые стали бы мне помогать – Пинхора, Юта и Шехта из Дамаска… Вы не сможете долго держать меня в своем доме. Да и мне совсем не хочется оставаться в одном городе с Идумеянином.
– Его сейчас нет здесь. А вас из Дамаска вывезут, как поправитесь. Вам помогут, адон Малук… Пока же мои зятья распустят слух, будто вас видели далеко отсюда. У меня два зятя. Эвлул – цеховой староста у чеканщиков. Он третий день рассказывает в квартале, что вас видели на Иерихонской дороге. Эвлул будто бы был по делам в Заиорданье и слышал, что дезертира Малука видели в окрестностях Иерихона. А Онисим, мой младший зять, позавчера уехал в Амафунт, там у него пастбища. Его брат разводит овец, Онисим с ним в доле… Он вскоре вернется и привезет известие, что Севела Малук скрывается где-то между Адамом и Иерихоном. Слухи разносятся быстро и начинают жить самостоятельной жизнью… Через неделю весь Дамаск будет говорить, что дезертир Малук прячется на юге Провинции. В Дамаске вас искать не станут.
– Надеюсь на это… – бессильно прошептал Севела.
– Вам надо отдыхать, адон Малук. А я подумаю, как вывести вас из Дамаска.
Послышались скрип и шуршание ткани, потом – звук неторопливых шагов, удаляющихся от кровати. Но, еще не выйдя из комнаты, Шехт остановился. Он постоял на месте несколько мгновений. Севела слышал, как Шехт посвистывает носом. Шаги двинулись назад, к кровати.
– Отчего вы вернулись, рав Шехт? – разлепивши спекшиеся губы, с усилием сказал Севела.
– Скажите-ка мне… Я вот несколько дней ломаю голову над вашим поступком. Скажите мне – с чего это вы вступились за тирских галилеян?
– Как я могу ответить вам? Мне говорить больно, губы трескаются… Едва не подох в дороге… А о том, про что вы спросили, надо часами говорить.
– Да, конечно, – виновато сказал Шехт. – Так я пойду, а вы отдыхайте…
– Погодите, – попросил Севела. – Я в полном смятении сейчас… Никогда прежде не приходилось быть таким немощным, а тут еще слепота… Лежу, как дряхлый старик, мочусь в горшок, вокруг тьма… Так плохо мне сейчас, адон Шехт… Погодите, мне нужно говорить с кем-нибудь, сон подождет… Я же все там оставил, за Каной, у колодца. Все. Друзей, службу, честь, карьеру… Не уходите, Шехт…
– Я здесь! Я здесь, адон Малук!
Севела почувствовал, как на лоб легла жесткая ладонь. И этот милосердный жест принес помощь, и теплое сочувствие, и чудесное освобождение от страха и темноты.
– Я все там оставил, рав Шехт… – Севела всхлипнул.
Вина, уныние последних дней, скачка по холмам и каменистой пустыне, жажда, страх погони, ужас одиночества – все это его оставило. Стало покойно и легко. Он вздрогнул, застонал, под повязкой из воспаленных глаз потекли горячие слезы.
– Не могу я объяснить, с чего это вдруг послал человека в Тир… Поначалу хотел подать в отставку, отстраниться… Многие злодеяния совершаются под небом. Еще одно совершится, но без моего участия пусть оно совершится… Думал, что подам в отставку, не буду причастен хоть к этому злодеянию. А после… Как будто многое сопоставилось. Мои беседы с мастером Пинхором, все, что узнал о своем народе… У меня был старший друг, наставник. Он ошибался, мой наставник… Новые люди появились в Провинции. Что же я – буду их убивать? Нет! Знал, что делаю. Теперь одиночество… Я теперь изгой. Презренный дезертир.
– Нет же, нет! Не так, адон Малук! – шершавая ладонь погладила Севелу по лбу. – Вы доброе дело совершили, адон! Сотни людей вам за то благодарны! Забудьте про одиночество. Все братья-галилеяне теперь будут знать вас.
– Да… Да. Теперь оставьте меня…
Он замолчал, стыдясь своих сбивчивых слов.
– Уйдите, адон Шехт, прошу… – попросил он. – Я ничтожно выгляжу сейчас… Негоже мужчине так лепетать. Я усну сейчас, а вы уйдите… Простите, если был груб.
Крепкая рука утешающе сжала его плечо, и невидимый человек по имени Анания Шехт…
* * *
Зубина тонким пальцем поправила очки и сказала нараспев:
– Ой, Миша, я вас умоляю… Вот только этого не надо! Этих былинных интонаций, этого эпического слога! Нет, я понимаю – у вас претензия на исторический роман… Ну что вы так занудно описываете эту дорогу? И с чего вы взяли, что там были зяблики? Гречиха у вас там растет, и пшеница у вас там растет… Прямо «Вести с полей». Зачем столько сельскохозяйственных подробностей? Вы уверены, что тогда выращивали гречиху?
Дорохов не обижался, он уже привык к Зубиной. Второй раз они с ней сидели над текстом, и второй раз Зубина выуживала из текста ляпы и несообразности.
Елена Даниловна Зубина оказалась человеком совершенно очаровательным, хоть и несколько нервным. Встретила Дорохова доброжелательно, с первых минут прекратила его подобострастный лепет – «крайне вам благодарен, что нашли время», «Софья Георгиевна была так любезна, что замолвила за меня слово перед вами», и так далее.
– Что за чепуха, при чем тут «замолвила слово», – досадливо сказала она. – Я прочла ваш текст, садитесь. Сейчас поговорим.
Зубиной не было сорока. Лицо с тонкими чертами, большие глаза, светлые, рыжеватые волосы, высокий лоб, выпуклая родинка на левой щеке. Одевалась она «по-молодежному» – мешковатые хлопчатобумажные брючки, просторный свитер с яркой вышивкой, деревянные бусы. У нее был приятный голос. Высокий, с оперными модуляциями, но без наигранности. Она говорила нараспев, сильно «акала». И говорила по делу.
«Беня говорил мало, но он говорилсмачно…».
Она с Дороховым не церемонилась, да и вообще не похоже было, чтобы эта остроумная, миловидная женщина стала бы с кем-то церемониться. Она бы, поди, и Толстому заявила: «Ой, я вас умоляю! Ну что же у вас по полстраницы на французском? Вы все-таки русский классик, живете в Ясной Поляне, а не на Монмартре… Не надо этого!» Занята она была предельно, стол загружен высокими стопками машинописных листов. Свободного пространства на столе – чашку кофе поставить. Дорохов, скосив глаза, смог разглядеть на одном из листов два слова – «Виктор Астафьев». Когда Дорохов приходил, она поднимала глаза от одной из этих стопок. А когда он, попрощавшись, уходил, она вновь придвигала к себе рукопись.
Итак, она все его витиеватости, все предисловия отмела живым движением руки, усадила Дорохова напротив и стала с ним работать. Первым делом она отменила название. Сказала, что если Дорохов собирается писать научно-популярные брошюры, то пусть прибережет это. А если он не оставил мысли опубликовать роман, то не надо смешить людей.
Так что книга больше не называлась «Изнанка притчи».
Дорохов предложил два варианта: «Памяти Савла из Тарса» и «На окраине Магриба».
Зубина подняла тонкие брови, помолчала несколько секунд, как будто пробовала названия на язык, сказала:
– Может быть… Или даже так, еще короче – «Памяти Савла». Ну ладно, это потом, время еще будет…
Текст она потрошила, как перину, – белый пух ненужных вводных слов и неуместных деепричастных оборотов летал по редакции. Историографии Зубина не касалась («Это вы, надо полагать, перерыли основательно» – и величественно-небрежное движение узкой кисти), но ни одна дороховская словесная неуклюжесть не осталась безнаказанной.
– Миша, боже мой, у вас же три раза подряд повторяется «негромко сказал»! Ну хорошо, пусть у них там принято было так говорить, чтоб их никто не слышал… Но у вас же один «говорит негромко», второй ему отвечает и при этом тоже «говорит негромко», а потом первый через страницу опять-таки «говорит негромко»! Вы таким образом полутона, что ли, в тексте создаете?.
Или она говорила:
– Так, я вижу, что вы Фейхтвангера начитались, как следует… И вот эти еще всякие «разведки-контрразведки»… Миша, ей-богу, этого у вас через край.
(В дальнейшем все фрагменты, живописующие служебную деятельность офицера Малука, Зубина называла «спецслужбы».)
– О боже, опять у вас шесть страниц спецслужб, – недовольно говорила она и шариковой ручкой быстро расставляла на полях вопросительные знаки. – И агенты тут, и отделы, и… Это что? Региональная инспектура. Жуть… А кровожадные рубки на мечах – это обязательно? Была такая неописуемая книженция «Джин Грин неприкасаемый». Но там-то авторы развлекались, а вы всерьез…
Но Дорохова все это ничуть не задевало. Зубина ему нравилась, умница она была и юмористка. После первой встречи с Зубиной Дорохов просидел с забеливателем и маркером до пяти часов утра. А после второй, переправляя текст в соответствии со змеиными комментариями Елены Даниловны, просидев над текстом до трех часов ночи, он вдруг ощутил, что рыхлое и непропорциональное повествование стало превращаться в книгу. Он исправлял, допечатывал, на следующий день отвозил многострадальную папку в издательство.
Сегодня они встретились в пятый раз. Дорохов привычно вошел в трехэтажное здание на Красноказарменной. Прошагал по красной ковровой дорожке к двери с табличкой «Заместитель главного редактора Зубина Елена Даниловна».
Он постучал, вошел, Зубина подняла глаза, сказала: «Сейчас… Раздевайтесь, садитесь».
И потрясла ладонью в направлении кресла, обитого красным кожзаменителем. Дорохов снял куртку, повесил на никелированную вешалку в углу, сел и замер. Зубина пометила что-то на листе, аккуратно отложила стопку, закурила, взяла у Дорохова его папку, развязала тесемки и стала проглядывать заложенный бумажной полоской фрагмент.
А потом выдала Дорохову за эпический слог и сельскохозяйственные подробности.
– Ну ладно, бог с ней, с гречихой, – сказала она наконец. – Пусть будет гречиха. Кто уж там помнит, что тогда люди сеяли и жали… Так, хорошо. Вроде бы привели мы с вами все в божеский вид.
Дорохов подумал: так, в божеский вид привели, дальше что?
– Ладно, Миша, – Зубина сняла очки. – Все. Текст дозрел до верстки.
Дорохов облизнул губы. Волшебные слова звучали нынче: «редактура», «верстка», «правка».
– Нет, если надо… Может, еще какие-то огрехи… – преувеличенно робко сказал он.
– Хватит искать огрехи, – решительно сказала Зубина. – Надо уметь поставить точку. Перфекционизм обостряет неврозы… Да! Договор же еще надо подписать. Ваш договор лежит в секретариате, завтра приезжайте подписывать. Паспорт возьмите с собой.
– Елки зеленые… – пробормотал Дорохов. – Какая божественная музыка в этих словах, Елена Даниловна! «Подписать договор». Чтоб я так жил…
– Обожаю дебютантов, – добродушно сказала Зубина и подперла кулачками подбородок. – Такие трепетные, такие скромные… В Союз писателей намерены вступать?
– К-к-куда вступать? – совсем как Лобода, спросил Дорохов. – Вы серьезно, Елена Даниловна?
– Миша, ну что вы все – «Елена Даниловна, Елена Даниловна»… Это бестактно, между прочим. Не такая уж у нас разница в возрасте. Просто – Лена.
– Ну… Это… Я так держу дистанцию, – нахально сказал Дорохов. – Мы же с вами два профессионала. Все уважительно и четко. «Елена Даниловна» – «Михаил Юрьевич».
– Это когда я вас Юрьевичем называла?
– А… Всё. Кругом вы правы. Всё, Лена.
– Договор завтра подпишите.
– Завтра же подпишу договор, – Дорохов нервно сглотнул.
Зубина посмотрела на его сияющее лицо.
– Миша, вы именинником выглядите… Смотреть приятно.
А Дорохов вдруг виновато подумал, что она из-за него сидит допоздна в редакции.
– А вы где живете, Лена?
– В Ясенево, на Тарусской.
– А какое там метро?
– Никакого нет пока. Года через два, говорят, построят.
– А давайте я вас на такси домой отвезу?
– Спасибо. У меня еще много работы, – сказала Зубина. – До завтра.
– До свидания, Лена, – тепло сказал Дорохов. – А вы есть не хотите?
– Нет, – недоуменно ответила она. – А что?
– Я бы принес. Там кулинария на углу. Пирожки с сердцем, эклеры…
– Ступайте, дебютант! – Зубина махнула рукой. – Эклер он мне принесет… До завтра. Паспорт не забудьте.
* * *
«…проконсулу Азии,
Его высокопревосходительству
Луцию Кассию Лонгину, сенатору.
Приветствую Вас, мой господин Кассий. Малука нашли в Дамаске. Однако его нашли слишком поздно, Малук мертв. Это доподлинно известно – Севела Малук мертв.
Малук пришел в Дамаск через три дня после того, как оставил под Каной отряд Агерма. Он был в доме шерстобитных дел мастера Анании Шехта, что на Прямой улице. Седьмого дня месяца иперберетая Малука видели в доме Шехта. Он выздоравливал после глазной болезни. Женщина по имени Мириам, невестка шерстобитчика, покупала в лавке врача лечебную мазь, и агент слышал, как они с врачом говорили о человеке из Ерошолойма. Агент проследовал за той женщиной до дома Шехта и видел во дворе человека, который в точности соответствовал описанию разыскиваемого дезертира, бывшего капитана Внутренней службы Малука, уроженца Эфраима, сына Иегуды Малука. Агент тотчас же поспешил в резидентуру и заявил об опознании. Претор Вителлий отдал приказ наладить слежку за домом Шехта до утра следующего дня. По статуту города Дамаска аресты в домах горожан находятся в ведении городских властей и не могут быть совершены без согласия магистрата. Претор намеревался получить таковое на следующий день, а до той поры были посланы два соглядатая. Также были усилены караулы на всех воротах Дамаска, а квартал, где стоит дом шерстобитчика Шехта, с наступлением темноты был скрытно оцеплен.
Увы, мой господин Кассий, все меры оказались тщетными. Поутру претор собрал в магистрате городских старшин и получил их согласие на обыск в доме Шехта. Но когда отряд из резидентуры вошел в дом, Малука там не было. Анания Шехт впустил офицеров Службы и показал, что в его доме, и вправду, гостил и отдыхал после болезни один приезжий. Странника, по словам Шехта, нашли бедуины и привезли в Дамаск. Тот человек ослеп от пыли и солнца. Учение же галилеян, к коим Шехт принадлежит, велит оказывать помощь странствующим. Человек назвался Саулом из Тарса, пошивщиком походных палаток. Он рассказал Шехту, что ехал в Дамаск со своим товаром. В дороге его ограбили и избили, а после он попал в пыльную бурю. Накануне вечером, как показал Шехт, приезжий неожиданно покинул его дом, а где он сейчас, Шехт знать не может. Поскольку улик, говорящих о нечестности Шехта, не было, офицеры покинули дом, обязав Шехта явиться в резидентуру к полудню для подробных объяснений. А еще через час стражники нашли у подножья городской стены тело. Рядом с мертвецом лежала ременная корзина, из тех, что используются в строительстве для поднятия кирпича и других материалов. Врач резидентуры осмотрел тело и сделал заключение, что человек погиб вследствие падения с большой высоты. Голова была разбита о камни, размозжена была также грудь и изуродовано лицо. На теле нашли жетон Внутренней службы – Севела Малук, капитан, Ерошолоймская резидентура. Один из стражников обратил внимание на то, что к корзине был привязан обрывок каната из пальмового волокна. Понятно было, что человека спускали со стены в корзине, канат оборвался, и человек разбился насмерть. Но другой стражник углядел, что канат надрезали ножом. Против Шехта нет улик. Он дал приют страннику, в том нет противозаконного. Претор Вителлий, не желая огласки, распорядился захоронить тело. Именной жетон Малука переправлен с курьером в Ерошолойм. В город Эфраим послали известие для Иегуды Малука о смерти его младшего сына Севелы.
Мой господин Кассий, что Вы думаете о том? Я же полагаю, что позорное дело о дезертирстве капитана Малука может быть окончено.
Секст Афраний Бурр,
Претор в Ерошолойме».Гриф «служебное».
Сексту Афранию Бурру, претору в Ерошолойме.
Ах, что же за интрига завязалась в Ерошолойме, мой Бурр! И как я люблю такое! Какие типажи – только лишь в театре и увидишь!
Мятежный капитан, повинуясь малопонятному порыву, нарушает присягу. Добрый странноприимец в Дамаске покрывает беглеца. И милосердный бедуин, и загадочная гибель дезертира. Обожаю Восток, Бурр. Только там еще можно наблюдать яркую интригу.
И только там еще водятся тугодумные преторы.
А ведь я не раз я советовал Вам пристальнее вглядеться в офицера Малука. Надо бы оставлять высокомерие в тех случаях, когда дело идет о незаурядных людях. А офицер Малук – человек незаурядный. Надо исследовать людей, Бурр, надо понимать их. Даже капитанов надо понимать, даже капралов и стражников – тогда меньше неприятностей они доставят.
Почему капитан Малук предал своего начальника, мне понятно. Коли Джусем Пинхор хоть отчасти похож на Амуни (тот теперь гостит на моей вилле, он воистину очаровательный человек, мы проводим вечера в теософских беседах), то я понимаю Малука. Люди той породы, к которой принадлежат Амуни с Пинхором, имеют свойство привлекать к себе сердца. Вот посудите сами. Выдержка моего гостя достойна восхищения. Ни разу он не заговорил о том, когда ему будет позволено вернуться в Провинцию. Иногда мы спорим с ним, но спорить с Амуни это то же, что бросать камешки в прибой. Ни разу он не возразил мне, когда я подвергал осмеянию Книгу и ее толкование галилеянами. Он выслушивал меня с самой любезной миной, а после заводил разговор о чем-то таком, что имело к предмету спора косвенное отношение. Я не успевал и глазом моргнуть, как оказывался вовлеченым в живейший диспут. А еще через полчаса я, полемическим умением почтенного Амуни, сам незаметно приходил к опровержению сказанного мною ранее. И ни разу этот человек не сказал мне: «Вы заблуждаетесь, сенатор». Он лишь заговаривал со мной о другом, проводил наш разговор, как искусный судоводитель проводит квадрирему мимо рифов прямо к пирсу. И вскоре я упирался носом в собственное заблуждение, как квадрирема в причал. Таким людям нет нужды спорить. Они мягко берут оппонента за руку и приводят к тому месту, где заблуждение последнего становится очевидным. Видимо, что-то подобное и Пинхор проделывал с капитаном Малуком. Они ведь немало вечеров провели вместе.
Теперь скажу Вам о Малуке, претор.
Этот молодой человек родился в глуши. Удача Малука, что отец его богат, не то Малук так бы и прожил жизнь в той глуши и умер там же. Отец послал его учиться в Яффу, и парень увидел, что кроме Вифлеема и Бет-Цура (или откуда он там?) есть еще огромный мир. И уже вырвавшись из глухомани, уже окончив Schola в Морешев-Геф, парень сохранил ненависть к захолустью. Я в глаза не видел этого Малука. Я лишь прочел его послужной список, представления Светония, аттестацию Цестия Плацида и донесения каллиграфа из отдела Гермес. Я даже велел написать инспектору в Эфраиме, чтобы тот перлюстрировал письма, приходящие к Иегуде Малуку. Там перехватили два письма – одно от Севелы Малука и одно от его старшего брата Рафаила. Очень трогательные письма. Севела Малук настаивает на том, чтобы отец перепоручил часть дел управляющим и больше заботился о своем здоровье. Он пишет отцу, что всякий день вспоминает отцовские наставления и отправляет свою службу так, чтобы отец им гордился. А Рафаил Малук сокрушается о том, что огорчил отца, когда подался в театральное дело. Он нежно благодарит отца за денежное содержание в юности и сообщает, что две трети своих теперешних гонораров он исправно перечисляет в казну дома Малуков.
Я понял, чего стоит Севела Малук, чего он боялся, на что уповал, и что побудило его дезертировать.
С самых молодых лет он боялся прожить жизнь ничтожно, среди тысяч тех, кем равнодушно управляют. К величию офицер Малук вовсе не имел склонности. Недаром он столько лет довольствовался второстепенными должностями. Впрочем, карьера Малука была хороша, это надо признать.
Теперь сведите все это воедино, претор. Образованный, небедный, совестливый, малорелигиозный молодой офицер встречает таких людей, как Амуни с Пинхором. Он видит философов-практиков, творцов человеколюбивого и рационального учения. А после Малуку велят отправить в казематы крепости Антония других людей из той же конгрегации. До сей поры Малук лишь удивлялся галилеянам да, не признаваясь себе в том, примеривал на себя их учение. Но вот ему приказали участвовать в деле, по его разумению, грязном и бессмысленном. И тогда он поступил безоглядно и решительно – известил галилеянскую общину Тира об угрозе, а после дезертировал.
О Нируце же вот что скажу. Слишком много свободы Светоний дал ему. Нируц, извольте видеть, самолично теперь рассылает декурии и центурии Службы, самолично вершит расправу над сектантами и, не спросясь Светония и Вас, решает, что на благо Провинции, а что во вред. Он посчитал, что секта галилеян может рассердить Рим, а потому ее надобно искоренить. Конечно же, не об интересах Рима думал этот хитрец, когда намеревался уничтожить Тирскую общину! Он полагал, что если галилеян Тира не станет, так и проконсул Азии потеряет к галилеянам интерес. Ну ни глупец ли? Я этих братьев-галилеян ничуть не опасаюсь. Их секта не может навредить Риму. В Провинции десятки таких сект, и ни одна из них до сих пор Рима не потрясла. Нируц вбил себе в голову, что галилеяне влиятельнее прочих сект. И еще ему возомнилось, что он смог разглядеть рождение победительного канона. Нируц устроил самодеятельное расследование, совершал подлоги, терял людей в нападениях на зелотов – все для того, чтобы скрыть от Вас и Марка Светония свою интригу. А теперь еще он неоправданно жестоким приказом толкнул своего протеже к дезертирству. Я буду рекомендовать наместнику избавиться от Нируца. Хлопот от него больше, чем пользы.
Что же до галилеян – не тревожьтесь о них, претор. Слишком малочислены они, что бы там ни выдумывал Нируц. Эта секта может укрепиться. Так что с того? Положим, галилеяне станут признанной конгрегацией. Так что с того, претор? Чтобы новый канон объединил всех джбрим, должны пройти десятилетия. Галилеяне за эти годы погрязнут в противоборстве различных толкований. Они – неизбежно! – породят новую ритуалистику. И сила ясных положений истает во многословии, а доброта канет за пышностью вновь изобретенных обрядов. А может быть, галилеяне станут влиятельнее, чем периша и саддукеи. Но к тому времени братья-галилеяне не будут уже сообществом гуманных рационалистов. К тому времени их вероучители передерутся в пустословных диспутах. Галилеяне непременно расширят и усложнят свой канон, они не избегнут путаницы толкований. Они, разумеется, найдут и основоположника своего канона. Галилеяне выберут (а вернее всего – выдумают) фигуру попроще. Рассудят, что любое усложнение образа духовного предводителя только повредит молодому догмату. На место верховного вероучителя будет поставлена некая туманная фигура без пороков. Существо чистое и светлое, как хорошенько выкипяченное молоко.
Таково свойство религиозных союзов: они утрачивают чистоту, когда превращаются в официальные конфессии. И галилеяне, буде им суждено укрепиться и умножиться, не избегнут подобного перевоплощения. Они камня на камне не оставят от умопостроений основоположников, и имена тех основоположников забудут. А помнить будут другие имена – честолюбцев и политиканов. Изначальные тексты они перепишут не один десяток раз, а первые редакции их проповедей будут подвергнуты самой дотошной ревизии.
Риму же галилеяне не угроза, претор. Рим пережил самнитские войны, натиск Ханнубала и иные беды. Переживет и галилеян
Но вот что я скажу Вам: их учение было бы на пользу Риму. Наше государство миновало пору расцвета, увы. Риму недостает универсального канона. Такого, что мог бы распространиться на все земли, ему подвластные. Риму хорош был бы незамысловатый, поощряющий смирение монотеизм. Верование, которое собрало бы под руку Рима лангобардов, галлов, венедов, бастарнов и германцев, англов, готов, вандалов, аланов и парфян. И пусть бы такое верование породили джбрим – отчего нет? Нируц полагает, что рациональный и милосердный догмат сулит Провинции процветание. Так отчего же отказывать в подобном Великому Риму? Рим бескраен и могуч, но разве не было таким царство Александра?
И вот еще что о Малуке, претор (я много рассуждаю о нем, это потому, что мне симпатичен этот храбрый молодой человек, я сожалею, что ему пришлось умереть). Парень попросту занялся не своим делом, когда вступил в Службу. Много лет тому назад мы с Помпонием Флакком и Элием Гратом создавали Внутреннюю службу канцелярии наместника в Сирийской Провинции отнюдь не для пестования местных патриотов. Служба учреждалась для истребления зелотов, и только. А Малук вообразил, что, вступив в Службу, он станет оберегать благополучие и достоинство джбрим. И когда Малук бросился спасать тирских галилеян, он тоже сглупил. Он занялся не своим делом, и вот он мертв.
Вы говорите, что канат надрезали? Разумеется, надрезали! Малук был обременителен для галилеян. Такие, как он, непредсказуемы. Вчерашний офицер, порвавший со служебным долгом, коллегами и наставниками – с кем он порвет завтра? К тому же галилеяне не враждуют с властями, а Малука бы им пришлось прятать. Да, безусловно, добродетельный Амуни, высокообразованый Пинхор и благородный Ют рады были бы отдать долг благодарности Малуку. Они духовные учителя галилеян, они могут позволить себе роскошь великодушия. Но вот Анания Шехт – человек практического склада. Он, как видно, рассудил иначе. Допускаю, что он колебался. Иначе к чему было так долго держать Малука в своем доме? Но все же трезвый расчет взял верх над благодарностью, и Малука устранили. Надрезали канат, тот и оборвался. Малук разбился насмерть, и теперь у галилеян Дамаска нет большой заботы. Но я уверен, мой Бурр, что миф об обращенном Малуке останется. Ведь насколько неудобен был галилеянам Малук-изгой, Малук-дезертир, настолько же хорош стал мертвый, вернее будет сказать – невидимый Малук. Малук-легенда, красивая история об обращенном капитане Внутренней службы. Галилеяне наверняка сохранят и детализируют эту легенду. А потом появится человек, который присвоит жизнь Севелы Малука, но зваться тот человек будет по-другому.
А молодого человека жаль. Парень подавал надежды. Но в его лета пора бы уже понимать жизнь и людей. Дурашка – вообразил, что галилеяне это «новые люди». Да нет ничего нового под небом, мой Бурр. Через многие годы риторы и летописцы представят галилеян праведниками и припишут им добродетели, доселе в людях незамеченные. Но человеческая природа неизменна. Галилеяне – рационалисты, а отнюдь не «новые люди». Малук этого не разглядел и заплатил жизнью за свой порыв. Впрочем, не торопимся ли мы хоронить Малука? У трупа, что нашли под городской стеной, было изуродовано лицо. Тело спешно погребли, и никто теперь не может утверждать, что это было тело Малука. Вы пишете, что рядом с трупом нашли именной жетон капитана Службы. Занятная деталь. К чему, скажите на милость, изменнику и дезертиру носить в одежде жетон, который при обыске выдаст его с головой? И, коли можно предположить, что галилеяне избавились от Малука, подстроив его гибель, то можно представить и другое – они использовали гибель иного человека (или тело погибшего ранее), дабы убедить власти в смерти Севелы Малука. Отчего галилеяне выбрали такой необычный способ убийства? Не для того ли, чтобы стражники нашли тело поскорее? А может быть, Шехт приметил слежку? Галилеяне расправились с Малуком или вывели его из Дамаска. И в том и в другом случае изуродованный труп с именным жетоном должен был убедить Службу в том, что больше нет надобности искать Малука. Поразмыслите над этим, претор.
Назначение Ваше в метрополию – дело решенное. Коли богам будет угодно, так через пару месяцев я встречу Вас на пристани Неаполя. Вы теперь нужны мне в Риме, мой друг. Божественный Кай Юлий затеял в Британии дело, на мой взгляд, сомнительное. Я, как мог, уговаривал принсепса не посылать галльские легионы в Британию, но Калигула слушать меня не стал. Британский царь Киннобеллин противится возведению наших прибрежных укреплений на юге земель тринобантов. Принсепс посылает туда два легиона, а между тем за спиной у нас остаются германцы, наглеющие от года к году. Боюсь я, что зимняя кампания на Острове окончится бесславно. Галльскими легионами следовало бы укрепить северный фронтир, а не посылать их в Британию. Германцы, случись такое, что Киннобеллин потеснит нас на Острове, могут потрепать северные армии. Те остаются без жалования уж второй год, а не пополнялись и того больше. Так вот: коли на северном фронтире станет худо – тогда партия Лепида непременно поднимет голову. А Кассий Херей и Корнелий Сабин станут интриговать против меня в полную силу. Эти мерзавцы не упустят возможности свалить консуляра Меммия. Ему поставят в вину то, что он поздно навел переправы на Рейне. Меммий же – моя креатура, на Палатине это знают. Лепид со своими прихвостнями Хереем и Сабином станут очернять меня перед принсепсом. Божественный Кай Юлий назначил Херея трибуном преторианцев, и тот совсем потерял голову от спеси. Я не доверил бы Херею и миски с брюквой, не то что преторианцев. Не пришлось бы принсепсу жалеть о том, что он возвысил этого вероломного человека.
Божественный Кай Юлий затеял пересматривать списки всадников, он намерен оставить лишь тех, кто унаследовал титул. Вас это не затронет, я о том побеспокоюсь. Мои добрые друзья в Верховной Коллегии нынче присматривают для Вас трибу. Вам пора участвовать в политике метрополии, друг Бурр, довольно с Вас Провинции. На зиму я арендовал для Вашей семьи виллу в Кампаньи. Все дела в Сирии оставьте Марку Светонию и готовьтесь к переезду. Заверьте в моем восхищении вашу почтеннную супругу, а сыну скажите, что в Италии его ждет великолепная псарня. Я помню, как Ваш мальчик любит охоту.
Жду Вас, претор.
Луций Лонгин.Рим, десятый день октябрьских календ
правления Божественного Кая Юлия, года…»
* * *
Он шел по Каменному мосту, внизу чернели полыньи, справа светились вход в Театр Эстрады и окна знаменитого дома. На мосту дул сильный ветер, снежинки кололи лицо. А он быстро шел от Боровицкой, и ему хотелось пуститься в пляс. Мела пурга, тротуар заметало снегом. Он оставлял четкую вереницу следов, задирал голову, смотрел в подсвеченное московскими огнями небо.
«…дорого с суперобложкой – к черту суперобложку!.. Но нету суперобложки, и переплета нет… Немножко пройдет, немножко… Каких-нибудь тридцать лет…»
Он миновал «Ударник», вышел на Полянку. Ветер стих – как будто волшебной палочкой махнули, и пурга унялась. Плавно опускались крупные снежинки, и Полянка была пустой и белой-белой. По заваленной снегом дороге проезжали, пробуксовывая, редкие «Жигули» и «Москвичи». Проплыло такси с изумрудным огоньком на ветровом стекле.
«…Зеленые в ночах такси без седока…»
В желтом свете фонарей сыпал густой снег, и Полянка от этого была уютной, как старинная рождественская картинка. А ему хотелось бродить в чудесном городском снегопаде, в свете фонарей, по снежному безлюдью. Он думал о том, как удивится отец, когда возьмет в руки книгу, где на обложке – «Михаил Дорохов». И тоски он не чувствовал, и не было страха, что вся жизнь пройдет в ежедневных хождениях на работу и с работы. Завтра!.. Настоящий договор… А потом – гонорар, рецензии литературных критиков. Первая его сбывшаяся мечта… Первое его дело. Все сам сделал. От начала и до конца. Задумал и выполнил. А еще Штаты!.. Будет работать у Александра Давидовича Гольдфарба, не в самом скучном городе на свете…
Он задохнулся от счастья, нагнулся, подхватил комок чистейшего снега и растер по лицу. Холодные капельки побежали за ворот свитера. Дорохов засмеялся и смахнул снег перчаткой.
До дома было рукой подать, и он пошел медленно, хотелось подольше побыть под тихим снегопадом.
Он запел: «Тишайший снегопад – дверьми обидно хлопать. Посередине дня в столице – как в селе. Тишайший снегопад, закутавшийся в хлопья, в обувке снеговой проходит по земле. Он окнами домов на кубы перерезан. Он конусами встал на площадных кругах. Он тучами рожден, он окружен железом. И все-таки, он кот в пуховых сапогах…»
Навстречу прополз снегоуборочный грейдер, широкий стальной нож отваливал комковатые волны снега на бордюр, обнажая черный асфальт.
Дорохов подумал, что сейчас придет домой и выпьет рюмку коньяка. Непременно! «За успех нашего безнадежного предприятия». Первый, кому он подарит книгу – экселенц… А потом отцу пошлет. Ну и мужикам, конечно…
Гаривас скажет: «Вот те нате – хрен в томате! Вырастили Бабу-Ягу в родном коллективе!..»
А Тёма Белов скажет: «И молчал же, сволочь! Сидел, понимаете ли, кропал при лучине! Мы с ним пили, мы ему тайны поверяли… А он, гад – никому ни слова!»
Боря Полетаев скажет: «Дарственную изобрази. Внукам буду показывать. А ну-ка, внуки, скажу, глядите, засранцы: сам Дорохов мне книги надписывал».
Бравик вежливо покивает, посмотрит на обложку, скажет: «Обязательно почитаю, спасибо».
Ох, елки зеленые, как же все классно обернулось! Один только раз в жизни бывает у человека такая большая удача! И книга, и стажировка в Штатах… Еще же месяц тому назад ни черта не было… Психовал, терзался своей заурядностью… А теперь снег валит, настроение сказочное… Завтра поеду в редакцию, подпишу договор. Елена Даниловна – золотой человек! Редкий человек… Стоп! Какая еще Елена Даниловна? Сказано тебе – Лена. Хороший она человек, елки зеленые… А Курганова?! «Старик Державин нас заметил»…
До его дома оставалось полквартала. Он бросил в сугроб окурок и прибавил шаг. Сейчас он придет домой, нальет лободинского «Камю» – там еще рюмки на три…
«В десять тридцать по второй программе – „Вооружен и очень опасен“ с Банионисом. Сенчина там классно поет: „Нет золотой долины, все проигрыш и мрак! А выигрыш мужчины в счастливых номерах…“ Сяду перед теликом, выпью рюмочку, закурю папироску и расслаблюсь… Я победил! У меня выходит книга, и я еду в Штаты! И вообще, сколько еще всего впереди!.. Книга выйдет, Нью-Йорк своими глазами увижу… Бруклинский мост, Манхэттен, Музей Метрополитен, хот-доги буду покупать, по Центральному парку прогуляюсь…»
– Земеля, слышь, скока время?
Дорохов остановился. В проеме каменной ограды, стоял калик-моргалик в болоньевой куртке. Смешной такой, расхристанный, нетвердо опирался о крыло «Запорожца» и плавно покачивался туда-сюда. Кроличья ушанка еле держалась на голове, куртка расстегнута, шарфик висит на плече.
Дорохов вообще-то не любил это «скока время». Терпеть не мог быдлоту, пролов, без меры пьющих. В другой вечер и не обернулся бы, чесс слово. А, да ладно, благодушно сказал он себе. Какой-никакой, а человек, блин, разумное прямоходящее. Терпимее, блин, надо быть, как Никоненко говорит. Может, тоже какая радость у калика.
Снег падал, желтые фонари светили, так славно было на душе.
– Без пятнадцати десять, брат мой во Христе, – весело сказал он.
– Земеля, курить дай, – жалобно попросил алкаш, сильно качнулся вперед, но удержался за крыло, выпрямился. – Мне это, блядь… Мне в Кузьминки. Курить нету ни хуя…
– Ну покури, бедолага, – усмехнулся Дорохов.
Он шагнул в полутемный дворик. Тут, в Замоскворечье, хватало ветхих городских усадеб, в них ютились разные учреждения – домоуправления, прачечные, нотариальные конторы; дворы домов походили друг на друга – каменные заборы со следами лепнины, воротные петли без самих ворот, кряжистые вязы, мусорные баки и ржавые качели. Жалко ему вдруг стало дурачину этого расхристанного. В Кузьминки ему… Хорошо если милиция подберет, а то ведь упадет, дурак, да замерзнет насмерть.
– Ты давай, покури и к метро топай, – строго сказал Дорохов и протянул пачку. – И куртку застегни, чучело. Не май-месяц.
Хотел уже зажечь спичку, но калика вдруг схватил его запястья.
– Ты чего, мужик? – оторопело сказал Дорохов. – Сдурел? Ты это…
Алкаш держал руки очень сильно и втаскивал Дорохова в темноту двора. Тут Дорохов понял: мужик-то – не пьян… А чего он придуривается?
– Завязывай, мужик, – тихо сказал Дорохов и попытался вырваться.
И тотчас сзади подшагнула темная фигура, и деревянной крепости рука сгибом локтя захватила его шею. Он пытался крикнуть, от страха ослабли ноги. Шею держали жестко, не вдохнуть.
– Тихо, тихо, тихо… – зашептали в ухо.
Тот темный, второй, рывком подтащил Дорохова назад, в темноту.
– Тихо, тихо… – щеку обдало табачным перегаром.
Дорохов дрыгнул ногой, оскользнулся. Его ударили в спину, справа, удар был страшный, от боли перхватило дыхание, и в животе холодно укололо.
Эк! – вылетело изо рта.
Первый что-то достал из-под болоньевой куртки и без замаха ударил в живот.
Под ребрами что-то порвалось, булькнуло и стало жечь. Отнялись ноги, затошнило, на глаза нахлынула искрящаяся муть… Он почувствовал, как в пах течет теплое. Второй, за спиной, медленно свалил его вниз. Дорохов беззвучно всхипнул, рот зажали ладонью в мокрой кожаной перчатке, уплывающий голос ласково и суетливо прошептал: «Тихо, химик, не голоси…».
Дорохов лежал на боку. Он дергал ногой, ребро подошвы скребло по льду. Изо рта выкашливался тонкий полухрип-полулай. Горячая разрывающая боль в животе наполнила весь мир, добралась до горла, до глаз. Накатили темнота и необоримая слабость. Он заскулил, икнул и затих.
Список использованной литературы
Бадак А. Н. и др. Всемирная история. Римский период. М.: АСТ; Минск: Харвест, 2001.
Беккер Карл Фридрих. История древнего мира: Восток. Греция. М.: Олма-пресс, 2001.
Виппер Р. Ю. Очерки истории Римской империи. Т. 2. Рим и раннее христианство. Ростов-н/Д.: Феникс, 1995.
Гиро Поль. Быт и нравы древних римлян. Смоленск: Русич, 2001.
Даймонд Макс. Евреи, бог, история: на рус. яз. Тель-Авив: Библиотека – Алия, 1989.
Дубнов С. М. Краткая история евреев. Ростов-н/Д.: Феникс, 2000.
Заграевский Сергей. Иисус из Назарета. Жизнь и учение. М.: Алев-В, 2000.
Иосиф Флавий. Иудейская война. Мн: Беларусь, 1991.
Кифер Отто. Сексуальная жизнь в Древнем Риме. М.: Центрполиграф, 2003.
Коликов Кирилл. Проблема 2000: Кто убил Иисуса Христа? // Огонек, 1999. № 39 (4626).
Ренан Эрнест. История израильского народа. М: Изд-во В. Шевчука, 2001.
Свенцицкая И. С. Первые христиане и Римская империя. М.: Вече, 2003.


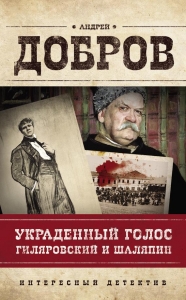


Комментарии к книге «Апостол, или Памяти Савла», Павел Рафаилович Сутин
Всего 0 комментариев