Юрий Бурносов Четыре всадника
Так, обманутые ложными явлениями, они, проснувшись, верят, что подобные вещи действительно произошли с ними.
Ульрих Молитор «De Lamiis»Дело твое обращено в ничто, слово твое запрещено,
Твой казначей крадет твои небесные богатства,
Твои слуги грабят и убивают, и хищный волк стережет твое стадо.
Вальтер фон дер ФогельвейдеЧеловек видит и чувствует, что он помещен среди грязи и нечистот мира, он прикован к худшей, самой тленной и испорченной части вселенной, находится на самой низкой ступени мироздания, наиболее удаленной от небосвода, вместе с животными наихудшего из трех видов, и однако же, он мнит себя стоящим выше луны и попирающим небо.
Монтень «Опыты»ГЛАВА ПЕРВАЯ, из которой мы не узнаем ничего нового о судьбе Хаиме Бофранка, однако ж счастливо обнаруживаем одного из его утраченных спутников, а такоже узнаем кое что о каменных карликах
Любое действие в природе Совершено не по свободе, Но господу подчинено Все, что господь влагает щедро В обильные земные недра, Добычей смерти стать должно. Реми БеллоЧто видим мы пред собою?
А видим мы морской берег.
Видим мы дорогу, которая вьется вдоль побережья, то приближаясь почти вплотную к линии прибоя, то убегая от нее прочь и теряясь в зубчатых изломах скал.
Видим мы двух осликов, они ничуть не торопятся, влача нагруженную повозку; не выказывает торопливости и возница, старенький священник в дорожном платье, соизволенном специальным на то распоряжением, — длиннополом шерстяном сюртуке и широких штанах, и то и другое черного цвета. Обыкновенно таковым платьем пользовались лишь деревенские священники да их собратья из весьма удаленных мест, которым приходилось часто путешествовать подобным обычаем, а то и верхом; в больших же уютных каретах с мягкою подвескою, бархатными креслами и диванами ездили в обычном одеянии, не боясь измять его либо испачкать в дорожных суетах.
— Но еще более примечательна история, которую рассказал мне покойный фрате Герох, — продолжал священник повествование, начатое, видимо, уже довольно давно. Голос священника был тонок, но выразителен — в отличие от иных клириков, что громкостию перекрывают колокольный звон, ан бубнят все подряд безо всякой красы и расстановки. — Однажды сей достойный муж пошел по надобностям хозяйственным в сарай, где и увидел дьявола. Нечистый сидел на козлах, что служат для распилки дров, и вертел в гадких своих лапах конский хомут с видом столь серьезным, что не напустит на себя и иной знатный конюший. Ничуть не убоявшись, фрате Герох спросил: «Что ты делаешь тут? Или у тебя есть конь, а сбруи не водится?» Нечистый на то отвечал: «Коня у меня нет, да коли в нем будет нужда, и ты моим конем станешь!» И, сказавши так, прыгнул прямо на спину фрате Героху и начал понукать его, словно тот и в самом деле конь.
— Прошу простить меня, фрате, но я вроде бы слышал уже эту историю. Правда, речь там шла отнюдь не о священнике, а о школяре, коего точно так же взнуздала старая ведьма и скакала на нем всю ночь, пока едва не загнала, — вступил в беседу один из сидевших в повозке.
Надобно сказать, наверное, что сидело их там помимо возницы двое: один — лет солидных, лицом толст и красен, по всему мелкий торговец, что промышляют в этих краях рыбою, солью, шкурами, шерстью и поделочным камнем, а второй — совсем еще юноша, в одежде простой, но выправкою и статью весьма изрядный. Он-то и прервал повествование священника, ничуть того, впрочем, не смутив:
— Ежели вы, юный хире, послушаете мою историю далее, — продолжил священник, нисколько не обидевшись, — то обнаружите, что она совсем иная. Так вот, дьявол прыгнул прямо на спину фрате Героху и начал понукать его, словно тот и в самом деле конь, но не тут-то было! Достойный фрате Герох на память прочел заклинание от нечистого, что записано в «Снисхождениях» святого Гилиама, и надо бы видеть, как дьявола скрутило! Он сей же час пал на пол и принялся кататься по нему, начал визжать, царапать себе когтями грудь, живот и промежность, мочиться и испражняться (причем из заднепроходного отверстия его вкупе со зловонным калом сыпались раскаленные уголья), громко портить воздух — да так, что фрате Герох выскочил наружу, зажавши нос, и лишь в оконце наблюдал, как нечистого хватают корчи. Так продолжалось довольно долго, после чего дьявол возопил особенно громко и рассеялся облаком мельчайшего праха. Что же до фрате Героха, то он тотчас отписал епископу, а оскверненные козлы и хомут сжег тут же во дворе с молитвами.
— А отчего он умер? — спросил толстяк без особенного интереса.
— Кто, дьявол?
— Да нет, благочестивый фрате Герох.
— Ах, с ним стряслось несчастье. Фрате Герох прошлой весной переходил брод — знаете, что неподалеку от Бюксвее, — запутался ненароком в сутане и утоп. Его выудили намного ниже по реке спустя несколько дней, так что тело уже успели безобразно объесть рыбы и раки.
После известия столь печального никто ничего сказать не нашелся, потому ехали дальше в молчании. Когда повозка миновала особенно крутой подъем, юноша спросил, вглядываясь в горизонт:
— Не кажется ли вам, фрате Стее, что солнце садится как-то необычайно быстро?
— Сие всего лишь наваждение, созданное морской водою и воздухом, насыщенным водяными парами, — важно ответствовал священник, проявив неожиданное знание естественных наук. Впрочем, именно такие священнослужители — из обитавших в глуши, зачастую преуспевали, помимо служения господу, еще и в науках; примеров сему достаточно, хотя есть среди них и те, что без особенного ума читают все подряд, а ведь, как известно:
Когда сидят бездумно день-деньской За книгой, то походят на обжору, Который все съедает без разбору, А пользы для желудка никакой.— Нет, в самом деле, — согласился с юношей толстяк. — Мы рассчитывали добраться до Люддерзи засветло, а где ж оно еще, Люддерзи?
Никто не ответил; повозка так и ехала дальше, поскрипывая и слегка покачиваясь, покамест толстяк не разрушил молчание, в величайшем испуге возопив:
— Пресвятая девственница из Сколдарна, что это?!
— Что случилось? — встревожился священник, понукая осликов, кои, надобно сказать, ничуть не ускорили от сих понуканий шага.
— Я видел вон там, на скале, каменного карлика, — пробормотал толстяк в растерянности. — Он стоял и смотрел на меня, а после спрыгнул и пропал, словно и не бывало его.
— Что еще за карлики? — удивился юноша и поворотился к священнику, ожидая объяснений.
— Говорят, они водятся в окрестных скалах, — с готовностью поведал фрате Стее, — и ростом примерно с кошку. Что делают и чем живут, никто не ведает, но слыхал я, что у них свой король и двор, а может статься, и мир их вовсе иной, так что до людей им никакого дела нету.
— Как же! — воскликнул толстяк, пугливо озираясь. — Нету?! Заночуй человек в горах, особливо поблизости пещеры или иной какой дыры или расщелины, непременно его туда и утащат!
— Для чего же? — спросил юноша с любопытством.
— А кто их ведает! Может, себе в пропитание, а может, как сказывают, им нужны работники, чтобы делали, что самим карликам непосильно… А увидеть их днем — к большой беде.
— Однако ж теперь их вижу и я, — сказал в чрезвычайном изумлении старичок-священник. Все трое обратили взоры к острому гребню скального обломка, покоившегося на обочине, со стороны моря; на самом верху его стояли подбоченясь два небольших — и верно, с кошку величиною — человечка в серых, будто сплошь запыленных одеждах.
Толстяк принялся молиться, а священник хлестнул осликов, но скорости это, как и в предыдущий раз, ничуть не прибавило. Один из карликов пискнул что-то другому, и оба премерзко захихикали. В наступающих сумерках можно было различить их гадкие физиономии — острые, словно у хорьков, землистые, с куцыми бороденками, лишь глазки поблескивали красным, словно капельки крови.
— Вот я вас! — прикрикнул священник и перетянул осликов хлыстом с особою силою, отчего те взбрыкнули и довольно резво бросились прочь от сего неприятного места. Впрочем, юноша успел увидеть, как карлики спрыгнули со скалы и пропали, словно их и не было.
— Как быстро темнеет, — сказал толстяк, прерывая молитву. — Скоро ли Люддерзи? Хоть убейте, ночевать на дороге я не стану, уж лучше пойду пешком, коли вы не торопитесь.
— Успокойтесь, хире, — промолвил юноша. — Уверяю вас, мне тоже менее всего хочется оставаться на ночлег среди этих диких скал, тем паче после того, как мы увидели столь богомерзких созданий. Но полноте! Не причудились ли они нам? Не есть ли это также наваждение, созданное морской водою и воздухом, насыщенным водяными парами, как уже говорил нам фрате?
— Уж не знаю, какие там пары, — заявил толстяк, — но только я точно видел двух дрянных уродцев, притом так же отчетливо, как вижу ныне вас, и попробуйте только убедить меня в обратном!
Повозка удалилась от злосчастного места на изрядное расстояние, но священник продолжал нахлестывать осликов так, словно сам дьявол из истории о фрате Герохе гнался за ним по пятам.
Нет ничего удивительного в том, что в Люддерзи спутники прибыли гораздо ранее намеченного.
Это был портовый город, стоявший на берегу бухты, отгороженной для верности рукотворным волнорезом. Торговые пути проходили южнее, а вот рыбацких суденышек стояло у причалов предостаточно. На окрестности к тому времени уже окончательно пала тьма, и бухта украсилась огоньками ламп, которые засветили рыбаки.
На въезде дорогу повозке неожиданно преградила стража. То были не гарды и не солдаты, а простые горожане, числом шестеро, кто с дубиною, кто с багром, а кто и со старым мечом, доставшимся в наследство от дедов и прадедов, что грешили морским разбоем. Осветив факелами приезжих, начальник стражи, кривой усач в обтрепанной рыбацкой шляпе, спросил:
— Кто вы такие?
Священник неторопливо слез с повозки и представился:
— Меня звать фрате Стее, я священник из Орстеда, а сюда приехал по делам церкви навестить фрате Элинга. Коли не верите мне — спросите, он подтвердит. Со мною двое — почтенный хире Клеен, торговец шерстью и соленьями из Клеенхафны, а также юноша, которого я по доброте душевной взялся подвезти до вашего города, ибо вы знаете, как трудно бывает найти экипаж и спутников в наших краях. Но что случилось? Отчего на дороге выставлена стража?
— Каменные карлики, фрате, — изрек кривой, сжав пальцы на рукояти древнего меча. — Сам я лишь слышал байки о них, будучи еще мальчишкою, но старики говорили, что твари эти презлы и опасны. И вот сегодня утром карлики напали на жену мельника, что полоскала в горном ручье белье, а после — на двоих детей, что собирали хворост поблизости. И если женщина сумела убежать, то детей убили и обглодали так, что их мать лишилась рассудка, узрев мертвые тела. К тому ж темнеет ныне столь быстро — а почему, я и сам не знаю, — что многие всерьез заговорили о конце света.
— Мы тоже видели карликов по пути сюда, — сказал юноша, спрыгнув с повозки.
— Кто вы? — исполнился вдруг подозрительности кривой.
— Меня зовут Мальтус Фолькон, — с достоинством сказал юноша, — и я — чиновник Секуративной Палаты.
ГЛАВА ВТОРАЯ, из которой мы снова ничего не узнаем о судьбе Хаиме Бофранка, но сие незнание восполняется появлением совершенно нового героя, и, признаться, презабавного
Дама, коль мой волос сед — Все в морщинах ваше брюхо, Коль я стар — вы развалюха, Никому пощады нет. Анри БодЧеловек с тросточкою, который постучал рано утром в дверь дома, в коем проживал субкомиссар Хаиме Бофранк, был весьма стар годами. Было ему то ли семьдесят, то ли восемьдесят, а может, минуло и все девяносто, ибо разницы в сии преклонные лета, как ведомо, уже никакой нет — десяток туда или десяток сюда, поди угадай.
Седая борода, седые усы, седые, хотя и аккуратно завитые локоны, носатое лицо, на коем морщины и бородавки сочетались самым причудливым образом, вступали в некое противоречие с его щегольским обликом, с проворными — хотя кто-то, возможно, нашел бы их излишне короткими и самую малость кривоватыми — ножками, обутыми в кожаные наимодные башмаки о шести застежках каждый, с унизанными кольцами ручками (одной рукой старичок сейчас с силою колотил в дверь), с чуть грузным, но довольно энергичным тельцем, упрятанным в опрятный жилет розовых тонов.
Одним словом, старичок был чрезвычайный модник и достаточно шустр для своих лет. Вероятно, в обществе это был записной любезник и шалун, как бывает с подобными старичками; ныне же он был изрядно напуган и постоянно озирался по сторонам, словно бы ожидал какой напасти.
Наконец дверь приоткрылась, и хозяйка, прикрывая ладонью пламя свечи, спросила:
— Кто вы? Что так рано стучите?
— Полноте, милая хириэль, где же рано? — возразил суетливый старичок. — Уж давно утро!
— Утро? — поразилась хозяйка. — Вы, верно, шутите! Посмотрите, какая вокруг стоит темень!
— Однако верите вы мне или же нет, милая хириэль, а уж давным-давно утро, только вот солнце что-то никак не хочет появляться на небе… И если вам столь же жутко, как и мне, не впустите ли меня внутрь?
Хозяйка с некоторым сомнением посторонилась, пропуская неожиданного гостя. Когда дверь была закрыта на засов, старичок приободрился и принялся раскланиваться, говоря:
— Благодарю вас, милая хириэль… Меня зовут Базилиус Кнерц, принципиал-ритор в отставке, и я приехал из Гвальве, дабы встретиться с досточтимым хире Бофранком.
— Боюсь, хире Бофранка нету дома, — буркнула в ответ хозяйка, проверяя, хорошо ли лег засов в железное ушко. — Вот его комната, видите, заперта? Всю ночь шумели да топотали, а под утро — коли вы говорите, что уже утро, — ушли, даже входную дверь забыли притворить, хорошо, я заметила…
— Но не знаете ли вы, милая хириэль, куда мог пойти хире Бофранк?
— Откуда же мне знать, право. Хире Бофранк волен ходить, куда и когда ему вздумается.
— Тогда позвольте, я составлю небольшую промеморию, дабы вы, милая хириэль, передали ее хире Бофранку, как только он возвратится. Не найдется ли у вас пера и бумаги?
— Извольте, я сейчас все принесу, коли надобно, да зажгу, кстати, лампу.
Ворча что-то себе под нос, хозяйка удалилась, но скоро воротилась с масляною лампою, листом бумаги и пером, а также чернильницею. Старичок, уместив все это на небольшом коридорном столике, принялся писать, обнаружив в процессе письма, что чернильница использовалась крайне редко и стала могилою для изрядного числа бесславно почивших в ней мух, а перо оказалось весьма дурно очинено. Отписав не без трудностей промеморию, он сложил ее вчетверо и с поклоном передал хозяйке, присовокупив при том:
— Буду вам весьма благодарен, милая хириэль. И вот вам предостережение: поберегитесь выходить без нужды на улицу, ибо кроме павшей столь внезапно тьмы там могут обретаться опасности куда более жуткого свойства.
Грозное предостережение вряд ли было столь уж необходимым: хозяйка и без того выглядела чрезвычайно напуганной. Кнерц двинулся было к выходу, но в этот момент в закрытой комнате Бофранка что-то с грохотом упало. Звук был такой, словно разбился глиняный кувшин, а черепки полетели и покатились во все стороны.
— Что же это? — вскричала хозяйка. — Стало быть, хире Бофранк внутри?! Когда ж он мог прийти?
Старичок Кнерц резво подбежал к двери, припал к ней ухом и прислушался, затем воззвал:
— Хире Бофранк! Хире Бофранк, это вы?
За дверью заскреблось, заколотилось, и бывшему принципиал-ритору показалось, что кто-то принялся глодать дверные доски.
— Не случилось ли с ним чего? — затряслась хозяйка в испуге. — Не разбил его паралич?
— Нет ли у хире Бофранка собаки? — в свою очередь вопросил старичок.
— Упаси нас господь от этих тварей, — отмахнулась хозяйка. — Я бы не позволила держать в доме собаку: а ну как, не ровен час, она взбесится и всех перекусает? Еще от собак, говорят, случаются всякие хвори — от чумы до червей, которые проникают внутрь человека и постепенно пожирают его…
— Есть у вас ключ от этой комнаты, милая хириэль? — довольно невежливо прервал хозяйку старичок, продолжая прислушиваться к странным звукам.
— Да-да, конечно. Сейчас я принесу его. — Получив ключ, Кнерц вставил его в замочную скважину и осторожно повернул. С чуть слышным щелканьем замок открылся, дверь начала медленно отворяться.
Оттолкнув старичка, ужасная нежить рванулась из комнаты наружу и вцепилась в хозяйку, тщась прокусить плотные юбки. Сие был умерщвленный Шарденом Клааке бедняга Ольц; искалеченный и изуродованный, передвигался он, подобно животному, на четвереньках и очень споро. Однако голова его была неестественно запрокинута назад, и это мешало мертвецу.
Зубы Ольца лязгали и скрежетали, словно шестерни в подъемном механизме наподобие тех, что используются в порту. Верно, иной человек перепугался бы до смерти ввиду такого богомерзкого зрелища и его, не исключено, даже хватил бы удар. Однако ж и храбрая женщина, и ее гость оказались не из трусливых.
— Я помогу вам! — отважно вскричал старичок Кнерц, выхватывая из своей тросточки таившееся там длинное узкое лезвие. Но хозяйка не стала ждать его помощи: схватив горящую лампу, она обрушила ее на голову Ольца. Глиняный сосуд раскололся, масло тотчас разлилось, и мертвеца со всех сторон охватил огонь. Воя и стеная, он, позабыв свои кровожадные намерения, принялся кататься по полу, царапая его пальцами, покамест не застыл у стены. Коридор наполнился отвратительным запахом горелой плоти, а Кнерц поспешил сорвать со стены портьеру и укрыть ею тело, с тем чтобы погасить пламя.
Увидев, что вырвавшееся из комнаты субкомиссара чудовище не подает более признаков жизни, храбрая женщина тотчас утратила всякие чувства. Старичок Кнерц противу обыкновенной галантности не торопился прийти ей на помощь; он несколько раз ткнул мертвеца клинком — не шевельнется ли тот. Мертвец лежал недвижно, бесформенной оплывшей грудою.
Лишь после предусмотрительный старичок извлек из кармана флакончик с нюхательной солью и сунул его под нос хозяйке.
— Ах! — вдохнула та, приходя в себя. — Что сие было? Неужто премерзкая собака?
— Ничего особенного, милая хириэль, попросту оживший мертвец, — сказал старичок без всякой учтивости. Он укрыл лезвие в тросточку и мрачно покачал головою.
— Оживший мертвец? Да что вы говорите?! Или такое бывает?!
— Отчего же нет? Если и была когда-нибудь на свете непреложно доказанная и подтвержденная история, то это — история оживших мертвецов. Свидетельствами тому официальные отчеты, рассказы высокопоставленных особ, медиков, священников, судей. Будет время, я поведаю вам не об одном жутком происшествии, где героями выступали как раз поднявшиеся из могил умруны.
— Но что же случилось, хире Кнерц, если оживший мертвец прятался в комнате хире Бофранка? Жив ли сам хире Бофранк, коли так? Да и не он ли сам это был?
Кнерц ахнул, чиркнув спичкою, зажег настольную свечу и кинулся к бездыханному телу. Поворотившись к хозяйке, которая все еще глядела с ужасом на покрытый портьерой труп, он приоткрыл лицо мертвеца и учтиво спросил:
— Посмотрите, прошу вас… не хире ли это Бофранк?
— Не приведи господь, — сказала хозяйка и с дурно скрываемым любопытством принялась рассматривать обгорелое лицо. — Нет, это не он. Кажется, это слуга хире Бофранка, вороватый человек по имени не то Ульц, не то Ольц… — спустя некоторое время сказала она.
— Что ж, надеюсь, с самим хире Бофранком все в порядке. Но не будете ли вы так любезны, милая хириэль, угостить меня легким завтраком? Я всю ночь провел в пути и потому чрезвычайно голоден и устал.
— Извольте, прошу вас… — закивала хозяйка. — Но что же делать с… ним?
Она указала на мертвеца, источавшего прегадкую вонь, в коей смешались запахи гари и тлена.
— Лучше всего ему полежать покамест здесь, — рассудительно заметил Кнерц. — И проверьте, пожалуйста, еще раз, хорошо ли заперта входная дверь… Я же, с вашего разрешения, хотел бы вначале умыться.
— Вы найдете все, что нужно, на кухне — она прямо по коридору, там горит светильник, — спохватилась хозяйка, и старичок тотчас удалился, постукивая тросточкою.
Женщина тем временем проверила засовы, после чего подошла к столику, где лежала записка к Бофранку, и, не удержавшись от искушения, торопливо прочла ее, и вот что там было:
«Хире Бофранк!
Возможно, мое имя ничего вам не скажет — а зовут меня Базилиус Кнерц, отставной принципиал-ритор, — но прибыл я к вам по просьбе ваших добрых друзей: покойного Фарне Фога и счастливо здравствующей хириэль, которую именовать здесь не стану.
Не знаю, буду ли я вам в помощь или же в обузу, но просьбу этих достойных людей я исполнил. К сожалению, мне не довелось застать вас дома; не без оснований полагая, что в связи с последними печальными и даже страшными событиями вы заняты чрезвычайно, я, однако ж, буду ждать вас, а коли не дождусь в самое ближайшее время, то буду находиться, сколь потребно, в гостинице «Белая курица», надеясь, что я опоздал небезнадежно.
Сколько я понимаю, пророчество сбывается не столь скоро и точно, как ждали; не исключено, что причиною тому именно ваши деяния, я немного разбираюсь в сих вопросах и могу утверждать это с определенной долею уверенности.
Велено мне также передать, чтобы осторожны вы были со своим братом Тристаном, ибо он, вполне вероятно, суть не то, что вы о нем думаете.
Остальное надеюсь высказать вам лично при непременной встрече.
С почтением, Базилиус Кнерц, принципиал-ритор в отставке».Как нетрудно догадаться, прочитанное ничуть не успокоило хозяйку, но даже напугало ее еще сильнее, ибо она вовсе ничего не поняла. Посему, рассудив, что дела хире Бофранка лучше ему и оставить, и поспешно убрав записку, она заторопилась на кухню, чтобы приготовить обещанный завтрак.
ГЛАВА ТРЕТЬЯ, в которой утро все еще не наступает, а Хаиме Бофранк и его спутники обнаруживают вокруг себя мир, местами чрезвычайно похожий на прежний, ан совсем не тот
Мудрецы говорят, Что есть в лесу дикий зверь, Чья шкура черным-черна… Абрахам Лямбшпринк «Философский камень»Как мы помним, тьма, опустившаяся на город, вначале никого особенно не устрашила. Однако Бофранк и толкователь сновидений знали то, что обывателям было неведомо, и потому поспешали вперед — навстречу своей судьбе, ничуть не обращая внимания на день, темный как ночь, на бледные лица прохожих, на странную тишину, внезапно овладевшую предместьем.
Жеаля сыскать оказалось нетрудно и уговаривать его не пришлось:
— Мне теперь все одно. Если вы утверждаете, что укажете мне убийцу, дайте только одеться и взять оружие, — сказал он, очнувшись от скорбного бесчувствия.
Таким образом, к скотобойням отправились уже втроем — Бофранк при пистолете, шпаге и кинжале, Альгиус при кинжале и одолженном у Жеаля мушкете и Проктор Жеаль при двух пистолетах, движимый вперед едино только жаждой мести за убиенную невесту. Огнестрельное оружие представлялось более действенным против упыря, нежели клинки, к тому ж Бофранк имел некоторое представление о воздействии пуль на Шардена Клааке.
Дурным запахом тянуло со скотобоен, но никто не обращал на него внимания. Под сенью низких корявых деревьев, что примыкали к скотобойням с севера, оказалось совсем темно, и Жеаль возжег предусмотрительно взятый с собою факел.
— Не стоит углубляться в рощу, — заметил Альгиус. — Если место это верное, то и здесь Колокол сработает.
Он развернул свою ношу и, исполнившись решимости, качнул Колокол несколько раз. Произведенный звук напоминал удар пестика о донце ступки — глухой и быстро затухающий. Трижды ударив в колокол, Альгиус прошептал несколько длинных слов на абсолютно незнакомом Бофранку языке, но ничего не произошло.
— Что случилось? — спросил Жеаль. — Или Колокол не настоящий? Клааке обманул нас?!
— Колокол настоящий, и упырь не обманывал нас. Мы в междумирье, — торжественно сказал Альгиус, аккуратно завертывая колокол обратно в тряпье. — И не поможет нам даже господь, ибо здесь мы — чужие…
И деревья качнули своими суковатыми ветками, и земля дрогнула, и воздух словно пробрала зябь, когда Хаиме Бофранк понял, как далеко он от мира, взрастившего и воспитавшего его.
И стала тьма, тьма совершенная…
Угасший было факел Жеаль тут же возжег вновь, но толку с того оказалось чуть: словно колпаком, свет накрывал троицу забредших в сие страшное место путников, а за пределом светового круга тьма сделалась почти что нестерпимой.
— Тревожусь, напрасно не взяли мы с собой провизии, — обратился к спутникам Альгиус, единственный из всех выглядевший относительно спокойным. — Бог весть, сколько мы тут пробудем, а я не уверен, можно ли употреблять в пищу здешнюю снедь и воду.
— Снедь? — рассеянно откликнулся Бофранк. — Откуда же ей взяться здесь?
— Полагаю, место сие не мертво, — отвечал Альгиус. — При известной сноровке мы найдем и дичь, и источник, и, может статься, даже харчевню… только не могу я сказать, кто в той харчевне хозяин и что подают там на стол. Однако смотрите — мгла будто бы рассеивается!
В самом деле, только что казавшаяся сплошною и даже неестественно плотною тьма постепенно развоплощалась в обычные сумерки — сродни тем, что окутали покинутый город в покинутом мире.
— Что же нам делать? — спросил Жеаль, чья неизбывная печаль, казалось, отступила перед лицом неведомых опасностей.
— Искать Клааке, — сказал Бофранк.
— Где ж его искать?
— Не удивлюсь я нисколько, ежели и чертов упырь, и его хозяин сами найдут нас, как только проведают, что мы здесь, — проворчал толкователь сновидений, бережно убирая Колокол. — Не забывайте о другом: для нас это междумирье, а для кого-то — мир привычный и обитаемый. Мы здесь чужаки, все тут не по-нашему, так что и бояться надобно всего, даже того, что с виду вовсе не страшно. А уж непонятного бояться и подавно сам бог велел. Однако я вижу огонек — не пойти ли нам в ту сторону?
— Огонек? — изумился Бофранк и посмотрел в указываемом направлении, где и в самом деле сквозь тесно стоявшие деревья пробился слабый свет. — Что бы это мог быть за огонек?
— Что бы то ни было, а лучше идти туда, коли уж мы не знаем, в какую сторону направиться, — рассудил Альгиус. — Там хоть что-то есть… Вот и пойдем туда, где есть что-то, а туда, где нет ничего, покамест не пойдем. А уж коли там, где что-то есть, ничего путного не обнаружится, тогда вернемся туда, где с виду нет ничего. Ах, черт, как хорошо сказал! Верно, писать бы мне надо было ученые книги! Что ж, ежели вернусь невредим, напишу — и не одну! А вы, хире Бофранк, уж поспособствуйте, чтоб их издали и не сжигали, покамест торговцы не заплатят мне всех положенных денег.
Шутки Альгиуса субкомиссар счел не совсем уместными, но чего еще было ожидать от глумливого толкователя.
Впереди пошел Жеаль, и с ним никто не взялся спорить. Альгиус двигался вторым, ибо нес наиболее ценную вещь, что у них была с собою, — Деревянный Колокол.
Замыкал шествие Бофранк с пистолетом наготове, отягощенный премрачнейшими мыслями. Выходило, что они ринулись в неведомое без пути и дороги, наудачу, и ничего вокруг не было такого, что стало бы вехою или указателем. Альгиус что-то знал и о чем-то, вполне возможно, молчал до поры, но что если Бофранку это только казалось? И каким будет мир субкомиссара, когда — и если — он вернется туда?
Да и будет ли он, этот мир? Вспомнив Ольца, подъедающего ножку стола, Бофранк передернулся.
— Осторожно! — воскликнул внезапно Проктор Жеаль, и тут же шедший впереди Бофранка Альгиус с шумом и треском исчез под землею.
Смятение, охватившее двоих оставшихся спутников, исчезло, когда откуда-то снизу послышалось знакомое брюзжанье Собачьего Мастера:
— Верно сказал толстый Бьярни из Копперзее, хоть его потом и утопили: «Прежде чем ступить куда-либо, глянь, нет ли там дерьма, собачьего, человечьего или лошадиного, ибо ступать можно и в иные места, а смыть дерьмо с ноги порою очень трудно». Посвети же своим факелом, друг Жеаль, дабы я узрел, в какое дерьмо посчастливилось мне ступить на сей раз.
Судя по всему, толкователь провалился в овраг, самым неудачным образом засыпанный сверху хворостом, сучьями и палою листвою, и теперь в раздражении ворочался там. Жеаль тотчас осветил дыру, а субкомиссар помог Альгиусу выбраться. Прежде всего толкователь проверил, цел ли Колокол, и лишь после этого спустился вниз — осмотреть, куда это он сверзился столь злосчастно.
Зрелище открылось преотвратное: дно оврага сплошь усеивали человеческие кости — одни чистые, другие — с прилипшими ошметками гниющей плоти, попадались и почти целые тела — уже тронутые разложением и покрытые страшными ранами. Были здесь мужчины, женщины и дети; средь костей то ржавел грубо откованный шлем гарда, то желтела игрушечная глиняная свистулька… Тлению радовались жирные белесые черви, пирующие в останках, да мухи, составлявшие им компанию.
— Стало быть, мы идем верно, — молвил Альгиус, отплевываясь: гнилой запах стал таким густым, что набивался в рот и нос, словно речная мошкара по весне. — Не наш ли старинный знакомец упырь прятал здесь свою закуску?
Приятели поспешили покинуть печальное и жуткое место, но запах смерти еще долго преследовал их.
Огонек, который углядел Альгиус, приближался. Продравшись сквозь переплетения колючего кустарника, затянутые к тому ж плотной паутиною, спутники увидали наконец и источник его — небольшое здание непривычной формы, с плоской крышею и большими окнами без ставен и занавесей. Из них-то и лился непривычно яркий свет; такоже изнутри доносилась и музыка — дикая, однообразная, состоящая в основном из грохочущих барабанов и тарахтелок, словно как у дураков на летнем празднике умалишенных. Жестом повелев друзьям оставаться в укрытии, Бофранк осторожно подобрался к одному из задних окон, миновав по пути небольшую одинокую будку — не иначе, отхожее место, — и заглянул внутрь.
Смуглый, плохо выбритый человек в грязном белом халате и колпаке резал огромным сверкающим ножом мясо на деревянной дощечке. Очевидно, это был повар, равно как само здание — харчевня.
Занимавшийся стряпнею выглядел обыкновенно: ни рогов, ни хвоста, ни когтей Бофранк не приметил. Зато кухня наполнена была блестящей посудой, какой Бофранк сроду не видывал, и огонь на плите горел желто-голубой, непривычный.
Побросав мясо — уж не людское ли?! — в огромный котел с ручками, повар ушел, а Бофранк, прокравшись вдоль стены, заглянул в трапезный зал.
Все там было не так. Мебель — столы и скамьи — казалась ненадежной и хлипкой, камина или очага отнюдь не имелось, на полках расставлены были во множестве бутылки самых прихотливых форм и цветов. Странно, подумал Бофранк, коли харчевня стоит в глуши, надо полагать, близ дороги, то и навещает ее люд небогатый — где же тогда дешевое вино в кувшинах и бочонках?
Вблизи музыка грохотала еще громче, и Бофранк подивился, как люди за столиками могут вкушать пищу под такую какофонию. Источника музыки субкомиссар так и не обнаружил: ни одного музыканта, ни механических клавикордов, играющих без человека, в зале не было и в помине. Далее рассматривать убранство странной харчевни Бофранк не стал и поспешил к спутникам, дабы поведать им об увиденном.
— Что ж, стало быть, мы и в самом деле в междумирье, — сказал обреченно Альгиус. — Я, признаться, таил смутную надежду, что мы все там же, где были и раньше, ан нет. Не думаю, что нам стоит посещать сие место. К тому же и язык, и нравы местные нам неведомы. Идемте дальше — я слышу, как за пазухою дрожит и шевелится Колокол, стало быть, мы на верном пути. К тому же — вот, посмотрите.
Альгиус указал на каменный тонкий столб, врытый в землю поодаль. Сверху к столбу привязаны были то ли веревки, то ли куски толстой проволоки, протянутые к харчевне, а на самом столбе прикреплена была табличка с непонятной надписью, но очень ясным изображением — двумя человеческими костями и черепом — черными на белом фоне и окруженными красною рамкою.
— Да, это — знак, — согласился Бофранк, еще раз убеждаясь в том, что место здесь недоброе.
И они заторопились прочь от странной харчевни и от дикой музыки, сшибая по дороге ногами произраставшие там и сям невиданные грибы с ярко-красными шляпками, усыпанными белыми точками.
Спустя несколько часов пути, направление коему выбирал Альгиус, согласуясь с поведением Деревянного Колокола, субкомиссар понял, что попросту упадет, коли сделает еще шаг. Все бы ничего, но дорога вела сквозь чащи и древесные завалы, и пройденное расстояние никак не было сообразным затраченному времени.
— Давайте отдохнем, — согласился с Бофранком Альгиус.
Они сели, привалившись спинами к древесным стволам. Неподалеку журчал ручей, и Жеаль набрал во флягу воды, оказавшейся весьма дурной по вкусу и запаху, словно бы в ней долго мочили ржавое железо, однако выбирать было не из чего, и Бофранк с отвращением сделал несколько глотков.
Стало почти совсем светло, но густой хвойный лес не давал солнечным лучам проникать вниз. Альгиус посетовал:
— Неплохо бы сейчас выйти вон из тех кустов небольшому кабанчику… Вы как знаете, а я с удовольствием перекусил бы, ибо желудок мой встревожен вместе со всем остальным организмом, а от тревоги нет лучше лечения, чем вино и хороший кусок мяса.
Печальный Проктор Жеаль ничего на то не сказал, а субкомиссар заметил, что вокруг столь мокро, что о костре мечтать не приходится, а есть кабанчика в сыром виде ему не хотелось бы.
Так и сидели в молчании; Бофранка снедали мысли по поводу того, что идут они, словно слепцы. В Колокол, что якобы шевелится за пазухою у Альгиуса, субкомиссар не слишком верил, но это был хоть какой-то указатель. Не оставляло Бофранка и ощущение, что злокозненный упырь следит сейчас за ними из укромного места, выжидая, дабы напасть и умертвить одного за другим. В том, что Шарден Клааке ведает об их присутствии в его вотчине, Бофранк никоим образом не сомневался, оттого держал пистолет наготове.
Однако он ничуть не был уверен в том, что пистолет поможет им, появись здесь Люциус Фруде.
ГЛАВА ЧЕТВЕРТАЯ, в которой мы возвращаемся к истории юного Мальтуса Фолькона и к прегадким каменным карликам
Вы — любезные избранники гнева моего Нет никого блаженнее вас, ибо нет никого безрассуднее. Жюль Буа «Бракосочетание сатаны»Сказанное юношей повергло всех присутствующих в оцепенение, ибо мало что могло быть более неожиданным, нежели явление среди ночи в здешней глуши столичного чиновника — да к тому же не сборщика налогов и податей или, к примеру, гражданского фуражира, но представителя Секуративной Палаты.
Первым очнулся кривой рыбак и спросил с некоторым сомнением:
— Но есть ли у хире тому подтверждения, кроме слов?
Юноша порылся в кошеле и продемонстрировал эмалевую бляху, слегка попорченную соленой водой и чуть потрескавшуюся.
— Если угодно, я объясню вам больше, — предложил он, но рыбак лишь поклонился и сказал:
— В сей страшный час вас, должно быть, направил сюда сам господь, хире Фолькон. Вы, верно, сведущи в ратных делах?
— Я всего лишь младший архивариус, и… — Юноша запнулся и покраснел, запоздало осознав, как нелепо прозвучал его ничтожный чин в подобной ситуации, но вряд ли здешние жители разбирались в таких вещах, как секуративные чины, да и румянца на щеках его в свете факелов никто не заметил. Столичный чиновник, оказавшийся в городке столь странным образом, представлялся им спасением от напасти, и рыбак не замедлил попросить о помощи:
— Не изволите ли потрудиться о нас, хире Фолькон? Я чрезвычайно опасаюсь, что к утру число жертв вырастет…
— Что ж, до утра я в любом случае останусь в городе… — заметил юноша в смущении. — Покамест же скажу, что вы уже делаете все не так. Что проку, что вы встречаете путников на дороге? Мнится мне, что надобно сделать вот что… Есть в городе большое здание, где уместились бы все дети и женщины?
— Таких зданий несколько, хире, — закивал рыбак. — Это склады, часть из которых пустует, да еще старый арсенал, построенный в ту пору, когда сюда еще заходили военные корабли. Арсенал сложен из камня и совершенно пуст вот уже сколько лет, с той поры как гавань после сотрясания земли обмелела.
— Отлично! — воскликнул юноша. — Скорее соберите в арсенал всех детей и женщин, а мужчины, у кого есть оружие, пусть соберутся вокруг да внимательно смотрят! Насколько я понял, карлики невелики, но проворны, словно крысы; будем же и бороться с ними, как с крысами. Наготовьте побольше факелов — ночь может оказаться длинной, если вообще закончится…
Последние указания Фолькон отдавал, уже приближаясь к городскому центру, небольшой мощеной площади с часовнею посередине. Как ни странно, он и в самом деле хорошо представлял себе, что нужно делать, хотя происходящее казалось ему неким наваждением. Прочитав, пусть и безо всякой системы, множество книг, Фолькон среди прочих ознакомился и с военными трактатами и теперь полагал уместным применить хоть что-нибудь из знаний на практике.
— Что вы еще знаете о карликах, хире Клеен? — спросил юноша у толстого торговца, семенившего рядом с видом значительным.
— Что они искусны как землекопы и горняки… — отвечал толстяк, явно польщенный неожиданно обнаружившимся знакомством со столь важною персоною, как столичный чиновник-секуратор. — Остальное вам бы спросить у стариков — в них мало кто верил, в карликов-то, а, видать, зря…
Старичок-священник куда-то подевался — очевидно, отправился к своему коллеге, фрате Элингу. Детей и женщин уже собирали в арсенал, крепкое одноэтажное здание без окон и с одними токмо воротами. Фолькон подумал, что еще лучшею защитою было бы посадить их на корабли, ибо вода всяко удержит карликов, но утлые рыбацкие лодки мало подходили для такой цели, да и море стало неспокойным.
Горожане тем временем вооружались. Распоряжаясь через кривого рыбака — а звали его Реенсакер, и был он старшиною рыбацкой артели, — Фолькон велел не брать луков и арбалетов, но отдавать предпочтение топорам, мечам и простым дубинам, ибо небольшое и юркое существо куда проще поразить обычною палкою, нежели арбалетным болтом или стрелою. Для себя он выбрал довольно сносную шпагу — скорее для солидности и привычки ради, нежели как серьезное оружие противу зловредных карликов, — а также топор на длинной рукояти, вроде как у алебарды, но чуть покороче.
Время подошло к полуночи, а карлики никак себя не проявляли. Фолькон как раз отдавал должное горшку овощного супу, когда к нему привели древнего старика, поведавшего, что в молодости он не раз видел каменных карликов в горах и даже прикончил одного; по словам старца выходило, что карлики пребольно кусаются, а помимо того вооружены копьями и мечами, иного же оружия не знают. Хотя, добавил старик, кто знает, что они могли выдумать за прошедшие годы в своих подземных обиталищах.
— Что же заставило их, столько лет не казавших виду, выйти на поверхность и напасть на людей? — спросил в недоумении Фолькон.
— Кто ж их знает, хире, — прошамкал старик. — Не иначе, почуяли какую напасть… Солнце небось тоже неспроста пропало, а, хире? Сколько живу, такого не помню…
Тут юноше припомнились три розы, нетопырь и долгоносик, Третья Книга Марцина Фруде и слова: «А кто поймет, тот восплачет, ибо ничего сделать нельзя». Дорого дал бы Мальтус Фолькон, чтобы сейчас оказаться рядом с субкомиссаром Бофранком, но дело обстояло так, что юноша давно уже не ведал, что происходит в столице. Внезапно ему стало ясно, что и набежавшая столь не вовремя тьма, и появление карликов могут быть напрямую связаны с историей, которую он безуспешно тщился понять вот уже столько времени, с историей, главным участником коей был Хаиме Бофранк.
Однако судьбе было угодно, чтобы нынешняя ночь сделала Мальтуса Фолькона единственной надеждой добрых двух сотен горожан, которым объяснять про Фруде и мрачные пророчества было нельзя, да и не к чему.
Оставалось ждать. Кстати вспомнились и строки стихов, читанных бог весть когда:
Что с нами произойдет вскоре, в этом году? Зловещих дел чехарду принес с собой этот год. Судьба, что ни день, нам шлет новых угроз череду. Что с нами произойдет вскоре, в этом году? Пусть явится то, что нас ждет! Очнуться в раю иль в аду написано мне на роду? Новое небо грядет. Что с нами произойдет?Тяжело вздохнув, юноша прислонил к стене свое оружие и подумал, что не ведает, какова судьба друзей его, уцелели ли они в морском крушении и чем они заняты в сей момент; кто знает, может быть, им приходится куда как несладко и все его треволнения суть прах в сравнении с выпавшими на их долю!
Наверное, пришло время рассказать немного о злоключениях, выпавших на долю юного Мальтуса Фолькона прежде, чем мы обнаружили его во влекомой осликами повозке на морском побережье.
Когда буря с ужасной силою набросилась на суденышко, на коем с острова Брос-де-Эльде бежали наши герои, юноша упустил из рук весло, тотчас канувшее в пучину вод. Смытый бочонок с водою ударил его по голове, отчего Мальтус Фолькон, слегка оглушенный, рухнул на днище и лежал там в полузабытьи, уставясь в почти черное небо, кое раздирали вспышки молний…
— Смотрите! — услыхал он вопль монаха и тотчас узрел, как на лодку катится новая волна — она казалась высотою с Фиолетовый Дом, — вспенившаяся и грозная. Чудовищный удар подбросил лодку едва ли не к самым небесам, юноша не успел уцепиться ни за какую снасть и высоко взлетел над бушующей морской поверхностью. Ясно увидел он под собою разламываемую волнами лодку, своих спутников, яркий росчерк молнии… Обыкновенно такое изображают на гравюрах, посвященных кораблекрушениям и ужасам морских плаваний, но юноша недолго мог созерцать открывшуюся панораму, ибо обрушился в воду, вследствие высоты падения уйдя на изрядную глубину, и забарахтался там с одною лишь мыслью — скорее всплыть наверх и сделать хотя бы глоток воздуха.
Юный Фолькон вовсе не умел плавать и был немало удивлен, когда обнаружил в себе некоторую способность к данному способу передвижения. По крайней мере, утонуть он не утонул, а когда наконец вынырнул, то не обнаружил ни лодки, ни своих несчастных товарищей. Тщетно кричал он и звал, тщетно метался туда и сюда, борясь с волнами, — никто не отозвался, никого не было видно. Однако юноша не спешил зачислять друзей в погибшие, здраво рассудив, что их могло разнести течением достаточно далеко в разные стороны и, вполне вероятно, все они благополучно доберутся до берега, ежели таковой есть неподалеку.
С превеликим трудом Фолькон освободился от тяжелой одежды, оставив на себе лишь то, что обеспечило бы минимум приличий, появись он на берегу в присутствии людей, — а именно тонкое шелковое белье и пояс, в клапане которого он хранил свою бляху чиновника Секуративной Палаты. Он по-прежнему держался на плаву, колотя руками, как это делают брошенные в воду собаки, но неумение плавать сказывалось, да и силы его были почти на исходе.
Спас юношу, как ни странно, давешний бочонок с водою, столь подлым образом ударивший его по голове. Он выскочил из пучины, словно большой поплавок; воды в нем было не столь много, чтобы бочонок затонул, содержавшийся внутри воздух обеспечивал отличную плавучесть, и Фолькон с радостью вцепился в кожаные ремни, оплетавшие бочонок поверх кованых обручей.
Теперь юноша мог отдохнуть и оценить свое положение. Особенно подбодрило его то, что в бочонке имелся некоторый запас питьевой воды: Фолькону было ведомо, что от жажды человек гибнет не в пример скорее, нежели от голода.
Направления, в котором находится берег, Фолькон не ведал и счел за благо дождаться окончания бури, заметно к тому времени ослабевшей, дабы на спокойной воде осмотреться. Он помнил, как над лодкою появилась стая птиц и как Альгиус сказал, что это означает приближение суши. Какова же была радость юноши, когда небо просветлело, выглянуло солнце и совсем недалеко он увидал изломанные скальные вершины, корявые деревья, приникшие к ним, и — о чудо! — небольшую парусную лодку, шедшую вдоль берега.
Фолькон принялся вопить что было сил и спустя некоторое время уже сидел на куче мокрых сетей, а двое рыбаков угощали его прескверным вином и спрашивали, как достойный хире оказался средь морских волн. Юноша поведал, что был смыт волною с почтового судна, — сия ложь, рассудил он, никому не помеха и не грех, рассказывать же истинное положение дел простым рыбакам вряд ли стоило. В ответ спасители Фолькона сказали, что высадят его в Гахе, деревушке к северо-западу от мыса Гильферд. Кто знает, плыви они в иное место — к примеру, в Кельфсваме, — не встретился ли бы тогда юноша с Бофранком и Альгиусом Дивором? Однако все сложилось так, как сложилось, к тому ж в Гахе Фолькона свалила неожиданная лихорадка, и, промаявшись ею много дней, немного окрепнув после и отдохнув, только тогда Мальтус отправился домой на повозке доброго фрате Стее, запряженной двумя неторопливыми осликами.
Что случилось дальше — то нам уже ведомо.
Что же случится потом — не ведает никто.
ГЛАВА ПЯТАЯ, в которой жилище Хаиме Бофранка, покамест хозяина нет дома, наполняется все новыми и новыми людьми, к тому ж не отличающимися особым меж собою дружелюбием
Поскольку здравый смысл всегда заставлял меня подозревать изрядную пустоту во всем том, что они именуют тайными науками, я никогда не отваживался заглядывать в подобные книги.
Монфокон де Вийяр «Граф Габалис или Нелепые тайны каббалистов и розенкрейцеров»Хире Базилиус Кнерц, принципиал-ритор в отставке, сидел в уютной, хотя и маленькой кухне хозяйки Бофранка и кушал отменную яичницу с жареной морковью, зеленью и пряностями, запивая ее легким белым вином.
Сама хозяйка, забившись в уголок, взирала на старичка со смесью почтения и боязни, однако же усердно отвечала на его многочисленные вопросы. Гостя между тем интересовало абсолютно все рыночные цены на соль и пряности, часто ли бывал этим летом в здешних местах дождь и часто ли град, какой высоты будут строить колокольню при храме Святого Пикара, продают ли еще рыбаки в своих рядах рыбу-молнию и по какой цене, хороший ли человек нынешний государственный казначей (на сей крамольный вопрос хозяйка убоялась отвечать вовсе, но Кнерц, казалось, и не дожидался ответа, рассуждая скорее сам с собою и заключив свои рассуждения выводом, что казначей, верно, дурной человек) и, наконец, в добром ли здравии был господин Бофранк перед тем, как пропал невесть куда нынешней бесконечной ночью.
— Хире Бофранк был в здравии добром и в последний день собирался на свадьбу хире Жеаля, своего приятеля… — отвечала хозяйка. — До того и в самом деле хворал, и преизрядно, но все обошлось.
— Хире Жеаля, вы говорите? — переспросил старичок. — А где живет сей приятель хире Бофранка?
Хозяйка уже взялась было объяснять, хотя имела об этом самое отдаленное представление, но тут в дверь как раз постучали.
Кнерц насторожился, отложил вилку и взял свою смертоносную тросточку.
— Вы ждете кого-то? — спросил он.
— Может быть, это хире Бофранк вернулся?
— Может, и так. Пойдемте же посмотрим, но осторожнее, милая хириэль, осторожнее…
Однако это был не Бофранк. На ступенях стояли двое, и хозяйка приподняла светильник, чтобы получше разглядеть их.
— Вы, верно, ошиблись домом? — спросил Кнерц довольно грубо.
— Нет, если здесь живет хире Бофранк.
— Его нет, — сказал Кнерц, собираясь закрыть дверь, но один из прибывших — молодой человек вида вполне приличного и вызывающего доверие — остановил его словами:
— Я знаю вас, хире Кнерц. А вы, верно, знаете меня.
— Не уверен, — объявил старичок в некотором, впрочем, сомнении.
— Меня зовут Рос Патс, супруг Гаусберты Патс.
— О! — воскликнул старик. — Прошу меня простить, хире Патс… В самом деле, теперь я припоминаю… я видел вас мельком, потому прошу простить… Но кто это с вами?
— Сейчас ты это увидишь, раздуватель мехов, не то, боюсь, ненароком проткнешь меня своим кривым вертелом, — прошамкал ехидный голос, и второй из прибывших, доселе скрывавший лицо под капюшоном чересчур теплого для нынешней погоды плаща, явил его собравшимся.
Вид его был мерзок и никак не сочетался ни с благообразным Кнерцем, ни с достойным молодым человеком. Грязные космы, омерзительный беззубый рот, источавший слюну, стекавшую по сальной бороде, гноящиеся глазки… к тому же веяло от старого страхолюда козлиным духом, словно он спал в стойле на скотном дворе.
Но Кнерц узнал и его.
— Бальдунг, — пробормотал он, убирая трость за спину. — Не чаял увидеть тебя здесь.
— Кто эти люди, хире Кнерц? — спросила растерянная хозяйка у единственного из присутствовавших, кто внушал ей доверие хотя бы тем, что желал спасти от страшного мертвеца.
— Друзья хире Бофранка. И я полагаю, лучше будет впустить их.
В коридоре Рос Патс наткнулся на тело покойного слуги Бофранка и спросил, морщась:
— Что это?
— Незваный гость, — сказал Кнерц. — Ходячий покойник, поджидавший нас в комнате хире Бофранка. А если учесть, что я, покуда добрался, видел на улице еще четверых, все ведет к одному: пророчество исполняется. Сам же хире Бофранк отсутствует. Как сказала милая хириэль, рано утром он ушел куда-то с друзьями. Знать бы, куда и с кем…
— Проходите уж в комнату хире Бофранка, коли так, — вздохнув, сказала хозяйка. — Ежели что, я буду на кухне…
— Принесите немного вина и что-нибудь из еды, хириэль, — попросил Патс. — Я вам заплачу.
На столе в комнате Бофранка появились вино, сыр, ветчина и соленые овощи, после чего хозяйка удалилась, а Рос Патс спросил:
— Насколько я понимаю, вы знаете друг друга?
— Некоторым образом, — буркнул Кнерц. — Но когда ваша супруга, хире Патс, просила меня приехать сюда, она не упоминала о возможности лицезреть хире Бальдунга. Только некоторые обязательства, кои имею я перед дражайшим отцом хириэль Гаусберты, толкнули меня на это опаснейшее и, не сомневаюсь, бессмысленное путешествие из Гвальве.
— Вот ведь! — каркнул нюклиет, размазывая прямо пальцами мягкий сыр по куску хлеба. — Давненько никто не называл меня «хире», и от кого я слышу это? От дряхлого раздувателя мехов, который всю жизнь тщится превратить камни и песок в рубины и злато.
— Вы алхимик? — удивленно спросил Патс. — Я полагал, вы ученый…
— И вы туда же! — обиделся старичок. — Алхимик, таким образом, нисколько не ученый? Извольте, а кто же тогда этот вонючий окорок, что сидит рядом с вами, набивая пасть едою? Или его бессмысленные причитания, рассчитанные на наивных глупцов, кажутся вам наукою? У алхимика же, коли вам неведомо, есть свой кодекс, каковой мы исправно соблюдаем.
— Алхимик должен быть молчалив и осторожен? — хихикнув, спросил Бальдунг.
— Именно так, мой дурнопахнущий друг! Он не должен никому открывать результатов своих операций. Ему следует жить в уединении, вдали от людей. Пусть в его доме будут две или три комнаты, предназначенные только для работы. Ему следует выбирать правильный час для своих операций. Он должен быть терпелив и настойчив. Пусть он действует в согласии с правилами: тритурация — растирание в порошок, сублимация — возгонка, фиксация — закрепление, кальцинация — прокаливание, дистилляция — перегонка и коагуляция — сгущение. Пусть использует он только стеклянные сосуды или глазурованную глиняную посуду. Он должен быть достаточно богат, чтобы покрывать расходы на такую работу. И, наконец, да избегает он всяких сношений с князьями и правителями.
Произнося это, старичок даже привстал с кресла; закончив речь, он гордо осмотрелся по сторонам и не без важности сел, негодующе пыхтя и отдуваясь.
— Слова, слова… — сказал нюклиет, громко чавкая. — Коагуляция и тритурация… «Алхимик не должен никому открывать результатов» — что еще тут сказать? Вы вот покажите мне результаты, ежели вам есть что показать, — вот как скажу я и тебе, Кнерц, и Шлику, и коротышке Палдрусу, коего вы так почитаете невесть за что… Где золото ваше? Где эфирное летание? Где хоть одно достижение, что можно подержать в руках? Ничего нет, кроме ваших безумных трактатов?
— Истинные алхимики не гонятся за мирскими богатствами и почестями. Их настоящая цель — привести человека к совершенству или, по меньшей мере, облагородить его, — с гордостию сказал Кнерц.
— Оставим спор, а то ты зачитаешь нам еще один кодекс или катехизис. Скажи лучше, кого ты видел, когда шел сюда?
— Четверых покойников, кои отнюдь не лежали в своих гробах, как то велено природою и господом, а шастали по темным переулкам, — с неохотою отвечал алхимик. — Здесь я обнаружил еще одного; не удивлюсь, если на улицах их уже десятки и сотни, ибо солнце так и не взошло, а им, как известно, только этого и надо.
— Когда мы ехали сюда, то видели, как горят дома в предместьях, — сказал Патс. — Бог весть, что там происходит. Я страшусь даже подумать об этом: женщины, дети… А ведь это только начало! Странно, что я не вижу армии, гардов…
— Я подозреваю, что этот ваш Бофранк что-то предпринимает, — добавил нюклиет. — И если, как я и думаю, он раздобыл Деревянный Колокол, еще не известно, чем все это кончится. Хотя и мертвецы, и другие напасти назад не завернешь ни при каком исходе…
— Разве, уничтожив Клааке или Фруде, они не остановят проклятия? — ужаснулся Патс.
— Нет — и я надеялся, что ваша благоразумная супруга разъяснила вам это, — сварливо сказал Бальдунг. — Но нам нужно думать о другом… Жаль, что мы опоздали. Застань мы их всех здесь, было бы куда проще.
— Может быть, они еще вернутся? — предположил Патс.
— Постойте! — сказал Кнерц. — Милая хириэль хозяйка сказала, что хире Бофранк навещал своего друга… как бишь его? Жеаль? Не навестить ли и нам его?
— Дайте только мне доесть, ибо никогда не ведаешь, когда еще придется сесть за стол, — буркнул нюклиет, зачавкал пуще прежнего и налил себе вина.
Верно, именно его описал в свое время поэт:
Портрет его есть истина, не ложь. Таким его содеяла природа. А кушанья ему не напасешь. Кто видывал подобного урода?По крайней мере, именно эти строки повторял про себя принципиал-ритор в отставке Базилиус Кнерц, созерцая гадкого старца.
ГЛАВА ШЕСТАЯ, повествующая о том, как Хаиме Бофранк и его спутники находят-таки логово упыря, и о ловушке, что их там ожидает
Они именуют себя мудрецами, но сами падают в ямы, которые роют для других.
Луи ФигьеЕще мальчишкою Хаиме Бофранк слышал истории про лесной народец, который, коли вздумает подшутить над человеком, заставит его бессмысленно бродить по кругу. Субкомиссар вспомнил об этом, когда Альгиус, внимательно оглядывая поваленное дерево, сказал в раздумье:
— Кажется мне, мы уж были на сем месте… Верно! Вот и пенек, за коим я справил нужду, а вот и… э-э… бренные доказательства сего. Пожалуй, мы ходим по кругу.
— Что делает господь, если есть он в этом мире? — спросил Проктор Жеаль, словно бы не слушая сетований толкователя, в усталости присевшего у пенька.
— Полагаю, господь тут вовсе иной, нежели у нас, — отвечал Бофранк, — коли он вообще здесь имеется. Насколько я понял — поправьте меня, хире Дивор, если это не так, — сей мир живет по особым законам, ибо это вовсе и не мир как таковой, а так, междумирье.
— Вы правы, хире Бофранк, — согласился Альгиус. — Однако точно сказать не может никто, и тем паче я.
— Иногда думаю я — а не сошли ли мы все с ума? — с печалью спросил Бофранк, словно бы сам у себя. — Ученым ведома таковая разновидность помешательства, когда человек видит то, что невидимо другим. Сидим ли мы здесь под деревьями или же влачим жалкое существование в приюте для душевнобольных, а вся история вокруг — лишь порождение наших больных умов, сговорившихся между собою неведомым образом?
— Безумие начинается там, где замутняется или затемняется отношение человека к истине, — сказал Проктор Жеаль. — Это свидетельство равноденствия, наступившего в отношениях между тщетой ночных фантазмов и небытием суждений дневного света. Однако установить безумие как факт и выделить его из других фактов под силу не столько медицинской науке, сколько сознанию, болезненно восприимчивому к нарушению норм. Именно поэтому преимущество при вынесении вердикта о безумии имеют даже не представители государственной власти, а представители церкви.
— Вопрос в том, когда именно началось сие безумие, — с готовностью поддержал беседу Альгиус. — Коли грейсфрате Баффельт ничего дурного не сказал хире Бофранку о его деяниях, стало быть, как представитель церкви он никакого вердикта не вынес. Однако ж нам не ведомо — а ну как сам грейсфрате часть сего бреда?
— Того не ведаю, но есть у безумия и положительное свойство: оно с его звериной свирепостью предохраняет человека от грозящих ему болезней, благодаря безумию он достигает неуязвимости, сходной с той, какой природа со свойственной ей предусмотрительностью наделила животных. Помешательство в рассудке, возвращая безумца к животному состоянию, тем самым непосредственно вверяет его доброте природы, — продолжал Жеаль.
— И неплохо бы, кабы так, но твои слова, Проктор Жеаль, значили бы нечто, если бы ты точно был не часть бреда, что вокруг нас. А ну как ты, как и грейсфрате, тоже фантом?
— Беседа ваша как нельзя более успокоительна и оптимистична, — в раздражении заметил Бофранк, вставая. — Я всего лишь помыслил вслух, посетовал, а вы уж поспешили устроить философический спор!
— Все так, хире Бофранк, но… Ах, черт меня раздери и всунь мне в зад горящую свечку!
Последние слова толкователь сновидений буквально прокричал, подскочив с места, на коем сидел. С воплями Альгиус принялся ударять себя ладонью по лбу, именуя ослом, козлом, прожившей ум старухою, обезьянином и много кем еще. Спутники некоторое время глядели на него в преизрядном изумлении, после чего Бофранк спросил:
— Что с вами, хире Дивор? Не рехнулись ли вы ненароком? Или сие столь своеобразные муки голода?
— Глуп я, глуп, хире Бофранк, — отвечал Альгиус, скорчив прегадкую рожу. — Верно, лучше всего бы дать мне себе самому хорошего пинка под зад, но поскольку я сего не могу исполнить, не сделаете ли вы мне такое одолжение? Нет? Печально… А вы, хире Жеаль? Как, тоже? В таком случае я попробую сделать это сам, и да поможет мне господь, если он сейчас не занят и не спит.
Сказав так, Альгиус подскочил особенно диким образом, пытаясь пяткою ударить себя в область седалища, но не слишком в сем преуспел и упал в листья.
— Недурно было бы объяснить, что все-таки происходит, — пробормотал Проктор Жеаль, взирая на происходящее с превеликим недоумением. — Покамест мне кажется, что наш спутник рехнулся; не связать ли его, Хаиме?
— Помните, я сказал вам, что за пазухою у меня дрожит и шевелится Деревянный Колокол, стало быть, мы на верном пути?
— Помним, — кивнул субкомиссар, не понимая, к чему клонит Альгиус.
— Дурак я, дурак! — воскликнул толкователь и дал себе очередного тумака. — Почтенный Аккамус недаром говорил, что самое очевидное решение вопроса и есть самое верное.
— …Под именем «бог» теолог понимает бесконечное существо, превосходящее бесконечное множество различных видов вещей; если они существуют одновременно, то оно превосходит всех их, взятых не только в отдельности, но и вместе, — задумчиво сказал Бофранк.
— Что-что? — изумленно воззрился на него Альгиус.
— Покойный Броньолус цитировал мне Аккамуса — правда, не знаю уж, с какой целью, да я и не понял почти что ничего… Однако ж я отвлекся. Что вы хотели нам поведать?
— Да то, что мы с каждым шагом все более удаляемся от логова гнусного упыря и идем совсем уж невесть куда! Помните зловонный овраг, в который я столь неудачно провалился? А теперь рассудите: к чему Клааке пожирать жертвы в одном месте, а обитать вовсе в другом?! Да еще столь далеко от его дверей в наш мир! И после этого я ли не дурак?! Я ли не осел?!
— Но Колокол… — начал было Жеаль, но Альгиус прервал его, визгливо вскричав:
— Колокол?! Колокол лишь предупреждал меня, что мы отдаляемся от места поисков наших! А я-то, скудный умишком, мнил, что колебания его суть знак приближения к упырю… Поторопимся: надобно еще найти обратную дорогу. А ежели мы ее не найдем, прошу вас, мудрые и почтенные хире, прибейте меня хорошенько!
Но обратную дорогу нашли без особенного труда, так что хорошенько прибивать Альгиуса не пришлось. Миновали странную харчевню, из которой все так же доносилась бесовская музыка; затем подошли к оврагу, непереносимое зловоние которого чувствовалось уже издалека.
— Неужто придется лезть туда? — в ужасе спросил Бофранк.
— Это ли самое гадкое, что вам приходилось делать в жизни? — поднял брови Альгиус. Субкомиссар промолчал, хотя ничего столь же гадкого и в самом деле припомнить не сумел.
Они разворошили листву и хворост, прикрывавшие овраг, и обнаружили довольно широкое отверстие вроде норы, уходившее, казалось, в самую глубь земли.
— Пусть у меня на лбу вырастет ослиный уд, если это не обиталище нашего доброго приятеля, — пробормотал Альгиус. — Если это искупит мою глупость, я готов полезть первым.
— Что нам с того, — проворчал субкомиссар, прикрывая лицо платком, — мы-то будем вдыхать тот же самый воздух… Но что если Клааке там нет?
— Тогда мы подождем его внутри. Думаю, там пещера или что-то подобное, ведь упырь не настолько уж мал.
— А не дождаться ли его здесь, снаружи? — предложил Жеаль.
— В этом есть смысл, — согласился Бофранк. — Что если мы поступим так: вы спуститесь внутрь, а Проктор будет ждать тут, таким образом мы сможем напасть на Клааке с двух сторон одновременно.
— Все бы хорошо, да вот только мы не знаем, где упырь. А ну как он все же внутри? — возразил Альгиус, передавая Жеалю на сохранение Деревянный Колокол, дабы не попортить в подземных поползновениях своих. — Боюсь, что один я с ним не справлюсь… Но если вы настаиваете…
— Нет-нет, вы тоже правы, — поспешил заверить его Бофранк. — Что ж, поступим так: мы с вами спустимся в эту омерзительную дыру, а ты, милый Жеаль, жди здесь. Ежели услышишь пальбу или крики, действуй по своему разумению; если же внутри и в самом деле пусто, мы вернемся и подождем нечисть, укрывшись в кустах.
Сказав так, субкомиссар оборотился к толкователю, но успел увидеть лишь его ноги, исчезавшие во мрачной и зловонной тьме, и поспешил вослед.
Земляной коридор был шириною с бочку наподобие тех, в которых жители Дьеле и Сольмы солят морских раков и зеленую рыбу для продажи. Там и сям свисали коренья, осыпались струйки земли, и субкомиссар более всего опасался, что лаз, не снабженный ни крепями, ни упорами, обрушится над ними и похоронит заживо. Впереди пыхтел Альгиус, который, вопреки просьбам Бофранка, наотрез отказался зажигать факел, сказав, что, пока ход прямой и без ответвлений, заблудиться им негде, а смотреть тут вроде как и не на что.
— Хире Дивор! — окликнул его Бофранк в очередной раз.
— Что вам?
— Как вы полагаете, сей лаз прорыл сам Клааке?
— В сие мне мало верится… Скорее я сказал бы, что это огромная кротовая нора, вот только не могу представить я того крота, что ее вырыл.
Нельзя сказать, что данные слова как-то успокоили Бофранка. С отвращением сплюнув набившуюся в рот земляную пыль, он еще живее заработал локтями и коленями и тотчас уткнулся лбом в подошвы башмаков толкователя сновидений.
— Постойте, хире Бофранк! — сказал Альгиус. — Кажется, ход обрывается; сейчас я попробую осмотреться.
Впереди наконец вспыхнул факел, но Бофранк по-прежнему почти ничего не видел, к тому же лаз наполнился едким дымом, вызывавшим обильное слезотечение.
— Что там?! — крикнул субкомиссар.
— Ползите за мною смело — здесь что-то вроде комнаты!
И в самом деле, это оказалась комната. Квадратная, без окон, со стенами, с большим тщанием выложенными из дикого камня так, что меж валунами не было ни щели.
В углу Бофранк увидел ложе из набросанных как попало тряпок, в которых узнал детали одежды — от дамского белья до детских чепчиков и прожженных огнем горнила фартуков мастеровых. Вероятно, упырь собирал свою постель из одежды жертв. Близ ложа валялись обглоданные кости и лежала стопка книг, хотя никакого подобия светильника Бофранк не обнаружил — наверное, упырь мог видеть в темноте безо всякого освещения.
Альгиус тем временем просмотрел книги и заметил:
— Наш приятель не дурак почитать! Как кстати: здесь есть несколько интересных томов, не забыть бы забрать их с собою, как будем уходить.
— Да-да, поспешим наружу! — воскликнул субкомиссар, в волнении озираясь. Душный зловонный воздух подземного обиталища Клааке давил ему на грудь, а стоявшая вокруг тишина, нарушаемая лишь потрескиванием факела, усиливала это давление. Но как только Бофранк шагнул к черневшему в стене отверстию лаза, дабы поскорее воротиться к ожидавшему их на краю оврага Проктору Жеалю, что-то загрохотало, заскрипело и обратный путь заступила решетка из толстых железных прутьев, покрытых ржавчиною: буро-красной, словно засохшая кровь.
ГЛАВА СЕДЬМАЯ, в которой в жилище субкомиссара прибывает еще один гость, хотя куда уж еще, а остальные тем временем совершают путешествие по ночному городу в поисках Хаиме Бофранка
То была ночь с ее мраком, то были тень и тишина.
Дени Дидро «Племянник Рамо»Хозяйка, как могла, объяснила, где находится дом Проктора Жеаля, и пообещала отворять двери лишь в том случае, если Кнерц — ему она до сих пор доверяла более остальных — постучит по-особому, для чего отвела его в сторонку и показала, как именно требуется стучать.
Старичок-алхимик уверил ее, что так и поступит, после чего троица отправилась к Жеалю пешком. Нанять экипаж не стоило и надеяться — улицы были пустынны, лишь в отдалении, в северной части города, слышны были чьи-то беспорядочные крики, да кто-то пробежал сломя голову по мостовой чуть впереди.
— Долго ли еще будет тьма? — спросил Кнерц. — Ведь не навсегда же она.
— В пророчестве сказано, что будут «три дня и три ночи как ночь едина». Стало быть, обождем, а там, может, и рассветет, — сказал Рос Патс.
Еще не так давно город проснулся, как и всегда, но утра не обнаружил; многие занялись привычным ремеслом, полагая, что сие есть неприятный, но не опасный природный катаклизм наподобие солнечного затмения, другие легли спать, рассудив, что как наступит утро, тут и время работать… Но когда начали происходить вещи страшные и непонятные, когда разлагающиеся тела поползли из трупохранилища у реки, когда на крюках у мясников задергались свиные туши и страшно вскричал разрезываемый мертвец под ножом у адъюнкта в анатомическом театре, все бросились спасаться, стремясь укрыться в своих жилищах и не показываться более, пока мир не примет привычного вида.
Посему безлюдные улицы не удивили наших путников, пускай и не знавших в деталях всех предшествующих событий. Противу ожидания, никто не бросался на них из темных подворотен, да и мертвец встретился лишь один: он полз через дорогу, судорожно кривляясь и дергаясь. Патс хотел было ударить его выдернутой из забора палкою, но Бальдунг велел не отвлекаться, сказав, что мертвец довольно безобиден и не стоит тратить на него времени.
Что вызывало куда большее удивление, так это количество кошек. Зверьки эти появлялись отовсюду, восседали на заборах, на ветвях деревьев, выглядывали из-под оставленных у парапета набережной повозок, пробегали туда-сюда с видом столь деловитым, что не сыщешь у иного судейского. Старичок Кнерц отметил это, однако нюклиет не сказал в ответ ничего, а молодой Патс лишь улыбнулся.
— Кошка — животное скорее дружественное, нежели вредное, — сказал он.
— Позвольте, но не кошка ли всегда была верным спутником и соратником дьявола? — возразил Кнерц с видом знатока.
— Тогда как объясните вы сие? — спросил молодой человек, указывая на мертвеца, что, шатаясь, выбрел из темного проулка. Что это именно мертвец, было видно сразу — тело истлело так, что челюсть вовсе отпала, а волосы и кожа с лица слезли и висели безобразными клочьями. Но привлекло внимание Патса вовсе не это, а с полдюжины кошек, увлеченно набросившихся на нежить и терзавших ее со всех сторон. Мертвец никак не реагировал на их укусы и когти, но кошки не оставляли своего занятия, более того, все больше их набрасывалось на страшилище, пока наконец своим весом они не повалили его наземь.
Алхимик ничего не ответил, к тому же совсем скоро они добрались до дома Проктора Жеаля. Стучать в двери и дергать шнурок звонка пришлось, напротив, довольно долго, пока не появился сонный слуга и не сказал, что младшего хире Жеаля дома нет, а старший почивает, ибо чрезвычайно немощен после страшной смерти возлюбленной своего сына.
Сия история оказалась неизвестной прибывшим, и слуга, получив несколько монет, тут же поведал ее самым красочным образом, заламывая притом руки и делая жуткие глаза. Когда же дверь закрылась, опечаленный Патс промолвил:
— Кажется, мне ведомо, куда они отправились. После описанных событий…
— Куда же? — спросил Кнерц.
— Нет-нет… еще рано об этом. Лучше всего нам вернуться домой к хире Бофранку и ждать.
— Чего?
— Возвращения этого вашего Бофранка, чего же еще, — сварливо произнес Бальдунг. — Если он вернется и если он не наделал глупостей. Похоже, пророчество-то оказалось правильным! Люциус Фруде — или Марцин Фруде, как кому угодно, — не обманывал, когда говорил, что его вера единственно истинная. Где же бог, хотел бы я знать? Где епископы?
— Оставим этот спор, ибо он бесполезен, — оборвал нюклиета Рос Патс. — Хочу сказать об ином: не кажется ли вам, что зловещее пророчество о мертвецах, кои восстанут, оказалось на деле не таким уж страшным? Я вижу, что восстают лишь те мертвецы, что не были захоронены; прочие же, вполне возможно, ворочаются и бьются в своих гробах и склепах, но выбраться наружу просто не могут, да и как может двигаться скелет, не облеченный мышечной плотью? Не будем оставлять надежды, что и другие пророчества Люциуса окажутся не столь устрашающими. В противном случае нам ничего не поделать, даже коли вернется хире Бофранк со своим Колоколом.
— Может быть, пришло время обратиться к грейсфрате Баффельту? — робко спросил Базилиус Кнерц, ковыряя тросточкою мостовую.
Старичок выглядел несколько напуганным и растерянным, к тому же встреча с нюклиетом Бальдунгом отнюдь не добавила ему уверенности в себе. К сожалению, молодой Патс не имел понятия о том, что Бальдунг и Кнерц знавали друг друга в былые времена и, как выяснилось, были даже непримиримыми противниками. Тем не менее поправить он ничего не мог и оставалось лишь не давать старикам ссориться да спорить по мелочам, не имеющим отношения к печальным событиям реальности.
— К Баффельту обращаться мы не станем уже хотя бы потому, что грейсфрате недосягаем. Он не хуже нас знает, что несет пророчество Третьей Книги, и посему мог спрятаться в одном из наиболее укрепленных монастырей, а мог покинуть столицу морем или сушею, — пояснил молодой человек. — Меня куда более волнует отсутствие патрулей и бездействие армии. Пресветлый король давно должен был вывести их на улицы для обеспечения порядка и спокойствия… Да и горожан не видно — попрятались, наверное, по домам и молятся в ожидании конца света.
Словно опровергая слова Патса, послышался цокот копыт и мимо проскакал небольшой отряд конных латников, настроенных, судя по воздетым пикам, весьма решительно.
— Вот видите, все налаживается, — сказал с облегчением Кнерц.
— Кто пригодился бы нам, так это старый Фог, — пробормотал нюклиет, не обратив внимания на слова старичка принципиал-ритора. — Да и ваша супруга пришлась бы ко времени, молодой хире. Лучше бы держаться нам вместе; кто знает, что случится через миг.
— Гаусберта прибудет сюда очень скоро, — сказал Патс. — Я надеюсь, она уже завершила расшифровку некоторых трудов, что я привез ей; как только все станет ясно, она приедет к хире Бофранку, посему лучше всего нам ожидать ее там.
Молодой человек не мог знать, что, едва они отошли от дома Хаиме Бофранка, как к нему подъехала небольшая крытая повозка, запряженная одной лошадью. Из повозки выбрался тучный человек в одежде священника и постучал в двери посохом.
Хозяйка, которая ожидала условного стука, назначенного стареньким принципиал-ритором в отставке, отворять не стала, но выглянула в окно второго этажа, осветив вновь прибывшего лампою.
— Хириэль! — воскликнул священник, заметив ее толстое лицо. — Скажите, это ли дом, в котором проживает хире Бофранк, чиновник Секуративной Палаты?
— Да, фрате, вы правильно приехали, — отвечала хозяйка, которая успокоилась, увидев священнослужителя. — Но хире Бофранка нет дома!
— Могу ли я обождать его? — спросил священник, едва удерживая лошадь, выказывавшую немалое беспокойство. — Дело в том, что я — родной брат хире Бофранка, аббат Тристан Бофранк!
— Кажется, хире Бофранк рассказывал о вас, фрате, — сказала хозяйка. — Обождите, я спущусь и открою дверь. Лошадь привяжите к коновязи у крыльца.
Тристан Бофранк только было собрался это сделать, как животное встало на дыбы, вырвало у него вожжи и рвануло прочь, увлекая за собой грохочущую повозку. Махнув рукою, священник дождался, когда хозяйка откроет дверь, и вошел внутрь.
— Где же ваша лошадь, фрате? — в изумлении спросила хозяйка.
— Испугалась и ускакала вместе с повозкою.
— Неудивительно — видите, что творится у нас в столице? Как же вам теперь найти ее?
— Оставим это, — махнул рукою Тристан. — Думаю, привяжи я лошадь к коновязи, она была бы в меньшей безопасности, нежели предоставленная самой себе.
— И то верно; однако ж вы, верно, издалека; скажите, то же самое происходит и у вас?
— Боюсь опечалить вас, хириэль, но кажется мне, что весь мир погрузился во мрак, и сие есть кара господня за неразумные деяния наши, — скорбным тоном отвечал Тристан Бофранк. — Могу ли войти я в комнату брата моего, дабы дождаться его там?
— Вот ведь… — сказала хозяйка, освещая ему путь. — Уже несколько человек спрашивали сегодня хире Бофранка! Вы, коли не ошибаюсь, будете четвертый.
— Кто же еще искал брата? — спросил аббат, стараясь не выказать особенного любопытства. Но хозяйка, и не дожидаясь вопроса, тут же поведала:
— Вначале пришел старичок — весьма милый, учтивый, прилично воспитанный. Затем — сразу двое: молодой человек, который мне также показался очень приятным и образованным, а с ним мерзкий старик, грязный и страшный, коего я не пустила бы в дом, не будь с ним достойного провожатого; коли вы хорошенько принюхаетесь, то еще учуете вонь, оставшуюся после него. Откушав, они отправились искать хире Бофранка — который уехал совсем рано и не сказал мне, куда именно, — к его другу, хире Жеалю. Если вам угодно, я могу указать, как найти его дом.
— Не стоит, хириэль. Я, пожалуй, подожду здесь, ибо устал после долгой дороги и всяческих лишений… Отоприте мне комнату брата, я буду ждать там. Но отчего здесь, помимо старческой вони, столь омерзительно пахнет гарью?
— О, это еще одна ужасная история сегодняшнего утра, фрате Бофранк. Поверите ли, из комнаты вашего брата выскочил мертвый его слуга и набросился на меня, желая растерзать! Слава господу, я ударила его лампою, и пролившееся масло обожгло его до смерти.
— Неверно тут говорить «до смерти», коль уж он и без того был мертв, — наставительно сказал Тристан. Когда они вошли в комнату Хаиме Бофранка, аббат попросил немного горячего чаю с белыми сухариками, и хозяйка удалилась.
Аббат меж тем сноровисто обшарил полки, ящики стола и обнаружил на камине забытый Бофранком конверт. Вынув оттуда письмо, он поднес его к пламени свечи и прочитал шепотом, шевеля толстыми губами:
«Любезный наш хире Бофранк!
Получив ваше письмо, уверились мы, что события складываются самым дурным образом. Предначертания, кои известны вам от нас, несут за собою последствия непоправимые. С тем чтобы стать подмогою в вашей многотрудной борьбе, я, Рос Патс, отправляюсь сегодня в некое место, где тщусь изыскать известного вам Бальдунга. Силы его ограничены, но никого другого поблизости не сыскать, а всякое промедление играет на руку врагам нашим».
— Вот кто сей гнусный старик, — пробормотал себе под нос аббат. — Мнится мне, миссия моя может усложниться.
«Я же, Гаусберта Патс, — продолжал он читать далее, — останусь в поселке и займусь расшифровкою некоторых трудов, которые могут оказаться полезными. Сие займет не день и не два, но как только все будет закончено, я прибуду в столицу и надеюсь застать вас в обычном месте проживания вашего».
— Не хватало еще и этого! — возмутился Тристан. — Остается надеяться, что мерзкая колдунья не успеет…
«Из того, что мне уже известно, сообщаю наиглавнейшее: пребываю в надеждах, что поверженный вами враг еще не скоро вернется в мир людской, но тем не менее знайте, что искать его надо в местах, где в земле — кровь.
И еще одно. Надеюсь, что подарок, оставленный мною, вы покамест не использовали. Если же использовали, знайте, что делать сие в вашем состоянии и положении можно не более трех раз. Не стану описывать, чем может обернуться злоупотребление, но прошу поверить мне на слово, ибо никогда не желала вам зла».
— Что еще за подарок она подсунула моему братцу? — вопросил сам у себя аббат. — Верно, какую-нибудь богомерзкую пакость, что еще ожидать от нее…
«Напоследок о главном. Будьте осторожнее с чревоугодником! Слова его словно мед, честность его напоказ, но в мыслях его нет добра к вам!
С почтением, Рос и Гаусберта Патс».
— Что же за подарок? — повторил аббат, пряча письмо обратно в конверт. — Вот с кем знается мой безумный брат — для чего ему это?! Чревоугодник… кто есть сей? Не я ли снова? Ах, грешен я, грешен… Благодарю вас, хириэль!
Последние слова обращены были уже к хозяйке, принесшей чай и блюдце с сухариками и печеньем и не обратившей внимания на письмо, что Тристан держал в руке. Сделав несколько глотков, аббат спросил у женщины, которая не спешила удалиться:
— Скажите, хириэль, не оставил ли мой брат для меня записки или устного послания?
— Хире Бофранк не оставил, но оставил его приятель, премилый старичок по имени Базилиус Кнерц, — отвечала хозяйка без какой-либо задней мысли. — Будь вы чужой человек, я, верно, не сказала бы вам об этом, но коли вы родной брат хире Бофранка…
Сказав так, она подала аббату записку Кнерца. Возблагодарив бога, что обстоятельства пока что складываются столь удачно, Тристан прочел и ее, на сей раз про себя. Хозяйка дождалась, пока он закончит, и спросила в волнении:
— Не разъясните ли, фрате Бофранк, что сие означает?
— Так вы прочли записку? — с возмущением воскликнул аббат.
— Был грех… Но зачем же пишет хире Кнерц, что вы, дескать, вовсе не то, что о вас разумеет хире Бофранк?
Тристан тотчас понял, что женщина чрезвычайно глупа, коли у него самого о таком спрашивает, и поспешил успокоить ее:
— Грех в том, что вы прочли письмо, не велик, ибо кто из нас порою не любопытен; что же до упомянутых строк, то мне неизвестен хире Кнерц и я не могу судить, зачем он обо мне так пишет, хотя вижу, что пишет вздор. Кстати, благодарю вас — печенье ваше превкусное, хириэль.
В рассеянности оставив аббату и второе письмо, хозяйка удалилась к себе, а Тристан Бофранк еще раз обыскал те места, до которых не добрался прежде, ничего более не обнаружил и уселся в кресло, дабы поразмыслить, как вести себя в будущем. Он не опасался Кнерца, ибо ведал, что старичок не может знать его в лицо, как не могут знать и остальные, кроме разве отсутствующей здесь Гаусберты, посему аббат был уверен, что исполнит данное ему поручение со всем возможным тщанием.
ГЛАВА ВОСЬМАЯ, скорбная, в которой Хаиме Бофранк и Альгиус Дивор отважно сражаются со злокозненным упырем
Мне колебанья не к лицу, Я смерть считаю высшим благом И подвигаюсь шаг за шагом Вперед, к счастливому концу. Теодор Агриппа д'Обинье «Преисполненная высокомерия ода»— Новая напасть! — воскликнул Альгиус. Он пнул решетку ногою, но лишь ушибся и с ругательствами отскочил прочь.
— Нашей глупости поистине нет пределов, — сказал печальный Бофранк. — Что делать, хире Дивор? Что можем мы предпринять?
— Попробуйте выстрелить. Хотя, даже если Жеаль услышит выстрел — а ведь лаз довольно длинен! — это не значит, что он сумеет открыть решетку с той стороны.
— Посему я не буду тратить заряд, — рассудил Бофранк.
— Но что мы можем сделать еще?
Они попробовали вдвоем, вцепившись в прутья, приподнять решетку, но тщетно — скрытый в стене механизм не позволял сделать этого.
— Хире Клааке ждет роскошный обед, — только и сказал на это толкователь, после чего принялся перебирать книги, но вдруг встрепенулся и спросил: — А не применить ли вам, хире Бофранк, тот таинственный способ, что спас всех нас из темницы на острове Брос-де-Эльде?
Бофранк молчал. Перед глазами его всплыли строки из письма прекрасной Гаусберты: «Надеюсь, что подарок, оставленный мною, вы покамест не использовали. Если же использовали, знайте, что делать сие в вашем состоянии и положении можно не более трех раз…»
Уже два раза применял Бофранк чудесный талисман, стало быть, бояться пока нечего. Повернувшись к толкователю, он сказал:
— Возможно, я применю его. Но что я должен сделать? Я смогу покинуть ловушку лишь один, а вы-то останетесь здесь.
— Посмотрите-ка вон на те отверстия под потолком. Мне кажется, они должны вести к механизму, который опускает решетку. Возможно, сей мир и не похож на наш, но дверные запоры и прочие приспособления, уверен, действуют точно так же. Добраться до механизма можно откуда-то снаружи, но можно и изнутри, через эти отверстия, столь маленькие для обычного человека.
— Я не смущу вас, хире Дивор, если разденусь донага?
— Никоим образом, — отвечал Альгиус. — Я, признаться, знавал мужчин, кои питали нездоровый интерес к своему же полу, но к таковым всегда относился дурно, к тому ж они обыкновенно проявляли себя в сферах искусств, а никак не в учености… Но что вы собираетесь делать, если не секрет?
— Сейчас вы все увидите сами, только не пугайтесь.
— Пугаться я и не собирался, — проворчал Альгиус.
Разоблачившись и найдя в кошеле деревянную фигурку кошки, Бофранк, как и ранее, сжал ее в руке и прошептал:
Именем Дьявола да стану я кошкой, Грустной, печальной и черной такой, Покамест я снова не стану собой…Альгиус не сумел сдержать изумленного возгласа, когда на месте субкомиссара возник черный поджарый кот с белой грудкою и белыми пятнами на лапках.
— Да вы колдун, хире субкомиссар! — вскричал он затем со смехом. — Подозревал, подозревал я нечто подобное, но чтобы вот так, самому, увидеть сие… Вас сожгут, сожгут, верьте! Но спешите же, спешите! Позвольте мне подсадить вас!
Говоря это, Альгиус взял Бофранка рукою под брюхо и поднял к одному из отверстий. Возможно, в иное время и в иной ситуации этот поступок показался бы субкомиссару неприличным и недопустимым, но сейчас он поспешил скользнуть в дыру и оказался в большой нише, заложенной камнем так, что из самой комнаты доступа к ней не было.
Там и сям в нише были размещены сложные механизмы, назначение коих было Бофранку неведомо, да у него и не имелось времени, чтобы с ними разбираться, к тому же он беспрестанно чихал вследствие пыли, в большом количестве находившейся здесь. Найдя несколько больших шестерен, которые, несомненно, подымали и опускали решетку, Бофранк попытался лапами привести их в движение, но не тут-то было — кошачьих сил субкомиссару отнюдь не хватало. Заметавшись с громким мяуканьем, Бофранк высунул голову в отверстие, через которое влез, и Альгиус, завидев его, спросил:
— Не получается, хире кот? Там, полагаю, должен быть стопор, или рычаг, или же система противовесов, дабы решетка опускалась автоматически. Ищите, ищите! Я никак не могу помочь вам!
Бофранк вернулся к шестерням и воззрился на них, в ужасе думая, что же будет, прими он в этой узкой нише свое человеческое обличье. Если и можно было как-то властвовать над временем своего пребывания в шкуре кота, субкомиссар этого делать не умел — в отличие от Гаусберты, которая, к превеликому сожалению, была сейчас очень и очень далеко…
Но не может ли быть заветным стопором вот тот железный штырь, что торчит прямо из стены? Бофранк кинулся к нему и навалился всем телом, шипя и фырча; и в самом деле, шестерни с рокотом провернулись, цепи, лязгая, поехали вверх, и субкомиссар услышал восторженный крик Альгиуса:
— Вы открыли ее, хире кот! Скорее сюда!
Вернувшись в логовище упыря, Бофранк обнаружил, что решетка и в самом деле поднялась, открыв жерло лаза, но вот превращаться обратно в человека субкомиссар не спешил. В самом деле, обыкновенно его приключения в образе кота были достаточно долгими, здесь же все случилось довольно быстро. Альгиус, очевидно, понял сие; подхватив с пола платье Бофранка, он сказал:
— Полезайте вперед, хире кот. То-то удивится наш приятель Жеаль!
Но Проктор Жеаль не удивился, ибо его попросту не оказалось там, где оставили его Альгиус и Бофранк. Субкомиссар взбежал по склону оврага, резво обежал его кругом и сел на краю, принявшись вылизываться в ожидании толкователя. Надобно сказать, что делал это Бофранк безо всяких мыслей, совершенно естественно, как это делают обычно коты, когда им нечем заняться.
— Э! А где наш Жеаль? — воскликнул Альгиус, выбираясь наружу. С собою он тащил несколько книг, весьма удачно уложив их в узел, сделанный из штанов Бофранка.
Оскальзываясь на гнилых костях, толкователь выбрался наверх и уселся рядом с Хаиме, спрашивая себя:
— Может быть, он отошел по нужде? Или его схватил упырь?
— Стоит ли именовать меня столь гадко?
Голос раздался из-за спины Бофранка, отчего субкомиссар подскочил на месте и перевернулся в воздухе. Вздыбив спину, он выпустил когти, но Шарден Клааке, появившийся из-за деревьев, смотрел вовсе не на него, а на толкователя, утратившего, казалось, дар речи.
— Упырь… — пробормотал Клааке. Он выглядел все так же: странные, словно бы квадратные, зрачки, остроконечные зубы, дергающийся, как у зверя, кончик носа, однако казался несколько больше и выше, чем раньше. — Что ж, пускай я буду упырь. Ты-то как попал сюда, жалкий листатель книжонок? О, я вижу, ты и у меня стащил несколько? Одна беда — ты не успеешь их прочитать, чтобы пополнить свой скудный умишко еще парой-тройкой ученых фраз на диво таким же дуракам… А что за кота притащил ты сюда?
Бофранк понял, что упырь не ведает его истинной сущности, и юркнул до поры в кусты. Альгиус тем временем отвечал:
— Тебе бы пора привыкнуть, упырь, к своему званию. Однако сказал ты верно, этот черный кот — еще один любитель глодать тухлые кости, как и ты.
— Я не прочь обглодать и несколько свежих костей, как тебе ведомо, — оскалился Клааке, делая несколько шагов в сторону толкователя. Субкомиссар, воспользовавшись этим, скользнул ему за спину. Ах, если бы ему сейчас превратиться в человека! Упырь оказался бы атакован с двух сторон — жаль только, что у Бофранка нет пистолета… Хорошо бы Альгиус догадался нашарить его в одежде незаметно для упыря!
— А где же твой хозяин, ты, пес?! — спросил Альгиус, очевидно, вспомнив, как корчило ранее упыря при упоминании имени Люциуса.
— Мой хозяин не так далеко, как тебе хотелось бы, глупец. Ты, чаю, видел, что творится в вашем мирке? И это лишь начало, смею тебя заверить! Придет час, когда матери станут пожирать чад своих, когда земля растворится, когда море вскипит!
— Пугай, пугай, дрянное отродье!
— Слова мне знакомы — так же говорил и скудоумный Броньолус, что убоялся власти и силы, открывшейся перед ним. Спроси же меня, как он кончил? Я колол его ножом, доколе дух не вылетел из него, и при этом он улыбался, полагая, что искупает некие грехи свои и ждет его небесное блаженство. Готов ли и ты принять такое?
— Я-то готов, однако ж прими прежде вот это! — крикнул Альгиус и выстрелил. Как и ожидал Бофранк, он сумел нашарить в куче платья пистолет субкомиссара — тот самый подарок Жеаля, многострельный, с табличкою: «Другу моему Хаиме будет же он защитою». Упырь отшатнулся; толкователь выстрелил еще раз, и еще, но эффект, произведенный попавшими пулями, куда как отличался от случая, когда сам Бофранк стрелял в упыря в Бараньей Бочке. Клааке не упал, не бросился бежать, он лишь взъярился и бросился на Альгиуса, подмяв его под себя, рыча и скрежеща клыками.
Бофранку ничего не оставалось, как прыгнуть упырю на спину и в обычной кошачьей манере рвать его зубами и когтями всех четырех лап; однако ж ранения эти, как и пистолетные, казалось, не причинили Клааке особого вреда. Он сжимал несчастного Альгиуса в своих лапах, стремясь прокусить ему глотку. Тогда Бофранк вскарабкался на голову Клааке и пребольно укусил его за ухо, а когда упырь чуть поворотился от боли, что было мочи вцепился в его правый глаз. Именно в него стрелял он некогда, говоря: «Очам твоим, хире Клааке, и вправду не хватает немного огня», и надеялся, что сие место на теле упыря будет самым уязвимым.
Расчет Бофранка оказался верным — из лопнувшего глаза тотчас хлынула кровь, густая и дымящаяся, упырь бросил терзаемого им Альгиуса и хотел было схватить кота, но субкомиссар уже был таков. И надо же случиться, что, едва свалившись с головы Клааке, Бофранк превратился обратно в человека, притом сразу же больно ударившись голым коленом о корягу.
Он со стоном вскочил на ноги, но упырю, как ни странно, было совсем не до него. Клааке катался по опавшим листьям, царапая руками лицо и разбрызгивая вокруг кровь, а чудовищные вопли, которые исторгала его глотка, не могло бы повторить ни одно живое существо. Скатившись в овраг, упырь распластался, словно жаба, и быстро пополз по бренным останкам своих жертв, миг — и он скрылся в черной дыре логова, не переставая вопить и причитать.
Бофранк осмотрел свое колено и обнаружил, что повредил его достаточно сильно — сине-черная опухоль вздувалась на глазах, ногу больно было сгибать. Но тут субкомиссар вспомнил об Альгиусе и, обернувшись, нашел его лежавшим на земле и совершенно бездыханным.
Нагой Бофранк склонился над толкователем, приподнял его голову и окликнул по имени, но Альгиус не отозвался. Судя по всему, несчастный толкователь был мертв, и огромные кровоточащие раны на шее и груди были тому порукой.
ГЛАВА ДЕВЯТАЯ, в которой мы вновь возвращаемся к юному Мальтусу Фолькону и обороне Люддерзи, а также обнаруживаем логово разбойников, в коем скрываются некоторые сюрпризы
Господь знает, куда он ведет нас, а мы узнаем в конце пути.
Жанна д'АркК рассвету — а точнее сказать, ко времени, кое приличествует рассвету, ибо такового не наблюдалось, — прибежал один из юных рыбацких подмастерьев и сказал, что у северной части здания неспокойно — почва пошла трещинами. Возможно, то было обыкновенное в здешних местах природное трясение земли, кое, по словам рыбака, уже обмелило в свое время гавань, но Мальтус Фолькон усомнился и тотчас поспешил в указанное место, где и обнаружил, что кладка арсенала местами начинает уже проседать. Тут вспомнились слова толстяка торговца о том, что карлики преискусны в земляных работах, и юноша сообразил, что поганцы попросту роют подземный ход, оттого и не являлись они всю ночь на поверхность.
Наставляемый прочитанными военными трактатами, Фолькон велел принести корабельную помпу и качать под фундамент арсенала воду из гавани, с тем чтобы утопить карликов в их подкопах.
И верно: только успели несколько раз качнуть рукояти помпы, как земля провалилась, и из образовавшегося пролома полезла малорослая нечисть, визжа и завывая, словно проклятые души в аду. Карлики размахивали небольшими копьями и топориками, иные метали дротики, один из которых тут же вонзился в предплечье юноши. Фолькон вырвал дротик и отступил к стене, отмахиваясь от наступавших карликов своим топором и с удовлетворением отмечая, как попавшие под удар разлетаются в стороны с размозженными головами и поломанными членами.
Казалось, уродцам нет числа — все новые и новые сотни их вылезали из провала, им удалось уже повалить наземь кое-кого из защитников, а тот, кто падал, был заведомо обречен, ибо его сразу же захлестывала злобно верещавшая волна.
Неподалеку от Мальтуса Фолькона один крепкий рыбак смог подняться на колени; все лицо его было изглодано до костей, платье изорвано, а сам он был усижен карликами, как сладости мухами. Человек почти уже встал, когда один из уродцев перерезал ему связки под коленями, и… Мальтус Фолькон отвернулся, дабы не видеть жуткого зрелища.
Юноше отчего-то казалось, что карликов гонит из-под земли некое неотвратимое заклятие — так бездумно и дико вырывались они оттуда, чтобы погибнуть под ударами тяжелых дубин, молотов и топоров. Твари брали лишь числом, отдавая за каждого поверженного защитника Люддерзи десятки и сотни своих душ, коли таковые у карликов вообще имелись.
Кто-то из мальчишек удачно догадался поджигать комья просмоленной пакли, которой конопатят днища, и бросать в гущу наседавших карликов, чрезвычайно боявшихся огня. Когда пылающие уродцы принялись окарачь разбегаться в стороны, атака вроде бы поутихла; помогла, вероятно, и заполнившая подземный ход вода, посему спустя час-другой — Фолькон не мог судить точнее, не имея ни часов, ни наблюдаемых эволюции солнца, — нападение остановилось.
Защитники осматривали окрестности арсенала, освещая все закоулки факелами и без жалости затаптывая сапогами раненых карликов, тщившихся при этом даже на последнем издыхании укусить за ногу.
Посчитали погибших — таковых оказалось двадцать три человека, и их уже приготовляли к упокоению под безутешный плач родных и близких.
— Хире Фолькон! — окликнул кто-то юношу. Тот прислонил к стене окровавленный топор и обернулся.
— Не угодно ли? — спросил кривой Реенсакер, который держал в руке живого карлика. Гнусный уродец дергался, сучил кривыми ножками, плевался и верещал, норовя достать рыбака зубами, но никак в этом не преуспел. — Я подумал, что в столице любопытно будет посмотреть на сию тварь, считавшуюся несуществующею сказкою. Возможно, ученым людям от этого случится некая польза…
— Надобно посадить его в клетку, — велел Фолькон, с любопытством и отвращением разглядывая недавнего врага вблизи. — Да скажите людям, пусть попробуют поймать еще нескольких — посадим их каждого по отдельности, дабы они не загрызли друг друга.
Изловить удалось всего лишь четырех; один из рыбаков предложил спуститься в подземный ход и поискать там, но Фолькон не велел, приказав поскорее засыпать провал землею.
Пойманных же карликов посадили в клетки с металлическими прутьями, в коих возят обыкновенно кроликов и птиц. Дохлых собратьев их сгребли лопатами в кучу, дабы поскорее сжечь.
— Теперь я просил бы как можно скорее доставить меня в столицу, — сказал Фолькон, когда Реенсакер вернулся к нему за указаниями. — Полагаю, нападения более не случится, а ежели и случится, так вы знаете, что надобно делать.
— Мы дадим вам лошадей и хорошую повозку, хире Фолькон, — с благодарностью воскликнул Реенсакер. — Но как вы поедете, когда стоит такая темень? Не подождать ли появления солнца — ведь оно, чаю, рано или поздно должно подняться на небо!
— Мир сейчас стал совсем не тот, что был несколько дней раньше, хире Реенсакер, — печально сказал юноша. — Может статься, что солнца мы более не увидим, а сие есть гибель для всего сущего. Потому и тороплюсь я в столицу, ибо, мнится мне, знаю, в чем дело.
Лошади и повозка были готовы совсем скоро. Погрузив туда клетки с плененными карликами и кое-какие съестные припасы в дорогу, рыбаки проводили Фолькона, долго кланялись и махали ему вслед руками. Юноша мог видеть их до тех пор, пока свет факелов не скрылся за поворотом. Перед ним была пустынная дорога, уходящая во тьму, и справа грозно шумело море, колотясь своим пенным телом о скалистые выступы.
Повозка двигалась чрезвычайно медленно, и Мальтус Фолькон прикинул, что таким образом он доберется в столицу еще очень нескоро. Часа через два тряской езды он решительно остановил повозку, выпряг лошадей, навьючил на одну из них клетки и припасы, вторую взял в повод и поскакал, надеясь, что в темноте не угодит в яму или рытвину.
Из всех неотложных дел, кои ожидали его в столице, юноша полагал наипервейшим явиться к отцу, который, несомненно, уже оплакал его. Там же, в Фиолетовом Доме, Фолькон собирался оставить плененных карликов, после чего разыскать Хаиме Бофранка и остальных, коли они, разумеется, живы и здоровы.
Пошел сильный дождь. Юноша укутался плотнее в рыбацкий плащ и прикрыл его полою клетки с карликами, которые лишь злобно ворчали. Дрянные существа отчего-то не вызывали у Фолькона особого интереса, хотя в былые времена он был бы, несомненно, поражен увиденным. Ныне же что-то подсказывало юноше, что карлики — самая мелкая и довольно обыденная вещь из череды диковин, что еще предстоит ему увидеть в ближайшие часы и дни…
Поэтому Мальтус Фолькон ничуть не удивился, когда из шелестящей дождевой мглы раздался громкий голос:
— Вот ты и приехал, почтенный хире!
— Дорогу! Дорогу чиновнику Секуративной Палаты! — воскликнул юноша, но лишь хриплый и глумливый смех, исторгаемый добрым десятком глоток, был ему ответом.
Лошадей взяли под уздцы, причем в кромешной тьме Фолькон мог видеть лишь смутные силуэты своих пленителей. Оружия его никто не тронул, обращение было довольно учтивым, и ему даже помогли спешиться, когда впереди замерцал костер.
Подойдя ближе, юноша понял, что попал в лесное становище дорожных разбойников. Костер пылал под сплетенным из ветвей легким навесом, хорошо пропускавшим дым, но не позволявшим дождю заливать огонь; вокруг костра сидели и лежали люди — кто спал, укрывшись тряпьем и шкурами, кто чинил оружие, кто искал насекомых, бесстыдно снявши штаны. Один из сопровождавших Фолькона сказал:
— Садись к огню, обсушись, почтенный хире. Мы же пока, не обессудь, прирежем одну из твоих лошадей, ибо котел наш давным-давно пуст, а питаться воздухом, говорят, мог один святой Латербиус, да и тот все равно помер.
Возражать было бессмысленно, и Фолькон послушно уселся у костра. Всхрапнула испуганно лошадь, заржала страшно, затем послышалось падение ее тяжелого тела и удары копыт, в агонии молотивших по земле. Спустя некоторое время над костром повесили большой котел, наполненный кусками конины.
Юноша и ранее слышал о разбойниках, промышлявших в этой части страны. В основном разбойные ватаги собирались из беглых каторжников, селян, помнивших еще крестьянские войны, где всласть помахали они цепами и косами, дезертиров, а порой и людей высокого происхождения, впавших в грех смертоубийства или казнокрадства. Бороться с подобными шайками особенно не пытались, ибо в случае опасности разбойники, не имея недостатка в проводниках, попросту скрывались в горной местности и все, что им оставалось, это переждать там трудные времена.
Подошел оборванец в ржавом кольчужном нагруднике, присел на корточки подле Фолькона и сказал, источая густейший запах пота и чеснока:
— Ну, молодой хире, расскажи нам, кто ты таков и куда едешь в столь странное время.
— Меня зовут Мальтус Фолькон, и я еду в столицу. Совсем недавно я был в Люддерзи, где отражал нашествие каменных карликов.
Слова эти вызвали дружный смех, но юноша прервал его, резко прикрикнул:
— Коли не верите, посмотрите в клетках, что приторочены к моей лошади!
— Посмотри, Хейлиг, что там! — крикнул оборванец в кольчуге. Один из гревшихся поднялся и убежал в темноту; спустя мгновение донесся громкий вопль, и Хейлиг вернулся, облизывая окровавленный палец.
— Не знаю, что там такое, Фронт, но оно меня пребольно укусило, — плаксиво проныл он.
— Так принес бы клетку сюда, дурак, чтобы мы разглядели его при свете!
Хейлиг пожал плечами и приволок клетку, держа ее на почтительном расстоянии от себя. Глазам изумленных разбойников предстал карлик, скорчившийся на дне клетки и чрезвычайно напуганный близким пламенем костра.
— Смотри-ка, живой!
— Ткни его палкой, Мольт!
— Гляди, как бы не ухватил тебя, как Хейлига!
— А я и не верил, что они бывают!
— Не бросить ли его, братцы, в огонь, пока не стряслось чего?!
— Эй, эй! — прикрикнул Фронг, который, как понял юноша, был тут за старшего. — Я сейчас самого тебя в огонь брошу, Эйнзид! А ты, молодой хире, объясни-ка нам, что творится. Я такого не припомню, чтобы столько времени стояла сплошная темень, а чертовы карлики лезли из-под земли, что твои черви после дождя.
— Я знаю не больше вашего, но в Люддерзи они прикончили достаточно народу, чтобы их следовало остерегаться, — сказал Фолькон. — Полагаю, что подобное творится везде, и потому тороплюсь в столицу.
— А что в столице-то?
— В столице есть люди, которые ведают куда больше моего и знают, что надобно делать.
— Пресветлый король, что ли?
— Не только…
Слова Фолькона скорее выдавали желаемое за действительное, ибо он даже не знал, живы ли его бывые соратники. Фронг помолчал, о чем-то крепко задумавшись, после чего вымолвил:
— Поеду-ка я с тобой, молодой хире. Сидеть тут, ничего не зная, можно до конца света, а он, мнится мне, вот-вот наступит. К тому же у меня есть в столице кое-какие дела, и не худо бы их обстряпать, покамест есть в том смысл.
— Стало быть, вы меня отпускаете?
— Отчего же нет? Вот только подождем, пока сварится твоя лошадь — на голодный желудок отправляться в дорогу не годится. Эй, Свонк! Проснись-ка да найди там среди рухляди мое парадное платье!
Один из спавших до сей поры разбойников выбрался из-под облезлой медвежьей шкуры и, вытаращив глаза, уставился на Мальтуса Фолькона. Потом он вскочил на ноги, перепрыгнул через костер, едва не перевернув котел, и обнял юношу, бормоча:
— Хире Фолькон! Хире Фолькон! Да вы никак живы!
ГЛАВА ДЕСЯТАЯ, еще более скорбная, нежели восьмая, ибо в ней мы вместе с Хаиме Бофранком узнаем новость чрезвычайно ужасную и неожиданную
Все вещи двулики, ибо Богу угодно было противопоставить себя миру,
и Он оставил ему только видимость вещей, а сущность их и истину забрал себе…
Оттого-то всякая вещь есть противоположность тому, чем она кажется в этом мире.
Себастьян Франк «Парадоксы»— Хире Дивор! Хире Дивор!! — вскричал в скорби своей Бофранк и прижал голову толкователя к груди. Слабый стон был ему ответом; Альгиус открыл глаза и, глядя одним из них на субкомиссара, а вторым — бог весть куда, пробормотал:
— Верно, я еще жив? Боюсь, не столь много осталось мне… и как не хочется умирать в этом дрянном месте, если бы вы знали, хире Бофранк, если бы вы только знали… С другой стороны, все прочие места, где я имел куда более верные шансы умереть, немногим приятнее — взять хотя бы мою постылую постель. Однако ж, чаю, я успею помочь вам. Но готовы ли вы услышать то, что я скажу вам, хире Бофранк?
— Я готов услышать все, хире Дивор. Кажется мне, что я выслушал в последнее время уже предостаточно самых неправдоподобных вещей, а во многие из них к тому же уверовал…
— В таком случае приготовьтесь узнать, кто таков Люциус Фруде и где пребывал он все годы ваших тщаний, — сказал Альгиус.
— Кто же он?! — вскричал в волнении Бофранк.
— Ваш добрый друг и советник — Проктор Жеаль.
Бофранк обомлел и как будто закаменел на мгновение.
— Как вы можете говорить такое?! — вскричал он.
— Судите сами, хире Бофранк, — Жеаля нет, нет и Деревянного Колокола, каковой я по недомыслию оставил ему на сохранение… Полагаю, упырь в злобе и тщеславии бросил нам сей магический предмет, за что был крепко наказан хозяином, и теперь Люциус поспешил вернуть себе столь нужную вещь, оставив пса своего умертвить нас… Я только сейчас, узрев близкую смерть, понял истину. Ах, как жаль, что не догадался я о сем раньше, слепец, жалкий я слепец! А вы вспомните, хире Бофранк… — Голос Альгиуса ослабел. — Вспомните…
И Бофранк вспомнил.
Он вспомнил, как легковесно Жеаль отозвался о его снах — как позже выяснилось, снах пророческих, заслуживающих куда более серьезного отношения: «Что же с того? Очевидно, ты чересчур много пьешь вина на ночь. С этой привычкою пора покончить…»
Вспомнил Бофранк и то, как прокомментировал Жеаль толкования, сделанные референдарием и Альгиусом: «Не унывай, друг Хаиме! Позволь напомнить, что Альгиус известен как веселый малый, имеющий некоторое — достаточно сомнительное, кстати, — образование и даже не закончивший университета, а референдарий Альтфразе так и вовсе безумец. Что верить их словам? Что печалиться и ждать смерти?»
И в то же время Проктор Жеаль сделал Бофранку столько добра, притом совершенно бескорыстно… Но бескорыстно ли? Не был ли Хаиме Бофранк лишь частью того плана, что умыслил Люциус? И Бофранк, и бедный Вейтль, и все остальные, кто так или иначе оказался замешан?
Пистолет же Бофранка, из которого Альгиус стрелял в упыря, на сей раз оказался куда менее действенным — не потому ли, что подарен был Жеалем? Что там были за пули?
В молчании Бофранк, как был, нагой, стоял на коленях подле истекающего кровью Альгиуса, а тот продолжал, содрогаясь в предсмертном кашле:
— Откуда Баффельт и Броньолус знали о Вейтле? Кто вообще знал все о нем, помимо твоего друга Жеаля? Так не Проктор ли Жеаль поведал о сей грустной истории грейсфрате? А невнимание миссерихордии к делам Жеаля, совсем не щепетильного во многих вопросах? Другие, подобные ему, давно уж сгинули, а Жеаль своими научными изысканиями снискал уважение и почет… На каждый свой удачный опыт он тут же заручался поддержкой священнослужителей, объявляя достигнутое промыслом и наущением господним, не так ли, хире Бофранк?! А почему Жеаль отказался поехать с вами в путешествие к Ледяному Пальцу?
— Он сказал… он сказал, — припомнил Бофранк, — что занятия в университете будут для него несравненно полезнее, к тому же погода к зиме портится, а это самым дурным образом скажется на его организме, и без того нелюбезном к длинным путешествиям…
— Нет! Он попросту боялся, что проявит свою сущность, как явил свою сущность Шарден Клааке, боялся, что старец Фарне Фог почувствует и узнает его. Жеалю несравненно лучше было находиться рядом с вами, ведая о всех шагах и делах ваших, — да ведь вы первым шли к нему рассказывать обо всем, просить совета и помощи!..
— И все же я не могу поверить, — покачал головою Бофранк, не чувствуя в волнении пронизывающего его нагое тело холода. — Я столько лет знаю Жеаля, знаю его почтенных родителей…
— Что с того, хире Бофранк, что с того? Шарден Клааке, уверен я, тоже не всегда был упырем, жующим гнилую плоть человеческую… Когда и как ваш милый приятель Проктор Жеаль стал злокозненным Люциусом, мы можем никогда не узнать, а родители до сих пор, уверен я, знают его только как любящего и доброго сына… Не исключено, что Люциус Фруде, давным-давно долженствующий умереть, нашел способ переселиться в тело вашего верного товарища, или же сам Жеаль в своих опытах случайно содеял сие… Он, только он убил и свою невесту, эту несчастную девушку, не ведавшую, кто с нею рядом, кто целует и обнимает ее… Она была ему словно в запас, на крайний случай, — и такой случай пришелся… Поверьте мне, хире Бофранк, ибо я чувствую, что умираю, а более никого нет с вами рядом, кто поможет… разве тот, кто дал вам талисман, позволяющий обращаться в кота, но и этим людям я не советовал бы доверять безраздельно, ибо, как видите вы, никому нельзя более доверять. Многие — тот же Проктор Жеаль, иначе не привел бы вас ко мне, — мнили в Альгиусе, Собачьем Мастере, глупца… Так оно и есть, но я оказался не столь уж прост. Перепонка между мирами, о которой я говорил вам в имении вашего отца, еще не разорвалась. Она лишь истончилась, но еще не все потеряно, хире Бофранк. Вы без труда вернетесь обратно, коли сейчас же пойдете в место, откуда мы вошли в междумирье. Возьмите с собою эти книги — полагаю, упырь читал их неспроста, а коли и нет, вы сможете с выгодою продать их в случае нужды… Ежели у вас все получится и дело выйдет по-нашему, вернитесь сюда, заберите останки моего тела, буде их не сожрет бесследно упырь и не разнесут вороны, и похороните под плитою там, где вам заблагорассудится, но с одним условием:
С приличной делу простотою, Чтоб не совсем пропал мой след, Поставьте бочку над плитою И в этой бочке мой портрет. А чтоб почтил меня прохожий, Пусть надпись скромная гласит: «Под этой бочкой с пьяной рожей Горчайший пьяница зарыт».Сказав так, Альгиус Дивор, прозванный Собачьим Мастером, улыбнулся, закрыл глаза и испустил дух, а коленопреклоненный субкомиссар Хаиме Бофранк, наг и немощен, долго еще рыдал над его телом, и вторил ему один ветер, с особенною печалью завывавший в кронах деревьев.
ГЛАВА ОДИННАДЦАТАЯ, в которой в доме Хаиме Бофранка происходит наконец-то всеобщая встреча, а сам Бофранк, вернувшийся в свой мир, держит совет и падает, поверженный
Смотри: здесь дурень делом занят. Бедняга, что же делать станет Он с этим ворохом тряпья? Франсуа Кольте— Послушайте, хириэль, в двери стучат! — воскликнул Тристан Бофранк, поднимаясь наверх к хозяйке. — И прежде чем вы откроете, я просил бы вас сокрыть мое истинное имя. Пускай я буду фрате Гвиттон из… из Кольны, прибывший к хире Бофранку по важным, но тайным делам. Тому есть объяснения, но я полагаю, вам ни к чему знать причину.
— Как скажете, фрате, — молвила хозяйка, спеша отворить, ибо стук, доносившийся от дверей, был как раз тот, о котором условлено было с Базилиусом Кнерцем. — Верно, это давешние хире, что пошли искать вашего почтенного брата… Я всего лишь простая бедная женщина, и не надобно мне вникать в вещи столь сложные. Однако ж вы священник, и я не вижу, отчего мне не помочь вам, ведь вряд ли вы умыслили дурное и с тем скрываете свое имя. Но что делать, коли там ваш брат? Он ведь вас узнает?!
— Само собою, узнает, — отвечал Тристан, внутренне поражаясь глупости некоторых женщин. — Я дам ему знак и переговорю, посему он поймет. Для иных же, запомните, — фрате Гвиттон из Кольны!
— Хорошо-хорошо…
Рос Патс, Бальдунг и Кнерц, вернувшиеся от Жеаля, с удивлением воззрились на незнакомца в одеждах священника.
— Позвольте представиться, почтенные хире, — меня зовут фрате Гвиттон, я прибыл из Кольны к хире Бофранку с важной вестью, — поторопился сказать Тристан, покамест хозяйка чего-нибудь не напутала.
— Рос Патс, — сказал молодой человек, учтиво поклонившись.
— Базилиус Кнерц, принципиал-ритор в отставке, — расшаркался старичок. Лишь один нюклиет не сказал ничего, а просто прошел мимо аббата, обдав его дурным запахом немытого тела.
— Все мы, как я понимаю, дожидаемся хире Бофранка, — заключил аббат, когда они вернулись в комнату субкомиссара и уселись кто в кресло, кто на табурет. — Но скажите, что творится на улицах?
— Насколько я могу судить, фрате, наконец-то появились отряды кирасиров и патрули гардов, — сказал Патс. — Пресветлый король, видимо, дал нужные указания; я видел, как гарды крючьями ловили и волокли бродячего мертвеца, извивавшегося, что твой червь в пальцах у рыболова.
Бальдунг хмыкнул, но ничего не изрек; он возился пальцами в миске, что осталась от завтрака, и с хлюпаньем облизывал их. Смердело от него так, что Тристан вынужден был зажимать нос платочком.
— Могу ли я, в свою очередь, спросить, что привело вас из Кольны, фрате Гвиттон? — выказал любезный интерес Патс.
Аббат развел руками:
— Сие я могу сказать лишь самому хире Бофранку, прошу понять меня правильно.
— Печально, — покачал головою молодой человек. — Мы только и делаем, что ходим туда и обратно, охраняем друг от друга тайны, а в это время творится бог весть что и, кто знает, не перейден ли уже тот рубеж, за которым возвращение назад невозможно.
— Все в руках господа, — пробормотал аббат отстранено.
— Господь тут ни при чем, — отрезал Бальдунг. — Что же не явит он лик свой, а, фрате Гвиттон? Кстати, что вы делаете в Кольне?
— Что может делать священник? Наставляю людей на путь, предопределенный господом… Уж не заподозрили ли вы во мне обманщика, вы, человек, чьего имени я так и не услыхал?
— А вам его знать ни к чему, — сказал Бальдунг. — К тому же в Кольне всего два священника, и ни одного из них, как мне кажется, не зовут Гвиттон.
— Однако ж я — именно фрате Гвиттон из Кольны, и хотел бы сказать, что:
Не всяк есть друг, про дружбу говорящий, Не всяк есть враг, про то молчащий. Делами токмо доказать возможно, Да долгим временем, что истинно, что ложно.— То-то что делами, — проворчал нюклиет с гадкой гримасою, но все же унялся, вылизывая миску, и сие занятие, судя по всему, казалось ему столь же приятным, сколь отвратительным виделось оно остальным присутствующим.
Так и сидели в молчании, слушая потрескивание дров в камине да доносившийся с улицы шум — то цокот копыт по мостовой, то громкое многоголосое мяуканье, а однажды раздался отдаленный выстрел из пистолета или аркебузы.
Со скуки молодой Патс принялся листать найденную на камине книгу, склонившись к самому огню, Бальдунг закончил облизывать посудины и задремал, где сидел, лишь старичок Кнерц в своей постоянной подвижности не мог усидеть на месте и то ворошил в камине дрова кочергою, то подбегал к окну, дабы посмотреть, что делается снаружи, то преискусно вертел в воздухе тросточкою.
Аббат же молча размышлял, уставясь в камин.
Занятый каждый собою, они не заметили, как на пороге, хромая, появился тот, кого ждали они с самого утра, — субкомиссар Хаиме Бофранк, из-за плеча которого выглядывала весьма перепуганная хозяйка.
Первым, кто узрел присутствие Бофранка, оказался его брат — на счастье Тристана.
Аббат бросился навстречу, бормоча:
— Хире Бофранк! Это вы! Вы не должны знать меня — я фрате Гвиттон из Кольны и прислан к вам в помощь!
Субкомиссар в изумлении поднял брови, но увидел умоляющие глаза Тристана и понял, что у брата есть некие причины — дурные или благие, разбираться не было времени — скрывать свое подлинное имя и родство. Поэтому Бофранк не стал долго рассуждать над сим вопросом, а попросту поклонился и сказал:
— Я рад видеть вас здесь, фрате Гвиттон. Равно как и вас, хире Патс, и вас… э-э… Бальдунг.
— У тебя по-прежнему что-то гниет внутри, — пробормотал нюклиет с обычной своей приятностью, как и при первой встрече с Бофранком. Фраза сия доставляла ему немалое удовольствие, хотя Бофранк, как человек, спасший нюклиета от костра, мог бы рассчитывать на несколько иное к себе отношение, но не стал затруднять себя мыслями на сей предмет.
— Вы тоже по-прежнему милы, словно роза в середине мая, усыпанная росою, — лишь сказал в ответ Бофранк. — А кто вы, хире? Вас я, кажется, вовсе не знаю… как и фрате Гвиттона.
— Меня зовут Базилиус Кнерц, принципиал-ритор в отставке Базилиус Кнерц, и я приехал по просьбе вашей доброй знакомой и супруги вот этого молодого человека, — отрекомендовался старичок, раскланиваясь. — Я алхимик и, может статься, буду вам полезен. Кроме того, я должен передать вам кое-что на словах, как только мы уединимся. Я оставлял вам записку, однако теперь она вовсе не нужна — бросьте ее в камин, хириэль.
Предпоследняя фраза Кнерца вызвала смятение в душе аббата, которое он, впрочем, внешне никак не выказал. Однако ж Бофранк не торопился беседовать со старичком; он велел хозяйке принести воды для умывания и что-нибудь из еды, а также вина. Выглядел субкомиссар изможденным, лицо его было сплошь перепачкано землею, платье — в чрезвычайном беспорядке. С собою он принес какой-то узел, который бросил в углу.
— Скажите, хире Патс, прибудет ли ваша супруга? — спросил Бофранк, в ожидании обеда и умывания усевшись в кресло, кое уступил ему молодой человек.
— Несомненно. Я тревожусь лишь о том, как бы не случилось чего в дороге, — сказал Патс.
— Могу ли я попросить вас, хире Патс, выйти на улицу и пригласить сюда любого прохожего гарда в любом чине? У меня есть для него несколько поручений.
Молодой человек тотчас исполнил просимое, приведя гарда, коему Бофранк повелел разыскать и доставить сюда некоего Урцеля Цанера, писца из Бараньей Бочки, а также Акселя Лооса, десятника ночного патруля. Гард ушел; Бофранк же обратился к хире Патсу с новой просьбою осмотреть его колено, которое ушиблено и причиняет огромные страдания при ходьбе.
— В самом деле, вы очень сильно ударились, — сказал молодой человек, созерцая черно-синюю опухоль. — Вам бы нужно сделать примочку, не помешал бы и лед, коли есть он у вашей хозяйки на леднике.
Лед нашелся во благовременье.
— Что случилось с вами, хире Бофранк? — спросил старичок Кнерц, не в силах уже сдерживать свое любопытство.
— Поскольку надеюсь, что вам ведомо истинное положение дел, назову все как есть: я в очередной раз повстречался с упырем Клааке и, похоже, вышел победителем… если сие можно называть победою, ибо преданный мой друг, коего я ценил куда менее, чем должно, а именно Альгиус Дивор, пал мертвым… Что же до Люциуса, то я теперь почти наверняка знаю, кто он. Но где он — вот что я хотел бы знать теперь!
— И кто же он? — спросил Патс в волнении.
— Этого я пока открыть не хочу.
— Но есть ли надежда, что наши старания увенчаются успехом, хире Бофранк? — воскликнул Кнерц.
— Герцог Римон Кремер в своей книге «Плоды праздности» говорит по сему поводу, что нерушимость привычек полезна для всякого человека. Ведь немногие, по его словам, стойки в принятых ими решениях, если им не придает силы страх, как бы они не покрыли себя позором, отступившись от них. Тот же Римон Кремер среди прочих своих привычек неуклонно придерживался следующей. Когда ему предстояло свершить какое-нибудь полезное и почетное дело, он призывал к себе множество близких ему людей и говорил им нижеследующее: «Хире, я твердо решил, не спросясь совета у вас, предпринять такое-то дело; ведь я знаю, что, поскольку оно полезно, а также почетно, вы не посоветуете мне от него отказаться». Те порою, не входя в обсуждение, одобрительно отзывались о его замысле, порою, впрочем, говорили: «Это дело похвальное, но оно сопряжено с огромными трудностями». Тогда он им отвечал: «Для человека, чего-либо желающего, не бывает ничего трудного, и то, что почетно, не всегда легко достижимо. Итак, с помощью господа сделаем все, что сможем; а если нас постигнет неудача из-за невозможности добиться поставленной цели, нам не в чем будет себя упрекнуть». Однажды племянник его отвел герцога в сторону и сказал ему так: «Хире, я обращаюсь к вам не для того, чтобы вас поучать, а для того, чтобы вы научили меня уму-разуму. Не лучше ли было бы хранить ваш замысел в тайне, чтобы, если дело окажется невыполнимым, осталось неизвестным, что вы брались за него, нежели разглашать перед всеми намерение, коего зачастую вообще невозможно достигнуть, тем более что вы ни от кого не требуете совета». И герцог отвечал: «На это скажу тебе, что я — человек, как и все, и, хотя меня почитают стойким, все же, сталкиваясь с чем-то трудным и требующим немалых усилий, человеческая податливость легко уступает, когда ее ничто не поддерживает; посему хорошо скрывать задуманное за щитом опасения, как бы не опозориться, дабы возникающее порой низменное желание отступиться от начатого пропадало при виде щита этого рода; если же мы оградим себя от такого низменного желания, то говорить наперед своим близким о замысле, который, приложив все силы, ты вслед за тем выполнишь, для тебя только честь»…
— Стало быть, нам надобно решать, что же делать дальше, — заключил Рос Патс. — Мне кажется, что-то идет не совсем так, как хотелось бы Люциусу и его присным…
— Возможно, возможно, — пробормотал Бофранк. — Извините меня, почтенные хире, но я хотел бы переговорить с хире Кнерцем, который, как я только что вспомнил, имеет ко мне приватную беседу. Выйдемте в коридор, хире Кнерц?
— У вас болит колено, посему давайте лучше выйдем мы, а вы с хире Кнерцем останетесь здесь, — сказал Патс и разбудил нюклиета, который остался этим чрезвычайно недоволен.
Когда Бофранк и принципиал-ритор остались наедине, старичок зашептал:
— Хире Бофранк, хириэль Гаусберта, весьма тревожась о вас, просила передать следующее: Люциус Фруде, будучи взволнован оказываемым ему противодействием — а оно оказываемо не только вами и вашими друзьями, и в сем хириэль Гаусберта просила вас уверить, — может искать убить вас.
— Отчего же он не сделал этого прямо сегодня? Когда еще подвернется столь удобный случай… — с горькой улыбкою произнес Бофранк. — Вам сие неведомо, но Люциусом Фруде оказался мой давний добрый друг Жеаль.
— Как такое может быть?!
— Вероятно, Люциус нашел способ вселиться в его тело или душу, однако ж я не могу говорить точно — сам ли это Люциус или только плотское его отражение, со смертью которого Фруде вовсе не обязательно погибнет…
— Как бы то ни было, хириэль Гаусберта сказала также, что, употребив ее подарок в третий раз, вы ни в коем случае не должны делать этого снова.
— Вы знаете, о каком подарке речь? — прямо спросил Бофранк.
— Знаю, — кивнул старичок. — Спешу вас уведомить, хире Бофранк, что в учености своей я сведущ не только в подобных перевоплощениях, но и в вещах куда более чудесных и необыкновенных. Я алхимик и, не в пример вашему давнему знакомому Бальдунгу, привык основываться на мудрых книгах, а дела свои тщательно протоколировать. Да, я совсем забыл: вам велено остерегаться брата своего, коего зовут, если не ошибаюсь, Тристан.
— Зачем же я должен бояться брата своего?
— Не ведаю, — развел руками старичок. — Сказано мне, что он суть не то, что вы о нем думаете.
— Снова загадки, — в раздражении промолвил Бофранк. — Верно, все взялись смеяться надо мною, нет чтобы прямо указать: мол, поступать следует так-то и так-то… Хорошо же, я разберусь с этим сам.
Тут явился давешний гард, сказав, что Аксель Лоос утерялся где-то в городе вместе с патрулем и ныне спешно разыскивается; что же до писца из Бараньей Бочки Урцеля Цанера, то жилище его найдено пустым, сам же означенный писец, по словам соседей, съехал уж несколько дней тому, а куда — не сказал.
— Что ж, в таком случае я отправляюсь в Фиолетовый Дом, — сказал Бофранк, убирая с больного колена лед. — Вам же лучше всего оставаться здесь; полагаю, я очень скоро вернусь, как только составлю беседу с некоторыми влиятельными людьми, притом я должен во что бы то ни стало убедить их, что я не сумасшедший и не одержимый бесом.
ГЛАВА ДВЕНАДЦАТАЯ, в которой Мальтус Фолькон со своими новообретенными спутниками едет себе и едет дальше
Никогда не ведаешь, где обретешь друзей, а где — врагов. Если припомнить, то Господь этого не ведал.
Гвидо Уленбах «Наставление отроку»Оггле Свонк, как и подобало уроженцу морского Ильта, перенес кораблекрушение куда легче остальных. Он не стал живописать Мальтусу Фолькону все перипетии своего спасения, ограничившись коротким рассказом, тем более что оснований для особенной похвальбы и не было. Когда лодка перевернулась, Свонк шустро поплыл в сторону берега, не утрудившись узнать, что произошло с его спутниками.
Как обыкновенно везет людям трусоватым и вороватым, так повезло и Свонку — направление он запомнил верно и спустя некоторое время выбрался на берег. Отдохнув и обсушив платье, он двинулся в направлении дымка, что поднимался за прибрежными скалами, и обнаружил там рыбацкий домик, в коем без зазрения совести украл плащ, штаны и кое-какую снедь, а также большую бутыль вина. Так, скрываясь в скалах, воруя по мелочам и ночуя в известковых пещерах, он мало-помалу добрался до памятного Фолькону Люддерзи, а миновав его, прибился к шайке разбойников, возглавляемой Фронгом Длинноруким.
Здесь Свонк пришелся кстати, хотя был в основном на посылках, следил за костром и кашеварил. Впрочем, душегуб из Свонка всегда был дурной, чему пример — его неудачное пребывание среди морских разбойников, где и обнаружил его в свое время прима-конестабль Хаиме Бофранк.
Спокойно и весело было Оггле Свонку среди людей Фронга; однако ж когда наш бродяга завидел юношу, то без размышлений кинулся к нему в надежде попасть в столицу, в тепло и сытость от холода и голода. Свонк прикинул, что юный Фолькон богат и ему не помешает верный слуга, притом издавна знакомый и прошедший тяжелые испытания.
Мальтус Фолькон в свою очередь был также весьма рад видеть своего, пусть и худородного спутника; однако радость его значительно приуменьшилась, когда он узнал, что Свонк ничего не ведает о судьбе остальных.
— Вижу, историю вы могли бы рассказать прелюбопытную, — сказал тем временем Фронг, выслушав рассказ Оггле Свонка. — Конина как раз сварилась, посему не поделитесь ли с нами малой толикой ваших приключений?
Юноша отметил, что предводитель разбойников при всем своем мерзком обличий разговаривает подобно человеку образованному, но не стал никак выказывать сего наблюдения. Он взял протянутый кусок конины, с которого капал горячий бульон, и, не чинясь, откусил добрую часть. Мясо оказалось прежестким, но в достаточной степени съедобным.
— Это верно, молодой хире, — заметил Фронг, — когда дают хороший кусок, всегда полезно откусить от него поскорее. Если угодно, я выловлю вам из котла печенку — она более нежна и вкусна, нежели остальное мясо.
— Нет, благодарствую… Кажется, у меня во фляге было вино, не худо бы промочить горло, — вспомнил Фолькон, но разбойник лишь развел руками:
— Его уже нашли и тут же выпили, не поделившись даже со мною, за что я кое-кому слегка намял бока. Могу предложить немного пива, но дрянного.
— Нет, не стоит, благодарю вас.
— Тогда позвольте задать вам вопрос: коли вы Фолькон, как поименовал вас сей прощелыга Свонк, то уж не родственник ли тому Фолькону, что сидит в Фиолетовом Доме?
— Я имею честь быть его сыном, — отвечал юноша с достоинством.
— Вот как?!
Лежавшие и сидевшие вкруг костра оживились, но Фронг пресек их быстрым движением длани.
— Чудны господни дела — кто бы еще встретился нам на ночной дороге, как не отпрыск нашего наипервейшего врага. Но не бойтесь, хире Фолькон, вам не причинят вреда.
— Отчего же вы не ограбили и не зарезали меня, как пристало бы?
— А что проку? — с печалью спросил Фронг. — Когда солнце не восходит столь долго, поневоле задумаешься о том, насколько ты грешен и по каким делам будет судить тебя господь. К тому же с вас и взять нечего, кроме лошади да чертовых карликов. Будь вы торговец — иное дело, да только торговцы небось попрятались по домам и никуда не ездят…
— Позволено ли мне будет отправиться с вами? — с надеждою спросил Оггле Свонк.
— Отчего же нет, мой друг! — воскликнул юноша. — Но моя вторая лошадь…
С этими словами он повертел в воздухе куском мяса, каковой, собственно, и был частью пресловутой лошади.
— Ничем не могу помочь, — сказал Фронг, разводя руками. — Коли вы так уж хотите взять этого малого с собой — ваше дело, но тогда вам придется посадить его сзади. Я же на свою лошадь никого более сажать не намерен, дабы, в случае чего, не проиграть в скорости и маневре. А теперь ваша очередь рассказать нам о своих приключениях, мы же послушаем и поедим, ибо выезжать на пустой желудок дурная затея, а я далеко еще не насытился.
Мальтус Фолькон поведал о кораблекрушении и связанных с ним скитаниях, умолчав, впрочем, о путешествии на Брос-де-Эльде и последующем бегстве с острова, а также о прочих вещах, о которых разбойникам знать не следовало.
Короткий рассказ вызвал тем не менее массу воспоминаний среди пирующих у костра; особенно поражались чудесной встрече давешних спутников в столь необыкновенных обстоятельствах. Один здоровяк предположил, каково было бы изумление Оггле Свонка, прирежь он по случаю на темной ночной дороге своего приятеля. Второй, с длинными грязными волосами, заплетенными в неопрятные косички, припомнил мошенника Шаттеруса, коего пять лет тому вздернули в Ванмуте, а спустя два года он объявился в столице, где его вздернули во второй, и последний, раз. Волосатого тут же спросили, где же тут связь с историей, что поведал юноша, на что тот отвечал, что связи, может, никакой и нет, но происшествие с Шаттерусом и само по себе презанятное.
Доев конину, Фронг ушел и вернулся совершенно преображенным. Довольно скромное, но добротное платье удачно дополняли мягкая шляпа, надетая на голову с некоторой долей щегольства, и укрепленные на поясе шпага с пистолетами. В поводу предводитель разбойников вел белую лошадь необыкновенной красоты.
— Ежели вы откушали, молодой хире, самое время ехать, — заметил он.
Оггле Свонк шустро собрал свои нехитрые пожитки, то и дело озираясь на юношу.
— Не волнуйтесь, мой добрый Оггле Свонк, — сказал с улыбкою Фолькон. — Коли меня самого отпустили с миром, то уж и тебя я здесь не оставлю.
Они вполне сносно разместились на спине лошади, полученной Фольконом в Люддерзи, и поехали за предводителем разбойников, который даже в кромешной темноте без труда находил дорогу. В клетке тихонько скреблись и ворчали карлики; кричали в лесу ночные птицы, которым, верно, было раздолье вопреки чужой беде.
— Верно, вы и сами понимаете, молодой хире, что мы должны расстаться, как только въедем в столицу, — сказал Фронг, попридержав свою лошадь и поравнявшись с юношей. — Я не сделал вам ничего дурного, сейчас я ваш проводник, а в случае чего и защитник, от вас же прошу одного: помогите мне попасть в город. Скорее всего, на трактах выставлены заставы, и ваша бляха герцогского чиновника будет мне защитою.
— Что ж, я помогу вам, — согласился юный Фолькон.
И в самом деле, он не испытывал никаких угрызений совести оттого, что помогал разбойнику, человеку, с коим должно бы ему бороться. Видимо, странные пришли времена, странные и необычные… С такими мыслями ехал Мальтус Фолькон по ночной дороге, слушая, как шумит море, как сопит за спиною Оггле Свонк и как шуршат в своей клетке гнусные карлики.
ГЛАВА ТРИНАДЦАТАЯ, в которой аббат Тристан Бофранк по своей воле попадает на кладбище, а брат его субкомиссар Хаиме Бофранк против своей воли в монастырь
Умей оставаться самим собой, и ты никогда не станешь игрушкою в руках судьбы.
ПарацельсФрате Гвиттон, сиречь аббат Тристан, заявил, что отправится с Бофранком, ибо также имеет неотложные дела и полагает, что его тщания станут полезны не менее прочих.
Бофранк не видел причин отказывать, тем более снаружи стало заметно тише, а мимо окон то и дело проходили или проезжали патрули — видимо, грейскомиссар Фолькон опамятовался и восстановил власть над городом, утраченную вследствие тьмы и внезапного нашествия оживших мертвецов.
— Что заставило тебя скрывать истинное имя, Тристан? — спросил Бофранк, довольно быстро, несмотря на хромоту, шагавший по темной улице.
Семенивший следом брат его, едва переведя дух, отвечал:
— Позволь мне не говорить сейчас о причинах подобного поступка… Поверь лишь, что в том мне большая нужда, ибо гости твои…
— Гостям моим я доверяю, Тристан, а вот с чем ты таишься?.. Но полно; скажи мне, как чувствует себя отец?
— Когда я оставил его, он чувствовал себя неплохо. Твой последний визит принес ему немало переживаний, и…
— Оставим и это, ибо не желаю выслушивать упреков; главное, что он жив, — холодно оборвал брата Бофранк. — Следующий вопрос мой таков: отчего хире Кнерц предостерег меня против тебя, сказавши: «Брат ваш суть не то, что вы о нем думаете»?
— Он так сказал? — в возмущении воскликнул толстый аббат. — Гнусный интриган! Как смеет он?! Уверяю, я и не видел ранее этого гадкого старикашку, не говоря уж о знакомстве с ним.
— Он и не говорил о знакомстве, а лишь передал мне слова человека, коему я доверяю, — сухо сказал Бофранк. — Рассудив, что ты все же брат мой, я не стал ничего говорить прилюдно, но подозрения мои укрепились, особливо после того, как ты скрыл свое имя.
— Говорю же, на то есть причина! — уверил аббат. — Но посмотри, Хаиме, что это вон там?!
В голосе брата прозвучал немалый ужас, и Бофранк тотчас остановился, дабы вглядеться во тьму. Он не видел, как толстяк воздел руку, в которой сжимал увесистый каменный пест — Тристан прихватил его на кухне и скрывал до поры под одеждою, — и с силой ударил субкомиссара по голове.
Поскольку толстяк был гораздо ниже брата, удар пришелся по касательной, однако же был он чувствительный: Бофранк, коротко вскрикнув, пал на колени, постоял так несколько мгновений и рухнул лицом вниз на булыжники мостовой.
Тристан осторожно ткнул субкомиссара носком башмака. Бофранк никак не отозвался на сие действие, и преступный брат его, бормоча под нос выражения, никак не приличествующие священнослужителю, поспешил прочь, отшвырнув в сторону ненужный более пест.
Он бежал, оскальзываясь на сырых булыжниках, и холодный ветер трепал полы его одеяния. Ужас содеянного все глубже проникал в душу Тристана; однако аббат увещевал себя тем, что деяние это при всей своей порочности, по сути, благое и тот, кто послал его, будет доволен…
С такими мыслями аббат, пыхтя и задыхаясь, ибо бег, как известно, куда как вреден людям подобной тучности, добрался до кованых ворот кладбища Святой Мианеллы и отворил их со всей предосторожностью. Петли чуть скрипнули; верно, в иной день это услыхал бы кладбищенский смотритель, но нынче он, коли и был жив, верно, прятался в своей хижине.
Оживших мертвецов, кои, по идее, обязаны были находиться на кладбище в больших количествах, Тристан не обнаружил. Некоторые могилы оказались разрыты изнутри, иные стояли нетронутыми — надобно полагать, их обитатели так и не смогли выбраться наружу. Осторожно пробираясь меж могил, Тристан искал огромный вяз, который, как было ему сказано, произрастал в самом центре кладбища.
Вяз в самом деле оказался огромен, однако аббат обнаружил его, лишь приблизившись почти вплотную: тьма по-прежнему покрывала все вокруг, а факела у Тристана не имелось, да и зажигать его означало привлекать к себе ненужное внимание.
Из темноты послышался приглушенный шепот:
— Аббат Тристан? Это вы?
— Да-да, я аббат Тристан Бофранк, — облегченно выдохнул толстяк.
— Можете называть меня фрате Хауке. Однако вы опоздали, — укоризненно заметил человек, подходя ближе.
— Обстоятельства сложились таковым образом, что я никак не успевал ранее.
— Что ж, вот вы здесь. Скажите, фрате Тристан, исполнено ли повеление?
— Исполнено.
— И я могу доложить о сем грейсфрате?
— Разумеется, фрате Хауке. Но когда я смогу получить…
— …свою награду? Можете считать, что вы почти прошли посвящение, фрате Тристан, и награда уже близка.
…Лик ангела был столь чуден и светел, что Хаиме Бофранк зажмурил было глаза свои, но с удивлением ощутил, что не в силах сделать этого.
— Не стоит отвращать взор свой от того, что приятно и прекрасно, — с легкою укоризною молвил ангел, и глас его был еще более премилым, нежели образ.
— Где я? — пробормотал Бофранк, и слова эти вырвались изо рта его, словно мерзкое воронье карканье.
— Не стоит спрашивать, где ты, коли все равно не суждено этого понять. Скажи мне лучше, Хаиме Бофранк, добру ли ты служишь иль худу?
— Знать бы мне… — прошептал Бофранк.
— Уже и то хорошо, когда не знаешь; куда хуже было бы, знай ты твердо, что душа твоя во тьме, а сердце — во злобе. Тернист и скользок путь твой, и нет тебе ни фонаря, ни посоха… Но помни, Хаиме Бофранк: иного пути у тебя уже нет, и что ни сделаешь ты, все будет к добру иль худу, и ничего уж потом не поправишь. Вспомни об этом, когда будет нужда! А покамест я удалюсь, а ты оставайся…
Открыв глаза, Бофранк обнаружил, что лежит в постели, под грубым, но теплым одеялом, однако не помнил он не только чудного видения, явившегося ему, — из памяти субкомиссара странным образом исчезло и то, как его зовут, и то, кто он такой.
— Стало быть, очнулись, хире, — с удовлетворением сказал сидевший подле ложа человек, коего Бофранк никогда раньше не видал. Румяное и пухлое лицо его выглядывало из-под монашеского клобука, большой бугристый нос был изуродован неведомой субкомиссару болезнью так, что напоминал косвельдскую красную капусту. — А я уж думал, грешный, что преставитесь… лежали-то на улице, ровно труп, ага. Что ж, самое мне время назваться — меня звать брассе Халлер, вот оно как, хире. И вы, чтоб было ясно, у нас дома.
Послышался протяжный скрип отворяемой двери.
— Как он, брассе Халлер? — спросил некто, плохо различимый в сумраке.
— Господними дарами, брассе Антон, — отозвался монах.
Вошедший, шаркая по полу, приблизился к ложу Бофранка, и субкомиссар увидел, что он еще уродливее, нежели брассе Халлер. У этого монаха лицо, очевидно, пострадало от пламени, посему кожа на нем в иных местах блестела, натянувшись, словно пузырь на детском барабане, в иных же пересекалась жуткими рубцами. Припомнив все, что знал о монашеских орденах и монастырях, Бофранк решил, что перед ним не иначе как адорниты — орден малочисленный и состоящий из монахов особенно уродливых и увечных, ибо и сам святой Адорн, как гласят жития, ликом был преотвратен, хотя душою куда как предобр.
— Коли вы оправились, хире, самое время для еды, — сказал пришедший монах.
В глиняном горшке, что был подан им Бофранку, субкомиссар обнаружил обычное блюдо, коим во многих обителях питают больных: жидкую смесь вина, яиц и топленого свиного сала. Отпробовав, субкомиссар нашел поданное преотвратным на вкус, но брассе Антон, завидев гримасу Бофранка, вразумил болящего:
— Яство сие чрезвычайно полезно для восстановления сил. После кровопускания…
— Как? — воскликнул Бофранк, едва удержав в руках тошнотворное пойло. — Мне сделали кровопускание?
— Да, тотчас же, как принесли сюда. Не беспокойтесь понапрасну, ибо кровь вам пускал брассе Либлер, а он весьма сведущ в лекарском знании. Продолжайте же кушать, ибо обыкновенная наша трапеза куда как скудна в сравнении с этой и мы не сможем предложить вам ни дичи, ни миробалана, ни даже сладкого вина. Ибо сказано:
Зачем же всяк стремится Телесной радостью упиться, Несущей духу яд и тленье И не могущей долго длиться? За то воздастся нам сторицей Без жалости и промедленья: Мгновенно было наслажденье, Но бесконечно искупленье, И горько будет расплатиться. Сгинь, роскошь! Сгиньте, искушенья! Уж лучше есть в уединенье Свой черствый хлеб и чечевицу!— Как сказал брассе Либлер, вас ударили по голове чем-то тяжелым, — продолжал монах, — отчего вы утратили сознание и в таком виде лежали на мостовой. Страшное, страшное творится за монастырскими стенами; случилось так, что в ужасное время оно двое братьев оказались в городе, куда мы стараемся выходить как можно реже. Они и нашли вас, и принесли сюда. Рана ваша не опасна, хотя кабы ударили вас чуть сильнее…
— Говорю же, лежали, ровно мертвое тело, — добавил брассе Халлер. — Хотя вопреки словам господним в бесконечную эту ночь мертвые тела невозбранно ходят по улицам…
Брассе Антон, услыхав сие, принялся бормотать себе под нос молитву; за ним последовал и брассе Халлер.
Бофранк тем временем сделал несколько глотков из горшка и почувствовал, что силы его укрепляются.
— Долго ли я был без чувств? — спросил он.
— С тех пор как солнце перестало восходить по утрам, трудно считать время. Механизма же, именуемого часами, мы не разумеем… Полагаю, дня два, — сказал монах.
— Два дня?!
— Благодарение богу, что вы все-таки очнулись. Брассе Либлер сказал, что иногда человек может лежать вот так, не живой и не мертвый, многие и многие годы, пока жизнь окончательно не угаснет в нем.
— Два дня… Позвольте же мне видеть настоятеля! — взмолился Бофранк, с решительностью отставляя от себя горшок с целебной снедью.
— Конечно-конечно, — согласно закивал головою брассе Антон. — К чему чинить вам препятствия? Я непременно приду за вами, как только фрате Бернарт будет свободен для беседы.
Обыкновенно монахи-адорниты жили в больших общих комнатах по пять, а то и десять человек, но субкомиссар про то знать не мог; он же был помещен в госпитальную келью с одиноким ложем, снабженным к тому же тюфяком и подушкою, набитыми сухими листьями, и одеялом. Тюфяк, тонкий и жесткий, очень скоро стал причинять Бофранку огромные неудобства, и субкомиссар попросил заглянувшего к нему с кувшином свежей воды безносого монаха:
— Добрый человек, нельзя ли дать мне еще один тюфяк помимо этого? Я не послушник и оказался здесь волею случая; зачем же мне полностью принимать все невзгоды, что положили себе во испытание твои братья?
— Верно, вы не знаете, хире, — укоризненно заметил монах, — но послушники вовсе не имеют тюфяков и одеял, только небольшую подстилку под голову.
Тем не менее он принес просимое. Лежать стало поудобнее, но тюфяки, а вернее, листья в них немало досаждали страдальцу: чрезвычайно хрустели и шуршали от малейшего движения. Однако ж, поворочавшись некоторое время, субкомиссар неожиданно для себя забылся тяжким сном.
ГЛАВА ЧЕТЫРНАДЦАТАЯ, в которой на город обрушивается чумное поветрие, а Базилиус Кнерц невольно обнаруживает след Проктора Жеаля
В том же году и в следующем в целом свете начался мор и падеж.
Монах Найтон из Лестерского монастыряКараул, стоявший на широкой лестнице королевского дворца Норгейль, был ошарашен: мимо гардов сломя голову промчался, громчайше грохоча подковками башмаков по мраморным плитам, вполне пристойный с виду человек. Мало кто признал бы в этом безумце скромного и учтивого королевского лейб-медика Тиббера! Он вбежал в Залу Советов с совершенно не подобающим ни сему месту, ни высокой и почитаемой должности ученого мужа воплем:
— Чума! Чума! Чума!
Выкрикнув так три раза кряду зловещее слово, лейб-медик упал на мозаичный пол, и сознание покинуло его; к нему тотчас поспешили слуги, дабы обрызгать водою и подать нюхательную соль, но их смели прочь — несчастный был насмерть затоптан бросившейся к выходу толпою придворных, возомнивших, что страшная болезнь пришла во дворец, прилепившись к подошвам лекарских башмаков.
Вполне возможно, весть о пришествии в столицу чумы явилась бы куда позднее, если бы не разумный служитель трупохранилища у реки.
Несмотря на то что оживших мертвецов переловили и сожгли, найти сторожей в трупохранилища стало делом почти невозможным, ибо страшная судьба прежних, кои были растерзаны и пожраны трупами, всякого отвращала от сей работы. Однако ж охотник служить в самом большом городском трупохранилище нашелся сразу — притом не за солидную плату, а благих устремлений для.
Сей старательный молодой человек по имени Аксель Твиде тщился самостоятельно постичь лекарское мастерство и втайне читал ученые книги; случилось так, что он как раз заканчивал солидный трактат Беддингса «О чумном поветрии и способах лечения и избежания сей болезни», когда в трупохранилище привезли очередного мертвеца — бедняка, обнаруженного в своей лачуге.
Дождавшись, пока трупосборщики уедут на своей телеге, пытливый юноша поспешил осмотреть вновь прибывшего и с ужасом обнаружил, что мертвец в точности соответствует описаниям умерших от чумы, приведенным в трактате почтенного Беддингса.
Не мешкая, Твиде бросился к лекарю, что жил по соседству. Там он добился, чтобы слуга разбудил лекаря, коего тут же повлек в холодное и зловонное трупохранилище — прямо в ночном колпаке и халате, не обращая никоего внимания на стоны и сетования довольно дряхлого старичка. Последний, впрочем, несказанно взбодрился, как только увидал жуткие нарывы, и кинулся прочь, оттолкнув юношу.
Дома старичок-лекарь — звали коего, хотя это и несущественно, Олаус Фиан, — придя в себя и облачившись сообразно случаю, отправился к герцогу Нейсу, который, помимо секуративной практики, ведал и вопросами медицины.
В приемной герцога старичок промаялся довольно долго, хотя и объяснил секретарю, что в столь позднее время не явился бы без сугубой нужды. Секретарь все одно, зевая, уверил просителя, что герцог примет хире Фиана только после пробуждения, завтрака и туалета, а чума, коли таковая уже наличествует, все равно никуда не денется.
Наконец герцог соблаговолил выслушать Фиана и, несмотря на достославную свою глупость, вызвал лейб-медиков Охастуса, Тиббера и Оббе и велел следовать с хире Фианом, дабы на месте засвидетельствовать случай смерти от чумы, коли таковая в самом деле имеет место быть.
Прибыв в трупохранилище, достойные хире обнаружили там уже не одно, а добрую дюжину тел, имевших все признаки чумного поветрия; разумный же юноша Аксель Твиде оставил свое место и бежал прочь от смертельной заразы, побросав не только кожаный фартук, служивший ему рабочей одеждою, но и научные трактаты.
Тогда-то хире Тиббер и бросился в полубеспамятстве прямо в Залу Советов, ибо хорошо помнил, как в годы его юности чума выкосила добрую четверть населения королевства.
Трупы в те страшные времена оставались лежать в домах, и ни один священник, ни один родственник — сын ли, отец ли, кто-либо из близких — не решались войти туда: могильщикам сулили большие деньги, чтобы те вынесли и похоронили мертвых. Дома умерших стояли незапертыми со всеми сокровищами, деньгами и драгоценностями; если кто-либо желал войти туда, никто не преграждал ему путь.
На переполненных кладбищах при церквях рыли преогромные ямы и туда опускали трупы целыми сотнями. Клали их в ряд, словно тюки с товаром в корабельном трюме, потом посыпали землей, потом клали еще один ряд — и так до тех пор, пока яма не заполнялась доверху. Предложение сжигать тела всех умерших не встретило понимания, посему в кострах горели лишь люди без роду и племени, у которых не обнаруживалось родственников.
В панике одни люди запирались в домах, ожидая, что будет. Другие предавались безудержному разврату. Третьи бежали — в тщетной надежде спастись.
Покойный Тиббер имел все основания полагать, что и на этот раз случится так же. Беда не заставила ждать: то там, то тут объявлялись новые и новые больные — больные именно чумою, и ничем иным.
Заболевание начиналось внезапно: человека охватывала лихорадка, он весь горел, словно объятый пламенем. Страшные головные боли одолевали его, и ничего из съеденного, даже глотка воды, не мог он удержать в себе, изблевывая наружу. Без сна и покоя метался несчастный на своем ложе, не узнавая окружающих и наблюдая вокруг себя ужасных чудовищ и демонов.
На коже появлялись красные пятна, быстро превращавшиеся в пузыри с гнойным содержимым; полопавшись, такие пузыри образовывали незаживающие язвы. Многие жутко кашляли, и с дыханием и хрипом выделялась у них обильная мокрота, порою сплошь состоящая из крови.
Беда была в том, что никто не ведал лечения чумы. Исходящие из народа и от нюклиетов способы лечения травами и родниковой водою не приносили плодов, и люди все равно погибали, лишь продлевая свои страдания, но нисколько не излечиваясь. Зачастую заболевшим чумою пускали кровь, что отнюдь не помогало, а наоборот, убивало их — впрочем, сие деяние было даже благим, ибо избавляло несчастных от излишних мук.
В первый же день после объявления о пришествии чумного поветрия специальным королевским указом велено было лекарям всех рангов и достоинств не покидать столицы под страхом немедленной смерти через удавление. Тому же, кто изыщет лекарство от чумы, пресветлый король обещал единовременное вознаграждение в сто тысяч монет, ежемесячную пенсию еще в десять тысяч и дом с прислугою.
Однако ж покамест лекари появлялись, чтобы в очередной раз обнаружить преужасные чумные пузыри и язвы, и никакие мольбы заболевших, никакие посулы денег не могли отсрочить неизбежный приход смерти.
Вид лекарей, с факелами в руках пробиравшихся по сумрачным улицам, внушал неизбывный ужас. Облачены они были в платье из плотной кожи, что покрывало туловище с головы до пят; полагали, что такое одеяние способно защитить от заразы. Лицо укрывала кожаная же маска, укрепленная при помощи ремешков и резинок; в большой клюв маски клали приятно пахнущие травы для фильтрации заразы, передающейся, как полагали многие ученые, по воздуху; в руках лекарь имел жезл, а в жезле — ладан, который, как верили, может уберечь от нечистой силы. В отверстия маски, назначенные для глаз, вставляли стеклянные линзы, и оттого казались врачеватели совершенными страхолюдами.
Жизнь в столице затихла; не доносилось вестей — ни благих, ни печальных — и из иных городов, поселков и деревень, как удаленных, так и близких. Те, кто успел покинуть столицу, не возвращались обратно; в огромный зачумленный город не приезжало ни гонцов, ни торговцев, ни каких-то иных гостей. Заставы, выставленные на главных трактах, стояли бездельным обычаем: гардам вменили в обязанность ловить и умерщвлять бездомных собак, расплодившихся в великом множестве и с большой охотою пожиравших трупы. Надобно сказать, что от чумы дохли и лошади, и козы, и коровы, и иной домашний скот, лишь кошкам, собакам и крысам все было нипочем. Порою собаки во злобе нападали на людей, и гардам помогали армейские латники с мушкетами, а также кирасиры, кои умело поддевали собак копьями, даже не спешиваясь.
Почти не работал городской рынок, уныло стояли в порту суда с опущенными парусами, только несколько военных кораблей продолжали исполнять в гавани сложные экзерциции, ибо ведавший военным флотом герцог-командор Тауберт полагал, что праздность суть сопутник любой хвори, тогда как беспрестанное ратное дело гонит болезни прочь. Как ни странно, на военных кораблях и в самом деле случаи чумы были чрезвычайно редки.
Именно на набережной, наблюдая при тусклом свете почти невидимого солнца за эволюциями военного корабля под широким брейд-вымпелом самого Тауберта, стоял сейчас отставной принципиал-ритор Базилиус Кнерц.
По исчезновении Хаиме Бофранка и его брата, известного, впрочем, старичку алхимику как фрате Гвиттон из Кольны, прочие гости субкомиссара пришли в великое недоумение. Рос Патс посетил Фиолетовый Дом, где разузнал, что хире Бофранк там не появлялся; еще раз навестили Проктора Жеаля, но и того не обнаружили дома, однако ж слуга поведал, что хозяин его не возвращался — с тех пор как ушел вместе с хире субкомиссаром и еще какими-то людьми. Посему молодой человек и старичок Кнерц пребывали в глубоком волнении, один лишь нюклиет, казалось, ни о чем не беспокоился, никуда не ходил, но лишь спал, ел и пил вино, увеличивая счет Бофранка перед хозяйкою.
Поскольку в гостинице «Белая курица» мест было предостаточно, Рос Патс счел нужным переселиться туда, сняв комнату и Бальдунгу. Сейчас молодой человек вновь пытался разыскать Бофранка при помощи обнаружившегося наконец Акселя Лооса. В то же самое время старичок-алхимик отправился на прогулку. Чумы он нисколько не опасался, ибо еще в стародавние времена вычитал в трактатах Юппа Люббе, что к омывшемуся в подземных водах чума не пристает, и тогда же поспешил искупаться в подземном озерце, что находится в пещере Модд-Скраа, ему же приписывают самые чудодейственные свойства, ибо в тех краях, как известно, обитал двадцать лет святой Скав, проповедуя слепым рыбам и иным тварям подземным неразумным.
Вокруг было пустынно, лишь одинокий господин с потерянным видом сидел на кнехте и смотрел в воду пустым взором. Вряд ли он увидал там нечто любопытное, ибо портовая вода была мутна, а на поверхности плавали дохлые рыбы и всякий сор.
Постукивая по мостовой тросточкою, Кнерц подошел к господину и осведомился:
— Не будете ли вы так любезны, хире, оповестить меня о том, как называется сей гордый корабль, из портов которого столь внушительно выглядывают пушечные жерла?
— Кто вы, незнакомец? — спросил тот, подняв взор свой от воды.
— Базилиус Кнерц, принципиал-ритор в отставке.
— Я — таможенный секутор Готард Шпиель, человек, который похоронил всю свою семью… А сей корабль называется «Святой Хризнульф».
Это был тот самый таможенный секутор, с коим Хаиме Бофранк беседовал не столь уж давно об упыре из Бараньей Бочки.
Продолжая прихотливую череду совпадений, корабль был тот же самый сорокапушечный «Святой Хризнульф», на котором Бофранк, грейсфрате Баффельт и покойный ныне славный малый — толкователь сновидений Альгиус Дивор плыли на остров Брос-де-Эльде, дабы предать огню впавших в ересь монахов Святого Стурла.
Понятное дело, Базилиус Кнерц о достославных этих событиях знать никак не мог; но, будучи человеком нрава добросердечного, он почитал своим долгом поддержать человека, впавшего в неизбывную печаль, хотя бы беседою и потому спросил:
— Вот как? Я вижу вдалеке еще несколько весьма грозных силуэтов — стало быть, это военный наш флот?
— Правильнее сказать, часть его, — отвечал таможенный секутор. — Если соседи с юга пойдут на нас войною, надежда наша — лишь на флот; да только я полагаю, никто на нас войною не пойдет, покуда мы сами не перемрем, а уж после, когда земля и воздух очистятся, они придут и заберут, что им надобно, да и воцарятся тут.
— Мысли ваши мрачные, однако ж не лишены известной логики, — признал Кнерц.
— То же самое сказал мне и почтенный хире Жеаль…
Старичок встрепенулся:
— Вот как?! Который же из них? Старый, как я слыхал от слуги, совсем слаб и немощен после ужасного происшествия на свадьбе…
— То-то что молодой. С час тому назад он стоял тут и смотрел на корабли, как только что вы; я хорошо знаком с его уважаемым отцом, посему справился о его здоровье, а такоже спросил, не коснулась ли его дома, упаси господь, чума. На что хире Жеаль ответствовал довольно загадочно…
— Каким же образом?
— Он сказал, что чума сия унесет худших, лучшие же пребудут в новом мире, очищенном и светлом. Слова эти больно ранили меня, ибо моя покойная супруга и обе дочери были словно ангелы, кто же возьмется говорить, что они были худшие? Но я сокрыл возмущение, и мы еще немного побеседовали о кораблях и возможной войне, после чего хире Жеаль удалился прочь, а я остался здесь…
— Ах, незадача! — сокрушенно вздохнул старичок-алхимик. — А я ищу хире Жеаля по неотложным делам, и надо ж такому случиться, что я всего на миг и опоздал. Что ж, не печальтесь, хире Шпиель! Вы, как я вижу, человек еще молодой, потому и жизнь лежит перед вами во всей красоте и приятности, чего не скажешь обо мне, стареньком и убогом. Советую вам: идите домой и не бродите попусту среди чумной заразы, а как беда минует, все у вас сложится хорошо.
Но несчастный Готард Шпиель, казалось, не слышал старичка; как только отставной принципиал-ритор удалился, постукивая своей тросточкой, на достаточное расстояние, он поднялся с кнехта и, не проронив ни звука, шагнул в грязную воду гавани.
Волны с чуть слышным плеском сомкнулись над ним, и таможенного секутора не стало, как не стало в эти дни многих и многих тысяч горожан.
ГЛАВА ПЯТНАДЦАТАЯ, в которой Хаиме Бофранк никак не может покинуть монастырь Святого Адорна, где у него случается довольно странная встреча
Клобук не делает монаха: Пусть траурный на мне наряд, Слеза не застит ясный взгляд И сердце прыгает, как птаха. Жеан, монсеньор ЛотарингскийМонастырь Святого Адорна находился на окраине столицы, там, где в море впадала неширокая, но быстрая река Депро.
Обитель сия ничем не напоминала храм Святого Бертольда, виденный и посещенный Бофранком в поселке, с которого началась сия ужасная история. Собственно, то был даже и не монастырь, а небольшой храм, при котором жили монахи, справлявшие необходимые службы и окормляющие духовно местное население. Монастырь же Святого Адорна выстроен был во времена весьма далекие из дикого камня, каковой доставляли сюда водным путем: вначале морем, а затем по реке, на берегу коей обитель и располагалась. Надобно добавить, что река служила исправно нуждам братии: помещались тут и живорыбные садки, и мельница; вода Депро поступала на монастырскую кухню, а также очищала довольно сложную систему удаления всевозможных отбросов и испражнений, имевшуюся в монастыре.
В общем, монастырь был довольно красив, а главное, выстроен с умом и не так, как говорится в стихах:
Есть зодчие: так и сяк Налепят арок, зубцов, Бойниц — и замок готов: Камни, песок, известняк; К тому же они и гурманы; Там ли искать красоту, Где вместо прямой — зигзаг?Как и большинство старых монастырей, обитель Святого Адорна во многом напоминала крепость, и в первую очередь толстою высокою стеною, на которой ныне и стоял Хаиме Бофранк, глядя на город, освещаемый слабой зарей, занимавшейся на востоке. Солнце так и не взошло, но даже это тщедушное свечение радовало глаз.
— Ворота монастыря затворились раз и навсегда — до той поры, покамест чумное поветрие не оставит город, — говорил субкомиссару настоятель, фрате Бернарт. Как и послушники, он был чрезвычайно уродлив — уродство сие происходило от рождения; лик фрате Бернарта был перекошен, один глаз закрыт безобразной опухолью, вторая, еще большая, бугрилась над правым ухом, оттопыривая его вбок и книзу совершенно отвратным образом, а нижняя губа настоятеля отвисала едва ли не ниже подбородка. Однако ж фрате Бернарт был, несомненно, мудр, как мудры бывают многие скорбные внешностью и оставившие вследствие того все земные радости. Это был священник из тех, о которых сам святой Адорн сказал как-то: «Они первые, но не для того, чтобы первенствовать, а для того, чтобы служить».
— Но мне необходимо выйти наружу, фрате Бернарт.
— Я понимаю вас, но не могу нарушать веками хранимые правила. В хворь и мор ворота монастыря закрываются, и нельзя войти снаружи, и нельзя выйти изнутри… Слышите, как звонят там и тут колокола? Это собирают мертвецов. Я слыхал, что грейскомиссар Фолькон велел выпустить из тюрем и расковать с галер самых отъявленных преступников, дабы они исполняли сей опаснейший труд, в обмен на свободу и отпущение всех грехов. Еще я слышал, что с начала поветрия умерло уже более пяти тысяч человек… К тому же пущен клич, что главными распространителями чумы являются неизлечимые больные, инвалиды, уроды и другие немощные люди, страдающие разного рода недугами. Утвердившееся мнение настолько овладело людьми, что на несчастных — большей частью бездомных бродяг — обратился лютый, не знающий пощады гнев. Их изгоняют прочь, не дают им пищи, а то и убивают, не имея страха господня. У нас есть резон опасаться, ибо послушники-адорниты скорбны обликом; ну как толпа решит ворваться в монастырь и в безумии своем уничтожит насельников обители сей?
— Я мог бы спуститься со стены на веревке или иным способом, позволяющим вовсе не открывать ворот, — сказал Бофранк. Чувствовал он себя намного лучше, его беспокоили лишь периодические головные боли, а шишка, образовавшаяся вследствие удара, уже почти рассосалась.
Он так и не ведал, кто нанес этот удар — брат ли, во что Бофранк верить отказывался, или же некто иной, подкравшийся к ним во тьме. Недаром столь тревожно вскричал Тристан «Посмотри, Хаиме, что это вон там?!»
Что же до пришедшей в город чумы, то Бофранк имел все основания полагать, что исполняются слова пророчества:
«…Подниму я мертвых,
Живых съедят,
Больше живых
Умножатся мертвые.
Так и умножатся, так и съедят, и не будет спасения».
Именно от мертвых тел, несомненно, началось чумное поветрие, и мертвецы хотя и пожрали некоторое количество народу в смысле буквальном, еще большее число пожирали сейчас в смысле переносном.
Но сейчас Бофранка более занимала иная часть пророчества. Имея достаточно времени для размышлений, он не день и не два обдумывал слова: «А кто возьмет крест да сложит с ним еще крест, и будет тому знак. А кто возьмет крест да сложит с ним два, будет тому еще знак».
Субкомиссар не ведал, что это могло бы значить. При тусклом свете лампы он взял несколько соломинок и, сделав два простеньких креста, попробовал сложить их. Получался либо двойной крест, либо некая восьмиконечная звезда — что-то было в ней от уже виденных Бофранком зловещих двух квадратов, но не более того. Когда же субкомиссар добавил к сим двум соломенным крестам еще один, получилось нечто вовсе уж невообразимое о двенадцати лучах, либо тройной крест. Опыты эти никак Бофранка не продвинули, и в отчаянии он порушил плоды своих трудов.
— Что за нужда вам за стенами монастыря, хире Бофранк? — спросил тем временем настоятель. — Здесь спокойно, и вы, будучи лишены привычных вам благ, имеете взамен защиту от чумы.
— Но в городе остались мои друзья, которые волнуются, не умея меня найти, — возразил субкомиссар. — К тому же…
Он осекся, ибо не мог поведать фрате Бернарту ни о пророчестве, ни о деяниях Люциуса.
— Пойдемте же в трапезную, ибо приспело время обеденное, — сказал настоятель, который тем не менее приметил замешательство своего гостя.
Трапезная располагалась в самом центре монастыря, дабы иметь хорошее освещение; от кухни ее отделял узкий проход, позволяющий избежать кухонных запахов. Запахи эти изгоняли и специально посыпанные на пол укроп и мята.
Дежурные прислужники сноровисто расставляли на длинных столах нехитрую снедь. Сборник обычаев монастыря Святого Адорна предписывал им не дуть на горячее при подаче блюд, а также обязательно оборачивать руки краем рясы, дабы не окунать пальцы в еду.
Трапеза предварялась пением псалмов — по мнению Бофранка, занятием скучным и необязательным, однако ж ему приходилось сидеть и внимать псалмам, ожидая, покуда не иссякнет молитвенный пыл братии и монахи не примутся за еду.
Как и обычно, завтрак состоял из вареной рыбы, каковую монастырские послушники выращивали в садках, а также из капустных и салатных листьев, с большим умением засоленных в летнее время, и хлеба. На обед братию ожидали все те же салат и капуста, в качестве же первого блюда подавался обыкновенно овощной суп, заправленный большим количеством толченого чесноку и луку. Заканчивался день снова отварной рыбой и горячим травяным настоем, заменявшим монахам чай.
Все кушанья были чрезвычайно пресными на вкус, ибо специи были чужды адорнитам, а из питья на столе стояли лишь кувшины с водою, впрочем, для Бофранка было сделано исключение и ему подавали сильно разбавленное водою же пиво.
Монахи вкушали пишу благоговейно и достойно, не озираясь по сторонам и не переговариваясь с соседями. Молчал и Бофранк, без аппетита ковырявший разваренную рыбину. По окончании трапезы все, включая Бофранка, специальными щеточками собрали за собою крошки — каждую субботу их смешивали с сырыми яйцами, отчего получалось омерзительное на вид и вкус кушанье.
После трапезы монахи удалились кто куда, дабы исполнять свои повседневные обязанности, ушел и фрате Бернарт, и субкомиссару осталось лишь пойти в монастырскую библиотеку, где безногий с рождения брассе Рокк, человек добрейший, несмотря на увечье, отыскивал для него прелюбопытнейшие книги.
Но не успел субкомиссар сесть за стол у окна и раскрыть древний труд «О волшебных плутнях», бог весть как — и не раз! — избежавший костра, как довольно поспешно прибежал его давешний знакомый брассе Антон и просил пожаловать к настоятелю по весьма важному делу.
Монах проводил Бофранка в некую комнату, помещавшуюся почти что под самой крышей главной башни монастыря. Это было маленькое помещеньице, освещавшееся потрескивавшими масляными лампами; вкруг стола сидели трое — настоятель фрате Бернарт и двое незнакомцев.
— Садитесь, хире Бофранк, вот кресло, — радушно предложил настоятель. Кресла в монастыре были те же стулья и табуреты, разве что со спинками и подлокотниками. Субкомиссар опустился на жесткое сиденье.
— Что за срочное дело? — спросил он.
— Перед вами — грейсфрате Шмиц и его секретарь, фрате Исидор.
Хаиме Бофранк в изумлении понял, что пред ним и в самом деле не кто иной, как председатель Великой Комиссии престарелый грейсфрате Шмиц. Насколько субкомиссару было известно, сей достойный муж отошел от дел еще лет двадцать назад, ходили постоянные слухи, что Шмиц-де умер или же возлежит на смертном одре, но все это были пустые разговоры. Великая же Комиссия, раз и навсегда определив рамки, в коих надлежит действовать монашеским орденам, с тех пор более не собиралась, однако и о роспуске ее не было известий, стало быть, избранный ее председателем Шмиц продолжал оставаться таковым.
Старый грейсфрате выглядел чрезвычайно дряхлым и немощным, но в дряхлости своей сохранил величие и строгость, в отличие от приснопамятного нюклиета Бальдунга. Трясущиеся руки Шмица перебирали рубиновые четки, а воротничок и манжеты отличались ослепительной белизною.
Секретарь председателя Великой Комиссии фрате Исидор был человеком средних лет, с весьма ухоженною бородою и полнейшим отсутствием какой-либо иной растительности на лице и голове; перед собою фрате Исидор держал несколько листов отлично выделанной тонкой бумаги и серебряную чернильницу. Крышка чернильницы была, впрочем, закрыта, очевидно, ничего записывать в данный момент секретарь Шмица не собирался, а чернильницу с бумагою носил при себе постоянно по служебной надобности.
— Польщен честью беседовать с вами, грейсфрате, — учтиво сказал субкомиссар. — Зачем я потребовался вам?
От старика, близко нагнувшегося к Бофранку, пахло горькой травой и пылью, словно от старой одежды, забытой в чулане на долгие годы.
— А вот некий Тимманс, который в одну ночь безвестно пропал, и никто его более не видел… — промолвил старик словно бы ни к чему и безо всяких предварений. — Знаком ли вам сей Тимманс?
— Знаком, но я не видал его уже преизрядно.
— Сколько я знаю, между вами произошли некоторые трения?
— Можно сказать и так, грейсфрате, — уклонился от прямого ответа Бофранк, удивляясь тому обстоятельству, что старик странным образом осведомлен о произошедшем во всех деталях.
— Ну и оставим его… А вот грейсфрате Баффельт. Вы не раз беседовали с ним в последнее время. О чем вы беседовали, хире субкомиссар?
Вопросы, задаваемые стариком, были куда как удивительны. Бофранк счел за лучшее возмутиться, воскликнув:
— Я не понимаю, какое у вас есть право выказывать подобный интерес, грейсфрате! Как чиновник Секуративной Палаты, я мог беседовать с грейсфрате Баффельтом о вещах самых различных и вас никак не касаемых. Точно так же грейсфрате Баффельт, как глава миссерихордии, мог беседовать со мною о чем ему заблагорассудится.
— Но не двумя ли квадратами запечатаны уста ваши, хире субкомиссар? — вкрадчиво спросил старик.
ГЛАВА ШЕСТНАДЦАТАЯ, в которой Мальтус Фолькон прибывает в столицу, к вящей радости и печали своего отца одновременно
Когда рассуждаешь,
остановиться или же двигаться дальше двигайся
движение суть жизнь вечная
Неизвестный монах из КлюниНа восточном въезде в столицу и в самом деле стояла застава.
Впрочем, стражники в основном отсиживались в кордегардии, благо путников на тракте не встречалось уже очень давно. Заметив двух всадников, из башенки вниз спустились несколько гардов и два латника, возглавляемые пожилым лейтенантом.
— Кто такие? — крикнул он, властно подняв руку, тогда как латники нацелились в подъезжавших из мушкетов, а гарды подняли свои арбалеты.
— Младший архивариус Секуративной Палаты Мальтус Фолькон с двумя спутниками! — прокричал в ответ юноша, прикрыв клетки с карликами полою плаща и привстав в стременах.
— Вам лучше спешиться и подойти, остальные пусть останутся на местах, — велел лейтенант.
Фолькон исполнил требование и показал свою бляху с потрескавшейся эмалью Лейтенант покачал головою:
— В худое время прибыли вы, хире Фолькон Верно, вы были в дальних краях?
— Более чем, — сухо заметил Фолькон. — Но нам нужно скорее в город — пропустите ли вы нас?
— Отчего не пропустить, — пожал плечами лейтенант. — Однако ж смею предупредить вас, что вся столица сочится заразою, и ехать туда крайне опасно.
— К сожалению, не могу последовать вашему совету, — сказал юноша, который за дни, проведенные в пути, разумеется, узнал о чумном поветрии. В рыбацкие деревеньки и поселки на побережье чума покамест не пришла, но беглецы из больших городов успели поведать о страшной напасти. Кое-кто из них после умер, и тела их сожгли вместе с вещами и даже драгоценностями. — Я исполняю высочайший приказ, и вместе с этими людьми должен непременно быть в Фиолетовом Доме.
— Что ж, не смею задерживать вас. — Лейтенант сделал знак своим людям и отступил в сторону.
Всадники с печальным любопытством осматривали окрестности, прилегающие к дороге. Предместья выглядели необычно: некоторые здания сгорели почти что до основания, а по остальным никак нельзя было судить, обитаемы ли они. По рассказам очевидцев Фолькон знал, что по окончании прошлого чумного мора многие дома стояли покинутыми до тех пор, пока не обрушились, — на севере столицы. До сих пор догнивали руины и никто не желал селиться в тех местах.
Навстречу ехала телега трупосборщиков, влекомая вперед древней худой лошадью. На телеге, пока еще пустой, восседал возница в мешковинном плаще, пропитанном дегтем, двое его собратьев по ремеслу брели рядом, держась за тележные борта. Они не обратили никакого внимания на всадников, хотя Фолькон окликнул их и спросил, поднят ли мост через канал Освьелле.
— Коли и поднят, можно объехать через Бомарк, — проворчал Фронг. Предводитель разбойников был очевидно встревожен.
Чем дальше всадники углублялись в город, тем явственней были ужасы чумы. Еще одна попавшаяся навстречу телега была загружена до отказа, мертвые тела даже не прикрыли дерюгою — так они и лежали, нагие и одетые, женщины и мужчины, дети и старики. Трупосборщики с крючьями в руках сидели на облучке и то и дело прикладывались к вину, передавая друг другу оплетенную бутыль.
Прошла древняя старуха, опираясь на клюку; пробежал куда-то, перепуганно озираясь, мелкий податной чиновник, коего даже в эти жуткие времена кормило единственно проворство ног; туда и сюда дорогу перебегали бродячие собаки, остерегавшиеся конных после многочисленных расправ, что учиняли над ними безжалостные кирасиры.
Внезапно Фолькон поймал на себе чей-то внимательный взгляд — на него не мигая пристально смотрел огромный серый кот, сидевший на каменной ограде конторы ростовщика, окна которой были наглухо закрыты массивными ставнями.
Кот глядел на юношу безотрывно, и Мальтусу неожиданно почудилось, что глаза у твари человеческие… Юноша сморгнул, и в тот же миг кот метнулся прочь, с шумом сокрывшись в кустах под оградою.
Над улицей с громким криком пролетела стая ворон, метко осыпав всадников испражнениями.
— Вот кому отрада, — проворчал Оггле Свонк, очищая плечо куртки.
Так они подъехали к площади, на которой установлен был кенотафий герцогу Фейрену. Здесь же помещалась харчевня «Единорог», из которой разносились звуки самого непристойного веселья: музыка, вопли и визг женщин, хриплые крики пьяниц, стук кружек и топот множества ног.
— Спешимся? — спросил Фолькон, однако Оггле Свонк предостерег его:
— Коли в городе чума, так надобно избегать мест, подобных этому, где собирается столь много народу!
— Однако ж именно здесь я вынужден буду с вами расстаться, — неожиданно сказал Фронг. — Благодарю вас, молодой хире, за помощь. Коли во мне будет нужда — и коли я, разумеется, буду об ту пору жив, — спросите меня здесь, в этой харчевне.
— Что ж, прощайте, — отозвался Фолькон, — и дай вам бог удачи!
Привязав лошадь к коновязи, предводитель разбойников исчез в дверях вертепа, празднующего пир во время чумы, а юноша и Оггле Свонк поехали дальше, пока не добрались без дополнительных приключений до Фиолетового Дома.
В этой части столицы жизнь хотя бы немного напоминала прежние дни. Работали магазины и лавки, пусть и не все; иногда по улице проезжали повозки, ходили люди — правда, с превеликой осторожностью, избегая любой близости, будто и речи не могло быть о том, чтобы коснуться другого человека.
Оставив Оггле Свонка смотреть за лошадью и прикрытыми плащом пленными карликами, Мальтус Фолькон проследовал в присутствие, объявив гарду при входе свой значок. На лестницах и в коридорах Фиолетового Дома было куда как менее людно противу обыкновенного. Встреченные юношей чиновники в удивлении раскланивались, ибо пребывали в уверенности, что Фолькон безвестно сгинул. Не тратя времени на пустые разговоры, юноша устремился в приемную своего отца, Себастиена Фолькона. Вопреки обыкновению, за столом не было секретаря Фриска и светильники оказались потушены; но из приоткрытой двери кабинета грейскомиссара пробивался колеблющийся свет — очевидно, горел камин.
— Отец! — воскликнул юноша, распахивая двери и входя.
В кабинете было темно, тяжелые портьеры плотно закрывали окна. Грейскомиссар сидел в кресле подле камина, в задумчивости вороша уголья кочергой. Он вскочил, кочерга со звоном покатилась по плиткам пола.
— Мальтус! Сын мой, ты жив?!
— Отец, позволь мне обнять тебя! — пылко вскричал юноша и тотчас заключил отца в объятия.
— Но как? Как ты спасся? Что случилось с тобою?! — принялся расспрашивать грейскомиссар, несколько успокоившись и усадив сына к камину. Юноше пришлось рассказать историю плавания на Брос-де-Эльде, включая бегство и кораблекрушение, постигшее лодку.
— Но где же хире Бофранк? Где хире Дивор? — спросил молодой Фолькон, едва окончив повествование.
— После того как злокозненный упырь был изловлен и, благодарение господу, казнен, с субкомиссаром Бофранком я более не встречался, — сухо отвечал Себастиен Фолькон. — Как мне сообщили, хире Бофранк стал допускать престранные поступки и высказывания; однако ж не буду основываться на домыслах, ибо сам я его давно не видел и не могу наверное сказать, где он и что с ним. Что до упомянутого тобою хире Дивора, я и подавно не ведаю, где он может обретаться, да и ранее-то знал о нем куда как мало. Но хватит расспросов и рассказов! Поспеши домой, передохни, переоденься с дороги!
— Прости, отец, — покачал головою юноша, — у меня есть неотложные дела, и потому я должен вначале отыскать хире Бофранка.
— Я пребывал в великой скорби, когда решил, что навек потерял тебя, а ты не хочешь ехать домой, — с укоризною сказал грейскомиссар. — Безумец Бофранк тебе дороже родных и близких! Как такое может быть?
— Я повторю: у меня есть неотложные дела, — стоял на своем юноша. — Что до хире Бофранка, то, посмею утверждать, он вовсе не безумец, но человек разумный и храбрый, и в нем я вижу для себя пример во многом. Еще раз прошу простить меня — как только я совершу, что задумал, тотчас вернусь в наш дом.
— Господь тебе судья, — тихо молвил Себастиен Фолькон, когда за сыном, чуть скрипнув, затворилась дверь. Тяжело вздохнув, он подобрал с пола кочергу и принялся вновь шевелить ею в камине, наблюдая огонь с видом крайней задумчивости и усталости.
ГЛАВА СЕМНАДЦАТАЯ, в которой Хаиме Бофранк узнает о Конфиденции Клириков и местопребывании грейсфрате Баффельта, а такоже становится заговорщиком
Эти старые школы мертвы, и последователи их слепы к смертному свету.
ПарацельсСубкомиссар молчал.
«Не двумя ли квадратами запечатаны уста ваши, хире субкомиссар?» Этот вопрос грейсфрате Шмица поставил Бофранка в тупик. Отсюда могло следовать лишь только одно: либо председатель Великой Комиссии имел везде свои глаза и уши, либо он был заодно с грейсфрате Баффельтом («Будьте осторожнее с чревоугодником! Слова его словно мед, честность его напоказ, но в мыслях его нет добра к вам!»).
— Вы говорите о тех самых двух квадратах? — спросил тем временем встревоженный настоятель Святого Адорна. — Тиара Люциуса?!
— Именно, фрате Бернарт.
— Но я чаял…
— Все мы чаяли, фрате Бернарт, — прервал настоятеля Шмиц. — И как удачно — не промысел ли сие господень? — что субкомиссар Бофранк оказался в вашем монастыре именно сегодня… Не тревожьтесь, хире Бофранк: я знаю, что человек вы честный, пускай и чуждый истинной веры. Здесь все свои, все — люди, коим ведомо то, что неведомо другим, и мы можем говорить о тайном открыто. Чтобы разрушить ваши подозрения, скажу: я спросил о Тиммансе, ибо сей молодой человек был приставлен к покойному грейсфрате Броньолусу Великой Комиссией; однако ж он не оправдал наших ожиданий и, мнится мне, был то ли очень скоро опутан медоточивыми речами Броньолуса, то ли попросту подвинулся умом. Мы знаем, кто был Броньолус, миссерихорд из Ванмута; знаем, кто суть грейсфрате Баффельт, что укрылся сейчас, убоявшись чумного поветрия, за стенами монастыря фелицианок.
— Но туда мужчины не допускаются! — удивился фрате Бернарт.
— Для грейсфрате и его свиты было сделано исключение. «Миссерихордия да будет сохранена во благо, и никаких препонов сему быть не может!» — так сказала, слыхал я, грейсшвессе Субрелия. Но не об этом разговор, не об этом. Более того, я не хочу продолжать его здесь и сейчас: я предлагаю вам, хире Бофранк, покинуть сии гостеприимные стены и ехать со мною, дабы обсудить происходящее и подумать, что можем мы сделать и не опоздали ли.
Бофранку не оставалось ничего иного, кроме как согласиться. Собрав нехитрые свои пожитки, он попрощался с добрыми уродливыми монахами и настоятелем, не преминув сказать последнему:
— Стало быть, врата монастыря все же отворяются!
— Кто говорил о вратах? — поднял брови фрате Бернарт.
И в самом деле, они покинули монастырь через старинный подземный ход, начинавшийся в подвале. Отворив тяжелую дверь, схваченную коваными железными полосами, брассе Антон обождал, пока поддерживаемый секретарем престарелый грейсфрате Шмиц и с ними Бофранк спустятся по крутым ступеням, после чего засов чуть слышно лязгнул, и все трое остались в сыром сводчатом коридоре, освещаемом лишь переносной масляной лампой, что держал в руке фрате Исидор.
Путешествие с Гаусбертой и верным Акселем — вот что вспомнил тут же Хаиме Бофранк. Но подземный ход противу горных пещер оказался достаточно коротким, и вскоре компания выбралась наружу — в неприметном домике за рекою, где их поджидал еще один монах с волчьей пастью; убедившись, что все в порядке, он взял у фрате Исидора лампу и исчез в подземном ходе, заперев его за собой.
У домика ждал закрытый экипаж, запряженный двумя лошадьми. Молчаливый возница взобрался на козлы, рядом с ним сел фрате Исидор — только сейчас Бофранк заметил, что секретарь вооружен шпагой и пистолетом, — а субкомиссар и грейсфрате Шмиц разместились внутри.
Солнечный свет, и без того весьма слабый, проникал внутрь экипажа через затянутые черной сеткою оконца у самого потолка, отчего Бофранк не мог видеть выраженье лица грейсфрате, но слышал только его голос.
И вот что говорил председатель Великой Комиссии:
«— Ударю я в дверь,
Засов разломаю,
Ударю в косяк,
Повышибу створки,
Подниму я мертвых,
Живых съедят,
Больше живых
Умножатся мертвые.
Так и умножатся, так и съедят, и не будет спасения. А кто ликом мертвец, тот и есть мертвец. Что мертвец скажет, то и правда, а что мертвец знает, то будет и он знать, и мертвецы станут поклоняться ему, а дары будут голова, да рука, да сердце, да кишка, да что еще изнутри. И тлен будет, и сушь будет, и мрак ляжет.
А кто поймет, тот восплачет, ибо ничего сделать нельзя.
А кто возьмет крест да сложит с ним еще крест, и будет тому знак.
А кто возьмет крест да сложит с ним два, будет тому еще знак.
А кто возьмет три розы, обрезав стебли, измяв лепестки так, что сок окропит землю, тому откроется. И будут три ночи и три дня, как ночь едина, и против того ничего не сделать, а только восплачет снова, кто поймет.
Не страшно, когда мертвый лежит, не страшно, когда мертвый глядит, страшно, когда мертвый ходит, есть просит. А кто даст мертвому едомое, тот сам станет едомое.
А кто поймет, тот восплачет, ибо ничего сделать нельзя…»
Знакомы ли вам эти строки, субкомиссар?
— Пророчество Третьей Книги Марцинуса Фруде, — сказал Бофранк. — Откуда оно вам известно, грейсфрате?
— Я все ж таки председатель Великой Комиссии, хире субкомиссар, — издав сухой смешок, отвечал Шмиц. — Но мне странно, отчего вы с самого начала не обратились за помощью к церкви?
— Вы шутите? После моего близкого знакомства с грейсфрате Броньолусом… К тому же это церковь обратилась ко мне за помощью: уж коли вы все знаете, должны бы знать и о просьбах ко мне, высказанных грейсфрате Баффельтом.
— Знаю-знаю, — сказал Шмиц. — Верите ли, хире Бофранк, но я мало что могу. Великая Комиссия существует лишь на бумаге, многие мои товарищи, что вместе со мною боролись за чистоту — истинную чистоту! — веры, давно уже на небесах… Тем печальнее мне знать о деяниях гнусных поклонников нечисти, проникших в самое сердце церкви. На счастье, вблизи грейсфрате оставался человек, который верен нам.
— Кто же он?
— Брассе Слиман, муж добрый и богобоязненный. Вы, верно, помните его — он приезжал вместе с Броньолусом в поселок и даже принял участие в потасовке, кою вы столь неосмотрительно учинили на дороге.
Да, субкомиссар помнил брассе Слимана из Рейсвеекке, толстого бородача, что походил внешним видом скорее на старшину латников. В последний раз он видел его, когда встречался с Броньолусом, в самый разгар возвышения миссерихордии. Тогда брассе Хауке — еще один из спутников грейсфрате, не имевший, кстати, оснований желать Бофранку добра, — прибыл прямо к подъезду дома Бофранка, и в карете как раз сидел брассе Слиман. Бородач, казалось, искренне обрадовался встрече, но не конестабль… Знать бы, что брассе Слиман — друг!
Субкомиссар попытался унять душевное волнение. Что проку сожалеть о минувшем? Да и неизвестно пока, каков на самом деле грейсфрате Шмиц. Ловушки могли ожидать повсюду, и доверяться председателю Великой Комиссии Бофранк не торопился. Да, он знал пророчество Третьей Книги — и что же? Его знал и Баффельт, и присные Баффельта, что же мешает Шмицу быть всего лишь одним из многих посвященных?
— Вы могли обратиться к герцогу, к королю, — сказал Бофранк.
— Вы тоже, — парировал Шмиц. — Вы вхожи к грейскомиссару Фолькону, даже к герцогу Нейсу. Что вам помешало?
— Я не церковник. Кто бы мне поверил?
— Я — церковник, но не поверили бы и мне, хире Бофранк. Ведь старик Кристиан Шмиц — всего лишь выживший из ума поборник веры, которого надобно поздравлять на церковные праздники, не допуская до дел серьезных. Более того, я, как мог, старался все эти годы поддерживать слухи о своей немощи, о старческой скудости ума. И преуспел в этом. Сознайтесь, вы были удивлены, увидав меня в достаточно добром здравии?
— Удивлен, грейсфрате.
— Вот видите… Я, наверное, во многом даже перестарался, ибо обнаружил в недоумении, что утратил былое влияние на некоторых персон.
Снаружи что-то тяжело стукнуло в стену экипажа, затем еще раз.
— В нас кидают камнями, — сказал Шмиц, обратив внимание на беспокойство Бофранка. — Чернь забрасывает булыжниками проезжающие экипажи; чего доброго, мы получим с этой чумою еще и бунт. А коли сбудутся предопределения насчет войны с южными соседями, что же останется тогда от государства?! Вот в чем причина нашего беспокойства, хире Бофранк.
— Вы все время говорите «нашего». Вас много? Вы имеете в виду некое тайное сообщество, которое поставило целью борьбу с люциатами?
— Да, вам, несомненно, требуется некая экспликация, ибо я вам друг. Мы предпочитаем называть себя Конфиденцией Клириков, хире Бофранк, и боремся не только с люциатами, но и со всем дурным, что вредит церкви и государству. Правда, должен признать, что в последнее время именно люциаты суть самая вредоносная из сонма червоточин, ослабивших веру. Но погодите немного, хире субкомиссар: кажется, мы приехали.
При помощи Бофранка и фрате Исидора престарелый грейсфрате выбрался из экипажа. Субкомиссар огляделся — эта часть города была ему незнакома: по обе стороны дороги стояли довольно старые дома без особых архитектурных изысков, выстроенные из серого и белого камня. Возле одного из таких домов и остановился экипаж, а на ступенях высокого крыльца прибывших встречал мальчик-слуга, который уже отворил двери.
— Круг наш малочислен, но, смею надеяться, во многом силен, — одышливо бормотал грейсфрате Шмиц, поднимаясь по ступеням. — Верно, вам ведомы епископ Фалькус и кардинал Дагранн.
— Я слыхал, что Фалькус окончательно утратил разум и покинул страну, — заметил Бофранк.
— В самом деле, наш брат Фалькус в полном душевном смятении решился на проповедь у Святого Камбра, и проповедь сия была скорее во вред, хоть и заронила зерна сомнения в умах… Сейчас вы сможете лицезреть его, и, смею утверждать, разум Фалькуса ныне чист и силен, как никогда, хотя сам он безжалостно мучим старческой хирагрою. Остальных двоих вы покамест знать не могли.
Комната, в которую они вошли, приятно поразила Бофранка, коему уже намозолили глаза скудные монастырские интерьеры. Вкруг низкого столика на причудливо изогнутых ножках, покрытых прихотливой резьбою, стояли мягкие кресла и диваны, на диванах же восседали люди в одеждах священнослужителей, среди которых Бофранк в самом деле узнал Фалькуса и Дагранна, других же двоих он видел в первый раз.
— Позвольте представить вам, друзья мои, волею случая столь удачно и своевременно обнаруженного мною в стенах Святого Адорна субкомиссара Хаиме Бофранка — нашего последовательного врага и, как выяснилось не столь давно, еще более последовательного друга, — провозгласил грейсфрате Шмиц, когда сидевшие обернулись им навстречу. — Исидор, налейте хире субкомиссару вина — после гостеприимства фрате Бернарта вино будет куда как кстати.
Бофранк упокоил свой зад в неге кресел и не без воодушевления принял отличного стекла бокал, наполненный желтым элоизским вином.
— Кой черт занес вас к Святому Адорну, субкомиссар? — сварливо спросил человек с маленькими свиными глазками, лысый и желтолицый.
— Хире субкомиссара крайне подлым образом стукнули по голове во время ночной прогулки, — ответил за Бофранка Шмиц. — Добрые монахи Святого Адорна подобрали его на улице, не оставив его тело на поругание мертвецам, и отнесли к себе, где лечили и пестовали вплоть до моего появления.
— Странно, как вы не преставились от их лечения и пестования, — буркнул свиноглазый. Видимо, он был человек склочный и ворчливый, о которых верно сказал поэт:
Мутны их речи, как наледь, Каждый привык только жалить, Тем больше их жизнь весела, Чем больше в ней сделано зла.А может, на самом деле оно было вовсе не так, но Бофранку свиноглазый священник не глянулся.
— Это еще что! — воскликнул кардинал Дагранн. — В обители Святого Силиуса меня потчевали тамошним пивом, а готовят его так: варят забродившие злаки, в числе которых ячмень, овес, полба, чечевица и даже вика, коей питают скотину, и сей не осветленный отвар именуют пивом. Каюсь, опробовав такое питье, я был скорбен животом добрых три-четыре дня…
Рассуждения о качествах пива показались Бофранку несколько странными и неуместными. Однако ж вино было отменное, и он сидел, молча прихлебывая его и пытаясь понять, что все-таки происходит вокруг.
— Хире Бофранк! — неожиданно обратился к нему Фалькус. — Перед вами, по сути, собрание старцев, возомнивших себя спасителями веры и в заблуждении этом пребывающих. Что видим мы? Страшные пророчества сбываются, лоно церкви заражено гнусными демонопоклонниками, коим прикрытие истинной веры помогает в деяниях жутких и богомерзких, и никому нет до сего дела. Мы полагали вас пособником Баффельта, да сгорит он в подземном пламени, но, к счастию, разубедились в оном подозрении. Жаль, что мы утратили последнего нашего человека в миссерихордии, ибо брассе Слиман, как мне донесли, был умерщвлен по велению Баффельта вчера вечером.
— Но не сделать ли нам своего шагу, пока дрянной живоглот обретается под подолом у фелицианок? — спросил свиноглазый.
— О каком шаге говорите вы, фрате Вольфус?
Стало быть, желтолицый священник — фрате Вольфус, епископ Ольсванны. Бофранк едва не фыркнул в свой бокал самым неучтивым образом, ибо вспомнил беседу свою с Гаусбертой по поводу подземных троллей.
— Я полагал, троллей все же не существует, — сказал тогда Бофранк.
— Так полагают все, кто не видел тролля, — возразила девушка.
— Но вы же не видели…
— А вы видели епископа Ольсванны, к примеру?
— Нет, не имел чести, — признался конестабль.
— Но он существует.
— Но он не тролль!
— А чем тролль по сути своей отличается от епископа, хире? — насмешливо спросила Гаусберта.
Видела бы она безобразный лик фрате Вольфуса! И в самом деле, иной тролль, должно быть, куда благообразнее. Впрочем, в последние дни события складывались таким образом, что Бофранка окружали сплошь уроды, убогие и юродивые, так что еще одним больше, еще одним меньше…
— Не пора ли наконец обратиться к пресветлому королю? — вопросил тем временем Вольфус.
— С чем мы придем к нему? Даже если бы нас допустили — а каждый из нас в опале, о чем не след забывать! — что мы предъявим? Да, солнце угасло, но оно вновь освещает землю, набирая прежнюю силу, и объяснять это явление можно по-всякому, в том числе и с ученой точки зрения, а что стоит Баффельту нанять пару мудрых мужей, кои расскажут королю о преломлении лучей, о водяных и ледяных парах, о исторгаемом вулканами пепле, что подъят был ветрами в невиданные высоты и застил солнечный свет… Да, мертвецы покинули могилы свои и шастали, не ведая покоя и смирения, свойственного сему племени, по улицам, — но нам тут же приведут в ответ многочисленные труды по данному вопросу, написанные королевскими судьями, епископами, миссерихордами, укрепленные показаниями многих достойных свидетелей и скрепленные герцогскими печатями. Да, чума обрушилась на нас — но она приходит каждое столетие! Нет, к королю идти не стоит, ибо нам нечего сказать ему во обличение гнусных люциатов… — с печалью заключил грейсфрате Шмиц.
— Что же нам делать и для чего вы привели сюда этого человека? — спросил из своего угла четвертый, человек столь хрупкого телосложения, что, казалось, руки его едва выдерживают тяжесть надетых на пальцы перстней, а тонкая шея с трудом крепит вытянутую, словно плод огурца, голову, покрытую нежнейшим седым пухом.
— Дело в том, фрате Гинкмар, что хире Бофранк куда более погружен в события вокруг пророчества Третьей Книги и происков Баффельта, чем кто-либо из нас. Хотим мы того или же нет, но именно хире Бофранк сегодня человек, которому суждено спасти веру и государство или же низвергнуть их в окончательный хаос. Его углядела третья сила среди прочих человеков, ему и возглавить поход против нее.
Торжественные слова сии прозвучали для Бофранка вовсе неожиданно, и он содеял то, что менее всего приличествовало такому возвышенному моменту: подавился глотком вина.
ГЛАВА ВОСЕМНАДЦАТАЯ, которая рассказывает, как в столицу наконец-то прибыла прекрасная Гаусберта Патс и что из этого вышло
Дитя мое, не имей дела с предзнаменованиями, так как они ведут к идолопоклонству; ни с чародеем, ни с астрологом, ни с магом и не испытывай желания видеть их, так как все они порождают идолопоклонство.
«Учение двенадцати апостолов» («Дидахи»)— Ах! — воскликнула хозяйка дома, в коем жил Хаиме Бофранк, распахивая дверь чрезвычайно неаккуратно. — Ах, простите, милая хиреан! Я ненароком не зашибла вас?!
— Нет-нет, — отвечала Гаусберта (а это была именно она), отряхивая забрызганный дорожною грязью подол платья. Девушка была одета изысканно и с большим вкусом: чего стоила хотя бы ее черная дорожная шляпка, украшенная яркой эгреттою, усыпанной в свою очередь мелкими белыми полудрагоценными камешками.
— Простите, что не приглашаю вас войти, — развела руками хозяйка. — Вы уж не обессудьте, хиреан, но вокруг зараза, и я опасаюсь любого человека улицы; что уж там, я и сама не выхожу без крайней нужды, хотя близ нас, слава господу и ангелам его, покамест никто вроде не умер…
— Я всего лишь ищу хире Бофранка, — сказала Гаусберта.
Она только что приехала в столицу в легкой одноосной повозке, запряженной одной лошадью, и сразу же отправилась к субкомиссару, однако ж ответ хозяйки ее разочаровал.
— Вот уж несколько дней, как хире Бофранка нету, — так сказала женщина, прижимая к объемистой груди склянку с уксусом, которым собиралась протереть дверную ручку и молоточек. — Он то появляется, то исчезает, не говоря ничего; а уж после того, как из его комнаты выскочил преужасный мертвец, могый сожрать меня и почтенного хире Кнерца, я и вовсе не знаю, что думать!
— Хире Кнерц, стало быть, здесь?!
— Здесь, где же ему еще быть. Вернее сказать, он был здесь, а сейчас живет в гостинице «Белая курица» — тут совсем недалеко, ежели идти так, так, а потом вот так и налево мимо старого парка, где канал.
— Благодарю вас, добрая женщина, — сказала Гаусберта, коротко поклонившись на мужской манер, и вернулась к повозке.
— И вам, вам дай бог здоровья, хиреан! — крикнула вслед хозяйка и принялась протирать ручку двери уксусом, который, как говорили, успешно помогает от чумной заразы.
Гостиницу «Белая курица» Гаусберта Патс и вправду нашла совсем скоро, и ее появление оказалось приятным сюрпризом для всех собравшихся там — исключая, быть может, нюклиета, каковой спал в кресле, разметав свою неопрятную бороду по груди. Принципиал-ритор Базилиус Кнерц и Рос Патс об эту пору играли в камешки у очага.
Деликатно уделив некоторое время молодым супругам — на объятия и поцелуи, которые неизбежны у любящих не только после долгого расставания, старичок-алхимик спросил, удачно ли доехала хириэль Гаусберта и не тревожили ли ее в дороге какие напасти.
— Добралась я на удивление скоро, — отвечала та, — и, думаю, успела как нельзя более кстати. Но скажите, где же хире Бофранк?
— Как вы и советовали, я приехал к нему и не нашел дома, — поведал Кнерц. — Я уже оставил было записку, в коей вкратце сообщил то, что велено было передать, как из комнаты хире Бофранка выскочил мертвый слуга его; конечно же, я его тотчас прикончил и по ряду причин немного задержался, а вскоре явились хире Патс с этим никчемным одичалым отродьем, — говоря так, старичок кивнул на Бальдунга. — Мы сообща пытались разыскать хире Бофранка, но так и не нашли; немного погодя он явился сам, но прежде того приехал еще один человек, что разыскивал хире Бофранка, — некий фрате Гвиттон из Кольны.
— Кто бы это мог быть? — изумилась Гаусберта. — Как выглядел сей фрате Гвиттон?
— Толстяк, ничем не приметный, кроме большого количества жиру, как это обыкновенно бывает с толстяками…
— Толстяк?! Уж не Тристан ли это Бофранк, брат хире субкомиссара?!
— Тот самый, о котором я обязан был предупредить хире Бофранка?!
— Именно.
— Ах, старый я дурак! Куда же смотрели глаза мои! — возопил старичок и попытался в сердцах преломить об колено свою трость, но не преуспел в этом — то ли помешал спрятанный внутри клинок, то ли жест этот долженствовал лишь передать смятение Кнерца без ущерба для его личного имущества.
— Теперь уж поздно. Что же произошло дальше?
— Хире Бофранк явился израненный и усталый и поведал, что его соратник именем Дивор убит упырем, а Люциус бежал… Да, и еще сказал он, что знает теперь, кто есть сей Люциус, — и сетовал, что это близкий друг его Жеаль, коему хире Бофранк верил ранее безгранично. Как и когда вселился в того Люциус, неведомо, и это удручает особенно.
Тут проснулся Бальдунг; поморгав, он посмотрел на девушку, ничего не произнес и вновь закрыл глаза.
— Затем хире Бофранк, — продолжал старичок Кнерц, — едва оправился от своей раны, счел обязательным навестить Фиолетовый Дом с целями, известными лишь ему. С ним увязался и фрате Гвиттон, который, как вы полагаете, есть злополучный брат хире Бофранка. С той поры я не видел ни одного, ни другого, зато в городе объявился Жеаль — по крайней мере, один печальный господин, с которым я беседовал на набережной, лицезрел его и даже имел с ним разговор. Я поспешил домой к Жеалю, но слуга сказал, что хозяин не появлялся, отчего я сделал вывод, что Жеаль сей скрывается в ином месте, если вообще не покинул столицы.
Гаусберта погрузилась в молчание, разглядывая окно, за которым как раз начался сильный дождь.
Струи стекали вниз, причудливо искажая силуэты домов и деревьев, где-то неподалеку скорбно звонил церковный колокол, и ему вторил разбитый и надтреснутый колокольчик телеги, собиравшей мертвецов.
— Есть ли здесь комната, где я могла бы остаться одна? — спросила девушка.
— Есть, и не одна, — сказал ее супруг. — Ты желаешь отдохнуть после долгой дороги?
— Отдыхать мне теперь уж некогда, — печально отвечала Гаусберта. — Отнеси же туда мои вещи, милый Рос, и не входите ко мне никто, покамест я сама не выйду.
Маленькая комната о двух окнах обнаружилась дальше по коридору. Заплатив хозяину гостиницы просимое, Рос Патс удалился к себе, не посмев перечить молодой супруге или расспрашивать ее, а Гаусберта заперлась изнутри и принялась разбирать вещи — не все, но лишь небольшую суму из жесткой кожи с распорками, что закрывалась на маленький висячий замочек. Из сумы она извлекла множество узелков и мешочков, после чего тщательно закрыла окна ставнями, так что в комнате стало совсем темно, и зажгла четыре свечи, извлеченных все из той же кожаной сумы, расставив их по всем четырем углам.
Затем Гаусберта разоблачилась донага, и вид сей был поистине прекрасным и возбуждающим, но поскольку никого более в комнате не было, порадоваться открывшейся картине могли лишь клопы, да мыши, да пауки в своих тенетах.
Сделав так, она опустилась на колени в середине комнаты, прежде сдвинув в сторону тканый половик, покрывавший дощатый пол. На досках нарисовала она углем несколько сложных знаков, сверяясь с маленькой книжицею; затем из двух стеклянных флакончиков капнула на каждый знак по нескольку капель черной и красной жидкости совсем без запаха; потом высыпала меж ними добрую горсть мелких желтых камешков, подобных тем, что находят средь осыпей в меловых горах.
Оставаясь на коленях, Гаусберта накрыла ладонями соски своих прекрасных грудей и в такой позе принялась повторять четыре слова на языке странном и непонятном, все громче и громче, все быстрее и быстрее, так что они слились в одно сложное слово. Над рисунками возникло легкое зыбкое туманное марево, какое бывает над раскаленной плитою; оно дрожало все явственней и сильнее, пока желтые камешки не пришли в беспорядочное на первый взгляд движение.
Они перекатывались, сталкивались с чуть слышным шорохом, пока не сложились в вереницы, напоминающие письмо, но состоящее из букв непривычных и непонятных. Гаусберта, не прерывая заклинаний, внимательно прочла их, после чего смешала, отъяв одну ладонь от груди, и камешки тотчас принялись с превеликим послушанием складываться в новые, столь же загадочные слова.
Смешав их в третий раз, Гаусберта замолчала. Поднявшись, она спокойно погасила свечи и затем, одевшись, отворила ставни на окнах, дабы уже при дневном свете собрать камешки и стереть с полу дивные знаки. Накрыв половиком уже едва заметные рисунки, девушка окончательно уничтожила все иные следы своего гадания — а это было, несомненно, гадание, ибо называть сие колдовством было бы грубо и неправильно.
С лицом спокойным и даже удовлетворенным Гаусберта вернулась к своему супругу и его спутникам.
— У меня важные вести, — сказала она. — Проснитесь, хире Бальдунг!
— Я не сплю, красавица, — пробурчал нюклиет, ворочаясь в своем кресле. — Если очи мои закрыты, сие не значит, что закрыт и мой разум.
— Коли он есть, — ехидно пробормотал себе под нос старичок-алхимик.
— Хире Бофранк жив; к тому же, как я могу судить, он спешит сюда с вестями. Но жив и невредим и Люциус; он близко, он почти что рядом, и он исполнен ярости, ибо вред, причиненный нами, куда больший, нежели мы полагали. Планы его расстроены, и исполнение их медлит. Кажется, я знаю, что делать далее, поэтому лучшим будет дождаться хире Бофранка, выслушать его и сообща принять решение. Времени у нас осталось не столь много, как хотелось бы; но сил у нас, мнится мне, не столь мало, как мы думали, — так станем же уповать на это! И не ждите покоя, ибо покоя нам не будет ни на этом свете, ни на том, коли мы окажемся бессильны.
Так сказала Гаусберта Патс, девушка, порой принимающая обличие кошки, и слова ее породили гнетущее молчание, нарушаемое лишь стуком дождевых капель по стеклу и потрескиванием ольховых поленьев в очаге.
ГЛАВА ДЕВЯТНАДЦАТАЯ, в которой мы обнаруживаем проповедь Тристана Бофранка и узнаем о его судьбе, воистину достойной человека подлого и двуличного, хотя бы впоследствии он и раскаялся
Ни здесь, ни там, как ни старайся он, Не будет к лику славных сопричтен. Пейре Карденаль«О том, что человек — шарлатан, лгун и распутник, свидетельствуют толстые губы и привычка держать рот открытым.
Многое скажут внимательному человеку зубы: так, зубы правильной формы говорят обыкновенно о честности и правдивости; если же зубы остры и растут тесно друг к другу, это указывает на здоровое телосложение и предвещает долгую жизнь. Если же они выдаются вперед, то изобличают дерзкого и напыщенного болтуна, а также предполагают неустойчивость характера.
Многое можно сказать о человеке, созерцая такую выдающуюся часть любого лица, как нос. Люди с крючковатыми носами смелы и властны, если же при этом у них вдобавок заостренный подбородок, следовательно, им грозит некое физическое увечье. Такие же свойства имеет вздернутый нос. Люди же с приплюснутыми носами не слишком умны; они погрязли во лжи, суете и роскоши. При этом они непостоянны и, хотя сами освоили в совершенстве искусство лжи, с легкостию верят в то же время чужим лживым речам.
Скажу также о волосах. Косматые люди имеют темперамент горячий, оттого и волосы у них сухие и грубые; обладатели же мягких, шелковистых, приятных на ощупь волос имеют миролюбивый, робкий и кроткий нрав.
Далее об ушах: здесь любые излишества, в ту или иную сторону, вредны. То есть уши чрезмерно большие следует беззастенчиво именовать ослиными, полагая их признаком невежества и глупости. Чрезмерно же маленькие уши — обезьяньи и указывают на непостоянство и частые заблуждения.
Но, пожалуй, наиболее открыто говорит о сущности человека его лоб. Коли лоб высок и округл, владетель его весел и умен, сговорчив и искусен во множестве ремесел. У кого низкий лоб, прикрытый волосами, тот сварлив и прост в манерах, гневлив, жесток и жаден… однако при этом ценит красоту, особливо в архитектурных сооружениях. Люди с округлым шишковатым лбом и редкими волосами умны и предприимчивы, они сохраняют великодушие и благородство даже во времена невзгод. Такие люди ценят мирские удовольствия, любят почести и охотно принимают на себя ответственность».
Тристан Бофранк закрыл прихваченную с собою «Физиогномику» и обратился к тусклому зеркалу с изрядно потрескавшейся амальгамой, висевшему на стене подвального помещения, где обретался преступный аббат.
Прежде толстяк оскалил зубы и нашел их довольно правильными и ровными, что говорило, согласно книге, о его честности и правдивости. Нос Тристана был приплюснут самым нарочитым образом, и аббат решил не обращать на это внимания, основываясь более на зубах, равно как не стал долго созерцать и свои уши, маленькие, словно раковины моллюсков-песочниц. Лоб же аббата был округл, но не шишковат; таким образом, зеркальное отображение порождало противоречия, и Тристан решил, что недостаточно еще проштудировал столь удачно прихваченную книгу, спасавшую его от скуки в часы вынужденного безделья. Посему аббат отворотился от зеркала и принялся усердно молиться.
После встречи с фрате Хауке на кладбище Святой Мианеллы Тристана Бофранка привели в этот подвал и заперли здесь до поры; Хауке объяснил, что так нужно для спокойствия самого аббата. Как только вопрос о посвящении разрешится, за Тристаном придут.
Аббат не роптал, ибо ведал, сколь сложен путь посвящения. Сам же он, как новиций, не мог претендовать на ускорение сего пути, сетовать и роптать, но мог лишь возносить хвалу господу за ежедневное наставление и непротивление деяниям Люциуса.
Много лет минуло с той поры, как в далекие времена юности соученик будущего аббата, брассе Анвельдт, рассказал ему о еретическом учении Марцина Фруде. Попервоначалу богобоязненный Тристан возмутился, однако ж позже, томясь в одиночестве своей кельи, призадумался о силе, которая «полагает собой середину между богом и дьяволом», и о рассуждениях Фруде, что «над каждым добром и злом есть судья, который и определяет, хорошо или дурно то и это». Что коли так оно и есть на свете?
В следующий раз Тристан уже сам вызвал Анвельдта на беседу, а когда выяснил, что уверовать в учение Марцина-Люциуса вовсе не есть отстраниться от веры в господа, разрешил свои сомнения самым удачным образом: доносить на Анвельдта не стал, хотя и собирался, а полученное знание сохранил в глубине своей души и памяти.
И вот судьба распорядилась так, что случилось ему вновь свидеться с Анвельдтом. Будучи уже кардинальским ликтором, он приехал к Тристану и напомнил о давешнем разговоре, а также рассказал о том, что верование Люциуса возрождено и возвышение его грядет небывалое.
Посему к приезду Хаиме Бофранка в отцовское поместье Каллбранд аббат уже окончательно решил переменить свою стезю. В самом деле, что ожидало его в аббатстве? Сытая и спокойная старость, а затем и смерть. Казалось бы, неплохо, но Тристан желал куда большего — и это большее предлагали ему люциаты.
Тристан полагал, что и брат его, будучи приближен к самому грейсфрате Баффельту, имеет к люциатам отношение самое непосредственное, но речения брата оттолкнули Тристана — и, как выяснилось, вовремя. Да, как рассказали аббату, брат его Хаиме и в самом деле оказал делу Люциуса кое-какие услуги, но человек это далекий и даже вредный общим устремлениям. Теперь же, во времена смутные и беспросветные, Хаиме стал вовсе опасным, и именно Тристану поручено было в знак посвящения в более высокую ступень прервать земной путь субкомиссара.
Преступление сие показалось Тристану страшным, и несколько ночей он плакал в своей аббатской келье, укрывшись с головою периной. Тщетно бродил он по монастырскому саду, уверяя себя в том, что убийство это будет промысел вышний, а не корыстное и богопротивное деяние. Тщетно листал книги, отыскивая примеры братоубийства, совершаемого во благо, — он их находил, но душе и разуму все одно не было покоя.
Разрешил сомнения и треволнения аббата Тристана Бофранка сам грейсфрате Баффельт. Несколько дней тому сумрачный монах доставил в аббатство короткое письмо, скрепленное печатью Баффельта, кое гласило:
«Смиренный сын мой Тристан!
Удел твой тяжек, но светел. Веруй, и воздастся тебе по деяниям твоим, но не согласно молве людской и судам земным, а общего блага для. Отставь же сомнения и соверши, что предначертано, и благословение мое станет тебе опорой и подмогой».
И вот Тристан приехал в столицу. Вначале, не обнаружив брата, он уже было обрадовался и собрался отправляться назад, но вспомнил, как от полученного письма словно повеяло на него невыразимой силою и страхом. Тут-то и сказал себе Тристан Бофранк: «Велено мне — значит, сделаю», — и остался в доме брата под фальшивым именем. Бог весть, как сложилось бы, выдай его брат вольно или невольно; однако ж Хаиме не выдал, и Тристану только и оставалось, что дрожащей рукою отыскать на кухне тяжелый пест, а после неумело ударить им брата…
Как уже было сказано, после встречи на кладбище фрате Хауке препроводил его в этот подвал, где стояли большая кровать, ночной горшок да светильник. Три раза в день монах, не говоря ни слова и не отвечая на вопросы, менял ночной горшок, а также приносил пищу — как правило, кусок вареного мяса с картофелем или жидкую кашу из злаков да кувшин воды. Привыкший в бытность свою аббатом к изысканным блюдам, Тристан не роптал и покорно съедал скудное приношение, а ночами не столько спал, сколько молился, маясь вопросом, верно ли поступил и не будет ли теперь ввергнут в котлы адские, кипящие смолою, в них же варятся грешники до скончания времен… В кармане одеяния своего укрыл он «Физиогномику», которая и скрашивала ему однообразные дни, проводимые в подвале.
Дверь отворилась, и явился обычный монах, хотя время трапезы еще не настало. Тристан едва успел подметить, что нос у монаха крючковатый, а вот подбородка из-за густой бороды не разглядеть, так что неясно, грозит ли монаху предрекаемое «Физиогномикой» физическое увечье, как монах сказал:
— Идемте, фрате Бофранк. Вас ждут.
Вмиг вспотевший аббат подобрал с ложа книжицу и поспешил за монахом.
— Доверия, что вам оказано, вы не оправдали! — грозно воскликнул фрате Хауке. — Хаиме Бофранк жив и здоров, а вы, стало быть, обманули нас — нас и самого грейсфрате!
— Но как же?.. — пролепетал испуганный аббат. — Я же…
— Возможно, вы убоялись гнева господнего, когда подняли руку на брата? Но во имя торжества дела общего что стоит смерть одного? Тем паче брат ваш — всего лишь человек, запятнавший себя сношениями с дрянными колдунами и еретиками. У вас есть время все исправить, — сказал фрате Хауке, сложив руки на груди. — Убирайтесь вон и помните: покамест жив субкомиссар, вы сами нам не нужны. О предательстве не помышляйте — у миссерихордии длинные руки! И когда она доберется до вас — самые ужасные ваши сны будут лишь шуткою в сравнении с тем, что придется вам испытать, аббат Тристан.
С этими словами он кивнул крючконосому монаху, который пребольно ухватил толстяка за загривок и, протащив еще по лестнице, вышвырнул на улицу, прямо на грязную мостовую.
При падении аббат сильно ушибся и едва не переломал себе руки, но кое-как поднялся и заковылял прочь, моля бога смилостивиться над ним. Не разбирая дороги, Тристан Бофранк шел, сам того не желая, к той части города, что именовалась Бараньей Бочкой, — именно там обитали не столь давно и преужасный упырь Шарден Клааке, и преданный смерти вместо него бедолага Волтц Вейтль. Ныне же и без того имевшая репутацию клоаки Баранья Бочка окончательно превратилась в вертеп; сюда не заворачивали ни патрули гардов, ни кирасирские разъезды, ибо чумное поветрие, выкосив значительную часть обитателей местечка, подвигло уцелевших на невиданный кутеж и разврат, дабы скрасить ожидание неминучей гибели.
Стеная и охая, толстый аббат увидал в окнах одного из домов, невзрачного и покосившегося, яркий свет. Руководствуясь скорее желанием прибиться к людям, нежели здравым рассудком, Тристан распахнул дверь и оказался в преддверии ада.
Огромная комната, перегородки которой были сломаны, являла собою импровизированную таверну. Украденные из разоренных лавок бочки с вином и пивом стояли одна на одной вдоль стен, а за длинными столами безумно пировали люди. В очаге жарился на вертеле целый кабан, от которого подходившие то и дело отрезывали полусырые куски. Кто лежал без чувств, кто тискал и хватал женщин в бесстыдно расстегнутых платьях, иные же прелюбодействовали прямо на столах, среди винных луж и объедков — по двое, по трое и даже по четверо, составляя изобретательные и в то же время преотвратные композиции… Другие плясали под дикую музыку, исторгаемую весьма своеобразным оркестром из флейт, лютней и маленьких барабанов, что в ходу в восточных землях. Совсем юные дети и древние старики скакали в одном дьявольском хороводе, трещали свечи, жир с подгоравшей туши капал в очаг, и сотни глоток вопили каждая о своем…
— Поп! — вскричал кто-то, указывая на Тристана. — Поп! Заходи, наливай вина и веселись, ибо дни твои сочтены!
Ярко размалеванная девица ухватила растерянного аббата в свои объятия и, зловонно дыша прямо в лицо, спросила:
— Нравлюсь я тебе, красавец толстячок?
— Пусти меня! Пусти! — только и смог пробормотать аббат, прежде чем девица впилась ему в губы липким и отвратным поцелуем. То был поцелуй самой смерти, и аббат Тристан Бофранк отдался ему и телом, и душою; в ушах грохотали голоса и барабаны, яркие огни неслись вокруг, словно в праздничном фейерверке, ноги скользили в лужах блевотины, покрывавших пол…
Едва распутная девица оторвалась от губ аббата, как ему поднесли деревянный ковш с вином, и Тристан принялся жадно хлебать, давясь и кашляя, пуская пузыри и снова давясь…
Внезапно он оттолкнул опустевший ковш и возопил, тщетно пытаясь перекричать адскую какофонию:
— Каюсь! Каюсь, добрые люди, ибо дурного возжелал я, недостойный аббат Бофранк!
— Аббат! Аббат! — принялись вопить пьяницы, размахивая кружками, посудою, а некоторые так даже непристойно оголенными удами.
— Прочитай нам проповедь, аббат, может, мы станем ближе к богу, коли все еще нужны ему!
— Взбирайся на стол, жирный боров, а то ты слишком короток в ногах и теле и тебя не видно!
— Проповедь! Хотим проповедь!
Тристан Бофранк и в самом деле взгромоздился на стол, подсаживаемый десятками рук, кои не только толкали его вверх, но и щипали, и шлепали. Помавая руками, он вскричал:
— Пируете?! Прелюбодействуете?! Дни ваши последние?! Так поймите, неразумные: кто имеет бога Целью, тот должен беспрестанно полагать образ его пред духовными очами своими! То есть должен он иметь в виду того, кто господь неба и земли и всей твари, кто может и хочет дать ему вечное спасение. В каком бы обличье или под каким бы именем ни представляли бы вы себе бога, знайте, что он — господь и он — вседержитель. Явит ли он божественный лик свой и в нем сущность и могущество божественной природы, это будет — благо; будете ли вы смотреть на бога как на спасителя, избавителя, творца, властителя, блаженство, могущество, мудрость, истину, доброту и прозревать в нем бесконечный разум божественной природы, это также будет — благо.
— Где же бог? Кто же? — крикнул какой-то мордастый увалень с кружкою в одной руке и полуобглоданной костью в другой. — Каков он, а, аббат?! Как звать его?!
— Имена, какие мы даем богу, многочисленны, но высокая природа бога проста и не имеет имени — для тварей, кои суть и вы, и я, недостойный. Но мы измышляем божественные имена ради его непостижимого благородства и высоты и потому, что мы не можем ни назвать его, ни выразить вполне. Каждое имя — лишь малая часть богопознания! Но всецело господа не может познать никто. Однако ж мы стремимся к богу, полагаем его целию! Этому исканию предстоят сердечная привязанность и любовь, ибо познавать бога и пребывать без любви суть топтаться на месте безо всякого смысла. Поэтому человек будет всегда, во всех своих делах, сердечно стремиться к богу, которого он отыскивает и любит поверх всякой вещи…
Грешник — а все вы грешники, ибо зрю я перед собою вещи ужасные и святотатственные! — дабы обратиться от своих грехов к достойному покаянию, должен встретить бога всем сокрушением сердца, а такоже отречением от греха. Тогда он получает в этой встрече от милосердия божия верную надежду на вечное спасение и прощение своих грехов…
Но уже никто не слышал его; лишь какой-то оборванец подсунул аббату новый ковш, думая, что пришлец зарабатывает своими речами на выпивку. Шатаясь, Тристан присел на свободный конец лавки и уставился в ковш, где пузырилось на сей раз преотличное розовое вино.
— Радуйтесь! — кричали вокруг. — Радуйтесь!
— Брата я предал, бога я предал… — шептал аббат. — Грешен, грешен… Есть ли мне прощение?
И вновь сотни ног колотили в пол и сотни рук хлопали в ладоши, и Тристан Бофранк сызнова приник к вину, не чувствуя его изысканного вкуса, но осязая, как разум его словно бы сжимается и прячется в самые далекие закоулки, а терзания совести — ибо что есть совесть, как не совместное знание с богом о глубинах души человеческой? — утихают в пьяном беспамятстве. Это было именно то, чего более всего хотел сейчас аббат Тристан.
ГЛАВА ДВАДЦАТАЯ, в которой Хаиме Бофранк, обретший новых сторонников и благодетелей в лице Конфиденции Клириков, не знает тем не менее, что ему предпринять
Вы, несущие на себе наши тяготы, должны находить у нас помощь и совет от чистого сердца.
Нарбоннские каноны— Не знаю, ведомо ли вам, — произнес Хаиме Бофранк, откашлявшись, — но я только что потерял друга, а вернее сказать, двух друзей. Что я могу еще сказать?!
— Для начала расскажите нам все, что знаете, — попросил Шмиц. — Тем временем я велю принести обед, а за едою мы постараемся что-нибудь придумать, ибо грош нам цена, если шайка старых церковных крючкотворов не сможет изыскать способ сохранения истинной веры.
То и дело слушая рассуждения о сохранении истинной веры, Бофранк все более убеждался, что перед ним фанатики — точно такие же, как и обретающиеся при грейсфрате Баффельте, но получалось так, что с этими фанатиками ему нынче по пути, тогда как с Баффельтом дороги субкомиссара разошлись. Ничего не оставалось, как рассказать все: и о происшествии в поселке, и об убийстве Броньолуса, и о путешествии на Брос-де-Эльде, и о том, каковой оказалась последняя встреча Бофранка с упырем Шарденом Клааке, и о том, что Люциусом оказался человек, коего Бофранк почитал прежде самым своим близким другом.
— Да, вижу я, что враг наш куда как силен, а борьба наша трудна вельми, как и всякая борьба с опасной ересью, — сказал грейсфрате Шмиц. — Главным же среди того, что относится к наставлениям в этой борьбе, я считаю как можно глубже понять и обдумать, какой род оружия к какому врагу следует лучше всего применить. Надо, чтобы оно у тебя всегда было наготове, дабы никогда самый злокозненный враг не смог напасть на тебя, безоружного и неподготовленного. В мирских войнах нередко бывает передышка, когда враг уходит на зимние квартиры или когда наступает затишье. Пока мы ведем борьбу в этом обличье, нам, как говорится, ни на шаг нельзя отойти от оружия. Никогда нельзя покидать лагеря, никогда нельзя не быть на страже, потому что наш враг никогда не уходит. Более того, когда он спокоен, когда изображает бегство или отступление, тогда он готовит особенно большие каверзы; никогда не следует поступать осторожнее, чем в те дни, когда он создает видимость мира, никогда не следует нам дрожать меньше, чем когда он открыто восстает на нас. Поэтому первая забота — о том, чтобы дух не был безоружным. Несчастное тело мы вооружаем, дабы не бояться нам разбойничьего меча, и как не вооружим душу, дабы она была в безопасности? Враги укрепились, чтобы погубить нас, а мы стыдимся поднять оружие, чтобы избегнуть гибели? Они стоят на страже, чтобы разрушить, а мы не стоим на страже, дабы уцелеть и спастись?
— Мудро, мудро сказано, — подытожил кардинал Дагранн. — Остается уповать, что Баффельт пребывает в смешении трусости и властной алчбы, что, как известно, суть худшее сочетание из всех возможных…
Многоумные рассуждения стариков клириков были прерваны тем, что принесли обед: овощное рагу, жареные кровяные колбаски с соусом, пюре из тыквы с пряностями, сладости и еще вина. Приступивши к трапезе, свиноглазый епископ спросил вдруг:
— Стало быть, Деревянный Колокол теперь снова у Люциуса?
— Да, он снова у него, и я, к сожалению, не знаю, где находится сам Люциус.
— Баффельт, похоже, собрался выждать, что произойдет, — заметил вроде бы не к месту кардинал. — Тут-то нам и резон добраться до самого Баффельта.
— Но пресветлый король… — начал было Фалькус, однако кардинал прервал его:
— Короля незачем ставить в известность — как мы уже решили, доказать ему что-либо будет чрезвычайно затруднительно. В то же время нам доподлинно известно, где обретается Баффельт; отчего бы не воспользоваться безвластием, что царит вокруг, и не захватить его?
— Какими силами?
— Хире Бофранк говорил, что у него есть друзья, — сказал кардинал. — Я полагаю, это добрые люди, которые не откажут нижайшей просьбе старцев, всю свою жизнь посвятивших служению господу.
При этих словах Бофранк вспомнил внушающий трепет монастырь с высокими черными стенами, который созерцал, когда направлялся на встречу с несчастным Волтцем Вейтлем.
— Уж не собираетесь ли вы брать монастырь приступом? — спросил он насмешливо. — Тогда не только моих друзей, но и полка пикинеров не хватит! Да и воин из меня никудышный, ибо, как сказано в стихах:
Со ста болезнями в костях Уж не стою я на ногах, — Так весь пресытился я ими. Ум отупел, упал мой дух; Худой и легкий, словно пух, Томлюсь терзаньями глухими.— Допустим, приступом монастыря фелицианок и в самом деле не взять, — сказал Шмиц, — но вот войти в него тайным путем вроде того, через который вы покинули монастырь Святого Адорна, мы бы сумели без особого труда.
— Подземный ход?! — воскликнул Вольфус.
— Каждый монастырь, выстроенный на манер крепости, имеет подземный ход, а то и два. Ведомо мне, что такой ход есть и в монастыре Святой Фелиции, и начало свое он берет как раз под его стенами с южной стороны. Верный человек обещал мне в случае нужды указать точное место; кажется мне, что пора настала… Я пришлю к вам гонца с запискою, где сей человек обретается.
— Хорошо. Раз вы утверждаете, что лучшего выхода нет, мне самое время поехать и переговорить с моими друзьями, дабы убедить их — или внять их словам и ответить вам отказом, — сказал Бофранк, так и не притронувшийся к обеду. — Я могу быть свободен?
— Разумеется, вас никто не неволит, — поджав губы, отвечал кардинал. — Но задержитесь еще ненадолго, ибо мы, как вижу, не решили главного: что делать дальше, когда Баффельт окажется у нас в руках. Опасаюсь, что весть о пленении главы миссерихордии скоро дойдет до короля и все мы запросто можем окончить свои дни на плахе или костре… Уверен, что нашу Конфиденцию представят заговором рехнувшихся священнослужителей, коим приспичило устроить внезапный церковный переворот.
— Как только Баффельт окажется у нас, события примут совсем иной оборот, — заметил Шмиц. — Толстяк труслив и слаб волею; пригрозив ему хорошенько, мы выведаем все, что потребно. Вот только нет во мне уверенности, что Баффельт может знать о местопребывании Люциуса, который, как поведал нам досточтимый хире Бофранк, суть некий ученый муж Проктор Жеаль. Но радует меня уже то, что мы сможем примерно наказать богопротивного грейсфрате, очернившего все деяния жизни нашей. Поделом же ему:
Того, кто ввысь вознесен, Здесь ждет, о горе, распад: Цветок, лия аромат Сладчайший, был обречен Смертельному лезвею; Пусть видят в том божий суд Все, что по миру бредут, Как странник в чужом краю; Позор и забвенье грозят Тем, кто путь совершал наугад, Не ища его колею.— Разве сказанный вами стих уместен применительно к Баффельту, грейсфрате Шмиц? — с укоризною спросил Гинкмар, который почти все время молчал.
— А если и нет, что с того? Главное, что стих недурен, — усмехнулся престарелый председатель Великой Комиссии, и все согласились с ним, ибо и в самом деле было так.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЕРВАЯ, в которой все собираются воедино и очень кстати приходятся изловленные Мальтусом Фольконом карлики
Я не принуждаю вас давать присягу, ибо вы, веря, что клясться запрещено, свалите грех на меня, который принудил бы вас к нему, но если вы желаете присягнуть, то я приму вашу присягу.
Бернар Ги «Practica»Памятуя, что старичок Базилиус Кнерц остановился в гостинице «Белая курица», Бофранк решил отправиться прямо туда, не тратя времени на посещение своего дома, где взять ему все равно было нечего.
В гостинице не составило труда отыскать комнату, кою занял Кнерц, и первой, кого увидал Бофранк, войдя туда, была Гаусберта.
— А вот и вы! — воскликнула девушка с легкою укоризною в голосе, словно она всю ночь дожидалась Бофранка, вышедшего ненадолго по малозначащим делам и сильно запоздавшего с возвращением.
— Как я рад видеть вас! — вскричал субкомиссар, с трудом удерживая радость, переполнявшую его сердце. Он был счастлив не только потому, что приезд Гаусберты означал еще одно раскованное звено в цепочке тайн; куда сильнее был счастлив Бофранк просто видеть прекрасный лик, не раз являвшийся ему во сне, и слышать незабвенный милый голос. Кстати припомнились ему и строки:
Взор ее трепетный — мой властелин; На королевском пиру Возле нее, как велит господин, Я на подушке сижу. Зубы — подобие маленьких льдин — Блещут в смеющемся рту, Стан виден гибкий сквозь ткань пелерин, Кои всегда ей к лицу, Кожа ланит и свежа, и румяна — Дух мой таится в плену…— А уж мы как рады, — проскрипел из своего кресла Бальдунг, и только тут Бофранк обнаружил, что все его воинство собралось в комнате и, кажется, держит совет. Но еще более поразил субкомиссара человек, стоявший у окна с видом загадочным и изо всех сил сдерживавший — сие явственно видно было по напряженному лицу его — сильные и глубокие чувства.
— Мальтус Фолькон! — воскликнул Бофранк. — Вот кого не чаял я увидеть!
— Однако ж я тут, хире субкомиссар, — со скромною улыбкою произнес юноша. — Посмею вас удивить еще более: жив и окаянный Оггле Свонк, которого я привез с собою, — он, верно, спит сейчас по своей привычке в комнате прислуги, если только не играет в карты или камешки.
— Но куда вы подевались в тот вечер? — спросил молодой Патс. — Мы где вас только не разыскивали…
— Не будем об этом, — отказался отвечать Бофранк. — Я полагаю, что и чудную историю вашего спасения, хире Фолькон, мы также выслушаем позже, как бы ни хотелось мне ее услышать. Я имею сообщить вам важное известие: мы не одни в своих тщаниях, и не знаю, к добру сие или же к худу.
Сказав так, Бофранк поведал друзьям о том, как попал он к добрым адорнитам, о Конфиденции Клириков и исходящем от нее предложении пленить Баффельта, скрытно проникнув в монастырь фелицианок.
Слова эти вызвали немалое замешательство, лишь Бальдунг, по своему обыкновению, проворчал:
— Не хватало нам только святош.
— Вздор! — сказал Рос Патс в волнении. — Покамест мы будем возиться с грейсфрате Баффельтом, Люциус исчезнет бог весть куда.
— Он и без того бог весть где, а предложение, что сделали нам отцы-клирики, из тех, от которых невозможно отказаться, — возразила Гаусберта. — Оставим Люциуса; я хочу прежде сказать, для чего собрала всех вас.
Только тут Бофранк понял, что и в самом деле именно Гаусберта собрала всех воедино, и в который раз поразился мудрости сей молодой особы.
— Хире Кнерц — человек честный, мудрый и преуспевший в науке, именуемой алхимией, — начала Гаусберта, не обратив внимания на гнусное хихиканье, что издал после этих слов нюклиет Бальдунг. — Постиг он многое, и в том числе ведома ему Третья Книга; знания хире Кнерца будут нам солидной помощью.
Услыхав сие, старичок приосанился и поправил свою и без того аккуратно уложенную бороду.
— Бальдунга знаю я с детства и еще девочкой бегала в его лесную хижину, где он учил меня ловле птичек и самым простым заговорам. Знание его иное, нежели у хире Кнерца, но оно от земли и света, от воздуха и воды, от цветов и деревьев, тварей летучих и ползучих, и сила его не менее полезна нам.
— От птичек, это надо же! — прошептал с улыбкою Кнерц так, чтобы нюклиет непременно услыхал его.
— Хире Бофранк, может быть, и не сведущ в магии, алхимии, ведовстве и прочих вещах, что доступны немногим, но волею судьбы именно он оказался в самой середине тайного круга. Было сие предопределено или же нет, однако ж сейчас хире Бофранк с нами и иного пути у него нет. Обо мне вы знаете; все, что получила я от отца и от мудрейшего Фарне Фога, употреблено будет во благо нашего союза. Стало быть, нас четверо; число сие непростое и, как я совсем скоро объясню вам, имеет совершенно особый смысл. Но прежде я хочу спросить хире Фолькона: нужно ли вам принимать с нами все опасности и горести, ибо вы, как я понимаю, человек здесь случайный и никаких обязательств перед нами не имеете?
— Как вы могли подумать такое, хириэль Гаусберта?! — воскликнул юноша, покраснев в благородном возмущении. — Какое бы там ни было число, я готов разделять все беды и напасти вместе с вами, с хире Бофранком и остальными достойными людьми, что находятся в этой комнате.
— Будет вам, будет, Мальтус, — сказал с непривычной для себя мягкостью Бофранк. — Верно, хириэль Гаусберта сказала это лишь для порядку, никакого сомнения в вас не испытывая.
— Да, это в самом деле так, — согласилась девушка, — и я полагаю, что вы, хире Фолькон, окажете нам помощь неоценимую. Однако ж скажите, что у вас вон там, в этих коробах или клетках, что вы столь неумело прикрыли от посторонних глаз одеждою?
— Сие суть каменные карлики, — приосанился юноша, — изловленные мною в Люддерзи, городе, на который дрянные уродцы отчего-то напали, выйдя в превеликом множестве из-под земли.
— Карлики? — оживился Бальдунг. — Уж сколько лет я не видывал ни одного! Стало быть, они еще выбираются на свет? Верно, их подтолкнули к тому проделки Люциуса и сгустившаяся многодневная тьма, говорят же, что, коли одна нечисть полезла из дыры, жди и вторую, а за ней и третью… Осторожно, мудрая хириэль, они могут укусить!
Гаусберта успела с чрезвычайным проворством отдернуть руку, и карлик лишь щелкнул зубами, не в силах просунуть свое гадкое личико меж прутьями.
— Вот уж находка так находка! — радостно воскликнула Гаусберта. — Вы и представить себе не могли, хире Фолькон, сколь полезен окажется ваш груз!
— Я полагал, что сии отвратные недомерки едино и годны, что для ученых мужей — пускай описывают их повадки и ужимки, как делают это с заморскими обезьянами и разными склизкими чудами, — заметил Фолькон в растерянности. — На что же они нам?
— Как известно, карлики эти из мира, чуждого нашему, — пояснила девушка, дразня карлика подобранной с полу палочкой. — Верно, вы понимаете, что и Люциус — существо давно уже не нашего мира. Соответственно и убить или поранить его нельзя оружием, что изготовлено в нашем мире, ибо оно для него почитай что не существует.
— Что же пользы от карликов? — все еще ничего не понимая, спросил юноша.
— Гофрид Мельник писал в книге, именуемой «Удаление греха», что достаточно окунуть меч в святую воду, чтобы и сам меч стал святой — и сталь его, и эфес. Окунем же и мы мечи в нечто, принадлежащее миру, чуждому нам, но своему для прахоподобного Люциуса. Для сего, ежели верить книгам, надобно истолочь карликов живыми в ступе и сей субстанцией смазать оружие — мечи и стрелы, кинжалы и пули, — дабы стали они разящими.
— Как сие жестоко! — пробормотал Мальтус Фолькон, но Гаусберта уже отправилась искать ступу и пест.
Хозяин предоставил ей просимое, даже не спрашивая зачем; и ступа, и пест оказались весьма старыми, в незапамятные времена выточенными из розового камня, — размером пест был с человеческую руку и премного весил, а ступа — достаточно глубока и просторна.
Карлики, кажется, почувствовали беду и забились в углы клеток, а физиономии их не выражали ничего, кроме беспросветной злобы. Осторожно, дабы карлики не задали стрекача, Гаусберта вытряхнула их через открытые дверцы в ступу и поспешила прибить пестом. Некоторое время в комнате раздавался лишь хруст костей и чмокание соков, разминаемых тяжким пестом, отчего юный Фолькон, не удержав рвотных позывов, выбежал в коридор. Гаусберта прилежно перетирала останки карликов, добавляя в ступу некую жидкость из небольшого флакона до тех пор, пока все вместе не превратилось в омерзительную с виду однородную кашицу.
— Теперь субстанция должна настояться, — пояснила Гаусберта, отставляя окровавленный пест в сторону.
Возможно, совершенное девушкой действо и в самом деле кто-то назвал бы прежестоким, но Бофранк с некоторых пор не тратил времени на рассуждения по поводу жестокости, справедливости и прочих категорий, кои весьма расплывчаты и трактуются совсем по-разному в разных же случаях применения.
— Мы же встретимся с верным человеком грейсфрате Шмица, как сказал хире Бофранк, — продолжала Гаусберта, — и в самом деле попробуем поговорить с Баффельтом со всей пристрастностью, на которую способны. И еще: хире Бофранк, полагаю, вы уже поняли, что тот подлый удар нанес вам брат ваш Тристан. Все указывает на то, что он служит тем силам, коим мы противостоим; впредь старайтесь быть осторожнее и остерегайтесь брата.
— Правду ли вы говорите, хириэль Гаусберта? — спросил Бофранк в сомнении. — Я не видел, кто ударил меня.
— Может, я и не права, но предпочла бы знать, где сейчас пребывает ваш брат, — сказала Гаусберта. — Ибо лучшие друзья и близкие родственники порою оказываются на поверку первейшими нашими врагами.
И, припомнив историю Проктора Жеаля, Бофранк не смог с нею не согласиться.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ВТОРАЯ, в которой снова появляется Тристан Бофранк, а наши герои в поисках Проктора Жеаля покидают столицу и проникают в монастырь фелицианок
Дурные поступки обыкновенно увлекательнее благих; это означает, что совершать дурные поступки нас зачастую подталкивает нечистый, который, как известно, весьма весел нравом.
Ги де ФризеОтверзнув очи, Тристан Бофранк долго не мог понять, где он находится. Лежал он прямо на полу, а почти что над его головою нависало нечто отвратительное, и аббат с натугою силился понять, что бы это могло быть…
О боже!
Вскрикнув, Тристан вскочил с полу и отбежал в сторону — и неудивительно, ибо отвратный предмет оказался сморщенным и волосатым задом прегадкой старухи, которая с шумом испражнялась рядом с тем местом, где только что лежал аббат.
Пошатываясь и будучи терзаем жестокой головной болью, Тристан огляделся. Вокруг вповалку лежало множество людей, и аббат вначале с испугом представил, что все они мертвые, но нет — иные шевелились, иные уже ползли к винным бочкам, дабы увлажнить алчущие глотки; дополнял зломерзкую картину вонький запах гари из давно потухшего очага.
— Красавчик-толстячок, — услыхал аббат и в ужасе поспешил прочь.
Оказавшись снаружи, на открытом воздухе, он с наслаждением сделал несколько глубочайших вдохов и попытался вспомнить, что же произошло с ним вчера. Прохладная погода немного освежила его, но все члены и хребет ныли, а желудок то и дело порывался исторгнуть съеденное и выпитое накануне.
Испросив у господа прощения, Тристан Бофранк обтер руками толстощекое лицо свое и, тяжело вздыхая, двинулся вперед по улочке в надежде отыскать путь к дому брата своего.
Редкие прохожие сторонились оборванного, перемазанного блевотиною путника, полагая, что перед ними зачумленный. Собственно, так оно и было: в помрачении своем аббат не видел чумных нарывов и язв у многих лежащих на грязном полу; не распознал он и мертвецов, что уже начали пухнуть и раздуваться…
Но как бы то ни было, Тристан отыскал дом и принялся стучать, покамест не появилась хозяйка.
В грязном и истерзанном толстяке она едва распознала того благообразного и аккуратного, учтивого священнослужителя, что приехал не столь давно навестить своего уважаемого брата.
— Коли вы ищете хире Бофранка, — сказала она, не тратя много времени на беседу, — так ищите его в гостинице «Белая курица»: верно, он там, ибо там обитают все его прибывшие друзья.
Сказавши так, женщина поспешно закрыла дверь, ибо также заподозрила в аббате зачумленного, и поспешила за уксусом, дабы обтереть ручку двери, за которую схватился несчастный. Тот тем временем тяжко вздохнул и, трудно ступая, направился в гостиницу, в помрачении содеяв по пути еще один крайне неосмотрительный поступок, а именно — напившись из ручейка, что струился в каменной чаше на перекрестке. Коли чума еще медлила до того приступить к братоубийце, тут она решила взяться за него основательно…
Бофранк, вопреки словам своей хозяйки, в гостинице отсутствовал, поспешая на встречу с доверенным человеком грейсфрате Шмица.
Сколь ни странно, но это оказался уличный музыкант, одетый, как подобает сему докучливому и пройдошистому племени, в яркие поношенные одежды, изукрашенные дешевыми побрякушками. Он ждал в условленном месте, о коем субкомиссара известил запискою председатель Великой Комиссии, и играл на небольшой лютне некий печальный мотив.
— Верно, вы и будете хире Бофранк? — беззаботно спросил музыкант, оставив струны, когда субкомиссар приблизился к нему.
— Да, это я.
— Печальный у вас вид, ничего не скажешь, удачно описал мне вас грейсфрате. Можете звать меня Франци, — представился музыкант, поднимаясь и убирая лютню в специальный чехол из мешковины, носимый за спиною. — Я лютнист и сочинитель, акробат и жонглер, лицедей и еретик, коли вам угодно. И ежели вы хотите спросить, укажу ли я вам подземный ход, ведущий в монастырь фелицианок, то я отвечу утвердительно.
— Но откуда тебе ведом сей скрытый путь, лютнист? Ты не монах и не священник, насколько я могу судить.
— Люди моего состояния знают много тайн, потому что привыкли вертеть головою, изыскивая, где бы подзаработать или просто неприметно подхватить кусочек или монетку на пропитание, — весело сказал Франци. — В отличие от горожан богатых и степенных, мы посещаем разные места, где говорят об интересном и невиданном, а чего не услышим, то сами примечаем. Отчего бы, скажите, было мне не приметить вход в столь приятное место, как монастырь Святой Фелиции? Правда, я не был уверен, что ход не осыпался и до сей поры проходим, но не так уж давно — а правильнее сказать, месяца три тому — я встретил беглую монахиню, которая выбралась из монастыря как раз из-под…
— Монахиню?! — удивился Бофранк. — Что понудило ее оставить монастырь? Наверное, жестокие порядки и истязания, о которых столько говорят?
— Ладно бы истязания — к ним как раз готовились многие послушницы, но творилось там иное. Девушку эту звали Саския, и происходила она из весьма почтенной семьи с запада. Она поведала, что монастырь частенько навещал грейсфрате Баффельт, отчего там воцарились ужасающе развратные нравы. Малочисленная свита Баффельта не принимала в этом участия, но сам грейсфрате преуспевал за десятерых — вот, кстати, опровержение слов о том, что тучные люди хотя и похотливы, но несостоятельны по мужской части. Так вот, по словам Саскии, монахини, доселе почитавшиеся наиболее святыми, добродетельными и преданными вере, повадились, полностью обнажившись, танцевать перед ним и прохаживаться в нагом виде по саду, называемому Садом Костей, ибо там захоронены умершие монахини. Баффельт принуждал послушниц ласкать друг друга на его глазах и в его присутствии предаваться наиболее греховным гнусностям… Юная Саския была свидетельницей шуточного обряда обрезания, осуществленного над искусственным членом, который был сделан из теста и за каковой затем бились распутные монахини, дабы удовлетворить свои непристойные желания…
Нет ничего удивительного, что воспитанная в строгости девушка противилась разврату, тем более что недостойный Баффельт при каждом удобном случае трогал руками интимные части ее тела, хотя она всегда была одета подобающим монахине образом.
— И все это она рассказала тебе? — недоверчиво спросил Бофранк.
— Кроткая швессе Саския, может статься, и не рассказала бы; а вот актерка из бродячего театра Саския поведала — за стаканом вина, когда сидели мы в «Воротнике судьи».
— Имей мы свидетельства еще нескольких монахинь, Баффельту не поздоровилось бы.
— Может, и так; однако ж кажется мне, что этот жирный пузырь не то околдовал бедных женщин, не то они там все посходили с ума, — заключил музыкант. — Я помогу вам, но смотрите же, чтобы не случилось, как в известной песенке:
У нас самих кружится голова: Их обманув, себя надеждой тешим, Свои ошибки повторяем те же.— Что проку мне в твоих поучениях, лютнист? Как бы ни случилось, твоя роль проста — веди нас туда, где начинается потайной ход, а там уж посмотрим.
— Уверяю вас, что с кинжалом и удавкою я обращаюсь столь же умело, как с лютней, — заметил Франци.
— Тогда веди нас, лютнист. Где и когда мы должны ожидать тебя?
— А сколько вас? — поинтересовался Франци, ковыряя ногтем в изрядно прореженных зубах.
— Четверо или шестеро.
— Что ж, не столь и много. Будет ли драка?
— Если без нее нельзя будет обойтись.
— О, уверяю вас, хире, никогда нельзя обойтись без драки, ежели существует хотя бы наималейшая возможность для нее. Но полноте, я буду ждать вас близ монастыря, в рощице на бугорке — там и обретается начало подземного хода, однако без меня вам его отродясь не сыскать.
Возвращаясь в гостиницу, субкомиссар в раздумьях шагал по самой середине улицы без боязни быть затоптанным, ибо в эти дни мало кто ездил по городу. В одном месте за Бофранком увязались было несколько подозрительных оборванцев, сущих негодяев с виду, но он откинул плащ так, чтобы виден был пистолет, и оборванцы отстали.
Верно ли поступал Бофранк? Все большее и большее количество людей ввязывалось в историю, имевшую столь обыденное начало в далеком поселке, но в том, стало быть, имелся резон… К примеру, лютнист Франци, наверное, знать не знал, зачем указывает подземный ход. Хотя ему-то и не следует ничего объяснять, ибо, как написано мудрецом: «С простонародьем говорите лишь о простых вещах; все до единой тайны высшего порядка сохраняйте для своих друзей; волов кормите сеном, а попугая — сахаром… иначе волы растопчут вас, как это часто случается».
Да и сомнениями своими субкомиссар с некоторых пор не особенно терзался, памятуя, как ангел, что привиделся ему, рек: «…Куда хуже было бы, знай ты твердо, что душа твоя во тьме, а сердце — во злобе. Тернист и скользок путь твой, и нет тебе ни фонаря, ни посоха… Иного пути у тебя уже нет, и что ни сделаешь ты, все будет к добру иль худу, и ничего уж потом не поправишь».
Что ни сделаешь — будет к добру иль к худу. Вот и пойми! В сердцах Бофранк пнул валявшуюся на дороге лошадиную подкову и пребольно ушиб ногу. Самым недостойным образом запрыгал он на одной ноге и оттого не мог заметить, как выбежал из подворотни человек и приблизился к нему.
Это был не кто иной, как Тристан Бофранк, его брат.
— О Хаиме, брат мой! — возопил он, а вернее сказать, восхрипел, ибо голос его утратил прежнюю мелодичность, а лик был грязен и воспален.
— Тристан?! Ты ли?!
— Я, я, о брат мой, я, негодный злодей, впавший в ересь, желавший больше, нежели могу принять!
— Что говоришь ты?
— Я… я предал тебя, о Хаиме! Видишь ли, как я каюсь?!
— Идем со мною, Тристан, — сказал субкомиссар, поддерживая брата под локоть. — Тебе надобно умыться и переменить платье; возможно, мы найдем что-то твоего размера.
— Нет, Хаиме, нет! Я не могу идти с тобой. Я не знаю, куда устремить стопы свои, но я не могу смотреть на тебя, ибо разум мой помрачается и я не ведаю, что сотворю в следующий миг. Прощай же, милый брат! Прощай!
С этими словами аббат ударил Бофранка ногою, ловко вывернулся и с необычайной прытью кинулся прочь. Субкомиссар остался стоять, аки соляной столп, так был он поражен этой встречей.
Он не стал ничего рассказывать своим соратникам, да и не до того было: юный Фолькон и старичок Кнерц снаряжены были к оружейнику, дабы оснастить отряд всем необходимым для проникновения в монастырь, нюклиет с Гаусбертой вели некую скрытную беседу, шепчась и выводя пальцами в воздухе странные знаки и символы, а Рос Патс занимался обедом, ибо гостиничные повар и кухарка намедни умерли, а хозяин готовить не умел. Оггле Свонк, в свою очередь, был направлен к дому Жеаля, чтобы со свойственной ему наглостью и нахрапистостью вызнать, не объявлялся ли там означенный Жеаль и нет ли от него каких известий.
Из оружия решено было взять пистолеты — не такие, как у Бофранка, но вполне удачные двухзарядные, ибо заговорщики не ждали со стороны монахинь и свиты грейсфрате разумных оборонительных действий, а смятенную толпу, как известно, ничто так не образумит, как пистолетный выстрел. Недостающих лошадей взялся продать им хозяин гостиницы — как полагал Бофранк, лошади эти принадлежали умершим постояльцам, но выбирать было не из чего, да и цена была весьма разумной.
Дождавшись возвращения Фолькона и Кнерца, отобедали (стряпня Патса оказалась не дурна на вкус) и принялись собираться в дорогу.
Мощеный тракт, подле которого располагался монастырь фелицианок, за небрежением и дождями стал малопроходимым, так что лошади то и дело оскальзывались, но здесь зато не имелось ни единой заставы. Сам монастырь, стоявший на холме, был виден издалека и пугал своими мрачными черными стенами; отстроен он был в давние времена как крепость одного из местных дворян, чрезмерно враждовавшего с соседями, а после, когда дворянина не то сожгли, не то обезглавили, не то выпотрошили живьем, имущество его отошло к церкви.
С тех пор монастырь не раз перестраивали, но это коснулось лишь внутренней его части; неприступные же стены стояли, как сотни лет назад.
— Привяжем лошадей в кустах, — сказал Бофранк, когда они поворотили с тракта к указанному лютнистом Франци месту.
Сам Франци столь удачно прятался среди стволов, что его никак не могли обнаружить, покуда он не выступил из-за дерева со словами:
— Вижу, вас больше, нежели было оговорено сначала.
Лютнист оказался одет во вполне приличное охотничье платье, а из оружия имел увесистую дубинку с окованной железом головкою и арбалет.
— Один из нас останется присматривать за лошадьми, — сказал Бофранк, имея в виду Оггле Свонка. Бывый морской разбойник послушно слез со своего коня, старого и брюхастого; он ничего не имел против, разумно полагая, что убежать отсюда в случае чего всегда успеет, соваться же в монастырь куда как опаснее.
Шестерым же, а именно самому Бофранку, Мальтусу Фолькону, прекрасной Гаусберте, ее супругу, Кнерцу и нюклиету Бальдунгу, предстояло спуститься в темный зев подземного хода, вход в который запирал изрядных размеров люк.
— Постойте, — промолвил лютнист, хлопнув себя по лбу. — Я совсем забыл нечто весьма важное!
Сказав так, он раздал всем большие клоки темной ткани и велел укрыть нижнюю часть лица, чтобы не быть тотчас же узнанными.
— Может статься, нас увидят многие глаза; ни к чему, коли наше обличье запомнят и станут назавтра искать злоумышленников по известным приметам их.
Затем, закрепив люк подпоркою — кстати валявшимся поодаль большим древесным обломком, — Франци сказал, возжигая факел:
— Извольте, я пойду первым.
И спустился в чернеющий провал.
…А довольно далеко от них в комнате с низким столиком на причудливо изогнутых ножках, покрытых прихотливой резьбою, в комнате с мягкими диванами четверо стариков сидели, томясь молчаливым ожиданием.
— Верно, они уже там, — нарушил тишину епископ Вольфус, посмотрев в окно, где садилось солнце. — Пожелаем им удачи и да убоится Ианус Баффельт…
— И да будет день его сегодняшний худшим из дней его жизни, из снов, им увиденных, и мыслей, на ум его приходящих! — воскликнул престарелый грейсфрате Шмиц с небывалым блеском в глазах.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ТРЕТЬЯ, в которой приводится многоумная речь грейсфрате Баффельта о методах изгнания демонов, а также рассказывается о великом переполохе, учиненном в монастыре фелицианок, и о событиях, ему воспоследовавших
Визг, подобный визгу гиены, одолел его и владеет им.
Франсуа Ленорман «Магия халдеев»Между тем грейсфрате Баффельт никак не ведал об изрекаемых Шмицем пожеланиях. Он стоял за кафедрой в большой сводчатой зале капитулов монастыря фелицианок и говорил, перекрывая треск многих факелов и свечей:
— …Изгнать демона, что поселился в человеке, может только тот священник, что преуспел в благочестии и ведет праведное житие. Иначе — и таковое было отмечено в различных трудах — изгнание не только не увенчается успехом, но демон может вселиться и в самого священника. Оттого столь редки у нас случаи изгнания демонов… Делать же надобно следующее: прежде всего к одержимому требуется приложить любую священную вещь — богослужебную книгу, святые дары или распятие. Затем должно поместить руку свою на голову одержимого и произнести таковые слова: «Я, священник и служитель господень, повелеваю тебе, нечистый дух, если ты находишься и прячешься в теле данного человека, созданного богом, или если ты каким-либо образом истязаешь его, чтобы ты немедленно дал мне знак того, что ты действительно присутствуешь и обладаешь этим человеком, как ты делал прежде, в мое отсутствие, в привычной тебе манере». После этих слов больной начнет тотчас трястись, и здесь видно станет, где именно обитают демоны.
Если демоны живут в его голове, человек испытывает пронзительнейшие боли или же его голова и лицо покрываются жгучим румянцем, как будто он горит в жару. Если демон сидит в его глазах, он заставляет их вращаться бешеным образом — так, что они едва не вылазят из орбит. Если же диавол в спине, то вызывает конвульсии всех членов спереди и сзади, а иногда делает все тело таким жестким и несгибаемым, что никакой силой нельзя разогнуть его. Если демон находится в горле, оно бывает настолько стянутым, что одержимый как будто вот-вот задохнется. Если диавол поселяется в благородных частях тела, таких как сердце или легкие, он вызывает удушье, сердцебиение и обморок. Если он поражает желудок, то вызывает икоту и рвоту, ветры и схватки в области живота с урчанием и другими непотребными звуками…
Тут должно спросить, как зовут демона, как много демонов обладают больным — ибо случается, что их бывает не один, не два, не три и не пять, а много десятков и даже сотен, и тем страшнее мучения несчастного. Надобно такоже выяснить причину одержимости и, коли демон не желает уходить, узнать срок его дальнейшего пребывания и, наконец, определить точный час, когда демон вошел в тело.
Здесь начинается главное, и священник, призывая во вспомоществование все силы небесные, должен сказать вот что: «Итак, слушай и содрогайся, о враг веры, недруг рода человеческого, носитель смерти, похититель жизни, нарушитель беспорядка, производитель несчастий. Почему ты стоишь и сопротивляешься, ежели знаешь, что господь сокрушит твою силу?! Бойся его, уступи место святому духу, ибо грядет тебе наказание, и тем сильнее оно будет, чем медленнее ты будешь выходить, поелику ты оказываешь пренебрежение не человеку, но владетелю и живым и мертвым, коий придет судить живых и мертвых по делам их…
Для тебя, проклятого, и для твоих присных приготовлен червь, который не умирает.
Для тебя и присных твоих приготовлен и неугасимый огонь, ибо ты — главарь злейших убийц, вдохновитель кровосмешения и святотатства, мастер худших злодеяний, учитель еретиков, изобретатель всех непристойностей. Итак, зловредный, изыди, изыди со всеми своими присными, ибо господь не оставил человека сего своей милостью».
Грейсфрате внимала почти сотня монахинь, стоявших на коленях прямо на холодных камнях залы капитулов, как было принято в монастыре Святой Фелиции. Здесь же находилась и сама грейсшвессе Субрелия — женщина лет чуть более сорока, которую всякий назвал бы красавицею, если бы не уродливый балахон и колпак, скрывающие стройное тело и чудные волосы. К слову сказать, покрывать голову колпаком следовало лишь Субрелии и нескольким монахиням из старух, помогавшим ей во всех монастырских делах; остальные же ходили непокрытые по той простой причине, что были обриты наголо, причем кожу головы еще и припаливали пламенем, дабы волосы не отрастали слишком скоро. Возможно, вид юных послушниц, изуродованных столь варварским образом, кто-то нашел бы жалким и отвратительным, но только не грейсфрате Баффельт.
Если только можно такое представить, он еще более разжирел, хотя лекарь и рекомендовал ему умерить аппетит, для чего выписал особые порошки и декокты, потому что сердце не умеет справляться самостоятельно с излишеством жира и плоти. Щеки, подбородок и шея миссерихорда сплошь состояли из наползавших друг на друга складок, так что голова Баффельта похожа была на оплывший свечной огарок, торчащий из воротника богатого одеяния.
Здесь же, у стены, стоял знакомый нам фрате Хауке с мушкетом, исполнявший, вероятно, роль не только секретаря, но и телохранителя грейсфрате.
Всего этого, разумеется, не видели семеро человек, пробиравшихся в монастырь подземным ходом. Местами своды просели так, что приходилось ползти на четвереньках, отчего особенно страдали оба старика; Бофранк не раз пытался уговорить их вернуться к Оггле Свонку, но и Бальдунг, и алхимик упрямо продвигались вперед.
Гадкие розовые черви гроздьями свисали с земляного потолка, пачкая слизью лицо; сочилась по капле тухлая вода, а под ногами то и дело шныряли, деловито попискивая и побулькивая, некие шустрые мелкие твари. Свет факелов то и дело выхватывал из тьмы огромные плеши в стенах — там, где отвалились крупные куски земли; деревянные подпорки, крепившие своды подземного хода, почти все изгнили, и Бофранк с ужасом думал о страшной смерти, ожидавшей их в случае, коли они все-таки обвалятся. В полужидкой грязи, в темноте умирать придется очень долго, ибо есть здесь и вода, и еда… будешь жить, пока сам не станешь пищей для обитателей подземелья.
— Верно, думаете, что будет, коли случится обвал? — с неуместным веселием спросил лютнист, словно бы угадав мысли Бофранка.
— Долго ли еще идти? — не отвечая, буркнул субкомиссар. — Снаружи казалось, что монастырь совсем рядом.
— Ход выкопан не прямиком, как вы могли заметить по его изгибам и поворотам, — сказал Франци. — Виною тому выступающие там и сям скальные породы, кои строителям этого мрачного лаза пришлось обходить. Но не печальтесь, мы уже совсем рядом.
— А куда выходит сей ход?
— В дровяные сараи. И будем надеяться, что люк не завален поленьями.
Бофранк выругался про себя, подумавши, что такой исход был бы наиболее дурацким среди всех возможных. Однако ж им повезло, и люк не только не был завален поленьями, но и открылся с первой же попытки, хотя петли проржавели и истончились от времени.
В сарае средь аккуратных поленниц, пахнущих смолою, никого не было. Осторожно потушив факелы, чтобы не увидали огня и не обнаружили проникновения раньше положенного времени, все семеро выбрались из лаза и притворили за собою люк.
— Подождешь здесь, весельчак? — шепотом спросил Бофранк лютниста, но тот покачал головою:
— Отчего же? Во-первых, здесь есть чем поживиться, во-вторых, у меня есть свои счеты с грейсфрате — если помните, я представлялся вам при первом знакомстве как еретик… Я пойду с вами, и вы увидите, как славно я управляюсь с дубинкой и арбалетом.
— С кем здесь драться? С Баффельтом совсем немного людей.
— А здешние монахини? У этой дрянной крысы Субрелии охрана натаскана не хуже многих гардов. Здоровенные бабы, скажу я вам, хире Бофранк, куда похуже здоровенных мужиков.
Мимо проскользнул Бальдунг с пистолетом в руке, напоминавший в полутьме заправского разбойника.
— То ли мне кажется, — пробормотал он, — то ли пахнет жареным салом. Неужто монашек кормят шкварками?
— Вполне может быть, что и кормят, — согласился лютнист. — Хотя скорее всего кушанье сие приготовляется для грейсфрате и его своры, то есть, я хотел сказать, свиты.
Осторожно выглянув из открытой двери на монастырский двор, Франци сказал:
— Там пусто.
— Идемте же, пока никого нет! — велел Бофранк и выбрался наружу.
Двор был вымощен гранитною плиткою, подле сарая стояли две повозки на огромных колесах; вокруг в самом деле никого не было, но из окон соседнего строения лился тусклый свет, очевидно проистекавший от небольшого металлического светильника, наполненного маковым маслом, кое часто пользовали в монастырях.
Франци, субкомиссар и Мальтус Фолькон неслышными тенями просочились внутрь постройки и обнаружили там толстую румяную монахиню, занятую опаливанием на огне довольно крупного и жирного поросенка, послужившего причиною аппетитного запаха, что учуял прожорливый нюклиет. Не успела монахиня ахнуть, как Франци прикрыл ей рот ладонью, а Бофранк в свою очередь наставил на нее пистолет с видом весьма угрожающим. Когда стало ясно, что монахиня вошла в разум и кричать не собирается, Франци чуть сдвинул ладонь и спросил:
— Как звать тебя, красавица?
— Оделия, — промямлила толстуха. Позабытый поросенок трещал в очаге, и Мальтус Фолькон несколько рассеянно повернул вертел.
— И скажи нам, красавица Оделия, где твои сестры?
— Сестры в зале капитулов, слушают ежевечернее наставление грейсфрате…
— А ты, стало быть, кухарничаешь? Отлично! Мы не станем тебя обижать, ежели ты будешь сидеть тихо-претихо, но для пущей верности свяжем тебя и заткнем рот, — объяснил Франци, сноровисто опутывая пухлые руки монахини взятой со стола веревкою. Для рта пригодился кусок войлоку, невесть зачем валявшийся тут же. То, как споро и умело управился Франци с толстухой, натолкнуло Бофранка на мысль, что в иные времена лютнист, вполне вероятно, промышлял грабежом.
— Но мы не спросили, где зала капитулов… — начал было Фолькон.
— Я и без того знаю, — неучтиво отмахнулся от него лютнист.
— Мудро ли идти туда, где такое скопление народу?
— Где толпа, там и паника, — сказал Франци, — а потом грейсфрате отправится ужинать или почивать, запрется в своей комнате на засов, и все пропало. Не будем же медлить!
Цепочкою, один за другим, все семеро пробрались ко входу в центральное здание монастыря и обнаружили там неосторожно открытую дверь. В коридоре было светло — горели светильники, и Франци уверенно устремился вперед.
— Караул! Караул! — неожиданно вскричал кто-то за спиною. Бофранк резко обернулся и увидал еще одну монахиню, на сей раз тощую и длинную, словно жердь; уронив несомую стопу белья, она истошно вопила, всплескивая руками, будто ее щекотали бесы.
Не успел субкомиссар ничего предпринять, как монахиня неожиданно замолчала, пошатнулась и, хрипя, повалилась навзничь — в горле ее торчала короткая арбалетная стрела.
— Вот так, — наставительно сказал Франци, накручивая колесико для нового выстрела. — Я же говорил, что славно управляюсь с арбалетом.
Первым, кто заметил ворвавшихся в залу капитулов нападавших, был бдительный фрате Хауке. Злобным криком: «Еретики! Еретики!» — он прервал наставление своего хозяина и тотчас схватился за оружие; стрела прошла чуть выше и левее головы Бофранка.
Монахини бросились кто куда, в то время как Баффельт совершенно растерялся и остался стоять за кафедрою, воздев руки к небу. Кто-то выстрелил; Бофранк с ужасом обнаружил, что это была прекрасная Гаусберта, выпустившая заряд прямо в живот монахини, бросившейся на нее с широким ножом в руке. Нападавшая рухнула на пол, а остальные заметались, визжа и сбивая друг дружку с ног.
— Толстяк! Он убегает! — крикнул лютнист, указывая на кафедру.
В самом деле, Баффельт пришел в себя — не выстрел ли отрезвил его? — и направлялся теперь к едва заметной дверце позади кафедры. Бофранк, а за ним и Фолькон бросились следом и настигли грейсфрате, когда он уже отворял ее. Драться грейсфрате не умел, но, неудачно взмахнув рукою, сорвал с Бофранка черную повязку.
— Хире Бофранк! — воскликнул Баффельт, увидав, кто схватил его. — Хире Бофранк, что вы делаете?!
— Молчите, молчите, грейсфрате, — сказал субкомиссар, оглядываясь по сторонам в ожидании нападения.
— Отпустите меня! — властно распорядился грейсфрате, но обнаружил, что никто его не слушает, ибо в зале началась совершенно беспорядочная пальба. Случилось так, что маленький отряд Бофранка получил неожиданный отпор — появились те самые охранницы грейсшвессе Субрелии, вооруженные, ко всеобщему изумлению, в том числе и мушкетами. Бофранк увидел, как схватился за окровавленную руку Рос Патс, а с юного Фолькона сбило шляпу. Старичок Кнерц взобрался на основание колонны и выцеливал, куда выстрелить.
— Да убейте же вы их всех! — в сердцах заорал лютнист, размахивая дубинкою и сокрушая ею ближних к нему монахинь. В их числе находилось немало таких, что попросту бежали в испуге и случайно наткнулись на него, но прочие бросались сами, растопырив пальцы, дабы выцарапать глаза или разорвать рот.
Фрате Хауке, разлохмаченный, в потрепанном платье, пробивался сквозь людское месиво к Бофранку, на ходу заряжая арбалет. Субкомиссар не стал его дожидаться и потащил толстяка Баффельта за собою — к выходу.
— Уходим! — хрипло кричал Бальдунг, отбрасывая разряженный пистолет.
По счастью, во дворе никого не было: судя по всему, почти все монахини слушали наставление.
— Вас сожгут заживо! — предвещал Баффельт, едва поспевая за субкомиссаром. — Это бунт! Дьявольское наущение!
— Заткни свой рот, боров, — сказал с презрением Франци. — Не ты ли повелел сварить в котлах без малого двести смиренных монахов Святого Гермиона только за то, что они утверждали, что человек не умеет колдовством вызвать бури или града? Знай же, среди них был мой брат, и я видел, как с него сошла вся кожа в кипящей воде, как побелели и лопнули его глаза, как слезли волосы, как расслаивалась его плоть…
— Дурак, дурак! — бормотал грейсфрате. — Знаешь ли, кто за мною, кто покровительствует мне?
— Уж не Люциус ли Фруде? — спросил Бофранк.
— Он велик! Понять ли вам, сирым, что не видят далее носа своего? Да, он говорил со мною в снах и в яви, — возопил Баффельт с ярким блеском в глазах, что бывает обыкновенно у душевнобольных и бесноватых, — и вот что он сказал мне: «Слушай внимательно всем разумом своим. Чтобы любить меня совершенно, необходимы три вещи. Во-первых, необходимо очистить и исправить волю в ее временных порывах любви и телесных привязанностях, чтобы не любить ничего преходящего и исчезающего, а только меня и меня ради. Важно не любить меня ради себя, полюбить меня ради меня и себя ради меня. Таковая любовь не может делиться местом с любой земной любовью».
Войдя в сарай, они закрыли дверь на засов, чтобы задержать преследователей, и поспешили спуститься в темноту и сырость подземного хода. Баффельт все бормотал, но никто, кроме Бофранка, не слушал его.
— …И еще он сказал: «Во-вторых, когда достигнешь первой ступени, ты сможешь перейти ко второй, требующей большего совершенства. Возьми честь мою и славу мою как единственную цель своих мыслей, своих поступков и всего того, что ты делаешь.
В-третьих, если сделаешь ты все то, что я скажу тебе, без испуга и трепета — а хотя бы и с ними, но все одно сделаешь, — то достигнешь высшего совершенства и не будет в тебе ничего недостающего. Это достижение горячо желаемой близости душевной, в которой ты настолько тесно соединен со мной и воля твоя настолько подчинена моей совершенной воле, что ты не только не пожелаешь никакого зла, но даже не пожелаешь и никакого блага, которого не пожелаю я» — вот что сказал он. Вам ли, хире Бофранк, не знать подлинной силы его? Вам ли не знать веры в него?
— Вы искали убить меня, — сказал субкомиссар, с превеликим трудом проталкивая вперед жирное тело Баффельта по узкому и низкому лазу. — Что же теперь просите помощи?
— Я обманулся в вас, хире Бофранк! Я составлю вам невиданную протекцию! Осталось ждать совсем недолго!
— Но не вы ли не столь давно наставляли меня на борьбу с Люциусом?
— Я снова обманулся, ибо кто мы против него?! Я покаюсь, когда придет мое время.
— Покаетесь, грейсфрате, как не покаяться, — сказал Бофранк с небывалой для него злорадностью и еще более неожиданно наподдал толстяку хорошего пинка.
Как и было уговорено, связанного Баффельта погрузили в крытый экипаж, который все тот же Франци потаенно укрывал до поры в ближних зарослях.
— Завтра утром я навещу вас в гостинице, — сказал лютнист на прощание, — и передам все, что выведает полезного грейсфрате Шмиц.
С тем они разъехались. В монастыре ярко горели огни, однако ж никто не выходил наружу, за стены. Одно было плохо — фрате Хауке остался в живых и мог устроить бог весть какие козни… Но сейчас субкомиссар думать об этом не мог, ибо несказанно устал и всех сил его доставало только на то, чтобы не сверзиться с лошади.
Тут к нему подъехал Мальтус Фолькон, возбужденный и взволнованный.
— Как вы думаете, что конфиденты намереваются сделать с Баффельтом? — спросил с интересом юноша.
— Полагаю, умертвят, — пожав плечами, отвечал Бофранк. — При мне они обсуждали возможность рассказать обо всем королю и решили, что король потребует весомых доказательств, коих вроде бы и нет… Посему проще будет удавить грейсфрате или же дать ему яд — тут все зависит от вкуса.
— Но так ли страшны прегрешения его?!
— А чем страшнее были прегрешения многих, сожженных, утопленных и заживо лишенных кожи во славу миссерихордии и господа? Даже если кто-то из них и был виновен, мера справедливости не равна: я видывал отвратительных убийц, наказываемых одним токмо отрезанием носа, или же кастрацией, или же усекновением вороватых членов, и видывал несчастных женщин, всего-навсего обвиненных злыми соседями в колдовстве, коих безжалостно жгли на костре. Так что судить о прегрешениях давайте оставим другим, хире Фолькон, — тем, кто считает, что имеет на это право. Я же хочу спать, теплого вина и… и более ровным счетом ничего.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ЧЕТВЕРТАЯ, уводящая в долгое путешествие и раскрывающая великое правило о четырех всадниках, в которой Бофранк к тому же получает безнадежно запоздавшее письмо
Камни и деревья научат вас большему, нежели любой учитель в школе.
Аббат КлервоУтро началось с того, что в двери гостиницы вошли несколько гардов под командованием секунда-конестабля — с лицом такого выражения, как если бы он только что выпил стакан уксусу.
— Здесь ли проживает субкомиссар Хаиме Бофранк? — громко спросил он тоном, ничего хорошего не предвещавшим.
— Хире Бофранк бывал тут, но сегодня он, надо думать, ночевал у себя дома, — отвечал хозяин, опасаясь заразы и оттого стараясь держаться подальше от вошедших.
— Его хозяйка сказала, что не видала означенного Бофранка уже достаточно давно, — возразил секунда-конестабль. — Мы поднимемся в комнаты, где проживают пресловутые друзья, и посмотрим сами.
— Идите, коли хотите, — сказал хозяин, — но если он там есть, я вовсе ни при чем, ибо не слежу, кто и с какими целями ходит к постояльцам.
— С тобою мы разберемся, коли потребуется, — угрозил секунда-конестабль. Грохоча сапогами по деревянным ступеням, гарды поднялись наверх, и первым, кого обнаружили в комнате, был как раз Бофранк. Он сидел у очага и пил вино с медом и сахаром, ибо почувствовал с утра все признаки верной простуды и обеспокоился укреплением своего здоровья.
По счастью, здесь находился еще только Мальтус Фолькон; Гаусберта в соседней комнате лечила рану своего супруга, а намаявшиеся старики попросту спали, оставив даже свои обычные язвительные перебранки, за коими субкомиссар прозревал не особенно тщательно скрываемую взаимную ненависть, порожденную неясными для него причинами — и, видимо, во времена весьма далекие.
— Субкомиссар Хаиме Бофранк? — осведомился секунда-конестабль.
— С кем имею честь? — сухо спросил Бофранк.
— Секунда-конестабль Секуративной Его Величества палаты Целестрин Мерль. Послан арестовать вас и препроводить в Фиолетовый Дом для допроса, равно как и всех людей, что споспешествовали вам.
— И на каком же основании, желал бы я знать?
— На основании того, что вчера поздно вечером вы и с вами еще шестеро ворвались тайным путем в монастырь Святой Фелиции, учинили там погром, убили четырех смиренных монахинь и еще с десяток тяжко ранили, а в довершение всего похитили грейсфрате Баффельта, который теперь обретается неизвестно где.
— Что за чушь? — спросил Бофранк, прихлебывая вино. — Вы уже в годах, вам велено бы знать, что с такими дурацкими обвинениями приходить к достойным людям никому не позволено… Убирайтесь вон!
— Однако ж я не уйду, — осторожно продолжал Мерль, — ибо у нас есть показания фрате Хауке, секретаря грейсфрате, а также настоятельницы монастыря и многих послушниц…
— …Которые, конечно же, близко со мною знакомы и знают меня в лицо? — с насмешкою перебил субкомиссар. — Подите вон, говорю вам; не вынуждайте меня вышвырнуть вас. Я выше чином и, уверяю, могу устроить вам неприятности куда хуже чумы, что царит в городе.
— И все же я продолжаю настаивать, — покачал головою Мерль. — Вы сами чиновник Палаты и, без сомнения, понимаете, что я не сам все это выдумал и облыжным обычаем меня сюда не послали бы. Верно, вы можете вышвырнуть меня; но вот стоят гарды, у каждого из которых есть оружие, — прольется кровь, хире субкомиссар, а надобно ли доводить до этого?
— Вижу, вы не уйметесь, — подытожил Бофранк, вставая. — Что ж, я поеду с вами, но при одном условии: все эти люди останутся здесь, а ваши гарды, ежели им так угодно, пускай стоят подле гостиницы — даю слово, что никто не попытается сбежать отсюда.
— Полагаю, я могу вам доверять, — согласился Мерль. — Идемте же, нас ждет коляска.
— Позвольте мне ехать с вами, — попросил вдруг Мальтус Фолькон.
— Кто вы, могу ли я узнать? — поинтересовался секунда-конестабль.
— Младший архивариус Палаты Мальтус Фолькон.
Секунда-конестабль насторожился, но ничего не сказал, лишь кивнул.
Тихие и малолюдные улицы выглядели печально; кое-где попадались открытые двери лавок, одинокие лоточники, у которых никто ничего не покупал, да пьяницы, единственные бесстрашно бродившие по мостовым.
Навстречу проехала телега, собиравшая трупы. Если бы Бофранк присмотрелся внимательнее, то узрел бы среди прочих мертвых тел толстяка в грязных и изодранных одеждах священника, чье лицо, изуродованное язвами, почернело, а на губах засохла коркою кровь…
Бофранк не удивился, когда их провели прямиком к грейскомиссару: чиновника его уровня если и мог кто допрашивать, то лишь один Фолькон. Юноша остался в приемной, а субкомиссар в сопровождении Мерля проследовал в кабинет.
— Мне странно слышать о ваших деяниях, Бофранк! — жестко заявил грейскомиссар, как только они вошли. — Понимаете ли вы, что совершили?
— Я ничего не совершал, — возмутился Бофранк, — и не хочу слышать гнусных наветов.
— Сие не наветы, а подлинные свидетельства, и вы знаете это лучше меня!
— Свидетельствующий против меня фрате Хауке суть мой давний и последовательный недоброжелатель. Что мешало ему попросту очернить мое имя?
— Вас видели десятки людей!
— Из которых, прошу заметить и как я понимаю, никто не знал меня ранее. Согласитесь, хире грейскомиссар, ведь я провел юные годы отнюдь не в монастыре фелицианок. А тут — какой-то погром, исчезновение грейсфрате Баффельта… Кстати, насколько мне известно, грейсфрате не должен был бы находиться в женском монастыре, как по-вашему?
— Не нам судить о вопросах и делах церкви, — сказал Фолькон, с некоторой, впрочем, неуверенностью.
— Однако ж я ничего не совершал из того, что мне приписано. Да, я провел время в компании друзей, каждый из которых подтвердит это.
— А подтвердит ли сие хозяин гостиницы?
— Ввечеру я его не видел, как и он меня; всякое может быть. Но покамест получается слово Хауке против моего, и оба подкреплены словами свидетелей.
— Даже если так, вы сами знаете, что я вынужден взять вас под стражу.
Сказав так, грейскомиссар позвонил в колокольчик, и в кабинет вошли трое гардов, среди которых Бофранк увидал и Акселя. Бывший фамилияр сконфуженно уставился в пол, и Фолькон хотел было уже отдать указание проводить Бофранка в камеры, когда в кабинет вошел его сын.
— Дверь была худо притворена, и я невольно слышал разговор, — сказал он, с чрезвычайной смелостию глядя прямо в глаза отцу. — Я редко просил вас о чем-то, отец, но сейчас хочу поговорить с вами наедине. Пусть хире субкомиссар побудет это время в приемной — возможно, после нашей беседы вы измените свое решение.
— Что ж, побеседуем, — согласился немало озадаченный грейскомиссар.
Бофранк и гарды вышли в приемную, и Аксель пробормотал виновато:
— Кто ж знал, хире Бофранк, что оно так…
— Служба есть служба, — сказал Бофранк, который и в самом деле не имел никакой обиды на Акселя. — Скажи лучше, как жизнь у тебя?
— Какая тут жизнь, — махнул рукою Аксель, сделав указание гардам удалиться, — коли город, того и гляди, весь перемрет! Тьфу-тьфу, домашние мои все целы… да надолго ли? Как и уберечься, не знаешь…
— Вот что скажу тебе, Аксель. Ты верно мне служил и, хотя отличался порой ленью и винопитием, в остальное время выказывал себя достойно. Может статься, я на днях уеду и вернусь ли обратно — не ведаю; коли не появлюсь я спустя полгода, пойди на улицу Подмастерьев, найди там дом некоего Ульрика Гаабе, некогда ростовщика, а ныне торговца старинными вещами. Сей Гаабе человек честный, он должен мне денег — сумма не столь уж велика, но тебе с семьею, чаю, пригодится.
— Что вы такое говорите! — воскликнул Аксель. — Возвернетесь и сами потратите, на что надобно.
— Если возвернусь — потрачу. А уж коли нет — сделай это за меня, притом мнится мне, что ты распорядишься деньгами с большим умом, нежели я.
В этот момент из кабинета вышли оба Фолькона, отец и сын.
— Мне пришлось рассказать все, что я знал, — поторопился сказать юноша, — и прошу не сердиться на меня за это, хире Бофранк.
— Мальтус убедил меня отпустить вас, — сухо сказал грейскомиссар. — Я не могу сказать, что поверил в эту историю всецело, однако ж некоторые события кажутся мне необъяснимыми… Не знаю, правильно ли я поступаю, но я в самом деле освобождаю вас, хире Бофранк. Благодарите моего сына, который выказал небывалое мастерство увещевания и, как я вижу, вообще поумнел и посерьезнел в последнее время чрезвычайно.
— Благодарю вас, хире грейскомиссар, — учтиво сказал Бофранк. — Полагаю, вы не пожалеете о своем решении. А теперь позвольте откланяться, ибо меня ждут крайне неотложные дела.
Кого-кого ожидал Хаиме Бофранк обнаружить в гостиничных комнатах, но только не грейсфрате Шмица. Однако ж он был там — сидел в кресле и вел степенную беседу со старичком алхимиком. Здесь же присутствовала Гаусберта; где были остальные, Бофранк не ведал.
— Я счел необходимым приехать сам и поговорить с вами, дабы ничего не исказилось при передаче на словах или на бумаге, — предварил вопросы субкомиссара Шмиц. — Уловленный вами Баффельт был доставлен вчера в полном здравии, и мы имели с ним беседу…
— Что с ним сейчас? — спросил субкомиссар с тревогою.
— О том не стоит волноваться, — сказал Шмиц. — Но Баффельт рассказал премного интересного. Прежде всего он спрятался в монастыре, ибо боялся чумы, но пуще чумы опасался своего новоявленного господина; рассудив, что лучшим будет пересидеть в покое и сладострастии, покамест все разрешится само собою, грейсфрате затворился у фелицианок, а вас, хире Бофранк, повелел убить, дабы вы не вмешивались в ход событий и не нарушили чего ненароком, что так свойственно вам. Для сего послан был ваш брат Тристан, коему злокозненные люциаты обещали небывалые блага, — но он не справился и был наказан. Где он теперь, Баффельт не ведает.
Далее: Баффельт не знает, где сейчас может быть Люциус, но грейсфрате был счастливый обладатель так называемой Второй Книги, существующей в единственном экземпляре. Именно во Второй Книге говорится о Тройном Кресте.
— Но где же она? — воскликнула Гаусберта. — Никогда не чаяла я держать в руках сей трактат и даже не верила, что он сохранился до наших дней…
— Он и не сохранился, хириэль, — отвечал Шмиц, — ибо дурень Баффельт в трусости своей сжег его без остатка, порешив, что лучше не иметь вовсе никакой книги, чем иметь столь опасную.
— Ах, беда! Но что же тогда такое Тройной Крест?
— Тройной Крест и есть Тройной Крест. Изваяние, которое хранится на острове Сваме, он же Ледяной Палец, и которое поможет — или не поможет, коли мы успеем вовремя, — Люциусу. Насколько я понял со слов Баффельта, изваяние сие сделал сам Люциус во времена, когда скрывался на острове; где именно оно укрыто, мне неизвестно, ибо не было известно и Баффельту. Однако ж Люциус направляется именно туда.
— Для чего ему Тройной Крест? — спросил Бофранк, вспомнивший слова пророчества: «А кто возьмет крест да сложит с ним еще крест, и будет тому знак. А кто возьмет крест да сложит с ним два, будет тому еще знак». Вот и о крестах разъяснилось; как не улыбнуться, вспоминая экзерциции самого Бофранка с палочками и соломою, когда он складывал из них кресты, тщась постичь секрет.
— Для того, что у Люциуса уже есть Двойной Крест, а ему нужно получить Тройной. Сие напитает его небывалыми силами, а он, надо полагать, взбешен и огорчен тем, что пророчество сбывается не совсем так, как задумано. Потому и двинулся он к острову.
— Он уже в пути, а мы все в сборах, — сварливо заметил старичок-алхимик.
— Иногда торопиться излишне. Ведь недаром сказано:
Может выиграть борьбу Тот, чей мощно меч разит, Чей непробиваем щит; Кто, чтоб не пытать судьбу, Зря врага не потревожит; Чья душа, хоть и смела, Хитрость к силе все ж приложит.— Я дам вам подорожную за печатями Великой Комиссии, — продолжал Шмиц, насупив косматые седые брови. — Не думаю, что она вызовет у кого-либо сомнения, ибо Комиссия есть Комиссия, пускай даже она не собиралась так долго. Также я дам вам денег для трат в дороге. Что еще потребно, дабы выехать как можно скорее?
— Я полагаю, имея деньги и подорожную, мы уладим все вопросы, кои могут возникнуть, — сказал Бофранк. — Осталось решить, кто едет.
— Все, — решительно заявила Гаусберта. — Ехать должны все, ибо добраться обязаны как минимум четверо.
— Почему именно так? — спросили едва ли не в один голос грейсфрате Шмиц и Бофранк.
— Существует «Правило Четырех Всадников», согласно которому только число сторон квадрата может победить Люциуса.
— Я ничего не слыхал о таком правиле, — сердито заметил Шмиц, пожевав губами. — Откуда вы его взяли?
— Я прочла множество книг, и в том числе «Назидания» Корга.
— Корг? Придворный нюклиет Седрикуса? — оживился старичок Кнерц. — Вы непременно должны будете показать мне сию книгу по возвращении, хириэль Гаусберта!
— Что еще за Корг? — осведомился Бофранк, ровным счетом ничего не понимая.
— Когда Седрикус преследовал секты, в его свите состоял нюклиет Корг, который подавал королю советы. Он изыскивал способы борения с различными силами, которые могли встать на пути Седрикуса; правда, помочь королю всецело он так и не сумел, а после смерти Седрикуса так и вовсе сгинул — говорят, что умер в нищете и безвестности где-то в восточных землях. Однако ж сохранился его труд «Назидания», где описаны в том числе и правила противоборства с Люциусом, выведенные Коргом на основании специальных исчислений, наблюдений за светилами и всевозможных гаданий, — пояснила Гаусберта. — Посему поехать мы должны все вместе, ибо случиться в дороге может всякое — а вам те места ведомы, хире Бофранк! — и доберутся не все… Так сказало и мое гадание; я не знаю, кто именно сгинет, но число наше уменьшится.
Грейсфрате Шмиц выслушал все это с видимым неодобрением, как и полагало священнослужителю, внимающему ведунье, но смолчал. Покидая гостиницу, он еще раз наставил и благословил всех, пожелал удачного пути, а также оставил мешочек с золотыми монетами.
На рассвете спутники были уже довольно далеко за городом. Погода стояла морозная, но солнечная — светило уже окончательно вступило в свои права после недавнего помрачения. Гардам из заставы на выезде Бофранк предъявил бумаги Шмица, которые тот передал с гонцом прямо среди ночи, и они вызвали должное почтение: офицер вызвался даже предоставить охрану как минимум до Эксбюде, но Бофранк учтиво отказался.
Решено было ехать до самого острова верхом, не пускаясь в морское плавание. В стороне оставались и родной поселок Роса и Гаусберты Патс, и Оксенвельде… Старичок Кнерц вызвался указать некий путь, который приведет прямо к Скаве-Снаа и отнимет времени меньше, чем любая морская дорога. По его словам выходило, что путь этот хотя и стар, и заброшен, и ведом немногим, но зато решительно безопасен и проходит по местам красоты неописуемой. Не верить Кнерцу не было оснований, и Бофранк сожалел об одном — что придется провести столько времени верхом, а это испытание для седалища весьма тяжкое.
Когда дорога, то и дело виляя, углубилась в лощину меж двух холмов, Бофранк заметил среди елового леса, их покрывавшего, странное мелькание, словно бы там бегали и прыгали некие животные. Но, как ни напрягал он глаз, не сумел рассмотреть их подробно до тех пор, пока лощина не сузилась еще более, — только тогда субкомиссар понял, кто перед ним, и немало удивился.
Целые стаи кошек бежали по обеим сторонам дороги: серые, белые, черные, рыжие, пятнистые. Почти все они были зрелые и крепкие животные, полные сил и бодрости. Прижав уши, твари двигались совсем бесшумно, сотни лап топтали траву.
Ехавшая рядом Гаусберта улыбнулась и сказала:
— Поздно же вы их заметили, хире Бофранк. Они уж давно тут.
— Что ими движет? Что делают эти зверьки, столь любящие домашний уют, так далеко от городских стен?
— Это наши верные спутники и помощники, хире Бофранк. Может статься, кошки сгодятся нам в дороге; их ум и ловкость, помноженные на число, восхитительны.
— Но как же успеют они за конями?
— Они успеют, ибо знают кратчайший путь; это не простые кошки — как бывают люди простые и не слишком, так же и кошки — в отличие от многих иных тварей, — отвечала Гаусберта. — Так что не тревожьтесь, коли не увидите их рядом: ежели кошки хотят, чтобы их не видели, то их и не видят…
В самом деле, когда дорога вышла в чистое поле, кошки куда-то исчезли. Бофранк невольно погладил рукою подарок девушки — вырезанную из темного дерева, неизвестного ему, фигурку кошки, сидевшей, как обычно сидят эти животные — обернувши гибким хвостом своим все четыре лапы и навострив уши. Сила фигурки была такова, что Бофранк и не пробовал понять ее; печально было лишь то, что использовать фигурку в четвертый раз он не мог, следуя предостережениям все той же Гаусберты. Надо бы порасспросить ее об этом, заключил Бофранк, но остерегся делать это тут же, ибо Гаусберта как раз беседовала со своим супругом.
Рос Патс переносил поездку хуже других — из-за своей раны, полученной в монастыре. Пуля, выпущенная кем-то из челяди Баффельта, прошла сквозь мягкие ткани, не задев кости, но сделана она была дурно и коряво, посему разрывы получились грубые и болезненные. Шевелить рукою Патс почти что не мог, и Бофранк даже сомневался, стоило ли ему отправляться в погоню за Люциусом, но Гаусберта сказала, что рана не опасна, хотя и причиняет боль и неудобства.
Старички ехали, нарочито отдалившись друг от друга. В их присутствии Бофранк также не видел особенной пользы, да и наездники они были никудышные, однако магическая сила, которой оба, без сомнений, владели, а также их обширные знания могли пригодиться в любой миг.
Мальтус Фолькон пребывал со времени встречи своей с родителем в чрезвычайной задумчивости; субкомиссар не стал расспрашивать юношу и тревожить его, но понимал, что разговор отца и сына был серьезным. То, что юный Фолькон, судя по всему, открыл отцу все, что знал, уже не тревожило Бофранка — малопонятная история, начавшаяся в далеком поселке на севере, постепенно захватывала все большее и большее количество людей, и к ним прибавлялись те, кто, оказывается, и раньше, и больше Бофранка знал о происходящем. Давно уже субкомиссар, обыкновенно относившийся к себе с уважением, почитал себя лишь исполнителем чужих указаний; исполнителем, который, однако, слишком важен — словно козырной туз, чтобы так вот запросто расстаться с ним, но притом он — не более чем карта из колоды, так что не стоит трудиться объяснять ему смысл происходящего. И она, она! — прекрасная Гаусберта, в нежных чувствах к которой Бофранк страшился признаться даже себе! — и она говорила то намеками, то загадками…
Одно лишь обстоятельство радовало субкомиссара — все перенесенные лишения закалили и укрепили его, прежде чрезвычайно немощного и склонного к различным хворям. Нет, физических сил у него не прибавилось, но как быстро излечился Бофранк после удара по голове! Раньше он, должно быть, лежал бы несколько недель в постели, общаясь с лекарем слабым голосом и принимая горькие порошки. А постоянные походы, лазания по подземным ходам, стрельба и драка?
Размышления Бофранка прервал Оггле Свонк, о котором мы совсем забыли упомянуть: сей пронырливый и вороватый молодой человек ехал вместе со всеми, исполняя, как и в первом путешествии Хаиме Бофранка, обязанности проводника и слуги.
Выглядел Оггле Свонк виноватым, из чего субкомиссар заключил, что бывый морской разбойник что-то сотворил и вот теперь вздумал каяться; так оно и вышло.
— Хире Бофранк, — спросил вкрадчиво Свонк, — простите ли вы меня?
— Что еще ты наделал?
— Один господин просил меня передать вам письмо, а я за делами запамятовал…
— Неудивительно, особенно если учесть, что у тебя забот всего-то спать да играть в карты и камешки… Что там за письмо и кто передал его?
— Тот хире назвался Урцелем Цанером и приходил, как раз когда вас хотели арестовывать… Я сунул письмо в карман, да забыл про него. Вы уж не ругайте меня, хире Бофранк!
— Давай, давай его сюда и перестань испрашивать прощения, сердиться на тебя все равно мало толку, — сказал Бофранк, принимая от Свонка небольшой конверт желтой бумаги.
«Приветствую вас, хире Бофранк! — писал чирре Демелант, а ныне писец Урцель Цанер из Бараньей Бочки, коего Бофранк пытался разыскать, да не успел. — Не знаю уж, где застала вас сия эпистола; надеюсь лишь, что все с вами хорошо.
Верно, странным человеком казался я вам и уж тем более кажусь теперь. Знаю, вы меня искали, но я счел за благо укрыться до поры до времени, ибо испытываю необъяснимый страх. Хотя отчего необъяснимый? Объяснения есть, но осмелюсь ли я высказать их?
Помните ли вы, хире Бофранк, как я сказал вам, что бежал из поселка в большой спешке по указанию некоего Тимманса, секретаря ныне покойного грейсфрате Броньолуса? Я солгал вам. Я бежал из поселка, ибо боялся, что так или иначе откроется правда, боялся и костра, боялся… я боялся всего, хире Бофранк. С самого вашего появления я лгал вам, и не только ложью, но и смертоубийством запятнал я себя. На моих руках — кровь тех невинных, хире Бофранк.
Эпистолу сию я пишу сейчас с такой смелостию, ибо только что принял истолченный и смешанный с вином корень каппы».
Бофранк понял, что несчастному оставалось с момента написания этих строк жить менее суток — корень каппы довольно безболезненно в сравнении с большинством ядов, но все же неумолимо разрушал все внутренние органы, а противоядия не существовало. Стало быть, чирре уже мертв…
«Что же остается мне, злосчастному? Пожелать вам удачи, хире Бофранк, и испросить прощения, ежели такового я достоин.
Мир вам».
Так закончил свое письмо чирре Демелант, он же Урцель Цанер. Смяв листок, Бофранк отпустил его, и легкая бумага, несомая ветром, полетела в покрытое инеем поле, над которым все ярче разгоралось солнце. Потому что уже не было важно, кто послужил орудием Люциуса в далеком северном поселке.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ПЯТАЯ, в которой мы вновь встречаемся с достопамятным бургмайстером Эблесом, а Бофранк в очередной раз попадает в ловушку и чудесным, хотя и противоестественным образом избегает последствий четвертого использования волшебного талисмана Гаусберты
Всякая дама, даже самая благонравная, вправе любить, если любит.
Графиня де ДиаПуть, избранный старичком алхимиком, проходил через поросшие густым лесом не слишком высокие горы, которые даже можно было поименовать холмами. Опасных подъемов и спусков, узких троп по самому краю бездонных ущелий он не содержал, а заброшенность дороги объяснялась тем, что городок рудокопов, через который она, собственно, и проходила, был заброшен более ста лет назад, когда недра иссякли и не могли более прокормить тамошних обитателей.
Ночевали в небольших деревушках, где в приземистых бревенчатых домах без окон жили лесорубы и овцеводы. Нелюдимые и хмурые, они поначалу уже собрались было отказать путникам в ночлеге, однако полновесное золото из мешочка грейсфрате Шмица мгновенно переменило их решение. Еда была сытной, но простой и лишенной всякой приятности; вместо вина и пива здесь подавали одну токмо брагу, чрезмерно хмельную и омерзительную на вкус. Понравилась она, пожалуй, одному только Бальдунгу, каковой постоянно возил с собою целую баклажку, регулярно восполняя ее в каждой новой деревеньке.
В этих местностях слыхали о чумном поветрии, безжалостно опустошавшем южные окраины и в том числе столицу; однако ж заразы не пугались, со здравой рассудительностью, присущей многим необразованным людям, полагая, что коли по дороге из столицы никто из приезжих не помер, стало быть, и зараза к ним не прилипла.
Никаких следов Проктора Жеаля в пути не обнаруживалось, однако Гаусберта пребывала в глубоких раздумьях, результатов которых не сказывала, однако же говорила, что идем, дескать, правильно и нагоним его, когда потребуется.
Не видно было и кошек, столь организованно выступивших из столицы вместе с отрядом. Пару раз Бофранку казалось, что он слышит их мяуканье в лесу, но то могли быть и дикие коты либо рыси, в изобилии обитавшие в здешних местах.
Миновали заброшенный городок рудокопов. Стоявший в уютной долине на берегу небольшого озера, он был с трудом различим среди буйной растительности, пленившей строения вскоре после того, как их покинули люди. Некоторые дома совсем сокрылись под ползучими кустарниками; другие еще возвышались, изнемогая под тяжестью оплетавших их ветвей.
Ночевать вблизи заброшенного городка не решились, ибо, как известно, в подобных местах может водиться всякая нечисть. Посему устроились на ночлег в достаточном отдалении — прямо в лесу, на вершине одного из холмов, окружавших долину; сидя у костра и глядя вниз, Бофранк видел странные зеленоватые огоньки, то и дело поблескивавшие на нежилых улочках. Спросив у Гаусберты, что бы это могло быть, он получил в ответ загадочную улыбку, согревшую его сердце своей приятностью, но не давшую, однако ж, ответа на вопрос. Зато словоохотливый старичок Базилиус Кнерц не упустил случая проявить свою ученость и высказал все имевшиеся насчет огоньков предположения — от проистекающего сквозь трещины в земле особого газа до блуждающих душ погибших в штольнях рудокопов, что вернулись в свои дома и мечутся в поисках близких, невесть куда пропавших.
Так, мало-помалу, небольшой отряд прибыл в Скаве-Снаа. По расчетам субкомиссара, путь и вправду занял несколько меньше времени, нежели морем; сим обстоятельством чрезвычайно гордился Кнерц.
Ничего не изменилось в городе со времени первого его посещения Бофранком: все то же запущенное скопище домишек, ютившихся вокруг полукруглой гавани под прикрытием гор, та же городская ратуша, торчащая над плоскими крышами, столь же унылая и ветхая, как и все вокруг. Возле причала покачивались на волнах два рыбацких кораблика, где-то громко лаяли собаки, а на окраине встретилась траурная процессия — кого-то несли на кладбище.
— Кто сейчас служит бургмайстером? — поинтересовался Бофранк у некоего водовоза, поправлявшего упряжь подле дороги.
— Почтенный хире Эблес, — ответил водовоз, с подозрением оглядывая вновь прибывших.
Стало быть, Вольдемарус Эблес сохранил пост и чин свой… Бофранк припомнил, как писал он Проктору Жеалю (впрочем, Жеаль ли то был еще?): «В Скаве-Снаа мы познакомились с тамошним бургмайстером Эблесом; не знаю, каков он градоправитель, но человек довольно низкий, хотя и помог нам, и был радушен. Надо бы по возвращении просмотреть письма и жалобы из здешних краев — не может быть, чтобы не угнетал и не обирал он жителей Скаве-Снаа и окрестных мест». Однако ж, прибыв в столицу, Бофранк ограничился тем, что написал грейскомиссару Фолькону о деяниях Эблеса всего несколько строк, забыв за многими делами проследить судьбу своего послания. Возможно, сюда и присылали чиновника с инспекцией, но чем она завершилась? Не подкупил ли Эблес чиновника? Не обманул ли?
Как бы то ни было, в городе требовалось задержаться хотя бы ненадолго, дабы пополнить запасы и переночевать, ибо как раз спускались сумерки.
— Бургмайстером здесь довольно дурной человек, — поспешил сообщить своим спутникам Бофранк, — который тем не менее ничего плохого нам в прошлый раз не сделал, но, полагаю, ожидать от него можно всяческих неприятностей, ибо я пожаловался на него в своем письменном отчете и ему не столь сложно было догадаться, от кого исходила та жалоба…
Был найден постоялый двор, где удалось снять две большие комнаты; в одной разместились Гаусберта, Рос Патс и старички, в другой — Бофранк, Фолькон и Оггле Свонк. Снятые комнаты были без окон, а вместо кроватей в них стояли деревянные лежанки, поверх которых были брошены видавшие виды тюфяки; впрочем, для моряков и рыбаков этого вполне хватало, а иные гости навещали здешние края чрезвычайно редко.
После нехитрого ужина Бофранк собрался было отойти ко сну, ибо вставать предстояло рано, ан не тут-то было. Появившийся к самому окончанию трапезы худосочный чиновник — в плешивой меховой куртке и столь же жалкой шапке — сообщил, непрерывно кланяясь, что хире бургмайстер Эблес прослышал о прибытии в город уважаемых гостей и приглашает их побеседовать, откушать и выпить немного вина.
Местный деликатес — а именно фаршированные рыбьи глаза, которые подавали у Эблеса в прошлый раз, — на вкус был омерзителен, а беседа предполагала некое выяснение отношений, однако ж отказать Бофранк не мог: как бургмайстер Эблес обладал в этой глуши практически безраздельными властными полномочиями и ссориться с ним без причины не подобало.
Вместе с Бофранком вызвался пойти юный Фолькон, который, как заметил субкомиссар, с некоторого времени будто опекал его. Было то личным желанием юноши или же исполнением чьей-то просьбы — к примеру, Гаусберты, — Бофранк не ведал. Прочие путешественники отказались от приглашения; нюклиета же, откушавшего первым и уже похрапывающего на своей лежанке, будить не стали вовсе.
— Я знаю, где живет хире Эблес, — сказал Бофранк. — Передайте ему нашу благодарность за приглашение: как только мы соберемся, тут же придем.
Чиновник, не переставая кланяться, убежал.
— Чего ждать от этой встречи? — спросил Фолькон, глядя, как субкомиссар проверяет пистолет.
— Чего угодно — хире Эблес, сколько могу судить, малопредсказуем в поступках. Не исключено, что он попросту накормит нас ужином и истерзает беседою; но можно ожидать и любой подлости, ибо, как я уже говорил, человек он дурной.
— Я вот о чем подумал, хире Бофранк: а что если Люциус-Жеаль уже побывал тут и дал некий наказ бургмайстеру? Я не утверждаю, что Эблес — союзник и последователь Люциуса, но дело могли решить простые деньги.
Мысль юноши Бофранк нашел весьма разумной, но вслух сказал:
— Полагаю, что мы все же опередили Люциуса. Идемте же, и чем раньше мы выйдем, тем раньше вернемся.
Вольдемарус Эблес нисколько не изменился со времени прошлой встречи. Он просто пылал радушием и усадил Бофранка и Фолькона поближе к огню, заметив, что гости, верно, озябли в дороге. Вино, предложенное бургмайстером, оказалось неплохим, но Бофранк не стал злоупотреблять им, а Фолькон и вовсе вежливо отказался выпить хотя бы один бокал.
Устрашающих фаршированных рыбьих глаз на столе не обнаружилось, но были поданы зажаренные целиком перепелки — со многими соусами и гарнирами.
— Что вновь заставило вас посетить наш неприветливый северный край, хире Бофранк? — осведомился бургмайстер, когда обязательные темы вроде погоды, морской торговли и слухов о чумном поветрии в столице были исчерпаны.
— Те же дела, что и в прошлый раз, — уклончиво отвечал субкомиссар. — К сожалению, мы не все успели.
— Судя по тому, что мне рассказали, у вас подобралась прелюбопытная компания! — воскликнул с улыбкою Эблес, поправляя беспрестанно сползавший на затылок парик.
Бофранк пожал плечами и улыбнулся, не зная, что сказать. Впрочем, бургмайстер, кажется, и не ждал ответа. Он велел принести еще копченой рыбы и сладостей, а также подбросить в камин дров.
— Отчего вы остановились на постоялом дворе? — спросил Эблес, когда все было исполнено. — У меня всегда готовы для гостей и кров, и постель.
— Мы решили не докучать вам, к тому же рано утром мы собирались продолжить путь.
— Стало быть, вам скоро вставать, а вы еще и не ложились! — фальшиво запричитал Эблес. — Что ж, если вы не желаете продолжить трапезу, не смею вас задерживать. Эй, Хаанс! — кликнул он.
Явился старый-престарый слуга; кажется, именно его встретил Бофранк на лестнице в прошлый раз, когда блуждал, мучимый бессонницей, по дому, покуда не набрел на бургмайстера в компании здешних развратных красоток…
— Проводи этих достойных хире, Хаанс, да хорошенько посвети, чтобы никто не споткнулся и, упаси господь, не расшибся! — наказал Эблес, прощаясь. — Извините, что не могу сопроводить вас лично — разыгралась печень, очевидно, я слишком много съел жирного.
Старик, держа в трясущейся руке канделябр о пяти свечах, повел их вниз по узкой крутой лестнице.
— Кажется, мы поднимались не здесь, — заметил Фолькон с плохо скрываемою тревогою.
— Главный вход уж заперли на ночь, — проскрипел старик, беззубо осклабившись, — а через зады вы выйдете как раз на улицу, что ведет к постоялому двору.
Они спустились еще ниже и повернули налево, в просторный коридор, по стенам которого были развешены покрытые паутиной картины.
— Сюда, хире. Прошу вас, сюда, — прошамкал старик, учтиво отступая в сторону.
— Мы в ловушке! — воскликнул Мальтус Фолькон, когда тяжелая решетка обрушилась за их спинами и закрыла проход. Бофранк подбежал и потряс прутья, но тщетно — решетку не взяло бы, наверное, и пушечное ядро, а поднять ее вдвоем было и вовсе не по силам человеческим.
Старик, прегадко захихикав, быстро засеменил прочь, попутно задувая свечи.
Субкомиссар огляделся — они были пленниками тупика, единственный выход из которого закрывался падающей решеткою, как и в логове упыря Клааке.
— Он все же обманул нас! — воскликнул юноша, в гневе ударяя кулаком в стену. — Толку теперь от наших шпаг и пистолетов!
Бофранк, не говоря ни слова, присел на корточки и призадумался.
Если они не вернутся на постоялый двор, друзья придут им на помощь. Но что они сделают? И не отправил ли бургмайстер уже людей, чтобы пленить и остальных? Нужно было поторопиться, и Бофранк видел перед собою только один выход. Он решительно принялся снимать с себя одежду.
— Что вы делаете, хире Бофранк?! — в удивлении вскричал Фолькон, полагая, очевидно, что субкомиссар повредился в рассудке.
— Не пугайтесь, я в своем уме, — сказал Бофранк, расстегивая поясной ремень. — Помните, как нам удалось сбежать из темницы на острове Брос-де-Эльде?
— Это связано с некою тайною…
— Сейчас вы увидите, что это за тайна. Но еще раз прошу: не пугайтесь, Мальтус. Я выберусь отсюда и найду дорогу к нашим друзьям, а потом мы изыщем способ вернуться за вами.
Из кошеля Бофранк извлек бережно сохраняемую там фигурку кошки. Подарок Гаусберты он более использовать не планировал, памятуя о зловещем четвертом разе, но теперь ему ничего не оставалось. Стараясь не думать, во что выльется для него опрометчивое деяние, субкомиссар погладил фигурку и произнес чуть слышно:
Именем Дьявола да стану я кошкой, Грустной, печальной и черной такой, Покамест я снова не стану собой…Фолькон не удержался от короткого вопля, когда среди сброшенной одежды Бофранка явился припавший к полу черный кот, а сам субкомиссар чудным образом исчез, словно растворился в воздухе. Выпученными глазами юноша смотрел, как кот подбегает к решетке, машет ему лапою на прощанье и исчезает во тьме коридора, с легкостию просочившись меж прутьями.
Отыскать дорогу на волю Бофранку-коту оказалось несравненно проще, нежели Бофранку-человеку. Ноги словно сами несли его через приоткрытые оконца, проломы в стенах и заборах, так что совсем быстро он оказался возле постоялого двора. Проскользнув в дверь следом за страхолюдного вида моряком, Бофранк устремился к комнатам. Дверь к Гаусберте оказалась заперта, и тогда Бофранк принялся громко мяукать и царапать доски когтями, шумом привлекая к себе внимание.
На шум из соседней комнаты выглянул не кто иной, как Оггле Свонк, который тут же цыкнул на кота и попытался пнуть его ногою, но Бофранк оскалился, обнажив ярко-красную пасть и явив миру белоснежные зубы, и грозно зашипел. Поскольку кот был цвета ночи, суеверный Свонк тут же отшатнулся и укрылся обратно в комнате; Бофранк же продолжал драть когтями дверь до тех пор, пока Гаусберта не отворила.
— Не может быть… — прошептала она, сразу, должно быть, поняв, кто перед нею. И тут же крикнула: — Выйдите! Выйдите все вон!
— Что случилось? — спросил Рос Патс, но супруга, не тратя времени на объяснения, вытолкала его в коридор, а затем столь же бесцеремонно поступила со старичками, пробудив их ото сна.
Только когда Гаусберта осталась с котом наедине, только тогда она произнесла, глубоко вздыхая:
— Я ведь предупреждала вас, хире Бофранк, что в четвертый раз мой подарок использовать не стоит… Что же делать теперь? Я знаю что, но… Ах, хире Бофранк, ведали бы вы, перед каким выбором я поставлена теперь. Но никак иначе поступить нельзя, посему сей секунд отвернитесь!
Бофранк-кот послушно повернулся к стене мордою и услышал шелест снимаемого платья, а затем те же слова, что совсем недавно произносил в ловушке сам. Потом раздалось негромкое мурлыканье, и Бофранк увидел перед собою кошку.
То была премилая и преизящная кошка, которая приняла чрезвычайно откровенную позу. Приглашение было недвусмысленным, и Бофранк, внутренне сам дивясь тому, что делает, осторожно ухватил кошку зубами за шерсть на загривке и принялся со всем возможным тщанием покрывать. Совокупление, не в пример человеческому, длилось всего лишь несколько мгновений, и в конце его Гаусберта-кошка издала пронзительный крик, в котором странным образом сочетались радость и боль. Бофранк-кот также испытал невиданное наслаждение, мимолетное, но чрезвычайно острое; затем стремительно соскочил в сторону, тогда как кошка сей же миг перевернулась на спину и принялась кататься, выражая блаженство.
Бофранк-кот смотрел на Гаусберту-кошку, не отдавая себе отчета в том, что только что произошло меж ними… Он сделал один мягкий и осторожный шаг по направлению к ней — и тотчас же снова обратился в человека; вместе с человеческим обликом к нему вернулся стыд, и он неуклюже прикрыл срам руками, завертев головою в поисках какой-либо одежды.
— Оставьте, хире Бофранк, — вымолвила Гаусберта устало. Она стояла, нагая и спокойная, и свет лампы играл на ее грудях и золотистых волосах лона. — Во всем этом есть лишь одно несчастие — вы не сможете более обращаться котом… Ваше умение здесь, — она погладила свой живот ниже пупка, — и спустя девять месяцев оно явится на свет.
— Значит ли это… — прошептал Бофранк в благоговении, и Гаусберта просто кивнула в ответ.
Затем она прижала палец к губам и молвила:
— Ни слова больше. Возьмите в той сумке одежду моего супруга и рассказывайте, что случилось у бургмайстера, — вижу я, дела то были срочные и серьезные, коль уж вы нарушили мой запрет.
И Бофранк принялся объяснять, с трудом находя слова после пережитого.
Слава всевышнему, никаких дополнительных расспросов не воспоследовало, да и время поджимало. По ночным улицам, на которые медленно и торжественно сеялся пушистый снег, Бофранк со спутниками двинулись к дому бургмайстера. Настойчивый стук в дверь долго оставался без ответа, пока наконец не послышалось — после долгого старческого кашля:
— Кого там принесло в ночи?!
— Срочное письмо для хире бургмайстера, старый пень! — рявкнул, проявляя находчивость, Рос Патс, пошедший со всеми, ибо рана его почти исцелилась. — Отворяй тотчас же!
Залязгали засовы, заскрипел ключ в замке, и дверь отворилась. Бофранк с небывалым удовлетворением отшвырнул старикашку прислужника, стукнувшегося головой о стену и упавшего без чувств, и ринулся вперед. Выскочил еще кто-то из слуг и такоже был повергнут; третий, с кухонным топориком, получил от Патса столь изрядный пинок в живот, что с криком опрокинулся и забил в воздухе ногами, словно подстреленная птица.
Спальня, в которой почивал хире бургмайстер, была хорошо знакома Бофранку; на огромном ложе кроме Эблеса обнаружились и его девицы, Агнес, Альдусина и Равона, с коими в прошлый раз делил постель и сам Бофранк. С визгом и писком бросились они прочь, даже не прикрывшись, бургмайстера же выволокли из-под теплых одеял, и старичок Кнерц приставил к самому его горлу кончик своего клинка, скрываемого обыкновенно в тросточке, а Бофранк потребовал, чтобы Эблес тотчас выпустил его товарища.
Не в силах понять, каким образом субкомиссар выбрался из ловушки, Эблес не стал запираться. Он послушно нажал некий рычаг, скрытый за спинкою кровати, и уныло пояснил, что теперь решетка поднялась и путь свободен.
— Вы, верно, потребуете объяснений? — спросил он, восседая на кровати и кутаясь в одеяло.
— Лучше бы заколоть вас сразу, — сказал Бофранк, — но я охотно выслушаю, чем мы обязаны подобному приему.
— Это был человек на серой лошади, — все же поспешил объясниться Эблес. — Два дня тому назад он проезжал через Скаве-Снаа и навестил меня. Мы, как водится, выпили вина, собеседник он оказался интересный, рассказал много веселых шуток…
— Как его звали?
— Звали его Проктор Жеаль, и при нем были бумаги Секуративной Палаты. Я не смел ему отказать в его небольшой просьбе…
— Задержать, а то и умертвить тех, кто едет вслед за ним, и средь них известного вам Хаиме Бофранка?
— Именно, именно, вы же все понимаете… Он дал мне сверх того денег, много денег… Хотите, вы можете взять их все, они лежат в тайнике под чучелом оленя в комнате, что находится этажом ниже этой…
— Когда и куда он уехал?
— В тот же день он отправился в путь, и я проводил его до выезда из города, как подобает человеку воспитанному и как я провожал вас… Хире Бофранк, вы же разделяли со мною хлеб, вино и ложе! Не причините мне зла! Молю вас лишь об одном — пускай меня закуют в железа или продадут в гребцы, но не лишайте же меня жизни, ибо прегрешения мои от жадности, с коей я не умею управиться!
Так вопил и плакал бургмайстер Скаве-Снаа по имени Вольдемарус Эблес, но времени и желания разбираться в его деяниях у маленького отряда Бофранка не было.
И когда поутру жители городка Скаве-Снаа собрались под ратушею, то увидели: из окна выдвинута тяжелая скамья, в петле, укрепленной на ней, болтается мертвый бургмайстер Эблес, и глаза его уже успели замерзнуть, а тело — застыть.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ ШЕСТАЯ, в которой помимо всего прочего встречаются чудовища
Визг, подобный визгу гиены, одолел его и владеет им.
Франсуа Ленорман «Магия халдеев»— Стоило ли убивать его? — спросил совестливый Мальтус Фолькон.
— Он был дурной человек, и этим все сказано.
— Дурных людей нет.
— О, как вы заблуждаетесь, Мальтус. Только за последний год нам попалось их столько…
— Это все не дурные люди, — возразил юноша, — ибо они либо обмануты, либо не в силах удерживать свои страсти. Я бы назвал таких людей слабыми, неумелыми, возможно, злобными глупцами, но не дурными.
— Как может злобный глупец не быть дурным человеком? — вопросил с улыбкою Бофранк, и Фолькон, заблудившись в своих умозаключениях, принужден был замолчать.
Некоторое время после того, как отряд оставил городок, спутники ждали погони, но ее не случилось. Вероятно, обитатели Скаве-Снаа не слишком переживали по поводу безвременной кончины своего бургмайстера.
Снег, что начался еще ночью, продолжал идти покрывая все вокруг белым одеялом. Среди этой белизны Бофранк краем глаза подметил рыжие, черные и разноцветные пятна. Похоже, это были кошки, преданно сопровождавшие отряд от самой столицы; некстати мысли субкомиссара с кошек вообще переместились на вчерашнее происшествие в комнате Гаусберты, и он неожиданно для себя покраснел — к счастью, на морозе никто не обратил на это внимания.
Видно было, что юный Фолькон испытывает огромное желание испросить у Бофранка объяснений относительно волшебного превращения, но не решается этого сделать.
Кошачья фигурка по-прежнему хранилась в кошеле Бофранка, но теперь уже не как чудодейственный предмет, а просто как подарок дорогого и любимого — теперь уже Бофранк перестал страшиться этого слова — человека.
Странно, но он не испытывал никакой ревности к Росу Патсу. А казалось бы, должен был, ибо тот обладал прекрасной Гаусбертой каждый день и каждую ночь, вдыхал запах ее волос и ощущал прикосновение ее губ и рук, слышал ее чудный голос…
В размышлениях Бофранк наматывал на палец прядь своих длинных волос, которые стали почти совсем седыми. Внезапно заметив это, субкомиссар понял, как изменился внешне. Мало того, что он утратил персты, — лицо его, приученное в свое время к кремам и пудрам, избороздили морщины, глаза ввалились и словно бы немного выцвели, и вот теперь волосы поседели…
— Что вы так печальны, хире Бофранк? — спросил старичок-алхимик, поравнявшись с субкомиссаром.
Базилиус Кнерц не терял присутствия духа — на ночлегах он рассказывал различные поучительные истории или же объяснял повадки зверей и птиц, свойства камней и деревьев. В отличие от своего ровесника, нюклиет Бальдунг был мрачен и немногословен — на обращения он отвечал грубостями и непонятными проклятиями, а на привалах ел за двоих и спал; впрочем, нужно сказать, что спал он и в дороге, порою качаясь в седле так, что, казалось, вот-вот упадет.
— Печален, ибо не вижу причин для особой радости, — отвечал Бофранк.
— Радость, хире Бофранк, можно изыскивать во всем, что лицезреешь. Вот сосулька свисает с еловой лапы — посмотрите, сколь красива она, словно труба в органе собора! А ведь сотворено сие водою, морозом и ветром без какого-либо участия рук человеческих! А вот проскакал заяц и оставил свои следы — куда бежал сей забавный зверек и зачем? Смотрите, вон солнце светит сквозь тучу, и от вида его сразу становится теплее, ночной сумрак отступил — как не порадоваться?
— Славно вам жить на свете, хире Кнерц! — засмеявшись сказал Бофранк — Должно быть, оттого и прожили вы столько лет, и дай вам бог прожить еще столько же!
— Вы можете смеяться, но я и собираюсь, — поведал отставной принципиал-ритор с весьма гордым выражением лица. — Не раз уже писано, что жития человеческого легко может быть сто пятьдесят лет, а все, что отымается от этого срока, отнимает сам человек. Дурные привычки, невоздержанность, склочность характера, зависть — все это вычитает годы из нашей жизни. Так что правда ваша — доброму человеку, каковым я, несомненно, являюсь, и жизнь отпущена долгая и добрая.
— А я, хире Кнерц? Я — добрый человек? — спросил субкомиссар, пригибаясь, чтобы вытянувшаяся над дорогою заснеженная ветвь не задела его.
— Вы? — Старичок пригибаться не стал, ибо был заметно ниже Бофранка. — Вы, хире Бофранк, человек, возможно, предобрый. Только жить вам сто пятьдесят лет вряд ли придется…
Сказано это было с грустью, и субкомиссар не стал далее огорчать милого старичка и спрашивать, почему тот так думает. Он и сам чувствовал, что жизненный его путь близок к завершению, однако не терял надежды, что все еще может перемениться к лучшему.
На исходе третьего дня показалась Башня Эз. За нею заканчивалась Северная Марка и начинались ничейные земли, за которыми, однако, вполне успешно жили себе остров Ледяной Палец и поселение Гельдерле. Грузная и уродливая башня выглядела совершенно безжизненной, но Бофранк надеялся встретить здесь гарнизон во главе с лейтенантом Кулленом.
Однако ж распахнутая настежь дверь подтверждала самые мрачные ожидания, и, войдя внутрь, Бофранк остановился в смятении.
Теперь уже трудно было угадать, что же случилось в Башне Эз. Солдаты гарнизона лежали внутри, и тела их были смяты и изломаны неведомою силою, вокруг было разбросано оружие, и все сплошь было покрыто белым инеем. Бофранк остановился подле трупа лейтенанта Куллена, лежавшего с разинутым в молчаливом крике ртом, и, наклонившись, поднял пистолет лейтенанта. Судя по всему, ни одного выстрела из него так и не было сделано.
— Они все мертвы… — прошептал в ужасе Мальтус Фолькон. — Кто же мог содеять сие?
— Полагаю, Проктор Жеаль, — сказал Рос Патс.
— Но зачем?
— Чтобы усмирить свой гнев, — предположила Гаусберта. Она переходила от мертвеца к мертвецу и склонялась на мгновение над каждым, рисуя в воздухе рукою некие черты и знаки. — А гнев сей велик, и сила Люциуса велика, она куда больше, нежели я предполагала. Ах, глупцы! Зачем потревожили они полузабытый дух, зачем призвали его, зачем поклонялись ему, зачем пролили кровь?!
— А что если он сейчас здесь и перебьет всех нас?! — вскричал донельзя испуганный Оггле Свонк, тоже вошедший в Башню вместе со всеми.
Он принялся озираться, но Гаусберта успокоила его словами:
— Он так близко к вожделенной цели, что не станет задерживаться. Полагаю, на острове, подле Тройного Креста, он надеется справиться с нами без особенного труда. Садитесь же на коней, поспешим.
— Недурно бы взять немного припасов, мертвым они все одно ни к чему, — буркнул нюклиет.
Погрузив в сумы мерзлое мясо, найденное в кухонном ларе, спутники молча покинули мертвую Башню. Субкомиссар пообещал себе, что на обратном пути, коли останется жив, позаботится об упокоении тел, сейчас же сделать что-либо с ними, окоченевшими и примерзшими к полу, было невозможно.
Между тем ощутимо холодало, хотя, сколько помнил Бофранк, должно было, напротив, становиться теплее под влиянием теплых морских течений и незамерзающих источников. Но то ли течения ушли в иные моря, то ли источники иссякли либо остыли… Дрожа и кутаясь во всю одежду, что нашлась в сумках, отряд добрался до развалин крепости, в которой Бофранк некогда провел ужасную ночь и потерял всех лошадей.
— Крепость Сольн, — сказал старичок Кнерц, как обычно проявляя недюжинные познания в вещах совершенно неожиданных.
— Ночевать здесь не стоит, — предостерег Бофранк и поведал, что случилось с ним и с его спутниками.
— Вот как… — пробормотал принципиал-ритор, выслушав рассказ. — Надобно сказать, что крепость эта стоит здесь очень давно и помнит людей, веровавших в богов, чьи имена уже забыты. Что сталось с теми людьми — неизвестно, однако ж крепость в одночасье пришла в запустение, а погода и ветер завершили разруху.
— Но на улице мы замерзнем, — заметил Рос Патс, — а в какой-либо из уцелевших комнат, коли развести в ней костер, все же можно будет сколько-нибудь согреться. Да и потом, разве лучше оставаться на улице?..
— Я предупредил вас; делайте как знаете, — отвечал Бофранк, пожимая плечами. — Хотя, по всему, нужно бежать этого гиблого места!
От разбитых ворот теперь уже совсем ничего не осталось. Зато караульное помещение слева сохранилось в целости — вместе с очагом и дымоходом. Уцелела и дверь, окованная железными полосами, подле которой провел жуткую ночь Хаиме Бофранк.
Разведенный в очаге огонь изгнал мороз прочь, а вскоре поспел и ужин. К сожалению, не было вина — спешно покидая Скаве-Снаа, купить его не смогли, то же вино, что было найдено в Башне Эз, замерзло; а ведь известно, что замороженное один раз вино уже нельзя размораживать и употреблять, ибо оно содержит в себе смертельный яд.
Поужинав и запив кое-как поджаренное мясо обыкновенною водою, вытопленной из снега, спутники принялись обустраиваться на ночлег. К тому времени совсем стемнело, и Бофранк, памятуя о страшных событиях, старательно запер дверь.
Уснул он последним, тревожно прислушиваясь к завыванию ветра снаружи.
Так случилось, что и проснулся он первым. Вряд ли пробудил его звук, ибо самый тонкий слух не мог уловить осторожного движения чутких ноздрей, что обнюхивали в сей момент дверные доски. Но первый толчок, а затем и царапание субкомиссар услыхал и принялся расталкивать лежавших рядом Роса Патса и Фолькона.
Постепенно проснулись все. Помещение уже успел вновь наполнить холод, ибо очаг погас, но не мороз тревожил путников. Гаусберта встала прямо напротив двери и принялась творить некие знаки, что-то тихонько напевая; оживился и обычно вялый и едва живой Бальдунг, забормотав сущую, на взгляд непосвященного, абракадабру.
На дверь меж тем обрушивались все новые удары, и Бофранк с ужасом увидел, как вылетел из двери кованый железный гвоздь — вначале один, а затем и второй. Сухо треснула одна из досок, воздух заполнила каменная пыль — это расшатывались вмурованные в стену крепящие петли.
— В нечисти этой не чувствую я силы магической, но прозреваю изрядную силу телесную! — воскликнула Гаусберта, опуская в отчаянии руки, и тут дверь влетела в караульную, развалившись надвое ровно посередине. Один кусок повис на петлях, второй ворвавшаяся в караульное помещение тварь отшвырнула в сторону, ушибив старичка алхимика, с криком павшего подле очага.
— Стреляйте! Стреляйте, хире Бофранк! — закричал юный Фолькон, наставляя на чудовище пистолет, но субкомиссар уже и без того вовсю палил в самую гнусную морду, что видывал доселе.
Приснопамятный упырь Шарден Клааке был отвратителен, но уродство существа, что сокрушило дверь, превосходило его многажды. Белесые глаза источали гной, хрюкающее рыло дергалось, клацали длинные зубы, растущие, казалось, в два ряда… Ростом чудовище было с обычного человека, телом тщедушно и жилисто; на коже его отвратными пятнами чередовались голые проплешины, жесткий черный волос и засохшие лишаи.
Получив пулю, урод исторг прегромкий вопль злобы и боли и махнул когтистой лапою в надежде достать Бофранка; субкомиссар успел увернуться, но лишь для того, чтобы тут же угодить в объятия второго ночного гостя. Прямо над ухом своим Бофранк услышал голодное сопение, склизкие слюни закапали за меховой воротник, густо обдало его дохлятиной… Не дожидаясь, пока зубы вонзятся в его горло, Бофранк до боли вывернул руку с пистолетом и выстрелил, угодив прямо в живот чудовища. Объятия его тут же разжались, и Бофранк пал на колени, ибо ноги внезапно отказались держать его.
Откатившись в сторону, чтобы не быть затоптанным, субкомиссар увидел, что еще одна гнусная тварь схватилась с Патсом, довольно умело, впрочем, отбивавшимся топориком, коим рубили дрова, а первого урода хладнокровно добивал шпагою юный Фолькон, причем тварь кулем лежала на полу, временами содрогаясь всем телом и истошно визжа.
В пистолете оставались еще пули, и Бофранк не размышляя выстрелил в противника Роса Патса, однако ж промазал: так бывает, что, ежели надобно пуще жизни, не угодишь во врага и с двух шагов, а ежели не надобно, заденешь друга на расстоянии ста. К счастью, Бофранк вовсе никого не задел, но, увидав в дверях четвертую тварь, утратил все надежды на лучший исход.
И тут помещение наполнилось разноцветьем шерстяных клубков, своим присутствием словно согревшим морозный воздух. Воинственные кошачьи крики испугали чудовищ, и те, кто был цел, кинулись бежать.
На полу осталось два издыхающих тела.
— Поможем нашим друзьям! Они жертвуют собой ради нас! — воскликнула Гаусберта и поспешила наружу; за нею заторопились и остальные, среди которых Бофранк.
В караульной остались только затаившийся в углу нюклиет и ушибленный дверью старичок-алхимик. И тут случилось ужасное: воровато оглянувшись по сторонам, Бальдунг вытащил из-под своих неопрятных лохмотьев дубинку, наклонился и с силою ударил лежавшего без чувств алхимика в висок. Тот задергался и засучил ногами, умирая; нюклиет же отпрянул от тела и вернулся в свой угол. Забившись под груду одеял, он пробормотал себе под нос:
— Стало быть, я твой дурнопахнущий друг? Так ты именовал меня, смешиватель порошков? Что ж, посмотрим, как запахнет твое тельце, когда его начнут точить черви…
Так он гундосил, словно безумный, каковым, возможно, и был; однако ж, когда вернувшиеся спутники принялись оплакивать несчастного Базилиуса Кнерца, нюклиет нелживо плакал и рыдал вместе с ними.
ГЛАВА ДВАДЦАТЬ СЕДЬМАЯ, и последняя, которая преисполнена скорби более всех остальных, хотя возмездие настигает тех, кого обязано настигнуть
Нет смертного, который был бы разумен во всякий час или не имел своих слабостей.
Эразм РоттердамскийУбить бежавших в панике тварей не сумели — едва оказавшись снаружи, они словно растворились в снежной тьме, и, как ни искали их, взявшись за руки, чтобы не потеряться, ни одного не нашли. Чудовища, оставшиеся лежать в караульной, под действием тепла стали расползаться, словно бы таять, источая при том омерзительный запах тухлятины. Однако ж их успели рассмотреть, и Гаусберта сказала, что они суть снежные вурдалаки, о коих сложено великое множество легенд. В подобных вурдалаков, пояснила она, превращаются порой люди, заплутавшие в снежную бурю и сгинувшие в ней.
Трупики погибших кошек, числом девять, собрали и закопали в снегу, а еще двух, у коих оказались переломлены хребты, Бофранк повелел Оггле Свонку из сострадания добить, что тот и исполнил.
Остальные зверьки исчезли невесть куда, словно их и не было.
Тело старичка алхимика, столь нелепо — как всем казалось — умерщвленного неодушевленным куском двери, решено было также оставить здесь, завалив для сохранности камнями, дабы не добрались до него охочие до плоти снежные вурдалаки. Вряд ли бы их остановили камни, но об этом старались не думать — все равно ничего большего сделать не представлялось возможным.
Как ни странно, лошадей, что были привязаны поодаль, гнусные твари на сей раз не тронули, будто шли они прямиком в гости к Хаиме Бофранку, а на прочее внимания не обращали. Хотя животные были перепуганы и прядали ушами при каждом слабом звуке, ни одной раны на них не обнаружилось, поэтому путь к побережью противу прошлого занял много меньше времени. По мере движения воздух становился теплее, хотя и не настолько, как должен был, а снег почти весь истаял и лишь кое-где лежал неопрятными серыми грудами. То и дело попадались пирамиды, сложенные из камней, на верхушках которых покоился плоский булыжник с изображением двух квадратов, сиречь Тиары Люциуса. Бофранку показалось, что таких пирамид стало куда больше, чем раньше; хотя скорее всего на самом деле ему это только казалось.
Когда до поселка на берегу осталось менее чем полдня пути, Гаусберта остановила лошадь, понудив остановиться и остальных.
— Мы уже рядом, — сказала она, — и не худо бы вспомнить слова из Второй Книги о четырех всадниках.
— Значит ли это, что кому-то нужно будет остаться? — спросил Фолькон, подразумевая под этим, конечно же, что он-то не останется ни при каких условиях.
— Да. Дальше мы поедем вчетвером.
— Мы? — поднял брови Бофранк.
— Я, вы, хире Бофранк, хире Фолькон и мой супруг. Оггле Свонк останется здесь, равно как и Бальдунг.
— Нужно ли вам подвергать свою жизнь опасности?!
— Я умею то, чего не умеет никто из вас. Конечно, кое-что умеет и Бальдунг, но я попросила его ехать с нами лишь потому, что не исключала возможности, что сама до побережья не доберусь. Но я здесь, и я буду стоять с вами до конца.
На полянке разбили лагерь, где оставили все припасы и поклажу, взяв с собою только оружие и самое необходимое. Оггле Свонк не скрывал радости, хотя и был озадачен мыслию, как же он доберется домой, коли остальные, не приведи господь, погибнут. Нюклиета он боялся и в спутники не желал; впрочем, разбитной малый хорошо помнил, что на берегу имелся поселок, где, может статься, Оггле Свонк найдет приют.
Нюклиет проводил взглядом четырех всадников, ускакавших по лесной тропе, и сказал:
— Как бы там ни было, пойду-ка я и присмотрю за ними.
— Как вам будет угодно, хире Бальдунг, — сказал Оггле Свонк, разводя костер. Но нюклиет не слышал его; он постоял еще немного, затем плюнул себе под ноги и пошел в том направлении, где только что скрылись четыре всадника.
Взору Бофранка открылся продолговатый залив, окаймленный поросшими лесом холмами, посредине которого из волн морских подымался остров. Формы он был почти что круглой, так что субкомиссар, как и в прошлый раз, подивился, почему его все же поименовали Ледяным Пальцем.
На побережье прежде стоял небольшой поселок — аккуратные дома, сложенные из каменных плит и бревен, причал с лодками… Но нынче поселок был напрочь разрушен: многие дома еще догорали, источая черный дым.
Там и сям меж домами лежали мертвецы в позах столь прихотливых, что ясно было — смерть застала их внезапно и была сколь быстрой, столь и болезненной, о чем говорили застывшие на лицах гримасы ужаса и боли. Помимо людей там лежали беспорядочно куры и кошки, собаки и козы, и никому не нашлось пощады…
— Здесь должна быть лестница, — сказал Бофранк, с трудом отрывая взгляд свой от дикой картины. — Да, вот она.
В самом деле, лестница, сплетенная из ветвей и древесной коры, обнаружилась на прежнем месте. Странно, что Люциус не уничтожил ее.
— Оставим лошадей здесь? — спросил Фолькон. — Но как же слова о четырех всадниках?
— Здесь важны слова о числах квадрата, а пешими мы будем или же в седлах — не суть важно, — пояснила Гаусберта с некоторым, впрочем, сомнением. Но ничего не оставалось, как привязать лошадей к дереву и спуститься вниз.
Запах дыма и горелого человеческого мяса на берегу был невыносимым.
— Сколько же в нем злобы! — воскликнул юный Фолькон, едва не споткнувшись о тело совсем маленького ребенка, сжимавшего в руке игрушечный деревянный кораблик.
— Он в гневе, — кивнула Гаусберта. — Нам придется тяжело.
— Никто в этом и не сомневался, — сказал Фолькон. Юноша был испуган, но крепился.
— Постойте, — сказала Гаусберта. — Прежде чем мы переправимся на остров, мы должны смочить наше оружие составом, что я приготовила еще в городе.
С этими словами она извлекла из кармашка на юбке стеклянный сосуд с плотно притертою крышкою. Вонь от мази из растертых пестом карликов стояла несусветная, однако ж, презрев брезгливость, все смазали ею не только шпаги, кинжалы и арбалетные стрелы, но и пули, заново перезарядив пистолеты.
Затем нашли на берегу брошенную лодку с одним веслом и поплыли в направлении острова.
Мелкие волны качали суденышко, солнце преярко светило в небе, и Бофранк внезапно почувствовал чудовищное желание повернуть обратно. Судя по взволнованным лицам его спутников, то же самое ощущали и они, однако Фолькон продолжал упрямо грести.
Когда нос лодки ткнулся в перемешанный с ракушками и водорослями песок, что-то неуловимо изменилось. Словно бы воздух стал гуще, солнечный свет странно замерцал, а в ушах возник едва слышный звон, наподобие того, каковой издает обычно настырное существо комар, но только куда тоньше и нежней.
Сделав несколько шагов, Гаусберта остановилась и сказала:
— Он здесь.
— Я здесь! — был ей ответ.
Из-за ближних деревьев выступил Проктор Жеаль.
— Друг мой Хаиме! — сказал он с предоброю улыбкою. — Видишь, куда занесло тебя! А ведь я не раз предостерегал тебя, говоря, что дальняя дорога ничего, кроме вреда, в себе не таит.
— Но и ты пустился в путь, притом так неожиданно, — молвил Бофранк, ступая навстречу бывшему приятелю. — С чего бы это?
— Я могу позволять себе разное — в отличие от тебя… А ведь ты мне нравился, Хаиме.
— О ком ты говоришь? Вернее, от лица кого? Кому я нравился?
— Если рассудить по чести, нравился ты мне разному. В этом косном сонмище ты был своеобразен и не похож на других… Зачем же ты переменился?
— Я не менялся, Жеаль. Изменился ты. Скажи, для чего ты убил людей в Башне Эз? Для чего погубил людей в поселке?
— Спроси меня еще, для чего я убил людей на острове, друг мой Хаиме. А ведь я убил их, да… Признаться, сделал я это походя, сам того не желая. Я ведь не злобен по природе своей, тебе это ведомо. Добро и зло для меня категории по сути равноценные, ибо ни то ни другое ничего не значит. Так к чему корить меня? К чему увещевать? Не хочешь ли ты — и друзья твои, к ним я тоже обращаюсь, — встать рядом со мною, как уже сделали многие?
— Покамест не видал я от тебя никаких благ, пускай даже трижды обещанных, — сказал Бофранк.
— Не время ибо, не время… Противоборство добра и зла в вашем мире — интересное зрелище, так и оставим его богу и дьяволу, а сами станем наблюдать. У меня есть множество важных занятий, уж поверь, каковых ты не можешь даже представить, — и это при том, что ум твой куда как не скуден! Размышляй, друг мой Хаиме. Разве давал я тебе в этой жизни дурные советы?
— Насколько я припоминаю, нет. Но с некоторых пор я все одно решил не принимать более советов от тебя.
— Что ж, коли так, прощай, — сказал Проктор Жеаль и, повернувшись, пошел прочь.
И тут в спину его вонзились две арбалетные стрелы. Не оборачиваясь, Жеаль протянул руку, чтобы выдернуть их, как ни в чем не бывало, но что-то словно ожгло его; наподобие человека, укушенного пчелою, он завертелся, и тогда Бофранк понял, что лучшего времени для нападения не найти.
Однако едва он успел прицелиться, как Жеаль был таков; изловчившись и вырвав-таки из спины стрелы — с которых, к слову сказать, не упало ни капли крови! — он припустил бежать, петляя меж стволов, и все поспешили за ним.
По лицу субкомиссара хлестали ветки, ползучие растения цеплялись за его ноги, и когда он неожиданно вырвался на открытое пространство, то едва не упал от нахлынувшей свободы. Пред ним открылась широкая поляна, даже не поляна, а круг земли, очищенной от каких-либо растений, идеально ровный, посередине которого стоял сдвоенный каменный крест высотою примерно по грудь взрослого человека. К нему прикреплен был ярко-красный крест размером чуть меньше; вместе они составляли пресловутые три креста, подобные тем, что Бофранк собирал из палочек и соломинок. У основания большого креста помещалась пирамидка Деревянного Колокола.
Люциус-Жеаль двигался к ним, испытывая, судя по всему, немалую боль от причиненных ран. Ему осталось сделать лишь пару шагов, когда арбалетная стрела, выпущенная Гаусбертой, ударила его чуть ниже затылка.
Обычный человек был бы убит такою раною, но не Люциус. Рухнув на землю, он тем не менее полз к вожделенным крестам, будто змея, но еще две стрелы пригвоздили к земле его руки. Это Мальтус Фолькон и Рос Патс выстрелили почти что в упор. Бофранк поспел уже последним и стоял над телом своего бывшего лучшего друга, размышляя: стрелять — или же Люциусу и без того пришел конец.
Гаусберта, однако ж, была встревожена.
— Не может быть все так просто, — прошептала она, глядя на распростертого Жеаля. И не успела она произнести эти слова, как стрелы на глазах истаяли и освободившийся злодей с силой толкнул Патса и Фолькона под колена. Вскочив с земли, Люциус-Жеаль отшвырнул обоих прочь, да так, что упали они уже за пределами земляного круга; разглядывать, что сталось с друзьями, Бофранку было некогда, ибо Люциус, воздев над собою ладони, словно воздухом оттолкнул Гаусберту, с жалобным криком павшую навзничь.
— Теперь ты видишь, как я играю, друг мой Хаиме, — похвалился Жеаль. Бофранку показалось, что сквозь привычный облик приятеля является мимолетно совсем другой человек — да человек ли? — древний, иссохший едва ли не до костей, с глазами, словно выточенными из угля…
Раскинув руки в стороны, Люциус-Жеаль поднялся в воздух и завис над землею, покачиваясь, — так покачиваются на ниточках ангелочки, коих в праздники подвешивают к древесным ветвям дети. Тонкий режущий звон в ушах усилился настолько, что голова Бофранка, казалось, вот-вот расколется, и… тогда субкомиссар сделал единственное, что мог: он в упор выстрелил в Жеаля.
Вероятно, пуля, поразившая Люциуса, не нанесла бы ему существенного вреда, равно как и арбалетные стрелы. Однако сила выстрела откинула его тело назад, и спиною злосчастный напоролся на вертикальную перекладину большого креста.
Звон в ушах в сей же миг обратился в пронзительный визг, солнце вспыхнуло и погасло.
Гаусберта Патс, лежавшая на земле, видела, как Хаиме Бофранк выстрелил, как Люциус насадился на крест и как тотчас же в небо выплеснулся ослепительный поток огня и света. Когда к девушке вернулась наконец способность видеть, перед нею стоял юный Фолькон со шпагою в руке.
— Вы живы, хириэль, — только и сумел сказать он — И я жив. Мы с вами живы — двое из четверых.
В самом деле, Рос Патс лежал с размозженным черепом, и Гаусберта зарыдала, едва завидев его тело; на Бофранка же, судя по всему, пришелся исторгнутый Люциусом поток огня, и несчастный субкомиссар, весь опаленный, скорчился у подножия креста. От самого же Люциуса ничего не осталось, кроме обрывков одежды и каких-то отвратительных потеков, облепивших перекладину.
— Что мне делать? — спросил Фолькон, опускаясь наземь рядом с рыдающей Гаусбертой.
— Похороним их, — отвечала сквозь слезы девушка. — Похороним здесь, ибо это место для них станет лучшим местом упокоения.
— Но где Люциус?
— Он рвался к Тройному Кресту — и получил его. Думаю, он сейчас в ином мире, а может, и в нашем, но в состоянии развоплощенном, эфирном… Прежде чем он соберется с силами для нового воплощения, пройдет не одна сотня лет. Так что не бойтесь, милый Мальтус Фолькон, мы все же победили. И победа наша не была случайной, хотя помешать третьей силе куда как трудно. Так что пусть радуется Конфиденция Клириков, пусть радуются люди, пусть радуются все, кроме меня, потерявшей сегодня всех тех, кто был мне дороже жизни…
— Посмотрите! Но мне кажется, хире Бофранк жив! — воскликнул юноша, указывая шпагою.
В самом деле, субкомиссар пошевелился и попытался разлепить губы, сплавленные пламенем. Глаза его выгорели и ничего не видели, он зашарил вокруг себя руками и прохрипел:
— Гаусберта! Где вы, Гаусберта!
— Я здесь! Я здесь, Хаиме… — вскричала девушка, падая на колени подле него. — Люциус повержен и ваше предначертание исполнено! Теперь я молю об одном: чтобы вы были живы… я соберу травы и приготовлю лекарства, мне ведомо многое о лечении ран человеческих…
— Не трудитесь, милая Гаусберта… Я знаю, что умираю. Не так хотел я умереть, но далеко не всякому выпадает умереть так, как он себе загадал… Странно, но кажется мне, что в первый раз в своей никчемной и скучной жизни я сделал нечто, чем мог бы гордиться, останься я жив. Вот в чем несправедливость! Так гордитесь же мною вы, милая Гаусберта… А я уйду.
Так сказал Хаиме Бофранк и умер.
И оставшиеся в живых, рыдая, вырыли яму, и положили в нее тела Роса Патса и Бофранка, и насыпали могильные холмики, и украсили их ветвями и цветами. И приступили к ним кошки, и выли на могиле, и, воздав почести убиенным, расточились мгновенно, прошедшие все как одна перед Гаусбертой и как будто кланяясь ей.
И не видел никто за трудами нюклиета Бальдунга, который прокрался к Тройному Кресту, схватил Деревянный Колокол и исчез в лесу, словно бы его и не было.
Так печально закончилась история о двух квадратах, трех розах и четырех всадниках, и совсем не беда, ежели вам встречались истории куда более интересные и поучительные.
Однако ж помните, что есть сила, которая полагает собой середину между богом и дьяволом; и над каждым добром и злом есть судья, который определяет, хорошо или дурно то и это; не столкнитесь же никогда с этой силою, ибо прелесть ее необорима. Всякий, трусливый сердцем, избегающий встать на сторону добра или же выбрать сторону зла, может прельститься третьей силой. И не ровен час, в руки ему попадет Деревянный Колокол…




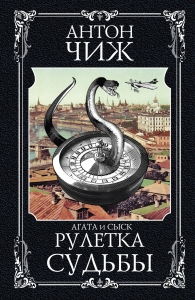
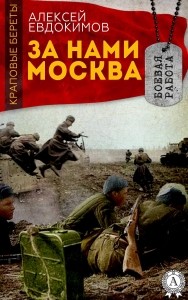

![Сыщик Вийт и дело о древнем Молоте богинь [СИ]](https://www.4italka.su/images/articles/618855/primary-medium.jpg)
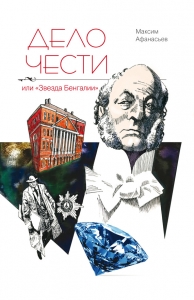
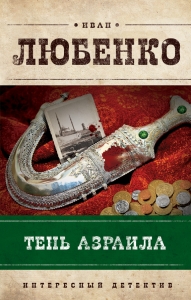
Комментарии к книге «Четыре всадника», Юрий Николаевич Бурносов
Всего 0 комментариев