Наталья Александрова Закат на Босфоре
Глава первая
Когда же ночью застучали в двери,
Согнувшись и вися на револьвере,
Он ждал шести, и для себя – седьмой.
Оскаленный, он хмуро тверд был в этом,
И вот стрелял в окно по силуэтам,
Весь в белом, лунной обведен каймой.
А. Несмелов– Господи, неужели завтра весь этот кошмар кончится! – Ольга Павловна прижала тонкие пальцы к вискам и прикрыла глаза.
– «Весь этот кошмар» не кончится уже никогда, – желчно произнес Серж, окидывая взглядом унылый номер захудалой ялтинской гостиницы «Пале-Ройяль», но имея в виду явно нечто большее, гораздо большее.
– Ты прекрасно понимаешь, о чем я говорю, – возразила ему жена слабым голосом, – мы найдем наконец брата, и он устроит нас по-человечески… Подай мне ментоловый карандаш, ты же видишь как я страдаю!
– Сердце мое, но ты же знаешь, что мы не разбирали вещей! Мы в этом вшивом «Пале-Ройяле» на одну ночь, завтра надеемся попасть на корабль – не распаковывать же чемоданы!
– Правда Петровна! – простонала Ольга голосом христианской мученицы. – Этот человек убивает меня! Вся моя надежда на вас!
– Душечка, Ольга Павловна, вот ваш карандашик! – немолодая, но крепкая с виду женщина, по виду из благородных, но с крупными руками и ногами, подскочила к Ольге, протягивая требуемое. Одета она была в английскую строгую блузку и длинную юбку, несколько помявшуюся в дороге. Дополняли гардероб высокие шнурованные мужские ботинки.
– Вы ангел, вы просто ангел! – Ольга откинулась на подушки и отвинтила серебряную крышечку.
– Душечка, я схожу к хозяину и узнаю, нельзя ли что-нибудь устроить насчет ужина, – Ираида Петровна улыбнулась, показывая длинные и желтые, как у лошади, зубы, и удалилась.
Когда дверь за ней закрылась, Ольга выразительно взглянула на мужа и произнесла:
– Какая чудесная женщина! Что бы я делала без нее. Она не отмахивается от моих страданий, а просто дает то, в чем я нуждаюсь.
– Мне не нравится ее приторная улыбка. И эти ее лошадиные зубы… – недовольно протянул муж.
– Ну, знаешь! – вскипела Ольга Павловна. – Мы не в том положении, чтобы выбирать для общения приятных людей. Ираида Петровна просто нужный человек. И в эту гостиницу, между прочим, мы попали только благодаря ее знакомствам. Иначе пришлось бы ночевать под открытым небом.
– Мне не нравится ее лакейская угодливость, – Серж помассировал раненую левую руку и поморщился, – мне не нравятся эти ее подозрительные знакомства. Ей что-то от нас нужно. Она знает, кто твой брат…
– Ну и что? – в голосе Ольги прозвучали истерические нотки. – Я не делаю из этого тайны. Мой брат – уважаемый человек, боевой генерал… В конце концов, даже если она лелеет какие-то корыстные планы – это не важно. Важно то, что она помогла нам в дороге, устроила нас в гостиницу, найдет людей, которые помогут нам в этом безумии устроиться на пароход. И кто тебе сказал, что там, в Костантинополе, мы должны будем поддерживать с ней отношения? – Ольга откинулась на подушки и демонстративно прижала руки к вискам, давая понять, что разговор окончен.
– Как хочешь, сердце мое, но я не люблю неискренности, – сдаваясь, пробормотал муж.
Ираида Петровна, выйдя в коридор, огляделась. Убедившись, что за ней никто не наблюдает, она перебежала коридор, стараясь не топать большими ногами в мужских ботинках, и постучала условным стуком в дверь седьмого номера – два громких удара, два тихих, три громких.
Дверь мгновенно распахнулась. Худой сутулый человек втащил Ираиду Петровну в номер.
– Где? – коротко спросил он вместо приветствия.
– Номер четыре, – так же коротко ответила Ираида Петровна.
Испуганно оглядев комнату, она повторила для верности:
– Номер четыре, товарищи, – и зябко повела плечами.
Два человека выскользнули из номера. Стараясь не шуметь, они пересекли коридор. Один из них, коренастый, постучал костяшками пальцев в дверь с наклеенной на ней четверкой и жизнерадостным лакейским голосом провозгласил:
– Не изволите ли отужинать?
Тут же, не дожидаясь ответа, он распахнул незапертую дверь и вкатился колобком в комнату.
Серж, окинув гостей яростным взглядом, потащил было из кобуры пистолет, но высокий худой человек был куда расторопнее. Вороненый наган дважды дернулся в его руке, полыхнув огнем, и Серж рухнул как подкошенный на грязный вытертый ковер.
– Зачем ты шум поднял? – обернулся крепыш на выстрелы. – Тише, тише надо.
– Он бы сам начал сейчас палить, – недовольно ответил сутулый. – Да никому сейчас и дела нет, все только и думают, как на пароход удрапать.
Ольга Павловна вжалась в диванные подушки, глядя на страшных гостей огромными от ужаса лиловыми глазами. Она не могла кричать – горло ее перехватил спазм. Коренастый направился к ней, деловито потирая руки и приговаривая:
– Вот и правильно, барынька, вот и молодец, не нужно нам крику этого, все одно никто не поможет, только народ перебаламутишь. А так – все чин чином, ни стуку ни трюку…
Он подошел к Ольге Павловне, схватил ее за горло сильными короткопалыми руками и резко сдавил. Ольга Павловна захрипела, ее глаза помертвели и заволоклись белесой смертной поволокой… В горле хрустнуло, и крепыш оттолкнул ее как сломанную куклу.
– Вот так, – повернулся он к напарнику, – видишь как надо, все по-тихому. А то – стрельба, шум….
Сутулый смотрел на дверь. В дверях стояла Ираида Петровна. В ее вытаращенных глазах изумление уступало место ужасу. Она раскрыла рот так, что видны были два ряда лошадиных зубов, и дышала, как рыба, вытащенная на берег, – глубоко и часто. Коренастый, который считался в маленькой группе старшим, одним прыжком подскочил к двери и схватил Ираиду Петровну за руку.
– Молчать! Тише!
Ираида громко сглотнула, закрыла рот, облизала губы и проскрежетала:
– Что… что вы с ними сделали? Зачем это?
– Что надо, то и сделали, – грубо ответил сутулый убийца. – А ты молчи, пока…
Он, повинуясь взгляду коренастого, замолчал.
– Что вы, Ираида Петровна! – преувеличенно любезно заговорил коренастый, тесня Ираиду от входной двери, – это дело теперь до вас некасаемо. Вы свое задание выполняете, а мы – свое. Вам приказано было доставить этих двоих в Ялту и поселить в клоповнике этом, который гостиницей называется, – вы доставили. А у нас – другой приказ…
– Но мне говорили, что они похитили важные документы, что их допросят и отберут бумаги, а самим позволят уехать из Ялты… – женщина лепетала бессвязно и вдруг умолкла, сообразив внезапно, как просто ее провели.
– Э, госпожа хорошая! – махнул рукой коренастый. – Ты дуру-то не валяй! Мало ли что тебе говорили! Что хотела слышать, то и говорили. А теперь дело сделано и ты получаешься сообщница…
– Но я не хотела…
Сутулый даже плюнул от злости и направился было к Ираиде, но тут дверь осторожно отворилась, и на пороге появился мужчина. Он аккуратно притворил за собой дверь и обвел глазами комнату. Ираида окаменела. Она глядела на вошедшего и внезапно как будто свет вспыхнул у нее в мозгу. Она поняла, зачем месяц назад пришли к ней в дом трое и представились товарищами ее племянника, от которого она не имела вестей с восемнадцатого года, знала только что он воюет на стороне красных. Они сидели долго и пили чай с принесенным сахарином. Они показали записку племянника, где он просил доверять подателем письма. Они долго уговаривали Ираиду помочь им, и в конце концов она согласилась, потому что не хотела подводить племянника и потому что остатки белых эвакуировались и нужно было налаживать отношения с новой властью. И вот чем все закончилось. Она, сама того не желая, привела двоих доверившихся ей людей в эту гостиницу, как скот приводят на бойню.
– Почему она здесь? – спросил вошедший коренастого убийцу, как будто Ираида Петровна была неодушевленной вещью.
Ираида почувствовала, как холодный ствол нагана уткнулся ей в бок. Тело мгновенно прошиб холодный пот, она пошатнулась и схватилась руками за стенку. Уши заложило, как ватой, и она не расслышала нескольких тихих слов, которыми обменялся вошедший мужчина с крепышом. Но ей и не надо было их слышать, при взгляде на вошедшего мужчину на нее снизошло озарение.
– Сядьте, Ираида Петровна, – он подошел к ней и отвел рукой наган сутулого, – сядьте и ничего не бойтесь. Конечно, я понимаю, вы взволнованы, да и обстановка в комнате не очень приятная, но вы женщина сильная, возьмите себя в руки. На войне как на войне! – он произнес эту фразу по-французски, причем Ираида совершенно машинально отметила хорошее произношение.
Она молчала, боясь выдать дрожащим голосом свои чувства. Но именно то, что он подошел к ней открыто, что он не прячет свое лицо, убедило ее, что из этой комнаты она живой не выйдет, что ее непременно убьют, потому что теперь им не нужен такой опасный свидетель. Она выполнила свою миссию, ей больше нечего делать на этом свете. Непонятно только, отчего они медлят. Коренастый осторожно выскользнул в коридор и вскоре вернулся, неся сверток холстинных мешков.
– Ираида Петровна, будьте умницей, дайте слово, что не станете шуметь, кричать и падать в обморок, – ласковая речь ее собеседника совершенно не соответствовала выражению его колючих глаз. – Сейчас они уберут это, – он махнул рукой на трупы, – а завтра рано утром вы расплатитесь с хозяином гостиницы, скажете ему, что ваши попутчики уехали ночью. А после вы сможете вернуться в свой родной Симферополь, который уже занят красными. Документы у вас будут.
«Стало быть, они убьют меня после того, как я расплачусь по счету, – поняла Ираида, – а до тех пор не тронут, потому что я им нужна. Они хотят сделать вид, что ничего не случилось, им не нужно, чтобы в гостинице обнаружили трупы».
Она села на стул и заставила себя взглянуть в колючие глаза.
– Я не буду делать глупости, так что можете не держать меня под прицелом.
– Чудненько! – обрадовался коренастый убийца. – А то дел невпроворот, некогда с вами возиться…
Они с сутулым ловко начали упаковывать труп женщины в мешок. Ираида Петровна при всем желании не смогла бы назвать то, что лежало на диване, Ольгой Павловной. Если бы она осознала, что эти две куклы еще полчаса назад были людьми, с которыми она провела в путешествии почти две недели, то не выдержала бы, сорвалась на истерику. Куда спокойнее было считать тех двоих просто покойниками, которые не имеют теперь к Ираиде никакого отношения.
Правда Петровна была женщина неверующая, поэтому вопросы о том, куда девается душа после смерти, ее мало интересовали. Хотя жизнь в последнее время и не баловала ее, Ираиде Петровне не хотелось терять ее понапрасну. Поэтому она смирно сидела в углу на стуле, напряженно соображая, как ей спастись. Заодно она исподтишка следила за человеком, который был главным во всей этой истории, ради которого, собственно, все и затевалось. Остальные двое были обычными убийцами, а этот – этот был человек совершенно особенный. Он не спеша ходил по комнате, совершенно не интересуясь, что его подручные делают с трупами, только один раз немного придержал коренастого и довольно долго рассматривал труп мужчины, его раненую левую руку. Он достал из дорожного несессера Ольги Павловны шкатулку с документами и кое-каким золотишком. Перебрал драгоценности, сунул в карман одно ожерелье и снял с пальца убитого золотое кольцо, остальные же вещи пренебрежительно бросил сутулому. Ираиду Петровну передернуло от отвращения.
На часах, что висели над конторкой портье в холле гостиницы, пробило два ночи. С улицы изредка доносились крики, топот бегущих ног, вдалеке звучали редкие выстрелы, но в самой гостинице было тихо, как будто все вымерли. Поймав себя на такой мысли, Ираида Петровна ужаснулась: ей показалось на миг, что убийцы, следуя своей страшной цели, вырезали всех постояльцев. Но нет, вот над головой, в верхней комнате, послышались шаги, звон умывальника, потом скрип кровати. Люди, измученные предстоящей неизвестностью, спали тяжелым сном. Назавтра тех, кому повезет попасть на пароход, ждали эвакуация и жизнь на чужбине.
Двое убийц, старых знакомых Ираиды Петровны, что следовали за ней с самого Симферополя, деловито запаковали трупы в мешки и обвязали веревкой. С отстраненным любопытством Ираида размышляла, что они собираются делать с мешками, – не потащат же через холл к выходу. Но все оказалось гораздо проще. Сутулый раскрыл окно, которое выходило не на улицу, а в глухой переулок, – только теперь Ираида Петровна поняла, отчего ее просили взять именно этот номер, самый дальний по коридору. За окном чуткое ухо Ираиды уловило стук колес и скрип. Стало быть, у бандитов есть еще помощник, который и увезет трупы в укромное место. А скорее всего, их утопят в море.
Ираида Петровна сама удивилась, как быстро она соображает. Как будто пелена спала с ее глаз. Сутулый вылез в окно и принял мешки. Ираида решила было, что настал удобный момент сбежать, но столкнулась с насмешливым взглядом самого главного страшного человека и оставила несвоевременную мысль. Человек держал левую руку в кармане и усмехался.
– Я ведь успею очень быстро вытащить оружие. К тому же дверь заперта.
Ираида Петровна поняла, что он видит ее насквозь, и решила следить за своим лицом.
Когда затих вдалеке скрип телеги, увозившей трупы, вещи и коренастого с помощником, человек еще раз обошел комнату, внимательно окидывая ее взглядом, потом прошептал что-то на ухо сутулому и подошел к Ираиде.
– Прощайте, дорогая, вы нам очень помогли, – сказал он серьезно. – Надеюсь на дальнейшее плодотворное сотрудничество.
«Неужели он думает, что я совершенно ничего не соображаю?» – Ираида Петровна даже обиделась, что ее считают такой дурой.
– Отдыхайте до утра, – продолжал главный. – Утром выполните все, что вам скажут, и можете быть свободны.
– Можно, я пересяду в то кресло? – спросила Ираида. – А то на стуле очень неудобно сидеть всю ночь.
– Ну, разумеется. – Человек отвернулся, а затем ловко и бесшумно выскочил в открытое окно.
Взвалив на татарскую арбу два тяжелых холщовых мешка, коренастый сам вскочил на нее. Возница тронул волов, и они неспешным ровным шагом двинулись по ночной улице к морю, сонно дышавшему вдалеке.
Скрипучая арба неторопливо катилась под уклон.
– Давай, Ахмет, быстрее, что ли, – недовольно проговорил седок. Страшный груз нервировал его, он боялся встречи с военным патрулем, неожиданной проверки.
Возница оглянулся, недовольно ответил:
– Что торопишь, арба старый, волы старый. Колесо отвалится – шайтан знает, что делать будем. Солдаты придут, спросят – Ахмет, зачем мертвый человек в мешок клал?
– Типун тебе на язык! – прошипел коренастый.
Словно услышав его мысли, впереди на улице послышались шаги солдат, лязг оружия.
– Ахмет! – испуганно зашептал седок. – Сверни в проулок! Впереди патруль!
– Шайтан тебя разберет, – пробурчал вполголоса возница, заворачивая арбу, – то торопишь, то сверни…
Однако ворчал он, скорее, по привычке, ему самому очень не хотелось сталкиваться с патрулем.
Арба со скрипом, который казался в ночной тишине оглушительно громким, катилась по узкому проулку. Ночь была холодна – на дворе стоял ноябрь, и хотя днем солнце еще пригревало, сейчас у седока зуб на зуб не попадал.
Проулок становился все уже и уже, арба еле тащилась по ухабам, грозя развалиться, и наконец встала.
– Что такое, Ахмет? – спросил вполголоса седок. – Почему стоим?
– Дальше ехать нельзя, арба старый, волы старый… К морю не проехать, дальше овраг.
– Черт! – Крепыш соскочил на землю, огляделся.
Ночь была – хоть глаз выколи. Жилые домики предместья остались далеко позади, впереди, действительно, за цепкими колючими кустами уходил вниз край оврага.
– А, ладно, кто здесь будет искать! Давай, сбросим их в овраг. Сейчас белые драпают, им ни до чего дела нет.
Ахмет обрадовался, что сможет наконец отделаться от опасного груза и поспешно ухватился за мешок, для порядка ворча:
– Ай, шайтан, нехорошее дело делаем! Мертвый человек, как собака, в овраг кидаем!
Оба мешка поспешно столкнули с края оврага, развернули волов и торопливо погнали их обратно к городу. Волы, наверное, тоже почувствовали облегчение, избавившись от страшного груза, и шли гораздо бодрее.
Когда размеренный скрип арбы удалился и стих, в ночной тишине стал слышен другой звук. Со дна оврага, из грубого холщового мешка, доносился тихий, полный муки стон.
Правда пересела в кресло под бдительным взглядом сутулого и сделала вид, что задремала. В гостинице стояла полная тишина, в номере был полумрак. Ираида напряженно размышляла. Сколько времени понадобится для того, чтобы избавиться от трупов? Не очень много, потому что не станут отвозить их далеко, море – вот оно, рядом. А затем коренастый обязательно вернется, чтобы проследить, как все пройдет утром, и избавиться потом от нее, Ираиды. Значит, что-то предпринять для своего освобождения она может только сейчас. Наблюдая за сутулым, она заметила, что он усиленно борется с дремотой. Еще бы – три часа ночи, самое трудное для бодрствования время! Незаметно Ираида передвинула свое кресло поближе к круглому столику, на котором стояла настольная керосиновая лампа с достаточно тяжелой фаянсовой подставкой. Лампой давно уже не пользовались по назначению, потому что в гостинице было электрическое освещение, но для Ираидиных целей она вполне подходила.
Она выждала еще некоторое время, собираясь с духом, затем пошевелилась в кресле и сделала попытку встать.
– Ты… ты куда это? – встрепенулся сутулый.
– Воды выпить, – ответила Ираида, – нехорошо мне.
Они переговаривались злым шепотом.
– Сиди на месте! – прикрикнул сутулый. – А то…
– А то – что? – Ираида тоже повысила голос. – Стрелять будешь?
Она знала, что у ее сторожа есть наган, но посчитала, что он не решится им воспользоваться, – в такой тишине среди ночи…
– Подайте воды, если не велите с места двигаться, – сказала Ираида совершенно спокойно.
Он тоже успокоился и подошел к столу, на котором стоял графин с несвежей водой. Стакана он не нашел, взял графин и понес его к Ираиде, протягивая левой рукой. В правой руке мерцала сталь нагана. Ираиде Петровне было уже все равно, она даже перестала бояться, только в голове всплыла мысль, что если он сейчас выстрелит, то их операция может сорваться. Конечно, ей, Ираиде, будет уже все равно, потому что она умрет.
Дрожащей левой рукой она взялась за горлышко графина, убедилась, что сутулый его отпустил, и разжала пальцы. Графин шлепнулся сутулому на ногу, не разбился, но облил его водой. Не давая сутулому опомниться, Ираида Петровна в ту же секунду схватила правой рукой лампу со столика и со всей силы обрушила тяжеленную подставку сутулому на голову. Если бы удар пришелся в висок, одним негодяем стало бы на свете меньше. Но удар пришелся плашмя, так что только оглушил мерзавца, не причинив чугунной голове особенного вреда.
Ираида перешагнула через бесчувственное тело и бросилась к окну. Открыв створку, она перекинула было через подоконник одну ногу в высоком мужском ботинке, как вдруг длинная юбка зацепилась за гвоздь. Немолодая женщина протянула руку и стала шарить позади себя, стараясь на ощупь найти мешающий гвоздь, потому что материя на юбке была непонятно какого происхождения, но очень прочная и называлась «чертовой кожей», так что самостоятельно не могла разорваться.
И вдруг из раскрытого окна донеслись шаги, слишком хорошо знакомые Ираиде Петровне: это возвращался коренастый. Страх заставил сердце сначала подняться к горлу, а потом резко опуститься вниз. Чудом отцепив юбку, Ираида соскочила с подоконника обратно в комнату, потому что путь через окно был отрезан. Стараясь не топать, она перебежала комнату, оглянувшись на сутулого, но тот не подавал признаков жизни. Ираида Петровна тихонько открыла дверь и кинулась бежать по коридору.
Коренастый убийца проник в номер через окно. Увидев бесчувственное тело своего напарника и пустое кресло, он выругался вполголоса и выскочил в коридор. Коридор был пуст.
Коренастый остановился на пороге, настороженно осматриваясь. В коридор выходило девять дверей. Здесь, на первом этаже гостиницы «Пале-Ройяль», было восемь номеров. Девятая дверь вела в небольшой, порядком захламленный холл с традиционной пыльной пальмой возле окна и приткнувшейся в углу конторкой портье.
Коренастый, с удивительной для его плотного тела легкостью, огромными прыжками бросился в холл. На месте портье дремал тщедушный старик. Одинокая лампочка над конторкой тускло отражалась в его абсолютно лысом черепе. Коренастый мигом обшарил весь холл, даже подвинул пальму. Ираиды Петровны нигде не было. Дверь гостиницы по смутному ночному времени запиралась на замок, ключ от которого висел на шее у безмятежно спящего портье, и для надежности еще изнутри накидывали огромный железный крюк.
Коренастый подергал крюк и понял, что Ираида Петровна не могла выйти из гостиницы. Подходя к дому, он видел в окне смутный женский силуэт, который потом пропал. Оттого-то и бросился он быстрее в номер, почуяв неладное. Предчувствия его не обманули, но беглянки нигде не было видно. Самое вероятное, что она прячется где-то в доме, выжидая, когда утром в семь часов откроют входную дверь. Но где?
Коренастый вернулся в номер, встряхнул как следует своего незадачливого напарника, убедился, что тот приходит в себя, и отправился на поиски беглянки. Он обшарил чердак, а также кладовку и крошечный кабинетик хозяина гостиницы. Кабинет был заперт, потому что в нем стояла несгораемая касса, но проникнуть туда для коренастого убийцы не составило труда. Кабинет был пуст, как и кладовка, и чердак, из чего следовало, что Ираида Петровна спряталась у кого-то в номере. Каким образом ей это удалось, коренастого не интересовало. Ему нужно было избавиться от опасного свидетеля и уносить из гостиницы ноги. Входную дверь откроют не раньше семи утра – в городе комендантский час, и никто ночью не ходит. Но внезапно коренастому пришло в голову, что Ираида Петровна может выскочить через окно. Для этого ей вовсе необязательно возвращаться в номер, где произошло убийство – во всех восьми номерах первого этажа есть вполне широкие окна. Но тогда она точно должна рассказать о случившемся человеку, который ее приютил. Однако в гостинице стояла мертвая тишина, никто не выскакивал в коридор, не звал хозяина и полицию. И все же, будь он на месте Ираиды Петровны, он не стал бы ждать утра, а постарался выбраться из гостиницы сейчас. С властями ей связываться несподручно – живо угодит в соучастники. Время сейчас военное, народ нервный – мигом пустят в расход, разбираться не станут.
Коренастый растолкал не совсем еще пришедшего в себя своего сутулого напарника и велел ему, чуть приоткрыв дверь, следить за передвижениями в коридоре. Сам же он, в который раз выскочив из окна, отошел немного в сторону и слился со стволом дерева, наблюдая. Через полчаса ему показалось, что скрипнула рама. Поскольку с его стороны все окна были наглухо заперты, он быстро обогнул здание гостиницы и столкнулся с сутулым.
– Там она, точно там! – сутулый показывал в сторону улицы.
Коренастый вгляделся. В предрассветной мгле ему показалось, что вдали мелькнул нескладный силуэт, который удалялся, путаясь в длинной юбке.
Услышав за собой дружный топот двоих мужчин, Ираида Петровна поняла, что ей не уйти. Она и раньше-то не особенно на это рассчитывала, а теперь поняла, что жить ей осталось несколько минут. Страх прошел, теперь она ощущала лишь безумную усталость и смутное злорадство, так как надеялась, что операция, в которой она принимала участие, прошла не так гладко, как нужно, а возможно, и вообще сорвалась.
На бегу она оглянулась – коренастый вырвался вперед и несся теперь за ней огромными бесшумными скачками, что было удивительно при его плотной комплекции и довольно коротких ногах.
– Караул! На помощь! – в панике закричала Ираида. – Спасите! Убивают!
Из последних сил она ускорила темп, но сердце бешено билось где-то у горла, в глазах темнело, и ноги подкашивались. Она свернула на улицу, идущую к морю – там порт, люди, – и вдалеке едва разглядела несколько человек с оружием.
«Солдаты! Патруль!» – силы ее утроились, но коренастый настиг женщину и больно схватил за плечо.
– Помоги… – выдохнула она, пыталась вырваться и повернулась к военным вдали, но широкое лезвие ножа уже вошло ей точно под левую лопатку.
– Помилуй, Гос. – не договорив, женщина грузно осела на землю. Глаза ее завороженно уставились в одну точку.
Подбежал сутулый, тяжело дыша, и с размаху толкнул Ираиду Петровну в грудь. Она упала на спину с глухим стуком, как не может падать живое тело.
Вдалеке послышались выстрелы и крики.
– Уходим быстро! – крикнул коренастый и, наскоро обшарив карманы убитой, ринулся вниз по улице.
Его напарник устремился за ним, как вдруг споткнулся и остановился.
– Не стой, подстрелят! – крикнул коренастый на бегу, но было уже поздно.
Сутулый сделал несколько шагов вперед и упал лицом в пыль. Как видно, сегодня у него был неудачный день. Коренастый крепыш пожал на бегу широкими плечами и свернул в проход между домами. Уйти от погони оказалось нетрудно.
Через полчаса он докладывал главному, что операция прошла не так гладко, как предполагалось вначале.
– Из какого окна она выскочила наружу? – придирчиво спросил главный.
– Неизвестно, только ясно, что на первом этаже, – оправдывался коренастый.
– Стало быть, она пряталась в каком-то номере и могла все рассказать жильцам.
– Почему же они не подняли шум? – слабо возразил коренастый.
– Боялись и не хотели вмешиваться. Ну ладно, так или иначе, операция закончена.
– Да уж, – поддакнул коренастый, – я в эту гостиницу больше ни ногой.
– Зря ты так решил, – жестко проговорил главный, и глаза его блеснули. – Придется идти в гостиницу и узнавать там, кто жил в тех четырех номерах, что выходили окнами на улицу, потому что с той стороны она вышла.
Однако, когда коренастый добрался до гостиницы, оказалось, что пришел пароход, и все жильцы спешно бежали в порт. Красные подступали к Ялте, их никто больше не останавливал, все были озабочены только собственным спасением.
Глава вторая
Россия отошла, как пароход
От берега, от пристани отходит.
Печаль, как расстояние, – растет,
Уж лиц не различить на пароходе.
А. НесмеловБорис стоял на палубе парохода «Новороссия» и смотрел на медленно тающие на горизонте вершины крымских гор.
«Навсегда! Навсегда!» – звучало в его мозгу роковое слово. Он смотрел на уплывающий вдаль последний краешек России, и сердце его сжимала тоска. Пароход вез его на чужбину… Как горек хлеб изгнания…
Борис отвернулся, чтобы не растравливать душу.
Неподалеку сидели кружком чеченцы из печально знаменитого отряда полковника Дзагоева. Они разожгли прямо на палубе костер и жарили шашлыки. Весь пароход представлял собой удивительное зрелище – что-то среднее между Ноевым ковчегом и лагерем зеленых. Плакали дети, пели солдаты, в дальнем конце палубы мычала смертельно перепуганная морским путешествием корова – артиллеристы конно-горной батареи провели ее по сходням на борт, несмотря на протесты экипажа, чтобы обеспечить себе пропитание в пути. По палубе шнырял странный невзрачный человек в сером пальто с потертым бархатным воротником, подходил к разным группам пассажиров, прислушивался, поводил острым лисьим носом, записывал что-то в книжечку. Чеченцы рявкнули на филера, он испуганно отскочил и продолжил свои изыскания в другой стороне.
К Борису подошел худой старик в пенсне, с унылой плешью и слезящимися глазами. Воровато оглядевшись, он прошептал:
– Господин поручик, не хотите ли купить бриллиантов?
– Нет, ничего не хочу. – Борис отодвинулся от старика, у него было сильнейшее подозрение, что пальто «ювелира» кишит вшами.
– Зря, очень зря, молодой человек! В Европе вам очень пригодятся настоящие ценности, а я крайне дешево отдам! – с этими словами старик снова приблизился вплотную к Ордынцеву.
Бориса передернуло от омерзения, он решительно отошел, бросив через плечо:
– Не хочу, да и не на что!
– Очень зря, очень зря, – старик сморгнул слезу и собрался было последовать за Борисом, но споткнулся о филера и, радостно вцепившись в его пуговицу, завел с ним тот же увлекательный разговор. Филер, по всей видимости, бриллиантами не заинтересовался, но, в свою очередь, стал горячо нашептывать что-то старику – должно быть, убеждал того заняться совместным изучением благонадежности пассажиров. Борис выругался про себя и снова отвернулся от снующего по палубе человечества в миниатюре со всеми присущим ему пороками.
Крым уже скрылся за горизонтом.
Борис глядел на бесконечные волны и вспоминал прошлое. Волны катились как годы. Вот революция, всеобщий радостный подъем, красные банты на груди у студентов, лавочников и интеллигенции. Радость на лицах интеллигентов вскоре померкла, потому что началась всеобщая говорильня и безобразный грабеж.
Вот морозная голодная зима восемнадцатого года, когда сожгли всю мебель, и Борис бегал воровать дрова со складов на берегу Невы. Из еды тогда почему-то можно было достать только квашеную капусту, ее ели все, и жутким кислым запахом пропитался, казалось, весь город.
В следующей волне увидел Борис синюшные губы умирающей матери и даже послышался ему стук мерзлой земли о крышку ее гроба. После смерти матери он бросил пустую квартиру, выручил немного денег от продажи кое-каких вещей и решил пробираться на юг, чтобы отыскать сестру Варю, пропавшую в водовороте Гражданской войны.
Еще одна волна накрыла Бориса жарким бредом сыпняка. Вот махновцы выбросили его из поезда, слабого от болезни. Тогда он выжил просто чудом. Вот собрался расстреливать его на каком-то полустанке пьяный комиссар, но не успел дать команду, потому что его поезд тронулся с места.
Вот жаркое крымское лето девятнадцатого года, Борис в поисках сестры оказался в Феодосии, и там его забрали в деникинскую контрразведку из-за убийства, которого он не совершал. Борис вспомнил абсолютно безумные глаза штабс-капитана, что допрашивал и бил его в контрразведке. Его спас тогда полковник Горецкий – бывший знакомый по Петрограду и, как выяснилось впоследствии, спас небескорыстно.
Следующая волна бежала из Батума, где смешались турецкие шпионы, греки-контрабандисты, аджарские разбойники и итальянские купцы. Борис вспомнил, как мягко входил нож в тело первого убитого им человека.
С того самого августа девятнадцатого Борис принял решение: он не может оставаться в стороне, он будет воевать на стороне белых. С тех пор минуло полтора года тяжелейших испытаний, и вот итог – эмиграция. Позади оставалась Родина – чужая, но все равно Родина, впереди была полная неизвестность.
Борис закурил, отвернувшись на минуту от панорамы моря, а потом снова стал глядеть на волны. Смотреть на море было гораздо приятнее, чем любоваться жалким человеческим муравейником на пароходе. Папироса ли, бесконечные волны или мерный шум пароходной машины сыграли свою роль, но Борис совершенно успокоился. Он начал думать, что его положение лучше, чем у многих. Он молод – нет еще и тридцати, – силен и здоров. За полтора года боев он даже не был серьезно ранен. Его не зарубили махновцы в степях Южной Украины, не утопили красные в Новороссийской бухте. Бог или везение помогли ему тогда спастись. Все это время он не испытывал никаких колебаний, он твердо знал, что будет воевать до конца, а после покинет Россию. Что бы ни случилось, с красными ему не по пути. Последнее окончательное решение далось ему легко, ведь у него не осталось близких в далеком Петрограде. Мать умерла, а сестра Варя ждала его в Константинополе. Борис надеялся, что там же он встретится с еще одним близким человеком – другом детства Петром Алымовым. Куда труднее было принять решение тем, кто оставил в далекой России родных и близких или хотя бы надежду на то, что они живы.
Борис вспомнил, как читали офицеры листовки с обращением «красного генерала» Брусилова, тот обещал оставшимся офицерам армии Врангеля полную амнистию. Кое-кто поддался на явную провокацию. Борис не верил, что Брусилов по доброй воле участвовал в этой интриге красных, но Бог ему судья…
Рядом с Борисом остановился седой артиллерийский капитан с багровыми шрамами от сабельных ударов на лице. Видно, капитану хотелось поговорить, и он готов был обратиться к любому попутчику.
– Да, господин поручик, – сказал он Борису задумчиво, – выкинула нас Россия как нежеланных детей… Да и Россия ли это в самом деле? Мог ли, допустим, Антон Павлович Чехов представить, что в той провинциальной и скучной стране, о которой он писал, такая свистопляска развернется? Скучали господа, пили чай с вареньем, крыжовник, видите ли, с блюдца ели, о смысле жизни от скуки рассуждали… Барышни мечтали о несбыточном в нарядных кисейных платьях, сокрушались, отчего они не летают… Пыль, жара, скука, скука непревзойденная, телеграфисты стишками балуются, отставные пристава вишневую наливочку кушают… И вдруг – буря! Вьюга кровавая! Мильонные рати сшибаются посреди степи как во времена Чингисхана или Тамерлана! Да ведь тот же Махно – чем тебе не Тамерлан? Конные орды степь в камень сбивают, крик дикий вздымается до небес! Великое переселение народов! Латышские полки, китайские дивизии, чехословацкие корпуса – и вся эта варварская страшная лавина катится по нищей провинциальной России… Дикие, страшные времена, средневековье!
Капитан побледнел от волнения, рассеченная махновской шашкой щека задергалась в тяжелом тике. Он вытащил из-за пазухи фляжку, отвинтил колпачок, предложил Борису:
– Не хотите, поручик, за бывшую Россию? Коньяку не могу предложить, самогоном татарским разжился… Им, басурманам, Аллах пить не велит, так они для нашего брата такую отраву гонят… Но я привык. За неимением гербовой, знаете ли…
Борис вспомнил тошнотворный вкус самогона, который пили они с капитаном Колзаковым от тоски на Арабатской стрелке, и вежливо отказался.
– А я выпью, – капитан приник к своей фляжке, как к лесному роднику. Оторвался, крякнул, вытер сивые усы тыльной стороной ладони, вытер и слезу, сбежавшую с уголка глаза. – Ветер, видите ли…
На третий день пути «Новороссия» приблизилась к небольшому скалистому острову. По кораблю распространился слух, что русских в Константинополь не пускают и поселят на этом островке как прокаженных.
Вокруг корабля появились десятки маленьких турецких лодок-каиков. Веселые жизнерадостные турки предлагали русским пресный хлеб – лаваш, фрукты, восточные сладости. Все это они хотели менять на что угодно – на оружие, на обувь, на одежду, на золото, часы, обручальные кольца… Хочешь – меняй, не хочешь – не меняй, никто не принуждает.
Сухопарый англичанин, коверкая русские слова, объяснил, что здесь, на острове Принкипе, русским придется пройти карантин. Пассажиры «Новороссии» громко возмущались, господин в сером пальто деловито записывал эти проявления недовольства, англичанин спокойно ждал. Наконец судно пришвартовалось, и русские, еще немного повозмущавшись, начали перебираться на берег.
На пустом скалистом берегу прибывших встречали многочисленные шелудивые собаки, безосновательно рассчитывавшие на подачку, двое-трое оборванцев неизвестной национальности и турецкий полицейский с выражением брезгливой печали на смуглом одутловатом лице.
Русских направили к двум дощатым баракам, где была устроена баня. Одежду у них отобрали и пропарили в вошебойке, после которой вернули, – жесткую, выцветшую, покоробленную. Особенно пострадала обувь.
– Как со скотом… С нами обращаются как со скотом… – бубнил, с трудом натягивая сапоги немолодой штабс-капитан.
Филер, еще в исподнем, но уже с записной книжкой, поспешно записал его слова.
Дружные чеченцы расстелили на пустыре возле барака вытертые коврики, сотворили намаз. Потом они развели костер и снова стали жарить свои бесконечные шашлыки.
Борис огляделся, и его охватила тоска. Пустой каменистый остров, добела выжженный безжалостным южным солнцем, просоленный морским бессонным ветром, показался ему преддверием ада.
К Борису подошел широкоплечий сутулый офицер-корниловец с каким-то странным, словно ищущим взглядом. Борис под влиянием нахлынувшей на него тоски сказал этому незнакомому человеку:
– Неласково встречает нас чужбина.
Офицер, почему-то оживившись, ответил:
– Мы от нее другого и не ждали. Затем сухим и деловым тоном он продолжил:
– В десять часов вон на той горке в лесу. – Он указал рукой на невысокую горушку в глубине острова, поросшую мелкими широкопалыми сосенками.
Борис удивился, но не подал виду. Корниловец сухо кивнул и отошел, направляясь к группе негромко переговаривающихся артиллеристов.
«Что же, – подумал Борис, – я случайно произнес условную фразу, пароль, и корниловец, наверное, участник какого-нибудь тайного общества, посчитал меня за своего. Нужно было сразу сказать ему, что произошла ошибка».
Однако вечером он пошел в указанное место – это сулило хоть какое-то развлечение. Альтернативой было лишь посещение грязного ресторанчика на берегу моря, где, несмотря на близость воды, белой пылью пропиталось все: столы, стулья, стены и сам хозяин – унылый грек. Даже волны, накатывающие на берег, казались пыльными.
Стемнело. Борис подошел к чахлому сосновому лесочку. Тропа пошла в гору. Из темноты выдвинулся вдруг человек, лица которого Борис не разглядел, и вполголоса произнес:
– Неласково встречает нас чужбина.
Борис вспомнил утренний обмен репликами с офицером-корниловцем и наудачу ответил:
– Мы от нее другого и не ждали.
Невидимый человек отступил, давая Борису дорогу.
Тропа понемногу становилась круче. Вскоре Борис поднялся на поляну. Здесь собралось уже довольно много людей. Темнота не позволяла хорошенько их рассмотреть, но видно было, что все они одеты в офицерскую форму.
Все стояли молча, слышно было только шумное дыхание множества мужчин. Вдруг по толпе прошло небольшое колыхание, она слегка расступилась, и открылось пространство в середине. Бориса довольно ощутимо толкнули в бок, он оглянулся сердито, но увидел только одинаковые в темноте лица с провалами глаз. Раздался свист, и одновременно вспыхнули факелы, которые оказались чуть ли не у каждого второго участника собрания. От факелов шел жар и тяжелый смолистый запах, в их неровном мерцающем свете Борису показалось, что он очутился глубоко в прошлом. Этому способствовали дикая природа, море, шумящее внизу, а главное – окружающие его лица.
«Экое театральное действо!» – усмехнулся он про себя и постарался стряхнуть наваждение.
В толпе опять возникло какое-то движение, и на середину открытого пространства вышел человек невысокого роста, худой и какой-то неправильный. Голова у него клонилась вбок, левая рука казалась короче правой, но, поскольку он все время жестикулировал и ни минуту не складывал руки вместе, проверить, так ли это на самом деле, не представлялось возможным. С ногами дело обстояло точно так же: человек, произнося свою речь, беспрестанно притопывал, выставлял вперед то одну ногу, то другую, наклонялся то влево, то вправо и даже бегал бы по кругу, если бы свободное пространство не было так невелико. Борис с любопытством присматривался к этому комичному человечку, а потом решил, что странное впечатление возникает от неверного света факелов, которые высоко держали стоящие слева и справа от оратора два молодых офицера в черной корниловской форме с изображением черепа на рукаве.
– Братья! – начал оратор неожиданно красивым баритоном.
Борис отметил про себя, что только такое обращение и было уместно в данном случае: не господа, не граждане, а именно братья.
– Братья мои! – голос выступавшего звучал негромко, но слышен был всем присутствующим очень отчетливо. – Мы собрались сегодня здесь, в этом пустынном, Богом забытом углу, потому что больше нам быть негде. Нас предали и продали, нас лишили Родины, лишили свободы. Тех, кто проливал кровь на ледяных просторах России, кто только чудом не погиб в борьбе с большевиками, махновцами, и остальной сволочью, – нас, раненых не один раз, голодных и нищих, везли на судах, как скот, и заперли здесь, на этом острове, как каторжников!
Толпа слушала молча, но в молчании этом Борис безошибочно уловил согласие. Слова падали в толпу, и люди впитывали их мгновенно, как сухая земля впитывает капли живительной влаги.
– За какие же преступления нас держат здесь как в тюрьме? – продолжал оратор. – За то, что не полегли в степях Украины, за то, что не перешли на сторону красных и не сделались предателями? За то, что сумели выбраться из Новороссийска, невзирая на подлость генералов, которые бросили армию на произвол судьбы? За то, что доверились Деникину и иже с ним?
Толпа глухо заворчала, и Борис готов был присоединиться к этому ропоту – уж слишком сильны были воспоминания о том, как его чуть не утопили в Новороссийской бухте.
– В чем мы виноваты? – теперь голос плыл над темным островом, и сами горы, казалось, внимательно прислушивались. – В том, что воевали на фронте, а не грабили и не воровали вагонами, как генералы? В том, что допустили, чтобы русскую армию испоганили иноверцами, наводнили всякой шушерой? В том, что не имеем нисколько денег и даже чистой смены белья?
По толпе снова пробежал глухой ропот. Оратор, выждав паузу, набрал воздуха в легкие и сказал негромко, но создалось такое впечатление, что он крикнул:
– Хватит! Больше мы не будем задавать себе горькие вопросы, отныне мы переходим к действиям. Наше общество «Русское дело» недолго будет тайным. Мы заставим прислушаться к себе даже союзников!
– Заставим! – ухнуло в толпе, и факелы дрогнули.
– Мы не будем жаловаться и обивать пороги разных комиссий. Мы не будем валяться в ногах у казначеев, чтобы нам отдали те деньги, что причитаются нам по праву. Мы просто пойдем и возьмем эти деньги силой! Но сначала… – оратор сделал зловещую паузу. – Сначала мы должны очистить наши ряды от скверны. Долой из Русской армии предателей-казаков, всех этих чеченцев, трусов-армян и разную прочую сволочь! Пускай жиды и китайцы воюют у красных! Мы – за чистую армию с единой верой!
– Долой! – ахнула толпа, и снова взметнулись факелы и озарили окружающие лица зловещим светом.
«Да что же это такое? – обеспокоенно подумал Борис. – О чем он говорит?»
– Мы сами разберемся с генералами, повинными в провале белого дела! Долой их продажный, так называемый суд совести и чести!
– Долой! – рявкнула толпа.
– Мы сами вынесем им приговор, и приговор этот будет только смерть!
– Смерть! – снова последовал салют факелов.
Борис перестал уже что-либо понимать. Куда он попал? Что это за сборище? В неверном свете факелов ему казалось, что окружающие лица по-звериному скалятся, черты их расплывались, и проступало нечеловеческое, злобное нутро.
– Мы сметем с лица земли всех, кто посмеет нам помешать! – оратор продолжал кидать в толпу слова, как камни.
Борис внимательнее пригляделся к оратору. Хотя и имел тот вид довольно комичный, Борис заметил, что держится он совершенно спокойно, голос его не дрожал, а сам он не был возбужден, чего нельзя сказать о толпе. Толпу оратор дразнил очень умело и довел уже до крайней степени возбуждения.
«Как бы не началась тут всеобщая истерика», – подумал Борис.
Он немного отвлекся и перестал следить за оратором, пока не поймал на себе злобный взгляд соседа – тот удивлялся, отчего Борис не кричит вместе со всеми.
– И кто нами руководил, кто вел нас на борьбу? – вопрошал оратор. – Размазня Деникин, который был жалкой марионеткой в руках своих приспешников, – Лукомского и Романовского, за что последний и поплатился жизнью уже здесь, в Константинополе, и поделом ему! Или же генерал Врангель – выскочка и карьерист? Либо же генерал Слащов – этот кокаинист и вообще психически ненормальный человек? Еще бы мы могли победить с такими вождями!
Толпа уже почти не слушала оратора, но одобрительными криками выражала согласие со всем, что он говорил. Молодые рослые офицеры синхронно взмахивали факелами, и черепа на черных рукавах взлетали вверх. В лицах окружавших Бориса людей уже не осталось ничего человеческого. Злобные, оскалившиеся монстры смотрели на него из темноты.
«Этого следовало ожидать, – думал он, – война, голод, убийство близких разрушило в мозгу у людей все преграды. Они забыли, что живут в двадцатом веке. Они убивают друг друга, как будто на дворе век тринадцатый. Они жаждут крови своих врагов. И они прольют эту кровь».
– Они говорят, что Россия отринула нас, что Бог от нас отвернулся! – продолжал оратор. – Мы возродим русскую армию и возьмем Россию силой!
Как ни было темно, Борис уже немного пригляделся. Вокруг него стояли в основном молодые люди. Кто в каких чинах, было не разобрать, но он мог поклясться, что в их рядах не было даже полковников. Молодые, здоровые, рано начавшие воевать. Мало кто из них обременен семьей, в основном все свободны. Если их немного подкормить и дать отдохнуть, то это будет огромная сила. А что, если ряды такого тайного общества будут прибывать? Множество молодых, озлобленных мужчин, умеющих не только воевать, но и переносить лишения, и выживать в страшной войне, уж этому-то в далекой России они научились, иначе не оказались бы здесь!
«Этот тип людей образовался в России, многострадальной, так быстро одичавшей России, – размышлял Борис. – Но ведь и Европу потрепало войной. В побежденной Германии сейчас голод и разруха. Неужели же и там, в спокойной бюргерской Германии, может образоваться такой класс людей, и кто-то позовет их за собой, и они пойдут войной на всех, чтобы отомстить за обиду и унижение? Не может быть, – одернул себя Борис, – это мы – варвары, а в тихой спокойной Европе такого никогда не может случиться».
Толпа вокруг орала уже и вовсе что-то несуразное. Тихонько, стараясь не делать лишних движений, Борис начал выбираться. Догоравшие факелы чадили. Борис наконец выбрался из толпы и не спеша побрел к морю. Хотелось подышать свежим сырым воздухом.
У моря было светлее – полная луна, отражаясь мерцала в волнах, наплывающих на берег с равномерным шумом. Борис дышал полной грудью и понемногу успокаивался. Отсюда, издали, все происшедшее наверху казалось дурно поставленным спектаклем. Этот голос в темноте, призывающий к бунту, эти вздрагивающие факелы… Борис отвернулся, чтобы закурить и вздрогнул: к нему приближалась темная фигура. Шаги человека не были слышны за ровным шумом волн.
– Испугались, поручик? – раздался насмешливый голос. – Не бойтесь, я не собираюсь причинять вам вред.
– Откуда вы знаете, что я поручик? – угрюмо осведомился Борис, ему было неприятно, что неизвестный застал его врасплох и заметил его испуг.
– А я видел вас там, наверху, при свете факелов. – Человек достал портсигар, тускло блеснувший в свете луны и наклонился к Борису со словами: – Позвольте прикурить!
Они помолчали, глядя на море.
– Кто вас привел в «Русское дело»? – спросил незнакомец и, поскольку Борис молчал, не зная, что ответить, продолжил: – А впрочем, это не важно. Вы знаете пароль, следовательно, кто-то вам его сообщил. Здесь, на острове, мы только начинаем формироваться, так что вовсе необязательно знать всех членов поименно. Люди приходят к нам по разным причинам, многие – из любопытства, многие – от скуки. Но все остаются, никто еще не ушел.
– А если все-таки кто-то захочет покинуть общество?
– Я еще раз повторяю: сейчас, на стадии становления нашего движения, – пожалуйста! Но потом мы введем жесткую дисциплину!
– Позвольте поинтересоваться, кого вы подразумеваете под словом «мы»?
– Руководителей движения, лидеров, – последовал немедленный ответ.
– И этот, с неравными конечностями, – он тоже лидер? – насмешливо спросил Борис.
– У «этого», как вы сами верно заметили, есть один очень полезный талант – умение говорить. И не просто говорить, а увлечь толпу, направить ее в ту сторону, куда нужно.
– А вы знаете, куда нужно? – против воли Борис заинтересовался разговором.
– Мы-то знаем, мы очень хорошо знаем, чего мы хотим. И мы это получим, не сомневайтесь. Вернее, заберем силой, если нам не отдадут добровольно.
– Что же это – деньги, власть?
– И это тоже. Но главное – люди пойдут за нами добровольно, потому что мы говорим правильные вещи. Русскую армию предали, офицеров бросили умирать в Новороссийске, а тех кто не умер – привезли сюда гнить в этом Богом забытом углу.
– Он, ваш оратор, действительно говорил правильные вещи, но как-то навыворот, он пытался разбудить в людях самые темные инстинкты – злобу, ненависть, жажду убийства. И вы считаете, что это дело – правое?
– Кто вам сказал, что люди всегда должны воевать за правое дело? – холодно удивился собеседник Бориса. – За идею – да, но кто вам сказал, что идея обязательно должна быть святой?
– Однако вы очень откровенны, – удивился Борис.
– Это потому, что мы с вами беседуем, так сказать, анонимно, и никто не услышит нашего разговора. Если вы не примкнете к нашему обществу, а решиться на это вы можете только сейчас, потому что дальше будет поздно, так вот, если вы все же решите уйти, то мы никогда больше с вами не увидимся. Если же решитесь остаться, то ничего не сможете изменить.
– Вот как?
– Только так. Ведь это сейчас тут, на берегу моря, вы охладили голову и стали способны рассуждать. А там, наверху, разве вы не кричали вместе со всеми «Долой!» и «Смерть предателям!» и не чувствовали себя частью могучего братства?
Борис промолчал, ему пришла в голову мысль, что следует раскрыть инкогнито незнакомца, потому что он может быть опасен.
– Вероятно, вы правы, – согласился он. – Уже поздно, благодарю вас за содержательную беседу. Позвольте закурить, у меня свои папиросы кончились.
Незнакомец протянул ему портсигар, который, судя по тяжести и тусклому блеску, был золотым. На крышке портсигара Борис еще раньше заметил выгравированный узор, очевидно, это был вензель. Как бы случайно Борис уронил портсигар и, нагнувшись за ним, сильно прижал крышку с вензелем к тыльной стороне кисти, там, где кожа была нежнее всего. Руку заломило от боли.
Борис взял папиросу, поблагодарил своего ночного собеседника и быстро зашагал вдоль моря в сторону поселка. Его никто не преследовал. Выйдя на скудно освещенную улицу поселка, Борис остановился под тусклым керосиновым фонарем и посмотрел на руку. Выгравированный узор на крышке портсигара не был вензелем. Узор выдавился не полностью, но на руке просматривалась фигурка индийского божества с шестью руками. Правда, с одной стороны рук не было видно, но, надо полагать, божество должно было быть симметричным. Борис разочарованно вздохнул – он надеялся увидеть инициалы своего собеседника. Он вспомнил собрание на горе, факелы и ровный гул толпы, прерывающийся криками. Теперь, после разговора у моря, он уже не так легко относился к происшедшему.
Придя домой, в тесную комнатку над трактиром, он по памяти нарисовал фигурку индийского божества, которую видел на крышке портсигара, и спрятал листок на дно чемодана.
Глава третья
Граничный столб. Турецкий офицер
С веселыми восточными глазами
С ленивою усмешкой на лице
Тебя встречал и пожимал плечами.
А. НесмеловУтром Бориса разбудил трактирщик Ставрадаки, у которого Ордынцев снимал сиротскую комнатку на втором этаже.
– Эй, рус-эфенди! Спускайся скорей, тебя важный человек спрашивает!
Борис наспех ополоснулся над фаянсовым облупленным тазом в кошмарных голубых цветочках, влез в покоробленную турецкой жаровней форму и спустился на первый этаж:.
Важный человек, о котором говорил Ставрадаки, сидел прямо в трактире, опершись локтями на грязный стол, и высокомерно распушив кошачьи усы. Крученые жгутом погоны на его плечах ничего не говорили Ордынцеву: может, такие погоны в Турции носят генералы, а может – простые посыльные.
Поперек стола побежал не в добрый час проснувшийся таракан. Важный турок скосил на него глаз и придавил толстым обкуренным пальцем. Жест его был безразличен и величествен – таким жестом какой-нибудь полководец тычет пальцем в карту, указывая приговоренный город противника.
Борис подошел к турку, стараясь не глядеть на останки любознательного таракана. Чиновник взглянул на него с таким важным равнодушием, что Ордынцев испугался – не придавят ли его сейчас толстым пальцем.
Однако турок на скверном французском языке сообщил Борису, что если он действительно является господином Ордынцевым, то для него получено разрешение на переселение в Константинополь.
Борис несколько растерялся от радости, но проследовал за турком, не задавая вопросов. Конечно, ему хотелось бы узнать, за какие заслуги его выделили из отверженной русской толпы, но усатый проводник вряд ли дал бы ему ответ.
Маленький моторный катерок покачивался у причала. Зеленая вода плескала в почерневшие сваи, пахло водорослями и тухлой рыбой. Широкоплечий матрос в белой рубахе и черных штанах гордо скосил глаза на пассажиров. Турок бросил ему что-то повелительное, и катерок ладно затарахтел и побежал по голубой застиранной глади.
Унылые скалы Принкипе растворились в белесой дымке, катерок кроил и кроил голубое полотно, и наконец на горизонте возникли тонкие, синие, бирюзовые и розовые стрелы минаретов, сияющие купола Айя-Софии и мечети Сулеймана, яркие современные дома богатой Пери.
Константинополь, Царьград, Стамбул! Второй Рим, извечная русская мечта с Олеговых и Святославовых времен, великий город! Богатые толпы на улицах Пери, на мосту через Золотой Рог, звонки трамваев, гудки автомобилей, крики уличных разносчиков – на скольких языках предлагают они прохожим сладости и пороки, дурные новости и несбыточные надежды… Важные офицеры победивших армий неторопливо прогуливаются, гордо козыряют друг другу, кланяются дамам. Толпятся на перекрестках русские офицеры – машут руками, обсуждают судьбы отечества, ищут виноватых – тоскливые глаза, кокаиновая бледность, несвежие мундиры с золотыми погонами…
Борис шагнул на пристань, и первым человеком, кого он увидел в Константинополе, был Аркадий Петрович Горецкий – загадочный полковник таинственной службы. Как всегда, чисто выбритый, одетый в ладно пошитую английскую форму, благоухающий хорошим табаком и дорогим одеколоном – словно и не русский человек, а лощеный европеец, одинаково убедительный и красноречивый на двунадесяти языках.
Борис постарался подавить мгновенно вспыхнувшие раздражение и стыд оттого, что сам он плохо выбрит и утром успел только сполоснуть лицо холодной водой под допотопным умывальником. Форма его, и так сильно поношенная, приобрела и вовсе неприличный вид после обработки в вошебойке на Принкипе.
– Голубчик, Борис Андреевич! Как я рад видеть вас в добром здравии! – Горецкий шагнул навстречу, распахнул объятия.
– А-а, Аркадий Петрович! – Борис навстречу полковнику подался, но улыбка у него вышла не без горечи. – Так это вам я обязан столь быстрым прохождением турецкого карантина! Должно быть, я вам для чего-нибудь срочно понадобился?
– Ну-ну, не нужно сарказма, дорогой мой. Меня просила позаботиться о вас Варвара Андреевна.
– Сестра? – вскинулся Борис. – Где же она? С ней ничего не случилось?
– С ней все в порядке, – успокоил Горецкий, – она работает сестрой милосердия во французском госпитале. Сегодня никак не смогла прийти – дежурство у нее. Но она очень просила меня вас встретить и отвезти к ней в госпиталь. Вы ведь в Константинополе впервые, да и денег небось нету.
– Деньги есть. Правда, мало, – сознался Борис.
– Тогда едем, вещей, я вижу, у вас немного, – Горецкий оглянулся на потрепанный чемодан.
– Не нажил, – криво усмехнулся Борис. – Родина выбросила в чем есть, вот с этим только чемоданом.
– Да уж, голубчик, в новую жизнь мы приходим без ненужного балласта, – усмехнулся в ответ Горецкий.
– О чем вы говорите? – воскликнул Борис, идя следом по пристани. – Какая новая жизнь?
– Обязательно новая, – грустно подтвердил полковник, – особенно для вас. Вы с сестрой люди молодые, вам не поздно начать сначала.
– А вы? Чем занимаетесь здесь вы? – задиристо спросил Борис. – Опять какие-нибудь тайные дела и переговоры?
– Возможно, – уклончиво ответил полковник Горецкий. – Мы поговорим об этом позже. Повидайтесь с сестрой, оглядитесь, Варвара Андреевна знает, как меня найти.
Борис промолчал, но подумал, что зря он встретил Аркадия Петровича так нелюбезно, тот всегда относился к нему неплохо, ведь именно Горецкий спас его в свое время из феодосийской контрразведки. Правда, как выяснилось позднее, сделал он это, преследуя свои цели, но если бы не он, Борису пришлось бы туго. И Варе он помог в декабре девятнадцатого перебраться в Константинополь, и уговорил в Новороссийске капитана французского корабля подождать, чтобы Борис с Алымовым успели спастись. Их с полковником отношения дали трещину именно тогда, на корабле, когда Борис высказал Горецкому все, что он думает о генералах Генштаба, бросивших армию в Новороссийске на произвол судьбы, и о тех полковниках, которые этим генералам помогали.
Теперь Борис думал, что был неправ тогда, когда дал резкую отповедь Горецкому, – разумеется, полковник не мог отвечать за всех генералов. Сам он был, безусловно, человек честный, к тому же умный, обладающий большими познаниями и очень хорошо информированный. Борис вспомнил про связи полковника с англичанами, и как полковник общался в Феодосии с личным эмиссаром Черчилля. Вероятно, здесь, в Константинополе, Горецкий снова сотрудничает с англичанами. Только так можно объяснить его уверенный и спокойный вид.
В госпитале царили суета и всеобщее столпотворение. Раненые русские лежали в коридорах на походных койках, на больничных каталках и прямо на полу. Стоял жуткий запах гнойных ран и немытого мужского тела. Борис совершенно растерялся, слыша со всех сторон стоны и крики, но Горецкий схватил его за руку и быстро повел по коридору в дальнее крыло здания. Там было потише и почище. Сестры бесшумно сновали по коридорам. Аркадий Петрович переговорил по-французски с усталой пожилой монахиней, она оглянулась на Бориса и махнула рукой в самый конец коридора.
– Идемте, она там, – пригласил Аркадий Петрович.
Как бы подтверждая его слова, открылась последняя дверь, и знакомая худенькая фигурка в белой косынке с крестом вышла к ним. Борис сделал шаг вперед и застыл на месте. Горло перехватило, и он смог только прошептать пересохшими губами:
– Варька!
– О Господи! – Она уже висела у него на шее, счастливо смеясь и плача одновременно. – Ты наконец вернулся, ты живой!
– Не волнуйтесь, Варенька, живой и здоровый, – рассмеялся Горецкий. – Экий молодец, отощал только немного. Но это дело поправимое.
Борис оторвал сестру от себя и заглянул в залитое слезами лицо.
– Ну что же ты плачешь? Все уже позади, я здесь…
Она ничего не ответила и спрятала лицо у него на груди. Борис всегда понимал сестру с полуслова, так было с самого детства, вот и сейчас он понял, что ее гложет иная боль, помимо беспокойства за брата.
– Что с тобой, сестренка? – Он снова отстранил ее от себя и внимательно заглянул в глаза. – Ну, рассказывай!
– Там Петр, – она кивнула на дверь палаты, откуда только что вышла.
– Петька Алымов здесь? – вскрикнул Борис. – Вот это да!
Он рванулся было к двери, но посмотрел на опущенную голову сестры и остановился.
– Что? – спросил он глухо. – Он ранен? Тяжело?
– Это из-за ноги, ты знаешь, – тихо ответила она. – Открылось сильное воспаление, десять дней он был в горячке. И тогда ногу ампутировали по колено.
– А сейчас, что сейчас?!
– Сейчас он в депрессии, плохо ест и совершенно не хочет поправляться.
– Но он в сознании? Узнает меня?
– Узнает, но захочет ли говорить…
– Да что у вас здесь происходит?! – вскричал Борис. – Говорить он со мной не захочет…
Он рванул на себя ручку двери и влетел в палату. Комнатка была маленькая, с чисто выбеленными стенами, крохотное окошко затянуто накрахмаленной занавеской. Несмотря на малые размеры, в комнатку были втиснуты три кровати. Борис не узнал Алымова, пока Варя не тронула его за рукав и не повернула в нужном направлении. Петр лежал на спине, до горла закрытый одеялом. Глаза были открыты и невидяще уставились в потолок. Борис поразился неестественной бледности его лица.
– Эй, – тихонько позвал он и наклонился.
Алымов вздрогнул, его глаза изумленно раскрылись.
– Борис! – выдохнул он. – Живой! Голос был прежнего Петра Алымова, с кем прошел Борис немало дорог, когда отступали от Орла до самого Новороссийска. Борис обнял друга за плечи и поразился их худобе.
– Ты что, его не кормишь, что ли? – повернулся он к Варе.
Та не ответила, и Борис с грустью заметил, что глаза у Алымова снова погасли. Варя вышла в коридор, в открытую дверь Борис увидел, как она взяла у Горецкого какой-то маленький бумажный пакетик и спрятала его в карман белого передника сестры милосердия.
– Ты сесть можешь? – спросил Борис. – А то лежишь, в потолок смотришь…
Он помог другу приподняться и подложил подушку. Тот поморщился и в ответ на невысказанный вопрос пробормотал глухо:
– Нога болит. Вот нету ее, а болит, проклятая – сил нет терпеть.
– Вот что, Петр, – угрожающе начал Борис, – ты это дело брось. Не для того мы с тобой в Новороссийске из той смертельной бухты выплыли, чтобы ты теперь вот тут, в этой комнате, помирал. И не перебивай! – прикрикнул он, видя, что Петр шевельнулся. – Вижу, что не от раны тебе плохо. Знаю, что боль переносить ты умеешь. Тоска у тебя, хандра, себя жалко…
– Отстань ты! – Алымов нахмурился и даже сделал попытку двинуть Бориса кулаком в бок.
– Сказал, не перебивай! – Борис увернулся от слабой руки друга. – Вот горе-то у него – полноги оттяпали. А жизнь – спасли! А сколько нас там, в России, осталось?
– Ты не понимаешь, – с тоской протянул Петр и отвернулся, – везунчик.
– Не понимаю я? Петька, положа руку на сердце, неужели тебе легче было, если бы и я без ноги остался?
– Да ты в уме ли? – Петр даже приподнялся на кровати.
– Что вы так кричите? – это вошла испуганная Варя.
– Ничего мы не кричим, просто разговариваем, – сердито ответил Борис.
Варю позвал раненый с другой кровати, она отошла к нему, стала что-то ласково выговаривать ему, потом подала напиться, немного приоткрыла окно… Борис смотрел на друга и видел, что глаза Алымова, помимо его воли, следят за Варей, что бы она ни делала. Он забыл, что Борис рядом, что смотрит на него, и в лице его проступило такое, что Борис сразу все понял.
– Дурак ты, Петька, – тихо сказал он Алымову и вышел в коридор.
Варя сказала, что у нее скоро кончается дежурство, она проводит Бориса к себе домой – тут недалеко, они смогут поговорить.
Варино временное жилище было довольно убогим. Вышла хозяйка – старая турчанка с длинным загнутым носом, как у Бабы Яги. Варя представила ей Бориса, как своего брата, но хозяйка, похоже, не поняла или не захотела понять и смотрела на Варю очень неодобрительно. Они сели рядом на узенький диванчик, Варя прислонилась к его плечу и затихла.
– Ты измучена, похудела и плохо выглядишь, – вздохнув, начал Борис.
– Что с нами будет? – прошептала она. – Как жить дальше?
– Не знаю, – честно ответил Борис, – ничего про себя не знаю. А что говорят врачи про Петю?
– Операция прошла хорошо, – помолчав, ответила сестра, – но состояние у него… ты сам видел.
– Видел, – постепенно накаляясь, начал Борис. – Значит, я правильно догадался, что он просто хандрит? Ты что – не можешь его расшевелить? Варька, ведь он тебя любит!
– Я тоже его люблю, – просто ответила Варя, – но он вбил себе в голову, что я хочу остаться с ним из жалости, что я слишком совестливая, чтобы бросить калеку.
Борис видел, что по щекам сестры бегут слезы.
– Он не хочет со мной разговаривать, он совершенно отстранился. Когда я подхожу, он отворачивается к стене. Он очень страдает, у него сильные боли. Доктор говорит, что это нервное, но он не может спать без морфия.
– Это Горецкий достает тебе морфий? – встрепенулся Борис.
– Это второй раз всего, мне просто не к кому было обратиться, а денег нет, – потупилась Варя.
– И долго так будет продолжаться? Ты думаешь, что очень поможешь Алымову, делая его морфинистом?
– Но что же мне делать? – Варя уже плакала навзрыд.
– А я откуда знаю? – искренне возмутился Борис. – Ну, скажи ему про любовь там…
– Говорю тебе, он не поверит! Ведь мы даже не успели с ним объясниться… Тогда, в девятнадцатом, я уехала из Ценска очень быстро, и с тех пор мы не виделись, а нашла я его случайно месяц назад здесь, в госпитале у французов.
– О Господи! – вздохнул Борис.
Он сообразил внезапно, что Варя даже не спросила его, как он добрался, как жил и воевал в Крыму. Они не виделись почти год, а ее в первую очередь волновало здоровье другого человека. Борис еще раз горестно вздохнул: еще полтора года назад он думал, что потерял сестру навеки. Потом нашел, но вместе они были совсем недолго. Варя уехала в Константинополь, они снова расстались на год, а теперь приходится признать, что он опять потерял сестру. Вернее, ее отняли.
– Ну ладно, – великодушно сказал Борис, – для Петьки мне тебя не жалко.
– Прости меня, Боренька, – она слабо засмеялась, – ты приехал, и все у нас теперь будет хорошо. Петя поправится, и мы заживем все вместе, больше не будем расставаться. А в Берлине делают отличные протезы, я знаю. Только денег нужно много…
– Вот с деньгами туго, – признался Борис. – Ты-то на что живешь?
– Первое время тратила то, что ты дал, а потом приходили какие-то люди и передавали деньги от Аркадия Петровича. Теперь платят немного в госпитале.
– Ты часто видишься с Горецким?
– Окончательно он приехал сюда месяца полтора назад. Изредка навещал меня, даже в ресторан водил, – Варя улыбнулась. – У него какие-то дела с англичанами – в ресторане мы встретили одного такого… мистер Солсбери.
– Кажется, он бывал в Феодосии в девятнадцатом году, – вспомнил Борис. – А где он сейчас служит, Горецкий то есть?
– Он не говорил со мной о делах, мы больше вспоминали тебя. Знаешь, он к тебе очень хорошо относится! Всегда с такой теплотой о тебе говорит… Кстати, кто такая Юлия Львовна? – с чисто женской логикой Варя сменила тему.
– А разве тебе Аркадий Петрович не все рассказал? – поддразнил Борис.
– Он упомянул ее случайно в разговоре, но я сама догадалась, что у тебя с ней что-то было. Она – твоя невеста?
– С чего ты взяла? – удивился Борис. Он вспомнил, что после событий на Арабатской стрелке он видел Юлию всего два раза, и то мельком, она была с ним любезна, но ничем не дала напомнить о тех особых отношениях, что установились у них. Что с ней стало теперь, он не знает.
– Нет у меня никакой невесты, я одинок, потому что сестра тоже думает о человеке, который совершенно ее недостоин и не заслуживает такого счастья.
– Он заслуживает, – серьезно сказала Варя. – И ты тоже заслуживаешь настоящей любви. Мы все слишком много выстрадали за эти годы. Россию не спасли, хотя пытались. И сделали все, что могли. Настало время подумать о себе.
– Ты права, сестренка, – согласился Борис. – Нужно как-то устраиваться в этой новой жизни, на что-то решаться. Выбор только небольшой.
– Выбора у тебя вообще никакого нет. Я ведь долго здесь живу, все знаю. Поэтому оставь ты свои амбиции и соглашайся снова работать с Аркадием Петровичем.
– Да ведь он мне еще ничего не предлагал! – удивился Борис.
– Предложит. Как я уже говорила, он хорошо к тебе относится.
– Просто я зачем-то ему снова понадобился, – поправился Борис.
Они поели в маленьком греческом ресторанчике, который находился в подвале соседнего дома, запивая обед простым молодым вином, после чего Варя потащила брата в дешевые лавки, чтобы купить кое-что из одежды. Купили белье и ботинки, потому что после обработки на Принкипе старые ботинки спеклись и разваливались на глазах.
Хорошенькая горничная в кокетливой белой наколке вошла в спальню и мелодичным голосом произнесла, раздвигая шторы на окне:
– О мадам, проснитесь!
С постели, заваленной кружевными подушками, послышался шорох, а потом едва слышный стон. Горничная разбудила Гюзель необыкновенно рано по ее понятиям – еще не было полудня. Из-под одеяла высунулась очаровательной формы ручка и нашарила часики на столике возле кровати.
– Что случилось? – сердито спросила невыспавшаяся красавица, посмотрев на циферблат. – Пожар?
– Мистер Ньюкомб, – лаконично ответила девушка.
Даже сейчас, слегка растрепанная после сна, ее хозяйка была так хороша, что, несомненно, могла позволить себе молодую миловидную горничную. Гюзель тяжело вздохнула, закатив к потолку синие глаза, чуть подернутые поволокой, накинула на плечи полупрозрачный пеньюар, взглянула на себя в зеркало, прошлась по щекам пуховкой и приказала:
– Зови!
Молодой англичанин ворвался в спальню с таким видом, будто за ним гналась стая чистопородных английских гончих. Сам он тоже было похож на гончую: сухопарый, подвижный, длинноногий, с длинным выразительным лицом… Однако сейчас лица на нем как раз и не было.
– Что с вами, Томас? – спросила Гюзель с выражением невыносимого страдания в глазах и в голосе. – Почему вы явились в такую рань?
– Рань? Разве сейчас рано? – удивленно спросил англичанин, уставившись на часы. – Впрочем, может быть… Я не знаю, сколько сейчас времени… я сегодня еще не ложился… Я конченый человек, Гюзель, конченый человек!
Англичанин с размаху опустился на позолоченный пуфик, который жалобно пискнул под ним, и продолжил, закрыв лицо руками:
– Мы играли… у Казанзакиса… сначала карта шла мне, я увлекся… и не заметил, как проиграл большие деньги… очень большие деньги.
– Это все? – прервала его Гюзель возгласом удивления и разочарования.
– Нет… я проиграл не только свои деньги… у меня была с собой казенная сумма. Я пытался отыграться и тоже проиграл.
– Много? – коротко поинтересовалась турчанка.
– Девять тысяч фунтов… – ответил англичанин упавшим голосом.
– Однако! – Гюзель приподнялась на подушках. – Но все же, Томас, неужели даже такая сумма стоит того, чтобы будить меня среди ночи?
Сказать, что ее разбудили среди ночи, было, конечно, преувеличением, но Гюзель любила сильные выражения.
– Простите меня, дорогая, – Томас отнял руки от лица, и – о, ужас! – на лице его были следы совершенной растерянности и полного упадка.
– Стыдитесь, Томас! Вы не можете так раскисать! Ведь вы – мужчина, и вы – англичанин! – Гюзель взмахнула маленьким твердым кулачком и подумала, что напоминает сейчас какую-то христианскую святую, что для нее, рожденной в мусульманской семье, не очень хорошо.
– Да, конечно, дорогая, – мистер Ньюкомб выпрямился и постарался привести свое лицо в истинно английское состояние, – конечно, дорогая… Но мне не к кому было прийти, кроме вас! – при этих словах все его старания пошли прахом, и английское лицо обратилось в руины.
– Конечно, дорогой! – Гюзель притянула страдальца к себе и утопила в благоухающих кружевах на своей груди. – Конечно! Вы всегда можете прийти к своей Гюзели, в любых неприятностях Гюзель поможет вам. Сколько, вы сказали? Девять тысяч? Конечно, это очень много… Да, вы были неосторожны, но Гюзель постарается вам помочь.
При этих словах маленькие ручки весьма ласково ерошили светлые волосы англичанина, а кружева на груди Гюзели… впрочем, это посторонняя тема.
Через несколько минут, сочтя, что англичанин совершенно деморализован сильнодействующим сочетанием ручек, кружев и огромного карточного долга и что вряд ли он еще когда-нибудь будет столь же податлив, Гюзель легко отстранилась от него и проворковала:
– Знаете что, дорогой? Вы уже сейчас могли бы решить все ваши проблемы, стоит вам только подписать вот это долговое обязательство.
Как фокусник выдергивает за уши из своей шляпы кроликов, голубей и множество других одушевленных и неодушевленных предметов, Гюзель выдернула за уголок из инкрустированной шкатулки на туалетном столике безобидную на вид бумагу. Мистер Ньюкомб, находившийся к этому времени в почти бессознательном состоянии, пробежал бумагу глазами.
«Я, английский подданный Томас Ньюкомб, баронет, обязуюсь возвратить в такой-то срок девять тысяч фунтов стерлингов бельгийскому подданному Парменю Голону». Число и место для подписи.
Гюзель сказала, что это – путь к спасению, и англичанин подписал бумагу, даже не удивившись, что она уже составлена заранее и что даже сумма проставлена – та самая сумма, которую он проиграл этой ночью.
Глава четвертая
У отступающих неверен глаз,
У отступающих нетверды руки.
Ведь колет сердце ржавая игла
Ленивой безнадежности и скуки.
А. НесмеловВ приемной барона Врангеля томились, дожидаясь приема, десятки офицеров. Некоторые приходили сюда ежедневно, как на работу, в надежде попасть на прием к Главнокомандующему и добиться решения какого-нибудь вопроса – выхлопотать пособие, денег на лечение, разрешения уехать на поиски семьи, разобраться с несправедливым увольнением…
«Беспросветные», как называли генералов за их сплошные, без просветов, золотые погоны, тоже попадались в этой приемной. Ждали они, как правило, не так долго, добивались же от барона того же самого – денег или справедливости.
Этим утром в приемной появился редкий гость – второй после Врангеля человек в Русской армии, а по чину даже более высокий чем Врангель – командир Первого армейского корпуса, прежде Первой армии генерал от инфантерии Александр Павлович Кутепов.
При виде его разговоры стали тише, все с интересом присматривались к генералу и его более молодому спутнику – смуглому жилистому подполковнику с левой рукой на перевязи.
Кутепов, увидев в приемной генерал-майора Краснова, начальника личного конвоя Врангеля, подошел к нему, поздоровался и кивком головы указал на своего спутника:
– Семен Николаевич, позвольте представить вам моего зятя – подполковника Реутова. Вы, кажется, были знакомы с моей сестрой? Ольга вышла замуж за Сергея Ивановича летом двадцатого года, я не был на свадьбе – сами понимаете, что творилось на фронте. А потом – такая трагедия… Ольга с Сержем добрались до Ялты перед самой эвакуацией, не успели со мной повидаться, ночью в гостинице на них напали бандиты – то ли «зеленые», то ли просто уголовники. Ольгу убили, Сергея тяжело ранили, он чудом остался жив. Только здесь, в Турции, он нашел меня, передал последний привет от сестры… – Генерал чуть прикрыл глаза, ничем больше не выдавая своего горя, и продолжил через мгновение: – Хочу представить Сергея Петру Николаевичу. Сергей – человек энергичный и даровитый. Хоть я и недавно знаю его, но вполне оценил. Думаю, Петр Николаевич найдет его способностям достойное применение.
В это время из кабинета Главнокомандующего вышел, растерянно оглядываясь, очередной посетитель. Генерал Краснов сделал сложное движение бровями, вполне понятое офицерами охраны, и Кутепов с зятем вошли в кабинет.
– Вот так-то, друг любезный, – вполголоса сказал седой полковник с черной шелковой повязкой на глазу ротмистру, чей тоскливый взыскующий взгляд выдавал тщательно скрываемое мучительное похмелье, – вот так-то. Главное в нашей жизни – связи, как раньше было, так и сейчас осталось. Попал этот подполковник в зятья к Кутепову – и все, карьера ему обеспечена. А мы с вами обречены ожидать в этой приемной второго пришествия. Да вы, друг любезный, меня вовсе и не слушаете?
Ротмистр действительно его не слушал, он смотрел вслед офицерам, удалившимся в кабинет Главнокомандующего. На лице его муки похмелья сменились выражением крайней заинтересованности, озадаченности и некоей смутной надежды. Такое выражение бывает на лице нищего бродяги, который находит в грязи на дороге кошелек и, еще не успев открыть его и ознакомиться с содержимым, по самой упоительной толщине находки делает вывод, что содержимое его небезынтересно. Он еще не может вполне поверить, что Провидение решило одарить его своими милостями, но надежда уже начала согревать его заблудшую душу…
Ротмистр Хренов вышел на улицу. Конечно, к Врангелю ему попасть и сегодня не удалось. Но он от этого не слишком огорчился: нынче питали его другие, более реальные надежды. Ротмистр настроился на долгое ожидание и от нечего делать разглядывал богатые витрины с выставленной в них дорогой турецкой дрянью – клетчатые модные сюртуки, узкие штаны… Хренова такие вещи мало интересовали.
Холодно было на улице. В Константинополе, говорят, всегда жара. Врут! Зимой и здесь холодно. Не так, как у нас, снегу не дождешься, но если стоишь на улице без дела, то холодно. И выпить хочется.
Сухой холодный ветер крутил по тротуару клубки пыли, обрывки старых газет на сорока языках. Проходили иногда хорошенькие барышни, на ротмистра и не глядели – что он им, душа поношенная?
И вдруг в дверях показался тот самый человек.
Хренов встрепенулся. Пошел навстречу, но особенно вида не показывает, цену себе знает. А человек-то этот сам по сторонам оглядывается, воровато так… Значит, ротмистр не обознался и тот сам его ищет, понимает, стало быть… И вышел нарочно один, чтобы не помешал никто.
Ротмистр поравнялся с этим господином, руку к фуражке приложил и говорит так, как бы между прочим, для начала разговора:
– Неплохая сегодня как будто погода…
– Дрянь погода, – тот отвечает, – причем тут погода? Вы меня тут для погоды караулите?
– Нет, собственно, – ротмистр обиделся, но не очень, – я вас тут не поджидал…
Так, прогуливался, как свободный человек, витрины разглядывал, но раз уж мы с вами встретились, можно и поговорить…
– И о чем же мне с вами, свободный человек, разговаривать?
– Да уж вы, наверное, знаете, вы человек образованный, а мы – люди темные… И расходов много в последнее время. Жизнь здесь такая дорогая – это просто ужас какой-то. Понятное дело – турки эти, мусульмане же, им до христиан дела нету…
После посещения турецкой бани Борис уснул на узком диванчике в Вариной комнате как убитый. Сестра рано утром ушла в госпиталь, поручив его заботам хозяйки. Старуха уразумела наконец, что молодой офицер – это родной брат ее постоялицы, а вовсе не полюбовник, а может, Борис ей просто понравился, – многим женщинам, независимо от возраста и национальности нравились прямой взгляд его серых глаз и открытая улыбка, – так или иначе, Баба Яга сегодня утром была с ним достаточно любезна и накормила особенной турецкой простоквашей с горячими лепешками. Борис побрился и причесался перед крошечным Вариным зеркальцем, а затем отправился в госпиталь.
Алымов выглядел сегодня значительно лучше. Он полусидел на кровати, держал стоящую рядом Варю за руку и глядел на нее влюбленными глазами. Они были настолько заняты друг другом, что Борис счел для себя возможным уйти, не преминув все же ехидно заметить, что у всех влюбленных удивительно глупый вид. Они даже не заметили его ухода.
– Как вам нравится Константинополь? – спросил Аркадий Петрович Горецкий.
Они сидели в небольшом, но уютном ресторане на Пери, который держал веселый толстый итальянец по имени Луиджи.
– Очень не нравится, – вздохнул Борис. – Кругом шум, грязь, крики, мальчишки чумазые под ноги бросаются…
– Это вы по Галате обо всем городе судите, – рассмеялся Горецкий. – А в Пери вон – богато и шикарно. Красивый город…
– Мне на красоту смотреть некогда, – ворчливо ответил Борис, – и денег нет, чтобы по Пери гулять.
– Вот об этом я и хотел с вами поговорить. Вы где устроились?
– Стыдно сказать, у сестры, – вздохнул Борис. – Ей и одной-то там тесно. Но в гостиницах такая грязь – в дешевых, конечно. Одни, прошу прощения, клопы и другие домашние животные…
– Я тоже в гостинице не живу, – согласился Горецкий. – Хоть и могу себе позволить дорогой отель.
– Помню ваши привычки, – усмехнулся Борис. – Быть как можно тише и незаметнее… Как это вы в ресторане со мной встречаетесь.
– А вы заметили, что ресторан этот наши с вами соотечественники отчего-то не посещают? – живо откликнулся Аркадий Петрович. – Надо сказать, Луиджи от этого только выигрывает – ему не нужно держать двух здоровенных вышибал, которые выносили бы поздно ночью пьяных русских офицеров на улицу и укладывали подальше от дверей, чтобы те не могли вернуться. Так вот, в гостинице я не живу потому, что на свете нет иной страны, где бы любопытство и подозрительность не возникали бы так быстро, как в Турции. Тем более сейчас, когда город кишит русскими эмигрантами всех мастей, а также англичанами, французами и так далее. Я снял дом у зажиточного турка, это здесь в Пери, на улице Вестринжер, – ох, уже эти турецкие названия! Хозяин – милейший человек, Джалал-эфенди – чистокровный осман. Он полон чувства собственного достоинства, такой спокойный опрятный джентльмен. К жизни он относится философски и к тому же очень нелюбопытен.
– Сами себе противоречите, – хмуро заметил Борис. – То утверждали, что турки страшно любопытны, а хозяин ваш оказывается совершенно этим пороком не грешит.
– Вы, как человек недавно приехавший, путаете турок со всей массой международного сброда – да простят мне мои соотечественники, я не только их имею в виду! – со всем конгломератом причудливых национальностей, которыми наводнен Констатинополь. Улицы, где обитают подлинные османы, отличаются чистотой и удобством. Остальная часть города, как вы успели заметить, невыносимо грязна. Исключение составляют кварталы, где обитают белые – англичане, французы… С чисто восточной терпимостью турки предоставляют каждому идти своей дорогой…
Борис вспомнил, как в девятнадцатом году заходил в Батуме в маленькие булочные, хозяева которых были сплошь опрятные вежливые турки, вспомнил царившую в помещениях чистоту и согласился с Горецким.
– Итак, Борис Андреевич, – Горецкий отложил вилку и посмотрел Борису в глаза, – я никогда не скрывал, что вы мне симпатичны. К тому же вы достаточно умны, – в этом месте Аркадий Петрович сделал неуловимое движение бровями, которое означало, что он польстил своему собеседнику, но так нужно для дела, – а также молоды, интересны и имеете успех у женщин.
Борис сделал было попытку протестовать, но полковник отмахнулся и продолжал:
– Как свойственно молодости, вы жаждете удовольствий, особенно после трех тяжелых лет, проведенных в России. А денег у вас на это нету. Таким образом, вы просто не можете не согласиться на мое предложение.
– Во-первых, вы еще не сделали этого предложения, а во-вторых, я почти догадываюсь, что вы хотите мне предложить – шпионить в пользу англичан.
Борис произнес слово «шпионить» без всякого презрения, он вообще со вчерашнего дня находился в благодушном настроении – новые ботинки не жали, вымытое тело ощущало приятную свежесть белья, он только что вкусно поел и, вдобавок, поймал на себе заинтересованный взгляд черноглазой итальяночки, сидевшей за кассой.
– М-м, это слово здесь не особенно подходит, но, в общем… я выполняю некоторые конфиденциальные поручения моего английского друга…
– Который, в свою очередь, выполняет некоторые конфиденциальные поручения своего друга – английского министра по делам колоний Уинстона Черчилля![1]
– Тише, тише, Борис Андреевич! Не нужно об этом кричать… В Турции сейчас делается большая мировая политика, здесь перекраивается карта мира.
– Каким образом побежденная в Первой мировой войне Турция может влиять на мировую политику?
– Ох, Борис Андреевич, как же вы в России от всего отстали!
– Некогда было в политике разбираться, воевали, знаете ли! – Борис не рассердился, просто решил не спускать Горецкому и оставлять за собой последнее слово при каждом удобном случае.
Полковник нисколько не обиделся, он вообще здесь, в Константинополе, выглядел очень спокойным, как человек, принявший все важные для себя решения и не испытывающий больше никаких колебаний. Этим он и отличался от большинства старших офицеров Русской армии, которые, несмотря на тщательно напускаемый на себя бравый и деловой вид, были растеряны и думали о будущем с тревогой и содроганием.
Подошел хозяин ресторана Луиджи в белоснежном длинном фартуке, обтягивающем внушительных размеров живот, и поставил на стол бутылку красного вина. Открывая бутылку, он разразился длинной тирадой на своем языке. Борис невольно заулыбался, вслушиваясь в певучие звуки и наблюдая, как ловко двигаются толстые волосатые руки Луиджи. Горецкий ответил хозяину по-итальянски и подвинул ему по столу пустой бокал. Тот налил и себе, отхлебнул, причмокнул губами и удалился, выпустив на прощание оперную руладу.
Аркадий Петрович поправил пенсне, чокнулся с Борисом и профессорским голосом начал лекцию:
– Ну, голубчик, как бы вы там ни отстали, но про Севрский мирный договор-то уже, наверное, слышали.
– В некотором роде, – сухо согласился Борис.
– В августе этого 1920 года подписан в Севре мирный договор между Англией, Францией, Италией, Грецией и еще несколькими странами с одной стороны и султанской Турцией с другой. Смысл Севрского мира – раздел территории бывшей Османской империи державами-победительницами в мировой войне. Территория Турции по этому договору сократилась в четыре раза, она лишилась не только всех своих прежних завоеваний, но отторгнута и часть исконно-турецких земель. Сирия, Ливан, Палестина и Месопотамия в качестве подмандатных территорий переданы Британии и Франции. Турция лишилась также владений на Аравийском полуострове, от нее отторгнут Курдистан. Ей пришлось признать английский протекторат над Египтом, а французский – над Тунисом и Марокко. Кроме того, Греции отдали всю Фракию, европейский берег Дарданелл, полуостров Галлиполи и Смирну. Но там все спорно, потому что идет война греков с турками, хотя по договору армию Турции должны были сократить до пятидесяти тысяч человек, а флот – передать союзникам.
Горецкий закашлялся, отхлебнул вина, затем откинулся на стуле и продолжил:
– Разумеется, такой кабальный договор окажется нежизнеспособным. Дело в том, что еще до Первой мировой войны в Турции зрело недовольство султанским правительством. Общество требовало перемен. Кстати, вам это ничего не напоминает?
– Еще как напоминает, – вздохнул Борис, – у нас в России тоже все газеты кричали: «Долой! Пусть сильнее грянет буря!» Вот и дождались буревестников, чтоб их совсем…
– Да, вот у них в Турции возникло такое движение младотурок. И лидер появился – Мустафа Кемаль. И сейчас потихоньку у них происходит национально-освободительная революция. И даже новое правительство сформировали в Анкаре. И оно не признало Севрский мир, так что перемены в Турции еще будут.
Борис потягивал терпкое вино и задумчиво поглядывал на хорошенькую девушку за кассой. Поймав его взгляд, она опустила черные глаза, отвернулась, но тут же поглядела снова и даже улыбнулась. Горецкий проследил, куда смотрит Борис, и недовольно нахмурился.
– Формально в Турции правит султан несуществующей уже Османской империи, Махмуд Шестой – совершенно незначительная фигура. Он взошел на престол в одна тысяча девятьсот восемнадцатом году вместо отрекшегося брата. Правительство султана заключило союз с немцами, таким образом Турция ввязалась в войну, где потеряла почти миллион человек и значительную часть территории! Это слишком много даже для по-восточному терпеливых турок. В стране зреет недовольство. Султанское правительство доживает последние дни, дай Бог, чтобы после национально-освободительной революции не последовал переворот, как у нас в России… Вы заметили, Борис Андреевич, что мы все время говорим – «у нас, в России»? А ведь теперь это совсем не так. Нашей России не стало, процесс этот необратимый…
– Я согласен с вами, хоть Врангель и кричал войскам при эвакуации, что мы еще вернемся и победим. Все давно поняли, что он сам в это не верит.
– Оставим в стороне горькие слова, что если бы армию не продали и не предали генералы и союзники, мы бы победили. Об этом теперь спорить нечего. Я согласен, что союзники, в том числе, англичане, повели себя не лучшим образом. Они просчитались, потому что не знали России. Они думали, что большевики, не умея управлять, развалят страну, и народ, голодный и нищий, смиренно, как когда-то в девятом веке, попросит прийти варягов и руководить. Они слишком поздно поняли свою ошибку – Гражданская война закончилась, и большевики удержались у власти. Надо сказать, что Черчилль, которого я глубоко уважаю за бескомпромиссную позицию в отношении Советов, был против вывода войск интервентов из России. Но Ллойд Джордж[2] задумал иную комбинацию.
Горецкий снова поднял бокал с вином и задумчиво посмотрел его на свет. Луиджи со своего места у стойки что-то крикнул ему и засмеялся. Полковник рассмеялся в ответ, выпил залпом вино, затем вытер белоснежным платком испарину на лбу и расстегнул верхнюю пуговицу на френче. Борис, приглядевшись к полковнику, с удивлением заметил, что он даже помолодел здесь, в Константинополе.
– Так я, с вашего разрешения, продолжу, – сказал Горецкий. – Итак, несмотря на безусловную победу на выборах в декабре восемнадцатого, популярность правительства Ллойд Джорджа стала падать к началу двадцатого. Ему приходится действовать заодно с французами, то есть с неистовым старцем Клемансо,[3] а тот полон решимости наказать Германию, а следовательно, и Турцию, как ее союзницу, которые развязали мировую войну.
Союзники, конечно, вышли победителями из этого конфликта, однако их ресурсы исчерпаны, население стран изнурено и пало духом. Интервенция в России, как я говорил, да вы и сами знаете, потерпела полный крах. И вот Ллойд Джордж на встрече Верховного военного совета Антанты предлагает снять блокаду и возобновить торговые отношения с Центрсоюзом, то есть не с правительством Советов, а со стоящей вне политики коммерческой кооперативной организацией. Однако британские консерваторы – два члена кабинета, резко настроенные против большевизма – Керзон[4] и Черчилль, настаивают, чтобы Ллойд Джордж не шел ни на какие дипломатические соглашения с Советами. И все же перспектива заключения коммерческих контрактов, выгодных для британской промышленности, заставила Ллойд Джорджа пытаться достичь экономического соглашения с Советами.
– Вот как, – не удержался Борис. – Значит, пока мы воевали в Крыму, англичане уже договаривались с Советами! Торгаши проклятые! Дождутся, что и у них революция будет!
– Вряд ли, – усомнился Горецкий. – Народ в Англии не тот, варварства в нем нету. И потом, отчего же вы не допускаете, что гибкий политик Ллойд Джордж просто решил употребить в борьбе с большевиками другое средство? Он надеется приручить Советы, достигнув с ними экономического соглашения. Мирное, так сказать, проникновение капитала в экономику России, должно способствовать перерождению Советов.
– А вы сами-то в это верите?
– Я – нет, – резко ответил Горецкий. – Я, как и Черчилль, считаю, что премьер-министр совершает большую ошибку. Но меня в данном случае никто не спрашивает. Так вот, переговоры продолжаются почти год, и надо полагать, в скором времени обе стороны подпишут торговое соглашение. Насколько я знаю, оно не содержит главного пункта, которого больше всего домогаются Советы – пункта о юридическом признании, однако все понимают, что заключение соглашения будет означать, что Великобритания де-факто признает Советскую республику.
– Это конец, – вздохнул Борис. – За Великобританией потянутся другие страны. Мы потеряли Родину…
– Мы потеряли ее уже давно, – поправил его полковник. – Как говорится, снявши голову, по волосам не плачут. – Он пригладил свои поредевшие волосы и пошутил, глядя на давно требующие стрижки пышные светло-пепельные волосы Бориса: – Разумеется, ваших волос было бы более жаль, чем моих. Так вот к чему я веду, – начал он, став серьезным. – Армия не может существовать отдельно от государства. Русская армия, как ранее Добровольческая, была создана для борьбы с врагами России. Той России больше нет, стало быть, и армия ей не нужна. У большевиков есть своя собственная Красная армия. Я принял решение и вышел в отставку. Больше я в армии не служу, никому не подчиняюсь и призываю вас принять и осуществить такое же решение.
– Но, однако… как-то скоропалительно… – растерялся Борис.
– Голубчик, Борис Андреевич, вы вступали в армию Деникина по велению сердца, чтобы защищать Россию! Что вам делать там сейчас?
– Но там будут платить какое-то содержание. Послушайте, мне ведь совершенно не на что жить! – рассердился Борис. – Работы здесь не найти, да и делать-то я толком ничего не умею. Кем я был до революции? Недоучившимся студентом-юристом.
– Мне это известно, – кивнул Горецкий. – Я хочу предложить вам работу.
– А сами-то вы кто?
– Я – частное лицо, никому не подчиняюсь, работаю от себя. Платят мне англичане, а за что – я смогу рассказать, только если получу ваше безоговорочное согласие работать вместе.
– Я должен подумать, – неуверенно пробормотал Борис. – Я так понимаю, что работа ваша связана с риском и опасностью для жизни, как и все, чем вы занимались раньше, исключая то благословенное время, когда я имел удовольствие слушать в Петербурге ваши лекции по уголовному праву, – Борис улыбнулся. – У меня ведь сестра… да еще Петр теперь тоже останется без средств к существованию. Потому что у меня сильнейшее подозрение, что пенсию инвалидам в Русской армии платить никто не собирается.
– Думаю, что это как-то организуется. Пенсия, разумеется, будет мизерная, но Варвара Андреевна – девушка умная и трудолюбивая, она найдет позже какую-нибудь работу, я со своей стороны сделаю все возможное, чтобы ей в этом помочь.
Борис понял, что Горецкий сильно заинтересован в его помощи, раз даже обещает помочь сестре. Чтобы развеять его колебания, он готов пообещать, что обеспечит сестру и Петра в случае, если с Борисом что-нибудь случится.
– Соглашайтесь, Борис Андреевич! – Горецкий смотрел приветливо и серьезно. – Поверьте, в моем предложении нет никакого подвоха. Просто мне нужен молодой, интересный, неглупый и расторопный человек для выполнения некоторых деликатных поручений. Поручения эти – не все, но многие – будут связаны с дамским полом, у вас такие контакты всегда хорошо получались – дамы к вам благоволят. Уж не знаю отчего – то ли внешность у вас располагающая, то ли секрет какой знаете, но качество это в нашей работе очень и очень полезное. Мы с вами давно знакомы, я вам всегда доверял, несмотря на некоторую натянутость наших отношений после разгрома Добровольческой армии в Новороссийске.
Против воли Борис покраснел. Он вспомнил, как обругал полковника Горецкого на французском миноносце, который подобрал их с Алымовым в море. А ведь это Горецкий уговорил капитана подождать еще час.
– Подумайте до завтрашнего утра, Борис Андреевич, – Горецкий махнул рукой, подзывая Луиджи, – и не беспокойтесь о плате за обед, вы были моим гостем.
Ротмистр Хренов был пьян. В этом, собственно, не было ничего необычного – он был пьян всегда, когда удавалось раздобыть хоть немного денег.
Ротмистр Хренов сидел в грязном заведении под названием «Звезда сераля». Содержатель заведения, одесский еврей Соломон Лапидус, приехав в Константинополь, отпустил длинные янычарские усы, переименовался в Сулеймана-ибн-Мусу, но по-прежнему торговал скверной водкой.
Ротмистр смотрел в упор на гусарского поручика Шилишвили и с нетрезвой страстью излагал:
– Всюду связи! Только связи! Никакие заслуги не берутся в расчет! Одни проливали кровь, мерзли в Ледяном походе, месили кубанскую грязь, другим – просто повезло с родственниками. И им – все… Ты меня не слушаешь! Тебе наплевать!
– Не кипятись, Вольдемар! – лениво отмахнулся поручик. – Что тебе за дело до всех этих жалких людишек? Они – натуральные дрессированные крокодилы, а мы с тобой – соль земли! Выпьем, дорогой!
Шилишвили налил в свой стакан подозрительную жидкость из грязного графина, расплескал чуть ли не половину и очень расстроился. Ротмистр продолжал с прежним задором:
– Ты меня не слушаешь, и никто меня не слушает! Никому ни до чего нет дела!
Я сегодня видел такого человека, которого… – на этих словах Хренова разобрала икота, а гусар, ударив кулаком по столу, с чувством воскликнул:
– Сволочь Соломон! Водку из солдатских портянок гонит! Русскому офицеру такое пить зазорно! Непременно надо забегаловку его разнести! Жалко турки, басурманы, не позволят! Такие же сволочи, как Соломон!
Ротмистр выпил еще полстакана той же дряни, ему немного полегчало, взгляд стал более осмысленным, но он начисто забыл о чем только что говорил. Окинув грязный подвальчик удивленным взглядом, как будто не понимая, как он сюда попал, ротмистр встал из-за стола и провозгласил:
– Батальон! Шашки к бою! Рысью… марш! – и четким строевым шагом направился к выходу.
Шилишвили проводил его взглядом задумчивого налима и упал лицом на стол.
Следом за Хреновым на улицу вышел еще один посетитель «Звезды сераля».
Ротмистр шел по улице, пытаясь по-военному чеканить шаг, но из-за скверной водки Соломона Лапидуса это получалось плохо. Ротмистр то и дело сбивался с ноги, а то и вовсе спотыкался.
Немного отойдя от «Звезды сераля», он начал вдруг прислушиваться. Позади раздавались чьи-то крадущиеся шаги. Ротмистр остановился – и шаги за спиной стихли, он пошел дальше – шаги возобновились. Бравый ротмистр хотел было оглянуться, но это показалось ему с одной стороны унизительным для боевого офицера, а с другой стороны, честно говоря, просто страшно. Бог знает кого можно увидеть ночью на кривых улочках Галаты!
Ротмистр прибавил шагу. Ему показалось, что шаги сзади больше не слышатся. Взяв себя в руки и преодолев противоречивые чувства офицерской гордости и вульгарного страха, он остановился и обернулся. Никого не было видно на улице, да и темень была такая, что преследователь запросто мог сделаться невидим, стоило ему всего лишь прижаться к стене дома, укрывшись в тени.
«Правду гусар говорил – сволочь Соломон! – подумал Хренов, – такая дрянь его водка! Через эту его водку уже чертовщина всякая мерещиться начинает! Этак недолго и до горячки допиться!»
Ротмистр в сердцах плюнул, развернулся и решительно зашагал вперед по улице.
В то же мгновение от стены покосившейся лачуги отделилась тень, обернувшаяся человеческой фигурой. Этот человек, чьи гибкие крадущиеся движения выдавали явно преступные намерения, в несколько больших беззвучных шагов нагнал злосчастного ротмистра. Хренов попробовал было обернуться, но быстрый и точный удар узким стальным лезвием в затылок раз и навсегда прервал всякие его намерения и планы.
Ротмистр толком не понял, что с ним произошло. В последний миг жизни в мозгу его почему-то пронеслись мысли о скверной водке и о том, что надо бы вовсе бросить пить… Но тут свет в его глазах померк. Впрочем, на грязной темной улочке и меркнуть-то было особенно нечему.
Убийца осторожно выдернул лезвие из раны, и ротмистр Хренов тяжело повалился в сточную канаву. Так бесславно закончилась жизнь этого человека – в прошлом блестящего гвардейского офицера, чья неблагозвучная фамилия принадлежала к ряду лучших дворянских родов России, славного кавалериста, героя Германской войны, потом – участника Ледяного похода…
Глава пятая
Потрескалась багряная эмаль —
След времени, его непостоянство.
Твоих отличий никому не жаль,
Бездарное последнее дворянство.
А. НесмеловНа этот раз Борис с полковником Горецким встретились утром на пристани. Стоя на молу, оглядывая бухту и порт со стоящими на рейде кораблями, Аркадий Петрович курил трубку и выжидающе посматривал на Бориса.
– Я, конечно, согласен с вами работать, – вздохнув, начал Борис. – Вы меня вчера во многом убедили, да и жизнь сама тоже постаралась. Готов пойти в шпионы, только не против России.
– Вот как? – поднял брови Горецкий.
– То есть я хотел сказать, что вот в армии муссируются такие слухи, что нужно снова идти воевать, либо же объявить Советам беспощадный террор.
– В Ревеле, я слышал, базируются мелкие белогвардейские отряды, которые тайно переходят границу, убивают коммунистов, грабят и жгут села.
– Я категорически против этого! – воскликнул Борис.
– Я тоже. Мы проиграли эту войну, так что следует смириться с поражением и не кусать исподтишка. Так что не беспокойтесь, Борис Андреевич, в Россию нас с вами не пошлют.
Горецкий поежился на пронизывающем январском ветру и махнул рукой в сторону.
– Пойдемте, там есть кофейня. Выпьем кофе и согреемся.
Кофейня была маленькой и полутемной. Кроме того, она была совершенно пустой, только за стойкой скучал хозяин – совершенно лысый грек.
– Итак, – начал Горецкий, взяв в руки крошечную кофейную чашечку и с удовольствием вдыхая душистый пар, – что здесь, в Турции, делают сейчас англичане? Некоторые лидеры Советов, например, есть у них сейчас там некий Чичерин, народный комиссар иностранных дел, так вот, они рассматривают Азию, Дальний и Средний Восток как сферу возможного распространения своих революционных идей.
– Однако они весьма самонадеянны! Они серьезно считают, что если сумели удержать власть в России и победить в Гражданской войне, то и дальше будут побеждать во всем мире?
– А вы что-нибудь слышали о Троцком и его теории мировой революции? – поинтересовался Горецкий.
– Немного, – смешался Борис, – не до того было.
– Ну да это теперь не важно. Значит, на Востоке Советам повсеместно противостоит Британская империя, потому что заключение торгового соглашения ко всеобщей выгоде – это одно, а упускать сферы влияния – это совсем другое. И Британия полна решимости не допустить этого. Ключевую роль в этой драматической коллизии играет Турция. Турки вполне сознают двойственность своего положения между Востоком и Западом и в равной мере опасаются как своего северного соседа, то есть Советской России, так и западных союзников. Кроме того, как я уже говорил, существует затянувшийся конфликт между греками и турками, где Англия поддерживает греков. Таким образом, именно сейчас встал вопрос: кто кого? То есть, согласится ли правительство Турции заключить договор с Советской Россией или нет? Насколько мне известно, такие же переговоры Советы ведут сейчас с Персией и Афганистаном. И по всему выходит, что эти страны тоже готовы подписать договоры с Советской Россией.
Борис закурил и крикнул хозяину, чтобы принес еще кофе. Тот лениво пошевелился, но начал колдовать над жаровней.
– Далее, – продолжал Горецкий, – известно, что Советская Россия ведет переговоры о решении спорных вопросов между Арменией, Азербайджаном, Грузией и Турцией. И вот тут-то интересы Советов и Британской империи сталкиваются особенно остро.
– Нефть, – понял Борис.
– Совершенно верно. Как вы знаете, в августе девятнадцатого года англичане вынуждены были эвакуироваться из Закавказья, однако Батумская область осталась оккупационной зоной Британской армии. С апреля двадцатого года решением Верховного совета Антанты батумский порт объявлен свободным, так называемым «порто-франко», а сам Батум и приморская область Аджарии – территорией под покровительством Лиги Наций[5] с нахождением там войск Великобритании, Франции и Италии. И хотя в Азербайджане уже установилась власть Советов, но нефтепровод Баку – Батум по-прежнему исправно качает нефть, которую ждут в батумском порту английские танкеры. Меньшевистское правительство Грузии еще держится, но не сегодня-завтра падет. Пока Советам выгодно такое положение с Батумом, потому что им нужно торговать, иначе страна вымрет от голода и недостатка необходимых товаров. Но все может очень быстро измениться, если Советы убедят правительство Турции не претендовать на Батумскую область, которая в восемнадцатом году по грузинско-турецкому договору отходила Турции на вечные времена, как было записано в указе султана. Но где теперь тот султан? Он отрекся, и на престоле его брат, который ничего уже не решает.
– Приблизительно я понял ситуацию, а теперь хочу спросить вас: что конкретно требуется от меня? – спросил Борис, довольно невежливо прервав Горецкого.
Аркадий Петрович, недаром преподавал когда-то в Петербургском университете, обожал рассказывать, объяснять и просвещать, так что каждая беседа с ним понемногу переходила в профессорскую лекцию, а Борис начинал чувствовать себя нерадивым студентом. Ему становилось скучно, хотя, несомненно, полковник рассказывал нужные вещи.
– Перехожу непосредственно к делу, – согласился Аркадий Петрович. – Положение в Константинополе сложное. Здесь, как я говорил, полно военных – англичан, французов, итальянцев. Высшее, если можно так выразиться, общество состоит из союзников – военных и штатских, турок, близких к правительству, чиновников, дипломатов, промышленников, а также избранных русских эмигрантов – тех, кому удалось вывезти из России достаточное количество средств. Общество довольно своеобразное, как вы увидите. Особенность его состоит в том, что никакие серьезные дела не делаются здесь в конторах и вообще в кабинетах. Где бы вы думали заключаются сделки, добываются важные сведения, решаются судьбы если не государств, то их частей? В ресторанах, кабаре и салонах прекрасных дам, которых, надо сказать, здесь множество. Так уж повелось, что в Турции дамы полусвета играют важную политическую роль.
– Не только в Турции так было, – возразил Борис.
– Верно, но здесь смешались языки и стили, цивилизации Востока и Запада. Дамы эти в основном француженки, русские и итальянки, либо имеют официальную связь с кем-нибудь из турецких офицеров или чиновников, либо у них есть постоянный покровитель, не обязательно любовник. Он держится обычно в тени, на людях со своей дамой бывает редко и всегда в компании, никакого уединения. Вообще эти женщины всегда окружены целой свитой офицеров и штатских молодых людей. Это – условие их профессии. Их метод состоит в том, чтобы очаровывать мужчин с положением и офицеров всех национальностей. Они завлекают мужчину, завораживают его сладкими речами, оплетают лестью, а когда он окончательно теряет голову и заваливает их дорогими подарками, требуют все больше и больше. Он кутит, швыряется деньгами, играет в карты. И наконец осознает, что полностью проигрался. Турецкому офицеру грозит в этом случае перевод в провинцию. А после сладкой жизни в Константинополе он скорее пустит себе пулю в лоб, чем уедет в свою тьмутаракань. Тогда прелестница, чудом, как он думает, узнавшая о его неприятностях, сама приходит к нему, плачет, утешает его, как может, а потом, между делом, подсовывает ему на подпись маленькую такую бумажку. Это либо долговое обязательство, либо обещание работать на какую-нибудь разведку, все зависит от того, до какой стадии дозрел, если можно так выразиться, сердечный друг очаровательной дамы. Разведка получает нового сотрудника, от которого бесперебойно начинает поступать ценная информация. Так же дело обстоит с английскими, французскими и итальянскими военными – за растрату казенных денег ни в каком государстве по головке не погладят.
– Хочу вас особенно предупредить, Борис Андреевич, – Горецкий отодвинул пустую чашку, – что эти дамы, на вид такие прелестные и невинные, на самом деле очень опытны и хитры. Они прекрасно знают мужчин и никогда не питают никаких иллюзий. Имея с ними дело, вы должны быть очень осторожны. На первый взгляд, они задают самые невинные вопросы, но неверный ответ может стоить вам жизни.
– Я учту ваши советы, – согласился Борис.
– И вот теперь мы добрались до самого интересного. Поскольку все дела устраиваются здесь, в Константинополе, одинаково, то есть через дам, то на англичан тоже работает несколько таких очаровательных созданий. Те, кто работает на французов, тоже почти все известны. Но за последнее время у моих работодателей сложилось впечатление, что их работе мешает кто-то могущественный, и настроен этот человек очень серьезно. А что может настроить кого-то слишком серьезно в данной ситуации? – спросил Горецкий и тут же сам себе ответил: – Разумеется, это бакинская нефть.
– Насколько я понял, англичанам нужна нефть, но надежды на то, что Советы будут им давать нефть и дальше, у них нету. Здесь, в Константинополе, они пытаются настроить турок против России и уговорить правительство Турции ввести войска в республики Закавказья или хотя бы Батумскую область. Словом, англичане хотят турецкими руками жар загребать. Верно я говорю?
– Весьма приблизительно, но в целом верно, – смеясь, согласился Горецкий. – Итак, противник англичан орудует тайно, кто он такой – никто не знает. Но некоторое время назад в Константинополе появилась женщина – ее зовут Гюзель, – так вот, имеется подозрение, что именно она работает на таинственного противника англичан. Женщина эта умна, достаточно обеспечена и очень хороша собой. Когда вы увидите ее, то поразитесь – эти синие глаза при смуглой коже и черных волосах… – в голосе Горецкого появились мечтательные нотки. – По происхождению она несомненно турчанка, но прекрасно говорит по-французски и по-английски, и некоторые мои наблюдения позволяют предположить, что она долгое время прожила в Европе. Если попасть в ее окружение и понаблюдать за ней, можно выяснить много интересного.
– Судя по вашим рассказам, вряд ли такая женщина скоро падет к моим ногам, – усомнился Борис.
– Разумеется, Гюзель очень непроста. Не хочу обидеть вас, голубчик, – Горецкий по своему обыкновению надел пенсне и посмотрел на Бориса, как добрый профессор, – не хочу обидеть вас, но не посоветовал бы атаковать ее напрямую. Это может не получиться, и тогда вы окажетесь раньше времени на виду, вашей персоной заинтересуются люди, которые стоят за прекрасной турчанкой. Я бы посоветовал вам начать боевые действия с ее подруги, – Аркадий Петрович положил на стол перед Ордынцевым фотоснимок кудрявой блондинки с хорошеньким, хотя и чуть глуповатым личиком, и добавил: – Имя – или псевдоним – вполне соответствуют внешности: Анджела. Выступает в нескольких кабаре и ресторанах с песенками на французском языке, хотя по происхождению – итальянка. Впрочем, и без русской крови не обошлось: бабка по материнской линии у нее русская.
– Однако, – удивленно заметил Борис, рассматривая снимок, – судя по тому, что вы мне рассказали про прекрасную Гюзель, такая женщина вообще не должна иметь подруг. А тут вдруг… такая, в общем-то, заурядная блондинка, хорошенькая, конечно, но явно глуповата…
– Не совершите ошибки, – Горецкий предостерегающе поднял руку, – ее внешность может быть тщательно продуманной маскировкой… как и дружба с прекрасной турчанкой. С Гюзелью они невероятно дружны… по крайней мере, с виду. Возможно, Гюзели нужна эта глупенькая милашка для того, чтобы оттенить свою чуть мрачноватую красоту. Потому что если Анджела – ангел, то Гюзель можно сравнить… не с исчадием ада, нет, но все же что-то демоническое в ней есть. Никаких подозрительных связей за певичкой Анджелой не замечено. Вот, кажется, все, что я могу о ней сказать. Попробуйте поухаживать за ней, познакомиться поближе – глядишь и выяснится что-либо интересное. Если вы ей понравитесь, Анджела введет вас в круг знакомых Гюзели, а это уже немало.
– Я постараюсь, – Борис неуверенно развел руки. – Честно сказать, никогда дамским угодником не был, а за годы войны вообще от женщин отвык.
– Ну-ну, – усмехнулся Горецкий, – это, знаете, как знание иностранного языка: учили в детстве, а потом за ненадобностью забыли. А приезжаете в другую страну и оказывается, что вы все понимаете, слова сами в памяти всплывают. Так и с женщинами: повертитесь в окружении прекрасных дам – сразу вспомните, как флиртовать да комплименты говорить…
Горецкий внимательно окинул Бориса взглядом.
– Прежде, чем заняться этой особой, вам необходимо посетить одного моего доброго знакомого.
Знакомый Горецкого оказался старым портным, внушительным и благообразным, напоминающим престарелого английского лорда или его такого же престарелого дворецкого.
Осмотрев Ордынцева, Федор Лукич, так звали портного, слегка поднял левую бровь, что означало у него крайнюю степень удивления.
– Как молодой человек из хорошей семьи – а вы, я уверен, из хорошей семьи – мог так запустить свою внешность? Когда я обшивал Его Высочество… Конечно, я понимаю – революция, голод, Гражданская война и прочие неприятности… но не до такой же степени! Вот обратите внимание на Аркадия Петровича – он ведь тоже воевал, а какие у него ногти!
Борис хотел было дать этому старому снобу достойную отповедь, но взглянул на свои руки и удержался.
Федор Лукич долго крутил его, снимая мерки, затем отправил к своему знакомому парикмахеру – французу, – на вывеске Борис прочел, что парикмахера зовут мосье Лимож. Мосье с сомнением оглядел поношенную военную форму Бориса и попросил заплатить вперед. Когда же он прочел нацарапанную на клочке бумаги записочку от Федора Лукича, которую Борис подал ему вместе с деньгами, лицо его волшебно изменилось. Он заулыбался во весь рот и жестом пригласил в комнату за занавеской. Там Бориса окружили сказочной заботой: стригли, брили, полировали ему ногти… Нежные женские руки, крепкая мыльная пена, облако ароматов… все это было чрезвычайно приятно.
После стрижки, мосье Лимож, казалось, сам удивился результату.
Потом Борис снова оказался в руках Федора Лукича. Старик опять вертел его, но теперь молча, потому что во рту он держал дюжину булавок, при помощи которых доводил до совершенства шедевры портновского искусства. За костюмом велено было прийти через два дня.
Это время Борис провел, гуляя по городу и для практики разговаривая с Горецким исключительно по-французски. Аркадий Петрович показывал ему рестораны и кабаре, где бывает интересующая их публика, объяснял, сколько полагается давать на чай официантам, коридорным и мальчишкам-посыльным, ибо в Константинополе действовала совершенно особая система оплаты подобных услуг, отличающаяся от городов Европы и прежней России. Слушая его, Борис только тяжело вздыхал. Наконец он решился и прервал на полуслове Аркадия Петровича, с увлечением рассказывающего, какие бутоньерки следует использовать при посещении театра, какие, собираясь на интимное свидание с дамой, и так далее.
– Аркадий Петрович, дорогой, – смеялся Борис, – кем же я должен выглядеть в Константинополе? Незаконным отпрыском августейшей фамилии? Таинственным графом Монте-Кристо? Я – отставной поручик, прошедший в России войну, голод и разруху, перенесший тиф и потерю близких. Я воевал, но сумел выжить и, чтобы оправдать мое появление в дорогих ресторанах и житье на широкую ногу, вы придумали, будто я там, в России, сумел хапнуть некоторое количество бриллиантов и теперь спускаю их помаленьку. Так какие, к черту, бутоньерки? Никто не ждет от меня утонченных манер! Спасибо еще, что французский не забыл.
Горецкий поскорее нацепил пенсне, чтобы Борис не заметил смущения в его глазах.
– Виноват, увлекся, – пробормотал он. – Да, вот кстати, насчет языков. Вы их знаете непростительно плохо! Ну, французский еще куда ни шло! Но, вы меня извините, ваше английское произношение…
– Несмотря на это, я могу сносно объясниться на английском, – не согласился Борис, – а произношение – дело наживное.
– Мало, – вздохнул Горецкий.
– Хватит. – Борис обиделся и не сказал этому надутому профессору Горецкому, что хоть по-немецки он совсем не говорит, но понимает многое, если говорить медленно.
Они побывали и в штабе дивизии, куда был приписан Борис, и полковник Горецкий очень быстро оформил документы об отставке. Борису выдали бумаги и малое количество денег – выходное пособие. Его службе пришел конец.
Через два дня Борис, сопровождаемый полковником, явился к Федору Лукичу. Работа была закончена, Борис переоделся, но когда увидел себя в зеркале, то невольно выругался: этот лощеный молодой денди не имел к нему, кажется, никакого отношения. Мог ли такой человек остановить картечным залпом атаку махновцев? Мог ли пройти половину Украины с кавалерийским рейдом? Мог ли он, этот щеголь, выбраться из красного застенка? Мог ли чудом выплыть в Новороссийской бухте да еще вытащить товарища? Нет, то был другой человек, и то была другая жизнь.
Федор Лукич с удовлетворением оглядел дело своих рук и провозгласил:
– Ну вот, теперь видно, что молодой человек приличного происхождения! И к Его Высочеству можно было бы на прием. А то был – то ли разбойник, то ли комиссар…
Борис переглянулся с Горецким.
– Нет уж, Федор Лукич, дорогой, – посмеиваясь, начал тот, – костюм, разумеется, выше всяческих похвал, но появляться в нем Борису Андреевичу в обществе так сразу не следует – уж больно шику много.
– Не шику, а приличия, – поправил старик.
– Все равно, этот мы пока оставим до лучших времен, а вы вот подгоните ему английский френчик по фигуре.
– Для этого не нужен Федор Лукич! – старик окончательно обиделся.
– Все будет хорошо, Федор Лукич, – успокаивал Горецкий, – и до вашего шедевра очередь дойдет.
Молоденький подмастерье аккуратно подогнал под размер Бориса френч из дорогого сукна, подобрал брюки и ботинки. Теперь в зеркале отражался стройный молодой офицер, хорошо подстриженный, с ясным взглядом серых глаз.
– Хорош! – Горецкий одобрительно похлопал его по плечу. – Дерзайте, Борис Андреевич. Сегодня вечером в «Грезе» аншлаг! Я заказал вам столик.
Генрих фон Кляйнст происходил из аристократической, но сильно обедневшей семьи, поэтому, когда после окончания университета к нему явился господин в штатском с цепкими взглядом серых глаз и ровным пробором в чуть редеющих волосах и предложил Генриху работать в разведке при германском военном штабе, он раздумывал недолго. Он поступил на секретную службу не из любви к приключениям и не ради денежного вознаграждения, кстати, весьма сильно отличающегося от скромной заработной платы ассистента при больнице святой Бригитты в городе Брауншвейге, на какое место он мог рассчитывать после окончания университета. Деньги никогда не воспринимались Генрихом как конечная цель. Господин с проницательными глазами, занимающий несмотря на свое штатское платье, достаточно высокий пост в разведке, сумел убедить Генриха фон Кляйнста, что благодаря секретной службе он получит ту власть, которой оказался лишен из-за обнищания его семьи.
Полгода Генрих провел в уютном особняке в предместье Берлина. От любопытных глаз дом был скрыт густыми липами, разросшимися в саду. Генрих проходил курс специального обучения, что было необходимо для успешной работы в секретной службе.
Главных предметов было четыре – топография, тригонометрия, морское строительство и черчение. Секретный агент, посылаемый для того, чтобы сообщить о состоянии, расположении и вооружении какой-либо крепости, вроде Вердена во Франции, должен быть в состоянии сделать точные вычисления расстояния, высоты, измерить углы, исследовать почву и многое другое. Он должен знать топографию, математику и быть искусным чертежником. Все эти предметы преподавали Генриху эксперты императорской службы.
Особенное внимание обращалось на науку морского строительства. Пожилой усатый капитан Курт Вагнер, эксперт Справочного департамента имперского флота, был очень строг. После его лекций курсанты школы могли определять различные типы торпед, подводных лодок и мин. Генрих фон Кляйнст, как особо одаренный ученик, научился даже угадывать по особенному свисту, издаваемому ими, какая торпеда была выпущена – Уайдхеда или Бреннана. Генрих знал наизусть модели всех существующих в мире военных судов. Он мог с первого взгляда определить, какого типа боевое судно и принадлежит ли оно к флоту Англии, Франции, Соединенных Штатов или России. Офицерские чины флотов всего мира, их обмундирование, экипаж судна, система сигнализации флагами, служебные правила – все эти вопросы освещались в лекциях экспертов очень и очень подробно.
Генрих фон Кляйнст, как неглупый и способный ученик, узнал многое о тех задачах, что ставила перед собой германская секретная служба, а также был посвящен в некоторые тайны этой системы.
В первые годы двадцатого столетия в Европе существовали четыре системы сыска, находящиеся в распоряжении четырех великих держав. Первое место по своему влиянию, как считалось в Германии, занимала сыскная система самой Германии, на втором прочно утвердилась Англия, как ни противно это было признавать членам Главного штаба. Затем следовали Россия и Франция. Англия имела солидную организацию сыска в Индии и в своих азиатских владениях, в Европе же британцы больше уделяли внимания дипломатической разведке, убежденные, что Англии в будущем удастся воевать чужими руками, и поэтому многие, к тому же быстро устаревавшие, сведения чисто военного характера могут быть полезны скорее не самой Англии, а ее союзникам (а забота об интересах союзников уж никак не соответствовала британским традициям).
Наконец, не последнее место в этой иерархии занимало Международное бюро тайной агентуры, имеющее конспиративную квартиру в Бельгии. Это было получастное-полуофициальное предприятие, доставляющее проверенные сведения тем, кто мог за них дорого заплатить. Этой «фирме» обыкновенно поручали добывание сведений о различных деталях технического характера, например, модели нового огнестрельного оружия или данные о каких-нибудь новых укреплениях. Но иногда Брюссель давал информацию совершенно иного характера.
Германская секретная служба, которую изучал Генрих фон Кляйнст, имела три точно разграниченных вида деятельности: агентура в армии и флоте, политический сыск и личный сыск. Каждый отдел имел своего начальника и свой собственный штат агентов – мужчин и женщин. Агентура армии и флота находилась в ведении Генерального штаба в Берлине и занималась добыванием тайных сведений о вооружениях, военных планах, новых технических открытиях за границей.
Политический сыск получал свои директивы из германского министерства иностранных дел на Вильгельмштрассе, и его агенты были заняты наблюдением за встречами глав государств, их министров и дипломатов попроще.
Личный сыск, будучи под непосредственным контролем самого императора Вильгельма, служил его личным целям. Указания передавались через личного секретаря императора, и служба в личном сыске считалась наиболее престижной.
Насколько мог понять Генрих из намеков своего эксперта, организация сыска в других державах была очень похожей.
В составе агентов личного сыска находились мужчины и женщины всех классов общества. В то время, как Главный штаб вербовал своих сотрудников по профессиональному признаку – тщательно отбирая и обучая их, в агентах личного сыска могли состоять принцы и графы, адвокаты и доктора, актеры и актрисы, дамы высшего света, дамы полусвета, лакеи и швейцары, – из всех этих людей можно было извлечь пользу, когда требовали интересы дела. Генрих с удивлением узнал, что агентами бывают даже знаменитые певцы, балерины и артисты.
Поскольку частный сыск не только существовал, но и играл важнейшую роль во всех странах Европы, то достаточно часто встречались агенты-двойники, работающие на две или несколько разведок. Легко могло случиться, что интересный собеседник в салоне парохода или обворожительная соседка по столику в ресторане отеля – оплаченный агент на службе какого-либо государства, причем при следующей случайной встрече оказывалось, что работодателем у этого агента выступает другое государство. В таких щекотливых делах, как поиск нужного человека для конкретного поручения, приходило на помощь Международное бюро тайной агентуры в Брюсселе. Оно поставляло профессионалов. Секретный агент, нанятый для важного ответственного задания, должен был быть человеком образованным, тактичным, умеющим держать себя в обществе. Он должен быть хорошо знаком с человеческой природой, угадывать людские слабости и тайные желания. В женщине ценятся умение очаровывать и такт, красота и хорошие манеры, а также знание света. Оплата за такую работу высока, но и риск чрезвычайно велик. Секретные агенты редко умирают в своей постели, только самые удачливые удаляются на покой после многих лет службы. Разоблачение грозит судом, тюрьмой, даже виселицей. За невыполнение задания или предательство свои могут угостить ядом, ножом или пулей.
Познав все или многие из этих премудростей, Генрих фон Кляйнст приступил к работе. Он удачно выполнил несколько поручений в странах Азии, после чего осел в Турции. Еще недавно могущественная Османская империя понемногу отдавала свои владения. Власть султана подтачивали изнутри недовольство правительства, настроенного на перемены. В десятилетие, предшествующее началу Первой мировой войны, все мировые державы понимали, что войны не избежать, и Турция должна стать союзницей Германии в противостоянии русским, французам и англичанам.
Генрих фон Кляйнст стал немецким резидентом в Турции. С помощью своей собственной агентуры он неусыпно следил за настроениями в высших эшелонах власти в Константинополе и посыпал подробные донесения в Берлин. После того, как в 1913 году в Турцию прибыла немецкая военная миссия во главе с генералом Лиман фон Зандерсом для того, чтобы по соглашению министров обоих государств перестроить турецкую армию в соответствии с современными требованиями, англичане уже не сомневались, на чьей стороне будет воевать Турция и буквально наводнили страну своей агентурой. Генрих провел несколько весьма удачных операций по выявлению вражеской агентуры, завербовал двух агентов-двойников и с их помощью долго морочил голову англичанам. За эти операции он удостоился поощрения от своего руководства и лично от действительного тайного советника императора графа фон Веделя. За эти годы Генрих, принимая всяческие предосторожности, раза два ездил в Берлин для докладов. Граф фон Ведель в частной беседе самодовольно сообщил Генриху, что Англия обречена на поражение в будущей войне с Германией. Потому, дескать, что по данным германской разведки, Англия совершенно не представляет себе ни масштабов будущей гигантской войны, ни того, что ей придется послать на поля сражений миллионы солдат и мобилизовать всю промышленность на военные нужды. Британское военное командование не имеет также понятия о том, что ему нужно знать о будущем противнике, о его военном потенциале.
Наблюдая за английскими агентами в Турции и Европе, Генрих позволил себе усомниться в беззаботности руководителей британской разведки, но вслух своих сомнений не высказал.
С началом войны жизнь доказала, что относительно англичан он был прав. Оказалось, что немцы совершенно не представляли себе степени осведомленности английской контрразведки о германской агентуре в Великобритании. Организация немецкой разведывательной сети в Англии страдала роковым недостатком. Исполнительные и дисциплинированные до тупости, все немецкие агенты сообщались с Берлином через один и тот же «почтовый ящик» – он находился на чердаке заброшенного дома в предместье Лондона. Англичане знали об этом «ящике» с одна тысяча девятьсот одиннадцатого года. И вся корреспонденция, попадавшая туда, тщательным образом переснималась. Таким образом хитрые британцы выявили всю агентурную сеть и к моменту объявления войны прямо на рассвете вытащили немецких агентов из холодных английских постелей и арестовали всех оптом. Так в решающие дни Берлин совершенно лишился жизненно важного притока информации.
Сидя в поскучневшем Константинополе, Генрих фон Кляйнст ловил жалкие крохи информации в газетах и не находил себе места. Оказалось, что британская разведка прекрасно организована. С началом войны она разрослась до огромных размеров. Только так можно было объяснить успехи англичан в тайной войне.
Немцы никак не могли оправиться от удара, нанесенного их разведке в 1914 году. Сеть агентов восстанавливали с большим трудом. В годы войны немецкая разведка использовала традиционные методы получения и передачи информации – все те же «почтовые ящики», допросы пленных и дезертиров, просмотр бумаг, найденных у убитых офицеров вражеской армии, изучение сообщений в газетах страны-противника.
А вот разведка противника значительно разнообразила виды связи и передачи информации: теперь использовались не только шифрованные письма, но и воздушные детские шары, прифронтовая ветряная мельница, вращение крыльев которой являлась своеобразным кодом. Французы использовали техническую новинку – доставку известий на самолетах, англичане – невинные с виду объявления в газетах нейтральных стран. Способов было множество, и больше других отличались фантазией русские агенты. А вот немцы не применяли ничего оригинального и терпели неудачи.
Немного приободрился Генрих фон Кляйнст лишь в 1915 году, во время Дарданелльской операции. Агенты англичан не сумели снабдить свою эскадру сведениями о силах противника. Во время бомбардировки английской эскадрой Дарданелл турки и немцы были уверены, что войска Антанты займут Константинополь. Турецкое правительство было в панике. Но англичане проявили удивительную беззаботность и совершенно нехарактерную для них бездеятельность. Турки сумели сосредоточить в районе Константинополя значительные силы, и Антанта отступила, потеряв в боях 113 тысяч убитыми и ранеными. Генрих знал, что это он с помощью агента-двойника отправил англичанам дезинформацию. Но таких побед было немного. Все кончилось печально. Германию разбили наголову, а также Турцию и остальных союзников. Служба разведки окончательно развалилась. Граф фон Ведель вышел в отставку и сидел на своей вилле, развлекаясь писанием мемуаров.
Глава шестая
Женщины живут, как прежде, телом,
Комнатным натопленным теплом,
Шумным шелком или мехом белым,
Ловкой ложью и уютным злом.
А. НесмеловЭто кабаре очень отличалось от любого подобного заведения в России или в Европе благодаря вполне естественному для Константинополя восточному колориту.
Большой зал имитировал открытый южный двор. Должно быть, в теплое время года, которое в Константинополе составляет почти весь год, кабаре и размещалось в открытом дворе, но сейчас сидеть там за столиками было бы все же холодновато.
Середина зала была застелена огромным смирнским ковром, по краям, под сводами арок на маленьких мягких диванчиках, сидели красивые турчанки в волнующих воображение восточных нарядах с закрывающим половину лица полупрозрачным покрывалом. Остальную часть зала занимали легкие столики для посетителей. Сами посетители также представляли собой весьма экзотическое зрелище: офицеры султанской армии, не утратившие все еще импозантности и восточного высокомерия, – турки в ярких мундирах с плетеными золотыми погонами, рослые албанцы в широких шароварах с пистолетами и саблями, заткнутыми за шелковые пояса. Здесь же были офицеры стран-победительниц, не столь пышно одетые, но еще более высокомерные, преисполненные чувством собственной значительности в этой побежденной, но по-прежнему богатой и загадочной стране. Среди всего этого великолепия скромные костюмы штатских казались бесцветными и невыразительными, но именно эти люди ворочали миллионами и делали политику в постепенно теряющем свое былое величие, но все еще ярком и привлекательном городе. Люди в штатском были промышленниками и финансистами, владельцами банков, кораблей, заводов и недвижимости.
Многие посетители, отдавая дань восточной экзотике, удобно развалясь за своими столиками, неторопливо покуривали кальяны или наргиле.
Борис внимательно разглядывал зал, присутствующих, пытаясь угадать среди них смертельных врагов и временных союзников. Очень скоро он понял, что это бесполезно – может быть, вон те двое мужчин, которые любезно разговаривают, обсуждая карту вин, готовы вцепиться друг другу в горло. Наверняка, в этих стенах, в атмосфере дразнящих обоняние ароматических курений и благовоний, под звуки гипнотической восточной музыки, звон хрусталя и тихое журчание воды в маленьком фонтане, составлялись и рушились заговоры и политические союзы, заключались миллионные сделки, возникали и рассыпались в прах состояния.
В центре зала, сменяя друг друга, извивались под тягучую опьяняющую мелодию турецкие танцовщицы в полупрозрачных, развевающихся шелковых одеждах. Время от времени их место занимали европейские исполнительницы – скорее всего, француженки в модных парижских платьях новейших фасонов. Они исполняли по-французски одну-две песенки – как правило, не слишком хороший голос сочетался с невысоким уровнем самих песенок, но смазливые личики исполнительниц примиряли с ними публику, и шансонетки собирали свою порцию вялых аплодисментов.
Наконец, уже ближе к полуночи, в атмосфере кабаре почувствовалось оживление: музыканты встрепенулись и заново настроили инструменты, посетители повернулись к центру зала и стали разговаривать тише, официанты, и без того бесшумные, стали, кажется, просто бесплотными тенями – по всему чувствовалось, что ожидается гвоздь программы.
Раздались аплодисменты завсегдатаев, и на сцену выпорхнула стройная блондинка в легком белом кисейном платье, напоминающем греческую тунику. Ордынцев подумал, что певица действительно удачно выбрала себе имя: в ней и в самом деле было что-то ангельское – светлые золотистые кудри, наивный взгляд голубых глаз, длинные ресницы.
Девушка запела. Голосок у нее был несильный, но нельзя было отказать ей в некоторой музыкальности. Песенка была печальной – какая-то ерунда про милого друга, который покинул красавицу, а она не может его забыть, ждет и смотрит утром на восход, а вечером – на закат. Публика слушала песенку, затаив дыхание. Борис наблюдал за исполнительницей, стараясь сохранить на лице бесстрастное выражение. Она пела старательно, но приглядевшись, Борис отметил, что движения ее были несколько заученны. Тем не менее публика разразилась бурными аплодисментами, когда последний куплет подошел к концу. Анджеле кидали цветы – сплошь белые розы, очевидно, она завела такой обычай. Девушка улыбалась, округляла глаза и взмахивала длинными ресницами.
Борис знаком подозвал официанта и спросил его вполголоса, сколько времени выступает здесь ангелоподобная мадемуазель? Официант – разбитной чернявый малый, не то турок, не то араб, не то все вместе – ответил, что мадемуазель Анджела выступает в «Грезе» несколько месяцев, и все время у них аншлаг, потому что публике нравятся ее внешность, голос и манера исполнения. Борис не заметил у Анджелы никакой особенной манеры исполнения, очевидно на публику, привыкшую к знойным восточным красавицам, произвели сильное впечатление голубые глаза и золотистые кудри.
Следующую песенку Анджела исполнила по-итальянски. Борис не понял ни слова, но публика пришла в полный восторг. Анджела тоже оживилась и при исполнении следующей песни начала танцевать. Она улыбалась и посылала публике воздушные поцелуи, причем, поскольку девушка находилась посредине зала, ей все время приходилось поворачиваться, чтобы не обидеть никого из своих поклонников. Вот она повернулась в сторону Бориса, но встретила каменное выражение лица и взгляд, устремленный куда угодно, только не на нее. Борис подождал некоторое время, потом исподтишка взглянул на певицу. Она уже повернулась в другую сторону. Так продолжалось несколько раз, пока не кончилась песня, и Борис умудрился ни разу не встретиться с Анджелой взглядом. В этот раз девушку закидали деньгами. Она ловко уклонялась, продолжая кланяться, и на губах ее застыла улыбка. Борис участия в овациях не принимал, он вообще отвернулся и переглядывался со смуглой турчанкой, что сидела на маленьком диванчике неподалеку. Глаза у девушки были сильно подведены арабской тушью, щеки нарумянены, волосы забраны в тюрбан. Вообще, она была полной противоположностью Анджеле. Турчанка по-своему поняла взгляды Бориса, она встала и подошла к его столику. Борис скосил глаза на Анджелу, та несомненно заметила эти передвижения.
Борис улыбнулся турчанке и велел официанту принести себе еще шампанского, а девушке – шербету, засахаренных орешков и прочих сладостей – в «Грезе» девушкам из угощения разрешалось только сладкое и прохладительное питье. Овации понемногу прекратились, и ангелоподобная исполнительница удалилась из зала, прижимая к груди собранные официантами деньги и улыбаясь публике несколько принужденно. На прощание она оглянулась, и Борис, сохраняющий на лице каменное выражение, успел заметить, что последний ее взгляд был устремлен на него. Борису показалось даже, что в голубых глазах мелькнуло некоторое недоумение. Турчанка грызла орешки и томно посматривала на Бориса. Ему стало скучно, и он спросил официанта, наливающего шампанское, будет ли еще выступать мадемуазель Анджела. Официант ответил, что обязательно будет, и что если Борису повезет, то он услышит замечательную песню «Rosa bianca», которую мадемуазель Анджела исполняет не всегда, а только когда бывает в настроении. Все в восторге от этой песни, даже господин Казанзакис приезжает специально, чтобы ее послушать. Борис по инерции хотел поинтересоваться, кто такой господин Казанзакис, но что-то подсказало ему не обнаруживать своего неведения. Во время следующего часа он пытался разговаривать с турчанкой, но она плохо знала по-французски и отвечала ему односложно. Делать было совершенно нечего. Борис разглядывал прекрасных гурий и сердился на полковника Горецкого за то, что тот придумал для него такое времяпрепровождение. Он никак не мог свыкнуться с мыслью, что сидеть в кабаре и ресторанах, пить шампанское и разглядывать красивых женщин считается работой. Затем он представил себе, сколько его товарищей-офицеров, оказавшихся в Константинополе без гроша, сочли бы за счастье такую службу, и расстроился, потому что почувствовал себя виноватым. Он упорно не желал воспринимать нынешнюю свою деятельность всерьез. Но достаточно толстую пачку денег, что лежала сейчас у Бориса в кармане, полковник Горецкий получил от англичан, и Борис решил, что, в конце концов, Британское королевство не обеднеет и что за деньги перед англичанами будет отчитываться Горецкий, а посему нужно выбросить из головы грустные мысли и сосредоточиться на работе. Горецкий поставил перед ним задачу – познакомиться с ангелоподобной мадемуазель, – и Борис эту задачу выполнит.
Минуты бежали томительно долго, но все же час перерыва прошел. Незадолго до начала выступления, Борис учтиво осведомился у своей соседки-турчанки, протягивая ей достаточно крупную купюру, достаточно ли будет этих денег за то время, что она провела с ним. Девушка взяла деньги, пробормотала слова благодарности и, правильно поняв Бориса, незаметно выскользнула из-за столика.
И вот настала кульминация вечера. Официанты потушили лампы над столиками, так что освещенной оказалась только середина большого зала. Установилась тишина прерываемая только почтительным шепотом «Rosa bianca, Rosa bianca!»
Послышалась тихая и довольно приятная музыка. Анджела появилась в середине зала внезапно, как будто материализовалась из воздуха. На ней было белое длинное платье из плотного шелка, руки оголены по самые плечи. Ни на руках, ни на шее не было никаких украшений, только на голове светлые кудри прикрывал венок из белых, едва распустившихся, бутонов роз.
Песенка была хороша, исполнительница тоже. Борис против воли залюбовался ею. В противоположной стороне зала обосновалась шумная компания французских офицеров. Один был толстый и усатый, как Тартарен из Тараскона. От песни они все пришли в неописуемый восторг, впрочем, как и вся остальная публика. Грянули овации. Борис опомнился и придал лицу выражение невозмутимости.
Анджела улыбнулась особенно чарующе, затем сняла с головы венок из белых роз, сделала несколько мелких шажков и бросила венок Борису. Реакция у него была отличная, так что он успел поймать венок на лету, после чего встал и поклонился мадемуазель Анджеле – вежливо, но без улыбки.
– Мадемуазель оказала мосье большую честь, – угодливо захихикал над ухом Бориса неизвестно откуда взявшийся официант. – Господину следует поблагодарить мадемуазель, выразить ей свое восхищение.
– Быстро говорите, что я должен сделать, – пробормотал Борис, не разжимая губ.
– Господину полагается подойти к мадемуазель и вернуть ей венок с каким-нибудь ценным подарком, – и видя, что Борис нахмурился, прожженный тип тут же поправился: – Можно дать деньгами.
«Ну и порядки, однако, завела мадемуазель!» – мелькнуло в голове у Бориса. Он секунду помедлил, не зная, как поступить, и тогда прохиндей-официант добавил уже более фамильярно:
– Господин не пожалеет, что заплатил. Мадемуазель нечасто балует публику таким зрелищем. И немногие счастливцы удостаиваются получить венок. Это своего рода пропуск к сердцу мадемуазель, – слуга совсем уже непристойно хихикнул и добавил: – А также в ее постель. Говорят, потрясающе! Мосье – счастливый человек, ему сегодня везет!
– Мерзавец! – Борис скривился, как от зубной боли, так ему стало противно.
Официант отскочил испуганно, а к столу Бориса подошел французский офицер, самый буйный и громкоголосый. Его гулкий бас раздавался весь вечер, он бурно выражал свои восторги мадемуазель Анджеле, выделяясь из всей компании французов.
– Господин русский! – француз был пьян, но на ногах держался твердо. – Прошу вас отдать мне этот венок.
– С чего это? – изумился Борис.
– А с того, что я желаю его у вас купить! – француз протягивал деньги, но Борис не видел, какие там купюры.
– Я никаким товаром не торгую, – бросил Борис.
Толстого француза уже дергал за руку какой-то маленький вертлявый тип из той компании. Он прошептал что-то ему на ухо, но тот уперся и загудел:
– Вы, русские, не должны быть так упрямы. Вы здесь находитесь на птичьих правах. Да если бы наше правительство не было так гуманно…
От бешенства у Бориса потемнело в глазах. Он вспомнил, какими глазами смотрел на них с Алымовым капитан французского миноносца, когда принимал их на борт в Новороссийске – оборванных, измученных, едва спасшихся от смерти в холодной мартовской воде. Полковник Горецкий купил их жизни за ящик замечательного Абрау-Дюрсо.
– Сволочь французская, – вполголоса по-русски произнес Борис, глядя в глаза офицеру.
После этого он добавил несколько выражений, которым научился от казачков, которые в свою очередь подхватили их в России от революционных матросов. Ведь всем известно, что такой ругани, как у матросов, больше нигде не услышать.
Французы не поняли значения его слов, но интонацию и выражение лица оценили по достоинству. Толстый сверкнул глазами и, воинственно шевеля усами, стал было надвигаться, но Борис быстро отвернулся, подозвав знаком официанта. Он схватил со стола злополучный венок, смял его, вложив внутрь довольно внушительную пачку денег и сказал, протянув все это официанту:
– Передашь мадемуазель. Скажешь: в благодарность за песню. Понял: в благодарность за песню! И чтобы никаких намеков непристойных! Всякий тут будет европейскую женщину позорить…
Слова его были отлично слышны всем – и французам, и прохиндею-слуге, и даже, кажется, самой мадемуазель Анджеле. Борис швырнул на стол остатки денег, поклонился на прощание мадемуазель, щелкнув каблуками, и вышел из зала. Он был зол на себя за то, что не сумел выполнить порученное дело, зол на Горецкого за то, что тот заставил его заниматься таким вздором, зол на англичан за то, что жаждут бакинской нефти, зол на сволочей французов за то, что предали Русскую армию, а Колчака вообще сдали большевикам… Но больше всего он был зол на эту белобрысую дуру, которая бросила ему венок и поставила тем самым в неловкое положение.
«Нет, не гожусь я в коварные соблазнители!» – думал он.
Борис не заметил в запале, что обиженный слуга переговорил о чем-то с вертлявым французиком, который сопровождал толстяка, похожего на Тартарена из Тараскона. Французы были разгорячены вином, а поведение Бориса очень их разозлило. Официанту же мало досталось на чай, да и вообще он по природе своей был негодяем.
Борис вышел из дверей и, оставив за собой освещенное кабаре, быстро пошел по улице. Ему хотелось пройти пешком, чтобы движением разогнать накопившиеся эмоции. Он обогнул здание, в переулке было темновато и пустынно. И тут вдруг откуда-то из темноты выскочил оборванный нищий и быстро-быстро забормотал что-то по-турецки, протягивая к Борису руки.
Три года, три долгих года длилась в России Гражданская война. Из этих трех лет полтора Борис пробыл на фронте, а полтора – колесил по России, спасаясь от красных, махновцев и разных прочих лихих людей. За три года у него выработалась отличная реакция на опасность. Вот и сейчас за долю секунды он сообразил, что нищий пристал к нему неспроста. И когда слева во мраке мелькнула смутная тень и раздался еле слышный шорох, Борис уже схватил нищего за плечи и швырнул его с размаху в ту сторону, откуда раздавались подозрительные звуки.
Послышался не то вздох, не то всхлип, Борис вгляделся в темноту и различил там две фигуры. Одна отбросила от себя неподвижное тело нищего. Тот упал вперед лицом, из спины у него торчала рукоятка ножа. Удар несомненно предназначался Борису. Человек, стоящий в тени дома, просто не ожидал такой быстрой реакции Бориса и не успел отвести руку. Нож поразил его сообщника. Оставшись безоружным, убийца отступил в темноту в замешательстве, но Борис в два прыжка настиг его и угостил таким ударом в челюсть, что у того клацнули зубы и он свалился на землю как подкошенный.
– Вот, значит, как здесь встречают, – пробормотал Борис. – Добро пожаловать в Константинополь!
Со стороны освещенной улицы послышался окрик полицейского, затем топот ног подбегающего человека. Борис в панике огляделся. Быть схваченным на месте преступления прямо над свежим трупом не входило в его планы. Разумеется, полковник Горецкий вызволит его со временем, но потратит на это много английских денег, потому что турецкие полицейские, возможно, и обладают какими-то достоинствами, но неподкупность в их перечень не входит. Английских денег Борису было не жаль, но тратить время на разбирательства с полицией тоже не хотелось.
Борис сделал несколько шагов, собираясь дать деру, но тут, как по волшебству, в стене отворилась маленькая дверь, и там показалась закутанная до глаз женская фигура. Женщина схватила Бориса за руку и втащила внутрь, бесшумно притворив дверь и повернув ключ в замке. Борис невольно усмехнулся. Все это уже было когда-то – женщина спасала его от рук бандитов. Он откинул край покрывала, ожидая увидеть голубые глаза и белокурые локоны Анджелы, но с удивлением обнаружил, что перед ним стоит немолодая женщина мусульманского вида. Она без улыбки и не издав ни звука указала рукой направление и пошла вперед. Борис со вздохом последовал за ней, выбора у него не было. Шли они недолго – только выбрались из маленького темного коридорчика в более просторный и освещенный. Турчанка открыла ключом дверь и впустила Бориса в небольшую комнатку. Там помещались только шкаф с зеркальными дверцами, кушетка, заваленная ворохом одежды, и туалетный столик с небольшим зеркалом, перед которым были выставлены бесчисленные баночки с кремами, румянами и белилами. В углу стояла раскрытая ширма китайского шелка. Ширма была старая, шелк выцвел, но нарисованные птицы глядели на Бориса почти живыми бусинками глаз. Он понял, что оказался в уборной Анджелы, и что сама хозяйка еще выступает в зале. В комнате была еще одна дверь, которая, надо полагать, вела в зал к публике, а этой, через которую только что прошел Борис, Анджела пользовалась, когда ей нужно было ускользнуть от назойливого внимания мужчин.
Турчанка кивнула Борису на кушетку и скрылась за ширмой. Борис присел, сдвинув в сторону розовый атласный халатик, отороченный перьями. В комнате было душно и приторно пахло духами и всевозможными притираниями.
Из зала послышался гул аплодисментов, крики «Браво!», а также те странные звуки, которые издавали турецкие и албанские офицеры, выражая свое восхищение. Крики приближались, совсем близко от двери слышался смех и топот ног. Голос Анджелы терялся в этом шуме.
Борис вскочил с кушетки и нырнул за ширму. Старуха невозмутимо рылась в каких-то сундуках и не обратила на Бориса никакого внимания. Послышался стук распахнувшейся двери, Борис приник к щелке в ширме и увидел следующую картину. Следом за Анджелой в комнату ворвался тот самый толстый усатый француз. Дверь захлопнулась, оставив в коридоре остальных преследователей. Офицер устремился к Анджеле, говоря, что она его очаровала и он совершенно потерял голову, иначе никогда не позволил бы себе ворваться к ней без приглашения. В его словах была доля правды. Анджела не выглядела растерянной, очевидно, подобные сцены в этом кабаре происходили довольно часто.
– Господин офицер, – строго произнесла она, отходя от своего назойливого поклонника подальше, – я очень рада, что вам понравилось мое пение, но сейчас позвольте мне остаться одной – мне нужно переодеться.
Толстяк рухнул на колени и пополз к ней, протягивая золотую безделушку – не то браслет, не то кулон – Борису было плохо видно из-за ширмы. Анджела начала проявлять признаки беспокойства. Толстяк обнял ее колени, она оглянулась беспомощно в сторону ширмы, и тогда Борис решил вмешаться.
Он выскочил на середину комнаты и одним движением отбросил толстяка на кушетку. Это было нелегко в буквальном смысле слова – толстяк весил верных восемь пудов. Борис крякнул, но все-таки выполнил необходимый маневр. От неожиданности француз не сопротивлялся.
– Позвольте спросить, – холодно начал Борис по-французски, – что вы делаете здесь, в комнате дамы?
Он отводил глаза и хмурил брови, потому что никак не мог принять происшедшее – уж больно опереточным духом веяло от событий, так и хотелось дать толстяку пинка в зад. И тем не менее нож, который предназначался Борису, был вовсе не бутафорским, поэтому следовало настроиться на серьезный лад. Офицер встал, выкатил глаза и рявкнул, шевеля усами, как таракан:
– Ах, этот несносный русский! Как же вы мне надоели еще в зале!
– Чем подсылать убийц из-за угла, – процедил Борис, – не угодно ли встретиться со мной в открытую? Я русский офицер и привык драться честно.
– Что? – завопил француз. – Вы смеете говорить такое Гастону Леру? Да знаете ли вы, что я воевал при Сомме?
– Господа, господа! – пыталась вмешаться Анджела.
В дверь стучали, но Борис с французом не обращали на это никакого внимания.
– Вы обратились ко мне с гнусным предложением – купить то, что мадемуазель подарила мне от всей души. И когда я не согласился, вы оскорбили меня и подослали двух мерзавцев с ножом.
– Я подослал убийц? – кипятился француз. – Да за кого вы меня принимаете? Даю вам честное слово французского офицера, что не имею к этому никакого отношения… Кстати, куда же делись эти так называемые убийцы? – ехидно осведомился Гастон Леру.
– Я ведь говорил, что умею драться, – напомнил Борис.
– Господин Леру, у меня есть свидетель нападения на этого мосье, – звонко произнесла Анджела. – Это моя служанка.
– Говорю вам, я ничего не знаю! – раздраженно крикнул толстяк. – Хотя, возможно, Фракен… Мы были пьяны… Так или иначе, прошу простить мадемуазель за скандал, – он поклонился Анджеле и вопросительно взглянул на Бориса.
– Думаю, инцидент исчерпан, – поспешно ответил тот и добавил по-русски: – Шел бы ты отсюда поскорее.
Француз вышел, раздраженно качая головой и бормоча что-то под нос. Анджела отвернулась к зеркалу на туалетном столике и взяла в руки щетку. Борис опять присел на кушетку и кашлянул, нарушив затянувшееся молчание.
– И часто вам приходится принимать таких нежелательных визитеров? – в голосе его прозвучало недовольство.
– Я привыкла, – ответила она, не оборачиваясь.
– Вам нравится такая жизнь? – не унимался Борис.
– Французский пьяница ничем не хуже английского проходимца или турецкой свиньи, – раздался ответ.
– А как вы квалифицируете русских?
– Никак, – она повернулась и посмотрела Борису в глаза, – русские нечасто приходят в кабаре, им не до этого…
– Вы правы. – Борис придвинулся на кушетке поближе к столику.
– Но вы не похожи на русского, – поспешно добавила Анджела, – иначе я…
– Иначе вы бы не бросили мне венок…
– Мне не следовало этого делать, – Анджела покаянно наклонила голову, – я втянула вас в крупные неприятности. Этот слуга… Фарида мне давно говорила, что он негодяй. Я скажу хозяину, чтобы его выгнали.
– Я сам во многом виноват. – Борис взял девушку за руку и посмотрел прямо ей в глаза.
Она расчесала волосы, теперь кудри куда-то исчезли, и волосы лежали мягкой волной. Выглядела она очень мило – такая хорошенькая блондиночка с чуть вздернутым носиком.
– Вы спасли мне жизнь, – произнести это Борису не составило труда, хоть и была в его словах доля неправды. И совсем уже нетрудно было сжать в своих руках тонкие пальчики и поцеловать их. Анджела вздохнула и погладила его по голове, и это тоже было приятно.
– Сейчас вы должны идти, – проговорила она. – Не нужно, чтобы вас здесь застала полиция. Если хотите, мы увидимся завтра.
– Разумеется, хочу! – вскричал Борис.
– Тогда поедем завтра кататься по бульвару.
– С удовольствием! – Борис уже без принуждения расцеловал Анджелу в обе щеки и удалился, чтобы добраться без приключений до квартиры Горецкого на улице Вестринжер или как там она называлась.
Аркадий Петрович, как и было у них условлено, не ложился, хоть на дворе была глубокая ночь. Слушая подробный рассказ Бориса, он неодобрительно покачивал головой, так что Борису в конце концов это надоело.
– Должен вам заметить, Борис Андреевич, – скрипучим голосом начал Горецкий, – что вы очень неосторожны. Дело могло кончится плохо.
– Сам знаю! – невежливо заметил Борис. – Ну и порядки в этом городе!
– Нельзя пренебрегать мелкими, ничего не значащими людьми, – продолжал Горецкий, – такими, как тот официант. Вы его обидели, и он отомстил, наняв своих знакомых, чтобы вас убить. Восточные люди горячи и скоры на расправу, а человеческая жизнь в Константинополе ценится не больше, чем в России.
«До чего же надоели его поучения!» – в сердцах подумал Борис, но сдержался и вслух ничего не сказал.
– Однако с девушкой вы повели себя правильно, – продолжал Аркадий Петрович, делая вид, что не замечает, как Борис поморщился, – с этими певичками, артистками и прочими дамами такого сорта следует обращаться учтиво и приветливо, выказывая им всяческое уважение. Это производит на них выгодное впечатление. Напротив, с дамами из высшего общества позволительна иногда некоторая грубость в обращении, по контрасту это тоже может произвести на них впечатление и выделить вас из ряда других мужчин…
У Бориса лопнуло терпение.
– Вот слушаю я вас, Аркадий Петрович, и удивляюсь, – начал он с сарказмом в голосе. – Все-то вы знаете, из любой области! Даже так называемый женский вопрос, как выражаются теперь в России, у вас отлично проработан… Ну так и…
– Все, хватит, – рассмеялся Горецкий. – Я ведь, голубчик, теоретик, люблю изучать человеческую природу, и женскую, в частности. Но с женщинами ведь никогда ни в чем нельзя быть уверенным, они существа непредсказуемые. Все мои теории не стоят одного вашего взгляда. Так уж устроен мир. Не сердитесь за поучения, голубчик, это из прежней жизни осталось, когда я еще профессором в университете был. Думаю, что с девушкой все у вас будет в порядке, она заинтересовалась. Держите ее в строгости, но старайтесь не перегнуть палку. А сейчас оставайтесь ночевать у меня – поздно уже. Но завтра снимете номер в хорошем отеле – положение обязывает…
Глава седьмая
Ты – в вытертой кобуре,
Я – в старой солдатской шинели…
Нас подняли на заре,
Лишь просеки засинели.
А. НесмеловТолстый турецкий полицейский, зябко потирая руки, вперевалку прохаживался по улице. Он прохаживался здесь не просто так: он соединял приятное с полезным. Полезным было то, что он, собственно, находился на службе и выполнял свои полицейские обязанности. Приятным – то, что за выполнение своих прямых обязанностей он получал от перепуганного русского господина очень дополнительные и очень неплохие деньги. Перепуганный русский господин жил в одноэтажном розовом домике на углу и очень боялся, что его ограбят. Звали его господин Иванов, он был когда-то дивизионным казначеем и у него действительно были причины бояться. Господин Иванов нанимал для охраны четверых степенных казаков, которые по очереди несли караул в одноэтажном розовом домике, и кроме того приплачивал некоторые суммы турецким полицейским за то, что они дежурили в непосредственной близости к домику, а также за то, что делали они это с особенной бдительностью. Господин Иванов здраво рассудил, что хотя турецкие полицейские уступают казакам в ловкости и физической подготовке, но являются лицами официальными и поэтому могут вызвать большее уважение у возможных злоумышленников.
Неожиданно к толстому полицейскому подбежал запыхавшийся мальчишка и закричал:
– Господин постовой! Там богатого эфенди грабят! Скорее, скорее!
Услышав, что на его участке грабят богатого эфенди, полицейский забеспокоился. Богатый эфенди – это не какая-нибудь эмигрантская шантрапа, богатых эфенди нельзя грабить безнаказанно. Ничего не случится с трусливым русским, пока полицейский разберется с этим эфенди… Переваливаясь, как жирный селезень, полицейский поспешил за юрким мальчишкой. Мальчишка вел его, петляя между уличными лотками и разносчиками мелкого товара. Они ушли довольно далеко от одноэтажного розового домика, и полицейский рассердился. Он хотел остановить мальчишку и призвать его к ответу – где же он наконец, этот пострадавший эфенди? – но шпаненок неожиданно исчез, как будто его и не бывало. Толстый полицейский повертел головой, потоптался на месте, выругался, вкрапив в свою турецкую речь парочку недавно усвоенных русских выражений, и потащился обратно. Скверный мальчишка увел его очень далеко от розового домика, и по дороге полицейскому пришлось даже отдохнуть в одной маленькой кофейне… ну буквально пару минут.
Как только толстяк покинул свой пост, из-за угла выскользнули два очень подозрительных субъекта. Один из них был одноглазым. Смуглое хищное лицо, жесткие щетинистые усы и черная повязка на глазу делали его похожим на опереточного пирата, однако упругие экономные движения выдавали в нем человека по-настоящему опасного. Второй сильно хромал, был белобрыс и веснушчат, но холодный взгляд его блекло-голубых глаз невольно заставлял вздрогнуть любого.
Подойдя к розовому домику, подозрительные субъекты прижались к стене по обе стороны от двери. Затем одноглазый постучал. За дверью послышался скрип отодвигаемого стула, и грубый прокуренный голос осведомился:
– Кого там нелегкая принесла?
Хромой блондин откашлялся и разразился длинной неразборчивой тирадой на скверном турецком языке. Голос его был неожиданно, почти по-женски, высок, а интонация – одновременно требовательна и тороплива.
Казак за дверью чертыхнулся и пробурчал:
– Вот ведь нехристи, слова по-человечески не скажут…
Звякнула накидываемая дверная цепь – толщиной чуть ли не с якорную, – и дверь приотворилась на вершок.
– Ну, чего надо? – В узкой щели показалось недовольное лицо рослого немолодого казака.
– Крема-лимонада, – ответил в рифму хромой блондин, одновременно с коротким свистящим выдохом выбросив вперед правую руку с зажатым в ней прямым австрийским штыком.
Тускло блеснувшее лезвие глубоко вонзилось в глаз казаку и, с хрустом проломив кость, вышло из затылка. Казак, удивленно крякнув, дернулся, как наколотый на булавку жук, и обмяк. Белобрысый выдернул штык и отступил в сторону. Его одноглазый напарник вытащил из мешка большой тяжелый инструмент, отдаленно напоминающий садовые ножницы, и одним ловким движением перекусил дверную цепь. Оба злоумышленника шмыгнули в домик.
– Кто там, Кузьмич? – послышался в коридоре голос второго казака.
Секундой позже, видимо, почуяв неладное, он выглянул в прихожую, на ходу передергивая затвор винтовки. Хромой, пригнувшись и прыгнув навстречу казаку, бросил в лицо ему заранее припасенную в руке горсть махорки. Казак невольно отшатнулся, схватившись за лицо и закашлявшись. Тем временем хромой убийца уже преодолел разделявшее их расстояние и с тем же свистящим выдохом всадил штык в горло казаку. Тот выронил винтовку, захрипел и, обливаясь кровью, тяжело рухнул на пол в лужу собственной крови.
– Вот те нате, хрен в томате! – удовлетворенно проговорил убийца и, оттолкнув труп ногой, пошел в глубину домика.
Одноглазый шагал следом.
Господин Иванов, бывший полковник Русской армии, бывший дивизионный казначей, сидел в самой дальней и самой маленькой комнатке своего дома и боялся. Он боялся всего и всегда. В детстве он боялся папеньки, потом – гимназического учителя, а еще больше – инспектора. Потом, когда по прихоти родителей и по семейной традиции ему пришлось поступить в Павловское пехотное училище, он боялся всех, начиная со своих товарищей и отделенного Прохорчука и заканчивая начальником училища генералом Свиристовским.
Однако, несмотря на эту постоянную боязнь, Иванов закончил училище, а папенькины связи помогли понемногу продвигаться по служебной лестнице. Поскольку неприятеля (любого, даже гипотетического) Иванов боялся еще больше, чем коллег и начальников, он пошел по самой безопасной финансовой части и вполне успешно служил в военном казначействе.
Германскую войну он благополучно пересидел в тылу за оформлением различных весьма важных бумаг и к семнадцатому году дослужился до полковника… И тут-то случились одна за другой две революции – одна другой страшнее.
Полковник Иванов понял, что все его прежние страхи были только предвкушением, предзнаменованием настоящего, стопроцентного, стопудового страха, который накатил на него в ужасном восемнадцатом году. Полковник боялся большевиков и эсеров, он боялся ужасных небритых солдат-дезертиров и громадных матросов, перепоясанных пулеметными лентами и исписанных татуировками, как забор на базарной площади в Новоржеве. Кроме того, он боялся обыкновенных бытовых бандитов (это его коллега по казначейству, полковник Зайончковский, ввел деление бандитов на бытовых и политических). А также, поскольку пользуясь всеобщей неразберихой полковник Иванов успел кое-что подворовать в родном казначействе, – он боялся разоблачения. Хотя этого он боялся зря. Армия развалилась окончательно и бесповоротно, воровали все, кто еще мог, и все, что еще не было украдено.
Как и многих других, волна страха забросила полковника Иванова на юг России. Оказалось, что здесь еще страшнее, чем в столицах: приходилось бояться красных и зеленых, петлюровцев и махновцев… Банд здесь было просто неисчислимое множество, жители любой деревни могли сколотить банду и грабить всех, кто только подворачивался – поезда на железной дороге, соляные обозы, двигавшиеся в Крым или из Крыма, обычные продовольственные обозы, отдельных незадачливых мешочников и целые артели, случайно уцелевшие помещичьи усадьбы и соседние деревни, – если те еще не успели создать свою собственную банду и напасть первыми… И все это скопление бандитов и головорезов только о том и мечтало, чтобы ограбить и убить несчастного полковника Иванова!
В сложившихся обстоятельствах полковник рассудил, что безопаснее всего будет находиться в привычной армейской среде, и вступил в Добровольческую армию, благо там тоже была финансовая часть.
Служба полковника Иванова проходила, как обычно, в мелких страхах и мелком воровстве, подальше от передовой и поближе к дивизионной кассе. Полковник со сдержанным оптимизмом воспринял осеннее наступление девятнадцатого года и с таким же сдержанным пессимизмом – зимнее отступление. Эвакуация из Новороссийска заставила его поволноваться, но он заблаговременно нашел нужного человека на пароходе и попал в Керчь одним из первых. Крымская спекулятивная лихорадка весны двадцатого вызвала у него сдержанный интерес, он кое-что заработал, но когда Слащов и Кутепов жестко приструнили спекуляцию, был к этому готов и вовремя «вышел из игры» с маленьким саквояжем ценных безделушек. Он давно уже чувствовал, что белая карта бита, и подумывал перебраться при случае в Константинополь. В это время он познакомился и близко сошелся с очень милым молодым человеком, который служил вторым помощником на пароходе «Алеша Попович». И вот при окончательной эвакуации Русской армии из Крыма Иванов не устоял перед искушением.
Накануне посадки на корабли начальник дивизии генерал-майор Атоев, опасаясь обычной в момент эвакуации неразберихи под расписку принял у Иванова дивизионную кассу. Закончив формальности, полковник вышел в соседнюю комнату и вдруг услышал взрыв. Вбежав в помещение, где оставались генерал с адъютантом, он увидел, что оба убиты случайно залетевшим в окно снарядом красных. Кофр с уложенной в него кассой стоял на полу, свидетелей не было, в документах стояла подпись генерала, удостоверяющая, что полковник Иванов кассу сдал.
Полковник огляделся, схватил кофр, зашел к себе на квартиру за своим маленьким саквояжем и поспешил в порт на «Поповича».
Дивизионная касса была в свое время обращена предусмотрительным полковником в золотые царские монеты, поэтому обесценивания денег он не боялся. Зато грабителей Иванов боялся теперь больше, чем когда бы то ни было.
Приехав в Константинополь, Иванов нашел одного очень бескорыстного человека, который за скромное вознаграждение взялся устроить переезд в Париж, а пока суд да дело, бывший полковник снял розовый домик и нанял казаков…
И вот сейчас он сидел в дальней комнатке и прислушивался к страшным звукам, доносившимся из прихожей. Сначала там были слышны голоса казаков, скрип двери, затем все стихло. Иванов дрожащими руками вытащил из ящика комода наган, проверил патроны. Затем тихим от страха голосом окликнул своих бравых охранников. Никто не отозвался. Бывший полковник забился в угол, заслонившись большим резным креслом, и направил на дверь пляшущий ствол нагана. Ничего не происходило, в розовом домике царила мертвая тишина, и это было особенно страшно. Сердце Иванова билось где-то в горле и, казалось, готово было выскочить от страха. Где-то рядом скрипнула половица, и снова все стихло. Дольше терпеть неизвестность было невозможно. Иванов отодвинул кресло, крадучись пересек комнату и приотворил дверь.
И сразу за дверью на него уставились холодные блекло-голубые глаза.
– Здравствуй, гад мордастый! – с плотоядной улыбкой проговорил светловолосый веснушчатый человек, и бывший полковник Иванов окончательно и бесповоротно понял, что до сегодняшнего вечера ему не дожить.
Веснушчатый спокойно, двумя пальцами, взял из трясущейся руки Иванова пляшущий наган, убрал его в карман своего английского френча и, втолкнув хозяина обратно в комнату, вошел, хромая, следом. Вслед за первым грабителем появился второй – смуглый, одноглазый, с кошачьими усами, но он не показался Иванову таким страшным, как белобрысый. Не потому, что этот одноглазый пират не был страшен сам по себе – просто в сравнении с голубоглазым убийцей кто угодно показался бы ягненком.
– Кто… кто вы такие? – спросил Иванов дрожащим голосом, просто для того, чтобы нарушить страшную тишину.
– Черти морские! – ответил хромой, по обыкновению, в рифму. – Ты не бойся, не дрожи, сразу деньги покажи.
– Ка… какие деньги? У меня нет никаких денег! – Жадность неожиданно взыграла в душе у Иванова, на время пересилив даже постоянный страх.
– Вы отлично знаете, какие деньги, – брезгливым тоном вступил в разговор одноглазый. – Украденную вами дивизионную кассу, господин полковник… Впрочем, какой вы полковник!
– Я ничего не знаю, – чуть слышно прошептал Иванов, – ничего не знаю ни о какой кассе…
– Ничего не знает, рупь на труп меняет, – зловеще проговорил хромой, протягивая руки к дрожащему полковнику.
– Это вы зря, господин Иванов, – усмехнулся одноглазый, – штабс-капитан может вас неправильно понять, – он покосился на своего хромого напарника, – он может вообразить, что вы не хотите отдавать деньги… а тогда он рассердится. Штабс-капитан – очень нервный человек. И его можно понять: шесть тяжелых ран, две контузии… побег из красного плена… это кого угодно сделает нервным. А тут, понимаете ли, чужая земля, заграница, и русские офицеры совершенно никому не нужны… В том числе, своим же русским генералам… и полковникам. А некоторые – пересидели две войны в казначействе, а потом сбежали с дивизионной кассой… – голос одноглазого стал совершенно елейным, а в глазах загорелся нехороший огонек, – с дивизионной кассой… Тут поневоле станешь нервным.
– Так вы офицеры! – с фальшивой радостью воскликнул Иванов. – Как я рад, господа! Я сейчас распоряжусь, чтобы вас… угостили… – с этими словами он осторожно двинулся к двери, но голубоглазый убийца с нехорошей усмешкой заступил ему дорогу, проговорив:
– Усадить да угостить, Никанором окрестить! Ты куда ж это собрался, мил человек?
– И деньгами… помогу деньгами, в меру своих возможностей… А насчет дивизионной кассы – это вы зря, это вас ввели в заблуждение… У меня и расписка имеется, что я кассу передал генералу Атоеву… я передал, а генерал принял…
– Ага, – ласково поддакнул одноглазый, – принял… на том свете… – и тут же, схватив Иванова за грудки, рявкнул: – Подтереться можешь своей распиской, гнида тыловая! Боевые офицеры с голоду дохнут, а ты сидишь тут на деньгах! А ну, шкура, быстро показывай, где деньги спрятал!
А сбоку выдвинулся хромой, уставился на Иванова блеклыми пустыми глазами и проскрипел:
– Хватит нам с тобой скучать, надо дяденьку кончать.
– Видите, господин Иванов, – снова ласково заговорил одноглазый, – штабс-капитан начинает нервничать. Так что вы уж будьте любезны, не сердите его, покажите, где деньги.
Иванов затравленно огляделся и понял, что помощи ждать неоткуда и надеяться не на что. Он отошел в угол комнаты, оглядываясь непонятно зачем на своих страшных гостей, подцепил вторую с краю половицу и потянул на себя. В полу открылся тайник – емкость вроде глубокого ящика, в котором уютно покоился плотный кожаный кофр, а рядом с ним – маленький саквояж с прежними накоплениями. Иванов тяжело вздохнул, расстегнул кофр… Тускло заблестело тяжелое николаевское золото. Грабители придвинулись ближе, наклонились, заглядевшись. Иванову пришла в голову неожиданная мысль. Он открыл застежки саквояжа, распахнул его. В глаза полыхнуло жарким сверканием драгоценностей. Грабители склонились ниже. Блеск притягивал, опьянял, завораживал… Иванов, стараясь не дышать, на четвереньках отполз от тайника, подкрался к двери, скользнул за порог, на цыпочках перебежал две пустые комнаты, выбежал в прихожую… Вот она, спасительная дверь, выход из дома, еще несколько шагов – и он спасен! Не будут же эти ужасные люди убивать его на улице. Там должен дежурить турецкий городовой, этот, как его зовут… Ахмет, он спасет, полковник платит ему большие деньги за бдительность.
Иванов бросился к двери, но споткнулся обо что-то, зацепился ногой и упал. Он оглянулся – что это такое? Холодное, отвратительное… Казак Нечипоренко, широкоплечий рябой детина, лежал на полу с перерезанным горлом, весь залитый кровью, и смотрел на полковника равнодушными мертвыми глазами. Это об него споткнулся Иванов, на него упал, измазавшись густеющей темной кровью. Вместо того, чтобы помочь полковнику, защитить его от лихих людей, казак остановил его на пути к спасению… Иванов на дрожащих от ужаса ногах поднялся, шагнул к порогу, не в силах отвести взгляда от мертвых глаз казака.
А в дверях уже показался хромой убийца.
– Куда ж ты, соколик? – проговорил он тихим скрипучим голосом и неожиданно одним огромным шагом преодолел разделяющее их расстояние.
Иванов перевел взгляд с мертвых карих глаз Нечипоренко на такие же мертвые голубые глаза убийцы, трудно было решить, какие из них страшнее. Хромой с нечеловеческой силой взмахнул штыком, проткнул им бывшего полковника насквозь и пригвоздил к стене. Иванов засучил ногами, изо рта у него потекла струйка крови. Он все еще был жив, когда убийцы выносили из домика кофр с ворованной кассой и саквояж с драгоценностями, которые тоже были по сути дела ворованными, хотя Иванов привык считать их уже собственным честно нажитым имуществом.
Выходя, одноглазый пират оглянулся на бывшего полковника и вполголоса, как бы размышляя вслух, проговорил:
– Добить, что ли? А, черт с ним, сам помрет! – и хлопнул на прощание дверью.
В глазах у Иванова начало смеркаться. Ему привиделось почему-то, что он – опять ученик третьего класса гимназии и не выучил латинского урока. Строгий учитель оглядывает класс, думая, кого бы вызвать к доске. Его взгляд перемещается по рядам, неумолимо приближаясь… И вот наконец он остановился на маленьком Николаше, и гулкий повелительный голос произнес:
– Иванов!
И все кончилось.
Борис лежал на широкой кровати в номере шикарного отеля, который он снял три дня назад по приказу Горецкого, и блаженствовал. К его плечу прижалось нежное плечо Анджелы. Не открывая глаз, Борис протянул руку и погладил шелковистую кожу. Анджела проворковала что-то по-итальянски.
Их роман развивался бурно и стремительно. Борис был щедр на подарки и обеды в дорогих ресторанах, обращался с Анджелой почтительно и не требовал немедленной близости. Ему казалось, что он действительно понравился ангелоподобной мадемуазель. Она всегда так трогательно смущалась, когда он дарил ей очередную драгоценную безделушку, даже отказывалась, говорила, что ей ничего не нужно, достаточно только его, Бориса, внимания и нежности.
К исходу четвертого дня их знакомства Борис полностью уверился, что Анджела не на шутку им увлеклась, и даже начал испытывать по этому поводу чувство вины, а также сердился на Горецкого за то, что тот хотел сделать Анджелу пешкой в своей хитрой игре. Но Горецкий требовал ежедневных подробных отчетов и вчера вечером велел Борису изложить Анджеле как бы случайно некоторые сведения из его легенды. Легенду они разработали такую.
– Вы, Борис Андреевич, являетесь дальним родственником известного азербайджанского нефтепромышленника Бари Гаджиева, умершего в Баку от лихорадки в одна тысяча девятьсот восемнадцатом году.
– Вот те раз! – удивился Борис. – Да я и не похож совсем!
– А вам и не надо быть на него похожим, – невозмутимо ответил Горецкий. – Вы – двоюродный племянник его жены, на которой он женился накануне революции. Кстати, у Бари Гаджиева действительно была русская жена. И вот вы постараетесь убедить некоторых лиц в том, что покойный Гаджиев так любил свою последнюю русскую жену, что оставил ей если не все свои деньги, то большую часть. А также нефтепромыслы. А поскольку тетушка ваша, Анна Николаевна, тоже скончалась весной двадцатого года и была бездетна, то она и оставила своему двоюродному племяннику солидный куш.
– Чушь какая! – абсолютно искренне высказался Борис. – Кто в такое поверит?
– А нам с вами и не нужно, чтобы поверили, – терпеливо объяснил Аркадий Петрович. – Нам нужно, чтобы засомневались. Дело в том, Борис Андреевич, что здесь, в Константинополе, да и раньше в России, за эти годы всплыло на поверхность столько человеческой накипи – жуликов, спекулянтов, мошенников всех мастей, что сама по себе ваша история никого не удивит. Люди еще и не такое выдумывают.
Но вы, голубчик, отличаетесь от людишек этого сорта. Вы – бывший офицер, хорошо и со вкусом одеты, живете на широкую ногу, но не устраиваете непристойных кутежей. Вместе с тем вы никому не известны, никто не знает, откуда вы взялись…
– Прибыл из России.
– Именно, но что вы там делали? Ясно одно: на данный момент у вас есть деньги. Так что вполне возможно, что тетушка и оставила вам право владения двумя нефтяными скважинами на Каспийском море.
– О Господи! – простонал Борис. – Аркадий Петрович, дорогой, да я же только что из России. И вы сами не далее, как два дня назад прочли мне длинную лекцию о том, что большевики победили по всей стране, что в Армении и Азербайджане власть перешла к Советам, и что падение меньшевистского правительства в Грузии – это вопрос нескольких недель! А большевики национализируют все нефтепромыслы, так что мое наследство – фикция!
– Все верно, голубчик, я от своих слов не отказываюсь. Но, как я уже говорил, нефтепровод Баку-Батум функционирует и будет функционировать, покуда порт в Батуме свободный. А у покойного Гаджиева был в Батуме свой собственный нефтеперегонный завод. И поскольку ситуация с батумской частью Аджарии далеко не ясна – вполне возможно, что турки заявят на нее свои права, – ваш завод имеет огромную ценность. И даже нефтепромыслы в Баку могут в глазах многих людей представлять большую ценность. Никто не знает, как долго продержатся в Закавказье большевики. А с их падением нефтепромыслы снова станут вашими. И вы становитесь для заинтересованных людей очень нужным человеком.
Горецкий посмотрел на ошалевшего Бориса и рассмеялся.
– Не беспокойтесь, голубчик, до нефтеперегонного завода дело не дойдет. Перед нами стоит одна локальная задача: выяснить, на какую могущественную державу работает прекрасная Гюзель. Она заинтересуется вами, как только узнает, что вы имеете отношение к нефти. Что же касается подтверждения того, что вы – наследник Гаджиева, то мы с мистером Солсбери в самом ближайшем будущем предпримем некоторые меры…
И вот сегодня утром на прогулке Борис вроде бы случайно упомянул в разговоре о своем нефтяном наследстве. Анджела куталась в манто – на улице было прохладно. Дул резкий ветер с моря, и ничего не было странного в том, что девушка попросила Бориса отвезти ее в кабаре – нужно, мол, репетировать новый номер. Борис непритворно огорчился, на что Анджела ответила, что сегодня вечером она не выступает, так что они смогут пообедать попозже, а потом…
При слове «потом» она так многообещающе улыбнулась, что у Бориса сердце вспорхнуло малиновкой. Он склонился к руке мадемуазель, чтобы скрыть довольный блеск в глазах.
Они пообедали в ресторане отеля. Более внимательный наблюдатель определил бы, что сегодня вечером Анджела выглядит задумчивой и только старается казаться веселой и беззаботной, но Борису в данный момент было не до таких тонкостей. Перед ним сидела хорошенькая молодая женщина, которая улыбалась и всячески давала понять, что он ей небезразличен. Чего еще можно было желать молодому здоровому мужчине, который больше полугода вообще не видел рядом с собой женщин?
В номере отеля у Бориса из головы вылетели англичане, нефть, полковник Горецкий… И теперь он лежал в блаженной истоме, сознавая, что вполне счастлив. Он уже погружался в сладкую дрему, и побежали перед глазами, как бывает перед спокойным сном, какие-то дома, замки, озера и сады, как вдруг Анджела спросила его полушепотом:
– Ты спишь, дорогой?
Как ни был Борис умиротворен, что-то в ее голосе его насторожило. Голос был слишком серьезный, в нем явственно слышалось напряжение. Борис не отозвался, только поворочался немного, якобы во сне. Анджела поцеловала его в лоб. Борис постарался дышать максимально ровно. Легкие движения рядом подсказали ему, что Анджела осторожно встала с кровати. Босые ноги неслышно ступали по ворсистому ковру, но вот слегка скрипнул стул, после чего Анджела испуганно затихла. Едва слышно звякнули пуговицы френча, который Борис бросил на кресло у окна.
Вот, значит, как. Стало быть, она роется в его карманах. И несомненно, она не собирается его обокрасть, ей нужно другое.
Борис сосредоточился на дыхании: что бы ни случилось, он должен дышать ровно, ведь он крепко спит. Анджела, надо думать, уже достала из кармана френча бумажник и теперь внимательно изучает его содержимое. Из документов там есть довоенный паспорт, а также та бумага, что выдали ему в штабе Русской армии уже здесь, в Константинополе. Есть и еще одна вещь – письмо, старое, истершееся на сгибах письмо якобы от его тетки Анны Николаевны Гаджиевой, присланное ею в Петроград в восемнадцатом году сразу после смерти ее мужа Бари Гаджиева. Письмо написано по-русски, так что вряд ли Анджела хорошо его поймет, но внизу есть несколько строк по-французски, и подпись очень разборчива. Письмо изготовил полковник Горецкий. Само по себе оно доказательством не является, но, как утверждал полковник, сможет кое-кого заинтересовать.
Но какова плутовка Анджела? Как невинно краснела, когда говорила, что не нужно подарков и что Борис не такой, как другие. А он-то, дурак, еще переживал, что девушку втягивают в сомнительную игру.
Борис отважился приоткрыть один глаз. Анджела увлеченно читала письмо. Он крепко зажмурился и забормотал что-то по-русски. Через секунду Анджела была уже возле него. Она обняла его за шею и повернула его голову так, чтобы он не заметил вывалившийся бумажник. Поцелуй был длинным и ошеломляющим. Последней мыслью Бориса было, что в нынешней его работе есть, несомненно, очень приятные стороны.
Глава восьмая
В ломбарде старого ростовщика,
Нажившего почет и миллионы,
Оповестили стуком молотка
Момент открытия аукциона.
Чего здесь нет? Чего рука нужды
Не собрала на этих полках пыльных,
От генеральской Анненской звезды
До риз с икон и крестиков крестильных.
А. НесмеловФома Степанович Сушкин всю жизнь страдал через свою доброту. Сколько раз, бывало, по своей доброте бесконечной давал деньги в долг под самые незначительные проценты… Конечно, закладец какой-то обязательно требовал, но ведь заклад – это такая штука… Его ведь еще продать нужно, а деньги – они деньги и есть… И никогда за это не видел никакой благодарности, да еще злые языки прозвали его «Фомой Неверующим».
Как-то дал взаймы вдове одной под залог кольца обручального – ребенку якобы на лечение, – да кто ж ее проверит, ребенку либо кому другому?.. Так ведь опоздала с возвратом, легкомысленная особа, он, конечно, колечко ей и не отдал. Такой порядок. Хорошее было колечко, бриллиант чистой воды. В ногах вдовица валялась, память, мол, о муже убитом. Но надо же и совесть знать. Долг, он ведь платежом красен, это всякому известно…
Потом, правда, дела плохо пошли. То тебе красные, то тебе зеленые – все норовят бедного старика ограбить, последнее отнять… Конечно, при белых поспокойнее стало, купил себе Фома Степанович в Ялте хорошее солидное дело. Так ведь не удержались белые, чтоб им ни дна ни покрышки! Еле успел бедный старик на пароход, почти ничего с собою не удалось увезти – только что бриллиантов сумочку да золотишка укладочку.
Здесь, в Константинополе, открыл дело – маленькую лавочку, кое-как перебивался с хлеба на квас… Тоже, конечно, и взаймы давал, если закладец хороший. Случалось покупал кое-что за полцены, но это уж как водится. Здесь только главное – в людях разбираться, а уж в этом-то Фома Степанович дока: человек еще в лавочку не вошел, а уж Фома Степанович знает: этому ни под какой залог давать нельзя, а этому – очень даже запросто, если, конечно, закладец стоящий.
Хорошие клиентки – дамочки, которые легкого поведения, певички всякие из кабаре, танцорки. Перехватит взаймы на несколько дней под какое-нибудь украшение, потом от полюбовника или другого кого денег получит и бежит, выкупает, на проценты не скупится…
Другой раз, бывает, офицер придет – лицо бледное, под глазами синяки, – сразу видно, кокаинчиком балуется или морфием. Занюханный уже… А кокаин-то дорог! Заложит портсигар золотой или перстень фамильный. Тут уж надо ухо востро держать: кокаинист – человек опасный. Зато если залог хороший оставит, почти наверняка за ним не придет: или сам застрелится, или его кто убьет.
А уж если приходят дамы из благородных, эмигрантки обнищавшие, тут дело можно сказать наивыгоднейшее. Принесет такая колечко, либо брошечку, а сама-то как тень, одни глаза на лице остались. И говорит тихо, все больше в пол смотрит. Сколько денег ни дай под залог – она всему рада, потому что голодная. С таким залогом Фома и срока не ждет, потому что точно знает – не придет дама выкупать, неоткуда ей денег взять, разве что совсем отчаится и на панель пойдет. Но эти-то, из благородных, не все на панель соглашаются, иная предпочтет с голоду умереть под забором где-нибудь.
Квартиру Фома снял хоть с виду и незаметную, но двери, да и замки в них крепкие поставил. Нанял в услужение турчанку Фатиму – совсем глухая старуха, но дело свое – убрать там, бельишко постирать, обед приготовить – справно. И двери открытыми никогда не оставит – понимает, что у хозяина дела деликатные, ценности в доме немалые, осторожным надобно быть.
Так, потихонечку, коммерция движется. Ему, Фоме-то, старичку богобоязненному, много и не надо. Ест он мало, одевается скромно, бедно даже. А денежки-то копятся, и уже скоро можно будет какое-нибудь дело открыть крупное…
Но вот с этим посетителем как-то непонятно вышло. Вроде бы приличный с виду господин – правда, из своих, из русских, а это уже хуже. Но с самого первоначала сердце у Фомы Степановича как-то нехорошо дернулось, что-то не то почувствовало… Однако господин показал в мешочке замшевом такое ожерелье хорошее, что Фома Степанович к сердцу своему не прислушался. Брильянтики так и засияли, так и засверкали, совсем Фому Степановича ослепили, совсем разума лишили. Нет бы поосторожнее, нет бы поберечься, а он поглупел, видно, на старости лет, сел за стоечку свою, принялся брильянтики разглядывать – лупу в глаз, пинцетик в руку… А брильянтики – прелесть, конфетка, чистая вода.
Фома Степанович ослеп, оглох, а как глаза-то поднял – господинчик подлый дверь уже изнутри запер и целится из нагана.
Фома Степанович человек тертый, опытный, у самого браунинг под прилавком, в России всему научишься. Но только он тихохонько за браунингом руку потянул, как стервец этот наганом своим повел, курком щелкнул, глаза поганые вылупил и рявкнул:
– Р-руки, старая сволочь!
Тут Фома Степанович по-настоящему испугался. Все ведь, стервец, отберет. Подчистую ограбит. А этот-то, басурман, к нему за стоечку зашел, руки связал, наган спрятал, к шее узкий нож приставил и начал, подлая его душа, вопросы всякие задавать… Фома Степанович очень удивился: думал, его грабить будут, а тут вопросы какие-то дурацкие… Ну Фома сразу ему все рассказал – черт его знает, зачем ему это надо, безбожнику, может, он из какой-нибудь контрразведки. Хотя сердце все так же нехорошо дергалось, и чувствовал Фома Степанович, что добром это не кончится, и что господинчик этот ни из какой не из контрразведки, и нож у него такой страшный был, пахло от господинчика этого самой настоящей смертью.
Все рассказал Фома, о чем его спрашивали, все как на духу. А безбожник глазищами своим глядит, как буравит, и говорит:
– Ну, кровосос старый, ничего не наврал? Ничего не утаил?
– Перекрестился бы, – Фома отвечает, – да руки связаны.
– Ну, это ладно, я тебе верю. Ты бы мне не стал врать. Не то чтобы я тебя в честности подозреваю, а просто бы побоялся. А что руки связаны – так это не бойся, руки я тебе развяжу.
И правда, разрезал ножом своим веревки… Фома только было руками пошевелил, чтобы кровь разогнать, а тут тот же нож прямо в затылок ему воткнулся…
Фома и подумать ничего не успел: был Фома Сушкин – и нет его, как будто и не было.
– Сегодня я видел одного типа три раза, – сообщил Борис.
– Вот как? – полковник Горецкий встревоженно поднял брови. – Что же это за тип, что он собой представляет?
– Такой… вертлявый господинчик. Одет вроде прилично, но по лицу – форменный жулик.
– А вы и лицо разглядели? – полюбопытствовал Горецкий.
– Лицо у него так себе, можно сказать, что дрянь лицо, и усики мерзейшие…
– Что – усики? Да говорите же, Борис Андреевич, это очень серьезно!
– Усики он то приклеит, то сорвет, и шляпы тоже меняет, – усмехнулся Борис. – Утром был в котелке, а потом надел такой… пирожок. Скоро до чалмы дойдет!
– Вы напрасно смеетесь! Где вы его видели?
– У отеля видел, потом вечером – когда Анджелу в «Грезу» провожал… Один Бог знает, как мне надоели ее песенки!
– Это ваше личное дело, – сухо заметил Горецкий, – служба есть служба, она никогда не бывает приятной.
– Ну… – замялся Борис, – я бы так не сказал. И еще я того типа заметил сегодня днем, когда хотел в госпиталь зайти, – Петра навестить да сестре немного денег передать.
– Надеюсь, в госпиталь вы после этого не пошли?
– Разумеется, не пошел, за кого вы меня принимаете, Аркадий Петрович, право слово! Чтоб я еще сестру родную подставлял под удар! Только Варвару так и не повидал, а она небось волнуется – куда это я подевался?
– К Варваре Андреевне я уже посылал Саенко.
Саенко был верным ординарцем полковника Горецкого, который последовал за ним в Константинополь. Он обладал удивительным качеством везде и в любой ситуации чувствовать себя как дома, быстро освоился за границей и легко договаривался о любом деле с турками, хотя языка не знал.
– А вы уверены, что этот подозрительный тип не проследил вас до моего дома?
– Я был осторожен, сумел уйти от него на Пери – там такое столпотворение, сами знаете.
– Гм, но все же, Борис Андреевич, надо нам с вами менять тактику. Слежка говорит о том, что вами заинтересовались. Ваша прелестная пассия несомненно рассказала о вас своей подруге. А то, что послали бездарного типа, так это, во-первых, с их стороны предварительная прикидка, а во-вторых, они же не знают, что вы выполняли многие мои поручения и научились определять слежку.
– И еще многому другому, необходимому в нашей с вами профессии, – вздохнул Борис.
– Все же, голубчик, нашим вечерним беседам пришел конец, – твердо проговорил полковник. – Как я ни стараюсь выглядеть незаметно, думаю, что компетентным людям известны мои связи с англичанами. Так что если нас с вами увидят вместе – вся операция полетит в тартарары.
– Значит, как раньше, в Феодосии – через Саенко?
– Нет, тут Саенко не подходит. Если вы сумеете заинтересовать соратников Гюзели по-настоящему, то слежку за вами будут вести профессионально, так что каждый ваш шаг будет на виду. Вы не должны до поры до времени вызывать у них ни малейших подозрений. Придется нам общаться при помощи почтового ящика. Каждый вечер вы будете составлять краткое донесение и оставлять его в ресторане у Луиджи – он предупрежден, так что всегда будет принимать у вас плату сам, таким образом вы сможете передать ему донесение незаметно.
– Да, но мои ежедневные посещения Луиджи тоже способны вызвать подозрения! Правда, я могу, конечно, послать коридорного или лакея, если хорошо заплатить ему…
– Боже вас упаси! – Горецкий даже вскочил с кресла, в котором сидел, рассеянно посасывая нераскуренную трубку. – Дело в том, что гостиничная и домашняя челядь кишит чернокожими различных национальностей. В основном это арабы – алжирцы, марокканцы, жители Египта, а также негры и метисы всех мастей. И все эти чернокожие только друг с другом по-настоящему откровенны и только своему брату расскажут всю правду. А белый человек должен сразу же отказаться от всякой попытки завоевать их доверие. Именно поэтому здесь я не могу использовать в полной мере способности и общительность Саенки. Вы же помните, как ловко ему удавалось получать информацию и вообще входить в доверие к простым людям там, в России? Здесь – не то, да и языка он не знает. Конечно, теперь, когда в Константинополь хлынул поток русских беженцев, возможно, и появится в отелях русская прислуга, но пока до этого далеко.
Помните, Борис Андреевич, что «золотой ключ», имеющий магическое действие повсюду, здесь, на Востоке, вовсе не обладает таким свойством. Иной пройдоха – коридорный, естественно мусульманин, и денежки у вас с удовольствием возьмет, а поручение не выполнит. А вам поклянется, что все сделал как надо. Это же у них просто доблестью считается – обмануть иноверца!
Иное дело – прислуга в европейских отелях, – в голосе Горецкого послышались мечтательные нотки, и Борис понял, что полковник снова ударился в воспоминания. – Швейцары и лакеи в отелях Парижа, Брюсселя, Монте-Карло и других городов говорят на нескольких языках, обладают наблюдательностью и острым умом. Они мастера в искусстве отгадывать разные незнакомые им вещи и еще больше преуспели в умении держать язык за зубами. Но, обладая известным умением, можно заставить их проболтаться. Только не взяткой. Прислуга в крупных отелях слишком уважает себя и к тому же держится за место. Избави вас Бог, Борис Андреевич, использовать такие грубые приемы, как подкуп. Вы не узнаете ничего серьезного. Обращайтесь к ним с уважением и тогда вполне можете ожидать от них помощи.
Борис хотел было прервать полковника, сказав, что они находятся в Константинополе, и что в наше смутное время может так случиться, что ему, Борису, никак не понадобится знание психологии европейской прислуги хотя бы потому, что он может не попасть в Париж или в Монте-Карло. Но он сдержал первый порыв, поглядел на Горецкого и улыбнулся. Снова на носу полковника сидело пенсне, и он выглядел добрым профессором. Борис в который раз поразился такой метаморфозе.
Он прислушался к себе и отметил, что пространные лекции Горецкого, произносимые им менторским тоном и, как он считал раньше, унижающие его, Бориса, достоинство, больше не вызывают раздражения. Вообще Борис стал гораздо спокойнее здесь, в Константинополе. Исчезли надрыв и приступы бессильного бешенства. Все в прошлом, Горецкий прав: они потеряли Россию навсегда. Только иностранцы могут думать, что большевики не удержатся у власти. Русские, воевавшие с красными, твердо уверены: если уж не удалось победить Советы с оружием в руках, то все кончено. Так просто большевики власть не отдадут, а немногочисленные бунты утопят в крови.
Профессорский сын, человек мягкий и интеллигентный, Борис долго не мог найти себя в революции. Два года понадобилось ему для того, чтобы решиться перейти непосредственно к борьбе с красными. И за последующие два года на фронте из характера Бориса исчезла былая мягкость, война выжгла его изнутри.
Зато теперь к нему пришла зрелость. Слишком много пережито было за предыдущие годы, в душе он чувствует себя старше и мудрее своих лет. Огрубевший в боях и походах, здесь, отъевшись и одевшись в приличный костюм, он вспомнил все уроки приличных манер, преподанные ему в свое время матерью.
Полковник Горецкий перехватил улыбку Бориса и смутился:
– Простите, голубчик, снова я увлекся. Старость, наверное, все на воспоминания тянет…
И поскольку Борис не стал разуверять полковника, тот совсем расстроился и сухо закончил:
– Стало быть, если не сможете побывать в ресторане Луиджи, то оставляйте донесение в парикмахерской мосье Лиможа. Садитесь всегда в кресло, крайнее справа, и засовывайте незаметно бумажку между подлокотником и собственно сиденьем. Ни у кого не возникнет подозрения, что человек посещает парикмахерскую каждое утро. Мишель, так зовут парикмахера, работает на англичан, а владелец ресторана Луиджи – лично на меня. То есть он не работает, а делает мне любезность. Так что предпочтительнее общаться через Луиджи.
Ну, там посмотрите, как будут события развиваться.
Борис закурил папиросу и уставился в окно. Было позднее утро, за окном шел дождь.
«Зима, называется, – раздраженно думал Борис, – ни снега, ни мороза приличного. То ли дело – дома! Деревья все в инее стоят, сугробы, на катке музыка, фонарики разноцветные…
Недвижный воздух и мороз, Бег санок вдоль Невы широкой, Девичьи лица ярче роз…
Лучше Пушкина не скажешь… Когда это все было? Давно-давно, в довоенной жизни. Дома!..
Дома, – усмехнулся горько Борис своим мыслям, – где этот дом? Там, где Россия, там нет больше дома. И воспоминания о той мирной, счастливой жизни отходят все дальше. На смену им приходят воспоминания о войне. А про войну, про все те ужасы, что пришлось пережить, совершенно не хочется вспоминать. Вот и окажется в один прекрасный день, что при слове „зима" вспомнишь только пушкинские строки, а настоящая зима уйдет из памяти навсегда! Как грустно все… Россия ушла безвозвратно, канула в Лету, как умерла».
За дверью ванной комнаты слышались плеск и пение – Анджела умывалась. Борис слегка поморщился – ее песенки порядком ему надоели. Да если на то пошло, надоела и сама Анджела – ее манера округлять глаза, чтобы они казались наивными, складывать губы бантиком, присюсюкивать, изображая из себя маленькую девочку. Борис еле удержался от грубого окрика, чтобы она перестала петь – ее писклявый голос вызывал у него ощутимую зубную боль.
Он встал и заходил по комнате, путаясь в длинных полах халата. Нет, нужно взять себя в руки, а то девчонка может догадаться, что с ним дело неладно. Хуже всего было то, что он должен изображать влюбленного, а у него в последнее время пропало всякое желание близости.
– Дорогой, – пропела Анджела, появляясь в дверях ванной в соблазнительном неглиже, – мы будем завтракать здесь или пойдем куда-нибудь?
– А ты как хочешь? – не оборачиваясь, спросил Борис.
– Я бы предпочла пойти в ресторан Ставрадаки, там рядом такой магазинчик, где я присмотрела очаровательную брошь!
– Опять брошь, да еще в такой дождь куда-то тащиться! – процедил Борис.
Он наблюдал за Анджелой в зеркале и видел, как сердито сверкнули ее глаза. Но она тут же опомнилась, сдержалась, только прикусила нижнюю губку. Очевидно, ей строго-настрого было велено не раздражать Бориса, а всячески его ублажать и потакать его прихотям.
– Дорогой, – Анджела подошла к нему и обняла за шею, – отчего ты сегодня такой грустный? Тебе плохо со мной?
– Мне скучно, – процедил Борис, – скучно сидеть в этой комнате, скучно вечером торчать в «Грезе».
Последовало непродолжительное молчание. Когда Анджела заговорила, в голосе у нее звучала скрытая паника – она решила, что Борис разочаровался в ее прелестях и хочет ее бросить. За это можно было получить большие неприятности от работодателей.
– Дорогой, я сегодня не выступаю, я работаю теперь гораздо меньше, чтобы больше находиться с тобой!
Это была заведомая ложь, потому что Борис узнал от хозяина «Грезы», что выступления мадемуазель Анджелы надоели публике и что он не станет заключать с ней контракт в будущем месяце.
– Если тебе со мной скучно, я могу познакомить тебя с моими друзьями, – нижняя пухлая губка ее обиженно задрожала. – У моей подруги Гюзели бывают в доме очень интересные люди, и сама она – красавица…
– Ну-ну, малышка, – Борис сделал вид, что смягчился, – если тебе неудобно представлять меня своим друзьям, то и не надо. Я найду, чем развеять скуку. В Константинополе множество интересных и нужных людей. Я вот вчера познакомился… с одним коммерсантом. Знаешь, он, оказывается, знал моего дядю Гаджиева!
Борис физически почувствовал, как напряглась Анджела.
– А что касается твоей красавицы-подруги, – беззаботно продолжал он, – то мне вполне хватит твоей красоты. Эти очаровательные голубые глазки… – Он посадил ее к себе на колени.
– Нет-нет, я обязательно тебя ей представлю, – настаивала Анджела, – ведь она – моя подруга…
Борис расстегнул две пуговки у нее на халатике и наклонился для поцелуя. На самом деле он хотел спрятать довольную улыбку: наконец-то клюнуло! Еще бы, они же не будут спокойно смотреть, как нефтеперегонный завод уплывает к неизвестному коммерсанту!
«И я притворяюсь, и она тоже, – думал Борис, – но женщине легче изображать страсть… Однако… какая все же нежная у нее кожа… И если все время закрывать ей рот поцелуями, чтобы не пела и вообще не разговаривала, то очень даже можно общаться…»
С тех пор как он удостоверился, что Анджела принимает его ухаживания не потому, что Борис ей нравится, а потому, что ей приказали держать его возле себя, совесть перестала его мучить.
– Дорогой, но как же завтрак! – слабо отбивалась Анджела.
– Завтрак подождет, – твердо ответил Борис.
Генрих фон Кляйнст был зол на весь мир и особенно на германский Главный штаб. Его руководители самодовольно утверждали, что Германия победит в войне, потому что ей нет равных. На деле же все эти утверждения, как оказалось, были продиктованы исключительно имперскими амбициями. Руководители секретной службы оказались самонадеянными до глупости, а их агенты – исполнительны и педантичны до идиотизма. Он, Генрих фон Кляйнст, двенадцать лет своей жизни проработал в секретной службе. Он отдал Германии все свои жизненные силы. И что он получил взамен? Конечно, родина ему хорошо платила за работу. Но тогда он даже не мог себе позволить отдохнуть как следует на эти деньги. Ему некогда было прожигать жизнь на курортах. Он отказывал себе во всем, не заводил ни семьи, ни друзей.
И что теперь? В побежденной Германии царят нищета и уныние. Деньги, которые правительство переводило ему в Берлинский банк, обесценились, потому что в стране страшная инфляция. Хорошо, что в свое время ему пришла мысль открыть счет в Женеве. Но денег на том счете не хватит, чтобы вознаградить себя за долгие годы опасной работы на секретной службе. Не может быть, чтобы никому не понадобились его способности и опыт…
И Генрих фон Кляйнст решил действовать на свой страх и риск. Он связался с Международным бюро тайной агентуры в Брюсселе и осторожно прощупал почву. Через некоторое время из Бельгии пришел такой же обтекаемый ответ, что с ним хочет встретиться одно очень важное лицо. Генрих выехал в Женеву, чтобы провести встречу на нейтральной территории.
Упомянутое лицо оказалось доверенным представителем крупного немецкого промышленника барона Гессен-Борна. Они быстро договорились – Генриха устраивали деньги, предложенные бароном, а работа, которую предстояло выполнить, была ему хорошо знакома. Гессен-Борна, как скоро догадался Генрих, интересовала азербайджанская нефть. В этом не было ничего удивительного – бакинские месторождения очень привлекали промышленников Европы. Перед Генрихом фон Кляйнстом барон поставил задачу следить за англичанами, пытающимися наложить лапу на азербайджанскую нефть, и вовремя их нейтрализовать.
Генрих приехал в Брюссель и снова обратился за помощью в Международное бюро тайной агентуры. Выслушав его требования, сотрудник бюро подумал немного, а потом сказал, что у него есть на примете подходящий человек. Это некая Гюзель, турчанка по происхождению, которая уже много лет не была на родине. Она жила и работала преимущественно в Европе. Но сейчас так сложилась ситуация, что из Европы ей необходимо исчезнуть на некоторое время, так что она с радостью согласится работать на господина доктора.
Они встретились в ресторане. Дама, одетая в простой, но дорогой темный костюм, присела за столик Генриха и приподняла вуаль. При виде ее красоты даже видавший многое доктор на миг потерял дар речи. Впрочем, он быстро опомнился и, поглядывая исподтишка на прекрасную турчанку, стал размышлять, не слишком ли заметна она будет в Константинополе и не помешает ли это работе. Ведь даже здесь, в холодной Европе, красота этой женщины не смогла оставить его равнодушным. А что будет, когда она появится в Константинополе? Там, на родине, она еще больше похорошеет. Все женщины рядом с Гюзелью выглядят поблекшими, как вчерашняя орхидея в петлице.
Подумав хорошенько, Генрих решил, что мужчины будут роиться над прекрасной турчанкой, как пчелы над душистым цветком, и в их гудящей толпе останется совершенно незаметной ее тайная деятельность. Однако, когда они приступили непосредственно к деловой беседе, выяснилось, что прелестная Гюзель обладает весьма жесткой хваткой. За свои услуги она заломила такую цену, что, находись господин доктор в иной обстановке, он просто присвистнул бы от возмущения. Заглянув в бездонные синие глаза, Генрих уступил, но немного. Гюзель торговалась как на восточном базаре, но в Генрихе фон Кляйнсте проснулось прусское упрямство, и чары прекрасной турчанки не в силах были его победить. В конце концов Гюзель сдалась, но только потому, как понял Генрих, что ей срочно нужно было уехать из Европы.
Кроме Гюзели, ему больше никто не был нужен. Он сумел сохранить почти всю свою агентуру. Кое-кого из агентов соблазнил высоким жалованьем, кое-кого припугнул компрометирующими материалами, которые собирал весьма тщательно, с истинно немецкой аккуратностью.
Гюзель оказалась просто бесценным сотрудником. В любое время дня и ночи мужчины всех национальностей были готовы пасть к ее ногам. Они теряли голову от восхищения и теряли контроль над своими словами и мыслями. Работа начала продвигаться особенно успешно, когда Генриху в голову пришел очень смелый, хотя и рискованный план.
В модном русском кабаре «Кокошник» на Пери царило обыкновенное для этого заведения нервное веселье. На площадке эстрады, как в любом русском заведении, расположились цыгане – кружились пестрые юбки женщин, сверкали блестками яркие жилеты мужчин, звенели мониста. Плясуньи ловко, на лету, подхватывали протянутые посетителями фунтовые бумажки.
Борис под руку с Анджелой вошли в зал. К ним тотчас подскочил метрдотель и повел к заказанному столику. Когда разобрались с картой вин, Борис незаметно огляделся.
– Они там, в углу, – шепнула Анджела, – скоро я тебя представлю.
За угловым столиком сидели четыре человека – трое мужчин и женщина. Эта женщина обладала такой внешностью, что никто, взглянув на нее один раз, не удержался бы от искушения посмотреть на нее снова и снова. Гладко зачесанные на маленькой, гордо посаженной голове, черные волосы блестели, словно темное зеркало, соперничая с мраморной белизной высокой лебединой шеи и точеных алебастровых плеч, но самым поразительным в ней были глаза – у этой восточной красавицы, казалось, только что выпорхнувшей, точнее, царственно выплывшей из гарема средневекового султана – глаза были как два горных озера – синие и холодные, в пол-лица, и такие бездонные, что утонуть в них ничего не стоило. Сильно декольтированное черное вечернее платье с отделкой из перьев и сверкающих стразов довершало ее облик.
Рядом с этой женщиной любой мужчина показался бы жалким уродцем, однако ее сосед – рыжий, толстый, с изрытым оспой лицом, лет пятидесяти с лишком, был настолько переполнен энергией, настолько кипуч и активен, что умудрялся затмевать даже свою прекрасную спутницу, и взгляды посетителей кабаре обращались к их столику не столько из-за нее, сколько из-за него. Впрочем, это объяснялось еще и тем, что он был известным в городе богачом, владельцем множества жилых домов, гостиниц и ресторанов. Да, это был греческий магнат Казанзакис. Именно из-за него к угловому столику уже дважды подходил хозяин кабаре Казимир Дембич, искательно улыбаясь и спрашивая, всем ли довольны дорогие гости.
Два других человека были куда менее заметны: мужчина средних лет с небольшим шрамом на щеке и благородной сединой на висках, в английской форме без погон, и смуглый молодой человек в малиновой черкеске с газырями.
– Наверняка, полковник, у вас какое-то тайное поручение от барона Врангеля, – с легкой усмешкой говорила прекрасная турчанка мужчине со шрамом, – вас никогда не застанешь дома, вы вечно общаетесь с какими-то подозрительными людьми, и самое главное – у вас все время такой загадочный вид… Признайтесь, вы готовите новый десант в Россию.
– Гюзель, – полковник улыбнулся, но его улыбка из-за шрама вышла несколько кривой, – Гюзель, мы оставили всякую надежду на возвращение в Россию… во всяком случае, пока. Может быть, позднее, когда большевики приведут доставшуюся им страну на грань катастрофы – ведь у них, как известно, государством управляют кухарки, – может быть, тогда мы вмешаемся, но не сейчас… Мы и так заплатили слишком высокую цену.
На эстраду вышла ослепительно красивая цыганка лет пятнадцати, знаменитая Маша, и начала чистым глубоким голосом: «Ехали на тройке с бубенцами…»
Анджела встретилась глазами с красавицей-турчанкой, та кивнула ей, разрешая приблизиться. Анджела привстала со своего места. Борис собрался было последовать ее примеру, но тут произошло событие, которого сидящие за столиком никак не ожидали.
К угловому столику подчеркнуто твердой походкой подошел необыкновенно бледный офицер в черном корниловском мундире. По всему было видно, что он мертвецки пьян.
– Ба, полковник! – воскликнул офицер с деланной радостью. – И вы здесь! Празднуете счастливое избавление от невзгод и опасностей войны? Или вы уже не полковник? Погон я у вас что-то не вижу!
– Капитан Лихачев, если не ошибаюсь? – настороженно взглянул полковник на подошедшего. – Вы, как я понимаю, тоже гуляете – отчего же мне нельзя?
– Я-то гуляю с горя, – отвечал капитан, раскачиваясь с пятки на носок, – поминаю боевых товарищей, которым не так повезло, как нам с вами… А вы, полковник, помните ли четвертую роту? Четвертую роту корниловского полка, которая почти вся полегла, благодаря вашей… любезности?
Корниловец побледнел больше прежнего, и щека его неожиданно и неприятно задергалась.
В зале на мгновение наступила тишина, только звонкий Машин голос выводил: «Ах, когда бы мне теперь за вами…»
– Капитан, вы забываетесь! – молодой человек в черкеске приподнялся из-за стола.
– А это еще кто? – презрительно покосился на него Лихачев. – Ваш сторожевой пес? Боитесь без охраны ходить? Да вы не думайте, никакая охрана вас не спасет!
Все, все получат скоро по заслугам! Все, на чьей совести русская кровь!
– Капитан, вы пьяны, поэтому я извиняю вашу несдержанность, – холодно проговорил полковник. – Мне бесконечно жаль ваших боевых товарищей, и не только их, но всех солдат и офицеров, погибших в этой страшной бойне. Но вы не хуже моего знаете главный закон армии: приказы не обсуждаются. Четвертая рота погибла… ради исполнения важной стратегической задачи.
– В результате чего мы все оказались в этом проклятом Константинополе! – зло выкрикнул Лихачев.
К нему поспешно приближался метрдотель с двумя дюжими официантами. Покосившись на них, капитан скривился и ушел в дальний конец зала.
– Простите, Гюзель, простите, господа, – полковник встал из-за стола и поклонился, – извините, я вынужден проститься с вами, у меня есть сегодня важное дело. И простите за этот безобразный инцидент…
– Бросьте, полковник, – рассмеялся Казанзакис, – стоит ли обращать внимание на пьяную болтовню какого-то хама…
– Это не совсем так, – полковник вежливо улыбнулся, но улыбка снова вышла кривой из-за шрама, – это не пьяный хам, а боевой офицер… И он более опасен, чем вы думаете.
Молодой офицер в черкеске тоже поднялся из-за стола. Полковник что-то негромко сказал ему и направился к выходу. Его молодой спутник немного задержался в зале, наблюдая за столиком, где сидел капитан Лихачев со своими товарищами.
«Дорогой длинною, да ночью лунного…» – дружно грянул цыганский хор.
– Пойдем, дорогой, – неуверенно начала Анджела.
– Не сегодня, – твердо ответил Борис, – думаю, что сегодня неподходящий момент для знакомства.
Анджела облегченно вздохнула.
Глава девятая
Крутилась ночь, срываясь с воя,
Клубясь на облаках сырых.
За вами следом крались двое,
Но вы опередили их.
А. НесмеловПолковник Шмидт быстро шагал по людной, ярко освещенной улице. Его мысли были заняты важным и неприятным вопросом. Сегодняшняя сцена в кабаре, которая могла показаться постороннему человеку не заслуживающей внимания, была на самом деле очень серьезна. Угрозы, которые вырвались у капитана Лихачева, не были пустым звуком. Полковник знал кое-что о знакомствах Лихачева, о том, где он проводит вечера… Еще недавно он думал, что ситуация находится под контролем и эти господа долго еще не осмелятся перейти от слов к делу. Но сегодняшний скандал говорил об ином. Как бы они не начали действовать и не нарушили планы самого Шмидта и его английских друзей! Известно ведь: что у трезвого на уме, то у пьяного на языке…
За этими мыслями полковник не сразу заметил человека, который нагнал его и уже несколько минут шел рядом и чуть позади. Почувствовав наконец его присутствие, Шмидт вздрогнул и схватился за револьвер: ему показалось, что рядом с ним идет капитан Лихачев. Оглянувшись и поняв свою ошибку, он усмехнулся собственной нервозности и сказал дружелюбно:
– А, это вы… Добрый вечер.
Неожиданный спутник приблизился к нему вплотную, будто собирался сообщить нечто конфиденциальное и вдруг коротким сильным ударом, почти незаметным со стороны, вонзил в затылок полковнику узкое стальное лезвие.
Шмидт не издал ни звука: смерть его была мгновенной. Убийца, сильной рукой обхватив мертвеца за талию, плавно опустил его на высокий стул уличного чистильщика сапог и тут же растворился в яркой толпе гуляющих.
Мальчишка-чистильщик, не задавая лишних вопросов и не поднимая глаз, молниеносно заработал двумя щетками. Когда английские ботинки полковника засверкали как зеркало, чистильщик выжидательно замер. Монетка не упала с приятным звоном в широко открытый ящик, и только тогда чистильщик поднял глаза на молчаливого клиента.
Клиент был мертв. Чистильщик понял, что сегодня у него определенно неудачный день.
Тем же вечером в задней комнате «Кокошника» шла крупная игра. Собственно, азартные игры в Константинополе были строжайше запрещены, и организатор их мог поплатиться свободой… Но когда играли такие могущественные люди, как Казанзакис, влиятельный французский полковник Арно, молодой блестящий турецкий генерал Кераглы, – а именно эти люди сидели вокруг стола – в таком случае власти поневоле закрывали глаза на нарушение закона.
Четвертым человеком за столом был некий Жюль Маню, элегантный молодой человек с чересчур хорошо уложенными волосами. О нем мало кто знал что-либо достоверно, известно было лишь, что он не стеснен в средствах, ничем не занят, живет на широкую ногу и играет по крупной.
И сегодня игра шла очень большая. Как принято в столь высоком кругу, на столе не высились стопки наличных денег – играли на слово, но количество нулей в ставках к концу вечера стало таким, что у постороннего наблюдателя закружилась бы голова.
Даже Казанзакис, один из самых богатых людей в Великом городе, был немного бледен и нервно облизывал губы. Полковник Арно держал карты трясущейся рукой и поминутно вытирал лоб салфеткой. Генерал Кераглы был красен как рак, глаза его горели лихорадочным огнем. И только Жюль Маню был абсолютно спокоен. На его невозмутимом лице играла легкая улыбка.
Пятым человеком в комнате была Гюзель. Девушка стояла за спиной Казанзакиса и в упоении наблюдала за игрой. Атмосфера игры, риска, запах больших денег опьяняли ее, будоражили, как напоенный электричеством предгрозовой воздух. Глаза ее блестели, на щеках горел румянец возбуждения. Казалось, она волнуется больше самих игроков.
Казанзакис осторожно положил свои карты на стол и с некоторым разочарованием сказал:
– Пас!
Полковник Арно снова вытер лоб и тоже швырнул карты на зеленое сукно. В игре остались только Маню и генерал. Генерал еще раз взглянул на свои карты и увеличил ставку.
Маню невозмутимо кивнул и предложил раскрыться.
Генерал откинулся на спинку стула и с победным видом бросил на стол четыре десятки. Маню все с той же невозмутимой улыбкой положил на стол свои карты. У него было четыре валета.
На генерала страшно было смотреть. Его лицо, только что багровое, стало бледным как мел, глаза потемнели, как окна заброшенного дома.
Маню отодвинулся от стола и спокойно промолвил:
– Жду вас завтра, генерал. Думаю, сейчас у вас таких денег нет.
Генерал уставился на своего противника отчаянными глазами и несвойственным боевому офицеру тихим, умоляющим голосом произнес:
– Может быть, еще одну партию?
– Нет-нет, эфенди, – француз слегка поморщился, – отыгрываться – скверная привычка… Да мне, четно говоря, и некогда. Благодарю вас, господа, за прекрасный вечер.
С этими словами Маню встал, поклонился присутствующим и вышел из комнаты.
Генерал Кераглы сидел, уставясь невидящими глазами в одну точку. Казанзакис пожал плечами и заговорил с полковником Арно о новинках парижского оперного сезона. Воспользовавшись их разговором, Гюзель подошла к генералу и вполголоса заговорила:
– Кажется, эфенди, у вас сложности с этим проигрышем? Вы не в состоянии расплатиться?
Генерал не сразу понял, о чем говорит ему Гюзель. Когда же до него дошел смысл ее слов, он тяжело вздохнул и нехотя ответил:
– Я и без того был в долгах, а теперь такая огромная сумма… И это – долг чести, так что у меня один выход – пуля в лоб.
– Зачем же так мрачно? – Гюзель чуть заметно улыбнулась. – Я знаю человека, который охотно поможет вам…
Ордынцев вошел в гостиную. На его взгляд эта комната представляла собой что-то среднее между собственно гостиной, будуаром жены богатого парижского рантье и залой в дорогом борделе – излишняя пышность убранства, обилие всевозможных дамских аксессуаров, подушечек, вазочек, курильниц и прочих безвкусных мелочей. Однако хозяйка придавала всей этой восточной пошлости определенный блеск и создавала ощущение подлинности. Тонкая и гибкая, как змея или пантера, она свернулась калачиком в глубоком резном кресле, закутавшись в облако полупрозрачного трепещущего муслина. При каждом движении ее божественные формы то откровенно обрисовывались складками воздушной ткани, то просвечивали сквозь муслин чарующими намеками. Но главным в ее облике, безусловно, было лицо, и особенно глаза – огромные, бездонные, ярко-синие. Их взгляд, одновременно высокомерный, чарующий и бесстыдный, сводил с ума – конечно, только того, кому было с чего сходить.
Борис невольно застыл на пороге, не сразу заметив, что в комнате присутствуют еще два человека – очень худой господин лет тридцати пяти с лицом бледнее фрачной манишки, с моноклем в глазу и брезгливо обиженным выражением безвольно искривленного рта, и полная ему противоположность – рыжий толстяк лет пятидесяти, переполненный энергией, с изрытым оспой лицом и манерами бесконечно уверенного в себе человека. Этого энергичного толстяка не было нужды представлять – каждый в Константинополе хотя бы слышал о Ставросе Казанзакисе, греческом миллионере, владельце чуть ли не половины недвижимости в великом городе.
Бледный господин представился Полем Менаром, финансистом из Франции.
Борис назвал себя. Француз окинул его презрительно-оценивающим взглядом и равнодушно отвернулся. Казанзакис, напротив, начал оживленно расспрашивать о том, как понравился Ордынцеву Константинополь, нашел ли он здесь достойное вложение для своих денег – видимо, пущенный Горецким слух о богатстве Ордынцева дошел до греческого магната. Борис отвечал по возможности уклончиво, боясь выдать свою полную неосведомленность в финансовых вопросах.
Наконец Гюзель, прислушиваясь к разговору двух мужчин с выражением насмешливой скуки на лице, прервала их:
– Господа, неужели вы не можете найти более интересной темы для разговора?
– Очаровательная! – со смехом ответил ей Казанзакис. Не может быть темы более волнующей, чем деньги!
– Фу, противный! – Гюзель рассмеялась и махнула на грека рукой. – Но вы-то, Борис, – с некоторым трудом выговорила турчанка непривычное имя, – вы-то, Борис, я надеюсь, не такой? Для вас деньги не заменили все радости жизни? Во всяком случае, моя подруга Анджела прожужжала мне все уши – от нее только и слышишь ваше имя, как будто в Константинополе нет мужчины лучше, чем Бо-рис Ордын-цефф!
Борис смущенно улыбнулся, не найдя достойного ответа, а Менар снова удостоил его мимолетным взглядом и процедил сквозь зубы:
– Вы ведь знаете, Гюзель, Анджела страдает удивительно склонностью к преувеличениям!
– Не обращайте внимания на Поля, – Гюзель дружелюбно улыбнулась Борису, – он ужасный ревнивец и поэтому постоянно злословит. Скажите, мне передавали, что вы приходитесь сродни господину Гаджиеву?
– Ну, собственно, не совсем сродни, моя тетушка была за ним замужем.
– Ах, вот как! – Гюзель оживилась. – Я однажды была в его имении Каса-дель-маре. Там был поразительный розарий!
– К сожалению, мне там не пришлось побывать, хоть я и наслышан о тамошних чудесах, – ответил Борис, стараясь не выйти за рамки легенды и вместе с тем не сказать ничего лишнего.
– Мне случалось сталкиваться с Гаджиевым, – присоединился к разговору Казанзакис, – в делах это был настоящий людоед.
– Не думайте, что это осуждение, – вставила Гюзель, – в устах Ставроса нет большей похвалы.
– Конечно, – усмехнулся Казанзакис, – деловой человек должен быть людоедом. Мягкосердечный делец – это такая же бессмыслица, как ласковая сторожевая собака. Думаю, что господин Ордынцефф со мной согласится.
Борис поймал на себе заинтересованный взгляд Поля Менара. Дождавшись паузы, француз задал вопрос:
– Покойный господин Гаджиев был, кроме всего прочего, известным коллекционером. В его собрании было немало уникальных книг – инкунабул и средневековых восточных манускриптов. Вы не знаете, какова судьба коллекции?
Борис, обрадовавшись, что Менар в разговоре затронул тему, которую Горецкий хорошо подготовил.
Это и был их – Горецкого и мистера Солсбери – главный козырь. У покойного Гаджиева была действительно замечательная коллекция редких старинных книг. Гаджиев был весьма своеобразным человеком и, как многие коллекционеры, не только не любил показывать кому бы то ни было свои сокровища, но и не сообщал никуда, что, конкретно, включает в себя его коллекция. Известно было только, что она уникальна и некоторым книгам просто нет цены. Однако в 1913 году, под давлением Императорской Академии наук, Всероссийского общества библиофилов и остальной общественности, Бари Гаджиев был вынужден принять в своем доме в Баку комиссию, в которую входили очень компетентные люди, – и среди них замечательный русский искусствовед барон Врангель (родственник нынешнего Главнокомандующего), а также известный книгоиздатель Сойкин. Комиссия ознакомилась с коллекцией и в результате ее деятельности в журнале «Искусство и художественная промышленность» был опубликован каталог. И в нем одним из первых номеров значилась рукопись Омара Хайяма… Полковник Горецкий узнал от мистера Солсбери, что году примерно в шестнадцатом в Лондоне, на закрытом аукционе, вдруг всплыла эта книга, причем никто не сомневался в ее подлинности. Однако Гаджиев никому не сообщал о краже книги. Человек, выставивший книгу на аукцион, пожелал остаться неизвестным. Вся история показалась устроителям аукциона подозрительной, но скандала не вышло – англичане мастера спускать сомнительные дела на тормозах. А уж каким образом книга попала в руки мистера Солсбери, тот не сообщил, а полковник Горецкий не спрашивал – знал, что все равно не получит ответа. Борису были даны инструкции при случае сослаться на книгу и предъявить ее в качестве доказательства его родства с покойным Гаджиевым.
Борис повернулся к Менару и сказал самым любезным тоном:
– К сожалению, большая часть библиотеки осталась в Баку, у красных. Но кое-что управляющий Гаджиева передал мне по его завещанию. Например, замечательную рукопись Омара Хайяма…
– Как, у вас – «Тебризский рубайят»? – француз моментально разволновался, его неестественно бледное лицо покрылось пятнами нервного румянца.
– Да, управляющий Гаджиева именно так назвал эту книгу… Она прекрасно сохранилась, необыкновенно красиво орнаментована…
– Я должен увидеть этот манускрипт! – взволнованно воскликнул Менар.
Казанзакис удивленно переводил взгляд с Бориса на француза. Гюзель сердито топнула ножкой:
– Поль, вы, кажется, забыли, что находитесь у меня в гостях! Какая-то книжка для вас важнее моего внимания?
– Этому манускрипту больше семисот лет! – вскричал француз.
– Значит, это еще и очень старая книжка, – желчно произнесла Гюзель, оставив за собой последнее слово.
Менар, не обращая на ее сарказм внимания, продолжил, обращаясь к Борису:
– Когда я мог бы увидеть рубайят?
– Да когда хотите, – Борис пожал плечами, недоуменно переглянувшись с Гюзелью – мол, что за странный человек этот француз?
Теперь и Гюзель заинтересовалась предметом их разговора.
– Что это за книжка, о которой Поль говорит с такой страстью? Я хочу увидеть ее…
– Ваше слово – закон, – галантно поклонился Борис. – Прошу вас, если хотите, прямо сейчас поедем в мою гостиницу, я покажу вам рубайят Гаджиева.
– Едем! – вскочил Менар с несвойственной ему живостью.
Казанзакис высказался в том смысле, что он присоединится к ним из чистого любопытства.
– Нет-нет, – раскапризничалась вдруг синеглазая красавица, – только завтра. Завтра утром при свете солнца книга будет выглядеть гораздо привлекательнее!
Поль Менар посмотрел на нее и отвернулся, пробормотав какое-то ругательство. Однако спорить с Гюзелью никто не посмел, и условились встретиться завтра у нее, чтобы всем ехать смотреть книгу.
Невысокий, скверно выбритый турок в сильно поношенном чесучовом костюме и несвежей шелковой феске шел по людной кривой улочке Галаты, высматривая клиента. Маленькие бегающие глазки выдавали в нем сутенера, а темные мешки под глазами и землисто-серая кожа – наркомана. Здесь, на Галате, хороших клиентов было не найти – настоящие клиенты наверху, на сверкающих улицах Пери. Но туда ему ходу не было, после скандала в игорном доме Кандалакиса, где соотечественники побили его за нечестную игру. После этого ему пришлось изображать из себя турка и накрепко забыть, что на самом деле он – грузинский князь.
Ухватив за плечо потенциального клиента, сутенер завел свою обычную песню:
– Эй, русский, ходи со мной! Девочка есть! Не девочка – ангел, пери, карасавец – вах! Не простой девочка – настоящий княгиня…
Клиент сбросил руку сутенера с плеча, но не ушел, а, окинув подозрительным взглядом, сказал:
– Знаю я твою княгиню. Все болезни от нее прихватишь.
– Зачэм говоришь?! – возмутился сутенер, выпучив глаза, вскидывая руки и тем самым, выдавая свой кавказский темперамент. – Зачэм говоришь? Чистый дэвочка, настоящий княгиня, она мне как сестра, ничем не болеет, матерью клянусь… Идем, русский, не пожалеешь!
На самом деле сутенер уже знал, что клиент не сорвется, – знал по выражению голодных тоскливых глаз, да и просто по тому, что тот заговорил с ним, а не ушел молча. И правда, клиент пошел вслед за «турком» по грязному переулку, свернул в щель между домами, прошел сквозь какую-то грязную лавчонку, переступив через дремлющего толстого хозяина и приподняв циновку, заменявшую дверь.
Женщина была такой же поношенной, как ее платье. Кажется, еще недавно она была молода и хороша собой, но нищета, кокаин, дрянная турецкая водка, побои сутенера превратили ее в омерзительное создание без возраста. Ярко и безвкусно раскрашенная, она призывно улыбнулась клиенту. Сутенер остался за циновкой.
Клиент подошел к женщине, наклонился…
– Что… что ты, красавчик? – проговорила она скорее удивленно, чем испуганно.
Клиент прижал палец к губам и обнял ее за шею.
– Странный какой… – женщина улыбнулась.
Наверное, она давно не видела себя в зеркале и считала, что улыбка ей по-прежнему идет. Но эта улыбка не успела сползти с ее лица, на котором дешевые румяна безуспешно скрывали следы побоев, – узкое лезвие вонзилось ей в затылок, мгновенно оборвав жизнь. Может быть, это было для нее благодеянием.
Сутенер, шестым чувством ощутивший, что происходит что-то неладное, выхватил из-за пояса короткий кривой нож, приподнял циновку и заглянул в каморку своей рабыни. Однако не успел он понять, что произошло, – притаившийся сбоку от входа человек нанес ему точно такой же удар тонким лезвием в затылок, и грузинский князь, не почувствовав ни боли ни страха, отправился в мир иной.
Сделав свое дело, неизвестный выскользнул из лавки, переступив через труп хозяина.
Наутро Борис застал в знакомой гостиной посмеивающегося Казанзакиса и Поля Менара, не находившего места от нетерпения. Когда они вошли, горничная объявила, что «Мадам сейчас спустится, только оденется в платье для визитов». С тех пор прошло минут сорок, и никто не появился. Прекрасная турчанка появилась еще через полчаса, но мужчины безропотно приняли ее опоздание.
В роскошном «люксе» Ордынцева с гостями встречал Саенко. Отмытый и начищенный, артистичный от природы, ординарец Горецкого неплохо справлялся с отведенной ему ролью камердинера. К счастью, гости ненадолго посетили номер Бориса, так что испытание для ординарца оказалось не слишком трудным. Борис приказал ему принести и раскрыть отделанную слоновой костью черепаховую шкатулку. Поль Менар в молитвенном благоговении, воззрился на манускрипт, Казанзакис взглянул с любопытством и затем отошел, уступив место Гюзели.
Турчанка посмотрела на книгу, потом – на восхищенного Менара, пожала плечами и заговорила с Борисом о его константинопольских знакомствах.
Наконец, француз удовлетворил свои чувства созерцанием стопки серо-желтых листков и согласился вернуться к обычному человеческому существованию.
Борис проводил гостей, получил от Гюзель приглашение посетить ее сегодня вечером и, откланявшись, направился в ресторанчик Луиджи, чтобы оставить там записку Аркадию Петровичу. В ней он писал, что ему срочно нужно обсудить с Горецким свои новые знакомства и разработать следующий этап операции.
Однако этим планам не суждено было осуществиться.
За два квартала от дома Горецкого Борис столкнулся на узком тротуаре с высоким худощавым турком. Столкнулся в буквальном смысле, точнее, турок сам налетел на него и выронил при этом кипу газет на нескольких языках. Борис наклонился, чтобы помочь собрать газеты. Турок что-то сказал на своем языке, вежливо улыбнувшись Борису, и вдруг прижал к его лицу платок, пропитанный остро и неприятно пахнущей жидкостью. Борис попытался оттолкнуть его, но в это время к нему подбежал еще один человек и завел ему руки за спину. Рядом остановился черный автомобиль, и Бориса, слабо сопротивляющегося, теряющего сознание, втащили внутрь и бросили на обитое кожей сиденье.
Толстый турок с яркими глазами на смуглом одутловатом лице поднял взгляд от заваленного бумагами стола. На пороге его кабинета стоял молодой человек в порванной и грязной черкеске некогда малинового цвета. Многочисленные синяки на его лице еще не начали желтеть, свидетельствуя о свежести побоев.
– Боже мой, господин… эсаул, – турок с некоторым затруднением произнес экзотическое звание молодого офицера, – Боже мой, неужели вас так отделали мои башибузуки? Клянусь вам, они будут наказаны!
– Нет, – есаул говорил явно с трудом, – нет, это до них постарались… соотечественнички мои…
– А-а, – турок явно обрадовался, – тогда другое дело. Тогда, господин… эсаул Чернов, сообщите мне все, что вы знаете о смерти полковника Шмидта. Как я понимаю, вы находились при нем для поручений и для охраны. Как же получилось, что вас не было с полковником в момент убийства?
– Полковник дал мне поручение, – коротко ответил есаул, с трудом разлепляя разбитые губы.
– Что за поручение? – продолжал настырный турок.
– Секретное, – лаконично проговорил есаул.
– Вы не поняли, господин эсаул! – турок повысил голос и приподнялся из-за стола, чему явно мешал его объемистый живот. – Когда я рассердился, подумав, что вас избили мои люди то, я был недоволен только потому, что они сделали это без моего приказа. Собственно против побоев я ничего не имею, напротив – это обязательная и очень важная часть нашей работы. Некоторых людей бить необходимо, некоторых желательно – надо только знать, когда и как. Так что можете не обольщаться: вы от меня ничего не утаите, расскажете абсолютно все и со всеми подробностями. Наши тюрьмы сломают кого угодно. По сравнению с ними любые европейские застенки покажутся вам курортом, лечебницей для нервных дам… Так мне пригласить Абдуллу?
Турок нажал незаметную кнопку у себя на столе, и в дверях кабинета за спиной у есаула появился, как чертик из табакерки, невысокий, но очень широкоплечий человек с длинными, почти до пола, руками и лицом, до глаз заросшим иссиня-черной бородой. Абдулла настороженно переводил взгляд с есаула на своего начальника, при этом непрерывно облизывал свои неприятно красные губы.
– Что за поручение дал вам покойный полковник Шмидт? – спокойным, деловым тоном повторил турок свой вопрос.
Есаул покосился на мрачного Абдуллу, расклеил разбитые губы и заговорил:
– Мы с полковником были в ресторане… в кабаре «Кокошник»…
Турок удовлетворенно кивнул: слова есаула соответствовали имеющейся у него информации.
– Там, в ресторане, была неприятная сцена… Один русский офицер, сильно пьяный, подошел к нашему столу и начал обвинять полковника в гибели своих товарищей на войне в России…
– Кто? – коротко спросил турок.
– Капитан Лихачев, – проговорил есаул, покосившись на безмолвно стоящего за его спиной Абдуллу.
– Так. Дальше! – Турок откинулся на спинку стула, сцепив на животе маленькие ручки.
– Полковник решил покинуть ресторан, сославшись на какое-то срочное дело, мне же приказал негласно проследить за Лихачевым, узнать, куда он пойдет.
– Вы это сделали?
– Конечно, – кивнул есаул, – это был приказ.
– Что же вам удалось выяснить?
– Лихачев немного позже тоже ушел из ресторана, но направился не в ту сторону, что полковник. Он минут двадцать шел по Пери, подошел к одному дому на Османли. Около этого дома меня окружили трое русских офицеров. Они приставили к моему боку пистолет, завели в соседний двор и там избили.
Есаул красноречивым жестом показал на свое лицо, как бы призывая синяки и ссадины в свидетели своих слов.
– Вы запомнили дом, возле которого это произошло?
– Да, номер семнадцать по Османли.
– Капитан Лихачев вошел в этот дом?
– Да, вошел, и больше я его не видел.
– Вы запомнили тех офицеров, которые вас били?
– Было темно, – есаул отвел глаза от проницательного турка. Тот задумчиво посмотрел на Чернова, потом на Абдуллу, но решил повременить с физическим воздействием, только укоризненно покачал головой и произнес с сомнением в голосе:
– Темно? На Османли? Должно быть, эсаул, вам показалось. Однако вы разглядели, что это были офицеры и ваши соотечественники…
– Да, на них, как и на Лихачеве, была черная корниловская форма.
– Так-так… – Турок глубокомысленно покивал головой и наконец сказал: – По мне, так хоть все друг друга поубивайте… С вашим появлением в городе только начались беспорядки. Но полковник Шмидт работал с англичанами, и теперь они требуют, чтобы я принял меры. Кроме того, мне очень не нравится то, как его убили… Ладно, эсаул, пока вы можете быть свободны. Я подпишу ваш пропуск, но только никуда не уезжайте, вы мне еще можете понадобиться…
На следующий день начальник полиции послал своих людей осмотреть дом номер семнадцать по улице Османли. Никаких русских поблизости им не встретилось. Когда же полицейский вошел в двери, он увидел, что подъезд этот – сквозной, из него можно выйти во двор, а оттуда – на соседнюю улицу… В общем – поминай как звали.
Начальник полиции города Константинополя Мустафа-эфенди не любил, когда в его кабинете бывало много народу. И выходить надолго из своего кабинета он тоже не любил. Поэтому все общение с подчиненными взял на себя ближайший помощник Мустафы-эфенди Джафар Карманли. Мустафа-эфенди безоговорочно ему доверял и приблизил к себе уже давно. Джафар Карманли говорил тихим голосом, двигался бесшумно и незаметно. Был он чистокровным турком, но одевался в европейский костюм, не покрывал голову и даже носил очки в черной роговой оправе. Эти очки и тихий голос в дополнение к абсолютно лысому черепу желтого цвета почему-то особенно сильно действовали на допрашиваемых преступников и свидетелей. Джафар во время допросов никогда не вызывал Абдуллу – люди рассказывали ему все сами, без понуканий и побоев.
Мустафа-эфенди, прищурив глаза и ехидно хмыкая, выслушал краткий, но подробный доклад помощника, который тот составил из донесений своих людей, – чего-то подобного он и ожидал. Они сидели в пустом кабинете и пили душистый и очень крепкий кофе, который сварил помощник.
Когда Джафар спросил, не следует ли арестовать капитана Лихачева, начальник сложил свои маленькие ручки на животе и сказал:
– Разумеется, следует. Его следует арестовать, чтобы допросить как свидетеля.
– Почему как свидетеля? – удивился помощник.
– Потому что непосредственно к убийству полковника Шмидта он касательства не имеет. Ведь этот… эсаул следил за ним от самого ресторана «Кокошник» и видел, что тот пошел в другую сторону. Правда, Лихачев несомненно имеет отношение к нападению на самого… эсаула, но уж с этим делом мы вообще разбираться не будем. Эка невидаль – подрались русские офицеры! Ну, наставили ему пару синяков. Даже если бы вообще убили – только у турецкой полиции и дел, что эсаула защищать! Но полковник Шмидт – это совершенно другое дело, в нем были очень заинтересованы англичане, и они теперь не оставят меня в покое, пока я не раскрою это убийство. Они, видите ли, опасаются каких-то политических осложнений. Так что капитан Лихачев в этом убийстве не виноват и знает о нем меньше нашего.
– Почему вы так думаете?
– Шмидта убили хладнокровно, профессионально, на людной улице. Можно сказать, на глазах у сотен людей – и никто ничего не заподозрил. Жертву не ограбили, да в таком месте это было бы и невозможно. Стало быть, какой мотив мы можем предположить? Либо месть, либо, как ни прискорбно это предположить, мотив убийства – политический, и англичане правы в своих опасениях.
– Но не кажется ли вам, что Лихачева подослали в ресторане к столику полковника Шмидта нарочно, чтобы он устроил скандал? Полковник забеспокоился и послал своего есаула проследить за капитаном, то есть таким образом полковник остался без охраны.
– То есть вы подозреваете сговор, – с грустью произнес начальник полиции. – Тогда это несомненно политика. Но со стороны участников убийства разумно ли было привлекать пьяного человека? Лихачев, когда устроил публичный скандал, был здорово пьян…
– Только со слов Чернова! Капитан ведь мог и разыграть пьяного.
– Нет, он был пьян не только со слов… эсаула. То же самое говорят официанты, а уж их-то не обманешь, у них взгляд наметан! Так что еще раз говорю: Лихачева следует допросить как можно быстрее, чтобы узнать, кто внушил ему мысль устроить скандал с полковником Шмидтом. Значит, опять какой-нибудь заговор, поэтому друзья капитана Лихачева и избили этого… как его… эсаула, подумав, что он сует нос в их секреты. Устраивать заговоры – это русский национальный спорт, такой же, как пить водку из ведра и париться в бане с медведем.
Последние слова Мустафа-эфенди произнес с особенным удовольствием: он не без основания гордился репутацией большого знатока русских традиций.
Однако ни в этот, ни на следующий день капитана Лихачева не нашли. Никто не мог дать полиции определенных сведений о местонахождении капитана. Поначалу это никого не удивило, потому что русские офицеры в Константинополе, те, кто по каким-либо причинам не попал в Галлиполи, где располагались остатки Русской армии Врангеля, жили как бродяги. Они толклись в приемных у начальства, выпрашивая жалкие крохи жалованья либо иного какого вспомоществования, пропивали эти гроши в бесчисленных кабачках на Галате, хозяевами которых были уже не только местные греки, но и бывшие соотечественники – те, кто оказался удачливее других и сумел вывезти из России кое-какие ценности. Офицеры же, в основном нищие, голодные и оборванные, слонялись в районе площади Таксим, где один раз в день разрешалось поесть в бесплатной столовой для беженцев, а также процветали бесчисленные лотереи и разные прочие жульнические мероприятия.
Мустафа-эфенди очень рассердился, и по этому поводу его помощник Джафар вызвал всех подчиненных в отдельную комнату и имел там с ними негромкую беседу. Подчиненные вышли после этой беседы тихие и задумчивые, после чего бросились выполнять свои обязанности с удвоенным рвением. В результате через два дня капитана Лихачева нашли, но допросить его не представлялось возможным, потому что завязанный в мешок труп капитана всплыл в районе порта и был замечен на рассвете матросом с итальянского парохода «Святая Тереса».
Полицейский врач дал заключение, что капитан был убит выстрелом из револьвера, произведенным в упор, и труп пробыл в воде не менее трех суток. Про всему выходило, что несчастного капитана убили и утопили чуть ли не в ту же ночь, когда был убит полковник Шмидт.
Вызвали есаула Чернова, но тот, даже под страхом близкого знакомства с обезьяноподобным Абдуллой, не мог назвать имен трех офицеров, избивших его на улице Османли. Начальник полиции Мустафа-эфенди засел в своем кабинете и надолго задумался.
Глава десятая
Корчма. Ступени. Нависает свод.
Слоистый дым. Колючих взоров наглость.
Письмо, печать… И на печати – под
Лобастым черепом – две кости накрест.
Безжалостность окраин. Главаря
Рычащий шепот… Дотлевает запад.
Показывает ночь у фонаря
Двоих бродяг в широкополых шляпах.
А. НесмеловОрдынцев пришел в себя в комнате без окон, освещенной настольной лампой под поворотным металлическим абажуром. Лампа, как явствует из ее названия, стояла на столе. За столом сидел плотный господин без пиджака в белой рубашке с закатанными рукавами. Господин этот был Борису абсолютно незнаком. Сам Борис сидел посреди комнаты на привинченном к полу металлическом стуле, руки его были туго связаны за спиной.
– Ага, вы очнулись, – констатировал господин за столом, – тогда начнем. Может быть, вы сэкономите время и сразу расскажете, на кого вы работаете и каков ваш интерес в этом городе?
Борис попробовал заговорить, но во рту него пересохло, должно быть, от той пахучей жидкости, которой угостил его коварный турок, и единственным ответом плотному господину послужил нечленораздельный хрип.
– А-а! Это бывает от хлороформа, – кивнул господин, поднялся из-за стола, налил в граненый стакан воды и поднес Ордынцеву. Борис благодарно кивнул, отпил четверть стакана. Голос прорезался, и он спросил:
– Может быть, вы развяжете меня? Руки затекли.
– Может быть, и развяжу. Это зависит от вашей разговорчивости. Еще раз спрашиваю: на кого вы работаете?
Борис пожал плечами. Со связанными руками это было неудобно и, вероятно, выглядело комично.
– Я ни на кого не работаю, – ответил он, – у меня есть собственные средства, мне не к чему устраиваться на службу.
– Не валяйте дурака, – плотный господин поморщился, – вы прекрасно понимаете, что я имею в виду. На какую разведку вы работаете? На англичан? На французов? На итальянцев?
«Интересно, как они догадались? – в смятении думал Борис. – Что я сделал неправильно?»
Он решил тянуть время и притворяться полным идиотом: «Авось станет ясно, что известно обо мне этому плотному типу и почему он отдал распоряжение своим подручным схватить меня прямо на улице».
Борис уставился на своего визави в очень натуральном изумлении.
– Как? Вы считаете, что я – шпион? Что я работаю на какую-то разведку? Да с чего вы это взяли? Я достаточно обеспечен…
– Опять вы завели свою старую песню! – поморщился плотный господин. – Сейчас вы станете рассказывать мне, что получили наследство от покойного господина Гаджиева, которому доводитесь родственником…
– Не родственником, – поправил Борис, – моя тетушка была за ним замужем. А в остальном все именно так.
«Угу, – думал Борис, – уже ближе к делу. Несомненно, мой провал связан с Гаджиевым. Говорил же я Горецкому, что никто не поверит в это сомнительное родство!»
– Может быть, я и поверил бы в фантастическую историю про вашу тетушку, если бы не маленькая деталь.
Борис поднял глаза, с волнением ожидая продолжения.
Его собеседник усмехнулся и снова заговорил.
– Вам интересно узнать, на чем вы, как говорят шпионы, провалились? На манускрипте!
– Что?! – переспросил Борис. – Но ведь этот манускрипт действительно принадлежал Гаджиеву!
– Принадлежал, – кивнул плотный господин, – но незадолго до революции книга из коллекции нефтяного короля пропала. Видимо, ее украл кто-то из служащих вашего «дядюшки». Несколько позже манускрипт всплыл на одном закрытом аукционе… и опять исчез. А теперь вы заявляете, что вам передал его управляющий покойного Гаджиева! Это ошибка, господин Ордынцев, и большая ошибка! Помимо того, что лопнула ваша «легенда», появление такой редкой и дорогой книги в ваших руках говорит о том, что за спиной у вас стоит сильная разведка и о том, что вашей миссии придают большое значение. Итак, я снова спрашиваю вас: на кого вы работаете?
Борис лихорадочно искал путь к спасению. Хорош Горецкий! Вот старый осел: так бездарно подготовил легенду! Единственная подлинная вещь Гаджиева, которая должна была подтвердить родство Ордынцева с бакинским миллионером, послужила причиной провала. Как теперь быть? Какую избрать линию поведения? Но каким образом этот тип узнал, что книга была украдена из коллекции, раз Гаджиев не сообщал никому про это?
Стараясь сохранить внешнюю невозмутимость, Борис сказал:
– Я ничего не понимаю. Мне действительно передал рукопись управляющий Гаджиева, а как она попала к нему в руки – я не знаю. Может быть, он сам купил ее на том аукционе, о котором вы говорили?
– Не говорите глупостей! – взорвался плотный господин, поднимаясь из-за стола и подходя к Борису. – Книга стоит таких денег, каких у управляющего никогда не было! И потом – объясните мне, для чего ему покупать манускрипт и потом отдавать его вам, малознакомому человеку?
– Вовсе незнакомому, – уточнил Борис с видом невинного ягненка. – А может быть, у него проснулась совесть и он решил исполнить волю своего покойного патрона?
– Чушь собачья! – заорал плотный господин. – Не стройте из себя дурака!
– А может быть, он сам и украл манускрипт? Потом выставил его на аукцион, а после передумал, снял с аукциона и отдал мне?
Плотный господин побагровел. Поскольку сложение у него было апоплексическим, Борис подумал, не случится ли с ним сейчас удар. Однако этого не случилось, – господин яростно затопал ногами и заревел как буйвол:
– Вы издеваетесь надо мной! Ваше счастье, что мне не дана пока санкция на допрос третьей степени, да только не обольщайтесь – эта чаша вас не минует! Вы все нам расскажете! Вы не представляете, что такое настоящий допрос третьей степени!
При этих словах в его маленьких глазках загорелся такой садистский огонек, что Борис почувствовал невольный озноб, хотя в комнате было очень жарко.
Внезапно дверь отворилась, и в помещение вошел давешний худощавый турок, встреча с которым закончилась для Бориса столь печально. Подойдя к плотному господину, он сказал:
– Его хочет видеть господин наместник! – Говорил он при этом на прекрасном французском языке, и Борис засомневался, турок ли он в действительности.
Тут же в комнату вошли двое крепких молодых людей, подхватили Бориса и повели по коридору. Они спустились по лестнице на один этаж, прошли еще один коридор, снова спустились и вышли в маленький дворик. Там стоял тот же черный автомобиль. Бориса втолкнули на заднее сиденье, молодчики уселись по бокам, плотно сжав его. Сидеть было очень неудобно, особенно мешали связанные руки.
– Развязали бы руки-то! – пробурчал Борис, но охранники не удостоили его ответом.
На переднее сиденье сел шофер. Один из охранников широкой черной лентой завязал Борису глаза, и автомобиль тронулся с места.
Борис чувствовал себя так, как должно быть, чувствует себя слепой котенок, которого несут топить – темно, тошно и не ждешь от будущего ничего хорошего. Кроме того, он страшно злился на Горецкого и на мистера Солсбери за то, что легкомысленно подошли к выбору легенды.
Автомобиль ехал очень быстро, Бориса резко швыряло на поворотах, подбрасывало на рытвинах. Кроме того, чувствовалось, что машина то поднимается круто вверх, то съезжает под уклон по кривым константинопольским улицам.
Вдруг резко взвизгнули тормоза, послышался звук удара, крики. Бориса сильно швырнуло лицом на спинку переднего сиденья. От этого удара повязка сползла с его глаз, он увидел, что его сосед слева полулежит на сиденье, закатив глаза, и по виску его стекает струйка крови. Видимо, автомобиль ударился обо что-то, и охранник от этого удара потерял сознание. Борису некогда было доискиваться причин такого положения. Движимый скорей инстинктом, чем разумом, он перекатился через бесчувственное тело, нажал лбом на ручку двери, и как только дверца приоткрылась, вывалился на тротуар. Откатившись в сторону, он вскочил на ноги и оглянулся.
Черный автомобиль стоял посреди улицы, столкнувшись с большим армейским грузовиком. Второй охранник, не пострадавший при столкновении, уже вылезал через другую дверцу, на ходу вытаскивая револьвер. Борис пригнулся и бросился зигзагами вперед по улице. Насколько он мог судить, они находились где-то на Галате – бедные обшарпанные дома, бьющая в глаза нищета, толпящиеся на тротуаре нищие оборванцы.
Сзади слышался топот преследователей. Оглянувшись, Борис увидел, что его догоняют двое дюжих парней – должно быть, охранник и шофер. Связанные за спиной руки очень мешали бежать. Увидев открытые двери маленькой кофейни, Борис бросился туда, но дорогу ему преградил рослый пузатый турок со шрамом через все лицо. Турок оттолкнул беглеца и прокричал ему что-то зло и темпераментно. Не понимая языка, Борис догадался по интонации: «Разбирайтесь между собой сами и не впутывайте нас в свои неприятности!»
Ордынцев бежал и видел вокруг одинаковые лица – равнодушные, озлобленные, безразличные. Он понял, что от этих людей помощи ждать бесполезно.
Силы постепенно оставляли его. Он бежал все медленнее и медленнее. Шаги преследователей за спиной неумолимо приближались.
Вдруг перед ним появился высокий одноглазый человек в поношенной английской форме без погон. Смуглое лицо с жесткими кошачьими усами и черная повязка на глазу делали его похожим на пирата.
Левой рукой распахнув маленькую дверь в стене, пират мотнул головой и сказал Борису по-русски:
– Сюда, земляк!
В то же время правой рукой он выдернул из-за пояса револьвер «веблей» и, широко расставив ноги, преградил дорогу преследователям Бориса.
– Господа! – проговорил он скрипучим презрительным голосом. – Что за беготню вы устроили? Я советую вам перейти на шаг и, не торопясь, отправиться куда-нибудь в другую сторону. Здесь вам делать нечего.
Преследователи Ордынцева остановились и присмотрелись. Решительный вид, уверенность, с которой этот человек встал у них на пути, оружие, как бы служившее продолжением его руки, вызвало у них невольное уважение. Однако мысль о том, что сделает с ними хозяин, узнав, что Борису удалось бежать, придала им храбрости. Подняв револьверы, охранники медленно двинулись вперед. Но в это время из той двери, которую открыл одноглазый пират, вышел, слегка прихрамывая, еще один человек – светловолосый, с бледно-голубыми глазами. Этот человек не успел ничего сказать и даже не достал оружие, но само его появление и пустой безразличный взгляд его голубых глаз так испугали охранников, что они, не сговариваясь, повернулись и быстро пошли прочь…
Борис хотел поблагодарить своих неожиданных спасителей, попросить, чтобы они развязали веревки на его руках, и откланяться, потому что на него эта парочка тоже произвела не самое благоприятное впечатление, но пират решительно положил руку ему на плечо и втолкнул в открытую дверь.
Борис оказался в большой комнате с низкими сводчатыми потолками, полной табачного дыма и гула многочисленных мужских голосов. На длинных дощатых столах стояли пивные кружки и тарелки с нехитрой закуской. Между столами сновали юркие кельнеры в длинных передниках с подносами в руках. Это была бы самая обычная пивная, если бы не посетители – все, как один, с военной выправкой, многие со следами ран и увечий, большинство – в военной или полувоенной форме без погон и знаков различия.
Одноглазый пират провел Бориса между столами и втолкнул в маленькую комнату за стойкой. Там он одним ловким взмахом ножа освободил его от веревок, указал на шаткий табурет и сам сел напротив.
– Ну что, земляк, в уголовку вляпался? За что тебя схватили? Украл что-нибудь или похуже дело?
Борис, ошарашенный быстротой развития событий, не знал, какую линию поведения избрать. С одной стороны – его выручили, избавив от преследования, с другой – одноглазый незнакомец вызывал у него серьезные опасения. «Не попал ли я из огня в полымя?» – подумал Борис и чтобы хоть как-то потянуть время, спросил у «пирата»:
– Как вы узнали во мне русского?
– Не просто русского, земляк, – одноглазый похлопал Бориса по плечу, – а русского офицера! А русский офицер – это звание, выше которого нету на земле! Так что ты, земляк, не унижайся пред этой иностранной швалью. Мы сами возьмем у них все, что нужно… А узнал я тебя очень просто: на острове Принкипе, ночью, когда мы собирались все вместе… все наши… ты тоже был там, я тебя запомнил. У меня очень хорошая память. Поэтому сейчас я должен был помочь тебе: ведь ты – один из нас! Так что этим сволочам от тебя было нужно?
Борис облизнул пересохшие губы и хотел было сочинить какую-нибудь правдоподобную ложь, но тут к ним подошел, сильно хромая, светловолосый человек с пустыми бледно-голубыми глазами, тот самый, чье появление на улице перед пивной заставило отступить преследователей Бориса. Он уставился на Бориса немигающим взглядом и произнес:
– Ради милого дружка – хоть сережку из ушка!
Одноглазый «пират» покосился на него и сказал Борису:
– Штабс-капитан очень любит говорить в рифму. Ты, земляк, его не бойся, он за своих – в огонь и в воду… Но человек он, конечно, нервный – шесть раз ранен, дважды контужен, в махновском плену побывал – от этого кто хочешь нервным станет. Поэтому лучше его не сердить. Но если с ним по-хорошему, – так он просто душа-человек. Ты, кстати, в каком звании?
– Поручик Ордынцев, – поспешно представился Борис, обрадовавшись, что расспросы временно отложены.
– А я – капитан Сивый, четырнадцатого пехотного полка. А штабс-капитан Сельцов драгуном был… до контузии. Вот что я тебе скажу, поручик, – Сивый чуть отстранился и внимательно присмотрелся к Борису цепким оценивающим взглядом, – похоже, что судьба мне тебя послала. Сегодня у нас со штабс-капитаном намечается важная и опасная работа, в которой понадобится помощь третьего человека. Айда с нами, поручик, проверишь себя!
– А что… что за дело? – осторожно спросил Борис.
– Что за дело? Дело серьезное, – Сивый все так же внимательно приглядывался к Ордынцеву, – да ты же не новичок, в боях бывал, порох нюхал. И здесь, судя по тому, как тебя сегодня провожали, ты тоже не пирожками торгуешь. А что за дело – это я тебе вечером скажу. Раньше времени об этом знать вредно. Твое-то дело будет простое – выполняй мои приказы – и вся наука.
– Да я, конечно… я не против, – протянул Борис, – только у меня в таких делах опыта нет…
– Не волнуйся, ничего особенного от тебя не потребуется. Справишься. Мы со штабс-капитаном тебе поможем.
– Ладно, договорились… Где мы встретимся?
– А зачем нам встречаться? – одноглазый усмехнулся. – Прямо отсюда и пойдем! Здесь место спокойное, безопасное, здесь до вечера подождем… Эй, Трофимов! – крикнул одноглазый, приоткрыв дверь в большой зал. – Принеси нам пива и кефали! – и, обернувшись к Борису, подмигнул: – Кефаль здесь хорошо готовят! Попробуешь – пальчики оближешь!
– Как же! – растерянно проговорил Борис. – Мне нужно кое-какие дела сделать… Меня ждут… может, я сейчас пойду, а вечером, перед тем, как на дело идти, встретимся здесь?
– Э нет, земляк! – Сивый посмотрел угрожающе. – Что тебя ждут – это ты верно сказал: те двое, что за тобой гнались, они тебя и ждут. А дела твои… коли бы мы тебя от погони не спасли, что бы с твоими делами было? Вот то-то! Ты уж, земляк, лучше с нами до вечера побудь. Пива попьем, кефали поедим… кефаль здесь очень вкусная! А то уйдешь ты отсюда – да ненароком обратно-то дорогу и забудешь! А это нехорошо. Ты ведь – один из нас, и дела у тебя с нами должны быть общие…
– Тут такие, брат, дела, что закусишь удила! – вдруг засмеялся штабс-капитан.
– Видишь, земляк, – добавил одноглазый, – штабс-капитан нервничает, а он и без того нервный, дважды контуженный, его волновать нельзя! Он если нервничает – очень сердитый становится. Я тогда сам-то его боюсь.
Рыжий Трофимов в грязно-белом фартуке принес поднос, на котором пенилось в трех огромных кружках светлое пиво и источала божественный аромат зажаренная до золотой корочки кефаль. Борис почувствовал, что страшно проголодался и решил предоставить событиям развиваться своим чередом.
Глава одиннадцатая
Мы – вежливы. Bы попросили спичку
И протянули черный портсигар,
И вот огонь – условие приличья —
Из зажигалки надо высекать.
Дымок повис сиреневого ветвью.
Беседуем, сближая мирно лбы,
Но встреча та – скости десятилетье! —
Огня иного требовала бы…
А. Несмелов– Заходите, эфенди! – хозяин кабинета вежливо приподнялся навстречу полковнику Горецкому, но из-за стола не вышел.
Аркадий Петрович подумал, что турку с его объемистым животом это было бы непросто.
– Садитесь, эфенди, – турок маленькой мягкой рукой указал Горецкому на низкое кресло.
Горецкий сел, едва заметно поморщившись: в этом кресле он оказался гораздо ниже своего визави и смотрел на него снизу вверх, кроме того, вставать из него будет неудобно и унизительно.
– Не хотите ли закурить? – хозяин пододвинул гостю изящную серебряную сигаретницу с тонкими египетскими папиросами какие, на взгляд Горецкого, пристало курить только женщинам.
– Благодарю вас, если позволите, я закурю трубку, – он вытащил замшевый кисет.
– Итак, господин полковник, – начал турок, выпустив облачко ароматного, слегка дурманящего дыма и проследив за ним печальным взглядом, – я пригласил вас сегодня по одной крайне неприятной причине.
– Не сомневаюсь, – не менее грустно улыбнулся Горецкий в ответ, – трудно было бы ожидать, что начальник полиции города Константинополя пригласит меня, чтобы сообщить радостное известие. Итак, что же случилось?
– Мой город – большой город, эфенди, – турок сделал плавный округлый жест своей маленькой ручкой, словно обвел ею шумные базары Ускюдара, богатые кварталы Пери, грязные трущобы Галаты, весь этот разноязыкий, разноплеменной Вавилон, – очень большой город, эфенди. Но в этом городе мне удавалось до сих пор поддерживать порядок…
Горецкий скептически усмехнулся. Турок заметил это и взмахнул ручками, чуть привстав из-за стола.
– Вы зря сомневаетесь, господин полковник! Конечно, бывали потасовки и поножовщина. В этом городе очень много моряков из разных стран, – а моряки, сойдя на берег, словно срываются с цепи. Они бьют друг друга в веселых кварталах, они пьют – ведь они не мусульмане и святые заветы Магомета писаны не для них. Но это было всегда, и будет всегда, с этим приходится мириться, и я не вижу в этом ничего страшного. Конечно, случалось, что утром в сточных канавах Галаты находили зарезанного шулера или сутенера… но такая уж у них профессия. Обычно нам удавалось найти убийцу, и его постигала суровая кара. Но с тех пор, как наш гостеприимный город дал приют вашим соотечественникам… я сам стал с опаской ходить по улицам!
Турок откинулся на спинку стула, прикрыл темными веками свои яркие глаза, сложил маленькие руки, сжимая в них янтарные четки. Горецкий молча ожидал продолжения. Он снял пенсне, и его профиль стал твердым и чеканным, как у императора на старой римской монете.
Турок открыл глаза и продолжил:
– В моем городе поселилась злоба. Страшные, бессмысленные убийства. Эсеры убивают монархистов, монархисты убивают кадетов, каждый генерал содержит целую армию убийц… Вы убивали друг друга в России, вам этого показалось мало. Из России вас выгнали, и теперь вы убиваете друг друга здесь… Но это наш город, это мой город!
Турок сделал ударение на последних словах. Он приподнялся из-за стола и навис над своим гостем, неожиданно сделавшись огромным и мощным. Даже его маленькие ручки казались теперь могучими руками атлета.
Горецкий сделал над собой усилие и заговорил, стараясь, чтобы его голос звучал максимально твердо.
– Господин начальник полиции! Попрошу вас перейти ближе к делу! Какая лично у вас ко мне просьба?
Мустафа-эфенди запнулся на полуслове, поглядел на Горецкого удивленно и сел в кресло, переводя дух.
– Я пригласил вас, эфенди, чтобы вы помогли мне разобраться в одном очень сложном и щекотливом деле.
– Убийство полковника Шмидта, – полуутвердительно вымолвил Горецкий.
– Разумеется, – раздраженно ответил турок. – В этом деле мы столкнулись с некоторыми совершенно непонятными обстоятельствами. Шмидта убили на улице, нанеся незаметно удар острым предметом, предположительно шилом, в шею.
– Я читаю газеты, – вставил полковник.
– И никаких следов убийцы, его никто не видел.
– То есть видели, но не обратили внимания, – поправил Горецкий. – Это говорит о высоком профессионализме убийцы.
– Да-да, конечно, о профессионализме, – нетерпеливо заметил турок и отбросил четки. – Теперь… почему я пригласил именно вас…
Горецкий молча смотрел на турка, ожидая продолжения.
– Вы – человек уважаемый, причем к вам относятся с уважением представители самых разных русских групп. Я разговаривал и с эсерами, и с представителями барона Врангеля, и с Кутеповым, и даже со Слащовым – все они высоко оценивают полковника Горецкого. Далее, вы работаете в тесном контакте с британцами… Связи полковника Шмидта с британцами при его жизни не были оставлены мною без внимания. Профессионализм, с которым совершено убийство, говорит о том, что оно было тщательно продумано, и что Шмидта убрали по приказу. Но кто отдал этот приказ? Французы? Итальянцы? Вот это вам предстоит выяснить, потому что вы сможете получить от англичан больше информации, чем начальник полиции города Константинополя.
Горецкий протестующе замахал рукой, но Мустафа-эфенди продолжил, не обратив на его жест внимания:
– Не беспокойтесь, дальше моего кабинета эта информация не пойдет, а я по должности обязан знать все, что происходит в моем городе. Итак, вы работаете с англичанами, что весьма поднимает ваш статус в подмандатном Соединенному Королевству городе. Далее: что, если Шмидта убрали по приказу русских? Об этом, кстати, говорит тот факт, что буквально за полчаса до убийства к нему в ресторане «Кокошник» привязался пьяный капитан… как его там… Лихачев и угрожал расправой. Полковник Шмидт вместо того, чтобы осадить наглеца, отчего-то воспринял его угрозы так серьезно, что даже послал своего охранника, некоего… эсаула Чернова проследить за капитаном на предмет выявления его связей. В результате Шмидт оказался на Пери без охраны, что и дало возможность убийце выполнить свою миссию.
– Что показал допрос капитана Лихачева? – в вопросе Горецкого прозвучал такой неподдельный интерес, что турок едва скрыл улыбку: ему была хорошо знакома эта интонация, этакий сыщицкий азарт, – она означала, что полковник Горецкий заинтересовался расследованием убийства и не отступит, пока не разгадает загадку смерти полковника Шмидта.
– Тело капитана выловили через два дня в порту, – коротко ответил начальник полиции.
– Вот как? – Горецкий поднял брови и пыхнул дымом из своей трубки.
– Все подробности дела вы сможете узнать у моего доверенного помощника Джафара Карманли, – сухо проговорил турок и прикрыл тяжелыми веками свои выразительные глаза. – Стало быть, если Шмидта убили русские из-за каких-то своих тайных дел, то вы сможете разобраться со своими соотечественниками лучше турецкой полиции. Кроме того, как я знаю, прежде вы были юристом, специалистом по уголовному праву. Поэтому – как говорят, вам и книги в руки. Итак, господин полковник, я очень прошу: займитесь этим делом. Я постараюсь обеспечить вам поддержку и очень рассчитываю, что ваши действия будут успешными. В противном случае… конечно, ваши британские друзья очень могущественны, но не забывайте, эфенди, – это мой город.
Начальник полиции произнес последние слова тихо, но в его интонации прозвучала скрытая угроза, с которой приходилось считаться всерьез. Горецкий вполне осознал это. Здесь, в Константинополе, несмотря на поддержку могущественных английских друзей, начальник полиции вполне мог создать ему невыносимые условия.
– Присаживайтесь, господин полковник, – тихим невыразительным голосом произнес худощавый человек в строгом сюртуке, строго глядя из-под очков в черной роговой оправе на Горецкого. В отличие от своего начальника, он предложил полковнику не низкое неудобное кресло, а жесткий стул с прямой спинкой. Стул был еще неудобнее, чем кресло, но полковник заметил, что хозяин кабинета сидит на точно таком же. В комнате находились еще пара стульев, простой письменный стол, на котором почти не было бумаг, и железный шкаф с картотекой.
– Итак, – начал Горецкий, – кое-что об убийстве полковника Шмидта я выяснил из газет. – Кое-какие сведения мне дал ваш шеф, – он кивнул в сторону, где за стенкой находился кабинет начальника полиции. – Прошу вас ответить на некоторые мои вопросы.
Джафар Карманли выказал свое согласие легким наклоном совершенно лысой головы, обтянутой желтоватой кожей.
– Могу я ознакомиться с протоколом осмотра тела капитана Лихачева? – осведомился Горецкий.
Джафар молча придвинул к нему одну из немногочисленных бумаг, лежавших на его столе.
– Что касается есаула Чернова, то я приказал взять его под стражу, – сказал он, когда Горецкий поднял голову от бумаги. – Лишиться последнего свидетеля было бы крайне глупо.
– Да-да, – рассеянно пробормотал Горецкий, – но, насколько я знаю, он никого из нападавших не опознал.
– Это не важно, – последовал холодный ответ.
– Но по крайней мере, он содержится в приемлемых условиях? – настаивал Горецкий. – Дело в том, что я некоторым образом знаком с вашими турецкими тюрьмами – неблизко, понаслышке, но и этого мне хватает для беспокойства. Этот есаул Чернов ведь может нам понадобиться.
– О, нет повода для беспокойства, условия вполне сносные, – Джафар по-прежнему говорил тихим невыразительным голосом.
Горецкий внимательно вгляделся в его лицо.
– Имеете ли вы еще что-то мне сообщить? – напрямик спросил он.
– Видите ли, – полковнику показалось, что в голосе Джафара появилась некоторая неуверенность, – поскольку Мустафа-эфенди был очень недоволен тем, что мы упустили капитана Лихачева, я позволил себе кое-что предпринять, а именно: я поднял на ноги городских осведомителей и велел сообщать мне все мало-мальски касающееся этого дела.
– И что же вам удалось выяснить? – заинтересовался Горецкий. – Кто мог убить капитана Лихачева?
– Выяснить ничего не удалось, но зато я наткнулся на любопытные факты, – Джафар выдвинул ящик стола и достал оттуда еще одну бумагу. – За четыре дня до убийства полковника Шмидта на Галате поздно вечером был убит еще один русский.
– Ну-ну, – поощрил Джафара Горецкий, понимая, что тот не будет обращать внимание полковника на заурядное убийство.
– Погибший был русским офицером. Ротмистр Хренов. Его документы были найдены, в кармане шинели. Немногочисленные деньги тоже не тронуты, стало быть, убийство не связано с ограблением. И самое главное, – Горецкому показалось, что в равнодушных глазах Джафара Карманли мелькнуло какое-то оживление, – этот русский офицер был убит ударом острого предмета, похожего на шило, в основание черепа.
– Где находится тело? – вскинулся Горецкий.
– На кладбище, – коротко ответил Джафар. – Прошло уже больше недели со дня убийства. Согласно вашим православным обычаям, ротмистра Хренова отпели в церкви Николая Мерликийского и похоронили на кладбище при той же церкви.
– Но хоть судебный врач осматривал труп?
– Не думаю, – невозмутимо ответил Джафар, – а точнее, знаю, что не осматривал.
Полковник посмотрел в его равнодушные глаза и сдержал готовое сорваться пренебрежительное восклицание.
– Могу я продолжать? – осведомился Джафар и раздвинул в улыбке плотно сжатые до этого губы.
Полковнику Горецкому невольно представилось, как на свободном месте у стены стоит допрашиваемый человек и что он чувствует при виде такой улыбки Джафара Карманли. Горецкий внутренне поежился и решил быть как можно осторожнее с помощником начальника полиции.
– Я приказал полицейским просеять информацию обо всех убийствах, что произошли в городе, на предмет шила в затылке.
– Они нашли?
– Нашли, – Джафар наклонил лысый череп. – Один ростовщик, он брал под залог ценные вещи. Жил тихо и скромно. Так вот, накануне убийства полковника Шмидта старуха-служанка нашла его убитым. Никто ничего не слышал, в комнате никакого беспорядка и даже – можете себе представить, многочисленные драгоценности и деньги остались нетронутыми.
– Вот так так… – Горецкий достал из кармана трубку, но закуривать ее не спешил, как не спешил и спрашивать, осматривал ли тело убитого ростовщика врач – он уже понял, что не осматривал.
– Протокол осмотра трупа я вам предложить не могу, – негромко проговорил Джафар, как бы прочитав мысли полковника, – но зато могу сообщить, что поскольку родственников у ростовщика не было и не оставил он никаких на случай своей смерти распоряжений, то и похоронили его на православном кладбище в могиле для бедных.
– Но ведь насколько я мог понять, этот человек, ростовщик, не был беден. Куда же девалось в таком случае его имущество?
– Имущество отошло в казну, – равнодушно проронил турок, – наше государство берет на себя заботу о похоронах только своих подданных.
«Ай да турки! – мысленно воскликнул Горецкий. – Денежки в казну прибрали, а похоронить человека как следует, оказывается, они не обязаны».
– Вы хотите сказать…
– Да-да. Ростовщик был русский, эмигрант. Прибыл в наш город два месяца назад.
– М-да-а, не сердитесь, глубокоуважаемый Джафар-эфенди, но немного же вам удалось узнать, – разочарованно выговорил Горецкий.
– Я еще не закончил, – напомнил Джафар. – Уже после убийства полковника Шмидта произошло еще два аналогичных события – смерть одной совершенно опустившейся проститутки и ее сутенера. Все точно также – сутенер привел убийцу в качестве клиента. Хозяин ничего не заметил, и только потом обнаружил у себя в задней комнате два трупа.
– Шилом в затылок? – коротко осведомился Горецкий.
– Да.
– И, разумеется, трупов тоже уже нет…
– На этот раз дело обстоит не так скверно, – полковник Горецкий с изумлением услышал в голосе своего собеседника обычные человеческие нотки, – тела этих двух, поскольку их никто не востребовал, были направлены в анатомический театр при французском госпитале святой Агнессы.
– Когда случилось последнее убийство? – возбужденно спросил полковник.
– Согласно донесению, три дня назад.
– Стало быть, есть шанс, что тех двоих еще не окончательно изрезали?
– Думаю, есть.
– Так пошлите же скорее туда людей и врача, пусть проведет осмотр по всем правилам.
– Уже, – коротко ответил Джафар, – уже сделано, и сегодня вечером протокол сравнения обоих убийств с убийством полковника Шмидта ляжет на этот стол. Думаю, что они будут идентичны.
– Я тоже так думаю, – Горецкий наклонил голову. – Стало быть… маниак? Полковник Шмидт стал жертвой маниака? Этого еще только не хватало.
– Только не говорите раньше времени господину начальнику полиции, – абсолютно серьезно произнес Джафар, – а то он очень расстроится. Что касается вас, эфенди, то я прошу вас найти маниака как можно быстрее – уважаемый Мустафа-эфенди и так слишком зол на ваших соотечественников.
– Но почему же вы считаете, что он – мой соотечественник?
– Потому что он убивает русских. Сами посудите: ротмистр Русской армии Врангеля Хренов, полковник Шмидт – обрусевший немец, далее – ростовщик Фома Сушкин – русский эмигрант…
– А эти, последние? – расстроенно спросил Горецкий.
– Женщина была зарегистрирована как проститутка – у нас с этим строго – и звали ее Мария Костромина. Из эмигрантов. Здесь очень быстро обнищала, стала нюхать кокаин и так далее. Ее сутенер выдавал себя за турка, но на самом деле был грузином – и тоже прибыл из России. Так что я считаю, что убийца – ваш соотечественник. Если бы он убивал негров, то я считал бы, что он сам негр или вырос там, где негров очень много. Если он убивал испанцев, я считал бы, что он испанец или прожил в Испании большую часть жизни.
– Позвольте с вами не согласиться, – Горецкий наклонился вперед и поднял руку в жесте протеста, – негров чаще всего убивают белые, страдающие расовой ненавистью. Может быть, этот маниак так же ненавидит русских?
– Я сказал уже, – в голосе Джафара не слышалось недовольства, он по-прежнему был тускл и негромок, – что больше всего ненавидит тех, с кем долго прожил вместе. Негров убивают зачастую белые, но только те, кто вырос в южных американских штатах, а отнюдь не в Гренландии. Сколько я знаю ваших соотечественников – нет на свете такого народа, который был бы более враждебен к русским, чем сами русские…
Горецкий откинулся назад, больно ударившись о жесткую спинку стула, и горестно склонил голову:
– Вынужден с вами согласиться. Ни один народ не ненавидит нас так, как мы сами. Что ж, я сейчас же займусь расследованием и сделаю все, что в моих силах. Что-то подсказывает мне, что убийца не остановится на достигнутом. И, поскольку протокола осмотра тел, которые находятся в анатомическом театре, придется ждать до вечера, я предлагаю допросить еще раз есаула Чернова.
– Время обеда, – любезно напомнил Джафар.
– Да, неразумно начинать сложное дело на голодный желудок, – согласился полковник.
Он секунду помедлил, внезапно осознав, что ему не хочется обедать вместе с Джафаром Карманли, что он вообще не может себе представить, как тот ест, спит и делает все остальное. Было такое впечатление, что помощник начальника полиции живет только в этом кабинете, а по окончании рабочего дня исчезает из него в небытие, чтобы утром снова возникнуть за столом из ничего. Полковник Горецкий решил немедленно взять себя в руки, но Джафар уже вызвал полицейского и, улыбаясь одними губами, что означало у него крайнюю степень вежливости, велел проводить полковника к выходу с тем, чтобы встретить его через час. Горецкий сдержал готовый вырваться вздох облегчения и ушел обедать.
Поел он в находившемся неподалеку греческом ресторанчике без всякого аппетита, потому что хоть и кормили в этом месте отменно, но все блюда показались полковнику невкусными. Только за кофе – очень крепким и очень сладким, который он еще с крымских времен привык пить по-турецки – запивая ледяной минеральной водой, – полковник Горецкий несколько просветлел лицом и предался легкой задумчивости.
– Маниак, – бормотал он тихонько себе под нос, – хм… маниак? С чего это в Константинополе взяться маниаку? Да еще русскому…
Бывало там, в России, в его практике всякое – не зря профессор Горецкий считался в свое время лучшим в Петербурге специалистом по уголовному праву. Память у него была очень хорошая, так что сейчас он сразу вспомнил подходящие дела. М-да, маниак. Что ж, все может быть… Горецкий прислушался к себе и понял, что не верит ни в какого маниака. Впрочем, в данный момент следовало отложить в сторону интуицию и рассуждать логически.
Джафар Карманли сообщил ему о пяти одинаковых убийствах, вернее о четырех, потому что сутенера и проститутку убили вместе. Пока что связывает все эти убийства только одно: смерть от удара в затылок шилом или другим острым предметом. Полковник на мгновение усомнился: не может ли быть, чтобы Джафар нарочно подсунул ему эти убийства, чтобы увести его с правильного пути, отвлечь от расследования убийства полковника Шмидта? Он подумал еще немного и решил, что этого не может быть. Несмотря на довольно неприятные внешность и повадки, Джафар производил впечатление добросовестного полицейского, он был заинтересован в раскрытии убийства полковника Шмидта так же, как и Горецкий. Итак, все мертвые – русские. И вот это-то и настораживало, потому что опыт профессора Горецкого говорил о том, что для маниака такой связи недостаточно. Ну, допустим, Джек-Потрошитель убивал молодых женщин легкого поведения… Как ни ужасно это звучит, но логика в его действиях была. А в этом деле? Ротмистр Русской армии, старый ростовщик, полковник Шмидт и проститутка со своим сутенером. Неоднородная компания… И если проститутку, старика и даже ротмистра неизвестному было убить легко, потому что никто ими не интересовался и не охранял, то с полковником Шмидтом дело обстояло совершенно по-другому. Убийца подгадал момент, когда полковник отослал своего охранника. Зачем он это сделал? Вот с этого Горецкий и начнет допрос есаула Чернова.
Высокий человек в хорошо пошитом английском френче без погон щедро расплатился с хозяином ресторанчика, который сам обслуживал важных посетителей, а что этот клиент – важный, он угадал, как только тот вошел. Военный поблагодарил хозяина по-гречески и вышел на улицу. Годы сделали его походку несколько тяжеловатой, но видно было, что человек еще крепок и не скоро поддастся старости. Хозяин ресторана проводил его взглядом через открытую дверь, заметил, что тот вошел в здание полиции, и удовлетворенно улыбнулся. Он не ошибся: его посетитель очень важная персона!
Джафар Карманли по-прежнему сидел в своем кабинете и что-то писал.
– Вы пришли вовремя, – констатировал он, не поднимая головы, – сейчас приведут Чернова.
За дверью раздался шум, возня, и здоровенный турецкий полицейский втолкнул в комнату нечто, что недавно было есаулом Черновым. Малиновая некогда черкеска, вернее, то, что от нее осталось, висела на теле вошедшего, как на вешалке. Щеки его ввалились, глаза лихорадочно блестели и беспокойно перебегали с Джафара на полковника. Лицо было какого-то желтого цвета, и, внимательно приглядевшись, Горецкий обнаружил, что оно все покрыто заживающими синяками.
От толчка полицейского есаул не удержался и сполз на пол возле стены. Джафар махнул рукой, отпуская конвоира, и пристально посмотрел на Чернова.
– Встать! – проговорил он тихо, одними губами, но арестованный услышал и со стоном начал приподниматься.
– Молчать! – так же тихо приказал Джафар.
Есаул встал с трудом, держась за стену.
– Хм, однако! – решил напомнить о себе полковник Горецкий. – Вы говорили, уважаемый Джафар-эфенди, что условия содержания есаула вполне сносные. Но я, признаться, удивлен.
– Условия обычные – те, в которых содержатся иноверцы. Разумеется, они отличаются от тех, в которых содержатся подданные Османской империи, – невозмутимо отвечал турок. – Камеры сухие, но, конечно, в них много народа. Два раза в день дают воду.
– А еду? – Горецкий против воли повысил голос, так как вдруг заметил, что есаул до крайности истощен. – Вы что же, не кормите арестованных?
– Они могут сами купить себе еду, на свои деньги. Государство не обязано кормить преступников.
«Ай да басурманы! – мысленно воскликнул Горецкий. – Ну и законы у них…»
– Деньги отобрали, – прошептал у стены есаул.
– Кто разрешил говорить? – опять Джафар произнес эти слова тихо, но арестованный вздрогнул, как от крика.
– Сколько дней голодаете? – отрывисто спросил Горецкий.
– Сколько сижу… Четыре дня…
– Хм… Видите ли в чем дело, уважаемый Джафар-эфенди, – начал Горецкий, тщательно подбирая слова, – я никак не хочу критиковать ваши методы, но не кажется ли вам, что весьма неразумно морить голодом важного свидетеля? Если бы сегодня я не решил провести допрос, есаул, пожалуй, мог бы и…
– Тюрьма – это не мое ведомство, – равнодушно ответил Джафар, – там есть свое начальство.
– М-н-да… – слегка задумался Горецкий. – Вы разрешите? – Он вытащил из кармана плитку бельгийского шоколада, которую купил утром, намереваясь навестить Варю Ордынцеву в госпитале.
Есаул Чернов встрепенулся, схватил плитку, но, под строгим взглядом Горецкого, стал есть медленно, не спеша отламывая по кусочку.
– Итак, – начал Горецкий по-французски, чтобы было понятно Джафару, – я пока не буду спрашивать вас, отчего вы не разглядели трех офицеров, избивших вас на улице Османли, я спрошу вас о другом: отчего ваш начальник, полковник Шмидт, так обеспокоился разговором, что произошел у него с пьяным капитаном Лихачевым? А ведь он был обеспокоен, иначе не послал бы вас за ним проследить. И помните, что я не удовлетворюсь простым ответом «не знаю». Вы должны дать мне информацию, в противном случае я не сумею ничего для вас сделать, и вы, есаул, как это ни прискорбно, сгниете заживо в турецкой тюрьме.
– Раньше я умру от голода, – усмехнулся Чернов, немного приободрившийся после шоколада. – Вы не беспокойтесь, господин… полковник. Я слышал о вас от Шмидта, – пояснил он в ответ на вопрошающий взгляд Горецкого и перешел на русский. – Так вот, там, в тюрьме, я очень хорошо понял, что после смерти полковника я совершенно никому не нужен. Турки считают нас пылью под ногами. Никаких прав я здесь не имею. На голодный желудок, знаете ли, хорошо думается. И я, конечно, расскажу вам все, что знаю, но нельзя ли что-то сделать насчет моего освобождения?
– Отвечу откровенно: сделать для вас я сейчас могу мало, – по-французски ответил Горецкий. – Дело в том, что сидите вы как свидетель, ибо капитана Лихачева, похоже, утопили в тот же день, когда убили полковника Шмидта. Турецкая полиция не хочет, чтобы вас постигла та же участь, поэтому вас взяли под стражу.
– Премного благодарен, – пробормотал есаул.
– Итак, я вас слушаю, – напомнил Горецкий.
– Несколько недель назад к полковнику Шмидту поступили сведения о некоем тайном обществе среди русских офицеров. Общество называлось, кажется, «Русское дело», и настроение у его членов было весьма жестким. Туда принимались офицеры, преимущественно молодые, небольших чинов. У этого… скажем так, содружества молодых, много воевавших офицеров, как ни странно, имелась даже своя программа. Программа эта пока выражена неточно – возможно, потому, что общество не хочет афишировать свои цели, – но общие идеи вычленить можно. – Есаул внезапно прижал руку к горлу и громко сглотнул.
– Много сразу не ешьте, – нахмурился Горецкий, – желудок отвык.
– Куда уж много, – криво улыбнулся есаул. – Стало быть, подошел тогда к нашему столику капитан Лихачев и начал угрожать – дескать, недолго вам, господин полковник, осталось гулять по ресторанам, потому что карающая рука с мечом уже занесена над вашей головой и скоро, дескать, за все вам лично отольется. И что-то все Четвертую роту вспоминал, которая вся полегла по приказу, мол, господина полковника.
За разговором Чернов как-то незаметно перешел на русский, но хозяин кабинета никак на это не отреагировал, он продолжал молча сидеть за столом.
– Так-так, – пробормотал Горецкий, – что у пьяного на языке, то у трезвого на уме. Вы, есаул, поподробнее насчет программы этого тайного общества, пожалуйста.
– Я мало что знаю… но там у них, во-первых – никакой веры генералам, которые своими амбициями привели армию к поражению, а Россию – к гибели. У них свои особые законы и своя иерархия. Кому конкретно они подчиняются, неизвестно, но дисциплина в обществе строгая.
– Интересно, откуда же ваш шеф полковник Шмидт все это узнал?
– Узнал случайно, из неофициальных источников. Видите ли, – пояснил есаул в ответ на недоверчивый взгляд Горецкого, – полковник мне доверял, но до известной степени. Я не в курсе всех его дел.
Горецкий вынужден был согласиться с есаулом – он тоже никого не посвящал в некоторые свои секретные дела.
– Стало быть, генералам не подчиняются и даже собираются мстить. Подобно тому, как монархисты убили начальника штаба деникинской армии генерала Романовского?
– Примерно. Цели политические: возродить сильную армию без подлецов-генералов, чтобы воевать за Россию.
– Опять идти в Россию? – прищурился Горецкий. – Но это же глупо.
– Возможно, но для того, чтобы увлечь людей, эта идея вполне годится. А для того, чтобы накормить армию голодных офицеров, прежде всего следует отобрать у интендантов и тех же генералов все, что они успели украсть у армии в России и вывезли сюда.
– Хм, однако… Совсем как у большевиков: «Грабь награбленное!» Знакомый лозунг… Кстати, я припоминаю… недавнее убийство полковника Иванова. Это не их ли рук дело?
– Не могу знать, господин полковник! – честно ответил есаул.
– Из армии Иванов уволился, и ходили какие-то слухи, что здорово был нечист на руку… Во всяком случае, если бы не было у него в доме ценностей, не стал бы он нанимать охрану из казаков.
– Этот ваш Иванов был убит и ограблен, – подал голос Джафар. – По некоторым признакам, ценности у него в доме хранилась немалые.
– Уважаемый Джафар-эфенди! – в полном изумлении воскликнул Горецкий. – Вы понимаете по-русски?
– Слишком много русских в городе, – невозмутимо ответил Джафар, – слишком много беспорядка.
– Так-так, – повернулся Горецкий к есаулу. – Теперь переходим собственно к нападению на вас.
– Значит, я шел по Османли следом за капитаном Лихачевым, сохраняя неизменное расстояние между нами. Капитан был пьян, но не настолько, чтобы не заметить слежки. Он свернул во двор, я ускорил шаг и, когда миновал открытые ворота, заметил, что он скрылся в подъезде дома. Мне показалось, что во дворе никого нет, поэтому я, не скрываясь, побежал к подъезду, но тут появились трое офицеров, молча окружили меня и начали бить.
– А вы что же, так и стояли спокойно, пока вас били? – недовольно спросил Горецкий.
– Я, конечно, кричал им, что я – офицер, спрашивал, что им нужно, пытался сопротивляться…
Горецкий со вздохом оглянулся и встретил презрительный взгляд Джафара Карманли. Он резко встал с места, пенсне от этого движения свалилось с носа и повисло на шнурочке. Есаул Чернов поразился тому, как изменилось лицо полковника Горецкого. Еще недавно перед ним сидел мягкий немолодой человек. Глаза его глядели из-под пенсне добро и участливо. Теперь же глаза без прикрывавших их стекол оказались жесткими и пронзительными, морщины разгладились и лицо приобрело чеканность, свойственную профилям на старинных римских монетах.
– Что я слышу? – угрожающе начал полковник. – Вам, есаул, прекрасно было известно, что люди, которые стоят за капитаном Лихачевым, весьма опасны. В противном случае полковник Шмидт не послал бы вас следить. И вам даже не пришло в голову, что темный двор может быть ловушкой? Ведь вы же были вооружены и даже не успели достать револьвер? Здоровый, крепкий молодой человек позволяет себя избить!.. Есаул, вы меня удивляете. Расслабились тут, в Константинополе, на сытных хлебах? По ресторанам ходите, красивых женщин разглядываете! Не понимаю, за что вас приблизил к себе полковник Шмидт.
Высказав это, Горецкий в сердцах отвернулся. На несколько минут в кабинете помощника начальника полиции повисло тягостное молчание.
– Хм, мы кажется отвлеклись, – первым опомнился Горецкий. – Я попрошу вас, есаул, продолжать, и как можно подробнее. Значит, офицеров было трое. В каких они были чинах?
– Я не заметил. Кажется, был там один поручик…
– Не стесняйтесь, господин Чернов, – ободрил Горецкий, – стало быть, вы растерялись и позволили себя избить. Ну, конечно, трое на одного…
– Нет, кажется, сначала их было двое… – пробормотал есаул и низко наклонил голову. – Я, конечно, свалял дурака, не смог удержаться на ногах.
– Это плохо, – наставительно проговорил Горецкий, – в драке самое главное – не упасть, а то затопчут ногами. С вами, если не ошибаюсь, так и случилось?
Он с удовлетворением заметил, как блеснули в бессильной ярости глаза есаула Чернова. Это хорошо, что ему стыдно за то, что позволил себя избить. Возможно, что из молодого человека и получится что-то, если, разумеется, не сгинет он в турецкой каталажке.
– Так что же было дальше? – как ни в чем не бывало спросил Горецкий.
– Я плохо помню… они били ногами… я старался прикрыться… Потом, когда я уже почти терял сознание, подошел кто-то… видно, старший, и сказал, чтобы прекратили, что, дескать, они не воюют с простыми офицерами, но за шпионство и за слежку меня следовало наказать. Те двое отошли, этот постоял возле меня немного, потом, очевидно, хотел закурить, потому что достал портсигар, но выронил его. Портсигар упал прямо мне на скулу, и был очень тяжелый, очевидно, золотой. Как скулу не сломал, до сих пор не понимаю, – есаул поморщился и потер левую щеку. – В общем, я подумал, что он сделал это нарочно и страшно разозлился. Но револьвер они у меня отняли. Поэтому я схватил портсигар и запустил в него – по-детски, конечно, но признаю, что плохо тогда соображал.
«И не только тогда», – подумал полковник Горецкий, но промолчал.
– И что было дальше? – спросил он.
– Ничего не было. Я, разумеется, не попал, тот человек поймал портсигар на лету, поблагодарил меня, рассмеялся и ушел. А я кое-как встал и побрел домой. Отлежался ночь, а на следующий день пришли турки и забрали меня на допрос в полицию по поводу убийства полковника Шмидта.
– М-да-а, есаул, немного вы смогли сообщить, – протянул Горецкий.
Арестованный беспокойно зашевелился, скосил глаза на хозяина кабинета и спросил шепотом:
– Меня опять уведут в тюрьму?
– Я тут не хозяин, – развел руки Горецкий, – от меня ничего не зависит. Пока не отыщется убийца полковника Шмидта, боюсь, что турки вас из тюрьмы не выпустят. Да, кстати, лица напавших на вас офицеров вы не разглядели, но хоть как-то можете их описать? Рост, голоса…
– Голоса не помню, а рост… когда лежишь, рост правильно не определить.
– Ах да, – с досадой согласился Горецкий, – вот хотя бы портсигар… Что вы можете сказать о портсигаре?
– Золотой, несомненно, – тяжелый и блестел даже в темноте, – на крышке выгравирован не то вензель, не то еще какой-то узор…
– И на том спасибо, – со вздохом сказал Горецкий. – Что ж, есаул, не могу желать вам всего доброго… – Он протянул руку к звонку, вызывающему охрану, но помедлил немного, глядя на арестованного.
Есаул смотрел обреченно, но не произнес ни слова.
– Вот вам немного денег, – полковник достал из кармана несколько купюр, – это не благодеяние, просто я не согласен с турецкими законами о содержании арестованных, – тут Горецкий вежливо кивнул поднявшему голову Джафару, – а уж сумеете ли вы отстоять эти деньги в камере, зависит от вас. Не благодарите.
Есаул молча взял деньги и вышел, понукаемый полицейским. Через несколько минут Горецкий тоже откланялся, пробормотав, что у него дела и ждать заключения судебного врача об осмотре трупов проститутки и ее сутенера он более не может. Джафар молча наклонил голову и проводил его немигающим взглядом из-под очков.
Глава двенадцатая
Когда пришли, он выпрыгнул в окно.
И вот судьба в растрепанный блокнот
Кровавых подвигов – внесла еще удачу…
А. НесмеловДо вечера Бориса ни на минуту не оставляли без присмотра – либо капитан Сивый, либо его белобрысый друг с голубыми страшными глазами постоянно находились рядом. Борис не представлял, как ему выпутаться из этого скверного положения. Горецкий, должно быть, давно уже искал его, но найти человека в огромном разноплеменном и разноязыком городе посложнее, чем иголку в стоге сена. Ордынцев никак не мог передать полковнику хоть какую-нибудь весточку о себе, хоть какой-то знак. Злость на Горецкого прошла просто потому, что злиться в его положении было бы глупо. Пока автомобиль вез Бориса к какому-то таинственному «наместнику», в голове у него кое-что прояснилось. Насколько он знал Горецкого, тот был человеком обязательным и планы своих операций разрабатывал всегда очень тщательно. Борис никогда не сталкивался с личным эмиссаром Черчилля, таинственным мистером Солсбери, но, по рассказам Горецкого, знал, что тот – тоже человек очень ответственный. Не может быть, чтобы два таких опытных человека так бездарно подготовили операцию! Но, в таком случае, это значит…
Борис зажмурился, потом открыл глаза и отхлебнул здоровенный глоток пива.
Это значит, что его опять подставили. Так уже было полтора года назад в девятнадцатом, в Феодосии. Полковник Горецкий спас его из контрразведки для того, чтобы отправить в Батум, чтобы выяснить, с кем Борис связан. И сейчас абсолютно такая же ситуация. Полковник сделал Бориса подсадной уткой. С помощью Анджелы его запустили в окружение прекрасной турчанки, подсунули книгу… Разумеется, Гюзель заподозрила, что с книгой что-то не так. Для того и была ей нужна отсрочка до утра, чтобы получить инструкции от своего шефа. А Горецкий с англичанином наблюдали за ней, чтобы выяснить, с кем она свяжется в течении ночи. Но в таком случае они, возможно, следили и за ним, Борисом? Впрочем, тогда не пришлось бы вмешиваться этим подозрительным господам, у которых Борис сейчас находится. Вот уж, что называется, попал как кур в ощип!
К вечеру в задней комнатке пивной собралось еще несколько бывших офицеров. На столе вместо пива появилось несколько бутылок водки. Сивый достал откуда-то красивую, инкрустированную перламутром, гитару, тронул струны. Перехватив взгляд Бориса и неверно истолковав его, капитан показал небольшое отверстие на деке и сказал:
– Махновская пуля. Память о девятнадцатом годе… Поэтому звучит немного хрипло, но я эту гитару ни на какую другую не поменяю, она – боевая моя подруга, всю Гражданскую со мной прошла… И, лихо пройдясь по струнам, запел:
На чердаке, где перья и помет, Где в щели блики щурились и гасли, Поставили треногий пулемет В царапинах и синеватом масле.
Через окно, куда дымился шлях, Проверили по всаднику наводку, И стали пить из голубых баклаг Согретую и взболтанную водку.
И рухнули, обрушившись в огонь, Который вдруг развеял ветер рыжий, Как голубь, взвил оторванный погон И обогнал, крутясь, обломки крыши.
…Но двигались ли сами корпуса, Вдоль пепелищ по выжженному следу, И облака раздули паруса, Неся вперед тяжелую победу.
Последний раз перебрав струны, Сивый отложил гитару и встал.
– Ну, нам пора! – он кивнул Борису и пошел к дверям.
Штабс-капитан Сельцов, пропустив Ордынцева вперед, двинулся замыкающим.
– Капитан, – негромко обратился Борис к Сивому, – а как насчет оружия? Ведь мы, как я понимаю, не за яблоками в поповский сад идем? Дайте мне револьвер!
Обернувшись к Борису и скользнув по нему взглядом, Сивый с усмешкой проговорил:
– Не бойся, земляк! Тебе оружие не понадобится, мы со штабс-капитаном с этими делами сами управимся. Ты будешь только на подхвате, стрелять не придется! – И снова отвернулся.
Борис шел за ним следом, чувствуя себя все более неуютно. В спину ему дышал Сельцов, законченный убийца, для которого человеческая жизнь явно ничего не стоила. Оружия ему не дали, но вели тем не менее на какое-то дело, о котором не посчитали нужным ничего рассказать. Борис ощущал себя овцой, которую волокут на бойню.
Они шли по узким кривым улочкам Галаты, почти пустым в этот поздний час. Конечно, и здесь царила своя ночная жизнь, но она была не на виду, старалась прятаться в тень. То и дело из подворотен выскакивали какие-то темные личности, встречались друг с другом, переговаривались о чем-то и убирались восвояси.
Кое-кто из них приглядывался к движущейся по улице троице русских офицеров, но, почувствовав исходящее от них ощущение силы и опасности, тут же исчезал.
Сивый часто менял направление, то и дело сворачивал куда-то. Постепенно они начали забирать вверх, явно поднимаясь к богатым ярко освещенным улицам Пери. Прохожих на улице становилось все больше, и вид у них был куда более уверенный. Стали попадаться ярко освещенные витрины, вывески кафе и ресторанов. Здесь, в этих оживленных и респектабельных кварталах, Сивый со своими спутниками выглядели уже не так уместно и держались не так уверенно, как на Галате.
Борис осторожно посматривал по сторонам, думая о том, как выкрутиться из создавшегося положения.
Словно услышав его мысли, штабс-капитан Сельцов сильно ткнул его в бок чем-то твердым и прошептал:
– Иди осторожно, дыши, пока можно!
Бориса передернуло от его шепота. Вообще от этого человека веяло таким ледяным холодом, что зубы начинали стучать.
Подойдя к оживленной и многолюдной в этот вечерний час кофейне, капитан Сивый вошел в нее и сделал знак своим спутникам идти следом. Не задерживаясь в низком сводчатом зале, они вошли в помещение туалета. Дремавший при входе унылый толстый турок чуть приоткрыл один глаз и тут же демонстративно захрапел – ничего, мол, не вижу, ничего не слышу, и неприятности мне ни к чему.
В туалете Сивый запер дверь изнутри, убедился, что никого, кроме них, в комнате нет, и прошел в дальний угол. Простучав стенку в определенном месте, он удовлетворенно кивнул, достал из вещевого мешка короткий ломик и двумя быстрыми ударами обрушил часть стены. Стенка поддалась удивительно легко, за ней виднелась темная пустота. Сивый обернулся, подал знак Сельцову, достал фонарик и нырнул в пролом. Сельцов подтолкнул Бориса к темному лазу.
Пробравшись через пролом вслед за Сивым, Борис увидел уходивший в темноту, слабо освещенный маленьким фонарем длинный подвальный коридор. Капитан уверенно зашагал по нему вперед, и Борису, которого подталкивал в спину белобрысый штабс-капитан, ничего не оставалось, как быстро идти следом.
Богатый и известный ювелир Михаил Серафимчик вовремя успел свернуть свое дело в Феодосии и перебраться в Константинополь. Его магазин на Пери стал уже популярен не только среди бывших соотечественников – к нему часто захаживали офицеры союзнических армий, дамы константинопольского полусвета, сановники уходящей в небытие Османской империи и просто богатые люди из разных стран Европы и Азии, которые в огромном числе собрались в Великом городе, привлеченные ничем не сравнимым запахом больших и очень больших денег.
Серафимчик полностью сменил штат продавцов: то что годилось для провинциальной Феодосии, совершенно не подходило для Константинополя – во-первых, у продавцов должен быть европейский лоск, во-вторых, они должны свободно объясняться хотя бы на трех-четырех языках. Мастеров-ювелиров Серафимчик оставил прежних, только им он мог безоговорочно доверять – и не испортят дорогие камни, и уж точно не украдут. После того, как летом девятнадцатого года молодой мастер Арсений оказался безумцем и преступником,[6] Серафимчик молодежи не доверял. К счастью, к нему пробрался из Петрограда через линию фронта старый его мастер Сигизмунд Алоизьевич, и дела в фирме снова пошли на лад.
Большой проблемой для Серафимчика была охрана имущества: ювелирный магазин – всегда приманка для воров и грабителей всех мастей, а Константинополь – город, где такой публики предостаточно. Но Серафимчику повезло: он смог нанять знаменитого Пашу Горобца, бывшего телохранителя генерала Шкуро. С этой минуты за магазин можно было не беспокоиться: Горобец был надежнее любого швейцарского сейфа. Спал он днем, и то немного, а с закрытия и до утра охранял хозяйское добро как цепной пес. О его силе, быстроте, о твердости его руки и зоркости глаз ходили легенды. Говорили, что в шляпку гвоздя он может попасть из своего маузера с тридцати шагов, а в кулачном бою стоит десятерых. Михаил Серафимчик очень способствовал распространению этих слухов по Константинополю, и добился того, что каждый вор в Великом городе, услышав про ювелирный магазин Серафимчика, только безнадежно махал рукой и говорил: «А, там такая охрана, что можно не беспокоиться».
Единственной слабостью великого Горобца был щенок, приблудившийся к нему в Константинополе. Маленький жалкий заморыш неожиданно тронул сердце железного человека. Горобец поил щенка молоком, любовался им со странным для него умилением, и в ответ на удивленный взгляд Серафимчика сказал, что щенок этот вырастет огромным свирепым псом и хорошим помощником охранника.
Хозяин пожал плечами и отступился, решив, что великие люди имеют право на маленькие слабости.
В этот день магазин Серафимчика закрылся в обычное время. Хозяин убрал большую часть выставленных в зале украшений в сейф, оставив только то, что лежало в огромных небьющихся витринных окнах. Ключи от магазина он передал Горобцу, сделал ему последние наставления и уехал ужинать в ресторан «Кокошник».
Горобец налил в блюдце молока, покормил своего лопоухого любимца и настороженно прислушался к окружающей тишине.
Казалось бы, в магазине было спокойно, но феноменальное чутье Горобца, которое ценили в нем еще выше, чем силу и меткость, говорило о надвигающейся опасности. Это беспокойное чувство заставило его несколько раз подряд обойти магазин, заглядывая в каждую кладовку, в каждый чулан. Все было в порядке, все на своих местах, но тревога не оставляла его. На всякий случай он посадил щенка в корзинку, где тот заснул на мягкой подушке, потом проверил маузер и застыл в коридоре, куда выходили двери хозяйского кабинета, кладовой и торгового зала. Он стоял неподвижно, прислушиваясь к любому шороху, к поскрипыванию старой солидной мебели, к еле уловимому дыханию сквозняка и к своим собственным ощущениям. Он весь превратился в слух и ожидание. Он знал, что сегодня, может быть, даже сейчас, что-то произойдет, и был к этому готов.
Борис шел в почти полной темноте вслед за капитаном Сивым. Коридор несколько раз изменил направление, и сейчас уже трудно было сказать, где они находятся. В спину сипло дышал Сельцов, не отставая ни на шаг, так что любая попытка воспользоваться темнотой и сбежать была заранее обречена на провал.
Неожиданно Сивый остановился, так что Борис едва не налетел на него. Капитан достал из-за пазухи какой-то план, посветил на него фонариком и, кивнув, прошептал:
– Почти пришли.
Затем он повернулся к Борису и вполголоса сказал:
– Теперь, земляк, твой выход. Когда дойдем до места, я отодвину панель, откроется проход. Ты выскочишь, быстро перебежишь коридор и выключишь свет. После этого падай на пол, чтобы не попасть под пули. Больше тебе ничего делать не нужно, остальное – наша со штабс-капитаном забота.
Сивый развернул перед Борисом лист бумаги, на котором был изображен план какого-то помещения. На одной стороне был поставлен крупный жирный крест – Сивый ткнул в него и сказал, что это – проход, в который выскочит Борис. На другой стороне стоял крестик поменьше. Сивый сказал, что это выключатель.
– Почему я? – спросил Борис, холодея от скверного предчувствия.
– Ты, земляк, – молодой, – ответил Сивый, – молодой и шустрый. Мы добежать не успеем. Штабс-капитан весь израненный, хромой, я тоже бегать не мастер. А ты успеешь, не бойся!
– А кто там будет-то? – Борис задавал вопросы только для того, чтобы потянуть время в смутной надежде улучить момент для побега.
– Кто будет? – переспросил Сивый. – Сторож, старик… – при этом голос капитана прозвучал удивительно фальшиво.
«Вот оно что! – понял Борис. – Они хотят использовать меня как приманку, как наживку. Вытолкнут под пули, а пока этот сторож – если, конечно, он там один, – пока он будет убивать меня, эта парочка нападет на него… Мне уготована роль живого трупа, бегающей мишени. Судя по интонации Сивого, сторож – очень опасный человек. Значит, моя смерть неизбежна, Сивый заранее ее спланировал, и только для этого они отбили меня на улице от преследователей… Что делать? Как спастись?»
Вслух он сказал:
– Господин капитан, что это значит? Ведь мы же, судя по всему, идем на обычное ограбление! А ведь мы – русские офицеры, и не можем марать своего звания!
– Вот как заговорил? – зло прошептал Сивый, низко нависнув над Борисом. – Честь не хочешь марать? А то, что тысячи русских офицеров голодают после того, как проливали кровь за отечество, – на это тебе наплевать? Все эти спекулянты, инородцы проклятые, и там в России жирели, и здесь богатеют! Не успели перебраться в Константинополь и уже обзавелись здесь магазинами, ресторанами, гостиницами… Они должны заплатить нам за нашу кровь, за наши страдания, и они нам заплатят!
Даже в слабом свете маленького фонаря было видно, как побагровело лицо капитана. Слегка отстранившись, он внимательно посмотрел на Бориса и закончил:
– Мы спасли тебя – там, на улице, от твоих врагов. Думали, что ты – один из нас, взяли тебя на дело, и теперь обратного хода нет. Ты будешь с нами до конца и сделаешь все, что я прикажу. Иначе…
Наступившее после этих слов молчание было весьма красноречиво. Борис понял, что его загнали в тупик, и выхода из этого тупика нет.
– Тогда хоть дайте мне револьвер!
– Револьвер тебе ни к чему, – холодно ответил Сивый, – ты все равно не знаешь, где будет стоять сторож, и не сможешь в него прицелиться. Твое дело – выключить свет, а если ты будешь стрелять, то не успеешь добраться до выключателя.
Борис понял, что его приговорили к смерти и не хотят давать ни малейшего шанса на спасение. Оставалось надеяться только на свое феноменальное везение, о котором так часто говорил Горецкий…
Капитан Сивый остановился и прижал палец к губам. Борис внутренне собрался: сейчас от каждой мелочи зависела его жизнь. В правый бок снова ткнулось что-то твердое: это Сельцов напоминал о своем присутствии, чтобы Борис не вздумал колебаться.
Сивый зажал фонарик в зубах, осторожно взялся обеими руками за деревянную окантовку, слегка выступавшую из стены, и потянул на себя. Панель бесшумно подалась, открыв квадратный проем. Сивый быстрым движением отставил панель в сторону, схватил в правую руку револьвер и сделал бешеными глазами знак Борису: «Вперед!»
Капитан был напряжен, как пантера перед прыжком. Глаза его горели сумасшедшим огнем. Борис понял, что секундное промедление будет стоить ему жизни, и бросился в проем, как в детстве бросался с обрыва в темный омут возле мельницы.
Выскочив в слабо освещенное помещение, он перекатился по полу, пытаясь по дороге осмотреться. Он находился, по-видимому, в задней комнате магазина, где были составлены какие-то металлические ящики и запасные прилавки. Под потолком слабо светился мутный шар дежурного освещения. Бросив взгляд на противоположную стену, Борис не увидел на ней выключателя.
«Подставили! – понял он. – Выпустили меня вперед, как живую мишень, чтобы отвлечь охранника!»
И в это мгновение на пороге комнаты возник огромный рыжеволосый человек. Гибкий и молниеносный, он выхватил тускло блеснувший маузер и вскинул его, целясь в Бориса. Борис, чувствуя, как бешено бьющееся сердце отсчитывает последние мгновения его жизни, снова перекатился по полу, попытавшись скрыться за массивным прилавком красного дерева. При этом он задел прилавок, оттуда упала какая-то корзина. Борис инстинктивно схватил ее, заслонившись от неизбежного выстрела… И тут случилось непонятное.
Огромный рыжий человек навел на него ствол маузера, но не выстрелил. Его лицо исказилось неописуемой гримасой, отразившей противоречивые чувства – от ненависти до жалости, – и ствол маузера пополз в сторону. В то же мгновение в темном проеме появился штабс-капитан Сельцов. Непрерывно стреляя из своего нагана, белобрысый убийца ворвался в комнату. Рыжий гигант в дверях согнулся пополам, нырнул за один из железных ящиков и ответил Сельцову двумя выстрелами. Видимо, они достигли цели, потому что штабс-капитан покачнулся и упал. Лежа, он продолжал стрелять. Рядом с ним появился Сивый. Прячась за укрытие, капитан открыл огонь по рыжеволосому охраннику. Тот, боясь оказаться под перекрестным огнем, отполз к двери и выкатился в коридор, откуда держал под обстрелом выход из комнаты. Борис скосил глаза на Сельцова. Штабс-капитан дышал медленно и неровно, лицо его постепенно заливала землистая бледность. Рука, судорожно сжимавшая наган, безвольно упала на пол. Жизнь на глазах покидала его.
Неожиданно сквозь грохот револьверных выстрелов Борис услышал совсем рядом тонкое поскуливание. Обернувшись, он увидел, что в корзинке, которая упала на него с прилавка, сидит испуганный щенок.
«Так вот почему этот рыжий не выстрелил в меня! – с изумлением понял Борис. – Этот громила сентиментален».
Эта мысль как будто разбудила его. Он увидел, что Сивый, отстреливаясь, довольно далеко отодвинулся от темного проема на месте вынутой панели. Оглянувшись на дверь и стараясь не попасть под перекрестный огонь, Борис перекатился к стене, нырнул в квадратный лаз и побежал по коридору.
Вокруг была абсолютная темнота. Борис перешел на шаг и придерживался рукой за стену, чтобы не упасть, но все внутри него пело: спасен! Еще минуту назад смерть казалась неизбежной, а теперь он спасен!
Позади некоторое время еще раздавались выстрелы, потом они затихли. Борис шел все медленнее, осторожно пробуя ногой дорогу, прежде чем сделать шаг. Спустя некоторое время позади раздались еще чьи-то шаги, вдалеке появилось слабое пятно света. Борис прижался к стене, нашарил в ней какое-то углубление и постарался втиснуться в него. Пятно света быстро приближалось, слышны были торопливые, неровные шаги, и вскоре Борис различил хриплое, учащенное дыхание. Через минуту мимо него прошел человек. В неровном слабом свете фонаря Борис узнал капитана Сивого. Капитан шел, припадая на одну ногу, левая рука его болталась как плеть. Однако даже раненый он производил впечатление смертельно опасного человека, безупречной боевой машины. Борис замер, чтобы не выдать своего присутствия.
Сивый прошел мимо. Когда его шаги достаточно удалились, Борис, стараясь не шуметь, тронулся следом, ориентируясь на удаляющееся пятно слабого света.
Прошло еще несколько бесконечных минут, и Борис вслед за Сивым добрался до конца коридора. Выждав еще некоторое время, он проскользнул в пролом стены и оказался там же, откуда какой-нибудь час назад – а казалось, что бесконечно давно – начался его путь к собственной гибели, которой ему удалось чудом избежать.
При входе в туалет по-прежнему дремал унылый толстый турок, который всей своей позой старался внушить окружающим: знать ничего не знаю, ничего не видел, в неприятности не впутываюсь.
Аркадий Петрович задумчиво помешивал ложечкой в стакане с остывшим чаем. Была глубокая ночь, но несмотря на это из-за стены доносились звуки хозяйственной деятельности Саенко: он сердито двигал мебель, шаркал щеткой, бурча под нос что-то, весьма нелестное для Горецкого. Дело было в том, что Борис исчез. Еще сегодня утром Саенко по просьбе Горецкого был у него в гостинице и изображал камердинера, когда тот принимал посетителей – двоих мужчин и шикарную такую дамочку. Но хоть была она на вид красоты необыкновенной, но у Саенко глаз наметан, и он сразу понял, что дамочка эта – не только себе на уме, но и не больно-то благородная. Повидал он таких и в России – форсу много, а копнешь поглубже, и получается одно безобразие. Как вышел Борис Андреич их проводить, так и пропал начисто. Он, Саенко, и в парикмахерскую к мосье Лиможу бегал, и в ресторан к Луиджи. Луиджи – мужик справный, даром что итальянец, поет здорово и вином хорошим угостил. Но не было, говорит, тут молодого синьора, и ничего он не передавал. У меня, говорит, вон Мария загрустила. Эта Мария востро-глазенькая, что за кассой сидит, и верно, только что слезы не льет. Она на Бориса-то Андреича давно глаз положила, а тут сердце-вещун дурную весть подает… Святую Мадонну все поминала, это Богородица по-ихнему так называется.
А господин полковник Аркадий Петрович как про утреннее исчезновение Бориса узнал, так нисколько и не расстроился. Это, говорит, брат Саенко, все так и нужно, ты, говорит, ни о чем не беспокойся, у нас, говорит, все предусмотрено.
Саенко чуть было не всунулся: у кого, мол, это – «у нас?» С англичанином этим, мистером Солсбери, опять Аркадий Петрович дела какие-то завел? Но сдержался тогда утром, потому что положение свое Саенко очень хорошо понимает. Аркадий Петрович человек серьезный, Саенко доверяет, но уже если сам ничего не скажет, то и спрашивать нечего. Англичанин этот, мистер Солсбери, тоже господин обстоятельный, но нету у Саенко к нему доверия. Потому как англичанин. Они все себе на уме. Союзнички все, конечно, хороши, что уж тут говорить, но французы все-таки совесть не совсем потеряли – русских эмигрантов к себе пускают. А англичане заперлись на своем острове – и ни в какую щелочку к ним не пролезть. Вот тебе и союзники! Русских принимать обязали турок да немцев, те – сторона побежденная, делают, что прикажут. Уж не знает Саенко, как там у немцев, а здесь басурманы проклятые не больно-то русским рады. Ни приюта, ни пищи, живи на свои деньги. А откуда их взять, деньги-то, если многие в чем есть из России бежали? И теперь это все с себя проели… Ох и подлый же народ турки!
Саенко с остервенением замахал щеткой.
– Саенко! – послышался недовольный голос Аркадия Петровича. – Ночь на дворе, а он вздумал уборкой заниматься. Ты бы угомонился уж…
Саенко нарочно не ответил. Днем он наведывался в гостиницу несколько раз – не было Бориса Андреича. Хотел было сбегать к певичке этой писклявой, Анджеле, да без приказа Горецкого побоялся дело испортить.
А когда вечером пришел Аркадий Петрович мрачнее тучи, то Саенко и без вопросов понял, что дело плохо. Пропал Борис, как в воду канул. Тут уж сам Горецкий послал его к певичке Анджеле. Да только пустое это дело оказалось, потому что застал Саенко на квартире у нее только вещи разбросанные. Съехала певичка спешно, и записки никакой с адресом не оставила. Тут Саенко совсем расстроился. Жалко было Бориса – а ну как убили его? И как же он тогда в глаза посмотрит Варваре Андреевне, ведь она еще в России просила Саенко за Борисом присматривать, и он обещал. Что же теперь будет?
Горецкий выколотил трубку и набил ее свежим табаком. Операция пошла наперекосяк. Конечно, он знал, что рано или поздно Бориса раскроют, – уж очень он неопытен, да и подготовились-то наспех. Но они с Солсбери считали, что успеют узнать все, что нужно, вычислить человека, который стоит за прекрасной Гюзелью. Однако они многого не успели.
Горецкий тяжело вздохнул и потянулся. «Куда же все-таки подевался Борис?»
– Саенко! – крикнул он. – Давай, что ли, спать ложиться…
Ответом ему было угрюмое молчание. Горецкий рассерженно встал и рывком распахнул дверь в другую комнату. Саенко, увидев его, демонстративно отвернулся.
Горецкий насупил брови и уже открыл было рот, чтобы призвать непокорного денщика к порядку, как вдруг тот встрепенулся, встряхнулся, как собака после купания, и одним прыжком оказался у входной двери. Горецкий, верный своим привычкам, снял у зажиточного турка полдома с отдельным входом, так что визитер, шаги которого расслышал Саенко, направлялся именно к ним. Впрочем, теперь уже и Горецкий слышал быстрые шаги бегущего человека и его тяжелое дыхание. Вот скрипнули ступеньки, и в дверь бухнули ногой.
– Кто там? – нараспев протянул Саенко, сжимая в руке невесть откуда взявшийся карабин.
– Открывай, Саенко, а то дверь разнесу к чертовой бабушке! – кричал за дверью знакомый голос, и снова в дверь бухнули.
– Батюшки! – ахнул Саенко. – Да никак Борис Андреич вернулся!
Он уже гремел запорами, не внимая тревожному взгляду Горецкого, и Борис, злой, всклокоченный, с кровоточащей царапиной через всю щеку и в порванном френче, ввалился в дом.
– Живы, голубчик? – спросил Аркадий Петрович, посверкивая пенсне.
Он произнес эти слова мягко, но Борису показалось, что за мягкостью скрывается заискивание и чувство вины. Он тяжело посмотрел на Горецкого и прошел к умывальнику. Желтоватая вода цедилась в фаянсовый таз тоненькой струйкой. Борис злобно хлопнул ладонью по умывальнику:
– Чертовы турки! Все у них не как у людей! Из ковша, что ли, полей, – обернулся он к Саенко.
– Иду, иду! – Саенко уже стоял наготове с кувшином воды и полотенцем.
Борис вошел в комнату, умытый, с приглаженными щеткой волосами и умело обработанным Саенкой порезом на щеке.
– Ну, рассказывайте, Борис Андреевич, где же вы пропадали? – оживленно спросил Горецкий.
– Вам интересно? – начал Борис, накаляясь. – Что, господин полковник, опять меня подставить решили, как в Феодосии в девятнадцатом году? Снова за старое взялись?
– Поручик! Не забывайтесь! – гаркнул Горецкий и выпрямился резко, так что пенсне свалилось с носа и задергалось на шнурке.
– Какой я к черту поручик! – огрызнулся Борис, на которого окрик Горецкого произвел обратное впечатление, – он еще больше рассердился. – Поручики в Галлиполи у Кутепова, а я теперь штатский… вашими заботами! Зря хорошую мину при плохой игре делать стараетесь, – устало продолжал он, – методы мне ваши, господин Горецкий, известны. Не первый год с вами сотрудничаю, и снова, как дурак, вам поверил. Вот и поплатился.
– Однако, Борис Андреевич, все же не до конца вы меня подлецом считаете, если ночью ко мне прибежали, – примирительно улыбаясь, напомнил Горецкий.
– Просто больше идти некуда! – вспыхнул Борис. – В гостиницу соваться боюсь – найдут… К Варваре – тем более страшно, ее подведу…
– Вот что, Борис Андреевич, – начал Горецкий, осторожно подбирая слова, – вижу, что вы расстроены и устали. Так что давайте временно – как бы это выразиться? – закопаем топор войны поглубже и посидим, побеседуем спокойно. Вот, кстати, и Саенко с чаем.
При виде ароматно дымящихся чашек Борис подобрел – после съеденного в пивной, где провел он весь день, невероятного количества кефали, его мучила жажда.
– Итак, – начал Горецкий, – не скрою, за вами наблюдали люди мистера Солсбери. Так что когда вас похитили, нам стало это очень скоро известно. Кстати, еще накануне, ночью, наши люди особенно внимательно наблюдали за Гюзелью…
– И выяснили человека, с которым она связана?
– Не совсем, – Горецкий уклонился от ответа, чем снова разозлил успокоившегося было Бориса. – Но когда мы узнали, куда вас привезли, то установили за тем домом прочное наблюдение. А теперь расскажите, что же с вами случилось.
Борис посмотрел на безмятежно попыхивающего трубкой Горецкого и махнул рукой.
– Ладно уж, слушайте. Вас, господин полковник, только могила исправит.
– Уверяю вас, вы ошибаетесь, – с горячностью воскликнул Аркадий Петрович, – я вовсе не хотел вам зла! И не допустил бы до несчастья.
– Интересно, как бы вы смогли ему помешать? – пробурчал Борис. – Ну да ладно, слушайте. Когда я очнулся от хлороформа, меня начал допрашивать такой плотный господинчик…
– Некий господин Парвеню Голон, – вставил Горецкий, – имя и фамилия у него бельгийские, и в паспорте сказано, что он бельгиец, но на самом деле национальность его неизвестна. А потом вас отправили… куда?
– К наместнику, – усмехнулся Борис, – так они сказали.
– Так вот, после того, как вас увезли, англичане напустили на всю компанию, что там оставалась, полицию и оккупационные власти. Сейчас господина Голона допрашивают.
– Ну и как?
– Видите ли, адрес, куда вас собирались отвезти, мы выяснили. Но там никого не оказалось – очевидно, на случай провала у них было предусмотрено экстренное бегство. Человек мистера Солсбери, который присматривал за вами, слегка пострадал в той же аварии, как и автомобиль, в котором везли вас. Поэтому он не успел вмешаться, да это было и бесполезно – уж очень серьезно выглядели люди, которые взяли вас под свое покровительство, раз сумели остановить ваших похитителей.
– А вы не хотите узнать, из-за чего я, собственно, провалился? – сердито напомнил Борис. – Из-за книги этой проклятой!
– Вот как? – Горецкий изумленно поднял брови, что привело Бориса вовсе уж в неописуемую ярость. – Продолжайте, продолжайте, весьма интересно…
– Этот Голон, или как там его, – начал Борис раздраженно, – сразу же заявил мне, что если бы не книга, то они не раскусили бы меня так быстро. Все упирается в то, как попала к мистеру Солсбери эта книга.
– О том, как попала к мистеру Солсбери рукопись Омара Хайяма, я вам ничего не говорил, – холодно начал Горецкий, – но совершенно точно то, что книга эта принадлежала покойному Гаджиеву и была жемчужиной его коллекции. Дальнейшей ее судьбы никто не знает и официальных сведений об этом быть не может.
– И вы решили всучить мне эту книгу, заведомо зная, что меня сразу же заподозрят? – закричал Борис.
– Но, голубчик, отчего же вас должны были заподозрить? – возразил Горецкий.
– Да оттого, что им прекрасно известно, что книга эта, будь она проклята, была у Гаджиева украдена и появлялась на аукционе в Англии в шестнадцатом году! А стало быть, никак не могла она попасть ко мне по завещанию покойной тетушки, которой, между нами говоря, у меня и не было никогда! И господин Голон не преминул сообщить мне это в самом начале нашей с ним беседы! Огорошил, так сказать, приятным известием, – Борис залпом выпил полстакана чаю и немного успокоился. – А теперь последнее, – начал он, немного отдышавшись. – Не хочу думать о вас совсем плохо, все же мы многое вместе пережили, поэтому готов допустить, что мистер Солсбери вас обманул. Он сказал, что история с книгой никому не известна, что все будут считать книгу наследством Гаджиева, и это послужит приманкой. Вы поверили ему на слово и этим чуть не подписали мне смертный приговор.
Тут Борис заметил, что полковник Горецкий совершенно его не слушает. Он уставился поверх головы Бориса куда-то в угол и смотрел туда в глубокой задумчивости.
– Так-так, – тихонько бормотал он, – об этом мало кто знал, все наперечет… Так вот в чем дело…
– Что вы там бормочете? – прикрикнул Борис. – Объяснитесь же наконец!
Горецкий опять-таки совершенно не обратил внимания на его оскорбительный тон. Он посмотрел на Бориса как бы очнувшись и покладисто начал объяснять:
– О книге знало очень малое количество людей – устроители аукциона и несколько богатых покупателей. Устроителей легко проверить, а имена остальных известны мистеру Солсбери. Стало быть, события развивались следующим образом: когда Гюзель услышала о книге и событиях, с нею связанных, она всем этим чрезвычайно заинтересовалась, приблизила к себе Поля Менара – знатока и коллекционера старинных манускриптов – и познакомилась с вами. Вы подтвердили, что книга существует и находится у вас и выразили готовность предъявить ее хоть в тот же вечер.
– Но ей нужно было испросить инструкций, поэтому она уговорила перенести знакомство с книгой на следующее утро, – подхватил Борис. – Ну, так вы выяснили, с кем она встречалась ночью?
Горецкий выглядел смущенным.
– Поздно вечером она взяла извозчика и одна поехала к госпиталю святой Агнессы. На территории госпиталя ей удалось обмануть нашего человека и скрыться.
– Саенко надо было послать, от него бы не ушла! – В сердцах Борис даже расплескал остывший чай.
– Не все я тут решаю, – вздохнул полковник. – Значит, допустим, Гюзель узнала от своего шефа, что Гаджиев никак не мог завещать вам эту книгу, потому что к тому времени ее у него уже не было. Она дожидается утра, приводит к вам Поля Менара, который способен определить, что книга подлинная. Таким образом, из разряда мелких мошенников вы переходите в разряд шпионов, потому что коль скоро вам доверили такую ценную вещь, стало быть, за вами стоит сильная организация.
– Примерно в таком духе и просветил меня господин Голон, – согласился Борис. – И я спрашиваю в последний раз – вы это сделали нарочно?
– Нет, конечно! – рассердился, в свою очередь, Горецкий. – Вы же видите, я сам нахожусь в недоумении. Если все так, как вы говорите, то представляете, какого полета птица замешана в этой интриге? Повторяю, в том аукционе участвовали очень, очень богатые люди… Однако, Борис Андреевич, как же вам удалось спастись? И кто такие эти люди, что вырвали вас из рук приспешников господина Голона?
– Члены тайного офицерского общества, – усмехнулся Борис.
Аркадий Петрович, против его ожидания, не выразил удивления.
– Вот как? И как же оно, это общество, называется? Не «Русское дело»?
– Откуда вы знаете? – подскочил Борис.
– Знать все – моя профессия, – грустно вздохнул Горецкий. – Впрочем, ничего удивительного в этом нет…
– В том, что вы всегда все знаете?
– Нет, в том, что смешались два, казавшиеся на первый взгляд совершенно разными, дела. Видите ли, Борис Андреевич, боюсь, теперь мне трудно будет продолжать наши совместные дела с мистером Солсбери, потому что передо мной, если можно так выразиться, поставили другую задачу. Вы слышали про убийство полковника Шмидта?
– Читал в газетах.
– Так позвольте представиться: я теперь по этому делу главный дознаватель. Вызывает меня сегодня утром начальник полиции города Константинополя и велит заняться расследованием этого убийства.
– Неужели вы будете подчиняться его приказам?
– Ну, приказать-то он мне ничего не может, но так поставить вопрос, чтобы я не смог отказаться, – это весьма несложно. Ведь мы, русские, в этом городе люди даже не второго сорта, а самого низшего, – вздохнул Аркадий Петрович.
– Ну, про вас-то этого не скажешь, вы работаете на англичан…
– Именно поэтому на меня и пал выбор. И несмотря на поддержку англичан, власти смогут мне очень навредить, если не соглашусь. Но давайте разберемся с вами. Откуда вы узнали, что люди, спасшие вас, из тайного общества?
– Они сами сказали, они и помогли-то мне, потому что посчитали меня за своего. Я, видите ли, на Принкипе нечаянно побывал на их собрании. – Борис оживился. – Это, доложу я вам, Аркадий Петрович, было зрелище!
– Подробнее рассказывайте, – сухо произнес Горецкий. Пенсне снова упало с носа, глаза смотрели строго и колюче.
– Подробнее долго, – протянул Борис, – я бы тогда съел что-нибудь…
Тотчас же, не дожидаясь зова, Саенко распахнул дверь и внес на подносе еду. Он накрывал на стол и причитал:
– Хлеб белый, как доска плоский, колбаса пресная – ни перцу, ни чесноку… Сала завалящего не найти – не едят свинину проклятые мусульмане… Картошки и вовсе нету! Ох и подлый же народ турки!
За едой Борис рассказал Горецкому всю драматическую сцену ночного собрания на Принкипе.
– Однако, – покачал головой Горецкий, – вы должны были рассказать мне об этом раньше.
– Не придал значения, – отмахнулся Борис, – хотя нет, просто не до того было. Вы слушайте дальше, я ведь еще беседовал с их лидером, только не знаю, кто он такой. Очень, знаете, серьезно настроенный господин. Поскольку я не видел его лица и не узнал бы по голосу, он беседовал со мной очень откровенно. Планы у него просто-таки наполеоновские!
– Полмира завоевать? – усмехнулся Горецкий. – Генералов за амбиции ненавидят, а у самих-то амбиций…
– Не скажите, Аркадий Петрович, – задумался Борис. – Генералам-то нашим все нужно было вперед выставиться, чтобы главными быть, приказы отдавать. А этот человек держится в тени, никто из рядовых членов общества про него и не знает, что он – лидер. И сдается мне, что ему не слава нужна, а деньги и власть, но власть тайная…
– Вот как? – протянул Горецкий. – Любопытный человеческий тип, хотелось бы познакомиться с ним поближе. Вы не запомнили никаких особенных примет?
– Ничего, кроме портсигара, – вздохнул Борис. – Но это ведь не примета – сегодня портсигар у него есть, а завтра – нету.
– Портсигар, говорите? – заинтересовался полковник. – Что-то такое про портсигар говорил мне есаул Чернов…
– Тяжелый золотой портсигар, на крышке выгравирован вензель. – Борис взял предложенный Горецким карандаш и нацарапал на бумаге рисунок:
– Примерно так это выглядит.
– Хм, – Горецкий рассматривал рисунок, – это изображение индийского бога Шивы. Из рассказа есаула тоже явствует, что человек с портсигаром был среди напавших на него главным. Значит, от речей на собраниях члены тайного общества понемногу переходят к делу… Мне тут рассказали, что некий полковник Иванов убит и ограблен. Судя по слухам, он в свое время украл дивизионную кассу, да и так занимался спекуляциями, стало быть, у него было, что брать. Охрану нанимал, да все равно не спасся.
– А велика ли охрана? – полюбопытствовал Борис.
– Четверо казачков, и всех уложили.
– Ну, так здесь не обошлось без моих знакомцев – капитана Сивого и его дружка.
И Борис рассказал про неудавшееся ограбление ювелира Серафимчика.
– Ну и ну! – воскликнул пораженный Горецкий. – Еще раз вы подтверждаете миф о свой феноменальной везучести! И так спокойно сидите… вы же знаете, где базируются эти члены тайного общества!
– А что я, по-вашему, должен делать? – взбеленился Борис. – Сдать их всех турецкой полиции? Начать с того, что в полиции мне никто не поверит, а пока суть да дело, запихнут в каталажку.
– Уж это точно, – поддакнул Горецкий, вспомнив есаула Чернова.
– И потом, оставшийся в живых капитан Сивый не появится больше в той пивной, – он боится, так как знает, что я на свободе и могу привести туда полицию. Но я этого никогда не сделаю, потому что не собираюсь подставлять под удар простых офицеров, которые честно воевали в России, а потом от отчаяния поверили в красивые речи про новую жизнь! Если бы они знали, что на самом деле под маркой тайного общества действует банда грабителей и убийц, многие отказались бы…
– Да-да, вы правы, тут нужно просто как-то выявить их лидеров, тогда все само развалится, – согласился Горецкий. – Вот что, Борис Андреевич, сейчас я в дела англичан вмешиваться не должен, потому что буду занят расследованием. А вам в город показываться никак нельзя – узнают и убьют. Так что посидите денек-другой взаперти, отдохните. Вот Саенко вам компанию составит.
Борис так устал, что не решился спорить.
Глава тринадцатая
И в последний миг, почти во сне,
Теряя кровли грохочущий бубен,
Думает о женщине, ее – нет,
Но она – будет.
А. НесмеловАкоп Мирзоян сразу же почувствовал оживление, царившее на бирже. Посторонний человек этого не заметил бы, но Акоп, слава Богу, уже не был здесь посторонним, он быстро освоился в этом тесном и своеобразном мирке здешних финансовых воротил.
Биржевое оживление было заметно по особенному блеску глаз маклеров, по характерной лихорадочной суетливости их движений, по нервозно повышенному тону голосов.
Увидев хорошего знакомого, с которым Акоп встречался сначала в Одессе, где его звали Жоржем Рапопортом, а потом в Новороссийске, где тот стал Джорджо Рапотти, Акоп шагнул навстречу и тихо спросил, заглядывая в глаза:
– Ну? Жорж, ну? «Петролеум»? Не-ет? Жорж по обыкновению опустил взгляд и, придвинувшись еще ближе, сказал одними губами:
– «Батумойл».
Сказанного было достаточно. Это все объясняло. Акоп всегда умел сложить два и два и получить в результате хороший навар. Он сразу же вспомнил негромкие разговоры о том, что новые турецкие власти собираются ввести войска в Батумскую область, и понял, что это свершилось, а в результате такого поворота событий акции компании «Батумойл», продававшиеся в последнее время дешевле бумаги, на которой их печатали, неизбежно должны были поползти вверх. Акоп кинулся покупать.
– Сколько?
– Семь.
– Беру по двадцать девять. Не-ет?
– Уже восемь.
– Беру! Беру! Беру!
Со всех концов зала доносилось эти магические, сводящие с ума слова: «Беру! Беру на все!»
Мистер Ньюкомб вошел в спальню Гюзели быстрыми широкими шагами, словно мчащаяся по следу оленя серая гончая. Горничная еле поспевала следом, безуспешно пытаясь задержать англичанина.
Гюзель приподнялась на подушках и бросила на свою служанку испепеляющий взор.
– Я не смогла! – воскликнула несчастная девушка. – Я не смогла его остановить! Он ничего не слушает!
– Я достал! – торжествующе провозгласил мистер Ньюкомб. – Я принес!
– Пошла вон! – зло бросила Гюзель горничной и повернулась к англичанину: – Томас, что вы себе позволяете?
– Я достал очень важные документы! В голосе его были смешаны в равных частях очень сложные чувства. Во-первых, в нем звучало торжество: он сделал почти невозможное, достал документы невероятной важности, проявив чудеса находчивости и необычайную ловкость. Во-вторых, слышался трагический пафос: он пошел на преступление, на предательство священных интересов Британской империи, которым служили бесчисленные поколения его предков и он сам до определенного момента. В-третьих, можно было уловить в его голосе и нотки самолюбования, декадентского романтизма: вот, мол, до какой низости, до какого ужасного преступления дошел я ради прекрасных глаз восхитительной турчанки… При этом он как-то забывал о долговой расписке на девять тысяч фунтов стерлингов. Короче, в голосе мистера Ньюкомба звучали интонации, роднящие его с шекспировским Кориоланом, – смесь героизма и предательства.
– Томас, – недовольно поморщилась Гюзель, – у вас вошло в привычку будить меня по ночам из-за всякой ерунды.
– Ерунды?! – повторил мистер Ньюкомб как эхо. – Это не ерунда! Я раздобыл для вашего друга копии протоколов предварительных переговоров большевистского министра Чичерина с представителями Кемаля Ататюрка!
Гюзель лениво потянулась и, тщательно скрывая охватившее ее возбуждение, безразлично бросила:
– Всего лишь копии… ну ладно, оставьте их там, на столике, и приходите ко мне в более приличное время, когда я наконец высплюсь и приведу себя в порядок.
– Нет! – воскликнул англичанин, на которого внезапно накатил приступ осторожности. – Нет, это невероятно важные документы. Я очень рисковал из-за них, и я передам их только в собственные руки вашего бельгийского друга. И только в обмен на мою долговую расписку, – добавил мистер Ньюкомб, краснея от собственной меркантильности.
– Да-а? – протянула Гюзель, удивляясь неожиданно прорезавшейся в английском болване практичности и лихорадочно соображая, как бы его все-таки обдурить. – Ну хорошо, Томас, приходите ко мне к четырем часам, мой друг будет вас ждать.
Едва за англичанином захлопнулась дверь, Гюзель, как ракета, вылетела из постели и вызвала горничную. Через полчаса она была уже умыта и одета, а у крыльца ее ждал извозчик.
Первым делом она бросилась в известную кондитерскую лавку на Пери.
Подъезжая к кондитерской, она еще издали увидела, что лавка закрыта, а у дверей толкутся полицейские. Ударив извозчика зонтиком в спину, Гюзель приказала ему проезжать мимо кондитерской, не замедляя хода. Здесь явно был провал.
Она приказала ехать на Таксим, где в лавчонке часовщика была еще одна явка, предназначенная для экстренных случаев – именно таких, как сегодняшний.
Когда пролетка выехала на площадь, Гюзель приподнялась на сиденье и посмотрела в окно часовой мастерской. В окне не было английских каминных часов, что обозначало провал явки.
Гюзель оглянулась. Интуиция не обманула ее. Недаром ей казалось, что кто-то буравит взглядом ее спину. Следом за ее пролеткой ехал тот же черный крытый экипаж, который она заметила еще за полчаса до этого на Пери.
Гюзель снова ткнула извозчика зонтиком. Когда недовольный возница повернулся к ней, она наклонилась к нему как можно ближе и стала вполголоса его инструктировать.
Развернувшись на площади Таксим, извозчик торопливо погнал вниз, на Галату. Здесь он долго петлял в лабиринте узких грязных улочек, где едва мог проехать один экипаж. Следом за ним неотрывно двигалась черная пролетка с поднятым верхом. Наконец извозчик остановился возле дешевой кофейни. Пассажирка, стройная барышня в светлом плаще и шляпке с вуалью, покинула экипаж и вошла в заведение. Двое пассажиров черной пролетки некоторое время ждали ее возвращения. Наконец, почувствовав неладное, один из них вошел в кофейню. Увидев, что барышни внутри нет, он в два счета нашел второй выход на другую улицу. Агент вернулся к своему экипажу, чтобы объехать квартал и продолжить преследование… Но перегородивший им дорогу турецкий извозчик к этому времени снял со своей пролетки колесо и долго, красочно и темпераментно объяснял нервным господам, что у него сломалась ступица и он никакими силами не может освободить им дорогу, видно, такова уж воля Аллаха.
Тем временем Гюзель, быстро пробежав несколько кварталов по грязным и небезопасным улицам, поняла, что оторвалась от преследователей, перешла на шаг и огляделась. В этом районе города хорошо одетой женщине не следовало появляться одной, а найти извозчика было почти невозможно. Редкие прохожие бросали на нее взгляды, не сулящие ничего хорошего. Однако уже близко было место, к которому она стремилась – последняя явка, лавка старьевщика неподалеку от базара Карасонлы.
Гюзель прибавила шагу, она снова почти бежала. Вся ее надежда была теперь на эту последнюю явку. Необходимо любой ценой передать шефу сообщение о сегодняшнем визите Ньюкомба, и передать срочно, чтобы шеф успел принять решение и подготовить все, что нужно, до четырех часов. А времени оставалось уже совсем немного.
Самое ужасное, что Гюзели не с кем было посоветоваться, не с кем обсудить создавшееся положение. Все неприятности начались с этого русского – Бориса Ордынцева. То есть, они начались с его знакомства с этой дурехой Анджелой. Мало того, что девчонка поверила его россказням, так она еще и влюбилась в него без памяти! Притащила его к Гюзели, убедила, что он – нужный человек. И вот, после первой же проверки, выяснилось, что Борис не тот, за кого себя выдает. Она, Гюзель, сумела выпутаться из трудного положения, Бориса должны были взять прямо на улице, и после допроса он бы исчез, как будто и его не было. Этой гусыне Анджеле она собственноручно надавала оплеух и велела немедленно убираться в Брюссель, а там затаиться и ждать, когда за ней явятся. Но относительно Бориса планам Гюзели не суждено было осуществиться. Судя по тому, что две явки провалены, а за ней самой установлена слежка, те люди, что стоят за Борисом, уже полностью в курсе его провала и приняли свои меры.
Впереди показалась лавка старьевщика, последняя надежда. Гюзель бросила взгляд на окно. К стеклу был прилеплен картонный квадратик: «Старье берем. Тряпки, кости, старые вещи».
Это значило, что здесь все в порядке. Если бы старьевщик почувствовал опасность, он должен был снять эту записку и заменить другой: «Берем все, что никому не нужно». Конечно, если бы он успел это сделать.
Гюзель оглянулась по сторонам и осторожно шагнула внутрь лавки.
После яркого солнечного света в первый момент она почти ничего не видела. Постепенно глаза привыкли к освещению, и Гюзель разглядела низкие закопченные своды и убогое грязное помещение, заставленное старыми чугунами, глиняными горшками, мятой медной посудой, ржавыми светильниками, заставлявшими вспомнить сказки «Тысячи и одной ночи». Тут же валялись в живописном беспорядке груды всевозможного тряпья – от парадного мундира корниловского офицера и аккуратного английского френча до поношенного турецкого женского платья вкупе с чадрой.
Среди всего этого потертого изобилия сидел хозяин – маленький сморщенный старичок.
Гюзель шагнула к нему, торопливо произнося слова пароля:
– Не купите ли вы у меня бисерную сумочку хорошей работы? – и осеклась: ее испугало озабоченное и виноватое выражение лица старьевщика.
Она испуганно огляделась и боковым зрением заметила позади себя какое-то движение. В ту же секунду Гюзель увидела, что старик глазами делает ей знаки, указывая на обтрепанную ширму у себя за спиной.
Она кинулась к этой ширме. Сбоку наперерез ей бросился неизвестно откуда выскочивший мужчина. Гюзель, не снижая темпа, изо всей силы пнула его в ногу острым носком туфли, услышала крик боли и, не оглядываясь, нырнула в закрытый ширмой проход. В следующую секунду она оказалась на узкой грязной улочке, резко забирающей вверх, побежала по ней во весь дух. Сзади послышался громкий топот. Гюзель промчалась мимо груды бочек и ящиков, аккуратно сложенных, должно быть, возле задней двери дешевой продуктовой или рыбной – судя по запаху – лавки. Девушка наклонилась, выдернула нижний ящик. Вся груда с немыслимым грохотом обрушилась, перегородив улочку позади нее. Она пробежала десяток шагов, свернула в первую появившуюся перед ней подворотню, оказалась на заднем дворе, где старая турчанка развешивала белье. Промчавшись мимо нее, как ураган, сорвав с веревки и затоптав несколько простыней и услышав нелестное мнение на свой счет, Гюзель проскочила в незапертую калитку и оказалась на другой улице. Еще несколько раз свернув, пробежав через два-три чужих двора, она оглянулась и перевела дух. Погони не было видно, улица, где она оказалась, была достаточно людной и широкой. Впереди мелькнула извозчичья пролетка. Гюзель окликнула извозчика, с облегчением раскинулась на мягком сиденье и через полчаса уже подъезжала к своему дому.
Гюзель проскользнула в дверь, воровато оглядываясь по сторонам. На первый взгляд слежки не было видно. Поднявшись в свой будуар, красавица едва не разрыдалась: все ее поиски ничем не увенчались, она не смогла передать записку шефу и ни с кем не обсудила положение, только испачкала платье, сбила обувь и замучилась, как портовый грузчик. Через час должен был прийти Ньюкомб, а она все еще не знала, что делать. Собственно, и плакать-то она не могла только потому, что до прихода англичанина оставалось слишком мало времени, – никак не успеть выплакаться и после этого привести себя в порядок. Оставалось только держаться и надеяться на себя саму.
«Что делать, что делать? – мысленно повторяла она. – Придется ехать с Ньюкомбом прямо к шефу…»
Шеф категорически запрещал ей появляться у себя и, в особенности, приводить к нему посторонних, но ситуация была такова, что других путей не осталось. Документы, которые раздобыл Ньюкомб, слишком важны, упустить их никак нельзя, а английский осел упирается и не хочет отдавать бумаги никому, кроме шефа.
Вскоре горничная появилась в дверях и громко объявила:
– Мистер Ньюкомб! Англичанин уже летел следом за ней.
– Как, уже четыре часа? – воскликнула Гюзель, бросив взгляд на циферблат.
– Кажется, – махнул рукой Ньюкомб. – Ну, где же ваш шеф?
– К сожалению, он не смог приехать… – Гюзель пыталась тянуть время.
– Нет шефа – нет документов! – неожиданно резко произнес непредсказуемый англичанин.
– Почему же нет? – решилась Гюзель. – Мы сейчас сами поедем к нему! Нам понадобится лишь пятнадцать минут на подготовку.
– Куда же мы поедем? – спрашивал настырный англичанин.
– К доктору, – усмехнулась красавица.
Доктор медицины Хендрик ван Гулль, к которому с самого утра стремилась душа прекрасной Гюзели, действительно имел докторскую степень и служил в госпитале святой Агнессы. Но получил он эту степень в свое время в Йеннском университете в Германии, и звался он тогда Генрихом фон Кляйнстом.
Гюзель вызвала горничную и уединилась с ней в гардеробной. Через четверть часа девушка в светлом платье своей хозяйки, закрыв лицо вуалью, торопливо выбежала из дома, остановила проезжавшего извозчика и укатила. Гюзель, осторожно отодвинув угол занавески, следила за улицей. Как только горничная села в извозчичью пролетку и отъехала от дома, из-за столика уличной кофейни вскочили два молодых господина, подбежали к экипажу, стоявшему поблизости, и поехали вслед за первой пролеткой.
Гюзель опустила занавеску. Она была одета в простое бедное платье своей служанки, лицо закрыла чадрой. Вместе с удивленным и растерянным Ньюкомбом они вышли из дома, прошли два квартала. Оглянувшись, Гюзель убедилась, что за ней никто не следит, остановила проезжавшего извозчика и приказала ему ехать к французскому госпиталю святой Агнессы. По дороге она несколько раз осторожно оглядывалась. Слежки не было.
В госпитале Гюзель быстро отыскала нужного человека. Высокий широкоплечий врач с длинным лошадиным лицом и бесцветными голландскими глазами распекал за какую-то провинность молодую сестру милосердия. Увидев Гюзель (которую он мгновенно узнал, несмотря на бедное платье), врач высоко поднял светлые брови и быстро зашагал по коридору. Гюзель еле поспевала за ним; мистер Ньюкомб со своими длинными ногами почувствовал родственную душу. Врач прошел один коридор, второй, третий, спустился по лестнице, дошел до высокой, обитой железом двери с жизнерадостной надписью «Морг», вошел внутрь и наконец остановился. Резко повернувшись к Гюзели, он рявкнул:
– Я предупреждал, чтобы вы не появлялись здесь! Тем более не приводили сюда посторонних!
– Это мистер Ньюкомб, доктор ван Гулль, – сдержанно ответила Гюзель.
– Тем хуже для него!
– Простите, шеф, но я была в безвыходном положении. Мистер Ньюкомб достал для нас важнейшие документы…
– Копии протоколов предварительных переговоров русского комиссара Чичерина с представителями Кемаля Ататюрка! – гордо и обиженно произнес англичанин, давая понять этому неблагодарному и скверно воспитанному человеку, как он неправ, называя его, Томаса Алджернона Ньюкомба, посторонним и говоря о нем с таким пренебрежением.
Врач действительно взглянул на мистера Ньюкомба с интересом. Правда, это был интерес такого рода, какой испытывают естествоиспытатели к каким-нибудь редкостным насекомым или другим мелким представителям фауны. Затем он непроизвольно окинул взглядом просторное помещение морга, ряды высоких металлических столов с их ужасным населением, стыдливо прикрытым белыми покровами и, холодно бросив:
– Давайте! – протянул руку.
– Э, нет! – мистер Ньюкомб склонил голову набок, как умная гончая. – Сначала верните мне мою долговую расписку! Я очень рисковал, добывая для вас эти документы!
– Вот как? – произнес ван Гулль с недоброй усмешкой и шагнул к англичанину, опустив правую руку в карман.
В это мгновение обитые железом двери морга с грохотом отворились, и в проеме появилась металлическая каталка с очередным покойником. За каталкой шел плотненький коренастый санитар в длинном, не по росту, белом халате. Доктор ван Гулль раздраженно повернулся к нему и зло осведомился:
– Куда прешься без стука? Пошел вон!
Санитар нечленораздельно замычал, показав рукой на свой рот – мол, немой я, сказал бы, да не могу, – а потом ткнул пальцем в свою каталку. Врач скривился и махнул рукой:
– Ставь и убирайся!
Пока санитар пристраивал своего еще более немногословного клиента среди ему подобных, трое вполне способных говорить живых молчали: врач молчал зло и нетерпеливо, дожидаясь, пока санитар уйдет, освободив поле боя, мистер Ньюкомб молчал обиженно и раздраженно, дожидаясь достойного вознаграждения за риск и предательство священных интересов Британской империи, а Гюзель молчала потому, что уже догадывалась, какой оборот примут события через несколько минут.
Немой санитар оставил каталку, еще что-то недовольно промычал и вышел из морга. Ван Гулль шагнул к двери и щелкнул задвижкой. Затем он повернулся к англичанину, достал из кармана плоский небольшой браунинг и негромко, но решительно произнес:
– Давайте ваши бумаги. Англичанин отскочил назад как испуганный заяц и заверещал:
– Вы сошли с ума! Как вы можете так поступать! Я начинаю подозревать, что вы не джентльмен!
При этом он растерянно оглядывался по сторонам и пытался придвинуться ближе к двери.
– Вы правы, – осклабился доктор ван Гулль, – я, слава Создателю, не джентльмен. Выкладывайте бумаги или получите пулю. Здесь очень удобное место: мы положим вас на один из пустых столов, накроем простыней… трупом меньше, трупом больше… кто их здесь будет пересчитывать?
Гюзель нервно хихикнула, англичанин, такой же бледный, как окружающие покойники, медленно отступал.
– Ну же, – нетерпеливо проговорил врач, приближаясь к Ньюкомбу и наводя на него ствол браунинга, – ну же, джентльмен, давайте бумаги! Мертвецы вам не помогут!
И в это мгновение, словно в ответ на его слова, один из мертвецов сбросил саван и сел. Это был тот самый свежий покойник, которого минуту назад привез немой санитар.
Гюзель дико завизжала от неожиданности. Доктор ван Гулль повернулся на ее визг и увидел восставшего мертвеца. Нервы у него были покрепче, чем у турецкой красавицы, да и профессия обязывала. Короче, покойников он не боялся. Но в руке у ожившего трупа был семизарядный наган, что волей-неволей вызывало некоторое уважение, особенно если учесть, что ствол этого нагана был направлен прямо в голову злокозненному доктору.
– Бросьте оружие! – крикнул «мертвец» по-французски.
Доктор ван Гулль резко нырнул, толкнул попавшую под руки пустую каталку и перекатился по полу к дверям. Каталка с размаху ударила в стол, на котором сидел оживший «мертвец» как раз в ту секунду, когда тот нажал на спуск, тем самым сбив ему прицел. Наган громыхнул, не причинив доктору никакого вреда, – пуля чиркнула по полу, выбив сноп искр. «Мертвец» соскочил со стола и бросился вслед за доктором, но тот уже распахнул двери и вылетел в коридор.
И тут же из коридора раздался его отчаянный вопль, в котором соединялись в равной степени боль и изумление.
Двери снова распахнулись, и на пороге появился немой санитар, волоча в одной руке вялое тело доктора, а в другой – обыкновенный инвалидный костыль.
– Ох и подлый же народ эти голландцы! – возмущенно заявил санитар на чистейшем русском языке. – Если бы я этого фармазона костылем как следует не приложил, убег бы, бесстыдник!
– Саенко! – бросив свой саван, удивленно спросил мертвец, оказавшийся Борисом Андреевичем Ордынцевым. – Саенко, так ты его насмерть, что ли, уложил? Аркадий Петрович с меня голову снимет! Ведь это самый главный его противник, его же допросить нужно!
– Да я ничего… – смутился Саенко, ибо «немой санитар», конечно же, был ни кем иным, как этим достойным представителем великого украинского народа, – так, легонечко совсем приложил, на всякий случай… так сказать, для устрашения, чтобы этот сквернавец чего себе не вообразил.
Нынешним утром Борис, оставленный Горецким под присмотром Саенко, сначала выспался, потом вымылся горячей водой, сокрушаясь, что не может пойти в турецкие бани, после чего с аппетитом позавтракал, вернее, если считать по времени, то пообедал. Еду Саенко принес из ресторана. И хоть денщик по-прежнему ворчал и сокрушался, что еда не такая как в России, Борис был не в претензии. После еды он почитал газету, повалялся немного на низком турецком диване, а потом заскучал.
– Эх, Саенко, там такие дела творятся, а мы с тобой тут сидим, как в тюрьме.
– Аркадий Петрович без вас управится, – ворчливо ответил Саенко, уже чувствуя, к чему склоняет его Борис.
– Да в том-то и дело, что полковник сегодня другими делами занят! – закричал Борис, расслышав в словах Саенко некоторое колебание. – Ведь опять эта Гюзель английских агентов вокруг пальца обведет. Уже раз так было! И человек, что за ней стоит, успеет скрыться. А мне что тогда – так и сидеть тут у Горецкого, носу не высовывать?
– Англичане – да, англичане – народ сомнительный, – согласился Саенко. – Дамочка-то шустрая, шельма! Вполне возможна такая вещь…
– Стало быть, что вчера Аркадий Петрович говорил? Всех в том доме, куда меня привезли, уже взяли, там, куда собирались везти – тоже, только главный ушел. Осталась Гюзель одна… И куда она ходила вчера ночью? В госпиталь святой Агнессы, – сам себе ответил Борис. – Вот и едем сейчас туда – походим, посмотрим.
– Чего впустую-то ноги стаптывать? – заупрямился вдруг Саенко, которому Горецкий утром строго-настрого запретил выпускать Бориса из дома.
– Не впустую, чувствую я, что не зря мы туда поедем, интуиция у меня.
На такое умное слово Саенко не нашелся, что ответить.
И они отправились в госпиталь святой Агнессы. Войдя в здание госпиталя, Саенко сразу же стянул откуда-то белый халат санитара, а Борису наскоро замотал лицо бинтом, чтобы не узнали. На них никто не обращал внимания, потому что в госпитале царило чисто французское столпотворение. Ходячие больные шатались взад и вперед по коридорам, везде было шумно, пыльно и пахло человеческим несчастьем и болезнями. Саенко, глядя на такое безобразие, употребил более сильное слово.
Вдруг Борис остановился и дернул Саенко за руку, заметив мужчину и женщину, которые сопровождали доктора, шагавшего по коридору с деловым и озабоченным видом. Борис подивился на неказистое платьице, но Гюзель в нем узнал безошибочно. Достать каталку и простыню для Саенко не составило труда.
Доктор ван Гулль, ни слова, конечно, не понимавший по-русски, очнулся от звука человеческих голосов и прежде всего с уважением посмотрел на внушительный костыль в мощной руке Саенко.
Гюзель, до сих пор молча наблюдавшая за событиями, вдруг кинулась к Борису, радостно восклицая:
– Мосье Ордынцефф! Борис, дорогой! Какое счастье, вы подоспели вовремя, чтобы спасти меня от этого страшного человека!
Борис удивленно повернулся к ней и, на всякий случай снова подняв наган, прикрикнул:
– Эй, очаровательная! Стойте, где стоите. За кого вы меня принимаете? Ведь вы сами пришли к нему, и привели сюда этого злополучного англичанина!
– Но, мосье Ордынцефф! – Гюзель очень натурально побледнела, по щекам ее покатились совершенно настоящие слезы. – Мосье Ордынцефф, этот низкий человек шантажировал меня, он обещал, если я не приведу к нему мистера Ньюкомба… он обещал убить меня!
Доктор ван Гулль задергался в могучих руках Саенко и разразился потоком ругательств на всех основных европейских языках. Мистер Ньюкомб тем временем несколько успокоился, понял, что его жизни пока ничто не угрожает, привел в порядок свой костюм и высокомерно обратился к Борису:
– Благодарю вас… молодой человек. Вы оказали мне чрезвычайно своевременную помощь. Хотя, конечно, я вполне контролировал ситуацию и задержал бы этих злоумышленников самостоятельно…
– Ох и подлый же народ эти англичане! – совершенно не к месту высказался не знающий иностранных языков Саенко.
– Вы собирались задержать этих людей? – удивленно переспросил Борис. – Насколько я слышал, вы намеревались продать этому человеку, – Борис указал на ван Гулля, – этому человеку вы собирались продать важные секретные документы!
– Наглая ложь! – завопил ван Гулль, полностью придя в себя. – Я ничего у него не собирался покупать!
Мистер Ньюкомб сложил руки на груди, высокомерно взглянул на Бориса и заявил:
– Не лезьте в политику, молодой человек. Я выполняю здесь важную и ответственную миссию, о которой не имею права распространяться и которая вас, во всяком случае, не касается. Сейчас, от имени Британской оккупационной службы, я арестовываю этих людей, – он указал на ван Гулля и Гюзель, – вас же больше пока не задерживаю.
– Мосье Ордынцефф! – Гюзель умоляющим жестом сложила ручки на груди и едва ли не готова была стать перед Борисом на колени. – Не отдавайте меня этому человеку! Не отдавайте меня англичанам! Я ни в чем не виновата! Доктор запугивал меня, грозил убить! Я слабая одинокая женщина, которую всякий может обидеть! Спасите меня!
– Эта женщина – шпионка! И она предстанет перед британским военным судом! – торжественно заявил мистер Ньюкомб.
Не опуская оружия, Борис внимательно поглядел на живописную троицу. Доктор был зол, но держался твердо. Было видно, что он не сдался и разговорить его на допросе будет нелегко. Борис, собственно, и не собирался этого делать, потому что не знал, о чем нужно спрашивать. Он был уверен в одном: доктор именно тот человек, у которого на службе состояла Гюзель, – стало быть, если нейтрализовать доктора, то он, Борис, становится абсолютно свободен.
Поведение прекрасной турчанки тоже было совершенно объяснимо. Она поняла, что их с доктором операция провалилась и теперь пыталась унести ноги. Что касается англичанина, то тут Борис испытывал некоторые сомнения. Мистер Ньюкомб очень изменился. Вместо растерянного, испуганного, подавленного своим предательством человека перед Борисом стоял важный надутый тип. Возможно, он блефовал. Но Борис заметил, что и Гюзель посматривает на англичанина с каким-то странным выражением. Однако нужно было на что-то решаться. Борис не боялся, что ему помешают люди доктора ван Гулля – если бы у него еще оставались таковые, то они были бы здесь, в морге госпиталя святой Агнессы. Борис опасался, что явятся англичане, которые упустили в свое время Гюзель и Ньюкомба, и тогда они с Саенко окажутся в затруднительном положении, потому что Борис не может предъявить им никаких документов, а если использовать при объяснениях фамилию полковника Горецкого, так ведь кто их знает, как они к этой фамилии отнесутся. Нет, нужно спешить.
– Ну-ну, – с сомнением в голосе проговорил Борис, – отведу-ка я вас всех к полковнику Горецкому, – пускай он сам разбирается, кто прав, а кто виноват…
– О мосье Ордынцефф! – Гюзель испустила столь жалостный стон, что ни одно мужское сердце не должно было остаться равнодушным, – мосье Ордынцефф, поверьте мне, я ни в чем не виновата! А коли попаду в руки англичан, они припомнят мне многое… грехи моей юности…
«Да уж, милая Гюзель, англичане с тобой церемониться не станут, – подумал Борис. – Ишь как мистер-то остервенился, прямо глазами ест…»
Борис обменялся с Саенко многозначительными взглядами и, поведя дулом нагана, решительно сказал:
– Все, дискуссия закончена. Все сейчас же дружно отправляемся к полковнику Горецкому.
– Вы забываетесь, молодой человек! – мистер Ньюкомб негодовал. – Я как представитель оккупационной службы…
– Все! – отрезал Борис. – Едем к Горецкому, а он уж там разберется, какой вы там представитель!
Мистер Ньюкомб, крайне возмущенный неуважением, проявленным к британской оккупационной службе в своем лице, гордо проследовал к выходу. Гюзель шла следом. Саенко, волоча наскоро связанного и полностью деморализованного доктора ван Гулля, оказался возле дверей одновременно с прекрасной турчанкой. Пропустив ее вперед, он замешкался, на мгновение прикрыв дверь… Гюзель тут же бросилась бежать по коридору.
– Держите, держите шпионку! – яростно завизжал мистер Ньюкомб, не предпринимая, однако, никаких самостоятельных действий.
Саенко топтался в дверях, Борис, который замыкал шествие, явно не спешил в погоню. Когда они, наконец, выбрались в коридор, турчанки уже и след простыл, а возмущенный англичанин кипел, как забытый на огне кофейник:
– Вы упустили ее! Вы упустили немецкую шпионку! Вы ответите за это перед английской оккупационной службой!
– Стоять! – рявкнул Борис на мистера тем же голосом, которым он командовал в далекой России «К бою!!!».
И хоть произнес он эти слова по-русски, англичанин понял. Он остановился, посмотрел на Бориса, притих и всю дальнейшую дорогу вел себя прилично.
Глава четырнадцатая
И не бывший в яростном бою,
Не ступавший той стезей неверной,
Он усмешкой встретит речь мою
Недоверчиво-высокомерной.
А. НесмеловАкоп Мирзоян посмотрел на собеседника честными карими глазами и пророкотал:
– Это пер-рвоклассная амер-риканская говядина! Не-ет? Она вся уже здесь, в товар-рном порту, не-ет? Можете позвонить моему человеку, он вам покажет каждую банку, не-ет?
Это словечко «не-ет», которым Акоп украшал каждую свою фразу, ровно ничего не значило, однако он никакими силами не мог от него отделаться. Даже когда его спрашивали, который час, он отвечал:
– Половина четвертого, не-ет? Людей малознакомых такое словесное украшение сбивало с толку, но на товарной бирже Акопа знали как облупленного и привыкли к его манере разговаривать. Вот и сейчас собеседник Акопа, вальяжный пожилой грек, спокойно выслушав его темпераментную реплику, кивнул и посмотрел на него, прищурив левый глаз, будто пытаясь проникнуть взглядом под черепную коробку и прочитать мысли Мирзояна.
Словно поняв невысказанные подозрения своего визави, Акоп ударил себя кулаком в грудь и воскликнул:
– Вы меня знаете не первый день, не-ет? Я вас когда-нибудь обманул, не-ет?
«И обманул бы, если бы я не проверял тщательно каждую букву и каждую коробку!» – подумал грек, но вслух ничего подобного не сказал, чтобы не портить отношения.
Он еще раз внимательно просмотрел бумаги, тяжело вздохнул и поставил внизу свою подпись. Мирзоян хлопнул грека по жирному плечу и радостно воскликнул:
– И это самое правильное, что вы могли сделать! Не-ет? Пойдемте к Тофику, отметим эту сделку! Не-ет?
– Не-ет! – передразнил его грек. – К сожалению не смогу, уважаемый Акоп-эфенди. Сегодня день рождения моей младшей дочери, и я должен еще купить ей подарок и пораньше вернуться домой.
– Не-ет? – в театральном отчаянии воскликнул Акоп, заламывая руки. – Не отметить такую сделку? Не-ет!
– В следующий раз, Акоп-эфенди, в следующий раз!
Увидев спину удаляющегося грека, Акоп облегченно вздохнул. Во-первых, он до последнего момента сомневался в том, что сделка состоится: американская говядина давно была просрочена, и об этом знали все, включая мальчишек-разносчиков и рыжего сеттера коменданта порта. Но, должно быть, грек уже нашел какого-нибудь покупателя на говядину, скорее всего, военного интенданта, которому было наплевать на свежесть мяса, а волновали только размеры собственных комиссионных.
Вторая причина облегченного вздоха Акопа заключалась в том, что ему вовсе не хотелось ужинать с этим старым жуликом: у него были куда более приятные планы, сегодня он собирался провести вечер с очаровательной мадемуазель Жюли, французской шансонеткой… И очень рассчитывал, что дело не ограничится только ужином.
Выйдя из здания биржи, Акоп остановился на углу возле чистильщика сапог. Пока мальчишка махал щетками, он просмотрел свежую газету. Не найдя ничего интересного, бросил ее чистильщику вместе с монетой, купил у цветочницы гвоздику, которую тут же вставил в петлицу, и отправился к ресторану мосье Филиппа.
Настроение у него было отменное: он провернул удачную сделку, заработал на ней солидный куш. Впереди его ждал хороший ужин и очаровательная женщина…
Когда до ресторана оставалось всего два квартала, к Акопу подошел незнакомый господин с удивительно противным выражением лица. Такое лицо бывает у чиновников таможни, полиции, судебных исполнителей. Незнакомый господин приподнял шляпу и гнусным официальным голосом спросил:
– Господин Мирзоян?
Акопу ничего не оставалось, как признать очевидное.
– Пройдемте со мной, господин Мирзоян! Вас немедленно хочет видеть господин Кефаль-оглы.
– Кто-о? – удивленно переспросил Мирзоян.
– Высокочтимый эфенди Кефаль-оглы! – повторил незнакомец таким тоном, как будто у него спросили, где в этих диких краях восходит солнце.
– А этот ваш… высокочтимый эфенди никак не может подождать? Не-ет? – тоскливо осведомился Акоп, чувствуя, что прекрасный ужин растворяется в голубой дымке как мираж. При этих словах он вытащил из кармана достаточно крупную купюру и осторожно вложил ее в левую руку незнакомца.
Но этот омерзительный человек отдернул руку, как будто бумажка его обожгла, и едва ли не закричал на Мирзояна:
– Что это? Вы хотели дать мне взятку? Да вы знаете, чем это грозит?
– Я… не-ет, я просто ошибся… я хотел положить это в свой карман, но рука как-то сама… Не-ет!
На этот раз «не-ет» Акопа прозвучало как последняя мольба приговоренного к смерти.
– Может быть, – согласился незнакомец. – Я не настаиваю на своем обвинении, но мы сейчас же должны проследовать к высокочтимому Кефаль-оглы.
Затем, чтобы несколько смягчить произведенное впечатление, он сказал:
– Возможно, высокочтимый эфенди задержит вас не очень надолго. Он имеет к вам несколько вопросов.
Мирзоян обреченно вздохнул и поплелся вслед за этим отвратительным чиновником.
Они свернули с оживленной ярко освещенной улицы, прошли два-три квартала. Дорога пошла под уклон, дома вокруг становились беднее, улицы грязнее, люди малочисленнее и подозрительнее.
«Куда это мы идем? – подумал Мирзоян. – Все правительственные учреждения расположены наверху, в современных кварталах. И вообще, что за странный способ приглашения. Обычно к турецкому начальству вызывают повесткой, приносит ее полицейский или какое-нибудь другое официальное лицо, а здесь меня остановил на улице какой-то странный человек, я даже не спросил у него документов…»
Акоп остановился. Его таинственный спутник посмотрел на него удивленно и спросил:
– В чем дело, господин Мирзоян?
– Куда вы меня ведете? Неужели ваш высокочтимый начальник находится здесь, среди этих трущоб? Не-ет?
– Мы идем к нему наиболее коротким путем, – терпеливо, как неразумному ребенку, начал объяснять турок. – Кроме того, Кефаль-оглы пригласил вас на специальную квартиру, предназначенную для конфиденциальных встреч…
– Тогда, уважаемый, хотя бы покажите мне ваши документы! Не-ет? – выпалил Мирзоян, поражаясь собственной смелости.
– Конечно, – ответил незнакомец и полез во внутренний карман.
Мирзоян с интересом ожидал развития событий. Но вместо документа этот ужасный человек достал из кармана непонятный инструмент – что-то вроде сапожного шила, только очень длинного и хорошо заточенного. Мирзоян смотрел на этот инструмент широко раскрытыми от удивления глазами. Он даже не успел испугаться, только очень удивился и возмутился – что себе позволяют эти турки!
А «этот турок» прижал палец к губам, призывая Акопа Мирзояна к молчанию, огляделся по сторонам, убедился, что, кроме них, на улице никого нет, затем схватил Мирзояна за плечо и сильным неожиданным рывком развернул к себе спиной. Одновременно левой рукой он вонзил свое страшное оружие в затылок несчастному коммерсанту.
Акоп Мирзоян тихо ахнул, и свет у него в глазах померк.
Говорят, в последнюю секунду перед смертью человек видит всю свою жизнь, со всеми радостями и печалями, со всеми грехами и добрыми делами, но Мирзоян успел только подумать, что вряд ли ему удастся поужинать сегодня с очаровательной Жюли… Не-ет?
Хотя полковник Горецкий и мало спал предыдущей ночью, но явился он в полицию бодрым и свежевыбритым, как обычно. Тихим голосом пробормотав приветствие, Джафар Карманли протянул ему протоколы осмотра трупов проститутки и ее сутенера. Трупы хранились в леднике при анатомическом театре госпиталя святой Агнессы, так что не успели особенно попортиться. И нерадивые студенты тоже не успели на них попрактиковаться. Судебный врач, которому отдал приказ лично Джафар Карманли, расстарался вовсю. Осмотр был произведен тщательно, из подробного заключения, явствовало, что раны нанесены острым узким предметом, вероятнее всего – шилом, и таким же способом, как и при убийстве полковника Шмидта. К заключению был приложен его перевод на французский, сделанный любезно самим Джафаром.
Минут тридцать в кабинете стояла полная тишина – Горецкий изучал бумаги, а Джафар занимался своими делами. Наконец полковник откинулся на спинку жесткого стула, в который раз больно ударившись спиной, и произнес:
– Скажите, уважаемый Джафар-эфенди, вас ничего не настораживает в этом заключении?
– Меня давно уже настораживают все эти события, – спокойно ответил Джафар.
– Не будет ли нескромным с моей стороны просить вас еще раз взглянуть на оригинал заключения? Вы не представляете, как здесь, в Константинополе, мне не хватает знания вашего языка!
– Что вас интересует? – прервал излияния Горецкого Джафар.
– Вот тут, у меня возникла некоторая неуверенность… возможно, следует поговорить с врачом… дело в том, что удар сильный, резкий, нанесен умелой рукой, но несколько неправильный…
Пока Горецкий бормотал эти слова, задумчиво разглядывая бумаги, Джафар открыл дверь и крикнул что-то по-турецки полицейскому. Через несколько минут явился врач – низенький плотный турок с озабоченным выражением на лице. Переводчик не понадобился – Горецкий объяснялся с врачом, мешая греческие и латинские слова. После оживленной беседы выяснилось, что неправильность удара вполне могла объясняться тем, что преступник работал левой рукой.
– Но удар сильный и резкий, стало быть, предположительно преступник – левша, – констатировал полковник.
– Вряд ли это так уж меняет дело, – заметил Джафар, мановением руки отпуская врача.
– Но все же нужно взять это на заметку. Далее полковник Горецкий выправил в полиции бумагу, чтобы заручиться поддержкой любых властей в процессе расследования, выписал на листок адреса убитых и решил сам заняться неблагодарным и утомительным делом – ходить по всем этим адресам и расспрашивать свидетелей. Он не хотел никому этого поручать, потому что не очень-то доверял турецкой полиции – известно, что к русским она относится очень плохо. В переводчики он взял с собой мальчишку-курьера, который знал русский. Дед мальчишки был в свое время контрабандистом и однажды привез из похода русскую жену. Бабушка научила Керима русскому. В последнее время, когда в городе появилось много русских, Керим начал вспоминать бабку с благодарностью, потому что господин помощник начальника полиции обещал ему повышение, если он сумеет услужить русскому полковнику.
Первым полковник Горецкий решил посетить то место, где убили проститутку. Он руководствовался той здравой мыслью, что с момента двойного убийства прошло меньше всего времени и могли еще остаться какие-нибудь следы. Керим поморщился, взглянув на бумажку с адресом:
– Плохое место. Турки там не живут.
– А кто же живет? – удивился Горецкий.
– Так, – Керим пренебрежительно махнул рукой, – разные…
От здания полиции нужно было добираться долго. Трамваи ходили только по Пери, так что Горецкий взял извозчика. Взглянув на адрес, извозчик заартачился было, но Керим прикрикнул на него и заговорил быстро-быстро, показывая пальцем на Горецкого, делая страшные глаза и цокая языком. Извозчик хлестнул лошадь и всю дорогу молчал, только испуганно оглядывался на своего пассажира.
– Что ты ему сказал? – заинтересовался Горецкий.
– Сказал, что господин полковник – уважаемый человек, большой начальник и на допросах лично забил до смерти семь человек, – последовал невозмутимый ответ.
От неожиданности Горецкий чуть не свалился с неудобного сиденья.
«Запад есть запад, восток есть восток, и им никогда не сойтись», – процитировал он Киплинга и вздохнул про себя.
Несмотря на страх перед грозным полковником, извозчик остановил лошадь все же на мало-мальски приличной улице Галаты, неподалеку от полицейского, и отказался ехать дальше, мотивируя тем, что улочки очень узкие и экипаж не проедет.
Переулок действительно был такой узкий, что, казалось, там с трудом разойдутся два человека, но, возможно, так казалось от грязи. Полицейский проводил их до самого домика и стукнул кулаком в дверь, потом подождал немного и стукнул снова. Дверь была старая и неказистая, и Горецкий ждал, что она рухнет под мощными ударами полицейского, но вот послышались шаркающие шаги, и на пороге показался очень толстый хозяин дома. Жирные щеки свисали ниже подбородка. Глаза, и так еле заметные в складках жира, были полузакрыты. Одет был хозяин в нечто до того засаленное и грязное, что совершенно непонятно было, какой это предмет одежды. Национальность его Горецкий определить тоже не смог. Человек молча остановился на пороге и уставился на своих визитеров. Полицейский грубо рявкнул что-то по-турецки и ушел на свой пост. Хозяин кивком головы пригласил оставшихся войти.
Первое помещение представляло собой крошечную лавчонку, где на прилавке было навалена всякая дрянь. Керим осмотрелся и быстро заговорил по-турецки, изредка прерываясь, чтобы выслушать вопросы Горецкого и вялые ответы хозяина. Из разговора выяснилось, что официально хозяин живет на доходы от торговли. Но даже постороннему было ясно, что торговля таким хламом, который лежал в лавочке, никакого дохода не приносит. Поскольку полиция уже все знала, хозяин, нисколько не скрываясь, признал, что сдавал заднюю комнатку лавки сутенеру, который приводил мужчин для своей девки. С посетителями никаких особенных скандалов не случалось, только сутенер изредка сам ее бил – учил уму-разуму. Он, хозяин, не интересовался, кто там у них был виноват, в такие дела лучше не вмешиваться.
– Она только принимала здесь клиентов или жила? – перевел Керим.
Хозяин удивился и ответил, что сутенер уходил иногда развлечься и ночевал в другом месте, а женщина оставалась тут. Сутенер приносил ей кокаин и выпивку, а больше ей ничего не было нужно.
– Давно она такой стала?
– Кто знает? – хозяин пожал плечами. – Когда у меня появилась, уже такой была.
Из дальнейших расспросов выяснилось, что женщина поселилась здесь примерно месяц назад. Хозяин никогда с ней не разговаривал, потому что она не знала языка, только несколько турецких слов.
В комнате было грязно, но кровь на полу замыли, и кровать стояла голая, без тюфяка, очевидно, хозяин выбросил окровавленные тряпки.
Горецкий оглядел убогую обстановку и задумался. Убийца встретился с сутенером где-то неподалеку отсюда и пришел с ним, как клиент. Зачем? Чтобы, как оказалось, убить женщину. Сутенера он убил потом, когда тот, заподозрив неладное, бросился защищать свою девку. Если бы он хотел убить сутенера, он бы сделал это прямо на улице. Незачем было тащиться в этот вертеп. Значит, все дело в женщине. Но таких беспутных женщин болтается по улочкам Галаты несчетное множество. А неизвестный убил именно эту, причем, для достижения цели не остановился перед двойным убийством. Разумеется, человеческой жизнью он не дорожит – одним убийством больше, одним меньше – ему не важно, но ведь был же определенный риск… Значит, ему нужно было убить именно эту женщину.
– Остались после нее какие-нибудь вещи? – спросил Горецкий хозяина.
– Вещи? – хозяин совершенно искренне удивился. – У нее не было никаких вещей. Одежда… все было на ней, так и увезли труп… нет, у нее не было никаких вещей.
Керим грозно набросился на хозяина, но тот стоял на своем.
– Постой-ка, – нахмурился Горецкий, – переведи ему: я понимаю, что ничего ценного у нее быть не могло и ни в чем его не подозреваю, но разные мелочи, которых не может не быть у женщины, даже такой опустившейся, как эта. Расческа, помада…
Хозяин подумал немного, потом нехотя встал и вышел. Он долго рылся под придавком в лавочке и повернулся, держа в руках маленький узелок.
Преодолевая брезгливость, Горецкий развернул несвежее полотно. Сломанная расческа, шпильки, тюбик дешевой помады, две баночки с румянами… еще маленький осколок зеркальца… да, вещей у нее, можно сказать, и не было. Нищая, опустившаяся русская беженка. Кому и за что понадобилось ее убивать?
Он еще раз оглядел вещи, которые были завернуты в серый от времени и грязи кусок полотна, вздохнул и собрался уже уходить, как вдруг взгляд его упал на правый угол тряпки. Он схватил полотно, стряхнул с него баночки и шпильки, после чего аккуратно разложил его на столе. Полотно представляло собой прямоугольный кусок, в углу которого было вышито когда-то красными, а теперь бурыми нитками по-русски: «Пале-Ройяль». Вышивка была самая простая – никаких там вензелей и виньеточек, самыми обычными стежками, на скорую руку.
– Эта вещь ее? – спросил Горецкий.
Хозяин пожал плечами. Горецкий достал из кармана маленький складной ножичек и аккуратно отрезал от полотна уголок с вышивкой. Затем он спрятал тряпицу в бумажник и вышел, кивнув хозяину. Керим с негодованием обвел глазами прилавок и тоже ушел, крикнув на прощание что-то обидное.
На улице полковник Горецкий поглядел вокруг и велел Кериму проводить его до «Звезды сераля» – отвратительного грязного кабака, возле которого неизвестный убийца зарезал две недели назад ротмистра Хренова, чем и положил начало страшной цепочке непонятных смертей. Когда пришли в указанное заведение, Горецкий с первого взгляда угадал в хозяине, назвавшимся Сулейманом-ибн-Мусой, одесского еврея Соломона Лапидуса и подумал, что скверное заведение следовало бы назвать не «Звезда сераля», а «Звезда Соломона». Он отпустил Керима погулять, посчитав, что услуги переводчика ему здесь не понадобятся.
Соломон Лапидус держался твердо, несмотря на расстройство оттого, что его янычарские усы и наголо обритый череп не помогли сойти за местного уроженца. Он ничего не знает, никого не видел, а если и убили здесь рядом какого-то ротмистра, то, во-первых, это было давно – кто же вспомнит подробности убийства, происшедшего чуть ли не месяц назад, а во-вторых, у него, Соломона, забот хватает и в заведении. И совершенно непонятно, отчего это господин полковник решил, что заведение «Звезда сераля», имеет к происшедшему какое-то касательство? У него каждый день бывает множество русских офицеров, и благодарение Аллаху, – тут Соломон вспомнил, что Аллах все же не является его родным богом и воздержался призывать его в свидетели, – так вот, дела идут в заведении неплохо, и никто из господ офицеров не жаловался на качество напитков и обслуживание…
– Вреш-шь! – неожиданно вклинился в бесконечный монолог Соломона черноволосый поручик в потрепанном френче. – Врешь, сволочь! Водка у тебя отвратительная, портянками пахнет! Это и Хренов говорил! Жаль, что мы тогда с ним твой вонючий кабак не разнесли!..
– Разрешите представиться, – повернулся к нему Горецкий. – Аркадий Петрович Горецкий. Вы позволите присесть?
В это относительно раннее время поручик Шилишвили был не очень пьян, поэтому он сразу разглядел в Горецком начальство, хоть на английском френче и отсутствовали погоны. Поручик вскочил, переставил стул и пригласил садиться, после чего дал довольно подробные ответы по поводу последнего вечера, проведенного ротмистром Хреновым в этом кабаке. Все было как обычно, они пили, Хренов был очень недоволен жизнью, несмотря на то, что в этот вечер у него были деньги.
– Откуда же он достал денег?
– С утра он, кажется, собирался на прием к Врангелю… Хотел просить разрешения уехать на поиски брата… ну и денег чтобы дали хоть на первое время.
– Судя по тому, что у него были деньги, просьбу его удовлетворили? – уточнил Горецкий.
– Я не помню, – потупился поручик. – Мы много пили… В общем, он ушел, и больше я его не видел. Но он что-то кричал про то, что в армии все решают связи и что он сегодня встретил кого-то…
– В приемной Врангеля?
– Кажется… – неуверенно промямлил поручик.
– Благодарю вас, господин Шилишвили, – Горецкий поскорей откланялся и вышел, уж очень отвратительной была вся атмосфера дешевого кабака.
На улице при жалком мертвенном свете фонаря полковник постарался определить, который час. Час был восьмой, давно стемнело. Керим нетерпеливо топтался рядом – он хотел есть.
– Ладно, Керим, на сегодня мы с этим делом закончим, а завтра с утра будь готов. Вот, возьми-ка, – Горецкий протянул ему шуршащую купюру. Керим на ощупь определил ее достоинство и приятно удивился. Они дошли до первой приличной улицы, где полковник крикнул извозчика. Керим побежал домой, поминутно проверяя наличие в кармане денег, а Горецкий вздохнул и отправился домой, где ожидали его Борис, связанный доктор, а также сильно раздраженный мистер Ньюкомб. Собственно, мистера Ньюкомба никто не удерживал, наган Борис убрал и даже намекнул англичанину, чтобы тот катился куда-нибудь подальше. Но тот, непонятно почему, никуда не ушел и к тому времени, как появился Горецкий, совершенно рассвирепел. Увидев полковника, мистер Ньюкомб облегченно перевел дух, потому что появилось наконец знакомое лицо в этом бедламе. Он зашептал половнику на ухо какие-то слова, на что тот поднял брови и кивком пригласил англичанина к себе в кабинет.
Мистер Ньюкомб метался по кабинету Горецкого, как тигр по клетке, и кричал с совершенно не английским темпераментом:
– Свяжитесь с Лондоном! Я требую, немедленно свяжитесь с Лондоном и скажите только одно слово, точнее, одну букву: «К»!
– Вот как? – с интересом посмотрел Аркадий Петрович на англичанина. – Вы работаете в ведомстве генерал-майора Вернона Келла, в МИ-5?
– Тише! – Ньюкомб побагровел, подбежал к Горецкому и прижал палец к губам. – Не произносите этого вслух! Даже для самых ответственных чинов в министерстве внутренних дел и в Скотланд-Ярде он просто «К»!
– Значит, я информирован лучше, чем чины министерства и Ярда, – усмехнулся Горецкий. – Итак, не считаете ли вы, что нам следует обменяться информацией? Раз уж мы оба кое-что знаем о генерал-майоре…
– Не знаю, не знаю… – Ньюкомб опять принялся мерить кабинет шагами, – не знаю, вправе ли я обсуждать с вами столь секретные вопросы. Ведь вы не сотрудник МИ-5, более того – вы не подданный Ее Величества…
– Не забывайте, что если бы не своевременное вмешательство моих людей, доктор ван Гулль, точнее, герр Генрих Кляйнст, вполне мог оборвать сегодня вашу блестящую карьеру.
– Эти ваши люди… – англичанин возмущенно напыжился, – они совершенно не джентльмены! Они позволяли себе недружественные выпады, привели меня сюда к вам насильственно… кроме того, они явно умышленно способствовали побегу помощницы ван Гулля! Я уверен, что это не было случайностью!
– Вот как? – Горецкий снова усмехнулся и негромко проговорил по-русски, ни к кому не обращаясь: – Ах, Борис, Борис! Он неисправим! Не может устоять перед красивой женщиной. Но от Саенко я этого не ожидал.
– Так что же вы намерены делать? – надменно спросил мистер Ньюкомб.
– Вы прекрасно знаете, что с Лондоном я связаться не могу, – холодно ответил Горецкий. – Я работаю на мистера Солсбери, а его сейчас нет в городе. Так что я передаю голландского доктора, то есть немецкого агента Генриха фон Кляйнста, людям мистера Солсбери, которые хоть и бездарно провели операцию с его поимкой, но все же они мне хорошо знакомы, а вы, простите, являетесь для меня темной лошадкой.
Мистер Ньюкомб сделал возмущенный жест, намереваясь что-то сказать, но Горецкий сделал вид, что не заметил этого жеста.
– Может, вы сумеете объяснить, как случилось, что мистер Солсбери не имел ни малейшего представления о вашей миссии в Константинополе?
Мистер Ньюкомб опустил глаза, потом сел за стол и закурил папиросу.
– Вообще-то я выполняю приказ. А как они там наверху решили, мне ведь не докладывали, – вздохнул он. – Знаю только, что «К» был очень обеспокоен в последнее время утечкой важной информации. Один наш дипломат был завербован, а когда его разоблачили, он застрелился. «К» захотел узнать, откуда, так сказать, ветер дует. И послал меня. Я познакомился с Гюзель, дал себя завербовать…
– Понятно, – протянул полковник Горецкий, – правая рука не знает, что делает левая. У нас в России тоже так бывает…
На улице послышалось фырканье автомобильного мотора.
– Это за доктором.
Вошли двое в английской военной форме, неприязненно покосились на мистера Ньюкомба, но ничего не сказали. Один из них отвел Горецкого в сторону и произнес несколько фраз. В полном ошеломлении Аркадий Петрович подхватил сползающее пенсне.
– Вот это да! – по-русски воскликнул он.
Англичане подхватили связанного доктора, как куль с мукой, и без долгих церемоний поволокли в автомобиль. Мистер Ньюкомб встрепенулся и бросился следом. После нудных разбирательств те согласились взять его с собой.
– Наконец-то они все убрались! – потянулся Борис. – Саенко, ужинать мы будем сегодня? Уж очень беспокойная работа – шпионов ловить. Аркадий Петрович, выпьем за успешное окончание дела?
– Какое там, – рассеянно отмахнулся Горецкий. – Тут такие дела творятся! Сегодня турки ввели войска в Батумскую область.
– Откуда такие сведения? – поразился Борис.
– Части кемалистов[7] оккупировали Батумскую область, – терпеливо повторил Горецкий. – Армией командует генерал Кераглы. Турки заняли Батум, Батумскую область, арестовали в порту все военные и торговые корабли. Чудом вырвался один английский миноносец. Он и сообщил по радио. Думаю, в газетах это появится только завтра.
– И как же реагирует на это правительство?
– Какое здесь, в Константинополе, правительство! – махнул рукой Горецкий. – Османская империя доживает последние дни, султан не имеет больше никакой власти. Но что интересно: правительство Кемаля в Анкаре тоже молчит. Буквально никаких комментариев! Тут явно кроется какая-то интрига…
За ужином Горецкий поглядел на Бориса поверх пенсне и вкрадчиво спросил:
– А скажите-ка мне, голубчик, зачем вы отпустили прекрасную турчанку?
– Я? – очень натурально удивился Борис. – Я тут ни при чем. Она сама сбежала.
– Ну-ну, – усмехнулся Аркадий Петрович, – не притворяйтесь, я-то вашу слабость к красивым женщинам хорошо знаю. И хочу вам сказать, что здесь вы допустили большую ошибку. Гюзель очень опасна, вы имели случай в этом убедиться. Ведь это она, не колеблясь, приговорила вас к смерти, когда по ее приказу вас схватили.
– Знаю, – криво улыбнулся Борис, – но никак не научусь воевать с женщинами. Да и англичанин этот, мистер Ньюкомб, уж очень надутый был.
– Эта женщина стоит сотни мужчин! – заметил полковник и непонятно было, осуждает он Гюзель или восхищается ею. – Чувствую я, что в нынешней интриге с оккупацией Батума не обошлось без герра доктора и его очаровательной помощницы.
– Теперь нас это не должно волновать, – осторожно напомнил Борис.
– Да, я занят расследованием шести убийств, а вас завтра вызовут англичане на очную ставку с доктором и мистером Ньюкомбом. Так что сидите на месте, ждите, когда за вами авто пришлют.
Борис недовольно поморщился, но ничего не ответил.
Глава пятнадцатая
Окончив труд, с погасшей папиросой.
С душой угасшей встал из-за стола,
Где абажура череп безволосый
Беззубая обсасывала мгла.
А. НесмеловНаутро в приемную генерала Врангеля вошел немолодой, но крепкий с виду мужчина в хорошо пошитом английском френче без погон и других знаков различия. День был неприемный, и в помещении находился только дежурный офицер.
– Добрый день! – представился вошедший. – Полковник Горецкий.
Офицер вскинул брови и насмешливо скривил губы, уставившись на то место, где должны были быть погоны у этого типа, назвавшегося полковником – знаем, мол, мы этих полковников, – ишь френчик-то как хорошо сидит, небось интендант! Нажился на поставках, пока мы, простые офицеры, на фронте кровь проливали…
– Что вам угодно? – сухо спросил он.
Взгляд офицера не остался незамеченным полковником. Он снял пенсне и посмотрел на сидящего сверху.
– Мне угодно, чтобы вы вызвали сюда начальника канцелярии. И срочно, – ровным голосом произнес он.
Все слова о том, что день неприемный, что начальника канцелярии сейчас нет и что по установленному порядку следует сначала зарегистрироваться у него, дежурного, – показать документы и так далее – застряли у дежурного офицера в горле, он вскочил с места, но тут открылась дверь и в приемную вошел начальник конвоя Главнокомандующего – генерал-майор Семен Николаевич Краснов.
– Кого я вижу! – приветствовал он вошедшего не по уставу, но дежурный офицер почувствовал, что в голосе генерал-майора нет теплоты.
Генерал и полковник пожали друг другу руки и отошли в дальний угол комнаты. Разговор они вели вполголоса, так что офицеру ничего не было слышно, но он заметил, что Краснов рассматривает какие-то бумаги. Затем Краснов подошел к столику дежурного и достал книгу записи посетителей. Горецкий склонился над книгой и принялся внимательно ее изучать.
Вот записано: «ротмистр Хренов». И в этот же день на прием записалось еще восемь офицеров. То есть записалось бы гораздо больше, просто Главнокомандующий не любил принимать много народа. Так дело не пойдет. В приемную мог просто кто-то зайти случайно или по другому делу, не проверять же всех! Горецкий внимательно вгляделся в ровные строчки.
– Простите, вот тут, я так понимаю, отметка о том, был ли записанный ранее посетитель на приеме у господина Главнокомандующего?
– Совершенно верно, – ответил генерал Краснов, – но… возле фамилии Хренов такой отметки нет.
– Значит ли это, что ротмистр Хренов не попал на прием? Или… – Горецкий оглянулся на дежурного офицера, – могли не отметить?..
– Исключено, – улыбаясь, но твердо ответил генерал Краснов. – Начальник канцелярии у нас такой буквоед.
– Стало быть, на приеме Хренова не было? – настаивал Горецкий.
– Стало быть, – развел руки Краснов. Ему уже порядком начал надоедать этот разговор, но Горецкий показал ему такие бумаги, что приходилось идти ему навстречу, – не стоило ссориться с человеком, который в хороших отношениях с англичанами и турецкой полицией.
«Ага, – думал Горецкий, – на прием Хренов не попал, стало быть, денег никаких ему не выписали и получить ему было их неоткуда, если только… Если только ему не дал денег тот человек, которого он по его же собственному утверждению встретил. И с какой стати этот „кто-то" мог дать Хренову денег? Этому пьянице и дебоширу? К тому же те, кто толчется в приемной Врангеля, сами обычно нуждаются в деньгах – мало-мальски устроившие свои дела офицеры сюда не ходят…»
Горецкий выписал из книги регистрации посетителей адрес последней квартиры ротмистра Хренова и ушел. Генерал Краснов с облегчением посмотрел ему вслед.
После визита в приемную Главнокомандующего полковник Горецкий решил наведаться на бывшую квартиру полковника Шмидта. Но посещение его оказалось неудачным, потому что полковник жил в гостинице. Номер нужно было срочно освободить, так что все бумаги опечатал и забрал представитель англичан, а личные вещи запаковали в большой сундук и отослали родной сестре полковника, которая жила в Париже с мужем и двумя детьми. Горецкий, узнав про это, горестно вздохнул и подивился той быстроте, с которой служащие гостиницы распорядились вещами. Потом он пригляделся внимательнее к прислуге, среди которой совершенно отсутствовали восточные лица, и все понял: отель был роскошным, старался соблюдать европейские обычаи, там не было места восточной лени и безалаберности. Горецкий пообедал в ресторане отеля, посчитав, что раз англичане подставили ему ножку, забрав все бумаги полковника Шмидта, то пускай тогда оплатят огромный счет за обед в дорогущем отеле.
Ротмистр Хренов делил жалкую квартиру на Галате с двумя своими сослуживцами. Пока Керим объяснялся с хозяином, полковник Горецкий беседовал с пехотным капитаном среднего возраста и потертой наружности. У капитана был тик – очевидно, после контузии, у него сильно дергались левая щека и глаз. Беседа проходила неважно, потому что кроме тика, капитан еще страдал жутким заиканием. Второй сосед Хренова спал на койке, с головой накрывшись шинелью.
Горецкий показал документ, выданный в турецкой полиции, который, надо сказать, не произвел на контуженного капитана ни малейшего впечатления. Однако, после долгих разбирательств, полковнику все же показали вещи Хренова. В вещмешке лежала смена белья, запасной погон, почему-то один, французская книжка в разодранном переплете и с весьма фривольными гравюрами, затертая, еще довоенная фотография, на которой были изображены дородный господин в сюртуке и с бородой, сидящий на стуле, рядом с ним – такая же представительная дама, а сзади, за стульями, стояла девушка в гимназическом платье с пелеринкой. На обороте не было никакой надписи, только дата – 1914 год.
Страшно заикаясь, капитан сказал, что револьвер, бритву и совсем новый кусок мыла он взял себе, ротмистр был бы не против.
– Разумеется, – вздохнул Горецкий и стал укладывать в мешок все, что осталось от ротмистра Хренова. Что-то зашуршало, и он вытащил из пришитого изнутри кармашка письмо в разорванном наискось конверте. Письмо стерлось на сгибах, к тому же побывало в воде, так что чернильные строчки расплылись. Но Горецкий внимательно рассматривал бледные буквы на конверте. «Ялта, гостиница „Пале-Ройяль", Его благородию ротмистру Хренову…»
«Пале-Ройяль»! Горецкий вспомнил кусок старого полотна, который он нашел вчеpa в вещах убитой проститутки. Ну конечно, это же гостиничное полотенце! И вышито на нем название гостиницы, чтобы не украли. Но все равно не помогло, прихватила покойная Мария Костромина тряпочку-то с собой.
Стало быть, можно предположить, что оба они отправились в Константинополь из Ялты и жили в одной гостинице. Это уже какая-то связь!
Ободренный Горецкий крикнул Керима и поспешил прочь.
Значит, кто там остался? Некий Фома Сушкин. Ростовщик, брал под залог ценные вещи и драл страшные проценты. Наживался на людском горе. Что ж, и такая бывает коммерция. Неизвестный убийца зарезал его, как Раскольников – старуху-процентщицу. Но не взял никаких денег.
Все эти мысли бродили в голове Аркадия Петровича, пока они с Керимом ехали на извозчике к дому, где убили ростовщика Фому Сушкина.
Открыла старая турчанка, которая, к великой досаде Керима, оказалась почти глухой, так что приходилось кричать ей в ухо. Но все же удалось выяснить, что нашла своего убитого хозяина именно она, когда вернулась с базара, и был он еще теплый. Но никого она не встретила по дороге и ничего не видела. Дверь была открыта, чему она несказанно удивилась, потому что хозяин строго-настрого велел дверь запирать, даже если на минутку выйдешь – за водой или белье развесить… Нанял ее хозяин месяца два назад, откуда приехал – она не знает.
Кем раньше был – тоже не знает. Кто приходил к нему в тот день – понятия не имеет. Она увидела труп хозяина на полу в луже крови и выскочила на улицу. На ее крики собрались соседи и случайные прохожие, а уж после пришел господин Эфраим. На вопрос Горецкого, кто такой господин Эфраим, старуха с почтительным придыханием ответила, что господин Эфраим – это полицейский, который стоит вон там на углу, за три квартала отсюда. Господин Эфраим был очень недоволен убийством и сначала закричал на нее, Фатиму. Но потом разобрался, что она ни в чем не виновата, и отпустил. Приехали полицейские и увезли тело хозяина, а один очень важный господин в штатском платье забрал все драгоценности и деньги из железного ящика, что стоял у хозяина возле кровати, и ушел, залепив все сургучными печатями. Велели ничего не трогать, но на третий день Фатима все же решилась замыть кровь и вообще прибраться, потому что очень пахло и замучили мухи – откуда только они взялись зимой?
– Так-так, значит, все ценное турки забрали?
– Все забрали, господин, все-все, – Фатима опустила бегающие глазки.
Горецкий пригляделся к турчанке и понял, что вороватая старуха уже успела прибрать все, что властям показалось не очень ценным, но заставить ее признаться в этом у него, у Горецкого, нет никакой возможности.
Керим сердито закричал на старуху по-турецки, она в ответ немедленно пустила слезу. Керим махнул рукой и замолчал, но Горецкий понял смысл ее причитаний без перевода.
– Конечно, – ныла Фатима, – старуху все обижают. Приходят клиенты хозяина, требуют свои заклады, а что она может сделать, когда ничего не осталось? Да и кто им теперь поверит? С хозяина-то ведь не спросишь…
– Постой-постой, – в голове у Аркадия Петровича шевельнулась догадка, – а ведь он должен был вести учет клиентов. Раз он брал залог на время и начислял проценты, то должен был все тщательно считать. Спроси у нее, Керим, где та тетрадь, в которую хозяин записывал сведения?
Фатима долго не могла понять, чего от нее хотят, или делала вид, что не понимает. Глядя в ее хитрые глаза, Горецкий усомнился далее, так ли она глуха, как представляется. К счастью, старуха не верила в силу написанного слова и не ждала для себя неприятностей от каких-то бумажек, – повздыхав, она вышла и вскоре принесла большую конторскую книгу с наполовину вырванными страницами – практичная старуха использовала бумагу для растопки плиты. Керим набросился на нее коршуном, выхватил книгу и протянул полковнику. К счастью, пострадали только первые листы, и сохранились записи месячной давности.
Горецкий внимательно листал книгу. Фому Сушкина убили поздним утром, так что посетителей еще не было. Так и есть: в этот день двадцатого февраля нет никаких записей. Значит, никто не приходил. Хотя… Аркадий Петрович быстро перелистнул несколько страниц назад. Обычно деньги под залог берут на месяц. Вот четыре записи, произведенные ровно месяц назад, двадцатого января. И только одна из них перечеркнута – Нинетт Мезон, золотое кольцо с топазом. Стало быть, только неизвестная Нинетт Мезон не поленилась встать пораньше и успела забрать свое колечко. Остальным не повезло – ростовщика убили, и их вещи пропали. Впрочем, возможно, они и не собирались ничего выкупать. Кем может быть Нинетт Мезон? Француженка, возможно, артистка, поет в ресторане или кабаре. Следует попытаться ее отыскать. Велев Кериму взять конторскую книгу с собой, Горецкий поспешил в полицию.
В здании городского полицейского управления полковнику Горецкому сообщили неприятное известие – вчера случилось еще одно убийство явно из той же серии. Биржевой коммерсант Акоп Мирзоян был убит на Галате прямо на улице ударом шила или узкого ножа точно в затылок. И хоть труп обнаружили довольно быстро, убийцу никто не видел.
– Еще одно звено той же цепи, – расстроенно сказал Горецкий Джафару Карманли.
– Вы уверены? – без всякого выражения спросил тот.
– Почти, – честно ответил Горецкий. Джафар отвернулся, ничего не сказав.
Мирзоян был достаточно известен в биржевых кругах. Он ворочал большими делами. Появился он на константинопольской бирже два месяца назад, и его сразу же заметили.
Полковник Горецкий не поленился сам зайти в отдел, который ведал регистрацией лиц, проживающих в Константинополе и, сославшись на Джафара, поручил маленькому лопоухому человечку выяснить для него адрес некоей Нинетт Мезон, предположительно артистки или певички.
После этого Горецкий посидел немного в греческом ресторанчике, что находился возле здания полиции. Хозяин принимал его почтительно и обслуживал сам. Аркадий Петрович разложил перед собой свои записи и углубился в них, прихлебывая кофе.
К пяти убийствам прибавилось шестое, но дело ничуть не прояснилось. Все шесть человек были эмигрантами из России и прибыли в Константинополь примерно два месяца назад или чуть раньше. Полковник Горецкий почувствовал, что пора ему обратиться в государственные инстанции.
Однако к вечеру удалось выяснить, что эмигрантов из России сразу в Константинополь не пускали. Все пароходы с беженцами направлялись либо на остров Халки, либо – на Принсипе. Все ведения о прибывших находились там у чиновников оккупационной службы.
Рано утром Горецкий стоял на палубе катера, отправляющегося на остров Халки. Было свежо, и он поднял воротник шинели.
В море недовольно вскипали пенные буруны.
Чиновник на острове Халки встретил полковника вначале весьма нелюбезно, но документы оказали свое действие, и через несколько минут Аркадий Петрович уже просматривал списки прибывших, многие из которых жили еще здесь, на острове.
Горецкого прежде всего интересовали пассажиры пароходов, прибывших из Ялты Списки, списки… Пароходы, прибывшие примерно два месяца назад. Горецкий усиленно искал знакомые фамилии. В глазах рябило.
– Никуда не денетесь, голубчики, – бормотал он, – некуда вам было деться, кроме как на пароход сесть. По воздуху через море не перелетишь…
Вот первая ласточка – Костромина Мария, двадцати девяти лет, девица. Ну-ну, хмыкнул Горецкий, девица так девица. Пароход «Илья Муромец», отбыл из Ялты пятнадцатого декабря одна тысяча девятьсот двадцатого года. Так-так, кажется, в середине декабря Ялту окончательно захватили красные. И вполне возможно, что «Илья Муромец» был последним пароходом.
Он потянулся, протер усталые глаза и снова просмотрел все списки пассажиров «Ильи Муромца». Вот он, старый знакомый – Фома Сушкин! Плыл на том же пароходе. Они могли встретиться, пока плыли от Ялты до Константинополя… Больше ни одной знакомой фамилии. Но отчаиваться рано.
Горецкий внимательно перечитал все фамилии, стоящие в списке рядом с Марией Костроминой. Лидия Антоновна Дурново, присяжный поверенный Кнаббе с женой и дочерью, вдова отставного советника Ильинского, ее племянник Георгий Ильинский с женой…
Горецкий показал фамилии чиновнику, тот сверился с другими списками и покачал головой: никого из названных людей на острове Халки уже не было, они все перебрались в Константинополь.
– Были еще пароходы из Ялты в эти же дни? – настойчиво спрашивал Горецкий.
Чиновник долго перелистывал подшитые списки, затем ткнул пальцем.
– Вот, посмотрите здесь.
Горецкий углубился в списки парохода, прибывшего из Ялты. Пароход «Слава Азова» отплыл из Ялты пятнадцатого декабря, прибыл на остров Халки семнадцатого.
– И вот они все, мои ненаглядные! – воскликнул по-русски полковник Горецкий так радостно, что чиновник покосился удивленно, но ничего не сказал, а только пожал плечами.
– Акоп Мирзоян, тридцати пяти лет, коммерсант… далее по алфавиту полковник Шмидт, затем ротмистр Хренов.
Значит, вот что выходит. Все убитые прибыли из Ялты, причем выехали оттуда в один день, только на разных пароходах. Поэтому предположить, что их убили из-за того, что они могли что-то видеть в дороге, весьма трудно. Но гостиница «Пале-Рояль», что находится в Ялте… возможно ли, чтобы все эти люди ночевали в гостинице, и там что-то произошло такое, из-за чего потом кому-то понадобилось их убить! Очень, очень интересно.
И полковник Горецкий поспешил на берег моря, чтобы поспеть на отходивший катер, который должен бы отвезти его обратно в Константинополь.
Он успел зайти в полицию и выяснить адрес Нинетт Мезон, которая и правда оказалась актрисой, выступавшей в крошечном театрике варьете, она и жила неподалеку.
Керим рвался пойти с Горецким, ему очень нравился щедрый русский полковник, но Горецкий отпустил его домой – в этот вечер он не собирался общаться с турками.
Нинетт Мезон жила в меблированных комнатах. На нижнем этаже Горецкого встретила толстая хозяйка и махнула рукой наверх, откуда раздавались крики, звуки рояля, а также топот и звон посуды. Горецкий остановился перед обшарпанной дверью, когда-то покрашенной зеленой краской, и постучал. Дверь распахнулась тотчас, как будто открывший стоял за дверью и ждал. На Горецкого удивленно смотрела молодая женщина. Светлые волосы выбивались из-под маленькой синей шляпки, надвинутой на лоб. В зубах женщина держала шляпную булавку. На лице ее пылал гневный румянец, и глаза тоже блестели сердито.
– Мадемуазель… – полковник вежливо прикоснулся к фуражке.
Женщина вынула изо рта булавку, сунула ее куда-то в область затылка и только было открыла рот, как вдруг из глубины комнаты раздался звериный рык:
– Не мадемуазель, а мадам! Женщина повернулась, давая Горецкому разглядеть остальную часть комнаты, где возле дивана, обитого когда-то полосатой, а теперь совершенно вылинявшей тканью, стоял низенький толстячок в таком же полосатом, как обивка дивана, халате. Он страшно вращал глазами, волосы воинственно курчавились вокруг круглой плеши.
– Кто этот мосье? – крикнул он, театрально взмахнув рукой.
Его жена пожала плечами.
– Прошу прощения, мадам, – заторопился Горецкий, – я бы хотел с вами побеседовать об одном очень важном деле…
– Что вы себе позволяете? – завопил толстяк. – Что вам угодно от моей жены?
Женщина вдруг повернулась к Горецкому, округлила глаза и прижала палец к губам.
– Я тороплюсь в театр, – громко сказала она.
– Я охотно вас провожу! – обрадовался Горецкий.
– Но позвольте… – надрывался толстяк.
Тогда Горецкий сунул ему под нос свои неотразимые документы. К тому времени, когда до несчастного мужа хорошенькой француженки дошло, что к нему пришли из полиции, его жены и полковника Горецкого в комнате уже не было.
– Я сразу поняла, что вы по делу, – оживленно заговорила Нинетт, когда они вышли на улицу.
– И вы догадываетесь, по какому? – улыбнулся полковник.
– Ох, – простонала она, – разумеется, это из-за убийства того ростовщика. Наверняка, кто-то мог видеть меня, когда я приходила в тот роковой день.
– Вы не ошиблись, сударыня, – Горецкий взял Нинетт под руку и подтолкнул к двери небольшой, но уютной кофейни, – не откажите побеседовать со мной здесь.
Она вздохнула, но вошла внутрь.
– Итак, кто же меня видел в день, когда убили этого несносного старикашку? – начала Нинетт, как истая француженка сразу беря быка за рога.
– Никто вас не видел, я сам догадался, – улыбаясь, произнес Горецкий. – И если вы сейчас откровенно ответите на мои вопросы, муж не узнает, что вы закладывали ростовщику золотое кольцо с топазом.
– Муж не должен знать, что оно вообще у меня есть! – с досадой воскликнула Нинетт.
– Итак, в тот день вы встали пораньше и тайком от мужа побежали выкупать свое колечко, – начал Горецкий. – Поймите, сударыня, мне совершенно неинтересно, откуда вы взяли на это деньги и кто вам их дал.
– В таком случае – да, я действительно пришла утром выкупать кольцо. Я дождалась, когда его служанка, эта старая карга, уйдет на базар, и постучала.
– Он сам открыл вам дверь?
– Разумеется, в доме больше никого не было. Он не очень-то обрадовался, когда меня увидел – еще бы, он-то небось думал, что я не приду, и кольцо достанется ему. Но все же провел меня в лавку и стал рыться в своих дурацких книгах. А я достала деньги и ждала, когда он отдаст мне кольцо. Но этот мерзкий старый жулик вдруг покачал головой и заявил, что я просрочила. Почему, интересно знать? Да потому, что я отдавала кольцо в залог двадцатого января на тридцать дней. А сегодня двадцатое февраля. Но я, видите ли, забыла, что в январе не тридцать дней, а тридцать один. Стало быть, срок уплаты прошел, и кольцо он мне не отдаст.
– Как же вы забыли? – посочувствовал француженке Горецкий.
– Да ничего я не забыла! – воскликнула она. – Просто этот отвратительный старикашка говорит, что берет залог на месяц, а сам пишет – тридцать дней. Мерзкий, мерзкий обманщик, поделом ему!
Она вдруг замолчала и испуганно посмотрела на Горецкого:
– Надеюсь, вы не думаете, что это я его убила?
– Что вы, сударыня, у меня и в мыслях этого не было! – искренне воскликнул он. – Но как же вы вышли из такого трудного положения?
– О, я не потеряла головы! – самодовольно ответила Нинетт. – Я не стала плакать и умолять. Я пригрозила, что приведу своего любовника, который служит в оккупационной службе. Старик нарушал законы, поэтому испугался, хотя и не очень-то мне поверил. Но решил не связываться из-за такой мелочи, как кольцо. Поэтому он сказал, что если я заплачу проценты за месяц и еще за один день, то смогу забрать кольцо. Противный крохобор!
– Мадам, вы очень находчивая женщина! – восхитился Горецкий.
– Ведь я же француженка, мосье, – скромно потупилась Нинетт. – Я отдала этому кровопийце все деньги, что были у меня в этот момент, – выскребла последнюю мелочь. Он швырнул мне кольцо, и я вышла.
– Что же было дальше? – вежливо, но настойчиво спросил Горецкий.
– Это все, мосье.
Полковник Горецкий вздохнул и взял ее за руку.
– Дорогая мадам, не нужно меня разочаровывать, – ровным голосом произнес он и снял пенсне, – я же знаю, что произошло еще что-то важное.
Нинетт подумала немного, поглядела в его проницательные жесткие глаза.
– Мосье действительно обещает, что никто про это не узнает? – доверительно прошептала она. – Иначе у меня могут быть неприятности.
– Даю вам честное слово, – заверил Горецкий.
– Денег у меня не было даже на извозчика, я страшно разозлилась и пошла пешком. Но, пройдя два квартала, хватилась перчатки. Я подумала, что потеряла перчатку там, у ростовщика, когда рылась в карманах в поисках денег, и решила вернуться в лавку. Не хватало еще из-за этого старого кровопийцы лишиться совершенно новых перчаток, которые я покупала в Парнасе у Версье!
– Полностью с вами согласен, – вставил Горецкий. – Итак…
– Итак, я повернулась и пошла обратно. Но заметила, еще не подойдя к лавке, что туда проскользнула мужская фигура.
– Так-так, – глаза у Горецкого заблестели.
– Это был мужчина, худощавый, мне показалось по походке, что он достаточно молод.
– Как он был одет?
– Что-то полувоенное… – неуверенно ответила Нинетт, – лица я не разглядела. Но когда я подошла к лавке, оказалось, что дверь заперта изнутри. Я хотела постучать, но когда прислушалась, то уловила странный разговор. Они говорили по-русски.
– Вы уверены? Вы понимаете по-русски? – подскочил полковник на месте.
– Я не понимаю по-русски, но догадалась, – она пожала плечами. – Что тут странного? Старик ведь был русский эмигрант, он очень плохо объяснялся на других языках.
– Значит, вы не поняли, о чем шел разговор? – разочарованно спросил Горецкий.
– Нет, но кое-что определила на слух. Мужской голос угрожал, а старик отвечал блеющим фальцетом и безумно боялся, просто всхлипывал от страха.
– Долго продолжался разговор?
– Я не знаю. Я почувствовала опасность и решила уйти, тем более что перчатка нашлась в ридикюле. – Нинетт твердо посмотрела на Горецкого.
– Мадам, вы поступили очень разумно. Если бы вас видел тот человек, он бы мог причинить вам вред.
– Я это поняла и побежала оттуда как могла быстро. А когда через несколько дней я прочла в газетах про убийство, то испугалась и все ждала, что полиция меня найдет.
– Не беспокойтесь, мадам, я не причиню вам неприятностей, – с чувством ответил полковник Горецкий и откланялся.
Француженка посмотрела ему вслед с легким беспокойством, потом встрепенулась, отогнала неприятные мысли и направилась в свой театр варьете, где танцевала в кордебалете и даже исполняла одну песенку – всего три куплета, но господин директор обещал это исправить, если она будет умницей.
Глава шестнадцатая
«Итак, убийца русский, – думал полковник Горецкий. – Это не новость, начальник полиции и раньше был убежден, что убийца – русский, оттого, что он убивает только русских. Если верить этой очаровательной француженке, а у меня нет оснований ей не верить, то убийца перед тем, как зарезать старого ростовщика, учинил ему форменный допрос. Принимая во внимание, что остальных он убивал быстро и незаметно, возникает вопрос: что он хотел узнать от Фомы Сушкина?»
Все, кто мог знать ответ на этот вопрос, мертвы. А если не все? И полковник Горецкий сделал последнее, что ему оставалось: он решил отыскать кого-нибудь из пассажиров, что плыли на том же пароходе, что и Фома Сушкин и Мария Костромина – возможно, эти же люди жили в гостинице «Пале-Ройяль», а в том, что разгадка дела связана с гостиницей, полковник почти не сомневался.
Однако легко сказать, но трудно выполнить. Если власти вели строгий учет прибывающих эмигрантов, то есть по прибытии каждого парохода его пассажиры тщательно регистрировались, осматривались врачом и проходили санитарную обработку, то потом, когда беженцы попадали в Константинополь, их судьба никого более не интересовала. Люди устраивались как могли – те, кому удалось сохранить достаточно средств, снимали приличные квартиры и ждали, когда им разрешат двинуться дальше – в Париж или в Берлин (англичане русских эмигрантов не принимали). Те же, у кого не было денег, быстро проедали последнее и обивали пороги разных государственных учреждений – голодные, нищенски одетые, многие с голодными запаршивленными детьми… Где они ночевали – никто не знал, и найти такого человека в огромном городе было практически невозможно.
Из нескольких фамилий, которые выписал себе в книжечку полковник Горецкий на острове Халки, удалось отыскать только адрес вдовы действительного статского советника Ильинского, она жила в небольшой, но находящейся в приличном доме квартире недалеко от дома самого Горецкого.
Дверь открыла самая настоящая русская горничная.
– Как доложить?
– Скажи, милая, что полковник Горецкий желает видеть по важному делу.
На горничную произвели впечатление отлично пошитый френч, запах дорогих табака и одеколона, поэтому она быстро вернулась и пригласила войти.
Посредине комнаты в большом кожаном кресле восседала крепкая с виду старуха. Полковник мигом отметил и платье из дорогой материи, и жемчужное ожерелье на шее, и множество колец на скрюченных артритом пальцах. Очевидно, вдова действительного статского советника сумела в свое время утаить от красных и махновцев кое-что ценное. Молодой мужчина, в котором Горецкий без труда узнал бывшего офицера, сделал несколько шагов по направлению к полковнику, припадая на одну ногу.
– Штабс-капитан Георгий Ильинский. Это моя тетка – Аглая Александровна Ильинская. Чем могу служить?
– Я, собственно, вот по какому делу, – начал Горецкий. – Вы ведь прибыли в Константинополь из Ялты?
– Ну да, жена заболела, и мы едва успели на последний пароход.
У окна послышалось какое-то движение, и полковник обратил внимание на молодую женщину, которая держала на коленях шитье. Горецкий поклонился и выжидательно поглядел на штабс-капитана, ожидая, что тот представит свою жену. Тот открыл было рот, но раздался скрипучий голос старухи:
– Не напоминайте, господин полковник, про тот кошмар. Как мы в том аду выжили – до сих пор удивляемся.
– Очень вам сочувствую, сударыня, но все же хотел бы прояснить для себя некоторые моменты. Не встречали ли вы на пароходе некую Марию Костромину? Точно установлено, что она ехала тем же пароходом из Ялты.
Старуха пожевала губами и нахмурилась.
– Что-то я не припомню… И почему вы так интересуетесь этой Марией… как ее там?
Горецкий молча показал ей свои бумаги. Она пренебрежительно отмахнулась:
– Жорж прочтет!
Ее племянник ознакомился с документами и, признав в полковнике некоторым образом лицо официальное, стал более напряженным.
– Ну как же, ма тант, как вы не помните! – воскликнул он. – Ведь это те две женщины, что все время находились рядом с нами. Мы и сошли с парохода вместе. Эта, вторая, Лидия…
– Лидия Антоновна, – послышалось от окна.
– Лидия Антоновна так помогла Наташе, когда ей было плохо!
– Твоей Наташе всегда плохо! – проворчала старуха, не особенно церемонясь.
– Вы имеете в виду Лидию Антоновну Дурново? – напомнил о себе Горецкий.
– Вы ее знаете?
– Нет, но расскажите, пожалуйста, подробнее, как проходил отъезд. А также припомните все, о чем вы разговаривали в пути.
– Я, собственно, не очень… – растерялся штабс-капитан Ильинский, – я был при тетушке… Вот разве жена…
– Мария была в ужасном состоянии, – заговорила та тихим голосом. – Дело в том, что ее бросил любовник… – Она смущенно потупилась, и тут раздался окрик старухи:
– Что это ты, матушка, себе позволяешь? Да как же можно приличной женщине такие слова произносить? Да тебе и глядеть-то в их сторону нельзя было там, на пароходе, а не то что беседы вести! Распустились нынче, с этими революциями!
– Сударыня, – начал Горецкий строго, потому что старуха ему ужасно не нравилась, – племянник объяснил вам, что я – лицо официальное, пришел исключительно по делу и вопросы задаю не для пустого времяпрепровождения. Так что извольте не мешать разговору.
Старуха удивленно посмотрела на него и, внезапно придя в ярость, топнула ногой, но племянник склонился к ней и зашептал на ухо. Горецкий взял стул и подсел к молодой женщине. Вблизи стало видно, что она беременна.
– Я вас слушаю. Не стесняйтесь, расскажите все, что знаете.
Она оглянулась на мужа, упрямо нахмурилась и начала:
– Да, Мария оказалась в ужасном положении, потому что… в общем, он забрал то немногое, что у нее было. Они ночевали в гостинице…
– «Пале-Ройяль» – вставил Горецкий.
– Да, верно. Очевидно, он задумал ее бросить заранее, потому что она утверждала, что он подсыпал ей что-то в вино за ужином. Она спала очень крепко, а когда проснулась, то увидела, что в номере никого нет, и исчезли ее немногочисленные драгоценности и деньги.
– Несчастная женщина! Она не говорила, как звали того негодяя?
– Какая-то армянская фамилия… я не помню. Если бы не Лидия Антоновна, Мария бы совсем пала духом. Она вытащила ее из гостиницы и помогла сесть на пароход. Мария искала этого негодяя на пароходе, но, очевидно, он успел на более ранний, там был еще один… «Слава Азова». А мы плыли на «Илье Муромце».
– И больше они никого не встретили на пароходе из своих знакомых по гостинице? – упорно гнул свою линию Горецкий.
– Да, там был еще такой неприятный старик – хозяин гостиницы, который тоже в самый последний момент испугался красных и решил покинуть Ялту.
– Фома Сушкин – хозяин гостиницы? Вот как? Это многое объясняет… А у того негодяя была армянская фамилия? – бормотал Горецкий. – Акоп Мирзоян – знакомо вам это имя?
– Очень похоже, возможно…
– Что же было дальше?
– Потом мне самой стало очень плохо из-за морской болезни и… моего состояния, и Лидия Антоновна ухаживала за мной все время. Мы еще виделись несколько раз, когда жили на острове Халки, но потом мы приехали сюда. Что случилось с ними? Лидия Антоновна такая славная…
Полковник Горецкий посмотрел на небольшой еще живот, на темные мешки под глазами молоденькой жены штабс-капитана и решил не рассказывать ей, как страшно кончила жизнь ее попутчица Мария Костромина.
– Вы закончили, полковник? – прозвучал холодный вопрос штабс-капитана. – Наташа, иди к себе, у тебя утомленный вид.
Его жена молча, не простившись, скрылась в дальнем углу комнаты за занавеской.
– Полковник, я читал в газетах о смерти той женщины, – обратился к Горецкому штабс-капитан. – Вы не находите, что было бы бесчеловечно рассказывать моей жене о таком кошмаре?
– Я и не собирался этого делать, – Горецкий поднялся со стула. – Но не можете ли вы дать мне сведения о местонахождении Лидии Антоновны Дурново?
– Мы понятия не имеем, где они все! – закричала вдова действительного статского советника. – И так отбою нет от просителей! И ходят, и просят, как будто дела другого у них нет!
– Но, ма тант, они голодают, – начал было ее племянник, перехватив презрительный взгляд Горецкого.
– Слышать ничего не хочу! – орала старуха.
Полковник сухо поклонился и вышел, поняв, что никакого разумного ответа не добьется. У самой двери кто-то тронул его за руку. Молоденькая жена штабс-капитана смотрела на него беспокойными глазами.
– Вам удалось узнать все, что вы хотели?
– Не совсем, – улыбнулся Горецкий, – но вы не должны волноваться.
– Вы не пришли бы просто так, верно? С Лидией Антоновной ничего не случилось?
– Я не знаю, но надеюсь, что нет. Мне очень нужно с ней встретиться, это очень важно, но ваши родственники сказали, что не знают ее адреса.
– Это так, тетя запрещает мне видеться с бедными знакомыми. Они начинают просить денег, а тетя этого не любит.
– Я заметил.
– Но мы, русские, должны помогать друг другу! – горячо воскликнула она. – Тетка скупа до крайности, а Жорж никогда ей не перечит, потому что у нас ничего нет. Он вышел в отставку по ранению…
– Вы не должны так переживать, это может повредить вашему здоровью, – повторил Горецкий, улыбаясь.
– Я хочу вам помочь, потому что волнуюсь за Лидию Антоновну. Я не знаю, где она живет, но однажды мы совершенно случайно столкнулись на улице, и она говорила, что вечерами играет в синематографе, там, ближе к Пери, неподалеку от Весманли.
– Что ж, спасибо вам. – Горецкий прикоснулся к тонким, почти прозрачным пальчикам и вышел.
Теперь он почти наверняка знал, что убийства связаны с каким-то событием, происшедшим в гостинице «Пале-Ройяль» в Ялте больше двух месяцев назад. Первым был убит ротмистр Хренов. Допустим, что сначала убийца случайно столкнулся с ним, и ротмистр дал ему понять, что знает о нем нечто важное, связанное с гостиницей «Пале-Ройяль». Убийца отыскивает бывшего хозяина гостиницы – Фому Сушкина, и тот под страхом смерти называет ему фамилии жильцов. Либо же просто рассказывает про них все, что помнит. После чего Фома находит свой конец, а убийца начинает разыскивать остальных жильцов. И Лидия Антоновна Дурново, раз она жила в этой гостинице, могла бы рассказать, в чем там было дело. Но с ее розыском следует поторопиться, потому что убийца не дремлет и как бы не успел он вперед Горецкого.
Лидия Антоновна поднялась по обыкновению рано. Она умылась холодной желтоватой водой из щербатого фаянсового кувшина, расчесала волосы и заколола их черепаховым гребнем с выломанным средним зубчиком. Потом она осмотрела себя в небольшое мутноватое зеркало и привычно огорчилась. Вялая нездоровая кожа, морщинки около губ и вокруг глаз… Однако долго огорчаться она не могла себе позволить, ей нужно было работать. С утра следовало забежать к Марье Степановне, которая обещала рекомендовать ее своей знакомой полковнице, потом к одиннадцати ее ждали в доме генерала Деева – урок фортепьяно для девочки, приемной дочери генерала. Потом – еще один урок у богатого подрядчика на Пери, после этого – небольшая работенка в кафе «Каприз», а уже потом – на весь вечер в синематограф «Лидо», тяжелая, утомительная работа…
Марья Степановна ничем не порадовала – полковница отказалась от уроков. Непонятно почему – Лидия Антоновна спросила очень невысокую цену, дешевле некуда. Зато Марья Степановна, добрая душа, отдала одну свою старую шляпку. Если ее немного починить и кое-где отделать стеклярусом, то выйдет очень миленько, и можно еще поносить. Еще Марья Степановна сделала комплимент – похвалила Лидочкино платье. Платье-то было с маленьким секретом: Лидия Антоновна выкроила его из старой бархатной портьеры, которую дали ей в прошлом месяце в уплату за уроки. Но на платье ведь не написано, что оно из портьеры, а получилось очень недурно, вполне можно поносить.
У генерала Деева в доме был форменный содом – генеральша Варвара Ардальоновна маялась мигренью, кричала на прислугу и на самого генерала. Девочка пришла на урок заплаканная, с красными глазами, объяснений не слушала и под конец урока вполголоса обозвала Лидию Антоновну старой приживалкой. Лидия Антоновна сдержалась – девочке самой несладко, приемной-то, надо ее понять. Однако, когда пошла к генеральше за деньгами, Варвара Ардальоновна затопала ногами, закричала, что все хотят ее смерти и чтобы сегодня к ней с деньгами не приставали. Вот тут Лидия Антоновна очень расстроилась: деньги были нужны обязательно, квартирная хозяйка ругалась последними словами, требовала заплатить не позже понедельника, иначе грозилась выселить, а такую дешевую квартиру сейчас в Константинополе нипочем не найдешь… Но и с генеральшей не поспоришь, дама нравная, еще откажет от уроков, а что тогда делать?
Лидия Антоновна хотела немного поплакать, но передумала – цвет лица и так никудышный, на пудру денег нет, а ей сегодня еще работать и работать, и все на людях, только в синематографе темнота и можно не думать о лице.
По дороге к подрядчику Лидия Антоновна немножко полюбовалась красивыми витринами на Пери. Какая красота! Такие замечательные платья и шляпки… Надо бы запомнить фасон, – когда будет отделывать ту шляпку, что подарила Марья Степановна, можно сделать немножко похоже… В одной витрине Лидия Антоновна увидела чудесную голубую кофточку. Ах, что за прелесть! Меленькие перламутровые пуговки, и очень красиво отделана синим рюшем, и ленточки нашиты… Такая кофточка, что загляденье! И стоит не слишком дорого, но сейчас у Лидии Антоновны все равно нету таких денег… Да если честно себе признаться, и никогда уже не будет. Лидия Антоновна грустно вздохнула, решила не расстраиваться по такому пустому поводу и отправилась дальше.
На уроки к подрядчику Кастропуло Лидия Антоновна всегда шла с опаской. Дело в том, что маленький сынок подрядчика был удивительный шалун и каждый раз норовил учинить учительнице какую-нибудь гадость. Один раз он налил в ее ботики воды, другой раз – подложил на вращающийся табурет канцелярских кнопок. Особенно расстроилась Лидия Антоновна, когда шалун намазал ее табурет клеем: платье пришлось отрывать, оно было безнадежно испорчено, а мальчишка хохотал от удовольствия… Правда, жена подрядчика, милая женщина, в тот раз извинялась и подарила миленькую муфточку, почти новую, но Лидия Антоновна чуть не расплакалась, так ей было жалко своего платья.
На этот раз маленький Кастропуло вел себя на удивление тихо. Лидия Антоновна внимательно оглядела табурет, когда садилась на него, и вообще держалась крайне осторожно, как разведчик на вражеской территории. Глаза у шалуна подозрительно поблескивали, и он так был послушен и внимателен, что Лидия Антоновна всерьез забеспокоилась.
Урок прошел спокойно, и она, с облегчением вздохнув, собралась уходить. Надевая в прихожей ботики, внимательно их осмотрела. Все было в порядке. Взяла свой маленький саквояж, с которым ходила по урокам… и вздрогнула. Там было что-то живое. В саквояже что-то шевелилось и пищало. В дверях маячила радостная физиономия зловредного мальчугана. Лидия Антоновна испуганно раскрыла саквояж.
Внутри копошились несколько маленьких котят, которые в упоении раздирали подаренную Марьей Степановной шляпку. Маленький разбойник залился сатанинским хохотом. Когда только он успел провернуть свою шкоду? Лидия Антоновна постаралась взять себя в руки. Она осторожно, двумя пальцами, вытащила котят одного за другим из саквояжа – это было очень трудно, потому, во-первых, что с детства она кошек не переносила, у нее была к ним идиосинкразия, и во-вторых, потому что котята были очень шустрые, все время выворачивались и норовили зацепить руку крошечными коготками и острыми, как шильца, зубками.
Избавившись от котят, она с грустью осмотрела остатки шляпки. Что ж, если кое-где побольше стекляруса, а сверху прикрыть искусственным цветочком, таким голубеньким, у нее остался один… может быть, еще и можно будет поносить.
Лидия Антоновна мужественно посмотрела на своего малолетнего мучителя, гордо выпрямила спину и пошла прочь.
На углу напротив дома подрядчика стоял венгерец-шарманщик в яркой куртке с уродливыми, нескладно пришитыми бранденбурами. Он крутил ручку шарманки и фальшиво напевал: «Чемчура-чура-ра…» Ужасное его пение резануло пианистический слух Лидии Антоновны. Она чуть заметно поморщилась и прибавила шагу.
Ей так и так нужно было торопиться: в кафе «Каприз» она должна была обязательно поспеть ровно к пяти часам. В это время у них выступала француженка шансонетка Жюли, пела там две неизменных песенки, и Лидия Антоновна ей аккомпанировала. Жюли была славная девушка, до всех этих неприятностей ее звали Настя, и была она горничной в доме Ивана Антоновича, Лидочкиного брата. Здесь, в Константинополе, у нее неожиданно прорезался голос, а французский она понемножку выучила с Ванечкиными детьми, а потом очень усовершенствовала с французскими моряками в Одессе. Хорошая девушка, встретила Лидию Антоновну и пригласила играть в кафе, жаль, немного, – все остальное время у них играл румынский оркестр.
Лидия Антоновна успела вовремя, отыграла свое и пошла на кухню. В кафе ей не платили, а только кормили за работу, но это тоже было очень хорошо. Лидия Антоновна как раз вспомнила, что еще ничего сегодня не ела и очень голодна.
Повар в «Капризе» – очень славный человек, большой и черный, родом из Марокко. Он хорошо говорил по-французски и почему-то жалел Лидию Антоновну, все время подкладывал ей еду и обязательно оставлял что-нибудь вкусное. Вот и сегодня он приберег для нее замечательное полосатое бланманже. Они с марокканцем немножко поболтали, и у Лидии Антоновны стало легче на душе. Хорошо, она вовремя спохватилась – пора было уже бежать в синематограф.
В синематографе «Лидо» были невысокие требования к исполнительскому мастерству – надо было только посматривать на экран, чтобы, не дай Бог, не сыграть марш во время любовной сцены или венгерский танец во время похорон, но играть надо было долго и очень громко, чтобы перекрыть шорох разворачиваемых кульков со сластями и разговоры зрителей. Сегодня первым номером шла фильма «Тысяча и одна ночь», очень интересная и художественная. Страшные смуглые арабы в полосатых шальварах свирепо вращали глазами, размахивали кривыми саблями, залезали в огромные кувшины. Отрубленные головы катились, как тугие капустные кочаны.
Лидия Антоновна по какой-то странной ассоциации вспомнила детство, елку, домашний маскарад, на котором она была одета пажом, а брат Ванечка – мушкетером в небесно-голубом плаще с нашитым красивым крестом… В темноте можно было не заботиться о своем лице, и Лидия Антоновна немножко погрустила, но когда по щеке поползла слезинка, она решила, что это неудобно – хоть и темно, а неприятно, и вытереть нельзя – руки заняты.
Вторая фильма была из русской жизни, «Братья Черномазовы». Эта картина была немного странная: люди ездили в каретах, запряженных медведем, на балу во дворце господа танцевали в косоворотках и смазных сапогах, а посредине бальной залы стоял огромный самовар, из которого все по очереди пили. Старого представительного князя за какой-то проступок пороли на площади розгами. Лидия Антоновна очень всему этому удивлялась, но зрителям нравилось – видимо, никто из них не бывал в России.
Когда работа закончилась и Лидия Антоновна вышла на улицу, было уже темно. Она не беспокоилась: брать у нее было нечего, сама она интереса для злых людей не представляла – возраст не тот, да и внешность, а кроме всего прочего, давно уже привыкла ходить в одиночку по ночным константинопольским улицам.
Но сегодня что-то было не так, как обычно.
Позади время от времени слышались ей чьи-то шаги. Стоило остановиться, чтобы прислушаться, как шаги эти замирали, а как только она шла вперед – странные шаги возобновлялись. Лидия Антоновна не то чтобы испугалась, но удивилась: кому она нужна?
Из другого синематографа, «Парадиз», высыпала толпа поздних зрителей. Некоторое время можно было идти вместе с ними, так было спокойнее, но потом все понемножку разошлись в разные стороны, и Лидия Антоновна снова осталась на улице одна.
И тогда позади нее опять зазвучали эти шаги.
Она прибавила ходу, но шаги за спиной продолжали слышаться. Теперь ей стало уже немножко неприятно, а если уж начистоту – так просто страшно. Хотелось остановиться, обернуться и сказать: «Ну зачем вы меня преследуете? Что вам может быть нужно от меня? Вы видите, какая я бедная, немолодая и некрасивая, зачем вы меня пугаете?»
Но это было бы так неудобно – заговорить вдруг на улице с незнакомым человеком… Да и страшно – кого вдруг увидишь, обернувшись?
Лидия Антоновна едва ли уже не бежала. Улица пошла вверх, идти стало трудно, не хватало дыхания.
Вдруг впереди показалась крупная мужская фигура. Лидия Антоновна мысленно взмолилась о помощи. Она готова уже была попросить этого незнакомого человека, чтобы он проводил ее, защитил от страшных шагов за спиной… И тут она увидела, что это же знакомый. Она узнала крупный неловкий силуэт и развалистую походку марокканца Жана, повара из «Каприза». Она обрадовалась ему, как родному, окликнула:
– Мосье Жан!
Марокканец тоже обрадовался встрече. Лидии Антоновне неудобно было рассказывать ему о своих глупых женских страхах, но мосье Жан настоял на том, чтобы проводить ее до дому. Тайком обернувшись, Лидия Антоновна никого на улице не заметила и подумала, что, наверное, на старости лет ей начинает мерещиться черт знает что. В самом деле, кто может преследовать ночью ее, такую немолодую, некрасивую и бедную. Наверняка, эти шаги просто послышались ей… Подойдя к своему дому, она подумала, что следовало бы пригласить мосье Жана на чашку чая, но тут же вспомнила о квартирной хозяйке, которая, конечно, будет очень недовольна… К тому же дома у нее ничего нет, чем можно угостить приличного черного господина. Но мосье Жан, видимо, и сам не захотел причинять ей неудобства и весьма деликатно откланялся.
Лидия Антоновна, стараясь не шуметь, поднялась в свою маленькую комнатку, разделась, легла в узкую холодную постель. Хоть она и чувствовала себя усталой, сон не шел к ней. Она думала о своей жизни.
Счастливое петербургское детство вспоминалось чередой праздников – таких, как тот домашний маскарад, где она была одета пажом. Рождество, несуровая зима, скрип санных полозьев, отцовская шуба с седыми бобрами, шоколад от Жоржа Бормана, сползающая змейкой золотистая мандариновая кожура, лимонная кожура чудесных эрмитажных голландцев, голубые василеостровские линии, Бестужевские курсы, горячие разговоры о будущем – своем будущем и будущем России, несуровая петербургская зима, чайная на углу Среднего и Седьмой линии, пара чая – маленький яркий чайник с заваркой на большом чайнике с кипятком, и так славно греть об них руки, горячие бублики, веселый мичман с прозрачными серыми глазами, несуровая зима, скрип санных полозьев, запрокинутое счастливое лицо…
Мичмана звали Володей. Он стал лейтенантом флота, они были помолвлены, началась русско-японская война… Письма шли очень медленно, газеты страшно было открывать. Лейтенант Владимир Ланской погиб в бою при Цусиме, океанские воды сомкнулись над его телом, а письма от него долго еще приходили в Петербург…
Лида замкнулась, ушла в себя. Годы проходили, она отказалась от мысли о замужестве, зато привязалась к своим племянникам, детям брата Ванечки. Занималась с ними языками, музыкой – она хорошо играла на фортепьяно…
Потом началась война. Лидия Антоновна вязала носки для солдат, собирала посылки, ухаживала за ранеными в госпитале святой Елизаветы. Хотела было пойти в сестры милосердия, но не смогла расстаться с племянниками, слишком была привязана к ним. Потом одна за другой случились две революции, и нормальная жизнь кончилась.
Ванечку убили на улице пьяные дезертиры. Те самые солдаты, для которых она вязала носки и собирала посылки с теплыми вещами, галетами и шоколадом. Они просто разорвали его, как дикие звери, за то, что у него были хорошее пальто и чистый белый воротничок.
Увидев то, что от него осталось, Лидия Антоновна хотела умереть, но потом поняла, что не имеет на это права: она должна была спасти Лику, свою невестку, и племянников. Ванечка всегда повторял: «Лика неприспособлена к жизни», и Лика поверила в это. Оставшись без мужа, она совершенно растерялась, завела знакомство с какими-то странными людьми, то ли теософами, то ли анархистами. Лидия Антоновна быстро взяла управление на себя, собрала что-то из вещей и повезла всех на Украину – Лику, племянников, горничную Настю и кухарку Федосью. Поезд был набит битком, чьи-то ноги свисали с третьей полки, кто-то спал под скамьей. Но через несколько часов поезд остановился, и пришлось пересаживаться на другой, еще более набитый. Племянник Юрочка, младший, спал во время пересадки, его пришлось нести, и чемоданы тоже. Лика, наконец, сумела забыть, что она совершенно не приспособлена к жизни, и помогала как могла. Настя тоже вела себя прилично, а Федосья принципиально отказывалась что-нибудь нести, повторяя: «Что я вам, ломовиком нанялася?»
Однако при следующей пересадке, в еще более набитый поезд, она все-таки взяла один чемодан… Правда, после этого ни Федосьи, ни чемодана Лидия Антоновна больше не видела.
На одной из станций Лидия Антоновна пошла за кипятком. Сойдя с перрона, торопливо шла среди грязной озлобленной толпы, завернула за угол и вдруг столкнулась нос к носу с огромным небритым мужиком, в котором узнала петербургского дворника из Ванечкиного дома – Селивана. Увидев знакомое лицо, она глупо обрадовалась, окликнула Селивана и спросила его про кипяток. Селиван вдруг нехорошо заулыбался и пошел на нее, хриплым злорадным голосом говоря:
– Кипяточку тебе, барыня Лидия Антоновна? Отпила ты свой кипяточек! Убегаешь, барыня? Далеко-то не убегешь! Попили нашей кровушки-то, да вышло время, теперича наш черед! Под поезд тебя, барынька, надобно спущать, под самые колеса!
Лидия Антоновна хотела спросить Селивана, когда же это она пила его кровь, – тогда ли, когда дарила его детям сласти к Пасхе и к Рождеству, или тогда, когда помогла отстоять от призыва хворого Прошку, старшего Селиванова сына… Но слова застряли в горле, и она только в ужасе отступала перед этим надвигающимся на нее грязным и небритым воплощением народного гнева… А потом она потеряла сознание от страха, голода и усталости и рухнула как подкошенная на грязный пол.
Придя в себя от холода, она увидела рядом какую-то сердобольную старуху, которая помогла ей подняться и доковылять до перрона. За время ее беспамятства поезд с родными ушел, обморок оказался первым знаком начавшегося у нее сыпного тифа. Та же старуха кое-как доволокла ее, больную, до своей лачуги, не дала умереть. Выздоровев, Лидия Антоновна пробралась на Украину в поисках своих. Много позже, в Одессе, ей удалось найти одну только Настю. Грубо накрашенная, вульгарно одетая, девушка проводила свои дни среди французских моряков. Увидев Лидию Антоновну, она горько разрыдалась. Рассказала, как чудом прорвались они на юг, как едва не расстрелял Лику страшный комиссар на пограничной станции, как напали на поезд какие-то бандиты и тут уже окончательно потеряла она «барыню Елену Андреевну с мальчиками».
Лидия Антоновна повсюду искала Лику с племянниками, но следы их затерялись. Кто-то говорил ей, будто видели их на пароходе, уходившем в девятнадцатом году из Одессы в Константинополь, кто-то, пряча глаза, рассказывал, что погибли они во время махновского налета на Екатеринослав…
Лидия Антоновна ничему не верила, но поплыла на пароходе в Константинополь в слабой надежде встретить там своих. Здесь пригодилось ей умение играть на фортепьяно, только уроками она и жила. Здесь же вместо невестки и племянников снова повстречала она Настю, и добрая девушка помогла с работой… Но о Елене Андреевне и ее детях никто ничего не знал.
Глава семнадцатая
Лишь взмах платка и лишь ответный взмах.
Басовое взывание сирены. И вот корма.
И за кормой – тесьма
Клубящейся, все уносящей пены.
Сегодня мили и десятки миль,
А завтра сотни, тысячи – завеса.
И я печаль свою переломил,
Как лезвие. У самого эфеса.
А. НесмеловПеред синематографом «Парадиз» курил молодой турок. Взглянув на подошедших, он печально вздохнул и отвел глаза. Горецкий со спутниками вошли в темный зал. Навстречу посетителям вышел сутулый старик-билетер, собираясь проводить их на свободные места. Керим вполголоса затараторил по-турецки. Горецкий сунул в протянутую ладонь старика тускло сверкнувшую монету, и тот, пробормотав слова благодарности, отступил во мрак.
Борис, пригнувшись, чтобы не мешать зрителям, двинулся по направлению к экрану, на котором темноглазая дива, заламывая руки, клялась в любви усатому господину в генеральском мундире несуществующей армии.
Тапер с невыносимым темпераментом терзал полуживое фортепьяно. Подойдя к музыканту почти вплотную, Борис увидел в темноте зала стриженый мужской затылок, белый стоячий воротничок над воротом потертого сюртука и вернулся назад, вполголоса бросив Горецкому:
– Опять не то!
В их списке оставалось еще шесть синематографов. Следующим на очереди значился «Палладиум».
Лидия Антоновна скосила глаза на экран. Старый банкир прижимал руки к сердцу, бурно переживая одновременно измену молодой жены и утрату миллиона франков. Выдав подходящий музыкальный пассаж, пианистка беспокойно оглянулась. Сзади, из темноты зала, к ней бесшумно приближался какой-то еле различимый во мраке человек.
Вспомнив вчерашний вечер и шаги неизвестного преследователя у себя за спиной, женщина всерьез забеспокоилась. Но, взяв себя в руки, она решила, что ее скромная особа вряд ли может заинтересовать маниака-убийцу, а об убийстве из корыстных соображений в данном случае смешно даже думать. Вот потерять работу она никак не может, а поэтому нужно забыть о глупых страхах, считать, что вчерашние шаги ночью на улице ей просто послышались, и внимательнее следить за экраном.
Банкир на экране уже держал в руке огромный бутафорский пистолет, видимо, замышляя самоубийство. Лидия Антоновна с новой силой опустила руки на клавиатуру, как вдруг к ее плечу прикоснулась мужская рука.
Лидия Антоновна вздрогнула и даже сбилась с темпа.
– Вы – Лидия Антоновна Дурново? – вполголоса, склонившись к пианистке, спросил по-русски мужчина средних лет в ладном английском френче без погон. – Не беспокойтесь, моя фамилия – Горецкий, я хотел бы поговорить с вами.
– Подождите, – тихо ответила Лидия Антоновна, скосив на незнакомца глаза и не прекращая игры, – я заканчиваю через сорок минут. Мне нельзя потерять эту работу.
– Мой молодой друг заменит вас, – сказал незнакомец и повернулся к еле различимому человеку у себя за спиной. – Борис Андреевич, выдержите сорок минут?
– Постараюсь, – молодой человек лет тридцати подсел к роялю. – Лет десять к инструменту не подходил…
Однако он довольно бойко подхватил мелодию, которую исполняла пианистка.
Лидия Антоновна с некоторым сомнением покосилась на своего преемника, однако подумала, что для здешней публики и такой тапер сойдет, и пошла к выходу вслед за Горецким: этот господин неизвестно почему внушал ей доверие.
Борис очень давно не играл, руки совершенно забыли инструмент. Вспоминая отрывки когда-то любимых мелодий, он исполнял их с молодой энергией и задором, не всегда соответствовавшим событиям, разворачивающимся на экране, однако непритязательная публика относилась к этому с чисто восточным безразличием.
Отмучившись минут двадцать, Ордынцев подумал, что как-нибудь дотянет до конца сеанса, но пилить дрова ему было бы не в пример легче.
В это время за спиной у него послышались крадущиеся шаги.
На улице Лидия Антоновна опомнилась. Как же это она решилась ехать куда-то с совершенно незнакомым человеком? И неважно, что он произвел на нее приятное впечатление там, в темном зале, все же следовало быть более осторожной и не доверять слепо первому встречному только потому, что у него хорошие манеры.
Ее спутник, между тем, крикнул извозчика.
– Куда вы меня везете? – отшатнулась Лидия Антоновна.
Он поглядел на нее внимательно.
– Прошу вас, не беспокойтесь, сударыня, я не причиню вам неприятностей, – голос был мягок, а глаза из-за пенсне смотрели весьма приветливо, – нам предстоит долгий разговор. Я хочу, чтобы вы рассказали мне, что произошло два с половиной месяца назад в Ялте, в гостинице «Пале-Ройяль». Вы ведь жили в этой гостинице до того, как отплыли в Константинополь на «Илье Муромце»?
– Откуда вы все обо мне знаете? – с подозрением спросила Лидия Антоновна, в волнении позабыв о приличиях.
– Не все, – мягко поправил он. – Но кое-что мне рассказала о вас жена штабс-капитана Ильинского…
– Натали? Как ее здоровье? – улыбнулась Лидия Антоновна.
– Более-менее. Но вам сейчас нужно подумать о себе. Не хочу вас пугать, но жизнь ваша находится в большой опасности. И чем быстрее вы расскажете мне обо всем, что произошло тогда в Ялте, тем быстрее вы этой опасности избежите.
Видя, что она медлит, Горецкий слегка нахмурился и вытащил из кармана какие-то бумаги.
– Вот мои документы. Как видите, я имею полное право сейчас отвезти вас в полицию и допросить как свидетеля. Но я не хочу этого делать – в турецкой полиции к русским относятся плохо.
– Я догадываюсь, – вздохнула Лидия Антоновна, – и хоть я ничего не поняла в ваших бумагах, но поеду с вами, куда скажете. Мне и самой не дает покоя та история в Ялте.
На извозчике они ехали молча. Лидия Антоновна с любопытством оглядывалась по сторонам. Оказывается, если ехать по городу не спеша и рассматривать его с высоты пролетки, Константинополь производит весьма приятное впечатление. Лидия Антоновна никогда не ездила по Константинополю на извозчике – она не могла себе позволить транжирить деньги.
Извозчик остановился. Горецкий почтительно подал своей спутнице руку, отпер своим ключом дверь и ввел Лидию Антоновну в опрятную и просторную прихожую.
– Это мой дом, – произнес он в ответ на невысказанный вопрос, – тут нам никто не помешает. Я предложил бы вам чаю, но денщика сейчас нет.
– Благодарю вас, мне ничего не нужно, – с излишней, на его взгляд, поспешностью ответила Лидия Антоновна.
– Итак, – начал он, выжидательно глядя женщине в глаза.
– Прежде всего, скажите мне, отчего вы интересуетесь событиями в Ялте, – напомнила Лидия Антоновна.
– Оттого, что эти события нашли отклик здесь, в Константинополе. Я – бывший полковник Русской армии. Так случилось, что меня попросили расследовать цепочку таинственных убийств, происшедших за последние три недели в Константинополе. Вы читали в газетах о таинственном маниаке, которого газетчики окрестили Скорпионом?
Лидия Антоновна невольно вздрогнула, вспомнив вчерашние ночные шаги.
– Сударыня, – нетерпеливо воскликнул Горецкий, – прошу вас, рассказывайте, время дорого.
– Два с половиной месяца назад, в декабре прошлого года, я очутилась в Ялте. Так получилось, что на предыдущие пароходы сесть я не смогла – были причины личного характера.
Лидия Антоновна на стала рассказывать, что, будучи в Ялте, она встретила знакомых по Петербургу, которые клятвенно уверяли ее, что видели невестку Лику с мальчиками в Севастополе не далее как три месяца назад. И Лидия Антоновна помчалась в Севастополь. Но Лики там не было. И поэтому она чуть не опоздала на последний пароход, отходивший из Ялты.
– Я с трудом устроилась в гостиницу «Пале-Ройяль», – продолжала Лидия Антоновна. – Гостиница ужасная, но мы, постояльцы, были рады и этому. Несколько дней мы прожили в неизвестности, думали, что больше пароходов не будет.
– Вы помните своих соседей? – спросил Горецкий.
– Не всех, но позвольте, я изложу по порядку. Однажды прошел слух, что утром будет последний пароход. Кое-кто из жильцов гостиницы срочно выехал, собираясь ночевать на пристани. До полуночи шла какая-то суета, беготня, а после все затихло, потому что хозяин запирал на ночь двери, чтобы его не ограбили. Мы все тоже боялись грабителей, именно поэтому я осталась в ту последнюю ночь в гостинице. Но спала плохо, очень переживала, да еще в соседнем номере все время кто-то ходил, переговаривался тихонько, двигал вещи… Наконец я с трудом задремала, но среди ночи очнулась от каких-то подозрительных звуков. Слышался стук, потом звук, как будто упало что-то тяжелое…
– Например, человек?
– Ну да, на ум пришло именно это. В соседней комнате кто-то пробежал, стараясь не топать, затем хлопнула дверь. Я вскочила и подошла к дверям своего номера. По коридору кто-то крался, потом подергал ручку моей двери. Я услышала тихий женский голос: «Помогите, Христа ради!»
Лидия Антоновна внезапно прижала руку к груди и сдавленным голосом попросила:
– Простите, нельзя ли немного воды? Сделав глоток, она продолжила:
– Сама не знаю, почему я открыла дверь и впустила ту женщину. Война научила нас осторожности, но в тот раз я просто не успела обуздать свой порыв. Она была ужасно испугана и возбуждена и шепотом поведала мне ужасную историю. Она представилась Ираидой Петровной Савельевой, жительницей Симферополя. Примерно за месяц до нашей встречи к ней пришли какие-то люди от племянника, который, она знала, воевал на стороне красных. Ее попросили помочь и сделали это в такой форме, что она не смогла отказаться.
Через три дня ей показали двоих людей – мужа и жену, с которыми ей следовало познакомиться и навязаться в сопровождающие. Муж, офицер Белой армии, был ранен и только-только выписался из госпиталя. Звали его Сергей Реутов. Фамилия жены тоже была Реутова, но урожденная Кутепова, Ольга Павловна Кутепова…
– Вот как? – вскинул брови Горецкий.
– Да, она являлась родной сестрой генерала Кутепова. Из-за ранения Сергея они задержались и не успели эвакуироваться с армией.
– Интересно, – процедил Горецкий, – весьма интересно.
– Ираида Петровна выполнила задачу успешно. Она сумела подружиться с Ольгой Павловной, ухаживала за ней, когда та болела, – словом, втерлась в доверие. Обо всех передвижениях и планах четы она должна была сообщать своим сообщникам, которые следовали по пятам за супругами Реутовыми. Ираида не подозревала, что ждет ее впереди. Той ночью она привезла супругов в гостиницу «Пале-Ройяль», номер был забронирован заранее, но Реутовы про это не знали. Сообщники сняли номер тут же.
Лидия Антоновна внезапно поглядела прямо в глаза полковнику и сказала:
– Хочу подчеркнуть, что все это я рассказываю вам со слов Ираиды Петровны, у меня не было возможности проверить ее рассказ.
– Это неважно, продолжайте! – нетерпеливо откликнулся Горецкий.
– Там ее сообщники убили супругов Реутовых, прямо в номере. Она сама видела, потому что, движимая подозрениями, не осталась в другом номере, как ей было велено. Это произошло еще до полуночи, когда в гостинице было столпотворение, и никто ничего не заметил.
– Зачем они это сделали? – изумился Горецкий.
– Я тоже задала Ираиде Петровне этот вопрос. Она же ответила, что все поняла только тогда, когда увидела человека, который, как она думала, и являлся основным руководителем операции. Дело в том, что этот человек был похож на Сержа Реутова.
– Так-так, – оживился Горецкий, – я начинаю понимать. Значит, убить супругов Реутовых нужно было именно перед самым отъездом, чтобы никто про это не узнал там, в России.
– Все так и было. Этот человек взял документы и драгоценности Ольги Павловны. Правды Петровны они не опасались, из чего она заключила, что ее обязательно убьют. Но им нужно было, чтобы утром она расплатилась с хозяином гостиницы и сказала, что ее спутники уехали. А на самом деле они вывезли трупы куда-то в мешках.
– Очень логично, – сказал Горецкий. – Разумеется, если допустить, что в этой истории нет вымысла. Вы поймите меня правильно, – заторопился он, заметив, что Лидия Антоновна нахмурилась, – я верю, что вы рассказываете то, что слышали сами, ничего не прибавляя, но вот та женщина… возможно, она…
– Она была испугана, это верно. Но не производила впечатления истерички. Она сказала, что ей случайно удалось отвлечь своего охранника и выйти из комнаты. Но убежать ей все равно не удастся, потому что утром эти люди ее найдут и обязательно убьют, они просто не могут себе позволить оставить в живых такого опасного свидетеля. Она заклинала меня рассказать об этом кому-то, облеченному властью. Она сказала, что не надеется на спасение и заслуживает смерти, потому что сама помогла убийцам. Но ей хочется, чтобы справедливость восторжествовала. На рассвете она собралась выйти из гостиницы через окно. Она не хотела оставаться, чтобы не подводить меня. «Скажите, что этот человек – левша, а Серж был тяжело ранен в руку, она у него почти не двигалась», – на прощанье говорила она, уже вылезая из окна. И больше я ее не видела.
– Что же было дальше? – нарушил Аркадий Петрович затянувшееся молчание.
– Утром нас разбудил коридорный криками, что пароход «Илья Муромец» уже у причала и скоро начнется посадка. Все заспешили со сборами. Я заглянула в соседний номер, там никого не было. По всей комнате валялись разбросанные вещи. Ясно одно: если бы постояльцы в спешке собирались на пароход, они все же не бросили бы вещи. За ночлег хозяину никто не заплатил – не до того было. Кстати, он сам бежал с нами, такой неприятный был старик…
– Его тоже убили, – напомнил Горецкий.
– Да? Я не знала… – Лидия Антоновна опустила голову. – В общем, когда я окончательно уверилась, что в соседнем номере что-то произошло, я буквально поймала за рукав одного офицера, который тоже ночевал в гостинице.
– Ротмистра Хренова? – догадался Горецкий.
– Ну да. Я рассказала ему обо всем и попросила совета. Не могу сказать, – вздохнула Лидия Антоновна, – что услышала от него в ответ что-то обнадеживающее. Да я и сама понимала, что вряд ли могу что-то сделать – все спасались.
– Так-так, – пробормотал Аркадий Петрович, – значит, Хренов встретил этого человека в приемной генерала Врангеля. А когда тот назвал себя, Хренов вдруг вспомнил то, что рассказывали ему вы. И решился, надо полагать, на шантаж. За что и поплатился. Очевидно, у него все же хватило ума не упоминать вашу фамилию. В противном случае убийств было бы всего два – Хренова и ваше…
Аркадий Петрович взглянул на сидящую напротив женщину и опомнился:
– Прошу извинить.
– Значит, Ираида Петровна говорила правду? Действительно тот человек под видом мужа убитой сестры хотел втереться в доверие к генералу Кутепову?
– Естественно. Но доказать, что он – убийца, будет трудно.
В это время в прихожей раздался грохот, хлопнула дверь, и в комнату ввалился запыхавшийся Саенко.
– Ваше сковородне, господин полковник! – выпалил он. – С Борисом Андреичем беда!
– Что, он слишком скверно играл на рояле и за это его побила возмущенная публика? – прищурился Горецкий.
Саенко глубоко вздохнул, намереваясь начать подробный рассказ, но вместо этого вдруг махнул рукой и выпалил традиционное:
– Ох и подлый же народ турки!
Услышав шаги у себя за спиной, Борис внутренне собрался. На экране в это время разворачивалась бурная сцена с заламыванием рук и отчаянными жестами, но Ордынцев, чтобы не заглушать шаги, заиграл тихую «Утреннюю молитву» Чайковского.
Скосив глаза, он разглядел приближающуюся к нему из темноты зала гибкую, хищно согнувшуюся фигуру. Продолжая играть нехитрую мелодию левой рукой, правой Борис потянулся к револьверу.
Однако достать оружие он не успел: гибкая фигура метнулась к нему, и раздался звук резкого удара и скрежет металла по металлу. Соскользнувшее лезвие стилета порезало ухо, но Борис, не обращая внимания на боль, отклонился, перехватил в воздухе левую руку нападающего и приемом французской борьбы бросил его на пол.
Сам он прыгнул сверху на поверженного противника, чтобы не дать ему подняться, но тот откатился в сторону и хотел нырнуть под сиденья зрителей, как вдруг из темноты вынырнул Саенко и каким-то тяжелым темным предметом огрел злодея по голове.
В зале раздались раздраженные выкрики и свист зрителей, недовольных тем, что замолчало привычное фортепьяно тапера. Борис громко произнес по-французски извинения, вряд ли понятые турецкой публикой. Саенко, сидя верхом на безжизненном злодее, аккуратно связывал ему руки, как связывал он багаж Аркадия Петровича или Бориса при частых переездах.
Борис нагнулся к ординарцу и спросил:
– Ты же вроде с Аркадием Петровичем ушел? Как же ты здесь-то оказался?
– Да решил приглядеть за вами. Мало ли что, думаю…
– Молодец ты, брат. Вовремя подоспел. Без тебя бы мне не справиться, убежал бы, мерзавец, – вон он какой жилистый…
– Да, соответствующий господин, – согласился Саенко, внимательно оглядывая узлы. – Но теперь не убегет.
– А ты его… не того? Не насмерть?
– Да нет, сейчас очухается. Мужчина крепкий.
– А чем ты его приложил-то?
– Да там, при входе… вазочка такая стояла.
Борис окинул взглядом рассыпанные по полу осколки и подумал, что ваза была немалых размеров, чуть не в человеческий рост.
Связанный человек зашевелился и открыл глаза. Увидев Бориса, он удивленно на него уставился.
– Я так понимаю, – сказал Борис весьма вежливо, – вы знакомый Лидии Антоновны. У вас к ней было дело? Так она сегодня занята, я за нее.
В зале наконец загорелся свет. По проходу между рядами бежали, тяжело пыхтя, двое толстых турецких полицейских, вызванных перепуганным билетером.
Увидев лежащего на полу связанного человека и склонившегося над ним Бориса, полицейские выпучили глаза и злобно затараторили по-турецки. Ордынцев огляделся. Саенко и след простыл. Когда он успел исчезнуть, осталось загадкой. Борис попытался объясниться с полицейскими по-французски, но они не понимали ни слова, сыпали турецкими фразами, и один из них уже начал решительно надевать на ненормального иностранца наручники.
В это мгновение Борис вспомнил спасительные слова. Он громко и с достоинством сказал полицейским:
– Джафар Карманли!
На полицейских это подействовало волшебным образом. Они еще больше выпучили глаза, однако наручники надевать не стали, подняли связанного злодея с пола и повели обоих к выходу. С Борисом обращались с вежливой осторожностью, хотя на всякий случай крепко держали за локоть. По дороге они переговаривались между собой, периодически повторяя магическое имя «Джафар Карманли». Произносили они его с испуганным уважением.
– Итак, вы утверждаете, – негромким скрипучим голосом проговорил Джафар Карманли, в упор глядя на Бориса Ордынцева, – что этот господин покушался убить вас?
– Да, совершенно верно. Он подкрался ко мне сзади, когда я играл на фортепьяно…
– Вы работаете тапером в синематографе «Лидо»? – прервал его турок быстрым вопросом и сделал знак стенографисту.
– Нет, я не работаю тапером, – устало ответил Ордынцев, – я заменил женщину, которая работает там тапером, потому что она понадобилась для снятия допроса моему шефу…
– Ваш шеф – сотрудник турецкой полиции? – с саркастической усмешкой спросил Джафар-эфенди.
– Нет, он не сотрудник полиции, – уныло парировал Борис, – он…
– Этот господин напал на меня, когда я собирался занять свое место в первом ряду, – обиженным голосом проговорил смуглый жилистый господин с левой рукой на перевязи, – он ударил меня по голове каким-то тяжелым предметом, от этого я потерял сознание и больше ничего не помню…
– По голове его ударил не я, а Саен-ко, – вставил Борис.
– Саенко? – язвительно уточнил Джафар и сделал знак стенографисту, чтобы тот отразил новую фамилию в своих записках. – И куда же делся этот таинственный господин Саенко?
– Не знаю, – пожал плечами Борис, – он помог мне связать этого убийцу, а потом, когда появились ваши полицейские, куда-то исчез.
– Так. – Джафар Карманли наклонил голову, и тусклый свет лампы отразился в его голом желтом черепе. – Значит, этот таинственный господин куда-то исчез…
– Что вы слушаете этого молокососа! – взорвался смуглый господин. – Я – уважаемый человек, боевой офицер, пострадавший в боях за свое отечество, – он бросил взгляд на левую руку, безвольно висящую на черной шелковой перевязи, – и не потерплю возводимых на меня грубых обвинений! Мой родственник, который…
– И ранение у него фальшивое! – прервал его Борис нервным возгласом. – Я прекрасно помню, что там, в синематографе, он ударил меня в шею стилетом, держа его в левой руке!
– Стилетом? В шею? – насмешливо переспросил Джафар. – Должен сказать, что вы прекрасно выглядите для человека, которому нанесли удар стилетом в шею!
– Дело в том, что я… – начал Борис, но в это время дверь отворилась, и на пороге появились Аркадий Петрович Горецкий и его верный оруженосец.
– Дело в том, что я господину поручику посоветовал на шею полотно от старой ножовки навернуть, – с ходу принялся объяснять Саенко. – Мне один охотник рассказывал, он когда на рысь ходил, завсегда пилу на шею навертывал. Рысь – она сзади на шею бросается, точно как убивец этот… Борис Андреич нарочно стул в темноту передвинул, а вот этот, – Саенко кивнул на смуглого господина, – в темноте-то и перепутал.
– Добрый вечер, Джафар-эфенди, – поздоровался с турком Горецкий и перевел на французский тираду своего денщика.
– Значит, это тот самый человек, – задумчиво проговорил Джафар, глядя на задержанного ничего не выражающими глазами.
– Саенко, – распорядился Горецкий, – обожди в соседней комнате с Лидией Антоновной.
– Вы позволите, уважаемый Джафар-эфенди? – спросил он.
Джафар наклонил лысую голову.
– Итак, – обратился полковник к арестованному, – вы утверждаете, что являетесь Сергеем Ивановичем Реутовым – подполковником Русской армии и зятем генерала Кутепова?
– Совершенно верно, вот мои документы.
– И вы не признаете себя виновным в убийстве шестерых человек?
– Разумеется, не признаю, – раздраженно дернулся арестованный. – Да зачем мне это было нужно?
– Зачем? – вкрадчиво переспросил Горецкий. – А затем, что вы, господин лжеРеутов, являетесь вовсе не тем, за кого себя выдаете. Подполковника Сергея Реутова вместе с женой убили в Ялте ваши люди. Вы взяли его документы и прибыли в Константинополь с целью войти в доверие к генералу Кутепову, воспользовавшись тем, что его сестра Ольга вышла замуж недавно, и Кутепов зятя своего никогда не видел. А сблизиться с Кутеповым вам нужно было потому, что вы – агент ГПУ. Еще бы ГПУ такую возможность упустило – агенту стать зятем самого Кутепова! Вы эту операцию готовили тщательно, заранее начали следить за Реутовыми там, в России. Своего человека к ним приставили.
– Вы можете это доказать? – холодно спросил арестованный.
– Могу. У меня в соседней комнате свидетель сидит – дама, что была в гостинице в ту ночь. Вы ее убить не успели.
– Что она видела? – криво улыбнулся арестованный. – Ей истеричная баба наболтала, так она свихнулась просто. Это не доказательство.
– Хм, – послышалось от дверей.
На пороге стоял господин начальник полиции города Константинополя. Он окинул взглядом комнату, и Борис с трудом подавил желание вскочить со стула.
– Прошу простить, что прерываю, – произнес начальник полиции тоном, по которому всем присутствующим в комнате стало ясно, что на самом деле он совершенно не извиняется, – в данный момент меня мало интересуют ваши русские дела. В данный момент меня интересует убийца шести человек – так называемый Скорпион, как окрестили его газетчики. Вы, господин полковник, – обратился он к Горецкому, – можете доказать, что сидящий перед нами человек и есть тот самый маниак-убийца?
– Безусловно, – твердо ответил Горецкий. – Во-первых, доказательством служит его нападение на моего человека в синематографе. Во-вторых, полицейские по распоряжению Джафара сейчас обыскивают зал и несомненно найдут там орудие убийства – стилет, похожий на шило. Врач сделает сравнительный анализ ран на трех имеющихся у нас в распоряжении трупах – проститутки, ее сутенера, а также коммерсанта Акопа Мирзояна, чьей смерти, надо сказать, я ничуть не удивляюсь – если человек способен обобрать близкую женщину и бросить ее нищую, вряд ли он долго проживет на свете, Бог покарает. В данном случае так и вышло.
– Какие же это доказательства, – презрительно процедил арестованный. – Какие вообще могут быть исследования? Это же Турция!
– Совершенно верно изволили заметить, – оживился начальник полиции. – У нас в Турции лет пятнадцать назад виновных в убийстве без всякого разбирательства на кол сажали. А сейчас, пока расследование будет идти, мы вас – в тюрьму. А тюрьма у нас такая, что через два дня вы мне сами все расскажете, да еще умолять будете, чтобы я выслушал.
– В этом не сомневайтесь, – поддержал Горецкий, – русские по их тюремному табелю о рангах приравниваются ко всякому сброду. Посадят вас с совершеннейшими разбойниками, кормить не будут, а деньги все отберут. Кстати, – повернулся он к Джафару, – нельзя ли освободить есаула Чернова, раз убийца найден…
– Разумеется, – скупо кивнул Джафар.
– Вы, конечно, надеетесь на генерала Кутепова, считаете, что генерал не потерпит такого обращения со своим зятем, а турки с ним все-таки считаются, – продолжал Горецкий. – Но когда генерал явится вас вызволять, я познакомлю его с Лидией Антоновной Дурново, и она обстоятельно перескажет ему всю ялтинскую историю. Разумеется, вначале генерал не поверит. Но все же попросит вас рассказать, как его сестра ела, на каком боку спала, как разговаривала, какие кушанья любила… Родинки ее попросит перечислить! А вам, я так понимаю, ответить-то и нечего…
Во время этой речи Джафар Карманли встал из-за стола и неторопливо отошел к окну.
– Ох, что же там делается! – вдруг вскричал он, и все повернулись в его сторону.
– Никому не двигаться! – истошно завопил смуглый господин, несколько минут назад недоверчиво усмехавшийся на слова Горецкого.
Схватив со стола Джафара легкомысленно оставленный турком револьвер, он переводил ствол с Горецкого на Бориса, медленно отступая к двери.
– Не волнуйтесь, господа, – совершенно спокойным голосом произнес Джафар Карманли, – мой револьвер не заряжен, я никогда его не заряжаю, а храню только как память: это именное оружие моего отца, которое тот получил за доблесть из рук великого Абдул-Гамида. А оставил я его на виду с одной целью: посмотреть, в какую руку возьмет оружие наш обидчивый гость.
Все взгляды обратились к смуглому господину.
Черная шелковая перевязь беспомощной тряпкой болталась у него на шее, револьвер он сжимал левой рукой.
– Я с самого начала не поверил ему и хотел устроить маленькую проверку. Мы знаем с вами, – турок слегка поклонился Горецкому, что убийца, которого наши газеты окрестили Скорпионом, – убивал свои жертвы левой рукой, а этот господин держал руку на перевязи… Теперь последние сомнения разрешены.
Смуглый господин в безумной надежде навел на Джафара ствол револьвера, нажал на спуск… но раздался только сухой щелчок бойка. Застывший в ступоре у дверей турецкий полицейский наконец ожил, разразился потоком ругательств, подскочил к убийце и заломил ему руки за спину.
Генерал Кераглы услышал скрип двери и поднял глаза от бумаг, покрывавших его стол. На пороге кабинета стоял невысокий плотный человек с обширной лысиной и глубоко посаженными черными глазами. Взгляд этих глаз неприятно поразил генерала: незнакомец смотрел на него не как на высокого начальника, боевого офицера, значительное лицо, а как на редкое насекомое, как на необычного жука. Казалось, он решает вопрос – поместить ли генерала в свою коллекцию, наколов предварительно на булавку, или этого делать не стоит.
– Кто вы? – спросил генерал твердо и решительно, справившись с отвратительным приступом слабости. – Кто вы, и почему вошли ко мне без предварительного доклада?
Генерал протянул руку и нажал кнопку вызова дежурного адъютанта. На звонок, однако, никто не явился.
– Не беспокойтесь, генерал, – усмехнулся посетитель, – адъютант не придет.
Генерал не решился спросить, почему не придет адъютант – должно быть, он просто побоялся услышать ответ. На него снова накатила волна отвратительной слабости.
– Что вам нужно? – спросил он, взяв себя в руки и стараясь держаться как подобает генералу.
– Гюзель, – сказал незнакомец в ответ, и генерал Кераглы понял, что все кончено.
– Что – Гюзель? – спросил он, делая вид, что не понимает.
– Вы хотите сказать, что не знаете, кто такая Гюзель? Вы хотите, может быть, сказать, что не подписывали долговую расписку на тридцать тысяч лир? Вы хотите сказать, что эта расписка никак не связана с вводом наших войск в Батумскую область? Я был о вас лучшего мнения, генерал! И он был о вас лучшего мнения, – незнакомец показал глазами на фотографию, которая стояла в кожаной рамке на столе у генерала. Выразительное смуглое лицо, мешки под усталыми темными глазами… Кемаль подарил генералу эту фотографию в прошлом году с сердечной дружеской подписью. Значит, вот как повернулось дело… Кемаль уже знает о расписке.
Генерал опустил веки. Перед его внутренним взором прошли годы борьбы, интриг, сражений, поражений и побед – которых было меньше, чем поражений… Генерал был упорен, энергичен, ловок, он всегда правильно выбирал союзников, делал ставку на выигравшую сторону, и вот теперь из-за такой ерунды вся его блестяще выстроенная карьера рушится в тартарары.
И не только карьера. Генерал со всей очевидностью понял, что его ждет. Турция – это вам не Британская империя с ее либеральными порядками, с неприкосновенностью личности. В Турции не так давно и за меньшие провинности сажали на кол…
Генерал поднял глаза. Лысый незнакомец смотрел на него с презрением и жалостью. Он подошел к столу генерала и тихо произнес:
– Вы скомпрометировали наше общее дело. Вы скомпрометировали революцию. Вы скомпрометировали Кемаля.
С этими словами лысый молниеносным движением накинул на шею генерала тонкий шелковый шнурок. Генерал схватился руками за горло, но скользкий шелк врезался в кожу, и никак было не ослабить петлю. Генерал побагровел, глаза его налились кровью. Свет в его глазах померк. Последнее, что он подумал – сволочь Гюзель… Красивая сволочь…
Весна понемногу вступала в свои права. Константинополь вспомнил о том, что он – южный город. Хозяева кофеен выставляли столики на улицу, и первые посетители сидели за чашкой кофе, радуясь весеннему солнцу.
В одной из таких уличных кофеен сидели Аркадий Петрович Горецкий и его старинный английский друг и коллега мистер Солсбери. Аркадий Перович выглядел разочарованным.
– Получается, – прервал он рассказ своего визави, – что вся эта игра, которую вел гepp Кляйнст, была чисто финансовой? В ней не было никакой политической подоплеки?
– Мы с вами привыкли, – усмехнулся мистер Солсбери, – искать во всем политические интересы, но из-за денег, тем более, из-за очень больших денег, разыгрываются шахматные партии ничуть не менее увлекательные… Герр Кляйнст работал на барона Гессен-Борна, и надо признать, сделал свое дело блестяще. Использую долговую расписку, он вынудил генерала Кераглы ввести в Батумскую область подчиненные ему войска. Это немедленно привело к значительному повышению курса акций компании «Батумойл», владеющей батумскими нефтеперегонными заводами и нефтеналивным портом. Гессен-Борн и так имел большую часть этих акций, а накануне событий за бесценок скупил остальные. Когда курс пошел вверх, барон продал все свои акции и нажил миллионы…
– Значит, немцы переиграли нас? – разочарованно констатировал Горецкий.
– Нет, это не совсем так, – мистер Солсбери сдержанно улыбнулся, что было немало для стопроцентного британского джентльмена, – благодаря вашей успешной работе, мы смогли раскрыть перед кемалистами подоплеку батумского инцидента. Генерал Кераглы был наказан, войска выведены. В это же время я встретился с представителем большевистского правительства господином Чичериным. Должен сказать вам, что он – способный дипломат и трезвомыслящий политик…
Горецкий недовольно поморщился, но Солсбери сделал вид, что не заметил этого, и продолжил:
– Господин Чичерин оценил наши усилия по выводу турецких войск из Батума, и нам удалось прийти к соглашению о выгодной концессии для британских нефтяных компаний…
– Нефть и деньги, всюду нефть и деньги! – воскликнул Горецкий, подняв глаза к небу. – И за эти деньги заплачено человеческой кровью!
– Будьте реалистом, – мистер Солсбери пригубил горячий черный кофе и поморщился – то ли кофе был слишком горяч, то ли его раздражали слова собеседника, – будьте реалистом, мой друг, нефть – это золото нового времени, а без золота не может работать ни одна государственная машина. Кстати, на меня возложена приятная обязанность вручить вам весьма значительное денежное вознаграждение за ваш вклад в эту операцию…
– Удивительная женщина! – Аркадий Петрович отвернулся от двери, не успев погасить молодой блеск в глазах.
– Что в ней такого удивительного? – Борис равнодушно пожал плечами.
Он чувствовал себя усталым, измотанным и одиноким. Хотелось также испортить настроение ближнему, а поскольку, кроме Горецкого, никого не было рядом, то Борис решил сказать гадость ему.
– Ничего в ней такого особенного нет, – хмыкнул он, – худая, немолодая…
Горецкий повернулся на каблуках и проницательно посмотрел Борису в глаза:
– Хандрите, голубчик? Не нужно, не поддавайтесь меланхолии и тем более не срывайте плохое настроение на ближних.
– Простите, – устыдился Борис. – Я не хотел вас обидеть.
– Как раз хотели! – весело поправил Горецкий. – Но не обидели, потому что восхищаюсь я Лидией Антоновной вовсе не по каким-либо личным мотивам. Внешне она… достаточно некрасива. Да, худая, бледная от недоедания. Правда, относительно ее возраста я мог бы с вами поспорить. Вам сколько лет?
– Двадцать восемь, – угрюмо сообщил Борис.
– Ну, понятно! – обрадовался Аркадий Петрович. – Все, кто старше сорока, кажутся вам безнадежными стариками, а после пятидесяти, по вашим представлениям, жизнь вообще кончена. Позже вы поймете, что были неправы. Но я веду сейчас речь не об этом. В этой женщине, такой обычной на вид, есть одно качество, которое уже давно очень интересует меня.
– Что же это за качество? – против воли Борис заинтересовался разговором.
– Право, я затрудняюсь подобрать ему подходящее название. Скажем так: это способность к выживанию, некий внутренний стержень, который проявляется только в экстремальных ситуациях, и есть он далеко не у всех. Скорее, это большая редкость. Возьмите Лидию Антоновну. Не очень молодая и не очень здоровая женщина оказывается в Константинополе совершенно одна без средств к существованию. Она потеряла всех родных и все деньги.
– Как и многие другие, – вставил Борис.
– Казалось бы, ей не для чего больше жить. Но почему-то она на последние деньги публикует объявления в газете о том, что дает уроки музыки. Кому нужна сейчас в Константинополе русская преподавательница музыки? Тем не менее, она находит один-два урока. И не ленится обходить пешком все мелкие ресторанчики и варьете, а также кинотеатры в поисках работы. Она никогда ни у кого не просила денег и даже призналась мне, что никогда – ни разу – не ела в этой ужасной бесплатной столовой для беженцев на площади Таксим!
– Не понимаю, чем вы восхищаетесь, – упорствовал Борис. – Приводите в пример какие-то мелочи… Причем же тут жизненный стержень?
– Жизнь, мой дорогой, и состоит из мелочей, как ни грустно это признавать. Помните нашего общего знакомца капитана Колзакова, с которым мы встретились в Крыму на Арабатской стрелке?[8]
– Помню, конечно, – оживился Борис. – Занятный был человек капитан Колзаков.
– Помните его рассказ, как он был в плену у австрийцев в шестнадцатом году? Там были одни офицеры. Меня всегда интересовал вопрос: почему один опускается, падает духом и кончает жизнь самоубийством, а другой сохраняет присутствие духа в любой ситуации. Храбрый офицер, отчаянный рубака совершенно опускается в плену, а тихий, незаметный человек стойко переносит голод и унижения. Так вот, о мелочах: по наблюдениям капитана Колзакова внутренний надлом у человека наступал там, в лагере, когда он переставал мыться и бриться. Казалось бы, такая мелочь – бритье, а вот поди ж ты…
– Думаю, что Колзаков в австрийском плену просто сумел приспособиться, повезло ему, вот и выжил.
– М-н-да, насчет везения, – задумчиво проговорил Горецкий. – Что касается везения, то тут вы, Борис Андреевич, вне конкуренции.
– Тьфу-тьфу, чтоб не сглазить! – подскочил Борис.
– Не беспокойтесь, голубчик! – Аркадий Петрович ласково поблескивал стеклышками пенсне. – Вашему ангелу-хранителю не надоест вас оберегать, потому что вы все время ему помогаете. Не ждете, так сказать, милости свыше.
– Откуда вы знаете? – насупился Борис.
– Алымов рассказывал вашей сестре, каким образом вы спаслись от красных, когда они пытались вас утопить в Новороссийской бухте.
– Влюбленный дурак! – Борис стукнул кулаком по столу. – Кто же такое рассказывает женщине?
– Думаю, что вы зря опасаетесь. Варваре Андреевне мужества и стойкости не занимать. Так вот, Борис Андреевич, я знаю, что это именно вы уговорили Алымова не ждать покорно смерти, а попытаться выплыть, и вам удалось это сделать.
– Бог помог! – совершенно искренне заметил Борис. – Но я не люблю вспоминать, а тем более рассказывать об этом.
– Понимаю, – согласился Горецкий. – Что ж, Борис Андреевич, позвольте подвести некоторые итоги. Дела наши в Константинополе закончены. Мистер Солсбери выехал в Лондон и дал понять, что некоторое время он в услугах моих не будет нуждаться. И вот, – Горецкий выложил на стол пухлую пачку денег. – Услуги, оказанные британской короне, очень хорошо оплачиваются.
– Ну и ну! – Борис покачал головой, глядя на деньги. – Да я вроде бы ничего особенного не делал. Ходил по ресторанам, гулял…
– Вы рисковали жизнью, – прервал его Горецкий, – и теперь на эти деньги вы сможете отправить сестру с ее женихом в Берлин.
– Да, там Петру сделают отличный протез, – согласился Борис.
– Далее, – продолжал Горецкий, – хоть я и успешно справился с расследованием целой цепочки убийств, ждать благодарности от турецкой полиции было бы слишком самонадеянно. Но зато они помогли без проволочек решить вопрос с моим отъездом из Константинополя.
– Куда вы едете? – встрепенулся Борис.
– Мы с Саенкой едем в Париж и приглашаем вас с собой. С оккупационными властями я все улажу.
– Что будем делать в Париже?
– Пока не известно, – Аркадий Петрович наклонился, чтобы раскурить трубку, – но я знаю одно: мы с вами, как и многие другие, теперь люди без родины. Нашей России больше нет. Отныне, как не печально это признать, каждый из нас отвечает только за себя. Теперь будут цениться только личные способности. И нужно очень постараться, чтобы чужая страна признала нас своими гражданами. Возврата к прошлому не будет. Вы согласны?
Борис только вздохнул. Он знал, что полковник Горецкий, как всегда, прав.
Примечания
1
Черчилль, Уинстон (1874–1965) – политический и государственный деятель Великобритании, в 1919—21 годах – Первый лорд Адмиралтейства, то есть военный министр в британском правительстве. Сторонник жесткой линии в восточной политике Великобритании. Позднее – премьер-министр Великобритании.
(обратно)2
Ллойд Джордж, Девид – английский государственный деятель, лидер либеральной партии. В 1916—22 годах – премьер-министр коалиционного правительства. Глава английской делегации на Парижской мирной конференции 1919—20 гг.
(обратно)3
Клемансо, Жорж (1841–1929) – французский государственный деятель, лидер буржуазных радикалов. В 1917—20 годах – председатель совета министров и военный министр Франции.
(обратно)4
Керзон, Джордж Натаниэл (1859–1925) – английский политический деятель, консерватор, входил в коалиционное правительство Ллойд Джорджа в качестве министра иностранных дел.
(обратно)5
Лига Наций – международная организация, существовавшая в период между Первой и Второй мировыми войнами. Создана в 1919 году на Парижской мирной конференции. Первоначально включала в себя тридцать одну страну. Руководящее положение в Лиге Наций принадлежало Англии и Франции, США в Лигу Наций не входили.
(обратно)6
Смотри роман Н.Александровой «Батумский связной».
(обратно)7
Кемалисты – сторонники партии младотурок, возглавляемой Кемалем Ататюрком.
(обратно)8
См. роман Н.Александровой «Черное рождество».
(обратно)

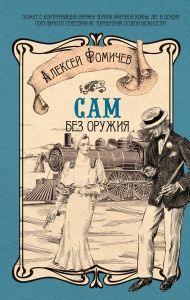



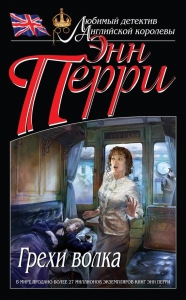
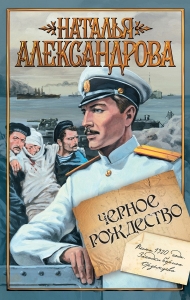
Комментарии к книге «Закат на Босфоре», Наталья Николаевна Александрова
Всего 0 комментариев