Кирил Бонфильоли Дебют Маккабрея/Что-то гадкое в сарае
Трилогия Маккабрея, том 3
Перевод с английского Максима Немцова. —
Редактор Анастасия Грызунова
Kyril Bonfiglioli
Something Nasty in the Woodshed
Copyright © Kyril Bonfiglioli, 1976
Перевод © М. Немцов, 2007
Почему Charlie Mortdecai стал Чарли Маккабреем
В лучших традициях английского романа Кирил Бонфильоли подарил своему герою говорящую фамилию, и ее перевод заслуживает отдельного комментария. Изучив биографию Чарли и его славных предков, переводчик принял решение без потерь донести до русскоязычного читателя все намеки автора, и поэтому Mortdecai (очевидный кивок автора в сторону ветхозаветного героя Мордехая; фр. mort «смерть-распад») стал Маккабреем; в фамилии затаились прозвище ветхозаветных героев Маккавеев и пляска мертвецов, макабр (фр. macabre), танец о равенстве всех перед ликом смерти.
Издательство Livebook
Трилогия о Чарли Маккабрее
Не тычьте в меня этой штукой
Don't Point That Thing At Me, 1973
После вас с пистолетом
After You With the Pistol, 1979
Что-то гадкое в сарае
Something Nasty In The Woodshed, 1976
Et Amicorum[1]
Поскольку я не надеюсь дотянуть до написания еще одного романа о Джерси, вынужден просить — в алфавитном порядке: Алана, Анджелу, Барри, Бетти, Бобби, Веру, Гордона, Джин, Джоан, Джона, Дика, Мэри, Ника, Олив, Питера, Пола, Розмари, Стэнли, Терри, Топпер, Хизер, Хью и сотню прочих славных джерсийцев — принять это как пустячную благодарность за всю их доброту и терпимость. К тому же надеюсь, они возражать не станут, если я добавлю к списку черного лабрадора по имени Помпей и кенара, именуемого Берт.
Все эпиграфы сочинены Суинберном, за исключением одного — осязаемой подделки.
Ни один человек в этой книге не обладает намеренным сходством ни с какой реальной персоной: реальные люди чересчур невероятны, чтобы ими пользоваться в художественной литературе.
Почетная Полиция Джерси привыкла к тому, что над нею подтрунивают; все ее сотрудники, с кем я имел удовольствие познакомиться, справедливы, достойны уважения, разумны и шутки понимают.
Ни в коем случае не следует мне благодарить поименно всех славных жителей Джерси, отвечавших на мои бессчетные вопросы, — это будет дурное вознаграждение за их терпение.
Вымышленный рассказчик — гадкий, язвительный человек; покорнейше прошу не путать его с автором — тот кроток и добр.
Подделка Суинберна некоторым образом подписана.
1
Пока скалы сурово стоят над водою,
А ливни луга продолжают поить,
Пока не поднимутся волны прибоя,
Чтоб поля затопить и утесы разбить,
Здесь, в саду, где ничей не разносится голос,
Ни под чьею стопою не мнется трава,
Как богиня, что в храме своем закололась,
Смерть мертва.
«Покинутый сад» [2]Острова
Семь тысяч лет назад — ну, пару месяцев туда-сюда — чертова уйма воды покинула Северное море (причина была веская, но я ее так сразу и не упомню) и залила низины Северо-Западной Европы, образовав тем самым Английский канал и действенно отгородив Англию от Франции — ко взаимному удовольствию обеих сторон (ибо не случись этого, изволите ли видеть, мы, англичане, были бы иностранцами, а им, французам, пришлось бы питаться хлебной подливой).
Немного погодя море попилило особо корявые кусочки французского побережья и отделило от материка те части, что были повыше. Получившиеся в итоге острова вы называете «Канальными», поскольку мало что смыслите: их подлинное и древнее имя — «Лезыль Норман»[3]. Их принадлежность Соединенному Королевству оспаривалась: утверждали, что все наоборот, ибо они входили в состав герцогства Нормандского задолго до того, как Вильгельм совершил в Англии все свои завоевания[4], и по сю пору остаются единственным пережитком оного герцогства. Острова рьяно преданы Короне и тамошний тост по прежнему звучит так: «За Королеву — нашего Герцога». Там повсюду правят иные — древние и причудливые — законы, везде свои конституции, а устои довольно странны. Но об этом чуть позже.
Данный остров
…называется Джерси и состоит из гранита, сланца, диорита и порфирита — как известно любому школяру. Вся конструкция несколько скособочена так, что смотрит на юг, и это, вне сомнений, полезно для климата. (Я никогда не говорю о погоде; это занятие для курортовладельцев, крестьянства и тех кротких маньяков, что предпочитают селиться на крыше Адмиралтейства.) Береговая линия запущенна и приятна так, что трудно поверить.
Табак и горячительные напитки дешевы, подоходный налог благотворно низок, но осмелюсь предсказать, что все эти милости, равно как и частные средние школы, испарятся, едва социалисты добьются большинства голосов и их потянет на подвиги.
Население
Оного имеется множество слоев. Во-первых — отпускники, коих описывать не требуется, боженька их благослови. Имя им — легион.
Далее — фермеры; все они старых джерсийских корней и ненавязчиво и чванно правят Островом к собственному тихому удовлетворению. У них древние уродливые имена, древние уродливые физиономии и просто отвратительные древние жены. Батраки у фермеров такие же, только пьянее. Из Нормандии, Бретани и даже Уэльса изредка приносит сезонников — окучивать посадки нарциссов, картошки и помидоров; сезонники эти приземисты и зловещи, как итальянцы из Абруцци; также они пьянее всех прочих, и кто может их за это упрекнуть.
В-третьих — и это самая известная публика — богатые иммигранты, приехавшие, дабы насладиться причудливыми налоговыми льготами Острова. Тот умеренный налог, что они платят, раздувает местную казну так, что джерсиец полагает сие непростительным. Кое-какие иммигранты — совершеннейшие трезвенники (именно эдак, среди прочего, сдается мне, и можно разбогатеть), но большинство тоже беспробудно пьяно: виски здесь продается за ту же цену, что и дешевое вино, но гораздо вкуснее.
Они привозят с собой столько денег, что я иногда опасаюсь, не утонет ли Остров под их массой. Беседы с ними искрометны, пока вы не отходите от темы длины их гостиных — или «салонов», как это называется на местном «арго».
Сюда за ними, подобно стае алчных стервятников-дерьмоедов, привалили орды банкиров и прочих заемщиков всех степеней продажности, и теперь наиболее соблазнительные куски недвижимости в Сент-Хелиере расхватываются этими бесстыдными обжорами, едва освобождаются. Это, по всей вероятности, плохо.
Кроме того, существует ряд категорий помельче, вроде аристократии и мелкопоместного дворянства, португальских официантов, индийских торговцев мишурой, кочевых барменш и пьяных романистов, но все они — хоть по своему преимуществу и милые люди — к нашей истории отношение имеют незначительное.
Фауна
Опора экономики и единственное крупное млекопитающее, за исключением джерсийской дамы, — джерсейская корова. Она грустноглаза и довольно красива, а кроме того, секретирует изумительное густое молоко. Водится на привязи, ибо пастбища ценны, а изгороди дороги; зимой «покрывается» макинтошем из целлофана, летом щеголяет в шляпке от солнца. Да-да, честное слово. Еще здесь есть кое-какие свиньи, но овец, я предполагаю, нет — по каковой причине, быть может, некий шотландский полк так никогда и не был здесь расквартирован. В большом количестве имеются лошади, поэтому в любой час дня вы можете наблюдать, как по дорожкам гарцует пригородная кавалерия.
Дикая живность редка, если не считать морских птиц; доминирующие виды — сорока и воробей. Охотничьих угодий нет, а следовательно, нет и егерей, поэтому всех птенцов пожирают вездесущие сороки; лишь воробей, эта птица Венеры, способен переспарить соро́к, колтыхая свою партнершу круглый год, экий выносливый парнишка. В конце осени иногда случаются мелкие редкие птички на перелете — они присаживаются отдохнуть в полях нерожденных нарциссов.
Флора
Сия по преимуществу представлена травой и огородами, последние — зачастую в мучительно кричащем разнообразии. На клочках земли, ожидающих разрешения к освоению, произрастает кое-какой папоротник-орляк и утесник обыкновенный, а все остальное — роскошные посадки: ранний картофель, нарциссы, анемоны, помидоры и — там и сям — робкая цветная капуста. Определенные виды кочанной капусты на непомерно длинных стеблях выращиваются специально для туристов с фотоаппаратами: местные жители невозмутимо уверяют приезжих, что растят ее на прогулочные трости, но такому ведь никто в здравом уме не поверит, правда?
Постройки
Эти варьируются от унылых до нелепых с заездом в претенциозные. Сент-Хелиер по всем статьям — сплошной припадок архитектурного веселья; даже сэру Джону Бетжемену[5] вряд ли удалось бы сохранить серьезный вид. В сельской местности характерная постройка — крупный и мрачный фермерский дом, сложенный из гранита цвета печенки, с огромными наружными стенами и нехваткой окон. Богатые приезжие рьяно расхватывают подобные здания и отвратительно их модернизируют. Завершенный продукт стоит в десять раз больше сопоставимого дома в Англии. Не знаю, хорошо это или плохо.
Язык
Тут все не очень просто. Подлинный джерсиец из ремесленного сословья говорит на языке, который вполне напоминает английский, пока не вздумаете его понять; и тут вы осознаёте, что это больше похоже на говор австралийца, подражающего ливерпульцу. «Его», к примеру, произносится как «йо», а большинство фраз начинается с оборота «Бож-мо» и заканчивается вокабулой «э?». Это противный язык, и человек с готовностью научается его не любить.
Законы и прочие официальные материи записываются на изящном и старомодном нормандском французском, напоминающем латынь Книги Судного Дня[6]. Члены знатных и древних джерсийских семейств по-прежнему умеют на нем говорить, как мне рассказывали, только ни за что в этом не признаются..
Истинный же «патуа Жерзэ»[7] на все это совершенно не похож и варварск до невероятия. («Гиннезэбуанпортэ»[8].) Если я скажу вам, что слово «Джерси» представляет собой латинскую «Кесарию», думаю, вы меня поймете.
И, наконец, большинству торгового люда удается воспроизводить достаточно школярского французского современного розлива, чтобы сильно озадачивать кочевых сезонников — в особенности поелику эти последние обычно усталы и пьяны.
Полиция
В Сент-Хелиере базируется небольшой контингент, называемый Платной Полицией. Я уверен, это название им по вкусу. Они очень похожи на английскую полицию, только их меньше и они не такие сердитые. У них есть мундиры и оборудование; на вид честны и дружелюбны; людей не бьют. В отличие от некоторых моих знакомых.
Гораздо важнее (за пределами Сент-Хелиера) Почетная Полиция — эта, разумеется, неоплачиваемая. Мундиров они не носят — вы обязаны знать, кто они такие. В каждом из дюжины Приходов имеется свой «коннетабль»; ему подчиняются «сентениры»[9] — каждый, в теории, защищает и дисциплинирует сотню семейств и руководит пятью «вёнтаньерами»[10], которые оберегают каждый по двадцать семей. Все это выборные посты, но сюрпризы на выборах преподносятся редко, если вы меня понимаете, да и в любом случае конкуренции за такую честь мало.
На Джерси по закону никто не считается арестованным, пока сентенир не постукает ему по плечу нелепой крохотной дубинкой — символом полномочий (можете вообразить, как нравится Платной Полиции это правило); а сентенир, куда-либо задевавший свою дубинку, говорят, отрывает ручку от ближайшей цепочки смывного бачка. К счастью, сентенирам нечасто приходит в голову арестовывать своих друзей, соседей и родню — если, конечно, правонарушение не тяжко, — и таким образом правительственные средства понапрасну не расходуются, а уборные по большей части остаются в неприкосновенности. На самом деле, все устроено весьма приятственно. Сентенир отводит оступившегося соседа в уголок на тихую беседу, внушает ему страх Божий, тем самым предотвращая рецидив гораздо действеннее, нежели это бы сделали дорогостоящий судебный процесс, условное осуждение и год встреч с каким-нибудь безмозглым сотрудником службы пробации, получившим диплом по общественным наукам в Нерсдлийском политехническом институте.
Один из домов
…принадлежит Сэму Давенанту и называется «Ля Гулютери» — по имени заливного луга, также входящего в поместье. Имя, в свою очередь, происходит, вероятно, от Симона ле Гулю, служившего коннетаблем прихода Св. Маглуара в 1540 году, хотя рьяные антиквары подозревают, будто на этом глинистом поле некогда лепились «гулю» — круглобокие горшки для варки бобов. Я подозреваю, что Симона или кого-либо из его предков прозвали «ле Гулю»[11] из-за того, что сам он был до этих бобов дюже охоч. Антиквары-любители из тех, кто поневменяемей, разумеется, будут заверять вас, что имя как-то связано с древними обрядами плодородия, но они всегда так говорят, разве нет?
Бо́льшая часть здания восходит к XVI веку, заметны следы и более ранних работ, а также есть намеки на церковное пользование. Сложено сие здание из приятного розового гранита — такой уже не добывают, — который годы тактично убедили принять вид уютный и достойный. Наличествуют турели, ронделины, бенитьеры и так далее — я уверен, все вы знаете, что это такое. Я же, со своей стороны, забыл. Фасад преимущественно располагается сзади — двери, террасы и прочее, — но истинный фасад смотрит на солнечный приятный дворик, по противную сторону коего располагается Другой Дом, принадлежащий лучшему другу Сэма.
Другой Дом
Этим владеет Джордж Брейкспир, лучший друг Сэма, и прозывается постройка «Ле Шерш-фюит»[12]; я не в курсе, что это означает. В XVIII веке его экстенсивно приукрасили, и окна теперь — так им предписано лежащим в основе всего гранитом — слегка съехали с мест, что спасает конструкцию от унылой симметрии большинства зданий того периода. Как и у «Ля Гулютери», бо́льшая часть фасада у этого дома — сзади (сады, бассейн и пр.), и сзади же — любопытная и увлекательная веранда с вогнутым стеклением: на Джерси это ассоциируется с «тресковыми домами» — такие постройки возводились в безмятежную эпоху трескового промысла, когда дерзкие джерсийские шкиперы десятками выходили на Большую Ньюфаундлендскую банку и все вдруг обогащались. По одну сторону дома — уродская викторианская конюшня из желтого кирпича, с часами, которые не идут.
Представьте, стало быть
…два этих милых глазу дома, любезно лучащиеся друг другу поверх старой каменной давильни для сидра в центре двора; еще представьте, какая это редкость и удача — что владельцы сих домов такие близкие друзья. (Тот факт, что их супруги терпеть друг друга не могут до самой требухи, малозначителен, надо полагать, да и ненависть эта редко всплывает на поверхность, даже когда они одни.)
Представьте и
…самих владельцев этих домов, начиная с Джорджа Брейкспира из «Ле Шерш-фюит». Джордж верит в Бога, но — лишь в англиканскую его разновидность, как рекламируется по телевидению споспешествованием Соглашения о Предоставлении Равного Времени, хотя у Джорджа Открытый Ум, поскольку в Индии и прочих подобных местах он видал Очень Странные Вещи. Манеры его чересчур утонченны, посему набожность не сквозит — так и должно быть. Он не дурак. Можно заподозрить, что во время Войны он занимал майорскую должность, однако на деле служил он полным и действительным бригадиром и награжден орденом «За боевые заслуги», «Военным крестом» и прочими побрякушками — но, опять-таки, строгость манер воспрещает ему потрясать в гражданской жизни как чинами, так и отличиями. (Мне кажется, что это все же слишком далеко заходит — как-то невоспитанно, согласитесь, хранить орденские планки в ящике комода для носовых платков вместе с «французскими письмами». Подайте мне лучше тех жизнерадостных европейских гусар, что по вечерам щеголяют в опереточных мундирчиках, — и не надо этих напыщенных английских гордецов-гвардейцев, кои по мановению котелка обращаются в прискорбные подобия платежеспособных биржевых маклеров. Офицерам следует иметь дерзость, долги и девиц, а превыше прочего — достачливых кредиторов, которых можно хлестать стеком перед казармами, дабы у оных кредиторов к завтраку разгорелся аппетит, вы не согласны?)
Джордж — мужчина среднего роста, заурядной внешности и нормального веса. Друзья не всегда узнаю́т его — и в этом-то все и дело, не так ли? То есть в любимом кресле у него в клубе его, разумеется, узна́ют, потому что он в нем, изволите ли видеть, сидит. Ну и бармены из тех, что получше, его узнаю́т — но это их работа.
Одежда Джорджа исполнена неброского хорошего вкуса настолько, что напоминает маскировку — быть может, даже плащ невидимки.
Несмотря на его седоватый окрас волос, глядя на Джорджа, вы знаете наверняка: посмей паче чаяния к нам вторгнуться какие-нибудь гансы или фрицы, Джордж не только умело встанет в тот же миг под ружье, но и — не рассусоливая и без лишних вопросов — примет на себя командование, прибегнув к некоему древнему английскому паролю, символу или шибболету, который все мы призна́ем, хоть и услышим впервые с той поры, когда король Артур скрылся в волнах этого озера, что возле Авалона[13].
А тем временем, однако, здесь и сейчас, на Джерси свести с ним знакомство не зазорно никому, ибо: он внимательно слушает рассказчиков; наливает большие (но не вульгарно большие) стаканы; не улыбается слишком уж вымученно, если кто-то выражается в присутствии его супруги; и если вечеринка слишком затягивается, не издает шумов, свойственных отходу ко сну, а как бы тихонько тает и, надо полагать, вновь материализуется в своей гардеробной.
Он много и застенчиво пьет; охоты на Джерси, видите ли, нет, а потому зимние дни довольно длинны, если в вас не буйствуют гонады.
В Кембридже он нарыл себе некую ученую степень и выиграл боксерскую «синьку»[14] — тут едва можно удержаться от того, чтобы не сказать «само собой», — а кроме того неплохо осведомлен в Наполеоновских войнах. Он принадлежит к числу тех завидных людей, которые — подобно выпускникам Бейллиола[15] — безмятежно уверены: все, что бы ни делали и ни думали они, чем бы ни являлись, все это — правильно. Подобная неспособность видеть в себе какие бы то ни было изъяны, есть, разумеется, некая разновидность помешательства, но гораздо менее опасная для окружающих, нежели неспособность видеть в себе хорошее.
Джордж не вполне постигает, зачем мы отказались от Индии, а Суэц его несколько ставит в тупик. Джордж сам себе чистит ботинки; они у него старые, все в трещинах и дорогие.
Он остается — или же «был» — тем, что раньше называли «джентльменом»; или я уже об этом упоминал?
Супруга Джорджа
…прозывается Соня, хотя подруги ее утверждают, будто на свидетельстве о рождении, вероятно, значится имя «Руби». Трудно сказать, почему они с Джорджем сочетались браком; иногда заметно, как они украдкой друг на друга поглядывают, словно их самих это по-прежнему озадачивает.
Она — потаскуха и стерва, сие на глазок способна определить любая женщина, а также большинство гомосексуалистов. Приличные молодые люди могут убеждать себя, что ее томные взгляды предназначены им одним, хотя им ли не понимать: ее указания садовнику «бросать семя» в равной же степени относятся не только к клумбам. Джордж ей верит, мне кажется, но, как и тетушку Матильды[16], старания эти по временам едва не сводят его в могилу. По природе своей, собственному выбору и своему искусству Соня криклива; глаза ее огромны и густо-сини, кожа — что лепестки магнолии, а волосы темны до того, что видятся иссиня-черными. Ее бюст — ежели он поддернут и половинки его сплюснуты вместе дорогостоящим «брасье»[17] — больше всего на свете напоминает попку чудесного дитятка, но когда Соня обнажена, ее груди вялы и непривлекательны, их мышечный тонус давно рассосался. Мне случилось предпочитать такую грудь, что помещается в одной руке, а вам? — однако я знаю, что американцы, к примеру, ценят количество, если вы простите мне остроту.
Под шеллачным покрытием воспитания и подарочных фотоальбомов манерами и моралью своею она осталась искусною шлюхой, коей удалось рано уйти на покой и коя ныне применяет все свои навыки к доставлению удовольствия одной себе. У нее это получается очень хорошо. Осмелюсь заметить.
Не будучи ни в коем разе ягою в ягнячьей шкуре, она, тем не менее и почти неуловимо одевается как-то не так — как в прямом, так и в ином смысле. Одеянья ее ровно тремя годами моложе, чем ей пристало — не больше и не меньше, — так некоторым мужчинам удается всегда носить двухдневную — не больше и не меньше — щетину, — а посему она всегда одета по дорогой моде прошлого года: не вполне писк, но и не совсем кашель.
Сие, разумеется, неимоверно по душе ее подругам, хотя супруги их уразуметь такого не способны, да и, как ни верти, любование Сониными титьками заботит их гораздо больше.
Само собой, она — законченная лгунья, но они все таковы, не правда ли? (Или вы неженаты?) Джордж достаточно сообразителен, чтобы подмечать в ней вероломство, но и порода, и здравый смысл делать ему сие воспрещают.
У Сони и Джорджа двое сыновей. Один, очень умный, заканчивает отбывать срок в школе под названием Веллингтон; Соня отнюдь не против того, что кто-то из ее потомства пребывает в школе, хотя ей удается создавать впечатление, будто школа эта — начальная, — но существование другого отпрыска ее несколько раздражает: он относится к тем, кого называют «уже взрослыми». Сей до изумления глуп и водит вертолет в Армии, на Флоте или в какой-то еще устарелой галиматье. Свое ценное воздушное судно он постоянно ломает, однако начальство, похоже, совершенно не против, лишь всякий раз покупает ему новое. Они, изволите ли видеть, платят за них не из своего кармана. Из вашего.
А теперь — Сэм Давенант,
…и мы незамедлительно улавливаем некую фальшь, некое жеманство, ибо вот уже сотню лет никого не крестят Сэмом. Настоящее имя его, разумеется, Сэ́шеверелл. В школе он бы скорее умер, нежели разгласил эту информацию, а вот ныне ему скорее нравится, если об этом узнают.
Жеманство он на себя жеманнейшим образом напускает, ибо оно ему по природе не свойственно, если вы понимаете, к чему я клоню, и надеется, что за оное сойдет его главнейший недостаток — врожденная леность, иначе праздность. Его нечастые заносы в маниакальную фазу, из-за коих обыкновенно подымается немалый шум, споспешествуют ему в подержании этой иллюзии.
Он счел бы позорным оказаться застанным вне постели до полудня — ежели, конечно, он не прободрствовал ночь напролет, — а завтрак не поглощал уже двадцать лет.
Он почти до утомительности начитан. На людях обычно погружен в какой ни на есть бульварный роман в аляповатой обложке, однако вполне очевидно, что в уединении собственной спальни он читает Гиббона, Фенелона, Горация и «ту се дефунт коколоров»[18]. С другой стороны, он пылко отрицает, будто когда-либо слыхал о Маркузе и Борхесе, кем бы эти ребята ни являлись. (Я же, напротив, истово убежден в необходимости преподавания Фенелона, Расина, Милтона и Гиббона[19] юношеству с младых ногтей; никогда не рано постичь, что классическая литература по большей части как скучна, так и не имеет никакого значения.)
Сэм до нелепости добр, легок в обращении, терпим; кого ни возьми, едва ли у Сэма отыщется для него суровое слово. Однако я давно распознал в нем безумственно железный сердечник, кой превращает его — при условии доведения до ручки — в противника воистину нежелательного. Раньше он необычайно хорошо играл в триктрак, но это занятие подхватили хлыщи, и он его посему забросил: он у нас таков. Мне иногда удается разгромить его в покер.
Представляется, что он неким смутным манером довольно-таки богат, но как именно или откуда, никому не ведомо. Он лукаво намекает на торговлю оружием в юности, а то и чем похуже — быть может, белыми рабынями, — но я подозреваю сеть химчисток в Северной Ирландии: с чего бы ему иначе так разоряться от известий о бесчинствах бомбистов в Белфасте?
Он высок, бледнокож, курчав, несколько плотноват в талии и чуточку старше меня. Скажем, лет пятидесяти.
Напротив,
…супруга его миниатюрна, мила, глуповата и прозывается Виолеттой, если в такое возможно поверить. Сэм зовет ее Вилочкой. Она и впрямь часто виляет и увиливает почитай от всего: я сам это не раз наблюдал. Сэм относится к ней с добродушной терпимостью, однако втайне ее обожает, ежели позволено мне будет процитировать из женских еженедельников. Она нервически ранима, способна заливаться румянцем и даже лишаться чувств — ровно как это делали в старину.
В редчайших случаях она бывает вдохновенной стряпухой, однако по преимуществу пищу сжигает или портит иным способом; к счастью, Сэм не жаден и готовить умеет сам. Не стану делать вид, будто мне ведомы их брачные отношения, но в целом, я бы решил, что их, вероятно, нет. Он выказывает к ней учтивость настолько изощренную, что простительно будет решить, будто он ее ненавидит, однако тут вы ошибетесь.
С матерью Виолетты связано нечто загадочное — ее неизменно поминают как «бедную матушку». Она, как я предполагаю, либо сбрендила, либо алкоголичка, либо клептоманка, либо с ней приключилась еще какая-то оказия, и по временам я задаюсь подобными же вопросами насчет самой Виолетты: ее вербальные привычки своеобразны, и она склонна к произнесению фраз, вроде «кролики размножаются, как горячие пирожки».
Теперь же — мой последний вольт,
…а именно — сам повествователь, иначе — если вы извините мне подобный синтаксис — я. Меня зовут Чарли Маккабрей (вот меня действительно окрестили Чарли: думается, матушка тем самым как-то неуловимо поквиталась с отцом), и я — «Достоп.», ибо таковым был мой отец и является (Господь загнои его душу) мой брат, и «барон», кой представляет собою несостоявшегося, можно сказать, виконта — можно, то есть, сказать, если вам не безразлична подобная ересь. Как небезразлична она была моему отцу.
В настоящее время я проживаю всего в нескольких фарлонгах через поля от двух вышеописанных домов, в половине приятственного особняка (а особняком, по определению имущественных агентов и прочих акул недвижимости, считается любая конструкция с двумя лестницами внутри), называемого «Громобоем», с моей до нелепицы красивой молодой австро-еврее-американской женой Иоанной и моим столь же невероятным одноглазым клыконосным головорезом Джоком. (В силу профессии торговца искусством я, изволите ли видеть, вынужден держать при себе личного головореза.) Проживаю я здесь не постоянно: у меня не столько денег, чтобы уклонение от налогов того стоило, а у супруги моей их, напротив, столько, что не стоит и беспокоиться. В действительности я проживаю в Лондоне, но — хоть я там и не вполне «персона нон грата» — некое подразделение сил охраны правопорядка неким образом предпочитает, чтобы я некое время проживал за городской чертой. Причина вам вряд ли будет интересна, а мелким шрифтом внизу страницы не говорится ничего о том, что я не могу быть несколько уклончив, правда?
Также вас вряд ли заинтересуют причины моей женитьбы на Иоанне; довольно будет сказать, что ее состояние среди них не значится. Она меня любит неистово, почему — для меня загадка, мне же она со временем начала очень нравиться. Мы не понимаем друг друга ни в малейшей степени, что, вероятно, совсем не плохо, зато оба рьяно убеждены: Моцарт изумителен, а Вагнер вульгарен. Много разговаривать ей неинтересно, а это — первейший ингредиент счастливого брака; согласно бессмертным словам Раньона, «естественно, куколка, согласная слушать, а не желающая, напротив, трындеть сама, успехом пользоваться будет неизбежно, ибо граждане по большей части презирают и не терпят как раз трындливой куколки»[20]. Как бы там ни было, в самом важном смысле мы с нею живем будто на разных полюсах, ибо она привержена бридж-контракту — это такой вист для полоумных, — я же всем сердцем люблю кункен, ненавидимый Иоанной за невыразимое скудоумие, а еще, вероятно, за то, что я в него постоянно выигрываю. Жена моя и впрямь вполне ошеломительно прекрасна[21], однако слишком породиста и благовоспитанна, чтобы строить глазки другим мужчинам. Мы никогда не ссоримся; ближе всего мы подобрались к размолвке один раз, когда я был несносен, — она лишь тихо сказала: «Чарли-дорогуша, кому из нас покинуть эту комнату?»
Все три наших дома располагаются в приходе Св. Маглуара — самом крохотном из джерсийских приходов. Он затиснут между Св. Жаном и Троицей и располагает собственным коротким побережьем бухты Прекрасной Звезды, что сразу к востоку — или это запад? — от бухты Доброй Ночи. Какие хорошенькие у них названия, всегда приходит мне в голову.
2
Резвей козленка, Вакх гуляет под луной,
А буйный Пан при свете дня царит;
Волнует песен их мотив шальной
Восторженных Менад и Баккарид,
Танцует свежий лист, внимающий напеву,
И распаленный бог нагую ловит деву,
Но трав, кустов зеленою стеной
Любовный поединок их сокрыт.
«Аталанта в Калидоне» [22]Все это началось — или, по крайней мере, началось то повествование, кое я имею вам предложить, — на прошлогоднюю Пасху: это такое время года, когда об узаконенном убийстве одного еврейского революционера две тысячи лет назад мы напоминаем друг другу раздачей шоколадных яиц детишкам тех, кто нам не нравится.
Весь день я провел в дурном расположении духа, недвусмысленно костеря Джока на чем свет стоит. Он великолепно отдавал себе отчет, что происходило это единственно от недоставки в тот день газет, а следовательно — и кроссворда «Таймс», но по собственным резонам предпочитал на меня дуться. Когда я осведомился, что у нас на ужин, он предерзко ответствовал, дескать, камердинеры истинных джентльменов в пасхальный понедельник всегда получают выходной, а слугам заботливых хозяев вообще-то полагается отгул на все праздники.
Я любезно разъяснил ему, что он — отнюдь не настоящий камердинер, натасканный на службу истинному джентльмену, а всего-навсего обычный головорез, и я, со своей стороны, в последнее время замечаю, что он начал воображать себе вовсе не по чину.
Ответ его прозвучал в дрательном падеже — и направлен был занозистым языком.
Сотрясаясь от ярости при мысли о пригретой на груди гадюке, я влатался в кое-какую одежонку и отправился раздобывать себе ужин в Сент-Хелиер; шины мои вгрызались в гравий с крайней злобностью, распределяя покрытие по близлежащим газонам. (Садовник все равно уже много недель кряду издавал глухое ворчание, и я бы с наслаждением отказался от его услуг: у Иоанны улиточий темп оного работника уже заслужил ему «ном-де-гер»[23] «Молния».)
В Сент-Хелиере тот ресторан, к коему я подготовил свои желудочные соки, был, разумеется, закрыт. У нас не только Сезон Пасхальных Заек, но еще и Один Из Этих Самых Дней. Сие меня и доконало. С животом, бурчащим от огорчения и расстроенных пептинов, я направился в «Клуб», решив досадить себе холодным пирогом с мясом и почками и ложными плодами молодого картофеля, где-то на Кипре насильно загнанными в бледную зрелость дозами цыплячьей пакости и крестьянской мочи.
На крыльце я встретился с Джорджем.
— Уже откушали? — спросил я.
— Нет. Посмотрел в меню. Такое в любых количествах поглощаемо лишь продавщицами. Ухожу. Поедемте со мной, сыграем в триктрак. В холодильнике осталась половина утки, если горничная не стянула. А вы могли бы приготовить какой-нибудь свой картофельный салат. Открою бутылку «Флёри», которое вам так нравится.
Сделка состоялась, и мы отправились — он в своем «ровере», я в нелепом «мини-ГТ», который приобрел лишь потому, что никогда не способен устоять перед явными противоречиями[24].
Едва мы въехали во двор и Джордж заглушил двигатель, до меня донеслись вопли. До Джорджа они не донеслись, покуда он не открыл дверцу своего лучшезвукоизолированного автомобиля, посему первым у входной двери — запертой — оказался я. Джордж пронзил замочную скважину ключом, миновал холл и взлетел по лестнице, не успел я опомниться от могучего толчка, им мне сообщенного.
Его супруга располагалась в спальне — довольно оголенная, ноги широко раскинуты — и визжала так, словно приближалась к крутому уклону на отрезке железной дороги корпорации «Атчисон, Топика и Санта-Фе»[25].
Я не мог не заметить, что супругина мохнатка, вопреки обычной практике, несколько светлее, нежели волосяной покров ее головы. Окно было распахнуто, и теплый ветерок колыхал портьеры, вся же комната источала аромат соития. Джордж тем временем высунулся в окно и покрепче ухватился за лиану, вившуюся по стене снаружи. Под весом ползучее растение оборвалось, и он приземлился на гравий с тем звуком, кой я вправе определить как «тошнотворный шмяк», а также с проклятьями, более подобающими столовой сержантского состава, нежели Джорджеву положению в обществе.
Соня прекратила визжать, проворно окутала мятыми покровами свои мятые прелести и сосредоточилась на трагических выражениях лица и некрасивом бульканье горлом. Я с любопытством присмотрелся к ней. Передо мной разворачивалось представление, но она, опять-таки, женщина, поэтому представляться ей особой нужды нет, если вы понимаете, к чему я клоню. Никогда прежде не доводилось мне изблизи наблюдать повадки свежей жертвы эдакой трепки (назвать ее «трепэ» я все же не могу, не так ли, — это будет напоминать мне восхитительную «Рапэ Морванделль», которую кладут в «киши») (а кроме того — некий сорт понюшки, нет?[26]), равно как не обладал я и никакими предрассудками относительно манеры реакции таковой жертвы — тем не менее, манера презентации показалась мне в чем-то малоубедительной; приостановка неверия никак не желала случаться. Времени на трату, вместе с тем, не оставалось. У меня — едва ли сие достойно отдельного упоминания — не было ни малейшего намерения следовать за Джорджем и насильником в окно: я и в данный момент несколько упитан, а в тот на мне был к тому же новый и дорогостоящий костюм ангорской шерсти; однако я ощущал: следует что-то предпринять; опрично вышесказанного, в означенной спальне я себя чувствовал отчасти «де тро»[27].
— Ну, ну, — вымолвил я, потрепывая то, что мнилось мне Сониным плечом, а на поверку, к моему вящему смущению, оказалось предметом, порнографами поименованным «трепетным бугорком», и владелица его включила свой паровой свисток по новой. — Ой, извиняюсь, — промямлил я, улепетывая; моя тщательно выстраиваемая репутация «уно ди куэлли»[28] разбилась вдребезги.
Вниз и наружу через черный ход: не виднелось там ничего, кроме двусмысленных силуэтов особо-ценных кустов, не ощущалось ничего, кроме дурманящих запахов ночецветных как-их-там, и не слышалось ничего, кроме урчания моего по-прежнему не удовлетворенного живота.
Джордж мог быть где угодно, насильник — даже более того, ежели подвиги не лишили его последних сил.
Chemise de femme, Armure ad hoc Pour la gaie prise Et la belle choque[29], —звучало у меня в голове. Ночная сорочка Сони — короткой разновидности, рассчитанной на уровень моря, — лежала, изволите ли видеть, на полу, предполагая изнасилование изощренное и неспешное.
Стало быть, в саду делать нечего; подлые драки — один из моих любимых видов спорта на свежем воздухе, верите ли, однако мне по душе некоторые преимущества, а тенистые кустарники, разбухшие от обезумевших насильников, не отвечают моим представлениям о благоприятной территории. Свою долгую жизнь и отменное здоровье я приписываю трусости.
Я опять зашел в дом и снял телефонную трубку. После чего снова ее положил. Возможно, Соне врача не захочется; быть может, биде и таблетка кодеина окажутся как раз тем, что доктор покусал, если мне позволено будет сочинить поговорку. А Джорджу не захочется, чтобы силы охраны правопорядка либо иные третьи лица прознавали о вторжении в тайный садик его супруги.
Посему сделал я следующее: смешал крепкий коктейль из джина и апельсинового сока — как раз такие, по моим данным, любила Соня, — принес его ей в спальню и прописал немедленное потребление под аккомпанемент множественных «ну-ну, дитя мое». После чего спустился и составил подобное же снадобье для себя, только изготовлено оно было из виски и содовой. Затем отведал еще одну порцию — средство на вкус оказалось гораздо лучше, а кроме того, сообщило мне молниеносную решимость пересечь двор и отыскать Сэма.
— Сэм, — сказал я, когда он открыл на мой стук. — Через дорогу — передряги.
— Всего лишь передряги? — уточнил он. — Судя по звуку, то был съезд паровых тягачей. Думал заглянуть, но решил не совать нос. Могли оказаться личные прения.
Я в общих чертах обрисовал ему ситуацию, и он сходил в другое крыло дома за Виолеттой. Та появилась с лицом, испятнанным слезами и покрасневшим, и я воздел недоуменную бровь.
— Все хорошо, — ответствовала она. — Это все рак.
— Рак? — вскричал я, шокированный такой трагической откровенностью. — Но, дорогая моя, как же вам удалось его подхватить?
— Это не я. Это водопроводчик.
— Вы плачете из-за того, что у водопроводчика рак?
В обычных условиях Сэм с интересом наблюдал бы за дальнейшим развитием диалога, наслаждаясь запутанными мыслеформами Виолетты, но время поджимало.
— Водопроводчик, — объяснил он, — рьяный рыболов, они тут все такие. Сегодня принес нам двух прекрасных морских раков, живьем, не жульем[30]. Виолетта их варит, а они стучатся в крышку кастрюли, и стук этот наполняет ее состраданием. Hinc illae lachry-mae[31].
Виолетта улыбнулась — очаровательно, бессмысленно, сквозь слезы.
Через минуту мы уже были в «Ле Шерш-фюит», где все колотилось весело, как свадебные бубенцы. Джордж был весь в грязи, глицинии и гравийных царапинах — он по-бригадирски скрежетал в телефон. Соня принимала ошеломляющие позы хорошенько изнасилованной особы, напоминавшие Эмму Гамильтон в роли Лукреции[32], а также исторгала из глубин грудной клетки громогласные и не подобающие той всхлипы. Виолетта кинулась к Соне и сама завела репертуар «ну, ну» и «что вы, что вы» — но втуне, ибо Соня просто-напросто переключилась в регистр повыше. Виолетта твердой рукой направила ее в ванную умыть лицо или что там женщины делают друг с другом в минуту расстройства.
Джордж опустился в кресло, сверкая взором на стакан скотча, который я ловко вправил ему в пятерню.
— Проклятая свинья, — прорычал он. — Изнасиловал мне жену. Испортил мне глицинию.
— Первым делом с утра пришлю своего человека на нее посмотреть, — сказал Сэм. — На глицинию, в смысле. Они упорные — скоро восстанавливаются. Глицинии, — добавил он; как мне показалось, излишне.
Я на цыпочках направился к выходу: драмы я люблю, но садовод из меня никакой.
— Не уходите, — вымолвил Джордж.
— Да, не уходите, — вымолвил Сэм.
Я не ушел — я и не собирался. Одна мысль не давала мне покоя: неужели Джордж забыл о половине холодной утки и бутылке «Флёри»? Я поухаживал за собой еще чуточкой его скотча.
— Кому вы телефонировали, Джордж? — спросил Сэм.
— Врачу.
— Считаете, разумно? Срам для Сони, нет?
— К делу не относится. Негодяй мог повредить ей внутренности, заразить какой-нибудь мерзостью, даже спиногрызом… Бог знает… — Голос его всхлипом растворился в заполненной ненавистью тишине. — Решить следует одно, — спокойно продолжил он. — Полиция или нет.
Это и впрямь повод к раздумьям. Даже Платная Полиция — ежели в конечном итоге ее удастся выманить из Сент-Хелиера — едва ли окажется способна что-либо разобрать в возможном отпечатке ноги-другой и бессвязном лепете обесчещенной супруги; Почетная же Полиция в лице местного вёнтаньера, каким бы столпом общества он ни был, ограничится напряжением мозгов на предмет известных или возможных насильников из числа членов двадцати подведомственных семейств (исключая те, с коими столп состоит в родственных связях, а это означает подавляющее большинство) с последующим вызовом сентенира. Тот, человек превосходный и проницательный, ограничится напряжением своих мозгов: само назначение его вкупе с особой подготовкой примерно соответствуют оным у главы приходского совета в Англии, и у него нет ни оснащения, ни людей, ни навыков, потребных для проведения массированной полицейской облавы или обысков. Да и что искать? Всех, кто учащенно дышит? Хуже всего, подобная публичная свистопляска навсегда оставит на Соне клеймо «той бедняжки, кого изнасиловали на прошлую Пасху».
— В целом, — мягко ответствовал Сэм, — я бы решил, что нет.
— Да, — подхватил я с обычной своей двусмысленностью.
— Я все это понимаю, — сказал Джордж, — и, очевидно, согласен. Но есть и гражданский долг. Личное смущение тут не в счет. Дело, видите ли, в законе. Гораздо важнее нас. Даже если речь о моей заднице. Иначе где мы окажемся?
— Но если мы знаем, что не поможет? — (Сэм.)
— Ну, да — в этом вся штука, не так ли? — Несколько времени он подумал, презрев стакан в руке. — Да, ясно, — произнес он наконец. — У меня имеются полномочия Королевы, и как ни верти, существует этот закон о гражданском аресте, нет? Завтра лично переговорю с сентениром, изложу свою позицию. Затем мы втроем организуем «посси комитатус»[33]; загоним свинью. Да, стало быть. Спокойной ночи, господа. Явка завтра в полдень. Прихватите бутерброды.
Сэм в ужасе уставился на него: Природа не оборудовала Сэма для членства в милицейских формированиях.
Я тоже уставился на Джорджа в ужасе: на холодную утку мне сегодня рассчитывать явно не стоит.
Вошла Виолетта — она вновь была в обильных слезах.
— Все это и впрямь довольно-таки ужас, — сказала она. — Бедненькая девочка. Он творил с ней крайне причудливые вещи помимо, ну, сами знаете, и она перепугана до смерти. Должно быть, он какой-то маньяк, на нем была маска, и одежда у него странно пахла, и еще, ах да, на пузике у него нарисован меч.
Джордж заворчал и слегка выругался; брови Сэма подпрыгнули вверх, а я пустился в неистовые размышления.
— Проклятый мерзавец, — сказал Джордж.
— Как изумительно необычайно, — сказал Сэм.
— Какого рода маска? — спросил я.
Остальные посмотрели на меня с легким упреком в глазах — так, словно я упомянул при детях патронажную сестру.
— Ей кажется — из тех, что продаются в лавках розыгрышей, резиновая, вроде Дракулы или Зверя с 5000 фатомов[34].
— Вот-вот, — сказал я. — Зверь.
— Ага! — изрек Сэм. — По-моему, я допетрил. Но меч — это что-то новенькое, не так ли?
— Да, но, мне кажется, уместно.
— Это почему?
— Пока не очень уверен, расскажу в следующий раз.
— Не будет ли кто-нибудь из вас любезен сообщить мне, — прорычал Джордж, — какого х… — Он умолк и взял себя в руки. — Прошу прощения, — заговорил он вновь. — По-моему, я не вполне слежу за ходом вашей мысли, господа.
— Джерсийский Зверь, — пояснил Сэм. — Ну, знаете, тот малый, что десяток лет терроризировал Остров. Забирался к детишкам в спальни, утаскивал их через окно и творил с ними всякие странности в полях — очень мерзкие далеко не всегда, — а потом укладывал их обратно в постельки. Полиция считает, что подобных нападений было свыше сотни, но, естественно, о большинстве не сообщали — по причинам, которые вы, я думаю, э-э, оцените по достоинству. Он носил резиновую маску, многие жертвы припоминали странный запах, а одежда у него была весьма причудливая, вся утыкана гвоздями. Незадолго до того, как вы сюда переехали, поймали субъекта по фамилии Пэйснел, и он сейчас отбывает тридцать лет, заслуженно или же нет[35].
— Не хотелось бы мне оказаться на его месте, — вмешался я. — Уголовники до безумия сентиментальны, и с насильниками детей творят истинные зверства. Заставляют их петь альтом, если вы меня понимаете.
— Да. Осмелюсь подтвердить. У самого опыта в этой области нет. Верю вам на слово.
Гораздо дешевле обычного Сэмова «бадинажа»[36]; я сделал себе мысленную зарубку проследить, чтобы он за это пострадал. Вообще-то я малый не мстительный, но не могу же я позволить друзьям отпускать скверные остроты за мой счет, правда? Это вопрос качества жизни.
— Что интересно, — продолжал Сэм, пока я раздраженно жевал свою селезенку, — Пэйснел все время твердил, будто «все это к чему-то относится», но не желал говорить, к чему именно, а когда его арестовали, утверждал, что должен встретиться с «некими людьми», но не признавался, с кем.
— Совершенно очевидно, — сказал Джордж. — Голодранец был ведьмой или колдуном. Теперь я припоминаю. Водопроводчик мне рассказывал, когда заявился пьяный после Рождества. Похоже, это делал вовсе не тот Пэйснел, все местные знают, кто это был, включая почти всю Почетную Полицию… Или он сказал, что Пэйснел был одним из многих?
— Еще раз тот напев, — пробормотал Сэм. — Он словно замер…[37]
— Вполне. А у Пэйснела имелась тайная комнатка, нет? — с глиняной лягушкой или жабой, и это, в свою очередь, тоже «к чему-то относилось». А в машине, в которой его замели, висело папистское распятие с Вербного воскресенья, и, говорят, он орал благим матом, когда его попросили к распятию прикоснуться.
— Околесица? — подсказал я.
— Не обязательно. Слишком много чудного повидал, чтобы эдак легко от, э, чудного отмахиваться.
— В Индии не иначе?
Он с подозрением зыркнул на меня.
— Да. — Лаконично. — Там, и не только. Что ж, не смею вас больше задерживать, ребята. Спасибо за помощь, большое.
Голод грыз меня, пока я ехал домой. В холодильнике ничего приветливого не нашлось — уж конечно, там не было половины холодной утки, но мне случилось знать, где Джок хранит свои «привилегии», и я мстительно поглотил целую банку икры (настоящей «Гросрибрест»; Джок крадет только лучшее, белужью и осетровую презирает) на горячем тосте, после чего оставил кухню в оглушительном беспорядке. Намеренно.
Наверху Иоанна, похоже, спала, и я благодарно проскользнул в постель, аки тать в нощи.
— Попался! — торжествующе возопила она.
— Помилосердуй, иначе я запою альтом.
— Ты где был, мой непослушный жеребчик?
Я изложил ей всю историю, и она выслушала увлеченно.
— Давай поиграем в насильников, — сказала она, когда я закончил.
— Ни в какие, черт бы их побрал, окна я не полезу.
— Эту сцену я позволю тебе пропустить.
— Но у меня нет резиновой маски.
— Сымпровизируй.
— Ну я не знаю.
— Я притворюсь, будто сплю, а ты прокрадешься в комнату и напрыгнешь на меня, затем навяжешь мне свою злобную волю, а я буду вопить как резаная, но очень тихо, чтобы не разбудить нашего славного домохозяина.
— Чур не царапаться.
— Очень нежно.
Значительно позже я украдкой выполз на кухню сделать себе бутерброд с вареньем. Там сидел Джок — мрачно жевал тушеную фасоль. В нем просматривались все признаки слуги, продувшегося в домино. Он со мною не заговорил. Я же, со своей стороны, пребывал в задумчивости.
3
Кто подарил тебе, кто тебе продал
Эту молву обо мне?
Весть донесли тебе в буйстве природы
Или в морском буруне?
Ветры украдкой ее нашептали в горней ночной тишине?
«Герта»У нас с Иоанной нет общей спальни, тем паче — кровати. Спать в одной постели с представителем противоположного пола — обычай варварский, негигиеничный, неэстетичный и в наши благословенные дни электрических одеял довольно-таки никчемный. Кроме того, бодрствование в оной передается партнеру и, что хуже всего, приводит к чувственному непотребству по утрам, а это ужасно вредно для сердца и вынуждает потреблять чересчур обильные завтраки. Когда я найду себе женщину, с коей мне захочется провести всю ночь — включая то есть и сон — в одной постели, я буду знать, что влюблен. Или же сенилен. К тому времени, вероятно, — и то и другое.
Стало быть, я находился у себя в гардеробной, когда Джок во вторник после Пасхи меня пробудил. Его «доброе утро» не звучало неприветливее обычного: в нем, быть может, мне почудилась надежда на то, что он объявил перемирие. Тем не менее, утренний чай я испробовал с опаской, ибо острейшее оружие в Джоковом арсенале — готовить чай на воде, не вполне вскипевшей; страшная месть, но, опять-таки, Джок любит насилие, отчего и состоит у меня в найме.
Чай был хорош. Джок избрал «ассамский ФБОП»[38] из «ателье» Джексона и заварил его в своей искуснейшей манере. Я одарил честного малого лучезарной улыбкой:
— Джок, сегодня мне предстоит быть участником милиции. Покорнейше прошу разложить мне костюм «Ливайс», приготовить десятигаллонную шляпу, сапоги с высоким каблуком, винтовку «винчестер-73» и крепкого выносливого коня.
— У нас ничё этого нету, мистер Чарли.
— Тогда брюки-гольф, прочные ботинки и дубинку побольше.
— Ну. Я иду?
— На данной стадии — нет, но попрошу не отходить от телефона, пока я не позвоню.
— Ну. Вы ж знаете, что вы его не поймаете, да?
Рот мой разверзся.
— Кого не поймаем?
— Дурынду, что отшворил миссис Брейкспир, сам-собой. Глупенький мудозвон, надо было только волшебное слово сказать, а он?..
— Следи за своим языком. Мистер Брейкспир — мой друг.
— Звините, мистер Чарли. Да только все…
— Закрой рот. А как ты вообще прознал об этом… э, инциденте?
— Девчонка, что привозит газеты.
— Но газеты поступают к нам из Грувилля и оказываются здесь еще до восьми. Как весть могла так разлететься за ночь?
— Джерси, — загадочно ответил Джок.
— А. Разумеется. А что за блажь с «не поймаете»?
— Ну так а здравый смысл, мистер Чарли? Одно дело — где вы станете искать?
— Признаюсь, я и себе задавал этот вопрос. А другое?
— Они грят, не поймаете. Джерсы. Они-то знают.
— Гм, да, это и впрямь другое дело.
— Ну.
В полдень, облаченный в плотный ирландский колючкоотталкивающий твид и помахивая ясеневой тростью, я взгромыхал огромными ботинками в гостиную «Ле Шерш-фюит». Джордж щеголял во фланелях и белой сорочке, на Сэме были шорты-бермуды и шелковая рубашка из Палм-Бича. Оба с изумлением воззрились на меня.
— У нас всего лишь совещание, — мягко проинформировал Джордж.
— О. Понимаю.
— Много ли загонщиков с собой привели? — поинтересовался Сэм.
— Нет.
— Тогда, быть может, заряжающего?
Мой рипост был стремителен, как сам свет.
— Примерно в это время суток я обычно выпиваю стакан бутылочного пива, — ответил я и удалился в кухню за оным.
Возвратившись в гостиную, я приметил крупного, плохо сложенного мужчину в синем костюме: человек этот ерзал на краешке жесткого стула. Голова его была на несколько размеров меньше, чем полагается для такого крупного корпуса, но руки компенсировали несоответствие: походили они на лопаты. Оказалось, что передо мной — сентенир, некий Гиацинт ле Миньон, и руку он мне пожал с огромной нежностью, как человек, опасающийся все поломать. Изъяснялся он тем меланхоличным, долгим и уходящим в утробу ревом, коим так любил восторгаться Мэтью Арнолд[39].
Совещание едва началось — до сего момента успели обменяться только любезностями и прочим. Излагать начал сентенир.
— В общем, мистер Брейкспир, — взревел он, — я покуда не отыскал такого, что можно считать положительной наводкой. У нас тут в Приходе всего два известных половых бандита, что заслуживают этого названия, и ни один, судя по всему, нам не подходит. У одного мозги-то и впрямь больные, э? — да только «модус операнди» совсем не тот, что ваша супруга изложила. Йо главным образом интересуют сиденья на девочкиных велосипедах, а это, как мы прикидываем, безвредное хобби для стареющего холостяка, хоть мы за ним и присматриваем, э? Правда, он как-то раз заманил девчоночку на поле нарциссов, да только начал из себя выходить, она возьми и двинь пальцем ему в глаз, побежала и все папаше съему рассказала, а тот по случаю — вёнтаньер, и старика отметелил прегадко. Думаю, больше пробовать не станет, э?
Материал он излагал завораживающий, и я пожалел, что не романист.
— Второй — парниша лет пятнадцати. Йо господь наделил необычайно крупным членом, и он время от времени поддается соблазну йо показывать уважаемым дамам, э? Из дам никто пока не жаловался, но мальчонка всякий раз приходит ко мне, во всем признаётся и пытается помахать им передо мной — говорит, так я лучше пойму.
— И вы смотрите? — поинтересовался я с непроницаемым лицом.
— Бож-мо, нет. Я ему велю сходить показать это Корпорации хирургов и даю поджопника, э? Да и все равно мы получше видали, — прибавил сентенир с красноречивой скромностью. — Есть и еще возможность, — продолжал он, — ой, спасибо, да только не стоит, жена мне задаст жару, если унюхает… Единственная наша другая возможность — некое лицо или же лица, которые весной и в начале лета упорствуют в похищении дамского исподнего, вывешенного на просушку. Но и это не похоже на отчаянного бедолагу, который станет лазить в окна и силой брать крепких юных дамочек, ведь правда? Это больше на руку какому-нибудь отшельнику с его, как мы тут говорим, Грешком. Больше того, умыкает он всегда здоровенные такие ношеные панталоны, э? — из тех, что зовутся у нас «орудийными чехлами», а вовсе не хорошенькие штучки в кружавчик, которые наверняка носит ваша дама.
Он погрузился в задумчивое молчание, полуприкрыв глаза.
— Дальше, уважаемый! — рявкнул Джордж.
— Так вот, мы и прикидываем, что он маловероятно из нашего Прихода — но откуда он тогда? Рядом с нами только Троица, и у них нет никого, на наших похожего. — В голосе его звучала простительная гордость. — Водится у них пара-тройка пинчей, как повсюду, есть парочка прошмандовок — Грязнуля Герти, Уценка Элис да прочие, но они Сент-Хелиера держатся, ведь там у нас все деньги, э? Да, и еще имеется один старый козел, звонит дамам и давай нудить, что бы он над ними такого насовершал, только мы все знаем, кто это, у нас йо все любят, он безвредный, жену свою как огня боится. Вот и всё.
— А в Сент-Джоне? — твердо поинтересовался Джордж.
— Тут уж я не знаю. Там сплошь дикари все, да только о таком я все равно не слыхал. Ну, конечно, Дед Пукелэйе, но это просто мерзость. С телятами этим занимается.
Мы помолчали — оглушенные откровениями о том, как живет Другая Половина. Я чувствовал, что жизнь обделила меня.
— Разговаривали с Платной Полицией? — спросил Джордж.
— Ну еще б, сэр. Они сказали, что всегда рады послушать о том, что у нас в деревне творится, но не понимают, чем нам помочь. Если, конечно, мы с моими вёнтаньерами не дадим им, с чем поработать.
— Вроде?
— Ну, вроде отпечатков, сэр. Пойдут любые четкие — и они, говорят, сразу приедут и сделают отливки.
— Боюсь, ничего не выйдет. Я уже смотрел. Тяжеловато приземлился, преследуя мерзавца, и, должно быть, стер все его следы под окном. А потом он, похоже, держался гравия. Вообще никаких признаков.
— Уверены, сэр?
— Помогал учреждать Разведывательный корпус в 42-м.
— А. Я примерно в то же время помогал учреждать джерсийское Сопротивление.
И они обменялись острыми солдатскими взглядами — такими крепкие мужчины обмениваются в трудах Р. Киплинга.
— Тогда, сказали они, отпечатки пальцев или другие ниточки.
— Тут тоже не повезло. Горничная моей жены тщательно убралась в комнате, когда мы еще не проснулись. Услужливая сучка. Обычно ее пепельницу вычистить не заставишь.
— Неудача какая, э?
— Весьма. Но я не предполагаю, что у вас на Острове исчерпывающая картотека.
— Исчерпывающей ее назвать нельзя, это правда. Есть еще одно — пятна семени. Их, судя по всему, теперь умеют систематизировать, как кровь.
— Нет, — сказал Джордж.
— Если вы мне предоставите простыни дамы либо какую-нибудь одежду…
— Я сказал — нет.
— Быть может, врач взял образцы…
— Определенно, дьявол вас задери, НЕТ! — взревел Джордж, довольно-таки поразив всех нас.
— Да, разумеется, сэр. С этим связана определенная деликатность…
Джордж встал.
Сентенир заткнулся.
— Как, на ланч не останетесь? — произнес Джордж голосом XIX века. — Нет. Что ж, я вынужден поблагодарить вас за вашу помощь. Крайне любезно. Шляпы при вас не было? Нет. Прекрасный сегодня день, не так ли? До свидания.
Он закрыл парадную дверь — вполне мягко. Вернувшись в комнату, оглядел нас с видом, дескать, попробуйте только улыбнуться. Наконец, улыбнулся сам.
— Фраза, которая никак нейдет вам на ум, — осторожно начал я, — это «ебать эту старую крысу».
— Ебать эту старую крысу, — сказал он. — Добрая кавалерийская присказка. Кавалерия, в конце концов, сыграла немалую роль в современной жизни.
Сэм, похоже, очнулся от тяжкого забытья.
— А я бы съел старую крысу, — вымолвил он.
— В холодильнике была половинка холодной утки, — как бы извиняясь, сказал Джордж, — но, боюсь, я доел ее вчера вечером после вашего ухода. Соня не в состоянии готовить, а горничная не способна отличить «Агу»[40] от автоклава. Давайте съездим в бухту Доброй Ночи и поедим омаров.
— А Чарли туда впустят? — любезно осведомился Сэм. — То есть, он же все-таки выглядит чуточку farouche…[41]
Я задумчиво уставился на него. Язык его всегда был остер, но в последнее время Сэм, судя по всему, полоскал рот кислотой.
— Я схожу и переоденусь, — чопорно ответствовал я. — Будьте добры мне заказать. Я буду омариху средних размеров, разделанную и жаренную в сливочном масле, коего побольше, три картофельных крокета и салат из сердцевин двух кочанов латука. Салат я заправлю сам.
— Вино? — уточнил Сэм.
— Благодарю вас, как любезно. Выпью то, что предложите. Вы знамениты своим суждением в подобных делах.
За ланчем мы пришли к заключению, что сделать и впрямь можно немного, пока мы не соберем больше информации. Джордж учредил боевой фонд в размере £ 100: десять взяток по £ 5, соваемых садовникам и другим продажным работникам, которые могут держать ухо востро, и пять вознаграждений по £ 10 тем из них, кто принесет ощутимые данные. Награды крупнее, проницательно рассудил Джордж, скорее распалят воображение, нежели предоставят конкретные сведения.
Расстались мы в три; я, со своей стороны, — в том состоянии предполагаемой эвпепсии[42], в кое ввести способны лишь жареный омар и бутылка «Гевюрцтраминера», дополненные тем фактом, что Сэм, верный своему слову, действительно уплатил за вино.
Я поехал в Сент-Хелиер и библиотеку Музея «Сосьете Жерзэз»[43]. Говорят, заведение это частное, но я пробормотал на ушко имя многоученого Ректора, и во мгновение ока под ногами моими расцвели красные ковры.
Материал, мною искомый, распределен был широко и к отысканию труден, ибо я особенно не хотел прибегать к помощи библиотекаря, а когда я все же нашел материал, оказалось, что написан он большей частью на «патуа Жерзэ», а остальное — на древнем норманно-французском. Один пример на «патуа», я думаю, сообщит вам представление об ужасах этого языка: «S’lou iou que l’vent est quand l’soleit s’couoche la sethee d’la S. Miche, che s’la qu’nous etha l’vent pour l’hive». Означать сие должно, что направление ветра на закате Михайлова дня означает, каким будет господствующий ветер всю следующую зиму. Должен заметить, это весьма правдоподобно.
Я вывалился на вечернее солнышко к чудовищному строю туристов, и голова моя звенела от заумной информации. Ясно, что подобные научные изыскания — не для Маккабрея: тут потребен специалист. Вместе с тем, я теперь знал о Пэйснеле кое-что такое, чего не знала полиция. Например: и он, и его фарфоровая жаба действительно «к чему-то относились» — к тому, что должно было отмереть три сотни лет назад, почти столь же гадкому, как те, кто его выкорчевывал — или полагал, будто корчует.
Когда я прибыл на квартиру, Иоанны дома не было: играла в бридж, а сей ее порок не весьма энергозатратен для меня, благослови ее боженька. При стечении объявится дома очень поздно, и на проказы сил уже не будет.
Я написал в «Хэтчардз»[44] и попросил прислать мне экземпляр «Маллеус Малефикарум»[45], этого великого компендиума средневековых ужасов, — и особо, со множеством подчеркиваний, умолял их перед отправкой удостовериться, что книга эта — на английском.
Мы с Джоком — снова в дружественных отношениях — отужинали в кухне свиными отбивными, жареным горохом и картофельным пюре, заполировав трапезу «крок-мсье»[46] на случай приступа ночного недоедания.
Затем, споспешествуя пищеварению бутылкой лучшего и ярчайшего от «Г-на Учителя», мы насладились Богартом и Бергман в «Касабланке» — этой безупречной жемчужине кино. В доме не осталось ни одного сухого глаза. Если бы не существовало телевидения, кому-нибудь следовало бы его изобрести, я вам так скажу.
Я уже провалился в свинскую дремоту, когда в постель ко мне пробралась Иоанна — она вся лучилась, как женщина, только что выигравшая более восьмидесяти фунтов у близкой подруги. Каждый месяц она тратит по меньшей мере сопоставимую сумму на шампанское к завтраку, но наслаждение ее сейчас было интенсивно, и она попыталась поделиться им со мною своим особым способом.
— Нет, прошу тебя, — возмутился я. — Уже очень поздно, а я страдаю от Застольных Излишеств.
— Ну хотя бы расскажи мне, что сегодня случилось, — надула губки она. — Ты поймал Зверя в Человеческом Облике?
— Мы не искали. Мы решили, что пока лучшее для нас — навострить уши и надеяться на сплетни. Но мы познакомились с очень милым сентениром, который рассказал нам все о местных сексуальных маньяках.
Округлив глаза блюдцами, она слушала, как я излагаю ей все, что мог припомнить о соседских сатирах.
— А в Сент-Джоне, — завершил я, — проживает один респектабельный гражданин, который делает это с телятами. Что ты на это скажешь?
Она перекатилась на четвереньки, кокетливо вздыбив восхитительную попку.
— Му-у? — с надеждой спросила она.
— Ох, ну что ж.
4
На губах его грусть иль улыбка,
Сердце горит от страстей,
Он тешится ложью гибкой,
Ткет ее, обряжается ей,
Пожинает чужие колосья,
Что посеял — не сможет сжать,
Между снами, что до и что после,
Он еще умудряется спать.
«Аталанта в Калидоне» [47]— Джок, — сказал я Джоку, потягивая благословенную вторую чашку подлинной смеси «Эрл Грея» утром Пасхальной среды. (Полагаю, Пасхальная среда-то уж в природе имеется? Единственный подвижной праздник, который всегда со мной и хоть чем-то для меня привлекателен, — это тележка с седлом барашка в «Симпсонзе»[48].) — Джок, — сказал, стало быть, я, — хотя человек ты всего-навсего грубый и некультурный, мне выпадало наблюдать в тебе некие качества, которые я высоко ценю. В кои-то веки я имею в виду не твой посланный небом дар обращения с заварником и сковородой, но иной, более редкий талант.
Джок слегка повел головой, дабы стеклянный глаз мог посмотреть на меня уклончиво.
— В данный случай я имею в виду твою врожденную способность завязывать беседы, вечные дружбы и потасовки с разной публикой в пабах.
— Хнх. Вы ж сами мне последний раз такое устроили после свалки, нет?
— М-да, но это — исключительно потому, что ты прикончил малого, не так ли, а я раз за разом тебе твержу этого не делать, к тому же ты знаешь, как скверно это влияет на мое пищеварение, а мне пришлось говорить враки полиции, дескать, ты весь вечер сидел дома со мной и смотрел Мольера по телевидению, но они все равно ни единому слову не поверили, не правда ли?
Джок оделил меня сочнейшей своей улыбкой — той, что по-прежнему пугает даже меня, — когда у него обнажается один длинный желтый клык, свивший себе гнездышко на нижней, ливерного цвета, губе.
— Как бы там ни было, — продолжал я, — этот твой дар, иначе навык, ныне будет с пользою применен. Вот тебе десять фунтов — прекраснее Бейлиф Джерси[49] и напечатать бы не мог. Тебе надлежит уплатить их за пиво, сидр, ром или что там еще способно удовлетворить среднего мерзопакостного джерсийца. Не угощай никого, кроме чистокровных. Известно только им.
— Чё известно, мистер Чарли?
— Известно, кто где был в Пасхальный понедельник. Известно, какой малый способен карабкаться по опасной глицинии, дабы утолить свою беззаконную похоть; известно, кто до сих пор участвует в крайне старомодных и весьма неприличных кутежах, — а также известно, быть может, у кого на… э-э, каминной полке хранится фарфоровая жаба.
Джок минуту-другую поразмышлял — или, по крайней мере, похмурил лоб и пожевал губу: он видел, что так поступают другие люди, когда они думают.
— Не могу я такое джерсов спрашивать. Они ж захлопнутся сразу, что твои раковины.
— А ты не спрашивай. Ты им рассказывай. Излагай, что по-твоему все это значит. Неси белиберду да знай наполняй им кружки. А потом наблюдай: смотри, кто улыбнется. И слушай: кто назовет тебя идиотом. Но не бей его — лепи простофилю, пусть потешаются над бестолочью. Кто-нибудь в капкан и свалится.
— То есть — Леса Келлетта[50] лепить?
— Именно.
(Лес Келлетт — борец первостатейный, а кроме того — изумительный клоун: выглядит так, будто он спотыкается по рингу в счастливом забытьи, но спотыкание это обычно имеет место, едва противник наскакивает на него, чтобы нанести «ку-де-грас»[51]. Обычно он озадачен и сокрушен, когда противник улетает за канаты и приземляется на кумпол. Иногда он помогает малому вернуться на ринг, отряхивает его, после чего осуществляет жуткий бросок за предплечье на обе лопатки, кой и приносит ему победу. Иногда, к тому же, он по рассеянности хватает рефери и колотит противника им. Он очень храбр, силен и забавен.)
Я еще немного поинструктировал Джока из глубин собственного невежества, после чего с добрыми напутствиями отослал в общем направлении дверей таверны.
Вскоре до меня донесся рокот заводимого огромного мотоцикла, затем — бормотанье оного по дорожке. Я говорю «бормотанье», ибо у Джока эдакая симпатичная довоенная 1000-кубовая машина «ариэль» с четырьмя цилиндрами и бруклендзскими[52] рыбьими хвостами выхлопов. Он — Джокова радость и гордость, я же его нахожу до крайности ужасающим.
В пабах уже наверняка гоношенье — на Джерси они, похоже, никогда не закрываются. (Рейсы из Хитроу часты; бронируйте сейчас, дабы избежать разочарования.) Я снова отправился на боковую, окончательно уверовав, что алкоголизация крестьянства — в руках мастера. Снова отправляться на боковую — несоизмеримо слаще, нежели отправляться на боковую впервой.
Едва, как мне показалось, я сомкнул вежды, меня возбудила Иоанна — и я употребляю сию словоформу с прецизионной точностью. Я открыл глаз.
— Ты принесла чаю? — спросил я.
— Конечно же, нет. Смешной ты, Чарли.
— В таком разе — НЕТ, и позволь тебе напомнить о судьбе тети Мэйбл и дяди Фреда, которые чувств лишились до обеда[53].
— Чарли, уже не утро, уже второй час. И ты сам прекрасно знаешь, что до обеда ты ничего не ешь.
Я бежал в душевую, но — недостаточно споро, Иоанна успела проникнуть в нее тоже. Мы разыграли исторически верную реконструкцию «Последнего рубежа Кастера»[54]. Впоследствии я обнаружил, что времени все равно только половина двенадцатого, — очень скверно, если собственная жена вам лжет, не находите?
Затем Иоанна отвезла нас в Гори на Востоке Острова — на ланч-сюрприз в «Швартовах», где очень хороши моллюски. Она не переставала встревоженно поглядывать на меня, словно бы опасаясь, что я могу лишиться чувств прямо за столом. По пути домой, в силу какой-то непонятной, чисто американской причины, она остановилась и купила мне огромную бутыль мультивитаминов.
Джок еще не вернулся. Мы с Иоанной посидели на лужайке, потягивая на солнышке рейнвейн с зельтерской. Днем Иоанна обычно не пьет, но я объяснил, что сегодня день рождения Оскара Уайлда — и, кто знает, может, так оно и было.
Вечером мы отправились на званый ужин на остров Олдерни — последний весьма уместно описывается как скала, за кою цепляются полторы тысячи алкоголиков. Ужин оказался восхитителен, однако полет восвояси в крохотном «пайпере» Сэма был ужасен: от пилота пахло выпивкой.
Когда мы вернулись, Джок сидел в кухне. По его собственным меркам, он был вовсе не пьян, но некоторая одеревенелость лица и походки выдавала, что его джерсийские кореша пропили десять фунтов не без помощи.
Иоанна, которую «отпустили с игр», как мы выражались в Роудине[55], ушла спать.
— Ну, Джок, есть ли новости?
— Да в общем, нет, мистер Чарли, хоть я и закинул на ночь несколько удочек, можно сказать. Только вот скока-то времени зря потратил на одного кренделя, а тот оказался с Хернси. Ну так а я ж не знал, а?
— Я полагаю, те носят другие свитера.
— А я вам чё, модистка?
— Нет, Джок. Продолжай.
— Ну вот, некоторые джерсы как бы к базару прислушались, и я прикидываю, парочка бы точно раскололась, если б не ихние кореша рядом. В общем, один завтра вечером сюда придет в домино играть: я притворился, что спер у вас бутылку скотча.
— Притворился?
— Ну. А, и еще — я там нанял одного старпера приходить и помогать в саду несколько часов в неделю, вы ж не возражаете? Тот еще тип, матерый такой по виду, я с ним познакомился в пабе «Каррефур-Селу», а губернатор там грит, старый гусь этот знает все Джерси как свои пять и ни разу в жизни в бане не мылся.
— Что за великолепный, должно быть, малый — с нетерпением жду знакомства. А что это ты ешь такое?
— Бутер с солониной.
— И побольше горчицы?
— Еще б.
— И, осмелюсь предположить, толсто нарезанными кольцами лука?
— Ну.
— А хлеб, судя по звуку, свеж и корочка его хрустка?
— Ох, ладно, ладно, вам я тоже сделаю, как дожую.
— Как превосходно ты читаешь мои мысли! — восхитился я.
— Мистер Чарли?
— Да, Джок?
— А чё такое хряпо́к?
— Понятия не имею. А что?
— Ну этот хернс мне сказал, что кореша на Джерси так всегда друг другу грят, и настропалил меня это сказать одному, а джерс в ответ попробовал меня стукнуть.
— Попробовал? Джок, ты подрался?
— Не-а. Я его за кулак поймал и как бы сжал легонько, пока он не сказал, что ошибочка вышла, а хозяин ему грит, что я ничё плохого не хотел, а потом я спросил, чё это значит, и они опять на меня вызверились, поэтому я не стал на рожон лезть и взял всем еще по стакану, и никто не обиделся, только вот хернсу, по-моему, по жопе надавали, когда наружу вывели. Странно, что вы не знаете, чё такое хряпок, — я слыхал, вы так славно по-францусски грите.
— Крапо! — вскричал я.
— Ну, я ж и говорю — хряпок.
— Это французское слово. Значит «жаба».
— Жаба, значит, э?
— Да. И ты утверждаешь, что джерсийцам оно не понравилось?
— Да они чуть не лопнули. По их выходит, это дьявольская дерзость.
— И «дьявольская», быть может, — гораздо лучшее слово, нежели ты думаешь.
— Э?
— Ничего, Джок. Ну и где этот бутерброд?
— Уже едет. А, и вот еще чего, чуть не забыл. Когда я начал трындеть про этого насильника с мечом на животе, кое-кто из них как бы локтем друг друга — тык, а старый хрен, который к нам в садик придет, тоже как бы хмыкнул. Я уточнять не стал, все равно бы не сказали. Своя какая-то шуточка, я так прикидываю. А может, и неприличное чего.
— Возможно, и то, и другое. Сдается мне, я слышу в отдаленье бряцание фаллических цимбал.
— Э?
— Да-да. А, вот и бутерброд. Как вкусно. Я заберу его с собой в постель. Спокойной ночи, Джок.
— Спок-ночи, мистер Чарли.
Я уверен, что намеревался зайти и пожелать спокойной ночи Иоанне, ибо отдаю себе отчет, как много эти маленькие любезности значат для хрупкого пола, но, осмелюсь доложить вам, я забыл. Даже мужчины не идеальны.
5
Для всех силен и дик,
И тайной многолик,
И зверю ведом он, и птицы бьют крылами.
В слепой ночи он — свет,
Он дышит — вянет смерть,
Десницей крепкой правит он морями.
И мы ему, творцу, поем псалмы —
Вот только что ему все мы?
«Виктору Гюго»На следующий день ничего особенного не случилось, вот только утром нам с печенью, похоже никак не удавалось найти общий язык. Я пил «Молочко Магнезии», «Алку-Зельцер» и «Фруктовые Соли Ино» — в таком порядке, — пока желудок мой не превратился в обычный грот ветров и вод; но тщетно.
— Вам нужно выпить, мистер Чарли, — с грубым состраданием сказал Джок.
— Ты и впрямь считаешь, что поможет?
— Еще, еть, как.
Я выпил разок — только чтобы Джоку было приятно, — и знаете, он оказался совершенно прав. Он, изволите ли видеть, понимает.
Да и в газетах в тот день ничего особенного не происходило, вот только некие арабы поубивали неких евреев, некие евреи ответили неким арабам тем же, некие индийцы усовершенствовали атомную бомбу, чтобы сбросить ее на неких пакистанцев, а самые разнообразные ирландцы неприятным манером убивали друг друга. Следует все же, знаете ли, отдать Господу Богу должное: выдержки Ему не занимать. Иегова против Магомета, Брахма против Аллаха, католики против протестантов — с религией никогда не соскучишься, не правда ли. Если бы Бога не существовало, профессиональным военным следовало бы Его придумать, верно?
А на Джерси ничего даже отдаленно столь же воинственного не приключилось, вот только некая старушка застала соседа за покражей картошки, кою тот непредумышленно посадил некогда на земле, с тех пор присужденной означенной старушке, посему она подняла древний «кламёр де харо», что восходит еще к Ролло, первому норманскому властителю острова[56]. Чтобы поднять «кламёр», сделать-то нужно всего ничего: найти свидетеля-другого, пасть на колени и заорать: «Haro! Haro! Haro! À l'aide, mon Prince! On me fait tort!»[57] По произнесении чего нарушитель обязан прекратить нарушать то, что он там нарушает, и вся ситуация как бы замораживается до решения высшей инстанцией. Чтобы поднимать «кламёр», следует довольно-таки верить в себя: на Джерси к такому относятся очень серьезно, и даже будь вы технически правы, может статься, на вас «наложат пеню» — довольно круглую сумму, — в том случае, если окажется, что вы тратите время суда на сведение личных счетов или какую-нибудь пустяковину. Или если ваша заявка не соответствует условиям должного «вопля».
«Шез[58] Маккабрея» тоже ничего не произошло — только появился новый садовник. Имя его, может статься, звучало примерно как «Анри Ле Пьетон Гастино», однако свойственные ему «трели лесные»[59] были замараны полным отсутствием зубов, и даже когда он вынул оные из кармана и потер о седалище своих штанов, прежде чем сунуть в рот, подлинного сродства душ с ним достичь было трудно. Тем не менее, удалось мне установить следующее: за труды ему хотелось «катлуиз ле сетёр»[60], что мой бритвенно-острый ум моментально конвертировал в 57 пенсов в час: честный тариф, если старик будет к трудам способен. Он оказался не просто способен, но положительной динамо-машиной. «Молния», наш ручной слизень, попробовал изображать главного садовника и помыкать новеньким, но ничего не добился; после чего разыграл последнюю карту и подал заявление об уходе — кое, к вящей его досаде, мы приняли.
Ничего не было внове, если не считать того, что настало Первое Мая: в моем детском садике дата эта значилась как День Щипков за Попу, а нынче известна как День Труда, когда хорошо оплачиваемые дородные бюрократы Профессиональных Союзов убеждают плохо оплачиваемых тощих взносоплательщиков маршировать по улицам, провозглашая «ура» по единственной превосходной причине: просто так. Последние носят изумительно сотканные транспаранты — любой такой мог бы обеспечить купонами жену голодающего докера на неделю. Но я отвлекся.
И лично со мной ничего не сталось, за исключением странного происшествия в «Стрелково-ружейном клубе», который я неизменно посещаю в первый четверг месяца.
Я решил немного проветрить свой старый прекрасный «смит-и-вессон».455 — «военно-полицейскую модель» 1902 года. Члены клуба подвергли меня за него обычным насмешкам: большинство обладает до изумления малокалиберным стрелковым оружием с заказными рукоятками и сменными прицелами, но всем хорошо известно, что на стандартном олимпийском стрельбище внезапно появляющуюся цель размером с человека от меня может, как и встарь, сильно затошнить. Хотя, если судить по моим словам, и не должно. «Смит-и-вессон» этот с полным боекомплектом весит 2[3] /4 фунта, а ствол у него — 6 дюймов в длину; при использовании военных боеприпасов большой мощности с никелевым покрытием он способен делать дырки в кирпичных стенах, а также производить оглушительный и крайне приятный грохот. Такой «с. — и-в.» должен быть у всякого, кто страдает комплексом неполноценности органа. (К примеру, скажем, Бах?)
И вот приятный сержант полиции дежурно по его поводу изволил пошутить: дескать, если бы я приобрел пару колес, то запросто мог бы претендовать на офицерский чин в Королевской артиллерии, — а затем и произошло то странное происшествие. Он спросил, специально ли мне для него льют пули.
— Да, один славный малый в Лондоне, — ответил я.
— Свинец? — поинтересовался он. Я удивился:
— Конечно, свинец, что ж еще?
— Да нет, ничего, просто спрашиваю. У нас тут на Острове есть один, так он их льет из чего попало, если надо.
— Что ж, спасибо, — сказал я, по-прежнему в удивлении.
Вот какое странное происшествие.
Больше я ему значения не придавал. Все мои помыслы были устремлены к тому, что обычно занимает их Первого Мая: неотъемлемое надувательство всех английских месяцев, и мая — в особенности. Ну с какой стати мы позволяем поэтам и, вне всякого сомнения, политикам впаривать нам эту хренотень про месяцы? А именно: май вызывает у нас виденье счастливых и загорелых дев, днем гарцующих по деревенской площади, а ввечеру удаляющихся в ближайшую живую изгородь, дабы обратиться в счастливых и загорелых будущих мамаш; истина же в том, что бледная и прыщавая деревенская девица сегодняшнего дня трясет тяжеловесными бедрами своими на дискотеке в ближайшем городке и жует противозачаточную таблетку, пока снаружи льет как из ведра, и шипит «Бэйбишам» в своем стакане[61]. Любой, кто бросает вызов живой изгороди в английском мае месяце — даже обрядившись с ног до головы в водоотталкивающий комплект, — заигрывает как с пневмонией, так и с отравлением инсектицидами. Вероятно, единственный до конца надежный месяц — это январь, когда неизменно холодно в соответствии с обещаниями, к тому же иногда слышен звон коньков по замерзшему каровому озеру, а если повезет — и визг утопающего конькобежца.
Когда я говорю, что в тот день ничего не случилось, я отнюдь не имею в виду, будто ничего не случилось в тот вечер. Напротив, случилось многое.
Иоанна с любовью наблюдала, как я огромной корочкой наихрустящего хлеба промакиваю с тарелки подливку прекраснейшего в моей жизни «кокована»[62] («кока-о-ван»?), когда зазвонил телефон.
— Скажи им, что меня нет, — рявкнул я. — Или что я умер, я обанкротился, мне все равно. Но отвечать этому аппарату я не стану, вели Почтовому Отделению утром его забрать, без него нам будет гораздо лучше.
— Это вас, мистер Чарли, — сообщил Джок мгновением позже.
— Послушай, ты неспособен… — начал я, но тут заметил на Джоковом лице выражение. И направился к телефону, утирая губы. На линии был Сэм. Такого Сэма я никогда не слышал.
— Давайте сюда, Чарли, быстро. Виолетта.
— Вы хотите сказать?..
— Да. Скорее давайте.
Я дал. Точнее, велел дать туда на мотоцикле Джоку, утвердив его плебейского друга (может статься, довольного прогулом урока по домино) на заднем сиденье; сам же я погрузил Иоанну в «мини». Я знал, что ей насильники, вероятно, не угрожают (им редко хватает стойкости нанести два удара в один вечер), но известно мне было и то, что все женщины обожают утешать своих более хрупких сестер в минуту несчастья.
В «Ля Гулютери» Сэм находился во дворе — давал распоряжения Джоку и его доминошному приятелю самым мерзким голосом, какой я только слыхал. Отослав их, он повернулся ко мне:
— Чарли, отправьте Иоанну к Виолетте; врач и полиция уже в пути. Джок патрулирует на мотоцикле дорогу до бухты Прекрасной Звезды и обратно с заездом в «Громобой»; его друг прочесывает поля — не пристрелите его ненароком. Вы отвезете меня в Сион, и я начну оттуда. Затем гоните что есть духу к церкви Сент-Джона и медленно возвращайтесь, не зажигая огней. Вооружены?
— Естественно.
— Тогда хватайте всех, кто в штанах; если не способны удовлетворительно объясниться, запихивайте в машину. Уплачу любые штрафы за противоправный арест. Вам все понятно? Тогда вперед.
— А что делает Джордж?
— Ничего. Их нет.
С тем он открыл оружейный стеллаж и собрал свой красивый дробовик «черчилль XXV» с такой свирепостью, что я невольно поморщился. Мы помчались. И никого не увидели. Выгрузив Сэма в Сионе, я быстро поехал в Сент-Джон, а оттуда пополз обратно, то и дело останавливаясь и прислушиваясь. Одна группа пьянчуг злобно спорила о футболе. Одна могучая тетка ехала автостопом от Вигана: она никого не видела. Один зловещий малый — вылитый насильник, на мой взгляд, вот только он уже был с местной девой; а мерзкий взгляд, которым та меня оделила, недвусмысленно говорил, что она вообще-то надеется утратить свой девический статус, даже если придется бросать при этом вызов живой изгороди, я же процедуру только задерживаю. Хахаль ее утверждал, что десятью минутами раньше слышал, как в сторону «рут милитэр»[63] очень быстро проехал очень большой мотоцикл, затем остановился. Через несколько минут завелся снова и уже гораздо медленнее направился к северу. Это явно Джок — парень, несмотря на свою наглую внешность, оказался отличным свидетелем. Его беспокойная жертва дергала его за рукав, твердя:
— Ай, ладно тебе, Норман, нас это не касается, — и так далее, поэтому я привлек его интерес, вынув свой толстенький «банкирский особый» и крутнув барабан, словно проверяя боекомплект. Действия мои его заворожили — перед ним будто бы ожил Дикий Запад.
— Так вы, значть, полиция, а?
Я густо хмыкнул:
— Нет-нет, немножко важнее. — Голос мой при этом он запросто мог принять за голос Тайной Службы. — А вы видели или слышали кого-нибудь еще — быть может, пешком?
— Нет.
— Иначе бы заметили, что скажете?
— Еще б. Я ж тут ушки на макушке держу, вдруг девушкин папаня объявится.
— Да, разумеется. Вполне. Что ж, благодарю за помощь.
Я почти уже сел в машину, как вдруг парень чирикнул, подзывая меня снова. Я вернулся.
— Смешно, что вы спросили, мистер. Тут на поле с картошкой какой-то хрен валандается, только что через забор перелез. Я его не вижу, но слышу.
— Ой, Норман, это нас не касается… — И так далее.
— Заткни хлебало, корова глупая. — (Как изменился кадреж в сравнении с нашими временами, не правда ли?)
Мы с Норманом тихонько пробрались на поле, и точно — хрен действительно ходил на цыпочках по картошке. Едва место и время приспели, я сшиб его с ног, а Норман обрушился сверху. Добыча взвизгнула, грязно выматерилась и принялась пинаться и царапаться. Едва мы его подавили, выяснилось, что это доминошный ученик Джока, весьма раздосадованный; в конечном итоге — на сумму в пять фунтов. Норману я тоже дал конфетку, и он с готовностью сообщил имя и адрес на случай, если мне еще понадобятся подвиги на ратном поприще.
Мы с доминошником прибыли в «Ля Гулютери» единовременно с «ровером» Джорджа, в котором сидели Джордж и Сэм, подобранный на «рут милитэр». Джока поднесло на его «ариэле», не успели мы войти в дом. Докладывать было нечего — ни одному из нас.
Кроме врача. Ему все это ни в едином пункте не понравилось: он лечил строго свинку да корь, и теперь его маска профессиональной уверенности быстро сползала. Вердикт его предназначался большей частью лишь для Сэмовых ушей, но мы, все остальные, не могли не видеть, как лицо Сэма кривится и мрачнеет. Профессиональное бормотанье не заканчивалось, Сэм скрежетал зубами. Джордж бесстрастно смотрел в пространство, я ерзал. То была, как выражаются нынче детишки, совершенно не моя тусовка.
Ситуация представлялась настолько удручающей, что Сэм чуть не забыл предложить врачу ритуальный стаканчик темного хереса перед тем, как проводить эскулапа на следующую миссию милосердия. (Отличный он, вероятно, малый, этот врач, и гордость Гильдии аптекарей, но я ловлю себя на том, что с трудом могу доверять медикам, щеголяющим огромными негигиеничными усами. «Пусть согрешивший попадется в лапы Терапевту»[64], как я всегда говорю.)
Иоанна спустилась с видом обеспокоенным: Виолетта наконец поддалась массивной дозе успокоительного, кою врач влил в нее (возможно ли поверить — 15 миллилитров паральдегида?), но состояние ее оставалось довольно жалким. Мы устроили совещание, и события до сего момента выяснились следующие.
Нападающий, очевидно, проник в дом через окно кладовки. Виолетта находилась у себя в спальне — снимала макияж перед душем. На ней были только практичные шерстяные панталоны, кои девушки, подобные Виолетте, обычно и носят. Вдруг в зеркале ее туалетного столика возник отвратительный силуэт — лишь на секунду, ибо свет тотчас погас.
Сэм сидел у себя в кабинете, сплошь заставленном книгами — даже двери, отчего помещение практически идеально звукоизолировано; но, как бы то ни было, Иоанна предполагает, что Виолетта вряд ли кричала — бедняжку, должно быть, парализовало ужасом.
Насильник был, говоря мягко, груб и атаковал Виолетту и так, и эдак. Маркиз де Сад мог бы с пользой брать у него заочные уроки. Более всего, казалось, им движет даже не похоть, а ненависть. Виолетта несколько минут бессвязно лепетала Иоанне, пока не погрузилась в зажатое молчание, и связные фрагменты, припомненные Иоанной, таковы:
«Он ужасно вонял. Козлом».
«От него пахло смазкой, но мерзкой».
«На нем была кошмарная маска, она воняла резиной».
«Он меня ненавидел».
«У него на пузике нарисован меч». (В Виолеттином мире глупого Нодди[65] даже у безумных насильников «пузики», а не животы. Энид Блайтон, Энид Блайтон, сколь многим мы тебе обязаны!)
«У него на руках шипы». (Мы с Джорджем переглянулись — это прямо из дела Джерсийского Зверя.)
«Он все время говорил гнусности, причем — на жутком языке. Нет, не “патуа”, но я все равно знала, что это гнусности».
«У него все руки были в земле, мне от них было больно».
Самым же гадким — от чего она испустила, наконец, вопль — было вот что: после того, как мерзавец выскользнул в окно, Виолетта почувствовала у себя меж бедер что-то холодное и влажное.
Оно ерзало.
— Лягушка, помилуй нас боже, — с отвращением произнес Сэм. — Человек этот — явный безумец.
— Лягушка? — переспросил я.
— Я же сказал.
— Сэм, а она не такая зеленовато-желтая, с длинными задними лапками?
— Разрази вас гром, Чарли, умеете вы играть на нервах! У меня не было настроения рассматривать ее задние лапы. Я лишь схватил ее и выкинул.
— Куда?
Он приподнялся; в глазах его читалось убийство; затем передумал.
— Мне кажется, я выкинул ее в мусорную корзину, — ответил он полупридушенным голосом: таким вы даете людям понять, что на дальнейшие вопросы они ответов не получат.
— Иоанна, — попросил я, — не могла бы ты, пожалуйста, сходить и найти ее?
Она сходила. И нашла. Та не была зеленовато-желтой с длинными лапками; та была бурой, бородавчатой и приземистой.
— Это жаба, — сказал я.
— И?
— Ничего.
— И вам того же.
— Мне кажется, здесь нет таких, — мягко сказал я, — кому не стало бы лучше от выпивки.
Сэм механически поднялся и принялся начислять; с моей любезной помощью, ибо я опасался, что из-за его расстройства чувств мне может достаться не та марка скотча, а это вполне испортило бы мне вечер.
Мы поглощали напитки в молчании — уважительно, как дальние родственники, потчующие друг друга запеченной ветчиной после похорон.
— О, и Виолетта еще кое-что сказала, — произнесла Иоанна. Мы перестали поглощать: Иоанна по своему произволению способна заставить большинство людей прекратить большинство занятий, даже не повышая голоса. Интересно, почему это. — Да, именно, — продолжала она. — Бедняжка сказала, что узнала его голос.
— Что? — вскричали двое из нас троих.
— Да. — Красивые глаза Иоанны невинно танцевали, бесцельно оглядывая комнату, натыкаясь на все и всех, за исключением Сэма. — Вернее будет сказать, что посреди тревожной болтовни о ее матушке и так далее она вдруг сообщила: «Я бы узнала этот голос где угодно, где угодно; я не могла ошибиться», — или что-то вроде. — Иоанна умолкла; слишком надолго.
— Чей же он, бога ради? — наконец проворчал Джордж.
— Этого она не сказала. Вероятно, просто имела в виду, что узнает его снова.
Мое воспоследовавшее молчание было озадаченного сорта; молчания Сэма и Джорджа, по всей вероятности, были просто брезгливыми, но наверняка тут ни за что не скажешь.
Озадаченность же моя была вызвана тем фактом, что Иоанна говорила своим теплым, правдивым, настоящим голосом, которым она пользуется, лишь когда лжет. Что, естественно, бывает нечасто; с такой внешностью и такими деньгами к чему беспокоиться?
У меня сложилось ощущение — неодолимо, — что в комнате началась запутанная цепная реакция, и я не вполне могу ее проследить, ибо не понимаю, чего ищу. Вовсе не был я уверен и в том, что известно Иоанне, но мне было ясно: она тут больше меня в своей тарелке. Через некоторое время я задрал лапки, разок-другой мысленно сказав «хей-хо», и применился к Сэмову скотчу.
Как хороший гость, я удостоверился, что и Сэм потребил вкусной жидкости в достатке, дабы ночной отдых его был крепок, невзирая на обстоятельства; после чего мы ускользнули.
Иоанна отправилась почивать; поцеловав меня, но без нежности.
Джок еще не ложился — он заваривал «старшинский»: это такая разновидность чая, которой можно насладиться, лишь вернувшись из караула на январской заре, — наидешевейший сорт индийского чая, вскипяченный с сахаром и сгущенным молоком. Совсем не похоже на тот чай, который известен нам с вами, но очень полезен, очень. Я с томленьем смотрел на него.
— Вы ж такого точно не хотите, мистер Чарли, — сказал Джок. — Вам захочется а-а.
Я зыркнул на него.
— Ты подслушивал у замочных скважин? — негодующе вопросил я.
— Нет, конечно. Я слышал, мадам так выражается на людях, и частенько.
— Фу.
— Ну.
Я отвернулся.
— Мистер Чарли? — сказал он.
— Да?
— Этот мой кореш, которого я в домино учу, — ну, которого вы за шкворень взяли…
— Ну?
— Он чего-то трындел про жаб. По нему выходит, джерсы их за людей держат, а потому не любят, когда ими обзываются.
— Ты выразил это изумительно, Джок.
— Ну. А трындел-то он это потому, что старый хрен, который приходит сад нам делать, только что похоронил одну заживо, в банке из-под маринованных огурчиков, чтоб цветы росли.
— Чтобы росли цветы? Продолжай же.
— По нему выходит, тут все так делают. Жабам-то что, они почти всегда живые, когда их осенью обратно выкапывают. Смешно, ага? Можно подумать, им жрать не хочется.
— Или пить?
— Ну. В общем, много джерсов, особо тех, что постарше, держат жаб за таких святых как бы, а потому им не нравится, если над ними прикалываются.
Я глотнул его чаю.
— В него следует добавить рому, — посоветовал я.
— Ну так а ром-то у меня откуда?
— Ты имеешь в виду, что разучился вскрывать замок буфета?
Он обиженно смолк. Я сходил за ромом, а Джок заварил еще «старшинского».
Когда мы прочно уселись верхом на чай и неких «валлийских кроликов»[66], которых Джок призвал на подмогу, чтобы чай протекал внутрь без препон, я пустился поучать — порок сей излечить мне решительно не удается.
— Джок, — сказал я, — а тебе известно, что пятнадцать веков люди полагали, будто у жабы в черепе таится драгоценный камень?
— Во как? — ответствовал он. — И кто ж им эдакое подсказал, а?
— Плиний, или Аристотель, или кто-нибудь из тех малых, которые написали про это в книжке.
Джок некоторое время жевал и заглатывал.
— И чего — никто ни разу не сообразил раскурочить ей башку да поглядеть?
— Насколько мне известно, нет.
— Ебиццки невежественные все эти чурки, а? — загадочно произнес он в ответ. И я не нашел в себе мужества ему противоречить. — Еще он про зайцев трындел, — продолжал между тем Джок. — Похоже, никаким зайцам на Острове быть не положено, да только несколько лет назад фермеры заприметили одного здоровенного засранца и смекнули, что это он все молоко отсасывает у смешных коровенок, что у них тут водятся. И вот они его обложили и давай палить, а потом давай палить прицельно, да только все без толку. И тут один возьми и заряди бердану серебряной пуговицей — и подстрелил зайца в жопку, и заяц себе уковылял куда-то, а на следующий день у одной жуткой бабы, что по соседству жила, на ноге бинт увидали.
— Это, вероятно, одна из самых старых историй на свете, — сказал я, ибо таковой она и была.
В тот вечер я слишком устал, чтобы принимать душ, — мне хотелось только а-а. Зубы я, разумеется, почистил. И чистя их, я осознал, почему этот славный малый в «Стрелково-ружейном клубе» так хотел познакомить меня с другим малым, который льет пули из чего ни попадя.
Из серебра — вот что он имел в виду.
6
Я рек: «Она, должно быть, вся бела,
Сладка, как пряный плод на вкус,
Испорчена, слегка тепла,
И, как любовь змеи, искус-
На». Скверная догадка, пусть.
«Фелица»Наутро мы провели еще одно совещание. Соня, похоже, держалась стойко и даже начала немного ходить, а вот у Виолетты дела обстояли куда хуже: бедняжка совершенно перестала разговаривать, и, хотя следила за вами глазами, больше ни в единой своей части не двигалась. Сэм влил в нее одну ложку прославленного Брэндова «Студня из Телячьих Ножек»; во второй раз Виолетта укусила ложку. После чего рот уже не открывала вовсе. Врач пробубнил что-то насчет «психотического аутизма», с коим у него самого явно не лучшие отношения, и щедрой рукой начислил ей еще одну полную иглу успокоительного.
— Не вполне сказал: «продолжайте пить таблетки», — заметил Сэм, — но зримо вертелось у него на языке. Если не придет в себя до завтра, я собираю консилиум.
Мы все покивали и сочувственно помурлыкали — за исключением Джорджа, несколько раз произнесшего «грязная свинья».
Сэм поинтересовался, не мог бы я порекомендовать ему хороший пистолет и что нужно сделать, дабы таковой раздобыть. Я ему сообщил и присоветовал хорошую винтажную волыну — по сути, вложение капитала. Этот аспект его, судя по всему, не интересовал — ему хотелось инструмент, на который можно положиться в деле пробивания крупных и болезненных отверстий в насильниках.
— Успокойтесь, — побуждал его я. — Лучший и наисовременнейший пистолет не проделает ни в ком даже крохотной дырочки, если его точно не нацелить. Большинство пистолетов предназначено лишь для того, чтобы пугать людей и производить громкий шум. Главное — держать его под рукой. Ребятам вроде нас с вами пистолет случается потребен, быть может, всего раз в жизни… — тут я слегка покривил душой, — …но вся штука в том, что нужен он бывает, как правило, в большой спешке. Послушайтесь моего совета — купите себе боеспособный антикварный аппарат, на котором можно будет навариться, когда все это утихнет. Например, имеется весьма превосходный старый «маузер» 7,65 мм — не более пять миль отсюда, его можно приобрести всего за £ 150; к нему прилагается деревянная кобура, которая может пристегиваться к рукояти, и получается ложе. Тем самым пистолет становится небольшим таким карабином. Самое надежное оружие из всех, если умеете целиться ровно: валит быка с полумили. А кроме того — вполне эстетически красивый предмет. В несколько безобразном свете.
Сэм поворчал, но совету внял и телефон маузеровладельца взял.
— Ну да, ну да, — сказал Джордж. — Это ваше стрелковое оружие — очень мило, но предполагается, что у нас тут — О-Группа, и мы должны проводить Оценку Ситуации.
(Тем из вас, кто не имел счастья служить в Армии, следует пояснить, что О-Группа — это совещание, собираемое не самым старшим пехотным офицером, которому наконец становится ясно, что он не знает, что делать, а его младшим офицерам и старшему сержантскому составу, по его замыслу, следует признать, что они, в свою очередь, тоже не знают, что делать. О-Группа, естественно, всегда собирается вне зоны слышимости рядового состава, хотя рядовой состав бывает осведомлен, что его офицерский состав не знает, что делать, за много часов до сбора О-Группы; по их представлению, хороший офицер — это просто-напросто офицер, который собирает О-Группу, когда им самим хочется выпить чаю. Военнослужащие вплоть до майорского чина — а иногда и включая его — ребята капитальные: вступайте в Армию сейчас — япошкам всыпа́ть уже, наверное, поздновато, а вот ирландцы еще долго не прокиснут.)
— У меня тут, — сказал Джордж крайне знающим тоном, — список всех женщин, достигших брачного возраста, в радиусе мили от этого дома. Я предлагаю нам залечь в ночное, регулярно сменяясь и наблюдая за их жильем, в готовности отодрать задницу этому грязному борову, когда он в следующий раз попробует нанести, э-э, удар.
— Джордж, — мягко сказал я. — Джордж? Кто предоставил вам этот список?
— Сентенир — он со своими вёнтаньерами трудился над ним много часов.
Я испустил одну из тех долгих пауз, что призваны явить всем слабоумие пропозиции. После чего сказал:
— Хорошо. Да. Однако нас всего трое, знаете ли, и нам надлежит охранять собственные угодья и жен. К тому же мы не слишком интимно знакомы с местностью. А если ближе к делу, то в наши дни, когда кто-либо запускает одну руку вам в сейф, а другую — вам в жену, и вы его убиваете, вам предъявляется обвинение в убийстве, а наемные психиатры сообщают суду, что правонарушитель — несчастный неуравновешенный паренек, которого расстроил гадкий фильм, увиденный им в «Одеоне» на прошлой неделе, но для своей старушки-матери он — примерный сын. Старушки-матери, со своей стороны, превосходно смотрятся на свидетельской трибуне, все до единой — прирожденные актрисы, способны разжалобить даже полицейского, я такое видел, это лучше телевидения. Они вам покажут, где раки зимуют.
Джордж немного порычал и поплевался. Излагал он не бесспорно, но общее впечатление было таково, что если на несколько часов дать ему волю и средний пулемет «викерс», в мире станет жить намного лучше, а все потенциальные насильники кинутся выстраиваться в очереди на соборных площадях, стараясь заполучить себе место контр-тенора.
Сэм и я с любопытством за ним наблюдали: мне кажется, нам обоим чудилось, что перед нами — вовсе не тот спокойный умелый Джордж, которого мы знали и, в какой-то мере, уважали, — не тот Джордж, чьей самой интересной чертой была банальность. Наверное, мы приписали такую перемену недавно перенесенным им тяготам, и Сэм, вне всякого сомнения, хоть и являл внешнему миру удивительным образом более пристойный фасад, преисполнился к Джорджу товарищеского сострадания. (Что касается меня, я бросил испытывать товарищеские чувства в последней школьной четверти, ибо изо всех сил старался поступить в Университет; мне нравится полагать, что я в душе своей ханжа.)
— Сдается мне, — произнес я, когда шум стих, — что мне лучше бы отправиться в Оксфорд.
В Сэме на миг вспыхнул былой пыл.
— А уместно ли сейчас задумываться над завершением образования, Чарли? Уединение студенческих келий вдруг повлекло неумолимо? Что станете изучать — богословие?
— Тьфу на вас, — ответил я. — Мне хочется повидаться со своим старым преподавателем, который знает о колдовстве, демонологии и сродственной им белиберде больше, чем кто-либо из ныне здравствующих. Совершенно ясно, что у нас тут сложилась отвратительная ситуация, когда некий подлый недочеловек творит безобразия под древними и гадкими предлогами, коих мы не постигаем. Мы не можем выкорчевать его, пока не поймем, что это такое он делает и зачем. Я поеду и расспрошу своего препода. У кого-нибудь есть предложения получше?
Предложений получше ни у кого не оказалось.
— Моя собственная жена, — продолжал я, — до сих пор, насколько мне известно, нападению не подверглась, посему вы не сможете не признать, что миссия моя довольно альтруистична. В сложившихся обстоятельствах, а также в силу преступной дороговизны в деле развлечения оксфордских донов я предполагаю, что вам захочется разделить со мной бремя сих трат.
Все поерзали руками в направлении тех карманов, где хранились чековые книжки, но я отмахнулся.
— Оплата по результатам, — сказал я. — Если поездка моя принесет пользу, я предоставлю полный отчет о расходах.
— Но как же Иоанна? — раздался с лестницы трагический голос. То была Соня: бледная, волюминозно упакованная в халат, на лице — лишь тактичный намек на макияж тут и там, коего большинство мужчин — приличных, то есть, мужчин — и не заметили бы. Мы все повскакивали на ноги и заметались по комнате, поднося ей кресла, подушки, скамеечки для ног и восстановительные средства в ассортименте. (Я и сам приготовил себе легкое восстанавливающее, пока суд да дело, ибо Джордж, похоже, в тот день обязанности хозяина презрел.) — Как же Иоанна? — повторила она. — Не лучше ли ей остаться здесь, пока вас не будет, чтобы я смогла ее защитить?
Я любезно посмотрел на нее.
— Вы очень добры, — сказал я, — но и Джок не профан в искусстве защиты. Это сейчас оное зовется Боевыми Искусствами, а когда Джок ходил в Борстал, там это довольно незамысловато именовали «пинком с налету в женилку». Я бы выставил Джока против лучшего артиста кунг-фу, когда-либо выращенного мистером Метро-Голдвином[67]. У него, изволите ли видеть, дар.
Соня мудро кивнула. Она знает, что неумна, но умным считает меня, бедненькая заблудшая сучка.
— Да, но доверяете ли вы этому типу? — осведомился Джордж.
Сие всколыхнуло во мне раздражение, но я предпочел дать учтивый ответ.
— Джок верен, как сталь, — тщательно подбирая выражения, сказал я. — Он влюблен в Ширли Темпл с четырнадцати лет, измениться ему нелегко. Отнюдь не мотылек. Во-вторых, он мне обязан, быть может — и не раз, а жулики, подобные Джоку, поклоняются таким святыням гораздо истовее честных людей. В-третьих — и я знаю, что это звучит нелепо, — я единственный человек, которого Джок боится.
Сэм и Джордж беспокойно поерзали в креслах — они не знали, как расценивать подобную белиберду. Соня же произнесла:
— О, мне кажется, это совершенно прекрасно. В смысле — иметь такие взаимоотношения, в смысле, основанные на чудесном взаимном э-э…
Я снова взглянул на нее любезно. Быть может — чуточку любезнее, чем в последний раз. Нельзя сказать, что нам, антифеминистам, изволите ли видеть, женщины не нравятся вообще: мы ценим, лелеем и жалеем их. Мы сострадательны. Батюшки, подумать только: бедняжки, им приходится ковылять по жизни с этими нелепыми торчащими жировыми отростками; вся польза от их жизни портится тройной чумой — запором, месячными и родами; а хуже всего — для борьбы с вышеперечисленными увечьями у них имеется лишь нечто вроде смутного мозжечка, хорошенькая головка, случайным образом, как чашка для игры в блошки, заполненная яркоокрашенными клочками мусора… да при одной мысли об этом сердце сжимается от жалости. Знаете, ваша собачка порой глядит на вас в тоске, и ее почти человеческие глаза жаждут понимания, томятся по общению? И вы помните, как часто вам казалось, будто она вот-вот прорвется сквозь барьер и будет с вами? Мне кажется, мы именно поэтому так добры к женщинам, господи их благослови. (Более того, едва ли их можно застать за охотой на котов или гаженьем на дорожках.)
— Да, — ответил я ей.
Когда мы уже стояли в дверях, Соня кинулась к нам, по-прежнему изображая королеву в клобуке.
— Чарли, — вскричала она, — а кто-то станет присматривать за вашей славной канареечкой, пока вас не будет?
— Вероятно, — расплывчато ответил я.
— Как выражалась моя старая нянюшка, — пробурчал Джордж, — людям не следует заводить домашних животных, если не готовы за ними приглядывать как полагается.
— Ровно то же самое я всегда говорю о женах, — жизнерадостно подхватил я. М-да, возможно, реплика не была выдержана в лучшем вкусе. Но я никогда и не подписывался на хороший вкус — уж лучше я вступлю в Лигу воздержания[68].
Иоанна отправилась в постель, не пожелав мне спокойной ночи. Джок отсутствовал — возможно, бил людей, он от этого никогда не устает. Я на сей счет не волновался, он нынче осторожен: те, с кем он ссорится, обычно уходят с места происшествия сами — унося свои зубы в шляпе. Я совершил несколько телефонных звонков агентам бюро путешествий и старым оксфордским преподавателям, после чего в дурном настроении удалился баиньки, прихватив с собой том Беатрикс Поттер, дабы утешить опечаленное сердце: то была «Сказка про миссис Тигги-Мигл»[69], она приносит радость неизменно.
7
Бог, смертоносной заразой
Ты отравляешь весь свет;
Бог, ты — безгласный, безглазый,
В землю зарытый скелет,
Жертва гниенья и тленья;
Нет для тебя песнопенья,
Гимнов торжественных нет!
«Уолту Уитмену в Америку» [70]На следующий день полуденным рейсом я вылетел в Хитроу. Я не принадлежу к «реактивной публике», склад мой предполагает бипланы, как выражается Иоанна, но перемещаться по воздусям я вовсе не прочь, только не предлагайте мне эти кошмарные летательные аппараты, в которых сидишь на открытом воздухе позади шофера, которому приходится стучать по шлему, если хочешь, чтоб он ехал помедленней. Теперь же мне досталось крупное, искушенное на вид воздушное судно, и на боку его было сказано, что двигатель предоставлен конюшнями «Роллс-Ройса», — весьма утешительно. Места рядом со мной заняли два почтенных джерсийца, с коими я свел шапочное знакомство, и когда мы оторвались от земли, я — со мне свойственной необыкновенной щедростью — заказал три крупных джина-с-тоником. Стюардесса осведомилась, не в одном ли стакане мне их подать; полагаю, так она изображала бойкость.
Если в наши дни направляетесь на Запад, вовсе не обязательно ехать прямо в Лондон: автобус авиалинии доставит вас из Хитроу в Рединг вполне безболезненно, а поезда оттуда в Оксфорд, где надувает щеки Драйден, мой старый преподаватель, изобильны.
Батюшки, вам доводилось видеть Оксфордский вокзал после того, как его привели в порядок? Он вполне поразительно подтянут, современен и не более чем вдвое неудобнее прежнего.
Пока я стоял у вокзала, дожидаясь Драйдена, со мною произошло нечто премерзкое: шаркая, с гримасами и ужимками ко мне приблизилось прокаженное существо, облаченное в грязное тряпье, спутанную бороду и позвякивающие варварские ожерелья; манеры его одновременно излучали угрозу и вызывали жалость.
— Подите от меня прочь! — доблестно проблеял я, взяв наизготовку зонтик. — Я не поддамся вашему гоп-стопу; по случаю, я — личный друг начальника вокзала, да-да, а также — Ректора Всех Душ[71]!
— Мистер Маккабрей? — пропищало существо тоном истинного викемиста[72]. — Меня зовут Фрэнсис, я ученик доктора Драйдена, он попросил вас встретить — сам подъехать не смог, у него дрыщ. А у меня — мандавошки, если угодно знать, — мрачно добавил он. — А завтра конса и две презентухи.
Некоторое время я рылся в своем словесном кошеле.
— Как поживаете? — извлек я оттуда в итоге.
Он принял на себя командование моим багажом и подвел примерно к пяти тысячам фунтов в виде итальянского автомобиля разновидности «ГТ», в коем мы — опять же безболезненно — сквозанули к той части города, где «мечтательные шпили»[73]. Я не очень понимал, о чем с юношей болтать, — видимо, конфликт поколений. Водитель мой был до чрезвычайности учтив, а при ближайшем рассмотрении — чистоплотнее некуда. Мандавошками, по-моему, он просто похвалялся.
Скон-колледж[74], моя «альма матер», ничуть не изменился, если не считать того, что снаружи был густо разукрашен огромными буквами, из коих составлялись слова: «МИР», «ГОВНО», «ТРОЦКИЙ ЖИВ» и прочими подобными сантиментами. Мне показалось, что с ними выглядит получше — глаз не так застревает на архитектуре. В домике привратника дежурил Фред — то же самое он делал, когда я был здесь последний раз; Фред хорошо меня помнил и сообщил, что я должен ему полсоверена в связи с некими, ныне давнозабытыми, бегами. Я не купился, но искомое выложил.
Комнаты мне приготовили — вполне обитабельные, за исключением того, что студиозус, ранее занимавший эти апартаменты (а дело, изволите ли видеть, происходило на каникулах) приколол к стене плакат с черненьким толстячком по имени Махарадж Джи Гуру[75] в такой позиции, что он ухмылялся прямо на постель. Передвинуть плакат малого я, естественно, не мог, поэтому передвинул кровать. Омывшись и переоблачившись, я понял, что у меня еще полчаса, лишь по истечении коих я смогу явиться в Комнату Отдыха для Старших Преподавателей, откуда Драйден — при условии, что уже оклемался, — сопроводит меня на ужин за Высоким Столом; и я направился в Буфетную. На лужайке, где в бравые дни мы играли, бывало, в крокет, безмолвно притулились на корточках около сорока оборванцев — жалкое зрелище. Без сомнения, они медитировали или протестовали; без того же сомнения, весело им не было ни в малейшей степени. Фланируя мимо в своем до крайности великолепном смокинге, я поднял для благословения руку.
— Мир! — произнес я.
— Говно! — отозвался оратор.
— Троцкий жив! — отважно парировал я. Вот видите — с молодежью возможно общаться, если дадите себе труд выучить их жаргон.
— Здрассьте, мистер Маккабрей, — приветствовал меня буфетчик Генри. — Давненько вас не видать.
— Нет-нет-нет, — ответил я. — Я был здесь всего семь лет назад.
— И то правда, сэр. В конце троицына триместра[76], если мне не изменяет память, и нахамили одному из тех венгров, которых и посейчас тут всюду полно. Я их даже по именам звать не могу — как ни попытаюсь, все какая-то грубость выходит.
— Я вас прекрасно понимаю, Генри. И умираю от жажды.
Он и впрямь меня не забыл, ибо потянулся за побитой оловянной квартой — из таких мы, гиганты, в старину хлебали эль. Со своею кружкой я вышел наружу, дабы украдкой ополовинить ее на лужайку: я уже не тот, что раньше.
— Полагаю, Генри, вас подобное несколько раздражает, нет? — осведомился я, помавая рукой в направлении унылой сидячей забастовки.
— Ох, прямо не знаю. Я тут всю жизнь, как вам хорошо известно. Не сильно-то они отличаются от вашего выпуска — да и от любого другого. Когда я сюда только пришел, тут были сплошь цилиндры да сюртуки по воскресеньям, хожденья взад-вперед по Променаду; потом — бриджи для верховой езды и фокстерьеры; потом — «оксфордские мешки»[77] и бультерьеры. После войны все носили синие дембельские костюмы, затем твидовые пиджаки с фланелевыми брюками, затем опять вернулись канотье и блейзеры, потом были сплошь джинсы и все босиком, а теперь бороды с бусами, и завтра, кто знает, может, опять будут цилиндры. Мне другое не нравится в этой публике — пиво они пьют четвертинками и заедают шоколадками, а половину своего содержания просаживают на автомат с «французскими письмами» в Комнате Отдыха Младших Преподавателей. Пили бы пиво, как люди, гребли бы веслами да учили учебники, а для всего этого секса время будет, когда степени получат.
— Воистину, — рек я. Пожелав ему доброй ночи, я облекся в мантию и поставил паруса курсом на Комнату Отдыха для Старших.
Драйден был расточителен в извинениях касательно невстречи меня на вокзале.
— Очень надеюсь, что Маргейт отыскал вас без трудностей?
— Маргейт? Нет, явился какой-то чудак по имени Фрэнсис.
— Да-да, все верно, Фрэнсис Маргейт. Крайне милый мальчонка. Умнейших из виконтов, которых мне вообще доводилось учить.
— Хотелось бы верить, Джон, что вашему э-э… дрыщу намного лучше. Ученик ваш, судя по всему, был крайне им обеспокоен.
— Царица небесная, да он меня совсем не беспокоит, со мной это уже много лет, все дело в здешнем портвейне, понимаете ли, — у нас худший портвейн в Оксфорде, сам не знаю, почему я до сих пор тут. Мне поступали великолепные предложения из самых разных мест — из Суссекса, Ланкастера, Уганды… всевозможные места.
— По мне, так все они на слух одинаковы. Что же на самом деле не позволило вам меня встретить?
— О, я обедал тут в одном женском колледже, названия не упомню, так они там кошмарно напаивают, сами, вероятно, знаете, прегадкая публика, все до единого пьяницы. И после такого обеда я немного устал, а Фрэнсис как раз не подал работу, поэтому вместо зачета я предложил ему съездить вас встретить.
— Воистину, — сказал я. (Ловлю себя на том, что в Оксфорде часто произношу это «воистину». Интересно, почему?)
После чего он, ни словом не извинившись, подал мне хересу в грязном бокале и подвел к Ректору засвидетельствовать уважение. Я засвидетельствовал.
— Как мило, — произнес Ректор с очевидной куртуазностью, — видеть старого члена.
До сего дня не знаю, насмешка это была или он просто неудачно выразился.
По Комнате Отдыха я бродил, пока не отыскал отвратительное на вид растение в горшке, кое представилось мне заслуживающим хереса. Мгновение спустя мы скучковались в обычную процессию и пошаркали в Зал, к Высокому Столу и ужину. Высокий Стол выглядел как обычно, если не считать покроя смокингов и нелепой юности донов, но от единственного взгляда через плечо в медвежью яму Зала я содрогнулся. Две сотни косматых Томов-из-Бедлама[78] с их марухами и шалавами гонобобились и собачились у нескольких раздаточных прилавков из нержавейки, как в благотворительных обжорках, — они грызлись и тявкали, словно валлийские националисты на явке или итальянские глянцевые фотографы в погоне за прелюбодейной особой королевских кровей. Всякий миг кто-то выдирался из «меле»[79], оберегая от покусительств тарелку, заваленную чем-то неопределимым с жареной картошкой, кою он и опустошал за столом, непрестанно матерясь и рыгая. Сами длинные дубовые столы не несли на себе ни грана серебра моей юности — теперь его предпочтительнее держать под замком, — но длинные гордые шеренги бутылочек с «Любимым Папочкиным Соусом» стояли как встарь — и чертовски здорово, осмелюсь заметить. С упомянутым, говорю, содроганием отвернулся я и окунул неохотную ложку в суп «под черепаху». (Можете вообразить, насколько меня расстраивает одно воспоминание обо всем этом, если отметите, что последнюю фразу я начал с риторического повтора — так я никогда не поступаю.)
Не следует думать, будто я придираюсь, когда утверждаю, что ужин состоял из пяти перемен ядовитого навоза: я этого ожидал, и меня бы встревожило, окажись пропитание достойным. Ужин за Высоким Столом в Оксфорде, как вам, вероятно, известно, неизменно пребывает в обратной пропорции к содержанию мозга в Колледже, им угощающем. Скон — колледж весьма мозговитый. Если вам потребен хороший кутеж в Оксфорде, придется обращаться в такие места, как Пембрук, Троица или Сент-Эдмунд-Холл[80], где играют в регби, хоккей и тому подобное, а коли вас засекут с книгой, то отведут в сторонку и хорошенько побеседуют по душам.
Нет, поистине вечер мне испортило то, что Скон пошел на поводу у господствующей ереси и обзавелся доном женской принадлежности. Более всего на свете преподша напоминала плохо увязанный моток старых бечевок; улыбка ее представляла собой стиснутое ротовое отверстие женщины, получающей удовольствие от естественного деторождения, и мы с нею, ко взаимному удовлетворению, не понравились друг другу с первого взгляда. Держателем бюста, иначе «бюстгальтером», она пренебрегла, это было ясно: блуза ее доблестно приняла на себя бремя где-то на уровне пупка.
Тут я не мог ничего сказать, согласитесь, — как обыкновенный Старый Член я был всего лишь гостем, а она прислушивалась к беседе с тщанием, — но глазами с Ректором встретился и оделил старика долгим твердым взглядом. Он застенчиво улыбнулся — нечто вроде компетентного оправдания.
После ужина в Комнате Отдыха Драйден лукаво нас представил.
— Гълэдис, — со смаком произнес он. — Чарли Маккабрей до смерти хотел с вами познакомиться.
— Бронвен, — сухо ответила она. Драйден явно уже разыгрывал этот гамбит.
— Очарован, — воскликнул я тем «галантным» голосом, которым надеялся разъярить ее пуще всего. — Давно пора уже расцветить эту затхлую халабуду несколькими хорошенькими личиками.
Она оборотила на меня тот в особенности мерзкий взор, коим смотрит на вас за завтраком копченая селедка, если вам случилось иметь похмелье.
— И какова же ваша область? — осведомился я.
— Сексуальная социометрия.
— Мог бы и догадаться, — игриво произнес я. Она отвернулась. Ни дня без нового врага, всегда утверждаю я, пусть даже враг этот — женщина.
— Она у ваших ног, — пробормотал Драйден мне на ухо.
— У вас в апартаментах имеется виски?
— Только «Шивас Ригал».
— Так удалимся же туда.
Нет ничего лучше его комнаты в Сконе: там имеются «буазери»[81] и пара книжных шкафов, превосходимых лишь теми, что установлены в Пипсианской библиотеке[82] в Кембридже да в некоем доме Суссекса, чье имя бежит меня. Более того, у Драйдена есть собственная ванная — неслыханная роскошь в Сконе, где «корпус санум» — или же «виле» — сильно отстает от «менс сана»[83]. (История гласит, что давным-давно, когда на «консилиуме»[84] Колледжу впервые предложили устроить для студентов ванные, древний пожизненный член Совета пискляво запротестовал, что ребяткам они вообще ни к чему: «Да они же проводят здесь лишь по восемь недель кряду!» Но затем грянула эта странная поздневикторианская эпоха, вся пронизанная невнятными муками совести, когда англичане — коих Эразм[85] именовал неопрятнейшей расой Европы — обнаружили, что ничего не попишешь, придется отдраивать себя с макушки до пяток, едва выдастся минутка, свободная от вправления мозгов всяким фуззи-вуззи[86] и прочим Меньшим Породам Беззаконным[87].
— Итак, — произнес Драйден, покамест кубок «Шивас Ригала» мерцал в ожерелье пузырьков[88], — я умозаключаю, что вы занялись поклонением Викке[89], а это вынуждает вас скитаться по горам и долам и красть уточек.
— Нет, нет и нет, Джон, должно быть, вы что-то недослышали по телефону: слово «уточка» я не употреблял, это совсем на меня не похоже — это какой-то другой малый.
— Все так говорят, — с доброй грустинкой, — но расскажите же мне о себе, э, друг мой.
Он, разумеется, поддразнивал меня — и прекрасно знал, что я знал, что он знал, что я знал, что он меня поддразнивает, если я внятно излагаю. Я начал с начала, ибо не весьма искусен в повествовании, и продолжал до самого конца. История его гальванизировала: он выпрямился в креслах и налил нам обоим по расточительному напитку.
— Что ж, сие и впрямь роскошество, — фыркнул он, потирая крупные розовые руки. (Вы умеете, кстати, фыркать? Я способен хихикать и сдавленно усмехаться, но вот фыркать и хмыкать мне не по плечу. Это вымирающее искусство, какому-нибудь современному Сесилу Шарпу[90] следует ходить и записывать немногих оставшихся умельцев.)
— В каком это смысле — роскошество? — осведомился я, едва фырчки смолкли. — Мои друзья и их супруги вовсе не считают все это ни в малейшей степени роскошеством, смею вас заверить.
— Конечно, конечно. Простите меня. Всем сердцем им сочувствую. Имел же в виду я вот что: посреди нынешнего дутого возрождения сатанизма ученому довольно приятно бывает обнаружить, что как раз в таком примитивном и отсталом сообществе, на какое лишь можно было надеяться, там, где еще могут по-настоящему теплиться последние угли Древней Религии, имеет место и серьезный рецидив истинной традиции. — (Какие чу́дные фразы он строит. Вот бы мне писать хотя бы вполовину так, как он говорит.) — Да, — продолжал он, — здесь есть всё: для начала — осквернение Пасхи. Вероятно, начинается в Пасху каждый год, знаете, но лишь немногие жертвы надругательства заявляют в полицию по причинам, кои, без сомнения, тут же приходят вам в голову; встречные обвинения и перекрестные допросы на суде в делах такого рода могут оказаться весьма позорны. Более того — крепкие уроженки Джерси, по большинству своему, будут польщены, что их избрали для, почитайте, религиозного обряда — таково же будет англичанке, когда викарий сообщит ей, что настал ее черед украшать церковь на Пасху цветами: досадно, однако же почетно. Вы следуете за моей мыслью?
— Пока даже опережаю.
— Затем — перевернутый крест…
— Какой еще перевернутый крест? — прервал его я.
— Да тот, что изображен на животе ведьмака — вы разве не просекли? Дамы, естественно, вообразят, что это меч, к тому же на верхушке он может быть заострен, чтобы еще больше походить на плетеные кресты, которые раздают в церквах на Вербное воскресенье, тем самым сочетая оскорбление христианства с древним символом секса. Случайно не знаете, какого он был цвета?
— Боюсь, что нет.
— Постарайтесь выяснить, будьте умницей. И уточните, не смазывалась ли краска: это будет совершенно роскошно — то есть, конечно же, очень интересно, — если выяснится, что он вовсе не нарисован, а вызывается психосоматически. Тело способно на изумительные вещи, как, я уверен, вам известно, — под гипнозом или при самовызванной истерии. Разумеется, на память сразу приходят стигматы, а также левитация: слишком много имеется свидетельств, чтобы просто списать это со счетов.
Я украдкой глянул на него. Если списывать сие на любимого конька, Драйден выказывал чересчур рвения; преданность делу, особенно у престарелых донов, зачастую граничит с полоумием.
— Вы сейчас думаете, что я пришпориваю своего конька слишком уж рьяно, — сказал Драйден, просияв, когда я виновато вздрогнул, — поэтому признаюсь: я нахожу тему эту почти до болезненности увлекательной.
Я пробормотал несколько опровержений, от коих он отмахнулся.
— Слова «конек» и «левитация», — возобновил лекцию он, — подводят нас к следующему пункту — к полетной мази.
— Как это как это?
— Полетная мазь. У нее существует множество названий, но все составы одинаковы. Это едкая смесь, которой ведьма или ведьмак натирает тело перед тем, как отправиться на шабаш. Жирная основа закупоривает поры и тем самым едва уловимо изменяет химию тела, другой ингредиент вызывает покраснение и возбуждение кожи, а причудливый смрад — в сочетании с позорным знанием, из чего мазь приготовлена, — усиливает нечестивый восторг ведьмака вплоть до того, что он знает наверняка: он способен летать. В случае с ведьмами женского пола легкий галоп по кухне с метлой, зажатой меж ног, бесспорно добавляет воодушевления.
— Бесспорно, — согласился я.
— Удается ли действительно кому-либо из них взлететь, — вопрос открытый: тут важнее их определенная убежденность, что они это могут. Хотите знать, из чего состоит мазь?
— Нет, спасибо. Ужину и так отчасти неуютно в желудке.
— Вероятно, это разумно. Между прочим, вам не доводилось перед Пасхой замечать в местной газете сведений о пропаже каких-либо новорожденных младенцев?
— А это какое отношение… — начал было я. — Ох, да, понимаю; какая невыразимая гадость. Они в самом деле? Нет, я бы ничего подобного не заметил. Людям не следует заводить детей, если не способны за ними приглядывать — вот как говаривала моя старая нянюшка.
— И все же, пожалуй, проверьте, дорогой мой. Должно быть в новолуние перед Пасхой. Хотя, с другой стороны, то мог быть младенец такого сорта, который не попадает в отчеты. Сами понимаете — «палец шлюхина отродья, что зарыто в огороде»[91].
— Воистину. «Глаз червяги, шерсть ушана»[92].
— Вот именно. Однако попробуйте. Итак, подходим к жабам. Я всегда ощущал, что особенная нежность джерсийцев к жабам может указывать на то, что остров — быть может, последний оплот Древней Религии, ибо жаба для ведьм, без сомнения, — самый популярный талисман. Бородавки у нее на коже, видите ли, должны напоминать о лишних сосках, каковые обязана иметь любая уважающая себя ведьма, а восходит это (я вас не утомил, мальчик мой? как ваш стакан?) восходит это к полимастии, или избыточности грудей, у древних. Не стоит напоминать вам о Диане Эфесской, которая, должно быть, походила на еловую шишку, как это отметил наш славный Джим Кэбелл[93].
— Но я полагал, что излюбленный талисман — это кошка. Старая карга — какую ни возьми…
— Широкораспространенное и простительное заблуждение, Маккабрей. Во-первых, видите ли, к началу великой охоты на ведьм XVII века — известной лучше всего именно потому, что подоплека их была политической, ибо, как видите, предполагалась некоторая конфронтация между Высокой Церковью[94] и папистами-роялистами, которые, как ни странно, должны были относиться к Древней Религии терпимее (вероятно, знали, как ею пользоваться?), с одной стороны, и пуританами — с другой: эти предпочитали рассматривать ведовство как пристройку к Риму; так вот, к этому времени, как я уже сказал, серьезные ведьмы тщательнейшим образом попрятались в подполье, а на поверхности остались только те немногие старые грымзы, что практиковали чуточку гётевской магии, дабы помогать подружкам-соседкам да вправлять мозги своим жалким гонителям… Итак, в руководстве по охоте на ведьм утверждалось, что у ведьмы всегда бывает дьяволов сосок, посредством коего она и кормит свой талисман. И вот несчастных старых куриц связывали и наблюдали за ними — в уверенности, что стоит талисману проголодаться, он явится за пайкой. Большинство старух — и до сего дня — живет с кошками; и у большинства старух имеется родинка или бородавка-другая, это все знают. Понимаете? Больше того, тут у нас древняя путаница: словом «кошка» также обозначается плетка, вроде тех, которыми ведьм секли. (Да и вы в детстве, должно быть, играли в кошки-мышки? Нет?) Короче говоря, можете быть уверены: самый популярный и эффективный талисман ведьм — жаба, а вовсе никакая не кошка. «Был», должно быть, следует прибавить. Или, скорее, «полагали, что был», — неубедительно закончил Драйден. Та теплота, с которой он защищал жабу, подвела меня к тревожному подозрению, что тщательный обыск его апартаментов наверняка выявит где-нибудь комфортабельный виварий, просто лопающийся по швам от маленьких бесхвостых амфибий.
— Что ж, Джон, — веско сказал я. — Все это крайне захватывающе, и я более чем благодарен за предоставленный вами обзор того, как работают мозги этого малого и все такое, но теперь, мне кажется, нам стоит подумать о медикаментозном лечении и прочем, нет? То есть для вас это, без сомнения, чарующий оживший фольклор, а на Джерси жены двух моих хороших друзей подверглись кошмарным нападениям, и одной, если я не ошибаюсь, грозит серьезное душевное заболевание. То есть, я целиком и полностью за беседы о старых обычаях и первым готов вступить в Общество охраны танца кряк-и-вяк местечка Журчащие Струйки и тому подобного, но не станете же вы переводить деньги в Фонд сохранения практики ритуального удушения, правда? На мой взгляд, этого парнягу нужно остановить. Или я старомоден?
— Ах, Маккабрей, Маккабрей, — произнес Драйден — как смешно это прозвучало, словно бы через дефис, — вам никогда не хватало терпения на духовность. Помню, как вас временно отчислили на втором курсе, не так ли, за…
— Да.
— И затем еще раз, на последнем за…
— Да, Джон, но имеет ли это отношение?..
— Да, разумеется, нет, вы совершенно правы. Вам нужны лекарства, я это понимаю — и очень хорошо понимаю. Так, дайте подумать. Допустим, злоумышленник (и у меня нет ни грана сомнения, что это так) должным образом натаскан во всех побочных тонкостях этой внушающей ужас религии. Обуздать его, следовательно, можно несколькими способами. Во-первых — и это легче всего — обычной солью (каменная лучше), изобильно просыпанной у всех входов в комнату — на порогах, подоконниках, очажных плитах и даже фрамугах и вентиляционных заслонках. Во-вторых, считаются действенными гирлянды дикого чеснока, которыми обвешиваются вышепоименованные отверстия, однако вам придется очень постараться найти на Джерси — да и вообще где бы то ни было — дикий чеснок в это время года, а запах его поистине чудовищен.
— Я знаю. Пытался есть диких уток, им кормившихся. Их отвергает даже помойный бак.
— Воистину. В-третьих — и это средство неизменно почитается самым верным, — лицо, опасающееся визитов ведьмы или колдуна, должно ложиться в постель, крепко сжимая распятие, изготовленное либо из дерева, либо — что гораздо полезнее — из одного или обоих благородных металлов, золота и серебра: лучше всех бывает крест, сделанный из твердейшей породы дерева, например, черного или железного, с золотой и серебряной инкрустацией. Лицо это должно вызубрить простое заклинание, которое следует прочесть посланцу Желанного… кхрм… то есть, Пагубного, и я вам его сейчас продиктую.
— Послушайте, Джон, вы меня простите, но мне кажется, мы подходим не с той стороны. Для начала, у меня нет ни малейшего намерения распространять заклинания или дорогостоящие распятия среди всех насиловабельных женщин в приходе Св. Маглуара. Далее — нам желательно не только не пускать мерзавца в спальни, но, по возможности, изловить его — убить, если потребуется, но любой ценой остановить его навсегда.
— Ох господи, но это же совершенно другое дело. Послушайте, совсем не нужно его убивать, если без этого можно обойтись: если он вдруг окажется последним живым носителем весьма древнего знания, мы даже не имеем возможности судить, инициировал ли он в Шкуру Черного Козла преемника. Нет-нет, нужно постараться его не убивать. Да и в любом случае, это может оказаться несколько затруднительным, хе, хе.
— Знаю. Я подумываю заказать коробку серебряных пуль.
— Ну честное слово, Маккабрей! — вскричал он, весело хлопнув в ладоши. — Вы всегда были изобретательным малым, даже Декан так сказал, когда вы чуть не выиграли Ньюдигейт[95] тысячей строк, списанных из «Ченчи» Шелли[96]. Это ведь тогда вас отчислили?
— Нет, я разыграл гамбит с «юношеской шалостью». Прокторы взяли с меня пятьдесят фунтов. Уплатил папаша. Я пригрозил жениться на барменше, если не заплатит.
— Ну вот, видите. Изобретательно. Но все же нет, постарайтесь его не убивать. Что же до поимки, я и вправду не могу вам ничего посоветовать. Он будет наделен Дьявольской хитростью, понимаете, к тому же, в его распоряжении окажутся всевозможные ресурсы, измерить кои нам просто не под силу. Все зависит, бывал ли он в Хоразине[97]. — Похоже, он разговаривал сам с собой.
— Хоразине?
— А, да — ну, это просто академическое отступление, вообще-то не по нашей теме. Это место, упомянутое в Библии, в наши дни там просто навалены курганы, как мне рассказывали, — и люди туда ездят — вернее, деятели вроде вашего ведьмака туда ездят, — чтобы, так сказать, завершить образование.
— Что-то вроде творческого отпуска? — подсказал я.
— Истинно, ха, ха. Очень хорошо. Да, туда вообще-то ездят, чтобы отдать дань уважения Кое-кому. Называется «Peregrinatio Nigra», Черное, знаете ли, Паломничество.
— Спасибо, — съязвил я.
— Извините, мальчик мой, я и забыл, что студентам некогда слегка преподавали латынь. Итак — поймать этого деятеля. Честное слово, я не могу придумать метод, на который с какой-либо долей уверенности можно рассчитывать. Полагаю, возможно было бы оставить привлекательную юную женщину в какой-нибудь рощице или перелеске без охраны — однако же кто согласится служить приманкой? Ее вряд ли удастся посадить на привязь, не так ли? Это будет выглядеть подозрительно. Нет, сдается мне, лучший план — сражаться с ним на его условиях и воспретить ему появление в вашем районе насовсем — заставить его кричать «vicisti»[98], что означает…
— Спасибо, — снова сказал я.
— Ох господи, простите. Да — дайте ему понюхать картечи, пусть понимает, что вы его превосходите в огневой мощи; он признает ваше превосходство и применит свои таланты в других местах. Короче говоря — вы должны отслужить Обедню.
— Обедню?
— Сатанинскую, естественно. Настоящую, из тех, что посочнее. Тогда вы окажетесь, как бы это выразиться, под покровительством его э-э… Руководителя, и у него не будет выбора — только оставить вас и ваших в покое. Можно сказать, это внушит ему дьявольский страх, хе, хе.
Я оказался в затруднении. Насколько реален в нашем насильнике колдовской элемент? Драйдена, ведущего ученого в своей области, явно удовлетворяло, что этот тип — опасный адепт, но, опять-таки, насколько чокнут сам Драйден? Могу ли я вернуться на Джерси и сообщить Джорджу и Сэму, что нам нужно провести Черную Мессу? С другой стороны, что у нас с другой стороны? Ночь за ночью лежать в мокрых картофельных полях, надеясь, что малый забредет к нам в объятья? И что это докажет? Или ныкаться в гардеробах спален возможных жертв? Вполне абсурдно; более того, если хоть какой-то путеводной звездой нам может служить Джерсийский Зверь, наш человек станет наблюдать за выбранным домом несколько часов, а то и дней, насиловабельных женщин же на Джерси пруд пруди, если вас не отвращают ноги что ночные вазы.
— Очень хорошо, — наконец произнес я. — Дадим Сатанинской Обедне шенкелей — вы у нас знаток, я уверен.
— Превосходно, превосходно — я всегда считал вас способным. Помню, так и сказал Декану, когда…
— Да, Джон. Итак, с чего положено начинать организацию такой гулянки?
— Разумеется, будем практичны. Во-первых, следует выбрать подходящую Службу. Что? Ох господи, да, их много. Много. Лучшая, безусловно — Месса Медичи, никогда не подводит, абсолютно и предельно смертельная, но надежных текстов ее градуала[99] не существует — все до единого искажены, такая жалость. Как бы там ни было, «Missa Mediciensis» требует расчленения красивого мальчика, что, по моим представлениям, вы сочтете ужасным расточительством — или же мне на память приходит малый с именем, похожим на ваше, который возник в один год с вами?
— Бонфильоли? — уточнил я.
— Да, это он и был. Простите, Маккабрей. Да и в любом случае, если ваш джерсийский колдун не сугубо учен, он мог и не слышать об этом конкретном ритуале, а самое важное тут — чтобы он осознавал, какие силы вы спускаете с цепи против него. Вы же это понимаете, не так ли?
— Это разумно, само собой.
— А. Так. Вот оно — та самая, Messe de Saint Sécaire[100].
— И кто же, молю вас, этот самый святой Секарий?
— Ну, святым он, вероятно, не был; вообще-то он мог никогда и не быть тем, что вы или я назвали бы человеком, но имя его ведомо повсюду — от Страны Басков до Нижних Низин — естественно, ведомо тому сорту людей, которому ведом такой сорт сведений.
— Вы говорите загадками, Джон.
— Само собой. Итак, вам потребуется всего три вещи: во-первых, священник-расстрига, ибо этого требует ритуал. Я как раз такого типа знаю — учит приготовишек в Истбурне, надежен и недорог. Стоить вам будет всего лишь пароходного билета — такие ребята по очевидным причинам никогда не путешествуют воздухом — и нескольких бутылок «пастис»; также нужно просто подстелить ему чистой соломки, чтоб было где заспать процедуру, ну и, может, сунуть пару пятерок в подарок на прощанье.
— У меня имеется слуга по имени Джок, который выполнит все его прихоти.
— Роскошно. Затем вам понадобится сам текст Ритуала. В природе существует единственная качественная копия — она хранится в несравненной библиотеке нелепого старого распутника по имени лорд Побродил. Я дам вам письмо к нему: если немного перед ним полебезите и сделаете вид, будто верите, что он — как ему очень нравится считать — величайший грешник Англии, он, быть может, смягчится и позволит вам взглянуть на манускрипт, а также списать те его части, которые сильнее всего отличаются от ординала[101]. Обратите особое внимание на особенности «Интройтуса», «Кирие» и, ну, в общем, эквивалент «Агнуса Деи»[102].
Я накарябал какие-то заметки на манжете — ибо знал, что подобный анахронизм придется ему по душе.
— Наконец, — продолжал Драйден, — и это может оказаться чуточку потрудней, — вам потребуется разрушенная церковь, кою секуляризовали; желательно — такая, где под алтарем обитает жаба. Как вам кажется — удастся такую раздобыть?
— На самом деле подобное место на Джерси имеется — оно называется «Ля Уг-Би»[103]. Заброшенная часовня XVI века, стоит на кургане, содержащем одно из прекраснейших дохристианских захоронений мегалита в Европе. Уверен, что жабы водятся там в изобилии, а окажись там их отсутствие, познакомить их с подобным обиталищем будет делом минуты — и вообще-то благодеянием.
— Отлично! Вы уверены, что часовню секуляризовали? Нет? Тогда следует в этом удостовериться. Осквернить вы ее, конечно, можете и сами, но это не вполне одно и то же, а процесс может оказаться несколько докучлив. Вероятно, в таком древнем месте могут случиться неприятности. Я уверен, вы меня понимаете.
— И даже более того.
— Тогда, мне кажется, мы с вами обсудили все, и вам, без сомнения, уже не терпится отойти ко сну.
Почивал я неважно — вероятно, съел такое, что мне перечило. Однажды пробудился в панике: в голове монотонно читало себя какое-то жуткое заклинание, но то оказался безобидный стишок из «Ветра в ивах»:
В Оксфорде — грамотеи, Оксфорд — не сиволап. И все ж им неведомо, что может ведать Смышленейший Мистер Жаб[104].Я никак не мог сообразить, почему он меня так перепугал.
8
От Того, кто для черного клира
Мог Козлом и не быть никогда,
Взять иду свою дикую виру
За плод глотки — за ложь без стыда.
В Вышине безымянным, почтенным,
Охраняя Безлиственный Жезл,
Лжет своей бледно-мертвенной тенью
Тварь, на кою бог похоти взлез.
О, Астарта, Сидона блудница,
Мерзкий Хемош, безумец ночной,
Я несу поцелуй, чтоб явиться
Твой слуга мог пред трон адский твой.
«Асмодей»Утром Драйден был любезен настолько, что проводил меня на поезд. Водит авто он быстро и решительно, однако у него имеются собственные теории касательно взаимодействия с прочими пользователями дорог, посему удовольствия мне поездка не принесла. Как-то раз я робко указал ему, что мы въезжаем на улицу с односторонним движением; он же лучисто мне улыбнулся, приставив к носу указательный палец, и воскликнул:
— Да, но какова же та сторона? Этого нам не сказали, видите?
Наслаждение мгновением такого триумфа понудило его взгромоздиться на тротуар, поэтому я позволил остатку нашего путешествия разворачиваться без дальнейших замечаний с моей стороны — и с накрепко зажмуренными глазами. Помню, сожалел, что не знаю заклинания-другого — почитать на память.
На поезд Драйден сажает вас следующим манером. Глушит свою престарелую «вулзли»[105] у знака «ТОЛЬКО ТАКСИ», выскакивает, поддевает домкратом порог кузова и пару раз проворачивает. Это, как он понял, предоставляет ему передышку минут в двадцать. После чего принимает позу Жанны д’Арк, воздевает зонтик к эмпиреям и кричит: «Носильщик!» — снова и снова, тоном всевозрастающей пронзительности и театральности, пока всякое наделенное чувствами существо в пределах слышимости не пускается в неистовые поиски означенного носильщика бедному джентльмену, а вы, его пассажир, весь не заливаетесь свекольным оттенком от стыда и досады.
Когда же носильщика, кой протирает красные глаза и вглядывается в непривычный для него свет дня, словно паук, выселенный из споррана шотландца, наконец, выталкивает вперед сострадательная толпа, Драйден крепко берет его за предплечье.
— Этот джентльмен, — объясняет он, утыкая палец вам в жилет, — должен отбыть в Лондон. Дело безотлагательной важности. — Он бережно разворачивает носильщика к востоку и указывает вдоль исходящей линии. — Лондон! — повторяет он. — Прошу вас покорнейше проследить, а вот это оставьте себе.
После чего ретируется — долг его выполнен, он о вас позаботился. Носильщик, отвесив челюсть, глядит на крохотную монетку, размещенную у него в ладони, но чувство юмора в нем возобладает, и с легким полупоклоном он берется за ваш багаж, также предлагая понести и зонтик. Он подводит вас к билетной кассе и объясняет кассиру, чего именно вам угодно. Наконец усадив вас в купе первого класса-угол-лицом-к-локомотиву и поправив салфеточку на спинке, он озирается, словно бы ища полость, кою можно подоткнуть вам под коленки. Чаевые ему вы даете чрезмерные — едва ли это стоит упоминания. Понятно, что позднее вы, наверное, сочтете все это весьма забавным, но сейчас вам хочется плеваться.
Стоило поезду в предварительном порядке дернуться, я встал и выглянул в окно. Драйден еще стоял на платформе — вероятно, просил начальника поезда за мной приглядывать. Но нет — вот он поспешил по перрону вослед составу, то и дело подскакивая, чтобы заглянуть в купе первого класса.
— Хой! — крикнул я и помахал. Он перешел на галоп, однако поезд был достойным соперником.
— Репа! — похоже, вскрикнул он, теряя почву под ногами. — Репа!
— Репа? — взревел я, но он уже не услышал. — О какой, к дьяволу, это он еще «репе»? — мыслил я вслух, садясь. Заполнение, меж тем, купе попутчиками осталось мною незамеченным. Респектабельная пожилая дама напротив, коя в обычном случае одарила бы меня религиозным трактатом-другим, вместо него одаряла меня мерзейшим взглядом, какой только можно представить. Я разыграл единственную достойную контрмеру — выудил серебряную карманную флягу и глотнул. Престарелой даме это было крайне пользительно. Диагонально противоположно от меня сидел священник-альбинос — этот оторвался от требника и даровал мне праведную слезливую улыбку, нагляднее всяких слов гласившую: если моя ДТ[106] станет в какой-то миг невыносима, он одолеет меня молитвой. Четвертый угол занимал явный коммерческий банкир — как бы подобная братия ни пыталась, им не скрыть сих нечестных глаз, сего рта-крысоловки. Он трудился над кроссвордом «Таймс», но — за исключением реп, карманных фляжек и всего прочего — именно такая сосредоточенность приводит людей в ремесло коммерческого банководства.
Старуха не переставала прицельно изучать высокохудожественную сепию с видом аббатства Тьюксбери над моей головой — по всему видать, желая, чтобы та на меня свалилась. Должен признаться, мне довольно-таки приглянулся покрой ее фасона, а самоочевидная неприязнь ее к маккабреям мира сего делала ей честь. Мне случалось подумывать, не завести ли и мне себе старуху в рассуждении домашнего любимца. Завзятому охотнику они, разумеется, без надобности — никакого, изволите ли видеть, нюха, а в болотистой местности и вовсе бесполезны, — а вот насельнику городов придутся как нельзя кстати. Не могу понять, к чему платить целые состояния за гадких кошек и собак, которые повсюду оставляют за собой лужи, щенков и котят, если за понюшку табаку, выражающуюся в ее содержании, можно заиметь себе пожилую даму, буквально с иголочки и с деторождением гарантированно в прошлом. Старухи даже пользу могут приносить в бесчисленном количестве мелочей — от пришивания меток на рубашки до расстановки цветов: на такие трюки вероятно натаскать крайне мало собак, а кошек и вовсе невозможно. Это правда, они бывают шумны, но, как я себе представляю, несколькими щелчками хлыста от сей вредной повадки их чаемо отучить; либо же за пустяшную сумму обезъязычить их можно хирургическим путем. Истинно и то, что они — актив истощимый, и если вам не посчастливилось выбрать себе крепкую исполнительницу, она может слечь и угасать затем годами, на муки себе и в тягость остальным. Полагаю, мудро в таком разе будет оставить ей на стульчаке — подчеркнуто — бутылку бренди и заряженный револьвер, как поступали в свое время с гвардейским офицером, пойманным за руку, по локоть засунутую в тамбурин.
Людям не следует заводить себе людей, если они не готовы за ними приглядывать, согласитесь.
Лондон, разумеется, был сущим адом: что ни день — он все хуже. Я просто чахну по медленному, безмятежному, пасторальному образу жизни, коим доныне наслаждаются в Нью-Йорке. Оставив багаж в «Конноте», я пролодырничал до ланча — поболтал с белошвейкой тут, перемолвился словом с цирюльником там, потрындел с сапожником где-то еще. После чего освежился устрицами, где — не скажу, ибо не желаю, чтобы вы туда наведывались: вам все едино не понравится, а мне там и одному тесновато.
Когда пришло время нанести визит лорду Побродилу, я направился в его клуб — одно из тех древних ненавистных заведений, что носят название «У Богга», «У Крадда» или «У Фригга» — в общем, вы представляете. Данная дыра, известная прочим завсегдатаям как «Старшие Распутники», — место дурное. Члены клуба должны обладать преклонным возрастом, полниться презрением, наслаждаться родовитостью, однако отвергаться приличным обществом, а одеваться дорого и с неброским дурновкусием.
Привратник клуба обморгнул глазом мое облачение, глянул на этикетку в ленте моей шляпы и признал, что граф — в Курительном Салоне и вполне может меня ожидать. Известно ли мне, где располагается Курительный Салон? Я уперся в него каменным взором — меня плющили и не такие знатоки. Он сопроводил меня в Курительный Салон самолично.
Граф не встал при моем появлении. Величайшим грешником в Англии он был уже много лет; теперь же надеется стать и величайшим грубияном. Выборщики Всея Англии давно держат его на своей корпоративной мушке. Он оглядел мою одежду. Двухсекундному взгляду удалось олицетворить собой подлинную неловкость, подавленное изумление и напускное сострадание. Разыграно хорошо — он в другой лиге, швейцар ему не чета. Я не стал дожидаться приглашения, сел сам.
— Как поживаете? — сказал я.
— Хрюк, — ответил он.
Это привело к нам официанта. Лорд Побродил громко заказал мне «бокал сырного портвейна», себе же налил чего-то из стоявшего под рукой графинчика.
Затем отвернулся к окну, чтобы поглумиться над проходящим омнибусом. Я тем временем разглядывал его. Мой портвейн на пару оттенков светлее его лица, его портвейн — на пару оттенков темнее. При рассмотрении сквозь бокал «визаж» его представлялся вполне черным, красно светились только глаза.
— Ну, — произнес наконец он, оборотившись ко мне, — вы собираетесь меня интервьюировать?
Сие несколько меня огорошило, но если ему такое в радость — пускай.
— Разумеется. Прошу извинить. Итак, сколь долго уже вы полагаете себя величайшим грешником Англии? — спросил я.
— Европы. И мне не нравится это слово — «полагать». И — с пятнадцати лет. Выперт из трех частных школ, обоих университетов, четырех клубов и Министерства иностранных дел.
— Ну вы даете. И чему вы приписываете такой успех?
— Похоти. Тому, что сейчас зовут «сексом». Приневоливал классных дам, горничных, чужих женушек, дочек — такое, в общем.
— Нравилось ли вам все это и не бросили ли вы подобное занятие сейчас?
— Нравилось, да — все до последней минуты. И сейчас бросил, опять да. Слишком легко, слишком утомительно, мешает телевидению. Просмотру его, то есть, не приему, хыр, хыр.
Я выделил ему положенную улыбку.
— Легко? — уточнил я как можно грубее.
— Нынче — да, слишком. Вы посмотрите, как это удается теперешним ребяткам с кошмарными прическами: за всеми гоняются стада молоденьких телок, мычат от вожделения, сами умоляют. Да когда я был мальцом, мы гордились, если удавалось откусить даже от черствой пышечки, теперь же поглядите только — от девок они отбиваются. И от хорошеньких девок, заметьте, все уродки куда-то попропадали. Как и полицейские, надо думать, — загадочно прибавил он.
— Но с тех юношеских пор, лорд Побродил, вам это занятие сложным не казалось, правда?
— Разумеется, нет. Разумеется. Как раз обратное. Вообще-то я никогда не понимал, отчего мужчины нашего поколения… — я вздрогнул: не собирается же он включать сюда меня? — …считали соблазнение сложным. То есть, нас, немногих поистине компетентных соблазнителей, никогда не разъедало тщеславие касаемо собственной удали, ибо мы знаем, как оскорбительно проста вся эта катавасия. Для начала, женщины почти все без исключения потрясающе глупы — вам наверняка это известно, — иногда и не верится, что мы с вами и они относимся к одному биологическому виду. Вы знаете, что девять из десяти не способны масло отличить от маргарина? Это факт, точно вам говорю, я видел, как это вновь и вновь доказывают по телевидению… Затем, в пользу соблазнителя говорит еще одно: почти все женщины, знают они об этом или нет, до смерти желают соблазниться — им это, видите ли, важно. Некоторым хочется, потому что не замужем, некоторым — потому что за; некоторым — потому что вообще-то слишком для такого стары, а некоторым — потому что слишком молоды, хех-хех; красивым женщинам это нужно, поскольку льстит их тщеславию, а уродкам требуется ободрение; лишь очень малое число женщин по-настоящему сбрендило на сексе, но такие — скорее исключение: большинство вполне фригидны, но все равно укладываются в горизонталь, надеясь, что их следующим ездоком окажется сам мистер Сам, который наконец их пробудит, и в их нелепом нутре расцветет волшебство, о котором они столько читали в мусоре, ими всеми обычно читаемом. Трагедия же в том, что ни на одну из тысячи не стоит переводить порох и дробь. Experto crede[107]. Те, кто постарше — в общем и целом, — вот удачное приобретение: они всегда считают, будто это их последний раз, понимаете?
Мне уже хватило — все это звучало, как редакционная статья в «Сугубо мальчуковой газете»[108] или прощальная речь старосты АМХи[109], но едва я собрался перебить, граф опять дал шпор, а розовые выпученные глаза его вперлись в потолок, и голос зазвенел с новой силой:
— Любой мужчина, вооруженный этим простым знанием, неуязвим: строй женщин он будет разметывать, как Аттила[110], лишь бы гонады не подвели. Ему вовсе не нужно быть симпатичным, бойким или богатым (хотя в наши дни легковой автомобиль считается довольно существенным) — иногда оказывается вполне полезно быть бедным, тощим и косноязычным. Даже тучным не следует отчаиваться, ибо опытные девицы опасаются натисков костлявого таза и многие ассоциируют нас, полнощеких, со своими отцами, к которым они обычно украдкой питали подростковую страсть… Как я уже сказал, знание, что перед вами просто крикетные воротца, должно сообщить будущему жеребцу все необходимые преимущества, но пока я не сбился с темы, могу поделиться с вами несколькими практическими советами, которые мне уже без надобности. Вы записываете?
— Да нет, — ответил я. — Вообще-то я…
— Тогда записывайте. Эй, официант, — принесите бокал бренди для моего э, для этого э, джентльмена. Нет-нет, знаете же — того другого бренди. Теперь слушайте внимательно… (А), — изрек он, отчетливо произнеся скобки. — Вы должны бесперебойно льстить своей мишени — и как можно грубее, только чтобы не хихикать самому: масла на хлебе никогда не бывает слишком много. Не переживайте, если вам не верят, сама тема их все равно крайне чарует. (Б) Помните, что женщины восприимчивы к холоду, — никогда не устану это подчеркивать. Женщина, сидящая на сквозняке, — просто неодушевленный ком плоти, тогда как женщина с теплыми руками и ногами — это армия с оголившимися флангами: считайте, битва наполовину выиграна. Не упускайте этого из виду. (В) Целыми поколениями читателей «Газеты Пег»[111] учили, что завоевать сердце мужчины можно, лишь разговорив мужчину о нем самом. Поэтому никогда вообще не говорите о себе: подобная сдержанность доведет их до помешательства от любопытства, и они готовы будут обменять сокровище своей непорочности на ваше к ним доверие. (Г) До отказа набивайте их горячей, питательной едой — и как можно чаще: это и дешевле, и эффективнее алкоголя, от которого они принимаются лить слезы, их тошнит, и вообще они себя ведут безотрадно. А пища вызывает в них восхитительную истому, что крайне способствует сладострастию. Попробуйте сегодня же — пища доступна в «Фортнумзе», разумеется, в «Пакстоне и Уитфилдзе» и э-э… «Фортнумзе» — таких вот местах. (Д) Прежде чем совершить окончательный бросок на женскую добродетель, во что бы то ни стало убедите даму снять туфли. Этого легко достичь и без всякого намека на непристойность, однако женщина сразу почувствует себя приятно раздетой и смутно окруженной (и кроме того — счастливее, ибо туфли у нее почти наверняка на размер меньше, нежели потребно). Побудите ее снять остальную одежду самостоятельно — понемногу за раз; это сообщит вам поистине сильное положение. (Е) На предпоследней стадии непрерывно утишайте ее страхи; произносите успокаивающие бессмысленные слова, будто разговариваете с норовистой кобылой, а особенно — если женщина сколько-нибудь набожна. При необходимости можете ей объяснить, что на самом деле вообще с нею ничего не делаете, — такому она поверит, несмотря на показания всех органов чувств, если донести до нее сию мысль здраво. Вообще говоря, таков единственный способ с самыми рьяными. (Ё) С крайним тщанием старайтесь не делать стрелок на чулках, не рвать бретельки и не портить прически, в особенности, если ваша мишень — девица небогатая. Девственность предназначается, в конце концов, в подарок, а вот хорошая прическа может стоить до двух-трех гиней, вы об этом знали?.. Я так и слышу ваш голос: все это, дескать, очень хорошо… — тут я открыл рот, но там же безропотно его и закрыл, — …и мы вам чертовски признательны и все такое, но как нам от них избавляться, когда интерес утрачен, а взоры наши устремляются к чему-то свеженькому? А! отвечаю я, — громыхнул он, — тут-то вы меня и поймали. Ибо отвергнутая женщина — штука невероятно липучая и серьезная угроза окружающей среде, как ныне выражаются. Установленных правил нет. Иногда можно, так сказать, сдать ее в утиль, навязав своему менее одаренному приятелю, но я обычно полагаю, что лучше всего — вести себя откровенно и по-мужски: сердечно и любезно пояснить объекту, что она была всего лишь забавой праздного часа и теперь вы намерены выбросить ее, будто замаранную перчатку. Некоторые ядовито ответствуют, что «свежачка еще завались», прочие же приходят в такую яростную досаду, что любовь к вам у них куда-то исчезает сразу, будто крыса в сточной канаве, и они своим ходом и на высокой скорости отправляются к ближайшему баку для замаранных перчаток.
Он густо хмыкнул, засипел и тревожно закашлялся. А едва научился дышать снова, я поблагодарил его за лекциетку и напомнил, что к теме моего визита нам еще только предстоит приступить.
— Вы это о чем? — фыркнул он. — Дал вам довольно для десятка статей.
— Это правда, только я не писатель, знаете ли, хоть и могу им стать, настань для меня черные времена.
— Но вы же — юноша из «Дневника» «Газетт», нет? — Он вперился в меня с глубоким подозрением.
— Милостивый боже, да нет же! — воскликнул я, впервые за день шокированный. — Что за кошмарная… Меня ни разу так не…
— Ну так а кто вы, к дьяволу, тогда, и как сюда проникли?
Через некоторое время мы во всем разобрались, и я выжал из него неохотное согласие дать мне одним глазком взглянуть на отвратительную Обедню.
Выходя из Клуба, я отметил у входа несчастного борзописца — он весь трясся от алкоголя, ныл и подлизывался к привратнику. Я пожелал ему радостного интервью.
Жилище графа оказалось всего в двух шагах. Один из тех бельгравских массивов с фасадом, похожим на старый Юстонский вокзал. Прислуга в таких домах — по-прежнему английская (и где ее только находят?), а ступени парадного крыльца устроены таким манером, что дворецкий, открывая двери, устрашающе высится над вами. Тот, что возвысился надо мной в ответ на звонок, оказался прекрасным хорошо вызревшим образчиком, который явно кушал овсянку до последней ложечки, когда ходил в дворецкие ясельки. Манера его была учтива, хоть и снисходительна, однако в глазу читалось, что он знает все про господ, желающих почитать в хозяйской библиотеке. Он лишил меня пальто, шляпы и зонтика с легкостью умелого мастерового и провел по скульптурной галерее к искомой зале. Скульптура была потрясающе хороша и той смачности, что обычно редко водится за пределами Крыла редкостей «Музео Борбонико»[112]. Я не смог противиться порыву чуточку помедлить у необычайно наглядной «Леды и лебедя» — мне наконец удалось сообразить, как лебедю это удалось. Ни за что не поверите.
В конце галереи располагался небольшой вестибюль, освещавшийся лишь затененным лучом света, игравшим на предельной фигуре Пана — Древа с одной Ветвью, — коя, стоило нам ее миновать, вдруг обратилась питьевым фонтанчиком способом весьма драматичным и причудливым. Дворецкий впихнул меня в библиотеку, указал библиотекарскую конторку и оставил меня на произвол судьбы — или же отшельнических грешков, как, я осмелюсь счесть, он подумал. Я побрел по аллее стеллажей, набитых ошеломляющим собранием бесценной и богато переплетенных грязи и мусора. Нерсиа терся плечами с Д.Г. Лоуренсом, крупноформатное издание де Сада (иллюстрированное Остином Османом Спэйром) теснилось рядом с инкунабулой Гермеса Трисмегиста, а десять различных изданий «Истории О» смотрелись странными сопостельниками «Demonomanie des Sorciers» Де ла Бодена[113].
Библиотекарем графу служила некая юная щепка с кругами под глазами. Не похоже было, чтобы на чтение ей оставалось много времени.
— Вы — «Свежие девушки в Париже»? — спросила она. Я поразмыслил.
— Нет, вообще-то я скорее — Обедня святого Секария.
— А, да. Я вам ее уже выложила. Славная простенькая рукопись XVII века без стяжений, трудностей при чтении у вас возникнуть не должно. Кроме того, я приготовила вам обычный требник на латыни — это сбережет вам время, можно переписывать только расходящиеся пассажи.
— Благодарю, вы очень любезны.
— Не за что. С вас, пожалуйста, пятьдесят фунтов.
— Пятьдесят? Но позвольте, это просто неслыханно у собратьев-ученых. То есть, обычный жест вежливости…
— Граф — не ученый, а вежливость не попадает в сферу его интересов. Он только что проинструктировал меня по телефону взять с вас пятьдесят фунтов: дескать, вы и так уже получили… по-моему, он сказал «скачных советов»… которые стоят намного больше.
Я прикинул, что Джордж и Сэм все равно делят со мною все наличные расходы, и отстегнул искомую сумму, хоть и весьма нелюбезно. Карточку «Клуба едоков»[114] она принимать не хотела, чек — не желала, но готова была отправить лакея к «Карлосу», чтобы выхарить из хозяев, по самые ягодицы погрязших в пиастрах, очередной овердрафт для меня. Покончив с кассовыми формальностями, я провел долгий и отвратительный час-другой за перепиской значимых пассажей Обедни — в молчании, прерываемом лишь ерзаньем и хихиканьем человека, явившегося почитать «Свежих девушек в Париже»: личности в летах, чьи мысли уже должны бы обращаться к вещам повозвышеннее.
«Тьфу ты», — подумал я.
После всего я принял ванну и несколько напитков, а также прочего в моем собственном клубе — храме света в сравнении с чудовищным притоном Побродила, — и отбыл на Джерси.
Джок встретил меня в аэропорту в «большой банке для варенья», как он называет «роллс». Известия были нехороши. Иоанну не изнасиловали, зато надругались над супругой дружественного нам врача, живущего в миле от нас. Из дому его выманили ложным известием о дорожной аварии. Насильник выкрутил лампочку на крыльце и позвонил в дверь. Прочие подробности соответствовали.
— И я выяснил у нового садовника — того старого хрена, — что значит меч на животе, — сказал Джок.
— Я тоже, — ответил я. — Он хоть упомянул Пасху?
— Не-а. Все талдычил, что это из-за пакисов, да только чушь это, нет? Птушта никаких пакисов на Острове не водится — только в лавках в Сент-Хельере, где торгуют безпошлыми часами.
— Джок, по-французски Пасха будет «Pâques». В беззубом рту древнего джерсийца это слово и впрямь примет вид «пакиса».
— Ну и вот, видите или как?
— Вижу. А что у нас с миссис Сэм?
— Ну, все не здорово. Я слыхал, ей поплохело, и ее утром сплавили на большую землю. Мистер Давенант уже звонил, спрашивал, когда вернетесь. Ему, похоже, тож худо.
— Ох батюшки, так он заглянет вечером, как думаешь?
— Не, он из Англии звонил. Вернется завтра утром, хочет зайти на ланч.
— Стало быть, и зайдет, — подытожил я. — Стало быть, и зайдет. Но гораздо важнее — есть ли у нас мне что-нибудь на ужин?
— Ну. Я вам целое угощеньице приготовил — почки все в вине и горчице на жареном хлебе, пара картофелин в соку и чесночку побольше.
— То, что надо! — воскликнул я. — Полагаю, ты не бросишь меня за столом одного, Джок?
— Очень надо, мистер Чарли.
9
Что за гадюки здесь чесали спину?
Аспид какой
Ласкал кольцом тягучим Фаустину,
Главой срамной?
«Фаустина»Весна кишела в воздухе на следующий день недвусмысленно, и я в кои-то веки пробудился с ощущением благополучия и позывом совершать долгие пешие прогулки по сельской местности. Понуждаемый разделить сие чувство, я прошествовал в комнату Иоанны и распахнул занавеси.
— Как можешь ты лежать здесь, — воскликнул я, — когда солнце льет свои лучи, а весь мир празднует май?!
Я не вполне уловил те два слова, что она промычала в ответ, но они значили явно не «доброе утро».
Вскоре я был уже внизу — бил копытами и мешал хозяйству, требуя себе приличный завтрак вместо моих обычных «алки-зельцера» и декседрина. Крайне вкусно все это — и овсянка, и копченая рыба, и бекон, и яйца, и гренок, и джем, вот только последний кусочек бекона обернулся у меня во рту прахом, когда Джок вывалил у моей тарелки утреннюю почту. На самой вершине кучи лежал унылый конверт цвета буйволовой кожи — из тех, что помечены буквами НСЕВ[115]. Чтя, я содрогался. С показным замешательством Налоговый Инспектор Ее Величества отмечал, что в прошлом году, согласно моей Налоговой Декларации, издержки мои превзошли мой доход; на что же тогда, заботливо осведомлялся он, я изволю существовать? И далее он умудрялся предполагать — хоть и фразируя это несколько иначе, — что он обо мне беспокоится. Хорошо ли я питаюсь?
Я выписал ему чек на совершенно иррелевантную сумму в £ 111.99, коя собьет с толку его электронно-вычислительную машину на месяц, а то и на два, после чего в полном счастье провел десять минут, стирая имя и адрес получателя с конверта и впечатывая новые, тем самым переадресуя послание моему новому другу, преподше Скон-колледжа. Всем хорошим в жизни нужно делиться — вот как я всегда говорю. Сим путем мы проходим лишь раз, знаете ли.
Джордж явился прежде Сэма и рассказал мне о последнем деянии насильника. Наутро Джордж телефонировал супругу жертвы, ибо они приятельствовали, и подтвердил слухи о наличествовании уже знакомых нам гадких магических финтифлюшек. Словесного портрета, достойного подобного наименования, у нас по-прежнему не было: супруга врача, крепкая кобылка, попробовала сорвать с насильника маску, пока он наиболее глубоким манером был погружен в свою задачу, но тот немедленно оглушил ее ударом кулака в висок — на удивление добросердечным и, как мне помстилось, довольно-таки мастеровитым. Хоть с какой-то определенностью его жертва могла сообщить лишь, что мужчина был силен, хорошо сложен и, вероятно, не самой первой молодости.
— Похоже, встряска для нее оказалась не слишком велика, — продолжал Джордж. — Была, видите ли, медсестрой в Армии. Этих девах трудно шокировать. Я так полагаю, она больше в ярости, нежели в чем-либо ином.
— А как Соня?
— Ну, в общем, бывает, что еще колготится, когда не забывает вспомнить, но в целом, я бы сказал, оправилась неплохо. В отличие от бедняжки Ви — у той, похоже, все дома будут еще не скоро. Кстати, поосторожней выражайтесь при Сэме — он принимает такое очень близко к сердцу. Вполне может убить.
Тут и вошел Сэм, словно ему суфлировали: бледнее обычного, не так ухожен, физиономия безрадостная. Выхлебал половину стакана, мною ему предложенного, даже не присев.
— Так? — вот что рявкнул он, когда все же уселся.
— Нет, Сэм, — ответил я. — У нас все не так, и я бы предпочел обсуждать дела лишь после того, как мы все чуточку освежимся, вы не согласны? — Он лишь зыркнул на меня, ничуть не соглашаясь, поэтому я пошел другим галсом. — Но сначала, — сказал я, — если вы не против с нами поделиться, нас очень тревожит Виолетта. Например — где она?
Он допил стакан вторым же глотком. Напиток вообще-то довольно крепкий для обеда. Я смешал ему еще, на сей раз позволив себе капельку больше свободы с содовой.
— Чертовски кошмарное место у Вирджиния-Уотер, — наконец соизволил он. — Но не у самого озера, а из тех других частных лечебниц, что специализируются на Нервных Расстройствах, как они это называют. Жуткие викторианские казармы в стиле «возрожденной ломбардской готики» — очень похоже на Манчестерскую ратушу, но вокруг рододендроны и араукарии. По коридорам мечутся розовые дородные консультанты, за каждым, как за кометой, — хвост обожающих ключниц, сестер, нянечек и уборщиц. Будто мальцы бегают за лошадкой с совочком и ведерком, чтобы у папаши розы хорошо росли. Мерзкая сучка в регистратуре мягко довела до моего сведения, что стоимость пребывания — 60 фунтов в день, а потом прищурилась, ёкну я от такого или нет. «Плата взимается за две недели вперед», — продолжала она. Я отдал ей чек на 840 фунтов, и она сказала, что «доктор», возможно, «посмотрит» Виолетту нынче вечером. Я ответил, что за 840 фунтов «доктору» чертовски лучше бы посмотреть Виолетту здесь и сейчас. Регистраторша глянула на меня так, будто я перднул в церкви. После чего мы обменялись парой слов, и я победил, хоть и пришлось извиниться за наречие «чертовски».
— «Мне жаль барана, что с тобой бодаться вздумал слабеньким умишком», — процитировал я. Зверский взгляд его сообщил мне, что игривость не подобает настроению момента. (Не могу, понимаете ли, ничего с собой сделать: один недобрый друг некогда показал мне абзац в «Медицинской энциклопедии»:
«МОРИЯ, — гласил абзац. — Болезненная тяга к произнесению предположительно остроумных замечаний. Иногда случается у людей с чрезмерно развитыми лобными долями мозга».)
— «Доктором», — продолжал между тем Сэм, — оказалась венская еврейка…
— Совсем как Иоанна, — жизнерадостно напомнил ему я, пока он не успел вмешаться.
— Совсем не как Иоанна. То был Бодлеров оригинал, «affreuse juive»[116], выглядела она, как злонамеренный мешок картошки. Но, к моему удивлению, культурная и явный ас в своей работе. Выслушала регистраторшину версию событий, сложив руки на коленях, не взглянула на нее ни разу, но регистраторша под конец еле сдерживала слезы. Потрясающая тварь. С таким бодрым бессердечием, которое наблюдаешь только у лучших врачей, — серьезно-проникновенным и деликатным я не верю, в Оксфорде бывал знаком со многими студентами-медиками. После этого доктор отвела меня к себе в кабинет и расспросила о Виолеттиных родственниках. И тут я, конечно, не мог не выложить ей про «Лючию ди Ламмермур»[117].
Я тактично похмыкал. «Лючией ди Ламмермур» Сэм зовет свою тещу, которая «аффрёз» примерно в той же степени, на какую может рассчитывать любая теща. Одевается она, как шестнадцатилетка, в сборчатые юбки и носочки, волосы у нее длинные, золотые и накладные, а лицо выглядит, словно катастрофа на лакокрасочной фабрике. Она то и дело въезжает и выезжает из дорогих частных клиник для скорбных душою, но хобби ли это богатой женщины, пропойца ли она, коей периодически нужно просыхать, или же сбрендила окончательно и бесповоротно, никто из ее родственников так, похоже, и не решил — да им и без разницы. В последний раз о ней слыхали, когда она встала на крыло курсом на Северную Африку с восемнадцатилетним целителем, который, к тому же, работал лифтером.
— Я сообщил доктору Дрочкель — да, Голде Дрочкель — названия двух последних психушек, в которых теща моя была завсегдатаем, и доктор туда сразу же позвонила — сказав, что это может быть неотложно, — однако ни в одной не смогли найти истории болезни, или как там это у них называется. Причудливо, нет — что скажете?
— Да не весьма.
— Э? О. Понимаю. Ну что, потом она расспрашивала у меня всякие диковины про Виолетту: не склонна ли она неверно что-либо понимать, не случается ли ей путать расхожие обороты — ну вы же помните, как мы ее поддразнивали за то, как она говорит что-нибудь вроде «продувной, как соленый огурец» или «дохлый, как стадо макак», — и я вынужден был отвечать «да» на ужасно многие, что меня крайне встревожило.
Речь его становилась качкой; бывает, мне мстится кошмар — я вижу, как мои собратья плачут. Я смешал ему монструозный напиток и попробовал сменить тему. Напиток он принял и даже оправился, однако смены темы не потерпел.
— Дальше все было довольно ужасно, — твердо продолжал он. — Мы поднялись туда, куда определили Виолетту, — палата даже приятная, — и доктор Дрочкель впрыснула в нее амитал-натрия. От этого Виолетта прекратила так ужасно таращиться, но разговорчивее не стала. Дрочкелиха приподняла руку — Виолеттину, то есть, — и рука так и осталась в воздухе. Потом докторица ее согнула, и рука опять так и осталась. Докторица сказала, что это называется «flexibilitas cereas»[118] и, судя по всему, характерно для того или сего. Затем Дрочкель снова силой прижала Виолеттину руку и тихонько по ней постукала — и всякий раз от этого рука чуточку приподнималась, как лампа на ножке. Это, судя по всему, называется «mitgehen»[119]. Видеть такое — сущее зверство. Потом меня оттуда вытолкали, чтобы Дрочкель провела полный осмотр по всей форме, и мне пришлось лет сто дожидаться снаружи. А после у меня в голове все уже так сотряслось, что я не очень соображал — понял только одно: депрессивный транс у Виолетты или же кататонический, можно решить, только подбросив монетку, но от разницы между ними зависит все. Как ни верти, велика вероятность, что в любой момент Виолетта может встать и нырнуть в окно: у кататоников развивается чудное представление о том, что они ангелы, — а это значит, что с нею круглосуточно должна быть сиделка, что ежедневно будет обходиться в еще одну громадную сумму. Затем добрая Дрочкель выделила мне кровать — бесплатно! — и пилюлю, и я проспал до самого самолета сегодня утром, вот и все.
Я налил ему еще — так было легче, нежели что-нибудь говорить.
Джок — со свойственным ему ощущением нужного момента — объявил, что ланч подан, и мы уселись за трапезу из чаячьих яиц, террина из кролика и холодных орешков с карри. Попробуйте кто-нибудь рассусоливать о личных горестях, когда на языке тают Джоковы холодные орешки с карри — они выдающиеся, слово чести. Пили мы бутылочное пиво, ибо я не одобряю вина за ланчем: оно либо вызывает сонливость, либо распаляет животные порывы; в любом случае остаток дня идет псу под хвост. Насытившись, Сэм приподуспокоился; Джордж, казалось, дремал — быть, как мы, ему не хотелось.
— Ну, — произнес Сэм, — так расскажите же нам о своем оксфордском предприятии, Чарли. Что предложил ваш emeritus magus[120]?
Я рассказал, стараясь не подпускать в голос извиняющегося тона и изо всех своих сил выдвигая богохульственную причуду как единственный довод разума, который одержит над всем верх. То, что в Оксфорде казалось здравым, за джерсийским обеденным столом выглядело обычной придурью, и пустота в глазах моих сотрапезников, их обоюдные косые взгляды не весьма способствовали моей убедительности. Завершил я убого.
— И если вам, друзья, есть что предложить получше, — убого завершил я, — я вас в восторге выслушаю.
Нависла долгая кисельная пауза. Джордж запустил указательный палец исследовать всякую волосинку своих бровей, затем проверил наличие мочек на ушах и ямочки на подбородке, после чего принялся напоминать себе о контурах собственного носа, очертаниями смахивающего на большой палец.
Сэм же, напротив, оставался недвижим — судя по виду, его целиком захватило созерцание пятна от карри на скатерти.
Пока Джордж и Сэм хранили соответствующие молчания, вошел и все убрал со стола Джок. Будь я проклят, если поспособствую им раскочегарить балёху; хотя мне вообще-то пришло в голову, что многие достойные люди сказали бы — я проклят и без этого.
— Хорошо, — сказал наконец Сэм. — Я готов испробовать. Если эта свинья спятила так, как кажется, я полагаю, лучше всего ее побивать ее же собственной бредятиной.
Джордж медленно кивнул.
— Вероятно, единственный язык, который он понимает, — произнес он неколебимым голосом сельского магистрата. — Отвратительно. Возможно — бесполезно. Определенно — дорого. Но, как сказал Чарли, что еще тут приходит на ум? Видал, как действуют вещи и постраннее, если вдуматься. Да — в Индии, в таких вот местах.
— Господа, вы же, я надеюсь, понимаете, — сказал я, — что вам придется во всем этом несколько участвовать? То есть, во время Обедни придется сделать пару безотрадных вещей, изволите ли видеть, а священнику-расстриге будет и без того чем, так сказать, заняться почти всю службу.
— Да, — ответил Сэм.
— Да, наверное, — сказал Джордж. — Но будь я проклят, если стану зубрить наизусть эти черные отченаши задом наперед. Или подобную гиль.
— Черные отченаши? — переспросил я. — Джордж, вы что — изучали вопрос?
— Все мы, Чарли, раньше или позже читаем Денниса Уитли[121], — ответил Сэм.
— Говорите за себя, — одернул его я.
— Позвольте уточнить, — произнес Джордж. — Я верно понимаю — весь этот балаган должен обескуражить нашего ведьмуна или как его там и дать ему понять, будто мы тоже стакнулись с демонами и прочим, стало быть, ему лучше отвалить, верно?
— Более или менее, но есть и кое-что еще. Видите ли, в Обедне заключено сравнительно дюжее проклятье, от которого нашему объекту ухаживаний полагается зачахнуть и подохнуть собачьей смертью, посему, если наш человек и впрямь верит в свое дело и осведомлен в этом конкретном ритуале — а Драйден почти уверен, что так и есть, — ему надлежит испугаться как следует, и он может вообще прекратить свою деятельность.
— Знахари из Западной Африки это умеют до сих пор, — сказал Джордж. — Тысячи хорошо задокументированных случаев. Если жертва в самом деле верит, будто умрет в назначенный день, она, черт возьми, просто ложится и помирает.
— Уж не хотите ли вы сказать, — медленно выговорил Сэм, — будто есть шанс, что эта штука действительно способна убить нашего человека?
— Ну да, боюсь, это крайне вероятно.
— Превосходно. Когда начинаем?
— Одну секундочку, — вмешался Джордж. — До меня только что дошло — а как этот малый узнает, что Обедню провели, что она вообще такое, Обедня эта, и кто должен получить от нее плюх?
— Я рад, что вы спросили, — ответил я. — Существует лишь один способ, и он будет стоит всем нам определенной доли позора, но зато окажется эффективен.
И я сообщил им, что за способ. Когда истекли шумные и язвительные десять минут, мои сотрапезники на него согласились, но из дискуссии дружба наша не вышла неопаленной.
В этот миг в залу вступил Джок с телеграммой на подносике — ему нравится пижонить перед теми, кого он зовет Обществом. Подозреваю, что настоящим камердинером ему бы тоже очень понравилось быть; наверное, подарю ему на Рождество полосатый жилет.
Депеша была от Драйдена. Фразировка ее на миг сокрушила мои мыслительные способности: «ДЕЗАБИЛЬЕ ПРИБЫВАЕТ ФАЛЕЗ ЗАВТРА РЕПОЙ ПАСТИСЬ СУЩЕСТВЕННО».
Надо сказать, у Драйдена имеется один существенный недостаток — его убежденность в собственном владении телеграфным языком: друзей его заблуждение огорчает так, что нет сил. Во время оно можно было и наплевать, однако нынче, боюсь, он стал «клинически зависим», как выражаются алкогольные эскулапы. «Дезабилье» явно означало расстригу, лишившегося облачения и сана, «Фалез» — один из пакетботов, курсирующих между Веймутом и Джерси, а «пастись», судя по всему, — отредактированный рьяным телеграфистом «пастис»; но «репа» оставалась такой же загадочной, как и на Оксфордском вокзале.
— Джок, — сказал я. — В доме имеется «пастис»?
— Есть бутылка «Перно» — это ж одно и то же, нет?
— Запасись, пожалуйста, сегодня полуящиком «пастис». Как у нас с репой?
— Чудно́, что спрашиваете, мистер Чарли. Старый хрыч тока сёдни утром посадил грядку. И жабу под нее закопал. Но пару месяцев еще не взойдет.
— У зеленщиков уже должны продаваться эти маленькие французские. Попробуй крытый рынок в Сент-Хелиере, либо Французские ряды. Если не будет, может, она продается в банках, мороженая или сушеная, — это я оставляю на твое усмотрение, ты лучше понимаешь все закоулки розничной торговли: «нурри дан ле серай, тю ан коннэ ле детур»[122], — но к завтрашнему вечеру добудь, даже если придется платить наличными.
— Ну. Скока?
— Как ее продают, ты не в курсе? То есть, на вес, ты полагаешь, ярдами или как? Чем?
— Сдается, фунтами.
— Ну так что скажешь — пара фунтов составит добрую крепкую дозу для персоны брачного возраста?
— С прибором.
— Стало быть — ну.
— Ну, мистер Чарли.
— Как бы это ни завораживало — видеть вас таким хозяйственным, — раздумчиво произнес Сэм, — вы уверены, что нам не стоит обсудить ничего более насущного?
Я объяснил всё, но ни его, ни Джорджа это не умиротворило. Их первоначальные сомнения касательно нашего проекта возобновились этой беседой о «зернобобовой мистификации» (Сэм) и «жутких папистах, пропитавшихся абсентом» (Джордж). Я их несколько успокоил, но они все равно упрямились. Более того — в рукаве у них оказался собственный план, на исполнении коего они настаивали одновременно с прожектом Сатанинской Обедни.
— Понимаете ли, — сказал Сэм, — мы рассматривали жертв отдельно от колдовского аспекта — на тот случай, если он вдруг окажется отвлекающим маневром, — и хотя три штуки — не очень полезное для обобщений число, кое-какие предположительные заключения можно вывести. Во-первых, все три пострадавшие семьи — англичане. Это наводит на мысль о ненависти к английскому народу вообще.
— А также это может наводить на мысль, — вставил я, — об англичанине, которому не очень по вкусу джерсийские женщины.
— Англичанине? — фыркнул Джордж. — С подобной-то ведовской чепухой? Вздор.
— Мне казалось, мы пока не трогаем колдовской аспект.
— Мы и не трогаем, — ответил Сэм. — А ваш довод засчитывается, если мы придерживаемся логики. Но — далее. Мы с Джорджем оба терпимо зажиточны — хоть и не попадаем в класс иммигрантов-миллионеров, которые, судя по всему, столь возбуждают джерсийскую неприязнь, — однако супруг последней жертвы, врач, богат ровно настолько, насколько это ему позволяет частная практика, а на Джерси живет уже двадцать лет, и его все здесь очень любят. Вместе с тем, мы втроем можем быть отнесены к так называемому «среднему классу», а посему эдакие выпады могут являться выражением классовой ненависти вкупе либо порознь с антианглийскими настроениями. Заметьте — я говорю «антианглийские», а не «антибританские», поскольку Джерси, видимо, остается наилояльнейшим из апанажей[123] Короны. Затем — возраст жертв: им всем — за тридцать. Причиной тут может быть то, что всем нашим женам — за тридцать, но может и указывать на то, что насильнику просто нравятся женщины этого возраста. Это же, в свою очередь, может предполагать… — он буквально давился словами, ибо настроен, очевидно, был на убийство, а не на рассуждения, — что ему действительно нравятся привлекательные женщины в соку, и признать это мы вынуждены сравнительно нормальным. Я имею в виду, что если бы он нападал на маленьких девочек или пожилых дам, мы могли бы уверовать, будто он порочно безумен, не так ли? И последнее замечание: все три жертвы географически близки друг другу, что предполагает в нем пешехода, вам не кажется, или человека, опасающегося пользоваться транспортными средствами. В отличие, разумеется, от Джерсийского Зверя, который, судя по всему, ездил к своим, э-э, выбранным целям по всему острову на автомобиле.
— Или же, опять-таки, человека сравнительно здесь чужого, — мягко вставил я, — вроде англичанина, который попросту не знаком со всеми «напрямками»?
— Да, — терпеливо согласился Сэм. — И впрямь такое тоже можно предположить.
Джордж извлек из себя тот звук, который на письме обычно изображается как «пшик», — его способны издавать лишь те, кто служил в нашей Индийской армии.
— Поэтому мы с Джорджем, пока вас тут не было, составили список, насколько могли, симпатичных англичанок за тридцать, жен солидных английских рантье или же интеллигентов, которые живут в радиусе мили отсюда. Мы полагаем, что общее число вероятных жертв не может превышать семнадцати, и мы вчетвером (я считаю и Джока) способны устроить засады, которые предоставят нам каждую ночь почти двадцатипятипроцентную вероятность успешного попадания в нужное место.
— Да, но как вы убедите насильника — предполагая его наблюдение, — что путь к дому свободен?
— Легко, — ответил Джордж: человек военной профессии принял командование над засекреченными яйцеглавами. — При условии, что мы добьемся сотрудничества со стороны, э, домовладельцев. — (Он, судя по тону, едва не сказал «гражданского населения».) — Каждый из нас проникает в избранный дом в тот час, когда большинство занято работой: скажем, сразу перед полуднем — множество этих джерсийских трудяг проводит добрую половину дня в пабах, поэтому послеобеденного времени лучше избегать. Под вечер супруг отчетливым манером уезжает из дому в автомобиле, громко сообщив, что вернется не позднее полуночи, супруга же в дверях машет ему рукой. После чего тот из нас, кто стоит на страже, продолжает таиться в доме или же — при условии, что существует такое скрытое место, откуда просматриваются все входы в строение, — пробирается в этот тайник. Обсуждаемая супруга некоторое время хлопочет внизу по дому, затем поднимается, включает в спальне свет, быть может, на миг-другой показывается в окне, затем гасит люстру, оставляя гореть ночник, и тихонько уползает в какое-то другое помещение; запирается там. Мы сидим в засаде. Вооруженные.
— Звучит идеально, — осторожно произнес я. — Идеально. За исключением пары моментов, если вы согласитесь выслушать.
Сэм скучающе вздохнул; Джордж сдержанно хрюкнул.
— Они таковы, — продолжал я. — Первое: предположим, моя не вполне серьезная гипотеза того, что это англичанин, верна, — как удостовериться, что мы тем самым не пробалтываемся ему и не охраняем его же собственное жилье?
— Ну, если относиться к этому и впрямь всерьез, то во всякий данный вечер мы просто не будем сообщать охраняемому домовладельцу, какие еще дома охраняются.
— Хорошо, — сказал я. — Только еще лучше — не сообщать ему, что вообще какие-то дома под наблюдением.
— Ну ладно — разумно, если вдуматься.
— Второе, — безжалостно продолжал я. — Как насчет наших собственных жен, пока мы тут играем в бойскаутов? Иоанна обращается с пистолетом так, что загляденье, однако без Джока и она окажется несколько уязвима, а ведь она — следующая вероятная жертва. Соня может больше и не входить в список этого малого, но после пережитого кошмара ей, мне сдается, не сильно захочется оставаться в одиночестве.
— Проще простого, — нетерпеливо ответил Джордж. — Соня устраивает партию в бридж, приглашает Иоанну, парочку лишних мужчин, и никто не уходит, пока мы не вернемся.
Сотрясшись от ужаса, я разинул рот. Ну что тут скажешь? Я мог лишь оделить Сэма сострадательным взглядом.
— Мне представляется, что в уме Чарли, — произнес Сэм, — на первом месте располагается тот факт, что Иоанна по классу бриджа — скорее в международной лиге: она играла с Омаром Шарифом[124]. Соня же — пусть играет со смаком и жаром — обладает одним пустячным недостатком: она неспособна запомнить козыри, но что еще хуже — по причине, ведомой лишь завзятым игрокам, упорствует в реконтре.
— В ренонсе[125], — уточнил я.
— Полагаю, вы правы, Чарли.
Джордж опять решил взять меня на командирский голос — совсем как Мэтью Арнолд, когда влатывался в мантию для пения:
— Послушайте-ка, Маккабрей. Мне бы очень не хотелось думать, будто вы чините нам препоны исключительно забавы ради, но должен сказать — в своей критике вы не вполне конструктивны.
Я несколько поежился — будто провалил штабные курсы в Кемберли[126]. Маккабрею никогда не носить заветных красных петлиц на хаки. «ВВЧ» — «возвращен в часть» — вот что навсегда будет значиться вслед за его именем. И никогда не «ВШК» — «выпускник штабных курсов».
«Ах, ч-черт!» — подумал я, как думали до меня, я уверен, в минуты сходных жизненных неурядиц и люди подостойнее.
— Что ж, — сказал я вслух, — не сомневаюсь, возможно организовать и какую-то иную партею; из-за такого пустяка не стоит разводить катавасицу, верно?
— Так-то лучше. — Джордж расщедрился на еще одну попытку для чахлого офицерика. — Само собой, имеются и другие разновидности партей: есть вист, не так ли, есть «жук»[127], случается вечерок за канастой. Да всякое бывает. С такими заданиями можно справляться, э, в свое время. — (И вновь я чуть не услышал от него: «на взводном уровне». «В конце концов, — словно бы говорил он, — зачем нам иначе сержанты?»)
— Да, Джордж, — произнес я, изо всех сил давя в себе позыв обратиться к нему «сэр». — Но свое последнее возражение я уже высказывал и прежде. Вопрос огнестрельного оружия. Вы же не можете просто ходить и щелкать людей лишь потому, что они насильники.
— Я могу, — сказал Сэм.
— И я, — сказал Джордж.
— А я — нет. Мой.445-й должен томиться в цепях в Оружейной Стрелкового клуба; мой «банкирский особый» и маленький Иоаннин «дикарь» 28 калибра должны быть заперты в ящиках прикроватных тумбочек, когда мы дома, и в сейфе, когда нас дома нет. Я бы, наверное, рискнул салютовать пистолетом злодею на лоне природы, но если бы выстрелил в кого-то — за исключением явной самообороны против вооруженного злодея, — то стал бы первым кандидатом на длительное тюремное заключение. Вы, друзья мои, вероятно, окажетесь в положении несколько более выгодном, ибо в действительности пострадали от этого малого, а потому на вас работает обычай «ни один присяжный не засудит», я же против ловкого барристера вряд ли выстою, объясняя, что убил кого-то, полагая, будто этот кто-то изнасиловал жену того, кого я знаю, не так ли?
— Хорошо, — сказал Сэм. — Тогда стреляйте не на поражение. Вы же должны быть первоклассным стрелком, нет? Цельте в ноги.
— Первоклассные стрелки, — отвечал я, — знают, что поразить из пистолета человеческую ногу в движении — вопрос всего лишь чистой случайности. В то время как человеческое туловище к умиранию относится крайне извращенно. Можно засадить пулю в голову, и жертва уйдет своими ногами — вы же наблюдали этого южноафриканского премьера несколько лет назад[128]. Можно разрядить целый магазин в левую грудь, и жертва на пару недель прикуется к постели, причем неудобства ей будут причинять лишь зазубренные края подкладного судна. Однако всадите пульку мелкого калибра в мякоть ноги, задев бедренную артерию, и человек истечет кровью еще до приезда «неотложки». Если избежите обвинения в смертоубийстве, считайте, что вам повезло.
Повисло долгое и капризное молчание. Наконец Сэм произнес:
— Гр-ракх-х, да напрудите вы себе в килт, Маккабрей.
— Непременно, — чопорно ответствовал я. — Но для этого мне потребуется некая доля уединения. Неужели вам пора? Останьтесь, право.
— Ох, ну послушайте же, друзья мои, — не выдержал Джордж. — Хватит уже. Давайте не будем заводиться по пустякам. Все довольно просто, и Чарли говорит весьма разумные вещи. Совершенно ни к чему рисковать тюремным заключением лишь из уважения к своим товарищам.
Тон его явственно подразумевал, что он именно так бы и поступил, однако же он — истый англичанин, в отличие от всяких там маккабреев, не к ночи будь помянуты.
— Все довольно просто, — повторил он. — Все мы идем вооруженными, но пистолет Чарли будет незаряжен. И с собой — крепкая палка или что-нибудь вроде. Все согласны?
Сэм исторг такой звук, коим вы не даете понять «нет», но слишком разобижены, чтобы сказать «да».
Я сказал:
— Ну что ж, боюсь тогда, нам осталось обсудить только одно.
— О, Христос распнутый на кресте! — взревел Сэм. — Ну что еще?
На сей раз я не стал на него обижаться. Ему, в конце концов, и так досталось. Однако постоять на своем все же следовало.
— Боюсь, Джоку тоже не следует брать с собой пистолет. Его «люгер» незаконен в высшей степени, и более того, Джок — щука.
— ? — сказал Джордж.
— Каши поел у дяди на поруках, — пояснил я.
— ?
— «Каша» — термин, употребляемый крысами всего цвета, — терпеливо объяснил я. — И означает он «каторжные работы». Существует, изволите ли видеть, легенда, согласно которой, если перед самым звонком, за благотворным завтраком вы не доедите полезную кашку, вы окажетесь в узилище снова в течение года. Вам это любой вертухай скажет. Джок подобной кашки за счет Ее Величества не доел несколько тарелок, и если его зачалят с любым огнестрельным оружием, огребет он целиком, что называется. Если он действительно кого-то застрелит — сядет лет на девяносто девять: с максимальной скидкой за примерное поведение, считайте, шестьдесят шесть. Когда откинется, ему будет сто десять лет, и он будет рассчитывать, что я опять возьму его на работу, хотя к тому времени он уже наверняка забудет, как готовить приличный чай.
— Ох, прекратите пороть чушь, Чарли, мы вас поняли. Джок тоже будет вооружен крепкой палкой. Договорились?
— У него имеется, я полагаю, сигара, сиречь отрезок свинцовой трубы, обтянутый мягкой кожей.
— Или отрезком свинцовой трубы, обтянутым мягкой кожей. Это все? Тогда я бы предложил выступать сегодня в ночь. Вот четыре комплекта имен и адресов. Каковы предпочтения?
Стремительной молнией я застолбил себе Брисбен-Хаус, поелику леди Куинн-Филпотт обладала лучшим винным погребом на всем севере Острова, и ни единый насильник в здравом уме не стал бы с нею связываться, ибо она силой десяти богата, поскольку, изволите ли видеть, чиста душой[129]. Более того — она владела доберман-пинчером. Остальные разобрали диспозиции, по умолчанию оставив на Джока бунгало томатовода, населяемого самой насиловабельной из жен, кою только можно себе вообразить. Если б Иоанна оставляла мне хоть сколько-нибудь времени на личные исследования, я бы вполне мог увлечься этой феминой и сам. Подозреваю, объявись насильник в ту ночь у бунгало, ему пришлось бы просить Джока подвинуться.
Джордж, организуя наше бдение, протелефонировал туда и сюда. Сэм, похоже, пытался опустошить мой графин виски на скорость. Джоку я тщательно объяснил, как именно наполнить бутербродами походную коробку. На Иоанну, когда ей сообщили, что придется провести вечер за картами с Соней, нашла редкая блажь покапризничать. Джок принял душ и провел капитальную, я бы сказал, ревизию своих запасов изделий «Лондонской резиновой компании» — этого великолепного кондоминиума. Наконец, все разошлись, и я теперь мог всласть предаться размышлениям на диване — скинув ботинки и закрыв глаза. Плотный обед неизменно будит во мне философа.
Наши ковы того вечера в смысле поимки насильника были, разумеется, полнейшим фиаско.
Я поймал великолепный ужин и превосходную бутылку «Шато Леовилль-Пуаферре» 61 года.
Сэм поймал отбившуюся джерсейскую корову за вымя незаглушенным дулом своего дробовика.
Джордж поймал гадкий насморк от сидения в засаде под древовидной гортензией.
Не хочется думать, что поймал Джок, но уверен — оно того стоило.
Когда я забирал Иоанну с картежной партеи у Джорджа, она ни с кем не разговаривала, и меньше всех — со мной. Я ей рассказал о муках Джорджа под гортензией, а она ответила только:
— Повезло.
— Спокойной ночи, — сказал я, когда мы расставались в вестибюле.
— Спокойной ночи, Клаузевиц[130], — ответила она.
Джок уже удалился в постель, обеспечив себе здоровый крепкий сон, боженька его благослови, поэтому бутерброд мне пришлось готовить самостоятельно.
Крадясь наверх, я поймал себя на странных чувствах к Иоанне. Будь мне двадцатью — или даже пятнадцатью — годами меньше, я бы, вероятно, решил, что влюблен. Возможно, то была тень сожаленья о том, что я — так давно и так справедливо — решил, будто эмоция сия — не для меня, что мне без нее гораздо лучше. Медля на лестничной площадке, с полуобглоданным бутербродом в предательской руке, я испытал нелепый позыв войти к ней в комнату, увидеть разметавшиеся на подушках медовые локоны и сказать — что-нибудь слюнявое, примирительное, нежное. Чтобы она, быть может, улыбнулась. Ведь Иоанна, изволите ли видеть, вполне могла плакать; и женщины плачут иногда. Но у меня имеется непреложное правило: когда хочется подержать кого-нибудь за руку, лучше выпей — по крупному счету всем вовлеченным выйдет полезнее.
Я пошел на компромисс, доев бутерброд, и зашаркал к своему одинокому ложу в миазмах зеленого лука и жалости к себе: можно ли просить большего? Борхес отмечает: «ничто так не утешает, как мысль, будто все наши несчастья добровольны… Поэтому, — толкует он, — всякое неведение — уловка… всякое унижение — раскаяние… всякая смерть — самоубийство»[131].
Чистил зубы я с особым тщанием — на тот случай, если Иоанне взбредет в голову явиться и пожелать мне спокойной ночи, но ей, разумеется, не взбрело; им никогда не взбредает.
10
Ты победил, Бог страны Галилейской, ты серым окрасил мир;
Напились мы вод Летейских, и смерть нам сготовила пир.
«Гимн Прозерпине» [132]Вопя и брыкаясь, затем скуля и дуясь, вывихнулся я из постели, после чего отправлен был встречать Веймутский пакетбот и отца Тичборна — практика, рекомендованного Джоном Драйденом. Я зову его отцом Тичборном, хоть он и расстрига, из тех же соображений, по которым моя бабушка «кухарку за 50 фунтов», сколь непорочна бы та ни была, вежливо звала бы «миссис». (Учтите, это ₤ 50 в год и полный стол, что означает четыре или пять плотных трапез в день, запиваемых элем и стаутом; деньги с костей и шкварок, взятки от всех торговцев, привилегию кормить полицейских констеблей горячими бутербродами с бараниной; право третирования любого и каждого ниже звания дворецкого или гувернантки; лицензию каждые шесть недель безнадежно напиваться [за исключением, разумеется, методистских домовладений]; по меньшей мере одну судомойку для выполнения всей настоящей работы [кухарки за 50 фунтов никогда сами не чистят картошку] и зачастую до семи дней отгулов в год, если сможет доказать, что хотя бы один родитель у нее при смерти. Ныне, без сомнения, они станут претендовать и на возможность пользования радиоприемником. Знаете, этот народ был счастливее, пока мы не начали его баловать.)
Да, стало быть, вот он я стоял на Причале Алберта, дожидаясь швартовки т/х «Фалез» и отца Тичборна. (Причал Алберта, вообразите только! Вам известно, что как Эдуарда VII, так и Георга VI на самом деле звали Албертами, но Семейство не давало им называться этим именем на троне из почтения к Принцу-Консорту Королевы Виктории, а Тайный Совет тоже не позволял, потому что звучит обыденно? «Алберт» то есть, не «Тайный Совет». Оба, конечно, правы.) («Последнее звучало всех подлее: Творить добро, дурную цель лелея», — поет Алфред Пруфрок, если я ничего не перепутал[133]. И если б это имело значение.)
М-да, ну вот, стало быть, на Причале Алберта стоял я, втягивая носом морские бризы, пока аромат использованного пива, тошноты и организаторов комплексных экскурсий не предвосхитил явления «Фалеза».
Я засек его сразу — огромного поджарого самца-церковника в шелковой сутане. Дурной глаз пылал на аскетичном лице, странным манером подпорченном мягкими чувственными губами, кои только что извергли рык в адрес таможенника.
— Приветствую, — вымолвил я, протягивая руку. — Моя фамилия Маккабрей.
Он медленно осклабился в ответ, обнажив разносортицу зубов — будь они малость почище, сделали бы честь любому аллигатору.
— Но друзья ваши, я полагаю, зовут вас просто Хамом, — парировал он, сквозя мимо меня туда, где его поджидала компания предерзкого вида малых. Он шепнул им что-то, и все уставились на меня.
— Нет, ну какой наглый, а? — хихикнул один.
Взопрев от стыда, я отправился на поиски истинного о. Тичборна, который, по собственном нахождении, оказался до блеска отмытым мужичком с физиономией в точности как у «фольксвагена». Он сидел на скамье и листал свежий номер «Плэйгёрл» с видом прилежной отстраненности; одет он был при этом в щегольской костюм из темно-зеленого мохера, каковой ни за что бы не мог себе позволить на жалованье воспитателя детского сада. Обменявшись банальными любезностями, мы расположились в моем «мини», где я заметил, что спутник мой едва заметно, однако вполне приятно испускает аромат кекса с анисом; я предположил, что в действительности это сквозь его усердно дышащие поры истекает «пастис». Едва мы тронулись с места, он пронзительно вскрикнул в смятении. Я дал по тормозам.
— Моя срачица! — вякнул он. — Я забыл мою срачицу!
Я встревожился: Иоанна придерживается широких взглядов на такое, а вот Джок — отнюдь: он примется отпускать замечания.
— Вы имеете в виду, — осведомился я, — что не взяли с собой, э-э, ночную вазу?
— Нет нет нет, — раздраженно ответил он. — Это особое покрывало престола вместе с антиминсом для Обедни, которую мы собираемся служить.
Сбитый с толку, я помог ему в поисках, и мы отыскали в таможенном сарае авоську, набитую сложенной тканью.
— Явите ж, — сказал я.
— Ну не здесь же, наверное. Шитье на ней случайному очевидцу может показаться несколько… что ли, удивительным. А вон тот таможенный служка за нами пристально наблюдает.
По пути домой мы задержались в «Каррефур-Селу» освежиться, хоть час был и ранний.
— Это весьма характерный местный трактир, — пояснил я. — Здесь пьют нечто под названием, по-моему, «пастис» и отзываются об этом напитке высоко. Не угодно ли отведать?
— О нем я слышал, — рассудительно отвечал он, — и жажду испробовать.
— Ну, что скажете? — застенчиво поинтересовался я несколько погодя.
— М-м. Вполне аппетитно. Крепче хереса, я предполагаю. Скажите-ка, оно ведь не должно меня опьянить, как вы считаете?
— Я бы решил, что не должно.
— Но что это вы сами пьете, мистер Маккабрей?
— Это называется «виски». Солодовый напиток, возгоняемый в нагорьях Шотландии. Мне представляется, им широко торгуют на Джерси.
Мы уставились друг другу в непроницаемые лица. Он рассмеялся первым — и после никакого смущения между нами уже не возникало. Как говорится, увидишь — узнаешь, что бы это ни значило.
Иоанна прониклась к нему с первого взгляда, что вселяло надежду, ибо Иоанна никогда не ошибается в людях, что со мною опять же случается постоянно. Она хлопотала вокруг, сообщая ему, как он, должно быть, устал с дороги, и что принести ему выпить (ха ха), и тут в дверях замаячил Джок и объявил, что «кушать подано», замогильным голосом слуги, готового в два счета уволиться.
— Джок, это о. Тичборн, — жизнерадостно сообщил я.
— О как, — ответил он.
— Да. Его багаж в автомобиле. Ты не мог бы незамедлительно его внести?
Джок развернулся кругом и повлекся к дверям.
— О, и будь любезен захватить также его срачицу.
Джок замер на полушаге и угрожающе глянул через плечо.
— ‘Во чё?
— Она в авоське, — ласково пояснил я. Радость на весь день, честное слово, хоть я и знал, что за нее придется платить.
Иоанне захотелось посмотреть на сей предмет вкупе с антиминсом, и хотя о. Тичборн заливался краской и упорствовал, она своего добилась. Как оно обычно и бывает.
— Видите ли, — с беспокойством в голосе говорил Тичборн, развертывая ткань, — освященным платом пользоваться нельзя: с одной стороны, он может отвратить то… существо, которое мы надеемся, э, заклясть, а с другой, это попросту было бы грубо; то есть я всегда верил в необходимость обычного вежливого обхождения с так называемой Другой Стороной, несмотря даже на то, что при собственно церемонии с Ними приходится вести себя ужасно.
Мы сдержанно похмыкали.
— Более того, подобная разновидность Обедни прежде служилась на личности юной, так сказать, личности, но мы убедились, что использование антиминса с изображением подобной юной личности, расположившейся в соответствующей позиции, вполне выполняет поставленную задачу. Я имею в виду, что основываюсь на кое-каком опыте.
Ткань уже развернулась и расправилась на кофейном столике. Должен признать — даже меня она несколько поразила: соответствующая позиция юной личности бесспорно говорила об опыте, заимствуя фразеологизм Тичборна, да и златошвейка была недвусмысленна до крайней плоти, если мне будет позволено сочинить еще один. И Тичборн, и я бросили по встревоженному взгляду на нежновзращенную Иоанну.
— Ух! — вежливо воскликнула она. — Да это в натуре запредельно! — (Американизмами она сейчас пользуется лишь для обороны.) Со своей же стороны я от всего сердца пожелал, чтобы эта натура и впрямь оказалась за пределами наших взоров: в любую минуту мог войти Джок. (Большинство жестоких преступников — ханжи, вы не знали? Разумеется, знали, простите меня.)
— И не говори, сеструха, — рыкнул я, перенимая ее диалект. Она странно взглянула на меня — вероятно, восхищаясь моим даром языков.
— Ты имеешь в виду «ух», — уточнила она, — или вторую часть?
— Не вникай.
— Отец Тичборн, но эта прекрасная вышивка, должно быть, стоила целого состояния, — снова затянула она. — Где вам удалось ее заказать?
— Вообще-то я сделал это сам, — ответил он, багровея от смущения и гордости. — Вышивал целую вечность, должен вам сообщить.
— Шили с натуры, очевидно? — вставил я.
— Да нет, все больше по памяти.
Казалось, на этой ноте и уместно завершить беседу. Пока мы сворачивали антиминс, проинспектировать о. Тичборна явился Джордж. Будучи представлен, он пустился в наикультурнейшие звукоподражания, кои только был в силах воспроизвести, создавая тем самым впечатление, будто, с его точки зрения, единственный хороший папист — это папист-расстрига.
Тичборн несколько поднялся в его глазах, задав пару вопросов о его полку, но затем вновь опустился, сообщив, что сам служил капелланом в «Свободной Франции»[134].
— По вам оно и видно, — радостно объявила Иоанна.
Лицо Джорджа обернулось неким бледным оттеночком черного — он это принял довольно близко к сердцу.
— Французы были за нас, Джордж, — напомнил я. — То есть, в этот последний раз.
— Вы же на ланч останетесь, не так ли, Джордж? — спросила Иоанна.
Он не может, у него назначена другая встреча, он уже съел ланч, он никогда не ест ланчей, на ланч его ждет Соня, ему нужно успеть на поезд. По Джерси никаких поездов, разумеется, не ходит: мне думается, он просто хотел уйти и что-нибудь пнуть. Все это как-то связано с местом под названием Дакар[135].
Ланч поначалу был довольно-таки ужасен: у кухарки в тот день случился выходной, потому в наряд вышел Джок, и по всему было заметно — ему не весьма нравилось обслуживать о. Тичборна. Он подал суп Иоанне, затем, невзирая на мой кашель и взоры, — мне. Я виновато скривился Тичборну. Его тарелка супа прибыла добрых три минуты спустя.
— Да пропади ты пропадом, Джок, — рявкнул я, — твой большой палец — в супе отца Тичборна!
— Эт ничё, мистер Чарли, он не горячий.
Тичборн нахмурился мне и покачал головой, поэтому я не стал вдаваться.
Далее следовали почки, обернутые беконом и зафаршированные в печеный картофель. Вообще-то вкусные — но не у Тичборна: ему были поданы мелкие, с опозданием и довольно подгорелые.
Рассвирепев уже всерьез, я открыл было рот, дабы отчитать Джока, но тут Тичборн воздел руку.
— Джок, — тихо и мягко обратился он к моему головорезу. — Один раз — случайность, два — совпадение, три — неприятельские действия. Под этим я имею в виду, что если вы еще раз опозорите таким ничтожным образом миссис Маккабрей, я выведу вас в сад и основательно расплющу вам нос.
Упало жуткое молчанье. Глаза Иоанны распахнулись шире некуда — как и мой рот. Джок стал надуваться, будто лягушка-бык. О. Тичборн налил себе воды.
— Еть мя в буркало, — наконец выдавил Джок.
— Следи за глаголанием своим! — повелел невеликий священнослужитель гласом поистине громовым. — По сути, ты заклинаешь Господа себя ослепить — но ты уже утратил в одном оке своем силу зрения: посему будь осторожен, Кого ты молишь выдрать его собрата.
Я приподнял голову — штукатурка с потолка не сыпалась.
Ужасная пауза длилась дальше.
Наконец Джок кивнул и скрылся в кухне. Затем возник вновь и установил перед о. Тичборном крупную и великолепную на вид почку.
— Возьмите-ка лучше мою, — сказал он. — Сэр.
Когда за ним затворилась дверь, обитая зеленым сукном, Иоанна произнесла:
— Ну и ну.
О. Тичборн вымолвил:
— Полагаю, я приобрел себе друга.
— Вам следует приезжать к нам почаще, — сказал я.
Позднее, когда мы жевали какие-то сыры — по-моему, «бри», — вознесенные (сыры, не мы, разумеется — я просто обязан овладеть вразумительным изъяснением)… сыры, говорю, вознесенные на несравненные «Столовые Крекеры» мистера Карра… батюшки, ну и неразбериха у нас с сентенциями, как выражался милейший Судья Джеффрис на «Кровавых Ассизах»[136]; позвольте мне начать сызнова. По ходу протяжения сыропоедательного периода я извинился перед о. Тичборном за то, что на ланч не сумел предоставить ему никакой репы, но заверил, что в настоящий момент весь рынок прочесывается, посему я надеюсь, что за ужином сии аппетитные корнеплоды явят себя во всей красе.
— Репа? — слабым голосом уточнил он. — Репа? С вашей стороны это необычайно предусмотрительно, однако, если быть до конца откровенным, с моей стороны было бы лицемерием делать вид, будто я выдающийся репоед.
— Да? — озадаченно переспросил я. — Но доктор Драйден заверил меня, хоть и отчасти загадочным манером, будто репа несет в себе крайнюю насущность.
Несколько времени он недоуменно размышлял.
— Ха! — в конце концов вскричал он. — Ха! Ну конечно же!
— Да, да, — согласились мы, — конечно же?..
— Нет-нет, — продолжал он, — понимаю, понимаю. Он знал, что мне для нашего ритуала потребуется ломтик-другой репы. Видите ли, при, э, эквиваленте Вознесения Даров либо следует брать освященную Облатку, которую затем осквернили, — а я уже говорил вам, как не нравится мне грубить Другой Стороне, — либо самому изготовлять шарж на нее (старый проказник сэр Фрэнсис Дэшвуд и его приятели по «Клубу Геенна»[137] называли такое «Требуховником Святой Гостьи»), либо — и это лучше всего — использовать то, что можно счесть пародией на Гостию: вообще-то ее как раз и делают из ломтика репы. Красится, знаете ли, в черный и режется эдаким, ну, причудливым, что ли, манером, если вы следите за моей мыслью. — Он тревожно глянул на нас. — Так выходит менее оскорбительно, понимаете? — продолжал он. — А результат так же хорош. Вполне хорош. Честное слово.
— Вам можно подавать кофе? — спросила Иоанна.
В тот день — все уже друзья и все исполнены ланча, ибо мне чуется, что Джок пожрал угрюмую банку икры, — мы, снабдившись умелой корзиной для пикников — вдруг воссияет солнце, — отправились на рекогносцировку часовен.
Прошу прощения, однако мне придется кое-что про эти часовни объяснить. В приходе Грувилль, на востоке Острова, имеется место под названием «Ля Уг-Би». Полагаю, никому в точности неведомо, что сие название означает. Это чудовищный рукотворный курган, в недрах коего, раскопанных лишь какие-то полвека назад, пребывает дольмен: гробница, сооруженная пять тысяч лет назад из громадных каменных глыб. Чтобы добраться до главной камеры гробницы, нужно ползти, согнувшись вдвое, по каменному тоннелю целую вечность, как при сем представляется. Если у вас клаустрофобия, если вы суеверны или попросту говоря трус, место сие вы сочтете отвратительным и мрачным. Я его терпеть не могу по всем трем вышеозначенным причинам — и не перевариваю одной даже мысли о грубом народце, его соорудившем; мне противно рассуждать о мерзостном понуждении, кое заставило их волочь и вздымать эти монструозные каменья, а затем наваливать на них сверху бессчетные тонны земли — и все ради того, чтобы инцистировать какого-то жуткого доисторического гитлеришку.
Вместе с тем, я полагаю, что всем нам пользительно время от времени навещать подобные места, дабы напоминать себе, сколь недавно мы произошли от дикарей.
Увенчав огромный курган и, что любопытно, в точности над главной камерой гробницы, в XII веке кто-то выстроил пристойную часовенку, посвященную «Нотр-Дам-де-ля-Клартэ»[138]. Несколько столетий спустя еще один достойный малый выкопал себе еще один склеп в благочестивом — хоть и ошибочном — убеждении, что это будет точная копия самого Гроба Господня, после чего на первую часовенку присобачил вторую. Эта последняя называется Иерусалимской.
Сам я в дольмен не пошел: одного раза мне вполне хватило, я просто не очень люблю, когда по коже ползут мурашки. Джок рыскал в окрестностях, до нелепости напоминая собою профессионального жулика, но славные туристы не обращали на него внимания; вероятно, предполагали, что он охранник частной фирмы, они совершенно друг от друга не отличаются, не так ли? О. Тичборн, напротив, со всеми внешними признаками наслаждения нырнул в затхлую тьму склепа, а вынырнул разрумянившимся и возбужденным, будто юный епископ со своей первой актриской.
— У вас есть портативный магнитофон? — таковы были его первые слова.
— Разумеется, есть, у кого их нет? Но зачем?
— Вечером расскажу. После ужина. — И на сем он снова занырнул в адскую бездну. Я провел пять поучительных минут в превосходном маленьком Сельскохозяйственном Музее рядом с курганом, восхищаясь исполинским инструментарием, коим в старину орудовали земледельцы. Как же они наверняка потели; я ощутил довольно сильную слабость.
Но вот Тичборн возник на поверхности, и мы обложили со всех сторон Джока и «сделали подвод» к часовням. («Делать подвод», как вы понимаете, — принадлежность «блатной музыки», означающая «предварительно обследовать место кражи или грабежа», но осмелюсь заметить, что вы, должно быть, относитесь к такому сорту людей, который читает такого сорта истории, а следовательно, такого сорта вещи уже знаете и так.)
Часовня постарше — «Нотр-Дам-де-ля-Клартэ» — несла на себе извещение, гласившее, что она «возвращена» каким-то не в меру ретивым епископом, которому больше нечем было заняться. Тичборн объяснил, что это означает нечто вроде переосвящения и декатолизации.
— Провались они! — в сердцах добавил он.
Иерусалимская же часовня никакого подобного рекламного материала на себе не несла, и Тичборн сказал, что сойдет она изумительно — почти наверняка ею не пользовались с тех пор, как после этой, как ее, Реформации в 1548-м позакрывали все пожертвованные часовни, как он нам сообщил.
— О как? — ответствовал Джок.
В машине по пути домой мы спросили у Джока, осуществимо ли обеспечить доступ в часовню и дольмен в ночное время потайным манером.
— Раз плюнуть, — сказал Джок. — Просто раз плюнуть. Ворота на участок и открывать не стоит, там можно и перескочить, если вашему геморрою на этой неделе полегче. Простите, сэр. — (Я даже испугался поначалу — пока не понял, что «сэр» предназначалось Тичборну, — а после стал несколько уязвлен.) — На подземной могилке, — продолжал Джок, — замок висит первоклассный, да вот цепочка на нем — обычной хезной разновидности (прош прощенья, сэр), и старые добрые кусачки с нею быстренько разберутся.
— А, — произнес Тичборн, — но как нам быть с внушительным железным врезным замком в часовню?
Джок хрипло фыркнул посредством выдувания воздуха из плотно сомкнутых губ.
— Эт никакой не нужительный замок, — презрительно ответил он. — Эт даж не «Йель» — он просто большой. Я открою этого пиндоса любой… э, я открою этот замок любой проволокой. Чё тут.
— Джок, — сказал я. — Будь добр, останови машину у следующей же пристойной таверны или пивной, чтобы я смог приобрести для тебя крупный и аппетитный напиток. «Не заграждай рта волу, когда он топчет овсы», — вот как я всегда говорю. И Второзаконие не прекословит.
— XXV, 4, — согласился Тичборн.
— О как, — сказал Джок.
В тот вечер после ужина (сдается мне, то были «медайон де шеврёй сан-юбер о пюрэ де маррон»[139] с сочным маленьким «Шамбертэном» на гарнир, если только не случилось быть пятнице, в коем разе Джок бы сходил за рыбой с жареной картошкой) — так вот, в тот вечер, говорю, я напомнил о. Тичборну о его интересе к портативным магнитофонам.
— Вы собирались рассказать о портативных магнитофонах, — вот в какие слова облек я это напоминание.
— Да-да, — ответил он. — Полагаю, собирался. Да, и впрямь собирался.
Его детские глазенки неистово пометались, пока он тянул несравненное наследственное бренди Иоанны: возникло впечатление, будто напиток сей — не вполне его тема, как ныне выражаются детишки.
— Должен извиниться за бренди, — сказал я, метнув Иоанне взгляд. — Со своей стороны, я, наверное, изопью этого вещества «пастис»: вы в силах меня поддержать? Полагаю, в доме его несколько имеется?..
Пару глотков «пастис» спустя (на самом деле это просто абсент, но без полыни) Тичборн расслабился и раскрылся.
— Обещаете не смеяться? — были его первые слова.
Мы положили руки на сердца.
— Что ж, два года назад я прочел книгу человека по имени Константин Раудив[140]. Целиком и полностью уважаемая книга, заверенная уважаемыми учеными. Раудив утверждает — да и вообще-то доказывает, — будто слышал тихий щебет и бормотание, исходившие с неиспользуемых интервалов пленки на его магнитофоне. Со мною такое тоже случалось, но я относил это на счет случайных помех беспроволочной… э-э, радио? …связи.
— Беспроволочная меня вполне устраивает, — сказал я.
— О, ну тогда хорошо. В общем, говорю же — я решил, что это какая-то заблудшая передача, вроде тех, что люди принимают слуховыми аппаратами и прочим, но, почитав Раудива, я, естественно, проверил и выяснил, что даже с девственной пленки слышу мягкое ворчанье, словно ее записывали в тишине и с нулевым уровнем. Как и Раудив, я обнаружил, что, усилив сигнал, я улавливаю нечто поразительно напоминающее человеческую речь, но с крайне странными интонациями, причудливыми грамматическими структурами и весьма случайной релевантностью.
Иоанна встала из-за стола, изящно извинилась и сказала, что ей в самом деле пора ложиться. Она терпеть не может длинные слова, хотя сама по себе очень умная. (Ну почему я упорствую, путаясь с умными женщинами, в то время как поистине обожабельными считаю единственно трансцендентальных дур, чей интеллект на севере ограничен способностью считать до девяти? Увы, последние встречаются с каждым днем все реже. «Il y a des gens qui rougissent d’avoir aimé une femme, le jour qu’ils aperçoivent qu’elle est bête. Ceux-la sont des aliborons vaniteux, faits pour brouter les chardons les plus impurs de la création, ou les faveurs d’un bas-bleu. La bêtise est souvent l’ornement de la beauté; c’est elle qui donne aux yeux cette limpidité morne des étangs noirâtres et ce calme huileux des mers tropicales»[141]. Забыл, кто это написал. Вероятно, не Симона Вайль[142].)
— Но продолжайте же, о. Тичборн, — сказал я, когда все «добрые ночи» были сказаны.
— Послушайте, а вы не будете любезны отбросить уже это «о.»? — спросил он. — Мальчишки в детском саду обращаются ко мне «Эрик» — даже не могу вообразить, почему, ибо зовут меня совсем не так, но мне вполне нравится.
— Продолжайте, Эрик, прошу вас. И будьте добры, зовите меня «Чарли».
— Благодарю вас. Что ж, едва освоившись с этими диковинными попытками выйти на связь, я счел их довольно м-м…
— М-м?
— Интересными, — как бы переча мне, произнес он. — Интересными!
Стараясь — как обычно, подобно жене Цезаря — для всех сделаться всем[143], я попробовал прийти ему на выручку.
— Однако тревожными? — подсказал я.
— Да, и ими тоже. Определенно. Тревожный — вот хорошее слово. Видите ли, я начал узнавать голоса, дешифровать их, и все они принадлежали мертвым — к примеру, моему старому классному наставнику и ректору семинарии — или тем, чьи книги я читал; ну, их по голосам я, разумеется, узнать не мог, но когда слышишь, что малый болбочет на совсем уж варварской латыни с сильным славянским акцентом и притом велит тебе не мыться, ибо это грех плотского наслаждения, а потом сообщает, что его зовут Иероним[144], — что тут можно подумать?
— И впрямь — что?
— Вполне. Но я понимал, что мне следует записывать эти голоса и слушать их дальше, пытаться услышать и понять, — и все становилось хуже и хуже.
Я украдкой плеснул ему в бокал «пастис», добавил чуточку воды и помог нацелиться рукой на рот. Пьян он не был; по-моему, он пребывал в каком-то потаенном экстазе: так дама в менопаузе думает о Кассиусе Клэе[145].
— Все стало хуже, — подсказал я.
— Гораздо хуже. На меня орал — без роздыху — кардинал Маннинг[146], такое чувство, будто ему отлично известно мое, э, дело. Затем некто по имени Пио Ноно[147] талдычил, что молиться за меня будет, но обещать ничего не может, а потом — самое плохое… — Голос его сорвался.
— Ваша матушка? — участливо спросил я.
— Ох, нет, она всегда меня понимала. Святой Франциск. Сначала я надеялся, что это Ассизский, но он вскоре меня вразумил: то был святой Франциск Ксаверий[148]. Кошмарно вел себя со мной. Кошмарно. Вы себе даже не представляете, какая это сволочь.
На глаза его навернулись слезы. Ну, само собой, я знаю, что делать с пьяными шизиками. Им нужно потакать, выслушивать их, напаивать до положения риз, после чего укладывать в постельку, сперва расстегнув им воротнички и стянув сапоги. Беспокоило меня лишь одно — как расстегнуть римский воротничок и как предотвратить увлажнение Эриком довольно приличной софы-ампир моего домохозяина.
— Послушайте? — вдруг спросил он, артикулируя вполне разборчиво. — Хотите послушать? Прошу вас?
— Разумеется, разумеется; сейчас же схожу за магнитофоном. Я вам так скажу — давайте-ка я сперва освежу вам бокал.
Я принес свой всецело превосходный магнитофон, распечатал новую шестидесятиминутную пленку, искусно вправил ее и приготовил аппарат к действию на скорости 3 3/4” в минуту. Эрик вперился в машину взором отчасти амбивалентным — так вы или я будем глазеть на сверло стоматолога, кое как дает, так и берет боль[149]. Он продолжал пялиться, пока я несколько не пошаркал и не поерзал. После чего он глянул на меня с поразительной, прямо-таки серафической улыбкой.
— Простите меня, — сказал он, — следовало вас предупредить. Все эти явления, похоже, связаны с альфа-ритмом мозга на частоте от восьми до двенадцати тактов. Судя по всему, если челочек умеет телепатию, телекинез и все такое прочее, он же способен и более-менее регулировать свои альфа-излучения. Иногда эдакое вызывается гипнозом, иногда происходит естественно, если человек засыпает или оказывается в полуосознанном состоянии, когда его слишком резко будят. Подростки и менопаузальные дамы часто способны вызвать его, с зажмуренными глазами погружаясь в нечистые помыслы. Медиумы, требующие полутьмы, тишины и так далее у себя на салонных сеансах, обычно — если они, конечно, хотя бы вполовину не липа, — наугад пытаются нащупать условия, при которых им удается подавить свои альфа-излучения до требуемого уровня, осознают они это или нет. Подозреваю, что многие «липовые» медиумы — женщины, которые по временам доподлинно восприимчивы, но не понимают, как должным образом создать условия, и оттого стряпают подделки, когда у них ничего не выходит.
Я отчасти ошарашился. Немногое из реченного поразило меня своим глубоким смыслом, однако и на пьяный бред отнюдь не походило.
— В Советском Союзе крепко над этим поработали, — продолжал Эрик, — и должен сказать, со стороны и впрямь чудится, будто их подход гораздо разумнее, чем у американцев. Иными словами, там чувствуют, что явления, отчетливо не вписывающиеся в законы науки, как мы ее ныне понимаем, нельзя исследовать стандартными научными методами. Как нельзя взвешивать нейтроны на бакалейных весах, понимаете?
— Мне это представляется разумным, — сказал я. — Помню, говорил кому-то из психо-психологических исследователей в каком-то новом комичном университете — Ланкастер? — что большинству игроков в покер знакомо то изумительное и редкое чувство, которое случается в одной руке из тысячи: они знают, что не могут проиграть. Я сказал ему, что со мной такое бывало дважды, да так сильно, что я вообще не смотрел в свою руку, не тащил в нее, ставил на нее все по самую рукоятку и ничуть не удивлялся, когда выигрывал. Реакция недоумка-исследователя свелась к тому, что он сдал мне синглетов из крапленой колоды, предложив угадать цвет. Мои результаты оказались на девять процентов ниже случайной вероятности, или как они там ее называют. Оттого я в его глазах стал лжецом, а он в моих — идиотом. Я мог бы ему рассказать — хвати у него мозгов спросить, — что необходимые условия должны быть таковы: мы играем несколько часов подряд по-настоящему, я заглатываю примерно треть бутылки бренди, в ставках своих я должен немного опережать исключительно естественным ходом карт и вообще, говоря короче, мне следует находиться в эдаком состоянии дремотной эйфории, при котором я уже практически сплю всеми своими телесными департаментами за исключением карточного чутья.
— Лучше это и выразить невозможно! — вскричал Эрик. — Все условия наличествуют, видите: легкая усталость, легкая эйфория, легкая депрессия от бренди; готов спорить, ваше альфа-излучение опустилось примерно до десяти тактов в секунду.
— Спору нет, — отозвался я.
— Вполне. Кстати, сожалею, что приходится постоянно говорить это «вполне», но я по большей части вынужден работать с американцами, а они рассчитывают, что англичане будут так говорить.
— Воистину, — подтвердил я.
— Принимаются ли эти передачи — если такое слово здесь полезно — из-за меня, через меня или же просто-напросто от меня, сказать не могу, — продолжал он. — До сих, по крайней мере, пор, как и Раудив, я не встретил, должен признать, ни единого слова на языке, которого бы не знал, не столкнулся ни с одним источником, с коим бы не был знаком. Вы скажете, что это наводит на мысль, будто я сам, так сказать, и есть основной движитель; но это может оказаться и проблемой коммуникации, как считаете?
Я не имел в виду произносить «вполне», но слово, похоже, выскользнуло само. Я нацедил Эрику еще «пастис» и одарил дружелюбной ухмылкой, коя, по вероятности, выглядела смертным оскалом.
— Ну, — неуверенно громыхнул я, — давайте пульнем, что скажете?
Он еще раз повторил свой номер с гляделками и вперялся в магнитофон минуту-другую, после чего охранительно приобнял машину рукой и даже несколько прильнул к ней, включая. Пять долгих минут мечтательно таращился на вращающуюся катушку, затем яро тряхнул головой и перемотал пленку в начало.
— Не вышло? — бодро осведомился я.
— Не могу сказать. — Он переключил усиление на примерно половину мощности и вдавил клавишу «воспр.». Машина принялась издавать обычный «белый шум» и механические звуки, а также мягкий посвист его собственного дыхания; более — ничего. Мне стало за него неловко: лучше б он и не начинал всю эту белиберду, — и я раздумывал, как помочь ему выпутаться из подобного разочарования.
— Слышите? — вдруг спросил он.
«Ох, Иисусе, да он и вправду спятил», — подумал я, корча ему извиняющуюся гримасу, как обычно поступают с малыми, узревшими в углах помещения розовых слоников. Он прибавил усиления — и я услышал. Тихий, бесконечно далекий щебет, затем хмык и продолжительное квохтанье, что вздымалось и опадало причудливо отвратительным манером.
Эрик пошебуршил тут и там громкостью и регулировкой скорости, потыкал в кнопки «готовность» и «прослушивание», и тут неожиданно из клубка невнятной чепухи воздвигся ясный и звучный голос: смеясь, он довольно отчетливо произнес:
— МЕРЗОСТЬ! Мерзкая пьянь! Мерзкая пьянь? Мерзомерзо мерзомерзо мерзомерзо, — по восходящей гамме, завершившейся пронзительным визгом летучей мыши, от которого заболело в ушах. Эрик нажал на «паузу» и посмотрел на меня: глаза его переполнялись слезами счастья.
— Это моя мамочка, — сказал он. — Очень за меня переживает.
Было время, когда подобное замечание меня бы абсолютно не смутило: я парировал бы незамедлительно — как остроумно, так и уважительно, — однако ныне я не тот, кем был когда-то. С уст моих сорвалось единственное:
— Вот как?
— О да, — отвечал он. — Она, как правило, начинает, пока не появились другие, и говорит что-нибудь игривое.
— Другие?
— И притом во множестве. Давайте испробуем.
Он покрутил регуляторы и прочее, и немного погодя вычленил хриплый, хорошо смазанный джином голос, сбивчивый от страсти, который изрек:
— De profundis clamavt ad te, Domine[150], — снова и снова, и все — тоном горького упрека.
— Это не древние, — сказал Эрик. — Такую латынь ирландские священники и по сей день учат в своих семинариях. Не совсем та скорость — если попасть на нужную, он звучит жизнерадостнее.
— Оскар Уайлд на смертном одре? — не сдержался я.
— А знаете, быть может, вы и правы, в самом деле такое возможно.
Долее удача — если это уместное слово — нам не улыбалась. Кто-то весьма своеобразно и неприятно смеялся, вновь появлялась матушка Эрика — в вихре животных звуков — и, похоже, обвиняла его в некоей практике, от которой запылали бы и волосатые щеки самого старика Краффт-Эбинга[151] («Она не упустит случая пошутить», — беспокойно произнес Эрик), а под самый конец ровный тихий голосок изложил сообщение, бесспорно предназначавшееся мне, ибо касалось оно материй, о коих Эрик не имел ни малейшей возможности знать и коими я не имею намерения отягощать читателя. Ни в данный момент, ни когда.
А, ну да — и всякий раз, когда мы натыкались на определенное сочетание скорости/громкости, крайне любезный и сочувствующий голос неизменно повторял:
— Нет, не надо. Не надо. Завтра не надо. Нет, я бы не стал ни за что. Не завтра. Не надо, пожалуйста.
— Все это до крайности завораживает, — тягостно вымолвил я, когда Эрик наконец все отключил. — Завораживает. Но вместе с тем мне кажется, что, быть может, не стоило бы делиться со всяким встречным и поперечным этой, э, сокровенной гармонией, а?
— Ох, да нет же. Я делаю это, лишь когда один либо с людьми исключительной эмоциональной стабильности — вроде вас, если не возражаете.
Я не стал — не мог — никак комментировать эту поразительную оценку себя; свою эмоциональную стабильность и ей подобные вещи я храню на самом донышке ящика для носовых платков, вместе с вибратором и неприличными фотографиями, как, быть может, уже выразился У.Х. Оден[152]. Воспалила меня другая порция им сказанного.
— Уж не хотите ли вы сказать, что иногда практикуете подобное в одиночестве? — удивленно вопросил я. — По ночам?
— Ох, ну конечно. Часто. Чего мне бояться?
На это я не ответил. Если он, с его квалификацией, не знает — кто я такой, чтобы ему сообщать? Ну то есть, я ж ему, черт возьми, не епископ, правда?
Эрик, тем не менее, оказался достаточно сообразителен и заметил, что я впал в уныние, а потому принял на себя бремя развлечения меня — с некоторым успехом. Перед немногими пасую я, когда дело доходит до неприличностей, однако если рассказывать католические анекдоты с нужной смесью робости и авторитетности, потребен истинный священник с семинарской дрессурой. Эрик довел это искусство до такого совершенства, что, припоминаю, я падал от смеха не раз.
Потом он обучил меня готовить и принимать «клюв» — этот навык мало известен за пределами студенческих общежитий Университета Южной Калифорнии, где Эрик некогда провел счастливый семестр, обучая упитанных студенток глубинам духовности, обретаемым в «Песнях к ней» Верлена[153].
«Клюв» следует принимать следующим образом — вам потребно это знать, ибо это единственный способ не захлебнуться мерзейшими формами алкоголя, вроде текилы, пульке, польской водки крепостью 149˚, паральдегида и самолетного антиобледенителя. Наполняете рюмку желаемой, но обычно не предназначенной к питью жидкостью, и размещаете оную рюмку внутри высокого стакана, который затем под обрез рюмки наполняете апельсиновым соком со льдом либо иным, резко питательным раствором. После чего все это выпивается. Сок, не зараженный тем невменяемым составом, которому случилось быть в рюмке, однако ж оттеняет весь ужас его прохождения по вашему нёбу. Под конец — неожиданная премия: сцепление рюмки дает слабину, она соскальзывает и мягко клюет вас в нос, откуда и название игры. Это клевание, могу доложить из собственного опыта, неодолимо принуждает вас к повторению процесса. Мне остались неведомы какие-либо прочие смеси, но с радостью могу вам сообщить, что, практикуясь с «пастис» и ананасовым соком, вы вскоре обнаружите, что сидите на ковре и распеваете песни, слова коих доселе считали вам неизвестными.
Мне кажется — хотя в этом я уверен быть не могу, — что где-то под утро в комнату вошел Джок и с обилием любезных выражений показал Эрику, где располагается приготовленная для него комната; вернувшись позднее, он отвел меня в кустики, где подержал мне голову, после чего сопроводил в ванную-душевую. И тем путем, осмелюсь догадаться, в постельку.
Вам подтвердит любой: ничто не сравнится с «пастис» в деле отвлечения рассудка от того, что говорят порой магнитофоны.
11
Все закончилось — время, нездешние страсти,
Сны, желанья, и горькие песни и сладость;
В рук огромных объятьи обретешь ли ты радость,
Титаниде отдавшись в любовную власть?
Как предрек в одном из своих видений —
К голове прильнешь, обнимешь колени,
Сев в глубокой тени выступающей груди,
У подъема блаженного ног могучих,
Среди буйных потоков волос текучих,
Что дух древнего леса в памяти будят,
На холмах ветерок летучий?
«Ave Atque Vale» [154]Долгие годы я полагал, будто сии строки:
Выстрел? Чисто и достойно, Ты храбр и прав, тут спору нет. Не искупить нам эти войны — Лучше забрать их на тот свет[155].написаны о юном эдвардианце, пришедшем в ужас, узнав, что он гомосексуалист. Теперь касаемо сего я имею полное право подредактировать литературную историю. Строки эти повествуют о едва перевалившем за средний возраст малом, однажды утром пришедшем в ужас, узнав, что «пастис» чересчур крепко бьет ему в голову. Это, изволите ли видеть, не обычное светское похмелье — это казнь египетская с приправой из «черной смерти». Совершенно явно неизлечимая. Я тронул колокольчик.
— Джок, — замогильно произнес я. — Будь любезен, принеси мне чайник чаю — думаю, «лапсанг сушонг типс»[156] — и заряженный револьвер. Мне этой войны не искупить: я предполагаю забрать ее с собою на тот свет, только сперва желаю отстрелить себе макушку. У меня нет намерения проводить вечность с макушкой в ее нынешнем состоянии.
Он принялся незаметно ускользать.
— О, и еще, Джок, — добавил я. — Когда принесешь чайный поднос, заклинаю тебя — не позволяй ложечке либо иному предмету сервировки дребезжать о револьвер.
— Ну, мистер Чарли. — Не оттенок ли презренья в его голосе?
Я лежал, прислушиваясь к угрюмому, рваному бою сердца, приливному шороху и хлюпанью печени и генерал-басу[157], звучавшему на задворках черепа. От кухни до меня доплыл серебристый смех — как Иоанна только может смеяться в такое время? она должна стоять на коленях у моего одра, обещая вечно хранить святую память обо мне.
В нескольких шагах от моего ложа располагалось окно; в одном его углу плел свою паутину прилежный паучок. Он мастерил ее внутри двойного стекления — в жизни я никогда не видел ничего более достойного сожаления; зрелище это навело меня на мысли обо мне. Осмелюсь сказать, я-таки пролил слезинку-другую. Вступи в тот момент в мои покои умелый иезуит, он уловил бы мою душу без единого выстрела.
Но в действительности в мои покои вступил чай, несомый Джоком с минимальнейшим дребезгом. С определенной трудностью я принял позицию, из коей мог этот чай потягивать; мои нижние пределы то и дело соскальзывали по шелковым простыням. (Как же томилась душа моя по неизысканному происхождению, чтоб можно было почивать на щедром ирландском белье — но, увы, чин влечет за собой не одни привилегии, а еще и обязанности.)
Не стану утверждать, что первые же глотки оживили меня, ибо мне всегда была дорога истина, однако же факт остается фактом: они мне позволили не отвергнуть сразу умозрительную возможность еще хоть ненадолго задержаться в сей юдоли слез.
— Джок, — строго вымолвил я, — я отчетливо слышу смех миссис Маккабрей. Изволь объяснить мне это, насколько ты к сему способен.
— Не могу сказать, мистер Чарли. Они завтракают с вотцом Тичборном, и, похоже, им это нравится так, что сил нет.
— Завтракают? — пискнул я. — Завтрак? Тичборн завтракает?
— Еще б. Съел тарелку овсянки со сливками и сахаром, потом еще одну — по-шотландски, с солью, шкварками и перцем, потом два яйца сильно всмятку, чтоб желток тек, с тостом, и маслица чтоб погуще, а теперь они приступают к жареным рубленым почкам с острой подливкой и соленым копченым беконом. Так что я, наверно, лучше сбегаю посмотрю, мож, им захочется селедки копченой пару-другую, я вчера на рынке очень смачной прикупил.
— Ступай вон, — сказал я.
— Вам ничё не подать? — уточнил он.
— Вон! — возопил я.
— Лучше б постарались да чё-нибудь в себя впихнули, мистер Чарли, а то паршивенько выглядите. Глаза вам как дырочки в снегу проссали, простите уж за выражение.
Я обратился ликом к стене, ощущая себя собранием стихов, вычеркнутых из Книги Иова.
Но даже в Иововых утешителях недостатка не было — полчаса спустя какой-то предатель внизу пропустил к моему смертному одру нашего доброго экстраверта-домохозяина.
— Эгей, эгей, эгей! — громыхнул он. — Что, до сих пор тунеядствуете и в постели? Лучшее время дня проходит мимо!
— Неважно мне, — пробормотал я.
— Чушь! — взревел он. — Нет такого, чего во мгновение ока не прогонит глоток свежего воздуха! Стоит великолепное утро!
А, надо сказать, прежде всего о домохозяевах следует помнить вот что: им нельзя велеть отъебстись.
— Дождит, — угрюмо вымолвил я.
— Разумеется, нет. Ничего подобного. Прекрасное бодрое утро — ясно и холодно. Ни капли дождя.
— Дождит в моем сердце, — холодно поправил его я. — «Иль плё дан мон кёр комм иль плё сюр ля вий»[158].
— А, ну да, я полагаю, но попомните мои слова…
— Когда будете спускаться, — сказал я, — окажите любезность — попросите кого-нибудь принести мне тазик, в который я смог бы стошнить?
— Отлично, что ж, что до меня, то мне пора — масса дел. Следите за собой хорошенько, ладно?
— Благодарю, — ответил я.
Ничего более не оставалось — только подняться, посему я ся и поднял. Мои симпомы снова начали прозорливиться[159], но Джок препятствовал всем моим позывам уползти обратно в постель и в награду за самостоятельное бритье дозволил мне воспользоваться своим «Спасительным Особым», кое, как известно, сдергивает человека с самого края могилы. Никакого дживсо-вустерского соуса, никаких сырых яиц Джок не приемлет — его снадобье составлено просто-напросто из декседрина, растворенного в джине с тоником, к которому он прибавляет ложку прославленных «Печеночных Солей» мистера Эндрюса, две искрометных таблетки витамина С и две оных же «алки-зельцера». На иностранцев у меня времени нет, но должен заметить, что докторам Алке и Зельцеру давным-давно следовало присудить Нобелевскую премию; единственная моя рекламация к плоду их умствований — он слишком шумен.
Ко второму завтраку я как раз успел, а там сияющее утреннее лицо Эрика было уж очень налицо, Иоанна же… ну, в общем, вежливо мне улыбнулась. Обычным манером я способен причинить большой урон блюду джерсийского «пэз де мё», кое представляет собой нечто вроде жаркого «шипучка-с-писком», изготовляемого из картофеля, фасоли и лука, кои, шкворча, жарятся до писка, сиречь полного спекания, и подаются со свиными колбасками, но сегодня желудочные соки наотрез отказывались проистекать, и я мог лишь морщиться, глядючи, как остальные поедают сие кушанье в огромной массе, пока я решаю топологические задачи на горячей булочке.
После Эрик отвел меня в сторону.
— Если вам отчасти истощенно, — осторожно подбирая слова, — после нашей вчерашней ночной спевки…
— У вас дар к слову, Эрик. Мне никогда не было истощеннее. Реките далее.
— Я слыхал, что действие капельки «пастис» в таких случаях крайне целительно. Прогоняет злые гуморы.
Мой здравый смысл восстал, но, как обычно, здравому смыслу моему, как выражается Джок, «перекопали отстойник», и вскоре «пастис» кавалерийским наскоком выглаживал морщины моей хандрящей селезенки. Когда звякнул дверной звонок — две дозы спустя, — я едва ли вообще подскочил на месте. Вошли Джордж и Сэм — любознательно принюхиваясь.
— Решили химией заняться? — поинтересовался Джордж.
— Я полоскал, — чопорно отвечал я. — Горло болит.
— И не только, я бы решил, — сказал Сэм.
— Ну что, в путь? — спросил я. — Эрик, вы же сможете развлечь себя сами, верно? Джок вам покажет, где у нас что. Если решите прогуляться, попросите карту — по здешним джерсийским стёжкам можно блуждать месяцами.
Мы направились к Сент-Хелиеру. Если точнее, ехали мы в Штаб-Квартиру Платной Полиции, расположившуюся на улице, непостижимо называемой «Руж-Буйон»[160]. Целью нашей полагалось осуществить сделку весьма тонкого свойства со старшим офицером, рекомендованным нам за свое благоразумие нашим крепышом-сентениром.
Совесть моя оставалась чиста почти полтора года, но все равно, вступая в эту «гадиловку», я пережил мгновение тревоги; тревога вскоре, должен заметить, рассеялась дружеской любезностью, явленной нам со всех сторон, — и наручники у них на поясах едва звякали. Учтиво отклонив изобильные пропозиции испить чаю, мы в конечном итоге оказались в кабинете упомянутого старшего офицера. Я с первого взгляда определил, что передо мною честный человек: натренированный глаз мой оценил его костюм в £ 40 и датировал пятилетней давностью. Бесчестные полицейские всего мира могут таить свою преступную добычу в глубочайших криптах самого Цюриха, но от мохеровых материй и обуви ручной работы отказаться не в силах. Experto crede.
Его ноздри учтиво дернулись.
— Мой друг полоскал, — сказал Сэм. — У него болит горло.
— Не повезло, — посочувствовал старший офицер Джорджу.
— Не я; он, — ответил тот, грубо тыча.
— А. Ну что ж, чем могу служить? Это же насчет изнасилований, я понимаю?
Мимолетно глянув на остальных, я принял на себя бремя рупора. Старшему офицеру пришлись по вкусу наши умозаключения касательно мотивов насильника и его избирательности, и он кое-что у себя пометил. Объяснил, как вся его деятельность ограничивается протоколом взаимодействия Платной и Почетной Полиций — последнюю, судя по всему, он довольно-таки одобрял.
— Очевидно, — сказал он, — что, нельзя обойтись без каких-то трений и раздражения, это естественно между профессионалами и любителями, но мы никогда не смогли бы следить за порядком в сельских районах так, как это удается им: у них там чуть ли не целая Тайная Служба, а их спорые разбирательства с мелкими правонарушениями экономят нам огромное количество времени и сил. Всякий раз, когда кому-то из моих офицеров приходится давать показания в суде, я должен перекраивать все наше расписание, будь оно клято, нарядов, понимаете? Но в дела прихода я вмешиваться не могу, пока не попросят: это как Скотланд-Ярд не может прислать своих людей на убийство в деревне, пока местные ищейки не признаются, что зашли в тупик. Предварительно затоптав все улики, — огорченно добавил он.
Затем я рассказал о наших предполагаемых милицейских бдениях — тщательно опустив любые упоминания о первой неудачной попытке. Чело его слегка помрачнело, но он признал, что и это — не его дело.
— Если, конечно, — подчеркнул он, — среди вас не окажется глупца, прихватившего с собой оружие в такую экспедицию.
В ужасе от одного такого допущения мы воздели руки.
После чего я довел до его сведения истинную цель нашего визита: что мы собираемся грядущей ночью предпринять и чего бы хотели в этой связи от него. Сначала он расхохотался, затем нахмурился, затем несколько побагровел и возвысил голос. Не могу на голубом глазу утверждать, что он неистовствовал, но покапризничал все же изрядно. Я лишь беспощадно упирал на логичность нашего плана, пустячность вреда, который он может принести, вероятное профилактическое воздействие, желание Почетной Полиции нам помогать, если подключится и он, а также лавры, кои снищет его ведомство. Наконец он все резоны узрел — ибо не вполне был лишен воображения. Но на одном тем не менее зациклился: ему требовались более весомые гарантии от убытков. Ведь речь идет, в конце концов, о его личной карьере, вы же понимаете.
Вот здесь меня и удивил Джордж — хотя не впервые.
— Можно телефон? — спросил он. — Спасибо. Алло? Нет, не секретаря, спасибо. Нет, и не адъютанта. Просто скажите, что это Джордж Брейкспир и это срочно. Что? А, привет, Свинтус, прости, что разбудил, ха ха; слушай, помнишь, я тебе рассказывал, что мы думаем испробовать одну чепуховину? Ну вот, Маккабрей привез сюда человека, который хорошо разбирается в подобной ерунде, и мы уже, считай, выдвинулись, да только начальник сыскной полиции вполне естественно хочет получить добро совсем уж сверху. Поговори с ним, а?
Тот поговорил. Начальник не вполне встал по стойке смирно, хотя у нас сложилось впечатление, что, будь он один, так бы непременно и сделал. С его стороны беседа состояла из семнадцати «есть, сэр», восьми «разумеется, сэр» и трех «благодарю вас, сэр». После чего он повесил трубку и сурово посмотрел на нас.
— Что ж, — сказал он, — ваш друг, похоже, согласен со мной: в смысле того, что вы предлагаете, здесь можно кой-чего устроить. — Мы не спускали серьезности с физиономий. Далее перешли к боевым приказам, стали связываться по телефону с «коннетаблями» и прочей публикой, утрясать графики.
— Превыше всего, — сказал я, когда мы уже стояли в дверях, — проследите, чтобы ваши люди не пытались арестовать крупного некрасивого мужчину по имени Джок. Во-первых, он их серьезно искалечит, а во-вторых, о нашей договоренности он ничего не знает.
— А мы договорились?
— Само собой, невысказанно. Он, изволите ли видеть, всего лишь мой слуга.
— У него есть судимость на Острове?
— Ни в малейшей, заверяю вас, степени. Ему просто очень не нравится предоставлять отпечатки пальцев.
— Хмфр. Ладно.
На главном выходе из участка сержант в форме аккуратно отсек меня от толпы и спросил, не смогу ли я уделить начальнику еще несколько минут моего времени — наедине. Содрогаясь от ужаса и мук совести, я сказал остальным, что домой доберусь на такси, а затем последовал за основательным сержантом обратно в кабинет.
— Все в порядке, мистер Маккабрей, — сказал начальник. — Присядьте. Не стоит беспокоиться. Не стану делать вид, будто я не знаю, кто вы такой, но кошка между нами не пробегала. Известная мне, по крайней мере. — И он помедлил, давая этой мысли впитаться поглубже. — Мне бы только хотелось задать вам пару вопросов, которые я не мог озвучить вашим друзьям, поскольку их жены стали жертвами, вы же понимаете.
Я не понимал.
— В общем, я не очень доволен тем, что приходится утверждать: во всех этих преступлениях прослеживается один почерк. Кстати, произошло и еще одно, тут, в Сент-Хелиере, но мы утаили его от газет, и жертва, к тому же, потеряла сознание, так что никакого словесного портрета у нас нет. Но вы же знаете, как такие вещи заразны — становятся прямо какой-то модой. Так мальчишки поджигают старушек в темных переулках: стоит сделать одному, как все считают, будто и они обязаны.
Я содрогнулся. Старушки числятся среди моих друзей — не говоря уже о мальчишках.
— Итак, — продолжал начальник, — у нас есть образец семени от докторовой жены, и вашему сентениру удалось раздобыть то же самое с простыни миссис Давенант — о да, ваш сентенир и вполовину не так туп, каким прикидывается, — и оба эти образца выделены секреторами одного класса. Это равносильно утверждению, что оба относятся к группе крови О[161]. Как вам известно, мистер Брейкспир крепко противится, если подобное затрагивает миссис Брейкспир, а у новой жертвы пробу мы взять не смогли по причинам, в которые я не стану сейчас вдаваться. Поэтому у нас даже нет третьего вектора.
Я, конечно, знал, что́ он сейчас попросит, но не собирался же я ему помогать, верно?
— Не понимаю, чем я могу вам помочь, — сказал я.
— Что ж, давайте скажем так. Ваша супруга знает обеих дам, претерпевших надругательства в вашем районе, верно? Как вы полагаете, не могли они упомянуть ей что-либо касательно, э-э, личных особенностей нападавшего, о которых им бы не захотелось докладывать супругам?
— Мне решительно не удается следить за ходом вашей мысли, — солгал я.
— Еще как, черт возьми, удается, — рявкнул он. — Я имею в виду размер члена, обрезан он или нет, любые мелкие детали. Такое вот.
— А, понимаю. Ох батюшки. Телефон позволите? Алло, Иоанна? Послушай…
— Хорошо, — ответила она через некоторое время, — но «пфуй».
— В Соединенном Королевстве мы не говорим «пфуй», — сообщил я. — Мы говорим «тьфу».
— Так мы выражаемся только на полях для гольфа, ну да ладно. И я постараюсь выполнить твою просьбу. Может уйти время — придется устроить Уютные Посиделки с этой коровой Соней.
— Девичьи Разговоры, — капризно поправил я.
— Тьфу! — Она произнесла это идеально.
— Это может занять несколько минут, — сказал я начальнику, глядя на него со значением. Он понял, о чем я, — исправно извлек 40-унцевую бутылку безымянного скотча, водрузил ее на стол и воздел брови. Я склонил милостивую главу. Он отыскал два стаканчика для зубных щеток: выглядели они отчасти антисанитарно, но виски разновидности скотч убивает все известные сорта микробов, как отлично известно любой домохозяйке.
Иоанна перезвонила примерно восемь жидких унций спустя и оттарабанила свои новости голосом незаинтересованным и слегка изумленным.
— Это все? — спросил я.
— А чего ты хочешь — порнухи?
— До свидания, — сказал я.
— До свидания, — ответила она. — И, Чарли, не забудь сегодня перед сном почистить зубки, хн?
Я повесил трубку и собрал разбежавшиеся мысли.
— Моя жена припомнила то, что ей говорила миссис Давенант вскоре после нападения, — передал я начальнику. — Еще она побеседовала с миссис Брейкспир и докторшей. Свидетельства, судя по виду, противоречивы. Виолетта Давенант утверждала, что «он огромный, просто конский, было ужасно больно». Соня Брейкспир описывает нападавшего как «не о чем посплетничать», а жена врача говорит: «Ну я не знаю — а их что, делают разными по размеру?» Лжет, само собой, — она работала сестрой милосердия, изволите ли видеть, а все медсестры, выходящие за врачей, мгновенно становятся девственницами «экс оффисио»[162], об этом даже нечего рассуждать.
— Я о таком слыхал, — сказал начальник.
— Однако Иоанна считает, что если бы он как-то и чем-то выбивался из нормы, она бы об этом упомянула.
— Да.
— Что же до обрезания, Виолетта бы просто не поняла, о чем речь, Соня говорит, это не важно, что бы она ни имела в виду, а докторше кажется, что «да». Помощи нам тут немного, что скажете?
— Да, и впрямь. Это нам больше сообщает о самих дамочках, чем о насильнике, если вы меня понимаете, сэр.
Мы вперились друг в друга.
— Воистину, — вот что в конечном счете изрек я. Уходя вскоре после, я заметил, что начальник уже вел себя так, словно полагал, будто завоевал хорошего друга. У меня же, со своей стороны, имелось особое мнение.
Мне все же не пришлось добираться домой на такси — мне ссудили патрульную машину в комплекте с водителем. По прибытии я предложил ему фунтовую банкноту, от коей он выносливо отказался. Выпить ему тоже не захотелось: должно быть, он счел меня шпионом из Комиссии по присвоению званий, благослови его боженька. Согласился принять же он — для передачи Полицейскому спортивному фонду — бутылку кипрского хереса, кою кто-то из нас непредумышленно выиграл в вещевую лотерею, если вы знаете, что это такое. Мне стало мучительно больно за того бессчастного атлета, кто завоюет эту пагубную бутылку, но, в конце концов, все отдают себе отчет в риске, поступая на службу в Органы, не так ли?
С бычьим языком следует расправляться следующим образом: просите мясника две недели подержать его в маринаде — при этом отметая прочь мясницкие слезные мольбы вынимать продукт через восемь дней, дескать, так положено. Затем любовно прополаскиваете и запихиваете в минимальнейшую кастрюльку, способную его вместить, начиняя все лакуны изобилием лука, моркови и прочей огородной травы. Заливаете сверху опивками вина, пива, сидра и — коли позволит кухарка — сочным густым желе с самого поддона жаровни. Затем пускай подумает в самой глубине духовки — пока вам достанет сил терпеть: после чего выхватывайте, пришпиливайте к разделочной доске скобою из вилок и — возносите благодарственную молитву Тому, Кто даровал языки немотствующему быку. (Разумеется, можно дать ему остыть, и тогда резаться он будет изысканнее, но вы поймете, что съесть его удастся меньше.)
Я, собственно, своим неуклюжим манером пытаюсь сообщить вот что: на ужин у нас был горячий язык, поданный с восхитительно горькими вершками репы, а также парой-другой «пом дюшес»[163] для красоты. Эрик и Иоанна оправдались достойно, однако не мог же я не догадываться, что меня окружают лучшие из лучших.
Позднее, утонув в подушках и абрикосовом бренди, я уловил-таки негармоничную ноту. Джок, убирая остатки преломленных мяс, обряжен был в черное джерси или же гернси, черные штаны, черные кроссовки и вид имел человека, запросто могущего быть экипированным каким-либо смертоносным оружием.
— Что это? — вскричал я. — Что это? Ты снова смотрел телевидение? Ну сколько раз можно тебе повторять…
— Так мы ж идем сегодня, мистер Чарли, нет? В часовню, помните?
Сказать правду, я совершенно об этом забыл. Не стану делать вид, будто бычий язык обратился у меня в желудке в прах, но признаки недовольства своей судьбой он ощутимо начал проявлять.
— Придется отложить, Джок; я забыл раздобыть кочета.
— Мы с вотцом Эриком его днем забрали. Славный птиц, к тому ж, черный, как ваша шляпа.
Я выпил весь кофе, что оставался, и заглотил пилюлю, подсунутую мне Джоком. Затем, в согласии с моим обыкновением при посещении Сатанинских Месс в промозглых средневековых часовнях, я упаковал в портфель несколько неприкосновенных запасов, как то: «ликер-шотландэз», фунтик бутербродов с фазаньими грудками и небольшую банку «патэ де льёвр»[164]; по размышлении добавил грубую и теплую пижамную пару — кто знает, где доведется мне провести ночь? — а также, памятуя об увещеваниях Иоанны, зубную щетку и зубной порошок.
Мы приехали к Джорджу, забрали там его и Сэма — оба ворчали и дулись, — а затем все и понеслись, общим числом на восьми колесах: Джок и Эрик в моем «мини», кое транспортное средство должно было служить им для побега, а остальные мы — в крупном, умелом и скучном «ровере» Джорджа. Перед самым отъездом я был столь любезен, что осведомился у Джорджа, исправно ли его «ровер» лицензирован, налогообложен, промаслен, пригоден к эксплуатации на дорогах и отражено ли сие в соответствующих свидетельствах. Джордж с жалостью посмотрел на меня, конечно, однако я к подобному привык. Люди всегда на меня смотрят с жалостью; это все потому, что они меня считают трехнутым, изволите ли видеть. Все, как я сказал, и понеслись, пронзая ночь, к «Ля Уг-Би» и вскорости изощреннейше заблудились, что на Джерси совершить до изумления легко, поскольку все деревенские дороги, благодаря чему-то под названием «Ля Визит дю Бранкаж»[165], выглядят совершенно одинаково. Вообще-то блуждания по Джерси — один из немногих видов спортивных игр на открытом воздухе, коими можно наслаждаться в холодные вечера; горючему приходится туговато, а во всем остальном экономится целое состояние. Ни один из нас даже слишком не рассердился, за исключением, разумеется, Джорджа. Наконец, мы встали лагерем в искомом месте: «ровер» пришлось отогнать на осмотрительное расстояние; «мини» же Джок, судя по всему, уже упрятал в какой-то потаенной тихой заводи, предварительно им разведанной. Мы собрались у главных ворот. С замком и впрямь ковыряться не стоило — Джордж совершил изумительный опорный прыжок через ворота по-армейски, да и я, исполненный паршивой гордыни, последовал за ним — и мерзко ушиб пузо. Сэм и Эрик, давно изгнавшие из себя самый дух состязательности, без затей просочились между прутьев. Я не видел, что сделал Джок, — он профессионал, он просто материализовался во тьме подле нас.
Мы мрачно сбились в кучку у самых ворот, а Джок беззвучно ускакал куда-то в ночь, легконогий, словно полевка в поисках провианта, дабы удостовериться, что честные склеповладельцы спят мертвым сном. Нам показалось, что не было его очень долго.
— Звините, мистер Чарли, но там, понимаете, парочка миловалась, надо ж было хорошенько их напугать, а? Выпроводить их, нет?
— И они сейчас вполне удалились?
Он обиженно глянул на меня. Когда Джок выпроваживает людей, они остаются выпровоженными.
— Ну, мистер Чарли. Выпроводились, что ваши кролики, он еще штаны поддерживал, а она небережливо разбрасывала за собой предметы туалета — эти у меня в кармане, если желаете проверить.
Я щекотливо содрогнулся и сказал, что верю ему на слово.
Понуждаемые теперь уже поугрюмевшими Джорджем и Сэмом, мы двинулись к самому́ огромному кургану — к этой жутчайшей куче кишок столетий, давно минувших и до сих пор не постигнутых даже вполовину. Джок вкратце применился к замку и цепи, охранявшим подземный проход к погребальной камере, после чего исчез вкупе с Эриком, моим магнитофоном и целлофановым пакетом, набитым лучшими из наличествующих жаб. Стоило им вынырнуть оттуда снова, все направились к извилистой дорожке, подводящей к часовням на вершине кургана. Джок исполнил обещанное — замок Иерусалимской часовни пал пред его луком и копьем с подавленным звяком, иначе почти и не протестуя.
Эрик деловито влетел в часовню, будто занимался этим от рождения. Джордж, Сэм и я воспоследовали с разными степенями сдержанности. Кочета Джок кормил изюмом, вымоченным в роме, — хочу особо подчеркнуть, что нес птицу не я. Эрик не стал тратить время понапрасну — покидал на остатки древнего престола кусочками того и сего, затем расстелил свой великолепный антиминс. Мы, остальные, скучились — быть может, отчасти робея, — в глубине крохотного алтаря, помещении не крупнее ванной на мызах получше. Говоря «остальные», я исключаю, разумеется, Джока, который шлялся где-то в тенях паперти — в час моральной низости это у него любимое место, и правильно.
Хоть воля наша и была крепка, подозреваю: голосование, будучи в сей момент проведенным, «нем. кон.»[166] явило бы нам желание вернуться домой и обо всем забыть. За вычетом Эрика. Он едва ли не зримо подрос, обратившись пред нашими взорами в искусного умельца, знающего: то, что он делает, не под силу более никому; он высился с достоинством, если угодно, ученого, сочиняющего водородную бомбу, — его раздирало сознание злого умысла, однако пришпоривала тяга к изысканиям и подгонял сапог человеческой истории.
— Теперь — умолкните! — внезапно рек он голосом такой властности, что все мы вытянулись по струнке. Он облекся в нечто вроде длинной белой сутаны, изготовленной из плотного шелка; свет на него падал лишь от единственной свечи, кою он водрузил на престол, — как я заметил, свечи обыкновенной белой разновидности, установленной, к тому же, нужным концом вверх. Какую бы, очевидно, бредятину он ни нес, слово «абракадабра» в ней не фигурировало. Свеча озаряла лишь текст извращенной Обедни, лежавший перед ним, да небольшой, но до изумления наглядный клочок вышивки на антиминсе.
Он промолвил — либо мне помстилось, что промолвил — несколько фраз себе под нос. Я и не пытался их расслышать — мне своих бед хватало. Затем высоким ясным голосом Эрик принялся декламировать «Интройтус»: при этом интонация у него была ханжеская, льстивая — с такой читали старомодные ирландские священники, да и, насколько я знаю, до сих пор читают. По-моему, Сэм уловил какую-то латинскую пагубу, проникшую постепенно в требник, а вот Джорджу все это было китайской грамотой. Я, кой как переписал, так и впоследствии перепечатал всю Обедню, ожидал сих пассажей, но все равно — на устах Эрика они звучали с каждой минутой все мерзостнее. Когда он дошел до той части, что в манускрипте лорда Побродила означена была лишь выведенным красными чернилами прямоугольником со словами «Secrets Infâmes»[167], голос его — что поразительно — упал чуть ли не на две октавы, и хриплым басом он принялся ритмично хрюкать перечень имен, начинавшийся с Астарот, Астарты, Ваала, Хемоша — такой вот публики. С удовольствием должен заметить, что помню я лишь горстку, а если б и запомнил все, то писать их здесь мне бы равно не следовало: человек я не суеверный, однако не убежден, что спящих богов следует тыкать в глаз острой палкой. Уверен, вы меня понимаете.
Мы, остальные, все втроем, полагаю, вполне ожидали скуки пополам с неловкостью, однако поразительно было, насколько невеликий Эрик Тичборн излучал некую уверенную властность — и поразительно, как сильно изменилась вся его стать. Когда голос его вернулся к лицемерному нытью семинариста, интонации стали воспарять и опускаться почти нечеловечески: такое я, по-моему, уже слышал. Минувшей ночью. Из моего собственного магнитофона. И мне это ничуть не понравилось.
По ходу особо издевательской декламации «Кирие элейсон» голос Эрика, мне показалось, задрожал от чувства, кое могло быть как подавляемым хохотом, так и вообще-то подавляемыми слезами. Явно не «пастис». Но самое странное случилось чуть погодя: речь его как бы убыстрилась, и слова он тарабанил со скоростью, на кою человеческая гортань вряд ли способна. Быстрее и быстрее, пока все не слилось в обескураживающий щебет — да, магнитофона, включенного на ускоренную перемотку. Неожиданно и необъяснимо щебет прервался, и до нас донеслось изнемогающе рваное дыхание. Затем изменилось и это сипенье; мы всмотрелись и вслушались: Эрик согнулся в три погибели, его явно охватили астматические корчи — щуплое тело раздирали кашель и позывы к рвоте, но между ними он умудрялся вопить из Иезекииля: «…красивым юношам, ездящим на конях… там измяты груди ее… растлила девственные сосцы ее…»[168]
Джордж полупривстал и глянул на меня с недоумением. Я покачал головой. В подобное вмешиваться непозволительно. Мало-помалу невеликий сломавшийся священник собрал себя воедино, после чего навалился на престол и продолжал все более мерзостную Службу — однако чем дальше, тем более мстилось мне, будто от слов ему физически больно. Вероятно, иллюзия, вызванная свечным пламенем, но мне казалось, что его охаживает нечто, причем — отнюдь не сквозняк. Я украдкой бросил взгляд на остальных: лицо Джорджа превратилось в маску неодобрения и отвращения, уста накрепко сомкнуты. Сэм же, к моему изумлению, являл физиономию, измятую состраданием и, если только я не ошибся, испятнанную слезами.
Не знаю, на что походил мой собственный лик.
А у престола, где в лужице света ясно виднелись только руки, о. Тичборн дергался и раскачивался дальше, и голос его звучал еще пронзительней, еще неистовей. Впоследствии я не интересовался у остальных, что видели они, но свет, по-моему, сгустился. Я ни с того ни с сего вдруг остро осознал, что располагаюсь прямо над погребальной камерой дольмена. Подошвами я вроде бы ощутил некий продолжительный хруст, словно огромные плиты свода у меня под ногами терлись об огромные плиты стен. Я уже довольно взросл, зрел и не суеверен ни в малейшей степени, однако же с готовностью признаю — как раз в тот миг я пожалел, что не настолько молод и не могу пожелать, чтобы моя матушка оказалась где-нибудь поблизости, если вы понимаете, о чем я. Не то чтобы она как-то, разумеется, помогла — не такой она сорт матушки.
На престоле уже что-то горело — оно испускало густой аппетитный дым, от коего мешались наши мысли. На свет небожеский явился кочет, был показан во всей красе, а затем над ним свершились определенные зверства, кои в обычное время и в обычном месте нам следовало бы, я полагаю, предотвратить. Священник обернулся к нам, воздев руки: одеянье его теперь было поддернуто над пупком, дабы не измарать кровью. Джордж совершенно отвернулся от этой сцены и утопил лицо в ладонях. Сэм не двигался, но я слышал, как он очень тихо и жалобно хнычет. Я же, как я часто отмечаю, мужчина зрелый и разумный; более того, я лично переписал всю Обедню и знал, что воспоследует, — посему меня отчасти удивило, когда я поймал себя на том, что скрестил пальцы на обеих руках.
Реветь Великое Благопожелание и Проклятие Святому Секарию своим голосом Эрик явно не мог — такой щуплый человечек ни за что не способен эдаким мерзким пошибом ухать и гавкать, да и в то, что скалы под часовней станут шевелиться и стонать настолько отвратительно, я поверить никак не в силах. В сей отупляющей густоте, под атавистический животный рев ничто не казалось реальным, и когда Эрик словно бы оторвался от пола дюймов на восемь, попутавшее изумление мое зарегистрировало лишь то, чего я, оказывается, не замечал: он босиком, и правая стопа его ужасно изуродована. Эрик, заикаясь, лепетал список действий, кои Святой Секарий предлагает тем, против кого заклинается, когда я заметил, что лицо его почернело. Он рухнул головой к нам. Означенная голова, стукнувшись об пол, издала звук, который с тех самых пор я стараюсь забыть. Лицо Тичборна оказалось в нескольких дюймах от моего ботинка. Шелковое одеянье задралось едва ли не до самых подмышек; созерцать тело священника было не очень приятно. Странные звуки не утихали — откуда мне было знать, что он умер?
Как бы ни обстояли дела, именно в этот миг двери распахнулись, и внутрь ввалились разнообразные сентениры, вёнтаньеры, офицеры коннетабля и сами неизменные служащие жуткой Платной Полиции — и принялись задерживать всех и каждого из нас опять и опять.
Теперь, в соответствии с моими планами, изволите ли видеть, нас следовало аккуратно арестовать, предъявить обвинения во взломе и проникновении и оштрафовать на следующий день лошадок на пять, предоставив тем самым довольно смачных подробностей, чтобы «Джерсийская вечерняя афиша» сообщила всем и каждому — и в особенности, само собой, нашему приятелю, насильнику-ведуну — о том, что Обедня Святого Секария и впрямь состоялась, и мишенью ее был выбран не кто иной, как он сам. Я, быть может, из лукавства не вполне ясно дал понять Сэму и Джорджу, что нам, по всему вероятию, придется скоротать ночь в узилище, иначе в таком месте, которое мы с вами зовем «обезьянником», — не нравится мне доставлять людям продромальные боли, а вам? — и, что уж там говорить, они бы все равно на подобное развитие событий не согласились.
Как выяснилось, ни Сэм, ни Джордж толком не взяли себя в руки, пока мы не прибыли в гадиловку на Руж-Буйон, да и вообще не осознали до конца, что им суждено стать невольными гостями помощника заместителя начальника и самого начальника джерсийской полиции, пока им — нам — не выдали по два одеяла на нос, чашке какао и капитальнейшему кусу хлеба со шкварками, к коим я, например, был вполне подготовлен. К счастью, свободных камер имелось в изобилии — курортный сезон только-только начался, — поэтому мне одному досталась целая одиночка, и я оказался избавлен от тех упреков, кои иначе друзья мои в пылу полемики сочли бы уместным на меня вывалить. Бесконечно любезный тюремщик позволил мне оставить портфель с пижамой, бутербродами и скотчем, от последнего взыскав лишь чисто номинальную дань. Не стану делать вид, что спалось мне сладко, но я, по крайней мере, почистил перед сном зубы — в отличие от некоторых, кого тут можно было бы поименовать.
12
Где гниет листва палых лет, деянья
Неразумны где, и закон смешит,
Где они мешаются с ядом покаянья, —
Там найду, какой грех мне совершить,
Чтобы растворил меня он и уничтожил…
«Триумф времени»Мы, собравшиеся наутро в половине девятого в кабинете начальника, являли собой компанию довольно капризную. Джордж и Сэм, похоже, таили ко мне мелочную обиду касаемо того факта, что мне попросту хватило дальновидности прихватить зубную щетку и прочее. А может, им просто не нравилось сидеть под замком — есть такие люди, знаете.
Джордж вышагивал по кабинету взад-вперед — четыре шага влево, четыре вправо, — словно капитан до крайности малого суденышка, меряющий шагами то, что обычно меряют ими капитаны торгового флота. По ходу он одну за другой рычал фамилии влиятельных людей, причем всем им, как он ясно давал понять, он собирается немедля звонить, более того — в означенном же порядке. Сэм неким вялым комом грудился в кресле: как и я, он очаровательный собеседник лишь после — но никоим образом не до, истинная правда, — того, как что-нибудь выпьет перед ланчем.
Когда Джордж истощил свою умственную адресную книжку, начальник сыска прочистил горло тем манером, кой предоставлял лишь наималейший намек на самодовольство.
— Серьезные обвинения, — сказал он. — Серьезнее, вероятно, нежели вы отдаете себе отчет. Определенно серьезнее, чем мы предполагали. На это не станут закрывать глаза. Отнюдь не станут. Неприемлемо, видите ли.
Сэм вкратце помянул южный шлюз мочеиспускательного канала во множественном числе, после чего возвратился в свое состояние комковатости.
— Нет-нет, сэр, — изрек н.с., — это нам ничуть не поможет, такое ваше отношение. Здесь подход должен определяться словом «конструктивный». Давайте же будем конструктивны. Посмотрим, что нам удастся придумать. Поменьше вреда, поменьше публичности, поменьше бремени для налогоплательщиков, э?
Сэм высказал предложение, которое среднему налогоплательщику могло бы доставить удовольствие — но, с другой стороны, могло и не доставить.
— Ну вот вы опять, сэр, видите? Биологически это интересно, а вот конструктивным не назовешь. Повезло, что у нас тут нет полицейского стенографа, э?
Нежная угроза нежно спорхнула на пол. Сэм пробурчал:
— Извините, — а Джордж изрек:
— Хрррмф.
Я сказал, что не привык на завтрак пить какао. Н.с. оскорбительным образом извлек бутылку виски.
После чего объяснил нам — с хило замаскированным удовлетворением, — что мы плывем в цементной байдарке без весла по ручью с маловероятным названием, и самое милостивое, что он лично может для нас сделать перед тем, как упаковать в глубочайшую свою темницу, — это позволить каждому по одному телефонному звонку. Адвокат Джорджа, весомейший из всех, твердил «ох господи, ох господи», пока Джордж не швырнул трубку. Адвокат Сэма, судя по всему, произносил только «ой ой, ой ой», пока Сэм не заявил резко, что в суде стенания не помогут.
Мой же малый — обычный солиситор, его реакция была бодра.
— Давайте сюда легавого, — бодро сказал он.
Две минуты спустя н.с. — бодро же — сообщил нам, что ему только что пришло в голову: он не имеет возможности задерживать нас, пока не придумает обвинений получше, а посему, если мы не прочь выполнить некие пустяковые формальности у кассы, пока можем быть свободны.
Свободны мы и стали. По пути домой я был вполне готов к легкой светской беседе, но спутники мои казались как немногословными, так и онемевшими. Никогда не пойму я этих ваших людей.
Иоанна приветствовала меня дома своей загадочной улыбкой — это от нее она выглядит Моной Лизой для богачей — и тем сестринским поцелуем, коим супруга вам сообщает, что любит вас; но. Пренебрегши объяснениями, я пронесся в свою гардеробную, оставив в кильватере инструкции быть призванным не ранее, чем за двадцать минут до ланча.
— Да, дорогуша, — ответила она. У нее дар к слову.
В конечном итоге из свинской дремы, пронизанной устрашающими сновидениями, меня поднял Джок.
— Отбивные, мистер Чарли, — сказал он, — с жареной картошкой и маленькой французской фасолью.
— Ты меня странно интересуешь. Кстати, Джок, тебе вчера ночью удалось сбежать без, э, трений?
— Сбежать? — осклабился он. — Да этой шарашке и сифак не поймать в Порт-Саиде.
— Джок, прошу тебя. Я желаю насладиться ланчем.
— Ну. В общем, кухарка только что перевернула отбивные, поэтому у вас на спуск в столовую есть, я так прикидываю, четыре минуты.
Я успел. Отбивные я помню живо — они были вкусны; как и помянутые французские фасолины.
Весь день гудел телефонными звонками; я себя ощущал У.Б. Йейтсом на его «пчелогромкой поляне»[169]. Сначала — Джордж: он сурово отчитал меня, сообщив, что Соня себе места не находила всю ночь, оставшись в доме одна. («Фи!» — мысленно сказал я на это.) Джордж весь полнился планами импортировать сюда цвет Английской Адвокатуры для устрашения Королевского Суда Джерси.
— Черт возьми, не глупите, — сказал я. — Во-первых, у них здесь, возможно, не будет репутации. Во-вторых, у них уйдут годы на изучение всех причуд и каверз джерсийского законодательства. Выкиньте из головы. Доверьтесь дядюшке Чарли.
— Нет, послушайте, Маккабрей, — начал он. Я учтиво объяснил, что никогда не дослушиваю фраз, начинающихся подобным манером. Он начал сызнова, и сызнова я вынужден был его прервать, дабы объяснить, что я, хоть и не знаменит исправной посещаемостью церкви, все же нахожу богохульство безвкусным. Он тяжело посопел в инструмент минуты, быть может, полторы. Мне показалось, что следует ему помочь.
— Погоды, я полагаю, стоят прекрасные для этого времени года, не так ли?
Он повесил трубку. Я принялся за кроссворд «Таймс».
Следующим протелефонировал Сэм.
— Чарли, вы окончательно обезумели или все-таки соображаете, что делаете? Джордж утверждает, что вы изъясняетесь, как полоумный.
— Я когда-нибудь вас подводил? — просто осведомился я.
— Я вам когда-нибудь давал такую возможность?
— Как Виолетта?
— В полном отказе. Диагноз: не уверены. Прогноз: не можем сказать. Кормят внутривенно. Смените тему.
— Хорошо. У нас на ланч были отбивные. Приезжайте на ужин: Джок своими руками делает «алу гошт» по-бангалорски.
— Чарли, я полагаю, вы осознаете, что если вы разыгрываете все не по нотам, мне придется своими руками выпустить вам кишки?
— Разумеется. Но если я играю не по нотам, вам и не придется, изволите ли видеть. Придете на ужин?
— Ох, ладно. В восемь?
— Пораньше. Давайте назюзюкаемся.
— Договорились.
Забредшая в комнату Иоанна сказала:
— Приятно так часто видеть друзей.
— Передай Джоку, чтобы положил в карри побольше картошки, — сказал я. — Дорогуша.
Следующего звонка я ждал с ужасом: от Веселого Сола, моего Чудо-Солиситора.
— Хо хо хо! — довольно вскричал он, потирая руки. (У него громкоговорящий телефон, который оставляет обе руки свободными, — такие незаменимы для убежденных рукопотирателей.) — Хо хо! Вы в такой интересной бодяге, на какую я и не надеялся при жизни. В историю юриспруденции мы точно попадем!
— Меньше фырчков, ближе к делу, — кисло потребовал я.
— А, да, что ж — вы естественно тревожитесь. У вас, кстати, нет престарелых родителей, чьи седины вы от горя сведете в могилу? Нет? Ну, это, наверное, дело хорошее. Остальные наши дела по преимуществу плохи. Власти пока не уверены, сколько обвинений собираются вам предъявить, половина ярыжек Генерального Атторнея трудится над этим день и ночь, причмокивая над сочным ростбифом. Предварительный список пока выглядит так: Взлом и проникновение; Поведение, могущее привести к нарушению общественного порядка; Отвратительное сквернословие в общественном месте; Препятствование офицеру полиции в отправлении им служебного долга; Святотатство согласно Параграфу 24 Акта о кражах 1914 года: по нему максимальное наказание — пожизненное заключение, спорим, вы этого не знали, ха ха; Подстрекательство — м-да, это спорно; Art. I de la Loi pour Empêcher le Mauvais Traitement des Animaux[170] — за это полагается всего три месяца. Да, и 200 фунтов штрафа; Art. I de la Loi Modifiant le Droit Criminel (Sodomie et Bestialite) confirmee par Ordre de Sa Majeste en Conseil[171], я очень надеюсь, что за это вас не упекут: максимум — пожизненное, но минимум — трёха. Последнего малого просто депортировали, но он был чокнутый; Кража одного петуха, иначе кочета — нет, фермер клянется, что Джок ему не заплатил. Могут скостить до «Изъятия и увоза без предварительного согласия владельца», ха ха; Бродяжничество: у вас при себе, видите ли, не было наличности; Отсутствие личной подписи на водительских правах; Нарушение Закона о наркотиках (предотвращения злоупотребления оными) (Джерси) 1964 года — это зависит от того, чем окажется та дрянь, которую жег о. Тичборн; Нарушение — возможное — La Loi sur L’Exercise de la Medecine et Chirurgerie Veterinaire[172].
У меня не было времени искать зерцало, да и нужды, вообще говоря, не имелось: безо всякого сомнения могу сказать, что лицо мое побелело, как любая простыня — и, вероятно, стало белее многих.
— Это всё? — мужественно проблеял я.
— Отнюдь, Чарли, отнюдь. Боюсь, все это можно удвоить и переудвоить многократно, просто повторив то же самое и прибавив перед началом формулировку «сговор с целью». Законными также, вероятно, могут быть признаны следующие гражданские иски: Противоправное нарушение владения часовни и причинение оной ущерба; Противоправное нарушение владения дольмена и причинение оному ущерба; Противоправное нарушение владения участка «Ля Уг-Би» в целом и неуплата входной платы; Причинение ущерба в касательстве означенного петуха, иначе кочета… Вероятно, придумают что-нибудь еще, они едва приступили. Затем, боюсь, существует множество липких возможностей по церковному праву — а если эта компания вздумает выдвигать обвинения, я бы на вашем месте сразу признал себя виновным: дела в их судах тянутся годами, а издержки вас обанкротят… Просто к примеру: если об этом прослышит Епархия Кутанс, у вас большие неприятности — у Епископа там имеется некое Право Вмешательства, если что-то касается священника уголовным порядком… Затем существует особо кошмарная Папская Булла 1483 года — она до сих пор в силе, — в согласии с которой Папа Сикст IV[173] оберегает церкви Джерси ото всего, машинально приговаривая к «отлучению, анафеме, вечному проклятию и конфискации имущества». Об этом не следует сильно переживать, если вы случаем не папист: пункт про конфискацию имущества сегодня критики не выдержит.
— О, это хорошо, — тягостно вымолвил я. — А теперь вы исчерпали все возможности? То есть я слыхал о человеке из Нового Орлеана, который отбывает 999 лет, но я уже, знаете ли, не молод.
— Ну, вообще-то, боюсь, возможностей много больше. Видите ли, на Джерси практически не существует кодифицированного статусного уголовного права: практически все преступления подпадают под общее. А для обычного клиента это значит, что Генеральный Атторней может преследовать вас за что угодно, если оно будет признано оскорбительным или антиобщественным, лишь присобачив слово «незаконный» к описанию того, что вы натворили и против чего кто-либо возражает. Вы следите за моей мыслью?
Я утвердительно хныкнул.
— Но позвольте мне пролить на вашу жизнь лучик света. Все внутренние страховые полисы транспортных средств автоматически аннулируются, если помянутое средство используется в незаконных целях, поэтому Джорджа Брейкспира наверняка засудят за вождение без страховки. Да, я так и думал, что это вас несколько взбодрит. О, и, кстати, вам повезло, что ваша гаденькая церемония не преуспела в действительном призвании лично Дьявола: в настоящее время действует противоящурное ограничение, и вас могли бы притянуть по Акту о заболеваниях животных за перевозку парнокопытного зверя без лицензии, ха ха.
— Да, и впрямь «ха ха». Тем временем — что мне делать?
— Ждать, — ответил он. — И молиться.
Я повесил трубку.
Ни ожидание, ни вознесение молитв не относятся к навыкам, коими я могу похвастать. Мыслить — вот что поистине требовалось, а мышление, в свою очередь, требует шотландского виски, как вам скажет любой мыслитель, я же в минуту праздности дал одно нелепое обещание Иоанне. Часы стояли на без десяти три. Я подвернул стрелки на пять минут седьмого и призвал колокольчиком Джока. Он вкатил животворную тележку с напитками манером, кой я могу определить лишь как непокорный, и бессловесно вернул часы в порядок.
— Джок, — сказал я, когда графин забулькал. — Довольно-таки предполагаю, что я — в дерьме. Все потому, что, изволишь ли видеть, о. Тичборн умирает. Сейчас все это уже трудно контролировать.
— Ну он же не виноват, нет? — угрюмо ответствовал Джок.
— Конечно, нет, он был отличный парень, воплощенная учтивость; и помыслить бы не мог нарочно поставить нас в неловкое положение. Но факт остается фактом — это нам очень все усложнило. Что делать?
— Ну чего, не по хорошу мил, а по милу хорош, не? Особенно у джерсов.
— Я никогда не понимал до конца, что это значит. Каково твое толкование?
— Ну, скажем, если болонь — (под коей он имел в виду Отдел уголовного розыска) — подбирается к вам слишком уж близко, звоните кому-нибудь из своих корефанов по Борсталу, и он подводит клюя под взятку. Неважно, прилипнет или нет: его все равно отстранят, пока будут расследовать, а у новенького мудня, кого на ваше дело бросят, прежних контаков уже не будет, э? И первый мудень все про вас держал в голове, точно? Так у вас месячишко-другой на разборы, ага?
— Мне кажется, ага. Батюшки. Но, я полагаю, так в мире принято. Я определенно ничего иного придумать не могу. Благодарю тебя, Джок.
Я позвонил Джорджу.
— Джордж, — произнес я сладкоречиво. — Я поистине должен перед вами извиниться за свою недавнюю неучтивость. В пылу мгновенья, сами понимаете. Сам не свой, э?
Его хрюк я принял за приемку моих извинений.
— Сдается мне, — продолжал я, — что нашим кличем должно стать «не по хорошу мил»: мы должны применить влияние, оказать мягкое влияние, как вы думаете? Например, насколько близко вы знаете наиболее августейших персон Джерси; сидели вы с кем-либо из них в Борст… то есть в Харроу за одной партой? Я имею в виду малых вроде того малого, которому вы звонили вчера из участка?
— И в самом деле — некоторых весьма неплохо.
— Ну так, стало быть, и вот. Пригласите их к чаю, набейте им утробы снедью — горячими пышками с маслом, пирожочками с мясом, вишневой наливочкой, в общем, всем, что им не разрешают есть дома, — а затем напомните им о ваших школьных деньках, о невинных шалостях, что вы устраивали вместе, короче, сами знаете.
— В данный момент я именно этим и занимаюсь. Что-нибудь еще?
— Да вообще-то нет.
— Тогда — до свидания.
— До свидания, Джордж.
Мысль о горячих пышках с маслом схватила меня за глотку, аки тигрица; меня раздирало желание оных. Я забрел в кухню, где Джок наклеивал в альбом фотоснимки Ширли Темпл.
— Джок, — как бы между прочим сказал я, — как ты полагаешь, у нас в доме не найдется горячих пышек с маслом?
Он сердито на меня воззрился.
— Вам перкасно известно, мистер Чарли, что́ насчет горячих пышек с маслом говорила миссис Маккабрей. «Лучше обходиться без них» — вот что она сказала. Вам.
— Но сейчас особый случай, — проскулил я. — Мне эти пышки необходимы, неужели ты этого не сознаешь?
Физиономия его осталась каменной.
— Я тебе так скажу, Джок; ты забудешь упомянуть миссис Маккабрей о горячих пышках с маслом, а я забуду упомянуть о том, что ты спер ее банку икры. Не по хорошу мил, знаешь ли.
Он вздохнул:
— Быстро схватываете, мистер Чарли.
Я придвинул стул, потирая руки, как заправский законник.
По некой сокровенной причине, пышки продаваемые на Джерси, склонны распределяться по семь штук на пакет, а это значит, что если вместе собирается двое пышкоедов, между ними разгорается довольно нелицеприятное состязание в обжорстве, ибо доевший первым третью пышку получает естественное право на четвертую. Мы оба уже порядочно углубились в третью — дело даже выглядело так, что победителя придется вычислять по фото-финишу, — когда звякнул дверной колокольчик, и Джок поднялся, уныло стирая с подбородка растаявшее масло. Вот в такую годину дает о себе знать порода. После молниеносной умственной схватки я разделил оставшуюся пышку на две почти равные доли.
Джок вернулся, метнул взгляд на тару с пышками и объявил, что в вестибюле меня дожидаются какие-то господа из прессы и нужно ли провожать их в гостиную.
«Господами из прессы» оказалась одна привлекательная юная дамочка из «Джерсийской вечерней афиши», явно пышущая интеллектом, один пресытившийся юный фотокорреспондент и один крупный, печальный и благовоспитанный парняга, представляющий радиовещание и телевидение. Я сдал им стаканы спиртных напитков с проворством, достойным шулера с миссисипских колесных пароходов, после чего заключил с ними сделку.
— Не дайте национальной прессе сесть нам на шею, — вот к чему сводилось бремя песенки моей[174], — и получите — эксклюзивно — всю информацию и все фотографии, которые только разумно ожидать. Подведете меня — и я захлопну перед вашим носом двери и Расскажу Всё «Воскресной публике».
За этим последовали три содроганья, а за ними — три же рьяных кивка.
Тщательно отрепетированными формулировками я изложил им довольно крупную порцию правды, особо упирая на то, что негодяй — явный колдун, а всем отлично известно, что Обедня Святого Секария способна без промаха выдернуть ему зубы и лишить его всех мистических сил, если, конечно, он и впрямь знается с ведьмами, а если он будет упорствовать в злодеяниях своих, и некоторые физические силы его прискорбно и мучительно повредятся.
После чего я метнулся на другую половину дома и позаимствовал у хозяина крупную вонючую трубку и мелкого вонючего пуделька. Зажав одно в зубах (да, трубку), а другое под мышкой, я позволил гостям сделать несколько фотоснимков благостного старины Маккабрея в его любимом кресле и еще более благостного старины Маккабрея за ковырянием в саду. Ушли они вполне удовлетворенными. Я удрал в ванную и от привкуса трубки избавился полосканием рта, переоделся и велел Джоку испакощенный пудельком костюм отправить в чистку, а если надежды на восстановление нет — отдать нуждающимся.
Более ничего примечательного в тот день не произошло, за исключением изысканного карри, по ходу поглощения коего я воспроизводил пластинки Вагнера: под карри он идет изумительно, иного применения ему я по сей день так и не нашел. Сэм нас покинул рано, да и я был уже готов баиньки, как со мною случается всегда после ночи, проведенной в каталажке. Я слышал, как Иоанна вернулась со своей партеи в бридж, но отправилась она прямиком к себе в комнату, поэтому предполагаю, что она проигралась. Долго лежал я без сна, раздумывая о бедняжечке Эрике Тичборне и чувствуя себя «язычником, взращенным в устарелой вере»[175]. Полагаю, чувство сие вам известно, особенно если супруга ваша иногда отправляется на боковую, не пожелавши вам спокойной ночи.
13
Семь скорбей жрецы своей Деве дали;
Но грехов твоих — семью десять на семь,
Их искупят и семь веков едва ли,
В небесах спастись — сей надсад напрасен:
Ярых полночей, что заря поглотит,
Всей любви, что на троне уже,
Всех печалей и радости плоти
Не стерпеть душе.
«Долорес»Все утро и почти весь день я провел в постеле, куксясь и декларируя нездоровье. Джок вносил не менее трех последовательных чашек восхитительного крепкого бульона, не говоря уже о бутерброде-другом время от времени. Иоанна пыталась смерить мне температуру.
— О нет, только попробуй! — возопил я.
— Но мы в Штатах всегда ее так меряем.
Спас меня колокол телефона: ярыжки Генерального Атторнея желали знать, что у меня с гражданством. После чего телефон прозвонил снова: Джордж, чей адвокат нагонял на него ужас. Джорджу я сообщил, что мой солиситор будет ужасальщиком получше, да и побыстрее: все свое ужасание он проделал днем раньше. После чего — новый звонок, и я сообщил клерку Начальника Полиции, что нет, в Участок я заскочить никак не смогу, ибо страдаю от третичной лихорадки.
Так оно и продолжалось. В преисподнюю, сдается мне, телефоны тоже провели.
Ожидал же я «Джерсийской вечерней афиши», ибо для действенности нашего предприятия сущностно важна хорошая пресса; к тому же, она может оказаться пользительна, когда дело дойдет до Суда.
Наш экземпляр газеты доставляется в шесть часов, однако другие, по всей очевидности, свой получают раньше, ибо телефонные звонки возобновились с удвоенной силой в половине пятого. Приведенные здесь в грубом порядке, они включали:
Одного ученого пастора, моего знакомца, который печально и, быть может, вполне разумно пожалел, что мы сперва не прибегли к ресурсам Церкви, а уж потом подвергали бы опасности свои души, заигрывая с Враждебными Силами;
Одной христианской ученой[176] — я-то думал, все они давно повымерли, — которая объяснила, что любое насилие происходит лишь в уме и есть всего-навсего манифестация Смертной Ошибки. Она еще говорила, когда я повесил трубку, но вряд ли она заметила;
Трех совершенно отдельных свидетелей Иеговы, которые сообщили, что Армагеддон назначен на 1975 год, и места среди 50 000 спасенных мне не отыщется, если только я побыстрее не совершу чего-нибудь с состоянием своей души. Я даже не стал им объяснять, что меня приводит в содрогание одна мысль о спасении в мире, населенном лишь иеговистами; я только дал каждому по номеру моих приятелей-зануд, которые, как я уверил звонильщиков, с удовольствием распахнут двери кому-нибудь из их секты;
Двух респектабельных знакомых — каждый вдруг осознал, что пригласил нас на ужин не в тот вечер, а потому перезвонит в должное время;
Трех аналогичных знакомых, кои приняли наши приглашения, но вдруг осознали, что у них прелиминарно — или, что вероятнее, постфактумно — уже назначено где-то еще;
Одного занимательного любителя реинкарнации, который в последней жизни был Зверем Апокалипсиса;
Одного довольно буйного малого, который втолковывал мне, что про Дьявола я все понял неправильно: «Она — цветная личность», — объяснил он;
Нескольких так называемых ведьм разнообразных деноминаций — некоторые глумились, а некоторые предлагали алиби;
Одного пьяного ирландца, который запросил подробный маршрут к моему жилищу, дабы он мог нанести мне визит и вышибить из меня мозги;
Одного парня по фамилии Смит, который сказал, что отправляется в церковь молиться за спасение моей души, но на особо живенький успех не рассчитывает;
Одной знаменитой деятельницы Группы защитников Реформы Закона о жестокости к животным, которая предложила забрать у меня пуделька и найти ему хороший дом. (Этой я сказал, что я тоже увлекаюсь жестокостью к животным, но пуделек у меня набивной, ибо, увы, скончался о прошлом годе неясным манером.)
«Джерсийская вечерняя афиша», судя по всему, оказала мне честь — и в самом деле, когда наконец доставили мой экземпляр, так оно и оказалось. По первой полосе заголовками и кляксами растекся весь Маккабрей, достойный печати[177]. От фотографии Иоанна и Джок просто катались по полу в приступе непристойного веселья: сенильный, ученый старина Маккабрей, опуделенный и трубконосный, слабоумно сиял с нее занимательнее некуда. Юная репортерша мисс Г. Глоссоп, очевидно, хорошо сделала свою домашнюю работу: все факты излагались ясно и обстоятельно. Старина Маккабрей, по всей видимости — эрудит не от мира сего, — страстно желая помочь друзьям в нужде, настолько успешно вышибал клин клином, что отправлявший ритуалы священник пал замертво — ко всеобщему сожалению — в самой кульминации службы. «Какой же, — подразумевалось в статье, — урожай пожнет виновник, избранный мишенью, если даже невинный пушкарь, так сказать, не смог перенести отката?» Далее мисс Глоссоп крайне информированным тоном перечисляла изумительные могущественные свойства, приписываемые Обедне Святого Секария, и жалела ту ведьму или колдуна, кто безрассудно попытается с нею тягаться своими убогонькими силенками. Ни один мало-мальски грамотный сатанист не упустил бы сути. Более того, стиль мисс Глоссоп, исключая легкой тенденции довольно свободно, щедро и даже отчасти избыточно определять глаголы наречиями, явно развивался из хороших образцов для подражания: ни единое «впоследствии выяснилось» не марало ее прозрачной прозы. Я был очень доволен. Я даже поднялся к ужину и сам совершил несколько телефонных звонков. Сэма дома не было — где он был, никто не знал, — но Джордж неохотно допустил, что уловка, похоже, действует успешно. Солли с набитым ртом (солиситоры ужинают гораздо раньше барристеров) подтвердил, что от паблисити образу моему чуточку получшеет, а также дал понять, что обвинение-другое против меня снято, а новых сочинили всего четыре-пять.
Душа моя положительно взбодрилась. За исключением перспективы провести несколько десятков лет в тюрьме, горизонт был вполне чист. Из кухни доносились взрывы хохота: там Джок, я полагаю, показывал мою фотографию своему доминошному приятелю и кухарке. Я снисходительно просиял.
Объявили, что ужин подан.
Едва ли есть нужда отмечать, что я не отношусь к числу тех, чей разум постоянно застревает на провианте; однако ежели он время от времени так поступает, обращаясь в сем направлении, то уж целеустремленности ему не занимать; а в особенности, как в данном случае, если выставленная на рассмотрение гастрономия представляет собой цесарку, сей триумф искусства птицевода. Конкретный пернатый друг был образцом до необычайности хорошей выводки: должно быть, жизнь он вел прекрасную и укромную. В тесной взаимосвязи с ним, распевая задумчивые лэ о каменистых склонах Пьемонта, то и дело опрокидывалась бутылочка «Бароло». Редко доводилось мне проживать столь счастливый и более невинный час, однако же, как нам излагает сам Мастер, только разнежишься — и вот тебе, из-за острого угла, из темного проулка выползает Судьба, перебирая в пальцах набитую угорью кожу, предназначенную для чьего-то затылка[178].
Я отшвырнул финал моих «Ромео э Джульетты» в угли догорающего очага и окинул Иоанну чем-то вроде супружеского взора. Она воздела бровь, вылепленную, как чайкино крыло. Я подмигнул. Зазвонил телефон.
То был сентенир. Он подумал, что мне будет небезынтересно: случилось еще одно изнасилование. Супруга томатовода. Как и прежде — сатанинские атрибуты, но с вариацией: вышибив из нее сознание тою же разновидностью деликатного апперкота, полукругом на ее голом животе, значительно ниже пупка он помадой вывел слово «секретарь».
— Довелось ли вам прочесть сегодня вечером газету? — спросил я.
— Видел ваше фото, сэр, но со всей статьей, как вы бы выразились, не ознакамливался — меня на это дело вызвали, э?
— Так поглядите еще раз на пузико этой дамочки, — сказал я. — Сдается мне, вы убедитесь, что слово, там изображенное, читается «Секарий».
Я устало поднялся из кресел, ощущая себя старым, как первородный грех.
— Ну вот, — вздохнул я. — Назад, на галеры.
— О, это хорошо, — сказала Иоанна. — Наперегонки до спальни?
— Я не это имел в виду.
— Только что — именно это.
— Только что я вступал в средний возраст. А в данный момент вполне готов к жмуркам для жмуриков.
— Хорошо, тогда поиграем в больных и медсестер: ты будешь гнаться за мною наверх, только очень медленно; чтобы экономно расходовать мужские силы.
— Ох, ну что ж, — отвечал я.
Душа моя к этому не очень лежала, но я оценил Иоаннины старания помочь. По некой причине, изволите ли видеть, мы не можем с нею беседовать как полагается.
14
В ней жизнь покамест теплится,
Стыд сберегает цвет лица
За руки опустелые,
За губы онемелые, —
Любовь запечатлеется
В словах, как рукоделие,
Что вьется мукой без конца,
Но жара молнии нет в них
И смысла гром уже затих.
«Эпилог»Зловещие сновиденья мои пронзил отвратительный вой; я пробудился, содрогаясь. Но то был всего лишь Джок — он взбирался по лестнице с моим чайным подносом, распевая «Улетим на леденце»[179] лучшим своим фальцетом. Получается у него вполне себе неплохо, но всякой Ширли Темпл свое место и свой час.
— Этот «обад»[180], иначе «маттината»[181], больше не должен повторяться, Джок. Моей печени от него больно. «Проклят будь тот, кто приветствует брата своего поутру громким голосом», как любило отмечать Второзаконие[182].
В отместку он позволил некоторой массе чаю пролиться на блюдце, мне в тот миг передаваемое, после чего намеренно промокнул протечку хорошо вызревшим носовым платком. Шах, мат и гол в мои ворота. Чай — когда я смог заставить себя его отведать — на вкус был как воды Вавилонские, в которые наплакали просто безудержно.
— Как у нас сегодня кенар?
— Нога болит.
— Тогда призови лучшего ветврача, которого только можно купить за деньги, никаких средств не жалей. Неплохо отзывались о мистере Блэмпайде.
— Уже был. Сказал, ногу придется оттяпать.
— Глупости. Я человек небогатый, я не могу позволить себе содержать в праздной роскоши кенара на деревянной ноге.
— Он же поет, мистер Чарли, а не в карбалете танцует. А, и еще — мистер Давенант и мистер Брейкспир вас внизу дожидаются.
— Ох батюшки, ох Иисусе, в самом деле? Э, расположены они, осмелюсь полагать, радостно?
— Чертовски дьявольски.
— О. Стало быть, о новом инциденте они слыхали?
— Ну.
Языковые способности не подвели Джока: «дьявольское» — единственное слово, уместное для выражения настроений, в коих пребывали Сэм и Джордж. Когда я их подоброутрил, они воззрились на меня так, словно были целой сворой леди-Макбетов, столкнувшихся лицом к лицу с наиболее неприемлемой разновидностью проклятых пятен[183]. Я съежил рот в кривоватую усмешку. Их уста, тем не менее, оставались суровы. Я было обмозговал мысль рассказать им какой-нибудь анекдот, но затем от нее отказался.
— Выпьете? — предложил я. — Скотч? Джин с тоником? Бутылочное пиво?
— Маккабрей, — отвечал Джордж. — Вам известно что вы — слово из трех букв?
— Знаете, я никогда толком не понимал, что это значит.
Сэм объяснил; уложился ровно в три буквы. Я никому не позволяю так со мной разговаривать.
— Сэм, — массивно начал я.
Он повторил это слово.
— Что ж, — уступил я, — в том, что вы обозначаете, быть может, и есть некий смысл. Но вдумайтесь: насильнику — если этот инцидент и впрямь его работа, — могло просто не хватить времени на чтение вчерашней вечерней газеты; она продавалась не очень долго.
— Тогда как вы объясните слово «Секарий»?
— О. Это вы тоже слышали.
— Да, слышали. И нам представляется, что ваш извращенный и тупоумный план не только опозорил нас и подвел под каталажку, но, что хуже всего, — просто не сработал. Это человек бесспорно смеется над нами.
— Но еще ведь слишком рано, чтобы знать это наверняка, нет? То есть, вполне возможно, что на самом деле план-то как раз и удался, знаете. У него в подсознании или где-то… — неуклюже закончил я.
— Чепуха. Мы просто-напросто должны возобновить засады, отныне — каждую ночь. Новый инцидент подтверждает нашу теорию, что его мишени — скорее всего англичанки, возрастом за тридцать, живущие в этом районе. Сейчас пред нами стоит лишь вопрос времени. И бдительности.
— И штабной работы, — буркнул Джордж.
— И преданности.
— Понимаю. Очень хорошо. Начнем сегодня же, я полагаю? Или ночку пропустим, чтобы дать малому перезарядить, э, аккумуляторы?
— Сегодня, — в один голос ответили они.
— Видимо, вы правы; у таких ребят батарейки не садятся: я бы решил, что гонады у них — как ядерные реакторы.
— Не смешно. И я предполагаю, вам известно, что через сорок минут мы должны быть в околотке. Не желаете ли предложить нам выпить до ухода?
Я раскрыл рот, но снова его захлопнул. Было ясно: что бы я ни сделал в это утро — все не так.
Начальник полиции встретил нас каменным взглядом. Как у всех хороших полицейских, коим намекали, что не стоит цепляться к влиятельным особам, настроение у него было мерзее некуда. Он внимательно, одного за другим, осмотрел нас — веками освященная методика полисменов, желающих дать вам понять, что они За Вами Будут Присматривать, и вам, паркуясь на желтой полосе, лучше бы не попадаться.
— По некой причине, до меня не доведенной, — тяжко начал он, — было решено, что все это следует полагать глупой шалостью, завершившейся трагически. Большинство основных пунктов обвинений возложено будет на покойного Тичборна. Надеюсь, это вас обрадует. Вы же обвиняетесь только в Незаконном проникновении в частные владения, Противоправном устроительстве дебоша и бесчинств, Непредотвращении нарушения закона против дурного обращения с животными, а вы, мистер Брейкспир, — в Вождении незастрахованного транспортного средства и Отсутствии личной подписи на водительских правах.
Меня пробило потом облегчения. Джордж слышимо заскрипел зубами. Взор Сэма, похоже, вперялся в некий далекий и тошнотворный объект.
— Я неофициально, — продолжал полицейский, — связался с «Сосьете Жерзэз». Они, что вполне справедливо, шокированы и разъярены, однако, может статься, письменное извинение с вашей стороны, а также предложение денежной компенсации за новый замок с цепью и оплаты удаления пятен копоти со стен часовни их удовлетворит. Скажем, триста фунтов.
В пропыленном солнечном свете блеснули три чековые книжки; три ручки-самописки зашуршали и забрызгали в унисон.
— Судья полицейского суда направил ваше дело непосредственно в Королевский суд. Вам вменяется предстать перед судебной сессией особого созыва ровно в два тридцать дня сегодня, что предоставляет вам массу времени на обильный и дорогой ланч. Нет, прошу вас — меня приглашать не стоит. Мне что-то неможется. Желаю вам приятного дня.
Зря он пошел в полицию — из него получился бы отличный директор англиканской (высокой разновидности) школы для мальчиков. Мы незаметно ускользнули.
На сей раз дежурный сержант не предложил нам по чашке чаю; смотрел он на нас с холодком. Вероятно, о деле нашем он осведомлен не был, но дух посрамленья, должно быть, лип к нам: мы уже не являлись господами как таковыми, но — лицами, которых стоит взять на заметку.
Он попросил меня идентифицировать мой магнитофон в комплекте с одной кассетой как свой, а также за него расписаться. Я подчинился.
— На кассете ничего нет, — предупредил он.
— Желаете поспорить? — спросил я.
Автомобиль мой достославно нес на себе штрафную парковочную квитанцию, кою мои спутники обозрели с мрачным удовлетворением.
— Ну, и где мы обедаем? — осведомился Джордж.
— Я за ближайшую рыгаловку, — отвечал я. — Ибо сегодня у меня лучший день для того, чтобы давиться собственными словами.
Для разнообразия нам повезло — удалось оккупировать столик в «Борсалино», однако в полной мере оценить великолепный провиант не вышло.
— Вам разве не нравится «пуле[184] Борсалино»? — спросил озадаченный ресторатор.
Сэм глянул на него унылым глазом:
— «Пуле Борсалино» превосходен. Нам не нравимся мы.
Ресторатор не проникся; а потому отполз восвояси. (Когда я сообщу вам, что «пуле Борсалино» представляет собой куриные грудки, обернутые вокруг комьев сыра «камамбер» и зажаренные во фритюре, вы осознаете, какие глубины досады понудили нас его отвергнуть.)
Королевский суд вгонял в ужас до невероятия. Адвокаты Сэма и Джорджа и мой Солиситор дожидались нас в вестибюле. Адвокаты поджали губки; Солли мне подмигнул. Поняв намек, я затянул потуже узел галстука и сдвинул его чуть вперекос, измяв воротничок; уловка проста, но снижает зримый доход на несколько сот фунтов. «Верб. сап.»[185], не говоря уже об «эксперто креде». Мы одолели череду лестничных пролетов, облаченных в линолеум, — вне всякого сомнения, во время оно ступени эти были сконструированы для того, чтобы узники, доставленные в Суд, пыхтели и потели от мук совести. По пути Солли пихал меня локтем в бок — бесспорно, дабы подбодрить. У собственно зала заседаний нас вверили «греффье»[186] — пугающей личности в черной мантии: смотрелся он так, будто подобающим наказанием за нарушение правил дорожного движения полагал смертную казнь. Вскоре к нам присоединился «веком»[187] — у них это произносится «виконт», — еще один облаченный в траур служка с огромной булавой, и мы прошествовали сквозь дубовые двери в Суд. Зал представлял собою высокий, просторный и хорошо освещенный покой несравненной красы, увешанный великолепными картинами. Пред нами, в некотором величии и под изумительным балдахином, восседали властители нашей судьбы. В центре (как шепотом растолковал мне Солли) — Заместитель Бейлифа; справа от него размещался трон пониже — пустой, — на коем сидел бы Вице-Губернатор Ее Величества[188], предпочти он воспользоваться своим правом посещения сего мероприятия; по другую руку — пара «жюра»[189], избранных из цвета древней джерсийской аристократии. Смотрелись они умудренными и полезными, в чем, я полагаю, и состоит их функция.
Веком утвердил булаву в особую ячейку перед Скамьей Суда, греффье занял свое стойло, и заседание Суда Сокращенного Состава (так он называется, если присутствуют всего два жюра) объявилось открытым.
Скамьи для публики оставались преимущественно пусты: мероприятие сорганизовалось слишком спешно для любителей сенсаций, — и оных присутствовала отнюдь не толпа, а обычная горстка престарелых упырих, посасывающих свои мятные лепешки: зевак того сорта, которому не нравится насилие по телевидению, и они предпочитают постигать его из первых рук, с пылу, так сказать, с жару. Скамью для прессы занимала единственно моя подруга мисс Г. Глоссоп — она вся лучилась интеллектом и доброжелательностью. У меня даже сложилось впечатление, будто она готова мне дружелюбно помахать.
Суд обволокла смертельная тишь, потом народ принялся декламировать что-то на древнем нормандско-французском; судебные шестерки затем повторяли это по-английски; полицейские, как Платные, так и Почетные, излагали, как они при выполнении служебных обязанностей перемещались с одного места на другое и действовали по получении информации, более того — в подтверждение сказанного у них имелись блокноты. Адвокат Сэма, поднявшись, жалостливо застонал; человек Джорджа умело громыхал; Солли же — такого Солли я не наблюдал ранее — воззвал к терпению Суда на предмет объяснения вкратце того факта, что — хотя фразеологией он пользовался иной — я просто, блядь, идиот, и меня в этой связи следует скорее жалеть, а не порицать.
Навалилась еще одна смертельная тишь — ее нарушало лишь упыриное причмокивание мятных лепешек. Заместитель Бейлифа и «жюра» удалились с целью обсуждения тонкостей потоньше, а я провел оперативную консультацию со своей карманной фляжкой.
Всего через несколько минут судьи наши возвратились с такими, черт возьми, физиономиями, словно собирались нас лишить наследства. Когда все опять уселись, нам, злоумышленникам, снова повелели встать. Заместитель Бейлифа превосходно владел языком: пока он суммировал наши безрассудства, стать наша вполне заметно усохла.
Пять звучных минут недвусмысленно дали нам — и всем очевидцам — понять, что мы — такого сорта подлецы, без коих прекрасный остров Джерси великолепно обойдется; столько хулиганств, пьянства и опущения моральных устоев Острова вообще — непосредственная вина таких, как мы; людям нашего поколения следует являть пример юношеству, и чтобы такого больше не случалось, а не то.
Он перевел дыхание.
— Чарли Стаффорд Ван Клеф Маккабрей, — рек он гласом фатума. — Вы признаетесь виновным по всем трем пунктам обвинения. Что вы можете на это сказать?
Я перехватил необоримый взгляд дамы напротив. Она подалась вперед, рот приоткрылся, и внутри виднелась огромная полосатая мятная лепешка.
— Мне ужасно жаль, — сказал я лепешке. — Глупо, неразумно, непростительно. Да. Очень. Извиняюсь.
Он сообщил мне, что я — из хорошей семьи; я самоотверженно пришел на выручку друзьям — хотя и свалял дурака; Суд удовлетворен моими изъявлениями сожалений, позор тут — вероятно, достаточное наказание, посему Суд склоняется к проявлению мягкости. Я сокрушенно повесил голову, дабы скрыть ухмылку.
— Посему вы приговариваетесь к тюремному заключению сроком двадцать семь месяцев. — Зубные протезы дамы защелкнулись на бессчастной мятной лепешке. — Либо к уплате совокупного штрафа в размере четырехсот пятидесяти фунтов. Подайте обвиняемому стул, офицер. Кроме того, вы обязываетесь к примерному поведению сроком на пять лет под свою собственную гарантию в дополнительные пятьсот фунтов. — Он сдвинул очки на шесть дюймов по своему царственному носу. — Вы способны уплатить? — уже ласковее осведомился он.
Сэма присудили к штрафу на пятьдесят фунтов меньше, но ему про хорошую семью не излагали; должно быть, обидно.
Джорджу впаяли то же, что и Сэму, поскольку, как отметил Заместитель Бейлифа, у него превосходный армейский послужной список. Джордж уже собрался было сесть, когда З.Б., явив мастерство координации, коему позавидовал бы Мохаммед Али, вчинил ему еще один штраф на сто пятьдесят лошадок за незастрахованное авто.
Снаружи, на Королевской площади, Солли поздравил меня:
— Вы очень хорошо держались. Я вами гордился. И Заместитель Бейлифа вел себя очень благородно.
— Благородно?
— Господи, ну конечно. Вы бы слышали, как он отчитывает нас, юристов, если мы чего ляпнем. Чувствуешь себя, как лейборист из Парламента, которого застали за приставаниями в общественном туалете. Кстати — а что обычно делают с жабой?
— Жабой? — квакнул я.
— Ну, может, лягушкой, я ж не знаю. Такая бурая вся, в пупырях.
— Тогда жаба.
— Ну да, в общем она объявилась сегодня утром, и моя секретарша никак не может заставить ее поесть. Предлагала ей хлеб с вареньем, всякое. Разборчивая тварь.
— Когда вы говорите «объявилась»…
— В коробке от сигар. И к ней прилагался кусок туалетной бумаги с одним словом — «Маккабрей». Э-э, использованной бумаги.
Я возрадовался, что за ланчем едой не злоупотребил. Взяв себя в руки, я сказал:
— Я бы решил, что это чья-то скверная шутка. Очень. Вроде казни египетской, изволите ли видеть.
— Понимаю, — ответил он; однако странно при этом на меня посмотрел.
Мы с Сэмом отужинали рано — у Джорджа, — затем произвели отбор женщин для защиты на ночь и принялись обзванивать. И оказались не готовы к той несгибаемой враждебности, с коей наши предложения встречались: судя по всему, нас полагали светскими прокаженными. Первые две, даже не пытаясь изобразить достоверность, сразу сказали, что они уже заняты; третья подчеркнутым манером бросила трубку, едва заслышав наши имена; четвертая сообщила, что ее супруг способен о ней позаботиться совершенно адекватно, большое спасибо; пятая сказала, что если мы позвоним еще раз, она вызовет полицию. И только последняя, вся пропитанная джином, сбрендившая от плотских страстей поэтесса предложение наше приняла; в голосе ее при этом слышалось, что она уже планирует свое собственное небольшое насилие.
Мы безучастно переглянулись. Зазвонил телефон.
— Это вас, Чарли. Иоанна.
— Чарли, — медовым голосом изрекла моя супруга. — Возможно, тебе небезынтересно будет узнать, что моя вечерняя партия в бридж сегодня отменилась. Да, совсем. Позвонила леди Пикерсгилл и сказала, что у нее сильная простуда. Как и леди Кортанс. Как и миссис Краснинг-Куропатт. Надеюсь, ты собой гордишься.
— Батюшки, Иоанна, я даже выразить тебе не могу, как мне…
— Я звонила в аэропорт. Вечером ни одного рейса в Лондон нет. Более того, наша уборщица только что мне сказала, что не может нам услужать — отныне ей необходимо заботиться о престарелой матушке. На чьи похороны она отпрашивалась год назад. Более того, на дороге перед домом стоит фургон телевидения. Более того, ты видел вечернюю газету? — И, не дожидаясь ни «да», ни «нет», ни «не знаю», она повесила трубку.
Я вышел под дождь к калитке и подобрал газету. (Любой свободнорожденный джерсиец сделает для вас что угодно, но акт закладки газеты в почтовый ящик он презирает, не странно ли это?)
Мы изучили первую полосу. «Джерсийская вечерняя афиша» оказалась справедлива — нет, добра к нам в своем репортаже о процессе, но снимок нас на мостовой у здания Суда был, мягко говоря, неудачен. Мы, трое нелепых правонарушителей, виновато сгрудились вместе в окружении продажных стряпчих, мы кривлялись и корчили рожи. Джордж пялился в объектив с таким видом, будто готов безжалостно убивать, иначе и не скажешь; Сэм походил на неприличное слово, вырезанное из уотергейтских пленок[190], а меня застали за почесыванием ниже копчика и хихиканьем через плечо. Все это весьма неуместно.
Мы переглянулись; точнее, они смотрели на меня, а я изворотливо отводил глаза.
— Знаю, — наконец бодро сказал я. — Давайте все пойдем и напьемся!
Они перестали смотреть на меня и посмотрели друг на друга. Снова появилась Соня — глянула на фотографию, и с нею моментально приключился приступ смешливости. Некоторым женщинам это весьма к лицу, но Соня искусству хихикать никогда не училась: в ее исполнении это слишком шумно, и она имеет склонность падать на диваны и прочее, выставляя на всеобщее обозрение панталоны. Когда те имеют место. Джордж ясно выразил ей сим недовольство, и она вернулась к истинной любви всей своей жизни — стиральной машине; гадкой и громкой штуковине.
Сэм и Джордж начали было снова разыгрывать сцену «давайте все поглядим на Чарли с ненавистью», поэтому я поднялся. Меня, знаете ли, возможно обидеть.
— Я отправляюсь домой смотреть телевидение, — чопорно объявил я.
— А вот и нет, — рявкнул Джордж. — Вы отправляетесь домой переодеться в темное, мягкую обувь и оружие и через пятнадцать минут являетесь сюда с Джоком, облаченным так же.
Я, конечно, по временам могу казаться несколько малодушным — если это меня устраивает, — но подобной чепухи, даже от отставных бригадиров, я никак не потерплю. В особенности от отставных бригадиров. Я развернулся к нему и обвел его медленным непокорным взором.
— По меньшей мере, это займет двадцать минут, — непокорно сказал я. — Поскольку, зная, как дома обстоят дела, думаю, костюм мне придется подбирать самому.
— Уж постарайтесь, — не без сострадания ответил Джордж.
В конечном итоге я вернулся через двадцать восемь минут.
— Хорошо, — сказал Джордж. — План таков. Поскольку эти идиотки не дадут нам залечь в засаду внутри, нам придется патрулировать дома снаружи — с сего момента до полуночи. Я буду перемещаться от От-Круа до этого дома; Джок высадит Сэма у «Ля Серженте», откуда тот доберется до поместья Св. Маглуара и оттуда, мимо Канберра-Хауса — сюда; сам Джок, ибо как Соня, так и Иоанна остаются одни и без охраны, будет работать между «Громобоем» и «Ле Шерш-фюит»; вы, Чарли, прикроете тропы между этим домом и бухтой Прекрасной Звезды. На шоссе ни один из нас выходить не будет. Вопросы есть?
Вопросов не было.
15
Гладиатор, томясь по твоим щедротам,
Затаил дыханье, что горше страха,
И страданья, окрасив ланиты потом,
Отыскали пар, кой для смерти не вспахан,
Когда твой вертоград озарился,
И пошел в поводу мир-битюг,
И на паперть народ возвратился,
Богоматерь Мук.
«Долорес»Льдом повеяло на меня от сего решения, скрывать не стану: холоднее ночей не бывает в году для милицейского патруля[191]. Полагаю, я уже довел до вашего сведения собственные взгляды на месяц май, осеняющий Британские острова. Вот и та майская ночь, в кою я мрачно пробирался к бухте Прекрасной Звезды, была холодна и черна, аки сердце школьницы, а луна — в своей последней четверти и довольно-таки лишенная настоятельной потребности служить обществу — напоминала мне лишь о серебряном талере Марии Терезии[192], который я однажды наблюдал зажатым меж ягодиц одной сомалийской дамы: по моим представлениям, дама сия была ничем не лучше, нежели следовало. Но довольно об этом.
Так я и крался к бухте Прекрасной Звезды. Море хрипло сопело, будто насильник, отвыкший от своего ремесла. Так и крался я обратно, сопя уже сам, будто ополченец, не имеющий при себе ни карманной фляжки, ни коробки с бутербродами, ибо жена его с ним не разговаривает. Когда я входил в Каштановый проезд (Ля Рю де Шатэньер), приближаясь к завершению своего первого обхода, один шатэньер, иначе каштан, тихонько разделился на два шатэньера, иначе каштана, и одна его составляющая поплыла ко мне. Меня часто спрашивают, что делать, когда подобное происходит с вами, и я свой ответ всегда делил на несколько альтернатив, а именно: либо
а. рыдать, либо
б. бежать, либо
в. падать на колени до мозга костей и молить о пощаде.
Если, разумеется, вы принадлежали — как я — к нелепому Особому Подразделению Чего-то во время войны — да, той самой, 1939–1945 годов, — вам такое не пристало. Посему я проделал следующее: немо рухнул наземь и несколько раз перекатился. Совершив сие, я выдернул пистолет и приуготовился ждать. Древесная личность замерла. А много спустя — и заговорила.
— Лица мне вашего не видать, — произнесла она, — зато видать огромную задницу. И примерно через три секунды ровно я всажу в нее из «люгера» пулю, если мне хорошенько не объяснят, почему не сто́ит.
Я встал, уговаривая легкие вернуться на службу.
— Джок, — сказал я. — Я представляю тебя к Медали за знание леса. В роли дерева ты был крайне убедителен.
— Драсьте, мистер Чарли.
— Что у тебя при себе, помимо этого автоматического пистолета, который я тебе неоднократно велел не носить с собой?
— Есть полбутылки темного рома.
— Фи, — ответил я. — Я не настолько жажду. Когда в следующий раз на обходе доберешься до «Громобоя», будь так добр отыскать и наполнить мою карманную флягу; я ж ныне отпатрулирую обратно к бухте Прекрасной Звезды и встречу тебя здесь снова, скажем, через тридцать минут.
— Ну, мистер Чарли. Я б решил, что коробка с бутербродами вам тож понравится?
— Ну что ж, Джок, если ты настаиваешь. Полагаю, мне все же требуется поддерживать силы.
— Ну, мистер Чарли. — И он начал истаивать прочь.
— Джок!
— Ну?
— В холодильнике должно остаться несколько объедков холодного фазана.
— Они еще там; мне ж не нравится фазан, или как?
— Сгодятся на бутерброды, но во что бы то ни стало помни: бутерброды с фазаном делаются из пеклеванного хлеба.
— Ну.
И он продолжил истаивать, как и я сам.
Истаивание с Каштанового проезда в направлении бухты Прекрасной Звезды подразумевает полную утрату оного направления, залезание в грязь и промокание; не говоря уже о биении голенями о разнообразные принадлежности сельскохозяйственной машинерии, разбрасываемые повсюду джерсийцами намеренно. Когда я добрался до бухты, море по-прежнему испускало тот же сокрушенный шум: «Шштоп мне провалитьсся, — казалось, стонало оно. — Сскока жж мне ишшо муччиться сс ссим бессмыссленным шшлепаньем туда и ссюда?»
— Я и сам не смог бы сформулировать это лучше, — заверил его я.
И развернулся к Каштановому проезду: в отличие от моря, я мог предвкушать карманные фляги и коробки с бутербродами. То была моя ошибка — боги ревниво и пристально следят за теми, кто тешит себя подобными надеждами.
Энергично продравшись сквозь живую изгородь, я узрел пред собою крупную и древоподобную форму. Я решил, что это Джок.
— Джок? — уточнил я.
Форма сделала ко мне древовидный шаг и очень сильно стукнула меня в висок. Я упал — медленнее, чем вы можете вообразить, — на землю, и моя физиономия шлепнулась в грязь с такой благодарностью, словно то была подушка. Я оказался неспособен к шевеленью, однако не вполне бессознателен. На меня обратился луч фонарика; я сомкнул ему навстречу мучимые вежды, но прежде успел заметить перед самым носом ботинок. Хороший ботинок, рыжевато-коричневый походный — такой я сам мог бы купить у «Дакера» в Оксфорде в те дни, когда мои счета оплачивал папенька.
Свет погас. Я почувствовал, как мой висок знающим манером ощупывает рука; болело там дьявольски, но без крепитации — я осмелился надеяться, что буду жить. Затем уже две крепкие руки подняли меня на колени, и я открыл глаза. Надо мною высилась ужасающая фигура с такою рожею, какую отвергла бы и преисподняя. В такой от меня близости, что я испытал на себе всю силу ее вони, коя была отвратительна. Затем у фигуры возделось колено и в оглушающей, ослепляющей вспышке вошло в соприкосновение с кончиком моего подбородка.
В ступоре моем со мною происходили смутно осознаваемые вещи: меня обыскивали, меня колотили, дергали и валили. Я мудро предпочел оставаться сонным, и сон снизошел ко мне, пока в правом ухе не завопила мучительная боль. От этой боли я неистово дернулся в сторону, но преуспел лишь во мгновенном пробуждении от мук, что были гораздо острее. Возле самого уха случился мощнейший взрыв, затем — еще больше боли. Теперь уже окончательно проснувшись — некоторым образом, — я собрал в себе довольно здравого смысла, чтобы остаться недвижимым, пока мой пугающий противник с шелестом удалялся. Удостоверившись, что его больше нет, я деликатно прощупал ситуацию. Я обнаружил, что стою у дерева. Ноги и руки мои пребывали свободными от уз. Я попробовал шевельнуть головой — и завопил. Бесконечно бережно я затем поднял руки к голове, упрашивая их сообщить моему невменяемому рассудку, что все это значит. И когда руки сие послушно исполнили, я лишился чувств снова — как и вы бы на моем месте, — и тут же опять пришел в себя с новым воплем боли.
Ухо мое, изволите ли видеть, было пришпилено к дереву.
Я очень спокойно простоял, казалось, целый час. Затем дотянулся и вытащил из заднего кармана брюк свой «банкирский особый». Наполнил легкие и открыл было рот, чтобы звать на помощь, но челюсть моя забилась в агонии, раздался кошмарный скрежет, и мой язык обнаружил, что зубы у меня размещаются не там, где им положено.
Я направил пистолет в воздух и нажал на спуск, но сил на автоматическую стрельбу не было. Обеими руками мне удалось взвести курок, после чего я выстрелил. И еще раз. И, с неимоверными трудностями, еще. Джок часто служил мне заряжающим на полигоне, и сигнал бедствия из трех выстрелов опознает.
Ждал я вечность. Больше патронов на сигналы я тратить опасался — мне они пригодятся, если вернется безумец. Время я проводил, стараясь не заснуть — стоило мне чуть померкнуть, и вес тела зубодробительно перемещался в ухо, — и стараясь припомнить, кто приколачивал мелких правонарушителей к деревьям, Лобенгула или Кетчвайо[193]. Их жертвам приходилось самим отрываться, пока их не оторвут гиены.
Наконец я услышал рев Джока — самый приятственный рев в моей жизни. Я слабо вякнул в ответ. Рев послышался ближе. Когда Джок в конце концов замаячил передо мной, я направил пистолет ему в живот. Часом ранее я бы доверил ему собственную жизнь, но сегодня ночью весь мир обезумел. Мог помыслить я лишь об одном: я не допущу, чтобы мне снова сделали больно. Он шагнул ко мне. Я жадно принюхался. Ни дуновения отвратительной ведьминой вони.
— Вы нормально, мистер Чарли? — спросил он.
— Эя ог оаг, — объяснил я.
— Э?
— Ог оаг, — раздраженно повторил я, показывая на подбородок.
— Рот сломан. Ептыть, и точно.
— Уо ииго, — прибавил я, показывая на ухо.
Он чиркнул спичкой и зашипел от расстройства чувств, увидев, в какой передряге я оказался. Гвоздь, судя по всему, загнан был по самую шляпку; ухо мое вокруг него распухло и налилось кровью.
— Сдается мне, гвоздодер под него не подсунуть, мистер Чарли. Придется резать.
Мне не хотелось знать, что он собирается делать, — я желал одного: чтобы он это сделал, дабы я мог лечь и уснуть. Я энергично зажестикулировал в направлении уха и накрепко захлопнул глаза.
Скрипеть зубами, пока он прорезал канал от шляпки гвоздя до края ушной раковины, я не мог — зубы мои не сходились, — но помню, что лил обильные слезы. Джок попросил меня чуть подвинуть голову. Бесполезно — хрящ под шляпкой держался упорно. Повисла долгая пауза, а затем, к своему ужасу, я ощутил у самого угла своего глаза острие Джокова ножа. Я конвульсивно дернулся и заорал; ухо оторвалось.
— Звините, мистер Чарли, — сказал Джок, подымая меня из благотворной грязи.
В следующий раз я пришел в себя, когда Джок выволакивал меня из машины в отделение скорой помощи больницы Сент-Хелиера. Он прислонил меня к стойке, из-за которой любезная, однако строгая дама защелкала на меня языком. Она выдала Джоку бланк для заполнения, однако я выхватил его и накарябал: ПРОВЕРЬ КАК ИОАННА. Джок кивнул, опустил меня на пол и исчез.
В следующий после этого раз я пришел в себя под слепящими белыми огнями и сострадательным черным лицом. Последнее, судя по всему, принадлежало пакистанскому врачу, который занимался искусной вышивкой по моему уху. Он радостно мне улыбнулся.
— Оч-чинь жуткая авария, — заверил меня он. — Скажите благодарю счастливым звездам, что вы в земле еще живучих.
Я начал было открывать рот, чтобы заметить нечто остроумное по поводу Питера Селлерса[194], но понял, что не могу. Открыть, то есть, рот не могу. Он был весь как-то скован, а язык мой словно запутался в клубке колючей проволоки.
— Пожалуйста, ведите вполне потише, — сказал милый доктор, — и будете как новенький в мановение глаза. Если нет, вся моя добрая работа отойдет коту.
Я повел себя тише.
— Сестра, — позвал он через плечо, — пациент уже на поверхности.
Помахивая бланками, возникла строгая дама из Приемного Покоя.
— Пока хватит только фамилии, адреса и ближайших родственников, — сказала она не слишком строго. Я поднял ручку весом в центнер и написал искомое. Сестра удалилась. Но через секунду возникла вновь и что-то зашептала врачу.
— Мистер Макибрей, — обратился он ко мне, — судя обо всем, к нам только-только поступила дама с одинаковой фамилией. Она не с вами? Миссис Ёанна Макибрей.
Я начал было вскакивать; меня удержали. Я с ними сражался. Кто-то воткнул мне в руку иглу и мягко сообщил, что врач, занимающийся в теперешний миг Иоанной, некоторое время спустя ко мне зайдет лично. Я неохотно отключился.
В следующий раз я пробудился, быв в теплой тугой постельке и теплой чесучей ночной рубашке, насквозь пропитанной потом. Чувствовал я себя, как сам ад и тысяча похмелий в придачу; смерть выглядела бесконечно желанной. Затем я вспомнил о Иоанне и начал вставать, но крохотная и худенькая медсестра меня удержала, не прилагая к сему никаких усилий, словно разглаживала простыню. Появилось новое лицо — крупный бледный малый.
— Мистер Маккабрей? — сказал он. — Доброе утро. Я врач, который занимается вашей супругой. С нею все будет в порядке, но она довольно сильно изранена и потеряла значительно крови.
Я неистово замахал, призывая бумагу, и он протянул мне ручку и блокнот.
— «Изнасилована?» — написал я.
— По правде говоря, мы этого не знаем. В нижней части корпуса ущерба, похоже, не нанесено, хотя есть обширные травмы в других местах. Мы не можем ее спросить, поскольку она в глубоком шоке: боюсь, он порвал ее весьма существенно.
Я снова взялся за ручку.
— «У нее изуродовано ухо?» — спросил я.
Врач долго смотрел на слова, как будто не мог их понять. Затем медленно посмотрел мне в глаза — с таким состраданием, что я испугался.
— Простите, мистер Маккабрей, я думал, вы знаете. Ее травмы совершенно не похожи на ваши.
16
Уйдем, о песнь моя. Она не знает…
Как мутный шквал на скальный брег швыряет
Песок и пену. Что теперь поможет?
Увы, ничто. И безысходно тает
Слезою мир над нашим смертным ложем.
Того, о чем мы пели, умирая,
Она не знает…
«Прощание» [195]Следующий месяц или около того был довольно-таки паршив. Если рот ваш весь скреплен проволокой, изволите ли видеть, вам не удается чистить зубы, а если вы к тому же простудились, как это сделал я, ситуация становится запущенной донельзя. Помимо этого, в ноздрю мне воткнули премерзкую трубку и просунули ее в самый пищевод, и вот посредством сего приспособления меня кормили безымянной, хотя, вероятно, и питательной кашицей. Хуже того — какую бы книгу ни взялся я читать, похоже, всякая на третьей или четвертой странице несла в себе изумительно наглядные описания густых супов, устриц, жареных куропаток и мясных пирогов с почками. Когда бы я ни вякнул, вожделея еды, крохотная худенькая медсестра цепляла к моей носовой трубке бутылку и наполняла мой бедный желудок обстипационной пульпой, одновременно стараясь подсунуть под мою заднюю четверть холодное как лед подкладное судно. Естественно, с этим последним унижением я не мирился никогда: шагал — иначе, быть может, ковылял — в уборную на собственном ходу, весь увешанный гирляндами протестующих медсестер, а из носовой трубки у меня текла овсянка. Вид внушительный, я полагаю.
Накопив несколько сил, я разведал, где они держат Иоанну, и частенько ползал ее проведать. Она была бледна и выглядела намного старше. Я разговаривать не мог, она не хотела; я сидел на краешке ее одра и немного похлопывал ее по руке. Она немного похлопывала по руке меня, и мы подмигивали друг другу отчасти изнуренно. Помогало. При посредстве Джока я организовывал частую доставку ей цветов, винограда и прочего, а она — через Джока же — организовывала доставку мне сигарет от Салливана и тому подобного. Ночная сиделка, толстая и наглая, изобрела способ прилаживать мне ко рту соломинку — там, где за верхним левым клыком мне теперь не доставало зуба; сим споспешествованием я имел теперь возможность каждый вечер выпивать полбутылки бургундского, кое несколько притупляло остроту моих страданий.
Врачей моя челюсть радовала — они утверждали, что срастается хорошо, но вот ухо совсем испортилось, и пришлось часть отрезать; а затем — и оставшуюся часть. Поэтому Иоанну выписали намного раньше меня.
Возвращение домой было не очень веселым; Иоанна об ухе знала, но, увидев меня без оного в действительности, несколько опешила (я выписал себя сам, едва с меня размотали бинты) и разрыдалась — такого я за ней раньше никогда не замечал. Я воспроизвел несколько шуток о том, что она все равно никогда не была высокого мнения о моей внешности, а к асимметрии со временем можно и привыкнуть, но Иоанна осталась безутешна. Никогда не пойму этих женщин. Вы, вероятно, считаете, что понимаете их, но это, знаете ли, ошибка. Они совсем на нас не похожи.
В конце концов я нежно отвел ее в постель, и мы улеглись рука об руку в темноте, чтобы ей можно было плакать, а я не видел, как у нее краснеют глаза, и мы вместе стали слушать «Ле Ноцце ди Фигаро», что оказалось большой ошибкой: люди забывают, что не такая уж это и жизнерадостная музыка для тех, кто понимает по-итальянски. Как, например, Иоанна. Когда дело дошло до «Дове Соно»[196], она совсем расклеилась и пожелала рассказать мне обо всем, что случилось в ту ужасную ночь. Это было для меня чересчур — я просто оказался к такому не готов; сбегал вниз и принес поднос с напитками, и мы с нею несколько наклюкались, после чего все уже стало получше, гораздо получше; но мы оба знали, что я не оправдал ее ожиданий. В очередной раз. Что ж, такова цена трусости. Хотелось бы только одного — чтобы кто-нибудь сообщил в точности, какими взносами ее выплачивать и когда она подлежит уплате. Моральный трус, изволите ли видеть, — это просто человек, прочетший мелкий шрифт на обороте своего Свидетельства о Рождении и заметивший небольшое условие, гласящее: «Тебе не выиграть». Впредь он знает, что самое умное — бежать ото всего подальше, и поступает соответственно. Но нравиться ему это не обязано.
— Джок, — сказал я на следующее утро. — Миссис Маккабрей к завтраку не спустится. — И твердо на него посмотрел. До него дошло. Здоровый его глаз сморщился, неимоверно мне подмигивая, а потому глаз стеклянный — вправленный в орбиту не слишком брежно — вперился в лепнину. И в самом деле: Джок прочел мою мысль, и яичница с беконом, прибыв, водружена была на восхитительный поджаренный хлеб и сопровождалась жареным картофелем, все это — вполне себе вопреки «Постоянному Регламенту Иоанны Касательно Талии Мистера Маккабрея». Ну его к бесу — почему я должен подвергать свою талию гонениям? Она ничего мне плохого не сделала. Пока.
Последняя жареная картофелина поймала в себя последний потек яичного желтка и уже готова была нацелиться на пресловутую талию Маккабрея, когда появились Джордж и Сэм. Выглядели они мрачно и дружелюбно, ибо я теперь тоже пострадал, я теперь тоже член клуба — однако на конфитюр и густо намасленный тост, вносимые в тот миг Джоком, оба глянули искоса. Сэм никогда не завтракает, а Джордж убежден, что завтраку надлежит поедаться джентльменом через четверть часа после утренней зорьки, а не в половину после полудня.
Я манул им садиться и предложил густо намасленный тост с конфитюром. Они посмотрели на предлагаемое с плохо скрываемой тоской, но отказались — они сильны духом; сильны.
Большую часть их известий я знал: в прошествие всего этого времени случилось только два изнасилования, причем одно засчитывалось не вполне — юная джерсийская девушка уже была к тому часу чуточку беременна от своего жениха, который по забывчивости устроился на судно до Австралии. Второй инцидент нес в себе все признаки «нашего», однако свидетельницей жертва была безнадежной даже по женским меркам и к нашему досье прибавить ничего не могла.
Джордж и Сэм несистематически и без особого энтузиазма продолжали обходы — но тщетно; Сэм, по его словам, лишь гнался за подозрительной личностью в макинтоше где-то с полмили, но потерял ее среди надворных построек Джорджевых издольщиков. Обыск не принес ничего, кроме пары велосипедных зажимов для брюк в неиспользуемой конюшне.
Соня вполне оправилась. У Виолетты дела обстояли намного хуже: явная кататония, требуется круглосуточный присмотр.
Джордж держался замкнуто и угрюмо; Сэм пребывал в состоянии подавленной истерии, кое я счел обстоятельством тревожащим: длительные паузы изредка нарушались произвольными и злобными остротами дурного свойства. Совершенно не тот Сэм, которого я знал и любил.
Новости исчерпались, и мы инертно посмотрели друг на друга.
— Выпьете? — инертно спросил я.
Джордж посмотрел на часы; Сэм открыл рот и снова его закрыл. Я разлил. Мы выпили каждый по три, хотя никто не обедал. К нам вышла Иоанна. В жестком полуденном свете она выглядела на десять лет старше, но властность ее никуда от этого не делась.
— Ну что, мальчики, вы составили план? — спросила она, глядя на меня, боженька ее благослови.
Мы скорчили три смущенные гримасы. Сэм начал было набрасывать на лице улыбку, но быстро эту попытку бросил. Джордж откашлялся. Мы утомленно посмотрели на него.
— А пойдемте на рыбалку? — предложил он. — Лодку мою только покрасили и отлакировали, завтра ее спускают на воду. Всем нам полезно будет — немного поплавать, а? Может, скумбрия какая попадется?
И Сэм, и я молчаниями своими отметили полнейшее сему порицание. На суше Джордж просто похож на бригадира; в море же миссия его, судя по всему, заключалась в том, чтобы доказать: капитан Блай[197] — мягкотелый слизняк.
— О да, Чарли, поезжай! — вскричала Иоанна. — Поплавать — это же так полезно, а я просто умираю как хочу свежей скумбрии.
Я капризно поерзал в кресле.
— Или сайды, — добавила она, — или окуня, или леща. Ну пожалуйста, Чарли?
— Ох, ну что ж, — вздохнул я. — Если Сэм поедет.
— Конечно, — горько вымолвил Сэм, — конечно, конечно.
— Как чудесно! — сказала Иоанна.
— Стало быть, в девять? — уточнил Джордж.
— Уже стемнеет, — сказал я.
— Я приглашен на ужин в восемь, — сказал Сэм.
— Я имел в виду девять утра, — пояснил Джордж.
Мы воззрились на него. Наконец уговорились на сразу после ланча, а еще чуть погодя пришли к соглашению, что это следует понимать как четырнадцать тридцать.
Неумеренным своим рвением я оказался в бухте Кесне за три минуты до половины третьего. Ясно, что оставалось нам только одно — заглянуть в прибрежный паб и обрести укрепляющую капельку того и сего. Там уже сидел Сэм, усердно укрепляя себя сходным образом.
Мы хрюкнули, затем посидели несколько в молчании, нарушаемом лишь сёрбаньем двух прирожденных сухопутных крыс, приуготовляющихся пуститься в рейс на шестнадцатифутовой лодке под водительством еще одной сухопутной крысы с комплексом Нельсона[198]. В бар ввалился Джордж и грубо оглядел нас.
— Привет, моряк! — вскричали мы в унисон. И, не ожидая от него улыбки, разочарованы мы не были.
— Пять минут уже вас жду, — сказал он. — Вы способны отдать наконец концы? Груз при себе?
Груз Сэма состоял из нетолстого томика поэзии, обернутого в пластиковый мешочек, чтобы не подпускать тайфуны. Мой представлял собой зюйдвестку и полный непромокаемый комплект (поскольку метеорологи предсказывали ясно и солнечно), по фляге горячего супа, горячего кофе и шотландского виски из тех, что подешевле, коробку бутербродов и кастрюльку холодной картошки с карри на случай кораблекрушения либо иного Форс-Мажора Господня. Джордж нес тертый матросский ранец профессиональной наружности, наполненный, вне всякого сомнения, вещами разумными.
Лодка, должен заметить, выглядела изумительно во всем великолепии краски и лака начала сезона и влекла на себе огромный и новый подвесной мотор. Вездесущий Водопроводчик Джорджа, также исполняющий обязанности его водолодочника, помог нам спустить ее на воду; новый мотор завелся без хлопот, и мы поплыли прочь, поперек маленьких синих волн, кои танцем своим теребили даже мое черное сердце. Висела легкая дымка — вероятно, мористее она густела, ибо роковым манером поименованная «Ля Корбьер» («Воронья деревня», наш дружелюбный маяк по соседству) каждые три минуты испускала свои долгие надсадные стоны, будто грузная старуха в рассуждении устроиться в креслах поудобнее. Мы не обратили на нее внимания. Во мгновение, почитайте, ока мы покрыли добрую часть мили в открытое море, и Джордж повелел нам блесневать наши лини на скумбрию. Блесневали мы — если мне потребно здесь именно это слово — около получаса, но тщетно.
Над головами нашими летали тупики, бакланы и лутки — они тупили, бакланили и что там делают эти самые лутки, но в данном участке воды не были заинтересованы ни в малейшей мере. Более того, чайки на нем тоже не кормились, а нет чаек — значит, нет и мальков, а уж коли нет мальков, нет и скумбрии.
— Здесь нет скумбрии, Джордж, — сказал я. — Более того, для скумбрии у нас слишком быстрый ход; два-три узла было бы лучше.
— Чепуха, — отвечал он.
Я слепил кусок бутерброда с «мармайтом»[199] и кусок того же с сыром в один комок, насадил на крюк, привесил к линю грузило потяжелее и почти моментально подцепил отличную крупную сайду. Джордж зыркнул на меня. Я отщипнул своей смеси Сэму, и вскоре тот поимел хорошую сайду, как и я.
— Не сбавляйте хода, Джордж, — сказал я, — у нас идеальная скорость для сайды.
— Скумбрия, видать, еще не подошла, — проскрежетал он. — Увалюсь немного, найду, где неспокойнее, — попробуем окуня.
«Ля Корбьер» застонала, глуша более тяжкие стоны Сэма и меня. Ничто нам, само собой, не нравится так, как неспокойное море, но мы предпочитаем с ним сражаться, когда у руля — профессиональный лодочник. Но туда мы и увалились, невзирая, и обнаружили участок этой гадости, по виду своему пригодный к употреблению, хотя располагался он неприятно близко к миниатюрному бритвенно-острому утесу на побережье. Худшее было впереди.
— Степсую мачту, — сказал Джордж, — поставим шматок паруса, потом можно глушить мотор, станет поштилевее.
Мореход из меня никакой, но пропозиция привела меня в ужас. Я посмотрел на Сэма. Сэм посмотрел на меня.
— Джордж, — мягко завел разговор Сэм, — вы уверены, что это разумно? То есть, у нас тут разве не подветренный берег или что-то вроде?
— Чушь, — отвечал тот. — Берег бывает подветренным лишь в том случае, если у нас нажимный ветер. А в настоящий момент ветра нет вообще, но в такое время суток, в теплый день мы вполне можем рассчитывать на чуточку отжимного воздуха. И должен вам напомнить, Сэм, что на борту может быть лишь один шкипер: неподчинение приказам влечет потери экипажа.
— Есть, сэр, — произнес Сэм голосом озадаченного неподчинения.
Я начал припоминать, что уже несколько минут не слышал стонов «Вороньей деревни» — возможно, бриз поднялся и разогнал дымку, — но было уже поздно. Джордж воздвиг небольшую мачту и закрепил ее в этой дарохранительнице, даже наполовину вскарабкался на нее, борясь с легкомысленным треугольным парусом, — и тут на нас обрушился первый порыв зюйд-оста.
И полетели мы вверх тормашками по бимсовым клямсам, и взвыл подвесной мотор, винт коего не мог более грызть воду, ибо не находил таковой, и заболтался на мачте Джордж, а затем и скрылся из глаз за бортом в клубке парусины и такелажа. И ринулись мы к убийственной скале, что возникла прямо у нас по курсу, и тут жуткий скрежет сообщил нам, что у нас больше нет мачты, а суденышко наше налетело на скалу — но не с грохотом, а с таким гаденьким липким чваком. Оттуда, где полагалось быть Джорджу, поднялись пузыри. Схватившись за весло, я изо всех сил старался не подпускать нас ближе к камню; Сэм сграбастал нож для разделки рыбы и принялся рубить и кромсать такелаж, чтобы мы освободились от обломков за бортом. Джорджа мы заметили всего раз — лицом вверх он молотил рукой, — но затем его, похоже зацепило низовое течение, и он исчез под нами. Через минуту появился — футах в двадцати мористее, и одной рукой по-прежнему колотил по воде; мы же снова и снова терлись о скалы. Я упирался веслом в камень. Мотор фыркнул и сдох. Как дурни, стояли мы — ни спасательных жилетов, ни конца, который можно было бы бросить Джорджу. Пока я сражался с веслом, Сэм дополз до крохотного форпика и стал яростно шарить там, среди всего нашего груза ища хоть что-нибудь полезное; и тут вдруг замер на коленях, разглядывая то, что выдернул из Джорджева матросского ранца. То был тугой ком материи, перетянутый линем в четверть дюйма толщиной. Сэм поднял его к носу и брезгливо передернулся.
— Вы что, к дьяволу, там делаете? — завопил я, стараясь перекричать вой подымавшегося ветра и рев моря. Он не ответил. Он развязал узел: состоял тот из макинтоша, манжеты и плечи коего были утыканы гвоздями. В свой черед развернув его, Сэм достал отвратительную резиновую маску. На меня он не смотрел — лишь вытер пальцы о банку и перевел взгляд туда, где почти у самого борта одной рукой колотил по воде, стараясь выплыть, Джордж. Затем Сэм взял второе весло и медленно, словно бы отправляя некий ритуал, воздел его обеими руками над головой, лопастью вверх.
Целой рукой Джордж уже уцепился за планшир, и мы отлично видели и здоровенный кусок кожи, что болтался на его черепе, и кровавые руины его раздавленной руки. Джордж посмотрел на Сэма. После чего рука планшир оставила, а лицо скрылось. Сэм швырнул весло на дно лодки, затем качнулся к корме, к мотору. Я по-прежнему держался за жизнь, упираясь веслом в скалу: наш шпангоут едва ли способен был принять большее наказание от этих гранитных кинжалов. Ожив, двигатель взревел; Сэм прибавил обороты — и нас вдруг вынесло на открытую воду. Я кинулся вычерпывать. Лишь единожды, кинув взгляд через плечо, заметил я, как мне показалось, в полуфарлонге от нас нечто с задранной ввысь рукой, но то был, должно быть, просто-напросто большой баклан.
Заговорили мы друг с другом, лишь оказавшись в пределах видимости бухты Кесне.
— Полагаю, он уже должен быть мертв?
Я не ответил: на самом деле то был не вопрос. К тому же, я думал.
— Соню не насиловали, — безучастно сказал я.
— Нет. Мы были любовниками — если здесь уместно это слово — много месяцев. В первый раз — случайность, оба напились на вечеринке. Потом она принуждала меня снова и снова; клялась, что обо всем расскажет Джорджу, если я откажусь. В первый день, когда вы с Джорджем неожиданно вернулись домой, мы думали, что нас поймали, и я велел Соне кричать «насилуют», пока я выбирался в окно. Она же читала эту белиберду про Джерсийского Зверя — потому у нее в голове и завелся этот гарнир с колдовством.
— Но Джордж смекнул. С Виолеттой он так поступил просто в отместку?
— Да. Вероятно, хотел нам сообщить, что все знает. Мне следовало понять. Но, видимо, я был слишком расстроен, чтобы продумать до конца.
— Понимаю. А затем у него, должно быть, развился вкус. Быть может, пробудилась жилка безумия?
— Офицер и джентльмен, — сказал Сэм. Прозвучало, как соль мерзкого анекдота.
Я дочерпал воду, привязал ужасающую параферналию Джорджа к запасному якорю и скинул за борт. Мне было безразлично, выудит ли ее кто-нибудь — мне просто хотелось больше никогда ее не видеть.
Водопроводчик встретил нас на берегу, помог подтащить лодку к сараю.
— И где ж, стало быть, мистер Брейкспир?
— Выпал за борт и потерялся. Мы едва не разбились. Сообщите Береговой охране, будьте любезны?
— Бож-мо, — сказал Водопроводчик. И вдруг: — Да, вам же там в пабе звонят, мистер Давенант, из Англии, срочно. Попросите Оператора Личных Звонков. — Сэм зашагал к пабу, затем перешел на неуклюжую рысь. — Так это мистер Брейкспир все это время, значит, был, — сказал Водопроводчик.
Я не ответил. Интересно, сколько народу знало. Наверное, следовало спросить садовника. Наверное, он бы мне даже сказал.
Из паба вышел Сэм, и лицо его было безрадостно.
— Виолетта убила себя, — осмотрительно произнес он. — Поедемте домой. Много дел.
— Сначала нужно бы в полицию, — сказал я. — Сообщить о пропаже Джорджа.
— Да, разумеется. Об этом я совсем забыл. — Теперь голос его был нежен.
— А рыба ваша вам не нужна? — вслед нам спросил Водопроводчик.
— Нет, спасибо, — ответил я. — Мы знаем, где она побывала.
Уже стемнело, когда мы вышли из Полицейского Участка и поехали по «Гран Рут де Сен-Жан» по домам.
— Хотите, поговорим? — застенчиво предложил я.
— Вилочку на минуту оставили одну — сестра пошла в сортир, — и она просто поднялась с постели и бросилась в закрытое окно. Сестра тут ни при чем — Вилочка не шевелилась несколько дней. Меня, разумеется, предупреждали. Кататоники уверены, что умеют летать, видите ли. Ангелы.
— Сэм… — начал я.
— Будьте добры, Чарли, заткнитесь.
Я попробовал еще раз, когда мы доехали до его дома.
— Послушайте, — сказал я, — не согласитесь ли вы сегодня переночевать у нас?
— Спокойной ночи, Чарли, — ответил он и захлопнул дверь.
Дома я рассказал Иоанне обо всем как можно короче, затем объявил, что намерен писать письма. Прошел в свою гардеробную и встал у открытого окна, в темноте. За полями дом Сэма весь пылал огнями, затем один за другим они стали гаснуть. Я покрепче схватился за подоконник. Было очень холодно, и на лицо мне сыпалась морось.
Когда послышался выстрел, я остался там же, где стоял.
В комнату просочился Джок.
— Со стороны «Шершень-фьють» стреляли, — сообщил он.
— Да, — ответил я.
— Крупнокалиберный пистолет по звуку.
— Правильно.
— Ну, и мы туда идем?
— Нет.
— Звонить будете, мистер Чарли?
— Ступай прочь, Джок.
Через пять минут тихонько вошла Иоанна и обняла мою руку, прижав ее к своей бедной истерзанной груди.
— Чарли-дорогуша, почему ты стоишь тут в темноте и дрожишь? И плачешь? Ну хорошо, прости меня, прости, разумеется, ты не плачешь, я и так вижу, что ты вовсе не плачешь.
Но окно она закрыла, и задернула портьеры, и подвела меня к кровати, заставила лечь, расправила на мне одеяло.
— Спокойной ночи, Чарли, — сказала она. — Теперь, пожалуйста, поспи.
— Ох, ну что ж, — вздохнул я. Но мне бы хотелось ей рассказать. — Иоанна, — сказал я, когда она уже открыла дверь.
— Да, Чарли?
— Я забыл поинтересоваться — как там кенар?
Она не ответила.
— Умер, не так ли?
Иоанна прикрыла за собой дверь. Очень мягко.
Примечания
1
«И друзей» (лат.). Знаменитая надпись на переплетах книг французского библиофила, военного и дипломата Жана Гролье (1479–1565): «Собственность Жана Гролье и его друзей». Пользуясь случаем, стоит пояснить название романа: оно представляет собой знаковую фразу из комического романа английской писательницы Сетллы Доротеи Гиббонз (1902–1989) «Cold Comfort Farm» (1932); в рус. пер. Е. Доброхотовой-Майковой («Неуютная ферма») ее в формулировке «что-то мерзкое в сарае» не раз произносит Ада Мрак. — Здесь и далее прим. переводчика.
(обратно)2
Перевод Г. Бена.
(обратно)3
Нормандские острова (искаж. фр.).
(обратно)4
Вильгельм Завоеватель (ок. 1027–1087) — английский король с 1066 г. из Нормандской династии. С 1035 г. — герцог Нормандии. В 1066 г. высадился в Англии и, разбив при Гастингсе войско англосаксонского короля Гарольда II, и стал английским королем.
(обратно)5
Сэр Джон Бетжемен (1906–1984) — английский поэт, поэт-лауреат (с 1972 г.), автор множества путеводителей и книг по архитектуре.
(обратно)6
Книга Судного Дня — книга с данными первой государственной всеанглийской переписи населения, проведенной в 1086 г. по велению Вильгельма Завоевателя; содержит также земельный кадастр. Название — народное, по ассоциации с книгой, по которой на Страшном Суде будут судить людей.
(обратно)7
Джерсийское наречие (искаж. фр.).
(обратно)8
«Гиннесс» запивается чаем (искаж. фр.).
(обратно)9
Сотники (искаж. фр.).
(обратно)10
Двадцатниками (искаж. фр.).
(обратно)11
Обжора (искаж. фр.).
(обратно)12
Поиски протечек (искаж. фр.).
(обратно)13
Авалон (кельт. «остров яблок») — «земной рай» кельтских легенд; согласно некоторым поверьям, там похоронен король Артур, согласно другим, он продолжает там жить вместе со своей сестрой феей Морганой, и настанет время, когда он возвратит себе престол.
(обратно)14
Награда, присуждаемая в Кембридже с 1836 г. за спортивные достижения (изначально голубая лента, впоследствии голубой или отделанный голубым блейзер).
(обратно)15
Бейллиол-Колледж — один из наиболее известных колледжей Оксфордского университета, основан в 1263 г. Назван по имени основателя Джона де Бейллиола (ок. 1212 — ок. 1268).
(обратно)16
Намек на героиню стихотворения английского писателя и поэта Жозефа Хилэйра Пьера Рене Беллока (1870–1953) «Матильда» (1907) — тетушку записной лгуньи Матильды, которая изо всех сил старалась ей поверить.
(обратно)17
Бюстгальтером (искаж. фр.).
(обратно)18
Строка из лимерика английского писателя Джорджа Луиса Палмеллы Бюссона дю Морье (1834–1896), написанного для журнала «Панч» на смеси английского и французского:
Всякий век горазд славить досуже Всяко дохлопочтенного мужа: Моралист Фенелон, Мишель Анж и Жонсон (Лё доктёр). Есть зануды и хуже. (обратно)19
Эдвард Гиббон (1737–1794) — английский историк и парламентарий. Франсуа Фенелон (1651–1715) — французский писатель-дидактик, архиепископ. Квинт Гораций Флакк (65 — 8 до н. э.) — римский поэт; его трактат «Наука поэзии» стал теоретической основой классицизма. Герберт Маркузе (1898–1979) — немецко-американский философ и социолог, представитель франкфуртской школы. Хорхе Луис Борхес (1899–1986) — аргентинский писатель. Жан Расин (1639–1699) — французский драматург, поэт, представитель классицизма. Джон Милтон (1608–1674) — английский эпический и лирический поэт, политический деятель.
(обратно)20
Дэймон Раньон (1884–1946) — американский журналист и писатель, по рассказам которого поставлен мюзикл «Парни и куколки» (1950).
(обратно)21
См. «Не тычьте в меня этой штукой». — Прим. автора. Рус. изд. «Гамбит Маккабрея» (2006).
(обратно)22
Перевод Э. Ермакова.
(обратно)23
Псевдоним (искаж. фр.).
(обратно)24
«Мини ГТ» — «мини-гран-туризмо» (уменьшенный большой туристический, от ит.), английские туристские автомобили (как правило — спортивные варианты обычной модели; могли продаваться как комплекты деталей для самостоятельной сборки).
(обратно)25
Железная дорога «Атчисон, Топика и Санта-Фе» эксплуатирует сеть протяженностью более 13 тыс. миль в 12 штатах США, в том числе первую из семи трансконтинентальных магистралей США. Создана в 1859 г.
(обратно)26
Киш (от фр.) — пирог или запеканка с заварным кремом и различной начинкой. «Рапэ Морванделль» (от фр. «тертая морванка», от обозначения жительницы Морвана — горного массива в центральной Франции) — аналогичная запеканка с тертыми овощами и мясом. Табак «рапэ» — молотый бразильский табак, использовался как нюхательный.
(обратно)27
Излишний, нежелательный (искаж. фр.).
(обратно)28
Одного из тех (искаж. ит.).
(обратно)29
Зд.: Сорочка у дамы — Доспехи на час: Веселый трофей И приятный экстаз (фр.). (обратно)30
Аллюзия на популярную песню «Молли Мэлоун», ставшую неофициальным гимном Дублина, о торговке рыбой XVII века, кричавшей «Раки-ракушки, живьем, не жульем».
(обратно)31
Вот откуда эти слезы (искаж. лат.), вот в чем подоплека.
(обратно)32
Эмма, леди Гамильтон (Эми Лайон, 1765–1815) — английская куртизанка, любовница лорда Нельсона. Лукреция — согласно римскому историку Титу Ливию, римская аристократка, изнасилованная Секстом Тарквинием, сыном последнего римского императора. Рассказав о своем позоре родне, совершила самоубийство, а ее тело, выставленное на обозрение народу, стало достаточным основанием для восстания против императорской власти и установления Римской республики.
(обратно)33
Posse comitatus (от лат.) — группа граждан, способных носить оружие, созываемая шерифом для отражения неприятеля, охраны общественного порядка, поисков заблудившегося ребенка или поимки беглых преступников.
(обратно)34
Аллюзия на «Зверя с 20 000 фатомов», фантастический фильм режиссера Эжена Лури (1953) о доисторическом морском чудовище, по рассказу Рэя Брэдбери.
(обратно)35
Эдвард Пэйснел («Джерсийский Зверь») — наследник древнего семейства зажиточных джерсийских землевладельцев, осужденный в 1971 г. за 13 случаев сексуальных домогательств к детям на протяжении 11 лет. Поклонялся барону Жилю де Рэ (1404–1440) — французскому аристократу, сподвижнику Жанны Д’Арк, который считался первым в истории серийным садистом-педофилом.
(обратно)36
Подшучивание (искаж. фр.).
(обратно)37
Уильям Шекспир, «Двенадцатая ночь», акт I, сц. 1. Перевод А. Кроненберга.
(обратно)38
FBOP (Flowery Broken Orange Pekoe) — среднелистовой чай из ломаного листа и «типс» (листовых почек) с крепким настоем.
(обратно)39
Мэтью Арнолд (1822–1888) — английский поэт, критик и педагог.
(обратно)40
«Ага» (аббрев. Aktiebolaget Gas Accumulator) — универсальная кухонная плита, способная также обогревать дом, изобретенная шведским физиком Густафом Даленом (1869–1937) в 1922 г.
(обратно)41
Дикий, нелюдимый, мрачный (фр.).
(обратно)42
От лат. нормальное пищеварение, легкое усвоение.
(обратно)43
Джерсийское общество (искаж. фр.).
(обратно)44
«Хэтчардз» (с 1797) — старейший книжный магазин в Великобритании, находится на Пиккадилли.
(обратно)45
«Молот ведьм» (искаж. лат.) — трактат немецких монахов-инквизиторов Генриха Инститориса и Якова Шпренгера (XV в.), практическое руководство по борьбе с ведьмами.
(обратно)46
«Крок-мсье» — горячий бутерброд с сыром и ветчиной, иногда обливается яйцом. В парижских кафе подается примерно с 1910 г.
(обратно)47
Перевод Э. Ермакова.
(обратно)48
«Симпсонз» (иначе — «Симпсонз-на-Стрэнде», с 1848) — фешенебельный лондонский ресторан; специализируется на приготовлении блюд английской кухни; назван по имени одного из первых владельцев — Джона Симпсона.
(обратно)49
Бейлиф — один из двух председателей законодательной ассамблеи на островах Джерси и Гернси.
(обратно)50
Лес Келлетт (1915–2002) — английский профессиональный борец.
(обратно)51
Завершающий смертельный удар (искаж. фр.).
(обратно)52
Бруклендз — с 1907 по 1939 г. крупнейший автодром Великобритании; находится в графстве Суррей.
(обратно)53
«Дядя Фред и тетя Мэйбл» — английская народная песенка, герои которой никак не могут подобрать уместного времени суток для исполнения супружеского долга.
(обратно)54
Джордж Армстронг Кастер (1839–1876) американский военачальник, командовал Седьмым кавалерийским полком в войнах с индейскими племенами шайеннов и сиу. В решающем наступлении 1876 г. Кастер во главе колонны войск приблизился к лагерю индейцев на р. Литл-Бигхорн и, нарушив инструкции, немедленно ввязался в бой. В лагере находились несколько тысяч воинов под руководством вождей Сидящий Бык и Неистовый Конь. Небольшой отряд Кастера был почти полностью уничтожен, сам Кастер убит. Эта битва и стала известна как «Последний рубеж Кастера».
(обратно)55
Роудин-Скул — одна из ведущих английских женских привилегированных частных средних школ близ Брайтона, графство Суссекс; основана в 1885 г.
(обратно)56
«Clameur de haro» (крик «слушайте») — древняя форма юридического запрета, призванная останавливать несправедливые действия ответчика. Считается, что она адресовалась Ролло (ок. 860 — ок. 920), основателю и правителю княжества викингов, впоследствии ставшего Княжеством Нормандским. На Нормандских островах запрет до сих пор применяется в решении земельных споров.
(обратно)57
«Слушайте! Слушайте! Слушайте! На помощь, мой князь, меня неправедно третируют» (фр.).
(обратно)58
У (искаж. фр.).
(обратно)59
Джон Милтон. «L'allegro. Il penseroso».
(обратно)60
Четыре луидора за семь часов (искаж. фр.).
(обратно)61
«Бэйбишам» — фирменное название газированного грушевого сидра.
(обратно)62
«Петух в вине» (искаж. фр.) — петух, приготовленный в красном вине с беконом, грибами и луком.
(обратно)63
Военной дороги (искаж. фр.).
(обратно)64
Слова Сатаны из рассказа Редъярда Киплинга «Непрошеные милости» из сборника «Ограничение и обновление» (1932).
(обратно)65
Нодди — персонаж серии детских книг (1949–1963) английской писательницы Энид Мэри Блайтон (1897–1968), деревянный мальчишка с головой на пружинке, часто попадает впросак из-за своей доверчивости и доброты.
(обратно)66
«Валлийский кролик» — гренок по-валлийски, с расплавленным сыром, иногда с добавлением масла или молока; подается горячим.
(обратно)67
Сэмюэл Голдвин (Шмуэль Гелбфиш, 1882–1974) — американский продюсер, основатель киностудии, впоследствии ставшей «Метро-Голдвин-Майер» (1917).
(обратно)68
Она же — Антиалкогольная (Антисалунная) лига Америки, общественная организация, состоявшая в основном из представителей протестантской евангелистской церкви. Основана в 1893 г., активно участвовала в движении трезвенников, выступала за принятие 18-й поправки — «сухого закона», после его отмены выступала за контроль над продажей алкогольных напитков.
(обратно)69
Хелен Беатрикс Поттер (1866–1943) — английская детская писательница и художница. «Сказка про миссис Тигги-Мигл» — история о маленькой девочке, отправившейся на поиски потерянного носового платка, опубликована в 1905 г.
(обратно)70
Перевод Г. Бена.
(обратно)71
Колледж Всех Душ — научно-исследовательский колледж в Оксфордском университете. Основан в 1438 г. королем Генрихом VI и архиепископом Кентерберийским Генри Чичеле; в его состав входит ректор и 60 членов совета колледжа; студенты в колледж не зачисляются; звание члена совета является почетным и присваивается выпускникам Оксфордского университета после сдачи особых экзаменов, а также видным ученым Оксфордского и других университетов. Находится в здании бывшей часовни, где служили мессы за упокой души солдат, убитых на войне.
(обратно)72
Уикемист (или уинчестерец) — воспитанник Уинчестерского колледжа, по имени основателя колледжа Уильяма из Уикема (1324–1404).
(обратно)73
Поэтическое название Оксфорда — «Город мечтательных шпилей», назван так впервые Мэтью Арнолдом в «Тирсисе: оде в память о друге автора Артуре Хью Клафе» (1867).
(обратно)74
Вымышленный оксфордский колледж, выведен английским писателем Ивлином Во (1903–1966) в романе «Упадок и разрушение» (1928, рус. пер. С. Белова, В. Орла).
(обратно)75
Гуру Махарадж Джи (Прем Пал Сингх Рават, р. 1957) — духовный лидер, оратор, пропагандист «внутреннего мира» и «Знания» посредством медитации.
(обратно)76
Троицын триместр — весенний триместр в Оксфорде, начинается в апреле.
(обратно)77
«Оксфордские мешки» («оксфордские штаны») — очень широкие брюки из серой шерстяной фланели; были популярны в 1920-е гг.
(обратно)78
В начале нового времени «Томами из Бедлама» называли себя английские бродяги и нищие, симулировавшие душевные заболевания и утверждавшие, что их выпустили из Вифлеемской королевской психиатрической больницы (Бедлама), основанной в 1247 г.
(обратно)79
Рукопашная схватка (искаж. фр.).
(обратно)80
Колледжи Оксфордского университета: Пембрук-Колледж основан в 1624 г., колледж Троицы (Тринити-Колледж) в 1554 г., Сент-Эдмунд-Холл в 1278 г.
(обратно)81
Деревянные панели (искаж. фр.).
(обратно)82
Пипсианская библиотека — библиотека Кембриджского колледжа Магдалины, завещана колледжу в 1703 г. английским парламентарием и секретарем адмиралтейства Сэмюэлом Пипсом (1633–1703) вместе с собранием его знаменитых дневников.
(обратно)83
Контаминация латинских изречений «mens sana in corpore sano» («в здоровом теле здоровый дух» — у римского поэта-сатирика Децима Юния Ювенала, ок. 60 — ок. 127, оно было направлено против одностороннего увлечения телесными упражнениями, ныне употребляется в противоположном смысле) и «corpus vile» («малоценный организм», подопытное животное).
(обратно)84
От лат. «совет».
(обратно)85
Эразм Роттердамский (Дезидерий, 1467–1536) — голландский богослов, философ, филолог, педагог, виднейший представитель «христианского гуманизма».
(обратно)86
Фуззи-вуззи — прозвище суданских солдат из племени хадендоа, которые во время суданских войн 1884–1885 гг. нанесли несколько ударов по англичанам в районе Суакина, города на берегу Красного моря. Известно главным образом благодаря одноименному стихотворению Редъярда Киплинга (1890).
(обратно)87
Фраза Киплинга из стихотворения «Отпуск» (1897), аллюзия на Рим. 2:14.
(обратно)88
Аллюзия на «Оду соловью» (1819) английского поэта-романтика Джона Китса (1795–1821), перевод Г. Кружкова.
(обратно)89
Викка (или Древняя Религия) — неоязыческий культ дохристианского ведовства, популяризовавшийся с 1954 г. английским государственным служащим, антропологом-любителем и оккультистом Джералдом Броссо Гарднером (1884–1964).
(обратно)90
Сесил Джеймс Шарп (1859–1924) — английский фольклорист.
(обратно)91
У. Шекспир. «Макбет», IV, 1. Перевод А. Радловой.
(обратно)92
Там же, перевод М. Лозинского.
(обратно)93
Джеймс Бранч Кэбелл (1879–1958) — американский писатель, автор фантастических произведений и публицист. Сравнивал Диану Эфесскую с «ожившей еловой шишкой» в книге «Юрген. Комедия правосудия» (1922).
(обратно)94
Высокая Церковь — направление в англиканской церкви, тяготеющее к католицизму.
(обратно)95
Ньюдигейтская премия присуждается ежегодно в Оксфордском университете за лучшую поэму на английском языке; учреждена английским политиком и антикваром сэром Роджером Ньюдигейтом (1719–1806) в 1806 г.
(обратно)96
«Ченчи» (1819) — трагедия английского поэта-романтика Перси Биш Шелли (1792–1822).
(обратно)97
Хоразин — город в Галилее севернее Капернаума (возможно — нынешние развалины Керазе). Видимо, город погиб при землетрясении 400 г.
(обратно)98
Ты победил (лат.). От выражения «Vicisti, Galilée» — «Ты победил, Галилеянин», эпиграф к стихотворению Суинберна «Гимн Прозерпине». Слова эти приписываются христианским богословом, аскетом, представителем антиохийской теологической школы Феодоритом Кирским (ок. 393 — ок. 458) получившему христианское воспитание римскому императору Юлиану Отступнику (331–363), якобы смертельно раненному в сражении с персами и признавшему торжество христианства. На деле же от римского (языческого) многобожия Юлиан не отказывался до конца жизни.
(обратно)99
Градуал (от лат.) — сборник хоровых песнопений католической обедни.
(обратно)100
Обедня святого Секария (фр.) — разновидность черной мессы, практиковавшаяся в Гаскони, пародия на евхаристию. В частности, описывается английским историком религии и этнографом Джеймсом Джорджем Фрэзером (1854–1941) в «Золотой ветви», гл. IV сокращенного издания (1906–1915).
(обратно)101
Служебник (от лат.).
(обратно)102
Части мессы — «Введение», «Господи, помилуй», «Агнец Божий».
(обратно)103
La Hougue Bie — курган на о. Джерси в приходе Грувилль, ныне — музейный комплекс, в который входят захоронение эпохи неолита, две средневековые часовни и немецкий подземный бункер эпохи Второй Мировой войны.
(обратно)104
Кеннет Грэм, «Ветер в ивах», гл. Х.
(обратно)105
«Вулзли» — марка легкового автомобиля средней мощности компании «Бритиш Лейланд»; последняя модель выпущена в 1975 г.
(обратно)106
От лат. Delirium tremens — белая горячка.
(обратно)107
Вариант выражения «Верь опытному» (лат.). Овидий, «Наука любви», III, 511–512.
(обратно)108
«Boy's Own Paper» (1879–1967) — английский ежемесячный журнал; печатал занимательные рассказы и статьи, практические советы по внешкольным занятиям.
(обратно)109
Ассоциация молодых христиан (Y.M.C.A.) — неправительственная и некоммерческая международная организация, созданная с целью упрочения духовного, морального и физического здоровья молодых людей. Основана Джорджем Уильямсом в 1844 г.
(обратно)110
Аттила (ум. 453) — предводитель гуннов с 434 г. Возглавил опустошительные походы в Восточную Римскую империю (443, 447–448), Галлию (451), Северную Италию (452).
(обратно)111
«Peg’s Paper» (1928–1939) — английская газета для девочек.
(обратно)112
Музей истории и культуры Неаполя, или Неапольский национальный археологический музей. В нем имеется знаменитый «тайный кабинет» с коллекцией эротического искусства, обнаруженного при раскопке Помпей. Кабинет на короткое время был открыт для публики в конце 1960-х гг.
(обратно)113
Андрэ-Робер де Нерсиа (1739–1800) — французский писатель, чьи книги долгие годы считались крайне неприличными. Дэвид Герберт Лоуренс (1885–1930) — английский писатель, считавшийся порнографом. Донасьен Альфонс Франсуа де Сад (1740–1814) — французский писатель, отрицавший в своих книгах все культурные и социальные нормы и запреты своего времени. Остин Осман Спэйр (1886–1956) — английский художник и оккультист. Гермес Трисмегист («Триждывеличайший») — легендарный основатель герметизма, древний царь Египта, обладавший тайным знанием, которое легло в основу алхимии. «История О» (1954) — эротический роман французской писательницы Анн Дескло (под псевдонимом Полин Реаж, 1907–1998) о садомазохизме. Жан Боден (1530–1596) — французский юрист и парламентарий, политический мыслитель; упомянутый трактат «О ведовстве» написан в 1580 г.
(обратно)114
«Diners Club» — престижная кредитная карточка первой в мире независимой кредитной компании, основанной в 1950 г. первоначально — для коммерсантов, которым было необходимо часто водить клиентов в рестораны.
(обратно)115
Сокр. «На службе Ее/Его Величества» — пометка на английской официальной корреспонденции.
(обратно)116
Еврейка бешеная (фр.). Шарль Бодлер, «Цветы зла», XXXII, перевод В. Левика.
(обратно)117
«Лючия ди Ламмермур» (1835) — опера итальянского композитора Гаэтано Доницетти (1787–1848), либретто Сальваторе Каммарано по роману шотландского писателя сэра Вальтера Скотта (1771–1832) «Ламмермурская невеста» (опубл. 1819), где главная героиня сходит с ума, будучи не в силах выбрать между любовью и семейным долгом.
(обратно)118
Восковая гибкость (лат.).
(обратно)119
От нем. сопровождать.
(обратно)120
Видный волхв (лат.).
(обратно)121
Деннис Йейтс Уитли (1897–1977) — английский писатель, автор мистических и оккультных триллеров.
(обратно)122
«Вскормлённый в серале, ты знаешь уловки» (фр.). Парафраз строки из трагедии Жана Расина «Баязет» (1672).
(обратно)123
Апанаж — часть королевского домена, предоставлявшаяся во Франции (до 1832 г.) и некоторых других европейских монархиях суверенами своим младшим сыновьям, братьям (обычно пожизненно).
(обратно)124
Омар Шариф (Мишель Демитри Шалхуб, р. 1932) — американский киноактер египетско-ливанского происхождения, признанный мастер бридж-контракта, автор многочисленных статей и нескольких пособий по бриджу.
(обратно)125
Реконтра — повторное удвоение очков на заявку партнера в бридже. Ренонс — отсутствие карт в масти.
(обратно)126
Кемберли — город в графстве Суррей, где располагается Колледж Генерального штаба Королевской военной академии Сандхерст.
(обратно)127
«Жук» — настольная игра для четырех игроков; условная фигура жука делится на части, которые обозначаются цифрами; игрок бросает кость и рисует на своей карточке часть, соответствующую выпавшей цифре; выигрывает тот, кто первым окончит рисунок.
(обратно)128
Вероятно, имеется в виду покушение на премьер-министра Южно-Африканского Союза (с 1961 — ЮАР) Хендрика Френса Фервурда (1901–1966) 16 апреля 1960 г., когда его ранил в голову Дэвид Прэтт.
(обратно)129
Парафраз стихотворения английского поэта Алфреда лорда Теннисона (1809–1892) «Сэр Галахад», перевод С. Лихачевой.
(обратно)130
Карл фон Клаузевиц (1780–1831) — немецкий военный теоретик и историк, генерал-майор прусской армии.
(обратно)131
Хорхе Луис Борхес. «Немецкий реквием» (сб. «Алеф», 1949), перевод Б. Дубина.
(обратно)132
Перевод Э. Ермакова.
(обратно)133
Перепутал. Это слова архиепископа Кентерберийского св. Томаса Бекета (1118–1170) из стихотворной трагедии Томаса Стирнза Элиота «Убийство в соборе» (1935), перевод В. Топорова. Алфред Пруфрок — лирический герой «Любовной песни Дж. Алфреда Пруфрока», одного из самых известных стихотворений Элиота (1915).
(обратно)134
«Свободная Франция» — официальное наименование (до июля 1942 г.) сложившегося во время 2-й мировой войны по призыву генерала Шарля де Голля (18 июня 1940 г.) движения, ставившего целью борьбу за освобождение Франции от немецко-фашистских захватчиков и их ставленников. В июле 1942 г. в связи с активизацией антигитлеровской борьбы приняло название «Сражающаяся Франция». Руководящий центр движения располагался в Лондоне.
(обратно)135
Имеется в виду битва за Дакар (операция «Угроза») — безуспешная попытка англо-австрало-нидерландских войск 23–25 сентября 1940 г. отбить столицу Французской Западной Африки у вишистского правительства в пользу движения «Свободная Франция».
(обратно)136
Джордж Джеффрис (1645–1689) — лорд-канцлер (глава судебного ведомства и верховный судья Англии) и председатель суда пэров в правление английского короля Якова II. Получил известность как «Судья-Вешатель» в сентябре 1685 г. на так называемых «Кровавых Ассизах» — серии выездных процессов над участниками Монмутского восстания.
(обратно)137
Фрэнсис Дэшвуд (1708–1781) — английский политик, канцлер казначейства и распутник, основатель эксклюзивного «Клуба Геенна» (1746–1760).
(обратно)138
Пресветлая Богородица (искаж. фр.).
(обратно)139
Медальоны из косули а-ля Св. Юбер с поре из каштанов (искаж. фр.).
(обратно)140
Константин Раудив (1906–1974) — шведский психолог латвийского происхождения, ученик Карла Юнга, исследователь «феномена электронного голоса».
(обратно)141
Некоторые краснеют, едва осознав, что женщина, которую они полюбили, глупа. Чванные ослы, им бы только щипать мерзейшие репья мирозданья — либо снискивать расположенья синего чулка. Глупость зачастую — украшение красоты: это она придает глазам мрачную чистоту черных омутов и маслянистую безмятежность тропических морей (фр.). Шарль Бодлер, «Избранные утешительные максимы о любви» (1846).
(обратно)142
Симона Вайль (1909–1943) — французский философ и мистик.
(обратно)143
1 Коринфянам, IX, 22.
(обратно)144
Иероним Стридонский (ок. 347–420) — христианский писатель и богослов, один из великих учителей Западной церкви. Ему принадлежит латинский перевод Библии (т. н. «Вульгата»). Родился между Паннонией и Далматией, т. е. на территории нынешних Боснии и Герцеговины, был аскетом.
(обратно)145
Кассиус Марселлюс Клэй-мл. (Мохаммед Али, р. 1942) — американский боксер-тяжеловес.
(обратно)146
Генри Эдуард Маннинг (1808–1892) — английский церковный деятель. Первоначально священник англиканской церкви, автор сочинения «Единство церкви» (1842). В 1851 г. перешел в католичество, стал примасом католической церкви в Англии, с 1875 г. — кардинал. Представитель католического социализма.
(обратно)147
Пий IX (искаж. ит.; Джованни Мария Мастаи-Ферретти, 1792–1878) — Римский Папа с 1846 г. В 1846-47 г. провел либеральные реформы в Папской области, что побудило часть участников Рисорджименто видеть в нем будущего объединителя Италии. В начале Революции 1848-49 г. согласился на некоторые либеральные меры, но вскоре бежал из Рима. После ликвидации Папской власти над Римом (1870) отказался признать объединенное итальянское государство.
(обратно)148
Франциск Ассизский (1181/2—1226) — итальянский проповедник, основатель ордена францисканцев, автор религиозных поэтических произведений. Франциск Ксаверий (Франсуа Ксавье, 1506–1552) — христианский миссионер, иезуит, сподвижник Игнатия Лойолы.
(обратно)149
Аллюзия на Иоанна, 21:13.
(обратно)150
Из глубин я взывал к Тебе, Господи (лат.) — слегка видоизмененное начало покаянного псалма (Пс. 130:1–2), который читается как отходная молитва над умирающим. «De Profundis» также — название письма Оскара Уайлда (опубл. 1905) бывшему возлюбленному лорду Алфреду Дугласу из тюрьмы.
(обратно)151
Рихард Фрайхерр фон Краффт-Эбинг (1840–1902) — австро-немецкий психиатр, изучавший сексуальные извращения.
(обратно)152
Уистан Хью Оден (1907–1973) — англо-американский поэт.
(обратно)153
«Песни к ней» (1891) — цикл стихотворений французского поэта-символиста Поля-Мари Верлена (1844–1896), посвященный спутнице его последних лет жизни Эжени Кранц.
(обратно)154
Славься и здравствуй (лат.). Перевод Э. Ермакова.
(обратно)155
Начало стихотворения XLIV из цикла «Шропширский парень» (1896) английского поэта Алфреда Эдварда Хаусмана (1859–1936).
(обратно)156
«Типс» — нераспустившиеся почки чайного листа, дающие нежный вкус и аромат.
(обратно)157
Генерал-бас (цифрованный бас, бассо континуо) — в музыке басовый голос, под звуками которого проставлены цифры, обозначающие созвучия в верхних голосах. Применялся в конце XVI — 1-й половине XVIII вв. при нотации органного и клавесинного сопровождения.
(обратно)158
«В слезах моя душа, дождем оплакан город» (искаж. фр.). Стихотворение VIII из цикла Поля Верлена «Романсы без слов» (1874), перевод Ф. Сологуба.
(обратно)159
«Как твои симпомы прозорливятся?» — приветствие Братца Кролика Смоляному Чучелку (гл. 2) в «Сказках дядюшки Римуса» (1880) американского журналиста и писателя Джоэла Чэндлера Хэрриса (1848–1908).
(обратно)160
Красный бульон (искаж. фр.).
(обратно)161
Первая группа крови в системе австрийского иммунолога Карла Ландштайнера (1868–1943).
(обратно)162
По должности (искаж. лат.).
(обратно)163
Жареные картофельные шарики (искаж. фр.)
(обратно)164
Заячий паштет (искаж. фр.).
(обратно)165
Визит Фамильи (искаж. фр.).
(обратно)166
От лат. nemine contra dicente — принято единогласно («нет несогласных»).
(обратно)167
Гнусные таинства (фр.).
(обратно)168
Парафраз Иезекииля 23:3, 6.
(обратно)169
Аллюзия на стихотворение ирландского поэта Уильяма Батлера Йейтса (1865–1939) «Озерный остров Иннисфри».
(обратно)170
Статья I Закона о недопущении дурного обращения с животными (фр.).
(обратно)171
Статья I Новой редакции уголовного кодекса (содомия и скотоложество), утвержденной указом Ее Величества в Совете (фр.). «Королева в Совете» — исполнительная власть в Великобритании.
(обратно)172
Закон о медицинской и хирургической ветеринарной практике (фр.).
(обратно)173
Сикст IV — Папа Римский в 1471–1484 гг.
(обратно)174
Перефразированная строка из народного детского стихотворения «Веселый мельник», опубликованного в собрании «Рифмы Матушки Гусыни» (XVII в.).
(обратно)175
Строка из сонета XXXIII первой части «Различных сонетов» английского поэта Уильяма Водсворта (1770–1850).
(обратно)176
«Христианская наука» — протестантская секта, основана Мэри Морс Бейкер Эдди в 1866 г. Основана на вере в духовное излечение от всех физических и духовных грехов и недугов с помощью Слова Христова.
(обратно)177
«Все новости, достойные печати» — девиз газеты «Нью-Йорк Таймс».
(обратно)178
Аллюзия на фразу из «Неудобных денег» П.Г. Вудхауса (гл. 13, 1916), перевод Н. Трауберг.
(обратно)179
«Улетим на леденце» — песня американского композитора Ричарда Уайтинга на стихи Сидни Клэра, исполнявшаяся Ширли Темпл в музыкальной комедии Дэвида Батлера «Ясноглазка» (1934).
(обратно)180
Утренняя серенада (искаж. фр.), иронически — кошачий концерт.
(обратно)181
Утренник (искаж. ит.).
(обратно)182
Аллюзия на гл. 27.
(обратно)183
Аллюзия на «Макбет» У. Шекспира, акт V, сц. 1.
(обратно)184
Цыпленок (искаж. фр.).
(обратно)185
Сокр. от лат. verbum sapienti — «умному слово» (т. е. умному достаточно одного слова).
(обратно)186
Секретарь суда (искаж. фр.).
(обратно)187
Vecomte (фр.) — пристав суда.
(обратно)188
Вице-губернатор — титул представителя монарха на Нормандских островах и на о. Мэн.
(обратно)189
Jurat (фр.) — член городского правления в некоторых городах Франции.
(обратно)190
Уотергейт — политический скандал, в который оказалась вовлечена республиканская администрация США в 1973-74 гг. и в котором фигурировали «отредактированные» магнитофонные записи.
(обратно)191
Аллюзия на первые строки стихотворения Т.С. Элиота «Путешествие волхвов» (1927): «Ледяные ночи — наше шествие. Холодней ночей не бывает в году», перевод Н. Берберовой. Элиот ссылался в них на проповедь англиканского священника Ланселота Эндрюса (1555–1626), произнесенную на Рождество 1622 г.
(обратно)192
Талер Марии Терезии — монета, имеющая хождение в мировой торговле с 1741 г. Назван в честь Марии Терезии (1717–1780) — австрийской эрцгерцогини с 1740 г., из династии Габсбургов.
(обратно)193
Лобенгула Кумало (ок. 1836–1894) — правитель народа ндебеле в Южной Африке в 1870–1894 гг. Кетчвайо Кампанде (ок. 1826–1884) — последний зулусский инкоси (верховный правитель) в 1873–1879 гг.
(обратно)194
Ричард Генри («Питер») Селлерс (1925–1980) — английский комедийный актер. Одна из его лучших ролей — инспектор Клузо в киносериале Блэйка Эдвардса «Розовая пантера», где его герой говорит по-английски со старательным акцентом.
(обратно)195
Перевод И. Трояновского.
(обратно)196
«Где они [прекрасные мгновенья]?» (искаж. ит.) — ария Розины из комической оперы Вольфганга Амадея Моцарта «Женитьба Фигаро» (1786).
(обратно)197
Уильям Блай (1754–1817) — вице-адмирал английского Королевского флота, в звании лейтенанта — капитан «Баунти», на котором 28 апреля 1789 г. вспыхнул мятеж экипажа против предполагаемой тирании капитана.
(обратно)198
Горацио Нельсон (1758–1805) — английский флотоводец, вице-адмирал (1801). Одержал ряд побед над французским и испанским флотами, в т. ч. при Абукире и Трафальгаре (в этом бою был смертельно ранен).
(обратно)199
«Мармайт» — фирменное название питательной белковой пасты производства одноименной компании; используется для бутербродов и приготовления приправ.
(обратно)
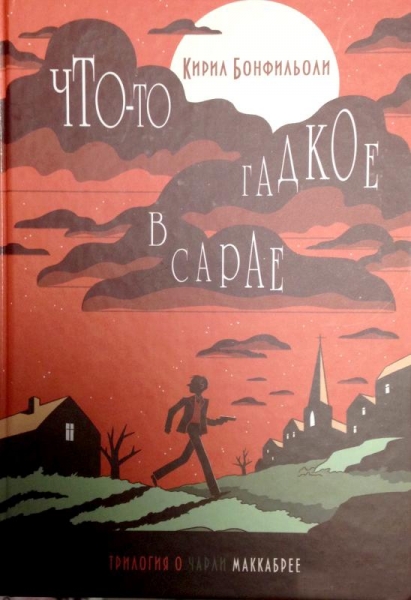










Комментарии к книге «Что-то гадкое в сарае», Кирил Бонфильоли
Всего 0 комментариев