АВТОПОРТРЕТ С УСТРИЦЕЙ В КАРМАНЕ
Фрагмент романа
Длинная комната с большими окнами, которую все живущие в доме называют галереей. Одна дверь из нее ведет в сад. другая — вглубь дома, а ближайшим образом — к короткому коридору на кухню. Близ двери, ведущей в дом, — столик, заставленный безделушками, в дальнем углу — дверь в чулан, задвинутая шкафом. На стене над столиком старинная картина. На ней пастушка, стоящая в раздумье, рядом на скамье ее кавалер с лютней, низко склонивший голову, позади в кустах — что-то похожее на гробницу. На заднем плане роща. из которой на опушку выходит еле заметный волк.
— Все-таки мне кажется, что одних тарталеток будет мало, — сказала Эмилия.
— Миссис Хислоп предлагает пару имбирных кексов, лепешки с девонширским кремом, мед и малину. — сказала Джейн. — Кроме того, она утверждает, что к твоим картинам пошли бы сэндвичи с кресс-салатом и креветками. Если хочешь, спроси ее. что она под этим понимает. Впрочем, креветок все равно нет, так что вопрос риторический.
— Имбирные кексы. — задумчиво сказала Эмилия. — По-моему, это слишком хорошо для такого случая. Пойми меня правильно, я не думаю отказать моим знакомым в маленьком удовольствии, но мне не хотелось бы. чтобы потом говорили: «О да, там были замечательные имбирные кексы, миссис Хислоп выше всяких похвал, и ещё виды аббатства в желтых рамках». Воспоминания так прихотливы.
— Да, понимаю, — кивнула Джейн. — Я однажды сидела в приемной у дантиста с одним из таких сборников, что издают в помощь девушкам, ведущим культурную жизнь; боюсь, это было опрометчиво. Потом один молодой человек, очень милый, но... в общем, он решил прочесть мне: «Наконец мы напились из Леты, мы лотос вкусили, там, где скорбь родилась и скончалась», и все. что там дальше, о чем я узнала, пока сидела у дантиста. Думаю, он был удивлен тем. как я к этому отнеслась. Не стоит брать в такие места вещи, которые собираешься потом использовать в лучшей жизни.
— Надеюсь, ты не была с ним слишком сурова. Все-таки он не виноват.
— Тогда это не пришло мне в голову. В общем, не тревожься зря. Я уверена, что ты пересилишь кексы.
— Вот ещё что: писать приглашения или нет? Удивительное дело, нигде нет правил этикета на случай, если зовешь знакомых посмотреть на свои картины. Кто пишет пособия по этикету?.. Эти люди уверены. что мне чаще приходится принимать в гостях особ королевской крови или устраивать им после этого торжественные похороны.
— Напиши, — предложила Джейн.
— Пособие по этикету?
— Приглашения. По крайней мере это тебя займет.
— Боюсь, не показалось бы. что я придаю этой затее слишком много значения.
— А ты не придаешь? — осторожно спросила Джейн.
Эмилия покачала головой.
— Мне не хочется выглядеть смешной. Я уже жалею обо всем этом.
— Дорогая. — мягко сказала Джейн, — мы все тебя поддерживаем. Спроси у мисс Робертсон или у викария, он сейчас наверху; они знают слова, подходящие к таким случаям.
— А Роджер приедет?
— Лев встает на дыбы. — сказал попугай. Он сидел на шкафу и, вывернув шею движением, мучительным для восприимчивого наблюдателя, чистит перья на спине. — Да. на дыбы. Я выхватываю саблю.
— Я даже не знаю, вернулся ли он из Италии и в каком состоянии. — сказала Джейн. — До последнего момента он уверял меня в открытках, что приедет. Я бы не стала слишком на это рассчитывать.
— Верхняя половина отделяется от нижней, — продолжит попугай и шумно перелетел на плечо к Джейн.
— Не сейчас, милый, — рассеянно сказала она.
— Он мог бы написать в «Ежемесячное развлечение», — предположила Эмилия. — Он же пишет для них. Хотя бы несколько строк. Если, конечно, ему понравится.
— Я уверена, ему понравится.
— И запекается полчаса, — сказал попугай.
— Сколько? — переспросила Джейн.
— На дыбы. — подтвердил попугай, перелетая на стол. — Конго — это боль, — сообщил он.
— У него там отравили быка, — сказала Эмилия.
— У кого?
— У Генри. Он рассказывал. Недружественные туземцы с помощью белены. «Всегда следи за недружественными туземцами», — говорит он.
— Все запирать на ночь. — сказал попугай.
— Это благоразумно, — сказала Джейн.
— Наверняка он расскажет о них что-то новое, когда вернется из... оттуда, где он сейчас. Это люди неистощимой изобретательности. Перестань, милый, — сказала она, поднимая поваленные попутаем статуэтки. — Как ты думаешь, куда мне поставить отшельника, справа или слева от натюрморта с палтусом?
— Ну, — начала Джейн. — тебе удалось придать ему такой выразительный взгляд...
— В самом деле?..
— Да, просто пронизывающий, это удивительно... поэтому, мне кажется, лучше поставить его так. чтобы он не смотрел ни на что в особенности. Может выйти неловко.
— Значит, вот сюда. — сказала Эмилия, меняя палтуса и отшельника местами. — Все-таки надо чем-то украсить комнату, — продолжила она, поднимая голову
— Тут пошли бы гирлянды, — сказала Джейн. — Не очень много, чтобы не отвлекать внимание. Давай сядем и будем плести их с красивой песней.
— В чулане может быть что-нибудь подходящее, — сказала Эмилия.— Только надо сдвинуть оттуда шкаф. Давай позовем Эдвардса, он где-то в саду, я слышу, как его ножницы щелкают.
— Он стоит тут целую вечность, — сказала Джейн. — Мне кажется, он пустил корни. В одиночку его не сдвинешь. Хочешь, я схожу за викарием?.. Он сейчас в библиотеке. Он не откажется помочь; и потом, он ведь такой человек, что мог бы сказать шкафу «перейди вот сюда» и шкаф...
— Джейн, ты не могла бы. — быстро заговорила Эмилия, — ты же знаешь, как я отношусь к таким вещам, а сейчас...
— Прости, дорогая, — сказала Джейн. — это была дурацкая шутка. Может быть, мистер Годфри?..
— Нет, не надо, — тревожно сказала Эмилия. — Я его побаиваюсь. Он ведь не удержится что-нибудь сказать, и тогда я совсем потеряю равновесие. Выгляни, пожалуйста, на дорогу, может быть, тебе повезет встретить человека, склонного в жару двигать шкафы.
— Хорошо, я найду кого-нибудь, — пообещала Джейн, выходя в сад.
ГЛАВА ПЕРВАЯ
— Да, миссис Хислоп, они ещё тут. Доктор Уизерс уже уходит. Он говорит, что в этом доме ему больше нечего делать. Они отдадут тело, когда установят причину смерти. Нет, я не думаю, что мы должны угостить доктора Уизерса кексами... Да, я нахожу, что можно обойтись без этого и он ничего такого не подумает... Я уверена, что не
подумает... К тому же, я слышу, Энни его уже провожает.
Джейн медленно вышла из двери и села на стул, выдвинутый на середину комнаты. Она посмотрела на столик, на пол рядом с ним, сказала: «Тело. Господи, тело» — и заплакала.
— Не плачь, — сказал молодой человек, входя в дом из сада.
— Роджер! Это ужасно, ужасно! Мы все. ..я... Эмилия!.. Что теперь делать?..
— Тебе надо бы умыться холодной водой, — сказал Роджер. — иначе ты не остановишься, со слезами всегда так. Должна же в этом доме быть холодная вода. Умойся, пожалуйста, скоро здесь все будут нуждаться в твоей трезвой голове.
— Ты... откуда ты вообще взялся?.. Мы не ждали тебя раньше субботы.
— Я хотел сделать сюрприз, — сдержанно сказал Роджер.
— Тебе удалось, — с горечью заметила Джейн. — Кругом хаос, эти люди, стулья путаются под ногами, все спрашивают одновременно... и Эмилия... Господи, ты понимаешь, что Эмилия умерла?.. И тут ты, с ясной улыбкой, желаешь всем доброго дня и спрашиваешь, где можно поставить чемодан.
— В Адметов скорбный дом гулякой шумным... извини, не буду больше. Тебе бы все-таки умыться. Хочешь, я найду воды?
— Брось, — сказала Джейн, слабо махнув рукой. — Ты давно приехал?
— Только вчера добрался до дома.
— И сразу к нам?..
— Видишь ли, — сказал Роджер, — я был полон впечатлений, и мне надо было с кем-то поделиться; вот и подумал, что здесь, в кругу людей, любящих живопись, меня будут слушать охотнее. Я теряюсь, когда меня не слушают.
— Значит, ты не зря съездил.
— Масса впечатлений. — подтвердил Роджер. — Я сделал кучу выписок. Жаль только, с ними нельзя справиться. Некоторые подробности, гм, пропали безвозвратно.
— Ты их потерял. — догадалась Джейн.
— Конечно, нет. Они всегда были при мне. Просто моя записная книжка, как бы это сказать, немного подмочена. Боюсь, эти люди из «Ежемесячного развлечения» будут несколько разочарованы. Они уже звонили вчера и спрашивали, когда ждать первый очерк.
— И поэтому ты...
— Ну конечно, нет!.. У меня были другие причины. Здесь ведь полон дом людей, неравнодушных к искусству. Кстати, кто это гремит там наверху?
— Наверное, Энни. Мисс Робертсон после беседы с инспектором ушла к себе. Инспектор в библиотеке — должно быть, разговаривает с викарием. А мистер Годфри не знаю где.
— Как быстро появился этот инспектор. А Энни — это здешняя горничная? Такая рыжая?
— Рыжая — это предыдущая Энни, ты редко здесь бываешь. Да. на удивление быстро, я и не думала, что так бывает... Господи...
— Он внушает уважение. — быстро сказал Роджер. — хотя выглядит очень молодым. Следствие в надежных руках. Надеюсь, он был аккуратен с мисс Робертсон, ее ведь трудно будет успокоить, сколько я ее помню.
— Да, он был очень учтив, он даже за весь разговор ни разу... — сказала Джейн и осеклась.
— Ну-ну, — с интересом сказал Роджер. — Продолжай.
— Ну ты же знаешь. — неохотно начала Джейн. — наш дом очень старый...
— Неравномерно старый. — уточнил Роджер.
— Вот именно. Он как костюм с карманами там, где их меньше всего ждешь, и непонятно, кому придет в голову что-то хранить в таких местах...
— Карманы делаются в мнемонических целях. — сообщил Роджер. — Через некоторое время человек привыкает ассоциировать с печенью две серебряные полукроны, а с сердцем — зубочистку и театральные программки; из этого происходят всякие интересные следствия. Почему ты отказываешься публиковаться? Я уверен, твой стиль понравится людям. Хочешь, я поговорю с «Ежемесячным развлечением»? Наверняка их привлечет серия очерков из деревни, написанных наблюдательной девушкой, образованной, но не потерявшей расположения местных жителей.
— Перестань, — сказала Джейн.
— Да, конечно. Ты говорила о том, что там с инспектором и мисс Робертсон и почему ты об этом знаешь.
— Так вот, я шла мимо библиотеки и совсем не собиралась останавливаться... Но когда я дошла до статуи, которую покойный сэр Джон поставил в коридоре...
— Сатир с сорокой. — уточнил Роджер. — Я помню. Прекрасная вещь. острый стиль. Затаенный юмор и внимание к бытовым деталям.
— От сороки уже не так много осталось. — сказала Джейн. — Дело в том, что Энни...
— Нынешняя?..
— Рыжая... Впрочем, это не важно. У меня в руках была розетка с вареньем из айвы, уже не помню, почему. Я же несла ее мисс Робертсон!.. Она попросила айвы. Куда я ее потом дела?..
— Найдется. — сказал Роджер. — Так что там с сатиром?
— Я пролила немножко варенья — руки дрожали. — и мне пришлось поставить розетку, сходить за тряпкой и оттирать сатира и сороку. Кстати, айва удивительно хорошо смотрится на старом мраморе, а будь в ней немного больше сахара и цедры...
— Не зря я сюда приехал, — одобрительно сказал Роджер. — Ну а дальше?
— Понимаешь, дом старый и в нем много странностей со звуками. Они то пропадают вблизи, то разносятся очень далеко. Например, если стать рядом с сатиром, удивительно хорошо слышно все. что говорят в библиотеке, а стоит отступить на два шага — и все пропадает.
— Любители органной музыки называют это «поразительным акустическим эффектом». — сказал Роджер. — Один человек таким образом узнал много лишнего в соборе святого Павла. Потом он уверял, что это были голоса ангелов. Они советовали ему пойти в лавку Коупленда и купить сукна с гладкой каймой, пока оно еще есть. Он тогда сильно потратился.
— Я не собиралась подслушивать!.. Надо же было оттереть сатира, пока айва не въелась в него навсегда; кто знает, как мрамор реагирует на такие веши.
— Никто тебя не обвиняет. — сказал Роджер. — Каждый на твоем месте повел бы себя точно так же. Так что там было?
— Сперва инспектор усадил ее в кресло и спросил, как она себя чувствует и в силах ли отвечать на вопросы, а мисс Робертсон поблагодарила его за любезность и сказала, что предпочтет ответить на все сейчас. Он спросил, кем она приходится хозяевам этого дома и давно ли здесь живет. Она сказала, что была подругой покойной хозяйки и живет в Эннингли-Холле, кажется, уже лет десять. «Смею надеяться. — прибавила она (я не видела ее жест, но могу его представить), — смею надеяться, я не заставила их раскаяться в гостеприимстве».
— Они ведь вместе учились, сколько я помню?
— И играли на любительской сцене. — прибавила Джейн. — Говорят, мисс Робертсон там блистала в ролях, требующих чувства.
— С ней была еще какая-то романтическая история.
— С ней была еще какая-то романтическая история.
— Тетя Хелен не распространялась об этом, — сказала Джейн, — так что я мало знаю. У мисс Робертсон в юности была большая любовь, но им что-то мешало быть вместе, не знаю, что; кажется, ее поклонник чуть ли не предлагал ей бежать и венчаться...
— Кони грызли узду у крыльца, — вставил Роджер.
— Но она не могла собраться с духом...
— И с тех пор никогда...
— Роджер, мы с тобой сплетничаем, — сказала Джейн, — это совсем не к месту.
— Да-да, мы больше не будем.
— Это хорошо. Вообще она удивительно хорошо держится, хоть и говорит своим обычным слогом. Он спросил, что она делала в первой половине дня, и желательно в подробностях; она сказала, что у нее была легкая головная боль, а потому после завтрака она сидела у себя, занимаясь то тем, то этим, а больше всего ничем, и вышла, только когда услышала, как мистер Годфри воскликнул что-то. выходя из своей комнаты в коридор, а потом раздались крики Энни на лестнице.
— То есть она ничего не знает.
— Совершенно ничего. Инспектор, однако, спросил, не замечала ли она чего-либо подозрительного в этот день или накануне.
— Вот это напрасно. — заметил Роджер.
— Она сказала, что, конечно, не видела бродячих огней и не слышала сов на крыше, но знаки упадка здесь рассеяны везде, он сам их заметит, и рассеяны не со вчерашнего дня. нет. Он спросил, что она имеет в виду. Мисс Робертсон спросила в ответ, доводилось ли ему — хотя нет. в его возрасте — пусть он простит, что она так высказывается о его летах, у нее нет ни малейшего сомнения, что в своей профессиональной области он безукоризнен, однако есть вещи, для которых... — так вот, доводилось ли ему испытывать чувство, что на его глазах кончился век. время сдвинулось и ушло, а между тем он был его частью и вряд ли сможет сделаться частью чего-то другого? Инспектор ответил, что ему не доводилось испытывать подобного, однако он знает людей, которым это довелось, и думает, что понимает чувства, которые в этом случае испытывает мисс Робертсон.
— Как. однако, много у вас айвы. Был хороший урожай, или вы закупаете ее на стороне?
— Роджер!.. Это все заняло гораздо меньше времени, чем кажется. Потом они. судя по голосам, пошли к дверям, и тут я спохватилась, где я и как это выглядит, и тотчас... Мисс Робертсон, как вы себя чувствуете?
— Спасибо, неплохо. — отвечала мисс Робертсон, выходя из дому в галерею. — хотя я не могу ни о чем думать.
кроме бедной Эмилии, как, полагаю, и вы. Я совсем не соображаю и, боюсь, наделаю каких-нибудь глупостей.
— Боже мой! — воскликнула Джейн. — Извините, мисс Робертсон, я шла сюда с вареньем, которое вы просили, и, кажется, где-то его забыла. Какая я бестолковая.
— Может быть, в таком месте... — сказал Роджер. — Ты знаешь, есть такие места, где люди обычно забывают варенье. Не вернуться ли тебе туда, в одно из таких мест, и посмотреть — вдруг я прав.
— Нет, Роджер, оно не там, — твердо возразила Джейн, — я хорошо помню, что успела забрать его у с... то есть я успела его забрать.
— Нет, милая, — возразила мисс Робертсон. — это не для меня. Неужели вы думаете, что я способна хотеть айвового варенья, когда Эмилия лежит мертвая на столе у доктора Уизерса, а мы все потеряли память от горя!.. Я хотела угостить им инспектора, чтобы он чувствовал себя как дома и не жалел, что приехал... ну, чтобы у него не сложилось впечатление, что тут живут люди, не расположенные к следствию...
— Я думаю. — сказала Джейн, — ему сейчас не до того.
— В знак приязни можно погулять с ним по саду, — предложил Роджер.
— Нет, — сказала мисс Робертсон, глядя в окно и качая головой. — это ведь не сад. это... Слишком многое ушло. Колкие звезды чертополоха средь разбитых плит.
— По-моему, старый Эдвардс неплохо справляется, — возразил Роджер. — Я прошелся сейчас по тропинке, усаженной азалиями...
Джейн прикрыла лицо рукой.
— Нельзя гулять среди воспоминаний, не приносящих утешения, — пояснила мисс Робертсон. — Вот что я имею в виду. Только Энни может носиться там. среди цветов, едва услышит велосипедный звонок. Но она беспечное создание, и я искренне желаю ей. чтобы холодные опыты зрелости пришли к ней как можно позже и не опустошили ее сердца, подобно западному ветру.
— Велосипедный звонок? — осторожно переспросила Джейн.
— Да, когда почтальон проезжал, — пояснила мисс Робертсон. — Ах да, — сказала она, видя недоумение. — Когда мы беседовали с инспектором в библиотеке. Энни заглянула, и инспектор задал ей один-два вопроса. Она говорит, что увидела в окно почтальона на велосипеде и вышла к нему через сад. Эмилия была в галерее одна и возилась с картинами. Энни четверть часа разговаривала с почтальоном, который не привез почты, зато рассказал, что нового в Бэкинфорде, — оказалось, что ничего, — а потом пошла назад.
— Через сад? — спросила Джейн. — Странно, что я ее не видела.
— Зато я ее видела. — сообщила мисс Робертсон с некоторой гордостью. — Я в это время посмотрела в окно. Она шла по тропинке, светило солнце, и ничего еще не произошло.
— Вы рассказали об этом инспектору?
— Конечно. Так вот. она вернулась в дом и увидела бедную Эмилию лежащей ничком на полу, возле стола. Не знаю, что она подумала; судя по ее рассказу, она не успела ничего подумать; но она решила, что Эмилии нужен врач, вспомнила, что в библиотеке сидит викарий, и побежала вверх по лестнице, призывая его на помощь.
— Почему ей пришел в голову викарий?
— Видимо, потому, что тут требовались сдержанность и благоразумие, — сказал Роджер, — и потому что викарий ближе всех. Кроме того, он как-никак призван заботиться о человеке, так что стоило звать его, а не мистера Годфри.
— Она привела викария, — продолжила мисс Робертсон. — вдвоем они осторожно перевернули Эмилию, думая привести ее в чувство, и убедились, что она мертва. Было без четверти час. До сих пор не могу в это поверить.
— Да, тут уже я прибежала. — сказала Джейн. — Потом мы заметили у нее под рукой Танкреда, совершенно смятого. Бедная птица, как его жалко.
— Наверно, он был рядом, он ведь такой общительный. Эмилия сшибла его. когда падала, и придавила своей тяжестью. Надо похоронить его в саду, это не будет неуместно. Там много всего погребено.
— Господи, куда же я дела варенье. — пробормотала Джейн.
— Я все-таки пойду в сад, — сообщила мисс Робертсон. — Если будет нужна помощь, я где-то там.
С этими словами она вышла.
— Грешно быть любопытным в подобных обстоятельствах. — промолвил Роджер. — но мы мало того что грешим, так еще и без удовольствия: кажется, никто не может сообщить ничего путного.
— Интересно, что мистер Годфри рассказал инспектору. — задумчиво сказала Джейн.
— Мне кажется, я могу удовлетворить твое любопытство.
— Ты?
— Да. Видишь ли, со мной вышла удивительная вещь. Возможно, ты не поверишь, и все-таки это нагая правда, как ее изображают, с солнцем в одной руке и пальмовой ветвью в другой. Это, кстати, очень удобно, если приходится назначать встречу незнакомому человеку в людном месте. Так вот. с полчаса назад я. ища, нельзя ли оказаться кому-либо полезным, проходил по коридору мимо библиотеки и услышал голоса. Инспектор беседовал с мистером Годфри. Разумеется, я хотел пройти мимо, как подобает благовоспитанному человеку, но по случайности
задел рукавом за сатира с сорокой и прилип.
— Роджер!..
— Я же говорил, ты не поверишь. Так вот. мне не хотелось попортить ни статую, ни рукав — у меня ведь с собой не так много одежды, — поэтому пришлось отклеиваться с осторожностью. И поскольку я провел там несколько минут, то поневоле услышал кое-что. Мистер Годфри старался держать себя в руках и от этого говорил так, будто диктует мемуары, причем сразу набело. На обычные вопросы, какие предлагают в таких случаях детективные романы, он сказал, что он такой-то, находящийся в таком-то родстве с покойной хозяйкой, и что в свое время — кажется, лет пять-шесть тому — она, уважая его. мистера Годфри, ученые занятия и зная стесненность его средств, весьма тактично предложила ему поселиться в этом доме. Он не сразу принял предложение, потому что он человек крайней щепетильности и меньше всего хотел бы думать, что своим ежедневным времяпрепровождением обязан кому-то кроме самого себя; чтобы разрешить свои сомнения, он раз-другой наведался в Эннингли-Холл погостить и нашел в леди Хелен столько неподдельного участия, а в сэре Джоне — достаточно ума и образованности, чтобы выказывать интерес к его занятиям...
— Это ведь не его собственные слова, правда?
— Кое-что я украсил для правдоподобия, но смысл точно такой. В общем, это придало ему решимости и он со своей коллекцией кремневых топоров перебрался из тех мест, что были облагодетельствованы его присутствием, в здешние. Инспектор поинтересовался, изменилось ли что-то в его жизни после смерти обоих его гостеприимцев. Мистер Годфри отвечал, что единственный их сын унаследовал от своих родителей, помимо прочего, уважение к некоторым вещам и лицам. Он это сказал таким сухим тоном, что, если бы ты разлила там ведро воды, оно впиталось бы без остатка. Кстати, а где сейчас Генри? Опять в Африке?
— Да, где-то там, — сказала Джейн с неопределенным жестом.
— Привезет новых историй о туземцах.
— Мне кажется, ты слишком долго отклеиваешься.
— Извини, но некоторые вещи приходится делать долго, если хочешь сделать их хорошо. Так вот, инспектор спросил, что делал мистер Годфри с самого утра. Он ответил, что после завтрака заперся у себя в комнате и читал отчеты о раскопках Хупера в Уэверли. Никого не видел, в окно не смотрел и вышел, только когда услышал какой-то шум снизу. Спустился и застал тебя, Энни и викария вокруг тела Эмилии. Никаких предположений о том, что могло произойти, у него нет. Он знал, что Эмилия собирается устроить небольшую выставку своих живописных работ, и относился к этому спокойно, но не спускался туда, чтобы никому не мешать. Собственно, вот и все, разве что напоследок он еще... Добрый день, мистер Годфри.
— Я бы это так не назвал. — отозвался мистер Годфри, выходя из дома в галерею.
— Да, конечно. Положительно не знаешь, куда деваться.
— Все валится из рук, — прибавила Джейн.
— Сейчас хорошо было бы прогуляться. — продолжал Роджер. — Интересно, мы еще понадобимся тут или можно отлучиться? Куда-нибудь в уединенные места, благоприятствующие тяжелым думам; близ курганов, где ветер колышет вереск.
— В Бэкинфорде нет курганов. — сказал мистер Годфри.
— Как так? — озадаченно произнес Роджер. — Я. конечно, не могу похвалиться осведомленностью, подобной вашей, но мне казалось, что в научной литературе этот вопрос прояснен с полнотой, не допускающей сомнений, и. в частности. Ламбертон привел достаточно оснований считать, что тот холм, с которого три года назад упал мистер Барнс, представляет собой курган, относящийся ко временам короля Пенды, а...
— Репутация мистера Ламбертона. — желчно сказал мистер Годфри, — такова, что единственный для него способ доказать, что в Бэкинфорде есть курганы, это начать утверждать, что их там нет. По эту сторону Темзы не существует кургана, способного выстоять против репутации мистера Ламбертона. Если бы вы. мистер Хоуден, были курганом и хотели обеспечить себе покойную будущность, первое, что вам следовало бы сделать, — это укрыться от мистера Ламбертона и его суждений, иначе я бы не дал за вашу судьбу и яичной скорлупы. В Бэкинфорде нет курганов, это ясно всякому, кто мало-мальски знаком с состоянием вопроса.
— Очень жаль, — сказал Роджер. — Конечно, я постараюсь скрыть это от мистера Барнса, но все открывается в свое время. Думаю, он будет расстроен. Ему так нравится считать, что он падал не с чего-нибудь, а с кургана короля Пенды. который хоть и был человеком суровым и с крайней жестокостью нападал на христиан, однако... Честно сказать, я не помню, какие доводы мистер Барнс приводит в пользу короля Пенды.
— Наверняка самые веские, — сказал мистер Годфри. — Нельзя же упасть на простом месте. «Тут должно что- то таиться», как выражается миссис Хислоп.
— Она так выражается?
— Она так сказала инспектору, — пояснил мистер Годфри. — Они беседовали в коридоре, вследствие чего я имел удовольствие слышать их разговор, не отягощая своей совести уловками, столь же предсказуемыми, сколь и предосудительными.
— Надо же. как интересно, — сказала Джейн.
— До половины второго, — продолжил мистер Годфри, — то есть во все то время, что интересует инспектора, ее здесь не было, что и делает ее самым осведомленным свидетелем. Историкам обычно достаются именно такие.
— Куда это она подевалась?
— Это я знаю. — сказала Джейн. — Миссис Хислоп решила приготовить яблочный кекс с корицей, и тут оказалось, что корицы в доме нет. Эмилия сказала, что без этого можно обойтись и что не стоит придавать чрезмерное значение, однако миссис Хислоп лучше знала, чему придавать значение, а чему нет. Она сказала, что Эмилия слишком молода и не может знать всего; что она сама, миссис Хислоп, слышала об одном художнике, не здесь, а за границей, который примешивал в свои краски немного корицы и толченого базилика, держа это от всех в секрете, а когда настал праздничный день и все художники разом сдернули покрывала со своих картин — такие уж праздники там, за границей, — то все, кто там был. сразу потянулись к картине этого художника и больше не отходили от нее, восклицая, как прекрасна и душиста эта картина и что никто и никогда ещё не заставлял римскую армию в Африке так замечательно пахнуть, и он сразу выиграл все премии, какие там давались, и заключил контракт на святое собеседование с сельдереем; и что его чтили всю жизнь, а после смерти назвали его именем патентованное средство от домашних муравьев, и потому его слава продлится вечно, ибо муравьи никогда не кончатся...
— Кажется, это соображение не в пользу патентованного средства, — заметил Роджер.
— Не мешай... И что она сама видела его картину, у миссис Мур на стене в общем зале, и, хотя цвета уже не те, все равно видно, что рисовал человек понимающий: двое мужчин в меховых шапках беседуют на открытом воздухе, а у них за спиной развалины, все в плюще...
— Приют мышей летучих. — сказал Роджер.
—...и ещё там бархатная занавесь, большая книга, открытая на середине, орех и разрезанный лимон с толстой кожурой, какие хороши для имбирного мармелада... О. мистер Годфри! Скажите, вам нигде не попадалась розетка с вареньем из айвы?
— Нет, — сказал антикварий. — но если бы я хотел ее встретить, то начал бы с наиболее вероятных мест. Прежде всего кухня...
— Нет, я не это имела в виду... Я шла по дому с розеткой, в какой-то момент поставила ее и теперь не могу вспомнить, где.
— Ах. вот что. — сказал мистер Годфри. — В таком случае вам стоило бы вспомнить в подробностях, какой дорогой вы шли по дому.
— Гулять среди воспоминаний, — многозначительно сказал Роджер. — Но не погружаться в них. потому что это дело гибельное, а только найти варенье и сразу вернуться.
— Мне кажется, я была везде, — призналась Джейн, на лице которой читались тщетные попытки пройти по дому без розетки.
— В таком случае посмотрите на веши с другой стороны, — предложил мистер Годфри, которого это явно забавляло. — Взгляните на все хозяйским глазом. Вспомните поверхности, на которых вы могли поместить розетку без вреда для обеих участвующих сторон.
— Джейн. — предостерегающе сказал Роджер, — пока ты не начала всерьез вспоминать поверхности, расскажи.
заклинаю, чем там кончилось дело с миссис Хислоп и пахучими картинами, потому что негоже бросать то, что хорошо начато.
— Ну да. — сказала Джейн. — О чем я?.. Орех и лимон. Так вот, если Эмилия хочет быть на месте этого художника, а не всех остальных, что стояли там словно потерянные, у своих картин, она должна довериться ей в этом, как и во всем другом. Кончила миссис Хислоп тем, что сходит за корицей сама, потому что знает, где в Бэкинфорде надо ее покупать, и потому что по дороге ей наверняка придет в голову что-то ещё, без чего нельзя обойтись. Так вот и вышло, что она отсутствовала все это время и вернулась, только когда...
— Да, именно это она и рассказывала инспектору. — сказал мистер Годфри. — С прибавлением своих соображений, их у нее много. Она считает, что если происходит что-то дурное, в нем непременно замешана Энни, и пытается внушить свое убеждение инспектору. Средства, которыми она этого добивается, отдают готической словесностью. Хотя там и не дошло до порочных монахов, я уверен, они возникнут, если инспектору заблагорассудится возобновить эту беседу. Впрочем, вы правы, мистер Хоуден, сейчас хорошо бы прогуляться.
— В саду вы можете составить общество мисс Робертсон, — предупредил Роджер. — Она бродит где-то там, по пещерам и боскетам.
— Тогда я. пожалуй, пойду в курганы. — сообщил мистер Годфри. — Где вереск колеблется на ветру. Если что- то понадобится, вы знаете, где меня найти.
II он вышел в сад.
— Если не считать базилика и муравьев, не могу сказать, что узнал что-то новое, — промолвил Роджер. — Кстати, а о чем вы беседовали с инспектором? Он ведь с тобой говорил?
— Да, мы с ним разговаривали здесь, в галерее. — начала Джейн. — Я сказала ему, что я племянница покойного сэра Джона, что он всегда звал меня в Эннингли-Холл погостить и всегда был со мной добр, и тетя Хелен тоже; думаю, они скучали, потому что Генри вечно пропадает где-то. После их смерти я иногда приезжаю сюда, потому что люблю это место. Генри не отказывает мне в гостеприимстве. Потом инспектор спросил про Эмилию; я сказала, что она из Бэкинфорда и прожила там всю жизнь, что она осталась сиротой, когда ей было десять, и жила у тетки, а сэр Джон, знавший ее отца, поддерживал ее и любил, как родную дочь, так что она больше времени проводила здесь, чем дома; что года полтора назад она всерьез увлеклась живописью и наконец на этой неделе решила показать кое-что из своих работ друзьям и знакомым. Мы помогали ей все устроить; она очень волновалась, и от этого ей приходили неожиданные мысли. Она решила, что галерею надо украсить чем-нибудь уместным и что уместное наверняка есть вон в том чулане. Сколько я себя помню, я никогда не видела его открытым. Может быть, он вообще не открывается. Но ей хотелось там покопаться, и я обещала ей привести кого-нибудь, кто поможет нам отодвинуть шкаф. И я ушла.
— И нашла кого-нибудь? — Роджер оглянутся на шкаф. — Похоже, нет.
— Честно сказать, я не искала. Я вышла в сад. чтобы немного побыть одной, потому что поддерживать Эмилию, когда она места себе не находила от волнения, было изнурительно. Ты не представляешь, как мне теперь стыдно.
— А что потом?
— Я прогулялась по саду — минут пятнадцать, наверное, — и уже шла назад, как услышала вопли Энни и поспешила к дому. Эмилия лежала на полу, а над ней стоял на коленях викарий.
— Ты видела кого-нибудь в саду?
— Нет, только слышала, как Эдвардс щелкает ножницами и лает Файдо. Так вот, я рассказывала все это инспектору, а он подошел к столику и стал рассматривать безделушки, которыми тот уставлен, а потом негромко сказал: «Благослови Господь здешних горничных» и попросил меня подойти. Я подошла, а он приподнял вон ту дагомейскую богиню из черного дерева... на столе, разумеется, была пыль, так что мне стало стыдно, что мы принимаем людей, а у нас мебель в таком виде... и спросил, замечаю ли я. Я не замечала, и тогда он показал, в чем дело. На том месте, где стояла богиня, был отпечаток квадратной подставки, а у богини она круглая. То есть, понимаешь, кто-то переставил их, чтобы скрыть этот след!.. Ну и он, конечно, спросил, не помню ли я, что тут стояло. Это очень глупо. Ведь я видела этот столик с этими статуэтками много лет. они были тут всегда, так что, конечно, я не помню. Тогда инспектор перепробовал все, что там стоит, но ни одна статуэтка не подходила к этому отпечатку. Он кивнул, отошел от стола и спросил меня о попугае. Кстати, а как ты сам с ним поговорил?
— Наилучшим образом. Я сказал, что принят здесь как друг семьи, — сообщил Роджер не без самодовольства. — и что сэр Джон, несмотря на разницу в возрасте, находил удовольствие в моем обществе. Это значит то же, что «смышленый не по летам», но звучит лучше. Когда мне хочется оставить городскую суету, я приезжаю сюда и неизменно нахожу приветливость и свежие простыни. Я знаю, что с мисс Робертсон мое сердце откроется для впечатлений искренности и простосердечия, мистер Годфри отворит передо мной свою сокровищницу ученых сведений, а Генри, если в этот момент не будет ночевать в джунглях, выдергивая из себя отравленные стрелы, чтобы наломать их и развести костер, расскажет мне, как встреченный муравьед заставил его многое пересмотреть во взглядах на мир и самого себя.
— Ты невыносим.
— Да, а поскольку здесь мне этого обычно не говорят, у меня есть еще одна причина наведываться сюда чаще. Так вот, в этот раз я приехал, потому что меня позвали посмотреть на выставку Эмилии. В этом доме умеют ценить мнение человека, разбирающегося в живописи. Поэтому я, как только вернулся из Италии, сел на поезд до Бэкинфорда и...
— Как удачно, что вы здесь, — сказал инспектор, выходя из дома. — Мистер Хоуден. вы позволите отвлечь вас на минуту? Мне хотелось бы кое-что уточнить. Вы говорите, что приехали поездом...
— Двенадцать двадцать шесть. Это прекрасный поезд, им ездят преимущественно сельские священники и люди, только что получившие на сельскохозяйственной выставке приз за лучшую карликовую фасоль или твердо рассчитывающие получить. Поучительное соседство честолюбия со смирением. Не так давно я...
— И по приезде пошли пешком. — продолжил инспектор.
— Я хотел взять у миссис Мур велосипед, — пояснил Роджер, — у них в «Спящем пилигриме» есть два или три: но потом решил, что в такую прекрасную погоду лучше пройтись пешком. Поэтому я свернул к реке и прошел немного вдоль берега. Там замечательно.
— И в Бэкинфорде вас никто не видел.
— Боюсь, что никто. — сознался Роджер с доброжелательной улыбкой.
— И вы появились здесь...
— Когда здесь уже был доктор Уизерс и все эти люди, которые...
— От станции сюда ходу не меньше получаса, — вмешалась Джейн, слушавшая этот диалог с некоторой тревогой. — Быстрой ходьбы.
— Спасибо, мисс Праути. Значит, в предполагаемый момент смерти мисс Меррей вы еще не могли здесь оказаться.
— Видимо, так, — согласился Роджер.
— Мистер Хоуден. — сказал инспектор, — вас. я полагаю, не очень удивит, если я скажу, что поезд двенадцать двадцать шесть по пятницам не ходит.
— Вы посмотрели расписание, — задумчиво сказал Роджер.
— Оно лежит у телефона. — сказал инспектор. — Горничная может вас проводить. Из него выясняется, что вы приехали сюда не позднее одиннадцати десяти.
— Да, — сказал Роджер.
— Могу ли я узнать, чем вы заняли эти полтора часа?
Роджер пожал плечами.
— Я пошел на реку, — сказал он.
— И что вы там делали?
— Сел на берегу и сидел. Мне не хотелось никуда торопиться. Там очень хорошо, — сообщил Роджер с подкупающей задушевностью.
— И никто не может засвидетельствовать, что вы были там все это время?
— К полудню. — сказал Роджер. — рыбаков уже нет. В провинции люди ходят на рыбалку за рыбой, а не за
родством с природой. Впрочем, погодите.
— Ты кого-то видел? — быстро спросила Джейн.
— Да! — воскликнул Роджер, просияв улыбкой. — По тому берегу проскакал на добрых вороных конях отряд рыцарей с развернутым стягом, они пустили коней карьером, но я хорошо разглядел их между ветлами. На золотом фоне — красный дракон rampant, повернутый вправо. Это были люди сэра Бартоломью Редверса. или пусть лопнут мои глаза и я никогда больше не буду писать в «Ежемесячное развлечение». Дело было около двенадцати, пел жаворонок, и солнце пекло мне затылок.
— Мистер Хоуден, — сухо сказал инспектор, — я просил бы вас проявить больше серьезности, если можно.
Роджер изумленно посмотрел на него.
— Да, вы правы, — сказал он наконец. — Я не сообразил. Знамя с бордюром, конечно, — это же херефордширская ветвь.
Инспектор откашлялся.
— Есть ли у вас, — начал он. — я в этом сомневаюсь, но не могу исключить такой возможности, вы понимаете, — так вот. есть ли у вас предположения, куда могли направляться люди сэра Бартоломью Редверса в своих прекрасных латах в час, когда рыбаки уходят домой, а солнце печет голову? На случай, если бы мне захотелось с ними поговорить.
— Конечно, есть. — сказал Роджер. — Они спешили к «Спящему пилигриму», чтобы занять все номера, какие еще остались, с завтраками в обшей зале. Боюсь, они припозднились и там уже негде приткнуться. Придется им опять разбивать шатры на общественном выгоне. Овцы будут нервничать.
— Ой, вы же не знаете. — сказала Джейн. — Сейчас такое время. Если бы вы приехали на недельку раньше... Господи, что я несу... С завтрашнего дня тут начнется...
— Праздник, — сказал Роджер.
— Праздник? — переспросил инспектор.
— Знаменитая битва при Бэкинфорде, — сказала Джейн. — У нас она каждый год. Ближайшие три дня тут будет нелегко.
— Вот как. битва при Бэкинфорде. И в котором часу вы видели этих людей, э-э...
— Сэра Бартоломью Редверса. — подсказал Роджер.
— Именно. Так когда?
— Кажется, без четверти двенадцать.
— Значит, — подытожил инспектор. — даже если они подтвердят, что видели вас на берегу, у вас были все возможности оказаться здесь к моменту происшествия. Спасибо, это все, что меня интересовало. Не видели ли вы мисс Робертсон? Мне хотелось кое-что у нее уточнить.
— Она в саду, — сказала Джейн.
— Спасибо, мисс Праути.
— Какой вежливый человек. — сказал Роджер, провожая его взглядом. — Интересно, чем его можно вывести из себя.
— Я бы очень просила тебя не пробовать, — сказала Джейн. — Зачем ты ему соврал?
— Этого не планируешь, — отозвался Роджер. — штука в том, что обычно все происходит само собой. Я ехал в поезде с одним джентльменом, и мы немного повздорили из-за его оригинальности. Ему не нравились мои восторги насчет итальянского искусства. «Вы словно хотите всучить мне его подороже», — так он сказал. Как я понял, его раздражало, что, о чем ни заходила речь, я находил, что в сходной ситуации уже бывал кто-либо из итальянских художников. Я пытался быть вежливым, но, когда представляешь нагую истину, это трудно. Он принялся рассказывать длинную историю из своей жизни, уверенный, что уж это-то вне всякого сравнения; кажется, кое-что он присочинил, но тут у меня нет доказательств. Когда он уже дал надлежащую развязку всем сюжетным линиям, наказал порок и готовился наградить добродетель, а в его лице читалось торжество, я кротко объяснил ему, что все это происходило с одним выдающимся художником и двумя второстепенными, и дал прочесть мои выписки по этому поводу, чтобы у него не оставалось сомнений. Неудивительно, что он невзлюбил мою записную книжку, как будто она чем-то виновата. Потом он залил ее красным вином — «Пантеллерийский изюм», кажется, оно называлось, и он уверял, что это вышло из-за качки в поезде, — да, он толкнул и вылил на нее весь этот «жидкий янтарь с ярким ароматом сухофруктов», как пишут в рекламных буклетах, который «так хорошо идет с голубыми сырами, чья благородная плесень» и так далее. Я. конечно, сразу подскочил и попытался спасти ее, но этот проклятый янтарь с плесенью на удивление въедлив, и большую часть того, что там написано, теперь не прочтешь. Даже не знаю, что я буду делать. Без нее я ни одной истории не помню до конца.
— Роджер, мне очень жаль. — сказала Джейн. — Это ужасно.
— Да, спасибо. — рассеянно ответил Роджер. — А все из-за того, что люди носятся с собой, словно с какой-то ценностью, и готовы восхвалять любую глупость, лишь бы им довелось играть в ней заметную роль. Один знаменитый итальянский живописец — тот самый, у которого полон дом был барсуков, соек, черепах и карликовых кур. так что он жил среди них. словно Ной, который собрал всех и никуда не едет, — так вот. когда он расписывал монастырь бенедиктинцев, ему подарили почти новую накидку, желтую с черной тесьмой, в то время как он писал историю о пяти хлебах и двух рыбах, и он поставил зеркало и написал себя в этой накидке среди тех, кто ест хлеб, и еще раз в очереди за рыбой, да еще и кого-то из своих барсуков туда примостил, а бенедиктинцы решили, что он состязается с Господом нашим, умножая вещи которым вполне хватило бы их природного числа; от этого произошли всякие неприятности. Простодушие не всегда похвально.
— Именно так. я совершенно в этом уверена. — произнесла мисс Робертсон, входя из сада.
Инспектор шел за нею. Она остановилась возле картин Эмилии, все еще стоявших у стены.
— Это ее последняя работа. — сказала она с печальным и плавным движением руки. — Она писала ее здесь дня три назад. Сколько было надежд, сколько радости от труда. Можно мне взять ее? — обратилась она ко всем присутствующим. — Мне хотелось бы. чтобы что-то в моей комнате...
— Ну конечно, — сказала Дженн. — Конечно, берите.
— Позвольте, мисс Робертсон, я отнесу ее к вам, — сказал инспектор.
— Спасибо, вы так добры. Видите, вот этот столик. Как удачно изображены тени, правда?.. Ей удавались тени.
— Инспектор, — в отчаянии сказала Джейн, — если где-нибудь в доме вам попадется розетка с айвовым вареньем... в общем, берите смело, оно ваше.
— Значит, аспидное масло, — сказал инспектор. — Хорошо. Начнем с этого. — Он взял со столика дагомейскую богиню и повертел ее в пальцах. — Из окна у нее виден сад, слева — дорога из Бэкинфорда. Почтальона должно было быть видно. Впрочем, не важно. Справа какая-то роща, подступает довольно близко... Хорошо для прогулок, однако по ночам, наверное, неуютно. Всегда есть повод говорить о запустении. Все лучшее миновалось, рыцари ушли. И в папоротнике руины арки. — сообщил он дагомейской богине. — Что ты думаешь? Другой на твоем месте уже вовсю искал бы, что оставило этот отпечаток. Впрочем, никто из них не помнит. Разумеется. Не забудь спросить об этом викария, может быть, его наблюдательность... — Он поставил богиню на место. — Боже мой. если бы тебя слышала мама, она сказала бы: «Гектор, прекрати и немедленно сосредоточься!» На чем же? Да, на масле. Аспидное масло. Мисс Робертсон смотрит в окно. Почтальона она не видит — впрочем, Бог с ним, — зато горничная идет через сад к дому. Проходит мимо фонтана... кстати, она должна была видеть мисс Праути, если та в самом деле была там, где говорит. Однако обе они... Впрочем, с той стороны фонтана, кажется, есть скамейка. Да. несомненно, там скамейка, я ее помню. Если там сесть, то изваяние посреди фонтана тебя заслонит, и от дорожки тебя не будет видно. Надо это проверить. Изваяние там крупное, возводили в лучшие времена. Какой-то подвиг Геракла, видимо. Возможно, неканонический. Гектор, ради всего святого!.. Да. это надо будет проверить. Значит, горничная идет по дорожке. Она доходит до клумбы с маргаритками. В этот момент мисс Робертсон отворачивается от окна. Однако горничная говорит, что простилась с почтальоном и пошла прямо в дом, нигде не останавливаясь и ни с кем не разговаривая. Надо проверить, сколько времени занимает эта дорога. Минуты три-четыре неторопливой ходьбы, я думаю. Это если ей верить. Но она... неизвестно, что она. Что это за черный человек, с которым она разговаривала?.. Говорит, случайный прохожий, которому она показывала дорогу в Бэкинфорд. Откуда, однако, тут можно взяться, если не прийти из Бэкинфорда?.. Гектор, Гектор, как при такой внимательности ты смог хоть одно дело довести до конца? Говоришь, ты на хорошем счету? Что сказала бы мама?.. «Бедный мальчик, — сказала бы она, — все-таки попробуй сосредоточиться. Я уверена, ты справишься, если подумаешь хорошенько». Так бы она сказала. Ну же!.. Мисс Робертсон отворачивается от окна. Хорошо. Она не обязана стоять там весь день как пришитая только потому, что тебе нужны свидетели... Она отворачивается, но горничная проходит мимо клумб, нигде не останавливается — давайте сделаем такое допущение, иначе она никогда не дойдет до дверей — не останавливается и через минуту — да. через минуту, не больше — входит в дверь и видит мисс Меррей лежащей на полу возле этого стола. Так. Примерно в этот момент — а скорее, чуть позже — мисс Робертсон слышит в коридоре голос мистера Годфри, который вышел из своей комнаты и идет к лестнице. Его комната ближе к лестнице, чем комната мисс Робертсон, однако он произносит одну фразу достаточно громко, чтобы мисс Робертсон ее расслышала. Кроме того, она ее запомнила, что гораздо более удивительно... Гектор, в самом деле, прекрати. Это непозволительно. Так что же говорит мистер Годфри, спускаясь по лестнице, куда он вышел, по его словам, привлеченный шумом? «А есть у нас аспидное масло?» — говорит он. Да. именно. Своей настойчивостью, дорогой Гектор, ты довел мисс Робертсон до такого раздражения, что она перед престолом Божиим была готова свидетельствовать, что мистер Годфри сказал именно это. хотя поначалу стеснялась и приговаривала, что. наверное, ей послышалось. Значит, аспидное масло. Собственно говоря, что это такое?.. Не важно. Это можно посмотреть в словарях. Интересно, в «Спящем пилигриме» есть словари? Если, конечно, их не взяли почитать люди сэра Бартоломью Редверса. Здесь хорошая библиотека, но подниматься туда, пожалуй, поздновато. Не важно, проверю завтра. Лучше всего, конечно, спросить у мистера Годфри. Мама тут сказала бы: «Знаешь, милый, что в этой задаче самое занятное?» Да, знаю. Ещё бы не знать. Самое занятное — это если мистер Годфри скажет, что он ничего подобного не говорил. В самом деле, чего ждать от человека, который выходит в пустой коридор, и не почему-либо, а лишь из-за того, что внизу шумят. Что он спросит о масле, конечно. Об аспидном, каком же еще. Милый Гектор, ты немножко тугодум, надо что-то с этим делать. Представь, что ты уже спросил об этом мистера Годфри, а он уже ответил, и именно то, на что следует рассчитывать. Подумай сразу, что из этого вытекает. Прекрасный вопрос. Он не говорил этого, между тем как мисс Робертсон перед престолом Божиим излагает дело с таким вдохновением и такими подробностями, что ей все верят. «Нет, этого нельзя выдумать», — говорят все. «Кто угодно, только не она». Итак?.. Да. тут начинается самое интересное. Пойди в «Спящего пилигрима», Гектор, и спокойно подумай там. Может быть, люди сэра Бартоломью Редверса будут добры ссудить тебя разумом, если заметят, насколько ты в нем нуждаешься. К тому же у тебя там есть кровать. Да, это лучше всего. Доброй ночи, — сказал он дагомейской богине и вышел из дверей в потемневший сад.
— Это очень грустно, — сказала пастушка на картине. — Дня не прошло, а они совсем забыли об этой бедной девушке. Они говорят о чем угодно и обсуждают безделицы. Неужели от человеческого сердца ни в чем нельзя ждать верности?
— Не будем судить строго. — отвечал волк. — Обыкновенно бурность чувства бывает предвестием его скоротечности, то же. что длится дольше, видно меньше: кроме того, людям свойственно искать утешения в мелочах; оскорбительным для их горя это сочтет лишь тот, кто сам его не испытывал.
— Ты так думаешь?
— Я видел тому много примеров. — сказал волк. — Так обстоит дело не только со скорбью, но и с любовью: если бы чувства, ею вызываемые, всегда разражались подобно грозе, а не томили сердца в тишине, г-ну де Корвилю не пришлось бы страдать от яда. коим Купидон смочил свою стрелу, а г-ну де Бривуа — истощать свое остроумие, дабы помочь другу.
— Я не знаю этой истории. — сказала пастушка. — Что между ними произошло?
— Ты. я думаю, знаешь г-на де Корвиля, — начал волк. — Он любил навешать г-на Клотара. нашего хозяина. Г-н де Корвиль был человек образованный и отменно приятный в беседе. Однажды он полушутя признался одной даме в любви; она отвечала с неожиданной серьезностью. Г-н де Корвиль пожал плечами и перевел разговор на погоду и славу нашего оружия. Через день, посреди оживленной беседы с двумя парламентскими советниками, он вдруг умолк, вообразив, как дама, отклонившая его представления, улыбается остроте, которую он не докончил; через два дня эта дама была единственное, что виделось ему, когда он закрывал глаза; через три дня он мог для этого и не закрывать глаз. Г-н де Корвиль понял, какого рода веши постигли его неосторожность там. где он рассчитывал на легкое счастье. Сперва он не хотел признаться себе в этом, придерживаясь того распространенного, хотя ложного убеждения, что любовные дела серьезны ровно настолько, насколько мы готовы их таковыми признать, и щеголял перед собою своим равнодушием, не желая быть смешным. Это было ошибкою, ибо, тратя время на этот триумф тщеславия, он запустил болезнь, которая не излечивается сама собой. Поняв это. он впал в уныние. Он сделался рассеянным, насвистывал мотивы из непонятно чего и невпопад отвечал удивленному собеседнику. Пришед к г-ну Клотару, он стал у окна и читал нараспев Горация, коего знал довольно много. «Я знаю, чем это кончится. — вполголоса заметил г-н Клотар. — Едва он доберется до стиха ”И сельскую листву струит тебе дубрава”, как ему захочется уехать в свою деревню». Г-н де Корвиль произнес: «И сельскую листву струит тебе дубрава» и прибавил, что подумывает съездить к себе в поместье. «Дорогой Корвиль. — сказал Клотар, — этот стих означает, что на Фавна сыплются листья с деревьев, а вовсе не то, что вам надобно уезжать куда-то, где вас никто не ждет, оставляя общество тех, кто вас любит». — «Дорогой Клотар, — отвечал Корвиль с печальной улыбкою, — этот стих означает, что иногда надобно вспоминать и о том уголке земли, который нам дали небеса, и проведывать, ещё ли сей дар остается нашим». Он выслал вперед слугу с приказами, сам двинулся за ним и уже через неделю мог сердиться, не видя ни одно из своих распоряжений выполненным. Это заняло его на день; но потом он обнаружил, что любовная забота, примостившись на запятках его кареты, приехала с ним вместе туда, где он почитал себя от нее свободным. Тогда он вспомнил все, что знал из учебников по любовному делу, и вышел на поприще со спокойной радостью бойца, надеющегося на свои силы.
Он сделал придирчивый смотр своим средствам и отобрал из них лучшие. Он намерился презирать то, что обычно восхищает людей, жить одиноко, умеренно и мирно, а приобретенную опытность потратить на сочинение любовного комментария к «Энеиде». План блаженства, им составленный, — уединенный дом. роща, прозрачный ручей, избранное чтение — был так хорош, что причины, вызвавшие его к жизни, казались его недостойными. Г-н де Корвиль был полон уверенности. Он решил, что долгие прогулки вернут ему спокойствие. Это обыкновение погубило Филлиду, но г-н де Корвиль о том не вспомнил. Он вставал спозаранку и. захватив томик Горация, пустынными лугами шел в рощу. Дубы высились равнодушные к его печалям, птицы пересвистывались меж ветвей, издалека долетала ленивая ругань свинопасов. Г-н де Корвиль закрывал глаза, и перед ними длинной вереницей выходили все те обстоятельства, слова и мысли, от которых он думал бежать.
Довольно быстро он успел испробовать и отвергнуть все способы, кои казались ему и обильными, и действенными. В отличие от Овидия, советовавшего посетить войну, чтобы справиться с любовью, г-н де Корвиль на войне бывал и хорошо знал, что она оставляет гораздо больше места для праздных мыслей, чем принято считать, и что воспоминания, сумевшие добраться до нас в таких обстоятельствах, обыкновенно обладают такой же неотразимой притягательностью, как скудный репертуар маркитантской повозки. К тому же он был тяжел на подъем и. сменив город на деревню, надолго истощил свою потребность в передвижениях. Пытаясь заниматься хозяйством, он казался себе еще более смешон, чем в своих попытках выполоть из своего сердца несчастное чувство, и наконец предпочел из двух унижений то, которому не было свидетелей. Ездить на охоту он не имел вкуса, а вспоминать все дурное, что было между ним и возлюбленной, и искать в ней недостатки было почти то же, что ездить на охоту, только с неблаговидными целями и всегда впустую. Сельская жизнь открывала г-ну де Корвилю много возможностей для беспутства при дневном свете; из добросовестности он попробовал и это. однако вынужден был оставить, наскучив однообразием положений и той смесью сожаления и брезгливости, какую неизменно оставляли за собою эти занятия. Как-то он наткнулся на коллекцию медалей, частию оставленную ему отцом, частик» собранную им самим, и приветствовал в ней новый путь к спасению, не предусмотренный учебниками; ему пришлось быстро разочароваться. Вместе с медалями г-н де Корвиль обнаружил бумаги, в которых кто-то записывал мысли, приходившие в голову за рассматриваньем этого собрания. Он читал их, поражаясь решимости, с какою в них высказывались суждения самые избитые, покамест в их почерке не узнал свой собственный. Что до самих медалей, то изображенные на них аллегории, принужденная значительность их поз, лавры на главах, дубовые и миртовые листки меж перстами, их перевернутые факелы, нахохленные грифы и полные горсти гвоздей, львы и сирены под их стопами, их зеркала и личины, волчки и песочные часы, языки на их ризах и глаза на ладонях, самое выражение их немыслимых лиц. вместо того чтоб развлечь его. напоминало ему участие в похоронах или отводном карауле, где нельзя ни на волос отступать от торжественных условностей, не подвергая опасности свою жизнь шли репутацию.
— Что все это значит? — спросила пастушка.
— С миртовой ветвью, — отвечал волк. — изображается Венера: это ведь ее дерево, ей любезное, и она появляется с ним. как Удовольствие — с сиреной. Уныние — с той рыбой, что зовется Торпедо, шли Скатом, а Беспокойство — с бумажным волчком в руке, каким тешатся малые ребята. Песочные часы держит укрощенный Купидон, а с перевернутым факелом летят Утренние сумерки, неся в другой руке опрокинутую урну с водою. С гвоздями и молотком изображают Необходимость, ибо такова она у лучших поэтов, а с грифом, примостившимся на ее руке, выходит божественная Природа, какою мы видим ее на римских медалях.
— Удивительно, — сказала пастушка. — Должно быть, человек, сведущий в этой науке, пользуется общим уважением.
— Вне всякого сомнения. — сказал волк. — Однако я продолжаю. Поневоле г-н де Корвиль искал развлечения в людях. Близ его угодий был старинный монастырь: г-н де Корвиль отправлялся туда. Быки на полях смотрели на него, положив рогатую морду на жерди загородок. Знакомые монахи встречали его поклонами. Садовая калитка отворялась перед ним; он шагал по дорожке, расчерченной правильными тенями подстриженного самшита. Горький аромат плавал в воздухе. Монастырские пчелы сосредоточенно вились над цветами, давая пример благонамеренному читателю. Вдалеке виднелся флигель, построенный из розового кирпича; на его балконе настоятель недвижно смотрел в сторону прудов, где монахи вытягивали на мокрый берег вершу с толстыми карпами. Среди тех, с кем г-н де Корвиль любил беседовать, был некий брат Жак. Настоятель поставил его библиотекарем, как иные составляют мнения о вещах, чтобы больше к ним не возвращаться. Скудное образование позволяло брату Жаку понимать свое невежество, не давая средств его исправить. Г-н де Корвиль однажды застал его за чтением какой-то бумаги, которую тот при его появлении пытался спрятать. Г-н де Корвиль вынудил ее показать. Это было письмо прошлого века, писанное тогдашним аббатом к одному из придворных в Фонтенбло. Аббат описывал края, в которых располагается его обитель, и благоденствие, которым наслаждаются местные жители благодаря рачительности предков г-на де Корвиля. Письмо было пространно, основательно и слово в слово взято из «Поэтических описаний» Гандуччи. Читая о солнечных полях и дубравной сени, о влажных крыльях Зефира и благосклонном взоре Помоны, о бодрых быках и тяжелом вымени коз, о доблести, чести и учтивости, г-н Корвиль ощутил то особенное возбуждение, какое бывает при виде торной дороги у человека, давно на нее не ступавшего. Он выпросил эту бумагу у брата Жака, щедро за нее заплатив, и унес с собою.
Это ободрило брата Жака, ибо он вложил в сочинение этого письма много сил и рассчитывал сбыть его выгодно, но не имел духа приступить к делу; появление г-на де Корвиля счастливо решило его затруднения. Конечно, он неверно истолковал побуждения г-на де Корвиля, думая, что им руководило лишь удовольствие видеть славу своей крови; впрочем, сам г-н де Корвиль понимал свои побуждения немногим лучше и. сидя с письмом на скамье в тени сада, занимался не столько своей покупкой, сколько причинами, заставившими ее совершить. Привыкший вглядываться в себя не без тревоги — так путник, забредший в Венерину рощу, стоит над водой, не зная, какой из двух ручьев бежит перед ним, сладкий или горький, — он применил выработанную поневоле внимательность к новому делу, однако кончил тем, что пожал плечами и вернулся к перечитыванию монастырского письма.
Между тем брат Жак простер руки на свершение новых подвигов. У него было два десятка листов, без милости выдранных из старых книг, и он намеревался заполнить их вещами, за которые г-н де Корвиль готов будет заплатить. Широкое поле древнего дееписания лежало перед ним. и, подобно фессалийской ведьме, он готовился уволочь в свою пещеру первого же мертвеца, остановившего его внимание, чтобы заставить его говорить мертвым языком о вещах, которых нельзя проверить. Следовало, однако, объяснить г-ну де Корвилю происхождение того фонтана писем, которому в ближайшее время предстояло забить в его келье, а равно склонность Цезаря, Помпея и Клеопатры изъясняться по-французски: своей латыни брат Жак остерегался больше, чем родной речи, ибо, как многие люди, полагал, что злоупотреблять каким-либо языком с младенчества значит владеть им в совершенстве. Эта выдумка была несложной. Он сочинил некоего настоятеля, жившего лет полтораста тому назад и имевшего доступ к несравненному собранию древних документов, из коих иные, по их ценности, он перевел для себя (брат Жак хотел вспомнить двух-трех авторов, отнятых у нас временем, однако ни в одном из них не был уверен, точно ли его нет вообще или только в доверенной ему библиотеке). Сие собрание, ныне пропавшее, было подобно любой рыбе, сорвавшейся с крючка, то есть очень большое, а ученость и ревность настоятеля сделали то, что весьма многие бумаги, одевшись в галльское платье, избежали гибели во вместительном ларце, долгое время никем не замечаемом и наконец открытом благодаря любопытству брата Жака. У него был сундук с побитыми углами и охряными Купидонами, грузно скачущими на крышке, который брат Жак думал выдать за ларец настоятеля в случае, если г-н де Корвиль потребует с ним свидания. Обезопасив таким образом свой промысел, брат Жак начал с письма, которое делало честь его проницательности и могло бы делать честь его патриотизму, не будь оно внушено сребролюбием, одинаковым во всех углах земли. Из священной истории он выудил Архелая, достойного сына Ирода, и счел его изгнание чрезвычайно удачным обстоятельством, способным привлечь интерес г-на де Корвиля. Август, рассерженный ябедами иудеев, сослал Архелая во Вьен: но брат Жак там не бывал, а потому решил, прежде чем кости Архелая упокоятся на тихих берегах Жера, дать им проехаться по тем краям, где Бог благословил основаться его обители и воздвиг родовые башни г-на де Корвиля. Это было не совсем по дороге, но у Архелая могли быть свои причины так ездить, а брат Жак во всяком случае был избавлен от нужды платить за него прогоны. В вечерний час ссыльный король ступил из кареты на разбитую глину постоялого двора. Туман тянулся от реки, тонко кричал встревоженный петух, сонные сеноны несли на стол холодную телятину. II книги, и собственный мирской опыт научили брата Жака, что заведения такого рода по природе своей связаны с мыслями о мимолетности всех людских забав, и он поделился своим знанием с воскрешенным его суетностью изгнанником. Покамест Архелай, после обычной суеты въезда наконец оставшись один, вспоминал о простынях, переложенных лавандой, а за окном ночные птицы, названия которых он не знал, заводили свои песни, которые его не волновали, брат Жак снедался сомнением, можно ли украсить этот вертеп, наскоро выстроенный его пером, какой-нибудь строкой Овидия или это будет анахронизм, который своей грубостью выведет г-на Корвиля из заблуждения и положит конец всем его авторским замыслам. Он уложил Архелая спать, а во сне привел к нему из неистощимой поэтической бездны чувство, которого тот не мог предвидеть и которому не имел средств воспротивиться. Архелай ещё не знал об этом, но, в то время как одна властная рука бросила его в края, о самом бытии которых у него до сих пор не было ни повода, ни охоты справиться, другая рука, всюду приводящая с собою рой орфографических новшеств, заставила его полюбить эти края, хотя гордость и тоска не дали бы ему в этом признаться. Он встал поутру и поехал дальше. Тонкий розовый свет лежал на воде, черные двери кареты отражались меж камышей, дым из труб всходил над деревьями. Г-н де Корвиль прочел все это и. сгорая от стыда, сказал, что изгнанник наверняка находил утешение в переписке с родиной и что он не удивится, если вслед за этим письмом обнаружатся и другие. Тут только брат Жак понял, в какую ловушку сам себя загнал. Его образованности и осторожности едва достало на одно письмо, и, дописав его последнюю строчку, он был изнурен и разбит не лучше самого Архелая, когда перед ним после тряской дороги впервые открылись башни св. Маврикия. Небо дало брату Жаку достаточно смирения, чтобы понимать, надолго ли хватит сил его бесстыдству, а между тем г-н де Корвиль недвусмысленно требовал продолжить переписку и не принял бы отказа, обставленного самыми вескими извинениями.
Тогда ему пришла счастливая мысль. Он вспомнил сцену, произошедшую между ним и г-ном де Корвилем, и решился разыграть ее в другой раз. Г-н де Бривуа, чьи земли тоже были по соседству, иной раз, подобно г-ну де Корвилю. искал развлечений в монастыре. Брат Жак его забавлял. Г-н де Бривуа вошел к нему в келью, застал его неловко загораживающим исписанный лист и заставил объясниться. Брат Жак рассказал ему историю своих отношений с г-ном де Корвилем, без важных пропусков, но несколько облагородив свои побуждения, и кончил описанием затруднений, к которым его привело авторское тщеславие. Г-н де Бривуа расхохотался и обещал ему помочь. Он прочел его послания и сильно порицал оные.
— Друг мой, — говорил г-н де Бривуа, — не знаю, какое образование тебя этому научило, но так нельзя. Ты удивительно беспечен. В нашем веке даже писатели себя так не ведут. Если ты покажешь публике сначала одну руку своего героя, потом другую, потом ногу и голову, не заботясь о том, как они соединяются, а когда надо будет вывести его на люди целиком, у тебя получится лишь мешок с требухой, которую впору отдать собакам, или напоминание о временах, когда, если верить философам, всюду блуждали задницы без голов, ещё не имея себе пристанища в Академии, а рука в поисках другой руки натыкалась на глаза, бродящие без лба. Будь осторожнее, друг мой, ты не божество, чтобы быть выше обвинений; пусть люди ценят в тебе хотя бы добросовестность, если ничего другого ты им предложить не можешь.
Замечания г-на де Бривуа. вообще справедливые, стали причиной раздора в их маленькой мастерской. Брат Жак норовил наделить Архелая счастливой любовью, поскольку, как человек радушный, хотел доставить приезжему
лучшее, что нашлось в закромах; но г-н де Бривуа, приметив это побуждение, решительно загородил ему дорогу.
— Ты не можешь оправдаться тем, что пишешь по вдохновению, или ради рассеяния, или же для того, чтобы водворить разум и вкус в нашу словесность, так что подумай о единственном читателе, для которого ты стараешься. Ты знаешь, чего ему надобно? Неужели ты думаешь, он стерпит счастливого героя?.. Ты в одном шаге от того, чтобы погубить все свои будущие заработки. Ради Бога, Который привел тебя сюда и Своим долготерпением поддерживает твой промысел, — сделай своего Архелая несчастным любовником, или я откажусь иметь с тобой дело!
— Неужели г-н де Корвиль открылся кому-нибудь в своих чувствах? — спросила пастушка. — Кажется, это не в его характере.
— Конечно, нет, — отвечал волк, — он ревниво хранил свои мучения, как нечто, касающееся его одного; это ведь сокровище, о котором его владелец обыкновенно думает, что оно уменьшается от чужого взгляда.
— Выходит, г-н де Бривуа сам догадался? Должно быть, это человек большой проницательности.
— Да, он догадался. — сказал волк, — и едва ли утрудил этим свою проницательность, ибо алфавит любовного страданья, плохо ли это или хорошо, таков, что известен каждому, и слова, из него складывающиеся, понятны всем без исключения. Лишь тот. кто терпит эту тяготу, может обольщаться мыслью, что делает это невидимо для других, меж тем как люди смотрят на него, как на одинокого актера посреди сцены.
— Это очень грустно, — сказала пастушка.
— Не всегда, — сказал волк. — Так вот, г-н де Бривуа настаивал, что им следует понимать, какого рода человек пишет их письма, а если история не дает им сведений удовлетворительных или правдоподобных, надобно ее поправить. Что касается Архелая. то. не имея надобности делать из него образец добродетели, за что на нас набросились бы люди, сведущие в истории, вкупе с теми, кто думает, что разбирается в драматургии, мы должны добиться хотя бы того, чтобы он не отталкивал приличного человека при первом же знакомстве. Поэтому нам следует представлять его примерно так:
Пороки властителя, лишившись своей силы, обернулись в нем добродетелями светского человека. Жестокость того, кто распоряжался чужим имением и жизнью безотчетно, оставила после себя быструю решительность приговоров. Своенравие того, кто привык жить один, дало ему смелость противоречить принятым суждениям, неохотно меняя свои предрассудки на общие. Прошлое представлялось ему в таком блеске и пестроте людей и положений, что отвлекало от настоящего; он не имел ни малейших надежд вернуть себе утраченное, а потому никакие впечатления не выводили его из обычной рассеянности. Несравненная опытность делала его рассказы драгоценными, а легкое презрение к самому себе, порожденное склонностью уважать в людях успех, придавало ему особую любезность, какой, вероятно, отличались боги, сходившиеся за трапезой со смертными. Ученый с педантами, остроумный с дамами, важный с государственными мужами, легкий со светскими людьми, он сделал уменье нравиться из той привычки менять обличия, которую прежде считал уменьем властвовать. Так обстоят дела с Архелаем, и надо сообразоваться с этим всякий раз, когда хочешь приписать ему некое побуждение, страсть или предрассудок.
Это был весьма разумный план, если б его удалось держаться: однако из-за того, что г-н де Бривуа с его ученостью тянул в одну сторону, а брат Жак с его гостеприимством — в другую, Архелай из их рук вышел достаточно противоречивым, чтобы на иной взгляд казаться живым созданием.
Итак, разум Архелая нераздельно принадлежал г-ну де Бривуа, а все остальное — монастырскому библиотекарю, так что он походил на крепость, еще удерживаемую гарнизоном, посреди захваченного врагами города. Крепость продержалась недолго. Г-н де Бривуа был отвлечен от монастырских вдохновений неотложными надобностями. Брат Жак почувствовал себя свободным. Он опрометчиво думал, что г-н де Бривуа научил его всему что мог, и предостерег от всего, что было надобно; господство этого человека, которого он хотел всего лишь привлечь себе в помощники, его шутки и пренебрежительный тон. с которым он отвергал скромные творческие предложения брата Жака, были унизительны для последнего. Как ученик толедского некроманта, он, насилу дождавшись, когда хозяин уйдет обедать, вытянул из ларца заветную книгу, чтобы в своей невежественной смелости наполнить дом чудовищами, от которых за три квартала у людей обугливался хлеб и суп в горшке подергивался кровью. Брат Жак наскоро сочинил новое письмо Архелая. полное любовных воспоминаний, жалоб и просьб, переписал его на страницу, выдранную из молитвенника, и стал с нетерпением ждать г-на де Корвиля. Когда г-н де Бривуа разделался с делами и вспомнил о своем соавторе, было поздно: г-н де Корвиль неделю назад, не торгуясь, отдал брату Жаку сумму которою тот оценил свои дарования. Встревоженный, г-н де Бривуа потребовал от брата Жака черновиков.
— Это прекрасно, — приговаривал г-н де Бривуа между приступами хохота, от которого слезы выступали на его глазах, хлопая без всякой милости брата Жака по спине. — Архелай у тебя подписывается «Твой Тетрарх». Конечно, если предмет его страсти оказывал свою благосклонность, кроме него, ещё троим, у Архелая есть для этого все резоны... Однако запомни, друг мой: раскаиваться в грехе, едва его начав и еще не подушив от него удовольствия, — это монастырская манера; если так делать, то не за чем и начинать. В остальном, как ни странно, ты нашкодил гораздо скромнее, чем мог. однако наперед не предпринимай ничего без меня, если хочешь зарабатывать на этом.
Между тем в своем уединении г-н де Корвиль перечитывал письмо, нарушая один из важнейших запретов, налагаемых врачами на меланхолика, — оставаться надолго в обществе людей и предметов, вызывающих у него презрение. Читать это письмо, в котором естественные умолчания интимной переписки соединялись с деревянной неловкостью сочинителя, так что о важном догадаться было решительно невозможно, а всякий сор неотвязно путался под руками, было все равно что проводить время трогая незнакомые предметы в темноте. Нельзя было не стыдиться, по доброй воле загостившись среди произведений людской глупости, а между тем она обладала какой-то трогательной беспомощностью, от которой нельзя было оторваться. Часто сражавшийся в лагере Амура, не спрашивая о дальнейших целях кампании и довольствуясь лишь поденной платой, г-н де Корвиль. однако, умел ценить и удовольствия, получаемые нами от прошлого, и победы, одерживаемые над будущим, а потому хорошо понимал человека, с беспокойством глядевшего в одном из этих направлений: вспоминая, с какими обширными намерениями он ехал в деревню, и видя, в какой короткий срок они превратились в ничто, он с радостью признавал в Архелае человека, способного отречься от вещей священных и важных, лишь бы удержать пустой песок между пальцами; он читал его униженіи жадными глазами, не стесняясь быть третьим при исповеди. Вечер заставал его на садовой скамье; за его спиною чей-то мраморный жест белел в ветвях бузины.
Между тем брат Жак мучился опасениями, не слишком ли новомодный жанр он выбрал и не стоило ли ему сочинить, к примеру, трактат Ганнибала о выгодах победы или речь Боэция в сенате о преимуществах созерцательной жизни. Г-н де Бривуа рассеял его тревоги.
— Наши знания о древности. — сказал он, — сколь бы отрывочными и неудовлетворительными ни были, за всем тем позволяют с уверенностью утверждать, что люди тогда, как и ныне, предавались страсти описывать свои дела для сведения знакомых или удивления будущих веков. Муциан, трижды консул, рассказывал, что в бытность ликийским губернатором ему довелось читать письмо Сарпедона из Трои, написанное на бумаге и сберегаемое в храме как святыня. Сарпедон отдает некоторые хозяйственные распоряжения, сообщает, что все идет хорошо, из города заблаговременно удалены люди, внушавшие подозрение, стены починены, патрули и дозоры исправны, провианта запасено на год, а сам он здоров и что ни день покрывает себя новой славой во внезапных вылазках, но выражает опасение, что его дела не будут донесены до потомков в надлежащем свете, потому что поэты теперь не то. что прежде. Так говорит Муциан, чьи слова передает Плиний: загляни, брат Жак, в тринадцатую или четырнадцатую книгу «Естественной истории», если захочешь справиться об этом. А г-н Кузен, человек редкостной учености и благоразумия, рассказывал мне о том, что вычитал в греческой хронике: при императоре Анастасии один человек получил письмо с известием о смерти архангела Михаила; позже выяснилось, что это неправда, однако многие были сильно встревожены. Г-н Кузен прибавлял к этому, что имей он столько же охоты забавляться вздором, сколько выказывает ее наша публика, он искал бы себе славы в историях такого разбора, а тоннерских святых предал попечению Божьему. Будь уверен, если что-нибудь и вызовет подозрения у г-на де Корвиля, то не само бытие твоих писем, а их чрезмерное простодушие; впрочем, позволительно человеку, на которого обрушилось столько несчастий — и потеря царства, и ссылка, и твое внимание, — немного потерять голову от всего этого.
Между тем г-н де Корвиль листал большой том с жизнеописаниями прославленных мужей, дабы сразу вслед за Господом нашим, погруженным в полутьму, из которой осторожно выступали ангелы и пастухи, найти Архелая, с насупленными бровями и в зубчатой диадеме. Г-н де Корвиль смотрел на портрет его жены, с нежным, ускользающим взором, и вспоминал то немногое, что знал о ней: как к ней пришел во сне ее покойный, юный муж, горько попрекая, что она забыла его любовь и вступила в новый брак: но он-де избавит ее от этого бесславия, так что пусть она собирается, скоро он вернет ее к себе и учинит меж ними все по-прежнему. Г-н де Корвиль представлял, как она рассказывает это кому-то в саду, положив руку на край фонтана, а ее рукав намокает и к нему с разных сторон подплывают красные и белые рыбьи спины, и как через несколько дней она умирает без видимых причин. Он вспоминал и самого Архелая, его неумолимое злопамятство, пир с друзьями, среди которого его застало императорское повеление, его дом, описанный и проданный, громоздкий ворох моральных прописей, который он повлек за собой на чужбину по милости людей, вздумавших писать о его судьбе; вспомнил он и о сне, бывшем Архелаю незадолго до изгнания. При следующей встрече с братом Жаком он отметил странность того, что Архелай избегает говорить о своем знаменитом сне, вынуждая нас почерпать сведения из сомнительных источников. Брат Жак отвечал, что если всемогущее Время, отнявшее у нас то и то. и больше того, вернуло нам письма Архелая. то можно надеяться, что оно приложит руки к тому, чтобы Архелай высказался обо всем, что нас интересует. Когда брат Жак сообщил г-ну де Бривуа, в какую сторону ветер гонит их поэтическую ладью, открылось неожиданное затруднение. Г-н де Бривуа не помнил, в чем заключался сон Архелая, столь же странный, сколь и знаменитый. Спрашивать об этом самого г-на де Корвиля было бы неуместно: ближайшим человеком в окрестностях, который мог открыть доступ к хорошей библиотеке, был епископ, но по некоторым причинам г-н де Бривуа не мог рассчитывать на его любезность: а книжное собрание, вверенное попечению брата Жака, прискорбным образом не
содержало изданий, в коих можно было бы справиться. Когда г-н де Бривуа убедился в этом, он пришел в ярость.
— Дьявол задери вашу библиотеку. — приговаривал он, — почему вы не держите у себя Иосифа Флавия? На что вы тратите деньги, досточтимые отцы? Я теряюсь в догадках. Видимо, вы рассчитываете достичь небес без помощи его назидательных сочинении; я бы счел это чрезмерной самонадеянностью, даже если б не был близко знаком с тобой, любезный брат Жак... Ба, у тебя здесь есть даже «Книга знамений» Юлия Обсеквента: скажи, неужели рассказы о каменном дожде, ночном солнце и следах, оставленных, где никто не ходил, ты находишь более полезными для души, чем книги человека, который мог встречаться с самими апостолами, если бы приложил к этому усилия?
Тот безропотно терпел раздраженные насмешки г-на де Бривуа. отвечая ему тяжелыми вздохами. Истощившись в поисках и в сарказмах, г-н де Бривуа наконец остановился и задумался. Ему пришло на память, что любой подвиг тем похвальней, чем выше предстоявшие ему преграды и обширней трудности; он взял в рассуждение, что обстоятельства пролагают ему путь к победе, и взглянул на унылого библиотекаря с прояснившимся лицом.
— Не горюй, друг мой. — промолвил он. — мы выведем из ваших монастырских ворот такой сон. что сам нечестивец, которому мы его припишем, поверил бы. что ему привиделось именно это, и посмеялся над историками, утверждающими обратное. Дай-ка мне сесть за стол и сам садись рядом.
Часа не прошло, как среди свиста, смешков и сквернословия г-н де Бривуа сочинил новое письмо. «До тебя, верно, дошли слухи о моем сновидении, — писал Архелай. — Кротость времени, в которое мы живем, и возможность для каждого безнаказанно предаваться всему, что ему нравится, привели к тому, что вокруг стало очень много людей и нет дела столь тайного, чтобы при нем не оказались один или двое; оттого людям сделались отрадою сны, ибо это такая вещь, которой нет свидетелей. Человек, рассказывающий о своих снах, ведет себя как полководец, велящий показать вражеским лазутчикам свой лагерь и отпустить их: он или слишком силен, или слишком беспечен; я же не был ни тем, ни другим, оттого возводил ложные сны. чтобы отвлечь внимание от истинных. Я говорил придворным, что был в собрании языческих богов и те с гневом извергли меня; слышавшие это делали заключение, что скоро моя судьба переменится к худшему; думаю, сейчас они находят удовольствие в том, чтобы напоминать друг другу о своей прозорливости. Я говорил, что крылатые муравьи покрывали мое тело, а некий дух из моря обращался ко мне с речью, и мои советники искали в засаленных сонниках, что значат муравьи, крылья и вещи, принесенные морем. Словом, я довольно потешился над теми, кто мне это позволял; но тебе я скажу правду Мне снилось, что я стою в темном переулке, а перед моими глазами кто-то держит весы, на одной чаше которых — твоя любовь, а на другой — все остальные блага, какими я обладал и на какие мог надеяться, и эти чаши друг друга не перевешивают. Мне было предложено выбирать, что мне дороже, за тем что впредь я не смогу владеть и тем и другим. Хотел бы я сказать, что не задумываясь указал на тебя, но я обещал не лгать. Я не знаю, что предпочел. Тщетно я пытался это вспомнить по пробуждении. И теперь происходящее со мною не дает мне уверенно судить, что тогда вышло: то ли небо справедливо наказывает меня за гордость и суетность, потянувшиеся не к тому, к чему следовало, то ли милосердно оставляет мне то. что я выбрал».
Тут брат Жак робко спросил у г-на де Бривуа, как он думает, врет Архелай или говорит правду. Г-н де Бривуа ответил ему таким хохотом, что во всем монастыре монахи оторвались от дел благочестия и крестьяне на соседних полях подняли головы. Тогда брат Жак с нежданной решимостью заявил, что он уже путается, кто он такой; что невозможно вести хозяйство на два дома; что лучше он откажется от этих денег, потому что они мало ему помогут, когда его посадят на цепь и будут кормить через решетку; что между братом Жаком, монастырским библиотекарем, и Архелаем, князем иудейским, он во всяком случае предпочитает библиотекаря, ибо если он останется братом Жаком, то насочиняет себе столько Архелаев, сколько позволит его бедный разум, а если нет, то ему предстоит терпеть изгнание хуже того, которое они описывают. «Это значит, дорогой мой, — подытожил г-н де Бривуа, — что ты ломаешь свой магический жезл, распускаешь преданных тебе сильфов, объявляешь о намерении впредь довольствоваться добродетелями частного человека — и все это из одной боязни увидеть, как твой разум уносится от тебя в карете, запряженной улитками?» Брат Жак подтвердил, что имеет в виду именно это. «В таком случае, — отвечал г-н де Бривуа, пожимая плечами, — за тобой остается последний вымысел: будь любезен сообщить г-ну де Корвилю, который, без сомнения, сейчас нетерпеливо дожидается почтового дня, что Архелай уже не будет писать ни ему, ни кому-либо другому; а если ты передумаешь — ибо я полагаю, что твоего упрямства надолго не хватит, — то не проси меня снова помочь тебе». Брат Жак так и сделал, известив г-на де Корвиля, что попущением Божьим ларец настоятеля, по ценности своего содержимого сравнимый с Ноевым ковчегом, по неистощимости — со шкатулкой Пандоры, а по своему злополучию — с троянской цитаделью, прошлою ночью был истреблен пожаром, который возник неведомо от чего и погас сам по себе, насытясь драгоценною трапезой. Г-н де Корвиль пожал плечами. Он чувствовал, что горячка от него отступает, и смотрел на окружающие вещи с удивленным вниманием, как человек, вынужденный долгое время провести в своей комнате с затворенными ставнями.
Узнав об этой истории, г-н Клотар сказал, что г-н де Бривуа в сем случае поступил крайне рискованно, вынуждая г-на де Корвиля присутствовать при печальном зрелище, в то время как медики единодушно советуют прибегать к веселым. Последствия, однако, оправдывают методу, избранную г-ном де Бривуа, ибо он умел избавить г-на де Корвиля от любовных дурачеств, убедив его в том, что они представляют собою важнейшую вещь на свете, и достиг того, чего тщетно бы добивался, донимая его прогулками верхом, занимательными беседами и супом, сваренным на цикории.
— Так все и кончилось? — спросила пастушка.
— Примерно так, — сказал волк. — Теперь ты видишь, какова бывает любовь, возросшая в уединении и питаемая в тишине, и какие приходится прилагать усилия, чтоб от нее избавиться.
— Да, теперь вижу, — сказала пастушка.



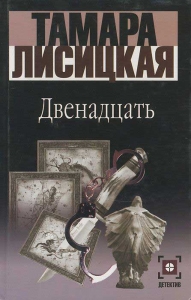



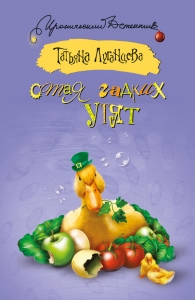





Комментарии к книге «Автопортрет с устрицей в кармане (фрагмент романа)», Роман Львович Шмараков
Всего 0 комментариев