Любовь Баринова Ева
Что б он натворил,
Будь у него такой же повод к мести,
Как у меня?
У. Шекспир. ГамлетВсе, что делается из любви,
совершается всегда
по ту сторону добра и зла.
Ф. Ницше1
Ее не должно было быть. Если мир основан на справедливости, если у мира есть Бог, ее не должно было быть. Но она — есть. Ручки, ножки, платьице в горошек, розовые сандалики. Здорова и жизнерадостна. Бежит за мячиком. Мяч величиной с кулак весело катится по пыльной дорожке, подкатывает к тяжелым ботинкам Германа. Герман останавливает добычу ногой, надавливает, крепко прижимает к земле. Красно-синий мячик почти полностью скрывается под толстой подошвой ботинка. Герман жмет сильнее, надеясь, что мяч лопнет, разлетится на рваные кусочки.
Девочка подбегает к Герману. Протягивает руки за своей игрушкой, улыбается, ждет. Лет трех. Глаза чуть припухлые, глубоко посаженные, серые, умные. Вытянутое личико. Дитя убийц. В нетерпении девочка приседает на корточки и пытается вытащить мячик из-под ботинка Германа. Дергает изо всех силенок. Если опустить ботинок на бледный паучок кисти, то суставчики хрустнут и ладошка превратится в тряпочку. Нет, это выше его сил!
Герман бросает взгляд сквозь куст сирени на мужчину и женщину, весело болтающих возле черной BMW. Ломакины и не подозревают, что если бы они первыми выбрались из машины, то уже лежали бы на земле с простреленными лбами. Но первой выскочила девчонка со своим мячиком. Герман отталкивает девочку, хватает мяч и выбегает из двора.
Пока он добирается до дома, грозовая мгла окутывает город дымчатыми сетями. Герман тянет на себя раскаленную ручку входной двери, ныряет в пекло подъезда, пропеченного за несколько жарких дней. Поднимается, прихрамывая, на пятый этаж. За окнами лестничных площадок молнии вспарывают ткань лилового неба. Грохочет хоть и далеко, но уже почти непрерывно.
— Господи, господи, страсти какие, — бормочет старуха, выбрасывая мусор в змею мусоропровода. Оглушив притихший дом грохотом ржавой крышки, она крестится и ищет сопричастности в глазах Германа. Но Герману наплевать на грозу, наплевать на старуху. Он должен быть сейчас в милиции, а Ломакины — лежать в черных пластиковых мешках. Гроза, как финальный аккорд, как одобрение свыше, тогда пришлась бы кстати. Но теперь ей стоило бы отменить свой театральный выход. Месть не удалась. Герман не предусмотрел, что Ломакины заведут ребенка.
Зажав под мышкой мячик, Герман вставляет ключ в замок, поворачивает. Квартира пуста, стерильна. Вчера, 28 мая 2003 года, он убрал все следы своей и Евиной жизни, не желая, чтобы в них копались следователи, или кого они там присылают. Что-то сжег в лесу, что-то раздал, что-то выбросил.
Старый паркет скрипит под тяжелыми ботинками. Герман проходит в комнату Евы, останавливается посередине. Он не рассчитывал, что сегодня вернется. Что вообще вернется. Мячик разъедает ладонь — новенький, еще с этикеткой, он остро и терпко пахнет детством, счастьем. Герман швыряет мяч в угол, ложится, вдавливает затылок в прогретый за день пол, чистый, как в операционной, после вчерашней уборки.
Верхушка ивы за окном приходит в движение, бьется в припадке, давится эпилептической пеной листвы, то открывая, то закрывая силуэт Останкинской телебашни. Обрушившийся в одно мгновение ливень штурмует дребезжащее оконное стекло, снова и снова стреляет дождевыми пулями, которые разбиваются насмерть о стекло и безвольно стекают друг за другом на карниз. Гром камнепадом скатывается с неба по всем этажам дома, звук от каждого удара отдается в прижатом к паркету позвоночнике Германа.
Герман вытаскивает пистолет из кармана и приставляет к виску. Молнии угодливо освещают сцену: платяной шкаф, диван и кресло с танцующими ножками, столик у окна и этажерка в углу. Выцветшие обои с яркими пятнами из-под исчезнувших картин, фотографий. Лампочка вместо люстры. Вешалки, полки и ящички в открытом шкафу пусты. Как и этажерка.
Вчера Герман действовал как машина с отлаженным, не знающим сбоя механизмом. Несколько часов он складывал в мешки вещи сестры, до которых четыре года не мог дотронуться. Джинсы, платья, белье, свитера, туфли (хранившие в кожаных складках и пятнах стелек запах Евы, разношенные, мягкие, со стоптанными немного каблуками). Безделушки из поездок, подарки ее поклонников. Книги, кассеты, альбомы с фотографиями. Портрет, написанный влюбленным студентом-эвенком — что-то размытое, темно-синее и вправду живо напоминающее Еву.
Портрет этот отлично пылал вчера в подмосковном лесу недалеко от Красногорска. Костер горел часов семь, целую рабочую смену, как какая-нибудь металлургическая печь. Плавил, жег, уничтожал прошлое Германа, то, что, собственно, и составляло его жизнь. Потом долго тлел на майском закате в нише оврага, устланного нежным ковром свежей травы. Полностью потух только на рассвете, когда соловьев сменили жаворонки.
Гром ударяет в соседней комнате. И она пуста. Свои вещи Герман тоже не мог бросить тут, как беспомощных сирот, на долгие годы тюремного заключения. Уничтожил вместе с Евиными. Опустела и кухня: в шкафчиках не осталось ни чашек, из которых пила Ева, ни ложек, ни вилок, которых касались ее гу́бы. Нет больше тарелок, хранивших фантомы тех солнечных дней, когда Ева ставила перед Германом дымящееся мясо, или нежную рыбу, или лимонный пирог. Ева готовила вкусно. Из ванной исчезли ее и его зубные щетки, расчески, шампуни. То, что не могло сгореть, Герман разбил, разломал, растоптал, превратил в бесформенные частицы. Он не мог позволить чужим рукам, глазам, носам, ботинкам трогать, касаться, вдыхать, как-то еще взаимодействовать с отголосками запаха, дыхания, смеха Евы. Вчера он разбил даже зеркала, чтобы уничтожить хранящиеся в них отражения сестры.
От Евы не осталось ничего. Только воспоминания. Лишь их он и мог взять с собой в тюрьму. Но тюрьма теперь отменялась.
Гроза уходит. Герман опускает пистолет, и тот глухо падает на пол. Голоса птиц вместе со стуком капель разносятся по обновленному чистому воздуху. Под окнами, радостно повизгивая тормозами, стартует машина. Горячая солнечная полоса прожигает живот Германа. Он поднимается и идет в свою комнату, разряжает пистолет, убирает его в ящик стола, где остались только документы и досье — на Олега и Ольгу. Солнце с любопытством читает надпись на папке, но Герман быстро задвигает ящик. Садится на диван. Вчера он выбросил даже плед, и теперь диван стыдливо обнажен — стертый синий велюр и очертания пружин, пытающиеся, как упрямые цыплята из скорлупы, вылупиться на свет. Сняв ортопедические ботинки, Герман стягивает взмокшие носки. Правая ступня из-за детской травмы деформирована, испещрена давно зажившими шрамами. Он опускает распаренные ступни на пол, ожидая прохлады, однако ее нет, пол теплый.
Босиком (тапок больше нет) он идет в ванную, снимает пропотевший пиджак и рубашку. Других вещей, кроме этих, у него тоже нет: все сгорело вчера в очистительном пламени. Герман отвинчивает кран, пьет сначала медленно, а потом жадно, долго. Моет шею, лицо. Привычно поднимает голову, чтобы посмотреться в зеркало, но и его больше нет. Даже мыла нет, чтобы постирать рубашку и носки.
2
Убийцы Евы поселились в доме на Ленинградском проспекте. Первый этаж утыкан магазинами, ателье, ремонтными мастерскими, мимо них весь день вьется, течет шумная людская лента. Двор же, где Герман следит за Ломакиными, представляет собой мини-парк с дубами, кустами жасмина и увядающей сирени, на клумбах цветут тюльпаны, на скамейках весь день сидят пенсионеры и читают газеты. Ольга Ломакина любит выгуливать дочь по дорожкам двора.
Герман наблюдает за ней и девочкой в армейский бинокль из старого Volkswagen Golf. Ему пришлось взять кредит, чтобы обзавестись машиной и необходимыми вещами. Немного денег оставил на еду, бензин и сигареты. С работы перед неудавшимся судным днем Герман уволился, поэтому условия кредита адские, но сейчас это обстоятельство не имеет значения. Ему нужно найти решение, что делать с Ломакиными. Время идет. Герман выяснил, что Ломакины вернулись из-за границы на несколько месяцев, а к зиме снова уедут в Италию. Иногда к Ольге и девочке присоединяется Олег. Качает дочь на качелях, катает на трехколесном велосипеде. Время от времени они всей семьей уезжают гулять по городу. Бывает, катаются весь день на яхте на водохранилище под Москвой. Герман, как сторожевой пес, следует за ними повсюду.
17 июня Ломакины стоят в очереди в кассу зоопарка. Ольга, в темно-синем платье в мелкий белый горошек, с тщательно, туго зачесанными вверх и уложенными во французский пучок песочными волосами, держит Олега под руку. Рядом с ним она кажется миниатюрной. На Ломакине джинсы, белая рубашка, ботинки размера пятидесятого, не меньше. За четыре года, пока Герман не видел Ломакина, тот будто еще вырос и раздался в плечах. Он выше всех в очереди. Девочка (джинсовые шорты, футболка) сидит на правой руке отца, жмется к нему и что-то шепчет в ухо, под бейсболку, прикрывающую лысую голову. Постукивает отцу в бок туфлей с застежкой в виде зеленой стрекозы, радужно переливающейся на солнце первоначального лета. Девочка неприятно похожа на Ломакина, такие же серые глубоко посаженные глаза, то же вытянутое лицо.
Внезапно пульсирующая темнота заливает все пространство в голове Германа, остаются только звуки — глухие, почти без перерывов удары в ушах. Герман ощупывает выпуклость пистолета Макарова под вельветом пиджака. Медленно считает до десяти, не позволяя вспышке ярости разрастись. Не время, не сейчас. От пиджака, купленного в секонд-хенде, несет специфическим дезинфицирующим запахом. Герман уже весь пропах этим запахом. Пиджак сорок шестого размера, самый маленький, какой он нашел, но все равно болтается на исхудавшем теле. Герман вытаскивает из кармана лист сирени, разрывает его и, продолжая считать, вдыхает остро-горький освежающий запах. Минута, другая — и мир снова встает на место.
Девочке приглянулись утки. Ломакины остановились у пруда, расположенного недалеко от входа в зоопарк. Олег, продолжая держать девочку на руках, отламывает от булки кусочки, отдает дочери, а та сжимает их в кулачке и кидает уткам, шелестящим крыльями по воде навстречу угощению. Когда самая шустрая утка хватает кусок, девочка смеется, хлопает в ладоши. Ольга скучает рядом, поглядывает по сторонам. Возле ограждения пруда народу много, поэтому Герман, не боясь быть замеченным и узнанным, лишь немного не доходит до Ломакиных, занимает место между парой влюбленных и пожилыми супругами в детских панамах. Пожилые супруги заняты тем, что сравнивают пары красных уток (огарей) с изображениями в старой толстой книге, которую держит старик, а влюбленные заняты друг другом. Герман делает вид, что заинтересован домиками уток, а сам наблюдает боковым зрением за Ломакиными.
Ольга что-то настойчиво говорит мужу и девочке. Говорит громко — до Германа долетают обрывки слов: зьяны, лоны, еди. Но девочка упрямится, она хочет кормить уток, а отец хочет радовать дочь. Он крепче обнимает ее хрупкое тельце, посмеивается, отбиваясь от жены, зовущей их дальше, и вытаскивает, словно фокусник, непонятно откуда еще одну булку. Девочка взвизгивает, вытирает ладошки о футболку и подставляет их под очередной кусочек.
Ольга, пожав плечами, отходит от ограждения и встает под дерево. Чуть повернувшись, Герман видит, как она, оглянувшись по сторонам, открывает сумочку, достает крошечную бутылку, грамм сто, не больше, и, улучив момент, когда муж и дочь восхищенно следят за взлетающей и ловящей в полете хлеб уткой, открывает крышку и быстро делает несколько глотков. Ловко убирает бутылочку назад в сумку. Потом вытаскивает двумя пальцами из кармана тесно прилегающего к телу платья пластинку жевательной резинки. Разворачивает, кладет в рот. Смотрит на небо. Расправив плечи, раскрасневшись и заметно повеселев, возвращается к мужу и дочке и, к явной радости девочки, включается в кормление уток.
Германа разъедает запредельная неправильность происходящего. Словно самого факта счастливого времяпрепровождения убийц и их дочери недостаточно, погода подбирает для них самые лучшие, самые совершенные из своих декораций. Июньский свет над прудом сияет, течет прозрачным медом, вода вспыхивает, отливает золотистыми стежками. Солнечные блики мягко дрожат на еще незагорелых руках девочки, бицепсах Олега и невыносимо изящных, затейливых, какой-то венецианский резьбы губах Ольги. Оперенье уток просматривается до самой тонкой волосинки. Солнечные пальцы путаются в волосах деревьев. Не холодно, не жарко — все то же солнце угодливо регулирует яркость, жар, поддерживает идеальное освещение этого дня.
Ноги Германа тяжелеют в ортопедических ботинках, от волнения и несправедливости начинает болеть сердце. Он решает пройти вперед и немного успокоиться. Когда Герман оказывается напротив Ломакиных, девочка как раз берет у отца кусочек булки, приподнимает голову и замечает Германа. Она смотрит на него просто и ясно, будто узнала, будто они давно знакомы и теперь она ничуть не удивлена увидеть его здесь. Герман поспешно отворачивается, ускоряет шаг и обгоняет двух женщин с колясками. Внезапно Герман понимает, что ему нужно сделать. Он похитит девочку!
Да, он похитит девочку, а потом год за годом, чтобы даже не думали забыть, будет напоминать Ломакиным о дочери, которую они так горячо любят, — будет посылать то носочек, то кровавую маечку. Или как-нибудь еще напомнит — над этим пунктом плана он поработает. Все оставшиеся годы Ломакины будут обречены страдать и мучиться, как обречен по их вине страдать и мучиться Герман.
Во власти охватившего его озарения Герман прибавляет шагу, огибает пруд по противоположной стороне и выходит из зоопарка. Садится в машину. Прежде чем тронуться, бросает взгляд на краснопресненскую высотку, расположенную недалеко от зоопарка. Больше десяти лет ее шпиль и башенки глядели в окно детской комнаты Германа. Эта высотка была его утешительницей, нянькой. Бессчетное количество раз мальчиком он хватался взглядом за нее, жаловался (ей одной, больше никому), а она с готовностью и любовью подставляла каменное плечо. Высотка учила Германа не сдаваться. Сейчас из машины видны нижние ярусы, бывший магазин, сливочного цвета скульптуры на ризалитах. Он едва заметным кивком приветствует высотку и заводит машину. На сегодня слежка окончена, пусть Ломакины развлекаются, недолго им осталось.
3
Первые воспоминания, этот ранний оттиск сознания, являются чем-то вроде двери, через которую человек попадает в мир. И тут уж как повезет — какая дверь откроется. Кто-то делает оттиски матери, солнечной аллеи в парке, а кто-то — сцен насилия. Эти первые картинки запускают определенный характер, взгляд на мир. Возможно, впрочем, что человек появляется уже со сложившимся характером, и тогда первый ролик, снятый сознанием, — это своего рода маркер. И как тигр тянется к антилопе, медведь — к меду, а щенок — к ласке, так и новорожденный характер выбирает игрушку по вкусу.
Первым воспоминанием Германа была Ева. Он очнулся от вечности года в два, где-то ближе к вечеру. Лето. Возможно, даже начало сентября, потому как солнечный воздух прозрачен и холоден. Ева (лет трех, как он потом высчитал) сидит на полу, вытянув ноги, и заводит юлу. Сандалики на босу ногу. Красное пятно платьица. Пронзенный иглами солнца ягодный бант, кисточка темных волос. Лица́ он не помнит. Помнит ощущение небывалой радости, покоя, идущего от Евы. Наверное, ручка, которой Ева заводит юлу, грохочет и скрежещет. Но звуков в его ранних воспоминаниях не было. Хотя нет, неправда. Он помнит, например, как журчит ручей, а солдат, сидя на корточках, опрокидывает чайник и наливает воды. Лес вокруг уже полон вечерних теней. Поют птицы. Ногам холодно. Они с Евой стучат оловянными чашками по камешкам. Впрочем, это было немного позднее, в гарнизоне.
Решив, что уже достаточно, Ева отпускает юлу, и та, обезумев от счастья, мчится по кругу ровно и весело, сверкая и переливаясь радужным неразличимым цветом. Ева хохочет и хлопает в ладоши. Юла все крутится и крутится, и уже невозможно от нее оторваться, и невозможно описать восторг, который охватывает включенное кем-то в этот момент сознание.
Второе воспоминание — гигантские сосны с мощными разветвленными стволами. Кора ствола и ветвей — мокрая, яркая, кирпично-красная. Кажется, будто ее освещает солнце, хотя на улице пасмурно, накрапывает дождь. Пышные громадные лапы качаются под ветром. Ева стоит рядом. Герман и она высунули языки и с наслаждением ловят дождевые пульки, летящие с сосновых иголок.
Где происходили эти две сценки, Герман так и не смог выяснить. Но это было точно до того, как ему исполнилось четыре. До гарнизона, где Герман и Ева жили с отцом.
Отец поднимал их каждое утро в шесть. Касался плеча, потом сильно, больно сдавливал. Иногда, очень редко, когда у отца случалось хорошее настроение, будил стишком, глупым, но, видимо, дорогим для него: «Дети, в школу собирайтесь, петушок пропел давно — смотрит солнышко в окно». Втроем они усаживались за круглый стол, покрытый белой грубой скатертью. В центре скатерти был вышит замок в сине-зеленых зарослях, а по краям, которые, свисая, собирались в складки, выпучивались красно-зелено-коричневые цветы в плетеных корзинках. Отец был уже в форме, пил кофе и молчал. Время от времени сомнамбулично раскачивался на деревянном кресле-качалке. Кресло тихо постанывало — отец был крупным, тяжелым и старым. Настенные часы громко отстукивали время. Ева и Герман глотали молоко, полуостывшее, с пенками. К молоку полагался один день — белый хлеб с сыром, другой — яйцо. Отец варил яйца в желтом эмалированном ковше с черными кляксами по бокам. Бывало, Герман просыпался от бульканья и легких ударов скорлупы о дно ковша.
Герман ненавидел вареные яйца. Но раз в два дня на тарелке с полустертыми красными кольцами неизменно лежало яйцо. Сначала Герман выпивал молоко. Быстро, частыми глотками, стараясь не вдыхать его запах — от молока шел дух фермы, коров, навоза. Потом, стукнув яйцо о тарелку, подковыривал обгрызенным ногтем образовавшуюся вмятину и принимался облупливать скорлупу. Медленно, растягивая время, словно тетиву приготовившегося выстрелить лука. Яйца всегда были переваренные, с белесым желтком, похожим на тугой шерстяной моток ниток. Первый же кусок застревал в горле. Герман пытался с ним бороться, заставлял проталкиваться дальше, но шерстяной моток сопротивлялся, упрямо лез назад, пускал тухлый запах в нос. Герман сдавался, вскакивал и убегал в туалет, где его выворачивало. Когда он, взмокший, бледный, возвращался и садился за стол, отец поднимал голову и молча смотрел на него. Никогда не ругал, но через день на тарелке снова было яйцо.
Если отец отвлекался — раскрывал газету «Правда» или отвечал на внезапный звонок, — Ева успевала съесть яйцо за брата. В то время Ева была толстой девочкой, ела все подряд и в любых количествах. Случалось, отец ловил ее на преступлении. Тогда он молча поднимался, брал ковш, наливал шипящей от возмущения воды и опускал туда два негодующих яйца. Ставил ковш на плиту, включал газ и, повернувшись к Герману и Еве спиной (широкой, с натянутой на лопатках отглаженной формой), ждал. Вряд ли отец знал, что затылок выдавал его — злой, пылающий затылок складывался в гармошку страшными мягкими складками. Постепенно фигура отца расплывалась, теряла очертания. Стараясь не разрыдаться, Герман теребил шершавые вышитые розы и не сводил взгляда с замка в середине скатерти, его коричневого распухшего шпиля.
— Скоро придет Андрей, скоро придет Андрей, — твердил он про себя, беззвучно двигая дрожащими губами. Сквозь молочные редкие зубы выходило — скоха пийдет Аньей. Ева взволнованно поглаживала пухлой ладошкой вспотевшую руку брата.
Когда яйца были готовы, отец подносил дымящийся ковш к крану, обдавал ледяной водой. Потом тяжелым шагом подходил к Герману. Смесь резкого запаха гвоздичного одеколона и запаха свежего гуталина грозила прикончить Германа, и только мантра «скоро придет Андрей» позволяла сидеть и смотреть, как отец, взявшись за горячее яйцо двумя красными пальцами, выкладывает его на тарелку. Одно, потом другое.
Ровно в семь раздавался звонок в дверь. И сейчас Герман помнит его залихватскую простуженную трель. Тут же, спохватившись, из часов вываливалась ошалелая кукушка и сипло вторила звонку. Следом за ней за стеной у соседей заходился петухом будильник. Вошедший, высокий рыжий солдат, отдавал честь отцу. Отец собирался и уходил. Больше Герман и Ева его в этот день не видели.
Если Герман еще сидел над яйцом, Андрей мгновенно избавлял его от пытки, сожрав то, что осталось. Крошки с тарелки собирал в руку и высыпал в рот. Ловко и быстро сворачивал пыточную скатерть в рулон и убирал в шкаф. Ее место занимала остро пахнущая клеенка с подсолнухами. На ней можно было катать пластилин, капать краски, размазывать варенье, можно было даже резать ножичком, но так, конечно, чтобы не повредить столешницу. Если Герману было совсем худо, то Андрей доставал из холодильника банку, засовывал туда ручищу и вылавливал скользкий соленый огурец. Положив огурец на кусок черного хлеба, щипал Германа за нос и вручал мокрое капающее лекарство.
Смолотив и сам парочку огурчиков, Андрей ставил банку на место. Снимал ремень, китель, фуражку, аккуратно развешивал и раскладывал все это по стульям и углам. Повязывал на майку фартук и принимался за настоящий завтрак — готовил тесто для блинов, оладушек или вареников. Ева помогала ему. Но сначала включала радиоприемник — прямоугольное чудище на тонких ножках. Позывные радио «Маяк» записаны у Германа в телефоне. Когда ему делается невыносимо, позывные в один миг доставляют его в ту комнату, где Андрей и Ева готовят завтрак. Андрей размешивает тесто. Утреннее солнце подступает сбоку к его немного отросшим рыжим волосам, тщательно измеряет, пересчитывает пылающие крошечные волосинки. Ева, стоя на коленях на стуле, просеивает муку (одна рука — на солнце, другая — в тени) и повизгивает от счастья, когда мучная пыль летит ей в лицо, нос, глаза, оседает на неумело заплетенных темных волосах.
Герман возвращался к жизни. Сидел у стены на кушетке, покрытой стертым тканым ковром. Осторожно вдыхал остро-соленый запах огурца, отделял жаркий запах перца, терпкий летний — укропа, дождливый, резкий — чеснока. Подносил бледнючие губы к пятке огурца и робко слизывал рассол. Потом еще. И еще. Желудок благодарно урчал, успокаивался.
Если час с отцом выдавался особенно тяжелым, а напряжение отпускало слишком стремительно, Герман, бывало, не сдерживался и захлебывался в рыданиях — уже почти сладких, но все равно обиженно-горьких, возмущенных. Тогда Андрей давал команду Еве: «Отставить». Отложив тесто, стучал ладонями друг о дружку, стряхивая муку на пол, подходил к Герману и брал его на руки. Усадив на колени, гладил по голове теплой широкой ладонью. Герман утыкался мокрым носом в потную шею и плакал еще сильнее. От Андрея пахло хвойным мылом. Ева испуганно подходила, гладила Германа по спине и рассказывала Андрею, что произошло. Огорчалась от своих слов и тоже начинала плакать.
— Хочешь, — говорил Андрей чуть погодя, — ударь меня. — Подносил руку Германа к веснушчатой груди, обтянутой солдатской майкой. Герман всхлипывал и качал головой. Но Андрей настаивал: — Давай, не бойся. Полегчает.
И Герман ударял. Сначала слабо, потом сильнее… еще и еще… И вскоре, забывшись, лупил, молотил изо всех сил ручонками. В груди солдата начинало что-то клокотать, гудеть. Мальчик резко останавливался. В ужасе поднимал голову: Андрей смеялся. А смеялся он, как и ел, танцевал, пел и пил — невозможно заразительно. Лицо растрескивалось тонкими веселыми морщинками, пухлые обветренные губы растягивались в мальчишеской улыбке. Глаза — голубые, узкие, смотревшие обычно с хитровато-добродушным прищуром, — во время смеха смыкались. Герман смущенно улыбался и неожиданно тоже принимался смеяться. Ева глядела на них, вытирала слезы и вскоре присоединялась. И вот уже они смеялись втроем, дружно, легко, весело — двое никому не нужных детей и солдат-срочник, невесть за какие провинности или достоинства назначенный майором Морозовым в няньки.
4
У нового решения вскоре обнаруживается недостаток: Герману придется действовать инкогнито. Более того, когда он похитит девочку, он должен будет скрываться. Возможно, убийцы никогда не узна́ют, кто это сделал и почему. Слова, которые Герман четыре года готовил, бормотал про себя, засыпая, бродя по улицам, делая операции в больнице, запихивая в себя еду, чтобы дожить до того, как снова увидит Ломакиных, так и окажутся невысказанными.
Он выступит в роли безликого слуги Немезиды. Похоже, нет другого способа восстановить справедливость и не навредить ребенку. Ломакины будут наказаны, но приговор им вслух не будет зачитан. Долгие годы Герману придется смирять эгоистичные желания ради высшей истины. Ну что ж, в конечном счете главное — чтобы Ломакины поплатились за то, что сделали с Евой. Никак не может быть, чтобы Ева гнила на кладбище, а они разгуливали по зоопарку с дочкой. Нет, так ни за что быть не может.
Герман составляет план. Самым трудноисполнимым в нем оказывается пункт «документы». Герман понятия не имеет, как их добыть для девочки. Однако если хорошенько поискать, даже в таком скудном окружении, как у него, найдутся люди, которые запустят в лабиринт шарик, и тот рано или поздно прикатится к нужной точке.
В окружении Германа таким человеком оказался Петя, бывший уголовник, санитар из больницы, где до увольнения работал Герман. Все звали его Петя, и он сам называл себя Петей, хотя это был крупный мужчина лет пятидесяти. Выражение красного лица Пети напоминало выражение волка и лисы. То есть то волка, то лисы в зависимости от обстоятельств. В светло-карих глазах светился отблеск дурных тайн. Эти тайны бесились внутри него, но было видно, что Петя крепко держал их в узде. По крайней мере до поры до времени.
Был, правда, нюанс — с Петей нельзя было в лоб, нельзя было просто так.
Герману приходится выпить с Петей бутылку водки на Воробьевской набережной. Касаясь прогретого за день парапета, глядя на вечерние прогулочные катера и кружащихся над водой чаек, редких для Москвы птиц, они говорят про действия американцев в Ираке, замерзшее озеро на Марсе, а еще про овцу Долли, усыпленную в феврале, обсуждают клонирование как вариант вечной жизни и бог еще знает что.
Только через несколько часов, уже в сумерках, Герману удается завести разговор о том, что его интересует.
— Один мой друг, — говорит он, закурив, — хочет усыновить ребенка. Родители ребенка погибли. Друг пока взял его к себе, ему жаль отдавать малыша в детский дом. Официально ему его не отдадут. Есть причины. И вот друг решил дать ему свою фамилию, отчество, купить документы, которые бы подтверждали, что это его ребенок. — Герман выпускает из носа дым, глядит, не мигая, на сморщенную ткань воды, стремительно темнеющую. — Он готов заплатить сколько надо. Только понятия не имеет, где найти людей, которые помогут ему в этом.
— Хороший у тебя друг, Герман Александрович, — отвечает, помолчав, Петя и выпускает колечко в вечерний сумрак над Москвой-рекой, разгоняя рой мошек. — А ты знаешь, Герман Александрович, за что американцы обвинили в мошенничестве одного мужика? Этот Эндрю, как его там, заработал на бирже на раз и два триста пятьдесят лимончиков. И знаешь, как он оправдывался? Заявил, что из будущего, из 2256 года. Представляешь?
И еще с полчаса они говорят о путешествиях во времени. Потом Петя вздыхает, заявляет, что ему пора, рано утром на работу. Герман подвозит Петю до одной из пятиэтажек в Черемушках, разбросанных, как детские кубики, меж странно одинаковых тонких берез, шелестящих в темноте листвой. Открыв дверцу машины, Петя пожимает Герману руку, говорит, что рад был повидаться и, будто что-то незначительное, бросает, что есть у него один человечек, который, возможно, знает человечка, который поможет другу Германа Александровича.
Вот так, по цепочке, от одного человечка к другому, Герман спустя некоторое время оказывается лицом к лицу с улыбчивым белобрысым пареньком, который ничем не напоминает угрюмых персонажей из криминальных фильмов. Они встречаются в «Макдоналдсе» у метро «Проспект Мира». Июнь подходит к концу, пыль притушила яркие краски листвы и церквушки рядом с «Макдоналдсом», тяжело, уверенно легла на ступеньки и перила подземного перехода, на шелестящие на ветру книги стихийного книжного рынка, растянувшегося до «Олимпийского».
Герман приехал заранее, выкурил полпачки сигарет, прислонившись к глухой стене «Макдоналдса» и предоставив пыли возможность обвить его коконом. И вот теперь, стоя с пареньком у кассы, Герман чувствует тяжесть пыли на ресницах. Паренек берет «Биг Мак», картошку фри с сырным соусом и среднюю кока-колу с бултыхающимся в шипучих темных водах льдом. Герман предлагает заплатить, но паренек отказывается. Сам Герман для приличия и некоей симметрии за столом заказывает кофе.
— Давай здесь, — говорит паренек, указывая на свободный столик для двоих в углу. — Проголодался ужасно.
Невысокий, энергичный, футболка с двумя огромными глазами, рюкзак за спиной. Похож на студента, одного из тех бегающих по городу из библиотеки в спортивный зал, а оттуда на подработку, увлеченных, упертых, четко идущих к поставленной цели. Усевшись, кивает Герману:
— Рассказывай.
Слушает внимательно, продолжая, впрочем, с аппетитом поедать «Биг Мак».
— Когда нужны документы?
— А обычно сколько их делают?
— По-разному. Месяца два-три. Можно управиться и за неделю, но будет дороже.
Июль, август, сентябрь. Ломакины уедут к зиме. Где-то в середине ноября, сказал управляющий яхт-клубом.
— Три месяца я подожду, — говорит Герман.
Паренек отпивает кока-колы, достает из рюкзака дешевую шариковую ручку и пишет на салфетке цифры. Поворачивает салфетку к Герману. Герман, конечно, ожидал, что сумма будет большая, но чтобы такая! Он сглатывает.
Паренек меж тем вскрывает коробочку с сырным соусом и, не спеша, принимается макать туда палочки картошки фри и отправлять их одну за другой в рот. Солнце проделывает щель в пространстве над сумрачным углом, где сидят Герман и паренек, протекает в нее и зависает над быстрыми ловкими руками паренька. Оказывается, на его коже полным-полно белых волосков. Они есть даже на пальцах — дочиста отмытых, похоже, даже оттертых с помощью жесткой губки.
— А подешевле нельзя? — глупо, сам понимая, что глупо, спрашивает Герман. Другие пункты плана тоже требуют денег, да и первое время нужно будет на что-то жить.
— Можно. Но тогда только бумажку — свидетельство. А если сделать все правильно, будут записи в роддоме, загсе, в паспорте твоего друга. — Паренек улыбается, и Герман вдруг обнаруживает, что паренек-то совсем не паренек, ему лет под сорок, если не больше. — За эти деньги все будет по-настоящему. Твой друг ведь хочет по-настоящему?
Чтобы внести залог за документы, Герман продает квартиру. Хорошо, что стоит лето: пока подыскивает другую, ту, где будет жить с девочкой, он спит в машине. Свой двадцать восьмой день рождения также отмечает в машине. 18 июля. Пасмурно. Накрапывает дождь. Олег уехал с утра, а Ольга так и не вышла с девочкой на прогулку. Наверняка приканчивает припрятанные бутылочки коньяка или виски. Ольга ведет себя как человек, которого разъедает чувство вины. Герман надеется, что причина — в том, что она и Олег сделали с Евой в Севастополе. Но этими переживаниями она все равно не отделается.
Герман отмечает день рождения пакетом кефира и половинкой черного хлеба. Опустив стекло, протягивает на ладони угощение для подлетевших воробьев. Что ж, чем не гости. Птицы, склевав крошки и отлетев, снова возвращаются за добавкой. Снова и снова. Хлеб не успевает даже намокнуть. А вот в линиях ладони скапливается дождь и стекает меж пальцами.
5
— Тут полная разруха, — говорит в трубке риелтор, — окна на МКАД, но две комнаты и цена почти вписывается в ту немыслимо маленькую сумму, на которую вы рассчитываете, Герман.
В квартире на Северодвинской улице крепко пахнет солениями — бочковыми огурцами, солившимися с укропом и чесноком, скисшей квашеной капустой, маринованным чесноком. Эти запахи перебивают, но не совсем, запах кошек и тараканов. Ванна, унитаз и раковины цветут ржавчиной, линолеум с цветочками изрезан, отклеен по углам и загибается в конвульсиях, демонстрируя черное нутро. Обои в комнатах милосердно содраны, по-видимому, продавцом.
Потолок оклеен пожелтевшей бумагой. Продавец, чтобы пощадить клиентов, выбросил всю мебель, кроме стула годов тридцатых и нелепой, с претензией, тумбы под телевизор — впрочем, одной дверцы у той не хватает. Квартира занесена пылью с МКАД, точно палатка бедуинов в пустыне песком. На подоконнике лежат стопка книг и журналов, колода карт. А еще — похожая на температурный бред разноцветная постройка из лего: детали явно из разных наборов и подобраны на помойке. На кухне есть холодильник «ЗИЛ», покрытый изнутри плесенью. Герман включает его в розетку — тот неожиданно приветствует гулом мотора.
— Конечно, если бы продавец сделал ремонт, то продал бы гораздо дороже, — говорит риелтор Лариса Анатольевна, женщина лет пятидесяти, со слишком большими голубыми глазами. Вообще-то в этом возрасте глаза у женщин обычно уменьшаются, у нее же, похоже, всё наоборот. — Но, как я поняла, ему срочно нужны деньги.
— А кто тут жил? — зачем-то спрашивает Герман.
Женщина отряхивает пыль с белого пиджака и юбки. Судя по одежде и Audi новой модели, ее карьера на взлете.
— Мать с сыном. Соседи поговаривают, оба были не в своем уме. Об этом нюансе, — риелтор вздыхает, — я не могу вас не предупредить. Цена низкая еще и поэтому. Но на учете в ПНД, насколько я выяснила, они не состояли.
Герман и риелтор выходят на балкон. Здесь стоит мешок, из которого выпирают очертания пустых бутылок и еще каких-то предметов. Два пластмассовых кресла в пыли жмутся друг к другу: похоже, мать с сыном глядели тут на закаты над МКАД. Герман закуривает, предлагает риелтору. Та берет у него сигарету, выпускает колечко. Она ему нравится. Трудяга. Из тех, что жалеют людей. Возится с ним, в сущности, за копейки. Сейчас подставляет лицо летнему ветру, делая вид, что не торопит Германа с решением.
Двенадцатый этаж. Сверху МКАД напоминает работающий транспортер на огромном игрушечном заводе. Машинки всех мастей двигаются непрерывно. Герман обшаривает глазами пасмурный горизонт поверх МКАД и будто нарисованного за ним черно-зеленого леса в поисках предмета, который привязал, примирил бы его с местностью. Такой находится — труба ТЭЦ. Из нее идет дым — словно пыхает задумавшийся курильщик. Что ж, это не краснопресненская высотка и не телебашня, но все ж кое-что, за что можно уцепиться взглядом.
Выбора-то у Германа, собственно, и нет. Он тушит сигарету о заржавевшие облупившиеся перила балкона, покрытые пылью, как паштетом, такой же густой и липкой. Поворачивается к риелтору. Она выжидательно смотрит на него. В сером пасмурном воздухе голубой цвет ее больших глаз кажется особенно насыщенным. Герман кивает.
— Что ж, значит, по рукам, — обрадовавшись, говорит риелтор.
6
К началу октября все готово. Герман ждет подходящего случая. 5 октября Ольга заводит дочь в гастроном на углу дома на Ленинградском проспекте. Герман на расстоянии шагает за ними. Шанс, что Ольга его узнает, минимальный. Если она его и видела раньше, то в период, когда Герман был на несколько размеров толще. Она могла бы хорошенько разглядеть его четыре года назад на похоронах Евы, но его там не было.
Пока Ольга закупает новую батарею бутылочек разного цвета, девочка обскакивает магазин то на одной ноге, то на другой. Останавливается у витрины, изучает солдатский ряд прямоугольных пакетов молока и кефира, брикеты сыра с нежной палитрой на разрезах, пирамиды стаканчиков фруктовых йогуртов. Прокручивается вокруг себя в луче солнца — сиреневое пальто и такая же беретка на мгновение обесцвечиваются, а потом будто заново наливаются еще более насыщенным цветом.
Скачет дальше. Разглядывает колбасу, отливающую влажным жирным блеском оболочки, гирлянды сосисок, поблескивающие целлофановыми обертками, коробки с паштетами. Возле колбасной витрины Герман и стоит. Девочка, задрав голову, смотрит на него. Небольшие, серые, глубоко посаженные глаза. Прямой дружелюбный взгляд. Герман прячет часть лица в горло шерстяного свитера. Пальто и свитер ввиду наступивших холодов он приобрел несколько дней назад в секонд-хенде. Пальто черное, короткое, со шлицей сзади. Все с тем же характерным запахом, которым пропахла уже вся одежда Германа.
В одном из карманов Герман сжимает мячик, который забрал у девочки летом. Он уже почти вытащил его, чтобы поманить дочку Ломакиных, но передумывает. Народу в магазине слишком мало, они оба на виду. Герман разжимает вспотевшую руку, и мячик остается в кармане. С трудом натягивает на лицо нечто вроде улыбки — девочка доверчиво улыбается в ответ. Она скачет дальше — к витрине с тортами, украшенными кремовыми розочками и листьями, ядовитыми персиками и кровавыми вишнями. За заляпанным ладонями стеклом красуются облитые глазурью эклеры и обсыпанные цукатами и шоколадной крошкой снежные вершины корзиночек. У кондитерской витрины Ольга и настигает дочь. Подбегает, тяжело стуча каблуками новеньких блестящих сапожек, крепко схватывает беглянку за руку, бутылочки в сумке от резких движений предательски звякают — Ольга смущенно оглядывается по сторонам, лицо вспыхивает.
Господи, как же Герман ненавидит всю эту Ольгу, эти ее чрезмерно изящные губы, туго стянутые во французский пучок блестящие волосы, белое пальто, новенькие сапожки. С каким наслаждением Герман бы прямо тут, в магазине, выпустил в нее одну за другой с десяток, с сотню пуль, изрешетил бы ее всю.
Несколько дней спустя он наблюдает за Ольгой и девочкой на станции «Сокол». Похоже, ехать они никуда не собираются. Ольга сидит у колонны на желтой скамейке, отполированной миллионами задниц жителей и гостей города, и подкрашивает бледные сухие губы. Девочка крутится рядом. Герман наблюдает за ней от соседней колонны. Он встал так, чтобы мать его не видела. Улучив момент, вытаскивает мячик из кармана пальто и показывает девочке. Та что-то удивленно-радостно говорит, но гул станции поглощает ее голос. Завороженно подбирается ближе, не сводя глаз с красно-синего мяча.
Приближается поезд, оглушительно и быстро читая речитатив. В наступившей через мгновение толчее Герману ничего не стоит сделать два-три шага, взять девочку за руку и раствориться с ней в толпе. Однако в последний момент он отступает. Пока идет к лестнице, взмокает так, будто за шиворот, в рукава, ботинки душевой лейкой залили теплую воду. Придя в себя на улице на осеннем ветру, он снова решительно спускается в метро, но Ольги и девочки там уже нет.
12 октября Герман следует по городу за черной BMW Ломакиных. Машина останавливается возле цирка на Цветном бульваре. Герман проезжает дальше, паркуется. Подойдя к цирку, наблюдает, как Ломакины поднимаются по лестнице к входным дверям, заходят внутрь. Герман покупает билет с рук — пятьсот рублей за место наверху. Раздевшись, заходит в зрительный зал. Амфитеатр, правая сторона, 4 ряд, 24 место. Усевшись, он тщательно, ряд за рядом, место за местом осматривает зрителей. Наконец находит Ломакиных внизу, на третьем ряду. Едва он их находит, как свет меркнет, зрительный зал исчезает, а арена высвечивается. Герман вытирает заслезившиеся от напряжения глаза и вспоминает, что не был в цирке с 1981 года. Тогда рядом с ним сидела Ева. Ведущий что-то кричит хорошо поставленным голосом. Представление начинается.
Измученный двухнедельной бессонницей, Герман временами забывается. Мир являет себя то в виде белых лошадей, скачущих по манежу и принимающих размеры от огромных, застилающих все пространство, до крошечных; то в виде клоуна; то блестящего платья и трусов эквилибристки на перекладине где-то в открытом космосе. Иногда Герман проваливается в прошлое, где семилетняя Ева что-то быстро говорит ему, смеется, горячо дышит карамельным дыханием. Он уже почти различает ее слова, как вдруг его снова выкидывают в реальность тычки и скрипы лошадки из воздушного шарика-колбаски. Этой лошадкой-шариком непрестанно орудует толстый мальчик лет четырех, сидящий на соседнем месте на коленях у дедушки. Иногда он толкает Германа не только скрипучей лошадкой, но и подошвами крепких ботиночек (когда приспичит полежать на коленях у деда). Сам дед, свесив усы, не шевелится: приоткрыв рот, он смотрит представление. Если бы не тяжеловатое, с нотками жареного лука дыхание и слезы в уголках глаз, Герман усомнился бы в принадлежности деда к миру живых.
С другой стороны Германа зажимает необъятное тело женского рода — складки этого тела, обернутые в пропитанную по́том шерстяную ткань, того гляди проползут через стул и вытеснят Германа. Гремучая смесь запаха пота и синтетического запаха сладкой ваты, облачко которой соседка держит в руках, также весьма способствует бодрости Германа. Иногда, чтобы защититься от этих запахов, он вытаскивает из кармана зеленую сосновую шишку, скоблит ее и вдыхает чистый смолистый аромат.
В антракте Герман покупает красный клоунский нос из поролона и рыжий парик, а еще — детскую маску тигренка. Складывает в сумку, которую носит на плече. Конечно, он понимает, что похитить девочку, когда с ней оба родителя, невозможно. Но, как и все последние дни, надеется на чудо.
Ломакины в буфете. Поставив перед собой в качестве реквизита стаканчик с кофе, Герман наблюдает за ними. Ольга — черное платье, шелковый шарф на шее, натянутые тяжелые песочные волосы. Пьет шампанское. Бокал уже почти пуст. Ярко накрашенные изящной резьбы губы поблескивают от капелек. Весела, излишне громко похохатывает, перекрывая шум и гул детских и взрослых голосов. Сколько, интересно, маленьких бутылочек лежит в ее сумочке, покрытой дорогими крокодильими струпьями. Олег и девочка (сидит у него на коленях) потягивают лимонад. Олег (выше всех в буфете) перекусывает бутербродом с красной рыбой, девочка — розовое платьишко — борется с щедрыми разноцветными завитками пирожного. Олег изредка что-то шепчет ей, девочка хихикает и жмется теснее к отцу.
Утомившись сидеть, девочка спускается с коленей отца и принимается, не выпуская из рук пирожное, бегать туда-сюда вдоль стола, дотрагиваясь до руки то матери, то отца. Ольга что-то возбужденно, радостно рассказывает мужу. Тому явно не по душе, что жена напилась. Глубоко посаженные глаза Олега будто еще глубже ушли внутрь пористой кожи, лысая голова блестит все ярче. Когда девочка, запнувшись о непредусмотрительно вытянутую матерью ногу, падает, Олег тут же вскакивает и поднимает дочку. Ольга же продолжает сидеть и глупо улыбаться. Похоже, крепко надралась. Олег отряхивает платье девочки, поднимает на руки, утешает. На белых колготках ребенка — кляксы грязи, на розовом платье — оттиск пирожного.
От обиды и, возможно, боли у девочки дрожит подбородок, цыплячья грудка вздымается, готовится к плачу. Однако девочка еще не решила — плакать или нет, раздумывает, набирая на всякий случай воздуха в грудь. Ища вокруг обиженным взглядом то, что решит за нее — плакать или нет, она натыкается на Германа. Зрачки ее расширяются, она явно узнает его. Герман стремительно подносит указательный палец к губам, схватывает бесхозную программку и, оглохнув от биения сердца, отворачивается, раскрывает программку и утыкается в нее.
Когда он снова решает повернуться, Ломакиных уже нет, на столе стоит пустой бокал, стаканы от лимонада (девочка свой не допила), валяется россыпь крошек на темной столешнице.
Все второе отделение Герман держит бинокль нацеленным на Ломакиных. Вдруг те решат уйти раньше?
Незадолго до окончания представления Герман выходит из зала, одевается и поджидает Ломакиных, наблюдая за той дверью, откуда они должны выйти. Но время идет, а те всё не появляются. Когда Герман заглядывает в опустевший зал, то обнаруживает, что Ломакиных там нет. Видимо, вышли в другой выход.
Герман обходит отсеки гардероба, уворачивается от локтей одевающихся, вздрагивает от криков родителей на детей. Не заметить огромного Олега сложно. Но его нигде нет. Внезапно Герман останавливается. Не верит своим глазам — девочка сидит одна на скамеечке, возле пирамиды из темного и белого пальто родителей и своего сиреневого сверху. Болтает ногами. Кляксы грязи на коленках белых колготок подсохли, но видны. Ни Олега, ни Ольги рядом нет. Есть только толпа школьников, полуодетых, носящихся друг за другом. Как потом оказалось, Олег встретил клиента яхт-клуба и ненадолго отошел с ним. Ольга с дочкой получили пальто. При попытке одеть дочку перебравшей Ольге стало плохо, затошнило, и она, придерживая рот рукой, побежала в туалет, велев девочке никуда не уходить.
Герман, нацепив парик и клоунский нос, подходит к дочке Ломакиных, достает из кармана мячик. Школьники, гоняясь друг за другом, обегают их, оглушительно кричат, рычат по-львиному, хлопают себя по заднице, подражая обезьянам. Герман показывает мячик девочке, берет ее за руку.
— Пойдем, — говорит он, — я отдам тебе твой мячик.
Она послушно спускается со скамейки. По пути Герман отдает мячик. Девочка жадно схватывает его, нюхает и свободной ручкой радостно прижимает к себе.
— А еще у меня, смотри, что есть, — Герман показывает ей маску тигренка. — Хочешь померить?
Девочка кивает. Он, присев, надевает на нее маску, закрывающую глаза и нос. Разворачивает и вручает чупа-чупс, который таскает в кармане джинсов уже недели две. Быстро достает из сумки курточку, купленную в «Детском мире» (та оказывается великоватой), и шапочку. Надевает.
— Я тебе еще игрушки подарю. Хочешь?
Девочка, удерживая чупа-чупс во рту, кивает, доверчиво смотрит в его глаза через прорези тигриной маски. Избыток слюны липкой струйкой стекает по ее подбородку.
Герман берет девочку на руки. От нее пахнет карамелью и новой одеждой. Девочка тяжеловата, разгорячена, словно печка. Кожей запястья Герман чувствует бороздки рифленых колготок. Все вышло невероятно просто. Прибавив шагу, в парике, с клоунским носом, все еще не веря в случившееся, он вместе с толпой покидает цирк.
7
Декабрьским утром 1980 года с Германом в первый раз случилось то, что позднее он стал называть эхом приближающегося события. Повзрослев, он изучил это явление подробнее. За несколько часов или дней до судьбоносного события освещение менялось, словно включался дополнительный источник мощного света. Память жадно схватывала детали. Независимо от того, с каким знаком — плюсом или минусом — приближалось событие, предшествующий ему период отличался безмятежностью, замедлением времени и усиленным ощущением счастья.
Герман допивал какао. Ева, в толстом красном свитере с белыми оленями, забралась на стул, оперлась коленями о стертое сиденье (на ступню шерстяного носка приклеился кусочек фольги от шоколада) и расплющила нос о стекло: по карнизу бродил голубь. Ева постучала птице пальчиком, прислонила оторванный листок календаря к стеклу, прижала ладошкой. Заинтересовавшись, голубь клюнул потустороннюю Евину ладошку. Его клюв сорвался, и сквозь двойные рамы Герман услышал надсадный скрежет. Ева засмеялась. Голубь тряхнул отполированной головой, его блестящий глаз сердито уставился сквозь стекло на Германа. На резком свету глаз казался живой пуговицей. Прозрачно-карамельной, с черным зернышком. Глаз все смотрел и смотрел. Герман даже забыл сглотнуть какао и закашлялся. Потом птице наконец надоело, она взлетела, зависла на секунду за окном, замахала крыльями и обиженно улетела, сверкнув в морозном мареве сизо-зеленоватыми оттенками оперенья.
— Ну что, ребятки, — сказал Андрей, входя с двумя парами прогретых валенок, — собирайтесь, пошли за елкой в лес.
Ева захлопала в ладоши, слезла со стула и, подбежав к Андрею, повисла у него на шее. Сердце Германа застучало быстро-быстро. За елкой! В лес! Герман принялся наскоро заглатывать какао, вглядываясь в зеленую полоску леса в окне. Он находился в полутора километрах от гарнизона, но Герман увидел его так подробно, будто стоял рядом. Сосны поскрипывали, качались, стряхивали снег с верхушек. Иголочки в ряд, хочешь — пересчитывай. Пятна солнца дрожат на шершавой промерзлой кирпичной коре. Протяни руку — и почувствуешь ледяной ожог. Герману привиделась даже тень, метнувшаяся по снегу. Лисица?
Герман и Ева одевались в своей комнате. Кроме раскладушек, покрытых серыми солдатскими одеялами, старого шкафа и настенных часов со сломанной минутной стрелкой, в комнате ничего больше не было. Нехитрое детское барахлишко — тетрадки, цветные карандаши, камешки, засохших жуков, этикетки от шоколадок — Герман и Ева прятали в шкафу под не простиранными Андреем простынями. Еще у Евы были две книги сказок и — предмет жестокой зависти Германа — заводной медвежонок с бархатистой шкуркой и бочонком с надписью «Мед». Медвежонок был небольшой. Он заводился золотистым ключиком и рычал. Когда отец был дома, медведь жил под подушкой у Евы, а книги — под полосатым желтоватым матрасом. Эти вещи остались у Евы с той поры, когда они жили с матерью.
Вбежав в комнату, Ева первым делом вытащила медведя из-под подушки, поставила на подоконник и завела. Медведь радостно заревел. Герман, уже поняв, угадав, что в этот день все складывается как по волшебству, протянул руку и хрипло велел: дай. Ева, всегда ревностно оберегавшая свое сокровище, великодушно кивнула. Боясь, что сестра передумает, Герман схватил медвежонка. Забыв дышать, провел по шелковистой, бархатной шкурке, осторожно ощупал все сочленения, твердый покатый лоб, кожаный нос медведя. Прижал к щеке, захихикал, засмеялся.
Андрей меж тем уже разложил вещи на раскладушке и поторапливал:
— Давай, Герман, садись, будем рейтузы натягивать. — Герману было пять с половиной, но Андрей все еще помогал ему одеваться.
— А елку мы куда поставим? Сюда? — сыпала вопросами Ева, надевая валенки. — А чем мы ее будем украшать? Огоньки где возьмем? У нас с мамой всегда была огромная елка. И много игрушек. Моя любимая — девочка в красной шапочке. Она прищипывалась на ветку. А мамина любимая — снеговик с ведерком. Его Герман разбил.
Герман не помнил ничего из того, что говорила Ева, ни снеговика, ни саму маму. А рассказам Евы он не очень-то доверял: знал уже, что Ева врушка.
На колготки телесного цвета и шерстяные носки Андрей, присев на корточки, натянул зеленые рейтузы, а на них — синие шаровары с шершавой внутренностью, похожей на нутро грибной шляпки. Вдоль шаровар шел шов, полоска-стрелка. Прижимая одной рукой к груди медведя, другой Герман принялся изо всех сил оттягивать стрелку от коленок, точно она смертельно угрожала им. Дальше шли колючие черные валенки, подшитые, с кожаной гладкой вставкой на пятках. Андрей засунул ноги Германа в теплые валенки, шаровары спустил сверху, зацепил лямками подошвы. Шаровары натянулись, и стрелка отступила от коленок.
Неизвестно, откуда бралась вся та одежда. Она никогда не была новой. Герман помнил, как Андрей после обеда долго сидел в кухне у окна с ворохом одежды и подшивал, укалываясь иголкой и тихо чертыхаясь. Герман помнил его крупные солдатские стежки на майке, колготках, трусах, на кармашке байковой, в красно-синюю клеточку рубашки. И еще на Евином свитере: от Андреевых стежков голова одного из оленей сморщилась, приподнялась, точно олень, один из стаи, учуял что-то и встревожился.
Сначала — платок, потом — тонкая шерстяная шапка. Сверху — меховая круглая шапка-шлем, рыжая, в темных пятнах. Напряженный взгляд голубых глаз Андрея, когда он застегивает шапку. Легкий дружеский толчок в живот, вызывающий у Германа смех. Варежки на резинке прыгают от радости. Клетчатое пальто с капюшоном. Кожаный солдатский потертый ремень, чтобы не поддувало. Меховой воротник поднят и щекочет ворсинками шею и щеки: Андрей туго завязывает сзади синий шарф. Дышать — никак, но ради елки Герман готов вытерпеть все. Ева уже одета, ждет. На ней черная шубка, заячья шапка с помпоном и точно такой же, как у Германа, синий шарф, так же туго, жарко завязанный узлом под воротником сзади.
День морозный, русский, зимний. С тем самым нежно-голубым финифтевым небом, с удивлением проступающим сквозь заснеженные ветви деревьев. С мягко подоткнутыми снегом домами. С зависшими радужными снежинками в стекловидном воздухе. С пятнами ледяного солнца на деревьях и качелях.
Андрей вынес санки с изморозью на алюминиевой спинке. Ева, стянув варежку, тут же нацарапала на изморози свое имя.
В лес вела накатанная, скользкая, жирно отливающая на солнце дорога. По ней частенько возили солдат в грузовиках. Герман и Ева положили на санки топор, тот засверкал наточенным лезвием. Ева, потянув за веревочку, помчалась вперед, Герман едва успел ухватиться за спинку санок. Он бежал сзади, держась и одновременно толкая санки вперед. Снег поскрипывал, повизгивал под полозьями. Одной перекладины на санках не было, и сквозь щербинку Герману было видно, как бежит, льется струйками под ногами снежное молоко. По обе стороны от дороги застыли в складках снега белые поля. Герман обернулся: Андрей — серая шинель, шапка-ушанка со звездой, валенки — чуть отстал, шагал широко, курил. Дымок от сигареты весело струился вверх, в невозможно голубое небо.
Когда Герман и Ева с визгом вбежали в лес, вековые деревья принялись сурово ощупывать их, проверять, идентифицировать. Оробев и притихнув, Ева и Герман прижались друг к другу. Когда появился Андрей (края шинели — в снежной пыли, шапка со звездой заиндевела), тени набросились и на него, но тут же узнали, стали ластиться, ласкать лицо, плечи, покрасневшие руки (Андрей никогда не носил рукавиц). Щелкнув по-дружески детей по носу, солдат усадил Еву у спинки санок, Германа перед ней. Дернул за веревку, и санки тяжело, со скрипом двинулись с места, но быстро набрали скорость. Андрей свернул с дороги на раскатанную коньковым солдатским шагом лыжню.
Андрей запел песню «У солдата выходной». Ева с Германом подхватили. Они уже знали весь солдатский репертуар. И «Артиллеристов», и «Катюшу», и «Смуглянку-молдаванку», и «Марусю», и еще много чего. Продолжая орать во все горло, Ева и Герман растопыренными руками и ногами задевали заснеженные кусты, мимо которых проезжали, и повизгивали от удовольствия, когда снег сыпался им в лицо. День неумолимо шел вперед. Какой-то другой, будущий Герман делал знаки, пытался сказать Герману-мальчику, что вокруг происходит нечто большее, чем то, что он видит, о чем-то просил, предупреждал. Герман прислушивался, слышал намеки, но не понимал их.
Елку увидала Ева:
— Вон, вон, Андрей, смотри, вон она.
Елка стояла метрах в тридцати от лыжни, в сугробах меж старых уставших берез. И сейчас Герман хорошо помнит ее. С ровными пышными боками, широким подолом в снежных оборках, который она, как молодая цыганка, раскрыла веером на голубоватом снегу. С прямой, как стрела, верхушкой, обсыпанной снежным сахаром. Со все теми же пятнами солнца вместо игрушек. И еще — с темными веснушками прошлогодних листьев с соседок-берез.
Андрей остановился. Ева выбралась из санок и помчалась к елке, но тут же увязла в снегу. Андрей вытащил Еву из снега, поднял, прижал правой рукой к шинели, свободной рукой схватил топор:
— Герман, побудешь здесь? — Герман кивнул. — Мы мигом, — пообещал Андрей и пошел с Евой на руках меж тесных чешуйчатых стволов, глубоко проваливаясь в снегу.
Добравшись до елки, Ева с Андреем принялись осматривать ее.
— Ну что, Герман, — крикнул Андрей, обернувшись, — срубаем?
Герман радостно крикнул в ответ:
— Субаем!
Стукнул топорик. Елка дрогнула и от неожиданности осыпала снежную броню. Ева издала победный клич. Андрей засмеялся. Его смех эхом прокатился по лесу. В нетерпении Герман принялся катать по лыжне санки. С каждым разом он увеличивал дистанцию. Стук топорика отдавался гулким веселым звоном, отталкивался от стволов и убегал далеко в лес. Голоса Евы и Андрея звучали необычно высоко и как будто по отдельности.
За грудой старого валежника лыжня поворачивала. Герман решил посмотреть, что там. Заведя воображаемый мотор — р-р-р, он свернул за валежник и, держась заиндевевшими варежками за спинку санок, помчался вперед. Через несколько метров уткнулся в стену из сосен. Они стояли тесно, будто хотели обняться. За соснами уходил вниз овраг. Солдатская лыжня огибала его поверху. Герман поставил санки на край оврага, сел, взял веревку в руки и, оттолкнувшись валенками, направил санки по склону. Не проехав и метра, санки застряли. Герман повалился на снег и покатился вниз боком, как они часто делали с Евой на горке рядом с домом. Снег тут же забил нос, рот и глаза, сильнее и веселее застучало сердце, защипало щеки и запястья.
На дне оврага Герман раскинул руки и ноги. Прислушался: стук топора замолк. Поспешно поднялся. Правая нога удивительно легко, глубоко ушла вниз, а дальше… А дальше была только боль. Боль, для которой и теперь, спустя годы, он не может подобрать слов. Ева рассказывала, что крик его был настолько чужим, жутким, что она и Андрей не сразу догадались, кто это кричит. Солнце приблизилось к Герману, горячо задышало и принялось жечь его тело. Предметы потеряли формы, мир задрожал и рассыпался на атомы, будто его никогда и не существовало.
Кто поставил тот капкан так близко к гарнизону, так и не выяснили. Капкан был самодельный. Его сконструировали с особой жестокостью. Острые стальные зубцы как по маслу прошли сквозь валенок Германа и в один миг раздробили детские кости.
8
Больше двух с половиной месяцев Герман провел в больнице. Когда он оказался дома с собранной кое-как из осколков ступней, костылями, выменянными Андреем у санитара на наручные часы, отец повел себя так, будто ничего не произошло. Правда, отменил совместные завтраки, а значит, и пытки вареным яйцом.
А в мае 1981 года отец посадил Германа и Еву с Андреем на поезд. На перроне крепко обнял и поцеловал Еву. Посмотрел на Германа, опиравшегося на костыли. Сжал его плечо так, что Герман едва удержался, чтобы не вскрикнуть. Наклонился и коснулся лба мальчика мокрыми холодными, несмотря на жаркий день, губами. Герман в поезде еще долго ощущал ледяной ожог этого поцелуя.
Герман не помнит, сколько они ехали. Несколько раз перекусывали — чай, разумеется, в подстаканниках, с дребезжащей ложкой, бутерброды. Вареная картошка с зеленым луком, разложенная на газете «Правда». Ева уже успела подрисовать усы немолодому мужчине с густыми черными бровями (одна выше другой), на пиджаке — висячие звездочки орденов, пробовала прочитать заголовок: «Ву… вру… вручен… е». Андрей научил Германа и Еву макать лук в соль и прикусывать с картошкой. Герману понравилось. А Ева молотила все, что успевала захватить пухлыми ручками, и расспрашивала Андрея о Москве. Тот каждый раз отвечал ей, что никогда там не был, но спустя некоторое время Ева снова спрашивала.
После еды Герман смотрел в окно, изумляясь тому, что в мире так много людей, домов и деревьев. Андрей с Евой играли в карты. Когда Андрей, увлекшись, забывал ей уступать, Ева, покраснев от возмущения, громко требовала реванша. Устав от игр, скакала, носилась по узкому коридорчику плацкартного вагона. Раз вернулась с большой шоколадкой. Шоколадка подтаяла на весеннем солнце, поджаривавшем вагон. Когда Ева развернула обертку, шоколад туго потек ей на пальцы. Через минуту руки и лицо Евы были в шоколаде, а спустя еще минуты три от шоколадки ничего не осталось (Герман и Андрей отказались от мятой дольки, которую Ева милостиво протянула им по очереди). Потом Ева спала на верхней полке. Ее волосы свешивались и, потеряв темный цвет на солнце, долго — нет, вечно — раскачивались вместе с вагоном.
Андрей тоже поспал, на нижней полке, напротив Германа. Положив руку под голову, выставив рыжую подмышку. От жары его лицо и грудь над вырезом майки покраснели, вспотели, но он не замечал и спал долго, крепко, сладко. А вечером, выбежав на стоянке, купил пирогов и успел поймать в кустах сирени бронзовку с зеленой радужной спинкой и тяжелыми надкрыльями. В вагоне Андрей высыпал спички из коробка и положил туда жука. Герман, дрожа от возбуждения, взял коробку и прислонил к уху: лапки жука тихо скребли по картону — скраб, ск-краб-б, ск-краб-б. Ева тоже послушала, но почти тут же отдала коробку назад: насекомых она не любила. А Герман весь остаток дня то приоткрывал крышку коробка, глядел на зеленую спинку жука, текущую металлом, то снова задвигал и слушал шорохи.
Ночью Герман не мог уснуть. Выбравшись из пут простыни, встал на колени, оперся локтями о столик и уставился в окно. Проносящиеся леса, еще несколько часов назад струившиеся нежно-зеленой листвой, радостно махавшие солнечными ветвями вслед поезду, сделались черными, кружевными, превратились в цельное темное недоброе существо, которое раскачивалось, шумело и угрожало мчащемуся поезду. Иногда воздушными привидениями возникали цветущие вишни и яблони, они белели, пенились, тянулись прочь из лап леса-оборотня. Между лесами, над равнинами, небо вспыхивало, тлело на горизонте красными и зеленоватыми полосами. Эти светлые промежутки быстро заканчивались, поезд снова нырял в темный лес, деревья в котором, точно воины, тесно смыкали ряды, намертво переплетались ветвями.
Жук в коробке спал. Герман тихонько постучал по крышке, поскреб ногтями. Сначала жук не отвечал, а потом зашуршал, задвигал лапками.
— Почему не спишь? — раздался вдруг шепот Андрея.
— Не знаю.
Андрей сел, потянулся, громко зевнул. Перебрался к Герману, посадил его на колени, обнял. Герман прижался к горячей со сна груди Андрея.
— Покурить охота, — сказал Андрей. — Пойдем покурим.
— Пойдем, — согласился Герман.
Андрей отнес мальчика в тамбур. Там, продолжая держать Германа на руках, закурил, протянул сигарету Герману:
— На, затянись.
Герман ухватил сигарету зубами, попытался дунуть в нее, потом вдохнул, глотнул едкого горького дыма и закашлялся так, что выступили слезы. Андрей засмеялся, забрал сигарету. Докурил.
— Ну вот мы с тобой и покурили, Герман. А теперь пошли спать.
У бабушки была замысловатая прическа, очки на пол-лица, атласный халат и серебряные кольца на крупных руках. Она держала письмо и медленно читала. По мере чтения кресло, в котором она сидела, расставив крупные и белые, точно у снеговика, ноги, принялось поскрипывать, выдавая возмущение. Потом от возмущения у нее начал подрагивать крупный нос, потом уголки рта, потом гневно задрожала седая прическа, а затем и сережки закачались, вспыхнули. Лицо и грудь бабушки налились краснотой, будто кто-то облил ее малиновой краской.
Герман, Ева и Андрей сидели напротив на диване и не шевелились. Брат и сестра держались за руки. Герман чувствовал, как раскалилась, горячо вспотела ладошка Евы, его же превратилась в тающую ледышку. Комната двигалась (ночью Герман так и не уснул), проплыли шкаф с книгами, этажерка, заставленная фигурками; картины с древним городом съехали со стены и покачивались в воздухе. Герман часто заморгал, и предметы вернулись на места. Пока бабушка читала, луч на полу подрос и теперь лизал заштопанный носок Германа, обтягивающий искривленную травмой правую ступню.
Часы на столике с танцующими ножками ожили, в часах раскрылась дверца, и оттуда весело выкатилось гнездо с четырьмя серебристыми птенцами. Раздалась громкая механическая трель. Пять часов вечера. Бабушка подняла голову, сложила письмо, сняла очки и уставилась на Германа и Еву. Смотрела минуту или две, поджав тонкие губы. Потом тяжело поднялась. Роста она была внушительного, выше Андрея на голову. Подошла, наклонилась. Пахнуло сладковатыми духами и запахом старости. На брата и сестру смотрели маленькие темные глаза, зрачки стремительно двигались то вправо, то влево.
— Идите за мной, — сказала бабушка хрипловатым голосом, низким, будто медвежонковый рев. — А ты, солдат, посиди пока.
Комната, куда бабушка привела детей, была меньше предыдущей. В ней стояли диван, круглый стол с лампой, шкаф. В окне виднелся удивительный дом с длинным шпилем и башенками. Бабушка велела вести себя тихо, задержалась взглядом на лице Евы, а потом исчезла в проеме, затворив дверь.
Герман сложил костыли и устроился в уголке дивана. От усталости глаза слипались. Он вытащил из кармана шорт спичечную коробку. Приоткрыл, поглядел на жесткую зеленую спинку друга, задвинул. Приставил к уху, лапки успокаивающе зашуршали.
— Ева, что едят жуки?
Ева пожала плечами. Она стояла у двери и прислушивалась. Голоса Андрея и бабушки сливались, они что-то горячо обсуждали. Ева тихо приоткрыла дверь и высунула голову.
Герман вцепился пальцами в спичечную коробку, пытаясь не заснуть. Ева повернулась к Герману:
— Бабушка говорит, что ей семьдесят лет и у нее нет времени растить детей.
Снова высунула голову, опять повернулась к брату:
— А Андрей ей говорит, что, если она не возьмет нас, у него приказ — отвести детей в детский дом.
Герман зажмурил глаза, попытавшись различить слова, которые произносили бабушка и Андрей, но слова только гудели, раздувались, обрастали дополнительными звуками. Воспользовавшись промашкой Германа, сон ласково подышал в его веки и быстро, ловко накрыл своей темной сетью.
9
Ариша, а по новым документам она стала Ариной Германовной, сидит на краешке дивана и молча глядит на Германа. Он прижимается лопатками к стене. В комнате только диван, который Герман сохранил из проданной квартиры. Герман вытаскивает из кармана пальто пачку сигарет, закуривает. Сама по себе девочка его не интересует. Он может обвинить ее лишь в том, что черты ее лица схожи с чертами отца и матери, убийц Евы.
— Теперь ты будешь здесь жить.
Девочка качает ногой. Болотно-зеленая куртка, купленная в «Детском мире», сидит мешком. Из кармашка выпирает мячик.
— Будешь звать меня папой.
Герман знает, что с детьми лучше разговаривать, присев на корточки, но решает не утруждаться. Девочка не плачет, не визжит — это уже кое-что. Ему хочется быть сейчас в цирке, смотреть, как мечутся Олег и Ольга в поисках дочери. Как разговаривают со служащими, как те заглядывают в потайные уголки, разводят руками. Как, все еще не веря, что это происходит с ними, Ломакины вызывают милицию, рассказывают приехавшим на вызов сонно-отрешенным сотрудникам, что произошло, описывают девочку. У Олега наверняка есть в бумажнике фотография дочери.
Ариша стучит ботиночками о диван, и на давно не мытый пол падают ошметки сухой грязи, отформатированной рифленой подошвой. Ерзает на стертом велюре, опасливо поглядывая на Германа.
За окном с места, где стоит Герман, видно только небо. Слышно, как на одной ноте шумит МКАД.
— Ты слышишь меня? — Герман выпускает колечко дыма. — Тебя теперь зовут Ариша. Я — твой папа.
Девочка в ответ старательно чешет переносицу. Спускается с дивана и, поглядывая на Германа, обходит комнату. На подоконнике лежит игрушечная овца с глуповатой мордашкой, купленная Германом в том же «Детском мире» по акции почти задаром. Ариша тянет овцу за ногу. Нюхает резиновое лицо, прижимает игрушку к себе и что-то шепотом говорит. Прихватывает еще пакет с деталями лего, теми самыми, оставшимися от прежних жильцов, разнокалиберными, подобранными явно на помойке. Герман сложил лего в пакет накануне и перенес в комнату девочки. Ариша усаживается на пол. Мячик выдавливается из кармана и укатывается в угол. Положив овцу на колени, Ариша высыпает с грохотом детали из пакета. Выбирает несколько и принимается строить из них что-то. Поднимает взгляд на Германа.
— А… — говорит она.
— Что?
— …ок, — завершает слово Ариша.
За́мок? Герман с удивлением глядит на девочку. Неужели возмездие уже отметило убийц?
То, что девочка не говорит, многое упрощает. Герман поднимается, идет на кухню. Тушит сигарету и выбрасывает в мусорное ведро. Достает из холодильника коробку молока с трубочкой, яблоко, булку. Берет из шкафчика салфетку. Приносит все это в комнату и раскладывает на салфетке на полу рядом с Аришей. Посчитав, что сделал для этого ребенка более чем достаточно, отправляется к себе в комнату. Здесь есть не только диван, но еще стол, на котором стоит переносной телевизор с антенной наверху и пузатый компьютер с пятнами на экране. Герман приобрел их с рук по дешевке. Он включает телевизор. Отыскивает городской канал. Теперь остается только ждать.
10
В комнате у бабушки висел портрет. Бабушка уверяла, что ее. Герман не верил: женщина на портрете была молода и больше походила на Еву, чем на бабушку. Женщина стояла вполоборота у зеркала и поправляла прическу. Темные волосы были завиты и убраны, на шее — бусы из жемчуга, платье с отворотом, странное, нездешнее. Из картинного зеркала женщина всматривалась в себя и чуть косила на Германа. Чем дольше он смотрел на нее, тем больше находил сходства с Евой, и в конце концов уверовал в то, что это портрет будущей Евы.
Фамильные черты нагло выпирали в Еве.
— С Евой все ясно, — говорила бабушка, — наша, Морозовская. И характер наш. Упрямый, поперешный. А вот ты, дружок, в кого?
Как-то осенью в выходной после обеда бабушка отнесла Германа на руках на балкон. Усадила в старое деревянное кресло-качалку на мягкую подушку с вышитыми и уже почти стертыми временем ягодами и листьями. Приподняв за подбородок, подставила его лицо под лучи солнца 1981 года. Отошла, оперлась крупными локтями о перила балкона. Напряженно уставилась. Рядом с креслом стоял столик, и Герман боковым зрением видел, как сверкала на нем в осеннем свете серебряная пепельница с дымящейся сигаретой, а в пузатой рюмке подрагивала от холода тягучая темная жидкость. От нее шел сладкий и резкий дух. Ликер. Бабушка обожала этот напиток и всегда держала в шкафу с десяток бутылок.
Рядом с пепельницей и рюмкой лежала толстая книга в синей искусственной коже. Семейный альбом. Все последние дни бабушка не расставалась с ним. Сейчас она протянула руку, перстень на ее пальце словил осеннего зайчика, тут же убежавшего по переносице Германа в никуда. Бабушка взяла альбом, раскрыла и принялась сверять черты Германа с морозовскими лицами всех калибров. Занималась она этим долго, Герман успел утомиться. Время от времени бабушка вытаскивала из силков фотографию, приставляла сбоку к лицу Германа (от карточки неприятно тянуло запахом старой бумаги, пыли и табака):
— Посмотри-ка вправо, Герман, нет, нет, не туда, на шпиль.
И Герман послушно глядел на шпиль краснопресненской высотки, возвышавшийся над окружающими домами.
Раз рука бабушки дрогнула, задержалась у лица Германа с очередной карточкой. Хриплый тягучий медвежонковый голос повеселел. Ну-ка, ну-ка… Взгляд подернулся лаской. Герман откликнулся, подался вперед, задрожал от прилива подступающего счастья. В крови загудели тысячи пчел, что-то сладко заныло в сердце, коленях, пятках. Древний род горячо задышал в уши, разомкнул ряды, раскрыл объятия — повеяло спокойствием, уверенностью… Но тут бабушка разочарованно покачала головой, убрала фотографию, сделала затяжку и захлопнула альбом. Легкое облачко пыли взвилось в небо…
Попыток обнаружить морозовские черты в Германе бабушка все же не оставляла. Намыливая в ванной, изучала все его сочленения, выступающие кости, уши, пальцы, пятки, затылок. Взмокшая, со стекающими с красного крупного носа каплями, в кляксах пены на халате, она натирала Германа мочалкой (древесного цвета, с макаронными нитями, которые, выбившись из-под ее пальцев, весело щекотали кожу). Устав, присаживалась на край ванной и смотрела, как Герман играет пластмассовым Чебурашкой в воде. Всматривалась, вщуривалась, пытаясь уловить знакомый жест, взгляд. Как-то разбудила Германа ночью. Радостно напевая, посветила в лицо фонариком. От желтого ослепляющего света у Германа защипало глаза. Спустя минуту фонарик погас, бабушка погрустнела, поправила ему одеяло и понуро, шаркая тапочками, ушла.
Бабушка не любила неясности. Однако тут столкнулась с неодолимым препятствием.
— Остается только ждать, — повторяла она время от времени. — Ждать, когда вырастешь. Голос, или фигура, или походка скажут наверняка. Только дождусь ли я?
Однажды Герман подслушал ее телефонный разговор. Проснулся ночью в туалет, потому как с вечера наелся арбуза — сахарного, тающего красным мороженым на языке (такого вкусного, что Герман сгрыз даже травянистую зеленую мякоть у жесткой гладкой корки). Он опустился на пол на колени: без костылей, ползком, было быстрее и тише. Когда полз обратно, задержался у комнаты бабушки. Она с кем-то разговаривала этим своим медвежонковым голосом. Герман постепенно приручал этот голос внутри себя. Он заглянул в щель: комната была полна дыма, бабушка, в атласной ночной рубашке, похожей на свадебное платье, в бигуди, огромными толстыми гусеницами облепивших голову, сидела в кресле. На подоле белел телефон. В одной руке — трубка, в другой — сигарета. Герман заткнул нос и задышал ртом, чтобы не закашляться и не выдать себя.
— Ну не выкину же я их на улицу? Перестань, Веро́ника. Уж тебе-то известно, что такое детдом. Мать? Да я понятия не имею, кто она… А вот так, ни сном ни духом. Ты же его знаешь, моего сыночка… Молчком да тишком. С его характером не стоило и пытаться заводить семью… Ну конечно, искала, с лета ищу. Да как-как — всё без толку, вот как. Я даже не знаю, как ее зовут. В свидетельстве о рождении у них вместо матери прочерк… Бывает, не бывает — а вот есть! А вот так, представь себе. Еще и с документами мне морока… Но что делать-то? Побудут уж теперь, пока не пристрою… Знаешь, иногда мне кажется, что он специально. Мне в отместку. Он же все упрекал меня — дескать, все его детство прогуляла, жопой прокрутила, сначала соседи вырастили да ты, Веро́ника, а потом военные в училище. Во как, во какой, ты подумай… Дети? Да ничего они не помнят… Ну какие, если ими солдат занимался? Дикие, конечно… Ну, ты как всегда… Да если бы и так — все равно не выкину же я их?.. Ладно, ладно… Девочка-то точно наша, зайдешь, увидишь, в обморок упадешь, насколько похожа… Он-то? — Бабушка помолчала, выдохнула дым, тяжело вздохнула. — Мальчишка, видать, в мать… Уж сколько ищу, ничего нашего… Да, я знаю, знаю, что наша порода всегда перебивает, но, может, в этот раз дала сбой?
Герман прополз мимо своей комнаты в комнату сестры. Полупроснувшись, Ева подвинулась к стенке, давая брату место. Они обнялись, Герман уткнулся носом в мягкую пижаму сестры, поддался щекотке упавших на лицо ее темных растрепавшихся волос. Где-то у ее шеи, у ключиц запах земляничного мыла отступил, и Герман вдохнул настоящий запах Евы, родной, успокаивающий. Так до конца и не проснувшись, Ева привычно погладила брата по голове, спине и снова задышала ровно и редко. Герман тоже вскоре уснул.
Раздумывая, как поступить с материализовавшимися неизвестно с какой планеты внуками, или, может, ожидая, пока разовьются к ним какие-то чувства, бабушка делала для них то, что и сама любила. А любила она вкусно покушать, хорошо одеться, порадоваться разным вещичкам. У Германа появились машинки, коробка солдатиков. У Евы завелись куклы. Одна из них, немецкая, с пышными волосами и четко прорезанными чертами лица, нравилась и Герману. Точнее, запах ее волос — будто всегда надушенных сладковато-тревожными духами. Купила им бабушка и настольный хоккей. В него они с Евой играли на полу, чтобы Герману было удобнее.
Вообще-то Герман ненавидел игры. Посмотреть диафильм или послушать сказку на пластинке — вот что он полюбил с первых же минут, как проектор и проигрыватель появились у них с сестрой. Но Ева настаивала на играх, требовала, а то и подкупала. И Герман уступал. Двигал картонными плоскими хоккеистами, всегда слишком медленными и неловкими, мучительно сравнивал белые точки на гладких шоколадках домино. С цифрами на бочонках лото было еще хуже. Он умел считать только до десяти, а Ева показывала донышки бочонков слишком быстро, и он не успевал сравнить их вид с теми, что на карточке. Герману нравился только сам мешочек, в нем бочонки весело перекатывались, постукивали. Да, были еще настольные игры из журнала «Мурзилка». Красная фишка всегда была за Евой.
Разумеется, Ева всегда и во всем выигрывала. Была только одна игра, победа в которой оставалась за Германом, — прятки. Передвигаясь ползком по квартире, Герман хорошо изучил все ее укромные места, где нетерпеливая Ева его бы не заметила. Всего в квартире было четыре комнаты, а еще чулан, где Герман и любил прятаться.
В чулане жили старые пальто с меховыми воротниками и шляпы бабушки. От них тянуло мышами и нафталином, нетающие ледышки которого были засунуты в карманы. На полке стояли банки с вареньем и соленьями, висели связки лука и пучки трав, расточая душноватые летние запахи с примесью гнильцы. В потемневшем деревянном ящике пылились и выпускали остатки сладковатых паров пустые бутылки из-под ликера с яркими этикетками. В сентябре 1981-го, как раз когда Ева пошла в школу, в чулане ненадолго поселилась и скрипучая корзина с терпко пахнущей антоновкой.
Закрыв дверь чулана и спрятавшись, Герман сперва дрожал от возбуждения. Дрожал так сильно, что приходилось с силой прижимать колени к полу. Потом волнение уходило, оставалась только радость от предвкушения победы в игре. Он с наслаждением прислушивался, как Ева ищет его, хлопает дверьми, двигает стульями, зовет. Постепенно звуки в квартире отдалялись, квартира за чуланом отъезжала, уменьшалась, исчезала. Свет в щели между дверью и полом усиливался, и Герман начинал различать предметы. Его охватывало ощущение, что вокруг происходит что-то еще, кроме того, что он видит. Предметы в чулане наделялись волшебным смыслом и предъявляли Герману убедительное доказательство того, что независимо от жизни в квартире бабушки он проживает еще и другую параллельную жизнь — и она-то и есть настоящая. И все в этой настоящей жизни идет правильно, так, как надо.
Чуланную тайну он берег даже от Евы. И сейчас, сквозь время, он видит, как Ева распахивает дверь в его убежище. Ее бант на сквозном свету переливается радужно-зелеными крыльями. Вечно тесное плотному тельцу зеленое платье поднялось к подмышкам, так что видны трусики в цветочек и толстые ляжки в пунктирах знакомых царапин. Ева замирает на пороге. На ее раскрасневшемся лице — несвойственная растерянность, испуг. Большие темные глаза увеличиваются, как в мультиках.
— Герман, ты тут? — вытянув шею, Ева боязливо заглядывает внутрь. Она никогда одна не переступает порога чулана. Герман слышит ее прерывистое шумное дыхание. Еще несколько секунд Ева вглядывается в сумрак чулана, потом резко захлопывает дверь. Герман слышит, как она в спешке убегает, тяжеловато топая ногами и громко крича на ходу: — Всё, Герман, мне надоело играть.
Это означало: ты победил.
11
Каждое воскресенье бабушка брала Германа и Еву с собой в оперу, которую обожала. Наряжала, душила духами. Еве делала прическу, а тонкие, невнятного цвета волосы Германа зачесывала и брызгала сладким липким лаком. В оба кармана пиджака Германа засовывала по надушенному платку. Мучения начинались сразу, с фойе. Прыгая на костылях, Герман чувствовал на себе жалостливо-презрительные взгляды разряженных людей, краснел и боялся упасть. В туалете было скользко и неудобно. На лестнице бабушка брала его костыли в левую руку, а правой, дряблой и страшно белой на ярком свету, тесно обхватывала и тащила вверх, вызывая у Германа приступ тошноты от давления руки на живот и запахов духов, перебродившего пота и старости.
Сидеть на красных бархатных стульях было сначала весело. Толстые орущие мужчины и женщины в странных одеждах смешили Германа и Еву. Брат и сестра прыскали, давились смехом и получали от соседей змеиное шипение, а от бабушки устрашающие взгляды, а то и подзатыльники. А потом смешно быть переставало, наступала мучительная скука, которая тянулась и тянулась. Ева засыпала, а Герман ерзал на стуле и шкрябал, прорезал ногтем лак на поручне кресла или ножке костылей.
Один раз бабушка сводила их в цирк. Герману понравилось, но самой бабушке было неинтересно — и, господи, как же воняет. Запах и правда был сильным (они сидели в третьем ряду), терпким, но Герман с ним поладил. С запахами он выстраивал особые отношения. Ему были нипочем запахи, которые большинство людей не любили, например, больницы или мусорного бака. При этом он не переносил всеобщих любимцев — запаха воздушных шариков и — да — елки.
Из цирка бабушка их увела в антракте. В утешение расплакавшемуся Герману предложила зайти в кафе. Пузырьки «Дюшеса» больно и жестко били в нос, мешались со слезами и обидой.
— Как-нибудь свожу вас на детский спектакль, — пообещала бабушка, — в кукольный или ТЮЗ.
Но так и не сводила — она никогда не делала того, чего ей не хотелось.
Когда появились Ева и Герман, бабушка еще работала в книжном магазине на улице Кирова[1]. Восседала на кассе в отделе художественной литературы. Царская прическа, перстни на руках. Хорошие книги были крепкой валютой и позволяли бабушке участвовать в той круговой поруке, которая делала жизнь не только сносной, но и занимательной. Знакомые были у бабушки везде. В ресторанах, обувных, больницах и парикмахерских, театре. При Германе и Еве появились детские врачи, продавцы детских магазинов, позднее — учителя в школе. Все эти тайные взаимовыгодные игры вовсе не были бабушке в тягость, о нет, напротив, она играла в них с удовольствием.
Время от времени бабушка принимала гостей — давних знакомцев из союзных республик. Грузины, армяне, азербайджанцы, молдаване. Это были внуки и дети однокурсников и однополчан бабушки (в войну она была связисткой). Когда приезжали южные гости, квартира наполнялась незнакомым, щекотным благоуханием. Женщины все время что-то жарили на кухне, запекали, тушили. Их бархатные голоса весело переговаривались. Ева крутилась рядом с гостями. Обученная еще Андреем, она помогала сыпать муку для лепешек, мыть овощи и чужеземную зелень. Высунув язык, снимала кожицу с крупных сладких помидоров. Нюхала специи и тут же радостно и громко чихала.
Герман иногда тоже заглядывал в женское царство. Женщины ловили его, усаживали на табурет у стола, заваленного овощами и зеленью. Гладили по плечам, обнимали. Говорили, что он совсем худой и так нельзя, восхищались его светло-серыми глазками. Какой красавец вырастет мужчина. Русский витязь. Все это говорилось с завораживающим акцентом, цоканьем языком. Спрашивали, не болит ли ножка. Качали головами, огорчаясь, что ему приходится ходить на костылях. Все, что Герман боялся услышать, они произносили легко и не обидно и так просто, что Герман переставал дичиться и соглашался попробовать острого чахохбили или кисло-сладкого варенья из зеленых грецких орехов, глотнуть терпкого домашнего вина. Ближе к вечеру, когда все собирались, на кухне устраивался пир, в котором Ева и Герман всегда участвовали на первых ролях.
Гости щедро платили за постой и рублями, и гостинцами. Бабушка встречала их с неподдельной радостью, удобно устраивала и сводила с нужными людьми.
— Пойдем ко мне, Лейлочка, я позвоню Владимиру Николаевичу, и всё уладим.
Лейлочка, большая испуганная армянка с влажными от волнения усиками, тяжелыми роскошными черными волосами (на их фоне волосы Евы уже и не казались ни черными, ни роскошными), переваливалась за бабушкой, присаживалась на краешек дивана в бабушкиной комнате, той, где часы с птенцами, сжимала ноги и стискивала руки, пытаясь при этом улыбаться.
Бабушка садилась в любимое кресло, раскрывала толстую тетрадь в оранжевом кожзаме и листала исписанные страницы крупным пальцем. Брала телефон, прикрывала ненадолго глаза, находила особую для таких случаев внутреннюю улыбку. Пока ее указательный палец крутил тугой телефонный диск, сама бабушка перемещалась во времени. Герман любил наблюдать за ней в эти минуты: у нее менялся голос, осанка, даже движения, с каждым собеседником она становилась другой женщиной.
— Здравствуй, Владичек… Да, это я… И я рада слышать тебя… Как ты, мой дорогой… Ну а я, Владичек, вот чего тебе звоню…
Завершив разговор, опускала трубку и еще некоторое время прислушивалась к затихающим чистым отзвукам в том несуществующем на карте пространстве, где только что разговаривала и жила. Поднимала глаза на Лейлочку, сгрызшую уже от волнения полногтя. Тряхнув царской прической, возвращалась в Москву восьмидесятых:
— Ну вот, Лейлочка, девочка моя. Все уладилось. Владимир Николаевич будет ждать тебя во вторник в три часа.
Прощались с объятиями и слезами. Закрыв за гостями дверь, бабушка вытирала слезы. Вытаскивала из кармана деньги. Привычно пересчитывала:
— Вот сказала же — не надо денег. Мы ведь все равно что родные.
Бережно складывала купюры и убирала в шкаф в деревянную шкатулку с резными ящерицами. Запирала шкатулку на маленький ключик. Шкаф тоже запирала. Ключи носила с собой — в кармане атласного халата. Если гости жили недолго, грустила до вечера, а если неделю-другую — заметно веселела и принималась напевать мелодии из любимых опер.
12
На третий день после похищения Герман состригает Арише волосы машинкой. Процедура ее удивляет, но, похоже, не расстраивает. К очкам с простыми стеклами, с пластмассовыми красными дужками, стянутыми резинкой за головой, Ариша уже привыкла. Сидя на стуле, девочка болтает ногами. За окном льет холодный дождь, подсвеченный краешком низкого солнца. Мягкие, как шкурка гусеницы, волосы девочки падают на пол, обнажая на крупной детской головке нежную кожу. Готово. Герман выключает машинку. Ариша трогает стриженую макушку: ёик. Подняв заискивающий взгляд на Германа, берет его руку и проводит по своей обновленной голове. Ёик, повторяет она радостно. От волос осталось миллиметров пять, остатки эти действительно немного колются.
Лысая, в очках, с вытянутым тельцем, Ариша больше не похожа на милашку с фотографии, развешанной повсюду в Москве. Теперь она напоминает мальчика. Герман берет с подоконника склянку с йодом, привычно цепляет взглядом МКАД — по нему, словно по опрокинутому беличьему колесу, движутся и движутся под дождем сомнамбуличные машины. Повернувшись, останавливает бегающую по комнате Аришу, наносит ватной палочкой на лысую голову и часть лба насыщенное йодовое пятно. Это для любопытных соседей, уже несколько раз звонивших в дверь познакомиться. Узнав про лишай, они точно умерят пыл.
Чтобы отвлечь девочку от размышлений по поводу озадачившего ее йодового пятна, Герман вытаскивает из кармана джинсов чупа-чупс. Несколько секунд, весьма ловкие для трехлетнего ребенка движения пальчиков, и воздух в комнате наполняется химическим благоуханием апельсина.
Герман обращается с Аришей предупредительно. Лишнее внимание соседей ему ни к чему. Впрочем, девочка не плаксива. А если и плачет, то тихо, будто кто-то специально обучил ее этому. Сама зажимает себе рот или ложится лицом на диван или подушку. Вчера, впрочем, прищемила палец дверью, вот тогда уж разревелась по-настоящему. Герман сначала сделал несколько снимков плачущей пленницы на Polaroid, а потом уж донес ее до ванной и подставил руку под ледяную воду.
Всю неделю Герман придерживается плана и не выходит на улицу. В морозилке достаточно сосисок, а в коробке на полу полно пакетов молока. Ариша берет их сама, когда захочет. По правде говоря, Герман мало обращает на девочку внимания, все его мысли заняты Ломакиными. Герману очень хочется посмотреть на их лица. Это была бы ничтожная плата за последние четыре года ада. Но он понимает: если Олег Ломакин его заметит, узнает, то тут же выстроит возможную логическую цепочку. Конечно, если он и помнит Германа, то толстым мягкотелым братцем, и ему и в голову не приходит, что он, Герман, знает, что на самом деле произошло в Севастополе в октябре 1999 года. Что вообще кто-то об этом знает. И все же рисковать не стоит.
24 октября, едва проснувшись, Герман включает городской канал. В конце выпуска новостей дают все то же объявление о пропаже дочки Ломакиных. Диктор просит зрителей, которые что-либо видели на представлении 12 октября в цирке Никулина или знают, где сейчас находится девочка, позвонить по телефону — номер его бежит, спотыкаясь, внизу и теряется в углу экрана. На несколько секунд экран заливает солнечная фотография Ариши. Девочка снята на яхте. В белых шортах и маечке, стоит, прислонившись к борту. Выгоревшие волосы развеваются на ветру, лицо вытянуто, небольшие глаза высвечены уже снижающимся солнцем. Глядит в камеру этим своим сосредоточенным взрослым взглядом, который Герман уже немного изучил. Взгляд этот объясняется, видимо, тем, что девочка многое понимает, но почти не говорит.
Герман садится за компьютер. Прежде чем включиться, машина долго гудит, попискивает. Он заходит в интернет и перечитывает все, что выпуклый маленький экран выдает о похищении дочери владельца компании «ML Marine Moscow», в состав которой сейчас входят несколько яхт-клубов. Со времени смерти Евы компания расширилась. В одной статье читателей жалостливо и слезливо просят помочь собрать деньги для выкупа девочки, перечислив их на такой-то счет. В другой — эксперт со звучной фамилией доказывает, что девочку уже разобрали на органы и он, эксперт, даже знает, для кого эти органы предназначены. А вот и что-то новенькое: анонимная соседка Ломакиных сообщила журналисту, что девочку спрятала сама Ольга. Муж, сообщила соседка, регулярно бьет Ольгу, и та боится за дочку. Тут же в доказательство помещена смазанная фотография — Ломакины сняты в супермаркете, Олег крепко держит Ольгу за локоть, она опустила голову, выражений на лицах не разглядеть.
Герман закрывает глаза. Никто, никто не знает, что происходит на самом деле. И, скорее всего, не узнает никогда. Только теперь он осознаёт, какой выбор сделал. Быть всего лишь исполнителем, тенью. Сколько сил ему понадобится, сколько выдержки. Но хотя бы раз-то увидеть мучения Ломакиных он имеет право! Герман встает со стула, берет пальто, ключи от машины и быстро, пока сам себя не остановил, спускается по лестнице с двенадцатого этажа, припадая, как всегда при сильном волнении, на правую ногу.
Дворники возбужденно смахивают со стекла слезы позднеосеннего дня. Под колесами снежная каша. Герман обгоняет машину за машиной, прибавляя и прибавляя скорость. На нескольких рекламных щитах ему попадаются фотографии Ариши. Олег не жалеет средств на поиски дочери. Фотография девочки висит в автобусах, вагонах метро, поездах, школах и магазинах, на каждом подъезде каждого дома в Москве. Фотография все та же, где Ариша снята на борту яхты. На рекламных щитах, из-за того что фотография сильно увеличена, девочка кажется старше. Внизу номер телефона и слова «Верни нам дочь». Герман уже выучил номер — 8–903–526… Набрать бы и сказать все, что переполняет сердце. Но нельзя, нельзя… Увидев указатель на Ленинградское шоссе, он сворачивает с МКАД и спустя несколько минут въезжает во двор дома Ломакиных.
Ольга как раз заходит в подъезд. На ней черное пальто. Песочные волосы зачесаны с такой силой, что отливают как натянутые до предела стру́ны на скрипке. Поблескивают от снега. Ольга тянет ручку двери, но, будто почувствовав взгляд Германа, вцепившегося в руль машины, оборачивается. На самом деле ее окликают несколько журналистов или зевак, толпящихся у подъезда. Ольга снимает солнечные очки и затравленно глядит на журналистов. Лицо осунулось, постарело. Сухие губы вздрагивают, выталкивают какое-то слово. Глаза запали. Под левым расплылся радужный фиолетово-красно-черный синяк. Порыв ветра поднимает с асфальта скукоженные листья и сквозь снег кидается ими в Ольгу, точно камнями в преступницу. Женщина закрывается рукой, и, сгорбив спину, исчезает в темноте подъезда.
Больше Герман не рискует. Весь месяц он и Ариша сидят безвылазно в квартире. Лишь иногда Герман спускается в ночной магазин, чтобы купить очередную порцию сосисок, молока, чупа-чупсов и пива. Ну и еще газет. От официальных до самых желтых. Придя домой, жадно пролистывает в поисках хоть какой-нибудь информации о деле Ломакиных. Но об этом пишут всё реже. Фотографию Ариши газеты еще печатают, а вот в телевизионных новостях уже и этого нет. Герман переносит телевизор в комнату Ариши и предоставляет в полное ее распоряжение.
13
В конце октября 1981 года бабушка повезла Германа к врачу. Она водила белый, подтаявший и слизанный по бокам, как мороженое, «Москвич-2140». Еву бабушка посадила рядом с собой, а Германа и его подпрыгивающие костыли устроила на заднем сиденье, обтянутом кожзамом. Едва отъехали, Ева встала на колени и, вытянув толстую шею, принялась любоваться собой в зеркало заднего вида. Из-под клетчатого пальто выглянуло коричневое школьное платье с кружевным воротником, темный фартук. Приподняв верхнюю губу, Ева уставилась на передние зубы, к которым ни она, ни Герман еще не привыкли. Ровные, крупные зубы поблескивали в сгущающемся осеннем сумраке. Зубы выросли недавно, но не сомкнулись. С щербинкой у Евы получалось здорово свистеть.
Герман поймал взгляд сестры в отражении и сложил губы трубочкой — свистни. Темные глаза Евы важно остановились на тщедушном мальчике, отразившемся глубоко внутри зеркала. Немного подумав, Ева засунула два пухлых испачканных чернилами пальца в рот и заливисто, громко и восхитительно свистнула. От восторга машина вильнула. Бабушка в это время самозабвенно и сладко вещала про то, как она девочкой в шляпке с лентами гуляла с нянькой по тому вон бульвару. Медвежонковый рев мгновенно сменился на рык разъяренной медведицы. Бабушка так рявкнула про отродье кое-какой матери, что Ева на всякий случай отодвинулась подальше к дверце, а у Германа уши увеличились и стали горячими.
У врача оказалось красное лицо, крупный, мягкий, словно из пластилина, нос. Врач стоял у окна и долго смотрел на свет рентгеновский снимок. Потом говорил много непонятных слов. Бабушка сидела на стуле и оправдывалась:
— Маленький городок, что с них взять. Ногу хотя бы спасли.
Врач фыркал. Ева бродила по кабинету. Герман в синих сатиновых трусах и белоснежной майке сидел на кушетке и ждал приговора.
Все в кабинете казалось Герману волшебным — шкаф у стены с книгами, папками и статуэтками за стеклом. Загадочные медицинские предметы и приспособления. Сам врач, невысокий, но широкоплечий, стучавший каблуками ботинок по плиткам пола. Полированный стол со стопками бумаг. Графин, вода в котором сияла и двигалась серебряными подрагивающими кругами.
Воздух в кабинете был прозрачен и слоист одновременно. Герман снова и снова тянул носом. Пахло хлоркой, спиртом, сладко-тревожным гипсом. Названия этих запахов Герман уже знал. А еще пахло ранами, засохшими корками кисло-соленой крови. Из открытой форточки тянуло осенью. Были еще и другие запахи — мокрой шерсти бабушкиной юбки, гуталина и приторных ландышевых духов, которые Ева где-то стащила и щедро себя побрызгала. Все эти запахи образовывали один — больничный. Герман передернул плечами — то ли от холодного воздуха, дувшего из форточки, то ли от сквозняка будущего.
Врач принялся осматривать ногу Германа. Сопел, ощупывал, надавливал. Поворачивал деформированную ступню с выпирающими бугорками вправо, влево. Когда было слишком больно, Герман моргал часто-часто, будто от удивления.
— Что, не боишься боли? — Врач заглянул ему в лицо. — И меня не боишься? Нет? Редкий случай. — Он усмехнулся. — Что ж, тогда мы с тобой поладим.
— Так что, Евгений Николаевич? — взволнованно спрашивала бабушка. Она стояла рядом, непривычно скромная и притихшая, с растрепавшейся царской прической. — Что нам делать-то?
— Операцию, Анна Петровна. Если повезет, будет ходить с палочкой. Сейчас пусть мальчик одевается, а мы с вами всё обсудим.
Евгений Николаевич сдержал обещание: через год после нескольких операций Герман смог ходить с палочкой. Гусаком, сильно припадая на укоротившуюся ногу, но — ходить.
— Будем надеяться, что нога не будет дальше укорачиваться, — сказал врач при выписке. — Молитесь, Анна Петровна. — Бабушка фыркнула. К высшим силам она не испытывала почтения. Бабушка и сама умела превосходно управлять шестеренками судьбы. Она праздновала победу и не сомневалась, что скоро трость ее внуку не понадобится. И тогда она займется обустройством их будущего, потому что сама она, конечно, стара для того, чтобы поднимать двоих детей.
Германа записали в первый класс. Бабушка свозила его в «Детский мир», разрешила самому выбрать ранец. Герману приглянулся тот, что из гладкой рыжей искусственной кожи, отливающей одно за другим августовские солнца. Продавщица, бабушка и вся очередь ждали, пока он расстегивал и застегивал портфель, обводил пальчиками фигурку тигренка. Нажимал на сверкающие новенькие металлические подушки застежек, просовывал их под острую металлическую скобу и, расстегнув ранец, глядел в его темные шелковые лабиринты, надушенные запахами новизны.
— Ну что, подходит вам, молодой человек? Берете? — весело спросила продавщица, уловив возникшую перед бурей тишину в очереди. Продавщица была, конечно, хорошая знакомая бабушки. Герман застегнул ранец, еще раз провел по выпуклым застежкам и важно кивнул.
В тот день Герман и бабушка провели в «Детском мире» не один час. И сейчас он легко отыскивает в памяти отражение семилетнего мальчика в зеркале примерочной. Новенький школьный костюмчик с эмблемой на рукаве, вкусно, остро пахнувшей резиной, белая щекотная рубашка, брюки, которые надо будет подшить. Глаза цвета халвы, чуть припухшие, весело и счастливо глядящие из зеркала. Волосы отросли и спадают на уши (бабушка отведет его в парикмахерскую попозже, в конце августа, и армянин, тоже хороший знакомый, защелкает ножницами, зажужжит машинкой над ухом, а в конце, как артист, сбрызнет аккуратную, с ровными линиями прическу настоящим мужским, терпким одеколоном). На ногах запылившиеся ортопедические ботинки. На правой ноге ботинок больше, и подошва у него толще. Бабушка стоит рядом, напряженно вглядывается в отражение Германа — она не теряет надежды отыскать в его лице, руках, ногах, повороте головы фамильные морозовские черты.
Трость бабушка заказала еще у одного хорошего знакомого. Она отвезла к нему Германа ближе к концу августа, когда вездесущее солнце в экстазе поджаривало Москву. Всю поездку оно преследовало бабушкину белую машину. Влетало в лобовое стекло, предполагая одним ударом отправить Германа в нокаут, наносило хук справа, хук слева, сыпало чередой ритмичных ударов. Не гнушалось напасть и со спины и оглушить ударом по затылку.
Бабушка опустила над Германом козырек, но тот ничем ему не помог, так как находился слишком высоко. Саму бабушку от света защищали круглые темные очки. Всю поездку она была непривычно молчалива. Ее крупная обвисшая рука, зажатая под мышкой натянутым кольцом безрукавного платья, крутила руль точными и скупыми движениями. Герман ерзал на раскалившемся сиденье, отдирал от искусственной кожи то левую, то правую ляжку, преодолевая при этом сопротивление ортопедических тяжелых ботинок, гирями тянувших ноги вниз. Рубашка намертво приклеила Германа к спинке кресла. Пот лился по вискам, под глазами. Единственным оружием против коварного солнечного врага была белая панамка. Герман сдвигал ее то так, то эдак, защищаясь от солнечных ударов. В редкие минуты перемирия, когда тень от деревьев или домов прохладой ложилась на лицо и колени, Герман, приоткрыв рот, разглядывал столицу образца 1982 года.
Столяр, к которому они приехали, оказался стариком с белыми висячими усами и веселыми голубыми глазами. Бабушка обняла его и назвала Володенькой. Старик попросил Германа сжать кусок пластилина правой рукой и, как только мальчик оттиснул пальцы на мягком куске, забрал пластилин, опустил его в какой-то раствор и почти сразу вытащил, зажав по бокам крупным щипцами, положил в металлическую банку.
Однокомнатная квартира старика была превращена в мастерскую: повсюду лежали доски, ящики, инструменты, гвозди. О том, что это и жилье тоже, говорила только жавшаяся к стене кровать с железными шишечками на железных же спинках. Под кроватью, вытащив наружу голову, дремала белая собака со стружкой на лохматых ушах. То приподнимая, то опуская брови, следила желтыми щелочками глаз, как ее хозяин измерял рост Германа, подставлял под его руку доску, делал засечки карандашом, предварительно послюнявив грифель. От старика пахло свежим деревом и клеем. Закончив с замерами, он записал что-то в мятую тетрадку, вытер заслезившиеся от напряжения глаза ладонью. Потом отпилил часть доски, подставил под руку Германа, потом еще отпилил и еще подставил.
Бабушка восседала на стуле, отдыхала от жары, обмахивая себя носовым платком.
— Через недельку трость будет готова, — кашлянув, сказал старик и, не зная, куда деть большие красные руки, засунул их в карманы штанов. Бабушка начала неуверенно собираться, но старый столяр, опустив глаза, неловко остановил:
— Самая жара. Переждите. Через часик начнет спадать.
Бабушка, никогда никого не слушавшая, отчего-то согласилась, снова уселась на стул. Старик поставил на электрическую плитку в углу синий эмалированный чайник с отбитыми боками. Подвинул к бабушке круглый стол, очистил место для трех кружек, отодвинув локтем инструменты, скобы и деревяшки. Сдул стружки и мусор. Расстелил газету «Правда». Поставил три чашки и заварочный чайник на снимок двух доярок в белых халатах, позировавших в поле в окружении черно-белых коров. Для Германа и себя придвинул табуретки, сняв с них пожелтевшие журналы и газеты.
Когда чайник вскипел, разлил кипяток по чашкам и в заварку. Герман хихикнул про себя: старик, а красные уши торчат, как у мальчишки, и руки трясутся. К чаю старик подал фруктовый сахар. Герман выбрал желтый, осторожно лизнул — вкус ему понравился, напомнил и лимон, и шербет одновременно. Пальцы, липкие от пластилина, стали совсем клейкими, Герман принялся забавляться, то соединяя, то с силой разлепляя их. Бабушка в другое время резко бы одернула его, но в этот раз она будто и не замечала Германа.
А столяр все посматривал на бабушку блестящим взглядом. Бабушка опускала глаза, будто была в чем-то виновата. Осторожно, как горячим пирожком, они перебрасывались короткими предложениями. И вдруг принялись говорить не переставая. Смеялись, перебивали друг друга. Говорили о неизвестных Герману людях и событиях, но ему казалось, что параллельно вели и какой другой, понятный только им разговор. К чаю ни бабушка, ни столяр не притронулись. Герман же слопал больше половины фруктового сахара из вазочки.
Чуть погодя старик показал заскучавшему Герману, как поет собака. Достал аккордеон. Собака тут же вылезла из убежища под кроватью. Уселась у ног старика.
— Любит, чертовка, фруктовый сахар, для нее и покупаю, — засмеялся старик. — Давай, Аннетка, покажи, какая ты умница.
Он встал, собака запрыгнула на табурет. Старик растянул аккордеон, красные пальцы с обгрызенными ногтями неожиданно шустро забегали по кнопкам и клавишам. «По долинам и по взгорьям шла дивизия вперед…» — запел старик надтреснутым голосом. Собака, подняв морду, принялась вторить ему, то завывая, то переходя на частый ритмичный лай. Она замолкала вместе с хозяином и, переждав, вступала одновременно с ним.
Когда песня закончилась, Герман захлопал в ладоши.
— Угости ее сахаром, — сказал старик. Герман дал Аннетке кусок зеленого фруктового сахара. Она мгновенно слизала его, переводя взгляд то на Германа, то на хозяина. Провела языком по мокрому носу. Тявкнула.
— Погоди-тко, — сказал собаке старый столяр и снова растянул аккордеон, — еще давай поработай.
«Там, где клен шумит над речной водой, говорили мы… — голос старика сорвался, задрожал, но собака уверенно провыла за него: — …о любви-и-и с тобой…» Старик сглотнул, вдохнул, и они вступили уже вдвоем: «Опустел тот клен, в поле бродит мгла, а любовь, как сон, стороной прошла-а-а…» На втором припеве очарование песни нарушил непонятный звук: бабушка, сморщив лицо, всхлипывала, вытирала руками красные слезящиеся глаза. Герман до этого никогда не видел, чтобы бабушка плакала. Заметив, что на нее смотрят, она засморкалась, поднялась и засеменила из комнаты.
Трость старик привез через неделю. Гладкая, темная, с резиновым колпачком внизу, она понравилась Герману. Трость восхитительно пахла лаком, новым деревом и еще каким-то неопознаваемым, но сразу ставшим родным запахом. Рукоять старик сделал в форме головы собаки, она повторяла изгибы пальцев и ладошки Германа и была очень удобной.
Самого старого столяра было не узнать — он постригся, надел костюм, начистил ботинки. Кажется, даже свисающие усы расчесал. Пах табаком, свежим воздухом и стружками. И дождем — на улице шел дождь, до сентября оставалось два дня. Когда старик приехал, бабушка в дурном настроении разбирала буфет на кухне. Она с показным неудовольствием отвлеклась, пришла в прихожую, сухо поздоровалась, отдала деньги и поспешила назад к буфету, будто разбор чашек был чрезмерно важным делом. Даже не пригласила Володеньку попить чаю, хотя такой чести удостаивался у нее любой почтальон или курьер.
Убрав деньги в карман пиджака, столяр попросил мальчика еще раз опереться на трость, пройтись. Показал механизм под рукояткой — трость можно будет немного удлинить, когда Герман подрастет. Продемонстрировал плотный резиновый наконечник внизу:
— Герман, если вдруг в школе будут дразнить, — старик постучал концом трости по крупной ладони, потом с глухим стуком по стене, сделал паузу и взглянул в сторону, куда ушла бабушка, — стукни их этой тростью как следует по глупым головам!
14
Старый столяр оказался провидцем: с одноклассниками у Германа не задалось. Что стало тому причиной, сказать трудно. В любом коллективе играется вечная пьеса, роли для которой распределяются между новыми актерами по не всегда очевидным законам. Герману досталась самая незавидная роль.
Триггером послужило имя. На первом уроке учительница, знакомясь с классом, зачитывала список учеников: названный поднимался с места, показывал, так сказать, себя. Дошла очередь и до Германа. Он поспешно встал, едва не уронив стул.
— А чего это у него имя фашистское? — раздался за спиной мальчишеский голос. И тут же рядом с первым голосом хихикнул второй, более тонкий: — Фриц, Фриц немецкий.
Все дети разом повернулись, обернулись, подняли головы и уставились на Германа. Учительница посмотрела куда-то за его спину и что-то строго сказала, но покрасневший Герман уже ничего не слышал от стука крови в ушах. Он сел, придерживаясь за парту заледеневшими пальцами. Слух вскоре вернулся: учительница читала список дальше — Новиков Артем, Петрова Юля… Когда урок закончился, Герман вместе со всеми ринулся к двери, но едва переступив порог, запнулся, не заметив подставленную подножку. Он растянулся, закрыв выход остальным ребятам из класса. Палка отлетела, локоть обожгла боль. Так тебе и надо, фашист поганый, услышал он над собой уже знакомый голос.
— И о чем только думала твоя мать, давая тебе такое имя? — говорила бабушка, в очередной раз зашивая порванный воротничок, высушивая намоченные книжки и учебники, оттирая свастику с ранца. Фашист, Фриц — маленькие одноклассники Германа теперь звали его только так. Бабушка несколько раз ходила в школу разбираться.
Учительница Германа Елена Алексеевна, девушка с ямочками на щеках, с короткой мальчишеской стрижкой, работала в школе первый год.
— Они дети и просто играют, — убежденно говорила она бабушке. После очередного инцидента Елена Алексеевна собирала в классе Германа и его обидчиков, четверых мальчишек — Горбунова, Ракитина, Калинина и Попова. Долго разговаривала с ними. «Герман, — поясняла она, — латинское имя, от germanus — “родной”, “единоутробный”. В русском варианте оно звучало раньше как Ермак. А немецкое имя Германн, Hermann — совсем другое имя, которое переводится как “воин”».
Разговор всегда выходил душевный, веселый, с играми, притчами, в конце мальчишки жали Герману руку и говорили Елене Алексеевне, что Герман теперь их лучший друг. Она улыбалась и перед тем, как отпустить, разламывала плитку сливочного ириса и раздавала по дольке всем пятерым. Отголосок этого приторного вкуса, ощущение мягких крошек на языке Герман много лет чувствовал во рту, как чувствуют привкус кровоточащей болячки, не желающей заживать. Стоит ли говорить, что после такого собрания у Елены Алексеевны мальчишки становились еще более жестокими.
2 ноября 1982 года на уроке чтения Герман поднял руку. Ему нестерпимо захотелось увидеть Еву. Елена Алексеевна (черное платье с глухим воротом, поверх — кулон на цепочке) вскинула голову от раскрытой книги. За окном начинался снег. Сверкнуло стекло портретов на стене. Ленин, Пушкин и еще какие-то бородатые мужчины уставились сверху на Германа.
— Что тебе, Морозов?
— Можно выйти?
— Да что с тобой сегодня? На каждом уроке выходишь. Ну иди.
И вот сумрак коридора. Сгустки света у окон. Снежный клубящийся водопад над городом. Герман представил, что школа, как ледокол, плывет в арктических льдах. В коридоре никого. Пахло едой из столовой. Волнительно и хорошо. Даже боль в ноге не столь мучила, сколь приятно тянула, будто кто-то внутри легонько покручивал косточки. Скрипнула дверь, голос Елены Алексеевны, читавшей про дядю Степу, усилился. Герман ощутил ее взгляд на затылке и миновал кабинет 2-го «А», в котором училась Ева. Глухо постукивая тростью с рукояткой в форме собаки, он направился для успокоения Елены Алексеевны в туалет. Тут пахло сыростью и хлоркой. Плитка на полу была мокрая. Герман зашел в кабинку. От непонятного волнения и в самом деле захотелось пописать. Будущий Герман опять появился, был рядом и чего-то хотел.
Герман прислушался — не раздадутся ли шаги по кафелю, не звякнет ли отставшая плитка возле его кабинки. Никого. Дверцы в кабинке не запирались. Герман пользовался туалетом только во время уроков. На переменке он не приближался к нему. Школу, все четыре этажа, он обследовал вот так, во время уроков, когда тишина в коридорах стояла такая, что в ушах звенели колокольчики. Герман спустил воду, вздрогнул от обрушившегося грохота. Вышел из кабинки. За окном, замазанным краской, клубился снег.
В коридоре по-прежнему никого. Елена Алексеевна, удостоверившись, что он пошел в туалет, а не куда-то еще, вернулась в класс. Герман подошел к приоткрытой двери 2-го «А». За секунду до того, как заглянуть, он понял, что сейчас увидит Еву. Она стояла у доски, решала пример. Доска отражала белый, уже совсем зимний свет и слабо озаряла пухлое личико сестры. Заплетенная бабушкой с утра коса успела растрепаться, бант, точно синий хвостик, вилял туда-сюда вслед за движениями головы Евы. Она писала мелом на доске, приподнявшись на цыпочки. На ногах — тапки и знакомые шерстяные носки. В невидимом Герману классе ручки шуршали по бумаге, кто-то кашлял, двигал стул.
Ева заметила брата. Чуть повернула голову в его сторону. Прижала губу нижними зубами, сдерживаясь, чтобы не захихикать. Герману тоже сделалось смешно. Улучив момент, Ева быстро посмотрела на него. Тем самым взглядом, подтверждающим: ничто в мире не имеет значения, только они двое.
— Морозова, что там у тебя, решила?
— Сейчас, почти. — И Ева снова повернулась к доске.
После уроков на продленке, несмотря на снегопад, Елена Алексеевна вывела детей на прогулку. Девочки принялись лепить снеговиков, а мальчишки строить крепость и сражаться снежками. Герман, опираясь на палку с ручкой в форме головы собаки, бродил под стрелами снега. Мерил этой палкой высоту прибывающего белого моря. Глазами зачем-то явившегося будущего Германа осматривал школьный двор и запоминал каждую деталь. Школы стало вскоре не видно, а старые деревья, меж которыми и играли первоклассники, обернулись снежными великанами. Кроме 1-го «Б» больше никто не гулял.
Герман съел несколько снежинок, пытаясь перебить вкус сливочной ириски, которую дала Елена Алексеевна. Сегодня она опять собирала Германа и его четверых обидчиков — Горбунова, Ракитина, Калинина и Попова — после того, как увидела, что те бросили Герману в суп таракана. Вкус ириски после снега не исчез, лип к зубам, нёбу, проникал в нос. К Герману подошла Ира, девочка с рыжими волосами и ресницами. На шапке и бровях ее налип снег. Эта девочка нравилась Герману. Ему казалось, что она относилась к нему по-особенному, почти как Ева, то есть нет, не так, совсем не так, как Ева, в другом роде, но и не так, как все остальные. Несколько раз они разговаривали под дальним дубом, который сейчас не видно из-за снега, о том, что случается после смерти. В осенней куртке, которую бабушка недавно сменила Герману на пальто с меховым капюшоном, лежал большой гладкий желудь. Его подобрала и подарила ему Ира.
— Айда с нами играть, — сказала она, улыбаясь и жуя крепкий многоугольный снежок, к которому пристали радужные нитки с ее варежки.
Герман кивнул, шагнул за нравившейся ему девочкой в клубы снега. Метров через десять, обернувшись, увидал, что Елена Алексеевна и одноклассники исчезли. Видно было только снег, который шел все сильнее, приходилось то и дело смаргивать его с ресниц. Герман и Ира миновали почти весь школьный двор. Ира непривычно молчала, продолжая жевать снежок.
Недалеко от выхода из школы, не центрального, выводившего к оживленной улице и автобусной остановке, а заднего, примыкавшего ко дворам соседних домов, у изгороди из кустов стояли четверо снеговиков — Горбунов, Ракитин, Калинин и Попов. Четверка встала перед Германом полумесяцем, перекрывая отступление назад, в школу. Герман развернулся к ним лицом. Ракитин, заводила, кинул снежок, крепкий, спрессованный. Герман дернулся и прижал скулу варежкой, облитой снежной коркой. Попов, самый маленький, весь в веснушках, хихикнул. Горбунов, высокий второгодник, шмыгнул носом и, подойдя, толкнул Германа в плечо, потом еще. Герман попятился. Горбунов пнул его коленкой в живот. Герман едва удержался на ногах, опираясь на ручку трости в форме головы собаки. Калинин, любитель ловить кошек и кидать их с высоких этажей, плюнул, слюна попала на воротник клетчатого пальто Германа, повисла и тут же начала замерзать.
— Давай шагай вперед, Фриц, — зашипел Ракитин. — Шнеля, шнеля.
Трость проваливалась, скользила. Ботинок на правой ноге не слушался, зачерпывал снег и норовил вывернуть ступню. Герман обернулся: мальчишки шли за ним дугой, плечом к плечу. Нравившаяся ему девочка шла, чуть отстав. Шапки, шарфы, воротники, карманы на пальто, валенки с галошами, ресницы — всё в снегу. Лица сосредоточенны, облеплены снегом, как гипсом. В лицо Иры он боялся смотреть. Зафиксировал только расплывающуюся от снежной хлорки синь шапки. Когда мальчишки и нравившаяся ему девочка вытеснили Германа за территорию школы и погнали дальше, по тропинке, ведущей во дворы домов, примыкавших к школе, он понял, что пропал.
15
Наступает самый темный месяц в году — ноябрь. Не успевает рассветать, как начинает смеркаться. Вид за окном теряет перспективу, объемность, становится плоским и черно-белым. МКАД и лес за ним всё ближе придвигаются к дому, желая убежать от подступающей зимы. Пятна, щербины, засохшая грязь на стенах, потолке и полу делаются особенно заметны. Ариша с утра таскает стул и включает по всей квартире засиженные мухами одиночные лампочки вместо люстр, они горят весь сумрачный день, отбрасывая на пол и стены тусклый желтый неестественный цвет и ловя тени, беспрестанно перебегающие из угла в угол. Окна, вымытые перед продажей, с каждым днем всё сильнее покрываются плотной мажущейся пылью.
17 ноября 2003 года Герман просыпается под звук мультфильма. Опускает ноги на пол. Сегодня важный день. Он идет в ванную и впервые за месяц снимает с себя свитер, одежду и нижнее белье. Встав в ржавую ванну, принимает душ, тщательно моет голову, оттирает исхудавшее тело. Бреется, чистит зубы. Переодевшись в чистую одежду, идет на кухню. Ставит на огонь подгоревшую кастрюлю годов пятидесятых. Кладет сосиски. Когда-то бока кастрюли, по-видимому, украшали распускающиеся пионы, теперь рисунок под слоем нагара не различить. Герман вытащил из мешка на балконе кое-какую посуду — пару тарелок, нож, вилки. Отмочил на всякий случай в горячей воде в раковине. Чашек не нашлось, вместо них у Германа и Ариши граненые стаканы. Ариша ловко со стаканом управляется. Подсовывает под кран, наполняет шипучей холодной водой и жадно выпивает, держа обеими ладонями. Она вообще оказалась смышленой некапризной девочкой.
Вытащив сосиски из бурлящей кастрюли, Герман раскладывает их на тарелки с полустертыми красными кольцами. На похожей тарелке отец когда-то давал ему яйцо. Ариша уже тут, пришла на запах. Подросшие волосы торчат ежиком, совсем как у Германа, стекла на очках заляпаны. Футболка в засохших пятнах молока. Со, говорит она, жадно сглатывая и хватая тарелку. Па, со. Герман кладет ей три сосиски. Иногда Ариша съедает их сразу, иногда третью сосиску оставляет на потом. Герман по утрам заставляет себя съесть хотя бы одну. От истощения его спасает только пиво, а от нервного срыва — вестерны, которые он круглосуточно смотрит. В последние дни в перерывах между вестернами он приспособился отжиматься.
Забрав тарелку, Ариша отправляется к своим мультфильмам. Metro-Goldwyn-Mayer истошно вопит, запуская серию про Тома и Джерри. Герман с трудом прожевывает сосисочье мясо. Снова ставит кастрюлю с водой. Она выполняет еще и роль чайника. В мешке с посудой нашлась банка с растворимым кофе, гранулы которого слиплись, спаялись и почернели. Кофе сегодня Герману необходим. Отковырнув кусочек черного пласта, Герман кидает его в стакан и, натянув рукава свитера на ручки кастрюли, заливает кофейный уголь кипятком. Сахара нет. Продолжая пользоваться рукавом свитера как прихваткой, Герман приносит кофе к себе в комнату.
Ожидая, пока стакан с кофе остынет на подоконнике, Герман вытаскивает из-под дивана небольшой фибровый чемодан — потертый, металлические углы пооббились. Когда-то Ева с таким ездила в пионерский лагерь. Герман купил чемодан на барахолке всего за пятьдесят рублей. Он вставляет ключ и отпирает замки. Нутро чемодана выдыхает концентрированный запах старости и парфюмерных фантомов. Изнутри он оклеен номерами «Пионерской правды» за 1986 год, кое-где подпорченными желтыми пятнами. Взгляд цепляет заголовки «Папа, мама, я и брат — целая команда», «Чему учат книги», «Моя ребячья бригада», «Герои живут рядом». В чемодане лежат досье на Олега и Ольгу, пистолет, а также пакет с вещами, которые были на Арише в день похищения.
Герман надевает перчатки и вынимает пакет. Здесь всё — трусики, маечка в цветочек, розовое платье, колготки с засохшими кляксами грязи на коленках, носки, ботинки, заколка и золотые детские сережки. В кармане платья — носовой платок с котятами, обляпанный засохшим розовым пирожным. Платье, например, можно разрезать на несколько частей. Еще у него есть состриженные волосы, несколько снимков плачущей от боли Ариши (те, которые он сделал, когда Ариша прищемила палец). Этих трофеев должно хватить не на один год. Герман будет посылать их нечасто. Один отправит сегодня, а затем будет посылать раз в год — в день похищения. Возможно, через несколько лет он пошлет вещь девочки 22 октября, в день, когда Ломакины убили Еву.
Отхлебнув кофе, Герман переводит взгляд с одной вещи на другую. Что ударит по Ломакиным больнее? Вот эта заколка в виде божьей коровки? Темные точки на терракотовой спинке коровки пытаются словить в ноябрьских сумерках хоть немного света, механизм застежки золотистый, не новый, уже поработавший. Руки Ольги, несомненно, помнят его на ощупь, а Олег наверняка видел не раз заколку на макушке дочери. Или, может, послать одну из сережек — золотую рыбку, махнувшую хвостом? Ломакиным волей-неволей придется задуматься, как сережки были сняты с девочки. Уж не содраны ли жестоким похитителем вместе с мясом?
Посылка должна показать Ломакиным, что всё куда страшнее, чем они думают. Что похитителю нужны не деньги. Очевидно, весь первый месяц они ждали звонка о выкупе. Это первое, о чем Ломакины, конечно, подумали, когда пропала Ариша. Наверняка подготовились, пересчитали денежки. Герман даже подумывал было в минуты, когда чувство юмора ненадолго возвращалось, не запросить ли в самом деле выкуп — денег-то у него совсем не осталось. Хватило бы на несколько лет безбедной жизни. Но слишком рискованно, да и не преступник же он, в самом деле.
Может, послать что-то из нижнего белья? Сразу нанести такой удар, чтобы у Ломакиных сердечный приступ случился. Нет, нет, белье, как козырную карту, он, пожалуй, все-таки прибережет. Герман выбирает носочек — розовый в белый горошек. Пакет с остальными вещами снова убирает в чемодан. Запирает замки, ключ прячет на себе. Не снимая перчаток, отдирает обложку лежащего на подоконнике журнала «Наука и жизнь» за 1982 год, складывает ее пополам, кладет носок между половинками. Для носочка бандероль не нужна, подойдет и конверт. Герман подписывает конверт, помещает туда послание.
Надевает в прихожей пальто. От него по-прежнему пахнет каким-то особенно уж вонючим веществом. И чем они там в секонд-хендах обрабатывают вещи? Небось, это пальто носил высохший американский или европейский пенсионер, давно умерший. Возможно, упал именно в нем на свою штрассе или какую-нибудь там авеню. Герман поднимает ворот свитера почти до носа, шапку он так и не купил.
Заглядывает в комнату девочки: Ариша сидит на полу и строит очередной замок из помойных лего. От усердия высунула язык. На экране Том гоняется за мышонком.
— Мне нужно ненадолго уехать, — говорит Герман. — Если будешь вести себя тихо, привезу подарок.
Глаза девочки загораются:
— Ок?
— Да, веди себя тихо. — Он прислоняет палец к губам. — Понимаешь?
Кивает. Поняла или нет — кто ж ее разберет. Остается надеяться, что все пройдет гладко. Герман не знает, сколько времени займет поездка.
16
— Мальчонка сидел голой жопой на полу и весь трясся, — рассказывал дворник дядя Миша, и его рука с сигаретой ходила ходуном. — Ни клочка одёжки. Вся евонная кожа в крестах, в фашистских. Сплошь. Ручкой нарисованы. А на лбу и грудке еще написано — «Фриц поганый». Господи помилуй! Никогда такой страсти не видел. — Дворник закашлялся, затянулся и продолжил: — На волосах ешшо пепел. Изверги эти сожгли его одёжу в баке… Видать, подлили чего, дотла сгорела, тока подошвы ботинок остались.
Он рассказывал это уже в третий раз. Сначала — Елене Алексеевне. Она, не досчитавшись Германа после прогулки, оставила класс под присмотр другой учительницы, а сама кинулась на поиски. Помогал ей дворник, дядя Миша. Он и нашел Германа. Уже в темноте, ранней, ноябрьской, когда фонари с удивлением разглядывали чистый, плоский, как младенческая ступня, снег. Дворник обнаружил Германа на чердаке одного из домов недалеко от школы. Когда он принес завернутого в телогрейку мальчика к школе, Елена Алексеевна, по тысячному, наверное, кругу, обходившая территорию с фонарем, выхватила Германа и, не чуя ноши, плача, помчалась с ним в медкабинет. Сквозь дурман и пропахшую табаком фуфайку Герман, возвращаясь в реальность, чувствовал ее нежные духи с запахом разогретой на солнце розы.
В медкабинете Елена Алексеевна, продолжая плакать, растерла Германа спиртом, укрыла шерстяным одеялом и принесла горячего чая в кружке.
— В чай капните чуток спирта, — важно велел дворник, — чтобы воспаления не было. Да не бойтесь. Только лучше будет.
Елена Алексеевна послушно добавила в чай спирта и поднесла чашку к губам Германа. Зубы отбивали края друг друга и никак не могли остановиться.
— Милый дружок ты мой, да что же это, — причитала Елена Алексеевна. Она принялась поить Германа из ложки. Большая часть выливалась на шерстяное одеяло. А дворник в это время рассказывал, рассказывал и курил. Глаза его походили на удивленные темные фасолины.
Второй раз дядя Миша рассказал о том, как нашел Германа, директрисе и учителям, когда те вдруг заполнили медкабинет. После его рассказа, на этот раз с бо́льшими подробностями, директриса, глядя в лицо Германа, спросила, кто это сделал. Герман в ответ отбил очередную чечетку зубами. Елена Алексеевна что-то тихо сказала.
А теперь, в третий раз, дворник рассказывал бабушке и Еве. Бабушка, уже пообещавшая дворнику награду, держала Германа на руках, укутанного, словно младенца. А Ева сидела рядом, сжав руки, сдвинув брови, и стучала ногой по кушетке. Дрожь наконец утихла, Герман согрелся. И заплакал. Но не от боли оттаивающего истерзанного тела. От слов дворника. Больше всего на свете Герман хотел, чтобы тот замолчал. А тот все говорил и говорил, вздыхал и крестился.
Чай с малиновым вареньем, покой, сладости — вот лекарства, которыми бабушка принялась лечить Германа. Сейчас, конечно, к ребенку вызвали бы психолога. Но тогда, в 1982-м, о них и не слыхивали. Бабушка уложила Германа в постель, застеленную накрахмаленным бельем. На одеяло с красным шелковистым ромбом посередине накинула для тепла шерстяной плед в желто-коричневую клетку. Ворс этого пледа на ощупь был жесткий и колючий и напоминал Герману вздыбленную шерсть разозленного пса. Пижама, плотная, байковая, с длинными рукавами, прикрыла лиловатые расплывчатые следы на коже от фашистских крестов. Как яростно бабушка ни оттирала чернила пахучей водкой, до конца стереть не смогла. Остались выцветшие «татуировки» крестов и на лбу, и на щеках.
Пижама была новой, неразношенной и грубо натирала подмышки. По пижаме бродили солдаты и беззвучно били в барабаны. На ноги Герману бабушка натянула колючие жгучие чуньки — носки-валенки из шерсти, походившие на башмаки мультяшных героев.
Во всем этом обмундировании, укрытый одеялом, Герман потел и жарился, будто в раскаленной печи. Он ловил взглядом снег, щедро засыпавший шпиль краснопресненской высотки за окном, остужал руки о металл новенькой пожарной машины и жадно пил лимонад. Стакан с лимонадом стоял на вогнутом сиденье стула, покрытого большим, в оранжевую клетку носовым платком. Тут же были рассыпаны шоколадные конфеты, белела чашка с остывшим чаем и осадком малинового варенья. Можно было подумать, будто Герман заболел. Но на самом деле это было не так. Небольшой насморк — вот и все последствие того страшного вечера. Герман не понимал, зачем ему лежать на диване, который время от времени вздыхал, поскрипывал и жаловался. Одна из пружин выступала и искала случая больно его уколоть.
Герман никому не рассказал о том, что произошло. Даже Еве. Не потому, что это было бы трусостью, ябедничаньем, слабостью. Слова просто не складывались, не выходили из горла. Четверка созналась под нажимом Елены Алексеевны. Рыдая, они рассказали всё. В подробностях. И выдали девочку, которая нравилась Герману, написавшую все эти унизительные слова на его коже.
Приходили посетители: директор, учителя, родители других детей. Они глядели на Германа с жалостью, брали за руку, интересовались, как бедный мальчик себя чувствует. Робко, опасливо протягивали или, напротив, грубо, настойчиво пихали шоколадку, заводную обезьянку, яблоко. Одни качали головой, вздыхали: ай-ай, ну надо же какой ужас! Другие возмущались — это ни в коем случае нельзя так оставлять, не вздумайте жалеть малолетних преступников, Анна Петровна. Наказать их надо, наказать. Уходя, фальшиво, неприятно улыбались, осторожно прикрывали дверь и потом еще долго разговаривали с бабушкой на кухне.
Едва дверь закрывалась, Герман выкидывал подношения за спинку дивана.
Одна из посетительниц прошла в комнату в кожаных сапогах с квадратными массивными каблуками. Пока она вытирала платком уголки глаз, вздыхала и говорила жалостливые слова, от ее не очищенных от снега сапог растеклась под стул лужица. Ева, сидевшая на подоконнике за спиной женщины и болтавшая ногами, показала Герману на лужицу. Герман крепился, но Ева не сдавалась — приставила издалека женщине рожки — два пухлых пальчика, измазанных в шоколаде (все съедобные подношения Герману Ева употребляла по назначению). Голос женщины становился все тоскливее. Ева пошевелила рожками. Рожки были маленькие, как у козленка, они, хоть и на отдалении, оказались прямо на уровне змеевидной косы, обернутой вокруг головы посетительницы. Ева пошевелила еще. Герман засмеялся. Посетительница замолчала, растерялась. А Герман уже не мог остановиться — принялся смеяться взахлеб, радостно, дрыгая под одеялом ногами. Женщина сначала натянуто улыбалась, а потом осекла Германа таким осуждающим, страшным взглядом, что он мгновенно притих.
4 ноября, в последний день перед каникулами, Ева и ее подружка Лидочка налили мочи и засунули собачьи какашки в валенки и портфели обидчиков Германа. Кошачью мочу принесла Лидочка в банке из-под майонеза — ее дедушка держал трех котов. Собачье дерьмо добыла Ева. Встала в шесть утра, спустилась во двор и, дождавшись, пока хозяева выгуляют перед работой собак, надела варежки и собрала какашки в банку из-под кофе, крепко закрыла крышкой. Варежки пришлось выкинуть. И еще одни, после того как в школе дело было сделано. Когда эти варежки с характерными пятнами преступления предъявили Еве, отпираться было бесполезно: на варежках стояли ее инициалы, вышитые бабушкой.
— Я ее, конечно, поругала для видимости, — говорила вечером бабушка по телефону Веро́нике. — Но, по правде говоря, молодец девчонка. Мы, Морозовы, никому спуску не даем. Помнишь, как я отомстила мужу за его интрижку с соседкой? А как ты проучила ту наглую корректоршу? Месть — наша фамильная черта. Герман? А что Герман… Я его спросила — ты, наверное, злишься на них, хочешь отомстить? А что он… ничего. Нет, сказал, просто не хочу вспоминать. Ага, представь, так сказал.
17
В прихожей раздался звонок. Лязгнула дверь, послышались голоса. Наверное, бабушка вернулась. Герман быстро убрал раскраску и карандаши под подушку — бабушка не разрешала пачкать карандашами белье. Но в комнату вошла Елена Алексеевна. Лицо красное от холода. Руки тоже красные. И глаза красные, эти — от слез. Герману стало неловко. Оттого что учительница, чье дело — вышагивать по классу с учебником или по коридору школы с журналом, оказалась вдруг в его комнате. Оттого что Герман был сейчас не в школьном, отутюженном бабушкой костюме, защитной броне, а сидел в пижаме в кровати.
Елена Алексеевна опустилась перед Германом на колени. Взяла его руки и поцеловала ладошки, запястья, пальцы. Подняла голову. Серо-голубые глаза будто наползали на лицо из-за слез, краска с ресниц текла. Модная стрижка взлохматилась, сережки блестели на красных с мороза ушах.
— Как мне все это исправить, Герман? Что мне сделать для тебя?
Герман отодвинулся к стене, прислушиваясь к гулу телевизора, который Ева, пока бабушки не было, нагло смотрела в ее комнате. Герман не решился — не успел бы быстро убежать, подставил бы себя и Еву.
— Герман, я так виновата перед тобой. — Елена Алексеевна погладила одеяло поверх его ног, пальцы вздрогнули, заплясали вразнобой. — Как подумаю, что могло произойти… если бы мы… если бы дядя Миша тебя не нашел… если бы… ребята…
Герман никогда не видел, чтобы слезы так текли. Точно капли из незакрытого крана. Он не знал, куда глядеть, и стал сосредоточенно разглядывать брошку, которая скрепляла красно-узорчатый платок, накинутый поверх белой блузки Елены Алексеевны. Серебряная тонкая сборчатая кайма, нежно-розовые и голубые цветы. Ростовская финифть, как много позже он по памяти определил ее.
— Я сделаю все для тебя, Герман, все. Лишь бы исправить то, что случилось. — На выемке над распухшими губами Елены Алексеевны возникла и задрожала капля. Капля вобрала в себя вечереющий свет. Елена Алексеевна захватила ее нижней губой, но на ее место тут же опустилась другая.
Герман принялся лихорадочно осматривать комнату: обои, шторы, письменный стол, солдатики, за ними, за окном, в пасмурном небе шпиль высотки в потеках снега. В углу — палка с головой собаки, она осталась цела, упала на лестнице и не попала на чердак. Палка так и стояла с того дня, когда бабушка принесла Германа на руках из школы. Герман не мог больше прикоснуться к ней. (Много лет спустя эта трость время от времени зачем-то возникала в его снах.) Шкаф, легкие гантели. На стуле у дивана надкусанное Евой яблоко (да ну, кислое), чашка с давно остывшим, подернувшимся пленкой чаем, отражавшим медленное погружение Москвы в зимний сумрак.
— Хочешь чаю? — воскликнула Елена Алексеевна, проследив за взглядом Германа, поднялась, отряхнула длинную синюю плиссированною юбку (гармошка на юбке вдохнула и выдохнула). — Я сделаю тебе очень вкусный чай, — улыбнулась сквозь слезы, — я знаю один секрет.
Ушла на кухню. Открыла кран. Герман слышал, как вода, шипя и восторгаясь, соскучившись по движению, ударилась о дно чайника и принялась весело наполнять его. Чиркнула спичка о коробок. Герман почти увидел, как вспыхнул в начинающихся сумерках похожий на цветок из молний газ. Как Елена Алексеевна опустила на этот цветок чайник, смяв и придавив его пляшущие лепестки. Может, спрятаться пока в шкаф или в диван? Или хотя бы за штору?
Елена Алексеевна принесла чай в чашке с васильками. Герман и не знал, что в буфете у бабушки есть такая. Елена Алексеевна протянула чашку и принялась глядеть, как он пьет. Чай был не горячий, но со странным травяным привкусом. Язык Германа сразу стал шершавым. Следующий глоток Герман долго удерживал во рту, стараясь не подавиться. От непонятного волнения он весь вспотел.
На карниз за окном опустилась маленькая юркая птица и принялась клевать насыпанные Евой днем крошки пирога. Елена Алексеевна подошла к окну.
— Это зарянка, Герман. Малиновка. Вообще-то она должна была уже улететь. Хочешь взглянуть?
Герман поставил чашку с невкусным чаем на стул. Сморщившись, сглотнул, спустил ноги на пол. Елена Алексеевна подбежала к нему, подняла и, обхватив за ноги, как маленького, понесла к окну. Герману ничего не оставалось, как обвить руками шею учительницы. Вдохнуть духи с запахом разогретой на солнце розы.
Елена Алексеевна поставила Германа на широкий подоконник. С ее помощью он опустился на колени. Птица продолжала клевать крошки. Герман скользнул взглядом поверх нее на заснеженные и заиндевелые деревья двора, крыши, антенны, провода, снова вернулся к птице.
— Должна была улететь на зимовку, но почему-то задержалась, — повторила Елена Алексеевна. — Эта птичка сама по себе, одиночка. При этом легко приручается. Может, вылетела у кого из окна?
Птичка была маленькая, большеглазая и любопытная. Казалось, она только что сильно покраснела от смущения, залилась оранжевой краской ото лба до груди. Будто смутилась оттого, что на нее внимательно глядели из-за окна две пары глаз. Растерянной молодой женщины и мальчика, чья судьба окончательно завязывалась в гордиев узел.
Когда осенние каникулы закончились, выяснилось, что работа внутренних механизмов Германа пришла в зависимость от Евы. Когда она была рядом, все работало отлично. Однако едва Ева исчезала, как в груди начинало что-то хрипеть, свистеть, лицо Германа бледнело, синело. Если сестра не появлялась, он грохался в обморок. Раза два бабушка вызывала скорую. Но пока врачи ехали, являлась Ева, и все симптомы исчезали как по волшебству. Бабушка разрешила Еве пока не ходить в школу. Обрадовавшись нежданным каникулам, Ева перебралась в комнату Германа. Перетащила свои книжки, альбомы, платья. Рисовала, сидя на подоконнике, или разучивала на отмытом до скрипа полу танцевальные движения — бабушка записала ее в кружок, а еще в музыкальную и художественную школы. Визиты туда пока тоже пришлось отложить.
Снова, как когда-то в гарнизоне, брат и сестра не расставались. Ели, играли, засыпали вместе, обнявшись. Впрочем, когда Герман утром просыпался, Ева всегда спала на раскладушке, которую бабушка временно для нее поставила. Спать в одной кровати, вместе мыться бабушка им не разрешала:
— У вас в головах все с ног на голову. Брат и сестра, мальчик и девочка — это не одно и то же, зарубите себе на носу. Вам нельзя показываться друг другу в одних трусах и уж тем более без них.
Герману и Еве всё это было смешно, потому что они давно знали, как каждый выглядит голым. То, что они устроены немного по-разному, они, конечно, давно рассмотрели, обсудили, ни к каким выводам по этому поводу не пришли, а просто приняли этот факт как есть.
18
Подушечки пальцев Германа стянуты клеем БФ-6. Будто медсестра стиснула каждый из них, чтобы взять кровь, или мучитель зажал каждую подушечку прищепкой. Перед тем как зайти на почту, Герман нанес клей на подушечки пальцев в несколько слоев. Чтобы не оставить отпечатков на письме. Подождал, пока образуется пленка. Сейчас он стоит в очереди, а письмо жжет ногу через засаленную подкладку в кармане.
Очередь движется медленно. В воздухе пахнет сургучом, бумагой, пылью и вспотевшими гражданами. На улице минус три, а тут жара за двадцать. Сотрудница почты, средних лет женщина с усталыми, круглыми, как у птицы, глазами, с жарким румянцем на щеках, явно выполняет норматив на самое медленное обслуживание, изо всех сил пытаясь не выйти за установленные временные границы. Неспешно мотает бечевку на пухлой бандероли, не обращая внимания на гул недовольной очереди. Под красным лаком — потемневшие от грязи полулуния ногтей. Сотрудница то и дело, будто в задумчивости, прикрывает глаза и держит их закрытыми странно долго, намного дольше, чем требуют приличия и должностные обязанности. Мысли ее заняты явно не почтовыми заботами.
В аркообразные окна почты виден фрагмент незнакомого города — трехэтажные желтые дома, перекресток, светофор, зависший на красном, черная графика кленов. Герман в ста километрах от Москвы. Уехать дальше он не рискнул. В Москве в пустой квартире Ариша сидит на полу и собирает лего, а Ломакины возвращаются к старым привычкам, тайком друг от друга испытывают радость от хорошо прожаренного куска мяса или глотка виски, ненадолго, на несколько секунд, вдыхают воздух так, будто ничего не произошло.
Герман протягивает письмо:
— Заказное.
Сотрудница с птичьими глазами, зевнув, взвешивает письмо Германа. С розовым носочком в белый горошек внутри. С фальшивым адресом отправителя.
— С уведомлением? — спрашивает она.
— Нет, простое.
Получив от Германа деньги, она штампует конверт и равнодушно бросает его на стопку других.
19
Бессонница не похожа на изнанку, как виделось Еве. В детстве, когда Герман не мог заснуть и будил сестру, та недовольно говорила, что если он не будет спать, то попадет по ту сторону мира и увидит его с изнанки. И тебе не понравится с той стороны. Как-то для подтверждения своих слов она включила торшер, сняла со стены гобелен с рекой и мостом, которые Герману очень нравились, и показала, как тот выглядит с обратной стороны — хаос, взаимная агрессия ниток и никакого рисунка. Затем она тут же уснула, а Герман до утра мучительно думал о несоответствии красоты и ее обратной стороны.
Но Ева не знала, что такое бессонница. Всегда засыпала мгновенно. А если в ее жизни случались неприятности, то спала еще дольше. Засыпала в любом месте, в любой час дня, сворачивалась, как кошка, и засыпала. Даже от избытка радости могла заснуть.
Так вот, бессонница не похожа на изнанку, бессонница — это будто ты постепенно исчезаешь. По частям или сразу весь. Боишься выставить ногу из машины, потому что стоит поставить ботинок на асфальт, как нога провалится и исчезнет. Когда страшно дотронуться до панели машины по той же причине — ладонь пройдет сквозь черную пластмассу и растворится где-то за ней. Воздух при бессоннице подернут неверной зыбью. Люди и собаки выглядят оборотнями, упрощенными копиями самих себя. Здания подрагивают — еще чуть-чуть, и город рассыплется или растворится. И что тогда? Герману всегда представлялось, что останется пустыня, пустота, а еще машинно-котельная комната, моторная, пахнущая прогорклым маслом, которая и «продуцирует» весь этот мир.
В ожидании, когда Ломакины получат послание с носочком Ариши, розовым в белый горошек, Герман не спит несколько ночей подряд. В день, когда письмо приходит, история похищения Ариши возвращается на страницы бумажных и интернет-газет, в выпуски новостей телеканалов.
У подъезда Ломакиных толпятся журналисты и зеваки. Людей много, можно подумать, тут идет демонстрация или митинг. Дом весь в прорехах снега, будто кто-то хочет его закрасить белым и тем самым стереть, но слишком медленно рисует белые черточки. Подняв ворот свитера до подбородка, Герман бродит под сыплющим снегом в возбужденной толпе и узнает, что Ломакины с утра не выходят из дома, караулят у телефона. Ждут, когда похитители выдвинут требование о выкупе.
— Пока никто не позвонил, — возбужденно сообщает Герману толстая женщина с ярко накрашенными губами.
Герман ни о чем ее не спрашивал, просто остановился рядом и, придерживая армейский бинокль на груди, задрал голову наверх, как все.
— Запросят миллион, не меньше. — Женщина достает из кармана куртки бутерброды с колбасой, обернутые целлофановым пакетом. Вытаскивает один, откусывает сразу половину.
— Да что такое миллион рублей для таких богатеев? — фыркает в ее сторону старичок с фотоаппаратом.
— А кто говорил про рубли? — Толстая женщина возмущенно разбрызгивает крошки исчезающего во рту бутерброда.
— Сумма, по-видимому, будет нехилая, — вступает в разговор, пыхая сигаретой, бородатый мужчина в очках и клетчатом пальто. — Непонятно только, почему похитители так долго тянули, зачем было ждать целый месяц?
Герману хочется сказать бородатому мужчине, и женщине с ярко накрашенными губами, и старичку с фотоаппаратом, чтобы шли домой: не будет никаких требований о выкупе. Уж он-то это знает наверняка. Завтрашние больные горла, кашель и насморк — напрасная жертва. Постояв еще немного и послушав, что говорят в толпе, Герман начинает чувствовать себя странно. Вместо того чтобы наслаждаться моментом, он ощущает себя где-то сбоку, будто происходящее ему совсем не подчиняется, а движется непонятно куда по каким-то своим законам. Будто не он, Герман, управляет ситуацией. Все выглядит так, будто он знает о ней даже меньше, чем люди вокруг.
Герман выбирается из толпы и идет к дому напротив. Дожидается, когда из подъезда кто-нибудь выйдет (подросток с велосипедом, пахнувший на Германа мятной жвачкой). Придержав открывшуюся дверь, Герман заходит внутрь, поднимается на площадку шестого этажа. Наводит армейский бинокль на квартиру Ломакиных. Шторы во всех четырех окнах квартиры плотно задернуты.
Разумеется, Герман не один такой умный. То и дело заходят люди с тяжелыми фотоаппаратами, но, поводив объективом по окнам, уходят. А Герман стоит, вперив взгляд в плотные шторы. Три темных и одну крайнюю, розовую с белыми пуделька́ми. Герман пытается представить, что творится сейчас за ними. Но все же представлять — одно, а видеть — другое. Поэтому он терпеливо ждет. Конечно, рискует. Да, он снова не смог удержаться от поездки. Очнулся уже в дороге, за рулем, по радио — новости о деле пропавшей дочки бизнесменов Ломакиных.
Средняя штора с темно-фиолетовыми ромбами внезапно падает вниз, как на сцене в театре. Герман видит комнату с белой мебелью. Диван, столик и стулья с выгнутыми золотистыми ножками, шкаф. Фиолетовые абажуры на двух торшерах. Пейзажи на стенах. Фотографии. И Олег — в черном шелковом распахнувшемся халате, разбивающий шваброй окно. Лысая голова блестит на электрическом свету, пока он не сваливает люстру, кинув в нее один из стульев. В комнате становится темнее, но на улице все же еще день, хоть и предзимний. Осколки, обломки, посверкивая, сыплются на пол, не переставая. Олег крушит все, что попадается на пути. Ломает руками, ногами, бьет об стену, сбрасывает, топчет.
Судя по движущемуся открытому рту, Олег что-то кричит. Принимается расталкивать, раскачивать, словно разошедшийся медведь, шкаф (белый, с золотистыми ручками и короткими ножками). Хватается за дверцы, вырывает их, выбрасывает разноцветные внутренности на пол. Не сразу, но шкаф поддается, обрушивается. Наверняка грохот слышат и чувствуют на этажах снизу.
Розовые, с белыми пуделька́ми шторы на крайнем окне раздвигаются, и на крошечном балконе возникает Ольга. Герман переводит бинокль на нее. Синий, длинный, с японскими узорами халат. Волосы растрепаны, рассыпаны по плечам, изящные, затейливо изогнутые губы — синие, как у индианки какой-нибудь. Ольга смотрит с балкона вниз, обхватывает себя исхудавшими руками. Снег пытается и ее заштриховать, но он по-прежнему слаб и медлителен.
Хорошо, однако, что у Германа бинокль, а не винтовка с оптическим прицелом. За спиной Ольги сквозь прореху в шторе просматривается детская — здесь все, что может развлечь трехлетнюю девочку. Розовый и огромный, как безумный торт, игрушечный замок. Машина, на которой можно кататься, — тоже, разумеется, розовая. Велосипед. Медведи, куклы в дорогих платьях. Странные яркие предметы на полках розового шкафчика. Не в каждом магазине найдутся такие изыски. Что ж, Ариша, не взыщи, придется тебе довольствоваться помойным лего да мячиком из прошлой жизни.
Когда Олег врывается на балкон, Ольга уже перегнулась наполовину через перила. Он пытается оттащить жену, но та упирается. Ломакины борются. Облачка пара от их частого дыхания рождаются и тут же растворяются под продолжающимся снегом. Олег что-то кричит, по лицу Ольги текут слезы. Олег хватает жену за волосы и затаскивает-таки в комнату. Там наотмашь ударяет ее по голове. Штора задергивается.
Сверху на лестнице раздаются шаги. Герман опускает бинокль и закуривает. Знакомый легкий перестук, быстрый шаг. Спиной Герман ощущает тепло и юность спускающейся. По позвоночнику пробегает озноб. Герман прикрывает глаза. Сейчас-сейчас сквозняк донесет запах духов. Да, вот и он, знакомый цветочный запах Escada. Герман чувствует присутствие Евы так явственно, что его руки и ноги покрываются пупырышками восторга. Стук каблуков совсем рядом, за спиной. Поравнялась с Германом. Его ладони разогрелись и пульсируют. Шаги начинают отдаляться, становятся всё гулче, четче, будто это уже не каблуки стучат, а метроном отмеряет внеземное время.
Герман тушит сигарету о банку «Нескафе» (эта фирма, похоже, специально выпускает жестяные банки в качестве пепельниц для подоконников). Бросает взгляд на дом напротив. Выдыхает напряжение последних месяцев. У него получилось!
20
В январе 1983-го Герман пошел в класс Евы. Бабушка и директор сумели договориться. Теперь Герман сидел за партой с сестрой, смотрел, как ее рука в пятне зимнего солнца выводила с нажимом цифры в тетради. На переменках он не сводил глаз с ее темной макушки, мелькавшей то здесь, то там — Ева любила бегать по коридору наперегонки с мальчишками и Лидочкой, ее верной подружкой.
Герману требовалось все время видеть сестру. Чтобы грудная клетка работала, впускала и выпускала воздух, обеспечивая жизнь, ему необходимо было держать в поле зрения радужные переливы бантов Евы, влажный блеск ее крупных передних зубов, вспархивание белоснежных кружевных воротничков платья, когда Ева поднималась с места, чтобы ответить учительнице. Он нуждался в шумах ее дыхания — тяжеловатого, с сопением, когда она раздраженно закрашивала в альбоме шинель солдата на уроке рисования, или легкого, струящегося, когда, наклонившись, шептала Герману на ухо секрет, который понадобилось немедленно рассказать посреди урока.
Как масло для двигателя, в дыхательные пути Германа должен был время от времени заливаться и запах Евы. В школе к тепло-солнечному запаху, который всегда источала кожа сестры, примешивался сладковатый запах вспотевшей полной шеи и затылка с прилипшими после прыжков и бега волосами. Как бы туго бабушка по утрам ни зачесывала волосы Евы, разделяя пробором голову на два полушария, как бы ни удерживала их в хвостах или косичках резинками и бантами, уже к обеду часть волос выбивалась, высвечивалась на зимнем солнце и создавала вокруг головы сестры нечто вроде священного ореола.
К естественным запахам Евы примешивался всегда и какой-нибудь съедобный — леденцов «Дюшес» (их, обсыпанные стеклянной сахарной крошкой, Ева хранила в бумажном пакете в портфеле и употребляла по два, а то и по три сразу) или мандарина, яблок, вафель. Ей все время требовалась подпитка. Герман отдавал сестре то, что бабушка клала и в его портфель (она им все давала поровну, кроме разве любви). Ева любила пожевать что-нибудь прямо на уроке. По какой-то необъяснимой причине ей разрешались вещи, за которые остальным детям грозили большие неприятности. Даже не то что разрешались — скорее, восьмилетняя Ева разрешала их себе сама, а окружающие отчего-то соглашались, что ей и в самом деле можно. Впрочем, Ева была лучшей ученицей в классе и любимицей учительницы.
Учительница в Евином классе была много старше Елены Алексеевны. Она носила вязаные свитера с толстым горлом, а если вдруг надевала платье или блузку, горло все равно оказывалось замотано шалью или шарфом. При малейшем крике или сквозняке у Софьи Андреевны пропадал голос. Часто этаким потусторонним шепотом она объясняла правила или читала отрывки из учебника по чтению. И что странно — все дети сидели тихо. Не то что в классе, откуда Герман ушел. Казалось, учительница ничего особенного, отличного от действий Елены Алексеевны не делала. Даже слова произносила те же. Но вот ее слушались, а Елену Алексеевну — нет.
Софья Андреевна никогда не вызывала Германа к доске, смотрела сквозь пальцы на то, что он все задания переписывал у сестры. Она будто не замечала, что он есть в классе. Лишь иногда останавливала на нем отрешенный взгляд тяжелых глаз с густо накрашенными ресницами, прищуривалась, точно пыталась вспомнить, кто он и что здесь делает. Чуть заметно морщилась, словно от внезапной головной боли, переводила взгляд на Еву или кого-то другого из детей, снова воодушевлялась и продолжала урок дальше. А Герман втягивал голову в плечи.
Оказавшись во втором классе, Герман и вправду ничего не понимал ни в русском, ни в математике. Когда кто-то из учеников решал задачу на доске или писал под диктовку предложение, он пытался уяснить, как тот это делал. Все было напрасно. Читал он тоже плохо. На физкультуре сидел на скамеечке, мучительно ожидая, когда закончится урок. Вообще-то он тоже мог вот так кувыркаться на матах, сидеть, вытягивая руки то к левой, то к правой ноге, и еще делать кое-какие упражнения. Но возиться с ним никто не собирался. Время инклюзивных школ и классов еще не наступило. Дети спешили поскорее переделать упражнения и приступить к игре в пионербол. О, с каким счастьем они вставали по шесть человек с обеих сторон сетки. Подпрыгивали, сосредотачивались, ждали свистка.
Как же Герману хотелось подержать обтрепанный, обляпанный, но тугой веселый мяч, вдохнуть его пыльный, разогрето-терпкий запах кожи, попробовать бросить через сетку. Попроси он, ему наверняка дали бы разок сыграть. Но он так и не решился.
Ева и подавала, и ловила мяч хорошо, но лучшая среди девочек была Лидочка, верная подружка Евы. Загноившиеся под сережками уши, треники с отвисшими коленками, растянутая белая футболка. Щеки и тонкие оплывшие губы, всегда красные, обветренные, — Лидочка любила их облизывать. Когда Лидочка ловила мяч, то становилась похожа на дрессированную собаку — мгновенно вычисляла траекторию и делала минимальное количество движений, чтобы наверняка его схватить. Она могла поймать почти любой мяч — слабо брошенный, но умудрившийся-таки перелететь через сетку, косой, запутавшийся в движениях. Обманку вычисляла в два счета и бежала туда, куда надо. Могла поймать даже крученый — такой, кроме нее, умел посылать только второгодник Артем. Надо ли говорить, что команда, за которую играла Лидочка, всегда выигрывала.
Каждый раз, когда Лидочка приносила команде очко или ловила сложный мяч, Ева радостно кричала ей или показывала большой палец, направленный вверх. Лидочка улыбалась и нет-нет да и пронзала сидящего на скамейке Германа ядовитым взглядом. Лидочка была раздавлена несправедливым маневром судьбы, втиснувшей Германа между ней и обожаемой Евой. Ей пришлось уступить Герману место за партой рядом с Евой и приходилось терпеть его присутствие на тех занятиях и прогулках, которые раньше принадлежали только ей и Еве. Лидочка уже не раз пыталась подставить Германа перед Евой, не понимая, какие крепкие канаты связывали брата и сестру.
Каждый вечер к Морозовым стала приходить Елена Алексеевна. Ее модная стрижка постепенно исчезала, волосы блекли, теряли определенность цвета, облепляли маленькую голову, свиваясь сзади в жидкий небрежный пучок. Лицо похудело, вытянулось, ямочек на опавших щеках уже было не различить, зато нос шагнул вперед и расширился. Только глаза горели как раньше. Но огонь в них был уже другой — лихорадочный, больной, страстный.
Елена Алексеевна теперь носила серое платье, стянутое на талии серым же кушаком. Герман больше не видел на ней ярких платков, кулонов, не чувствовал запаха духов — разогретой на солнце розы, теперь от Елены Алексеевны всегда пахло хозяйственным мылом. Войдя к Герману в комнату, она сразу проходила к письменному столу у окна. Как когда-то в классе — к учительскому. Паркет поскрипывал под круглыми пятками, обтянутыми заштопанными чулками. Поставив коричневый лоснящийся портфель на один из двух стульев, расстегивала замок, выкладывала учебники с закладками, толстую тетрадь, простой карандаш, всегда остро заточенный. Потом опускала портфель на пол, а сама садилась. Герман усаживался на второй стул. Русский, математика, чтение. Каждый вечер, даже в выходные.
Вот один из таких вечеров. В открытую форточку дует сладковатый апрельский ветер, несет запах пыли и первой зелени. Шпиль высотки в окне протыкает красное, как щеки и уши Германа, облако, очертаниями напоминающее зубчатый марсианский замок (вот бы где спрятаться от Елены Алексеевны).
— Ну, Герман, почему же «клюф»? Вспоминай: чтобы проверить, какую согласную писать на конце, надо изменить слово так, чтобы после согласной шла гласная.
Освещение апрельского вечера такое, что Герман отчетливо видит каждую пору на лице Елены Алексеевны, каждую кровяную ниточку на белках ее горящих глаз. Пристыженно опускает голову. Учительница смотрит на него ласково, с виной и любовью. Взгляд этот невозможно выдерживать изо дня в день. Бабушка говорит, что Елена Алексеевна помешалась. На нем, на Германе. Впрочем, тут же добавляет: тебе, Герман, это только на пользу.
Солнце движется к закату. Елена Алексеевна проверяет решенные Германом примеры и задачу про пионеров и скворечники. Герман грызет ручку и глядит в окно, где кто-то зачеркивает небо простым карандашом. Прислушивается к ударам Евы мячом в стену соседней комнаты (он по-прежнему не может жить и дышать, если Евы нет рядом). Постепенно тонкие линии на небе разъезжаются и превращаются в серое оперенье птицы. Возможно, одной из тех, посвистывающих на выпустивших зеленые коготки деревьях внизу.
Ева пыталась отвадить Елену Алексеевну. В карманах пальто учительницы то и дело оказывались лягушки и дождевые червяки, записки, написанные псевдобабушкиным почерком, чтобы Елена Алексеевна больше не приходила, в сапогах и туфлях вырастали кнопки и гвозди. Однако взять эту неприступную крепость Еве не удалось. Елена Алексеевна, как заведенный раз и навсегда механизм, ходила к Морозовым каждый день. С утра, пока Герман был в школе, работала в библиотеке на полставки (из школы ее уволили), а затем — к Герману. Еще она помогала бабушке по дому — мыла полы, ходила в магазин.
Ближе к лету Елена Алексеевна стала захаживать в церковь и приносить Герману оттуда сухие и невкусные просвирки. Бабушка вздыхала вечером Веро́нике в трубку:
— Совсем потеряла голову девочка. Строит из себя страдалицу. Ну да зато я теперь могу помирать спокойно: она ребят не бросит. И за Германом будет присматривать хоть до старости… Что? Деньги? Нет, так и не берет никаких денег. Конечно, предлагала и даже в руки совала, в сумочку. А она — в слезы. Пробовала дарить подарки. Куда там! Не берет. Начну настаивать — снова в слезы. Никогда не сядет с нами за стол, хотя поможет все подготовить. Я и так и этак — Леночка, посиди с нами, ты же уже, почитай, часть нас. Нет, и крошки в рот не берет. Я ей даже иногда говорю: уж не брезгуешь ли с нами есть? Раскраснеется вся: пожалуйста, Анна Петровна, не настаивайте, я не могу. Только кипятком и пользуется — чай свой заваривает, а заварку с собой в мешочке носит. Худющая, страшнущая — одни глаза и горят.
21
Возможно, потому, что бабушка не молилась, как наказал ей Евгений Николаевич, нога Германа стала укорачиваться и деформироваться, и он снова оказался на костылях. Нужно было делать операцию. Однако из-за странной болезни — зависимости от Евы — Герман не мог находиться в больнице один.
— Да что с тобой такое, Герман? — возмущалась бабушка. — Ну сколько можно? — Она злилась и не скрывала этого: ему давно нужно было делать очередную операцию. — Если тебе не сделают операцию, ты навсегда останешься калекой, понимаешь?
Отчаявшись самостоятельно справиться с его «причудой», она решила воспользоваться последним средством — повезла брата и сестру к морю, в Крым.
Песочные часы с красными колпачками, которые Герман украл по приказу Евы в кабинете физиотерапии Гурзуфского санатория, отсыпали уже два раза по пять минут, но Ева все не возвращалась. Посредине игры ей приспичило, и она убежала в номер, где, прикрыв лицо газетой, спала бабушка.
За плотной стеной кипарисов моря было не видно, но хорошо слышно: волны, урча, грозили, накатывали на берег, кидались в ярости на гальку, шипели и отступали.
Щупальца невидимого чудовища подобрались уже совсем близко к Герману, он чувствовал на шее дуновение от их движений. Если Ева не вернется, щупальца сомкнутся и начнут душить. Герман перевернул часы. Горячее стекло от прикосновения пальцев задрожало, пошло бликами по настольной игре из «Веселых картинок», раскрытой на лавочке и обжитой хвойными иголками. Герман облизал пересохшие губы. Задышал чаще. Песок в часах сыпался слишком быстро. Крики купающихся на пляже за кипарисами и треск цикад слились в одну тонкую мучительную ноту, звук которой кто-то все прибавлял и прибавлял. Каждый вдох давался Герману труднее предыдущего. Изображение парка мутнело, аллея изгибалась и дрожала, перемещалась то вправо, то влево, будто длинный зеленый хвост.
Когда Герман почувствовал, что больше не в силах протолкнуть воздух внутрь себя, на аллее появился бородатый человек в инвалидной коляске. Колеса коляски скрипели, спицы ловили солнце, заглядывавшее то там, то здесь сквозь прорехи в переплетенных кронах гигантских деревьев. По фетровой шляпе и белому костюму бородатого человека шарили узорчатые тени. Герман видел этого человека несколько раз разговаривающим с бабушкой. Инвалидная коляска остановилась напротив Германа, бородатый протянул персик. Герман, уже сипя, свистя грудью, покачал головой. Однако бородатый руки не убрал:
— Бери, говорю, — приказал он голосом сочным, вязким, тяжелым.
Герман взял персик.
— Вдыхай его, пока не полегчает, — бросил бородатый человек и, ловко управляя колесами, покатил себя на коляске дальше.
Персик был тяжелым, теплым и шершавым. От него сладко и терпко веяло тонким медово-цветочным запахом. Герман попытался вдохнуть этот запах. Однако ничего не получалось, хрип в груди только усилился. Еще раз, еще… И вдруг, когда Герман понял, что вот-вот умрет, запах вместе с воздухом острой болезненной струйкой проник в грудь. Он вдохнул персика еще раз и еще, с удивлением поморгал — он дышал! Приступ в первый раз не развился до конца. И хотя дышать было трудно, Герман не задыхался.
Замутившееся было изображение встало на место: он увидел на одной из ближайших лавочек толстых мужчину и женщину с красными лицами. Широко расставив сгоревшие на солнце ноги, оба уплетали пирожки. Сумрачный воздух аллеи пульсировал вокруг солнечными вспышками. Пальцы и лица парочки блестели от масла. Заметив на себе застывший взгляд Германа, толстяки замерли с полными ртами и вопросительно уставились — дескать, чего? Толстяк сглотнул пирожок, приподнялся было, сдвинув мохнатые брови, но жена остановила его рукой. У нее были огненные растрепанные волосы и платье в крупных тюльпанах.
Герман уткнулся в персик, задышал так, будто у него и персика была одна дыхательная система на двоих. В конце аллеи показалась Ева. Платье в синий горошек, панамка. Не торопясь, пританцовывала, крутилась вокруг себя. Приблизившись, отобрала у Германа персик, уселась на лавочку (сандалии дохну́ли разгоряченной кожей и песком). Откусив персик, внимательно оглядела карту, проверила, не изменилось ли расположение фишек на ней. Взяла кубик, потрясла, бросила — шестерка:
— Я же сейчас хожу?
Герман, улыбнувшись, кивнул. Дерево помахало им сверху лапами, окатило запахом горячей хвои.
На следующий день Герман подобрал на дорожке крупную зеленую шишку. Спаянные липкие чешуйки терпко пахли смолой. Когда Евы не было рядом, он приспособился спасаться запахом шишки. Потом место шишки в кармане занял незрелый лимон размером с орех, его Герман сорвал в корпусе санатория. Позже в Москве Герман приловчился в отсутствие Евы использовать кофейные зернышки, крышки от бабушкиного ликера, пустые флакончики от духов, но особенно хороши в этом плане оказались ластики, остро и вкусно пахнувшие новой резиной.
— Да что ты их ешь, что ли? — спрашивала бабушка, когда он через неделю просил три копейки на новый ластик.
Сейчас, много лет спустя, запахи служат Герману проводниками по времени. Стоит унюхать тот же запах зеленой шишки, нового ластика, вишневого ликера — и прошлое тут как тут. Ева, бабушка, Москва. Конечно, большинство запахов того времени, а с ними и событий, картинок, лиц, не восстановишь. Если когда-нибудь какой-нибудь умник изобретет устройство для фиксации запахов, подобное фото-, видео- или аудиозаписям, он будет достоин пяти Нобелевских премий.
Впрочем, роль таких записывающих устройств для запахов, как выяснил Герман, отчасти берут на себя учреждения. Школы с их терпко пахнущими спортивными залами, столовые с запахами еды и чистящих средств, туалеты, благоухающие мочой, мокрыми тряпками и хлоркой. Аптеки, пахнущие резиной, аскорбинкой и устоявшейся симфонией лекарств. Больницы. Почтовые отделения, библиотеки. Бани, вокзалы, тюрьмы наверняка. Они, словно фракталы, содержат в себе, конечно, не только запахи прошлого, но и звуки, освещение, картинки, не изменившиеся за десятки лет. Все эти учреждения работают не хуже машины времени.
Так, прошлое и настоящее постоянно наплывают друг на друга, когда Герман работает в больнице. Ничего удивительного, ведь значительную часть детства он провел в медучреждениях.
22
Бабушка не теряла надежды поставить Германа на ноги, пристроить внуков в хорошее местечко и пожить напоследок в свое удовольствие. Несколько лет светила ортопедии так и эдак кромсали ногу Германа.
Боль ночью после операции бывала особенно сильной. Но, конечно, даже не приближалась к той, которую Герман испытал, когда зубцы капкана вонзились в его кости. После обезболивающего укола, стиснув зубы, часто моргая, он привычно глядел в темноту ночи, на белеющий в темноте потолок, на котором дрожала световым пятном душа уличного фонаря. Герман знал, что через некоторое время боль уйдет. Чтобы отвлечься, он использовал способ, которому его довольно жестоко обучил бородатый человек в парке гурзуфского санатория. Как оказалось, этот способ помогал не только от разлуки с Евой.
Герман намеренно принюхивался и прислушивался. Больницы были все разные, но ночные звуки и запахи в них почти не различались. Веселые молодые голоса медсестер в коридоре, там, за световой полосой, отчерченной дверью палаты. Взрывы смеха. Скрип дверей, бряцанье тележки, на которой медсестры все время что-то развозили. Дразнящие запахи сосисок, вареной картошки, сбежавшие из сестринской гулять по этажу. Бормотание радио. Потом внезапно все стихало, точно кто-то выключал все звуки разом. Наступала тишина. Даже в палате не раздавалось ни скрипа пружины под соседями-мальчишками, ни сопения, ни тайного шуршания в тумбочке, ни всхлипов — ничего. Чтобы удостовериться, что он не оглох и вообще жив, Герман стучал костяшками пальцев по спинке железной кровати за головой. Кляц-кляц.
Утро начинала медсестра. То есть это были, конечно, разные медсестры в каждой больнице, но с течением времени они слились в одну. Быстрыми шагами она входила в палату, позвякивая градусниками в эмалированном лоточке, белеющем в темноте или в предрассветных сумерках. Герман всегда просыпался, едва открывалась дверь палаты. Ни в одной больнице дверь не была бесшумной — раскрывалась со скрипом, или со стуком, или со вздохом. Бывало, Герман просыпался еще до того, как медсестра открывала дверь — от стука ее каблуков по коридору и все того же дребезжания стекла о дно и стенки лоточка.
Стук каблуков приближался, нарастал и вот уже громогласно клацал в палате. Запах утра и хлорамина, в котором были продезинфицированы градусники, разгонял ночные запахи, сгустившиеся в мальчишеской палате.
До того как медсестра приближалась к нему, Герман успевал вспомнить, кто он такой и в какой части своей жизни пребывает. Накатывал страх, однако почти тут же в душе (или где там внутри находится экран, на который проецируется невидимое другим изображение?) возникал образ Евы. Сегодня Ева придет!
Пока градусник теплел под мышкой, Герман окончательно просыпался. Следил, как наступает утро. Даже зимой можно было понять, что тьма в палате уже не ночная, а утренняя, радостная. Темнота разбавлялась, таяла, сквозь нее прорастала утренняя синь. Яблоко и солдатик на тумбочке из ночных страшных призраков превращались в добрых знакомцев. Герман протягивал свободную руку и брал солдатика, ощупывал, крепко сжимал его, здороваясь.
Потом, если нога Германа не была подвешена или растянута, наступало время умывания. Запотевшее окно с красными волнами от поднимающегося солнца. Отблеск кафеля. Первыми умывались старшие и ходячие — с загипсованными руками, шеей. В пижамах или растянутых тренировочных штанах. Те, кто был на костылях или колясках, смотрели и завидовали, как ходячие брызгаются и толкают друг друга. Герман тоже завидовал, но отстраненно, как завидуют детям князей, нарисованным на картинках в учебниках. Год на второй-третий больниц Герман понял, что ходить без костылей, даже только с палочкой, он больше не сможет. Нога слишком укоротилась.
Ожидая очереди к умывальнику, Герман представлял, как Ева сейчас тоже умывается, собирается в школу, надевает форму, как вот так же поглядывает в окно. Напевает: «Утро красит нежным светом стены древнего-о-о Кремля-а…» — в этом месте она всегда поводила головой вправо и разводила руки в стороны.
Подходила очередь Германа к умывальнику. Холодная вода в ладошках. Запотевшее зеркало, изрисованное рожицами. Привкус московского утра и мятной пасты. Кляксы чужих паст в раковине, точно неведомые закаменевшие насекомые-многоножки. Герман, привыкший к жесткому присмотру отца и пристально-изучающему взгляду бабушки, всегда был аккуратен. Будь на его месте Ева, она бы добавила клякс и придала бы сборищу всех этих замерших насекомых смысл — направила бы их в одну сторону или натравила друг на друга со шпагами или ножами. Ева! Герман поднимал голову и победно вглядывался в запотевшую туманность зеркала 1985 года. Сегодня Ева придет!
После умывания время несло Германа к завтраку. Желтизна пшенной каши сливалась с желтизной продолжающего взлет утреннего солнца, пробивавшего насквозь мутноватые больничные стекла. Герман глотал кашу, запивал янтарным чаем, высвеченным в стакане резкими лучами. После операции завтрак приносили в палату, в других случаях Герман на костылях или коляске добирался в столовую. Металл ложек сверкал, как начищенные трубы в ожидании триумфального выступления. Сверкали и металлические ножки стульев, блестели стекла картин на выкрашенных синей масляной краской стенах. Если у Германа была температура, сверкание и блеск причиняли боль глазам. Но и температура, и боль не имели значения. Радость пульсировала даже в воздухе, кипела, лопаясь солнечными пузырчатыми вспышками над головами галдящих и стучащих ложками о тарелки мальчишек и девчонок с перебинтованными руками или ногами.
Время до часу дня отдавалось экзекуциям. Герман терпеливо сносил процедуры, предвкушая счастье, которое его ждало. В больнице он не стыдился своей ноги — здесь она никого не удивляла, у некоторых ребят было и похуже. Когда медсестра тянула с раны приклеившийся засохший бинт, обрабатывала свежие швы, когда врач так и этак крутил ногу, Герман не кричал, не истерил, как другие ребята. Он только стискивал зубы и часто-часто моргал, глядя, как руки медсестры или врача работают над его ногой. Всякий раз, когда выяснялось, что он не боится боли и умеет мужественно ее терпеть, медики искренне удивлялись и с уважением поглядывали на Германа.
Случалось, медсестра или врач разрешали ему потрогать инструменты, всякие приспособления. Обычно стеснительный, тут он чувствовал себя свободно, смело, спрашивал, зачем вот это, почему у этого так выгнута эта штука. Ему объясняли. Иногда врачи, забыв, что перед ними мальчишка, вдохновенно прочитывали мини-лекцию по ортопедии, и Герман чувствовал за их словами нешуточную страсть.
К обеду лихорадочная суета в коридорах и кабинетах стихала. Масляные пятна солнца замирали на стенах палаты и сбитых постелях. Слезы у соседей-мальчишек высыхали. Новички пахли страхом, свежим гипсом, йодом и кровью. После процедур нога Германа болела сильнее, но в противовес этой боли росло и предвкушение счастья. К тому времени оно уже так переполняло Германа, что скрывать его становилось все труднее. Излишки радостного волнения доставались новому пахучему ластику в кармане, который Герман мял, и сжимал, и нюхал.
Обед бывал всегда невкусным, какой-нибудь куриный суп с рисом и сладкое картофельное пюре с жидкой котлетой. После измывательств над ногой Германа познабливало, запахи супа и котлеты вызывали тошноту. Он обходился мягким кисловатым черным хлебом и компотом из сухофруктов. На дне стакана урюк снова обретал форму абрикоса. Съев влажную мякоть, Герман обсасывал кисло-сладкие, ребристые косточки и складывал их в ряд на столе, менял у других мальчишек свою котлету или грушу из компота на еще один урюк. Ряд косточек пополнялся, в конце обеда Герман отправлял их в карман штанов. Для Евы.
Время, бежавшее с утра вприпрыжку, после обеда останавливалось. Как Герман ни подгонял его, оно упрямо удерживало солнце на подоконнике и не разрешало тому сдвинуться ни на йоту. Соседи-мальчишки сопели во сне. Иногда Герману везло — в палате попадался такой же не спящий днем мальчишка. А порой и не один. Те, кто мог передвигаться, перебирались на постель обездвиженного гипсом и растяжкой товарища. Доставались карты или шашки, и Герман приступал к войне со временем. Двигая шашки или неблагоразумно покрывая две шестерки козырными тузом и королем, Герман представлял, как Ева возвращается из школы домой. Идет, помахивая портфелем. Заходит в кондитерскую, покупает пирожное-корзиночку с кремовой розочкой или обсыпанный поджаренными орешками коржик и стакан лимонада.
С ней, конечно, верная Лидочка. Сидят, бросив портфели на пол, болтают ногами, смеются. Отражаются в картине на стене (счастливая семья за чаепитием с тортом, собака у ножки стула не сводит завистливо-преданного взгляда с хозяев), смотрят сквозь витрину на улицу. Сбоку у витрины знакомая Герману трещина в виде длинной многоножки.
Пока Герман в больнице, Ева принадлежит только Лидочке. Айда в кино или зоопарк, говорит она Еве. Ева смотрит на нее, раздумывает, наматывает на пухлый пальчик косу: я собираюсь с бабушкой к Герману. Лидочка еще пуще заводится и подначивает. Она по-прежнему ревнует Еву к Герману. Всерьез надеется, что когда-нибудь он не вернется из больницы. Время от времени подкидывает Герману страшные сюрпризы. Та, с узбекским узором, гадюка, что выползла посреди урока из новенького сентябрьского ранца в третьем классе, и теперь пугает Германа во снах. А вдруг Ева сегодня поддастся на уговоры Лидочки? Герман в ужасе прикрывает глаза и пытается прогнать картинку с Евой и Лидочкой в кондитерской.
— Герман, ты опять дурак. Опять раздаешь.
У ребят руки пустые, а у Германа целый веер карт. А солнце на подоконнике сдвинулось совсем чуть-чуть.
Ева и бабушка появлялись внезапно. В те провалы, расщелины времени, когда Герман на минутку-другую отвлекался — искал в тумбочке запропастившийся карандаш или, внезапно увлекшись, смотрел, как борются на руках за столом двое самых старших ребят, Ева входила в палату в школьной форме, коричневом платьице с кружевным воротником, в черном фартуке. Две косички или два хвостика по бокам. Шла важной, уверенной походкой, мгновенно приковывая к себе внимание всех, кто находился в палате.
Запрыгивала на постель рядом с Германом. Они здоровались одним из излюбленных жестов — например, каскадом последовательных касаний большого, указательного и среднего пальцев. Бабушка целовала Германа в щеку, обдав запахом духов, усаживалась на стул и принималась шумно выкладывать гостинцы. Яблоки, апельсины. Обязательный мармелад в бумажном пакете. Темные желейные сгустки зеленого, бордового цвета, скрытые под светлой сахарной корочкой. Герман в детстве съел тонны мармелада (питание для твоих костей, Герман), замену его — подрагивающий студень или рыбное заливное — он так и не смог полюбить.
Первые минуты были самыми лучшими. Счастье отбивало победный барабанный марш в ушах, сердце и пятках. Герман и Ева, соскучившись, радостно разглядывали друг друга, по-щенячьи толкались и щипались. Ева шептала ему на ухо тайные новости. Менялись гостинцами. Ева протягивала брату крышку от украденных у бабушки терпких духов, круглые, остро пахнущие зернышки гвоздики, которые бабушка добавляла в маринад, еще какое-нибудь пахучее лекарство.
Герман отдавал скопленную горстку косточек абрикосов. Ева сразу принималась за дело: подкладывала косточки по одной под тумбочку или ножку стула. Нажимала, давила на косточку. От усилий просовывала в щербинку между передними зубами влажный язычок. Когда отправляла зернышки в рот, пухленькое лицо ее с раскрасневшимися щеками выражало истинное наслаждение. С Евой почему-то день и вся жизнь сразу налаживались, появлялся смысл во всем вокруг. Она была незаменимой деталью в сложном прекрасном механизме мира, который без нее не заводился.
Мальчишки в палате глазели на сестру Германа. Она понемногу начинала перекидываться с ними шутливыми словечками, они подходили познакомиться или, если уже были знакомы по прошлым разам, поболтать. Уже тогда, всегда и везде, в любом коллективе, Ева сразу становилась «королевой», «командиршей», ей послушно отдавали роль лидера. Люди, маленькие и большие, сразу видели в Еве — что? Как описать эту ее особенность вызывать притяжение? Герман и теперь не знает. А ведь тогда, в школе, класса до седьмого, Ева была толстенькой девочкой, казалось бы, из тех, вызывающих обычно отторжение у сверстников. Плотное тельце, толстые ножки, пухлые щечки. А вот поди ж ты — тут же головы поворачивались в ее сторону, тут же бразды правления отдавались в ее пухлые живые ручки.
И вот уже Ева верховодила командой из ходячих мальчишек, затевала шумные игры, которые вскоре перемещались в коридор или игровую комнату. Даже если нога Германа не была привязана, он был не в состоянии к ним присоединиться. Всякий раз расстраивался и обижался. Прислушивался, выделяя ее голос из детского ора. Бабушка, поинтересовавшись его самочувствием и бесцеремонно сменив ему на виду у всех белье, обычно уходила к дежурному врачу и подолгу разговаривала с ним. Герман опять оставался один. И снова ждал сестру.
Набегавшись, Ева возвращалась. Выпивала полбутылки лимонада и съедала часть гостинцев. Вот она запрокидывает голову, прижав губы к горлышку — янтарь лимонада, смеясь, ловит подобревший вечерний свет. Ева вытирает губы, отдает бутылку с остатками лимонада Герману. Долго и тепло смотрит на него, будто говоря: все эти шумные игры в больничном коридоре, школьные дела, уроки, кондитерская с Лидочкой — не в счет. Главное — мы с тобой, остальное просто не существует. В каждый приход Евы случалась эта тихая, необыкновенная минута единения. После нее покой и уверенность надолго, до самой ночи, возвращались к Герману.
Чаще Ева не приходила. Приходила Елена Алексеевна и занималась с Германом, не позволяя ему отставать от школьной программы, хотя обучение было организовано и в больнице. Являлась все в том же сером платье, пахнущая хозяйственным мылом, с тем же портфелем, в котором менялись только учебники — за третий класс, за четвертый, пятый.
То, что Ева не придет, становилось очевидно к ужину. Герман сидел перед тарелкой с тушеной капустой или холодными макаронами с ржавчинами от подливки и смотрел в окно, как старое дерево, качая ветками, закрашивает темной краской угасающий день. Расстраивался он, однако, недолго. То, что Ева не пришла, означало лишь, что завтра она придет уже наверняка.
23
В декабре Герман выходит на работу, а для девочки нанимает няньку с проживанием — круглолицую круглобокую девушку, которая и ходит так, будто катится мячиком вперед, быстро перебирая короткими ножками, отстукивая марш каблучками дешевых крепких сапожек.
Нянька появляется на пороге квартиры Морозовых в снегопад. Китайский мятный пуховик залеплен снегом, будто новым видом магазинной упаковки. Вязаная шапка переливается снежной льдисто-ягодной сыпью. На вьющихся волосах, выступающих из-под шапки, слепки снега. Девушка ставит на пол растрескавшуюся, как старое зеркало, дерматиновую сумку, местами вспученную от отчаянного напора изнутри. Снимает варежку, протягивает Герману пухлую короткую ручку. Ладонь сильная, энергичная.
— Рита.
— Герман.
Запашок мокрой шерсти и молодого горячего пота. Крупные круглые глаза, красный от холода, вздернутый нос, веснушки.
— Я начну работать сегодня, — заявляет она.
— Это все ваши вещи? — Герман показывает взглядом на сумку.
— Да, — отвечает нянька и начинает снимать сапоги.
Ариша выглядывает из комнаты и, засунув палец в рот, смотрит на девушку.
— Как тебя зовут, девочка? — спрашивает ее нянька. — Меня — Рита.
Ариша подходит, с восхищением трогает снежную скорлупу на пуховике девушки. Новоиспеченная нянька ласково проводит ладонью по отросшему ежику волос девочки, поднимает ее на руки. Ариша с любопытством разглядывает лицо няньки, потом обнимает девушку за шею и тесно прижимается к тающему снегом пуховику.
К вечеру Ариша уже влюблена в няньку и называет ее Мояри — моя Рита.
Нянька состоит из старомодных платьев, книжных слов, штампов, молодого пота (невозможно, но от нее всегда пахнет потом) и кипучей энергии. Она привезла с собой стопку толстых справочников по воспитанию, развитию и питанию детей. Один из них, оставленный раскрытым на кухне, Герман как-то пролистнул и изумился назидательным советам, занимавшим до полутора страниц в каждой главе.
Как-то незадолго до Нового года Герман возвращается поздно, надеясь, что нянька с девочкой давно спят. Он открывает на кухне бутылку пива и уже собирается поднести его к губам, как заявляется Мояри. В одном из этих своих платьев. Странных, мешковатых. На этот раз платье желтое, шерстяное, стянуто на шее бантиком.
— Вот. — Нянька вручает Герману листок из школьной тетради.
— Что это?
— Список вещей, которые нужно купить Аришке.
Герман пробегает список глазами: белье, платья, колготки, лего, книга сказок А. С. Пушкина… Буквы круглые, с сильным нажимом, без наклона.
— Хорошо, я оставлю деньги, — говорит Герман, возвращая листок. — Чеки только потом покажите.
— И еще…
Герман недовольно смотрит на няньку.
— Аришку нужно показать логопеду.
— Зачем?
— Она почти не говорит. Я посмотрела в энциклопедии: в три года ребенок должен знать полторы тысячи слов и говорить предложениями.
— Ей же не двадцать лет, заговорит. — Герман забирает бутылку с пивом, намереваясь отправиться к себе в комнату.
Мояри поджимает губы. Усаживается на стул. На ее шее пульсирует жилка, отчего бантик, стягивающий ворот платья, дышит и подрагивает. Герману приходится тоже сесть.
— Будете пиво? — нехотя спрашивает он.
— Я понимаю, что вы пережили… — Нянька сцепляет руки, смотрит ему в глаза.
Она отчего-то решила, что Герман потерял жену. Он ее в этом не переубеждает. Герман отпивает пиво, вытягивает правую ногу: после нагрузок она нестерпимо ноет.
— Герман, вы должны понимать, что жизнь на этом не заканчивается.
— В какой книжке вы это прочитали, Рита?
— Я пережила в своей жизни достаточно, чтобы с полной уверенностью утверждать: если сгорела одна лампочка, то, значит, вскоре загорится другая.
— Рита, ради бога, идите спать.
Герман выпивает пиво залпом.
— Я вижу, что вам нужна помощь, Герман. Вы худеете и еще — совсем не замечаете дочь, когда так нужны ей. Вы даже как будто отталкиваете ее. Я беспокоюсь о девочке.
— А я было подумал, что вы беспокоитесь обо мне.
— Вы взрослый, а она маленькая девочка.
— Рита, мне надо отдохнуть. У меня был тяжелый день.
— Я приготовила овощное рагу со свининой, — помолчав, заявляет нянька. — Рагу вкусное, калорийное. Я приготовила его по рецепту из книги «Старинные рецепты домашней кухни». Аришке понравилось.
— Ну прекрасно. Ребенок сыт.
— Могу для вас подогреть. По моим подсчетам, вам, Герман, нужно набрать не меньше восьми килограммов.
— Я сам подогрею. Спасибо. Идите спать, Рита.
Когда нянька, наконец, уходит, возмущенно стуча каблуками (она предпочитает даже дома носить обувь с тяжелыми массивными каблуками), Герман встает и открывает холодильник, чтобы достать еще бутылку пива. Задерживается взглядом на кастрюле. Выдвигает, открывает крышку — переваренные обесцветившиеся овощи, мясо, покрытое сыпью крупно нарезанных трав, ребро лаврового листа, тщетно пытающееся освободиться от тяжелого месива. Герман подавляет приступ тошноты и, порывшись в памяти, вспоминает, что уже ел сегодня. Хот-дог, когда после работы несколько часов сидел в машине в темном дворе Ломакиных.
Наутро, когда Герман встает в шесть часов, чтобы в семь тридцать быть в больнице, его уже ждет завтрак, дымит, как паровоз, на столе. И не только завтрак. Умытая и причесанная Ариша сидит на табурете напротив, болтает ногами и пьет какао.
— Девочка должна иметь возможность пообщаться с отцом, — почти угрожающе заявляет нянька, ненадолго показавшись на кухне, светящей огнями в утренней зимней ночи, как инопланетный корабль в космосе.
Герман наскоро проглатывает завтрак, слушая, как Ариша стучит сандалиями по ножке стола, отчего макароны в его тарелке слегка подскакивают. Ариша вытаскивает шоколадную пенку из чашки и принимается возить ею по столу, образуя причудливые формы и объясняя их Герману: ук, пи-ца, те-зо-р-р.
Когда Герман одевается в прихожей, ошибочно полагая, что выполнил родительский долг, Мояри подводит девочку к нему: иди поцелуй папу. Ариша подходит, смотрит этим своим сосредоточенным взглядом утопленных глаз сквозь стекла липовых очков. Нянька тоже смотрит. Герману приходится присесть. Девочка тянется, целует. Словно мокрое насекомое, сбившись с полета, задевает щеку Германа. Встав и собравшись с силами, он в ответ касается горячей, пахнущей детским мылом макушки.
С этого дня завтрак и Ариша неизменно ждут Германа по утрам на кухне. В одно из утр нянька присоединяется к ним. Видимо, прочитала новую статью в справочнике. Садится за стол с большой кружкой чая, куда принимается макать плотные спрессованные кусочки сахара и с завидным аппетитом отправлять их в рот. Теперь каждый день они завтракают уже втроем. В промежутках между глотками чая нянька обычно сообщает о том, какая ожидается погода или какой сегодня праздник по календарю.
Завтраками дело не ограничивается. Нянька заранее допрашивает Германа о дате его выходного и настаивает на походах в детский театр, цирк, кинотеатр и в тому подобные заведения. Но тут Герман непреклонен:
— В этом возрасте ребенку нужен только чистый воздух и движения. Это я как врач вам, Рита, говорю.
Поэтому они обычно ограничиваются прогулкой вдоль замерзшей речушки неподалеку от дома. Часовая пытка снегом, деревьями, птицами (нянька цитирует целые абзацы из справочников о каждой птице) или, если погода влажная, лепкой снеговиков — и Герман свободен.
По вечерам Мояри читает Арише сказки. Если в это время Герман оказывается дома (обычно он возвращается за полночь или, если был на дежурстве, то утром), он слышит громкий старательный голос Мояри. Как, придавая голосу грубости, она говорит за волка, встретившего Красную Шапочку, или, напротив, поднимает его на самый высокий для нее регистр, когда озвучивает речь младшего поросенка из сказки «Три поросенка». Когда Ариша засыпает, нянька, приглушив звук, смотрит до глухой ночи сериалы, семейным отношениям в которых она наутро и пытается подражать.
24
Мояри, как выясняется, очень интересуется историей пропавшей дочки Ломакиных. Собирает вырезки (то, чего Герман не может себе позволить), слухи, не пропускает новости, во время которых высказывает свое мнение о происходящем. Нянька не сомневается, что все дело в деньгах.
— У похитителей железные нервы, — заявляет она. — Изводят родителей, изверги, подготавливают к тому, чтобы те были готовы выложить все до копейки. Один психолог вчера говорил по телевизору, что требуется время для перестройки сознания родителей, перестановки их жизненных приоритетов. Стоит подождать, но немного, напоминая родителям о возможных страданиях девочки, и те выполнят любые условия, отдадут в буквальном смысле всё.
Однажды после прогулки, на которой Герман в очередной раз изображал счастливого и заботливого отца, катал Аришу на санках, помогал копать малиновой лопатой но-ру для за-ся, он заглядывает к Арише и няньке в комнату, разыскивая ключи от машины. Пол и окна, отдраенные энергичной нянькой, сверкают чистотой. Стены оклеены новыми голубыми обоями с мудреными завитушками. На них висят картинки из журналов — иллюстрации к сказкам вперемешку с копиями картин Репина, Левитана, Верещагина. В уголке, который нянька отвела себе, на крючках висят плечики с платьями, а на полу стоит сумка и стопка справочников. Справочники венчает фотография в рамке на ножке — в первый момент Герман думает, что это кто-то из близких няньки, но потом с удивлением признаёт Надежду Крупскую.
Ариша сидит по своему обыкновению на полу и занимается лего — теперь новым и чистым (нянька то и дело отмывает детали в ванной). Мояри уставилась в телевизор, сидя на краешке дивана, вся подавшись вперед. Поворачивается к Герману:
— Ключи? Да, я подняла их с пола в прихожей. Прибила гвоздик у входной двери и повесила их. Теперь не будете терять.
Герман слышит ее голос, но не понимает ни слова: на экране телевизора Ломакины заходят в подъезд своего дома на Ленинградском проспекте. Белые, будто бумажные, пальцы Ольги пауком вцепились в темную куртку мужа. Журналист за кадром тараторит:
— Какую сумму запросили похитители? Вы будете платить?
Крупный план: Олег оборачивается и с ненавистью глядит в камеру. Лысая голова точно покрыта лаком — блестит и отражает зимнее солнце. Ноздри красного крупного носа раздуваются.
— У нас нет комментариев, — заявляет обернувшаяся вслед за ним Ольга. Запавшие глаза. Волосы собраны кое-как и уже растрепались. Чрезмерно изящные губы оплыли и побледнели. Ольга щурится от яркого резкого света, прерывисто и часто выдыхает пар в прозрачный холодный воздух.
Ариша подбегает к телевизору, изумленно тычет в экран: ма… мо… ма. Герман будто пролетает все двенадцать этажей, оставив сердце в комнате одиноко стучать на полу. Нянька не сводит глаз с Ломакиных. Олег в репортаже сжимает локоть жены, острый и худой даже сквозь темный блестящий мех шубы, распахивает дверь и подталкивает жену в подъезд. На экране появляется журналист, а затем возникает фотография длинноволосой счастливой девочки на палубе яхты, залитой солнечным светом.
Ариша все еще держит пальцы на экране.
— Да. — Нянька вытирает выступившие слезы. — Бедная девочка. Вот что бывает, Ариша, когда родишься у богатых родителей. А какая красивая малышка. Как вы думаете, Герман, девочка жива?
— Не знаю, — говорит он после паузы. — Смотря чего надо… тому, кто ее похитил.
— Понятно чего — денег. Только что сказали, что похитители запросили выкуп. Огромную сумму. Вот мерзавцы.
Ариша подходит к няньке и, показывая на экран телевизора, пытается что-то объяснить:
— Ма… ит… мо…
— Да, Аришка, где бедная девочка сейчас? Как подумаю о малышке, начинаю плакать — не могу. — Нянька вытаскивает из кармана желтого платья платок, вытирает слезы, шумно высмаркивается.
Ариша возвращается на пол к лего, но, усевшись, продолжает с удивлением смотреть на экран, будто пытаясь что-то уяснить.
— Выкуп? Вряд ли, — говорит Герман, поворачиваясь, чтобы уйти. — Столько времени уже прошло.
— Большой, очень большой, говорят. Главное, чтобы девочку вернули. Но счастья им с этими деньгами не будет. Судьба все равно накажет мерзавцев.
— Неужели? — Герман, передумав уходить, проходит в комнату и встает напротив няньки. — Вы, Рита, в этом уверены? В том, что судьба карает преступников?
— Абсолютно, так бывает всегда, рано или поздно. Все об этом знают.
— Да, все об этом говорят. Дескать, рано или поздно за содеянное зло преступник получает по заслугам. Дескать, мир так устроен, что это неизбежно. Но нет, это не так! Это ничем не подтверждается, Рита. Сколько фашистов доживали в счастливой старости. Сколько невычисленных убийц, или тех, чья вина была ясна, но недоказуема, или кого «спасли» адвокаты, жили-поживали дальше. А все напасти доставались добрым хорошим людям. Мы все отчего-то верим, — Герман начинает от волнения ходить по комнате, — что в основе мироздания лежит моральный принцип, приоритет добра над злом. А нет, нет! Если в основе мироздания и есть какой принцип, он нам неизвестен. Я вот что вам скажу, Рита: мир, то есть механизм вот всего этого, вообще не знает никакой морали, понятий добра и зла. Ему все равно, миру, этому механизму, и ничего он не будет делать во имя какой-то справедливости. То есть и «все равно» — это тоже неправда, ему, миру, механизму — все это никак. Что на самом деле лежит в его основе, основе мира — нам никогда не узнать. Справедливость, мораль, добро, зло — это категории только людей, мои и ваши, Рита. И только мы играем в эти правила, только для нас они что-то значат. И только мы можем сделать что-то. Найти и наказать преступников. По долгу службы или внутреннему порыву. Человек, а никакая не судьба.
Нянька сочувствующе смотрит на Германа:
— Кроме настоящей тюрьмы есть еще душа, Герман Александрович. Если кажется, что преступник живет счастливо, то это неправда. Душа становится для него тюремщиком, она будет изводить, мучить до конца дней, она превратит его жизнь в ад.
— И вы в это верите, Рита? — Герман морщится от потока штампов. Мояри обожает штампы.
— Уверена. Я жила в детдоме. Те, кто измывался над нами, сейчас не выглядят счастливчиками.
Герман уже открыл рот, чтобы поинтересоваться: и как так судьба отплатила этим людям, но решает не продолжать опасный разговор.
Он выходит на улицу, пытаясь успокоиться. Ледяной воздух быстро приводит его в чувство, и Герман сосредотачивается на мысли, которая засела во время разговора с нянькой. Какой еще выкуп? Неужели Ломакины до сих пор не поняли, что никакого требования о выкупе не будет, что дело не в их деньгах? Как еще объяснить им это? Герман несколько часов катается на машине по городу. Остановившись у киоска, он покупает пачку газет. Пролистывает, в газетах тоже пишут о выкупе, который якобы запросили похитители. Вернувшись домой и дождавшись, пока нянька с Аришей уснут, Герман достает фибровый чемодан, пакет с вещами Ариши. Надев перчатки, он вырезает ножницами кусочек платья с остатками следов пирожного. Руки его вздрагивают от возмущения, и края кусочка ткани выходят неровные.
На следующее утро, опоздав на работу, Герман внепланово отправляет Ломакиным второе послание.
25
Ева как раз засунула руку в мешочек и вытащила очередной бочонок, когда раздался звонок в дверь. Настойчивый, торопливый.
— Сорок семь, — заявила она бабушке и Герману. Все трое сидели за круглым столом в бабушкиной комнате и коротали августовский вечер 1987 года за игрой в лото. Герман в очередной раз проигрывал и утешался фундуком из чайного блюдца с красным маком. Квадрат «47» оказался, конечно, на ее, Евиной карточке. Она аккуратно поставила бочонок на соответствующую цифру, поднялась и пошла открывать. Темная коса, сарафан в мелкий красный цветочек. Ева похудела и с усилием несла на спицах загорелых ключиц тяжелые налитые пятна августовского солнца.
Вернулась вместе с Еленой Алексеевной. Герман заметил, что Ева догнала ее в росте. На этот раз Елена Алексеевна была не в обычном платье, будто из мешковины, а в рубашке и юбке, покрытых серым снегом штукатурки. Волосы поседели всё от той же штукатурки, туфли оставляли на бабушкином таджикском ковре ручной работы серо-белый, почти лыжный след. Выражение лица Елены Алексеевны было таким значительным, что бабушка, хоть и заметила следы на ковре, сказала только: хм. Сдвинув карточки с бочонками, Елена Алексеевна положила перед бабушкой нечто, завернутое в чистый отрез ситцевой ткани. Бочонки раскатились по столу, некоторые из них упали и покатились по полу. Один так потом и не нашелся, как Ева и Герман ни искали. Елена Алексеевна раскрыла дрожащими руками ткань, под ней оказался кусок штукатурки с намертво вклеившейся в него газетой:
— Вот, Анна Петровна. Я нашла того, кто вылечит Германа, — сказала Елена Алексеевна и впервые за много лет улыбнулась.
Елена Алексеевна рассказала, что с час назад отдирала старые обои в своей квартире на Ботанической улице, где жила с матерью. Когда она содрала обои, на стенах проступили желтушные газеты, запестрели крупно набранными заголовками. Услужливое солнце, которое в этот вечер явно было в ударе, высветило один из них и заплясало на нем — «Победа курганского доктора». Елена Алексеевна, не слезая с табуретки, прочитала заметку, потом еще раз. Попробовала отодрать газету — куда там, она намертво держалась на стене. Тогда Елена Алексеевна взяла нож и сняла газету со стены вместе с застывшей штукатуркой. Сдула пыль и аккуратно, как икону, обернула в чистый отрез ткани. Подняла трубку и впервые в жизни вызвала такси. Переодеться, правда, забыла.
— Хм, — сказала еще раз бабушка, поправила очки, взяла кусок газеты-на-штукатурке и принялась читать вслух:
— «На стене и в руках у сидящих в зале — схемы, фотографии, рентгеновские снимки. На трибуне доктор из маленькой курганской больницы Гавриил Абрамович Илизаров. В этот доклад вложена вся его жизнь…»
Герман отчего-то вдруг вспотел.
— «И вот теперь его внимательно слушают министр, члены коллегии, работники Министерства здравоохранения РСФСР. Они слушают рассказ о работе, несущей переворот в травматологию и ортопедию. Г. Илизаров. Читателям “Известий” знакома эта фамилия. Впервые мы рассказывали о враче-хирурге в 1963 году… В 1964 году последовало второе выступление газеты. Со времени опубликования статьи “За секундой — жизнь человека” прошел ровно год… Что же сделал для людей скромный курганский доктор?»
Герман не сводил глаз с бабушки, которая по мере движения по статье переходила от механического чтения — к театральному, с паузами и выражением:
— «На сращивание костей (ликвидация ложного сустава) по методу Г. Илизарова с помощью его аппарата требуется не более тридцати дней. Причем одновременно со сращиванием происходит и удлинение конечности на необходимую величину. Собравшиеся в Министерстве здравоохранения РСФСР рассматривали рентгеновский снимок: бескровная ликвидация ложного сустава с одновременным удлинением конечности на десять сантиметров! Это не предел. Г. Илизарову удавалось удлинять конечность и на 25 сантиметров».
Бабушка сделала паузу. В этот момент часы на столике ожили, раскрылась дверца, и оттуда весело выкатилось гнездо с четырьмя серебристыми птенцами. Раздалась громкая механическая трель: шесть вечера.
Бабушка прочитала статью из «Известий» до конца и даже то, что в конце нее: «С. Осьмина, № 144 (14923)». Потом снова пробежалась глазами по статье: «…1964 году, прошел год». Положила негнущийся кусок газеты на стол, недоуменно посмотрела на Елену Алексеевну:
— Леночка, это ж было двадцать лет назад?
Как случилось, что бабушке никто не посоветовал Илизарова? Да, бум после того, как в 1968 году Илизаров поставил на ноги прыгуна Брумеля, давно прошел. Да, до интернета было далеко. Но почему об Илизарове не обмолвилось ни одно светило ортопедии, к которым бабушка возила Германа? Почему она не услышала о нем от родителей других детей-инвалидов? Скорее всего, она слышала, но, как и большинство советских людей, верила, что лучшие врачи, лучшие больницы могут быть только в Москве. Всё, что в других городах, — второй сорт. А бабушка для себя выбирала что мясо, что пальто, что стулья, что врачей — только наивысшего сорта.
26
Когда ехали в первый раз к Илизарову, Герман очнулся от шепота Елены Алексеевны. Приоткрыв глаза, он увидел, что Елена Алексеевна в широкой рубахе и юбке до пят, заменявших ей пижаму, с распущенными, упавшими на лицо тонкими волосами сидела на нижней полке, сложив руки у груди, и молилась. До этого Герман видел только, как молятся полоумные старухи. С религией в стране давно было покончено как с пережитками вроде крепостничества. Неужели Елена Алексеевна и вправду сошла с ума, как говорила бабушка?
Герман уловил слова Отче… хлеб насущный… и паки грядущаго… спаси, Блаже, души наша… Молитва (или их было несколько?) была долгой, Елена Алексеевна повторяла слова по кругу несколько раз. Монотонный ритм молитвы усыплял, Герман засыпал и снова просыпался, а Елена Алексеевна все продолжала бормотать. За окном мелькали ночные пейзажи поздней осени. Иногда Елена Алексеевна называла имена. В том числе и его, Германа, имя. За его именем шли пять имен, в которых вдруг раз на третий Герман признал имена его обидчиков — ребят, издевавшихся над ним ноябрьским вечером 1982 года. Стараясь не уснуть, он дождался еще раз, когда Елена Алексеевна начнет произносить список имен. Ему невыносимо захотелось услышать имя Евы.
Герман давно научился терпеть разлуку с Евой, но впервые уезжал от сестры так далеко. С каждым перестуком колес расстояние между братом и сестрой увеличивалось. От Москвы до Кургана — 2000 километров. Находясь в больницах, Герман всегда утешался тем, что, если что, Ева окажется рядом через час. Теперь все было по-другому, впервые он и в самом деле остался один. Герман прислушался к бормотанию Елены Алексеевны, вспотел от волнения в ожидании имени сестры. Елена Алексеевна бормотала много имен, но имя Евы так и не произнесла.
Утром Германа ждал крепкий и сладкий чай, дымок от него легко и весело струился и исчезал в душном утреннем вагоне, оставляя на окне запотевшее пятнышко. Елена Алексеевна, с тщательно причесанными тонкими, невнятного цвета волосами, была уже в своем платье-мешке с полукруглыми створками-воротничками, поддерживающими худую слабую шею. Ее бледная кожа светилась под утренними лучами.
— С добрым утром, Герман.
— Здрасьте, — глупо сказал Герман и покраснел. Скорее бы уж оказаться в больнице и не быть один на один с Еленой Алексеевной.
У окна боковушки толстяк в матроске шумно пил чай, ел вареные яйца и читал журнал «Крокодил», а женщина напротив него красила ногти. Заметив взгляд Германа, она улыбнулась жалостливо. Ну конечно, калека. Герман отвел глаза и опять, как дурак, покраснел. В поезде было жарко натоплено, пахло дымом, углем. Герман спустил ноги, оперся на костыли и отправился в туалет. Когда они выезжали из Москвы, за окном была хмарь, черные, сплетенные в единое графическое полотно деревья преграждали путь в лес, сыпал мелкий холодный дождь. Сейчас за окном белела зима.
Елена Алексеевна шла за Германом. Когда он открыл дверь туалета и оттуда пахнуло всем тем, чем пахнет туалет в поезде, Герман услышал за спиной ее слова:
— Я буду тут. Если вдруг что случится — позови.
Герман захлопнул дверь. Здесь шум поезда оглушал, а подмерзшая земля в открытой дырке унитаза неслась страшно и стремительно. Чужие заснеженные леса скакали в окне. Оно было разбито в углу, и холод со свистом летал над головой, пока Герман делал свои дела. Решив помыть руки, Герман обнаружил, что не может пошевелиться. Зеркало с ржавыми пятнами показывало чужого бледного мальчика с серыми, будто подсвеченными глазами, всклокоченными, потемневшими за последние годы, но не до черных, волосами. Герман не удивился бы, если б этот мальчик повернулся и вышел, а он, Герман остался.
Кто-то усилил громкость колес, оглушающий звук, почти вой, завибрировал в ушах, сердце, затылке, икрах. Герман оказался вне времени и не знал, как попасть обратно. Еще немного — и все кругом начнет осыпаться, рассыплется в хаос. Нужно было схватиться за что-то — но леса убегали слишком стремительно, ни одна деталь не могла удержать его внимание. Германа затошнило, голова закружилась. Прошиб пот. Найти бы что-нибудь, связанное с Евой. Но ее фотография лежала на дне чемодана. Подаренная накануне отъезда шоколадка была съедена Евой же ночью на вокзале во время многочасового разговора. Кубик Рубика и пятнашки, которые она пожертвовала ему (напрасно, Герман не любил игры), тоже были упакованы в чемодане.
Время остановилось, в клетке туалета появились плотные слои воздуха, будто несколько реальностей, непонятно откуда взявшихся, враждебных, инородных, спаялись и чего-то ждали от Германа. Опираясь подмышками на костыли, Герман трясущейся рукой принялся шарить в карманах. Однако брюки бабушка вчера ему велела надеть новые, поэтому в них не было ни шишек, ни ластиков, ни крышек от одеколона. В одном из карманов Герман нащупал смятую коробочку. Вытащил. Пачка сигарет. Ночью упала у соседа сверху. Герман, слушая бормотанье Елены Алексеевны, долго смотрел, как пачка белела на полу, а потом подобрал.
Герман прислонился к двери. Сердце колотилось, всерьез решив пробить грудную клетку и выскочить наружу. На умывальнике лежал забытый кем-то коробок спичек. Коробок отсырел, но Герману удалось зажечь спичку о сухое пятнышко полоски для зажигания. Вспомнил вдруг, как говорил ему Андрей тогда, много лет назад, когда они ехали из гарнизона: вот так, затянись. Герман и затянулся. Закашлялся. А потом получилось не кашлять. Голова продолжала кружиться, сердце стучать, но реальность вернулась на место, минуты снова пошли в верном направлении, одна за другой. Дым заполнил клетушку туалета и поплыл сквозь разбитое стекло в морозный воздух чужих мест, потянулся к елкам, просеке, трехоконным русским домишкам. Герман выкурил меньше полсигареты и выбросил то, что осталось, в дыру унитаза, на сверкающие от холода и скорости рельсы и шпалы.
Когда через пять минут Герман глотал остывший чай, он почувствовал, что тело его стало легче. Будто какая-то часть отделилась, уплыла через разбитое окно и растворилась в морозном воздухе вместе с сигаретным дымом. Ему стало весело и грустно одновременно. То, что он видел вокруг, с этой минуты принадлежало только ему. До этого все предметы, люди, пейзажи, города — все принадлежало и предназначалось им с Евой. Но эти елки за окном Ева никогда не увидит. Как не увидит и не узнает город, в который едут Герман и Елена Алексеевна, больницу, где он проведет месяц (как потом оказалось, четыре), все то, что произойдет там, знаменитого врача Илизарова. Теперь это только его жизнь. Он попробовал эту мысль на язык вместе с крепким остывшим чаем.
После чая Герман достал книжку про Илизарова. Книжка была тонкая, с красной обложкой и фотографией усатого темноволосого человека. Эту книжку Елена Алексеевна принесла Герману из библиотеки. Раскрыл. По страницам в такт движению поезда побежали, чередуясь, темные и светлые полосы. В книге было написано, что Илизаров удлинял укороченные ноги. На фотографиях в книге были изображены дети и взрослые, они стояли сначала на костылях с одной короткой ногой, а потом — на полу, касаясь его одинаковыми по длине ногами. Герман приподнял правую ногу, с подрезанной и подшитой бабушкой штаниной, с косолапой и неровной ступней в шерстяном, в полоску носке. Вытянул и левую ногу. Неужели их можно сравнять? Бабушка в ночном телефонном разговоре с Веро́никой сказала, что считает эту задумку Елены Алексеевны авантюрой.
День в поезде длился долго. Герман с Еленой Алексеевной занимались уроками: геометрия, алгебра, русский. Потом обедали холодной жареной курицей, сыром и хлебом. Потом опять занимались: физика, химия, биология. Герман два раза выходил в туалет и учился там курить. Возвращался он, разумеется, пропахшим сигаретным дымом. Елена Алексеевна не могла не чувствовать этого дыма, не могла не видеть пачку сигарет, выпиравшую из кармана брюк, но отчего-то ничего не сказала. Под вечер, когда сумерки уже наступили, но свет в поезде еще не включили и слова в учебнике становилось все труднее различать, Елена Алексеевна поймала взгляд Германа:
— Не бойся. В больнице я всегда буду рядом.
Глаза ее горели сильнее обычного, руки подрагивали, на впавших щеках плясал лихорадочный румянец. Она пыталась успокоить себя: Герман давно больниц не боялся. Это был еще один его дом, привычный. Или еще одна комната, куда он легко заходил и выходил по мере надобности.
27
Герман одной рукой держит лапароскоп, а другой манипулирует зажимами, ассистируя оперирующему хирургу. Холецистэктомия идет своим чередом. Анестезиолог, оператор и сестра переговариваются между собой, как с удовольствием перекидываются словами за работой уверенные в себе часовщики, обувщики, повара или те же рабочие, укладывающие рельсы. Герману в такие минуты всегда кажется, что работа идет волшебным образом сама собой, лампы в операционной светят дружелюбно, растопыренные клены в окне одобрительно покачиваются, в зимнем сером небе, как подтверждение правильности происходящего, проглядывает голубоватый нежный просвет. Воздух в операционной уже нагрелся от работающего оборудования, глаза за масками глядят внимательно, с легкой смешинкой, иронией. Каждый инструмент на столике и в руках бригады подтверждает: все идет как надо, как и должно быть. Движения отлажены, программа удаления желчного пузыря запущена и выполняется будто сама собой.
— Крючок… отсос… ножнички…
Герман следит за движениями рук оператора. Это как подпевать про себя знакомую мелодию или танцевать — движение след в след. Герман бы делал все так же, может, чуть только быстрее. Оперирующему хирургу Иванову далеко за пятьдесят. Высокий, худой, жилистый. Он нравится Герману. А Герман тому — нет. В сущности, нипочему. Иванов хотел взять на это место своего знакомого или родственника, но чуть припозднился с предложением: Германа уже взяли. То, что Герман ассистирует хорошо, кажется, только раздражает старика. Он редко берет Германа в ассистенты, на интересные операции — никогда. Хотя руки их работают слаженно, будто проработали вместе несколько лет, а не месяц.
— Тут камни, и ничего больше. — Иванов подтягивает часть желчного через отверстие в пупке. — Возьми вот тут… — это Герману.
В больнице, из которой он уволился, Герман делал уже такие операции самостоятельно.
— Отпускай…
Герман удаляет инструмент из брюшной полости. Иванов, поддерживая пузырь зажимом, засовывает туда ложечку и, кляцнув там, вытаскивает камень, бросает его в лоток, который держит наготове Людмила, операционная сестра. Снова засовывает ложечку в желчный.
— Что, Людмила, — спрашивает заскучавший анестезиолог, — как там твоя Лизочка? Какие новости в их чудо-больнице? Что-то мы давно ничего не слышали.
Лиза, сестра Людмилы, работает в другой городской больнице. Истории, которые там происходят, сериалам и не снились.
— Вчера дежурила, — охотно отвечает Людмила, оглядывая очередной зеленоватый конкремент, упавший в лоток. — Говорит, привезли парочку — покончили с собой, отравились.
Иванов орудует ложечкой в желчном, стенки пузыря от ложечки выпирают то там, то здесь, точно щеки от крупного куска мяса.
— Это как в Японии, что ли? — спрашивает анестезиолог. — Двойное самоубийство влюбленных?
Людмила качает головой:
— Видали фотографию девочки, везде еще была расклеена — в метро и магазинах? Ну вот, это ее родители. Ломакины, кажется. Оказывается, они отдали пять миллионов долларов, которые запросили похитители, все, что у них было, еще и в долг брали. А похитители в ответ прислали кусочек платья девочки. — Людмила замолкает, подставляет лоток под очередной камень, потом продолжает. — Мать девочки заварила чай с чем-то там и напоила себя и мужа. Ее в больницу привезли еще живую, но не спасли. Муж по дороге умер, это он и вызвал «скорую». Лизка говорит, что мамашу как зациклило — все описывала чайный сервиз, из которого она и муж пили отравленный чай. Свадебный подарок, английский костяной фарфор, все дела. Золотая ручная, надглазурная роспись. Узор — мелкие розы и листья, прорисованные до шипов и прожилок. Прям как настоящие, говорила мамаша, только будто смотришь сквозь уменьшительное стекло. Все твердила, что надеялась сохранить этот сервиз до свадьбы дочери.
— Ну, может, так оно и лучше, — говорит, помолчав, анестезиолог, — похищения никогда хорошо не заканчиваются.
— Я думаю, отец девочки бы с вами, Антон Антонович, не согласился, — произносит Иванов, быстро и ловко извлекая через отверстие опустевший желчный. — Ну всё, зашиваем… Герман Александрович, спите, что ли? Взялись работать, так работайте.
Несколько плиток в стене в туалете, где Герман уже второй час сидит после операции на опущенной крышке унитаза, отсутствуют, цементные проплешины пялятся и смеются над Германом. Даже месть у него не получилась, вышел пшик, насмешка. Даже этого он не смог сделать для Евы. Забытый с детства вкус слез разъедает нос и горло, боль жжет в груди и животе.
Домой он возвращается пешком. По цепочке, страховочной веревке от одного бара до другого. Поздно ночью, в метро, катаясь по кольцевой, Герман не сводит глаз со своего отражения в окне вагона — худой, невысокий, волосы торчат, подбородок утоплен в горле толстого свитера, воротник пальто поднят. Пальто все то же, не по сезону тонкое, осеннее. И он, Герман, все тот же. Неудачник.
Подойдя к дому, поскользнувшись и упав в снег, он вспоминает про девочку и глупую няньку. Вытерев кровь с губы, которую прикусил, Герман усаживается и глядит на дом, пытаясь высчитать окна своей квартиры. Большинство окон темны — ночь. Герман вспоминает, что его квартира глядит на другую сторону, на МКАД. Вот что он сейчас сделает — поднимется домой и скажет няньке, что она уволена, а девочку завтра оставит в людном месте, где ее быстро обнаружат. Положит вещички из чемодана ей в рюкзак, чтобы наверняка поняли, кто это. И еще записку напишет, что ее родители — убийцы. Да, так и сделаю, говорит он дворовому псу, который, виляя хвостом, подходит к Герману. Герман иногда подкармливает его котлетами из больничной столовки. Но сегодня было не до котлет. А пес — ничего, не в обиде, лижет руку Германа, щеку и усаживается рядом.
Мояри, конечно, узнает найденную девочку, когда ту покажут по телевизору, и сдаст Германа. Или не сдаст? Герман вспоминает фотографию Крупской, стоящую на справочниках и энциклопедиях по воспитанию, питанию и развитию детей. Да, такая точно сдаст. Понятно, что с ним произойдет в тюрьме, там никто не будет вникать в нюансы.
Герман обнимает собаку. Та, высунув язык, радостно обдает его горячим дыханием — облачка пара одно за другим уплывают в позвякивающий от холода воздух. На снегу загорается иллюминация: серебристые микрозвездочки перемигиваются, перекатываются по сугробу. Морозит. Герман выдыхает паровое облачко, подтверждающее, что он жив. Пока. Ложится на снег. Небо над головой все не настоится тьмой, хотя уже часа два ночи. Красноватое, подсвеченное электрическими огнями, в Москве оно никогда не темнеет. Звезд Герман не видел лет десять.
Ольга Ломакина глядит на Германа и стучит зубами. На месте глаз и носа у нее темные дыры, откуда льется холод. Губы всё те же — изящной, затейливой резьбы, живые, ярко накрашенные. В руках у нее пакетик с камешками, теми самыми, вытащенными сегодня у пациента при холецистэктомии, камешки угрожающе клацают друг о друга. Ольга голая. Присмотревшись, Герман замечает, что до пояса у Ольги тело девушки, ниже пояса — дряблой старухи. Вздрогнув, Герман просыпается. Его трясет от холода. Сколько он проспал на снегу, минуты или часы — непонятно. Собаки нет. Ноги и руки задеревенели. Герман поднимается, делает неровные шаги к дому. Вспоминает вдруг, что так и не взял в операционной и не отдал пациенту его камни, как просил Иванов, вот же черт.
На этот раз Ольга рычит, поднимает горящий факел и светит Герману в глаза, намереваясь, по-видимому, их выжечь. Герман опять просыпается — он уже в своей комнате, на кровати, в пальто и ботинках. Дверь приоткрыта, электрический свет из щели бьет в глаза.
— Герман Александрович, — громко шепчет Мояри. — Ариша заболела. Температура сорок, я не знаю, что делать.
28
Девочка лежит под одеялом. Световые круги от двухрожкового ночника замерли на пододеяльнике. Тени Германа и няньки зависают на стене доисторическими животными.
— Вся горит бедняжка, — взволнованно говорит нянька. — Бредит про кораблики на подушке.
— Когда она заболела?
— Да вот ночью. Я проснулась — не пойму, то ли стонет, то ли плачет. Вечером, правда, уже квеленькая была, грустная.
— Насморк, кашель есть?
— Только температура, но очень высокая.
Герман откидывает одеяло.
— Зачем же вы ее, господи, Рита, так укутали?
На Арише свитер, колготки и большие шерстяные носки, по-видимому, нянькины.
— Так она согреться все не могла, зубками стучала, теперь хоть и не стучит.
— Разденьте ее до трусов.
Пока Мояри раздевает что-то бормочущую в полусне-полуяви Аришу, Герман включает верхний свет. Нянька зажмуривается, девочка хнычет — глаки бо.
Кожа и слизистые у девочки чистые, горло красное. Приложив ухо к груди и спине, Герман слушает — ничего особенного не слышит.
— Грипп, похоже. Сейчас многие болеют, зима. У вас, Рита, есть аспирин, анальгин?
— Аспирин, он мне от головной боли помогает.
— Дайте треть таблетки и воды побольше. И пока не одевайте, не закутывайте.
— Но девочку же морозит!
Ариша покрылась пупырышками, стучит зубами и дрожит, коленки бьются друг о друга, вздрагивают.
— Пусть немного температура упадет. Потом накроете. — Герман морщится.
— А я подумала: может, вы ей укол какой сделаете? — Нянька неодобрительно смотрит на Германа. — Вы же врач.
— Не нужен ей укол. Следите, пить давайте и не перегревайте.
Взгляд няньки ясно дает понять, что она думает по поводу слов Германа.
— Утром вызову врача из детской поликлиники, — заявляет она безапелляционно и закрывает за Германом дверь комнаты.
А утром сам Герман оказывается в температурных джунглях. Давние знакомцы с радостью принимают его. Распадающиеся бесконечно на фракталы ромбы и треугольники, расширяющееся звездное пространство, пульсирующие водовороты клетчатых воронок. Все они выглядят точь-в-точь как в детстве, будто время и не двигалось с тех пор. А вот и яркие, идеально правильные цветки, всё раскрывающие и раскрывающие бесконечные лепестки, доказывающие, что ад существует, но совсем не там, куда засунули его священники. Куда там чертям до безупречной геометрической системы, фигуры и пространства которой выворачивают, корежат, жгут мозги и с радостью обещают делать это бесконечно.
Мояри три раза в день приносит Герману еду, которую он не ест, и антибиотики — врачу, усталой женщине с узкими глазами, которую нянька вызвала на четвертый день к Герману, не понравилось его дыхание.
— Вот, пейте, Герман Александрович.
Герман приподнимается, кладет на язык капсулу, запивает приторно-сладким обжигающим чаем.
Мояри забирает чашку и присаживается на стул.
— Ариша уже почти выздоровела. Температуры нет. Теперь вы тоже должны поправиться.
Герман откидывается на подушки. Питье таблетки отняло у него последние силы. Еще немного — и геометрический ад снова поглотит его.
— Знаете что, — решительно заявляет нянька. — Пока Аришка спит, я вам почитаю.
И где она взяла все эти правила, по которым якобы живут люди? Герману не хочется слушать ее голос, не хочется ее видеть, не хочется болеть, не хочется жить тут, в этом времени.
— «Конармия», — заявляет нянька. — Мне очень нравится. «Начдив шесть донес о том, что Новоград-Волынск взят сегодня на рассвете. Штаб выступил из Крапивно, и наш обоз шумливым арьергардом…»
Время от времени появляется врач, все та же восточная женщина с уставшими глазами. Или уставшая женщина с восточными глазами. Говорит снова, что он, Герман, ей не нравится. Ничего удивительного. После Евы Герман не знает никого, кому бы он нравился. Врач дважды меняет антибиотики, настаивает на госпитализации. Медсестра приходит делать уколы, но температура не спадает, а кашель только усиливается. Мояри читает ему безумную «Конармию». Иногда говорит о погоде. О новостях. О пропавшей девочке, родители которой малодушно отравились. Нянька возмущена поступком матери:
— А если девочка жива, если ее вернут? Из родственников, вчера рассказали в передаче, у бедного ребенка только бабушка, у которой Альцгеймер, да дядя, брат Ольги, преступник, тот сидит в тюрьме за ограбление. Девочку, если она найдется, отдадут в детдом! Так сказали в передаче. А это ад. Никому никогда нельзя попадать в детдом.
Ночь. Мояри наклоняется и светит Герману в глаза фонариком.
— Господи, вы так хрипели во сне, что я испугалась. Я должна у вас кое-что спросить, не обижайтесь. Если с вами что случится, если вы умрете, что мне делать с Аришей, куда вести? Где живут ваши родственники?
— У меня никого нет, Рита.
— А со стороны вашей жены, Аришкиной мамы? Я понимаю, что вам больно, что вы не хотите говорить о ней, но в данном случае…
— Никого.
— То есть вы у Аришки один? — Круглое лицо няньки вытягивается в овал. — Да вы что? Немедленно берите себя в руки и поправляйтесь. Ваша задача, Герман Александрович, раз уж все так вышло, воспитать девочку. Это ваша обязанность, цель жизни. Аришке нельзя в детдом, слышите? Я сейчас вам расскажу, что происходит в детдоме… что происходит с девочками…
Сквозь движущиеся, то раскрывающиеся, то собирающиеся геометрические фигуры до Германа доносятся слова… в ночнушке на ледяной скользкой крыше, собачья будка, моча в чашке, молчи о том, что было, поняла? не ты первая, застирай все… Пробыл он пять лет в германском плену, несколько месяцев тому назад бежал, прошел Литву… А это, кажется, снова «Конармия», а за окном уже день.
В ночь на воскресенье Герману становится хуже. Он кашляет, не может остановиться, не знает, как дышать. Похоже, конец. В комнате мертвецкий холод. Из соседней комнаты доносится храп Мояри. Дверь тихо отворяется, появляется Ариша, босая, в белой пижаме, с большой белой чашкой в руках. Девочка никогда не приходила за все то время, что Герман болел, только выглядывала с порога и по приказу няньки желала доброго утра или спокойной ночи.
— Ма ска тебе чай па, — слышит Герман сквозь кашель.
Ариша протягивает Герману чашку, пытается снова слогами что-то объяснить. Рука у Германа трясется, когда он берет чашку и, невероятным усилием воли задержав кашель, отпивает глоток. Чай невозможно крепкий и сладкий. Похоже, сама заварила и разбавила холодной водой. Как только догадалась. Нянька вечно дает кипяток. Герман смотрит на Аришу.
— Прости меня, — хрипло выдыхает он.
— Пить, — спокойно говорит Ариша. — Ма ска пить тебе.
Герман делает еще несколько глотков. Выпивает всю чашку, а потом снова проваливается в сон. Но на этот раз не в кошмары с геометрическими фигурами. Во фрагментарные фильмы с Евой, бабушкой, отцом, которые все что-то пытаются сказать ему, но он не понимает. А они только улыбаются, разводят руками. Появляется Ольга, ее изящные губы что-то с ненавистью говорят ему, она тоже пытается что-то втолковать… а потом принимается плакать, закрывает лицо руками, потом открывает и что-то просит, просит, умоляет…
У палатки в пустыне на раскладном стульчике сидит отец Германа и бреется, смотрясь в зеркало на несессере. Герман подходит, заглядывает через плечо на отражение отца в зеркале и вздрагивает — у отца в зеркале лицо его, Германа. Кто-то легонько трогает его за руку. Ева! Она ласково смотрит на него. Вдруг расстояние между ними начинает стремительно расти. Герман спешит, бежит к Еве… Ему удается-таки приблизиться к ней, но на месте, где стояла Ева, оказывается Ариша. На пару лет старше, чем на самом деле. Он в недоумении смотрит на нее: девочка важно кивает и подносит палец к губам. Герман видит ее четко, до последней красной прожилки в глазах, до блеска света на переносице.
Проснувшись, Герман долго слушает тишину. Светает. За окном идет тихий снег. Герману давно не снилась Ева, и теперь его переполняет счастье. Тело легкое, невесомое и такое новенькое, точно его перебрали заново. Температуры нет. В проеме между его грудью и ногами спит Ариша, свернувшись клубком, точно собачка. Рука под щекой. На щеке — утренний зимний свет. Пятки, выглядывающие из пижамы, натоптаны. Комната вокруг сильно постарела, еще больше обветшала, будто за время болезни Германа прошло не две недели, а двадцать лет. Герман садится на постели, с удивлением рассматривает руки — бог знает почему, но он выздоровел.
29
Три года Герман и Елена Алексеевна ездили к Илизарову. В перерывах между курсами Илизаров посоветовал использовать для реабилитации ножную швейную машинку. Хорошо помогает разрабатывать ногу, сказал он, обняв Германа перед выпиской. Машинка стояла в углу комнаты Елены Алексеевны на Ботанической улице и терпко пахла старостью и маслом. Скрипучее колесо, педаль, картонка внизу. Огромный агрегат Подольского механического завода. Герман нажимал на упругую педаль, и колесо, поскрипывая, радостно приходило в движение, машинка постукивала, производя бесчисленные строчки на полотенце. Стрелка на красном будильнике, который Елена Алексеевна ставила перед Германом, двигалась медленно, а нога уставала быстро.
В первое время, когда Герман только начал бывать в квартире Елены Алексеевны, на стене в ее комнате еще висели фотографии радостной упрямой девочки в пионерском галстуке, бесчисленные грамоты — за хорошую учебу, победы в олимпиадах по математике и химии, спортивных соревнованиях, благодарности за тимуровскую работу. На письменном столе стояли глобус, настольная лампа и зеркальце на ножке. На зеркальце висели бусы. В те дни новая сущность Елены Алексеевны еще только робко захватывала пространство: в углу сиротливо висела икона, а под стеклом на столе рядом с фотографиями веселых студенток лежал листок с молитвой, написанной от руки.
Постепенно стены комнаты и этажерка пустели. Опустел и шкаф — оттуда исчезли все яркие шали, платья, блузки. Когда Елена Алексеевна открывала дверцу, чтобы повесить кофту Германа, на перекладине тоскливо стукались друг о друга пустые плечики. В шкафу жило только сменное серое платье, копия того, что было на Елене Алексеевне, да клетчатое пальто, его Елена Алексеевна носила с конца сентября до конца апреля.
Икон и лампадок в комнате постепенно прибавлялось, на столе поселились Библия и еще какие-то религиозные книги, а на этажерке остались только учебники за тот класс, в котором учился Герман. В библиотеке Елена Алексеевна больше не работала. После каждой поездки с Германом в Курган ей приходилось искать новую работу. Она мела листья или чистила снег во дворе. Мыла подъезды. Закутавшись, как старуха, в пуховый серый платок, продавала мороженое в холодном киоске.
Герман знал, что она поддерживала связь со всеми пятерыми его обидчиками, помогала и им и каждый раз поминала в молитвах. В ее молитвах прибавилось и новое имя — Гавриил Абрамович. Так звали Илизарова. Ни имя Евы, ни имя бабушки она никогда не произносила.
К 1990 году жизнь Германа вернулась в колею, с которой когда-то сошла, и покатила легко, быстро и весело, точно звенящий от полноты своей силы и красоты новенький трамвай. О травме ноги, столько лет державшей Германа на костылях, напоминала лишь легкая хромота, которая возникала после долгой ходьбы или при сильном волнении, да россыпь шрамов-точек от стрел аппарата Илизарова.
Герман взял в привычку после школы гулять по Москве. Город так и этак манил на улочки и скверы, окуривал цветным воздухом, полным сладковатой пыльцы; дразнил запахами и видами площадей, соблазнял церквями и стенами монастырей, купающимися в облаках вишен и яблонь. Влюблял в себя, свою архитектору, историю. Герман даже записался в историческую библиотеку, где, сам не зная зачем, благоговейно листал старые московские газеты. Он был так увлечен, что даже не заметил не только, как треснула и начала осыпаться советская империя, но и как изменилась Ева. Сестра почти перестала бывать дома.
Он и сам возвращался поздно, зачастую уже в сумерках. Наскоро делал уроки. Бабушка сильно сдала, почти все время полулежала в кресле и дымила. Курить она не прекратила, а напротив, наращивала обоймы пустых пачек.
— Мне недолго осталось, — говорила она, выпуская колечко. — Может, одно это лето. И мое дело, как я его проживу. Ясно? Вы с Евой и без меня справитесь, — еще колечко. — Герман, а я-таки поставила тебя на ноги, а?
На улицу она не выходила, а по квартире перебиралась маленькими шажочками, шаркая подошвами по полу.
Когда вечером Герман входил, хлопая дверью, в квартире витал запах сигарет, цветущей сирени и пыли. Заглядывал к бабушке. Она плыла в кресле в полумраке долгих майских сумерек, дымила и разглядывала фотографии или читала в очках старые письма. На круглом столике рядом с креслом — неизменная бутылка ликера и рюмка в серебряной оправе. Цветы в гжельской вазе — те, чей черед пришел цвести: ландыши, садовые нарциссы или луговые купальницы. Цветы таяли, истончались в закатных сумерках и медленно роняли на круглую скатерть лепестки.
Иногда бабушка не сразу узнавала Германа. Смотрела на него пустыми глазами. Потом усилием воли возвращала себя в весну 1990-го.
— А, Герман. На плите рыба под маринадом. Подогрей.
— Ева приходила?
— Подай мне вон тот альбом, — бабушка показывала на третью полку в книжном шкафу, — с зеленым толстым корешком. Да, его, спасибо.
Она брала из рук Германа альбом с фотографиями, раскрывала его и снова ныряла в волны прошлого. Герман шел на кухню. Ужина на плите не было. Рыба под маринадом была позавчера.
Ева приходила уже ночью. Герман сквозь сон слышал хлопок двери, быстрые, веселые шажки. Как-то раз в начале июня, открыв глаза, он увидел сестру у себя в комнате. Она стояла с керосиновой лампой в руке, разглядывала пол и тихонько смеялась.
— Ева?
— Слыхал, какая гроза была?
Ева подошла к окну и поставила лампу на широкий подоконник, закрыла окно. С ее волос капало, джинсы и кофта были мокрые и тесно облепляли шестнадцатилетнюю фигурку.
— Гроза?
— В моей комнате потоп. — Она хихикнула. — И электричества нет. Я у тебя пока побуду. Пойду найду только чего-нибудь поесть.
Она вышла, а Герман, исходивший за день полгорода, снова заснул. Когда он открыл глаза, Ева ставила на подоконник, где уже дымилась тарелка с яичницей, бабушкин ликер и две фамильные рюмки. Ева переоделась в длинную вельветовую юбку и рубашку с рукавами.
Раздразнившись запахами, Герман, легший спать голодным, встал, натянул штаны и уселся на подоконник рядом с сестрой. За окном проступала темная гравюра Москвы со шпилем краснопресненской высотки. На небе изредка вспыхивали зарницы, будто редкие всхлипы затихающего после бурного плача ребенка. Герман глотнул сладкого ликера, голодный желудок благодарно заурчал.
— Бабушка так и спит в кресле. — Ева разрезала яичницу и разложила ее по кусочкам хлеба, чтобы удобнее было держать в руках, посыпала приправой, протянула один бутерброд Герману, а в другой с наслаждением вгрызлась зубами. — В ее комнате тоже лужи. Мы на тонущем корабле. Капитан, вычерпывай во-о-оду, — пропела она ни на кого не похожим голосом, в котором билась, вилась, трепетала бархатными крыльями бабочка.
Засмеялась. Взяла еще яичный бутерброд.
— Какая же я голодная. А ты все съел и ничего мне не оставил.
— Бабушка ничего и не готовила.
— Завтра сварю тебе мексиканский суп. С фасолью и перцем. И еще испеку пирожки с острой начинкой, а не эту размазню с капустой, которую бабушка делает. Я много чего вкусного научилась готовить.
Ева издала короткий веселый смешок, которого Герман никогда прежде у нее не слышал. Он внимательно посмотрел на сестру и вдруг почувствовал дурноту. Схватил керосиновую лампу и поднес к лицу девушки, показавшейся чужой. Густые тяжелые черные волосы, небрежно и одновременно ловко завернутые на затылке в незнакомую, какую-то очень женскую прическу. Полные развитые груди. Припухшие губы. Нежная тонкая кожа. Безупречные линии скул, длинные ресницы. Где же, ну где… вот они, на месте! У левой брови нашлись две оспинки, оставшиеся после ветрянки. А на руке, которую девушка вытянула, защищаясь от света, на запястье показался знакомый шрам в виде ящерки — в десять лет Ева, тогда еще толстая неуклюжая девочка, упала с велосипеда. Слава Богу! Наваждение отступило. Герман узнал сестру в очередном возрастном обличье.
— Герман, прекрати дурачиться. — Зубы Евы с щербинкой блеснули под задрожавшим светом. — Расскажи лучше, чем ты занимаешься целыми днями.
Герман поставил лампу. Глотнул ликера и принялся за очередной бутерброд, попутно рассказывая про места, где полюбил бродить в Москве. Как оказалось, Еве большинство из них были знакомы. Но если Герману нравились древние московские улочки — Сретенка, Хмельницкого[2], Чернышевского[3], Кропоткинская[4], то Еву больше привлекали проспекты — Кутузовский, Ленинский, Ленинградский — и набережные.
— Там такие дома, обожаю. А ночью город вообще другой, пробовал гулять ночью?
— Так ночью же ничего не видать?
— Ты даже не представляешь, какая прелесть гулять по Москве ночью. Просто с ума сойти. — Ева опять издала веселый короткий смешок, которого Герман не знал и который ему отчего-то не понравился. — Попробуй. Только не в одиночку, конечно. С друзьями.
Герман пожал плечами. Друзей у него, несмотря на вернувшееся здоровье, так и не появилось. Ева вдруг сжала цепкими пальцами руку брата, сделалась серьезной:
— Знаешь, Герман, я так счастлива, что мне страшно…
— Почему?
Она не ответила. Опустила взгляд и принялась стряхивать с юбки крошки от бутерброда. Аккуратно подцепила накрашенным ноготком кусочек хлеба, застрявший между вельветовыми полосками юбки, смахнула на пол.
Меж тем светало, летние ночи коротки. Красноватые полосы скользнули по лужам на полу. Из форточки потянуло прохладой. Птицы начали распеваться: сперва сипло, нестройно, потом всё слаженнее, увереннее и громче.
Ева почесала коленку, зевнула, прикрыла ладонью рот:
— Завтра всё уберу. Спать ужасно хочется. Я посплю у тебя?
— Ладно, я уже выспался.
Ева улыбнулась, ущипнула его за нос. Она спустилась с подоконника, подошла к дивану и, кажется, едва коснувшись подушки, заснула, задышала глубоко, счастливо. Герман открыл окно: испуганная и помятая после ночной грозы, Москва просыпалась, зализывала под поднимающимся солнцем раны, нанесенные грозой. Шпиль после помывки дождем сиял, как новенький, протыкал, играючи, небо, проступающее сквозь розоватую утреннюю дымку. Герман вдохнул холодного свежеприготовленного воздуха, стараясь прогнать непонятно откуда взявшуюся тревогу. Однако она не уходила. И чем ярче разгоралось утро, тем тревожнее билось сердце.
30
К июлю 1990-го из магазинов пропали сигареты, и бабушка вынырнула из волн прошлого. Передумала умирать. Сначала нужно было сделать запасы.
— Не видите, что ли, что в стране творится?
Ева и Герман ничего не видели. Но бабушка пережила две войны и революцию, поэтому узнала приближающихся всадников, услыхала стук их тяжелых копыт, увидала вихрь бедности, нищеты, поднявшийся смертельной воронкой и несущийся по стране смерчем, что сметает все человеческое на пути. Скоро доберется и до Москвы, в этом бабушка не сомневалась. Она достала внушительную заначку, очистила от толстой пыли телефон, подняла трубку, принялась крутить диск:
— Алло, Юлечка Михайловна? Это Анна Петровна. Ты на месте? Что у вас есть? Да нет, я не про деликатесы. Не до них уж теперь. Крупы, сахар, консервы какие есть? Только килька в томате? И пшенка? Хорошо, милая. Я мальчика пришлю тогда.
Механизм советской круговой поруки, который столько лет обеспечивал бабушке сносную жизнь, трещал, сыпался, но все еще действовал. И вскоре квартира Морозовых, точно корабль перед отплытием, начала заполняться припасами: мясными и рыбными консервами, сгущенкой, солью, крупами, пачками с чаем. Герман под командованием бабушки размещал все это на полках кухонных и бельевых шкафов, в чулане, под ванной. В магазинах уже многого не было, но пока это существовало в принципе, бабушка дотягивалась, хватала и припрятывала для внуков.
— Нехорошие идут времена, а меня с вами не будет. Ну хоть с голоду не помрете.
Бабушка и сама не сидела сложа руки. С утра весело трезвонил звонок входной двери и сразу вслед за этим громкий голос то с ярославским говорком, то с кавказским акцентом докладывал, что принес бидончик с вишней или три кило абрикосов. Весь июль на кухне кипело варенье, давали сок в блюдах под марлей земляника, малина, протиралась в мясорубке красная смородина для желе, закручивались крышки на компотах.
— Вот, Герман, — бабушка высыпала на газету недоспелый крыжовник. — Сварим изумрудное варенье. Царское. Говорят, любимое варенье Екатерины Второй. Отщипли ягоды, мелкие проколи булавкой, а из крупных, — показала пузатую, просвеченную насквозь солнцем крепкую ягоду с черными точками внутри, — убери зернышки. У меня руки уже не те, трясутся. Сделай надрез и вытащи зерна булавкой или вот, на, шпилькой.
15 июля, воскресенье. Ева опять куда-то ушла. Из окна печет. Герман проводит рукой по гладким ягодам, катает их ладонью, то открывая, то закрывая лицо Горбачева на первой полосе газеты «Правда» за 3 июля. Цена 5 копеек, прочитал Герман. «Вчера в Москве в Кремлевском Дворце съездов начал работу XXVIII съезд Коммунистической партии Советского Союза». Герман зевает:
— А чего ты Еву отпустила?
— Не справишься, что ли, без нее?
— А с чего я должен девчачьими делами заниматься? — Герман засунул в рот ягоду, сморщился от кислоты. — И вообще не пойму: куда она все время ходит?
— А что тебе непонятно? — Бабушка помешала на плите вишневое варенье (вчера Герман целый день удалял из вишен косточки). — Влюбилась наша Ева.
В груди Германа что-то тонко, больно натянулось.
— Как это?
— А как влюбляются? — Бабушка рассмеялась. — Ну, чего насупился? И твой черед придет. Вон какой красавец сделался. Давай-ка побыстрее, сегодня к вечеру обещали еще вишни привезти. Надо будет успеть обработать да на ночь сахаром засыпать.
Как-то Герман сидел на лавочке на Цветном бульваре, пил кефир и ел булку. Свой обед разделял с голубями и несколькими прибившимися к ним воробьями. Правая нога ныла, выговаривала за многокилометровую и быструю ходьбу. Два голубя запутались крыльями в борьбе за булку, резко взлетели. Герман поднял на них взгляд и увидел через дорогу, недалеко от цирка, Еву. То есть девушку, очень похожую на Еву. Она шла к метро с мужчиной. Оба в джинсах и одинаковых рубашках. Счастливо, по-детски размахивали крепко сцепленными руками. Герман вскочил. Было далеко, и он не мог утверждать, что это точно Ева. Он уставился на ее спутника, но того за девушкой было почти не видно. Единственное, что можно было сказать, что он немного выше Евы или девушки, похожей на нее. Через несколько секунд толпа скрыла парочку от Германа, а когда улица расчистилась, их уже не было.
В середине августа Ева вдруг снова стала бывать дома. Сделалась будто еще веселее. Работа по заготовке запасов пошла быстрее. Ягоды на кухне сменились помидорами, огурцами, перцами. Все это мылось, крошилось, резалось, мельтешило в глазах яркими красками. Кухня пропахла чесноком, укропом, сладковатым уксусом и рассолом. Ах, ну да, еще грибами. Белыми и подосиновиками — других бабушка не брала. Разве груздей приноси, возьму на засолку. Утренний посетитель с владимирским или тверским говорком кивал: гляну завтра на Змейной горке, послезавтра принесу. Грибы бабушка сушила, солила, мариновала. Теперь уже не только полки и чулан, но и все свободные уголки в квартире были заставлены банками. Герман, оглядывая этот заполненный доверху трюм корабля, нет-нет да и подумывал, а не сошла ли бабушка с ума? Как оказалось впоследствии — нет.
В один из этих безумных дней около полудня бабушка, обессилев, ушла к себе передохнуть. Ева и Герман чистили на балконе новую партию грибов. День был погожий, штиль. На голубом полотне августовского неба замерли туго закрученные белые ракушки облаков. Ева взяла очередной боровик из корзинки, отлепила от влажной запеченной шляпки осиновый листок, понюхала лесного воздуха, разрезала ножку — чистая, крепкая (грибы в то лето были как заговоренные — все ровные, красивые, чистые). Взглянула на Германа:
— Тебе не кажется, что это лето длится уже вечность?
Герман удивленно посмотрел на сестру. Для него лето впервые промелькнуло очень быстро. Еще две недели — и в школу. Ева разрезала пополам шляпку, потом каждую половинку еще пополам, потом еще, пока на плитки балкона не посыпались снежные крошки. Она протянула руку за следующим грибом, и его постигла та же участь. И следующий, и еще один, и еще. Медленно, методично она заставляла грибы исчезать.
— Ева, ты спятила? Прекрати.
— Зачем бабушке все это?
— Она говорит, что, когда будет нечего есть, нам это пригодится.
— Мы что — муравьи, или пчелы, или белки? — Ева поднялась, стряхнула с подола халатика остатки грибов. — Не собираюсь больше этой ерундой заниматься.
Она облокотилась локтями о перила балкона и стала глядеть на город. Деревья между крышами кое-где уже пожелтели, и редкие листочки нет-нет да и спускались в водоворотах воздуха вниз. Шпиль краснопресненской высотки раскалился на жаре и горел белым огнем. Герман заметил, как сильно Ева похудела. Тонкая шея с трудом держала тяжелые темные волосы, которые Ева продолжала укладывать совсем не по моде.
— Не понимаю, почему люди мирятся с жизнью, — заявила Ева. — Варят варенье, запасают грибы. По три часа стоят в очереди за тухлой курицей. Моют полы и начищают зеркала. И еще убеждают себя и друг друга, что это и есть главное. А зачем есть каши и мыть голову, если то единственное, что нужно тебе, невозможно?
На следующий день Ева исчезла.
31
Никто из друзей сестры не знал, где она. Прошло два дня. Герман не находил себе места. Изнурял себя многокилометровыми прогулками. Часами стоял на балконе, вглядывался в августовскую тьму и пытался разгадать иероглифы созвездий. Прислушивался к шепоту листвы, встревоженной дыханием приближающейся осени. Бабушка садилась рядом на стул, чиркала спичками и посылала легкое облачко в ночь.
— Ничего с ней не случится. У Евы наш, морозовский, характер, в обиду себя не даст и глупостей не наделает. Она справится, Герман. — Бабушка пустила еще колечко, надолго замолчала. Потом, когда Герман уже забыл, что она рядом, продолжила: — А тебе надо научиться быть самому по себе. С ногой-то у тебя, слава богу, все наладилось. Пора тебе уже отцепиться от подола сестры.
После того как Ева не появилась и на четвертую ночь, бабушка потеряла интерес к заготовкам и снова уселась в своей комнате в кресло, достала из запасов новую бутылку ликера и принялась за альбомы с фотографиями.
Герман катался кругами на метро, перебирал разменянные пятаки в кармане, словно четки. Бродил по городу до ночи, истекая по́том, не видя ничего перед собой. Если на пути попадалась церковь, заходил и в пыльном настоянном воздухе молил сухими губами, чтобы Ева вернулась. Если было заперто, садился на ступеньки и бормотал молитву собственного сочинения. Он не разбирал, что за церковь это была. Его бормотанию внимали и стены храма иконы Божией Матери «Всех скорбящих Радость» на Большой Ордынке, и стрельчатые башенки костела на Малой Грузинской, и загадочный фасад старообрядческого храма Николы Чудотворца на Белорусской. Побывал он даже в мечети на проспекте Мира, прошел босиком по ее мягким коврам.
Да что там церкви, Герман молил о помощи памятники на площадях. Дзержинского в аскетической шинели, сжимающего с едва сдерживаемой силой шапку. Рабочего и колхозницу, обдуваемых скульптурным ветром. Юрия Долгорукого, гордо выпятившего кольчужную грудь, и даже его коня, бьющего в нетерпении копытом. Вглядывался сквозь волны августовского воздуха в зеленоватого бронзового Пушкина и твердил одно и то же: «Пусть Ева вернется». Ничего не ел. Пил только воду из фонтанов. Подставлял загоревшее и повзрослевшее лицо брызгам, скрывая от прохожих слезы.
Отчаяние и страх чередовались с яростью. В Ботаническом саду или на Воробьевых горах Герман изо всех сил лупил палками по деревьям, пугая стремительных белок. До изнеможения, боли пинал тяжелыми ботинками пни. Особенно доставалось правой ноге, он был уверен: если бы он, как прежде, ходил на костылях, а значит, нуждался в заботе и защите сестры, Ева бы не исчезла.
28 августа в порыве отчаяния он зашел к Лидочке, многолетнему школьному врагу. Она-то, верная подружка Евы, наверняка что-то знала, но не говорила. Лидочка встретила его босиком, в легком халатике. Загорелая, вытянувшаяся. Она была дома одна. Сказала, что только ночью вернулась с моря. Протолкнув Германа в комнату, усадила его на диван, сама уселась на полу напротив, скрестив ноги потурецки, и принялась расспрашивать. По мере его рассказа загар на ее лице бледнел. Когда Герман закончил, она некоторое время сидела молча. Потом так же молча поднялась, достала из еще неразобранного чемодана, выпучившего лаву нестираной одежды, бутылку белого вина. Вскрыла, уселась рядом с Германом.
— Вот, значит, как, — сказала она и сделала несколько глотков из бутылки. Протянула бутылку Герману, он глотнул — вино было сладкое, отдавало почему-то дыней.
Комок серой пыли, мирно спавший на стертом паркете, ожил и весело покатился к трюмо. Раньше это была комната матери Лидочки, умершей несколько лет назад. Трюмо, круглый стол, коллекция фарфоровых куколок в книжном шкафу. Рюмки. Хрусталь. Когда-то в том же шкафу на отдельной полке стояли и учебники Лидочки, всегда засаленные, с мятыми страницами.
— Вот, значит, как, — повторила Лидочка. Снова глотнула, снова протянула бутылку Герману. — Вкусное? Это домашнее, мне его хозяин дома в Пицунде подарил. Эдик. Он его сам делает. Из своего винограда. — Она забрала бутылку и подняла на свет. — Смотри, какое чистое, золотистое.
Когда бутылка почти опустела, Лидочка сняла халатик, наклонилась, бросая его на пол, повернулась к Герману — острые груди вздрогнули, коснулись друг друга. Протянула руку к его рубашке…
— Как ты думаешь, — задумчиво спросила она спустя минут десять, стоя голая в проеме двери и глядя, как Герман обувается, путается дрожащими руками в шнурках, — а как вела бы себя Ева, если бы пропал ты? Ева бы подняла на поиски армию с вертолетами! Ваша бабка спятила, выжила из ума, нечего на нее надеяться. Хочешь, я схожу с тобой в милицию?
— Нет, не надо. Зайду домой и, если Ева не вернулась, сразу пойду в милицию.
За полсекунды до того, как свернуть со Щусева[5] на улицу Алексея Толстого[6], Герман понял, что сейчас увидит Еву. Она сидела на каменном основании забора, прижавшись спиной к чугунным прутьям. В джинсах и явно нуждающейся в стирке футболке. Глаза прикрыты. Герман перешел дорогу и сел рядом. Камень был теплый, нагрет солнцем, в шершавых выемках скопились желтые мелкие листочки.
— Ева.
Бледна. Без косметики. Попыталась приподнять веки, но они были так тяжелы, что это удалось лишь наполовину. Веки казались плотными и белыми, как гипс. Взгляд расфокусированный. Герман взял сестру за исхудавшую руку, Ева уронила голову ему на плечо. На запылившихся туфлях Евы лежали листья. Они падали с березы, нависающей над забором. Каменный верх забора уже был весь усыпан ими.
32
Бабушка умерла в 1991 году. Елена Алексеевна присматривала за Германом и Евой, пока Герману не исполнилось восемнадцать. После этого Ева ее выставила, заявив, что теперь она и Герман оба совершеннолетние и сами могут о себе позаботиться. В 1993-м Елена Алексеевна приватизировала квартиру на Ботанической улице и оставила ее Герману, оформила продажу, а сама скрылась за воротами монастыря в Архангельской области.
Ева и Герман учились: Ева на романо-германском отделении филфака МГУ, а Герман — в Первом меде. Они перебрались в квартиру на Ботанической улице. Ева выбрала комнату с видом на старые сосны во дворе, а Герман — ту, из которой была видна Останкинская телебашня. Бабушкину квартиру сдавали, на то и жили.
Пожалуй, лучшего времени в жизни Германа было не сыскать. Квартиру на Ботанической почти каждый вечер заполняли Евины гости. Человек десять — пятнадцать. Едкий дым от бычков в пепельницах белыми змеями танцевал на подоконниках, столах, полу. Прихлебывая из стаканов, надкусывая яблоки, гости разглагольствовали об искусстве, свободе, любви. Ева собирала вокруг себя все больше творческих людей — художников, музыкантов, фотографов, поэтов. Были и киношники. Эти время от времени подкидывали Еве эпизодические роли: соседки, проститутки, сотрудницы милиции. К своим актерским способностям она относилась скептически, но сниматься соглашалась, потому что, как она говорила, ей было интересно попробовать все в этом мире. Ее девиз совпадал с девизом кока-колы: бери от жизни все.
Иногда Ева позировала для художников. Однажды перевела какую-то сентиментальную книжку с французского и получила гонорар. Зачитывала, смеясь, Герману фрагменты о страстной любви главной героини Моники. Но больше переводить не стала. Ее задачей было попробовать и двигаться дальше. Получить новый опыт. Ни один аспект жизни не должен был ускользнуть.
Герман даже немного полюбил вечерние сборища в квартире, хохот, яростные споры, свиту поклонников Евы, странную музыку, парочки в углах. Потому что, когда этих сборищ не было, не было и Евы — она уезжала, как она говорила, изучать жизнь и людей. В горы, на остров, в другую страну. С мужчиной, в компании или одна. Спустя некоторое время всегда возвращалась. После того случая еще в школе, когда она исчезла на несколько дней, Ева с год ни с кем не заводила отношений, а потом мужчины стали появляться в ее жизни один за другим. И если про тот, первый случай Герман так никогда и не узнал ничего, то про всех последующих мужчин Ева ему всегда рассказывала, а часто и знакомила с ними.
Романы Евы развивались по одному сценарию. Сперва, забыв обо всем на свете, она кидалась в новые отношения, жадно впитывала чужую жизнь, восхищалась ее неизвестной прежде формой, примеряла на себя и упивалась до самозабвения. Потом, через некоторый промежуток времени (всегда непредсказуемый по длительности) с неизбежностью цунами, приходящего за землетрясением, любовный морок покидал Еву, и она возвращалась к брату на Ботаническую улицу до следующего романа. Приходил черед вечеринок.
Комнату Германа гости по умолчанию не занимали. Даже если он был на работе. На протяжении всех шести лет обучения Герман работал — то санитаром, то медбратом на скорой помощи, а с четвертого курса ходил на дежурства в хирургию. Если же он был дома, то проводил среди гостей Евы с час-два, жуя кусок мяса с вилки или потягивая пиво. Он быстро насыщался мозгодробительными разговорами, незнакомыми именами, названиями фильмов, романов, музыкальных групп и, прихватив бутылочку пива или кусок пиццы, возвращался в свою комнату к Dendy. Или, если ему было скоро на работу, укладывался спать.
Иногда к нему заглядывал кто-нибудь из гостей почитать в тишине лекции к завтрашнему экзамену. Иногда заходил кто-то из поклонников Евы поплакаться. Еще, бывало, кому-нибудь из перепивших или перекуривших гостей делалось плохо, и с Германа требовали немедленной медицинской помощи. Если он мог помочь, помогал.
После третьего курса Ева бросила университет. Когда Герман время от времени интересовался ее планами на будущее, она отшучивалась:
— Мне просто интересно жить, — говорила она.
Если он настаивал, удивлялась:
— Герман, ты чего? Вот не ожидала, что ты заделаешься занудой.
Он пожимал плечами.
— Я и есть зануда. И боюсь за тебя. Боюсь, что ты натворишь глупостей. Боюсь, что очередной поклонник пырнет тебя ножом.
— Почему же именно ножом? — смеялась Ева.
Иногда она таскала Германа по закоулкам города, где можно было съесть что-нибудь этакое — жуткий хот-дог с сомнительной сосиской, терпкой горчицей, маринованными неизвестно кем и когда огурцами. Выпить ужасный жженый кофе. Чуешь, какой восхитительно ужасный кофе? Съесть жирный борщ из непромытой тарелки, позавчерашний салат под аккомпанемент восхитительно пошлой попсы. Глаза Евы в такие моменты сияли: да ты что, какая еще гадость! Это же настоящая жизнь.
А как она ходила на рынки! Герман прятал руки и взгляды от нахально настойчивых окриков торговок. А Ева входила в кураж, с удовольствием пробовала разогретую за день вишню, кусочек персика, окорока, сморщенный сухофрукт, искренне закатывала глаза от удовольствия, хвалила, интересовалась «родословной» товара, шутила. И через несколько минут даже самые вздорные торговки, а уж тем более торговцы, влюблялись в Еву, в ее чистое веселое лицо, правильные черты, щербинку между передними зубами, темные до плеч, прямые, вопреки моде на химию и начесы, волосы, в ее тонкую белую рубашку, прямую осанку. Веселели, отвешивали с прибаутками товар и даже почти не обманывали, а бывало, и отдавали в довесок что-нибудь — горсть смородины, веточку пахучей кинзы или раздавшийся в боках, налитой сочный помидор.
На рынке Ева заставляла и Германа пробовать прожарившуюся на солнце, навещаемую мухами копченую селедку, обтереть о джинсы яблоко и откусить его, глотнуть дешевого вина у старого грузина, съесть ложку варенья у бабушки из Александрова (ложку бабка потом протирала подолом ситцевого платья в мелкий цветочек). Жирные истекающие маслом чебуреки, хачапури и прочие восточные изыски, которые давно прижились на рынках… Почувствовать жизнь, вот как она это называла. Да, последствий таких прогулок у Евы не было, ей всегда везло, а Герман расплачивался чем и положено — рвотой, поносом, температурой.
— Хочешь быть чистюлей, братец, не выйдет, — говорила она ему время от времени. Однажды заставила украсть в магазине записную книжку в кожаном апельсинового цвета переплете. Чтоб не зазнавался. Сама вышла и ждала его на улице. Когда Герман, вспотевший, бледный от напряжения и страха, выбрался из магазина, чувствуя твердую обложку под ремнем брюк, то тут же схватился за это место на животе, будто у него случился приступ аппендицита. Ева, хихикая, потащила его за угол. Велела продемонстрировать добычу. Осмотрела, полистала, давясь смехом, кивнула: ничего так. От записной книжки шел терпкий запах новой кожи, бумаги, Герман почувствовал тошноту и чуть было не выбросил добычу в урну. Ева схватила его за руку: ты что? Отличная же вещь. Она снова забрала книжку, провела подушечками пальцев по рифленой коже, прикоснулась к ней губами, будто к Библии, и положила к себе в сумочку. Потом Герман не раз видел эту записную книжку в руках Евы, она записывала туда телефоны, рецепты, складывала осенние листья.
Иногда Ева брала Германа с собой на вечеринки в дома, где ручки на дверях стоили больше годовой зарплаты хирурга в городской больнице. Там было еще хуже, чем на рынках. Герман смущался, не знал, куда деть руки, не знал, как есть блюда, которые подавали вышколенные официанты с застывшими лицами. Поэтому в основном пил и рассматривал с показным интересом детали гобеленов на стенах. Ева же и там была сама собой.
Удивительным образом Ева всегда выглядела своей в любой среде. Например, на свадьбах подруг или друзей, куда Герману изредка тоже приходилось ходить с ней, Ева могла спеть с бабами «Виновата ли я», «Терем», «Несе Галя воду», «Кто родился в январе» и прочие свадебные песни, организовать похищение невесты, заставить жениха пить шампанское из туфли. С удовольствием, не обращая внимания на фырканье и хихиканье подруг-ровесниц над этими старомодными обычаями. Могла покурить настоящую махорку с дедом, приехавшим на свадьбу, оглушенным столицей, но скрывающим волнение под махорочным дымом. Поболтать с ним. Ночью на обратном пути могла присесть рядом с бомжами у метро, необидно так протянуть им бутылку пива и повести разговор о жизни часа на три.
Один из дней того времени отчего-то хорошо сохранился в памяти Германа. Ноябрь. Предзимнее солнце освещает кухню, в стекловидном воздухе плывут облачка муки: Ева готовит пирог. Вечером ожидаются гости. Тесто уже уложено в форму и поставлено в духовку. Сверху Ева украсила его разноцветными цукатами и марципаном. Несколько дней назад Ева вернулась из поездки к морю. С кожи ее еще не сошел загар, поэтому зубы с щербинкой, которыми она от усилия прижала нижнюю губу, кажутся чрезмерно белыми. Пальцы с серебряными кольцами и запястья с браслетами из-за того же загара утончились и вытянулись. Персиковый сарафан в муке. Темные волосы слегка порыжели от южного солнца, они недавно подрезаны и ровной линией касаются плеч.
На столе в миске лежат цукаты — желтые, нежно-зеленые, прозрачно-красные. Цукаты Ева привезла из поездки, как и марципан, запах которого витает на кухне. А Герману она привезла халат — шелковый, переливающийся, с воротником — и заставляет теперь в нем ходить. В первое время Герман делал вид, что надевает этот халат для нее, но, по правде говоря, в нем и правда удобно. Может, потому, что Герман уже привык ходить во врачебном халате, засунув руки в карманы. Сейчас карман оттопыривает пачка сигарет.
Герман выкуривает сигарету, закрывает створку окна, усаживается на стул, вытягивает ноги. Берет из миски зеленый цукат, отправляет его в рот.
— Какие у тебя планы? — спрашивает сестру.
Ева, присев на корточки, смотрит сквозь стекло духовки с таким видом, будто ничего увлекательнее того, как пирог зарумянивается, в жизни не видела. Тонкие ниточки-лямки сарафана натянулись и врезались в загорелые плечи. Сарафан ситцевый, простой. Никакого уважения к маркам Ева не питает. Она подбирает и покупает то, что ей нравится. В ее гардеробе есть и блузки и платья известных парижских домов, и вещи с Черкизовского рынка.
— Испеку пирог. Потом приму ванну, — оборачивается, улыбается. — Если хочешь, можем прогуляться. Сегодня хороший денек. По ВДНХ, например. Сто лет не была. Что скажешь?
— Давай. — Герман отправляет в рот очередной цукат.
Запах пирога и всех его ароматных составляющих течет по кухне, окутывает стулья, шкафы, проскальзывает под дверь, распространяется по квартире и за нее, навсегда угнездовывается в памяти Германа. Хороший денек и в самом деле. Солнце в окне бьет снизу, высвечивает каждый предмет по отдельности, высветляет ветви деревьев в сепию. Шпиль Останкинской телебашни идеально размещен по правилу третей справа. Скрип качелей, смех и визги детей с детской площадки отдаются в стенах дома. Ева поднимается, зевает, потягивается. Усаживается напротив Германа, подпирает подбородок ладонью. Может, сыграем партию в карты? Солнце заглядывает ей в глаза.
Да, почему-то этот день, точнее, его начало, навсегда остался в памяти Германа. Хотя в нем не было ничего особенного. Просто хороший денек. Наверняка пирог потом испекся, они с Евой прогулялись по солнечной ноябрьской Москве, вечером гости съели пирог, выпили вино, потанцевали. Но этого Герман не запомнил. В памяти осталось только утро, пирог в духовке, цукаты в миске на столе. Ева напротив, солнце заглядывает ей в глаза.
33
Около четырех утра 11 июля 1995 года Ева прислала на пейджер сообщение: «Забери меня. Милютинский переулок, дом…». Тихо, чтобы не будить Лидочку, Герман встал с постели, перешагнул через сумки, которые Лидочка собрала в поездку: на девять часов у них были плацкартные билеты в Адлер. Лидочка тут же села, поджала под себя ноги:
— Куда собрался?
— Ева попросила приехать. — Герман надел джинсы, застегнул ремень.
— Кто я для тебя, Герман?
— Лидочка, не сейчас. — Он принялся шнуровать ботинок.
— Нет, Герман, ответь: кто я для тебя?
Истеричные нотки. Едва заметные, как потрескивание в проводах перед замыканием. Герман обернулся, взглянул через плечо:
— Я постараюсь успеть к поезду.
Вздрогнула, как от удара. Посмотрела в глаза, наклонилась вправо: острые груди вздрогнули, коснулись друг друга (Лидочка всегда спала без одежды). Спутанные волосы свесились.
— Расскажу тебе, вдруг ты не в курсе: для взрослых людей главное — отношения между мужчиной и женщиной, самцом и самкой. Все остальное — ерунда.
Герман молча застегивал пуговицы на рубашке. Тело Лидочки начало подрагивать, раскачиваться, набирало амплитуду. Взяв со стула плед (шерстяной, колючий: вещи Лидочки отчего-то всегда были ужасны), Герман наклонился и бережно накинул ей на плечи. Тут же скинула:
— Ты не можешь уйти.
— Я успею к поезду.
— Твоя сестра — сучка, неужели непонятно? Цепляет мужиков, морочит им головы, мучает. А потом — братец Иванушка, спаси меня! — Лидочка зашлась в истеричном смехе. — И бац, как ни в чем не бывало, с братцем — на концерт Дебюсси или на рынок за земляничкой…
Герман направился к двери.
— Нет, ты не уйдешь.
За спиной послышалась внезапная россыпь безмятежного смеха. Герман обернулся и опешил: из рук Лидочки на него глядел пистолет Макарова.
— Так кто я для тебя, а? Ну? Отвечай! — Она приставила пистолет между грудей, поднесла ко лбу, потом снова направила на Германа.
Он не то чтобы испугался, скорее, замер, удивился. Течение времени замедлилось. Предметы приподнялись и приготовились к распаду. Смех Лидочки зазвучал внутри Германа, будто на большой глубине заработали мощные турбины. Конец, кто-то пискнул в ухо. Но тут где-то в квартире что-то громко упало на пол. Треснуло, рассыпалось, раскатилось. Отец Лидочки, выживший из ума старик, живший и спавший в инвалидном кресле, а прежде деспот, терроризировавший жену и дочь, что-то уронил в дальней комнате. Лидочку затрясло. Герман подскочил и выхватил пистолет. Лидочка зло выкрикнула сквозь зубы:
— Убирайся! К черту! И никогда больше не приходи сюда.
Герман открыл дверь, вышел и тихонько притворил.
— Ненавижу… Обоих вас ненавижу… — донесся до него приглушенный голос Лидочки. — Чтоб вы сдохли оба.
В прихожую падал слабый свет из открытой двери в ванную. Герман проверил пистолет — заряжен. И где Лидочка его взяла? Снова засунул в карман джинсов. Заберет с собой. Может оказаться кстати, да и Лидочке его оставлять нельзя. Скорее всего, пистолет ее отца. Герман остановил взгляд на тусклой лампочке в ванной, освещавшей веревку с мужскими трусами и застиранной майкой. Белье отца Лидочки. Я его мою и кормлю, чего же еще? Поколебавшись, Герман заглянул в дальнюю комнату.
Отец Лидочки сидел в инвалидном кресле в растянутой вязаной кофте и с явным интересом смотрел телевизор. Он никогда не спал в кровати, круглосуточно жил в кресле и поднимал страшный крик при попытке вызволить его оттуда. Длинная борода белела в предрассветных сумерках. Лидочка не решалась его брить: боюсь перерезать ему горло. Изображение в телевизоре сбилось, рябило, и понять, что показывали, было невозможно. На полу поблескивали детали спасшей Германа детской машинки.
Герман поправил антенну, и три мушкетера весело поскакали по лесу. Поднял детали, соединил и протянул старику. Да, наверное, это его. Пистолет. Старик взял машинку, провел по ручке кресла. Машинка зажужжала жуком. На две недели предстоящей поездки Лидочка договорилась с соседкой, что та присмотрит за стариком. Старик повторил за машинкой — ж-ж-ж, довольно улыбнулся, скользнул глазами по лицу Германа. Взгляд — младенческий. Того гляди гукнет.
В детстве Лидочка иногда ночевала у Морозовых, спала в комнате Евы. Папка сегодня разошелся. Как-то раз привела и мать. С заплывшим глазом, разбитым носом, кровь падала на светлую блузку в горошек, мокрую от тающего снега. Когда Валерия Николаевна наклонилась снять мокрые грязные носки (в них и пришла, без сапог), кровь хлынула на пол. Бабушка потом долго не могла его оттереть. Лидочка с матерью тогда прожили у них дней пять. Ева, Герман и Лидочка втроем ходили в школу, вместе делали уроки. Ева потом нашептала Герману, что на животе Валерии Николаевны вырезано глубокими фиолетовыми и красными полосами кое-какое слово. Его, слово, шепнула совсем тихо. Герман покраснел. Заявлять в милицию не стали. Отец Лидочки работал в горкоме партии. В комиссии по культуре. По музеям или там по концертам. Или по фольклору. Как-то так.
Герман появился в тот момент, когда Евин чемодан раскрылся на лету и вещички из него разлетелись над Милютинским переулком. Было почти пять утра. Чемодан тяжело и гулко стукнулся об асфальт. Звук теннисным мячиком отскочил от асфальта и побежал назад вверх, стучась в стены и окна соседних домов. А вот вещички не спешили приземлиться. Джинсы, цветастые и джинсовые рубашки, футболки, лосины изумрудного и фисташкового цвета, нижнее белье поплыли в утреннем воздухе, точно диковинные птицы.
Ева босиком, с всклокоченными волосами, в одной короткой футболке с надписью Love is вжималась в пыльную, пылающую в рассветных лучах каменную грудь дома. Темноволосый мужчина, цирковой клоун, насколько помнил Герман, кричал с балкона все, что он думает о суках, шлюхах и прочих разновидностях женщин и их частей тела. Рядом с Евой упали одна за другой метко брошенные туфли, пара книг, баллончик с лаком «Прелесть», который сразу смялся от удара и расстройства. Горсть косметики горохом разлетелась и поскакала, покатилась, маневрируя меж поблескивающих лужицами трещин асфальта. Когда вещи Евы закончились, пришел черед стульев, лампы, и, о, что же это он делает! — всхлип-стон среди собиравшихся, несмотря на ранний час, зевак — магнитофон, а за ним и две отличные колонки расшиблись черными корпусами о прохладный утренний асфальт.
Герман, словно альпинист по отвесной скале, пробрался к Еве, пересчитав лопатками выступы дома. Крепко схватил сестру за руку. Она переложила влажный пейджер в другую руку и сжала ладонь Германа.
— А, братец пожаловал, — заметил Германа с балкона отставной любовник. — Дождется твоя сучка-сестричка. Ох, дождется! Другой на моем месте башку ей открутит. Попомни мое слово. Что она о себе возомнила, а? — Он на мгновение исчез в проеме окна, штора с мелкими цветочками дрогнула, заколыхалась над опустевшей сценой. Опять показался. На этот раз с чем-то рыжим в руках. — Вот гляди-ка, — крикнул он, — что я с ней сделаю, когда она приползет ко мне!
После этих слов в воздухе материализовался кот. Шерсть огнем на солнце, лапы растопырены, точно четыре крыла самолета. Зеваки ахнули. Какая-то женщина закричала:
— Милицию, милицию вызывайте!
Герман кинулся вперед — и коту повезло! Угодил-таки в Германа. Когти глубоко вошли в кожу на груди, щеке и голове. Особенно глубокой оказалась рана на щеке. Шрам от нее оставался потом долго.
34
В машине, бабушкином белом «Москвиче», Герман расстегнул разодранную котом джинсовую рубашку, рассмотрел в зеркале раны на груди и лице. Глубокие порезы кровоточили. Герман нашел аптечку цвета испортившегося шоколада. Сдул пыль. Внутри обнаружил пожелтевшие упаковки бинтов, рассохшийся лейкопластырь, вату. Пузырек с йодом. Произведен в 1983 году, десять с лишним лет назад. Герман отвинтил крышку, знакомый запах ударил в нос. Прижал ранки бинтом, налил на кусок ваты йоду и, морщась, обработал края порезов.
— Домой? — спросил он, полуобернувшись.
Ева, сгорбившись, сидела на заднем сиденье, держала на коленях джинсы. Из раскрытого чемодана пучилось разноцветное варево подобранной второпях одежды. По другую сторону чемодана спасенный кот таращился по сторонам.
— Давай прокатимся.
— Куда?
Не ответила. Джинсы всё так же лежали у нее на коленях, точно она никак не могла припомнить, что с ними делать.
Герман завел машину, поплутал по переулкам и повернул на Мясницкую, бывшую Кирова. В этот час за главных тут были птицы и собаки. Птицы стаями слетали с крыш, усаживались на балконы, карнизы, потом снова меняли диспозицию. Собаки таскали за собой длинные хвостатые тени и проверяли содержимое мусорок.
На Лубянке вовсю плескалось солнечное море. Герман сощурился и опустил козырек. Здания КГБ, «Детского мира» купались в переизбытке света и воздуха, очищались, готовились к новому дню. У станции метро первые торговцы раскладывали коробки, ящики, столики, пили чай из термосов. Вот и Тверская, бывшая Горького. Замелькали открыточные панорамы, памятники и площади. Герман старался ехать небыстро — прав-то ни у него, ни у Евы не было.
— Пусти за руль, — попросила Ева, когда в мареве нагревающегося воздуха показался мираж Белорусского вокзала.
— Ева, мне кажется…
— Пусти, а то умру.
Они поменялись местами. Ева прибавила скорости, и вскоре Москва осталась позади. Появились деревеньки, леса, луга, поля, блеснула речка. Герман отмечал их периферийным зрением, не сводя глаз с дороги и рук сестры, крепко, до белых костяшек сжимавших руль. Рукава ее рубашки натянулись и обнажили запястья с наливающимися, разрастающимися синяками. Герман был наготове перехватить руль в любой момент. Если Еве взбрендит вырулить на встречку или пустить машину под откос.
— Здесь где-то есть один пляж. — Ева сощурилась от лучей, залетевших в машину сквозь старые ели на повороте. — Тебе понравится. Идеальная красота.
— Идеальная красота? — Герман фыркнул.
Тема об идеальной красоте была у них одной из излюбленных. Ева пыталась доказать, что такая не только существует, но и периодически встречается. Герман говорил, что за идеальную красоту можно принять только абстрактный скучный эталон, основа которого — симметрия и математически высчитанное соотношение частей тела или чего там. Настоящая живая красота цепляет нюансом, отклонением от этого эталона. Ева была не согласна и пыталась убедить Германа в своей правоте. Однажды она вытащила его с пары по анатомии и потащила в парк, чтобы показать мальчика лет трех, который, как она говорила, был воплощением идеальной красоты. Разумеется, когда они пришли в парк, ребенка давно увели. Герман и Ева выпили по бутылке пива на лавочке, усыпанной листьями, и проспорили до сумерек.
Из поездки в Испанию с Хуаном Как-то-там, очередной любовью, закончившейся ничем, Ева привезла фотографию — фикусовое дерево на закате. Мощная, ровная, невообразимого диаметра крона и отблеск закатных пятен на пыльно-песчаном стволе. Ева настаивала, что это дерево идеальной красоты, но, конечно, фотография не в силах передать ее. Дело не только в симметрии, чистых линиях, которыми эти объекты обладают, говорила она. От этих объектов исходят особые волны на нетипичной, только им свойственной частоте, ее не зафиксировать фотоаппаратом. И еще, убежденно говорила она, что-то происходит с запахами, воздухом, светом рядом с этими объектами и с сознанием наблюдающего человека.
— Когда ты смотришь на идеальную красоту, то осознаешь, что обнаружил очередной кусочек дивного идеального мира. То ли навсегда распавшегося, то ли скрытого от нас, а может, — говорила Ева, — того, что только будет когда-то в будущем.
Не только природные объекты, но и вещи, по мнению Евы, могли быть идеальной красоты. В музее Бухары, куда за каким-то чертом они внезапно полетели в прошлом году, Герман, одуревший от жары, бродил за Евой, изучавшей лаган за лаганом[7]. Все эти змейчатые, лабиринтово-растительные рисунки сливались, разрастались в голове Германа в кошмарные видения. И когда Ева зависла возле одного из блюд и через минуту дотронулась кончиками пальцев до выступивших на глазах слез, все, что мог сделать Герман, — погладить прислоненную к его плечу голову сестры.
— Я, когда тот пляж увидела, — еще поворот, Герман схватился за поручень, а кот, перебравшийся к Герману на колени, за узел на рубашке Германа, — не удержалась и расплакалась, как всегда, как дурочка. Это чувство при встрече с идеальной красотой ни с чем не спутать. Это и восхищение, благоговение, но еще и тоска, воспоминание и что-то вроде любовной лихорадки. Я все пытаюсь придумать ему название, но четыре языка — и все впустую.
— Ты хочешь сказать, маркер идеальной красоты — чувство? То есть идеальная красота — не объективно идеальная? Это субъективное ощущение?
Ева подумала:
— Нет, идеальная красота — объективно идеальная. Разве что не каждый способен это разглядеть.
Герман засмеялся.
— Если слепцы не видят дворца, это не значит, что дворец не существует! — Ева возмущенно повернула голову к брату и вдруг тоже засмеялась. Учитывая обстоятельства, смех вышел на троечку. Но все-таки это был Евин смех.
Кот тоже мяукнул.
— Его зовут Пантелей, Пантюша, — сказала Ева. — Ему еще и года нет.
— Привет, Пантюша. — Герман погладил между ушками вполне освоившегося на его коленях кота.
Во влажном лесу солнце пробиралось вверх по папоротникам, ландышам, кустам, стволам деревьев. Сантиметр за сантиметром проверяло свои угодья, по-хозяйски подправляло поникшие головки цветов, подбадривало испуганных ночью бабочек, жучков, гусениц, прибавляло красок кронам деревьев и пятнам неба в них. Герман тащил чемодан, в который они с Евой положили продукты, купленные в придорожном магазине: консервы, хлеб, две копченые скумбрии — их продавщица, девчонка, только-только, видимо, окончившая школу, ловко завернула ручками с красными ноготочками в газету «Труд». Еще Герман купил сангрию, а коту — молока. Девочка-продавщица показала им тропинку в лесу, которая вела к пляжу, и обещалась присмотреть за машиной.
Вскоре тропинка взяла резко вверх, запетляла меж стволов. На земле выступили громадными пауками корни деревьев. От настоявшегося за ночь лесного запаха закружилась голова. Ева шла первой. Так Герману было проще приглядывать за ней и, если что, успеть спасти. Ева несла кота. Крепко вжавшись в ее грудь, кот глазел по сторонам и водил ушами, пытаясь уяснить, где спрятались птицы, наполнявшие воздух затейливыми трелями. Каблуки Евы оставляли на по-утреннему влажной тропинке четкие глубокие отпечатки. Несмотря на неподходящую для леса обувь, Ева шла быстро, легко. Рубашка и джинсы сидели на ней как королевский костюм. Прямая спина, влитые лопатки, тонкая ровная шея — уроки танцев, на которые ее водила бабушка, не прошли даром. Задний кармашек джинсов Евы оттопыривал пейджер Motorola.
Лес кончился внезапно, за ним открылся пейзаж, от вида которого у Германа захватило дух. Склон оврага круто уходил вниз, к блестевшей извивавшейся реке, желтые лютики шагали по склону гурьбой. С двух сторон река огибала небольшой островок, метров восемь — десять в длину, не больше. На проплешине острова вопреки всем законам росла сосна с причудливо изогнутым стволом и глянцево-красными ветвями. На той стороне Волги лес поднимался в гору, солнце играло на его бархатных боках.
— Не думал, что в нашей полосе бывают такие места.
— Остров изменился, — сказала Ева. — Сузился. Кусты наросли. Никто и ничто не может воплощать идеальную красоту вечно. Но все равно тут хорошо.
Вода обжигала докрасна. После переправы Ева, оставив кота на берегу острова, снова нырнула. Вынырнула, замолотила по воде так, что поднялся столп брызг. Упала на спину, и течение стремительно понесло ее вперед. Герман подбежал к воде — Ева снова перевернулась и подплыла к нему. Выбралась на берег, дрожа. Майка с надписью Love is облепила тело. Взяла открытую Германом бутылку вина, уселась на берегу, отпила, прикрыла глаза. Ее продолжало потрясывать, от мокрых волос тянуло острым запахом речной воды. Повернулась к брату, усевшемуся рядом и раскрывавшему газету с рыбой:
— Разведу костер. Сама.
За спиной Герман слышал треск ломаемых Евой веток. Потянуло дымом. А потом стало слишком тихо. Герман обернулся: Ева сидела на корточках, обняв себя за плечи, и плакала. Без всхлипов. Слезы струились по лицу, как потеки дождя по окну. От сохнущей футболки и волос шел пар. Герман поднялся, сделал пару шагов. Легкое движение плеч — Ева его заметила. Еще одно движение — не подходи. Пожалуйста. Не сейчас. Герман отступил. Дымок поднимался над сосной и растворялся в разогревающемся воздухе.
Он снова уселся, уставился на реку, не переставая чувствовать затылком Еву, отмечать каждый звук ее движений.
Предыдущая любовь Евы закончилась перед Новым годом. В гостях в общежитии, улучив момент, Ева выбралась через окно и прошлась по карнизу пятого этажа. Ей удалось миновать несколько комнат, пока Герман втащил ее внутрь. В другой раз он забрал Еву от художника, жившего в вагончике в лесу. Пересекая площадь железнодорожной станции с двумя стаканчиками мороженого в руках, Герман увидел, как Ева шагнула под проносившийся скорый. Когда поезд исчез, Герман обнаружил сестру на другой стороне железнодорожных путей, а выдавившиеся белые колбы мороженого — в пасти подсуетившегося привокзального пса с облезлым боком. Были и другие случаи. Каждый раз она уверяла, что у нее нет намерения покончить с собой.
— Наоборот, — говорила она, — я делаю это, чтобы убедиться, что жива.
Когда Герман снова обернулся посмотреть на сестру, она спала. Свернулась калачиком у остатка костра под набирающим силу солнцем. Герман отнес Еву под сосну, где под колышущимися игольчатыми лапами уже дрых кот. Подложил под спину свою и ее рубашки. Сел рядом. Взглянул на часы, которые после переправы сразу надел: поезд в Адлер уходил через пять минут.
35
Перед каждым Новым годом Елена Алексеевна отправляла Герману с проводниками или пассажирами гостинцы. В этот раз поезд опаздывал. Герман растер шерстяными перчатками щеки. Ева взяла его под руку.
— Блин, холод какой, — сказала Ева. — Поехали домой.
Надо было ее послушать, но Герман сказал:
— Давай еще немного подождем. Сейчас уж подъедет.
Поезд материализовался внезапно. Можно было подумать, что он соткался из морозного, звенящего воздуха, уступив мольбам и проклятьям замерзших встречающих. Старый, уставший. Синяя морда была вся в инее и угле, лохмотья снега свисали отовсюду, откуда можно было свисать. Слабенькое солнце, вышедшее пару минут назад, недоверчиво ощупывало новый объект, скользило по его крыше и бокам. Скорость машинист уже сбавил, махина приближалась медленно, нехотя. Чего уж там — только что вагоны, постукивая, мчались в клубах снега меж северных ландшафтов, заснеженных лесов и полей, посвистывая на переездах, пугая зайцев и лис, а тут — город, столица, Ярославский вокзал, стылость, носильщики с красными недовольными лицами. Напоследок поезд поднял снежную пыль с плохо очищенной платформы и осыпал одежду и лица встречающих. Пахнуло угольным дымком, печкой, теплом, давним детством. Поезд, скрипнув тормозами, дернулся, встал.
Встречающие пришли в движение, побежали от вагона к вагону, принялись заглядывать в заиндевевшие окна, махать руками. Проводницы открыли двери и выпустили вместе с настоявшимся теплом, запахами чая, пота и быстрорастворимой лапши ошалевших от радости узников. Послышались крики, звуки поцелуев, смех, скрип тележек, лай вокзальных собак. Герман и Ева терпеливо ждали. Толпа обтекала их, как пестрая лента, пытаясь увлечь за собой. Держась друг за друга, они дождались, когда платформа опустеет, оставив мусор, неудачливых носильщиков и несколько смущенных одиноких пассажиров. Один такой перебирал ногами возле восьмого вагона. Метр девяносто, не меньше. Армейские ботинки, дешевый китайский пуховик, шапка-ушанка с развязанными ушами. Глаза у великана были небольшие, глубоко посаженные. За плечами он держал армейский рюкзак, а в руках — сверток, перевязанный бечевкой. Парень посмотрел на Еву и Германа. Уверенно приблизился:
— Вы Морозовы?
— Точно, — улыбнулась Ева.
— Я Олег. — Он протянул крупную руку, пожал протянутые братом и сестрой замерзшие ладони. — Вот. — Он отдал Еве сверток. — Вам просили передать.
— Спасибо. Ой, тяжелый.
— Там варенье, — сказал Олег. — Просили везти аккуратно.
Ева передала сверток Герману, повернулась к великану:
— Подбросить тебя, Олег? Куда тебе?
— По правде говоря, пока никуда. Я собирался пожить пару дней на вокзале, осмотреться.
— Как «на вокзале»? — Ева с любопытством взглянула на него.
— Поищу работу. Да вы не беспокойтесь. Деньги и еда с собой у меня на первое время есть.
У Германа щипало от мороза уши. Глаза слезились. Парень то раздваивался в слезно-морозном тумане, то снова собирался в единое целое.
— Не, ну так нельзя, — сказала Ева. — Пошли с нами, что-нибудь придумаем.
Парень не стал отнекиваться, кивнул, зашагал рядом.
— Спасибо. Та монашка, которая передавала варенье, тоже говорила, что вы поможете. Просто я привык надеяться только на себя.
Машина завелась после четвертой попытки. Это был старенький Volkswagen Golf, отданный Еве на растерзание одним из поклонников.
— Так куда едем? — спросил Герман Еву.
— На Краснопресненскую, — сказала Ева, дуя на замерзшие руки.
Странно было оказаться в доме детства, власть над которым теперь принадлежала чужим людям. Герман не был здесь с тех пор, как они с Евой съехали. Всеми делами с квартирантами занималась Ева. Официально квартира принадлежала ей. Бабушка, так и не выяснив, Морозов ли в самом деле Герман, еще при жизни сделала владелицей Еву. Квартира обветшала, паркет стерся. В прихожей пахло чужими запахами, на вешалке висела чужая одежда — китайский пуховик вроде того, что был на Олеге, плащ, летняя курточка, стояло несколько пар стоптанных тапочек. Старомодный зонт приткнулся в углу, повидимому, до весны. Зеркало постарело, рама его поблекла, а поверхность покрылась черными пятнами. Никого из жильцов дома не оказалось.
Герман осторожно ступал по паркету, прислушиваясь, как тот жалуется, постанывает от обиды. Поблекшие цветки с обоев смотрели с укоризной. Деревянные, с ребристыми стеклами двери скукожились и, узнав Германа, беззвучно закричали ему, что он забыл, предал их. А вот и его, Германа, комната. Он машинально потянул бронзовую ручку в виде головы совы, в мозгу уже появилась картинка высотки за окном, письменного стола с солдатиками, теплого вечернего электрического света от лампы. Но дверь, конечно, не поддалась: заперта. Уже несколько лет в этой комнате жил Иван Петрович, похоронных дел мастер, как выражалась Ева. Делал памятники, кресты, ограды. Герман никогда его не видел, но несколько раз этот Иван Петрович в разном обличье приходил к нему во снах, после которых приходилось бежать в ванную и засовывать голову под холодную воду.
В других трех комнатах жильцы постоянно менялись. Ева сдавала квартиру по комнатам. Сейчас была свободна та, в которой в детстве Германа обитала бабушка.
— Можешь пожить тут, пока не найдешь работу, — донесся из комнаты голос Евы. Герман зашел внутрь. Вздувшийся, распираемый изнутри рюкзак Олега стоял на полу. Ева прислонилась к стене. Олег, сняв шапку и расстегнувшись, обходил комнату. Уже по-хозяйски. Глубоко посаженные серо-голубые глаза внимательно все осматривали. Было видно, как в его голове — совершенно лысой — выстраивался план, где и что положить. Вообще, похоже, Олег был из той породы людей, которые четко знают, что им делать в следующую секунду. Все движения его были точны и продуманны.
В комнате стоял диван, на нем лежала стопка из подушек, одеяла, сложенного белья. Как в гостинице. Напротив стоял шкаф. В углу на круглом столике, на котором бабушка неизменно держала початую бутылку ликера, пылились оставленный прежними жильцами детский пластмассовый пупс и детектив Агаты Кристи в мягкой обложке.
— Располагайся, — сказала Ева Олегу. — А мы чайник вскипятим. Пока тебя ждали, чуть не околели.
На кухне Герман закурил. Ева выбрала из трех чайников синий эмалированный, налила воды, включила газ. Сложила в мойку грязную тарелку с засохшей кашей и чашку с недопитым кофе, в котором плавало жирное масляное пятно. Переставила на разделочный стол половинку засохшего грейпфрута. Вытерла стол. Вытащила из навесного шкафа три чашки. Одна из них, еще бабушкина, фарфоровая с васильками, была из сервиза, использовавшегося только по праздникам. Это была та самая чашка, в которой Елена Алексеевна принесла чай в день, когда пришла к семилетнему Герману после измывательств над ним одноклассников и спросила, как ей все исправить.
— Странно тут, — сказал Герман, оглядывая обветшалую синюю краску на стенах. — Все будто ненастоящее. Будто бутафория. Пшик. Спектакль отыгран, и все брошено кое-как.
Ева сделала затяжку:
— Ремонт нужен. Квартиранты не очень-то следят за квартирой.
— Да я не об этом. У тебя так бывает? Вот как только ты проживаешь некий период в жизни, все — и предметы, и дома, и вещи, и даже люди этого периода — превращается в тыкв и мышей? Смотришь и не понимаешь: как, почему и куда девалось все, что было важно тебе. Я иногда встречаю людей из прошлого — больница место такое, сама понимаешь — и вот смотрю на них и ничего не чувствую, абсолютно. Их роли сыграны, куклы вернулись в сундук. То есть, конечно, у них теперь другие роли для других людей. Но для меня с ними все кончилось. В воспоминаниях они живы и еще как, а в реальности — нет. Однажды я видел в больнице… — он уставился на чашку с васильком, — Ракитина, помнишь? Одного из пятерки, которые загнали меня на чердак в первом классе? Он прошел мимо в коридоре, а я не почувствовал абсолютно ничего. Абсолютно. Ну, кроме запаха жареной курицы… — Герман улыбнулся. — Ракитин был в бахилах, нес, видимо, кому-то передачу. Я сам себе удивился. Тому, что во мне ничего не отозвалось. Будто мимо прошел манекен с чертами Ракитина. Понимаешь?
— Нет. — Ева, прищурившись, выпустила колечко в Германа. — По-моему, Герман, ты просто зануда. Чайник закипает. Давай открывай передачку, посмотрим, что там вкусного твоя монашка прислала.
Герман взял с подоконника сверток, сел на стул. Разрезал бечевку. Размотал газеты. Сохранившийся внутри запах архангельского шкафа с удивлением выскользнул, вплыл в московский воздух и смешался с ним. В отдельные газеты оказались завернуты две пол-литровые банки, к которым резинкой были прижаты бумажки — «морошка», «брусника». Еще в посылке был мешочек с кедровыми орехами, пакет с высушенными травами, шерстяные носки: для правой ноги — побольше, пошире. Ева перетрогала и пересмотрела всё, нашла в носке записку — сложенную четвертушку тетрадного листа. Развернула и прочитала вслух: «Здравствуй, Герман. Я жива, здорова. Молюсь за тебя каждый день. Храни тебя Господь. Травы добавляй в чай. Сестра Антонина, в миру — Елена Алексеевна».
Ева фыркнула:
— Мне как всегда — ни единого словечка.
Ева разложила варенье в вазочки, заварила чай, добавив туда щепотку присланных трав. Спустя минуту-другую воздух наполнился ароматами трав и ягод. Позвала Олега. Тот пришел в полотняных серых брюках и темно-синей рубашке. Положил на стол буханку хлеба и две банки консервов. Сел, подвинул к себе чашку.
— Модная прическа? — спросила Ева, показав глазами на его лысую голову.
— Из армии неделю как. На флоте оттарабанил. — Олег положил в чашку пять ложек сахара, помешал. — Пока служил, мать умерла. Заболела, а никто и не заметил. У меня, кроме нее, никого. Смысла там оставаться не было.
— Понятно. — Ева положила в свой чай ложку брусничного варенья. — Знаешь, чем будешь тут заниматься? Учиться или работать пойдешь?
— Есть у меня пара-тройка мыслей, — сказал Олег. — Но мне нужно сперва оглядеться.
36
Кот оказался сообразительнее Германа. Не успел еще Герман ничего понять, как обнаружил, что снова стал объектом ласк Пантюши. Утром, дня через три после встречи Олега на вокзале, Пантюша сопроводил Германа на кухню, демонстративно уселся у пустой миски, постучал рыжим хвостом, недвусмысленно намекая, что наступил черед Германа заботиться о нем, коте. Герман нашел в холодильнике пакет молока и налил в пустую немытую миску. Ошалевший от радости кот благодарно поднял морду и, с трудом справившись с волнением, принялся лакать молоко, затейливо подвывая или поругиваясь. Добро пожаловать, Пантюша, сезон голода открыт. Сколько он продлится, никто не знает — три недели или год. Оставалось только ждать, когда через определенный промежуток времени с внезапностью, но и неизбежностью цунами, наступающего после землетрясения, Ева им будет возвращена.
Романы Евы по-прежнему развивались по одному сценарию. Герман давно научился жить в соответствии с ним, так, как люди живут в соответствии с тем или иным временем года. Пришла осень — надевай плащ, бери с собой зонт; зима — кутайся в шарф, не забывай сушить ботинки; весна — любуйся цветущей сиренью да зашторивай окна от ядовитого солнца; лето — доставай рубашку, чихай от пыли и потей от жары. Ничто не говорило, что в этот раз будет по-другому.
Возвращаясь домой в ту зиму 1996 года, Герман, бывало, останавливался на улице, оглядывался, прислушиваясь, как визжат по грязному снегу машины, постукивает, набирая скорость, трамвай или как свистит ветер в голых зимних деревьях. В магазинчике на углу покупал сосиски, пиво. Выпив на улице одну бутылку, заходил в видеопрокат. Кассеты в пластиковых коробах пахли магнитной лентой и пылью, табаком, запахами тех квартир, рук, в которых побывали. Герман выбирал фильмы долго, бродил между рядами, зависал в полусне. Жестокая бессонница опять мучила его. Она всегда возвращалась в периоды, когда Ева пыталась в очередной раз взять любовный Килиманджаро. Правда, бессонница была с капризами. Спать Герман не мог только дома. В больнице, в минуты отдыха, едва коснувшись жесткой дерматиновой кушетки, засыпал мгновенно. Да что там, даже сидя спал. Прислонившись затылком к крашеной стене, или уронив подбородок на грудь, или — что еще лучше — положив руки на стол и уткнувшись в них. Если бы не Пантюша, ожидавший сосисок и ласки, он бы и не приходил домой.
В видеопрокате Герман выбирал американские вестерны или боевики, где добро и зло легко определялись, а концовка была справедливой и позволяла некоторое время думать, что и в жизни действуют те же ясные правила. Алеша, прыщавый паренек-продавец лет шестнадцати, с длинными сальными волосами, собранными в хвост, рассказывал Герману о новинках, иногда специально оставлял их для него. Бывало, Герман и паренек перекидывались словами о погоде, обстановке в районе. Между ними зародилась симпатия, которая, возможно, при других обстоятельствах могла вырасти в дружбу. Таких зачаточных, пунктирных связей у Германа было немало. Подобно пауку, с помощью тонких нитей Герман прикреплял себя к городу, времени. Чтобы как-то удержатся, продержаться без Евы.
В ту зиму такими нитями Герман был связан не только с Алешей, но и с продавщицей в магазинчике на углу, узбечкой Юлдуз, которая, выложив на прилавок сигареты, сосиски и пиво, иногда — молоко, не торопилась дать сдачу, рассказывала о доме под Ферганой, его устройстве, родителях, братьях, гранатовом саде. С армянином-сапожником, латавшим ортопедические ботинки Германа. С Арсеном Герман не разговаривал ни о чем, кроме ботинок и стоимости работы, но чувствовал единение с обстоятельностью, несуетливостью старого армянина, с гордостью за свою работу и любовью к ней. Чувствовал и что он, Герман, тоже симпатичен сапожнику.
А еще была Лена, проститутка. Она жила в соседнем подъезде, ее балкон примыкал к балкону Морозовых. Герман и Лена часто одновременно курили и подолгу разговаривали. Правый клык Лены выступал из ряда зубов вперед, поблескивал и гипнотизировал Германа. Красный лак на ногтях всегда был полустершимся. Ее номер телефона руки Германа иногда сами набирали ночью.
Лена приходила всегда с литровой банкой горохового супа. Прижимала ее к груди. Суп, а также большие круглые очки, превращавшие ее в подслеповатую библиотекаршу, предназначались для любопытных соседей, если те вдруг не спали. Пусть считают, что она подбивает к Герману дорожки. Лена растила четырехлетнего сына, которого безмерно любила, и не хотела, чтобы в районе кто-то знал, чем она занимается. Суп был вкусный, густой, с копченостями. Герман даже предлагал платить за него, но Лена отказывалась. У нее были свои принципы. В отличие от Лидочки, которую Герман больше не видел с того утра, когда ушел за несколько часов до поезда в Адлер, Лену не удивляла привязанность Германа к сестре.
Лена, конечно, приходила отработать и получить деньги, но ей нравилось и вести беседы с Германом. Вообще-то она окончила философский факультет, и ее нет-нет да и тянуло разобраться в том, как все в мире устроено.
— Все эти книги и фильмы, — сказала она как-то, кивнув на журнальный столик с книгами и кассетами, — легенды, песни врут, когда ставят во главу жизни секс, сексуальную любовь мужчины и женщины. Обманутые писателями и режиссерами люди страдают, вместо того чтобы определить и принять ту страсть, которая выпала им. Сколько я наблюдаю — мужчин в основном, — у каждого есть своя страсть, стержень, пуповина, которая связывает и примиряет с миром. Без этой страсти ему не выжить. И далеко не всегда она зиждется на сексе и даже не всегда направлена на одушевленный предмет. Есть у меня один клиент, — она завела глаза, — изучает облака. Целые лекции прочитывает мне каждый раз. У него есть жена, которую, как он говорит, он очень любит. Но я не сомневаюсь, если не будет жены, а будут облака, он выживет и — о ужас! — будет счастлив, а если будет жена, но не будет облаков, то и его не будет.
Отчасти Герман был согласен с Леной.
37
На сосисках, пиве, выпечке, которой его подкармливали медсестры, а также на гороховом супе Лены Герман впервые в жизни поправился, пришлось даже купить новую одежду и новый свитер большего размера. С Евой он виделся редко.
— Чего это ты вдруг сделался жирным? — с изумлением говорила она каждый раз, ущипнув его живот. Как-то весной прислала сообщение. Герман был как раз на практике в больнице. Собственно, уже пора было уходить домой, но он медлил. Ему нравилось в больнице, здесь мир был ясен и понятен. Герман стоял в переходе между корпусами и курил, глядя на апрельский больничный сквер, только что промытый дождем, когда пейджер в его халате ожил. Экран подсветил несколько слов: «Я, кажется, заболела. Сама не доеду. Я у Вероники Петровны. Армянский переулок, дом…».
Дверь Герману открыла сухая старуха.
— Здравствуйте, Ева у вас?
Опершись на палку двумя руками, старуха впилась взглядом в Германа. Жадно, точно световым лучом в темной комнате, принялась шарить по его лицу. Герману стало неловко от столь неожиданного внимания к своей физиономии. Минуты шли, а старуха ничего не говорила, не приглашала, но и не закрывала дверь. Просто стояла и смотрела на Германа. Наконец в глазах ее мелькнуло какое-то движение, и она, шаркая, удалилась вглубь квартиры, оставив дверь открытой. Герман вошел в прихожую, пахнущую старой обувью и пылью, закрыл за собой дверь.
— Ева, ты тут?
— Герман, иди сюда, — донеслось из комнаты справа.
Комната плыла в зыбких апрельских сумерках. Ева, поджав ноги и укутавшись одеялом, лежала на диване. Вся ее поза, расслабленность и уверенность в теле говорили, что она тут не впервые. Рядом на журнальном столике белела чашка. За открытой форточкой накрапывал дождь. Робко, с перебоями, постукивал в стекло, подсвечиваясь зеленым от вывески «Аптека» на здании напротив. Увидев Германа, Ева попыталась сесть, но тут же упала на вышитую цветам подушку. Засмеялась.
Герман уселся на диван рядом:
— Что ты тут делаешь? Что случилось?
— Это квартира Вероники Петровны.
Видя, что Герман не понимает, пояснила: — Ну Веро́ника. Помнишь, бабушка еще все время ей звонила?
— А-а-а.
— Вон посмотри на фотографию в середине… — Ева указала рукой на стену, на фотографию молодого человека в военной форме.
Герман скользнул взглядом по фотографии, упрятанной в тяжелую раму с бронзовыми завитками. Вокруг были еще фотографии, почти вся стена была ими увешана, другую стену занимала советская стенка. За ее стеклом белели в сумерках дымковские игрушки, солдатики, коллекционные машинки.
— Что случилось, Ева? Что у тебя болит?
— Тут повсюду его фотографии. Мы с бабушкой раньше часто приходили сюда. Бабушка и Веро́ника усаживали меня вон на тот стул у окна. Умилялись и чуть не плакали, восклицая, как я похожа и на отца, и на них обеих, и надо же — как удивительно передаются фамильные черты. Скармливали мне коробку пирожных, только чтобы я сидела спокойно, не вертелась, не болтала ногами и дала им на себя насмотреться, ну то есть на свое, морозовское.
— Ясно. — Герман потрогал руку, лоб Евы. — У тебя температура?
— Они пили ликер, слушали пластинки вон на том самом проигрывателе, смеялись… — Глаза Евы лихорадочно поблескивали, говорила она все быстрее. — Мне разрешали играть всеми этими фигурками, солдатиками, машинками. Непременно указывая, что это папины, что это папа ими играл, а вот этими карандашами он рисовал, а вот эту книжку очень любил. А потом, спустя какое-то время, они всегда заводили разговоры о тебе. И я сворачивала игры, спешно дорисовывала замки, потому что знала, что скоро последует. Веро́ника выкрикивала, что ты ублюдок, что ты сломал Александру жизнь. Из-за тебя ее любимый мальчик оборвал все связи, и теперь она не знает, где он, что с ним, жив ли он, солнце, единственная радость ее жизни — тут она взвизгивала и начинала страшно плакать, рыдать. Говорила, что бабушка выжила из ума, если воспитывает тебя, пусть она приведет тебя, и она, Веро́ника, собственноручно открутит тебе голову.
— Вот как?
— Бабушка тебя защищала и говорила, что нельзя знать наверняка, Морозов ты или нет. Кончалось обычно ссорой между ними. Но потом, спустя время, бабушка снова приводила меня. И все повторялось. Бабушка запретила тебе рассказывать о том, что тут происходило, сказала, что тебя это может сильно расстроить, что…
— Ева! — Герман сжал ее плечи. — Все это очень интересно, но давай сначала с тобой разберемся. Что случилось?
— Я упала. — Она хихикнула. — В книжном. Олегу учебники по английскому покупала.
— Чем ударилась?
— Ну не знаю, не помню. Голова внезапно закружилась. С утра еще чувствовала себя как-то странно, глотать было больно.
— Раздевайся.
Герман включил верхний свет, сумерки за окном сразу сгустились. Ева разделась до нижнего белья травянистого, нежно-зеленого цвета. Герман помог ей. Он придирчиво осмотрел тело сестры. Он знал его как свое — шрамики, родинки, рисунок вен под кожей. Выступающая чашечка колена, нежная ямка на внутренней стороне локтя. Бедра узкие, но изгиб талии присутствует, груди тяжеловатые, не большие и не маленькие. Соразмерные, как и каждая часть ее тела. Ева была сложена хорошо, была действительно красива. Неудивительно, что у нее было столько поклонников. Но Герман никогда не воспринимал ее так, как они. Однажды он попытался объяснить Лидочке, которая вечно обвиняла его в наклонностях к инцесту, что, если не брать во внимание подростковый возраст, когда эрекция возникает даже от шелестения листьев, Ева никогда не возбуждала его и даже не вызывала подобных мыслей. Чтобы почувствовать сексуальное возбуждение, говорил он, нужно посмотреть с некоей дистанции, отделиться, обособиться, но в данном случае это невозможно — они с Евой как сиамские близнецы, спаянные невидимой плотью. Слишком близко. Слишком жалко. Как может собственная рука или нога вызывать возбуждение?
Ничего особенного, кроме красного горла, Герман не обнаружил. Травм не было.
— Старуха дала тебе какую-нибудь таблетку?
Покачала головой, закутываясь в одеяло и подрагивая:
— У Веро́ники нет таблеток. Она их не пьет, принципиально.
— Ладно, в аптеке напротив купим.
Герман помог Еве одеться, собраться. Приобнял ее, поднял с пола пакет из книжного. Тяжелый. Ах да, учебники. И зачем такому, как Олег, учебники по английскому?
Старуха вышла их проводить.
— Пока, Веро́ника, — сказала Ева, обняв старушку.
— До свидания, — сказал Герман.
Ответный взгляд был таков, что Герман бы не удивился, если бы старуха достала из халата пистолет и навела на него. Надо же, а он и не предполагал столько лет, что есть человек, который его люто ненавидит.
Когда старуха закрыла за ними дверь, Ева удержала за руку Германа, поднесла палец к губам и прислушалась.
— Немного, конечно, есть сходство с дядей Сергеем, — послышался приглушенный голос из-за двери. — Ну, тот, помнишь, был военным врачом, еще уехал в Ташкент, женился там и пропал. Но чуть-чуть. Чуток. Ерунда. Не стоит и надеяться. А походка, на которую ты, Анна, так рассчитывала, ничего не показывает. Ни-че-го.
Герман усадил Еву в машину, включил печку. Сходил в аптеку, купил аспирин, а в продуктовом две банки пепси-колы. Поспешил назад. В воздухе пахло прибитой пылью и горечью почек смелевших с каждым днем деревьев. По ботинкам Германа и мокрому асфальту разбегались, точно разлитые неуклюжим ребенком, разноцветные краски разгоравшихся вывесок. Вот-вот должны были включиться фонари.
В машине Герман подождал, пока Ева проглотит таблетку и запьет, положил руки на руль:
— К бабушке на квартиру?
— Нет… я… — Ева вдруг замялась, поперхнулась, несколько капель пепси-колы попали на белое пальто. — Вообще-то я ее продала. — Она смахнула капли, отчего они еще сильнее размазались по белой ткани.
— Продала?
— Мне нужны были деньги.
Герман помолчал, опустил руки с руля:
— Но почему ты мне ничего не сказала? И зачем тебе понадобились деньги?
Ева отпила еще немного из банки. Пояснила, что на полученные от продажи квартиры деньги они с Олегом купили яхту и катер и уже в мае будут сдавать их в аренду.
— Это только начало. Будут еще яхты и катера, — сказала она, ежась от температурного озноба. — Мы с Олегом откроем яхт-клуб.
— Яхты? — Герман внимательно посмотрел на сестру. Бредит? — Яхты в Москве?
Ева кивнула:
— Не волнуйся, Герман. Мы отдадим тебе твою долю от продажи квартиры. Половина, конечно, твоя, что бы там бабушка ни думала. Вот только раскачаемся, отобьем кредит. Через год, два.
— Я не понимаю: какие яхты в Москве?
— Ох, братик. Ну, есть Химкинское водохранилище, Клязьминское. А богатых людей в Москве, желающих покататься на яхтах, провести вечеринки, бизнес-встречи, свадьбы, полным-полно. Ты и понятия не имеешь, Герман, что творится в этом городе.
Герман тронулся с места, влился в поток машин, которых с каждой минутой становилось все больше.
— И кто купил бабушкину квартиру? — спросил он после паузы.
— Иван Петрович, похоронных дел мастер. — Ева издала смешок. — Помнишь, жил в твоей комнате? Вот, оказывается, прибыльный-то бизнес. Между прочим, Иван Петрович предлагал Олегу работать на него. Но Олег давно мечтал о яхт-клубе. Все время, пока служил на флоте, только и думал об этом.
— Ева, но ты все-таки могла бы и сказать. Я бы взял некоторые вещи… и вообще.
Несмотря на то что он почти не бывал в квартире детства, а когда бывал, то воспринимал ее как блеклую копию ее же прежней, эта квартира была несущей стеной или даже незыблемой частью фундамента того сооружения, которым он представлял себя.
— Прости. Правда, братик. — Ева сжала его запястье горячечной рукой. — Нужно было действовать очень быстро, потому что появилась возможность выгодно купить яхту. Я знаю, как ты цепляешься за прошлое. Ты бы согласился в конце концов, но измучил бы и себя, и меня, и Олега.
— Так куда тебя отвезти?
— Выезжай на Ленинградку и двигайся в сторону области. Мы пока на яхте и живем.
Ева поставила пустую банку в дверцу, обняла себя руками, прикрыла глаза. Дождь усилился, пятна фонарей и фары встречных машин расплывались в потеках на лобовом стекле, которое дворники не успевали очищать. Дома по обе стороны дороги расплылись в сумерках вверх и вширь, превратились в череду крепостей с темными глазницами для орудий, в некоторых понемногу разгорались факелы.
— Ты просто отдала ему деньги? — спросил вдруг Герман. — Кому принадлежит эта яхта?
— Мне, конечно, — пробормотала Ева, не открывая глаз. — Олег — честный человек.
— То есть он согласился работать на тебя? Я ничего не понимаю.
— Ну, мы обезопасили друг друга.
— Как обезопасили?
— Поставили штампы в паспорта.
— В смысле — «штампы»? — Герман взглянул на сестру. — Ты замуж, что ли, вышла?
— Ну да. — Ева разлепила глаза, сощурилась от боли и огоньков, продырявливающих все никак не темнеющую окончательно Москву. — Говорю же — поставили штампы. Ездили за маслом, зашли и расписались. Напугали там всех этих в гипюровых занавесках. — Ева засмеялась.
В машине повисла, натянулась пауза, будто в тонкую паутину с лета угодила тяжелая муха.
— Поздравляю, — сказал чуть погодя Герман.
— Спасибо. Знаешь, братик, оказывается, это так интересно, ну, вот бизнес этот. Никогда не думала, что он меня увлечет. Искусство, музыка, философия, психология — такая мура по сравнению с ним. И дело не в деньгах, не только в них. Я не сомневаюсь, конечно, что мы их заработаем. Но еще только идет подготовка, а я уже так счастлива, как никогда, и мне так нравится с утра до ночи работать…
Вскоре Ева уснула. Водители в соседних машинах, зажатых в пробке, уныло глядели вперед. Герман открыл банку пепси-колы и залпом выпил, мечтая, чтобы в то вневременье, пока он с шумом глотает, давясь пузырьками, газировку, все вернулось на место.
Олег ждал их на берегу водохранилища. Несколько яхт и катеров качались, поскрипывали на воде. Слышался легкий плеск и шум дождя, стучавшего о борта. Пахло весенней водой и сырой землей, недавно освободившейся от снега. Еве после таблетки стало немного лучше.
— Вон наша яхта, — показала она брату на одну из белевших яхт. Обняв Еву, Олег пригласил Германа пройти посмотреть, но Герман отказался: слишком устал, в другой раз. Он дождался, пока Олег и Ева пройдут на яхту, и белое пальто Евы исчезнет в темноте. Потом поднял воротник пальто, за который уже налило дождя, сгорбил плечи и направился к оставленной на дороге машине.
38
Сейчас у Германа на Олега Ломакина и Ольгу есть досье. Собрано в папку с обтрепавшимися углами и пятнами кофе, пива и кетчупа. Герман ненавидит ее немелованный картон с надписью «Дело №». Стоит провести по пористой поверхности пальцем, и кошмар тут как тут, является по вызову, как старик из сказочной лампы. Замызганные тесемки с обтрепавшимися распушившимися кончиками. Папка тяжело пахнет поездами, которыми Герман добирался до всех тех мест, где оставили отпечатки своей жизни Олег и Ольга, вокзалами, туалетами, затхлыми гостиницами с их сломанной мебелью и выцветшими шторами.
Наслоились на папку и запахи домов, куда заходил с расспросами Герман (он представлялся журналистом, пишущим о молодом бизнесмене Олеге Ломакине), бесконечных чашек чая, кофе, стаканов с пивом и водкой, тысяч выкуренных над ней сигарет. Но больше всего папка пахнет смертью, ужасом. Даже сейчас одно касание ее вызывает у Германа дрожь. Папка лежит вместе с Аришиными вещами в старом фибровом чемодане.
Никакой крамолы, впрочем, в папке нет. Обычные факты, записанные рукой Германа в первый год после смерти Евы. Олега и Ольги тогда уже не было в России, они уехали почти сразу после похорон Евы за границу. Но гражданство не сменили, яхт-клуб «Мария» не продали, им занимался управляющий. Герман ждал их появления и, чтобы не сойти с ума, придирчиво и кропотливо изучал убийц, как какой-нибудь криминалист или фанат-биограф.
В папке есть несколько фотографий, которые отдали соседи или сделал он сам. Например, старая черно-белая фотография восьмилетнего Олега у дома в архангельском селе. Деревянный темный дом, четыре окна по-северному высоко расположены от земли, рядом лиственница, мокрая, блестит после дождя. Возле нее мальчик в брючках и курточке держит велосипед. На мальчика прыгает, желая поиграть, собака; она уперлась сбоку передними лапами в Олега (видна даже грязь от ее лап на курточке), радостно высунула язык. Мальчик смотрит прямо в камеру, взгляд целеустремленный, взрослый. Таких любят учителя.
Есть в папке и фотография матери Олега: небольшие глубоко посаженные глаза сильно косят, крылья крупного носа раздуваются от взволнованного дыхания, светлые волосы так тонки, что едва покрывают неправильной формы череп. На обороте подпись: «Подруге Светлане от Маши, лето 1978 года». Есть и расшифровка разговора с этой Светланой, записанного на диктофон: «В тридцать шесть лет Машка решила родить ребенка, раз уж с замужеством не вышло. А уж если Машка Ломакина чего надумала, знаешь, лбом ушибется, а выполнит». Будущая мать Олега уехала в Архангельск, поселилась в гостинице, пустив на ее оплату все свои накопления. Днем ходила по улицам и смотрела на мужчин. В конце концов она выбрала высокого, широкоплечего моряка. Проследила за ним несколько дней, понаблюдала. Потом подошла и сказала, что ей нужно. Как-то уж там договорились. «Моряк этот даже имени Машке не сказал».
Из записи разговора с сослуживцем Андреем: «Нормальный пацан. Авторитетный. Умел разруливать всякую херню. Ну и вмазать мог, если по делу. И поговорить за душу. Не, он не мой армейский друг. Я с Пашкой дружил, мы с Пашкой и сейчас связь держим. А Ломакин всегда держался особняком».
«Олег хорошо учился, — это расшифровка разговора с директором школы. — Очень умный парень. Конечно, им нелегко с матерью было. Денег мало. Я от жалости взяла ее библиотекарем, потом пожалела. Она-то, между нами, была дура дурой. Но сына любила страшно. Убила бы любого за него. Могла подойти к Олегу в коридоре, обнять, поцеловать, будто и нет вокруг никого. Было несколько случаев, когда она наказывала тех, кто, по ее мнению, обижал или как-то вредил ее сыну. Ну как наказывала — лупила. Приходила домой к обидчикам или отлавливала на улице и лупила изо всей мочи. Один мальчик в больнице после этого три месяца лежал. Олег ее на людях стеснялся. Ему совсем не требовалась подобная защита, он-то сам умел ладить и с ребятами, и со взрослыми.
Да, Маша Ломакина все село против себя настроила. Потому так и вышло, что никто к ней не заходил. Ужасная история вышла с ее смертью. Упала, поломалась и лежала несколько дней, пока не умерла. Обнаружила ее почтальонша. Выписывай Маша газеты, ее нашли бы раньше, спасли, но она все экономила — сыну на учебу копила. Он ведь принципиально в армию пошел, хотя мог бы в любой институт поступить. Считал, что должен отслужить, испытать себя. Клавдия Иванна, наша почтальонша, когда принесла Маше письмо от Олега, заметила, что в почтовом ящике предыдущее, которое она две недели назад приносила, намокло уж все. У Машки кошки были, так они от голода уж ее грызть начали, когда Иванна ее обнаружила. Мне этот ужас ночами снится. Олег заходил к нам после армии, так я в глаза ему не могла смотреть от стыда».
Еще одна запись, эта — из разговора с классной руководительницей: «Не знаю, надо ли такое говорить. В девятом классе от Олега забеременела одна ученица. Девочка сделала аборт, после чего семья увезла ее из Степановки в Архангельск». Учительница нашла в библиотеке и отдала Герману (продала за двадцать долларов) групповую черно-белую фотографию класса. На ней фломастером обведена третья в верхнем ряду девочка: доверчивый взгляд, круглое нежное личико, тонкие, затейливой резьбы изящные губы. Под фото девочки подпись правильным наклонным почерком-шрифтом, какой любят ставить на школьных фотографиях, — «Касьянова О.».
В папке лежит фотография многоэтажки в Архангельске, куда девочка с изящными губами переехала с родителями. Мать ее, Лариса Михайловна, страдала от Альцгеймера. Хоть она и не отказалась разговаривать с Германом, но разговор был настолько странный, что Герман не записал его. Он записал слова женщины с бородавкой на носу, которая присутствовала при встрече Германа с Ларисой Михайловной и вела себя как полноправная хозяйка. На женщине этой, как помнит Герман, был синий теплый халат и пушистые тапочки. Она напоила Германа чаем с пирожками и сама с радостью прихлебывала.
Отец Ольги, как сказала эта женщина с бородавкой на носу, уже умер. «От пьянства, от чего же еще. Напился и замерз в снегу. Дочь? А где она, дочь-то? Фифа еще та, за легкой жизнью в столицу уехала, а мы тут кукуй. Хахаль ее — вон до сих пор весь дом его фотографиями увешан — позвал секретаршей работать, ну она и побежала задрав хвост. Несколько лет у матери не была. Все на меня спихнула. Ну, деньги, да, присылает (после этих слов Герман пометил: шумный долгий хлебок чая). Я-то кто буду? Я мать Эльки. Кто Элька? Так жена сына Ларисы Михайловны, Владимира. В тюрьме сидит, сволочь. Говорила я Эльке — не надо с ним связываться, а уж тем более дите рожать. Вот-вот родится, а на что жить-то будем? Вы там намекните Ольге, что у нее скоро племянник родится, пусть добавит деньжат, дите ведь и ей не чужое».
39
В октябре 1999 года Ева прислала эсэмэску с адресом гостиницы в Севастополе. 23 октября Герман с поезда шагнул под опахало старого кедра, гнавшего в просоленный воздух терпкий запах хвои. В Севастополе было солнечно и тепло, люди ходили в летнем. Герман убрал теплую куртку в сумку и, сверившись с картой, зашагал в сторону набережной. На фасадах домов, увитых красным диким виноградом, дрожал приморский свет, будто исходивший от вечерней волшебной лампы.
У бахчевого развала два моряка покупали арбуз. Герман остановился. Доллары на гривны он еще не поменял, но продавец, морщинистый татарин, был вовсе не против долларов. Продавец помог Герману выбрать арбуз — крепкий, налитой, обещавший быть сладким. Вручая маленькой сухой ладонью сдачу в гривнах, татарин от души улыбнулся, показывая гнилой клык. Герман положил сдачу в карман джинсов, подхватил купленный арбуз под мышку.
На набережной, как и положено, вскрикивали чайки, на бетонных плитах дрожал все тот же налитой вечерний свет. Волны бежали от пришвартованных у противоположного берега бухты кораблей и разбивались под ногами Германа. К пристани деловито двигался белый катер. Гостиница располагалась где-то тут, недалеко. Герман подошел к ушастому мальчишке, тыкавшему в тетрис, и спросил дорогу. «Провожу за доллар. Но она для богатых, — с сомнением оглядев Германа, заявил мальчишка. — Хочете, покажу хорошее местечко? Там недорого, и хозяйка не злая».
Сидевшая за стойкой гостиницы пухлая девушка улыбнулась Герману, растянув над губой воспаленный прыщик. Герман объяснил, что ему нужна Ева Ломакина из номера семь. Девушка убрала улыбку, потрогала прыщик, пробормотала сейчас и исчезла. Поставив сумку на пол, Герман перехватил арбуз другой рукой и осмотрелся. Под потолком крутились длинные черные лопасти вентилятора. На белых плитках пола громоздились глубокие черные кожаные кресла, в одном из них сидел в шортах обгорелый толстяк и ел орехи из турецкой вазочки, стоявшей на стеклянном столике. Толстяк колол орехи щипчиками и отправлял их в рот сразу горстью, все это он проделывал не глядя — круглые глаза не отрывались от поединка чернокожих боксеров на экране настенного телевизора. У ног толстяка спала кошка. Больше никого в холле не было. Сезон кончился с месяц назад.
Герман взял леденец из плошки на столе, развернул. Вместо ожидаемого лимонного вкуса у леденца оказался приторно-ананасовый. Послышался стук каблуков по плиткам. Герман повернул голову: это была не Ева и не девушка с прыщиком. К нему приближалась приземистая коротконогая женщина средних лет с разворошенным гнездом обесцвеченных волос на голове и сигаретой в руке. Слова, которые она произнесла, Герман сперва не понял. Она наморщила лоб, вычертив ровную линию между бровями, затянулась и повторила: ее нашли утром недалеко от Балаклавы.
Невидимая плотная вода медленно затопила холл, в ней ритмично зашумели, завертелись огромные винты.
— Я не понимаю.
— Утонула, говорю, — грубовато сказала женщина, гася сигарету о пепельницу на стойке, и с опаской поглядела на арбуз в руках Германа. Шрифт на бейджике женщины почернел, отлился в зловещие буквы «Наталья». — А вы ей кто? — спросили губы сквозь слои воды.
На улице Герман споткнулся о выступающие корни кедра и выронил арбуз. Арбуз раскололся, мякоть заискрила под солнцем. Навсегда с этой минуты невыносимый арбузный запах поплыл над городом. Собака выбежала из-за угла дома и сердито залаяла на Германа. Ноги понесли его в сторону набережной. Там, не сбавляя скорости, он вошел в воду. Она была ледяной. Вода просочилась в ботинки, ударила по коленям, обтянутым намокшими джинсами, вонзилась ледяными лезвиями в живот, грудь. Герман нырнул. Вынырнув, поплыл. Скоро тело зашлось в мелкой дрожи, стало трудно дышать, Герман лег на спину и, продолжая дрожать, уставился на севастопольское небо. Нежное, с отсветами приближающегося заката, обманчиво ласковое и теплое. Боковое зрение выхватило пляшущие корабли на горизонте… Вдруг вода в ушах угрожающе загудела, завибрировала, точно собралась вскипеть ледяными пузырями, волны взбесились, нахлестнули на Германа. Горло обожгла горькая соль. Закашлявшись, Герман открыл глаза: над ним навис спасательный катер. Краснолицый мужик, перекинувшись через борт, тянул плотную руку Герману и что-то орал матом.
Когда Герман вернулся в гостиницу, выяснилось, что сумку он не потерял, а оставил в отеле. Пухлая девушка с прыщиком вытащила ее из-за стойки. Герман спросил, может ли он видеть Олега Ломакина.
— Нет, — покачала головой. — Он еще не вернулся.
Герман попросил дать ему номер. Зажав ключ в руке, направился к лестнице, оставляя мокрые грязные следы на оттертых до блеска плитках пола. Стал подниматься по лестнице под пристальными взглядами девушки с прыщиком и толстяка, который по-прежнему сидел в кресле перед миской с орехами. Хотя Герман выпил полбутылки водки, он не опьянел, напротив, разум его пришел в состояние необыкновенной ясности. У седьмого номера Герман остановился. Надавил. Отошел на пару шагов, чтобы выбить дверь с удара. В это время из соседнего номера появилась горничная с тележкой. Герман подскочил к ней и схватил за руку:
— Открывай седьмой номер.
— С какой стати?
— Открывай.
Она с возмущением уставилась на него, собираясь заорать, но тут заметила мокрую, прилипшую к телу одежду, дрожащие руки, встретилась с не сулившим ничего хорошего взглядом и, быстро поморгав ресницами, открыла номер. А затем поспешила по коридору к лестнице, отстукивая страх форменными туфлями.
В номере было две комнаты. Спали, судя по всему, в обеих. На двуспальной кровати поверх смятого покрывала валялись журналы, косметика, белье Евы, раскрытая ближе к середине книга «Моя жизнь, мои достижения» Генри Форда. Брошенная впопыхах мужская рубашка обнимала пустыми рукавами торшер. На полу чернели гантели, сброшенные туфли на каблуках смотрели друг на друга из разных углов. Во второй комнате стояла односпальная кровать, аккуратно застеленная. В шкафу на плечиках были развешаны женские вещи — не Евы, женщины много ниже нее. Да и запах у одежды был другой, чужой, слишком сладкий, даже слащавый. На столе, как на картинке в журнале, в идеальном порядке лежали журналы, калькулятор, ручка и откидной ежедневник. Ежедневник был раскрыт на 22 октября. До сих пор Герман жалеет, что не заглянул в него. В записи, которые вела секретарша.
Герман вернулся в первую комнату, взял с кресла свитер Евы и вдохнул ее запах. Под свитером оказалась коробка, в ней были аккуратно сложены крымские сладости: пахлава, рахат-лукум, изюм, а еще небольшие мешочки с запахами лаванды, розмарина, открытка с видом Севастополя. С обратной стороны открытки почерком Евы было написано: «Привет, братик. Соскучилась, хочу поскорее увидеть тебя. Неужели ты еще потолстел? Представляю, как…». Предложение было не дописано.
— Муж вчера вечером нашел прощальную записку. Бросился на поиски.
Герман обернулся: приземистая Наталья с разворошенным гнездом обесцвеченных волос и сигаретой в руках стояла за его спиной.
— Он выяснил, что жена взяла моторную яхту и направилась в открытое море, — продолжила Наталья. — Яхту обнаружили недалеко от Балаклавы, пустую. А женщину нашли сегодня утром.
— И что там было? В записке?
— Ну что обычно пишут… — выдохнула дым. — Кто она была тебе?
Герман дернулся. Наталья подошла и, оттопырив пальцы с сигаретой, по-матерински обняла его.
— Пойдем, я отведу тебя в твой номер. Саша принесет горячего чая.
Герман забрал свитер сестры и коробку с гостинцами. В номере, куда Наталья привела Германа, стояла кровать с металлическими завитушками, на белых стенах висели картины с видами Крыма. К окну приблизился и задышал на стекло ночной город. Не Севастопольская бухта, как в номере Евы, а дома, фонари и темные деревья. Наталья закрыла город шторами. Позвонила по телефону, и вскоре девушка с прыщиком принесла чашку чая.
Герман фиксировал детали вокруг себя: тщательно прорисованных черных ящерок на перламутровых ногтях Натальи — по одной на каждый лепесток ногтя. Расползающуюся стрелку на колготках Саши. Отражение трехрожковой люстры в чае — чашку Саша поставила рядом с Германом на прикроватную тумбу. Горошины на чашке. Он отмечал все, что происходило вокруг, но, как ни пытался, не мог осмыслить то, что видел. Будто потерял способность откликаться эмоциями, чувствами на происходящее. Наталья и Саша помогли ему снять мокрую одежду, уложили в кровать с металлическими завитушками и укрыли одеялом. И Герман тут же провалился в сон. Это он-то, страдающий жестокой бессонницей большую часть своей жизни.
Очнулся он глубокой ночью. Сначала обманулся: ну и сон ему приснился! Потом накатила тошнота — нет, не приснилось. По позвоночнику побежала дрожь. На столе белела чашка с холодным чаем, чай будто был сделан из той же тьмы, что плавала в комнате, покачивая душными тяжелыми боками. Герман надел подсохшие джинсы и рубашку, открыл дверь и направился к седьмому номеру. Постучал. Подергал ручку, снова постучал — тишина. Отойдя на несколько шагов, с одного удара выбил замок. Номер был пуст и уже убран — все следы пребывания Ломакиных исчезли.
Спустился на ресепшн. За стойкой — никого. Часы на стене показывали без пяти четыре. Он подождал немного — никто не появился. Нажал на звонок — в ответ ничего, ни шороха, ни звука шагов. На столике, за которым днем сидел загорелый толстяк, стояли две пепельницы, плотно заполненные бычками, пепел серел и на зеркальной черной поверхности столика. Герман выбрал пару длинных бычков. Курить хотелось страшно, а свои сигареты он где-то вчера потерял. Направившись к двери, заметил на столике у входа пачку «Вечерки». Взял верхнюю газету, расправил под горящей в ночном режиме лампой — с передовицы на него смотрела смеющаяся Ева. Прежде чем прочитать заметку, Герман передернул плечами, огляделся: вокруг — ни звука, так пустынно и безжизненно, что у Германа мелькнула мысль: может, это он умер, а не Ева?
«ЖЕНА МОСКОВСКОГО БИЗНЕСМЕНА УТОПИЛАСЬ НЕДАЛЕКО ОТ БАЛАКЛАВЫ», — прочитал он заголовок под тусклым светом, заморгавшим от волнения, забившимся, затрещавшим, точно бабочка крыльями, но быстро успокоившимся. «Олег Ломакин, — говорилось в заметке, — бизнесмен, основатель компании “ML Marine Moscow”, опознал жену в женщине, которую поисковая группа нашла утром 23 октября недалеко от Балаклавы. Накануне вечером в море была обнаружена пустой пропавшая моторная яхта, принадлежащая компании “ML Marine Moscow”. Ева Ломакина оставила прощальную записку. Олег Ломакин заявил, что с женой у него были прекрасные отношения, она была не только любимой подругой, но и товарищем по бизнесу, и он не представляет, что могло толкнуть ее на такой поступок. Ломакин, впрочем, отметил, что в последнее время Ева выглядела подавленной, уставшей, он надеялся, что осенний Крым, куда они приехали по делам компании, развеет ее хандру. “Я очень любил Еву, не представляю, как вынесу все это”, — признался Ломакин. При разговоре с журналистами бизнесмен не скрывал слез. После необходимых процедур Олег Ломакин увезет тело жены в Москву, где и похоронит».
Герман скомкал газету, бросил ее на пол. Выйдя на улицу, направился во дворы, побродил там в надежде прикурить у кого-нибудь. Но во дворах никого не было — только собаки спали под фонарями. Собаки никак не прореагировали на Германа, лежали, не шевелясь, будто мертвые. Поплутав, Герман свернул куда-то, уперся в заросли — какая-то птица поднялась над его головой и улетела, возмущенно хлопая крыльями. Герман принялся продираться сквозь заросли, но они всё не кончались, становились только гуще и всё больнее хлестали и царапали. Он решил повернуть назад, но вышел из зарослей отчего-то не во двор недалеко от гостиницы, а на узкую улочку. На ее высокую правую сторону вела лестница, поблескивавшая лунным лаком. Из каменных ваз торчали мочалки умерших цветов. До Германа донеслись голоса. Может, удастся-таки прикурить? Он добрался по ступенькам почти до самого верха лестницы, как вдруг узнал один из голосов:
— Что вышло, то вышло, — произнес голос Олега Ломакина. — Глотни еще, успокойся.
— Но я не понимаю… как… я ведь не такая! — Женский всхлип разорвал темную ткань густого воздуха.
Герман ступил под очередной севастопольский кедр с мощным древним стволом. Кедр не махал опахалами, замер, точно играл в детскую игру «Море волнуется». «Море волнуется — раз, — услышал он смеющийся детский голос Евы в ухе, — море волнуется — два, море волнуется — три, морская фигура, замри!» Вообще, весь Севастополь, похоже, играл в эту игру. Кроме Германа. И еще тех, кто сейчас сидел в машине метрах в десяти от него, спрятавшись в ущелье между двумя глухими стенами домов, отражавших и усиливавших голоса. Дверцы машины были распахнуты, крыша блестела, как спинка лощеного черного жука. Машина работала, тихо урча. Сидящим в машине лестницы, по которой поднялся Герман, было не видно, все пространство позади них занимал кедр, создавая иллюзию защищенного тыла.
Герман сделал еще пару шагов.
— Не знаю, Олежек, что на меня нашло, — очередной женский всхлип.
— Радуйся, что она под винты не попала. Тогда бы мы здесь надолго застряли. Никакие деньги не помогли бы уладить все за один день.
— Я не могла больше выносить все это. Смотреть, как вы… как вы… Представлять, как вы в спальне… Я сходила с ума. Да, я все понимала, верила в наш план, но иногда мне казалось, что ты совсем забыл про меня, передумал. А там, на яхте, вы так поцеловались, будто опять решили заново… и после эта ее развеселая пляска на корме…
Герман прислонился к плотному шершавому стволу кедра. Сердце размножилось и застучало в шее, ушах, затылке.
— Это ничего не значило, просто у Евы было хорошее настроение. Она еще с утра окончательно решила насчет нас. Я не успел тебе рассказать. Тебе оставалось подождать совсем чуть-чуть.
— Но тогда… ты ведь мог вытащить ее?
Пауза, потом голос Олега:
— Утром она заявила, что не собирается бросать бизнес. Только будет вести его честно. Угрожала разорить меня, нас с тобой. После развода ей ничего не стоило переманить клиентов и компаньонов, да что там, они и так ей в рот смотрели. — Олег опять помолчал, потом продолжил: — Я вспомнил, что у меня есть записка. Остальное устроить несложно.
— Откуда она у тебя? Эта записка?
— Заставил написать года два назад. После очередной этой ее выходки — она тогда прыгнула через двухметровое ущелье в горах за какой-то козой. Я разозлился, сказал, что в случае чего подумают на меня. Она рассмеялась и написала эту записку. Ну а я сохранил.
Сердце Германа продолжало множиться: одно из новоявленных сердец выпирало уже из кедра, билось, пульсировало сквозь жесткий ствол.
— Олежек, я видела, как она мучила тебя. Я буду только помогать. Обними меня… Пожалуйста… Как вспомню, как мы смотрели… эти ужасные минуты…
— Перестань уже, — в голосе Олега послышалось раздражение. — Хватит.
— Прости, — всхлип, — я возьму себя в руки…
Пауза.
— Погоди, не сейчас. — В голосе Олега проступила хрипотца. — У нас на это будет достаточно времени. Нам надо быть осторожными, понимаешь?
Герман бросился к ним. Но прежде чем он успел приблизиться, поспешно хлопнули дверцы, фары осветили клубы сумрака, зажглись задние огни, и машина с Евиными убийцами растворилась в севастопольской ночи.
40
— Что это? — Ариша касается металлических палочек, и они, качнувшись, издают протяжный и в то же время переливчатый, как у ручья, звук. Звук медленно тает в прозрачном апрельском воздухе. Весна, 2012 год.
— Китайские колокольчики, — говорит Герман.
Ариша касается их еще раз, и снова нежный звук разливается по воздуху.
— Купим? — Глубоко посаженные серые глаза вопросительно смотрят на Германа.
— Ну, если хочешь.
Ариша кивает.
Колокольчики висят над входом в торговую палатку. Герман и Ариша заходят внутрь и вскоре выходят в слезах от едкого дыма ароматических свечей, кашляя, но с пакетом из воздушно-пузырчатой пленки, в которую продавец заточил «музыку ветра». С особой торжественностью продавец вручил Арише инструкцию, куда можно вешать в доме колокольчики, а куда не стоит. Инструкцию Ариша тут же смяла и засунула в карман джинсов, где у нее хранились залежи пустых упаковок от леденцов и жвачки. Джинсы опять стали коротковаты. За последний месяц Ариша стремительно вытянулась, тело ее приобрело странные пропорции, точно у Алисы, когда та выпила флакончик зелья.
— Митьке понравится, — уверенно говорит Ариша, перебирая металлические палочки сквозь упаковку. Митька — ее парень, как она без всякого смущения говорит. Ему четырнадцать лет, он на два года старше.
Меж тем припекает, день обещает быть жарким. Пыли вокруг — хоть отбавляй, несмотря на приморские северные ветры. Пыль притушила черноту ботинок Германа и петушиные цвета кроссовок Ариши, поскрипывает на зубах и понемногу оседает на лбу и щеках. Ариша насвистывает песенку, высматривая нужный павильон. Схема, как к нему пройти, нарисована у нее на бледной коже руки (рукав ветровки Ариша закатала почти до подмышки) рядом с крошечной ящеркой-тату. До поезда восемь часов. Вместо того чтобы бродить по Эрмитажу, кататься на корабликах по каналам, слушать выстрелы пушки в Петропавловской крепости или делать еще что-то полезное и приятное из того, что положено делать гостям Питера в единственный свободный день после трехдневной конференции хирургов, Герман и Ариша бродят по рынку «Юнона» на юго-западной окраине в поисках деталей для компьютера.
Ариша издает победный клич: нужный павильон перед ними. Судя по количеству посетителей, павильон этот действительно знаменит, хотя внешне ничем не отличается от соседних со скучающими продавцами: те же экраны, коробочки, проводки. Герман снабжает Аришу деньгами, забирает у нее китайские палочки-колокольчики, засовывает их под мышку и направляется к островку знакомых и понятных ему предметов — развалу с DVD дисками. Тут околачиваются люди его возраста и постарше, которые не желают признавать, что DVD устарели. Продавец, плотный, раскрасневшийся на солнцепеке мужчина лет пятидесяти, то и дело выцепляет наметанным глазом кого-нибудь из покупателей.
— Исторические? — угодливо повторяет он мягким басом за женщиной в ажурной розовой шляпе. — У меня их две коробки. Из новинок — датский фильм «Королевский роман». Не смотрели? Про британскую принцессу Каролину Матильду… Не хотите датский? Голливудский? Помилуйте, милая, что американцы понимают в истории?
Герман переходит от коробки к коробке. Вестерны обычно лежат вместе с боевиками. Он перебирает пластмассовые коробочки с обложками, изображающими погони на машинах, стрельбу в грязных дворах, взрывы в ресторане с осколками тарелок и разлетающейся едой… На руках от коробочек остается пыль, даже сажа какая-то. Вестернов, как всегда, мало. Хорошего вообще всегда мало. Герман обнаруживает классику — «Дилижанс» и «Великолепную семерку», два фильма Серджо Леоне, ремейк «Поезда на Юму»… Все это, конечно, ему давно знакомо.
— А вот этот смотрели? — Продавец оказывается напротив Германа, закрывает собой солнце. — Он на английском, только месяц как вышел.
Пока Герман рассматривает коробочку, читает название Cole Younger & The Black Train, продавец вытаскивает из кармана пирожок, судя по запаху — с мясом, и принимается с аппетитом жевать. Режиссер фильма — Кристофер Форбс. Герман смотрел его вестерн «Холодный день в аду» и совсем не впечатлился.
— Предупреждаю — запись из кинотеатра. — Продавец перебросил кусок пирожка из-за левой щеки под правую, тщательно прожевал. — Я всегда честен с покупателями. Этот взял для одного своего постоянного клиента, свихнувшегося на вестернах. Он, покупатель, в смысле, в Афгане служил. «Только на них — вестернах — и выживаю, — так он всегда мне говорит. — Этот мир, — продавец запихивает в рот остатки пирожка и разводит руки, как бы охватывая всю “Юнону” с ее новой техникой, старыми тапками, монетами и чайниками на барахолке, — этот мир не для нас, не для таких, как мы». Так он, этот мой постоянный клиент, говорит. А ты не служил в Афгане? Чечне? Нет? Что-то в тебе есть такое… — Он щелкает пальцами. — Я никогда не ошибаюсь, — секунду-другую внимательно смотрит на Германа. — Ну как, берешь?
— Па, чего нашел? — Ариша возникает за спиной.
— Новый, мутного режиссера, да еще и на английском. — Герман протягивает продавцу деньги.
— Ты же говорил, что хороших вестернов больше не снимают?
— Ну, кто знает — вдруг?
— Дочка? — спрашивает продавец, улыбается и отдает сдачу. — Похожа. Тоже любишь вестерны?
— Не. В них все понятно с самого начала. То ли дело детективы или такие, знаете, фильмы-перевертыши. Вроде «Других».
— Хочешь присмотреть что-нибудь?
— Нет, спасибо.
— Ну, значит, в другой раз.
— Все купила?
Мог бы и не спрашивать. Лицо Ариши, еще по-детски плоское, выглядит как бьющий источник счастья. Подставляй чашу, наливай да пей. Герман взял у нее пакет с покупками, положил в него колокольчики, диск.
— У нас с тобой есть еще часов пять. Можем отнести покупки и сходить куда-нибудь поесть и немного прогуляться.
— Давай лучше поедем в гостиницу и пиццу в номер закажем.
Герман знает: больше всего на свете Арише сейчас хочется разложить все эти штучки, натрогаться, налюбоваться на них, повиснуть на телефоне с Митькой и обсуждать покупки с час.
— Но ты так и не посмотрела город.
— А это что? — Она показывает взглядом на безликие дома-форпосты для отражения ветров. — Не город разве?
— Ты же понимаешь меня.
— Ну па…
Герман смотрит в ее небольшие серые глаза. Взгляд ясный, честный до мурашек.
Чтобы хоть немного познакомить Аришу с красотами Петербурга, Герман просит таксиста покатать их. Но в машине Ариша сразу надевает наушники и прикрывает глаза. Баюкает свое счастье, прижимает пакет с купленными деталями. Герман сначала пытается обращать ее внимание на ту или иную достопримечательность, но вскоре прекращает эти бессмысленные попытки: Ариша послушно скользит взглядом по дому, или собору, или мосту, на который указывает Герман, но тут же снова натягивает наушники и прикрывает глаза.
Ленинский, Московский, Садовая, Невский, каналы, Дворцовая площадь, набережная, тающее золото купола Исаакиевского собора. Конец апреля, на кварталы в солнечной сепии идет в атаку зеленый цвет. Стремительно заливает газоны, сбрызгивает тонкие ветви деревьев, распыляет из баллончика пышные светло-зеленые облачка и окутывает ими кусты в садике Екатерины. Еще пара-тройка таких теплых дней, и за зеленым войском пойдут в наступление красные, желтые — зацветут на клумбах тюльпаны, нарциссы, разбегутся по дворам одуванчики, а потом вспенятся яблони и вишни, а за ними и сирень.
Пицца «Четыре сыра», банка пепси-колы для Ариши и пива для Германа. Ариша складывает все это на тумбочку между кроватями в номере отеля. Хоть на некоторое время пицца перебьет запах старого дома на Фонтанке, который настойчиво просачивается сквозь современную отделку. Этот запах пропитал уже всю одежду, въелся даже в волосы и кожу на теле. Аришу, впрочем, запахи не беспокоят. Взяв кусок пиццы, она в кроссовках забирается на свою неубранную постель, раскладывает покупки и принимается их фотографировать, изредка откусывая пиццу. Герман вскрывает пиво. От весенней пыли в горле пересохло. Ариша протягивает руку:
— Дай отпить.
Берет, отпивает, морщится.
— Ну и гадость, — отдает назад Герману.
В номере одно арочное окно. Стены зеленые, под стать зеленым военным действиям на улице. Потолок невообразимо высок, на нем белеет-желтеет лепнина жутковатого вида — гипсовые цветки с завитками. То ли древние, то ли подделка под старину. На стене — старинные гравюры с видами Петербурга.
Перекусив пиццей с пивом, Герман решает-таки выйти прогуляться. Солнце жарит уже вовсю. По Фонтанке ездят прогулочные катера, умиротворяющий голос экскурсовода усыпляет, как полуденное жужжание шмеля. Рассмотрев коней Аничкова моста, Герман доходит зачем-то до Невы. Перегнувшись через нагретый пыльный гранит, смотрит на открыточные дома на той стороне, сдавленные синей сморщенной тканью воды. Возвращается по весенней жаре назад.
Ариша спит в наушниках, приоткрыв рот. Окно распахнуто, со двора доносятся смех и взмахи крыльев. Китайские колокольчики висят на окне, умиротворенно покачиваются и позвякивают. Герман осторожно снимает наушники с Ариши, стягивает кроссовки, грязные мокрые белые носки — распаренные ступни выдыхают, освободившись. Ступни у девочки узкие и длинные, уже сейчас тридцать восьмого размера, а какой будет после скачка роста? Убирает носки в пакет с грязными вещами. Собирает вещи по номеру и в ванной, упаковывает. Через час пора будет выходить. Герман подходит к окну. Дзинь-дзинь, говорят колокольчики. Изображение чужого города в окне, как всегда, волнует и тревожит. Дзинь-дзинь.
Герман достает коробку с вестерном. Вставляет диск во встроенный в телевизор DVD-проигрыватель. Ложится, закинув руки, на кровать.
С первых минут понятно, что этот вестерн не всерьез. Английский Герман знает настолько, насколько преподавали в школе и непрофильном институте, то есть — практически никак. В начале фильма некто похищает девушку, а потом на протяжении минут двадцати идут разговоры, меняются лишь собеседники и их месторасположение. Герман выцепляет детали, любимые маркеры вестерна — ковбойские шляпы, стену дома из свежего дерева, бутылку виски и стаканы на темном столике, глаз и хвост лошади… Он почти засыпает, когда вдруг начинается движуха, как сказала бы Ариша: группа всадников в шляпах энергично поскакала по солнечно-зеленому лесу с явным намерением наконец в кого-то пострелять.
Ариша, не открывая глаз, садится на кровати, нашаривает наушники, банку пепси-колы, допивает остатки, встает и так же, не открывая глаз, перебирается к Герману. Нащупав свободное место, укладывается, надев наушники, поджав ноги и обхватив себя руками. Герман сдвигается на край, освобождая девочке побольше пространства. На экране меж тем ковбои подняли пистолеты.
Грохот в комнате сливается с выстрелами на экране. Герман вскакивает: лепнина, те самые жутковатого вида гипсовые цветки с завитками валяются на Аришиной кровати и на тумбочке, на остатках пиццы. Отдельные крошки и куски рассыпались по полу. В воздухе полотном марли повисает, покачиваясь, белая пыль. Вытянутая рука и не подумавшей проснуться Ариши осыпана белой пудрой. Подняв взгляд наверх, Герман видит дыру в лепнине над кроватью Ариши, дальше лепнина пошла трещинами, нависла и того гляди шлепнется. Герман вскакивает, хватает девочку на руки и выносит ее в коридор.
— Эти цветки, господи спаси, в тонну весом. Я сама их всегда побаиваюсь. — Администраторша лет пятидесяти с белым, как у гейши, от страха лицом обнимает Аришу. — Какое же у тебя чутье, девочка.
— Это не чутье. — Ариша мягко отстраняется от объятий, зевает и, подняв босую ступню от холодного пола, прижимает ее к щиколотке. — Меня мама предупредила.
— Ну конечно. — Фальшивая улыбка запускает процесс оживления на лице администраторши. — Мамы всегда беспокоятся о своих деточках.
Ариша схватывает Германа за рукав:
— Па, мои детали?
— Мы принесем вам все ваши вещи, — говорит администраторша. — Пойдемте, я отведу вас в другой номер.
— Да ну, какой другой номер, — отмахивается Герман. — У нас поезд через час. Вызовите нам, пожалуйста, такси до Московского вокзала.
Он шагает в проем двери. Белая пыль уже немного осела. На экране ковбой пьет виски.
— Нет, вы не пойдете, — вцепляется в него администраторша и пытается вытащить назад. — Это наша работа. Если вас убьет этим цветком, меня посадят в тюрьму.
Не слушая ее, Герман проходит внутрь. Остерегаясь углов — трещины на лепнине еще увеличились — берет стоящие наготове вещи, обувается, берет кроссовки Ариши, ветровки. Останавливает взгляд на подушке — лепнина угодила точно в то место, где была голова девочки.
Такси они дожидаются в холле. Служащие порхают вокруг, как бабочки над цветками, несмотря на то что Герман ясно дал понять, что не собирается давать ход этому происшествию. Горничная, девушка лет девятнадцати, только что принесла забытые на окне китайские колокольчики. Смутившись и покраснев, пробормотала извинения. Колокольчики лежат теперь на коленях у Ариши, на пакете с непострадавшими деталями. Ариша допивает уже третий (бесплатный, разумеется) молочный коктейль, заедая его мороженым — разноцветные шарики высятся мультяшным замком на серебряной тарелке. На столике стоит ваза с нарциссами. Поставили специально для них. Легкий запах напоминает Герману обо всех веснах сразу.
Внезапно Герман бросается к Арише и, присев, принимается ощупывать, проверять ее руку — ту, что была в известке. Потом проверяет и вторую, ноги, просит завести, скосить глаза.
— Ну па, ты чего, в меня не попало. — Ариша выдыхает на него запах ванили, фисташек и малины.
— Такси ждет вас у входа, — раздается за спиной угодливый баритон служащего.
— Когда ты мне расскажешь о маме? — Выдув пузырь сине-зеленой жвачки, Ариша поворачивается к Герману.
Он только что купил чай у двух девушек в форменной одежде, развозящих тележку с продуктами и напитками (теперь они остановились на два ряда кресел впереди и обслуживают толстяка, который собрался, похоже, скупить всю тележку). Высыпав два пакетика с сахаром, Герман вместо ответа долго и тщательно мешает пластиковой палочкой-ложечкой янтарный чай в бумажном стаканчике под непрерывно сыплющимися стрелами солнца («Сапсан» идет со скоростью 230 км/час, как показывает табло).
Герман отпивает чай и раскрывает журнал, который бригада поезда предлагает пассажирам, чтобы они не заскучали за четыре часа.
Ариша лопает пузырь, фыркает, откидывает кресло, надевает наушники.
— Рано или поздно я все равно узнаю, — убежденно заявляет она.
41
20 июня 2016 года. Вернувшись рано утром из больницы, Герман заглядывает в комнату Ариши. Разноцветные огоньки «С днем рождения» и «16 лет» всё еще моргают на окне, хотя давно рассвело. Ариша спит безмятежно, не обращая внимания на солнечное пятно на лице. Кожа у нее нежная, чистая, только один прыщ краснеет на виске.
Стараясь не шуметь, Герман выключает огоньки, зашторивает окно, перегнувшись через стол. На столе — новая фотография Ариши и Митьки: облокотились о перила в торговом центре, обнялись и счастливо глядят в камеру. У Ариши короткая стрижка, волосы тонкие, дымчатые, цвета репейника, у Митьки — густые белые, собраны в хвост — ни дать ни взять парик вельможи XVIII века. Ариша, по своему обыкновению, спокойна. Взгляд ясный и дружелюбный. Митька сосредоточен, крепко обнимает плечо Ариши. Он совсем взрослый, а Ариша, хоть и высокая — она уже сейчас выше Германа, — но лицо еще детское, тело не сформировалось окончательно, как у некоторых ее ровесниц, которых Герман видел вчера на дне рождения. Ему пришлось уйти в самом начале, вызвали на операцию.
На столе у Ариши стоят еще две фотографии. На одной — Ариша и Герман года четыре назад у школы, где их без предупреждения щелкнул школьный фотограф: дождь, Ариша бежит к Герману, раскрыв руки, волосы растрепались, рюкзак блестит, поднялся, шнурки на туфлях, ступающих на лужу в кругах дождя, развязались. Герман торопится, шаг широкий — зонт впереди, чтобы скорее накрыть Аришу, лицо взволнованное, «переживательное», по словам Ариши. Очень смешная фотография, па, говорит Ариша, всегда меня смешит.
Герман ставит фотографию на место, берет третью. На ней располневшая Мояри с тремя детьми, — двумя мальчиками-погодками и девочкой постарше — с косой. Фото сделано на берегу реки. Мояри в длинном платье с русской вышивкой, длинная коса на плече, круглые глаза. Шесть лет назад Мояри вышла замуж и теперь живет с мужем на экоферме где-то на Оке. Поставив и эту фотографию, Герман поворачивает голову и скользит взглядом по небольшому круглому настенному зеркалу: уставшие, будто выцветшие за последние годы глаза, волосы седеют на висках, исчезают на макушке. В любой момент бессмысленная абсурдная жизнь может закончиться. Герман опускается в кресло в углу.
Как всегда, когда он возвращается с той стороны, из больницы, где жизнь ясна и понятна, на него наваливается тяжелым сугробом усталость. Жизнь на этой стороне достигла предельного абсурда, слишком запуталась в противоположных сюжетах. Герман как тот топотун, шахматный король, которому давно объявили шах и мат, но фигуры с доски убрать забыли, а он так и живет несколько лет под объявленным матом.
Ариша поворачивается со спины на бок, спит она всегда крепко. Она и во сне выглядит спокойно-радостной, как какой-нибудь буддийский монах. Вчера Герман был рад, что его вызвали в больницу. Сидя за столом, глядя на веселых подростков, на радующуюся празднику и друзьям Аришу, он ни на минуту не забывал, что дата ее рождения — 19 июня — вымышленная. И имя — вымышленное. И семья их — вымышленная. И этот праздник, шарики, огоньки на окне, торт — абсурд. И теперешняя жизнь Германа — абсурд. И хуже всего то, что Герман изо всех сил цепляется за этот абсурд.
— Герман Александрович, вы должны съесть кусочек праздничного торта, — остановил его вчера на пороге Митька. — Чтобы быть сопричастным. — В руках Митька держал блюдо с тортом. Улыбающаяся Ариша — нож. Гости окружили их. Ариша отрезала кусок торта, кто-то из гостей подставил тарелку, и Ариша нарочито торжественно передала ее Герману, громко под общие аплодисменты заявив:
— Мой папка — самый лучший.
Герман съел торт под веселые подбадривающие крики гостей. Нежный бисквит, тающие сливки, резкая бодрость апельсина, задурманивающая сладость малины и детский вкус клубники. Да, Герман хотел быть сопричастным.
Что ж, с днем рождения, Ариша, говорит он одними губам, сидя в кресле и глядя на спящую девочку. Дочку убийц, ближе и любимей которой у него никого нет.
А через несколько часов пожилой продавец в велосипедном магазине, похожий на отставного профессора, заходится слюной от восторга, описывая достоинства городского велосипеда, ситибайка, который, по его мнению, Герман должен купить дочери.
— Вообще-то мы хотим два, для меня и папы, — поправляет его Ариша. Это ее условие, то есть таково было ее желание, когда Герман спросил, что ей подарить на день рождения. Два велосипеда, ответила она, тебе и мне.
Из магазина Ариша выходит с горным велосипедом, а Герман — с ситибайком, на который продавец дал хорошую скидку. В тот же вечер они катаются в парке втроем: Ариша, Герман и Митька. Точнее, начинают втроем. Воздух текуч, прозрачен, обволакивает ласковым радужным ореолом постепенно отдаляющихся Аришу и Митьку. Снижающееся солнце то обесцвечивает их спины и головы, то фокусирует, выделяя надписи на белых футболках, художественные прорези на джинсах, кроссовки окраса экзотических рыбок.
Гуляющие попадаются всё реже, Ариша и Митька крутят педали всё сильнее. Герман старается не отставать, но расстояние между ними увеличивается. Дорожка идет наклоном с пригорка. Придерживая замершие педали, все трое катятся по инерции меж изрешеченного пятнами березняка. Быстро набрав скорость, Ариша и Митька взлетают на горку, летят мимо дубов, распластавших ветви на медленно угасающем небе, и исчезают. Герману приходится слезть с велосипеда и, отдуваясь, завезти его в горку. В последние годы Герман снова набрал вес. Щеки горят, в груди посвистывает.
Забравшись наверх, он видит вдалеке Аришу и Митьку. Они съехали с асфальта на утрамбованную тропинку, вихляющую по краю глубокого оврага, и вот уже скатываются вниз, на дно, умело объезжая редкие клены. Несутся на нешуточной скорости по ущелью, пересекают неглубокий ручей и, крутя изо всех сил педали, взлетают наверх, туда, где сумрака все больше. И когда это Ариша научилась так кататься? Откашлявшись, Герман вытаскивает из держателя бутылку, похожую на снаряд-баллон, откручивает крышку и жадно пьет.
Бутылки, держатели для них купил и принес Митька. Еще он перед прогулкой вручил Арише и Герману специальные перчатки без пальцев и эластичные повязки на запястья и щиколотки. Митька любит делать все как полагается, по правилам. Ему кажется, что если все сделать по правилам, как надо, то все и получится как надо. Как знать, может, это и работает. Митька следит, чтобы Морозовы отмечали все праздники. Он и организует всегда эти дни, снабжает квартиру в Медведкове необходимыми для каждого праздника атрибутами. Елка, рождественские венки на дверь, веточки вербы на Вербное воскресенье, крашеные яйца и сладко пахнущие куличи на Пасху… Все это он покупает на свои деньги. О деньгах с Митькой говорить нельзя, это табу, как однажды прокричала Герману Ариша. Просто позволь ему иногда это делать… Митька из обеспеченной семьи, его родители… что-то там с лесом, короче… Их почти никогда не бывает в Москве, все свои родительские обязанности они конвертируют в валюту по довольно высокому курсу.
Если вдруг кто из Морозовых заболевает, на прикроватном столике Митька тут же составляет фармацевтический натюрморт: пшикалки для горла, носа, бутылки с жидкостями всех цветов. Пастилки, полоскалки. Одноразовые салфетки, влажные салфетки, пирамидка пластиковых стаканчиков. Если предстоит поездка к морю (с седьмого класса они ездят втроем), Митька заботится о наличии и исправности масок, трубок, розеток под местные особенности электроподачи, дорожного чайника, повязок на глаза, чтобы спать в самолете.
А Митька к ним привязался, думает Герман, снова забираясь на велосипед. В смысле привязался не только к Арише, а ко всей их странной семье. Класса с третьего он с ними. Мояри забирала обоих детей из школы, кормила, пекла для них печенье, водила гулять и в кино. Бывало, мальчишка и жил у них. Родители Митьки хорошо приплачивали Мояри за это.
Воздух к вечеру свежеет и увлажняется. Запахи новой резины, кожи сиденья, рамы и руля, все эти волнительные запахи, которыми пахнет новый велосипед, усиливаются. Ошалевшие после долгого жаркого дня птицы заходятся в оглушительном гомоне. Митька и Ариша, сделав второй круг, нагоняют Германа у спортивной площадки, где несколько припозднившихся граждан подтягиваются на турниках. Чуть притормозив, Ариша с Митькой машут Герману и снова набирают скорость. Герман доезжает до выхода из парка. Садится на скамейку и вытягивает ноги. Уже совсем вечер. Небо за елями алое, голоса птиц все громче, стройнее. Облачками вьются над головой вечерние мошки, комары. День истончается, рассыпается на части. Заново не соберешь.
Примчавшись, Ариша с Митькой спрыгивают с велосипедов, ставят их к спинке скамейки рядом с велосипедом Германа. Поцеловавшись и стукнувшись ладонями, достают бутылки и жадно пьют. Митька отходит «на минутку», а Ариша, присев, затягивает шнурки на кроссовках, туго завязывает их. Волосы на затылке мокрые, короткие (слишком тонкие, чтобы растить или мудрить со стрижкой), торчат во все стороны, вспотевшее лицо поблескивает, по лбу и глазам течет пот. Ариша вытирает его, на лбу и руке появляются темные полосы. Смеется и, приподняв футболку, вытирается ею. Глаза Ариши уже не выглядят столь глубоко посаженными, как в детстве, черты лица правильные, приятные.
Герман и не помнил, когда надолго законсервированное хранилище памяти стало снова пополняться новыми воспоминаниями. Он обнаружил это случайно, поймав себя года три назад на запоминании сценок с Аришей. Теперь он ежедневно прокручивает не только воспоминания с Евой, но и с Аришей.
Ариша поднимает разгоряченное лицо к Герману. Ресницы мокрые, нежная кожа под глазами влажная. Весело прищуривается:
— Па, а ты мне можешь еще один подарок на день рождения подарить?
— И какой же?
Ариша присаживается рядом с Германом и по детской привычке кладет ему голову на плечо.
— Имя мамы. Настоящее. Это ведь ничего не значит. Людей с таким именем наверняка миллион. А, па?
Вернувшийся Митька садится рядом с Германом с другой стороны и, запрокинув голову, жадно выливает в рот остатки воды из бутылки.
— Пытаю папу насчет маминого имени, — перегнувшись, говорит Ариша Митьке, кидает ему свою бутылку с водой. — На, у меня еще осталось.
— Скажите ей, Герман Александрович. — Митька ловит бутылку. — Она завелась. Решила, что должна все узнать. Теперь не успокоится, пока все не выяснит, вы же ее знаете. Уже и папочку в компе завела. — Он допивает остатки из Аришиной бутылки и снова поворачивается к Герману, смотрит уже серьезно. — Вообще-то как-то неправильно, что она ничего не знает.
Недели две-три назад Герман сказал Арише, что в ее свидетельстве о рождении матерью записана совсем другая женщина. Пришлось сказать, чтобы прекратить бомбардировки фотографиями возможных кандидаток.
Ариша хлопает комара, кровавое пятнышко растекается на руке.
— Пока я узнала только, в каком институте ты учился, поболтала с одним из твоих однокурсников. Он тебя с трудом вспомнил. Сказал, ты держался отстраненно, был сам по себе и все время работал. Трудоголик. Ну, это я и так знала, — смеется.
Герман поднимается со скамейки и, молча вытащив свой велосипед из-под Аришиного и Митькиного, идет к выходу. У ног, похоже, выросли корни, они с трудом отрываются от земли.
— Но я должна знать, па! Ты ведь понимаешь? Мне что, частного детектива нанимать?
42
Герман решил, что это шутка. Про частного детектива. Но, как оказалось, нет. Детектива нанял Митька. В конце лета голос Ариши в трубке сотового произнес:
— Я знаю, почему ты не хочешь говорить со мной про маму. Я тут у тебя в больнице, внизу, в холле, у торгового автомата.
— Дай мне сто рублей, куплю газировки. На улице жара, пить хочу.
Герман вытаскивает из кармана белого халата купюру. Ариша засовывает ее в черный торговый аппарат, который, замерев, точно самурай перед нападением, сияет электрической подсветкой в сумраке холла. Здесь сумрак, холод, а за окнами солнцепек. Там жизнь, а тут… Ариша, поджав губы, нажимает комбинацию цифр и спустя несколько секунд вынимает из корзины внизу бутылку с оранжевой газировкой.
— Будешь? — Взгляд чуть свысока — Ариша за это лето переросла Германа. Он качает головой.
Ариша усаживается в пластиковое кресло, ячейку на застывшем транспортере кресел, идущих вдоль окон. Герман садится рядом. На запыленных кедах девочки — голубые бахилы. Щеки разгорячены, уши красные, на майке под мышками — мокрые пятна.
— Ты приехала сюда на велосипеде? Мы же договорились, что ты не…
— По словам детектива, — Ариша сжимает бутылку, — ничего в твоем прошлом не говорит о женщине, которая была моей матерью. Вообще ничего. Никто ничего не слышал. Нет никаких документов, фотографий. Многие из тех, с кем он разговаривал, удивились, что я у тебя есть.
Сжимает бутылку еще сильнее. Та поддается чуть — полна до краев.
— Детектив сказал, что все детство ты провел на костылях. Что тебя воспитывала бабушка. Что у тебя была сестра. Все, с кем детектив разговаривал, говорили, что у вас с сестрой были слишком близкие отношения. Необычно близкие. Ты мне никогда не говорил о ней. Почему?
Герман пытается подобрать слова, но не находит ни одного внятного.
— Я сложила два и два. Выходит, моя мать — твоя сестра Ева?
Герман резко поворачивается к Арише.
— Это твоя версия или детектива?
— Моя. Я прямо спросила его об этом. Он сказал, что информации слишком мало. Надо собрать информацию на твою сестру, потом найти ее, а это отдельная работа. Запросил еще денег. Митьке не жалко, но мне он не очень нравится, этот детектив. Хитрый и ленивый. Так это она? Ева?
Герман молчит. Он может соврать и прекратить эти расспросы навсегда. Смех, бормотание, стрекотня посетителей и больных доносятся из всех углов холла. Шуршат пакеты, плывут запахи апельсинов, бананов, сладкой выпечки. Вечер, время посещений, час отлива, когда кажется, что все битвы на жизнь и на смерть благополучно и навсегда завершены.
— Ева не твоя мать, — говорит Герман.
— Но почему тогда ты мне о ней ничего не рассказывал? Вообще ничего? При том, что вы так были близки.
— Это сложно объяснить.
— Ты врешь.
Герман пожимает плечами.
— Я могу с ней встретиться? Поговорить?
Герман переводит взгляд на бутылку в руках у Ариши. Так и не открыла, но замучила сжиманием и встряхиванием. Пузыри внутри разволновались, посветлели, и теперь газировка напоминает стекающий по стенкам шампунь.
— Хорошо, — говорит он. — Я отведу тебя к ней.
43
Кладбище старое, его окружают плотной стеной разросшиеся деревья. Дорожки внутри кривы и запутанны. Меж ними пестрят пятна цветов, рябин, крестов, мокрого гранита. Пахнет хвоей, влажной землей и начавшими увядать листьями. Герман курит. Ариша, накинув капюшон белой курточки, стоит рядом, прижимает к себе букет из белых хризантем. Вечереет, на кладбище безлюдно. Девочка выглядит притихшей: она в первый раз на кладбище, в первый раз испытывает эти странные смешанные чувства, которые всякого тут настигают. Кладбище не просто старое — старинное. Несколько минут назад они прошли мимо облюбованных мхом памятников прошлого и позапрошлого веков, и Ариша читала вслух фамилии, имена рабов Божиих Екатерин, Елизавет, Алексiя, вычисляла годы их жизни.
Выпустив очередное облако дыма, Герман рассматривает кладбищенские окрестности. Они почти дошли. Вдалеке видна знакомая старая береза. Темный нарост на ней напоминает толстого медвежонка, обхватившего лапами ствол. Береза и медвежонок подросли с прошлого визита Германа. Потушив недокуренную сигарету ботинком, на который налипли глина и листья (всю ночь шел дождь), он кивает Арише.
Они отправляются в сторону березы — она, словно центральный пазл, притягивает к себе недостающие детали, и перед глазами возникает цельная знакомая картина. Вот памятник в виде футбольного мяча, вот свалка мусора с венками из выгоревших искусственных роз и лилий, тут ограда с шишечками в виде ягод. Герман рассматривал эти ягоды еще мальчиком, когда приезжал сюда с бабушкой и Евой. Потом, много позже, он и Ева бродили тут, когда навещали бабушку. Ева любила гулять по кладбищу, а Герману никогда здесь не нравилось.
Знакомые надгробия уже видны. Над ними вытянулся, как подросток, новенький мелколистный клен. Клен откликнулся на взгляд Германа, радостно зашумел, зашевелил листвой в приветствии: сюда, сюда. Можно было подумать, что он ждал, выглядывал Германа на тропинке.
— Иди к тому клену, там, где три серых камня, — говорит он Арише. — Я сейчас.
Останавливается и снова закуривает. Ариша исчезает за поворотом, но почти тут же снова появляется:
— Па, там кто-то есть.
На скамейке возле трех памятников из серого гранита — двух прямоугольных и одного круглого Евиного, намеренно не обработанного с одной стороны, сидит старуха. Седая голова опущена на ссохшуюся грудь, модное лет пятьдесят назад пальто с лисьим воротником тает в пасмурном воздухе. По мокрому столику ходит голубь и важно клюет невидимые крошки, заглядывает в пустую фамильную морозовскую рюмку.
Когда Герман входит, скрипнув калиткой, клен в углу весь подается к нему, точно для объятия, а старуха открывает глаза, глядит на Германа и неожиданно громко произносит:
— Александр? Наконец-то.
Голос резкий, старческий. Сказав это, она тут же снова закрывает глаза.
Герман подходит к старухе, присаживается на корточки, нащупывает пульс. Пульс редкий, неровный. Старуха, пробормотав что-то недовольно, убирает руку. Лет за девяносто точно. А Герман считал, что она умерла давным-давно. То есть конкретно о ней он никогда не думал, но где-то там, в бессознательном, отложилось, что она давно исчезла, как всё и вся из его детства.
Герман присаживается на скамейку рядом с Веро́никой. Старуха не реагирует.
— Кто это, па? — Ариша нюхает фамильную морозовскую рюмку. — Пахнет водкой.
— Веро́ника, сестра моей бабушки.
— А ты говорил, что у тебя никого не осталось.
— Я думал, она давно умерла.
Герман достает пачку сигарет, но не вскрывает, мнет коробку в руках. Чувство вины, стыда, собственной никчемности, как всегда, накрывает его здесь. Он приходит сюда очень редко, потому что ему нечего сказать Еве.
Ариша, косясь на старуху, подходит к круглому, необработанному с одной стороны серому камню. Это место было припасено для Веро́ники, только сейчас догадывается Герман. Тут буду лежать я, а вот тут — моя сестра, говорила в детстве Германа бабушка, когда они навещали дедушку Германа и Евы. Тот вернулся с войны больным, так и не выздоровел, умер в 1947-м.
— Посмотри на даты, — говорит Герман Арише. — Ева умерла за год до твоего рождения.
Возле серого Евиного камня живые и искусственные цветы. Как-то раз он и Ева еще студентами приезжали на кладбище на годовщину бабушки. Германа тогда возмутило количество пошлых искусственных цветов. Он был уверен, что Ева, выискивающая везде идеальную красоту, возмутится вместе с ним. Но вместо этого она принялась смеяться: пошлость — это ж сама жизнь, Герман. Посмотри, какие пышные тряпичные розы, разве не хороши? Как человечны, а? Еву иногда было не понять — то ее восхищала идеальная красота, то невыносимая пошлость.
Цветы стали искуснее за эти годы, но пошлости не убавилось.
Веро́ника сваливается на плечо Германа. От нее пахнет мышами, испортившимися конфетами. Водкой не пахнет. Герман встает и поднимает старуху со скамейки. Она стоит сильно сгорбившись, но глаз не открывает. Кажется, рост ее уменьшился вдвое с последней их встречи.
— Ариш, помоги.
Ариша кладет букет хризантем у Евиного камня и подходит к Герману. Герман берет Веро́нику под руку с одной стороны, Ариша с другой. Девочка оглядывается на место, где сидела старуха.
— А где ее сумочка? Должна же быть.
Они осматриваются: лавочка пуста, за ней и под ней ничего, кроме лужицы подсохшей блевотины.
Держа Веро́нику с двух сторон, ведут ее к выходу. Она с трудом перебирает ногами, то и дело повисает на руках Германа и Ариши. Туфли у старухи в грязи, брюки и пальто промокли, на них грязь, веточки, листья. В машине Герман усаживает Веро́нику на заднее сиденье, еще раз бегло осматривает: лицо симметричное, на инсульт не похоже. Он проверяет карманы пальто — нет ли таблеток, ингалятора, того, что подскажет, чем она поддерживает себя. Но в кармане только носовой платок и билет на электричку, отправившуюся вчера в девять утра с Ленинградского вокзала.
— Ариша, налей из термоса чай. И там, у тебя в карманах, чего только нет — может, пакетики с сахаром завалялись?
Ариша хмыкает, вытаскивает ком, в котором и правда обнаруживаются несколько пакетиков.
— Высыпай все в кружку.
— Но, па, чай и так очень сладкий.
— Высыпай, хорошенько размешай и давай мне.
Когда чай немного остывает, Герман с трудом вливает его в Веро́нику.
До квартиры в Армянском переулке они добираются часа за полтора. Старуха после сладкого чая немного пришла в себя. У двери в квартиру Герман останавливается:
— Вероника, у тебя есть ключ?
Глупый вопрос, учитывая, что ее карманы он уже проверил. Веро́ника поджимает морозовские потемневшие и истончившиеся губы, трясущейся рукой расстегивает пластмассовую пуговицу на пальто, снимает с шеи замызганную тесемку, какой перевязывают коробки конфет. На ней ключ. Тесемка истончилась и пушится грязной бахромой.
В квартире Герман с Аришей раздевают Веро́нику и укладывают на диван. Тот самый, на котором когда-то Герман обнаружил заболевшую Еву. На ту же подушку с вышитыми цветами, укрывают тем же шерстяным пледом. Старуха молчит, не противится.
— Ариша, посмотри, что съедобного есть на кухне, — говорит Герман. — Похоже, она больше суток не ела.
Ариша уходит, а Герман осматривается: здесь всё на тех же местах, как было в тот день, когда он приехал за Евой. Лампа горит. Тени. На стекле потеки дождя, только в этот раз предосеннего. В советской стенке дымковские игрушки, солдатики, коллекционные машинки, фотографии отца и Евы в разном возрасте. Проигрыватель. Пачка пластинок. Герман отчетливо слышит нежный, с бьющейся бархатной бабочкой в горле голос Евы. Он мог бы сейчас увидеть Еву. Если бы догадался, как это сделать, как выпустить жабры восприятия вневременного, запустить этот, все еще не активированный орган чувств, который, Герман убежден, точно есть где-то в теле или сознании.
— Ничего себе, — слышит он голос Ариши из кухни, — да тут настоящий музей.
Герман, убедившись, что Веро́ника снова закрыла глаза, вытаскивает из стенки одну из фотографий Евы и кладет себе в карман.
Веро́ника остановила время в кухне на восьмидесятых. Может, она, ожидая Александра, как-то умудрилась вырастить у себя эти жабры вневременья? Из всего ассортимента магазинов Веро́ника тщательно отобрала те продукты, упаковки которых не изменились (или почти не изменились) с тех лет — зеленая коробка какао «Золотой ярлык», желтая пачка индийского чая. Консервы со смутно знакомыми Герману с детства этикетками. Шоколад «Аленка».
В кухонном шкафу — коробки и жестянки советского времени. Лаконичные надписи, детски наивные рисунки, неяркие краски — то ли выцвели с годами, то ли подернулись временной дымкой. Герман достает коробку с надписью «Геркулес», заглядывает внутрь — действительно, овсянка. Желтая банка «Кофе натуральный молотый без цикория» — Герман нюхает, действительно, молотый кофе.
В холодильнике «ЗИЛ» кипяченое молоко в кастрюльке, жирная копченая скумбрия в серой оберточной бумаге (ее рулон лежит сверху на холодильнике), сыр в такой же обертке. Водка «Столичная» с изображением фантома гостиницы «Москва». Подсолнечное масло в литровой банке у плиты. Лук в сетчатой авоське, эта висит на крючке, рядом — самодельные мешочки с травами.
— Надо приготовить что-нибудь легкое, но калорийное, — говорит Герман.
— Кашу манную?
— Умеешь ее варить?
Ариша смеется, включает транзистор, который стоит на подоконнике. Кухню заполняют голоса. «Работает», — говорит Ариша восхищенно.
Герман находит жестянку с надписью «Манка», читает в телефоне рецепт. Ставит на газ синий эмалированный ковш с отбитыми краями. Зажигает. Коробка спичек — тоже гость из того времени. Пока закипает молоко, Герман выходит из кухни и заглядывает в ванную, туалет — ну конечно, и тут восьмидесятые. В прихожей в углу советские деревянные лыжи, обувь, женская и мужская, той поры. Советский болоньевый плащ, шляпа. Всё, как будто только что сняли, то есть будто только что Александр снял.
Герман возвращается на кухню, засыпает манку в молоко, мешает, раздумывая, сошла Веро́ника с ума или нет. Ариша крутит колесико на транзисторе, ловя одну за другой программы.
Белое варево в ковше превращается в кашу, Герман снимает ковш прихваткой, цвет и рисунок которой от старости стерлись, и теперь признать, что это было, нет никакой возможности.
— Мы недавно с Митькой были в музее, смотрели старые механизмы, — рассказывает Ариша. — Все они вполне себе в рабочем состоянии. И у меня возникло странное ощущение. Мне показалось, что люди, которые пользовались этими вещами, знали, чувствовали больше нас. Я подумала: чем больше мы совершенствуем вещи вокруг себя, чем больше изобретаем новых, тем всё дальше уходим от чего-то настоящего, того, что было в самом начале. В начале всего, понимаешь? Митька со мной не согласился. Он сказал, что мы, наоборот, приближаемся к этой изначальной истине. А ты что думаешь, па?
Герман добавляет в кашу сливочное масло, сахар.
— Я думаю, что вещи, прогресс, не имеют отношения к этой… как ты говоришь, изначальной истине…
— А что тогда имеет?
— Не знаю, — говорит Герман, берет тарелку, чистую ложку. — Пойдем попробуем накормить Веро́нику.
От того, чтобы ее кормили, старуха отказывается. Она слаба, но ей явно лучше — всегдашняя ненависть к Герману вернулась. Темные напряженные зрачки так и отталкивают Германа. Она молча показывает пальцем на Аришу. Герман отдает девочке тарелку. Старуха усаживается в подушках, дрожащей рукой принимается есть кашу, тарелку с которой держит Ариша.
— Веро́ника, вызвать тебе врача? — спрашивает Герман.
— И что он мне скажет — зажилась?
Она делает ударение на каждое слово, бросается ими в Германа, точно булыжниками. Глядит на фотографию Александра и, чудом не разбросав содержимое тарелки, целеустремленно засовывает кашу в рот.
— Отлежусь, — говорит. — А она, значит, твоя дочь? Так ты что же — женился?
— Нет. — Герман качает головой.
— Вот в это верю. Ты все делал в жизни не так и не с той стороны. Как и я. Может, ты Морозов? Ладно, — кладет ложку на пустую тарелку, — отправляйтесь домой, уходите, я устала, буду спать.
Ариша относит пустую тарелку на кухню. В комнате тихо, только громко тикает будильник. Давно Герман не слышал этого звука.
— За тобой кто-нибудь присматривает, Веро́ника?
Не реагирует, но когда Ариша заходит в комнату, обращается к ней:
— Ты, девочка, подойди. Если захочешь, заглядывай ко мне иногда.
Ариша кивает:
— Я зайду на неделе после школы.
Старуха крепко сжимает руку Ариши:
— Как знать, может, ты и Морозова, и наш род не исчезнет.
— А Ева? У нее не было детей?
— У Евы? Не-е-ет, Ева не могла иметь детей, бедняжка.
— Веро́ника, ради бога! — Герман морщится. — Зачем выдумываешь?
Веро́ника смотрит на Германа:
— А ты не знал?
— Не знал что?
Ненависть во взгляде Веро́ники сменяется удивлением, потом торжеством нежданной победы.
— Мы с Анной об этом никому не рассказывали. Но я всегда думала, что ты-то знаешь.
Герман прислоняется к косяку, смотрит на старуху.
— Ева еще в школе тогда училась… — Слова-булыжники по одному летят в Германа. — Нехорошая история с ней вышла. Очень нехорошая. Беременность и еще бог знает что. Анна отвела ее по знакомству. Аборт делать. Да что-то там пошло не так. Я ей всегда говорила: все эти твои знакомства — пшик, видимость одна. До сих пор не могу простить это Анне. Я бы сама воспитала этого ребенка — он ведь был точно Морозов.
— В каком году это было? В 1990-м?
Старуха пожимает плечами:
— Возможно. Я не помню уж точно.
44
На следующий день после разговора с Веро́никой, в промежутке между операциями, Герман наливает кипяток в чашку с растворимым кофе, зачерпывает ложку сахара и зависает с ней. За окном идет дождь. Его блики движутся по ординаторской, рыскают по бумагам, столам, халатам. Обессиленный свет облизывает каждый сахарный кристалл в ложке, пока Герман стоит, едва удерживая ее на весу.
— Что, Герман Александрович, вспомнили, что зажим забыли у сегодняшнего аппендицита? — насмешливо-почтительно спрашивает Смирнова, только что ассистировавшая ему.
Рука с ложкой опускается, и сахар сыплется на стол. Соленая морская волна натекает на нёбо Германа, стекает по гортани в пищевод и обжигает внутренности нестерпимой болью. Он выходит из ординаторской и идет, не видя ничего перед собой, по коридорам. Коридоры не кончаются, то заворачивают за угол, то петляют, то расстилаются прямой дорожкой, то спускаются по лестнице вниз и снова раскатывают под ногами клетчатую ленту, потрескивают люминесцентными лампами. В ушах звучит и звучит старческий голос Веро́ники:
— Анна увидала в ванной на теле Евы кровоподтеки. На вопросы Ева не отвечала, молчала, как каменная рыба. Анна, ты же ее знаешь, потащила девочку к врачу, хорошему знакомому. Тот ее осмотрел, сказал, что было жестокое изнасилование и избиение. Одно ребро оказалось сломано. Как мы ни пробовали выяснить у Евы и лаской, и угрозой, что случилось, так ничего и не узнали. В милицию не заявили, чтобы не ломать девочке жизнь. А через пару месяцев Анна, не спускавшая с нее глаз, заподозрила, что та беременна.
К зиме Ариша превращается в девушку — высокую, с небольшой грудью, мальчишескими бедрами. Стрижется еще короче. Гарсон с длинной челкой — так эта стрижка называется, пояснил Митька. Митька еще выше Ариши. Когда раз в неделю-две они втроем ездят в супермаркет за продуктами, Герман со своими ста шестьюдесятью восемью сантиметрами роста чувствует себя странно рядом с этой крупной парой. Митька учится в Бауманке, а Ариша по вечерам ходит туда на подготовительные курсы.
Веро́ника потчует Аришу семейными преданиями, и Герман со дня на день ожидает разоблачения. Старуха, конечно, в курсе похищения дочки Ломакиных. Эта история широко освещалась в теленовостях тринадцать лет назад. Да и на подъезде дома Веро́ники наверняка висела фотография трехлетней Ариши. Конечно, самой Веро́нике и в голову бы не пришло заподозрить Германа — она его хоть и ненавидела, но считала кем-то вроде вредного и противного муравья. Кроме того, пресса тогда сформировала в обществе мнение, что девочку похитили чуть ли не мафиози. Но сама Ариша… Несколько слов Веро́ники, и у Ариши появятся подозрения. Да что там — если Ариша из любопытства (а Ариша очень любопытная) просто вобьет в строку Яндекса имя Евиного мужа и вытащит на свет эту историю (а с ней и фотографию Олега), то наверняка заметит интересные совпадения.
От волнения у Германа начало болеть сердце. Когда тринадцать лет назад он решил растить девочку, то полагал, что будет скрывать историю убийства Евы и своей мести Ломакиным недолго. Считал, что сможет потерпеть года три, четыре, пока девочка окрепнет и достигнет школьного возраста, после чего подумывал прийти на телевидение и рассказать обо всем.
Но Герман не учел, что привяжется к Арише. Теперь, как любой отец, он хочет, чтобы его девочке досталась легкая и счастливая жизнь. Сейчас ей шестнадцать, и, по мнению Германа, она совсем ребенок. Время узнать о том, что произошло в 2003-м и 1999-м, еще не пришло. Когда оно придет, это время, Герман не знает. Когда-нибудь потом. Но не сейчас. Впрочем, иногда в минуты паники Герман думает, а не опередить ли Веро́нику, не рассказать ли все самому. Но не решается, надеясь на милость судьбы.
Месяц идет за месяцем, Ариша продолжает ходить к Веро́нике. Герман нет-нет да и ловит на себе сочувствующий взгляд девочки. Она стала вдруг чаще по-дочернему ласкаться к нему, обнимать, класть голову на плечо, целовать в макушку. Внезапно взяла на себя бытовые дела. Научилась наконец готовить.
Новый 2017 год они отмечают втроем в трехстах километрах от Москвы, в доме, который когда-то принадлежал Митькиной бабушке. Отмечают под треск веток зимнего леса и пляску русской печки. Все три дня заснеженное после снегопадов Иванцево выглядит серией тщательно прорисованных гравюр. Столбы дыма из труб над домами дружно и сплоченно висят в небе отрядом вытянувшихся в приветствии белых солдат. Местные жители ходят в теплых шапках, заматывают нижнюю часть лица в шарфы. Детей возят на санках. Людей немного, а к вечеру и вовсе никого, кроме собак. Небо — то алое, то глубокой голубизны, то малиновое с зелеными всполохами.
Митька захватил лыжи и все, что к ним полагается, — ботинки, палки. Каждый день после обеда до сумерек они катаются втроем по окрестным лесам. Погода стоит морозная, бесснежная и безветренная. Лыжня четкая, отливает маслом на солнце. Солнце почти не дает почувствовать мороза, хотя, когда тень от елей ложится синеватым мазком на лицо и варежки, дрожь нет-нет да и пробежит по вспотевшей спине.
Любовь между Аришей и Митькой набирает обороты. Как-то они уходят на лыжах от Германа далеко вперед, и Герман видит, как солнце вспыхивает радужным ореолом над их головами, благословляет, раздваивается и осыпает их солнечной стружкой. Сорокадвухлетний Герман чувствует себя старым рядом с ними.
В ночь перед отъездом из Иванцево Герман просыпается. В комнате он один. Ариша и Митька, обнявшись, спят в соседней. Герман слушает, как шуршит ветер по стеклам. Нащупывает электрический фонарь рядом с подушкой, включает. Комната рождается из темноты — лежанка, буфет с посудой, кровать, железная, с металлическими шишками на спинках, несколько стульев с овальными спинками, стол, покрытый скатертью. Зеркало в раме на стене, потемневшее от старости. Кое-какие следы современности — электрический чайник, микроволновка на столе, электрическая плитка.
Герман поднимается, накидывает на плечи пуховик и выходит на улицу. Снег скрипит. Месяц светит ярко. Подсвеченные им облака глядят на Германа в упор.
Только что он видел во сне Еву. Она не снилась ему больше десяти лет. Ева стояла вдалеке и смотрела на Германа. Он старался разглядеть ее лицо, но ничего не выходило — изображение все время размывалось. А потом Ева оказалась рядом и обняла его. Он явственно почувствовал ее тепло, запах. Услышал голос. Но что она сказала — не запомнил. Запомнил ощущение счастья, сменившееся беспредельной тоской. Герман закуривает, снова и снова баюкая, проигрывая внутри себя сон. Затем долго всматривается в ночь, точно надеется, что Ева, прежняя, живая, смеющаяся, сейчас шагнет из темноты и в самом деле обнимет его.
Год проходит тихо и быстро. Разоблачения так и не случилось. И Герман позволяет себе успокоиться.
45
Проснись, шепчет ему кто-то. Герман открывает глаза — снег за окном прекратился, в комнате посветлело. Февраль 2018-го. Мандариновый свет от лампы падает на колени, на раскрытую книгу, которую Герман теперь уж не дочитает никогда. Ариша стоит напротив, шагах в пяти от кресла, где Герман только что так хорошо и долго спал. В руке у нее пистолет Макарова. Тот самый. Наведен на Германа. Холодные прожекторы вечернего солнца угодливо высвечивают замерше-сосредоточенное лицо Ариши. Патронов в магазине быть не должно, по крайней мере ни в коробке, ни в квартире вообще их не было. Но Ариша человек обстоятельный, и надеяться, что их в пистолете нет, не стоит. Сколько времени она вот так целится в него? Длинный пуховик, белый шарф вокруг шеи, джинсы, шнурованные ботинки на тяжелых каблуках.
— Не нужно, — говорит Герман. — Я сам это сделаю. Выслушай меня только.
Не опуская пистолета, Ариша делает несколько шагов вперед, вытаскивает из кармана пальто-пуховика, синего, как будто вылинявшего, как все теперь продают, стопку старых газетных вырезок и швыряет их в Германа. Вырезки окрашиваются мандариновым сиропом лампы, продолжающей светить в пику вечернему солнцу. Герман, наклонившись, подбирает одну из вырезок. Фотография девочки на яхте и фотография Ломакиных с сообщением об их самоубийстве. Имя Олега подчеркнуто выцветшими чернилам, Ольги — нет. Слова о самоубийстве обведены всё теми же выцветшими чернилами. Герман поднимает еще одну вырезку — интервью с Евой и Олегом об открытии яхт-клуба «Мария». Фотография Евы обведена с особенным нажимом.
— Чье это?
Молчит.
Герман вытаскивает пачку сигарет и спичечный коробок из кармана халата, закуривает. В разлившейся вместе с вечерним светом тишине слышен по-вечернему же умиротворенный гул машин с МКАД. Где-то этажом выше ругаются мужской и женский голоса, слов не разобрать, но слышно, что женский подобрался к пику истерики. Герман поднимает еще несколько вырезок из газет. На одной из них узнает себя, он обведен на групповой фотографии хирургов больницы. Сбоку дата от руки — 2 марта 2008 года. Надпись выцвела. Почерк смутно знакомый, но Герман не может вспомнить чей. Поднимает взгляд на Аришу:
— Кто дал тебе это?
Поддерживает левой рукой правую с пистолетом. Руки не дрожат. Лет с десяти Герман сам водил ее в тир. Не сводя с Германа глаз и наведенного пистолета, Ариша идет к столу у окна. На столе помигивает экран ноутбука, нежатся на обманном тепле зимнего солнца медицинские журналы, книги и уже почти антиквариат — диски с вестернами. Всё вперемешку. На краю стола — фигурка ковбоя в синих штанах, белой рубашке и шляпе. Чашка с надписью «Любимому папе». С особенным составом фаянса, долго сохраняющим напиток горячим. С час назад Герман уснул, так и не дождавшись, когда чай остынет.
Ариша берет свободной рукой стул и переносит его на середину комнаты. Стул деревянный, в стиле «гранд», удобный, с поручнями и мягкой шкуркой на сиденье. Подарок от Ариши на заработанные летом деньги. Как в твоих вестернах. Ходила на ВВЦ в костюме-кукле овцы и раздавала листовки — приглашения в детский развлекательный центр. Садится на краешек. Сколько раз Герман представлял эту сцену, сколько слов и фраз подготовил, но сейчас все они куда-то подевались.
— Рассказывай, — бросает Ариша безжизненно.
Солнце за окном сдвигается, и световой пучок проникает в глаза Ариши. Герман видит, что зрачки девочки хаотично пульсируют — то расширяются, то сужаются. Так бывает у пациентов, когда они испытывают предельную физическую боль. Он докуривает сигарету, гасит окурок в пепельнице, стоящей на полу у кресла. Набирает в грудь воздуха, но долго не может начать, не понимая, какую точку отсчета выбрать.
— Представь себе конец лета, — наконец говорит он. — Возможно, даже начало сентября, потому как солнечный воздух прозрачен и прохладен. Ева (лет трех, как я потом высчитал) сидит на полу и заводит юлу…
Тени постепенно заполняют комнату, обосновываются в углах, под мебелью, в складках Аришиного пальто-пуховика (она его так и не сняла), джинсах, впадине зашнурованных ботинок. Тени наползают и на лицо Ариши, выражение ее глаз больше не видно Герману. Ему остается только догадываться, что она чувствует. Пистолет по-прежнему направлен на него, локоть Ариши опирается на подлокотник. Его девочка выглядит лет на пять старше, чем утром, когда она, чмокнув Германа в щеку и обдав мятной жвачкой, открыла дверь и ушла. По сути, навсегда.
Герман не привык много говорить. Язык опух, его шершавая поверхность, как липучка-застежка, сцепляется-расцепляется с сухим нёбом. Сердце глухо, часто и как-то издалека стучит, будто мальчик с той стороны бьет мячом о стену дома, или нет — не мяч, та штука, металлическая, расшатываясь, ударяет по стенам старого дома, разрушая его с каждым ударом все сильнее.
Как воспримет Ариша то, что он сейчас расскажет? Поймет ли его? Оправдает ли? Как рассудит? Герман может многое приукрасить, добавить, сгустить краски, может, по сути, наврать, сочинить что угодно, чтобы сохранить ее расположение. Свидетелей-то нет. Может выставить себя спасителем, а похитителем назначить кого-то другого. Эта заманчивая мысль брезжит на горизонте, пока он рассказывает о ранних годах.
Но по мере того как он рассказывает, Герман осознаёт, как для него важно суждение Ариши о том, что на самом деле произошло. Ближе Ариши у него никого нет. И если кто-то вообще способен понять его, то это она.
За окном меж тем сгущаются сумерки, мандариновый свет на коленях Германа становится тягучим, как сироп, и захватывает все больше пространства. В поисках подходящих слов Герман встает и начинает ходить, припадая, как всегда, от волнения на правую ногу. Тень в халате движется за ним по стене. Мальчик, про которого он говорит, мальчик, катящий санки по лесу, кажется ему самому незнакомым. Герман вглядывается в него, стремительно приближающегося к моменту, когда зубья спрятанного под снегом капкана вонзятся в ногу, и раздробят кости, и определят этим все дальнейшее. Переезд в Москву. Бабушка, которая не признавала за родного и равнодушно растила. Болезненная зависимость от Евы, когда после издевательства на чердаке он не мог дышать, если рядом не было сестры.
— Хватит про детство. Я обо всем этом знаю от Веро́ники. Тебе не повезло, да. Когда Веро́ника рассказывала, я заливалась слезами. Но в 2003 году, когда ты украл меня, ты был взрослый, врач и вполне себе с ногами.
Герман, запнувшись на полуслове, останавливается у стола. За окном стемнело, на стекла легла проекция комнаты, этого импровизированного зала суда — опустевшее временно кресло подсудимого, напольная лампа, Ариша с пистолетом на стуле посреди комнаты, шкаф, диван, стол. Герман, в халате, стоит, руки в карманах — он настолько привык к медицинскому халату, что и дома не может ходить в другом виде одежды.
Смотрит на Аришу. Да, говорить, выстраивать интригу и главную линию он не мастак. Он может только так, по-простому, от начала и до конца. Но и как по-другому? Сказать: я любил сестру, был сильно привязан к ней? Эти захватанные, затертые до неузнавания слова не вызовут никакого отклика в душе. Нет, он должен рассказать Арише, как ждал Еву в больнице, как терпел боль, потому что знал: Ева придет и снова мир, краски, радость будут ему возвращены. Как копил для нее косточки абрикосов из компота, а она приносила ему ворованные крышки от духов и всякие пахучие штучки, которыми он консервировал минуты счастья с сестрой и которые позволяли продержаться до следующего ее прихода. Как взрывалась радостью каждая клеточка тела, когда он обнаруживал, как всегда прозевав момент прихода, Еву в палате.
Тоска по Еве накрывает Германа. Нет, никого кроме Евы нет и никогда не будет у него. Герман берет чашку с остывшим чаем, делает пару глотков. Чай сладкий, склизкий. Запах бергамота настоялся и превратился в концентрат. Других чайных пакетиков дома не оказалось. А с бергамотом он никогда не любил. И вот теперь этот вечер будет всегда выпрыгивать, как джинн из лампы, при запахе бергамота (если у вечера, конечно, будет продолжение).
Герман снова идет к креслу, садится:
— Ариша, если ты просто копишь злость, чтобы хватило сил спустить курок, то смысла в моем рассказе нет никакого.
— Я хочу узнать, зачем ты убил моих родителей. Что с того, что муж твоей сестры женился на другой женщине?
— Я их не убивал. Хотя и хотел.
Девочка наводит пистолет на фигурку ковбоя на столе и стреляет, фигурка падает, а от стены отскакивает штукатурка. Значит, патроны на месте. Если бы Герман был ковбоем в вестерне, он бы успел выхватить пистолет из рук Ариши.
— Ты посылал родителям мои вещи и убил их этим. Рассказывай уже! Пока я нас обоих не застрелила. И не вставай больше.
— Убив меня, ты сама станешь убийцей.
— Я убью преступника. Может, у тебя и подвал есть с привязанными девушками или детьми? А может, ты украл меня, чтобы как-то использовать в будущем — для опытов, на запчасти? А? Говори уже. Пока я не передумала слушать.
Герман продолжает. Постепенно подходит к тому, как они с Евой, уже студенты, жили самостоятельно. Как Ева бросалась в очередную любовь, а он с котом ждал, когда очередная попытка Евы взять любовный Килиманджаро провалится. А попытка неизбежно проваливалась. Теперь, после того как Веро́ника сказала то, что сказала, Герман понимает почему. Почему в конце концов все летело в тартарары. Герман рассказывает Арише, как вытаскивал Еву каждый раз после разрыва, следил за ней, о ее стремлении пробежать перед поездом, пройти по карнизу и к другим опасным средствам, чтобы почувствовать себя живой, просто снова почувствовать себя. И как потом все налаживалось, и они снова жили вдвоем, точнее, втроем с котом. До следующей любовной попытки Евы.
— А Лида? — спрашивает вдруг Ариша и наконец снимает пальто, не забывая, впрочем, то одной, то другой рукой целиться в Германа.
— Лида? — Герман не сразу понимает, о ком это она. — Лидочка? — с удивлением переспрашивает он.
Вот уж, что называется, ни к селу ни к городу. Историю с Лидочкой вполне, по его мнению, можно было опустить.
— Это была твоя девушка?
— Ну, в некотором роде.
— Ты ее бросил?
— Там все было сложно. Лидочка училась с Евой и со мной в одном классе. В младших классах страшно ревновала Еву ко мне. Однажды даже засунула гадюку в мой портфель, а та вылезла на уроке. Никто не пострадал, слава богу. Летом перед десятым классом мы с ней… сблизились…
— Переспали?
Герман неожиданно для себя покраснел: он никогда не обсуждал, не затрагивал с Аришей подобные темы.
— Да, и Лидочка стала ревновать меня уже к Еве. Ревность — это и была вся Лидочка. Вся ее сущность. Для ревности было достаточно просто мысли в ее голове, что уж говорить о реальных вещах. Я боялся в ее присутствии приласкать ее же кошку, у нее была такая короткошерстная, с голубыми глазами. Однажды сдуру признался, что мне очень нравится дерево с серебристыми листьями в сквере по дороге к ее дому. Я всегда задерживался возле него. Любовался. Спустя несколько дней после того, как я рассказал о нем Лидочке, обнаружил на месте красавца-дерева пенек со свежим срезом. Не знаю, как она это осуществила, с чьей помощью. Когда дело доходило до подобных ревнивых выходок, Лидочка была очень изобретательна.
После таких выходок Лидочка была необыкновенно ласкова, предупредительна, нежна и, помирившись, они не вылезали из постели. Эти подробности Герман опускает. Он берет с пола газетную вырезку с надписью от руки. Как же он сразу не узнал этот почерк?
— Так ты разговаривала с Лидочкой?
Молчание в ответ.
— И что она? Как живет?
Молчание.
Судя по вырезкам, Лидочка отслеживала судьбы его и Евы. По крайней мере некоторое время — все даты до 2010 года. Получив эти вырезки, Ариша и сложила два и два.
— Ты не любил ее? Лидочку? — спрашивает Ариша.
— Лидочка не имеет отношения к тому, что произошло с тобой и твоими родителями.
Ариша пожимает плечами, Герман продолжает. Чтобы объяснить, почему он и Ева оказались на вокзале в декабре 1995 года, приходится вкратце рассказать о Елене Алексеевне.
— А она права, Веро́ника, — тихо говорит Ариша, выслушав рассказ об учительнице. — Ты, па, — оговорилась, морщится, будто пчелу проглотила, — ты разрушаешь жизни всех вокруг себя.
Герман после паузы продолжает:
— Время от времени Елена Алексеевна посылала нам гостинцы. Передавала с проводниками, пассажирами. В декабре 1995-го мы с Евой встречали поезд, точнее человека, с которым она в очередной раз передала посылку. Это был Олег.
— Мой отец.
— Поезд опаздывал. Было холодно, мы замерзли. Ева предложила пойти домой. Если бы я послушал ее и мы ушли, то ничего бы этого… — Герман замолкает на полуслове, оглядывает стены комнаты, — не было. Но мы не ушли. И поезд вскоре показался. Не знаю, что нашла Ева в Олеге. Он был менее интересным, чем ее прошлые любовники. Мы с ней в то время мало общались, но, когда пересекались, она выглядела счастливой, деятельной, полной планов. Что-то в ней переменилось, она стала мягче. Я увлекся работой и, наверное, впервые почувствовал почву под ногами, понял, как мне жить, увидел перспективу. Это было хорошее время. Казалось, все неприятности, которые преследовали меня в детстве, ушли. И мы с Евой перестали быть инопланетянами, ассимилировались наконец. Даже наша непонятная многим привязанность друг к другу ослабла.
Когда Герман подходит к рассказу о случившемся в Севастополе, над лампой начинает кружить и жужжать муха, невесть откуда взявшаяся в эту зимнюю ночь. Бьется, шуршит крыльями об икеевский туго натянутый абажур. Рассказывая, Герман все поглядывает, отвлекается на муху. Но потом события той ночи так захватывают его, что он забывает обо всем: о мухе, наведенном на него Аришей пистолете, о времени, которое пролетело с тех пор.
Когда он заканчивает, Ариша молчит. Сидит, тень на лице, склонила голову. Пистолет лежит на коленях. Устала. Оно и понятно — ночь глухая за окном. Рваный ритм с МКАД достиг минимальной громкости. Иногда машин и вовсе не слышно, и от непривычной тут тишины закладывает уши.
— Ариша?
Молчит.
— Ты, наверное, спросишь, почему я не пошел в полицию? Сначала я… ну да, растерялся и совсем потерял голову. Твои родители улетели в ту же ночь, увезли тело Евы. Я плохо помню, что делал в те дни в Севастополе, где спал, на что жил. Помню осеннее море, на которое все смотрел. Мыслить я начал снова только недели через три, когда вернулся в Москву. Еву уже похоронили. На твоих родителей у меня ничего не было, кроме подслушанного разговора. У них же была записка. Возможности подчистить за собой. Деньги. Связи. Твой отец, кроме того, умел быстро устранять врагов и конкурентов. Я бы ничего не добился. Тогда я решил, что сам накажу их. Застрелю. Пистолет у меня был. Но стрелять я не очень умел. С месяц ездил за город, тренировался в овраге. У меня был только один шанс, я не мог промахнуться. Когда я понял, что готов, выяснилось, что они уехали из страны. Слиняли. Мне ничего не оставалось, как ждать. Ждать, когда они вернутся.
Ариша его не слушает. Присмотревшись, Герман замечает, что девочка дрожит, да что там — ее трясет, как трясет пациентов на операционном столе.
— Ариша! — Герман вскакивает с кресла и делает несколько шагов к ней.
Она замахивается пистолетом — не подходи… Ее колотит. Намеренно или случайно пальцы девочки спускают курок. Пуля задевает плечо Германа, попадает в спинку кресла, кресло падает, дерево глухо отвечает гулом-стоном. «Макаров» выпадает из руки Ариши на пол, Герман быстро подхватывает его. Раненой рукой он пытается обнять Аришу, но сделать это трудно. Боль распространяется по телу, отдает в глазах, зубах, костях. Ткань халата вокруг рваного отверстия быстро пропитывается кровью. Ариша отталкивает Германа и выбегает из комнаты. Щелчок замка в ванной, шум воды. Герман подходит, дергает ручку, зовет.
И вот что теперь делать? Судья, она же палач, заперлась в ванной, и бог знает, что ей придет сейчас в голову. Кровь из раны капает на пол. Спрятав пистолет в карман старой куртки в прихожей, Герман возвращается в комнату. Подцепив зубами, раздирает рукав халата по шву, быстро и туго затягивает, заматывает пояс халата над раной. Такую рану вообще-то надо зашивать, иначе останется след, клеймо. Вытащив из шкафа чистое полотенце, Герман крепко прижимает плечо. Смотрит на часы на столе. Пятый час утра. От боли и напряжения в глазах бегают мушки. Переводит взгляд на окно. На себя, прижимающего полотенце к ране. На улице все еще темно и глухо.
Шум воды стихает. Ариша возвращается. Останавливается в дверях. Сосредоточенная. Голова мокрая, капли стекают с волос. Похоже, злится на себя из-за недавней слабости.
— Ты не имел права. — Голос глухой, хриплый. — Ты не имел права.
— Значит, пусть бы убийцы жили дальше припеваючи?
— Ты не имел права. — Опирается спиной о косяк, скрещивает ноги и руки. — Полиция. Судьба. Их совесть. Но не ты. Не ты!
— А что мне до их совести? Про полицию я тебе сказал. Я бы только выставил себя на посмешище. И ты же уже взрослая, знаешь, что полиция, суды созданы явно не для восстановления справедливости.
Ариша смотрит ему в переносицу:
— Сколько ты собирался мучить моих родителей? Год? Два?
— Убийц, — поправляет Герман.
Ариша переводит взгляд на пол, потом снова на Германа:
— То есть ты не собирался меня возвращать?
Тишина, только слышно, как капает в ванной из незакрытого крана вода.
— Нет? — Ариша ударяет затылком о косяк. — А как же тогда быть со мной в этой твоей системе восстановления справедливости? А как же я?
— Я был молод тогда, многого не понимал. И не знал тебя.
Где-то вверху просыпаются, хлопают двери, слышатся утренние голоса.
— Хочешь, пойдем в полицию. Или давай вызовем полицию сюда, — говорит Герман. — Хочешь, застрелю себя.
— Лучше меня застрели. Мои родители убийцы, а меня растил похититель. Как мне теперь жить с этим?
— Ариша…
— Почему ты не вернул меня, когда их не стало? — Смотрит на него, взгляд чужой, совсем взрослый, будто и не ее.
— Потому что некому было возвращать. Мояри выяснила… нет, нет, — поспешно поясняет он, едва Ариша вскидывает голову. — Мояри ничего не знала о том, что я похитил тебя, просто интересовалась этой историей… ну, ты же ее знаешь. Так вот, она выяснила, что из всех родственников у тебя только дядя, который сидит в тюрьме, да его жена. Мояри просветила меня насчет детдомов. Она сама там росла. Ариша, я никогда не хотел причинить тебе зла. Поэтому решил, что должен о тебе позаботиться, — говорит Герман. — Решил, что обязан сделать это. Раз уж все так вышло.
— Извращенная мораль преступника, — презрительно произносит Ариша. — Но они ведь были богатыми, мои родители? Неужели не нашлось бы опекуна или…
— Там, в этих вырезках, это должно было быть. Какая-то банда воспользовалась тем, что я тебя украл, и запросила денег. Пять миллионов долларов. Твои родители отдали все… подчистую, еще и в долг брали, — Герман отводит взгляд. — Ты осталась ни с чем.
Ариша молчит долго. Потом, не глядя на него, говорит:
— Уезжай. Придумай что-нибудь, какое-нибудь внятное объяснение… для Митьки… для всех… и уезжай. Из Москвы, страны. — Она поднимает на него опустошенные глаза. — Сделай так, чтобы я тебя никогда больше не увидела. И, пожалуйста, никогда никому не рассказывай то, что рассказал сегодня мне.
— Ариша…
— Не беспокойся, даже Митька никогда об этом не узнает.
— Но…
Она берет пуховик с дивана, школьный рюкзак и уходит. Герман слышит, как хлопает входная дверь, щелкает английский замок.
46
Глубокая ночь. Электрический свет в зале ожидания слишком ярок и больно бьет в глаза. Большинство пластиковых стульев пусты. А на некоторых, как на клетках шахматной доски, опустевшей к концу игры, спят редкие пассажиры, рассредоточившись по доске, то есть по залу, подальше друг от друга, сдвинув вязаные шапки на глаза или закутавшись в куртки или пуховики. Некоторые спят на дорожных сумках. Компания ребят возраста Ариши и Митьки, с рюкзаками в человеческий рост, пытается разбить налитую тишину веселыми перебранками и взрывами смеха, но их голоса глушит гулкий пульсирующий ночной ток крови в ушах. Электронное табло показывает 4:05. Вокзальный воздух разрежен, но еще продолжает отстаиваться: взвесь от тысяч людей, бывших здесь днем, их запахов, эмоций, отголосков слов, слез, смеха, грубых окриков, медленно и тщательно проходит сквозь невидимые воздушные фильтры. Герман поднимается со стула, расправляет плечи, поправляет лямки рюкзака. Он выспался, и выспался на удивление хорошо.
В туалете Герман раздевается по пояс, обрабатывает рану на плече, умывается, моет грудь, подмышки. У жидкого мыла запах яблока. Голодный желудок принимает яблоко за настоящее, громко дает знать о себе. Последний раз Герман перекусил вчера в буфете Ленинской библиотеки, в которой провел весь день, чтобы убить время. Герман вытирается бумажными полотенцами, бреется, чистит зубы, ополаскивая их водой из бутылки с минеральной водой. Долго смотрит на себя в зеркало, будто сомневается, он ли это. Переводит взгляд на отражения кабинок. Все, кроме одной, открыты. Герман надевает чистые носки, чистую майку, свитер с толстым горлом, пуховик. Пуховик отливает по бокам и на карманах салом, как кожа тюленя.
Вот уже вторую неделю Герман живет на Казанском вокзале. На работе после его просьбы помочь уехать в Сирию, ну или, Африку, ну или где мы там оказываем медпомощь, главврач дал двухнедельный отпуск и совет хорошенько отдохнуть и выкинуть глупости из головы.
Герман складывает грязные майку и носки в пакет (надо найти прачечную), взъерошивает волосы — купить расческу он все время забывает.
В кафе с незамысловатым названием «Кафе» по ночам работает Саня, студент, будущий проектировщик мостов. Когда бы Герман ни пришел, у Сани на прилавке, на коленях, на упаковках банок газировки раскрыты учебник или тетрадка с загадочными схемами. У Сани острый подвижный кадык, и Герману иногда кажется, что еще немного и кадык прорвет кожу и вывалится наружу, как кукушка из часов.
— Привет, Сань.
Завидев Германа, Саня радостно улыбается, обнажив неровные, смотрящие кто куда зубы, откладывает учебник.
— Здрасьте, Герман Александрович. Ужин или завтрак?
— Завтрак.
Блюдо на ужин и завтрак у Германа, собственно, одно и то же — горячий сэндвич с говядиной, сыром и маринованным огурцом. Разница только в напитке: к ужину пиво, к завтраку — кофе.
Саня принимается готовить. Герман уже знает, что парень зарабатывает на поездки, чтобы посмотреть мосты. Он любит рассказывать о мостах и иногда — о породах собак. Саня хотел бы завести лабрадора, но его некому будет доверить, когда он поедет в очередное путешествие. Бабушка почти слепа, а у мамы любовь и школа танцев, она забывает даже хлеб купить и памперсы бабушке, а иногда забывает и домой прийти.
Собирая заказ, Саня рассказывает о мосте Рамы, который соединяет Индию и Шри-Ланку. Саня собирается поехать его посмотреть.
— Это, Герман Александрович, не совсем мост, то есть не сооружение, которое вы представляете, когда слышите слово «мост». Это отмель, про которую до сих пор неизвестно — природный она объект или искусственный. Недавно индийские геологи заявили, что это искусственное сооружение и те, кто его строил, провели невероятную работу. На арабских средневековых картах эта отмель обозначена как реальный мост. Сейчас, правда, большая часть этого моста скрыта под водой, но до сих пор по нему можно пройти.
Говоря о мостах, Саня, как всегда, приходит в необыкновенное возбуждение. И его кадык тоже. Тот того гляди выпадет в поднос, где уже лежит разогретый сэндвич. Саня ставит бумажный стакан с кофе. Кофе тут же принимается дымить в лицо Герману утренними белыми завитушками. Саня докладывает салфетки, два порционных пакетика с сахаром, пластиковую палочку-ложечку.
— Спасибо, — говорит Герман и идет с подносом к столику рядом с холодильной витриной. Он всегда выбирает это место, если оно свободно, пытаясь одомашнить огромное социальное сооружение с залами, лабиринтами, лестницами, магазинами и кафе. Вроде как кот, который живет тут у продавщицы в газетном киоске и иногда по ночам выбирается в зал ожидания и облюбовывает одно из кресел. Одно и то же на несколько ночей подряд.
На что это похоже? Это пребывание Германа на вокзале? Эти его бесцельные прогулки днем по Москве? Ну, это как если вдруг падать с горы и удачно приземлиться на выступ где-нибудь выше середины. Довольно широкий выступ, возможно, даже с деревом. Безопасный и уютный, с прекрасным видом на море, скалы, корабли и пляжи внизу. По нему можно даже пройтись. Дерево может оказаться с ягодами. Можно их поесть. Можно выспаться. Единственная проблема — выбраться с этого выступа невозможно. Кругом отвесные скалы, а далеко внизу бьются о камни волны. Можно только шагнуть вниз.
Несколько дней назад Герман явился к школе, где учится Ариша, дождался, когда она пойдет домой, подошел и попытался объяснить, что он не может вот так оставить ее одну, она еще не взрослая. Ариша (она и не она, темные круги под глазами, повзрослела лет на пять) выслушала его, но не произнесла ни слова. А спустя несколько часов с ним связался по телефону, а потом и приехал на вокзал Митька. В шапке-ушанке, покрытой снежной коркой. С пакетом фисташек, которые он не переставая грыз.
— Я не знаю, Герман Александрович, что у вас с Аришей произошло. Она попросила меня передать… — Отвел взгляд. — Она сказала так: если вы еще раз попытаетесь с ней увидеться, она воспримет это как сигнал, чтобы покончить с собой. Если вы не хотите, чтобы она это сделала, то должны уехать и никогда не возвращаться. Я не понимаю, что все это значит, но прошу вас — уезжайте.
— Митя, но куда мне ехать? А кроме того, она ведь еще не взрослая в настоящем смысле слова.
— Я надеюсь, что все как-то… наладится. Она не шутила, Герман Александрович. Я ее знаю — это не пустые угрозы. С ней произошло что-то непостижимое. Как в фильмах, когда в тело вселяется кто-то другой. Я не понимаю, ничего не понимаю. Спрашиваю, но она молчит. Еле держится, но ничего мне не говорит. Что случилось-то, Герман Александрович?
— Одна очень старая история, Митя, выпустила шипы. Ариша не хочет, чтобы ты знал об этом, чтобы вообще кто-нибудь знал.
— Похоже на нее. Но мне она всегда обо всем говорила, а в этот раз и мне ни словечка. Я вас очень прошу, Герман Александрович, уезжайте. Пока все как-то не наладится. За Аришу не переживайте. Мы с ней справимся. А если что-то изменится, я вам сообщу. Ну и, если хотите, буду иногда писать, как у нас дела. Только, пожалуйста, сделайте так, как она просит.
— Митя, давай пока договоримся вот о чем. Я буду переводить для Ариши деньги тебе, ты только не говори ей, хорошо?
— Ладно. Но вы уедете? Я могу ей это передать?
— Я не знаю, Митя. Честно — не знаю.
Герман ест не торопясь. С запахом кофе наплывают запахи приближающегося утра. Они просачиваются еще робко, вполсилы, заискивающе. Проникают с улицы с пассажирами нового дня. Свежий запах духов, дезодоранта, утреннего волнения и возбуждения, а еще — снега, ввезенного на колесиках сумок и принесенного на плечах. Разогретого тела, жара запястий.
У стойки материализуется толстяк с белой собачкой на руках.
— Дай еще чаю. — Голос толстяка тонок, едва различим в его же шумном сопении и тяжелом дыхании. — И булочку. Холодина на улице. И снег все метет. Я только что выходил, смотрел. Вот думаю: а вдруг поезд опоздает? А у нас билеты на самолет.
— Да не переживайте, — говорит Саня, собирая толстяку поднос и заигрывая с собакой, — поезда ходят как часы.
На стуле в углу стоит стопка потрепанных книжиц. Уборщица подбирает их в зале. Любовные романы забирает себе, а остальные приносит сюда. Детективы, боевики, сборник разгаданных кроссвордов. Герман иногда что-нибудь берет, чтобы заглушить мысли в голове. Со вчерашнего дня в стопке появилось что-то новенькое, он вытягивает покетбук. А, знакомая серия по психологии, такие тоже бросают тут. «Как найти мужа» или «Я научу вас быть счастливыми». Эта называется «Как вырастить лучшего ребенка на свете». Герман берт книгу, листает, вздыхает.
— Саня, не убирай стакан с кофе, ладно? — просит он, собираясь выйти покурить.
Саня кивает. Парень попал в плен к толстяку и его собаке. Опершись на стойку, толстяк грузит Саню подробным планом действий в случае, если поезд с его женой опоздает. Можно было, конечно, и не просить присмотреть за кофе и недоеденным сэндвичем. Уборкой со столов Саня занимается редко: на нескольких столиках стоит строй пустых и недопитых стаканчиков, тарелок с остатками сэндвичей, облачков салфеток, разноцветных от соусов.
На улице темно и зыбко, как и бывает в этот ранний час. Снег идет сильный, но соблюдает приличия — не бросается с налету, не колет лицо, идет размеренно, сомнамбулично бормоча что-то самому себе. Конец февраля, снег уже взрослый, зрелый, уверенный в своей силе. Не то что Герман.
Пассажиров почти нет: поезда редко прибывают или отправляются в этот час. А вот служащих с лопатами много — расчищают снег, скрежещут металлом по заледеневшему асфальту. Трехтактное эхо отдается в позвоночнике и икрах. Герман выбирает неочищенную платформу, идет по ней, поглядывая на искрящийся в свете фонарей снег, рассекая снежные обездвиженные волны. Снег мягкий, легкий.
Немного погодя Герман останавливается. Закуривает. На территории вокзала теперь нельзя курить, но кого интересуют правила в пять часов утра? Герман вглядывается в темное пространство над рельсами, покачивается на краю платформы. Сбрасывает туда ногой снег — тот мелькает и исчезает в темноте. Точно там спряталось невидимое чудовище, которое пожирает снег. Герман скармливает еще порцию снега, и еще. Не может оторвать взгляд от темноты внизу. Пахнет мокрым железом рельсов. Издалека тянет дымком. Как в какой-нибудь глухой деревне, лают собаки. Снег сыплет слишком тихо.
Недоеденный сэндвич Германа поклевывает голубь. Бродит по книге. Саня уткнулся в тетрадку с лекциями. Толстяка нет. «По определению психиатров, травмирующим называют событие, выходящее за пределы нормального человеческого опыта», — читает Герман, запивая запах сигарет остывшим кофе. Переворачивает и глядит на обложку. Ах, ну да! «Как вырастить лучшего ребенка на свете». Открывает книгу ближе к концу. «У подростков бывают депрессии. Идет гормональное изменение. Им трудно сдерживать эмоции. А теперь представьте: в таком состоянии ребенок еще и хранит тайну, испытывает страх, что кто-то может его разоблачить». Пролистывает еще несколько страниц и выясняет, что под обложкой популярной психологии опубликован текст о детских травмах. На заднем форзаце фотография женщины с выступающей вперед челюстью. К. С. Правдина. Телефон и сайт, где вы можете записаться на консультацию. Герман пожимает плечами, листает книгу в начало и принимается читать. По крайней мере это не доморощенные детективы про дачниц-сыщиков.
В кафе вваливаются ребята, те самые, с рюкзаками во весь рост, занимают сразу все пространство. С ними утро окончательно вступает в права. Засунув книжку под мышку, Герман возвращается в зал ожидания.
47
«Девочка, похищенная пятнадцать лет назад, нашлась! Похититель сам пришел в полицию и признался в содеянном. Эту сенсационную новость подтвердил сегодня официальный представитель прокуратуры Москвы. Девочка жива. В остальном, подчеркнул чиновник, сейчас разбирается следствие. Напомним, что Наташа Ломакина пропала в октябре 2003 года. С ее родителей, владельцев компании “ML Marine Moscow”, похититель затребовал выкуп в пять миллионов долларов, но, получив деньги, девочку так и не вернул. Убитые горем Олег и Ольга Ломакины покончили с собой в феврале 2004 года».
Новость в Яндексе от 21 июня 2018 года.
«Похитителем девочки, пропавшей пятнадцать лет назад, оказался хирург одной из московских больниц. Все эти годы он выдавал девочку за свою дочь. Сотрудники больницы поражены вскрывшимся фактом, они отзываются о похитителе как о профессиональном хирурге, скромном и ответственном. “Мы и подумать не могли, — сказал зав. отделением доктор мед. наук Сергей Николаевич Артамонов. — Всегда такой собранный, ответственный. Разве что необщительный. Держался от коллег на расстоянии”.
Девушка, как выяснила наша редакция, только что окончила одну из московских школ. Она не знала, что была похищена».
Интернет-источник, 22 июня 2018 года.
«Врачи, обследовавшие пропавшую пятнадцать лет назад Наташу Ломакину, нашли ее здоровой. На вопрос следствия, подвергалась ли она сексуальному насилию, девушка ответила отрицательно. У нас в радиостудии психолог Тамара Ивановна Нечайкина.
— Тамара Ивановна, здравствуйте. Прокомментируйте, пожалуйста, сообщение, которое распространили сегодня уже все СМИ.
— Здравствуйте, Соня. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. Прежде всего я хочу сказать: я так рада за девочку, рада, что она вырвалась из лап похитителя. Теперь у нее есть шанс на нормальную жизнь. Что касается правдивости этого сообщения… Понимаете, Соня, дети обычно скрывают факт насилия.
— То есть вы не доверяете словам девочки?
— К сожалению, практика показывает, что похищенные дети всегда становятся жертвами сексуального насилия. Бедная девочка. Если бы мне дали с ней поработать. Но я — детский психолог, а девочке только что исполнилось восемнадцать. Надеюсь, что ей предоставят хорошего психолога.
— А почему преступник дождался, когда ей исполнится восемнадцать? Почему, как вы думаете, он вообще решил пойти в полицию?
— Не знаю, Соня, что сподвигло этого… извращенца, мерзавца пойти в полицию. Психика таких людей изощрена и отличается от нашей с вами. Пусть с ним разбираются тюремные психиатры. Слава богу, что девочка теперь свободна.
— Тамара Ивановна, а почему похищенная девочка сама не обратилась в полицию, если подвергалась насилию?
— Ну, не забывайте, она принимала похитителя за своего отца.
— Тамара Ивановна, тут есть вопросы от наших слушателей. Вот Игорь из Новокузнецка спрашивает: “Через несколько месяцев истекает срок давности по этому преступлению. Почему преступник не дождался этого срока?”
— Я уже говорила, что психика таких людей не подчиняется понятным нам законам. Они могут слышать, например, голоса, которые якобы командуют ими. Кроме того, у них бывают периоды, так сказать, прояснения.
— Еще одна наша слушательница, Марина, задает вот какой вопрос: “Как вы думаете, девочка возьмет теперь настоящее имя и фамилию или оставит прежние?”
— Конечно, сменит. Но в этом вопросе не нужно спешить. Я надеюсь, что психолог, который будет работать с ней, поможет справиться со сменой имени и фамилии. Я же буду молиться за эту девочку. Как хорошо… простите, не могу сдержать слез… Как хорошо, что ребенок нашелся. Жаль, что родители не дожили до этого».
Радиоэфир от 23 июня 2018 года.
«ДНК-тест подтвердил, что Арина Морозова является пропавшей пятнадцать лет назад Наташей Ломакиной. Девушка по-прежнему отказывается общаться с журналистами. Она сейчас проживает в семье своего друга Дмитрия Щукина. Комментариев ни она, ни он не дают».
Новость в Яндексе от 28 июня 2018 года.
«Мы нашли двоюродную бабушку Германа Морозова. Пожалуйста, Вероника Петровна, скажите нам несколько слов о своем внуке.
— Ну а что о нем говорить. Вон что выкинул.
— Вы замечали что-то необычное, противоестественное в отношениях вашего внука к девочке, которую он выдавал за свою дочь?
— В нашем роду преступников не было. Я всегда подозревала, что он никакой не Морозов.
— Как Герман относился к девочке?
— Она хорошая девочка, приходила ко мне, помогала. Я считала ее своей внучкой, надеялась, что наш род Морозовых не…
— Вероника Петровна, а вы замечали, что девушка подавлена, испугана?
— Какая девушка?
— Наташа Ломакина. Герман называл ее Аришей.
— А, Ариша. Она очень веселая, почтительная девочка, всегда улыб…
— Спасибо, Вероника Петровна. Дорогие телезрители, мы беседовали с единственной родственницей Германа Морозова, и она подтвердила, что ее внук был странным человеком, а девочке, которую он похитил, приходилось скрывать под его давлением все те ужасные вещи, которые он с ней вытворял».
Телеэфир от 28 июня 2018 года.
«Родственники Наташи Ломакиной, Владимир и Эльвира, приехали специально из Новокузнецка в Москву на нашу передачу. Владимир — брат матери девочки, а Эльвира — его жена. Встречайте их!
— Владимир, Эльвира, это правда, что девочка не общается с вами?
— Ну, и ежу понятно, что у нее шок. Да мы не в обиде. Я, как услыхал, что девчонка нашлась, сказал: Эля, поехали. Надо поддержать девочку.
— Я сразу согласилась. Не проходило ни дня, чтобы я не плакала о ней.
— Владимир, вы единственный родственник Наташи Ломакиной?
— Да… Когда она пропала, я никак не мог искать ее, сами понимаете, я в то время чали… ну, вы знаете.
— Вы сидели в тюрьме?
— Это давно было. Мой муж молодым был, глупым. Шестнадцать лет. Теперь Володя уважаемый человек, крановщик.
— Да, сглупил по молодости… с кем не бывает.
— Понятно. Владимир, Эльвира, какие у вас планы? Вы хотите взять девочку к себе?
— Ну, мы с Элей хотим помочь девчонке. Она ведь совсем одна. И такое пережила! У нас бы… с такими мерзавцами… в тюрьме…
— Наташенька, девочка, если ты нас сейчас слышишь, твой дядя и я, мы предлагаем тебе нашу поддержку и помощь. Ты не одна, девочка. Мы ждем твоего звонка — мой номер телефона: 8–926…»
Телеэфир от 29 июня 2018 года.
— Спасибо, — Герман возвращает распечатки адвокату. Тот убирает их в папку. Брючина адвоката натянулась, и Герману виден белый носок с вышитым тигром. У адвоката небольшая модная бородка. Чуть полноват. Моложе Германа лет на десять. По его лбу и шее течет пот. Душно. Третий час дня. Чтобы попасть к Герману, адвокату, по его словам, пришлось прийти к СИЗО к семи утра. Герман не просил его об этом. Ему вообще адвокат незачем. Михаила Левицкого, известного адвоката, ему наняла пациентка, которую Герман спас, удалив гигантскую грыжу.
В окно с решеткой пытаются втиснуться огрызок неба и старая кирпичная стена. Судя по нежной, финифтевой голубизне кусочка неба, на улице светит солнце. По комнате летает муха.
— Что ж, Герман Александрович, СМИ, как видите, делают из вас педофила. Вы же мне говорите, что это не так, но мотив похищения не называете. Получение выкупа отрицаете. Сами признались в похищении, но виновным себя не считаете. Чего вы хотите? Вы пришли в полицию за три месяца до истечения срока давности. Подожди вы немного, тюрьма бы вам и вовсе не грозила. Почему вы не подождали эти три месяца?
— Я и не знал, Миша, что существуют сроки давности.
— Нам нужно выбрать стратегию. Надеюсь, я вам нужен не только для того, чтобы распечатки газет приносить?
— Миша, вам удалось поговорить с Аришей?
— Нет, пока не вышло. Но со следствием, насколько я знаю, она сейчас сотрудничает.
— Я сделал это для нее. Она собиралась всю жизнь держать в себе то, что ее родители убийцы, а отец — не отец вовсе, а похититель. А я-то знаю, что это такое — держать подобный секрет в себе. — Герман усмехается. — Чтобы выздороветь, Миша, надо вскрыть нарыв и выпустить гной наружу. Банальная истина. Очевидная не только для хирурга. Я проконсультировался с несколькими психотерапевтами. Ну, без подробностей, конечно, и они подтвердили, что лучший выход для Ариши — вытащить правду наружу.
— Погодите, погодите. Что значит — собиралась хранить в тайне? Так для девочки ваше признание полиции не стало откровением? Она знала о своем похищении? Просто везде указано, что…
— Узнала несколько месяцев назад. Провела настоящее расследование, пытаясь выяснить, кто ее мать. Вот и узнала. Я действительно немного подождал, пока ей исполнится восемнадцать, чтобы у нее не было проблем с соцслужбой.
— Ясно. — Адвокат что-то быстро записывает в блокноте. — А что означают ваши слова, что ее родители — убийцы?
48
«Новый поворот в деле похитителя Германа Морозова! Арина Морозова, она же Наталья Ломакина, дала показания, которые выставляют историю с похищением совсем в другом свете. По словам девушки, Герман Морозов считает, что ее родители убили его сестру Еву. Он задумал и совершил похищение, чтобы наказать их. Как выяснила наша редакция, сестра Германа Морозова была первой женой Олега Ломакина. В 1999 году она утонула под Балаклавой. Покончила с собой, оставив предсмертную записку. Но Герман Морозов утверждает, что Ломакины ее утопили. Мы связались с адвокатом похитителя Михаилом Левицким и попросили дать разъяснения. Михаил рассказал, что, по словам его подзащитного, тот стал случайным свидетелем разговора Олега и Ольги Ломакиных, из которого узнал, что Ломакины столкнули Еву с яхты в море и ждали, пока она утонет.
Кроме того, по словам Германа Морозова, прощальную записку его сестра написала раньше. Она любила экстрим и написала записку, чтобы в случае чего не подставлять близких. Михаил Левицкий подчеркнул, что мотивом похищения девочки была месть убийцам сестры. Его подзащитный не причинял девочке вреда и не имел таких намерений».
Новость в Яндексе от 14 июля 2018 года.
«Новые обстоятельства, очень спорные, скажу я вам, ничем не подкрепленные. Они никак не повлияют на ход дела, — сообщил нашему корреспонденту представитель следственной группы. — Девочка была похищена. Это факт. Преступник сам в этом сознался и представил доказательства: вещи девочки, в которых ребенок был в день похищения. Второе. Преступник путем шантажа присвоил пять миллионов долларов. Это очевидный факт. Хотя в этом Герман Морозов пока не признается. Третье — своими действиями он подтолкнул Ломакиных к самоубийству. Это тоже факт. Его мотивы — дело десятое в этом конкретном случае. У некоторых преступников мотив — это голос Бога, и что теперь, верить всему? А может, он это все выдумал, чтобы оправдать свои низкие мотивы? Какие у нас доказательства, кроме его слов? Доказательств, кроме его слов, у нас нет».
Телеэфир от 16 июля 2018 года.
Люся. Странная месть какая-то. Вот если бы выстрелил в обоих — это я еще понимаю. При чем тут ребенок?
Серебристое перо. А что же ему, и в ребенка надо было тогда стрелять?
Люся. А ребенок-то тут при чем?
Серебристое перо. Люся, вы дура или прикалываетесь?
Коля m32. Вроде как благородство… Однако миллиончики-то присвоил.
Люся. Серебристое перо, я вас не оскорбляла. Нет хуже преступления, чем против ребенка. И что он там с ней выделывал — никто не знает.
Серебристое перо. Люся, нет никаких доказательств, что он причинил ей вред. По словам окружающих, он действительно воспитывал ее как дочь. Друг, между прочим, подтвердил, что она была девственницей.
Люся. Это еще ни о чем не говорит.
Серебристое перо. Люся, вы точно дура.
Пуп земли Восемнадцатый. Люська-извращенка, давай встретимся, я покажу тебе настоящий грязный секс.
Люся. Серебристое перо, я как женщина знаю, о чем говорю. Пусть повесят мерзавца.
Люся. Пуп земли Восемнадцатый, пшел вон.
Адвокат черта с фиолетовыми рожками. Мне одно непонятно — зачем он признался? Если уж так засвербило, мог бы подождать месяц-другой, срок давности бы вышел. Неужто в тюрягу так охота? Ведь известно, что там с такими, как он, делают.
Серебристое перо. Девочка все узнала, она же сказала. Будь он в самом деле чудовищем, что помешало бы ему ее ликвидировать или сбежать? А он вместо этого в полицию пошел. Неужто ни у кого на этом форуме мозгов нет?
Цветок-мотылек. Мне вот интересно, а почему она сама, если узнала такое, не пошла в полицию? Я бы мигом побежала.
Коля m32. Цветок-мотылек, о стокгольмском синдроме не слыхала?
Серебристое перо. Коля m32, какой стокгольмский синдром? Девочка же не подозревала, что похищена. Она думала, что это ее отец, и любила его.
2х2=3,5. Серебристое перо, ты кто такой?
Серебристое перо. 2х2=3,5, а ты?
2х2=3,5. Серебристое перо, тот, у кого есть мозги. И эти мозги мне подсказывают, что ты заинтересованное лицо.
Серебристое перо. 2х2=3,5, нет у тебя мозгов. Я нахожусь за тридевять земель от Москвы, посмотри мой ID. Я ужасаюсь тому, как слепы все. И что с этой девчонкой все носятся? Жила себе припеваючи, папочка о ней заботился, ни в каких игрушках не отказывал, на курорты, судя по размещенным фотографиям в соцсетях, возил. Жених, подруги, хорошая школа. Не лезла бы, куда не надо, и не узнала бы никогда, что ее родители убийцы. Парень всего лишь попытался отомстить за сестру. По-вашему, надо было смириться с убийством сестры, а?
2х2=3,5. Серебристое перо, ты кто такой?
Распечатка форума от 3 августа 2018 года.
Идет дождь. Следственная комната другая, неба отсюда не видно, только краснокирпичную стену. Сквозь открытую форточку слышно, как стучат по жестяному карнизу тяжелые капли дождя. Пахнет краской.
— Как видите, Герман Александрович, у вас появились защитники. То есть не защитники — я бы сказал, сочувствующие. Это хорошо, это в наших интересах. В ваших. И их число растет. Особенно после статьи некой Ирины Сивцевой. Очень такой жалобной, проникновенной. Это ваша знакомая? Ирина Сивцева?
— Не знаю такую. По крайней мере не помню. Возможно, кто-то из моих пациентов.
— Она где-то раскопала всю историю вашей жизни. Очень статья… такая… Там о девочке-то, обо всем этом, — адвокат кивает на распечатки, которые убирает в папку, — ничего нет, там о вас. О вашей сестре, о том, как вы с сестрой росли без родителей, о травме, как вы все детство ходили на костылях, о жутком случае в классе.
— Вот как?
— Вашему делу это, конечно, никак не поможет, на приговор не повлияет. Впрочем, это вас и не интересует. Но эта статья подняла волну негодования по поводу случая вашей сестры. Заговорили опять о подкупе богачами правосудия. Если хотите, можете составить заявление. Кто знает, вдруг на этой волне удастся открыть дело об убийстве вашей сестры. Тем более что всплыла одна фотография.
— Какая фотография? — Герман поднимает голову от ладоней, которые внимательно разглядывал, и смотрит на адвоката. Тот сегодня одет по-простому, в джинсах и свитере, с ботинок на пол натекло, на отмытую подошву налип желтый лист.
— Фотография с датой «22.10.1999 17:15». На ней ваша сестра и Ломакины, ну, то есть Ломакин и Ольга, отчаливают с причала на яхте, которую потом нашли пустой в море. Яхте, которая, по показаниям Ломакина, якобы пропала и затем нашлась пустой. Которую якобы взяла ваша сестра и одна на ней вышла в море. Получается, что Ломакины соврали. Но я бы на вашем месте не стал возлагать особых надежд. Доказать убийство почти невозможно. Да и наказывать некого, сами понимаете. Можно надеяться только на одно: дело, если его откроют, получит большую огласку. О случае вашей сестры многие в стране узнают.
— Вы даже не представляете, Миша, что для меня сделали! — Герман сглатывает, закрывает лицо ладонями, потом отнимает их, протягивает руку адвокату, крепко пожимает протянутую в ответ. — Спасибо. Конечно, я напишу заявление.
Рукава свитера Германа натянулись, и на запястьях видны кровоподтеки.
— Вас достают здесь? — спрашивает адвокат.
Герман отмахивается, впервые за много месяцев губы складываются в подобие улыбки.
— Теперь это не имеет значения.
49
Она здесь. Сквозь прутья клетки, в которую его посадили, как какую-нибудь обезьяну, Герман видит Аришу. Она впервые присутствует на судебном заседании. До этого ее представляла женщина с истеричным голосом и жабьей шеей, начинавшейся, минуя подбородок, сразу после тонких крашеных губ. Она и сейчас сидит рядом с Аришей, победоносно поджав губы. Его девочка совсем взрослая. Пытается спрятать глаза под косой челкой, сережки вспыхивают под электрическими лампами. Из-за света ламп волосы кажутся светлее. Лицо бледное, усталое, на щеках красные пятна. Ни разу не посмотрела в его сторону. Держит за руку Митьку. Тот тоже осунулся, похудел. Белые волосы, стянутые в хвост, под этим светом выглядят безжизненными, искусственными. Детское выражение исчезло и с его лица. Митька несколько раз встретился взглядом с Германом — отчужденно, холодно, ненавидяще.
Ариша откручивает крышку от бутылки с водой, делает несколько глотков. Ее представительница с жабьей шеей что-то шепчет ей на ухо. Ариша, похоже, ее не слушает. Смотрит прямо перед собой. Натянула рукава свитера до кончиков пальцев. В этот раз зал полон, много журналистов. Вспышки фотоаппаратов нет-нет да и выстреливают в Германа. Миша сказал, что сегодня могут вынести приговор. Обвинительный, разумеется. Принес Герману накануне чистую одежду. Несмотря на то что одежда пропахла потом и страхом, пока его перевозили в тесном автозаке с другими счастливчиками, едущими в суды, от нее и сейчас тянет новизной и чистотой. Лучшего запаха за несколько месяцев в СИЗО и не придумать.
Голос судьи достигает ушей Германа, но смысл слов до сознания не доходит. Герман не спал уже много ночей. Чтобы сознание совсем не уплыло, он продолжает смотреть на Аришу. Черты лица ее потеряли спокойно-радостное выражение буддийского монаха. Черный свитер с капюшоном (наверняка накидывала на голову, когда шла по коридору) мягко обволакивает тонкую нежную шею. Обрывки слов выступающих: похищение, цирк, шантаж… цепляются за сознание Германа, но текут мимо. А Ариша слушает, изредка руки ее вздрагивают. Да, он принял правильное решение. Теперь Герман убежден в этом. Возможно, единственное правильное решение в своей жизни. Даже если Ариша сейчас так не считает. Она справится, Герман уверен.
Он переводит взгляд на журналистов, изнывающих от ожидания приговора. Они, похоже, ждут его больше, чем он. Судья обращается к Арише:
— Суд приглашает потерпевшую Наталью Ломакину.
Его девочка поднимается. Смотрит на судью. В наступившей тишине раздается ее негромкий голос:
— Меня зовут Арина Морозова. Прошу обращаться ко мне так.
Сердце Германа ударяет глубоко и сильно, точно древний колокол.
— Но… — Голос судьи выражает неудовольствие. — Хорошо. Суд приглашает потерпевшую Арину Морозову.
Ариша встает и идет к трибуне. Герман пытается замедлить в голове этот кадр. Вряд ли ему когда-нибудь снова придется увидеть свою девочку. Кажется, она еще немного выросла. На голову выше большинства собравшихся в зале людей. Тонкую мальчишескую фигуру обтягивают темные джинсы, челка и короткая стрижка подпрыгивают в такт шагам. Смотрит прямо перед собой, пытаясь не щуриться от вспышек фотоаппаратов.
Выступив, Ариша покидает зал суда.
За те несколько месяцев, пока Герман ждал ее совершеннолетия, он успел подготовиться к сегодняшнему дню. Даже в таком окружении, как у него, найдется человек, который приведет к другому и в конце концов к тому, кто нужен. Тому, кто доставит на судебное заседание маленькую вещицу. Герман кладет в рот капсулу и надкусывает ее. Горечь цианистого калия мгновенно достигает рецепторов. Герман задерживает вдох, обводит взглядом зал суда. Жаль, что в зале нет окон и он не может напоследок посмотреть на солнечный свет. Впрочем, это уже неважно: еще немного, и мир наконец рассыплется в хаос.
Примечания
1
С 1990 года — Мясницкая.
(обратно)2
Прежде и ныне — улица Маросейка.
(обратно)3
Покровка.
(обратно)4
Пречистенка.
(обратно)5
С 1992 года — Гранатный переулок.
(обратно)6
С 1994 года — Спиридоновка.
(обратно)7
Лаган — блюдо для плова.
(обратно)



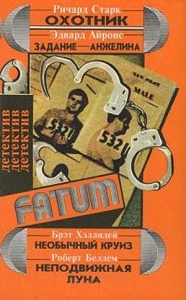







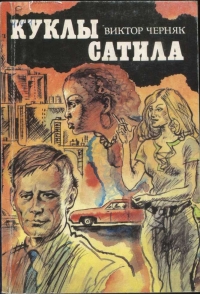
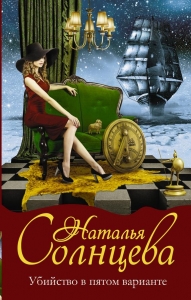
Комментарии к книге «Ева», Любовь Павловна Баринова
Всего 1 комментариев
Елена
15 авг
Очень сильный, прекрасно написанный роман.