Владимир Гоник Исповедь патриота
Он возник на пороге как подарок судьбы, меня взяла оторопь: я давно мечтал о встрече, его приход случился знаком свыше, посланием небес.
Гость, как две капли воды, был похож на Бурова из моего романа "Преисподняя" – такие же беспокойные руки, которые вечно что-то ищут, трогают, ощупывают, гнут, теребят всякий предмет, который сподобятся ухватить. Буров нередко ломал ручки и карандаши, рвал носовые платки, раздергивал на нитки вязание; когда руки ничего не находили, он нервно грыз ногти и обкусывал их до мяса.
Таких людей постоянно гложет какая-то тревога, изводит мучительный зуд – ест и не дает покоя. Буров никогда не находил себе места, ерзал, озабоченно озирался и, волнуясь, подозрительно оглядывался, точно опасался слежки.
Гость в отличие от Бурова выглядел загорелым, это меня и смутило. Буров был бледен всегда, на бледном лице странным образом выделялись глаза: они ярко горели, как будто неистовая догадка осенила его вдруг и жгла, распаляла, отнимая покой.
В глазах загорелого гостя тоже полыхал огонь сокровенного знания, словно он, как и Буров, постиг что-то, что другим не дано, один познал истину, недоступную остальным; она горела в его глазах – горела и не иссякала.
Был апрель, запоздалая, похожая на осень, весна. Погода сулила долгое ненастье. Едва сошел снег, зарядили холодные дожди, воздух наполнила промозглая сырость, денно-нощная стынь, от которой ныли суставы.
Никто однако не замечал сиротской весны, в этот апрель людей занимала политика. Изо дня в день повсюду клокотали жгучие споры, всеобщий раздрай и перепалка вот-вот могли обернуться дракой и кровью. Люди не замечали холода, стремительно пролетали ненастные дни – мимо, мимо, как полустанки за окном экспресса.
– Вы уже определились, как будете голосовать? – поинтересовался пришелец.
Я слышал от соседей, что по квартирам ходят агитаторы, убеждая жильцов, кому отдать предпочтение. По правде сказать, я ужасно не люблю, когда мне навязывают чужое мнение, но я сдержался: не давать же сразу от ворот поворот.
– Кто вы? – спросил я как можно приветливее.
– Мы – патриоты! – ответил он со сдержанной гордостью.
Честно говоря, я тоже считаю себя патриотом. И я до сих пор не свыкся с тем, что Аляска уплыла к Соединенным Штатам, все ломаю голову, как ее вернуть. Впрочем, и Финляндию, и Польшу тоже. С какой это стати они теперь заграница? Горько мне это и огорчительно. Если б не большевики, Босфор и Дарданеллы непременно стали бы нашими внутренними проливами, дело к этому шло.
И если уж совсем начистоту, то Калифорния принадлежала нам, зря, что ли, правил там русский губернатор, а местные индейцы до сих пор употребляют наше слово "ложка"?
Что ни говори, неплохо было бы иметь Калифорнию у себя под рукой, я намерен в ближайшее время поднять этот вопрос. Да, имперского мышления у меня пруд пруди, однако я не ломлюсь непрошенно в чужую дверь: так, мол, и так, я – патриот! Нескромно как-то. Вот верну Калифорнию, тогда поговорим.
– У вас ко мне дело? – поинтересовался я как можно деликатнее, чтобы не обидеть гостя бестактным словом.
– Мы хотим дать вам совет, – взгляд пришельца говорил, что он ценит свой совет на вес золота.
Что ж, мы столько лет были страной советов, стерплю еще один.
– Известно ли вам, что референдум затеяли евреи? – постарался он сразу взять быка за рога.
– Неужели?! – заполошливо, но искренне всплеснул я руками.
Да, это был он, Буров из моего романа "Преисподняя", собственной персоной. Я даже растерялся, насколько вымысел, свободная игра ума, причуды фантазии так могут обернуться плотью и предстать въяве.
– Мы утверждаем: референдум выгоден только евреям! – заявил он столь решительно, что и понятно было: любые возражения бессмысленны и бесполезны.
– Только им? – пробормотал я потерянно.
– Голосовать пойдут одни евреи, – неуступчиво подтвердил он.
– Неужели их столько? А говорят малый народ…
– Маскируются. Вы не представляете, сколько их. А до чего хитры! Референдум придумали. Кому, кроме них, польза от референдума? Они всюду! Где что стряслось – там они. Везде!
– Неужели везде?
– А как же! Без них ничего не обходится. Не замечали? – прищурился он едко. – Но мы всех выведем на чистую воду!
Винюсь: я и впрямь не подозревал такой всепроникающей сокрушительной опасности. Но подлинным патриотам, вероятно, видней. Иначе они не стали бы бить тревогу.
Я на мгновение представил необъятную Россию, землю без конца и края, множество городов, деревень, хуторов, несметное население, тьму племен, неисчислимый православный и прочий люд – неужели евреи ведают всем и владеют?
Вообразить это не хватало мочи. Неужто все на свете им подвластно? Неужто все народы существуют и перемещаются по их воле? Неужто каждый шаг, каждый вздох у них под контролем и ничего не происходит без их ведома? Это ж какое немыслимое могущество! Представишь – оторопь берет, мороз по коже.
Бурова я помнил по совместному проживанию в одном провинциальном общежитии. Он даже ночью не знал угомона, ночь напролет ворочался с боку на бок, и казалось, огонь его глаз прожигает темноту. Одна мысль не давала Бурову покоя: он постоянно думал о евреях. Мысль о всеобщем, всемирном заговоре давно овладела им, захватила и не отпускала. Истина заключалась в их кромешной вине: все, что происходило в мире дурного, Буров связывал с евреями – войны, голод, катастрофы, рост цен, аварии, безработицу… Даже землетрясения, извержения вулканов, оползни и наводнения были делом их рук. И лампочки перегорали часто, потому что евреи подло меняли напряжение в сети.
Он был убежден, что ничего в мире не происходит само по себе, случайно, без участия евреев. Стоило лишь получше разобраться, найти концы, размотать и обязательно отыщется еврейский умысел. И Буров постоянно пребывал в поиске, искал и связывал между собой множество разрозненных фактов, случаев, событий… Это занятие стало смыслом его существования – сокрушительный заговор пронизал и опутал весь мир, проник во все щели, и только он, Буров, мог распутать эту дьявольскую сеть. Он повсюду искал тайные козни – искал и находил.
– Взгляни на школьные учебники, – призывал он. – Их составили евреи, чтобы запутать русских детей. А война в Персидском заливе?
– Но ведь Ирак начал… напал на Кувейт…
– Формально! Так только кажется. На самом деле за этим стоят евреи. Уж слишком им было выгодно. Ирак их обстреливал, они не отвечали. Выгодно, выгодно!.. Ирак и Кувейт – только видимость.
– А доказательства?
– Докажу! Не могло без них обойтись. Эту войну они устроили чужими руками. Если им надо, они что угодно устроят. Ты заметил, как у нас стали топить? Батареи холодные.
– Тоже евреи?
– А ты как думал! На прошлой неделе жарили, дышать было нечем. В этом весь смысл: то жара, то холод. Изводят! Общество "Память" тоже евреи организовали.
– Как?!
– Они, кто ж еще. "Память" на них работает. Пугает евреев, те бегут, Израиль крепнет. Дьявольский план. Это уже доказано.
– Кто доказал?
– Я! – он выложил лист бумаги с нарисованными кружочками, квадратами и треугольниками, соединенными стрелками. – Схема заговора! – глаза его сияли, излучая ослепительный неукротимый свет, и было понятно, что он ни перед чем не остановится, распутает любой заговор, всех выведет на чистую воду и предъявит счет.
Учиться Бурову было некогда, все время съедала патриотическая деятельность. По его наблюдениям выходило, что все занятия, семинары, лабораторные работы в институте совпадают с митингами и собраниями патриотов. Разумеется, учебное расписание было составлено с умыслом, чтобы отвлечь патриотов и помешать.
– Расписание составляют евреи, – убежденно доказывал Буров.
Он принципиально не ходил на занятия, если сомневался в чистокровном происхождении преподавателя.
– Пойми, это, как девственность: один раз сдался, и все, тебя нет. Но меня им не окрутить! – истово твердил он и стоял насмерть, храня свою непорочность.
Надо отдать ему должное: не было случая, чтобы он отправился на экзамен или зачет к преподавателю-еврею.
Иногда Буров делался чернее тучи. Чаще всего такое случалось, когда он доверял кому-то, а потом выяснялось, что человек оказался полукровкой или на четверть евреем. Не говоря уже о чистокровных евреях. Для Бурова это было подлинным несчастьем, он не верил, что чутье так могло его подвести, и расценивал случившееся как преднамеренный обман.
Обманувшись, Буров долго и безутешно горевал. Он погружался в черную меланхолию, горе застило свет. Я даже опасался за его здоровье: он выглядел таким беззащитным, таким ранимым.
В общежитие к Бурову приходили друзья, соратники по движению. Что-то общее читалось в их лицах, в глазах – какая-то неудовлетворенность, обида, недовольство, но вместе с тем заносчивость и высокомерие. Похоже, многих из них преследовали неудачи, жизнь не заладилась – то ли способностей не хватило, то ли усердия и характера, и они изуверились, но признаться себе в этом не доставало сил.
Все они были убеждены, что вина за неудачи лежит на ком-то другом, всегда легче, если виноват не ты, а кто-то, чужак. Да и кому охота признать себя неудачником и посредственностью, проще отыскать причину на стороне.
Порознь каждый из них чувствовал себя неуверенно, испытывал горечь.
Порознь они страдали, мыкались, терялись: зыбкость существования давила на них что ни день. Лишь сбившись вместе, сообща, они чувствовали себя уверенно, росли в собственных глазах, подогревали друг друга, взбадривали и даже приобретали некоторую значимость, какой не знали в одиночку.
Да, порознь они находились наедине со своими горестями, невезением, проблемами, неудачами и не знали выхода, но вместе они были умны, красивы, талантливы, сильны, судьба благоволила к ним и сулила удачу.
Борьба с чужаками наполняла смыслом их существование, жизнь становилась полнокровной и увлекательной – не то что прежнее прозябание и маета. Их переполняло праздничное чувство приобщенности к большому и важному делу: ореол избранности окружал каждого из них.
Буров всей душой презирал христопродавцев, у него скулы сводило от ненависти к ним и отвращения.
Позже я потерял его из вида, он исчез и вот на тебе: явился-не запылился!
– Где ж ты пропадал, Буров? – спросил я с искренним любопытством.
Лицо его омрачилось, он застенчиво помешкал, словно решал, стоит ли говорить.
– В Израиле, – проговорил он тихо, будто сознался в чем то постыдном.
– Ты?! – опешил я.
История, которую поведал мне Буров, заслуживает общего внимания. Мать его рано умерла, вырастил его отчим, тихий человек, который в частых запоях пропадал неизвестно где. Буров был уверен, что отчима спаивают евреи, чтобы досадить ему, русскому патриоту Бурову.
Едва отчим появлялся после запоя, Буров учинял ему следствие и допрос в надежде узнать истину.
– Дались тебе евреи! – в крайней досаде укорил его однажды отчим. Сам то ты кто?
– Кто? – растерялся Буров.
– Еврей!
Большее оскорбление для Бурова трудно было придумать. Он был уязвлен до потери сознания.
– Я еврей?! – побелел Буров от ненависти и скверны.
– А то кто же… Натуральный, – буднично отвечал отчим.
Морщась с похмелья от мучительной головной боли, он рассказал, что бабушка Бурова со стороны матери была еврейкой, национальность же у евреев, как известно, наследуется от матери, и хочешь не хочешь, а уклониться не удастся.
Узнав новость, Буров окаменел. Потрясенный до умопомрачения, он застыл, замер, оцепенел и лишь бессловесно пялился на отчима не в силах даже звука произнести.
– Не хотел я тебе говорить, но ты достал меня, – объяснил отчим свой поступок и побрел опохмеляться.
После его ухода Буров слег. Он лежал неподвижный, как колода, безмолвный, точно его разбила неведомая хворь. И пока он лежал, мнилось ему, что за окном сумерки, хотя только-только минул ясный полдень.
Открывшаяся Бурову правда была невыносимей, чем смертельная болезнь. Он был согласен на любой диагноз – на рак, на СПИД, только бы избавиться от свалившейся на него напасти. Да, он готов был на сделку с неизлечимым больным, хотя в глубине души он понимал, что надежды нет: вряд ли кто согласится стать евреем даже в обмен на исцеление.
Думал Буров и о соратниках. Теперь ему не было места в общем строю, все отвернутся от него, никто не подаст руки. Некоторые решат, что он подло их обманул, а кое-кто сделает вывод, что его намеренно заслали, чтобы выведать все и вредить. Буров понимал, что никому ничего не объяснишь, даже слушать не станут.
Выхода не было. Последние силы Буров употребил, чтобы взрезать вены.
Да, он наложил на себя руки. Его можно понять: что еще остается русскому человеку, если он так скоропостижно превратился в еврея?
Когда отчим вернулся, пасынок лежал весь в крови. Врачам удалось его спасти, он долго лежал в больнице, его не покидало суицидное настроение; особая сиделка стерегла его день и ночь, чтобы он не покончил с собой. Огонь в его глазах погас, взгляд стал тусклым, как у слепца.
Понятное дело… Когда русскому патриоту средь бела дня внезапно объявляют, что он еврей, жизнь кончена. Да и зачем, собственно, жить?
В больнице его однажды навестил отчим:
– Брось, не переживай… Очень ты впечатлительный. Что так убиваться? Ну еврей, и еврей, мало ли что бывает… У нас на работе жена одному мужику двойню родила, двух негритят. Люди иной раз калеками рождаются, без ног, без рук… И ничего, живут. Еврею, конечно, похуже, но что делать… Жизнь – штука сложная. Терпи, коли не повезло. Христос терпел и нам велел. А ведь он тоже сперва евреем был.
– Как евреем? – воззрился на него пасынок.
– Очень просто. Ты не знал?
– Мне никто не говорил.
– Скрывали, видно. Да это все знают: самый что ни на есть еврей!
Буров подавленно молчал. Это было похоже на контузию. Слишком много в последнее время свалилось на него сокрушительных новостей, его хрупкая душа ныла от потрясений.
То, что случилось потом, трудно представить даже в кошмарном сне. После выписки Буров сделал себе обрезание. Он определился в хасиды, в самую непреклонную ветвь.
Буров усердно изучал тору – святое пятикнижие Моисея, в синагоге не было более набожного, более рьяного верующего, чем он, никто так не чтил и не соблюдал субботу. Глаза его снова горели, излучая свет. То был огонь сокровенного знания, данного лишь ему – ему одному, жар подлинной истины, открывшейся посвященному.
Теперь Буров знал, что он принадлежит к избранному народу – Бог избрал этот народ для себя: "Вы будете Моим уделом из всех народов" (Исход 1, 9).
Гордыня избранности горела в его глазах, презрительная усмешка играла на его лице, когда он видел нечестивых гоев. Он испытывал свое превосходство над ними, "ибо часть Господа народ его" (Второзаконие 32).
Встречая прежних друзей, бывших соратников, Буров высоко нес голову, твердо зная свое право вознестись над ними, ибо сказал Господь: "Этот народ Я образовал для Себя, он будет возвещать славу Мою" (Исайя 43).
Буров свысока смотрел на снующее вокруг население, высокомерие и гордыня печатью лежали на его лице: кто они, эти дикари, кто они в сравнении с тысячелетиями за его спиной?
Никакие насмешки, никакие проклятия и плевки не могли остудить жар его глаз, он всегда помнил, кто покровительствует ему: "Любовью вечною Я возлюбил тебя и потому простер к тебе благоволение" (Иеремия 31).
Знавшие его прежде дивились разительной перемене. Но где было им, не знающим торы слепым недоумкам, где было им услышать и понять сокровенный голос, обращенный к нему свыше: "И обручу тебя Мне навек, и обручу тебя Мне в правде и суде, в благости и милосердии, и обручу тебя Мне в верности, и ты познаешь Господа" (Осия 2).
Буров уехал в Израиль, где вступил в непримиримую боевую организацию, которая с оружием в руках осваивала оккупированные территории. Такая уж он был цельная натура, что ничего не делал вполсилы, частью души. И если уж отдавался идее, то всем сердцем, в полный накал.
Днем поселенцы пахали землю, ночью охраняли поля и селения от террористов. Внешне Буров мало чем отличался от прочих колонистов. Как все он был одет в шорты, в легкую рубашку-сафари, в тяжелые армейские башмаки, как все носил на темени круглую шапочку-кипу, как все таскал на плече или за спиной легендарный автомат "Узи". Как у всех кожу его покрывал загар. Однако среди поселенцев на левом берегу Иордана не было никого, кто был так предан идее: она неукротимо горела в его глазах, обжигая всякого, кто думал иначе.
Душа его ликовала: он снова был в общем строю – плечо к плечу, локоть к локтю.
Спустя год Бурова отыскало письмо. Он получил его утром, но прочитать не смог и таскал в кармане день, пока работал, не покладая рук, и ночь, пока патрулировал дороги и перестреливался с арабами. И он вскрыл конверт лишь на следующее утро.
Это было первое письмо за весь год, Буров читал его медленно и внимательно. Дочитав до конца, он погрузился в каменное оцепенение и сидел, уставясь в одну точку. Какая-то всепоглощающая мысль ввергла его в немоту, оглушила и обездвижила. Как случалось уже, это было похоже на контузию.
– Обманули, жиды проклятые! – вымолвил он наконец. – Надули! – в трагической досаде он с силой ударил себя ладонью по лбу. – Сговорились! Подстроили!
Письмо пришло от отца. Тот писал, что отчим ввел его в заблуждение то ли по ошибке, то ли по злому умыслу. В письме отец сообщал, что Буров не еврей, а наоборот, русский, православный, и никакого отношения к евреям не имеет.
Первой мыслью Бурова было уйти в партизанский отряд к арабам, но остыв, он передумал и решил вернуться домой.
Он снова стал русским патриотом, соратники простили и приняли блудного сына. Он вновь в строю, плечо к плечу, глаза его, как прежде, горят священным огнем. Буров снова ищет повсюду еврейский заговор, ищет и находит: собственная судьба тому подтверждением. Да, жизнь, похоже, наладилась, вернулась на круги своя.
И только одна маленькая ошибка, допущенная сгоряча, оказалась непоправимой: понятно, что усеченная плоть – потеря невосполнимая. Конечно, он поступил опрометчиво, утраченного не вернуть, хирургия – она и есть хирургия, спешка в таком деле неуместна. Тут, как говорится, семь раз отмерь…
Тайный убыток томил Бурова и угнетал, жег ему сердце. Пустяк, казалось бы, лоскут кожи, но Буров незначительному дефекту внешности придавал огромное значение. Не мог он с ним смириться: то был символ.
– Окоротили евреи, – с горькой скорбью сетовал он не раз. – Неужто навсегда?
Можно понять его отчаяние: в глубине души как истинный патриот он понимает свою неполноценность. Сейчас он уповает на патриотов-хирургов, которые, по слухам, творят чудеса.
– Поинтересуйся, может возьмется кто? – обратился ко мне Буров, прощаясь.
И теперь я обращаюсь ко всем: неужели никто не поможет? Неужели мы не вернем патриоту утраченную первозданность?
Fueled by Johannes Gensfleisch zur Laden zum Gutenberg








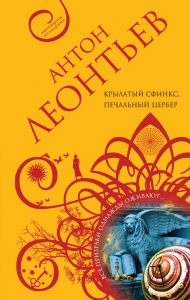
Комментарии к книге «Исповедь патриота», Владимир Семёнович Гоник
Всего 0 комментариев