Мануэль де Педролу Замурованное поколение
I
Фотографии лежали под грудой бумаг, растрепанных тетрадей и разных других вещей. Я всю жизнь терпеть не мог беспорядка, в чем бы он ни проявлялся, возможно потому, что врачебная практика часто предоставляла мне случай убедиться в том, что беспорядок — всегда проявление болезни; но со склонностью к беспорядку у моего сына приходилось мириться. Да этот беспорядок и был чисто внешним, свойственным молодости, и можно было надеяться, что сын со временем понемногу избавится от своего недостатка, хотя бы в наиболее неприятных его проявлениях.
Но здесь было нечто совсем иное. Такой беспорядок заставлял думать о серьезном внутреннем разладе, а возможно, и о психической неуравновешенности, об изменении личности, о нарушении душевного равновесия. Конечно, я знаю, что некоторая неразбериха, некоторый внутренний разлад неизбежны даже для самых здоровых людей, ведь совсем не просто сохранить устойчивое равновесие между нашими страстными желаниями и стремлениями других людей, между нашими мечтами и действительностью.
Но эти фотографии указывали на такой глубокий разлад с самим собой, на такой душевный беспорядок, что я испугался. Кто знает, быть может, они никогда бы и не попались мне на глаза, если бы у меня не кончились чернила в то время, как я делал кое-какие записи по поводу бильгарциоза — болезни, которую прежде не наблюдал и которая у нас не встречается; именно ею, по-видимому, страдал один египтянин, недавно побывавший у меня на приеме. Я поискал карандаш, не нашел его и удостоверился еще раз, что шариковая ручка пишет плохо, возможно потому, что я слишком долго ею не пользовался. Тогда мне пришло в голову, что в комнате у Алехо должна же быть какая-нибудь ручка.
Сперва, коснувшись тонкого картона, я подумал, что это обложка тетради, но, перевернув, понял, что ошибся. Алехо всегда очень увлекался фотографией, и мне бы не пришло в голову рассматривать снимки, если бы только я не сдвинул лежавшие сверху бумаги и не увидел на первой фотографии девушку, снятую в весьма странной позе.
Как я убедился, на всех остальных фотографиях, кроме одной, была тоже снята какая-то девушка. Я предположил, что та же самая, хотя твердо не был уверен. Пораженный, я унес фотографии к себе в кабинет, чтобы разглядеть их повнимательнее. Дома в это время никого не было: Бернардина и Эмма пошли в гости по случаю дня рождения. Алехо не имел обыкновения приходить домой раньше ужина, а что касается прислуги, то она стащила какую-то ерунду и нам ничего иного не оставалось, как распрощаться с нею два дня назад.
Головы у девушки не было ни на одной фотографии: на четырех из них тщательно изучалась нижняя половина ее тела, на остальных трех — ее декольте. Я сразу же понял — и это меня больше всего взволновало, — что фотографии — непристойные: они относились к тому сорту, что возбуждают воображение, однако последний снимок заставил меня забыть об этом. Никакой девушки на нем не было.
Фотографию сделали в комнате, справа видна была часть неприбранной кровати. Объектив запечатлел мужчину, лежащего на полу, на ковре, сдвинувшемся, конечно, при его падении: руки раскинуты, ноги беспомощно поджаты. Все, казалось, указывало на то, что снят труп.
Машинально, надеясь найти какие-нибудь пояснения, я перевернул фотографию. И в самом деле, там были пояснения, написанные карандашом, почерк Алехо. Правда, только дата, проставленная в верхнем левом углу, но дата столь точная, что она включала даже час: половина второго. Вероятно, половина второго ночи: позади мужчины, на тумбочке, горела лампа.
Я растерялся. Посмотрел снова на фотографию, восхищаясь мастерством сына, потому что изображение получилось четким и все детали отчетливо видны, хотя делали ее вроде бы без вспышки.
Голова склонилась к правому плечу, и виден четкий профиль, заостренные черты лица. Рот полуприкрыт распахнувшимся воротником халата, но зато хорошо просматривается щека, несколько впалая, и надбровная дуга, очень выдающаяся, как и скулы, и часть выпуклого черепа, волосы на котором росли отнюдь не в изобилии.
Приглядевшись, я понял, что знаю этого человека, во всяком случае видел его; это было одно из тех лиц, которые мы видим довольно часто, но никогда их не запоминаем, возможно, этот человек был одним из тех, чьи портреты постоянно появляются в газетах…
Сердце у меня екнуло. Я еще не был вполне уверен в своем предположении, потому что если это он, то я его видел всегда хорошо одетым, принимающим участие в той или иной церемонии, просто в обстановке более или менее торжественной, на людях, обычно со слабой улыбкой на жестких губах. Но главное заключалось в том, что как раз дней пять или шесть назад он был убит у себя дома.
Подпрыгнув словно на пружинах, я кинулся из кабинета, но вернулся, чтобы снова поглядеть на фотографию, на этот раз на ее оборотную сторону, где стояла дата. Да, я не слишком ошибся: она была сделана неделю назад. Я знал, какой номер газеты мне нужно искать.
Мне нужно было найти его. Журналы и газеты лежали у нас как попало в ящике в кладовке, там скапливались ненужные предметы домашнего обихода: разбитая посуда, которую уже не склеить, пустые бутылки из-под ликера, старая одежда — всякий хлам, который, когда он грозит переполнить кладовку, отдают старьевщику.
Вытащив все из ящика, я перебрал газеты за последние два месяца. Многих, понятно, не хватало, и среди тех, которые мы на что-нибудь употребили, оказался и номер, вышедший на следующий день после убийства. Интересно, что я не нашел вообще ни одной газеты с портретом этого деятеля или хотя бы даже фотографии, на которой он был бы изображен среди других людей.
Сейчас, вечером, я не мог побежать в редакцию за интересующим меня номером с подробным описанием происшествия; я вспомнил, что читал обо всем этом, но лишь проглядел одним глазом и, при моей слабой памяти, решительно ничего не запомнил. Да и Бернардина с Эммой уже вернулись из гостей.
Пока они переодевались в своих комнатах, я положил кассетник на письменный стол сына. Положил не рассуждая; потому что еще не решил, что мне делать. Если бы я обнаружил только фотографии девушки, все было бы куда проще и я бы не колеблясь поставил сына перед фактом его непристойного поведения. Впрочем, это могло ни к чему и не привести: Алехо — мальчик, которого советы только обременяют, с которым даже неприятно бывает разговаривать, потому, может быть, что сам он в разговоре участвует мало. Не то чтоб он был необщителен, хотя довольно часто замыкается в себе, нет, просто за его словами или за тем притворным вниманием, с каким он слушает, всегда есть что-то еще, скрываемое им, или, лучше сказать, чувствуется его отчужденность, какая-то строптивая уклончивость. Во всяком случае, так бывало дома, потому что с товарищами, я думаю, он вел себя иначе.
В его поведении мне многое не нравилось. Отсутствие пунктуальности, ночные прогулки, провокационные высказывания, обыкновение уходить из дому заниматься неизвестно куда, тот минимум энтузиазма, с которым он выслушивал любые семейные планы, его небрежность в одежде… Но это были простительные недостатки, свойственные возрасту и, возможно, нашему времени. Конечно, я не мог ожидать, что он станет вести себя как вел себя я когда-то; быть может, сегодня это было бы неуместно, и, пожалуй, я и сам вел бы себя иначе, родись я на двадцать лет позже и будь мне сейчас девятнадцать, а не все мои сорок шесть.
И все же, даже принимая в расчет его образ жизни, я бы мог, без сомнения, противостоять тем свойствам его личности, которые выявили фотографии девушки; мне следовало бы потребовать объяснения и исправления, надо было попытаться понять причины, побудившие его сделать снимки, и выяснить, кто она такая, эта девушка, виновная уж ничуть не меньше Алехо, ведь то, что она согласилась фотографироваться в таких непристойных позах, указывало, в конце концов, на отсутствие у нее всякой стыдливости, на недостаток женственности, а это черты, присущие характеру антисоциальному, человеку, ведущему распущенную жизнь. Скорее всего, она сама его и завлекла. Алехо еще юноша, он находится в опасном возрасте, когда так легко оказаться ослепленным ласками любой бессовестной женщины.
Но была фотография, еще больше смущавшая меня. Фотография, которая казалась сделанной в самой спальне жертвы, возможно, совсем вскоре после того, как убийство было раскрыто, и прежде, чем полиция увезла тело, чтобы передать его в руки судебного эксперта. Фотография, которую мог бы сделать служащий из управления, занимающегося расследованием уголовных дел, или журналист, присутствовавший там, и то если бы ему разрешили сделать такую фотографию, что весьма сомнительно, потому что уже довольно давно я заметил, что газеты наши избегают печатать изображения сцен насилия. Естественно, это только указывало на то, что фотографии не публиковали, а вовсе не на то, что их не было. Но Алехо, он что, знаком с газетчиками, знаком с кем-то настолько, чтобы получить копию фотографии, не предназначенной для широкой публики? И если даже знаком, то для чего мог он ее попросить?
С другой стороны, хоть я лишь бегло рассмотрел фотографию, она вроде бы отпечатана на бумаге, которой всегда пользовался Алехо; во всяком случае, это тот же сорт бумаги, на котором он напечатал и фотографии девушки. Значит, следовало признать, что мой сын присутствовал там, когда обнаружили труп, или что он получил доступ в эту комнату некоторое время спустя? Нет, это невозможно, уж слишком фантастично. Его имя не упоминалось в сообщении об убийстве, в этом можно было быть уверенным, потому что, хотя я только проглядывал подобные сообщения, моя сестра Эмма прочитывала их насквозь, не пропуская ни слова; уж она бы нам сказала… Кроме того, Алехо не был знаком с покойным, человеком в годах, занимавшим — если это был он! — высокое положение и в обществе, и в своей партии. Доступ к нему, по имевшимся у меня сведениям, был весьма затруднен, но это не исключало, однако, существования какой-то причины, которая могла бы объяснить присутствие Алехо в частном владении, где преступление было совершено на рассвете.
На рассвете… Я хотел вспомнить, выходил ли из дому Алехо той ночью, но прошло уже довольно много времени, а, кроме того, он так часто выходил из дому поздно, что легко можно было перепутать. Я никогда не одобрял эти его привычки, я даже возражал с год назад, когда в один прекрасный день он попросил у нас ключи от входной двери. Но и на этот раз, как и много раз прежде, когда не надо было бы уступать, страх сделать из него человека неприспособленного, превратить в будущий материал для психоаналитиков заставил меня сдаться перед его доводами: ведь все мальчики такого возраста выходят из дому и возвращаются когда хотят, их родные в это не вмешиваются. К несчастью, это действительно так, и я не смог устоять перед реально сложившейся ситуацией. Мои занятия медициной научили меня всегда и прежде всего уважать факты, каковы бы они ни были, и вот эти-то занятия и еще желание быть добрым, снисходительным и понимающим отцом не один раз толкали меня на уступки, о которых я потом сожалел. Теперь я вижу, что не будь у меня этой навязчивой идеи, именно навязчивой идеи, иначе и не скажешь, как бы не помешать естественному формированию его личности — хотя я не сумел убедить его, что свобода налагает ответственность на эту личность за ее поступки, — и если бы я не боялся, что он будет не как все, то многого бы не произошло. Например, той ночью Алехо остался бы дома.
Мне пришло в голову, что я легко могу убедиться, были ли сделаны эти снимки его фотоаппаратом, ведь я знал, где он хранил пленки, нарезанные шесть на шесть и вставленные в складные кассетники — так легче было ими пользоваться. Но в тот вечер я не мог этого сделать: и жена, и Эмма очень бы удивились, увидев меня в комнате у Алехо, особенно они удивились бы, если бы я там засел надолго, а я предпочитал не говорить прежде времени о моем открытии. Это открытие, подумал я, они тоже могли бы сделать, ведь снимки лежали совсем близко от всякого, кто открыл бы ящик и потрудился только поднять скопившиеся там тетради и бумаги. Какая неосторожность! Неосторожность, присущая позиции человека безвольного и в то же время скрыто провоцирующего; именно такую позицию, как я замечал, занял не только он, но и почти все его товарищи, бывавшие у нас в доме в разное время, — эти молодые люди, которые стоят столбом, широко расставив ноги, руки в карманы, во взгляде смесь застенчивости и презрения, и спасаются в этой своей странной гордости юношеского возраста, как будто и взрослыми никогда не станут.
Как бы там ни было, но что касается фотографий, так тут Алехо мог полагаться на отсутствие любопытства и у его матери, которая, как и я, отказалась от борьбы с привычками Алехо и давно уже ни к чему не притрагивается у него на столе, ограничиваясь самой приблизительной уборкой: ведь, что бы жена ни делала, комната все равно всегда имела такой вид, будто здесь только ночевали, словно бы здесь остановился проезжий, да и всякая жизнь здесь вот-вот затухнет, изничтоженная ею же устроенным беспорядком.
Но можно же подумать о прислуге, не шпионит ли она, ведь она еще была в доме, когда он доверил эти фотографии не очень-то укромному тайнику в письменном столе. Он знал, что она заглядывает повсюду, куда ей заблагорассудится, — как мы считали сначала, из простого интереса к чужой жизни, нам и в голову никогда бы не пришло, что у нее могли быть более определенные задачи. Но ведь кто знает, может, Алехо именно и стремился, чтобы эти кассетники нашла она или мы, это ведь как раз и не противоречит стремлению к самообнажению, которое всегда присутствует у людей очень молодых по возрасту или по уровню развития чувств.
В любом случае был какой-то вызов в этой притворной маскировке, в этой неосторожности, которая, чем больше я о ней думал, тем более казалась мне преднамеренной, неосторожность эта говорила и о наслаждении, причиняемом болью, ведь Алехо, безусловно, понимал, что такое открытие взбудоражит нас. Для него было очевидно, что мы всегда — и сейчас, и прежде — беспокоились о его физическом и духовном здоровье и что если в последнее время мы не ходили за ним по пятам, то не из-за недостатка любви или интереса к нему, а только из-за того, каким он стал, из-за его отношения к нам, ведь он отвергал наши лучшие побуждения и часто давал понять, что мы лишние.
Мое волнение и беспокойство возрастали с каждой минутой, пока я сидел, запершись в кабинете, в ожидании ужина. Я решил ни о чем не говорить, ждать утра: возможно, что-нибудь прояснится, когда я прочитаю газету, — но принятое решение не успокоило меня. Я всегда любил идти на острое заболевание прямо в лоб и атаковать его прежде, чем оно разрастется и разрушит здоровые органы. Отсрочки — это противно тому, чему я научился, противно моим жизненным принципам, и тот факт, что Алехо поставил меня в ложное положение, при котором мне пришлось выжидать, только усиливал рождавшееся глухое недовольство сыном.
Естественно, когда Алехо уже почти в десять часов поднялся на наш этаж и просунул голову в кабинет, он и не заметил, что я держусь не совсем обычно, хотя я все еще сидел, держа в руках раскрытый медицинский журнал, но отнюдь не продвинулся в своих записях о бильгарциозе. Внешне Алехо был оживленнее, чем всегда, и мое несколько суховатое, нет, скорее сдержанное, приветствие, вероятно, ничуть его не задело, потому что немного погодя я услышал, как он насвистывает одну из тех мелодий, которые похожи на судороги, а названия у них, насколько я смог уловить, почти всегда английские или американские и кажутся непереводимыми.
Позднее, за ужином, стало ясно, что он пришел в хорошее настроение, побывав в кино. Для него было характерно — здесь крылся еще один мотив для моих грустных размышлений — обретать доброе расположение духа и становиться общительным после какого-нибудь огорчения: фильм ему не понравился. Это была лента Бергмана «Источник»; целых полчаса, пока мы ужинали, он иронизировал над фильмом под возмущенные крики Эммы, которая видела фильм — ей он понравился, — и при моем полном молчании. Я ограничился тем, что, глядя на его лицо, пытался за привычным обликом обнаружить незнакомца, всегда жившего в нем — сейчас для меня это стало совершенно очевидным, достаточно оказалось фотографий…
Алехо интересовался, как и многие юноши его возраста, искусством, которое сегодня принято называть документальным, разоблачающим; отсюда и исходила критика фильма шведского режиссера. По мнению Алехо, лента эта — бегство от действительности, она оторвана от жизненных коллизий, в ней нет беспокойства о жизни вообще; вещь формалистического направления; все эти режиссеры ищут в образах не правду жизни, а красоту. Признаюсь, я мало смыслю в кино, и, возможно, поэтому понятия, которыми Алехо оперировал, производили на меня кое-какое впечатление и делали сына в моих глазах человеком, разбирающимся в предмете, о котором он говорит. Но тут я вспомнил рассуждения Алехо о литературе, а на этой площадке я чувствовал себя гораздо увереннее.
Еще и полгода не прошло с тех пор, как я имел слабость дать ему прочитать один из двух написанных мною романов, к сожалению неизданных, потому что у меня не было знакомых в издательском мире, не было и времени ходить с просьбами по редакциям. Друзья, читавшие эти романы, хвалили их взахлеб, некоторые даже в своих похвалах дошли до того, что утверждали, будто я продолжаю традиции Бальзака, и на конкурсе, на который я посылал один роман, за него было подано несколько голосов. Но Алехо, со своей обычной стремительностью и — надо это признать — грубой откровенностью сказал мне, что, на его взгляд, моя литературная манера устарела, он отнесся ко мне как к дилетанту, даже дал совет, как сделать роман лучше, и кончил неким общим комментарием, из которого можно было понять, что литература наша пришла в упадок более всего от той чепухи, которую сочиняют воскресные графоманы — так он выразился.
Не стану отрицать, его оценка все же меня раздосадовала, и я даже попытался опровергнуть его мнение, прибегнув к более серьезным аргументам, чем того заслуживали его легкомыслие, возраст и неподготовленность к тому, чтобы судить о таких вещах правильно. Он никогда не читал и не желал читать великих романистов, например Бурже; пренебрежительно отзывался о том немногом из Диккенса, что успел прочесть, хотя мистер Пикквик его забавлял; он считал, что абсолютно все написанное Сомерсетом Моэмом устарело, и горячо восхищался лишь двумя-тремя новейшими французскими романистами, которые пишут такое, чего и сами, должно быть, не понимают, да и так думать о них — это еще весьма снисходительно. Как-то он дал мне почитать один из этих знаменитых романов под названием «Malone meurt»[1] опубликованный южноамериканским издательством; разумеется, двух десятков страниц было для меня больше чем достаточно.
Мнения его были категоричными, резкими, непримиримыми, как у всех молодых людей; это были не столько суждения, сколько импровизации. Все, что по той или иной причине ему не нравилось, немедленно расценивалось как личное оскорбление, если только он не принимал иронический и снисходительный тон, как в этот вечер, когда говорил о Бергмане; кстати, не так давно он видел другой фильм шведского режиссера — «Седьмая печать», который, напротив, произвел на него сильное впечатление: он пришел домой подавленный, задумчивый и молчаливый. Конечно, не стоило принимать мнения Алехо слишком всерьез: в таком возрасте движутся на ощупь, личность еще не определилась окончательно, она пластична и подвержена всякого рода влияниям. Но именно поэтому так необходимо, чтобы влияния были положительными: окружение, в котором личность осознает наконец сама себя, должно помогать гармоническому формированию некоторых черт характера; хотя они в какой-то мере и являются наследственными, тем не менее достойное окружение поможет направить их в благоприятное для духовного развития личности направление.
У Алехо не было недостатка в положительных примерах. Мы с Бернардиной — дружная супружеская пара, всегда вели себя как порядочные люди, насколько это возможно в нашем мире. Наши взаимоотношения соответствовали нашему положению, и мы всегда придерживались принципов, внушенных нам в юности, — принципов, на которых, кстати, зиждется наше общество. Правда, мой научный кругозор в ряде вопросов давал дорогу скептицизму, но у меня всегда хватало здравого смысла, чтобы остерегаться собственных сомнений, потому что некоторые вещи можно с полным основанием оспаривать в мыслях, но провозглашать свои доводы публично — безнравственно.
К несчастью, атмосфера, которую создали мы с Бернардиной и которой вполне соответствует моя сестра — хотя, я знаю, были и у нее бунтарские порывы, особенно смолоду, пока она еще не смирилась окончательно с ролью старой девы, — эта атмосфера не выдержала натиска извне, не выдержала влияний, чуждых нашему очагу, пораженческих настроений определенной части общества, которая притязает на то, чтобы начисто отмести все ценности, освященные традицией, — ценности, которые сделали нас тем, что мы есть: разумным народом, экономически процветающим, культурным, свободомыслящим и одновременно любящим порядок.
Но нельзя запереть ребенка, тем более юношу, в кругу родных; необходимо дать ему образование, а это возможно сделать лишь в хорошем коллеже; необходимо способствовать его общению со сверстниками, чтобы он вошел в общество как полноправный член; необходимо предоставить ему определенные развлечения, которые отчасти явятся компенсацией за ученье, за труд, и отчасти — разновидностью общения с выбранными им самим людьми, а это способствует свободному формированию личности. Позднее приходится отпускать вожжи и соглашаться на некоторую эмансипацию юноши; к сожалению, в определенные минуты и при определенных обстоятельствах ты оказываешься вынужденным терпеть и не осаживать его даже в большей мере, чем это диктует благоразумие.
Как раз так и получилось у нас с Алехо. Под влиянием прогресса, самого по себе желательного, но иногда принимающего нежелательные формы, в молодых людях укрепился иной дух, которому мы, отцы, не всегда сумели противостоять должным образом. По этой причине мы были доведены до такой крайности, что отступили от верности устоявшимся принципам и поддались нажиму, который в конечном счете сильно напоминает вымогательство, поскольку сила его основана на мнении окружающих — дескать, все так делают. «Все» — это безымянное множество, неподвластное никакому контролю, утратившее свою форму, свое лицо, а вместе с тем и какую бы то ни было ответственность.
Во всяком случае, понять их трудно. Я знаю других молодых людей, детей моих коллег и друзей, выросших, как и Алехо, в респектабельной буржуазной среде и воспитанных в католических коллежах, молодых людей, таких же думающих, как и он, и сумевших избежать подводных камней, которые подстерегают молодежь на каждом шагу. Насколько я знаю, это честные, трудолюбивые юноши, органично вошедшие в семью, будущие специалисты, на которых вполне можно положиться. Они тоже живут в нынешних исторических условиях, подвержены тем же напряжениям, но они умеют обращать эти напряжения в нечто созидательное, сублимировать, тогда как Алехо им уступает, отдает себя в их власть сладострастно, торжествуя, как будто бог знает какая победа — сознавать себя непохожим на своих близких, отрицая то, во что верят они, разрушая созданное веками и заблуждаясь настолько, чтобы смешивать страсть к разрушению с пафосом созидания.
А теперь еще и это! Ведь до сих пор были одни слова, более или менее вызывающие воззрения, нежелание признать, что жили и до него, убеждение, будто настоящий мир зарождается только сейчас, что кульминация нашего исторического момента выпала на долю как раз его поколения и именно этому поколению суждено вынести окончательный приговор всем остальным поколениям. По существу, против этого незачем было бы возражать: это болезнь роста, которой страдает вся молодежь, и она вовсе не предполагает рокового исхода; от нее выздоравливают. Но это… Никак оно не шло у меня из головы. С одной стороны — фотографии девушки; с другой — фотография трупа, трупа, повторял я себе, доступа к которому в нормальных условиях он иметь не мог.
Пока он продолжал спорить с Эммой о фильме, в мозгу моем возникла новая мысль, я подумал о другой возможности. Пожалуй, эта мысль таилась в моем сознании и раньше, когда я рассматривал фотографию, но на поверхность не всплывала, не вставала передо мной во всей своей безжалостной вероятности. И во всей своей невероятности одновременно. Потому что в эту минуту я допустил, что легче всего сделать снимок было убийце или сообщнику убийцы, тому, кто находился в квартире этого человека, когда совершилось преступление. Но как представить себе, что мой сын мог запачкать руки кровью? И для чего? Каков мог быть мотив преступления? Правда, в своих воззрениях, которые Алехо не раз высказывал, он часто приближался к идее насилия, но не выражал ее непосредственно, и, кроме того, одно дело — теоретическое обоснование враждебности к чему бы то ни было, другое — действие, акция, требующая твердости духа.
Я не мог представить себе сына в роли убийцы отчасти потому, что он мой сын — ведь мы всегда отвергаем мысль о том, что наши близкие способны совершить поступок, исключающий их из круга порядочных людей, — а частично из-за того, что, несмотря на пробелы в моих представлениях о его образе жизни, я достаточно знал сына, чтобы обладать уверенностью (или считать, что я ею обладаю) в том, что в глубине его души живет эгоистичная осторожность, инстинкт самосохранения, который в последнее мгновение помешал бы ему скомпрометировать себя.
Затем следовало принять во внимание его беззаботное настроение, и не только сейчас, когда он горячо спорил с Эммой — иногда моя жена тоже подавала реплики и спор еще более разгорался, — следовало принять во внимание и как он вел себя все это время. Мне казалось, что он ни на минуту не переставал быть самим собой; ни разу не заметил я ни в жестах, ни в выражении его лица ничего такого, что выдает человека, озабоченного совершенным им преступлением, проблемой, которая, в сущности, не требует решения, поскольку такового не имеет, но которая именно поэтому так сильно влияет на нашу манеру держаться.
Конечно, я мало видел Алехо; собственно говоря, только за столом. Мне надо было бы вникать в жизнь моего сына и в его заботы, которые заставили Алехо неизвестно зачем ранним утром ехать на факультет, надо было узнать о друзьях, с которыми он проводил свой досуг, учитывать увлечения, в особенности фотографию, из-за которой он часто уединялся в своей маленькой крепости — импровизированной домашней фотолаборатории. С другой стороны, у меня была и своя жизнь, свои обязанности: утренние визиты к больным, занимавшие иногда много времени, частные консультации, консультации в клинике два раза в неделю, срочные вызовы, бесчисленные дела, съедающие время всех, кто занимается общей терапией — ведь мы рабы наших больных, — тревожные вызовы, случающиеся в любое время дня и ночи…
Да, моя семейная жизнь уже много лет тому назад оказалась сведенной к каждодневному общению за столом, к проведенным вместе субботам и воскресеньям и к праздничным торжествам. Но даже за столом я постоянно думал о каком-нибудь больном и не мог так глубоко вникать в дела домашних, как мне бы того хотелось. Какой-нибудь тяжелый больной, в каких у меня недостатка не было, в любой момент мог позвонить и разлучить меня с моими близкими как раз тогда, когда я был с ними всем сердцем. Редко выпадали дни, как этот: я возвратился домой раньше половины восьмого, и, надо полагать, никто меня так рано не ждал, тем более Алехо, так как сам он, если судить по времени, проводимому им вне дома, был занят больше меня. Может, на самом деле он и не считал, что это его дом. Однажды он заявил мне, что у каждого человека лишь один дом: тот, который он создает сам.
Мы встали из-за стола в одиннадцать, немного позже, чем обычно; все-таки ощущалось отсутствие прислуги, несмотря на старания Эммы, которая обычно занималась кухней, когда мы оставались без служанки. На Бернардину нечего было рассчитывать: она терпеть не может стряпню; это один из ее серьезных недостатков, которых, насколько мне известно, немного. Алехо закурил сигарету и полистал газету, с полудня лежавшую на буфете. И тогда неожиданно для самого себя, так что больше всех удивился я сам, я спросил:
— Нет ли чего-нибудь новенького об убийстве того политического деятеля?
На мгновение он замер; после едва ощутимой паузы спокойно перевернул страницу газеты.
— Какого деятеля?
И он посмотрел на меня с рассеянным невинным видом. Лицо его словно расплывалось в окутывавшем его табачном дыму, кольца которого медленно поднимались к потолку…
— Ну, разве ты не читал? С неделю тому назад его нашли мертвым в собственной квартире…
— A-а… Эту свинью… — прервал он меня безразличным тоном.
— Алехо! — с укором воскликнула его мать, не переносившая слишком грубых выражений. — Сколько раз повторять тебе, что подобные обороты речи мне неприятны!
— Нечаянно вырвалось, — ответил он улыбаясь и снова посмотрел на меня. — Я ничего про это не углядел. Его не найдут. — Он сделал паузу. — Я имею в виду убийцу.
— Почему?
Он пожал плечами, перевернул еще одну страницу и сунул в рот сигарету.
— А мне кажется, что рано или поздно обнаруживается все, — заметила Бернардина.
— Это только кажется. На самом деле каждый год несколько преступлений остаются нераскрытыми. И не только у нас, но повсюду.
— Не знаю… — сказал я, колеблясь и все более волнуясь: момент был самый удобный для того, чтобы Алехо сообщил нам, что у него есть фотография трупа, и рассказал, как он ее заполучил. — Думаю, что этим случаем заинтересуются особо.
— Может быть, — снова пожал он плечами с безразличным видом, после чего, не дочитав, сложил газету, обошел стол и направился в свою спальню.
— Ты уходишь? — спросила жена.
Он на мгновение задержался.
— Ненадолго. Вернусь до часу.
— Мне не нравится, — сказал я, вытягивая руки вперед и внимательно разглядывая ноготь, который, как я только что обнаружил, сломался. — Мне не нравится, что ты уходишь так часто. Сегодня вечером ты уже побывал в кино…
— Я же не сказал, что снова иду в кино, — остановился он у самой двери. — У нас собрание.
— Собрание? — переспросил я, поднимая на него глаза.
— Да, собираются ребята нашего факультета. Нас не устраивает положение вещей и…
— Мне будет очень жалко, если ты попадешь в какую-нибудь историю, — прервал его я. — Думай, как хочешь, но держи свое мнение при себе.
Он посмотрел на меня очень пристально и вдруг захохотал, и в хохоте его был какой-то презрительный оттенок, всегда немного обижавший меня.
— Что толку думать молча?
— Есть толк… — начал я, не зная еще сам, что сейчас скажу. Я чувствовал глубокую досаду и с раздражением отметил про себя, что это случалось всякий раз, как мы начинали более или менее серьезный разговор
— В чем он? — упорствовал Алехо.
— Но, черт побери! — Я нетерпеливо вскочил со стула. — Тебе всего-навсего девятнадцать лет. Неужели твое мнение кажется тебе таким важным, что ты не можешь молчать?
Он провел нижней губой по кончикам верхних зубов и сдвинул ноги, стукнув ботинком о ботинок.
— Ты думаешь, я ничто. Потому что мне девятнадцать лет…
— Отец этого не сказал, — запротестовала Бернардина.
Он продолжал, словно не слышал ее слов:
— …примерно столько же, сколько было тебе, когда ты воевал. Ты сам много раз говорил об этом, вспомни!
— Что ты этим хочешь сказать?
— Ты должен был бы считать, что если в этом возрасте человек достаточно созрел, чтобы подвергаться смертельной опасности, значит, он также имеет право на собственное мнение.
— Никто у тебя этого права не отнимает.
Он расставил ноги, засунул руки в карманы:
— Иногда мне кажется, что отнимают.
— Лишь потому, что мы не хотим, чтобы с тобой что-нибудь случилось, Алехо. Вспомни о тех твоих товарищах, которых арестовали…
Он открыл и снова закрыл рот, и от подобия улыбки лицо его скривилось, это была нервная улыбка.
— Мама, я сказал только, что иду на собрание… Приду не поздно, — добавил он, затем повернулся и исчез в коридоре.
Мы с Бернардиной ничего друг другу не сказали, молчание наше было немного пристыженным, неловким, его нарушал лишь приглушенный шум, доносившийся с кухни, — Эмма мыла тарелки. Неизвестно для чего я встал и включил радиоприемник. Пока лампы прогревались, жена сказала мне:
— Мы не должны бы разрешать ему так часто уходить…
— Да, конечно, не должны.
— По временам меня это беспокоит.
Я рассеянно кивнул. Хорошо, что я ничего не сказал ей о фотографиях, особенно о той, потому что моя интуиция, как видно, не подвела меня, когда, просматривая снимки, я больше значения придал трупу, чем девушке. Теперь у меня не осталось ни малейшего сомнения, что Алехо что-то скрывает. Он не сумел, не захотел использовать возможность честно и открыто рассказать обо всем, а это заставляет предположить, что он виновен, не обязательно в убийстве, но наверняка в соучастии. И теперь меня больше всего пугало его безмятежное спокойствие. Ни в манере держаться, ни во взгляде Алехо я не заметил ничего, что выдавало бы его волнение, вообще какое бы то ни было чувство, как будто в душе он был доволен сам собой и не знал за собой никакой вины…
Я сел в кресло у радиоприемника, из которого лился глухой голос французской певицы, исполнявшей песню на своем родном языке. Мне было не по себе. Я много раз сталкивался со всевозможными проблемами, порой весьма сложными, и привык решать их без особых колебаний, но теперь весь мой опыт, вся моя уверенность оказались ни к чему. Быть может, потому, что была не вполне ясна суть проблемы; а может, и потому, что какая-то часть меня отказывалась признать даже существование этой проблемы и верила, что из-за какого-то недоразумения я пошел по ложному следу. Хуже всего было, что я никого ни о чем не мог спросить, ни с кем не мог поделиться заботами и у меня не было никакой возможности провести самому или поручить кому-нибудь расследование дела, которое могло означать катастрофу для всей нашей семьи.
Оставалась лишь газета с описанием преступления — эти сведения, быть может, ответят на мой вопрос, объяснят мне так или иначе эту проблему, дадут какое-нибудь указание, следуя которому можно будет действовать, если это окажется необходимым. Мне не терпелось заполучить этот номер газеты, проглотить два полустолбца, занимавших, если мне не изменяет память, добрую часть первой страницы под рубрикой «Местная хроника». Однако, учитывая положение убитого в обществе, следовало признать, что это очень мало; я тогда удивился, но подумал, что, возможно, она была так написана по соображениям общественной безопасности, из осторожности.
При всем моем нетерпении я не смог прямо с утра отправиться за сведениями, которых так жаждал. В ту минуту, когда я собрался уходить, зазвонил телефон — срочный вызов: девочка, худосочное создание тринадцати лет, потеряла много крови, и надо было во что бы то ни стало немедленно произвести переливание. Ее мать, вдова, зарабатывавшая на жизнь уборкой квартир, не состояла ни в какой профсоюзной организации, не была членом кассы медицинского страхования и, разумеется, не могла позволить себе роскошь поместить девочку в частную клинику. Пришлось прибегнуть к услугам университетской больницы, где я провел битых два часа, пока у девочки не появились признаки улучшения. Не мог я покинуть этих двух несчастных, которых лечил много лет, ведь для них одно мое присутствие было залогом спасения.
Наверное, только около половины одиннадцатого я вошел в редакцию газеты. Пока я ехал в такси, хоть это было недалеко, я сообразил, что мог не обратить внимания на заметки о ходе расследования в последующих номерах и, стало быть, нужно просмотреть все номера газеты за неделю. Это можно сделать там же.
Швейцар или какой-то другой служащий, сидевший за столом, любезно указал мне на откидной столик, за ним я мог расположиться и искать то, что меня интересовало. Я был здесь не один: через два столика от меня какая-то девушка просматривала другую подшивку, а у входа двое мужчин погрузились в чтение сегодняшнего номера.
Я сразу взял интересовавшую меня газету за тринадцатое число, но, к своему великому удивлению, не обнаружил там того, что искал. Этого сообщения не было и в газете за четырнадцатое. Как это понять, если убийство произошло двенадцатого, точнее — в ночь на двенадцатое? Ведь именно эту дату написал Алехо на обороте фотографии.
Я продолжал просматривать газеты. Сообщение оказалось в номере за пятнадцатое число, и, начав читать его, я увидел, что датой смерти названо утро предыдущего дня, то есть четырнадцатое. С усердием принялся я за чтение сообщения, написанного цветисто и несколько несуразно, а иногда и не совсем внятно, как пишутся многие официальные сообщения. Нет надобности воспроизводить здесь целиком все три цветистых абзаца; в общем, газета сообщала, что у занимавшего высокий пост чиновника был проломлен череп в правой височной области; было нанесено несколько ударов каким-то тупым предметом, видимо, убийца хотел достичь своей цели наверняка. Труп обнаружила жена погибшего, когда она утром вошла в спальню мужа, из чего можно понять, что супруги спали в разных комнатах. Ни в спальне, ни в других помещениях не обнаружено исчезновения ценных вещей; в кармане брошенного на стул пиджака, в котором убитый был накануне, остался бумажник с деньгами. Ограбление как мотив убийства исключалось.
Газета далее поясняла, что пострадавший, скорей всего, был застигнут врасплох, когда собирался лечь в постель, полиция даже считает, основываясь на некоторых признаках — из газеты нельзя было толком понять, каких именно, — что нападавший был знаком убитому. Удары были нанесены спереди, и никаких следов борьбы в спальне не обнаружено.
Я быстро просмотрел газету за последующие дни, и у меня сразу возникло впечатление, что дело хотят замять или, во всяком случае, охладить интерес читателей к нему, так как появилась всего лишь еще одна заметка в номере от шестнадцатого числа, в которой уточнялось, что, по заключению судебного эксперта, смерть наступила за семь-восемь часов до того, как труп был обнаружен, и, таким образом, временем совершения убийства следовало считать ночь на четырнадцатое, что совпадало с датой, подразумевавшейся в предыдущей заметке, и не совпадало с тем, что было написано на обороте фотографии.
В том же номере я обнаружил два сообщения о смерти, официальное и от семьи; из них я узнал, что политическому деятелю было пятьдесят три года и кроме жены он оставил двух дочерей, одна из которых замужем, поскольку там упоминалось еще и имя зятя. Похоронное бюро — с улицы Трафальгар.
Просматривая страницы с фотоматериалами, на которые раньше не обратил внимания, я нашел и фотографию пострадавшего, но совсем другую, нежели та, что хранил Алехо. Эта была поясная, и на ней был запечатлен полнокровный мужчина, он улыбался, хотя черты его выражали свирепую жестокость, никак не вязавшуюся с довольной улыбкой. Именно по этому несоответствию я установил, что высокое государственное лицо и мужчина, лежавший на полу у кровати, — один и тот же человек.
Из редакции я вышел, не зная, что и думать. На фотографии у моего сына, датированной двенадцатым числом, запечатлено событие, происшедшее два дня спустя, — мыслимо ли это? Можно, конечно, допустить, что Алехо ошибся, проставляя на фотографии дату, но это почти невероятно. Тот, кто берет на себя труд пометить даже час, когда был сделан снимок или когда было совершено убийство, подобных ошибок не совершает. Оставалась другая возможность. Не лжет ли заметка, которую я только что прочитал? Но и это неправдоподобно: на первый взгляд какое имеет значение, совершено ли убийство на сорок восемь часов раньше или на сорок восемь часов позже? Неоспоримо было лишь то, что где-то допущена ошибка, преднамеренно или нечаянно, и у меня нет возможности выяснить, кто же ее совершил.
Впрочем, пожалуй, есть. А именно: если повезет, то можно было бы разузнать еще о каких-нибудь подробностях, о новых уточнениях, которые не попали в газеты. На встречи врачей, имевшие место дважды в неделю, по средам и субботам, в одном из кафе на Пасео-де-Грасиа, где я бывал крайне редко из-за недостатка времени, почти всегда приходил некий молодой человек. В свое время он потерпел крах на медицинском поприще из-за подпольного аборта, факт которого юридически доказан не был, но перед Коллегией юноша был скомпрометирован, он оставил медицину и занялся журналистикой. Сумел пробить себе дорогу, так как был человеком энергичным и ловким, умел приспосабливаться, и все мы знали, что у него широкие связи.
Как раз была среда. Я решил поскорее покончить с приемом в клинике, который вел с шести до восьми, и нагрянуть в кафе, где мы обычно собирались. К несчастью, в тот день было много работы, и раньше половины девятого я не смог уйти из кабинета: в последний момент явилась девушка, обнаружившая затвердение в груди и опасавшаяся рака. Она напомнила, что я лечил ее мать, умершую от этой болезни после хирургического вмешательства, которое следовало произвести несколькими годами раньше, пока болезнь не распространилась. Больная была перепугана, и профессиональная этика требовала, чтобы я тщательно ее осмотрел и проверил, нет ли, кроме несколько аморфного затвердения, также и стягивания соска, морщинистости кожи и деформации ареолы, которые характерны для таких случаев. Мне показалось, что паника ее безосновательна, и дальнейшая пальпация большой грудной мышцы подмышечной впадины, где я не обнаружил набухания лимфатических желез, окончательно убедили меня, что затвердение, несомненно, вызвано другими причинами. Но поскольку при таких заболеваниях никакая предосторожность не бывает излишней, тем более если в семье были прецеденты, для собственного спокойствия я дал ей направление к специалисту, чтобы тот сделал анализы; когда вернется с заключением, если понадобится, будем оперировать.
Я пришел в кафе без четверти девять, и кое-кто из постоянных участников встреч уже собирался уходить; компания обычно расходилась в девять, максимум в половине десятого.
— Как, дружище, ты еще жив? — воскликнул Олье.
Всего два дня назад мы с ним разговаривали по телефону о подозрении на лейкемию, потому что он был патогистолог, но сейчас он имел в виду, что я давно не приходил на наши собрания.
— Иногда жив, а бывает — и не очень, — пошутил я.
— Мне бы это подошло, — вмешался Помили, о котором нам всем было известно, что он не может заснуть без снотворного.
Потом они вернулись к разговору, продолжив его с того самого места, на котором я их прервал. Как обычно, говорили о медицине, и, насколько я понял, Исерн, психиатр, делал настоящий доклад с анекдотическими примерами о лечебном воздействии искусства. Тема, разумеется, была не нова, но некоторые из его примеров были забавны, особенно случай с девушкой, которая после многих лет борьбы с навязчивым неврозом сексуального типа написала пятьдесят картин и в тридцать лет, совсем выздоровев, пришла к оптимистическому финалу, как в волшебных сказках: вышла замуж и была счастлива. В общем, психиатрия — такая область, которая меня живо интересует, хотя я в ней и не силен, но на этот раз сообщение Исерна начало меня утомлять. По счастью, Моргада, тот журналист, еще не ушел, и я нарочно сел рядом с ним. Друзьями мы никогда не были: он окончил университет позже, чем я, и после истории с предполагаемым подпольным абортом меня не тянуло к сближению с ним. Собственно говоря, его к нам привел Олье, давным-давно, вскоре после того, как Моргада женился на его свояченице, и мне кажется, многие из нас встречались с ним только здесь, в кафе. Я вспомнил, что, когда он еще практиковал, он появлялся на собраниях довольно редко, а усердным их участником стал потом. По-видимому, для него они были важны как единственная ниточка, связывающая его с врачебным миром.
Лишь после девяти, когда все начали расходиться, мне удалось направить разговор в нужное мне русло. И не то чтобы к слову пришлось, а просто я воспользовался паузой, после того как Исерн позвал официанта. Я спросил:
— Да, кстати, что слышно об убийстве того высокого лица?
Вопрос не был обращен ни к кому в отдельности, но, как я и ожидал, на него ответил Моргада. С немного циничной улыбкой он сказал:
— Расследование продолжается.
Я улыбнулся всем сидевшим за нашим столиком.
— Этого следовало ожидать.
— Вас это интересует, Фаррас? — спросил Исерн.
— Нет. Просто показалось удивительным, что об этом случае так мало пишут. Газеты ограничились официальным сообщением почти без комментариев и…
— Вам запретили? — прервал меня Олье, обращаясь к своему родичу.
— Ну… Собственно говоря, нечего и писать.
Моргада казался более сдержанным, чем обычно, но у меня была причина настаивать:
— И расследование не продвинулось?
Он взял сигарету, сунул ее в рот, затем, как все, вытащил кошелек, чтобы расплатиться с подошедшим к столику официантом. Когда тот отошел, Моргада сказал, хотя никто не тянул его за язык:
— Мне кажется, мудрено ему продвинуться… — Он помолчал и добавил: — Только между нами…
— Конечно… — закивали мы, а Исерн, вставший было, снова сел.
— Дело это грязное, странное… Вы знаете, что нас, журналистов, поставили о нем в известность лишь через десять-двенадцать часов после того, как тело обнаружили?
— Нет! Это почему же?
Он пожал плечами и пальцем сбил пепел с кончика сигареты.
— Мы не знаем, а хотелось бы узнать, можете не сомневаться. Нам передали официальное сообщение в том виде, в каком мы его и опубликовали, а на следующий день сообщили некоторые подробности. И все. Даже не разрешили фотографировать.
— Да? Я заметил, что в газетах не опубликовали ни одной фотографии, но…
— Журналистам разрешили взглянуть на труп, только когда его перенесли в церковь, через стеклянную крышку гроба. Будто это совершенно заурядный случай.
— Не вижу в этом ничего особенного, — сказал Мирет, самый молодой из нас и обычно очень молчаливый.
— Может, и так. Но вовсе не естественна эта… ну скажем, эта сдержанность. Особенно удивляет, что нам потом не дали никаких сведений о ходе расследования..
— Но у тебя такие связи, — сказал Помили. — Ты, наверное, с кем-нибудь говорил… Что-нибудь да известно.
— Не известно ровным счетом ничего. Все молчат как убитые… как сам политический деятель. Единственно могу сказать, что кое-кто начал строить догадки, предположения.
— И что говорят?
Моргада посмотрел по сторонам, словно желая убедиться, что поблизости нет никого, кто мог бы подслушать.
— Что с ним свели счеты и, возможно, в деле замешаны крупные шишки.
— Политика?
— Да. Только я в это не верю.
— Почему?
— Тогда дело постарались бы заглушить привычным грохотом литавр. Так, чтобы ничего другого не было бы слышно.
— Ну а твое мнение?
— Самоубийство, — просто ответил Моргада.
Полагаю, мы все посмотрели на него с одинаковым изумлением, и он, видимо, это заметил, потому что тут же добавил:
— Только такая версия, на мой взгляд, объяснила бы такое странное отношение к его смерти.
Да, могло быть и так. Признаюсь, мне это в голову не приходило, но я, естественно, и не мог бы составить себе такое суждение, зная обо всем только по газетам. Но как бы то ни было, то обстоятельство, что у Алехо оказалась фотография убитого, осталось без объяснения и даже оказалось еще более необъяснимым, чем прежде. С другой стороны, когда я поразмыслил, оставшись один, то подумал, что этот фотодокумент опровергает гипотезу Моргады. Никто не кончает с собой на ковре возле кровати. Здесь обязательно скрыто нечто более важное, и слова журналиста лишь окончательно сбили меня с толку.
Теперь больше, чем когда-либо, я хотел взглянуть на негативы Алехо. Если среди них окажется негатив той фотографии, что я видел, мне придется волей-неволей признать, что между моим сыном и покойным или членами его семьи существовала какая-то связь. А если нет, значит, снимок сделал кто-то другой, и тогда проще будет спросить обо всем у Алехо. «Но даже в том случае, — подумал я потом, — если фотография получена от другого лица, так уже только то, что она находится у Алехо, свидетельствует о его интересе к покойному или кому-нибудь из членов его семьи». Куда ни повернись, неизбежно натыкаешься на эту связь, возникновение которой для меня покрыто мраком. То есть…
Я должен был подумать об этом раньше, но лишь на следующий день, когда я покупал билеты в театр «Талиа», куда мы собирались пойти вечером, чтобы посмотреть Нурию Эсперт, я вспомнил одну деталь, о которой совершенно забыл после того, как прочел о ней. У пострадавшего остались две дочери, и одна из них не замужем. Судя по возрасту покойного, ей должно быть около двадцати лет. Возможно, Алехо с ней знаком; возможно, они даже учатся вместе. Правда, он никогда об этом не говорил — во всяком случае, я не слышал ее имени среди женских имен, которые он время от времени упоминал в разговоре за десертом; но в этом не было ничего странного: я ничего не знал об этом политическом деятеле, о его жизни, за исключением того, что относилось к его общеизвестной деятельности, и до сих пор у меня не было причин интересоваться ею. Не исключено, что имя девушки и упоминалось когда-нибудь в газетах, но я не связал его с пострадавшим…
— Сеньор…
— Да?
— Сдачу.
Он положил передо мной несколько монет, но я их не заметил.
— Ах да, спасибо… — спохватился я. — А билеты?
— Разве я их вам не дал?
И в самом деле, я все еще сжимал их в руке.
— Простите мою рассеянность…
Ясно, я думал только об этом. Пожалуй, мое счастье, что машина уже два дня стояла в гараже, иначе всякое могло случиться при таком состоянии духа. А перед этим я так глубоко задумался у изголовья больного, что его жене пришлось вернуть меня к действительности.
Мне надо было раз и навсегда избавиться от всех сомнений. Идея насчет дочери, хотя и притянутая за уши, как я понял после долгого ее пережевывания, все же позволяла мне задавать вопросы самому Алехо, не раскрывая своих намерений.
Я задал их в тот же день за столом. У парня вроде бы день был не из счастливых, и он сел за стол, не сказав ни слова. Я не мог не отметить про себя, что в этих брюках в обтяжку и черной рубашке, которую он упрямо не желал выбросить, вид у него неряшливый. Единственным моим утешением было то, что все приятели Алехо и большая часть молодых людей этого поколения имели такой же непрезентабельный вид. Начал я издалека:
— Как твои занятия?
— Какие занятия?
Ответ не предвещал ничего хорошего. Когда на него находило упрямство, говорить с ним было просто невозможно.
— На факультете, конечно, какие же еще? Надеюсь, других у тебя нет?
— Ну и чего же ты хочешь? Какими они должны быть?
— Я не знаю. Поэтому и спрашиваю.
Он продолжал есть молча, с безразличным видом, замкнувшись в себе. Жена спросила:
— А как вчерашнее собрание?
— Хорошо, — ответил он.
— Как видно, мы живем в наилучшем из миров, — заметила Эмма с некоторым ехидством. — Все хорошо.
— Так говорят, — отпарировал Алехо. — Разве ты не читаешь об этом в газетах?
Тогда я взял бутылку вина и, пока наполнял бокалы, спросил со всем безразличием, на какое был способен.
— Не с твоего ли курса была та девушка… дочь того деятеля, которого недавно убили?
Он продолжал есть как ни в чем не бывало, лишь покачал головой:
— Нет.
— Ах да, ты это уже говорил. Но ты с ней знаком…
— Нет, — повторил он. — Я не знал, что у него есть дочь.
— Я, должно быть, не так тебя понял.
— Конечно.
Да, я выбрал неподходящий момент. После таких лаконичных и упрямых ответов мне нечего было сказать. Вернее, нечего было бы сказать, если бы Эмма, всегда интересовавшаяся событиями дня, не заявила:
— Как я вижу, в газетах больше ничего не пишут об этом деле.
— Пожалуй, теперь уже и не напишут, — сказал я, глядя краешком глаза на Алехо. Он слегка качнул головой, но это не был знак согласия или отрицания, просто он жевал. — Говорят, это похоже на самоубийство.
Слишком поздно я сообразил, что говорить этого не следовало. Моргада просил считать конфиденциальным наш вчерашний короткий разговор, а я не имею обыкновения злоупотреблять оказанным мне доверием даже в кругу семьи. Но сказанного не воротишь, и, в конце концов, это была не такая уж серьезная провинность, ведь я не выдал чужого секрета, а лишь изложил свою собственную точку зрения, никого при этом не назвав. Однако меня озадачила реакция Алехо, очень любопытная реакция; он сказал со смехом:
— Есть и такие, кто полагает, что это дело рук иностранных агентов.
Я воспользовался новой возможностью:
— А сам ты что об этом думаешь?
Но он снова замкнулся:
— Слишком много болтают.
— Ну конечно! Это естественно. Он был человеком значительным, разве не так? — сказала Эмма.
— Смотря что ты называешь значительным.
— Ну, это самое… Известная личность, занимающая пост…
— Третьего разряда, — добавил он лаконично и презрительно.
— А почему говорят: он покончил с собой? — поинтересовалась Бернардина.
— Не знаю… По-видимому, некоторые удивляются, что газетные заметки такие скупые, будто ими хотят лишь оградиться от любопытства читателей. И мне кажется, что это мнение не такое уж ошибочное, — продолжал я, стараясь все время наблюдать за Алехо. — Вы же знаете, как бывает при самоубийствах: дело стараются замять…
Я умолк, потому что Алехо поднял голову и открыл было рот, но, как видно, передумал, закрыл рот и отломил кусочек хлеба.
— Ты что-то хотел сказать? — быстро спросил я его.
Он как-то судорожно улыбнулся, вернее даже, не улыбнулся, а скривил губы.
— Нет, ничего. Неважно…
— А никто тут ничего важного не изрекает, — попробовал я подбодрить его.
— Я подумал, — решился наконец Алехо, видимо изменив свое намерение, — что, если бы было так, как ты говоришь, и власти, или семья, или кто там еще были заинтересованы в том, чтобы провести любопытных читателей, они могли бы действовать более логично.
— Как? — не сдержал я своего нетерпения.
— Ты и сам можешь сообразить, ты же врач. Сердечный приступ, например. Он уже был старый.
— Старый?.. Каких-нибудь пятьдесят лет. Но ты прав, это идея.
Он хотел показать, что соображает лучше всех нас. И я понял, что Моргада сказал глупость: никому не придет в голову прикрывать самоубийство разговорами о преступлении. Сердечный приступ, как сказал Алехо, или любая другая болезнь, вызвавшая скоропостижную смерть, лучше подошли бы для этой цели. Значит, опять-таки надо признать, что совершено убийство.
— Из тебя, чего доброго, получился бы детектив, — пошутила Эмма, вставая, чтобы идти на кухню мыть посуду.
Но я продолжал:
— А что говорят твои друзья? Полагаю, в вашем кругу говорят об этом случае…
— Ничего не говорят. Давно пора было, говорят.
— Не знаю, с чего я взял, что ты знаком с его дочерью…
Он не ответил. Скорей всего, снова замкнулся в себе, оттого что разговор на эту тему был ему неинтересен или нежелателен. Настаивать не имело смысла. Но я уже немного успокоился. Мне представлялось невозможным, чтобы юноша его возраста, даже если у него не слишком открытая душа, как у Алехо, так прекрасно владел собой, если бы имел хоть какое-то отношение к убийству. Точнее, если бы чувствовал за собой какую-то вину, так как отношение, пусть еще неясное, было налицо: фотография доказывала это недвусмысленно. В том случае, разумеется, если я не ошибся и на ней действительно запечатлен труп этого политического деятеля, а не кого-то похожего на него. Теперь я уже был не так уверен.
Необходимо было все выяснить, сравнив одну из фотографий, опубликованных в газетах и сделанных при жизни, с той, что Алехо держал в ящике стола. И в тот же день, перед тем как пойти на прием, я снова зашел в редакцию газеты и купил номер за пятнадцатое число. Вырезал фотографию и положил в бумажник.
Весь день я размышлял, как бы мне на два-три часа остаться дома одному, что, конечно, было нелегко: дни рождения празднуются не так часто, особенно в последнее время, а с утра, когда Бернардина и Эмма уходят погулять или за покупками, я должен быть на работе. На счастье, в тот день сложных случаев не было, все шло по заведенному порядку, и, по правде говоря, мысли мои по-прежнему витали очень далеко от больных, но прок от этого был невелик: до самого вечера я так ничего и не придумал.
Решение, причем очень простое, мне подсказала работавшая со мной сестра. Закончив прием, я сказал ей, что она свободна, но она не спешила и принялась звонить куда-то по телефону. Потом попрощалась со мной, уже одетая, а я был так погружен в свои мысли, что вздрогнул, услышав ее голос.
— А, до свидания, Лейла.
— Вам нездоровится? — спросила она.
— Нет, а почему вы об этом спросили?
— Вы терли себе виски. Я и подумала, что у вас болит голова.
— Нет-нет… Это помогает думать…
— Так я пошла, — сказала она улыбаясь. — Всего хорошего.
«А ведь невралгия будет отличным извинением», — сказал я себе немного погодя, когда вывел «дофин» из гаража и поехал к дому. Билеты в театр «Талия» лежали у меня в кармане, они были как раз на этот вечер, и самая простая головная боль послужит мне предлогом, чтобы остаться дома, и в то же время не вызовет особого беспокойства у моих домашних. Женщины пойдут в театр, и Алехо, конечно, пойдет вместо меня… «Да, — решил я, — непременно пойдет».
Только все оказалось не так просто даже при том, что предложение исходило от Эммы, которую он слушается гораздо больше, чем мать или меня. Но когда она предложила: «Мог бы пойти Алехо…», сын сразу заявил:
— Сегодня я предпочитаю остаться дома.
— Жаль, пропадет билет, — сказала Бернардина.
— Дело не в билете, — повернулся я к нему. — Ты не очень-то любезен, Алехо.
— Ну и ну, они достаточно взрослые, чтобы идти без провожатых!
— Речь не о том, взрослые или нет. Но в кои-то веки они тебя попросили сопровождать их…
— Вы вечно ругаете меня за то, что я не сижу дома, — пожаловался он, — а в тот день, когда я решил никуда не ходить, сами силком меня тянете.
— Это разные вещи, Алехо.
— Оставь его, — сказала Бернардина. — Пойдем сами.
— Нет уж. Раз он всегда делает, что хочет, и никто ему не мешает, справедливо будет, если хоть раз он сделает то, чего хочется нам.
— Ну нет у меня никакого желания смотреть пьесу О,Нила, — заявил он. — Тем более по принуждению.
— О,Нил не имеет никакого отношения к тому, о чем мы говорим. И пьеса тут ни при чем. Твоя мать и твоя тетка попросили тебя пойти с ними, — настаивал я, — и тебе не следовало бы их огорчать. Не понимаю, почему для тебя такая жертва — хоть изредка пойти куда-нибудь с родными. Когда ты последний раз ходил с нами куда-нибудь?
— Не помню, — пожал он плечами.
— И я не помню. И никто, конечно, не помнит. Стало быть, давно.
— Но я собрался позаниматься, — сказал он, рассчитывая, что этот довод нас сразит.
— Слишком уж все совпало, Алехо. Времени для занятий у тебя хоть отбавляй. Вернее, его было бы хоть отбавляй, если бы ты бездарно не тратил его на улице или бог знает где еще, ведь мы никогда не знаем, где ты пропадаешь. Приходишь, уходишь, делаешь все, что тебе вздумается, — понемногу я все больше горячился, — никто у тебя не спрашивает отчета, и сам ты не утруждаешь себя объяснениями. Мы видим тебя только за обедом и ужином, и так день за днем. Ты не проявляешь к нам никакого уважения, будто мы тебе чужие…
— Ну ладно, — прервал он меня.
— Нет, как раз совсем не ладно. И когда я говорю, ты должен меня слушать. Что ты вообразил! Ты, видно, думаешь, что если появляешься здесь изредка с кислой миной, так ты этим уже выполняешь свой долг… — Тут я поморщился и провел рукой по лбу, вспомнив, что у меня невралгия, достаточно сильная, чтобы предпочесть постель театру. — Не хочу больше говорить об этом. Ты сделаешь то, о чем тебя попросили.
Так он и поступил, конечно, ничего другого ему не оставалось, но я предвидел, что в его обществе дамы проведут не очень-то приятный вечер, и, нечего говорить, при других обстоятельствах я, безусловно, не стал бы вынуждать Алехо составить им компанию. Как я узнал потом, его присутствие в театре оказалось весьма условным: в первом антракте он встал, сказал, что идет в бар, и вернулся за десять минут до окончания спектакля. Кроме того, он поставил машину там, где стоянка запрещена, и их оштрафовали. Просто беда!
Как бы то ни было, своей цели я достиг: остался дома один, чтобы спокойно сравнить негативы с газетной фотографией, если это действительно он. Разыскал все без труда. Фотографии по-прежнему лежали в ящике стола, под бумагами и тетрадками, и, судя по всему, Алехо эти дни к ним не притрагивался. В клетушке, служившей ему фотолабораторией, негативов не было, но, поискав, я нашел их в одном из нижних ящиков его платяного шкафа. Я заметил, что второй ящик заперт — вещь необычная, и не только потому, что он никогда не запирался, но в особенности потому, что у этих ящиков не было замка. А на этот Алехо сам поставил замок — у него была несомненная склонность к слесарному делу, но все же сразу было видно, что это работа любителя. Стремление спрятать что-то сразу меня насторожило, и я потерял немало времени, разыскивая ключ, но он, должно быть, унес его с собой, и поиски мои были тщетны.
Увлекшись поисками, я, прежде чем пойти в кабинет и не спеша рассмотреть негативы и сравнить фотографию трупа с газетной вырезкой, методически обыскал не только ящики стола, но и ту часть шкафа, к которой имел свободный доступ. Не нашел ничего нового, за исключением вещи, не относившейся к его гардеробу, поскольку это было женское белье.
Как фотография, так и этот интимный предмет одежды указывали, что Алехо не ограничивался случайными вылазками, у него была подружка, девушка, с которой он поддерживал постоянную, вошедшую в привычку связь, девушка такая же беззаботная, как он, потакавшая его причудам фотографа-любителя. Хотя я и склонен был считать, что речь идет об особе легкого поведения, мне трудно было представить себе тип девушки. Содержанка обходится недешево, а денег у Алехо мало. Я уже давно решил, что в этом отношении лучше ограничивать его жесткими рамками, и, хотя в последнее время я увеличил ему ежемесячную сумму на карманные расходы, она составляла всего пятьсот песет, что явно недостаточно для содержания профессионалки, даже в том случае, если бы у Алехо не было других расходов: сигареты, книги, кино, театр, бар… Конечно, возможен был и такой вариант: у девушки был любовник постарше, а мой сын был третьим углом треугольника. В этом случае девица, скорей всего, была бы старше его, однако фотографии, которые я видел, при всей их обманчивости, вроде бы запечатлели едва созревшее, очень молодое тело.
Оставалась и другая возможность: девушка была из порядочной семьи, даже, может быть, его соученица, достаточно эмансипированная, чтобы вступить в интимные отношения с юношей, который еще много лет не сможет на ней жениться. Эта мысль пробудила во мне новое беспокойство: Алехо настолько неуравновешенный юноша, что вполне может послать ко всем чертям занятия в университете, если ему взбредет в голову жениться. Я подумал, что надо бы раздобыть точные сведения об этой девушке; только зная, кто она такая, можно подготовиться к любой неожиданности и в случае необходимости защитить от нее сына. Но как? Я не мог ни выслеживать Алехо, ни расспрашивать его друзей — я попал бы в глупое положение… Тут я почему-то подумал о Марии Кларе и улыбнулся, вопреки всей моей озабоченности. Вот кто сумеет помочь мне, и я был почти уверен, что она сделает это с удовольствием.
В кабинете, где я закрылся, после того как привел в порядок шкаф и ящики стола, хотя причин особенно беспокоиться не было, потому что Алехо никогда ничего не клал на место, я приступил наконец к сопоставлению фотографий. Выражение лица было совсем несхоже не только потому, что я сравнивал живого человека с мертвецом, но и из-за положения головы на фотографии Алехо. Но все же черты лица указывали, что на обеих фотографиях запечатлен один и тот же человек. Лицо политического деятеля было достаточно характерным, чтобы на этот счет не осталось никаких сомнений: у него сильно выдавались надбровные дуги под густыми бровями и череп был явно долихоцефальный — все это вместе окончательно убедило меня в идентичности сфотографированного лица через каких-нибудь пять минут после тщательного сопоставления снимков. Первое впечатление меня не обмануло: в письменном столе моего сына я нашел фотографию политического деятеля.
Теперь мне оставалось установить, был ли снимок сделан фотоаппаратом моего сына. Если просматривать все негативы, дело затянулось бы до бесконечности, так много их было, но складные кассетники, в которых он хранил негативы, покупались в разное время, и самые новые, хотя той же самой марки, что и остальные, выглядели ярче, на них не было потемнения, патины, возникающих, когда их месяцами держат в запыленных и как попало брошенных коробках.
Я начал с той кучи, которая показалась мне последней по времени, но оказалось, что это не так, потому что там были фотоэтюды, посвященные уличным фонарям: Алехо занялся этим с полгода назад, соревнуясь с товарищем, который фотографировал фонтаны. Я помнил эти фотографии, одна из них даже была опубликована в журнале, куда он ее тогда же послал. По-моему, все они были хороши, но я вспомнил, что Алехо некоторые из них критиковал. Критиковал, но не пробовал сделать новые снимки, такие же безупречные, как остальные.
Девушка оказалась в третьем кассетнике. При свете настольной лампы я просмотрел серию из шести снимков. Негативов было больше, чем я предполагал, — почти вдвое по сравнению с виденными мною фотографиями, — и два из них совсем смазанные.
Было и три негатива с изображением убитого в одном и том же ракурсе, как будто фотограф хотел оградить себя от возможной неудачи. Изучать их было излишне. Позитива, который я держал в руке, было вполне достаточно. Значит, снимки были сделаны фотоаппаратом моего сына. Я нашел искомое доказательство, и, как ни странно, эта ясность взволновала меня меньше, чем я ожидал. Наверно, потому, что хуже всего неуверенность, сомнение, беспокойство.
Теперь стало понятно, что Алехо был в доме у чиновника, когда обнаружили труп или даже, как я подозревал и раньше, когда было совершено преступление. По-прежнему оставалась неясность по поводу даты, но в тот момент мне это показалось неважным; тут уж точно где-то крылась ошибка. К тому же мое внимание привлекло другое.
Если Алехо и имел какое-то отношение к убийству, то как все же объяснить его появление в таком месте, куда совсем не легко проникнуть; неужели ради того, чтобы сделать этот снимок собственным аппаратом, он готов был предстать перед судом? Но если даже и предположить такое, то откуда у него столько хладнокровия, чтобы сделать лежащие передо мной снимки при таких обстоятельствах, когда требовалось действовать быстро, не привлекая внимания, и как можно скорей исчезнуть? В конце концов, преступление было совершено в квартире, где проживали другие члены семьи: жена и незамужняя дочь и, вероятно, две-три служанки. Убийца подвергался огромному риску и не мог не знать об этом.
Тогда логика вынудила меня признать — тем самым я снял камень со своей души! — что Алехо сделал эти снимки уже после того, как был обнаружен труп, с согласия семьи, с которой он был как-то связан. Конечно, принять эту версию тоже было нелегко. Для моего сына этот деятель олицетворял определенный образ мыслей, определенное мировоззрение, общественные тенденции, чуждые ему, с которыми он не собирался мириться. Оставалась, правда, версия с дочерью, хотя Алехо и отрицал, что знаком с нею. Может быть…
Я снова вернулся к фотографиям, так щедро представлявшим возможность изучить женское тело, и стал разглядывать их уже с другой точки зрения. Да, это вполне могли быть бедра и груди дочери высокой персоны, и тогда подружка моего сына — как я предполагал, девушка из порядочной семьи — рано или поздно заговорит с ним о браке. Не она, так ее родные.
Но я не хотел спешить. В конце концов, это лишь предположение, и мне нужно прежде всего, прежде, чем я откроюсь сыну, удостовериться в правильности своих выводов. Да, я поговорю с Марией Кларой; у нее много свободного времени, ей нравятся романтические приключения, и я достаточно щедр, чтобы она не отказывала мне ни в чем. Завтра же поговорю с ней.
Я, конечно, не знал, что наплыв больных заставит меня поехать к Марии Кларе в не очень подходящее время и из-за этого, находясь у нее, я услышу по радио письмо девушки, которое совершенно неожиданно поставит передо мной новую сложную проблему.
1
Она вернулась, волоча простыню и показывая голые ноги.
— Не была б ты стервой, с тобой такого бы не случилось.
— Но ведь он предложил пять тысяч!
— Сразу видно, что наворовал! — сердито говорю я.
Она снова ложится и становится серьезной.
— Ну ясно, если б я знала, кто он такой и чего ему надо…
— Ты сделала бы то же самое.
Она рывком садится и придвигается ко мне.
— Клянусь тебе, нет! — горячо восклицает она. — Я ненавижу этих типов, как и ты.
Но она с ним поехала. Хотя и говорит, что не знала… Этот субъект подцепил ее у выхода из бара «Попилс», когда она шла домой. Только что кончился дождь, и еще падали редкие капли.
Он остановил машину у тротуара и ждал ее, открыв дверцу. Судя по ее описанию, это был «плимут». Они себе ни в чем не отказывают!
— И вы поехали сюда?
— Нет! Ты же знаешь, сюда я никогда никого не привожу. У него есть шале.
Она деланно засмеялась.
— И он представил тебя домашним!..
— Он им пользуется только для встреч с женщинами. Такое маленькое шале, как игрушка.
Она протягивает руку и кладет ее мне на плечо.
— Ты не будешь сердиться, нет? Какое у тебя жестокое лицо!
Она ластится — как всегда, когда ей надо, чтобы я ее простил.
— Ты меня еще не поцеловал…
И целует меня сама.
— Ты же знаешь, я люблю только тебя.
Все еще резко я бросаю ей:
— И деньги!
— Но не твои же.
Это правда, она никогда не просила у меня денег; у меня их, конечно, и нет, потому что мой отец, несмотря на свои миллионы, — скряга.
— Я тебя по-настоящему люблю. Ты у меня вот здесь, вот здесь… — она прижимает другую руку к груди. Вздыхает. — Иногда я думаю, что вот мы повзрослеем… состаримся и я тебя потеряю, ты женишься на другой…
— Не расходись слишком. До старости я не доживу. А на тебе, может, и женюсь.
— Свисток. Да я бы и не согласилась. Было бы уж не то. Представляю, какие были бы лица у твоих родных, вот смех-то.
— Дома, конечно, обрадовались бы, что я привел гулящую девицу.
— Говори что хочешь, на самом-то деле ты меня любишь. Просто сейчас сердит на меня.
— Ну и что из этого?
— Если бы ты пришел встретить меня, ничего бы и не случилось.
— Не хватало еще, чтобы я тебя караулил! — добавил я уже беззлобно. — Надеюсь, ты не сказала ему, кто ты.
— Что ты имеешь в виду?
— Ну, не назвала себя и не дала адреса?
Она качает головой.
— Нет. А он спрашивал. Я сказала, меня зовут Лаура.
— И он на этом успокоился?
Она чуточку отодвигается.
— Нет. Пришлось дать ему телефон нашего бара. — Подняв голову, она смотрит на меня и говорит успокаивающе: — Я ему не сказала, что это бар. Если позвонит, ему скажут: никакой Лауры здесь нет, и он подумает, что я дала ему неправильный телефон.
— Ты могла так и сделать.
— Я и хотела. Но как-то само получилось, понимаешь?.. Не успела придумать другой.
Я говорю ей насмешливо:
— Ну конечно, это трудно. А в душе ты, наверно, и сама этого хочешь…
Уязвленная, она выпрямляется.
— Я же тебе поклялась, Алехо! Поклялась, что никогда бы не согласилась, если б знала, кто он такой.
— Ладно. Разве он сразу не сказал?
— Нет. Для чего ему это было надо?
Я пожимаю плечами.
— Ну, не знаю. Некоторые из этих типов думают, что стоит им бросить тебе в лицо свое имя и свой пост…
— Он уже потом это сказал.
Тут мне в голову приходит другая мысль.
— А когда ты уходила, он тебя проводил?
— Нет. Я ушла, пока он спал. Честное слово.
Я смотрю на нее, нахмурив брови. Славная девчонка, но иногда злит меня до умопомрачения.
— Когда-нибудь я тебя поколочу, Рена, поколочу как следует.
— Да? Поколоти. Если тебе этого хочется, я разрешаю.
— На это я не стану просить разрешения. — Я смотрю на часы. — Но сейчас мне надо идти. Должны собраться все наши, и опаздывать я не хочу.
— Так вы снова пойдете туда?
— Да, и будем ходить столько раз, сколько понадобится.
Я быстро целую ее, затем разнимаю ее руки и встаю во весь рост посреди залитой светом комнаты. Она одним прыжком соскакивает с постели вслед за мной.
— Постой! Я пойду с тобою…
Наверно, я разинул рот, потому что она расхохоталась и воскликнула:
— Ну и комик!
— Еще бы! А что я скажу ребятам, когда они увидят меня с тобой?
— Вот как?.. Не хочешь ли ты сказать, что стыдишься меня?.. — Она наступает, лицо ее перекошено. — Я же тебя исцарапаю!
— Не говори ерунды. Кто это может стыдиться такой сногсшибательной девицы!
Польщенная, она улыбается.
— Ты в самом деле считаешь, что я сногсшибательная? Да?
— Даже слишком. Но все-таки как я им объясню?..
— Не надо ничего объяснять.
Я снова гляжу через ее плечо на часы.
— Да и поздно уже. Мы собираемся в двенадцать, осталось всего двадцать минут.
— Мне хватит десяти, чтобы одеться.
— Ну да!
— Когда захочу, я все делаю быстро, вот увидишь. Ты еще меня не знаешь.
— До Университетской площади трамвай идет пятнадцать минут.
Она решает эту проблему в мгновение ока.
— Возьмем такси. Плачу я.
Она решительно отходит от меня, а я пальцем показываю на часы.
— Даю тебе ровно десять минут. Если без четверти двенадцать ты не будешь готова, уйду один.
— Буду готова раньше.
Она бросается в ванную; я иду за ней, подхожу к двери, но не вхожу. Открывая кран над умывальником, она говорит:
— Мазаться не буду.
Ловко намыливает лицо, чтобы смыть остатки кремов и лосьонов, мгновенно вытирается, возвращается в спальню и открывает шкаф.
— Что ты на меня так смотришь?
Смешными движениями в четыре приема натягивает трико; берет пояс и тут же отбрасывает.
— Не буду надевать чулки.
— Конечно, не надо. Никто раздевать тебя не будет.
— Глядите, какой шутник!..
Не трогаясь с места, я смотрю, как она причесывается. Не стоило труда, потому что, когда она заканчивает, голова у нее совсем растрепанная. Строит лукавую мину.
— А ты не подумала, что тебя могут упрятать за решетку?
Она бежит к шкафу, вытаскивает желтое платье с короткими рукавами и неглубоким вырезом.
— Никогда еще не хватали женщин…
— Это ничего не значит, они могут начать это делать сегодня или в любой другой день.
— Еще бы! Когда вы сами лезете на рожон…
Надевает платье снизу, как брюки, и натягивает до плеч.
— Застегни мне пуговицы на спине.
Я неловко застегиваю на ней платье.
Она лезет под шкаф и тянет руку к одной из многочисленных пар туфель.
— Если ты будешь вертеться, мне не застегнуть…
Выпрямившись, она продолжает вертеться, теперь пробует надеть туфли кремового цвета на среднем каблучке. Спрашивает:
— Который час?
Я застегиваю третью, последнюю пуговицу, гляжу на часы.
— Осталось семнадцать минут.
— Вот видишь? Я готова. — И она оборачивается ко мне, делая пируэт. — Ну как? Ненамазанная, я наверняка похожа на шимпанзе, да?
— Конечно, как тебя увидят, так и отправят в зоопарк.
— Противный! Я чуточку подведу губы, но…
— Только быстро. Я не хочу прийти к шапочному разбору.
Бросившись к зеркалу, она хватает губную помаду.
— Я никуда еще не опаздывала.
Проводит помадой по губам, бросает карандаш на столик, состроив забавную гримасу, затем растирает краску пальцами. Наконец облизывает их. Я смеюсь.
— Вкусные?
— Попробуй!
И подставляет мне губы. Я обнимаю ее, она кладет руки мне на плечи. Губы у нее теплые, нежные и ласковые, от них не хочется отрываться.
— Может, хватит, а?
— Ты сама позвала.
Она опускает руки, но потом снова касается моих щек, долго их гладит, и выражение ее глаз меняется. Смотрит на меня в упор.
— Я люблю тебя, милый.
— Да.
— Тебя одного. Хоть и встречаюсь с другими.
— Да. А почему?
— Почему встречаюсь с другими?
— Нет, почему любишь меня?
— А ты?
— Наверно, потому, что ты первая настоящая женщина в моей жизни.
Она отводит руки, качает головой.
— Ты у меня мастер задавать вопросы. — И, помолчав, добавляет: — По правде говоря, эта причина ничем не хуже других.
— Но ты же мне не ответила…
— А я не знаю. — Берет меня за запястье и смотрит на часы. — Может, пойдем?
И направляется к двери; перед дверью я напоминаю:
— Ты не берешь с собой ключ?
— Разве ты меня не проводишь?
— Ты что думаешь, мы идем на танцы?
— Что ты этим хочешь сказать?
— Дело может кончиться плохо.
Она берет ключ, но не знает, куда его девать, не идти же туда с сумочкой.
— Положи к себе в карман.
— А если меня сцапают, а? Ты какая-то бесшабашная.
— Ладно, я оставлю его в привратницкой.
На ходу отдает ключ привратнице, и та улыбается ей льстиво, чуть ли не церемонно. Улыбка эта щедро оплачивается в конце месяца.
— Теперь надо поймать такси.
Но на улице их всегда целая вереница, за исключением воскресных вечеров, когда их забирают на футбол. Совсем оскотинился наш город. Или мы все вместе сделали его таким, не знаю.
Сегодня нас поменьше. Кое-кто устал, пал духом. Сосчитать трудно, но, по-моему, нас не больше ста. И все же площадь кишит народом. Возле бара на углу улицы Арибау, неподалеку от остановки автобуса на Кастельдефельс, к нам присоединилась толпа зевак… Может, кто-нибудь из них и пойдет за нами? Но все боятся.
И я тоже. И Рената. Ухватилась за мою руку, точно за якорь спасения. Кивает на одетых в мундиры:
— Они не нападут?
— Если мы не дадим повода, может, и нет…
Те как будто смущены, прохаживаются по другой стороне площади между своими «джипами», настороженно прислушиваясь, не выкрикнут ли какой-нибудь подрывной лозунг. Но мы молча собираемся перед закрытыми воротами. Иногда, в дни занятий, здесь бывает и побольше народу.
— Алехо!
Это Кортет, невероятно длинный, он все еще растет. По обыкновению он пришел с книжкой в кармане: наверняка какой-нибудь роман о войне. Он читал их все.
— Ола! Что случилось? Почему так мало?
— Сам удивляюсь. Чего доброго, подались в Астурию.
Смеется недолго и невесело.
— Не видал Ровиреса?
— Мы только что пришли.
Он смотрит на девушку, пока мы пробираемся между группами парней в постепенно густеющей толпе. Небрежно представляю их друг другу:
— Это Рената, из наших. Кортет.
— Ола! Что-то я тебя здесь не встречал…
Она открывает рот, но я опережаю ее.
— Она с экономического.
Есть и другие девушки, десятка два, среди них Рамона Улья, она сидит на подножке одного из считанных автомобилей, паркующихся у стен. Когда она сидит, незаметно, что она беременна.
— Что известно о тех?
Он пожимает плечами. Никаких известий. Все глухо, ждут приговора.
— Эй, Фаррас, Кортет! Сюда!
Подходит целая ватага, но я знаю только Монфульеду и Альберто Серра. Ничего удивительного: за весь учебный год появлялся на факультете раз десять, не больше. И то, конечно, только чтобы пошуметь.
— Не знаете, чего мы ждем?
— Чтобы кто-нибудь решился.
— В одиннадцать они уже были здесь…
— Есть приказ перегруппироваться в нижней части Пасео-де-Грасиа…
Говорят все сразу, недоговаривая, но мы друг друга понимаем. Рената наконец отпустила мою руку, и похоже, ей передается с трудом сдерживаемое возбуждение остальных.
— Троих вчера отпустили…
— Да, кажется, их освободили.
— Но девять осталось.
— Кого отпустили?
— Один из них — Багес. Я его только что видел…
Там, дальше, кто-то подает знак, и, несмотря на приказ не шуметь, кто-то другой кричит:
— Вперед, ребята!
Та сторона уже двинулась к Ронде. Теперь кажется, что народу больше, — наверно, оттого, что мы в середине.
— Пошли, Рена.
Кортет становится рядом с ней по другую сторону; он говорит ей что-то, и она улыбается. Потом идем молча. Друг за другом, по четыре-пять человек в шеренге, пересекаем улицу; автомобили останавливаются, хотя регулировщик показал им, что путь свободен.
Из автомобилей выглядывают лица любопытных. Один из автомобилей — с иностранным номером: округ Колумбия, США. Обе женщины довольно красивые. Дерьмовые американцы!
Один из зевак, стоящий возле бара, говорит:
— Вперед, парни!
Но сам остается стоять на тротуаре. Пусть другие потрудятся.
— Глядите!
Услышав сзади этот возглас, я оборачиваюсь. Толпа людей в мундирах бежит к «джипам»; одна машина трогается. Интересно, что они будут делать.
Колонна выливается на Ронду и следует по мостовой навстречу движению. Приказ — идти соблюдая порядок, но как-то все же обращать на себя внимание, чтобы манифестация не прошла незамеченной.
На многих балконах полно людей, будто проходит церковная процессия, из лавок вышли продавщицы. Должно быть, они нас ждали. Вчера одна из них присоединилась к нам, пошла как была — в форменном голубом платье. Скорей всего, ее уволили.
— Хорошо бы спеть, — бормочет Кортет.
— Но что?
— Что угодно. Для бодрости.
Рамона Улья идет в рядах, хоть ей это нелегко. Ее муж, один из наших, был арестован позавчера. Если его скоро не выпустят, девчонке придется туго: чтобы учиться, они оба работают.
«Джипы» идут рядом с нами по другой полосе мостовой, и какое-то мгновение кажется, будто они нас эскортируют.
— Что-то они приготовили нам сегодня?
— Увидим.
Ясно одно: домой вернутся не все. Но «джипы» проходят стороной, удаляются к площади Каталонии, набитые людьми, которые, возможно, предпочли бы находиться в эту минуту в другой части города.
Мы останавливаем движение на улице Бальмес: автокар резко тормозит, едва не врезавшись в голову колонны. Регулировщик сбегает на мостовую с тротуара, где он как будто прятался, и отчаянно свистит. Размахивает руками — ни дать ни взять марионетка. Мы не обращаем внимания.
Рената замечает:
— Все проходит очень мирно.
— Подожди, еще не конец.
Но мы пересекаем и площадь Каталонии, и никто не заступает нам путь. Вытянув шею, я вижу Баррильса, коммуниста, он идет впереди, справа, прямой и торжественный, как новобранец на первом в жизни параде. Он из военной семьи. Рядом с ним идет сын Розендо Торреса. У меня такое впечатление, что позади нас колонна удлиняется. Возможно, некоторые из зевак наконец решились. Но повсюду — только молодые лица.
— Какая она толстая, правда?
— Что ты говоришь?
Рената придвигается ко мне поближе и повторяет. Она все еще не поняла, в каком положении Рамона Улья.
— Да. Она храбрая, правда?
Рената утвердительно кивает, и мы оба улыбаемся — как мне кажется, сами не зная почему. Она идет как-то неуклюже, неизящно, подлаживаясь под медленный шаг идущих в колонне. К тому же она не привыкла ходить на средних каблуках.
— Не жалеешь, что пошла?
— Нет, ни капельки.
Конечно, она самая хорошенькая. Настоящая женщина здесь — это она, хотя некоторые из моих однокашниц и старше ее. Одета она тоже лучше их.
По колонне словно волна катится. Парни оборачиваются и говорят что-то идущим сзади. Все вдруг начинают волноваться. Наконец новость доходит и до нас:
— На площади Уркинаоне двадцать грузовиков!
Потом выясняется, что это, как всегда, «джипы».
Должно быть, загородили всю площадь. Подсчитываю в уме: человек сто двадцать. Рената спрашивает:
— Думаешь, они нападут на нас?
Но в лице она не изменилась. Как и другие, она идет вперед, чувствуя себя под защитой всех тех, кто идет рядом, под защитой наших товарищей.
— Кто их знает…
Скоро мы это узнаем. Когда мы выходим на Ронду-де-Сан-Педро, воздух внезапно разрывает вой сирены, и патрульная машина в сопровождении трех «джипов» мчится к нам.
Инстинктивно мы все замедляем шаг, но передние не сдаются, ведут колонну вдоль трамвайной линии. Машина с ревом сворачивает к тротуару, а «джипы» становятся в ряд метрах в десяти перед головой колонны.
Мундиры заполняют улицу, среди карабинов видны и автоматы. По приказу офицера с желтовато-серым лицом и пистолетом они бросаются к нам, врезаясь в наши ряды.
— Разойдись! Разойдись!
Они твердят эти слова, как литанию. Оружие держат на изготовку, и нам приходится отстраняться, стараясь избежать удара дулом или прикладом. Но мы не расходимся. Позади вооруженных людей ряды демонстрантов смыкаются еще теснее, еще плотнее. Мы прижимаемся друг к другу, идем плечом к плечу.
— Разойдись! По домам!
Чувствую, как рука Ренаты обвивается вокруг моей, но, повернувшись, вижу, что она не испугалась. Лицо ее немного разрумянилось, глаза блестят. Я говорю ей:
— Что бы ни случилось, держись поближе ко мне.
— Да…
Но тут же соображаю, что сказал глупость. Теперь ясно, что сегодня нам придется бежать. Кто-то вышел из машины и кричит как одержимый, но люди в мундирах уже врезались в колонну, и никто не знает, что делать дальше.
— Шланги!
Автоцистерны стоят на углу, одна из них — на полосе встречного движения. Но регулировщика, который оштрафовал бы нарушителя, нигде не видно. Те, кто помогает поливальщикам, тоже в мундирах и резиновых сапогах, двое поднялись из машины, готовят шланги.
Кто-то из них, должно быть, поторопился, потому что первая струя бьет в прохожих, остановившихся на тротуаре по другую сторону улицы. Но затем мы оказываемся между двух огней: четырехструйный душ разрывает наши ряды. Бегом бросаемся на тротуары, струи преследуют нас до самых тентов над витринами магазинов. Кругом — мокрые головы и рубашки.
Прическа Ренаты растрепалась, но ей некогда ее поправить. Взявшись за руки, бежим в гору и вдоль домов пробираемся на Виа-Лайетана. Струи все еще преследуют нас; вода бьет в спину трем девушкам со свертками.
— Ой-ой!
Я смеюсь, промокнув до костей. Позади нас слышится голос, заглушаемый шумом воды:
— На Пасео-де-Грасиа!
Впереди — еще один «джип», из него выскакивают люди, словно собираясь задержать бегущих. Но оружие стесняет их движения.
— Быстрей!
Рената мчится, как серна, проскальзывает у одного из них под рукой. Я устремляюсь вперед с другой стороны, наклонив голову. Все несутся как черти.
— Рена…
Мы не можем задержаться, даже если бы захотели: за нами бежит плотная группа, в которой выделяется Торрес в рубашке навыпуск. Бесконечно замирающий крик висит в воздухе:
— А-а-а-а-а!..
Выше по улице в дверях показываются любопытные, толстые мужчины и подтянутые женщины.
— Что случилось?
Кто-то хорошо осведомленный коротко бросает:
— Студенты.
Добравшись до Гран-Виа, бежим потише: люди в мундирах не хотят отдаляться от «джипов» — боятся, наверно, что мы их похитим. Рената хромает.
— Мне ужасно отдавили ногу…
Мокрое платье обтягивает ее, как чулок, оно съехало набок. Едва сдерживаю смех: Рена похожа на потерпевшую кораблекрушение.
— Может, уйдем?
— Что ты! Самое интересное только начинается…
— Ладно, согласен, бежим!
Снова беремся за руки и бежим по Пасео-де-Грасиа. Кто-то трогает меня за плечо.
— Ну и душ, а?
Это Ровирес. Но говорит он о нас, у него самого лишь немного обрызганы брюки.
— Я думал, тебя здесь нет.
— Разве я пропустил хоть раз? А Кортет?
— Где-нибудь тут, если не захлебнулся. Мы были вместе.
— Меня удивляет, почему они не сделали это же самое на Университетской площади…
— Их никогда не поймешь.
Где-то воет сирена патрульной машины, но не видно никого, кроме двух типов, охраняющих банк. Они прижались к стене и таращат на нас глаза. Один из них уже седой.
— Подожди…
У Ренаты свалилась с ноги туфля. Должно быть, в толчее надорвался ремешок, он очень тонкий, а теперь лопнул совсем.
— Я так не могу бежать…
Мы уже на Пасео и пытаемся снова построиться в колонну. Пока же народ толпится на месте, некоторые ребята очень возбуждены.
Кто-то говорит:
— …поджечь трамвай…
Но кто-то другой говорит о необходимости соблюдать порядок. Так мы пропадем.
Со стороны площади Каталонии уличное движение, по-видимому, нарушено — «джипы» не подчиняются сигналам светофоров. Большинство наших собирается на середине улицы, толпа все густеет. Ровирес говорит:
— Никогда еще не собиралось столько народу.
Не знаю, откуда они взялись, но он прав. Продолжают подходить парни, которым удалось убраться с Ронды, другие прибежали с Гран-Виа. Некоторые идут строем:
— А-а-а-а-а!..
Среди них — Рамона Улья, с нею друзья ее мужа. Живот у нее так вздулся, что хочешь не хочешь, а посмотришь на него.
— Ровирес!
Подходит Багес с двумя парнями; рукава засучены, будто собрались на работу.
— Когда тебя выпустили?
— Вчера вечером.
Его радостно хлопают по спине, и довольно крепко. Я с ним едва знаком, но теперь тоже пожимаю руку.
— Ну как?..
Нас разъединяет людской водоворот. Вооруженные люди шеренгой идут по Пасео. У каждого в руке резиновая дубинка. Возникает замешательство, и те, кто поближе к наступающим, бегут в беспорядке. Ренату оттирают от меня.
Я снова вижу ее немного поодаль вместе с незнакомой мне девушкой с пышной грудью. Обе кричат что есть силы:
— А-а-а-а!..
Кричат все. В общей сумятице несколько человек — пять-шесть решительных парней, среди них Монфульеда со своим вечно выбивающимся непокорным вихром — пробуют организовать отступающих.
— Не бегите, не бегите!
— Стройтесь в ряды!
Они пробуют продвигаться вперед, мы с Ренатой идем за ними. Тут же откуда-то вынырнувший Кортет. Его как будто только что вытащили из воды, но рубашка уже начинает просыхать. Он бодро кричит:
— Крепче держитесь!
За нами все уже снова идут в шеренгах, но впереди сумятица нарастает. Кидаются из стороны в сторону, ломают строй, перестраиваются. Некоторые бегут.
— А-а-а-а-а-а-а!..
Кортет все в том же настроении.
— Говорю, надо бы спеть!
Многие голоса стараются пробиться сквозь общий шум:
— На Лайетану, на Лайетану!
Люди мечутся, сбиваются в кучу, и вскоре я вижу, как плотная толпа прорывает шеренгу тех, в мундирах. Двое или трое из них поворачиваются, готовые преследовать прорвавшихся, но откуда-то доносится команда. Это офицер, он стоит на скамейке. У него за спиной остановился трамвай.
Мы начинаем своего рода атаку, толкая тех, кто преграждает нам дорогу, но люди в мундирах бьют изо всей силы, особенно сильно бьет высокий смуглый парень: он орудует дубинкой как палицей. Мне удар приходится по руке.
— Разоружайте их!
Несколько человек оттесняют офицера, когда он слезает со скамейки, но тут из-за угла выбегают еще люди в мундирах; с поднятыми дубинками они устремляются к нам. Крики, проклятия. Некоторые сняли пиджаки и защищаются ими.
— А-а-а-а-а!
Меня толкают сзади прямо на парня в мундире. Тот теряет равновесие, пытается ударить меня, когда я отступаю; я уворачиваюсь, ударом кулака сзади выбиваю у него дубинку, она падает на землю.
Ренату я, конечно, потерял; но разыскивать ее некогда: я оказался в толпе, на которую сыплются гулкие удары, точно град камней падает. Неподалеку вскрикивает женщина, заглушая вопль неожиданно оказавшегося рядом со мной Багеса.
— На Лайетану! — рычит он.
Дубинка бьет его по уху, и он падает. Я мгновенно подставляю ножку парню в мундире, и тот летит на землю.
— Берегись!
Спасаюсь от удара и бегу под какофонию автомобильных гудков по Пасео, туда, где толпа кажется пореже.
К дереву прислонился светловолосый паренек, его тошнит; чуть подальше Баррильс снял мокрую рубашку и скручивает ее жгутом, чтобы использовать как оружие. Несколько наших бегут, преследуемые по пятам людьми в мундирах, и вдруг один из них спотыкается.
Получается «куча мала», как в кинокомедии; Рамона Улья почти в самом низу. Я инстинктивно протягиваю руку, но разъяренный преследователь сильно бьет меня по спине. Еще трое наклоняются над кучей упавших, мелькают руки, кто-то колотит ногами. Парень, упавший навзничь, бьет ногой по щиколотке унтер-офицера и, перекатившись через него, вскакивает на ноги в двух метрах от упавшего.
Рамоне приходится туго, в этом нет сомнения, и она силится перевернуться, защищая живот руками. Слышны голоса, словно жужжанье разъяренных оводов, и злые приглушенные крики, замирающие вдали.
Семь или восемь человек бросаются на помощь Рамоне, я тоже, подбегают и еще несколько. В этот момент Рамона — наше боевое знамя. Под внезапным натиском нападающие бегут, но мы успеваем схватить двоих. Парнишка в изорванном свитере мчится, выставив вперед голову, как бык, и чуть не «поднял на рога» человека в мундире.
Тот ударяется рукой обо что-то твердое, и дубинка падает, отскакивает от мелькающих рук и голов и подкатывается к моим ногам. Я наклоняюсь и хватаю ее, меня толкают, и я лечу на землю, проползаю между чьими-то широко расставленными ногами и выбираюсь из свалки на четвереньках. Но дубинку из рук не выпускаю.
Рамону подняли, и кто-то в отчаянии выскакивает на мостовую в поисках такси, хоть-это и безнадежно. Выше останавливаются два грузовика, набитые вооруженными людьми.
— Этот!
Они бегут за мной, народу вокруг становится все меньше, и тут кто-то еще, преследуемый разъяренными людьми в мундирах, проносится мимо меня как молния. Это Багес. Наверное, они его узнали.
Они образовали цепь заграждения на углу улицы Каспе, но я вижу, как кое-кто из наших, в том числе одна девушка, без труда прорываются через нее. Прячу дубинку под рубаху и беру левее.
Такси удалось остановить, но на Рамону накинулись сразу трое. Она защищается, как может, даже зубами, ей помогают наши. Я прыгаю на спину самого высокого «полипа», и мы катимся по земле. Неожиданный удар по затылку. Когда поднимаюсь, такси уехало, или они его отослали. Другие машины движутся по средней линии как бы украдкой, водители откинулись на спинки сидений, делают вид, что их это не касается. Какой-то парень призывает:
— На штурм!
Но другой кричит:
— Бежим!
Кажется, что кругом одни мундиры. Мы их сдерживаем, пока Рамона Улья лавирует между машин в сопровождении кого-то из наших; к моему удивлению, это Альберто Серра. Уклоняюсь от дубинки, бью кулаком в мягкий живот, человек в мундире протягивает руки, стараясь покрепче ухватить меня. Тут по Пасео к нам спускается еще одна группа, их преследуют, они смешиваются с нашими, и внезапно меня охватывает чувство свободы, и я бегу, бегу вместе со всеми.
Увертываюсь от офицера и от рядового и вместе с незнакомым парнем выскакиваю на дорогу в ту секунду, когда меняется сигнал светофора. Перебегаем дорогу перед автомобилем, едва не задев за бампер, и не задерживаясь мчимся к входу в метро.
— Сюда!
Кажется, нас уже никто не преследует, но мы прыгаем через несколько ступенек, шаря в карманах. У входа в метро — толпа, и мы смешиваемся с ней. Незнакомый парень спрашивает:
— Видал?
— Ты тоже там был?
Он кивает.
— В такие минуты вообще никого не видишь. Хотел бы я вцепиться хоть в одного.
Я сжимаю зубы.
— С каждым из нас происходит одно и то же.
Мы смотрим на вход: пропускают лишь тех, у кого одежда в полном порядке. Этого следовало ожидать. Там, наверху, им не до того — слишком много народу. Парень толкает меня под локоть:
— Пошли через Рамблу…
Туда мы и направляемся. Я иду скрючившись. Сильно жжет спину.
Рената уже дома. Она в ванной. На тарелке — ножницы, вата, марля и флакон спирта.
— Гляди, как саданули…
На ноге, на пальцах, две длинные царапины, как от ножа. Но неглубокие.
— Как это получилось?
— Не знаю. Я только потом заметила, в такси…
— A-а, так ты приехала на такси…
— Что ж мне было делать: я потеряла туфлю.
Вторая туфля, до невозможности грязная, одиноко стоит под раковиной.
— Посмотри-ка…
Она показывает мне ссадину на руке.
— Не думай, что я все это им спустила. Ты бы посмотрел, как я его укусила!
— Вижу, тебе здорово понравилось!
Она снова склоняется к раненой ноге.
— Нет. Но я могла бы и в этом найти удовольствие.
Она берет флакон со спиртом, затем вату.
— Лучше меркурохром, если у тебя есть.
— Думаешь? Он в шкафу. Может, принесешь?
Когда я возвращаюсь, она спрашивает:
— А ты как? Тебе не досталось?
— Парочку горячих получил. Но зато!..
И я вытаскиваю из-под рубашки резиновую дубинку, кручу ее над головой. Она делает большие глаза.
— Ну надо же! Как тебе удалось?
Пока я объясняю, она мажет ногу. Я ощупываю дубинку. Она гибкая, но твердая. Говорят, в середине у нее стальной стержень.
— Но за это — вот что, смотри!
Я скидываю рубашку, нагибаюсь к зеркалу. Она тотчас выпрямляется, тянется рукой.
— О, как тебя отделали!
От ключицы по диагонали вниз идет широкая красная полоса. К счастью, кожа не сошла.
— Тебе больно?
— Да. Саднит немного.
— Может, помазать каким-нибудь кремом…
— Да ничего, так пройдет.
Она снова наклоняется к ноге. Меркурохром разлился по всем пальцам, так что они кажутся залитыми кровью. Я улыбаюсь.
— Мы как будто только что из боя.
— А разве это был не бой?
— Другим пришлось еще хуже. Ты видела, по-моему, Рамону Улью?
— Нет, а кто это?
— Та беременная женщина. Мы пытались как-то помочь ей.
— Я ничего не видела.
— Наверно, ты была далеко.
Я снова смотрю на резиновую дубинку и шлепаю ею Рену.
— Эй, ты что!
— Больно?
— Не очень-то увлекайся.
Выпрямившись, она проводит руками по платью.
— Ой, какая гадость! Как я умудрилась так его испачкать? Придется отнести в краску.
Я повторяю движения пальцев Рены и глажу ее по груди. Она улыбается.
— Ты что делаешь?
— Хотел удостовериться, все ли у тебя на месте.
— Пусти, я пойду переоденусь.
Мы возвращаемся в комнату, и она вынимает из шкафа халат, кладет его на постель.
— Расстегнешь?
Я расстегиваю пуговицы у нее на спине, и она снимает платье через голову. Потом обвивает руками мою шею. Мы целуемся, сперва нежно, потом — чуть ли не с отчаянием.
— Алехо…
Отчетливо осознаю, что никогда не смогу ее забыть, что люблю ее. Что настанет день, когда лишь воспоминание о ней сохранит мне ощущение молодости. Ужасно. Грозное, отвратительное будущее нависает надо мной сейчас, когда я ее люблю, и мне, как всегда, хочется умереть в ее объятьях.
До того мгновенья, как она касается меня губами, я не замечаю, что плачу. Ощутив вкус слез, она крепче прижимает меня к себе, и что-то в ней тает, она становится еще нежнее. Голос дрожит:
— Я хочу, чтобы ты был счастливым…
И я бормочу:
— Я люблю тебя, Рена…
Потом мы снова лежим, отделившись друг от друга, и снова смотрим друг другу в глаза, еще затуманенные страстью, но в них уже и та, другая, далекая жизнь, в которой есть и квартира, и постель, и неясно различимые мужчина и женщина. А может быть, еще и нет, потому что она льнет ко мне, обнимает.
— Я тоже тебя люблю, Алехо, очень люблю…
— Даже когда спишь с деятелем?
— Алехо, Алехо!..
Во мне поднимается глухая ярость. Я пинаю ее ногой в зад, сталкиваю с кровати. А оставшись один, сжимаю кулаки, утыкаюсь лицом в простыню: вечно одни слова… Я, должно быть, сумасшедший, ведь ясно, что она меня любит.
Рука свешивается с постели и, коснувшись пола, натыкается на странный предмет. Это дубинка, она упала, когда я обнял Рену.
Потихоньку поднимаюсь, рассеянно смотрю на дубинку, пробую ее твердость, ее гибкость. Такой штукой можно убить человека…
В этой задумчивой позе она меня и застает: я сижу в ногах постели и легонько бью дубинкой по ладони вытянутой руки.
— О чем ты задумался, Алехо?
Она не рассердилась. Изучила меня, знает, что мое скверное настроение длится недолго. Я говорю:
— Этой штукой можно убить человека.
— Да, конечно. Наверное… Никогда не видела ее так близко.
Она одевается, стоя рядом со мной. Мне очень больно оттого, что она далеко, отдельно от меня, другая, и я могу только смотреть и страдать, видя, как она красива, и зная, что она моя и в то же время никогда не будет моей.
— Тебе никогда не хотелось убить кого-нибудь?
— А? — Она удивленно оборачивается. — Зачем мне хотеть этого?
Я протягиваю к ней руку, не дотрагиваясь до нее.
— Ты не одеваешься? Но, Алехо…
Она садится рядом со мной, заглядывает в глаза и прижимается щекой к моей голой руке.
— Что с тобой, Алехо?
— Не знаю. Я страдаю. Я чувствую себя несчастным. Я ведь совсем молодой.
Жду, что она засмеется, но она молчит. Водит пальцем по моей руке. Возле своей ноги вижу ее ногу, красную от меркурохрома. Думаю о Рамоне Улье, которая сейчас, наверно, плачет, и о ее муже… спина у меня болит сильнее.
— Я не хочу, чтобы ты страдал, Алехо… Это из-за меня?
— Из-за всего. И из-за тебя. Но особенно из-за остального. Из-за всего остального. Вся эта несправедливость…
Узел внутри у меня распустился, злость, горькая, горячая ярость заливает меня. Я и на самом деле хочу убить кого-нибудь, все равно кого… Нет, того, кто возводит свои карточные замки на моей молодости, на нашей молодости; того, кто одной рукой раздает нам слова, а другой затыкает рот. Кого-нибудь из них, какой поближе, подоступней…
И тут я его нашел. У меня нервно дергается рот, мускул напрягается под щекой Ренаты, и она поднимает голову.
— Алехо…
Накрываю ее пальцы ладонью; улыбаюсь ей, и она выпрямляется, задевая мой локоть. Снова меня пронзает боль, но боль другая, от того, что то, что есть сейчас, — преходяще и мы никогда не будем вместе. Я сдерживаюсь, отвожу взгляд.
— А где тот особняк, куда тебя возил этот деятель?
— Так ты об этом и думал? — удивляется она.
— Где он?
— Поблизости от улицы Кальвет, недалеко от твоего дома. Знаешь площадь, где строят церковь?.. Так вот за ней.
— Ты могла бы отыскать это место?
— Наверное. А что?
Я не отвечаю.
— Если он позвонит и попросит о свидании, согласись.
Она чуть не подпрыгивает, тут же хватает обеими руками меня повыше локтя; наклоняется, чтобы разглядеть мое лицо.
— Что это ты говоришь? Да предложи он мне хоть…
Я прерываю ее и спокойно заявляю:
— Я хочу его убить.
— Алехо!
Она крикнула так громко, что сразу зажала себе рот ладонью, оглянулась, посмотрела на дверь. Но мы одни.
— Ты сошел с ума?
— Нет.
— Тогда зачем? Зачем?
Она стучит мне в грудь, взгляд ее блуждает. Я беру ее за плечи.
— Послушай… Я чувствую, что меня душит железный обруч. И я хочу разломать его, хочу попробовать разломать… Я знаю, этот человек лишь один из них, а их — великое множество, но если каждый из нас выберет себе одного, и уничтожит без всякой жалости…
Она плачет, почти повиснув на мне.
— Нет, Алехо, нет.
— Они нас не жалеют. Никогда ничего нам не разрешали, все запирали на семь замков… Ты, наверно, этого не понимаешь, потому что тебе ничего не нужно. Тебе все едино, ты думаешь только о деньгах, думаешь, как бы лучше провести время да поразвлечься…
— А ты?!
Она встает, сверкая еще влажными глазами, вырывает руку. Ее бьет дрожь.
— Посмотрел бы на себя, прежде чем оскорблять других! Вечно у тебя такой вид, будто все на свете тебе должны… А никто тебе ничего не должен. Ты ни на что не годен, учиться и то не учишься, всегда с недовольным лицом, будто у тебя бог знает какие заботы! Сопляк, молоко на губах не обсохло!
Я встаю и медленно, не говоря ни слова, собираю одежду. Хлопаю дверью и запираюсь в ванной. Кончено. Но так этого оставить нельзя. Кровь запоздало вскипает у меня где-то в животе, поднимается в грудь и бросается в голову, лицо все горит.
Рывком открываю дверь и в слепой ярости бегу к постели; она упала на нее и плачет, уткнувшись в подушку. Заслышав мои шаги, немного приподнимается и, когда я наваливаюсь на нее, встречает меня ногтями и зубами.
Больно меня кусает, ее локоть сверлит мне живот, а я бью ее по щекам. Но тут злоба моя утихает, и я говорю:
— Прости меня, Рена… Если я иногда делаю тебе больно, то только потому, что люблю тебя…
И она тихим голосом отвечает:
— Я это знаю. Я тоже тебе наговорила всякого… Алехо…
— Что?
— Ты бы в самом деле ушел?
— Я никогда от тебя не уйду.
Она поднимает голову, руки ее скользят по моим плечам.
— Никогда?
— Никогда, Рена! Пока не разлюбишь…
— Пока не разлюблю…
Она берет мою руку и прикладывает к своей груди.
— Послушай… Слышишь?
— Да, Рена.
— Оно болит у меня, всегда болит… И мне страшно…
Я целую ее почти с отчаянием, ведь она страдает, страдает, как и я.
— Но вместо того, чтобы любить тебя, я тебе устраиваю сцены…
— Нет, это я тебе их устраиваю, наговариваю на тебя.
— Все, что ты сказал, — правда. Но я хочу стать другой.
Она снова прижимается ко мне и повторяет:
— Хочу стать другой, Алехо! Хочу стать как ты.
— Я люблю тебя, какая ты есть, Рена. Ты нежная, любящая и такая красивая… Такая красивая! Иногда мне хочется умереть в твоих объятьях…
— Сумасшедший!
А сама улыбается.
— Ну а если б ты стала как я… Посмотри: кости да мускулы.
— Ты же знаешь, я говорила не об этом. Мне хочется быть сильной, быть, как ты, непреклонной ко всему, что тебя ранит. Часто я гляжу на тебя, когда ты не замечаешь, сидишь с отсутствующим видом, и на подбородке у тебя упрямая ямочка, руки опущены, но не расслаблены, и ты весь словно бы ощетинился, уж не знаю на кого… мне тогда кажется, что в тебе есть что-то ужасное и ради этого ты даже мог бы…
Тут она вдруг умолкает, словно споткнувшись. Глаза ее снова становятся глубокими, но теперь в них отчуждение. Я заканчиваю за нее:
— …убить?
Она два или три раза кивает, прежде чем сказать тихо:
— Да, убить.
— Ты этого боишься?
Я смотрю на ее горло, пока она глотает слюну. Но потом она говорит:
— Нет, Алехо, не боюсь.
Шевелит ногами за моей спиной, наклоняется в мою сторону, спускает ноги на пол и идет в ванную:
— Я сейчас…
Оставшись один, улыбаюсь про себя; снова гляжу на дубинку, валяющуюся у кровати. Собираю одежду, раскиданную по всей комнате, и начинаю одеваться. Когда надеваю рубашку, замечаю, что карман ее пуст. Смотрю на пол, становлюсь на колени и заглядываю под кровать. Но бумажника нигде нет. Должно быть, потерял.
В следующее мгновение пожимаю плечами, закуриваю сигарету.
Вода в ванной уже не шумит. Я жду.
Едва в дверях появляется ее силуэт и я вижу ее серьезный взгляд, мне сразу становится ясно, что она решилась на бой и что с этой минуты мы всегда будем жить, обнажая себя друг перед другом.
— Ты решилась?
— Да.
Она подходит ко мне, склоняется над кроватью и собирает скомканную одежду. Не оборачиваясь, добавляет:
— Но как? Я ему дала не свое имя…
— Неважно. Телефон-то настоящий.
— Надо ждать, пока он позвонит.
— Конечно, надо ждать.
Она выпрямляется, снова идет в ванную, захватив белье, но тотчас возвращается, открывает шкаф и начинает одеваться во все чистое. Руки у нее дрожат. После долгого молчания она говорит:
— Только я ставлю одно условие.
— Какое?
— Что ты убьешь его прежде, чем он доберется до меня.
— Хорошо. А почему?
Мы одновременно идем друг другу навстречу, пока не встречаемся на середине комнаты.
— Не хочу, Алехо, чтобы кто-нибудь еще до меня дотрагивался.
Я поднимаю руки к ее лицу, глажу щеки.
— Почему?
Она склоняет голову и прислоняется к моей ладони.
— Потому что я тебя люблю.
— А до сих пор… Что произошло?
— Не знаю, Алехо… — Она закрывает глаза. — Это случилось сегодня… Я поняла… — она колеблется, поднимает голову, снова открывает глаза, еще более серьезные, но в то же время покорные, — …что это слишком важно и что всякий раз как я отдаюсь другим, я себя обкрадываю, унижаю свою любовь… нашу любовь, Алехо.
Я сглатываю комок, подкативший к горлу, и спрашиваю:
— А деньги, Рена?
— Разве я не зарабатываю на жизнь?
— Да, но недостаточно, чтобы делать сбережения. Ты же хотела откладывать на старость…
— Теперь уже не хочу.
Она улыбается, и глаза у нее то светлые, то темные, как ее чувства.
— Я никогда не состарюсь, Алехо. И ты тоже.
Мы смотрим и смотрим друг на друга…
II
Под вечер, прикинув, не слишком ли будут загружены часы приема, что редко бывает в конце недели, ведь перспектива воскресного отдыха поднимает тонус у многих ипохондриков, я позвонил Марии Кларе, и, когда пришел, ужин уже был на столе. Разумеется, сама она его не стряпала: в подобных случаях, впрочем довольно редких, она заказывает что-нибудь в ресторане на углу. Расход для нее неважен, она всегда была склонна к расточительности, да и, с другой стороны, сумма, которую я выделял ей, вполне это позволяла.
— Ты останешься на всю ночь? — спросила она.
— Нет, часов до одиннадцати-двенадцати.
Жене я тоже позвонил и сказал, что лучше не ждать меня к ужину, потому что у меня консультация за городом и вернусь я очень поздно. Такие отговорки всегда неприятны, не люблю лгать, но надо же было как-то скрыть от жены существование Марии Клары, как раньше приходилось скрывать от нее существование других девиц, которых я, быть может, и не искал бы, если бы она сама косвенно не побуждала к этому. Физическая близость никогда не привлекала мою жену, и хотя мы и спали в одной постели, супружеских отношений по молчаливому согласию давно не поддерживали. Смолоду она была видной, привлекательной девушкой, и за все время, пока я ухаживал за ней, у меня не было повода заподозрить ее в холодности. После свадьбы это открытие явилось для меня неприятной неожиданностью, но поначалу я довольно самонадеянно решил, что мой пыл пробудит ее дремлющий темперамент. Но нет: Бернардина так и осталась одной из тех женщин, по-моему весьма редких, которые прекрасно обходятся без мужчины и для которых любовь — это исключительно нежные чувства, без примеси вожделения, хотя и им доступно некоторое неосознанное сладострастие.
Вот почему я был вынужден искать на стороне то, чего не находил дома, тот отклик, без которого обойтись не мог, но я ничего не отнимал у Бернардины, так как, признаюсь, никогда не испытывал подлинного уважения к этим трем женщинам: сперва к Лоле и Марте, а потом к Марии Кларе — оттого, что они, каждая на свой манер, сделали любовь своей профессией, а я только обеспечил себе исключительное право на них. «Исключительное», пожалуй, слишком сильно сказано, ибо первые две не соблюдали условий договора, хотя частично, пожалуй, виноват был я сам: выбрал слишком уж молодых и, понятно, иногда кровь вскипала у них в неподходящую минуту. Но, даже понимая подобные вещи, согласиться с ними я не мог: меня всегда это отталкивало.
В Марии Кларе я, кажется, нашел нечто более постоянное и надежное. Начнем с того, что ей шел тридцать второй год и ко многим вещам она уже утратила всякое любопытство — знала, что ни от кого ничего нового не получит. Для нее плотская любовь превратилась — если оставить в стороне материальные соображения — в здоровое и приятное занятие, которому она предавалась регулярно, не выдумывая никаких сложностей в отношениях, но все же не без увлеченности, не без трепета — иначе игра не стоила бы свеч. Мы прекрасно устраивали друг друга.
Пока мы ужинали в небольшой комнатке, служившей и столовой, и гостиной, так как квартира была маленькая — и не из-за моей жадности, а из-за того, что она сама не любила слишком больших квартир, ведь они требуют служанки или хотя бы приходящей прислуги, — я рассказал Марии Кларе об Алехо и его фотографиях. Разумеется, не стал распространяться о фотографии убитого, имени которого я не упомянул, а говорил только о снимках девушки. Не то чтоб я не доверял Марии Кларе. Мы были знакомы уже три с половиной года, и я знал ее как особу не болтливую и даже как хорошую советчицу, ведь продажная любовь не составляет прерогативу примитивных, умственно отсталых женщин, как полагают некоторые. Наоборот, Мария Клара обладала врожденным благородством манер и таким пониманием многих вещей, которому позавидовали бы и честные женщины более высокого положения. Стало быть, я знал, что могу рассчитывать на ее благоразумие и что секреты, поверенные Марии Кларе, не будут разглашены, но, несмотря на это, не мог забыть, что она не член нашей семьи и союз наш не будет продолжаться всю жизнь. Поэтому я соблюдал известную осторожность в этом весьма деликатном деле, даже та помощь, которой я от нее хотел, не обязывала раскрываться перед ней до конца. Достаточно было поговорить о фотографиях незнакомки, что я и сделал.
— Грязные фотографии? — переспросила она, оставляя бокал, из которого потягивала пенедесский кларет. — Что ты этим хочешь сказать?
Я объяснил ей, что имел в виду, и описал кое-какие детали, изображенные на фотографиях. Но она, казалось, не обратила особого внимания на мои слова.
— Судя по тому, что ты говоришь, они не должны сильно отличаться от тех, которые публикуются во многих журналах, особенно в киножурналах.
Мария Клара была большая любительница подобных изданий, и у нее всегда имелась пачка еженедельных журналов со всевозможными сплетнями из области десятого искусства. Она даже встала из-за стола и принесла несколько экземпляров.
— Посмотри…
И показала с полдюжины не очень приличных картинок, оправдывающих сдержанность многих в отношении кино. Подписи под картинками поясняли, что это кадры из фильмов: задранные юбки, голые бедра, неприлично глубокие вырезы блузок.
— Они такие? — спросила Мария Клара.
— Ну… не совсем.
Фотографии, которые я рассматривал, представляли собой лишь один кадр, выхваченный из общего контекста. Один из фильмов я даже видел, но на кадр, помещенный в журнале, не обратил внимания; возможно, он не вызвал у меня никаких эмоций потому, что в фильме он никак не был выделен. Девушка прыгает через высокую стену, и юбка у нее задралась чуть ли не выше головы, но это вполне естественное движение, и оно запечатлено камерой, чтобы все на экране было как в жизни. То же самое можно сказать и о другом кадре, в котором, судя по всему, девушка идет одетая по морской отмели в час отлива и лишь чуть-чуть приподнимает юбку, чтобы не замочить ее; Мария Клара подтвердила, что в фильме так все и есть. Не скажу, чтобы эти кадры, в отдельности, не пробуждали нездорового интереса, но первоначальный замысел был иным. Кинокамеpa — вроде сетчатки человеческого глаза, она регистрирует сцены, и забавные, и отталкивающие, точно так же как происходило бы с человеком, прогуливающимся по городу. Можно подкараулить девушку, когда она сидит на скамейке, положив ногу на ногу, и нечаянно показывает одну из резинок, но неподалеку вдруг окажутся играющие мальчишки и какой-нибудь старик будет сидеть и смотреть, пуская слюни… Естественно, фильм никогда не показывает сразу все происходящие одновременно события, сцены располагают в определенном порядке, выбирают в зависимости от режиссерской задачи, но действие-то развертывается в мире реальных людей, оно должно рассказывать о различных сторонах повседневной жизни, и это обязывает автора включать в фильм любые образы и картины, характеризующие эту жизнь.
Иное дело — Алехо: он преднамеренно выбрал определенные сцены, вырванные из жизни, те моменты, когда девушки одеваются или раздеваются и представляют собой разве что объект чистой анатомии. Вернее, не совсем чистой, потому что откровенной наготы недостаточно, ее надо обработать, подчеркнуть и одновременно усилить представление о ее недозволенности, о ее тайне, сделать ее возбуждающей. В общем, как я сказал Марии Кларе, фотографии моего сына были более рискованными.
— В них нет естественности, — пояснил я. — Положение модели — нарочитое, и он использует детали, которых я здесь не вижу: чулки, пояс… и все это столь же прикрывает, сколь обнажает.
— Не скажи, — улыбнулась она, — есть такие фильмы, которые только из-за этого и смотрят. Когда я прошлым летом была за границей… Да я тебе, кажется, об этом рассказывала.
— Да, ты мне рассказывала. Я знаю, что бывают такие фильмы и даже похуже. Есть и журналы там, у них, которые публикуют только «художественные» фотографии. Но у авторов подобных творений есть хотя бы одно оправдание, пусть безнравственное: на эту продукцию находятся покупатели. У Алехо их нет; стало быть, испорчен он сам.
— Но почему, Ансельмо? Ты не преувеличиваешь? В его возрасте ты, наверно, тоже всем интересовался…
— Это был другой интерес, — возразил я. — Мне нравились девушки и, как тебе известно, продолжают нравиться и сейчас. Да что там! Я врач, а не монах, и знаю, какую важную роль в нашей жизни играет секс. И ты это знаешь. Это знают все нормальные порядочные люди. А у моего сына я вижу отклонение, он проявляет интерес… как бы тебе сказать… интерес соглядатая. И кроме того, — добавил я, — мне бы хотелось узнать, что это за девица. Мы предоставили мальчику слишком большую свободу, или Алехо сам ее взял, что, в общем-то, одно и то же, а теперь не имеем ни малейшего представления о его знакомствах. Сама понимаешь, если начну расспрашивать… Поэтому и рассказал тебе об этом деле, ты можешь помочь. Никому, кроме тебя, и довериться не могу.
— А чем я могу помочь тебе? — спросила она. — Ты думаешь, это кто-нибудь из моих знакомых?..
— Нет. Она… Ну, в общем, у меня нет оснований так думать.
Я чуть не сказал, что девушка намного моложе ее, и это было бы ошибкой. Разумеется, я прекрасно знал, что Марии Кларе тридцать один год, но все равно едва ли ей понравилось бы упоминание о том, что какой-то девице нет и двадцати. Да это было бы и несколько несправедливо, потому что Мария Клара сумела удивительно сохраниться. Очевидно, подвергает себя всяческим ограничениям, соблюдает режим и не жалеет денег на Институт красоты, ну что ж тут странного?
— Мне пришло в голову, — продолжал я, — что ты, вероятно, могла бы очень осторожно предпринять некоторые шаги. Он тебя не знает, как, надо думать, и остальные члены моей семьи. Я бы дал тебе…
Она слегка наклонилась вперед, держа в руке персик, который только что взяла из вазы.
— Ты хочешь, чтоб я его выследила?
— Нет, речь идет не совсем об этом, — ответил я, вдруг почувствовав неловкость. Дело оказалось более деликатным, чем я представлял себе. — Как ты можешь догадаться, у меня возникли некоторые подозрения… По кое-каким признакам я предполагаю, кто эта девушка. Единственное, о чем я тебя прошу, — это проверить мое предположение. У меня есть адрес и…
— А если это не она?
— Тогда так: он, наверное, часто посещает бар, какое-нибудь увеселительное заведение, и там, наверно, найдется человек, который мог бы немного последить за ним и разобраться, что к чему… Ты меня понимаешь.
— Да, понимаю. Но мне это не нравится, Ансельмо. — Она коснулась моей руки своей, еще влажной от персика. — Если ты настаиваешь, я могу это сделать, не по обязанности, но потому, что я хочу только одного: чтоб тебе было хорошо, и ты это знаешь. Мне сильно повезло, что я встретила тебя, я к тебе привязалась… и это не только слова, — добавила она, — ты, должно быть, и сам уже заметил. По правде говоря, у нас с тобой много общего, поэтому мы и встретились.
— Да, Мария Клара, я это знаю. И ты тоже знаешь мои чувства к тебе…
— Знаю, Ансельмо. И не стоило тебе об этом говорить. Это не в твоей манере. Видно, очень уж тебя расстроила история с твоим сыном. — Она улыбнулась. — Родители всегда расстраиваются, когда убеждаются, что дети уже совсем взрослые.
— Не в том дело, Мария Клара…
Да, конечно, дело было не в том, но, чтобы объяснить это, пришлось бы объяснить и все связанное с фотографией политического деятеля. Я вдруг понял, что, ведя дело таким образом, кажусь несколько смешным, наивным. Гораздо разумнее было бы, как тут же посоветовала Мария Клара, поговорить с сыном по-дружески, «как мужчина с мужчиной» — именно так она выразилась. Только она не знала, что у Алехо особенный характер и что мальчик испытывает явное отвращение к такого рода беседам, он это уже давно доказал. Все наши серьезные разговоры превращались в мой монолог, который я произносил, видя перед собой каменное лицо с упрямо сжатыми губами.
— Ты придаешь этому слишком большое значение, — закончила она. — Помнишь, ты говорил, что твой сын увлекается фотографией, собирает фотоколлекцию городских фонарей… Так что же особенного в том, что теперь он коллекционирует фотографии такого рода? Я даже считаю это вполне естественным для его возраста. Ведь мир женщины ему в новинку, он делает свои первые открытия.
Она встала и включила радио, молчавшее до тех пор.
— Не возражаешь?
— Нет, — рассеянно ответил я, очищая персик.
— Сейчас будет передача «Ищу родных», я всегда ее слушаю.
— Да, я знаю, дома у меня ее тоже слушают.
Она наклонилась ко мне, ласково погладила по лбу.
— Не делай такое озабоченное лицо. Я уверена, что твой сын совершенно здоровый мальчик.
— Хотел бы я быть в этом уверен…
Она снова пошла к радиоприемнику — уменьшить звук — и тотчас вернулась к столу.
— А ты говорил об этом с женой?
— Нет, я никому ничего не говорил. Бернардина всполошится еще больше моего, она очень… ну, очень стыдлива.
Но говорить о Бернардине мне не хотелось. Одно дело — случайно упомянуть, иногда без этого не обойтись, другое — обсуждать жену с Марией Кларой. У той хватило такта не задавать никаких вопросов на этот счет, и мы молча принялись за персики, рассеянно слушая голос женщины-диктора, которая, когда кончилась музыка, начала так:
«…а теперь мы с удовольствием предлагаем вашему вниманию еженедельную программу «Ищу родных», которой мы все обязаны фирме «Посмотри вокруг», под покровительством которой…»
Дальше следовала реклама изделий из пластика фирмы «Посмотри вокруг», текст которой я знал наизусть, потому что уже три месяца слышал ее каждую пятницу, и за все это время в ней не изменили ни единого слова. Они и программу-то не очень обновляли, в ней преобладали матери, разыскивающие детей, и дочери, о которых много лет ничего не было известно. — В целом передача производила удручающее впечатление, но рекламное агентство сумело подладиться под вкус женщин, всегда чувствительных к такого рода несчастьям; слушая рассказ о каком-нибудь трогательном случае, Бернардина не раз роняла слезу…
— Хочешь кофе, Ансельмо?
— Да, свари чашечку.
Она доела персик и встала. Небольшая кухня находилась рядом со столовой, но, чтобы не упустить ничего из программы, Мария Клара усилила громкость. Хорошо поставленный и немного резковатый голос говорил:
«Нашу передачу мы начинаем с письма, которое получили от сеньориты Р. Ж. Ей двадцать четыре года, и родом она из небольшого городка в провинции Лерида; когда умерла ее мать и она осталась одна на свете, Р. Ж. приехала в Барселону в надежде разыскать своего отца. Ничего не узнав в учреждениях, занимающихся розыском, она обращается теперь к нашей программе: не сможет ли кто-нибудь из наших радиослушателей помочь ей? Автор письма — одна из тех несчастных, которые обязаны своим появлением на свет военным невзгодам и которым с рождения не дано было знать отца. Письмо очень длинное, и мы, как обычно, изложим в нескольких словах основные факты, которые могут помочь сеньорите Р. Ж. в ее поисках. Родилась она в августе 1939 года в Тальяделе. Ее мать, Флора Мальфре, была дочерью проживавшего там крестьянина и сошлась с солдатом интендантской службы Ансельмо Гасулем, уроженцем Барселоны, в то время студентом-медиком. Эти сведения она услышала из уст матери, которая после окончания войны несколько раз робко пыталась навести справки в нашем городе, но, к сожалению, безуспешно. Сеньорита Р. Ж. не знает, жив ли ее отец и проживает ли он в Барселоне. Она будет благодарна всем, кто поможет ей встретиться с ним или с членами его семьи. Радиослушателей, которые могли бы помочь ей, просим обращаться в редакцию, и мы дадим вам адрес девушки из Лериды, которой мы сегодня желаем успеха в ее поисках…»
После этих слов диктора заиграла музыка. Мария Клара вышла из кухни:
— Слыхал? Интересно, правда?
Кивнув, я вытащил трубку и принялся набивать ее.
— Ну и хват, наверное, был этот солдатик… Звали его Ансельмо, как и тебя.
Она не знала, что это и был я. К счастью, она вернулась на кухню, иначе непременно заметила бы, как я изменился в лице. Это внезапное вторжение прошлого в мою теперешнюю жизнь, причем в весьма неподходящий момент, поставило меня перед такими обстоятельствами, которые я ни тогда, ни потом всерьез не воспринимал, — на меня это подействовало как нокаут. Я разом забыл все заботы, связанные с Алехо, и сосредоточился на существовании дочери, которая только что явилась из ниоткуда. Все совпадало. Прошло двадцать четыре года, и я давным-давно не вспоминал об этой Флоре, которая отдалась мне на гумне. Но теперь все ожило в моей памяти, отозвавшись неясной болью, и я, сидя без пиджака в уютной столовой Марии Клары, всей кожей ощущал холодный, зимний ветерок; был вечер, туман, пахло соломой, на которую мы легли в последний раз, обнаженные, зарывшись в теплые сухие стебли, покалывавшие тело и разжигавшие желание…
— Ну, вот и готово…
Мария Клара принесла на маленьком подносе две чашечки и сахарницу. Женщина-диктор продолжала перебирать четки человеческих трагедий, и, когда она читала или пересказывала очередное письмо, голос ее звучал патетически, будто и она переживает страдания всех этих несчастных, разыскивающих родных.
— Один кусок, да?
Передо мной стояла чашка ароматного кофе; Мария Клара снова села напротив и ухаживала за мной: движения ее были исполнены благородства, необычного для такой женщины. Минут через десять мы встанем из-за стола, она, как всегда, загрузит тарелки в посудомойку, и мы пойдем в спальню; она покойно расположится там на постели, дожидаясь свершения любовного обряда.
Сейчас все это показалось мне невыносимым, и рот мой скривился в страдальческой гримасе, едва я представил себе это заранее продуманное механическое действие, лишенное какой бы то ни было фантазии и даже истинного желания; ведь это была, по сути дела, гигиеническая процедура, вроде душа или чистки зубов.
— Ты еще думаешь о мальчике? — спросила она.
Не могла Мария Клара не заметить, что я не такой, как всегда, и необычно молчалив; заметила, должно быть, что, когда я поднял чашечку, рука моя дрожала.
— Нет, — сказал я. — Не в этом дело. Я очень устал.
— Ты слишком много работаешь, — отозвалась она (и я знал, что она это скажет, как всегда знал, что скажет Бернардина, Эмма, любая женщина). — И никогда по-настоящему не отдыхаешь…
— Врач не может позволить себе такой роскоши…
— А какая будет польза твоим больным, если ты сам заболеешь?
— Никакой, разумеется.
Я положил трубку на стол и провел рукой по вспотевшему лбу, хотя окно осталось открытым и на улице в этот вечерний час было свежо. Радио продолжало работать, но теперь передавали обзор новых книг, и мы не слушали.
— Ты плохо себя чувствуешь? — озабоченно спросила она, заметив мое движение, и склонилась над чашкой.
— Я переел. Со слишком полным желудком в определенном возрасте шутки плохи.
— Так, может, ты приляжешь…
Но мне хотелось уйти. Дома я хранил дневник военных лет, заметки, которые, как я тогда думал, интересно будет когда-нибудь перечитать, только все не хватало ни времени, ни мужества это сделать. Теперь мне незамедлительно требовалось просмотреть записки, найти тот любовный эпизод, восстановить мое тогдашнее душевное состояние и уточнить даты наших встреч в сарае: там, если все совпадает, мы и зачали дочь, которая теперь разыскивает меня…
— Если ты не обидишься, я лучше пойду…
Она не обиделась. Мария Клара была понятлива, благоразумна. Может, она и выглядела несколько удивленной моим внезапным недомоганием, нервозностью, хотя, к счастью, голосом я этого не выдал, но не стала задавать неуместных вопросов; приняла мое толкование фактов без всяких возражений и даже предложила:
— Может, тебе лучше взять такси? Я могу поставить твою машину, куда скажешь.
Она даже не заикнулась о том, чтобы проводить меня, зная, что я хотел любой ценой сохранить тайну наших отношений. Я сказал ей об этом вполне откровенно, когда мы познакомились и я снял для нее квартиру. Она согласилась без всяких оговорок, возможно потому, что денежное содержание с лихвой компенсировало и ее отказ от тех развлечений, которые мог бы предоставить ей менее занятой человек. Мы никогда не ходили вместе в театр, за исключением тех случаев, когда уезжали из Барселоны, обычно в августе — моя семья в это время жила на даче.
— Нет, не так уж мне плохо, чтобы я не мог вести машину. Посплю и встану как новенький.
— Позвони мне завтра, — попросила она.
Я обещал, немного стыдясь этой комедии. Мне всегда трудно было скрывать что-нибудь, а если приходилось, я делал это с тяжелым сердцем. К сожалению, мы не всегда можем поступать соответственно нашим убеждениям, какими бы искренними они ни были, хотя многие недалекие люди, иногда даже благонамеренные, считают обратное. Постепенно, с годами, мы создаем наш собственный внешний образ, который потом уже не можем разрушить по своему усмотрению не столько из боязни нанести ущерб самим себе, сколько из-за тех, кого жизнь связала с нами и кто может огорчиться не меньше, а то и больше нас. Существует долг перед ними — перед семьей, обществом, перед всеми, кто верит в нас, и мы не имеем права огорчать их своей ошибкой, почти всегда нечаянной, вызванной обстоятельствами — и все из ложно понятой искренности. Ложь, конечно, причиняет нам страдания, но в итоге начинаешь понимать, хотя нелегко с этим согласиться, что такое страдание, возможно, наилучшее искупление.
Пока я ехал по городу, эти мысли не мешали мне ощущать недовольство самим собой, считать себя ответственным за то событие, к которому я, да и она тоже — в этом я не сомневался — отнеслись слишком легкомысленно. Не потому, что она была слишком опытна. Хорошо помню, как она с подкупающей искренностью, исключавшей всякий обман, сказала, что до меня делала это только со своим женихом, и то давно. И не жалеет, потому что он убит на Арагонском фронте в первый год войны; она, неизвестно почему, простодушно считала, что после того, что у них было, ему легче было умереть. В душе она была доброй девушкой.
И вот она умерла, оставив мне дочь… Придется подумать, что делать. В первую минуту я решил не делать ничего, забыть, что я слышал эту передачу, снова погрузить этот эпизод во мглу былого, но этому воспротивилось чувство долга. Конечно, девушка уже взрослая и в состоянии сама о себе позаботиться, но, с другой стороны, она приехала в Барселону разыскивать меня, значит, я для чего-то ей нужен. Не могу же я отвергнуть ее под тем предлогом, что встреча с ее матерью была случайной и мы не предвидели таких последствий. Это было бы нечестно.
Рассеянно взглянув на часы, я увидел, что еще не так поздно, как полагал. Являться домой еще рано. От Марии Клары я ушел из-за чрезвычайного, неприятного обстоятельства, побудившего меня броситься перечитать через столько лет военный дневник, но я совсем позабыл, что мои домашние, возможно, еще сидят за столом и удивятся такому раннему появлению: ведь я сказал, что консультирую за городом. Нужно повременить. Кроме того, после трудной и небезопасной езды по городу я немного успокоился.
Проехал по Пасео-де-Грасиа, затем по Арагонской улице и остановился у бара. Выкурю трубку, выпью пива, подумаю… Ничего не получилось. У стойки сидел Розендо Торрес с рюмкой ликера, и уклониться от общения с ним было трудно — он сидел вполоборота к двери. Вот уж не повезло!
— Привет! — улыбнулся он, когда я подошел. — Что говорит медицина?
— Ничего нового…
Мы говорили друг другу «ты», но никогда не были, что называется, настоящими друзьями, хотя он много лет жил в нижнем этаже нашего дома и мой отец был у них домашним врачом. Я радовался, что после смерти его родителей мы перестали общаться, потому что Розендо вызывал у меня неприязнь, и, кроме того, я считал его опасным типом из-за его убеждений. Он был из тех, кто не умеет воспользоваться обстоятельствами и потому остается верен пагубным идеалам. Упрямство трижды приводило его в тюрьму, но он всякий раз выходил оттуда, ничему не научившись и еще более гордый, чем раньше. Странное дело: вместо того чтобы стыдиться, он смотрел на тебя так, будто совершил славный подвиг, а виноваты все те, кто, как и я, никогда не имел дела с правосудием. У меня это вызывало досаду.
— Что поделываешь? — спросил я, лишь бы что-нибудь сказать. Мне было совершенно безразлично, чем он занимается.
— Что я могу делать! Делаю, что возможно, как и все. Не считая эксплуататоров, конечно, — добавил он.
Как видно, он был чем-то огорчен. Насколько я знал, дела у него всегда шли плохо, и в этом не было ничего удивительного, если вспомнить о его взглядах. От отца Розендо унаследовал небольшую книжную лавку, но лавку закрыли. Розендо писал книги, но уже давно не видел я в витринах написанных им книг; должно быть, Розендо зарабатывал на жизнь какой-нибудь низкооплачиваемой черной работой. Стоило только посмотреть на его костюм…
Собственно говоря, нам нечего было сказать друг другу, так что я собрался побыстрей выпить пива и вернуться в машину, но он сам избавил меня от своего общества, коснувшись моего локтя.
— Прости, я ждал друзей, и они уже пришли…
— Ничего, ничего, — довольно глупо ответил я, — неважно.
Краешком глаза я наблюдал, как он с ними встретился.
Это были двое парней, один из них вроде бы иностранец. «Очередная авантюра, — подумал я. — Вот уж действительно: горбатого могила исправит».
Потом я совершенно о нем забыл. Темные дела Розендо вовсе меня не интересовали, у меня были другие заботы. Любопытно, что беда и в самом деле не приходит одна. Сначала — история с фотографиями Алехо; теперь на меня с неба свалилась эта девушка. Я ума не мог приложить, что мне делать с Алехо, да еще и Мария Клара отказалась мне помочь. Совет ее был бы правильным, если бы не характер Алехо и если бы речь шла только о непристойных фотографиях, но как раз их находка казалась мне теперь все менее важной. Не из-за того, что сказала Мария Клара, хотя, возможно, она не так уж не права, утверждая, будто я из мухи делаю слона. Нет, даже эти пристрастия несколько нервозного юноши казались мне незначительными по сравнению с любопытством, заставившим Алехо сфотографировать труп при соучастии членов семьи политического деятеля или без этого участия. Впрочем, теперь соучастие их казалось мне весьма сомнительным: я сообразил, что едва ли родственники убитого захотели бы иметь подобную фотографию. Вероятнее всего, Алехо действовал тайно, один или в сговоре с дочерью, если, конечно, на фотографиях запечатлена она, такая девушка на все пойдет; она несомненно, порочна и лишена моральных устоев, хотя тут возможно и совсем другое — просто несчастная женщина, полностью подпавшая под власть моего сына… Я уж и не знал, что хуже.
Извращенец сын и бог знает в каких принципах воспитанная дочь… Да и что можно от нее ожидать, коль скоро она выросла без благотворного влияния отца, без достойного окружения, живя лишь со слабой и невежественной матерью? В лучшем случае это бедная деревенская девушка, уже подурневшая и огрубевшая от постоянной работы в поле, полуграмотная, придавленная бедностью… Хотя, пожалуй, я преувеличиваю. Ее мать, помнится, говорила, что то строение, где мы находились, принадлежит их семье, значит, у них что-то было, какая-нибудь маленькая ферма; возможно, это скромная крестьянская семья, но не обязательно нищенствующая. Правда, разница не велика, я знаю, что за жизнь ведут — или, во всяком случае, вели двадцать лет назад — крестьяне, владеющие небольшим наделом: это жизнь, полная труда, однообразная, одуряющая, без всяких перспектив. Девочки года два походят в школу, научатся кое-как читать и писать, а потом от зари до зари работают или, если в семье много детей, их посылают в город в прислуги и они нередко идут на панель.
Я сидел у стойки, передо мной стояла бутылка пива, а мысли мои уносились то к Алехо, то к этой девушке, и мной овладевала страшная усталость, какое-то изнеможение, мешавшее ясно оценить существующее положение вещей, построить логически правильную цепь рассуждений, найти разумные решения, если таковые существовали. Что касается Алехо, то в его случае их наверняка не существует, разве что я решусь прямо спросить его об этой фотографии и волей-неволей заставлю его признаться. Придется действовать энергично, как того требует мой отцовский долг… Я дам ему понять, что на мне лежит обязанность, которую я хочу выполнить для его же блага, что мой вопрос вызван не простым любопытством, но чувством ответственности. Ему только девятнадцать лет, — он целиком во власти обстоятельств, нежелательных привязанностей и собственных фантазий; это фантазии существа, которое еще не нашло, а лишь ищет себя. Мой неоспоримый долг — помочь ему, помочь сориентироваться, но я смогу так поступить лишь в том случае, если он будет откровенен со мной и проявит готовность воспользоваться опытом других, тех, кто, как его отец, жили и тоже делали ошибки…
Я закрыл лицо руками. Не годится. Не потому, что слова неподходящие, а потому, что вообще нет таких слов, которые дошли бы до Алехо. Каким-то непонятным, непостижимым для меня образом он отделился от семьи, общался с нами лишь по необходимости, потому что без нас он бы пропал, но Алехо и в голову не приходило, что заботы о нем, любовь к нему и все наши жертвы требуют взаимности, в которой он отказывал. Причины этого я постичь не мог, сколько ни думал. Мы всегда были справедливы к нему, предоставили свободу, которой многие бы позавидовали, платили за ученье и ничего не имели против дорогостоящих увлечений, например против фотографии… На что ему было жаловаться?
Проблема дочери по сравнению с проблемой сына казалась более простой, более разрешимой. Вероятно, потому, что я не знал эту девушку, и все должно было зависеть от того, что она из себя представляет. А это можно было узнать, лишь поговорив с ней.
Было уже больше половины двенадцатого, когда я вышел из бара. Розендо все еще оставался там, сидел с этими парнями; все трое, склонившись над столом, без умолку о чем-то говорили и дымили как паровозы. Я ограничился тем, что помахал Розендо рукой. С ним надо поменьше общаться, с такими запросто нарвешься на неприятности. А мне и своих больше чем достаточно.
Дома, конечно, еще не спали. Служанка, худенькая и очень юная девушка, которую агентство прислало нам утром, что-то напевала в кухне, перетирая тарелки, а Бернардина и Эмма сидели в гостиной, обсуждая образцы вышивок из модного журнала.
— Ты уже вернулся? — спросила Бернардина.
— Да, это заняло немного времени, — ответил я, ничего не уточняя, так как никогда не разговаривал дома о больных.
— Ужинал?
— Да, там же, в Сан-Джусто.
Я считал, что Алехо по обыкновению ушел, но позже, проходя мимо его комнаты, увидел свет. Открыл дверь.
— Привет, отец, — угрюмо произнес он. Выглядит сердитым, но это еще ничего не значило, вид его бывает обманчивым.
— Занимаешься?
— Нет.
Перед ним лежала открытая тетрадь, но это могло быть все что угодно, а вдаваться в объяснения он не счел нужным. Эта манера приводила меня в отчаяние, и Алехо это знал, но продолжал в том же духе. Иногда я спрашиваю себя: а может, его цель в том и заключается, чтобы доводить нас до отчаяния? Я сдержался, насколько смог, и лишь сказал ему не без некоторой иронии:
— Работай, работай. Не буду тебе мешать.
Когда я проходил через гостиную, направляясь в кабинет, Бернардина подняла глаза от журнала:
— Сегодня ты пропустил интересный случай…
Разумеется, я знал, о чем она мне расскажет, она и Эмма всегда подробно излагали мне такие программы. Так что я был подготовлен.
— Какой случай?
— Девушка разыскивает отца. Речь идет, по всей вероятности, о солдате, который во время войны познакомился с ее матерью в небольшом местечке… Как оно называется, Эмма?
— Тальядель. Ты ведь бывал там… Может, ты его знаешь. Его тоже звали Ансельмо, Ансельмо Гасуль. Это довольно редкое имя.
— Я знал одного Гасуля, сержанта. Но имени не помню… И что произошло?
— У нее родился ребенок.
И они вдвоем рассказали мне историю со всеми подробностями. Я пожал плечами.
— А что тут интересного?
— Такие вещи часто случаются, когда идет война, не правда ли, папа? — услышал я за спиной голос Алехо.
Я не слышал, как он подошел, наверно потому, что он остановился в дверях, но, когда я обернулся, меня удивило выражение его лица, вернее, глаз. Они были какие-то слишком уж хитрые, слишком взрослые и будто таили в себе такое знание жизни, которое едва ли можно было в нем заподозрить.
— Ты-то что знаешь?
— Да все говорят, — пояснил он почти дружелюбно; только глаза его горели тревожным огнем. — О солдатах и говорить нечего, они совсем теряют чувство ответственности, но, как видно, и женщин здорово распаляет всякая там перестрелка…
— Алехо! — разом воскликнули Бернардина и я. Она — с изумлением, я — с возмущением.
— Ты что, разговариваешь со своими приятелями? К сожалению, я не могу контролировать тебя всюду, где ты бываешь, но уж дома изволь выбирать выражения. Если не уважаешь меня, уважай мать и тетку.
— Они тоже вполне совершеннолетние, — сердито возразил он.
— Но им не нравится грубость.
— Елки-палки, только и сказал, что женщина тоже…
— Замолчи! Не стоило тебе выходить из своей комнаты ради этого.
Он слегка пожал плечами, отступил назад, но сразу же остановился.
— А потом будете говорить, что я с вами мало общаюсь… Да вам и сказать-то ничего нельзя.
И, не дожидаясь ответа, ушел. А обе женщины и я, мы только переглянулись, совсем огорошенные. Да, этот мальчик — твердый орешек, и, как бы ни было неприятно, нам придется поговорить по душам, и чем скорее, тем лучше. Если разобраться, он зашел слишком далеко, и если так пойдет и дальше, то в один прекрасный день он преподнесет такое, что история с фотографиями покажется еще детскими игрушками. Надо его приостановить. Только не сейчас. В ту минуту у меня не хватило бы духу выдержать тягостную сцену; к тому же я знал по опыту, что присутствие женщин все на свете усложняет. Надо поговорить с глазу на глаз или, по выражению Марии Клары, как мужчина с мужчиной.
Я укрылся в своем кабинете. После разговора с Алехо я ощущал какое-то напряжение, нервничал, и мой интерес к дочери Флоры как будто поубавился. Ведь речь шла о временах давно прошедших, и девушка эта, будь она хоть сто раз моей дочерью, не являлась членом нашей семьи, не входила в круг моих сегодняшних забот, и само ее существование было пока что совсем чуждо для меня, и если поначалу я ее признал, то теперь, пожалуй, отвергал, скорей всего из чувства самозащиты, без которого мы не могли бы решать наши жизненные проблемы, они бы нас просто захлестнули. Теперь это приключение двадцатичетырехлетней давности казалось мне нереальным, как будто оно случилось не со мной, а мне о нем кто-то поведал со всеми подробностями.
Но нет, это случилось со мной, это был кусок моего прошлого, и я в этом убедился, когда заглянул в тетрадь, хранившуюся за медицинскими справочниками, вместе с двумя романами, которые я написал, но не напечатал. Это была толстая тетрадь в черной обложке, в одну восьмую листа, очень потрепанная, ведь три года я таскал ее в кармане. Углы совсем обтрепались, а листки за столько лет пожелтели. Местами нелегко стало разобрать написанное, особенно если я писал карандашом, а таких страниц оказалось немало.
Я быстро пролистал тетрадь до конца, до записей, относящихся к началу зимы тридцать восьмого года. По-видимому, в то время событий было особенно много, записи этих последних месяцев занимали страниц сорок, хотя я всегда ограничивался регистрацией фактов, обходясь без особых комментариев.
Судя по дневнику, знакомство с Флорой состоялось третьего ноября, на следующий день после нашего прибытия в ее деревушку, где мы простояли одиннадцать дней. Я впервые увидел ее, когда шел с товарищем в лагерь по дороге, соединявшей деревню с шоссе. Девушка несла мешок травы кроликам, как она сама нам сообщила, и рассмеялась, когда мы предложили помочь ей; но все равно мы вместе прошли до ворот ее дома и там расстались. Селение было невелико, и ничего странного не было в том, что назавтра мы снова повстречались. На этот раз она шла к фонтану на площади, где обычно собирались люди, хотя в большинстве хозяйств, как я потом узнал, имелись свои колодцы и цистерны для сбора дождевой воды. Она разрешила мне проводить ее до фонтана и обратно, и, так как через два дня было воскресенье, мы договорились провести его вместе, то есть она согласилась, чтобы я пошел с ней и ее подружками в ближайший город, где было кино.
Встреча не состоялась, потому что меня с утра отрядили на доставку продовольствия. Мы должны были доставить продукты из Игуалады, нашей ближайшей базы, если не считать Серверу, которая в основном снабжала нас в те дни, и мы полагали, что к полудню вернемся. Но в пути машина испортилась, и в местечко мы вернулись лишь в шесть часов. Конечно, Флора и ее подруги ждать меня не стали.
На другой день я попросил у нее прощения, но ей уже было известно, что машина сломалась, и мне не пришлось убеждать, что я не обманул ее. Она согласилась погулять со мной в тот же вечер, но вышло еще удачнее: оказалось, что ей надо в Таррегу за покупками, и мы пошли туда вместе. По дороге она рассказала мне, что у нее был жених, который погиб на фронте, но она не сказала, конечно, что была с ним близка. Когда мы возвращались — на этот раз она разрешила мне нести сумку, — уже совсем стемнело. Перед нами шло несколько солдат, но они шли быстро, и вскоре мы остались на дороге одни.
Возле какого-то строения, не то хижины, не то часовни, неподалеку от хутора, она позволила мне поцеловать себя, и, надо сказать, раньше, чем я ожидал; но, когда я дал волю рукам, она воспротивилась. Правда, место было совсем неподходящее, да и холод стоял порядочный. Но она сказала только, что мы еще мало друг друга знаем.
На следующий день мы уже познакомились поближе. Я проводил ее до гумна, шли мы от селения всего минут десять; она хотела взять хворосту на растопку. Гумно состояло из двух половин: одна — под крышей, там хранилась солома, над другой, где валялись серпы и всякие орудия, в это время года ненужные, крыши не было. В глубине — большие ясли для лошадей и мулов на время молотьбы.
Придя туда, мы поцеловались, как и накануне, и она многое мне позволила, только не разрешала ласкать ее тело под платьем; когда же я увлек ее на солому, она воспротивилась. Девушка сказала, что это нехорошо, потому что я солдат и скоро уйду, а она не из тех, кто уступает каждому. Я ей нравлюсь, потому она и пошла со мной и позволила поцеловать себя, но уж остальное…
Я не хотел принуждать ее. В то время, разумеется, я был погорячей, чем сейчас, и, вероятно, не соблюдал кое-каких заповедей, тем более что многие вокруг меня потешались над ними и не признавали их; с другой стороны — от солдатской жизни я огрубел и легко совершал небольшие проступки, о которых дома, в мирное время, и подумать не мог. Но я сохранил еще достаточно нравственного чувства, чтобы уважать желание девушки сохранить себя, как я тогда полагал, до замужества. Короче говоря, ничего бы тогда и не произошло, если бы она, когда я отступился от нее, естественно разочарованный, не испугалась, что обидела меня, и не спросила: «Ты не сердишься на меня, Эрнесто?»
Я хлопнул по тетради ладонью, пораженный открытием. Да, Эрнесто. Так звали сержанта — Эрнесто Гасуль, и она перепутала меня с ним, когда при второй встрече спросила, как меня зовут. Я перечитал это место. В записках было сказано: «Я назвал ей имя сержанта, бедняги Гасуля». Но его звали Эрнесто, я хорошо это помню, и помню, что именно, так она тогда меня и назвала. Но ведь в письме, которое прочли или изложили по радио, речь шла об Ансельмо… Может быть, потом я сказал ей свое настоящее имя? Но почему лишь наполовину? Почему не сказал, что я не Гасуль?
Я раскурил трубку и сквозь зубы процедил: «Любопытно». И тут я вдруг подумал еще об одной детали, на которую не обратил внимания: я ей никогда не говорил, что я студент-медик, а в письме дочери об этом сообщалось. Откуда Флора это узнала? Может, поговорила с моими товарищами, но тогда бы она узнала и мою фамилию… Необъяснимо. Впрочем, мне не хотелось думать об этом; может, когда-нибудь девушка объяснит мне, как это получилось.
Снова склонившись над тетрадью, я продолжал читать запись от восьмого ноября тридцать восьмого года. Сцена была описана без диалога, но вспомнить его было нетрудно, по крайней мере приблизительно.
— Нет, — сказал я ей. — Я же, в конце концов, здесь пробуду недолго, и никакая девушка не отдаст свою невинность незнакомому человеку, так бывает только в романах.
Она долго молчала, видно думала, сказать или нет, потом призналась:
— Я не девушка.
И рассказала о связи с женихом, которая началась за несколько месяцев до его отъезда на фронт. Услышав такое признание, я снова подошел к ней и, пока говорил, все убеждал себя, что отказ ее не совсем искренний и что я слишком рано спасовал, а теперь она объясняется потому, что ей нужно то же, что и мне. И я свое получил.
— Никто ничего не узнает, Флора, — сказал я. — Видишь ли, я не настаивал из-за того, что считал тебя невинной. Не хотел причинять тебе зла…
— Я понимаю. Мне понравилось, что ты не настаиваешь.
— Но теперь дело другое. Мы можем быть счастливы несколько дней, а может, и недель. Идет война, и в любой момент нас могут убить. Меня-то уж во всяком случае…
Это и заставило ее уступить. Она повторила ту жертву, что принесла прежде жениху. Мы любили друг друга страстно и без оглядки, и, скорей всего, в тот вечер она и забеременела. Не оставалось сомнений, что это — моя дочь. Судя по дневниковым записям, мы с Флорой сошлись восьмого ноября и потом — одиннадцатого. Из письма следует, что девушка родилась в августе следующего года. Даты совпадали.
Я закрыл дневник. Пока что я не знал, что смогу сделать для нее, поскольку ничего о ней не знал. Но зато я знал, что я перед ней в долгу, а я никогда не любил оставаться в долгу у кого бы то ни было.
2
Кортет звонит мне во время обеда; услышав, что это он, я закрываю дверь кабинета.
— Сегодня я тебя не видал. Ты не был?
— Нет. Как прошло?
— Очень хорошо. Я одного нокаутировал.
— Не разыгрывай! Так уж и нокаутировал?
— Ого-го! Если б его не унесли, и сейчас бы еще валялся на Ронде.
Потом голос его скучнеет:
— Но опять схватили несколько человек.
— Кого?
— Всех пока не знаю. Видел, как увели Ровиреса, Кастро и еще парня с медицинского, я его не знаю. Почему ты не пришел?
— Не мог.
Не объяснять же ему, что вчера вечером тот тип назначил Ренате свидание на сегодня. Это поважней. А если б я пошел, могли бы схватить и меня. И я добавляю:
— Завтра…
— Обязательно приходи. Лучшие из нас не должны идти на попятный.
— Завтра увидимся.
— Ладно… Но я не из-за этого тебе звоню. Ты в прошлый раз потерял бумажник?
Машинально я хватаюсь за карман.
— Да, а что?
— Его нашел Торрес, ты его знаешь?
— Сын писателя?
— Да. Одного из стоящих, верно?
— Если бы все были такими… А где он его нашел?
— На Пасео.
— А что же он вчера мне его не отдал?
— Ему пришлось остаться дома. Отделали как следует.
— Здорово досталось?
— И сегодня еще хромает… Он тебя искал, и мы договорились, что я тебе позвоню. Ты, наверно, был занят, да?
— Ясно, что не забавлялся.
— Так теперь ты знаешь, у кого твой бумажник.
— Да. Мог бы он и сам позвонить.
— Ну, вы-то с ним мало знакомы. Он бы отдал его мне, да не захватил с собой. Это было бы неосторожно.
— Завтра я его повидаю.
— Ладно, дружище, договорились…
Он как будто собрался повесить трубку, но добавляет:
— Да, и эта девушка… Рената. Она сегодня тоже не пришла.
— Не пришла? Я ее не видел.
— Если бы ты дал мне ее телефон, я бы мог…
— У нее нет телефона.
— Какая жалость! Девочка что надо, а?
— Да, только давай поговорим об этом в другой раз. Мы сейчас обедаем.
Он смеется.
— Ты — буржуа!
— Брось, все люди обедают!
— Но не в три часа… Что ты делаешь вечером?
— Есть одна работа. А что?
— Ничего, я так спросил.
— Тогда до завтра.
Вешаю трубку и возвращаюсь в столовую, где мои домашние молча едят. Мать спрашивает:
— Кто тебе звонил?
— Товарищ. Из университета.
Злят меня эти их вопросы. Я-то никогда не спрашиваю, с кем они говорили. Отец отламывает кусочек хлеба.
— Вы не собираетесь возобновить занятия?
— Не мы их отменили…
— Надо же, перед самыми экзаменами… представляю, чего вы нахватаете. Готовься как следует.
Откуда им знать, что практически я уже считай что провалился. Три месяца не слушал лекций и не заглядывал в книгу. Меня это не интересует. И не собираюсь нагонять.
Мать зовет новую служанку:
— Петра! Можешь подавать десерт.
Это говорится на чистом кастильском, нашего языка она не понимает вовсе. Никто не взял на себя труд научить. Все говорят с ней так, будто мы живем по ту сторону Эбро. Тетушка спрашивает:
— Вы все еще устраиваете манифестации?
— Да.
— Но ты не ходишь…
— Конечно, хожу.
Отец смотрит на меня поверх очков. Не знаю, зачем он их носит, если сквозь стекла никогда не смотрит.
— Это плохо. Ты знаешь, я не люблю запрещать тебе что бы то ни было, но… Тебе до этого нет никакого дела.
— Вот как? А кому же до этого дело?
— Тем нескольким сумасбродам, которые только и думают, как бы учинить беспорядок.
— Ворвались в университет и схватили несколько наших товарищей.
— Наверное, за дело. Я слышал, они распространяли листовки.
— Никому не известно, кто их распространял. Имеем мы право на свободу мысли или нет?
Тетушка возглашает:
— Студенты всегда были такими. Я помню, и ты, Ансельмо, ввязывался во все скандалы, в какие только мог.
Он принимается за вишни.
— Это не одно и то же, Эмма. Другие были времена, да и за рамки законности мы не выходили. По сути дела, у нас не было ничего плохого на уме, просто хотелось поразвлечься. Это совсем другое дело.
— Конечно, вам можно было развлекаться. Вам ничего не надо было решать.
— А вам, значит, надо?
Отец задает этот вопрос ироническим тоном, как бы не веря и изумляясь.
— Наверно, надо. Раз уж старшие этого не делают…
— И что же вы решаете?
— Сегодня, может быть, достаточно и того, чтобы кто-то заявил: «Неправда, что мы живем в земном раю».
Я сказал это так горячо, что проглотил вишневую косточку. Но они маленькие.
— И вы за нас все сделаете…
Теперь он говорит с явной издевкой. Всю жизнь только и занят тем, что выколачивает деньгу из больных, никогда ничем другим не занимался, а считает себя вправе иронизировать.
— Нет. Но, может быть, пробудим в ком-нибудь честность.
Он морщится:
— Не знаю, чего еще вам не хватает! Никогда так о молодежи не заботились, никогда не было таких возможностей для каждого, никогда не было такого порядка…
— Вот оно!
Он умолкает, и все смотрят на меня удивленно, потому что я почти выкрикнул эти слова. Торжествующе выкрикнул.
— Что ты хочешь сказать?
— Что без этого тебе не обойтись. Порядок!
Я вскидываю руки, склоняю голову и отвешиваю медленный поклон.
— О порядок, идиотский порядок, убереги нас от всяческого зла, сделай так, чтобы мы все могли вечно возносить тебе благодарственные молитвы!..
Тетушка и мать смеются, не поняв до конца, а он хмурится.
— Что означает эта клоунада?
— Только то, что, когда кто-нибудь нажимает на кнопку, взывая к порядку, я слышу пронзительный звонок и…
— Не понимаю, почему тебе так нравится разыгрывать шута.
Он покраснел. Наверно, тоже проглотил косточку.
— С вами обращаются, как с мужчинами, а вы отвечаете, как дети…
— Кто это с нами обращается как с мужчинами?
— Алехо…
Мать, как всегда, стремится, чтобы все было тихо-спокойно. Постоянная температура, как в оранжерее, ширмы и закрытые окна.
— Нам вечно затыкают рот одним и тем же леденцом. Говорят «порядок»… и все должны помалкивать. Но какой порядок? На кладбище тоже порядок, да еще, пожалуй, и построже.
— Алехо, хватит!
И он жалуется матери и тетушке:
— Не понимаю я этого парня. С ним невозможно разговаривать.
— Потому что для тебя разговор — это когда говоришь один ты, а другой только слушает.
— Алехо!
Обе кричат разом. Хорошо бы их в такой момент сфотографировать и сделать надпись: «Женщины, ужаленные скорпионом».
— Это уже выходит за всякие рамки! Делаешь все возможное, либеральничаешь, отказываешься от жесткой дисциплины, стараешься говорить с ним как с равным — и что получаешь в ответ?! Если бы я, когда был молодой…
Проповедь. Я нахально чищу ногти. Есть вещи, на которые можно отвечать только нахальством.
— Ансельмо, ради бога, не надо так горячиться… Разве ты не понимаешь, что он еще ребенок?..
Но тетушка спрашивает:
— Почему ты такой, Алехо?
Я машу рукой:
— Она же сказала. И все вы это говорите. Кругом одни несмышленыши: рабочие, получающие тридцать шесть песет в день, шахтеры, из которых выжимают все соки, бедняки, теснящиеся в трущобах…
Я встаю, не сложив салфетку.
— Впрочем, зачем я вам это говорю?
Он кричит:
— Вот именно, уходи! И никогда не слушай, что тебе говорят, понятно? Иди своей дорогой, ведь ты все знаешь и остальным нечему тебя учить… Ну надо же!
Петра стоит в коридоре, слушает, не понимает ни слова, но крики ее привлекают. И она этого не скрывает, потому что не трогается с места — смотрит на меня своими наглыми глазами.
Она противная. Именно поэтому я, проходя, шлепаю ее. Она яростно оборачивается и бьет меня по руке. Но я другой рукой хватаю ее руки.
— Я закричу!
— Давай кричи!
Это было бы здорово. Но она не кричит. Стоит неподвижно и смотрит на меня. Я вдруг отпускаю ее. Я сам себе противен. Говорю:
— Прости, Петра…
И иду к себе в спальню. Запишу все эти сцены. Может, пригодятся для романа, который я пишу и который, скорее всего, не закончу. Потому что сегодня вечером хочу убить политического деятеля.
Встреча назначена на час ночи, но уже в половине первого я пересекаю площадь Сан-Грегорио и по дорожке вдоль стены направляюсь к улице Эскуэлас Пиас. Строительство церкви, очевидно, приостановлено. Читаю на стене: «Без помощи прихожан мы не можем продолжать работы».
Дорожка темная, на ней много строительного мусора. Но она пустынна, и это хорошо. Чуть дальше горят на довольно большом расстоянии друг от друга два фонаря, а за колокольней, там, где стоит многоэтажный дом, я вижу два освещенных окна.
Ограда, невысокая гладкая кирпичная стена, идет с теневой стороны. Жду несколько мгновений, прижавшись к столбу. Надеваю перчатки. Справа — строящийся дом. Здесь никто не может меня увидеть.
Легко взбираюсь на стену и спрыгиваю по ту сторону. Сад невелик, лишь несколько деревьев достигают крыши. Бесшумно ступая, выхожу на дорожку и, обойдя портик главного входа, скрываюсь в тени за особняком.
Слышится отдаленный шум автомобиля, но здесь тишина, лишь ветка, качаясь, тихо шуршит по стене. Гляжу на часы, потом поднимаю глаза и смотрю на дерево. Это невысокая раскидистая сосна. Лезу на нее осторожно, чтобы не повредить «вочтлендер», который лежит у меня в кармане брюк.
Оседлав сук, вытаскиваю из-под рубашки резиновую дубинку и взвешиваю ее: держу обеими руками в перчатках. Вижу автомобиль, проезжающий по Эскуэлас Пиас, но им еще рано. Убеждаюсь, что это маленькая машина. Доезжает до конца переулка и останавливается. Потом сразу поворачивает обратно. Видно, сами не знают, куда едут.
Вокруг снова все тихо. Я опять гляжу на дубинку, улыбаюсь. Стрелки медленно ползут по циферблату.
Откидываюсь на ствол дерева, он у меня за спиной, шершавый и смолистый, рубашка липнет к нему. Неважно. Рубашка старая, потом сожгу. Перчатки тоже. И даже брюки.
В соседнем доме кто-то включил радио на довольно большую громкость. Слышен голос певца. Нашего. Наверное, запись. Понемногу начинаю узнавать, хотя слышал мелодию всего один раз. Это песня Брассанса, но поет ее Эспинас. Внимательно слушаю.
Pel just que es collocat enmig dels assassing…[2]
Даже подходит.
Потом слышится голос диктора, густой и не наш, и тут же чья-то рука выключает радио. И опять тишина. Заметив, что все еще держу в руках дубинку, я прячу ее за пазуху, между рубашкой и майкой.
Смотрю на часы. Пять минут второго. Слышу шум мотора. Они пунктуальны. Длинный «плимут» катится по мостовой, мягко покачиваясь, и городские огни меркнут в свете фар. Свет, упершись в портик, перестает качаться.
Я не могу их видеть, мешает строящийся дом, но слышу щелчок открывающейся дверцы, затем скрежет по гравию разболтавшихся ворот.
Машина снова трогается, потом замирает. Фары гаснут. Дважды хлопают дверцы; неясный разговор; снова скрежет ворот, затем легкие шаги на ступенях у входа. Потом другие шаги, потяжелей и помедленней.
Мужской голос говорит какие-то слова, которые мне не разобрать, их заглушает громкое щелканье замка. Я не спеша спускаюсь с дерева. Обхожу дом, избегая полосы света, падающего из окна. Стоя в тени, изучаю машину, она светло-зеленая и как будто чуть-чуть мерцает в темноте.
Свет гаснет, но с другой стороны дома открывается окно. Иду к главному входу, поднимаюсь по ступеням, прижимаясь к стене портика, и легонько нажимаю на дверь. Она заперта.
Жду. Из открытого окна доносится смех Ренаты, слишком пронзительный, деланный. Мужской смех, низкий, но взволнованный. Смех смолкает; в доме что-то двигают, наверное стул, и тишина становится еще гуще, в ней таится угроза.
Нажимаю на ручку двери и всем телом наклоняюсь вперед. Весь дрожу: возбуждение, охватившее меня несколько минут назад, еще возросло. Смотрю на дверь, она бесшумно открывается. Считаю до двадцати пяти и протягиваю руку.
Где-то в глубине виден свет, который Рената должна была оставить, чтобы мне легче было ориентироваться. Из вестибюля коридор ведет в небольшую комнату, где я различаю два кресла и столик в современном стиле. Иду налево, к свету, но сворачиваю, увидев оранжевую дверь, о которой мне говорила Рената.
Она приоткрыта, но я вижу только Ренату, стоящую у постели перед ночным столиком, на котором стоит лампа «тюльпан», льющая мягкий свет. Он появляется с другой стороны, на нем голубые домашние туфли, ноги — белые и волосатые, в узловатых мышцах, кажется, что они в шрамах. Наклоняется к ней, протягивает руки. Рената нервно смеется, устремив взгляд на дверь, которую я в это время тихонько открываю. Он выпрямляется и резко оборачивается. Одновременно поднимает руки, защищаясь, так как я бегу к нему с поднятой дубинкой. Краешком глаза вижу Ренату, она сунула в рот пальцы и прикусила их, а я почти машинально опускаю оружие на его голову. Руки его не предотвратили удара, они падают как плети, он качается.
Сдавленный крик слетает с губ Ренаты, но я снова заношу дубинку, крепко ее держа обеими руками, и второй раз обрушиваю на его череп. Череп треснул. Мужчина падает, ударяясь всем телом.
Рената всхлипывает, она рядом со мной, горячая и взволнованная. Но я молча ее отталкиваю и склоняюсь над неподвижным телом. Дубинку я бросил у его ног, а сам приникаю ухом к груди. Сердце вроде бы остановилось. Снимаю с правой руки перчатку и беру за запястье. Пульса нет.
— Он умер?..
Я встаю, продолжая смотреть на него.
— Да.
Она снова цепляется за меня, словно силы ее оставили, но я спрашиваю:
— До чего ты дотрагивалась?
— До дверей, до ручек…
— До каких? Покажи.
Но она не трогается с места.
— До наружной и вот до этой.
Я быстро иду к двери и тщательно протираю ручку перчаткой. Потом выхожу.
— Алехо! — она бежит рядом полураздетая. — Не оставляй меня одну.
— Идем. Боишься?
— А ты нет?
— Нет.
— Мне очень страшно.
Теперь я замечаю, что она дрожит. Даже лицо у нее нервно дергается. Обнимаю ее нежно, ведь мое возбуждение улеглось, как только я встретился со взглядом этого человека. Она льнет ко мне, вся обмякнув.
— Мы сделали страшное дело, Алехо…
— Мы знали, на что идем. Сделал это я.
— И я тоже.
Я целую ее, но губы у нее необычно твердые и лишь постепенно раскрываются.
— Пойдем оботрем ручку той двери.
Снова проходим через комнату и вестибюль.
— Что ты ему сказала, чтобы выйти открыть мне?
— Ничего. Он раздевался в ванной; в тот раз было то же самое.
— Тебе надо было надеть перчатки.
Протираю задвижку и приоткрываю дверь, которая так и оставалась открытой.
— Еще до чего-нибудь дотрагивалась?
— Нет.
— Ты уверена? До ночного столика, до спинки кровати?..
— Ни до чего не дотрагивалась, я об этом помнила.
Возвращаемся в спальню, где лежит труп. Он лежит, подобрав ноги, и уже не кажется важной персоной. Скорей, похож на тряпичную куклу.
— Я вся дрожу…
— Тебе хорошо бы чего-нибудь выпить… Есть тут у него?
— Есть в баре. Но я ничего не хочу.
Я вижу, как она косится на труп, и загораживаю его собой.
— Пожалуйста, подожди меня на улице.
— Я не могу одна. Почему мы не уходим?
— Сейчас.
Вытаскиваю из кармана фотоаппарат, оглядываю комнату. Свет слабоват, но получится.
— Для чего ты хочешь его сфотографировать?
Действительно, для чего? Объясняю:
— Наверное, с той же целью, с какой фотографируются, когда женятся или идут к первому причастию. Чтобы увековечить торжественный момент.
— Не поняла.
— Это мой первый труп, Рена…
— Твой первый…
Тут я вижу, что лицо ее побелело и покрылось холодным потом. Горло сжимает сдерживаемая спазма.
— Тебе нехорошо?
— Совсем плохо. Меня, кажется сейчас вырвет…
Она поворачивается и бежит к небольшой двери слева — должно быть, там ванная.
— Рена, руки!
Но она уже схватилась за дверь. Я бросаюсь за ней.
— Рена!
Хватаю ее за руки как раз в тот момент, когда она хотела опереться на раковину.
— Оставишь следы…
Когда все позади, она слабо улыбается, но тут же переводит взгляд на зеркало.
— Какой вид! Я умоюсь…
— Нет. Потом тебе понадобится вытираться, и ты на всем оставишь следы.
— Ты думаешь, можно выйти с такой физиономией?
— Почему же нет?
Выходя, гашу свет и закрываю дверь; она идет со мной к бару, и я еще раз спрашиваю:
— Ты в самом деле ничего не хочешь?
— Нет. Меня бы снова вырвало.
— А я…
Но передумываю. Потом придется протирать стакан. Я устал протирать все на свете.
— Идем. Выпьем дома.
Выключаю свет, и мы в последний раз возвращаемся в спальню, где время остановилось. Но не для нас. Глянув на часы, вижу, что уже два. Может, мои спешат?
— Сколько на твоих?
— Пять минут третьего. Пойдем, Алехо.
— Сейчас.
Фотоаппарат лежит на кровати, куда я его бросил. Беру его, снова проверяю освещение, зажигаю лампы дневного света, скрытые в стеклянных панелях, украшающих стены, но они дают рассеянный свет…
Пробую сделать снимок. Склонясь над трупом, навожу фокус, немного отступаю, потому что хочу взять в кадр все тело, и нажимаю на спуск.
— Выключи свет, Рената.
С того же расстояния, в том же ракурсе щелкаю еще два раза уже только при свете лампы, стоящей позади меня на столике.
— Готово.
Она делает шаг к двери, пока я прячу фотоаппарат в карман. Тогда я говорю:
— Минутку… Ты не хочешь одеться?
— Ах!
И она удивленно смотрит на себя. Берет блузку, потом юбку, поспешно одевается, суетясь и делая массу ненужных и неловких движений.
— Ты могла так и уйти, оставив здесь свою одежду…
Рената смотрит на дубинку. Она лежит, касаясь трупа, там, где я ее выронил.
— Что делать с этой штукой?
Я поднимаю дубинку, а Рената говорит:
— Оставь ее, она ведь не твоя.
— Но ее могут опознать. Дознаются, что тот тип потерял ее на Пасео-де-Грасиа во время стычки со студентами. И без труда догадаются, что подобрал ее кто-то из нас.
— Там было много народу.
Я чешу в затылке, продолжая глядеть на дубинку.
— Все равно это след. А я не хочу оставлять никаких следов, ничего, что указало бы им направление, пусть даже самое неясное.
Я машинально начинаю протирать дубинку перчаткой.
— Не лучше ли оставить ее здесь, Алехо?
— Не знаю. Нет, мы выбросим ее где-нибудь, подальше отсюда.
Сую дубинку за пазуху, еще раз оглядываюсь.
— Ты ничего здесь не забыла? Платок, кошелек?.. Где он у тебя?
— Я его не взяла. Подумала, так будет безопаснее.
— Тогда пошли.
Я беру ее под руку.
— А свет?
— Пускай горит.
Почти на ощупь пробираемся через маленькую комнату, потом я осторожно открываю наружную дверь. Кажется, все спокойно. Только «плимут» соблазнительно поблескивает в темноте.
— Выходи.
Негромко щелкаю замком, запираю дверь. Поочередно обходим машину и чуть ли не на цыпочках подходим к воротам. Шпингалет опущен, я его поднимаю…
И тут я протягиваю руки к деревянной решетке ворот и хватаюсь за нее, чтобы не упасть, кладу на руки отяжелевшую голову.
— Алехо!
Ее маленькие руки подхватывают меня в темноте, она прерывисто выдыхает мое имя.
— Алехо, что с тобой?
— Ничего…
С ее помощью я медленно оборачиваюсь, но снова покачиваюсь на ватных ногах. Слышу ее шепот:
— Алехо, Алехо…
Пробую улыбнуться, но губы не слушаются.
— Не пугайся…
— Хочешь, возьмем его машину?
Я отрицательно качаю головой и снова выпрямляюсь, на этот раз немного увереннее, и два-три раза глубоко вдыхаю воздух.
— Ты не умеешь управлять машиной, мало ли что может случиться.
— Но до дома далеко…
— Дойду…
Она берет меня под руку, и я опираюсь на нее. Мы оба в поту, хотя нам в лицо дует свежий ветерок. Набираю в грудь побольше воздуха и пытаюсь открыть деревянные ворота. Они тяжелые.
— Открой ты…
Выходим, я немного покачиваюсь. Но тут же останавливаюсь, не совладать с руками, они дрожат, как ртуть. Рассуждаю вслух:
— Надо было обыскать его…
Она закрывает ворота и поворачивается ко мне:
— Для чего?
— Придется вернуться. У него где-нибудь записаны твой адрес и твое имя. Если полиция доберется…
— Я ему дала только телефон бара. И он думал, что меня зовут Лаура. Ты забыл?
— Но они установят, чей это номер, пойдут в «Попилс».
— Там никто ничего не знает. Вчера я сама подошла к телефону.
— И ничего другим девушкам не сказала?
— Ничего.
— Ты в этом уверена?
— Уверена. Телефон бара ему мог дать кто угодно.
Дрожь немного утихает, но ноги по-прежнему налиты свинцом, я их волочу, когда мы идем по дорожке к площади Сан-Грегорио. Она говорит:
— Обними меня…
Я обнимаю ее за плечи, и мы молча продолжаем путь.
Кровать мягкая, но наволочка сбилась, и на щеке остался след. Немного отодвигаюсь, шевелю ногами, их как будто кто-то грызет. Рената бродит по квартире; потом входит в спальню, все так же одетая, и подходит ко мне. Я медленно поворачиваюсь.
Она склоняется надо мной:
— Не надо шевелиться.
Расстегивает мне брюки и стаскивает их, затем снимает и рубашку. Я закрываю глаза, совсем обессилев. Не знаю, как я добрел до квартиры Ренаты. Но мы добрались. И даже по дороге отделались от дубинки. Она бросила дубинку в люк.
— Как ты себя чувствуешь?
— Хорошо. Сожги это.
— Обязательно.
Она садится на край кровати, касается рукой моего лица, но я отталкиваю руку.
— Нет… ты говорила, у меня такая выдержка… — Я по-прежнему лежу кверху лицом. — А если бы не ты, я бы упал.
Я чувствую ее горячее прерывистое дыхание на моем голом плече. Слышу, как она мягко говорит:
— Алехо, ты знаешь?..
Я не отвечаю. Теперь ощущаю не только ее дыхание, но и ее руки на моей груди.
— Я рада. Я так счастлива из-за этого…
Я молчу и чувствую, как горячая щека касается моей, слышу голос:
— Сначала я даже испугалась тебя. Ты был такой уверенный, ловкий… Точно машина, которая ничего не чувствует, ни о чем не думает…
— Уйди!
— Нет, Алехо… Мне ведь тоже сделалось дурно.
— Ты женщина.
— Ну и что? Мы оба из плоти и крови.
Целует меня в ухо и добавляет:
— Мне нравится, что ты сильный… Но теперь мне лучше видеть тебя таким, испуганным, как и я. А уж как я боюсь, Алехо…
Я поворачиваюсь, сажусь.
— Уходи! Уходи!
Колочу ее по чему попало, и злость возвращает силу моему телу, которое словно просыпается.
— Сожги сейчас же. Не хочу, чтобы ты мне сочувствовала.
— Я тебе не сочувствую, Алехо. Я тебя люблю, только люблю…
— Не говори так!
Снова падаю на постель, сжимаю кулаки и закрываю глаза; собираю все силы, чтобы совладать с подступающими к горлу рыданиями. Некоторое время она еще держит руку на моей груди, потом убирает, и я слышу удаляющиеся шаги; дверь спальни закрывается.
Растягиваюсь во весь рост, тело мое содрогается от рыданий. Слезы льются ручьем; изо рта, как у старика, течет слюна. В гневе комкаю простыню, потом разжимаю кулаки и смотрю на свои руки. Смуглые руки с толстыми пальцами и слишком широкой ладонью… Те же самые руки, что и раньше. Но они убили человека, и это было совсем легко. Слишком легко. Закрываю глаза, чтобы не видеть их, не видеть ничего. Раскидываю руки, хватаюсь за края матраца, переворачиваюсь, снова оказываюсь на спине; одна нога свесилась, и пальцы касаются пола. Внезапно перепугавшись, соскакиваю с кровати. Но нет, «вочтлендер» лежит на туалетном столике, я не забыл вынуть его из кармана.
Снова падаю на постель и лежу, сжав кулаки, с открытыми глазами. Болит горло, в нем еще застряли рыдания, но я уже не плачу, глаза сухие, лицо пылает.
Кто-то ходит по квартире. Издалека доносится голос Ренаты:
— Все в печке, уже, наверно, догорает.
Когда она садится на постель, матрац под ней опускается, и я вижу, как глаза ее смотрят на меня, а руки расстегивают пуговицы на блузке. Потом она встает, чтобы снять юбку и комбинацию, и снова садится, начинает снимать чулки.
Молча растягивается на постели рядом со мной, но снова садится, тянется к выключателю. Нас окутывает мрак.
Мы безмолвно и неподвижно лежим рядом, потом ее рука находит мою.
— Алехо…
— Чего тебе?
В ответ она сжимает мои пальцы.
— Зачем ты разделась?
— Уже очень поздно.
— Только поэтому?
— Нет… Я хочу спать с тобой.
— Почему?
— Потому что тебе это нужно.
— Ничего мне не нужно.
Она умолкает, но через мгновение говорит:
— Я не хочу, чтобы ты чувствовал себя одиноким.
— Одиноким?
— Ну да. Разве ты не считаешь, что ты одинок?
Я приподнимаюсь.
— Я убил человека, Рена. Как прикажешь мне себя чувствовать?
— А я этого не хочу.
— Почему? Ты же теперь не можешь любить меня.
— Могу, Алехо, могу!
Она прижимается ко мне, обнимает.
— Никто не может любить убийцу.
— А я тебя могу. Разве что ты не можешь меня любить.
— Не знаю…
Я почти не в силах шевельнуться, я у нее в плену, я весь пропитан запахом ее тела.
— Ты этого не понимаешь, Рена. Я чувствую себя грязным… грязным…
— Может быть, но я люблю тебя какой ты есть.
Я продолжаю:
— Это ужасно… И хуже всего то, что я бы снова это сделал. Не думай, я ни в чем не раскаиваюсь. Возможно, я сделал бы это еще раз, а возможно, что и сделаю. Может, я рожден убийцей. Тебе противно, наверное, на меня глядеть.
— Нет, Алехо. Ты просто мучаешься.
— И ты мне сострадаешь!
Высвобождаюсь из ее объятий и тяну руку к выключателю. Моргаю от света, который кажется мне ярким, отодвигаюсь на другой край кровати.
— Нет, Алехо…
Она снова обхватывает меня руками, и я падаю ей на грудь.
— Я тоже чувствую себя грязной и несчастной.
— Но хочешь спать со мной!
— Алехо!
Она рыдает, но не отпускает меня, обвивая мое тело еще крепче.
— Ну как ты не понимаешь! Это не то, что ты думаешь.
— А что же это?
— Я сама не знаю… Хочу, чтоб ты знал: я твоя, как прежде. Если бы у меня было еще что-нибудь, я тебе и это бы отдала.
Я начинаю хохотать:
— Это же леденец! Леденец, чтобы утешить нашалившего ребенка. Ведь я ребенок, да? Ты мне не нужна. Мне хватает себя самого, чтобы чувствовать себя свиньей. А может, мне нравится быть таким.
Я вырвался из ее рук и, прижавшись к стенке, добавляю уже другим тоном:
— Если бы я сейчас взял тебя, я бы тебе этого не простил. И это не значит, что я тебя не хочу или что ты мне не нужна. Но могу же я сойтись с другой женщиной, которая не…
Она смиренно спрашивает:
— Разве ты не понимаешь, что я люблю в тебе все, и хорошее, и плохое?
Она привстает и вдруг, застыдившись, поджимает под себя ноги.
— Я не из-за себя, Алехо…
Глажу ее по голове, и она склоняется мне на плечо.
— Да, я знаю. Мне не надо было сердиться, но я еще не успокоился. Никого другого искать я не буду и не хочу. Поверь, я не смог бы это сделать, что бы я ни говорил. Я чувствую себя, Рена… я себя чувствую оледеневшим.
— Но ты меня любишь?
— Люблю, Рена. Даже грязную и отвратительную я люблю тебя, как никогда…
Она гладит мое тело, нежно, ласково, и вздыхает.
— Наверное, я хуже тебя, потому что, понимаешь ли, я себя не чувствую несчастной. Мне приятно, что я тебе нужна.
Она немного отодвигается и привлекает меня к себе.
— Ложись как следует, Алехо.
— Нет, сейчас мне не уснуть.
Я встаю.
— Пойду приму душ.
Она вскакивает вслед за мной и провожает меня в ванную. Глядя, как я снимаю плавки, спрашивает:
— А можно я стану под душ вместе с тобой?
Несколько секунд я смотрю в ее полузакрытые глаза.
Потом протягиваю руку:
— Залезай.
Мы съеживаемся и распрямляемся под ледяными струями, низвергающимися на наши спины. Сквозь пелену воды вижу ее улыбку, белые зубы — один зуб стоит чуть косо, — ее красные полные губы. Тянусь губами к ее губам и целую их, глотая воду, стекающую с ее носа.
Оторвавшись друг от друга, мы улыбаемся, но улыбка наша уже не такая сияющая, как прежде. Когда мы стоим рядом, вот как сейчас, любая рана, даже совсем свежая, как будто затягивается. Отметина, шрам останется навечно, но, пока мы любим друг друга, это неважно.
III
Когда я позвонил на радио из кабинета, в котором принимаю своих частных больных, мне сказали, как я и ожидал, что надо либо прийти самому, либо обратиться к ним с письмом; и то, и другое было довольно обременительно. В то утро было семнадцать вызовов, из которых четыре-пять можно было отложить на завтра. Еще следовало зайти в клинику подписать свидетельство о смерти, а в последний момент сообщили, что надо зайти к сеньоре Муне — гипертонический криз плюс тяжелый склероз. Как обычно, дело кончилось тем, что я выписал папаверин, успокоил старуху и ее родных, которые, впрочем, давно уже знали, что им остается лишь набраться терпения.
Из-за всех этих дел, и даже при том, что я сократил некоторые визиты, я смог попасть на радио только к часу дня. Я напомнил, что звонил утром, и они без всяких затруднений сообщили мне имя и адрес девушки. Звали ее Рената Жаума, и жила она в конце улицы Рокафорт, не очень далеко от нашего дома.
Выйдя из редакции, я встретил Моргаду. Я не знал, что он взял на себя рекламный отдел, дважды в неделю передававший программу, популяризировавшую старинные легенды. Он рассказал мне об этом, мы немного поговорили, а когда прощались, снова всплыла история с убийством. Понизив голос, он сказал мне:
— Судя по всему, мы ошиблись, предполагая самоубийство.
— Когда я потом подумал, — согласился я, улыбаясь, чтобы не обидеть его, — мне тоже показалось, что эта версия притянута за волосы. А что, обнаружены еще какие-то факты?
— Официально — нет. Но теперь говорят, что умер он не дома и что фактически труп был обнаружен лишь через два дня после убийства.
— Так где же его нашли?
— Достоверно никто не знает. Насколько я могу судить, дело неприятное, преступление на почве разврата.
Слова его всколыхнули мои опасения; вернее, я стал волноваться еще больше. Раз преступление было совершено не у него дома, как мы думали, построения, объяснявшие, откуда у Алехо эта фотография, потеряли всякое обоснование. Он не мог получить фотографию с ведома семьи или кого-то из ее членов. Если дата на обороте фотографии не была ошибочной и если сведения Моргады были верны — а эти два свидетельства настолько совпадали, что подвергать их сомнению было невозможно, — то родственники убитого в день и час, указанные на обороте фотографии, еще не знали, что он мертв.
Мне пришлось снова спросить себя, с кем встречается Алехо и что за жизнь ведет он вне дома? Журналист упомянул об обманутом муже, но, по существу, признался, что ничего толком не знает. Это необязательно должен был быть муж, речь могла идти о друге, любовнике… И в эту минуту я, конечно, вспомнил другие фотографии, фотографии девушки, и воображение мое продолжало работать, и я уже видел сына в любовных сетях какой-то падшей женщины, которая могла изменить ему с этим чиновником. Он их застал на месте преступления и…
Я сидел за рулем, но и не думал трогаться с места, и сердце колотилось в груди. Не могу сказать, что эта мысль была совершенно новой, в том или другом виде она все время таилась в глубине моего сознания, но теперь она обрела конкретные черты, стала более достоверной или по крайней мере правдоподобной, и я был обязан считаться с фактами, какими бы суровыми они не были. Мой сын мог быть убийцей. Несмотря на благой пример — а я не перестану утверждать, что мы подавали ему только благой пример, — несмотря на воспитание в христианском духе, он мог переродиться в преступника, садиста, получающего такое наслаждение от своего зверства, что он запечатлевает его на фотографии. Это было немыслимо.
Я пришел к выводу, что в таком случае отпадают смягчающие вину обстоятельства, связанные с убийством в состоянии аффекта. Ведь даже если бы преступление было совершено в момент помутнения рассудка из-за обнаруженной измены, то потом убийца неизбежно должен был осознать весь ужас совершенного, и ему уж никак бы не пришло в голову сфотографировать свою жертву. Увековечивают прекрасное, счастливые или торжественные события, но не ошибки, которые нас отталкивают и которых мы предпочли бы избежать. Правда, была еще возможность, что его чувство вины было таким острым, таким сильным, что он поддался в какой-то мере мазохистской потребности увековечить свое преступление, с тем чтобы полней его искупить. Но это было маловероятно.
В те дни я наблюдал за ним, постоянно следил за его поведением, обращая внимание на любые мелочи, на манеру держаться, и ни разу он ни выражением лица, ни словом, ни движением не показал, что перед нами виновник преступления, терзаемый угрызениями совести. Наоборот, он держался с обычной для него развязностью, с упрямством бунтаря, который чувствует свое превосходство над всеми только из-за того, что ему восемнадцать лет и он вам во всем перечит.
И в тот час, когда мы садились обедать, он держался точно так же. В то время, хоть он этого и не знал, фотографии убитого в ящике его стола уже не было. Немного раньше, по дороге домой, я подумал, что наконец необходимо выяснить этот вопрос, поговорить с Алехо, хотя меня всегда пугала эта перспектива, и тут мне пришло в голову, что можно найти способ сломить его упрямство, заставить сделать первый шаг или хотя бы проявить беспокойство. Можно взять фотографии и ждать, пока он их хватится. Тогда он будет вынужден сказать что-то, так или иначе выдать себя. По правде говоря, душа у меня к этому не лежала: хоть Алехо мне и сын, этим поступком я проявлял неделикатность, в которой он всегда мог меня обвинить и которая противоречила моим представлениям о честности.
Но на карте стояло, возможно, будущее Алехо. Это было превыше всего. Таким образом, придя домой, я уже принял решение, но не думал, что смогу так быстро осуществить свой замысел, — было уже два часа, а в это время он обычно дома. Но в тот день Алехо задержался; Бернардина и Эмма стояли на балконе, разговаривая с соседкой, а новая служанка, видимо, возилась в кухне, я ее не видел. Момент был благоприятный, будто кто-то специально все подстроил, и я им воспользовался, чтобы прокрасться во владения Алехо, где мне надо было лишь выдвинуть ящик, взять кассетники и сунуть их в карман. Времени как раз хватило: когда Алехо щелкнул замком, я уже шел в кабинет, а там спрятал кассетники в ящик, который запер на ключ.
Десять минут спустя, когда мы обедали и Бернардина рассказывала, что у соседки вроде бы украли несколько матрасов на даче в Бельятерре, мои глаза дважды встретились с глазами сына, и это было странно, потому что обычно он ест с отсутствующим и безразличным видом, уставившись в одну точку. Но на этот раз в глазах его я заметил какой-то иронический блеск, который мне не понравился; потом я подумал, что эта ирония относится к словам его матери — та по обыкновению от события на соседской даче перешла к рассуждению о том, что может случиться на даче у нас, в Льинарсе.
— Это разные вещи, — вмешался я. — В Бельятерре дачи стоят далеко друг от друга и всю неделю там практически никого нет.
— Не такие уж разные, — ответила она. — Наша дача, конечно, в поселке, я ничего не говорю, но все-таки она на отшибе, и мы туда так редко ездим…
— С этим ничего не поделаешь! Такой опасности подвергаются все владельцы дач. Кто этого не знает?
— Но подумай, что за удовольствие увидеть, что дверь взломана и мебель перевернута…
— Или найти там труп, — сказал вдруг Алехо.
Его замечание показалось мне каким-то болезненным, особенно при сложившихся обстоятельствах, и по спине у меня пробежала дрожь. Я твердо посмотрел ему в глаза и отметил, что иронический блеск в них не померк. Просто не верилось.
— Что ты этим хочешь сказать? — спросил я, борясь с желанием встать, схватить его за ворот рубашки, вызывающе расстегнутый, и трясти, пока он не расскажет все.
— Ничего. Не волнуйся.
— Я не волнуюсь. Но твоя шутка дурного вкуса.
Волнение мое немного улеглось. «Где-то была допущена ошибка», — думал я. Поведение Алехо, его развязный тон и хорошее, лучше, чем обычно, настроение никак не вязались с образом человека, преследуемого призраками совершенного преступления, терзаемого сознанием собственной вины. Разумеется, прошло уже немало дней после убийства, и можно было прийти в себя и даже забыть, не говоря уже о том, что Алехо довольно самоуверен и достаточно владеет собой, чтобы не выказывать терзающего его чувства вины; возможно, он только наедине с собой ворошил эти события. Да, все это возможно, но ведь Алехо еще мальчик, и его самообладание должно иметь предел, особенно если оно не покоится на прочной основе, чего в данном случае быть не могло, ведь привычка скрывать свои чувства развивается и совершенствуется лишь с годами.
— Непонятно, к чему такие шуточки, — пожаловалась Эмма.
Я не знал, что и подумать. С одной стороны, было неоспоримое доказательство — фотография: я ее видел, она у меня, снимок сделан его фотоаппаратом, и дата на обороте точно совпадает с датой преступления. Мне не было надобности повторять эту дату; поговорив с Моргадой, я только о ней и думал. А с другой стороны — тоже доказательство, только иного рода, — поведение Алехо. Тут уж я ничего не мог сбросить со счетов, особенно потому, что оно явно не вязалось с теми предположениями, которые порождала фотография. «Да, — повторял я в смятении, — где-то допущена ошибка, и она мешает правильно истолковать эту фотографию, чудовищная ошибка, которую надо найти во что бы то ни стало…» И я сам не заметил, как произнес таким тоном, будто в душе, моей не было и в помине никаких сомнений:
— Ты мне напомнил… Сегодня утром мне случилось говорить с одним человеком, моим больным, — соврал я из глупого желания скрыть, что говорил с Моргадой, — имеющим широкие связи в официальных кругах, и он мне сказал, что сведения, данные в газетах о смерти чиновника… помните? — неверны.
— Неверны? — удивилась Эмма. — Значит, это было самоубийство, как ты говорил прошлый раз?
— Нет, его убили, но не в его доме.
— Тогда где же? — спросила Бернардина, сразу позабыв о дачных кражах. Она и Эмма выглядели немного взволнованными. Алехо, со своей стороны, замер, невольно слегка отпрянув.
— Не знаю. Говорят, он был с женщиной.
— Скорей всего, в борделе, — откликнулся Алехо, хотя и знал, что его мать не переносит таких слов, тем более в его устах. Но на этот раз она даже не протестовала. Пришлось вступиться мне:
— Не говори глупостей. Такие люди подобные заведения не посещают.
— Я же не говорю, что это было на улице Робадор…
Прекрасно. Он знает заведение на улице Робадор, в глубине китайского квартала, а может быть, и многие другие — так и следовало ожидать, и, хотя это мне не понравилось, я оставил его замечание без особого внимания. По многим причинам я предпочел смолчать и лишь присовокупил:
— И мало того, убили его вроде бы на два дня раньше, чем предполагали. Это объясняет то несовпадение, о котором я говорил в прошлый раз…
— Значит, его нашли только через два дня? — переспросила Эмма.
— Вот именно.
— Наверно, уже завонял, — сказал Алехо.
И он слегка побледнел. Но это необязательно говорило о его виновности. Тут я сообразил, что мы повторяем сцену, которая уже была на днях, и что начал ее снова я, с тем же намерением. Но что толку, я опять мог толковать факты по своему усмотрению. Может, и существуют объективные факты, если пользоваться выражением, которое в чести у Алехо и его сверстников, но впечатления могут быть только субъективными. Никогда не узнаешь, была, ли его бледность свидетельством нечистой совести, или же он побледнел от отвращения, естественного для каждого нормального человека, не привыкшего иметь дело с разлагающимися трупами. Бернардине тоже было явно не по себе. Эмма, как всегда более спокойная, спросила:
— А известно, кто его убил?
— По-моему, нет. Скорей всего, приятель или муж той женщины. Создается впечатление, что это убийство на почве аффекта. Но скоро это выяснят, в таких случаях всегда остаются следы…
— Какие следы? — заинтересовался Алехо.
— Кто-нибудь видел его с этой женщиной, ее опознают. А потом еще остается квартира, где его нашли: раз не у него, значит, у нее.
— Но представь себе, что это была garсonniere[3], а девку он взял с улицы…
— В этом случае было бы трудней… — уступил я. И сразу спросил: — А что заставляет тебя предполагать, что здесь как раз такой случай?
— Меня? — пожал он плечами. — Ничего.
Внезапно весь наш разговор показался мне фантастическим. Он и в самом деле был фантастическим. Во, всяком случае, у Алехо хранилась фотография, мой сын видел труп и был на месте преступления. Он прекрасно знал, как произошло убийство, и тем не менее обсуждал все это со мной и выдвигал различные гипотезы, будто знал обо всем только по газетам. Я снова спросил себя: если Алехо невиновен, если он замешан в этом деле по чистой случайности или даже, допустим, вообще непричастен к преступлению и фотография попала к нему каким-то странным и необъяснимым образом, тогда почему он нам ничего не рассказывает? Чего боится?
Впрочем, должен признать, что в действительности Алехо не очень-то боялся. Боялся только я. За него, за себя, за всех нас, но больше всего за него, потому что он был мой сын и так или иначе попал в беду. Необходимо было помочь ему, но для этого Алехо должен был решиться открыть нам душу, а пока было ясно, что он этого делать не собирается. Возможно, отважится, когда обнаружит, что фотографии исчезли из его стола, но это может случиться и через много дней: я нашел их на том же месте, где видел впервые, и, судя по всему, он к ним не прикасался.
— А еще может быть, — сказала Эмма, — что это дело рук какого-нибудь очень уж высокопоставленного деятеля: в таких случаях все знают, кто убийца, но никто не хочет говорить.
— Может быть, и женщины, — сказал Алехо. — Как знать? Жена какого-нибудь другого деятеля, с которой этот поладил…
Судя по его виду, Алехо рассуждал совершенно бесстрастно, как человек, который интересуется только исследованием существующих вариантов. А я исследовал моего сына, точно незнакомого человека. Он и был мне незнаком. Стал взрослым как-то незаметно, и на каком-то этапе мы потеряли с ним контакт. Что у него на уме? Тут я вынужден был признать, что близко его не знаю. Стремления, мечты, надежды — все то, что заполняет жизнь в молодости, когда мы строим планы на будущее, как будто вовсе не было присуще Алехо или, верней, проявлялось всегда в виде отрицания. Лишь то, что он отрицал, позволяло мне предположить, что интересы его не сводятся к одной лишь фотографии, ночным похождениям и общениям со взбалмошными товарищами по факультету, которые вечно ходят с разочарованным видом, будто все пережили, все испытали и все им смертельно надоело…
В тот день, поднявшись из-за стола, я почувствовал неприятный привкус во рту. Это случалось со мной и раньше, особенно после того, как мы с ним о чем-нибудь спорили; но сегодня и спора-то не было, никто не повышал голоса, все просто обменивались мнениями, и только он и я знали, что о главном мы умалчиваем. Пожалуй, мы и всегда умалчивали о главном, и вполне возможно, что виноват в этом я. Следовало раньше заметить, что бунт, назревавший в моем сыне и проявлявшийся во враждебном отношении к семье, а в своем худшем варианте и ко всему нашему обществу, к его структуре вообще, мог скрывать и положительные устремления или такие, какие он считал положительными, и, стало быть, этот бунт был искренним и вызванным добрыми побуждениями.
К сожалению, искренности и добрых намерений недостаточно, нужны еще здравомыслие и чувство реальности, которыми Алехо, очевидно, не обладал — возможно, потому, что был слишком молод, а может быть, поддался влиянию — что, в общем, то же самое — идеологии, чуждой нашему складу жизни, вредной, как и все, что нарушает работу организма, достигшего стабильности и функционирующего по своим собственным законам. Нам никогда не приходилось говорить о существе дела; я предпочитал воспринимать его речи как неожиданные экспромты, они часто и бывали таковыми, но я не удосуживался изучить, что за ними скрывается, и принять необходимые контрмеры. Я полагал, что достаточно личного примера, примера жизни упорядоченной, честной и трудовой, что достаточно обеспечить ему комфорт и хорошее образование, — вот, должно быть, в чем и заключалась моя ошибка. Я также должен был предвидеть — а упустил из виду и это, — что существует некий закон компенсации, по которому дети восстают против родителей, поднимающееся поколение против уходящего, и что явление это может выйти за безопасные рамки, в которых проходит любое созидание, если кто-то по недомыслию, ленности или недоброжелательности засядет в своем укреплении и окопается там, вместо того чтобы вступить в игру и попытаться сделать этот процесс не таким бурным.
Вот от таких мыслей стало горько во рту, когда я уединился после обеда. Обычно я пью кофе с Бернардиной и Эммой, но в тот день мне хотелось побыть одному, подумать на свободе, и поэтому я попросил принести кофе в кабинет, где мне якобы нужно было просмотреть свои записи перед тем, как идти на вечерний прием. Зато, как только я убедился, что никто не помешает, я снова взялся за фотографии, изъятые у Алехо, словно меня к этому побуждала острая необходимость. Меня, естественно, так и тянуло посмотреть на труп, к которому имел какое-то отношение мой сын. Кроме того, как подтвердилось и на этот раз, при каждом новом просмотре фотографий я обнаруживал какую-нибудь новую деталь, если был внимателен. На этот раз я заметил деталь, которую раньше пропустил или счел неважной. На вошедшей в кадр части постели что-то лежало, какой-то предмет одежды. Возможно, раньше я счел, что это одежда самого убитого, ведь на нем был только халат, но более тщательный осмотр убедил меня, что это не так; взяв лупу, я отчетливо разглядел, что это предмет женской одежды, а именно блузка. Из-под нее с постели свисало что-то еще, более светлое, возможно юбка, но я не был в этом уверен.
Я позабыл о кофе, выпил его, когда он уже совсем остыл, чего обычно не делаю, но не хотелось привлекать к себе внимание Бернардины. Нельзя было допустить, чтобы мне задавали вопросы, иначе я мог бы проговориться. Эта блузка, а возможно, и юбка разбередили меня окончательно. Они весьма убедительно, на мой взгляд, подтверждали заявление журналиста о том, что в убийстве замешана женщина. Но он не мог знать, что женщина, кто бы она ни была, находилась в спальне в момент, когда преступление было совершено. Едва ли оставалось место сомнению: преступление было совершено в состоянии аффекта. Значит…
Я машинально закурил трубку, как всегда в критических ситуациях. Но в данном случае критической ситуации не было. Хотя и были налицо доводы в пользу такого определения характера убийства, одна деталь не укладывалась в его рамки: наличие этой самой фотографии. Подобное преступление совершается сгоряча, без заранее обдуманного намерения, и возбуждение, душевное смятение не утихает после его совершения, а продолжается или даже возрастает, как раз ввиду того, что преступление явилось неожиданностью и для самого убийцы. В рассматриваемом случае лицо, лишившее жизни видного деятеля, сохранило достаточно хладнокровия и любопытства, если не назвать это чувство как-нибудь похуже, чтобы сделать этот снимок. Это означало, как я и предполагал раньше, что здесь налицо явно преднамеренное убийство, и даже были основания предположить, что функционера заманили в поставленную ему западню. И в этом случае сообщничество женщины было несомненным.
Затем я снова начал рассматривать фотографии. Никак не мог отделаться от мысли, что они имеют прямое отношение к делу. Все как будто указывало на то, что у Алехо есть подружка и что в сговоре с ней он совершил убийство, и произошло это, как он сам сказал, на какой-нибудь квартире, снятой убитым для любовных забав. Алехо — убийца и останется таковым даже в том случае, если окажется, что фактическим исполнителем была девушка, что не было исключено. Тем не менее мне казалось, что могли быть и смягчающие обстоятельства, даже если все сделал он сам. Возможно, его вовлекли, вынудили совершить преступление, которого он не задумывал. Алехо, вероятнее всего, не был знаком с этим человеком и, следовательно, не мог испытывать к нему личной неприязни. Другое дело — девушка: она могла мстить за нанесенную ей обиду, использовав для этой цели моего сына, которого подчинила своими женскими чарами.
Но зачем фотографировать? Тоже она вынудила? А если и так, для чего Алехо хранил фотографию? Эта сторона дела свидетельствовала о чем-то болезненном, и убийство представало в еще более отвратительном и ужасном свете. Все указывало на склонность поддаваться самым низменным побуждениям человеческой натуры, на падение молодого человека в пропасть безнравственности, стремительность которого трудно было даже в нем предположить, ведь мой сын был, возможно, порывистым и страстным, но не извращенным. Наверняка все она. Женщина эта, намного старше его, опытная и развращенная, одна из тех, что самой своей порочностью обычно привлекают юношей, пробуждая в них плотские инстинкты и суля бог знает какой рай.
Я опять посмотрел на фотографии, но прийти к какому-либо заключению на этот счет было трудно. Фотокамера легко создает ложное представление, а в достаточно опытных руках Алехо сможет в конечном счете показать все, как он захочет. Судя по изображению на фотографиях, предположения мои были поспешными. Должен признать, что девушка казалась молодой и привлекательной…
Шаги в коридоре заставили меня поспешно спрятать фотографии. Я положил на них раскрытую наугад книгу. В дверь заглянула Бернардина.
— Ты сегодня не идешь?
Я посмотрел на часы.
— Я и не заметил, что уже так много времени… Алехо ушел?
— Нет. Занимается у себя, — ответила она. И, помолчав, добавила: — Ты себя плохо чувствуешь, Ансельмо?
— Да нет. Почему ты так думаешь? — удивился я. — Потому что я еще не ушел?
— Нет, ты стал хуже выглядеть. Пока мы обедали, я все время думала об этом.
— Я чувствую себя как всегда. Может быть, жара…
— Да еще вовсе и не жарко! — И, точь-в-точь как накануне Мария Клара, добавила: — Ты слишком много работаешь. — И потом еще: — Почему бы тебе не поехать в Льинарс после экзаменов Алехо? Хотя бы на месяц…
И я ответил, как и накануне:
— Не могу же я оставить больных.
— Но ведь есть доктор Роуре…
— Он не может заменить меня на целый месяц.
— Ты совсем не жалеешь себя, Ансельмо. Я никогда ничего не говорю, я понимаю, что ты должен так поступать, но когда речь идет о твоем здоровье…
— Ладно, у нас еще будет время поговорить об этом.
Пожалуй, обе они правы, мне не мешало бы немного отдохнуть; только более или менее продолжительное пребывание в Льинарсе мне не поможет, там я отдохну лишь телом. А утомление и напряженность, которые я и сам начал замечать, не имеют никакого отношения к моей работе. Я всю жизнь работал много, не жалея сил, и активная деятельность никому еще не принесла вреда, если избегать, как это всегда делал я, излишних переживаний на деловой почве, которые погубили многих людей, не умевших расслабляться на работе. Но теперь у меня такие переживания, что мое растущее беспокойство грозит отрицательно сказаться и на врачебной практике. Я в тот же день это почувствовал, принимая больных. Раза четыре поймал себя на том, что, когда больные излагали причины, приведшие их сюда, я был далеко от этого строгого кабинета с белыми стенами и думал вовсе не о симптомах, о которых рассказывали, а о сыне. А это тоже создавало дополнительное напряжение, я делал усилия, чтобы сосредоточиться, передо мной сидел пациент, и профессиональная этика требовала, чтобы я внимательно слушал и пытался вместить симптомы болезни в рамки какой-либо известной схемы.
К счастью, день выдался относительно спокойный, сложных случаев не оказалось. Ферментативная диспепсия, ревматический полиартрит, который мне уже приходилось лечить, инфекция гортани, несколько фурункулов, а также урогенитальное заболевание, по-видимому, крауроз влагалища, потребовавшее консультации гинеколога… Я постарался скорей освободиться, испытывая неведомое прежде нетерпение, несовместимое с такими моими чертами характера, как методичность и скрупулезность. Избрав профессию врача, я знал, что в известном смысле перестану принадлежать себе, что мое время будет принадлежать больным. Это давалось мне легко, относительно легко, после того как я преодолел любовный кризис в студенческие годы, так как затем я вошел в определенный ритм, который не нарушило и обескураживающее открытие, что Бернардина — не тот тип женщины, какой она казалась мне в период жениховства, и что она и как жена обладает определенными недостатками. Это нетрудно было поправить, что я и сделал со свойственной мне решимостью.
На этот раз сложилось иначе: решение проблемы зависело не только от меня. Прежде всего сама проблема не была достаточно ясна, я не знал степень виновности Алехо. И следовало узнать это, прежде чем я выработаю линию поведения и начну действовать. Если он, побуждаемый любовной страстью, завороженный чарами женщины, благосклонностью которой он мог пользоваться, лишь выполнив ее требование, совершил или помог совершить это преступление, тогда вина его, хотя и серьезная, несколько смягчалась, можно было сослаться на временное помрачение рассудка: он поддался безумству и сам стал его жертвой. Значит, он больной, и можно надеяться на его выздоровление, и, вероятно, оно уже началось: нельзя не учитывать возможность того, что потрясение после совершенного убийства открыло ему глаза; правда, его поведение — это надо признать — не очень-то согласуется с этой гипотезой. «Но и не опровергает ее», — сказал я себе. Может быть, сейчас он как раз прилагает все усилия к тому, чтобы забыть о совершенном против воли преступлении.
Однако дело принимало совершенно другой оборот, если предположить, что инициатором преступления был он сам, что он его замыслил, обдумал и совершил. В этом случае трудно подыскать смягчающие обстоятельства, особенно если в его дальнейшем поведении нет и признака искреннего раскаяния, нет и намека на желание смягчить свою вину, публично заявив о нарушений общепринятого кодекса чести… В тревоге сжал я руль своей машины. Я терял сына, моего единственного ребенка…
Впрочем, нет, не единственного. У меня еще была дочь, просто я до этого о ней не вспомнил. Короткий разговор с Моргадой, несколько фраз за обедом, скрупулезное исследование фотографий — все это сосредоточило мои мысли на Алехо, а Рената начисто вылетела из головы.
Я оставил машину и нащупал в кармане бумажку с ее адресом. Только момент я выбрал не очень удачный для такого визита. Слишком я был озабочен: драматическая история с моим сыном завладела мной настолько, что все остальное не могло вызывать существенного интереса. «Но так тоже не годится», — подумал я тогда. Одержимость никогда еще не помогла решить какой бы то ни было вопрос; напротив, надо отвлечься, отойти, посмотреть со стороны, беспристрастно увидеть события в определенном ракурсе, чтобы на ум пришло правильное решение. Поэтому чужие проблемы нам всегда бывает легче разрешить, чем свои собственные: мы можем посмотреть на них с разных сторон и рассчитать все возможности. Видимо, полезно было бы несколько отстраниться от проблемы, связанной с Алехо, а для этого надо прекратить непрестанно думать о ней. Но усилием воли я сделать это не мог, слишком в нее углубился; а вот занявшись чем-то другим, хотя бы проблемой, связанной с Ренатой, я смог бы достаточно освободить свое сознание, с тем чтобы потом, вернувшись к проблеме преступления, использовать интуицию, накопившуюся за это время в подсознании, которая, возможно, и приведет меня к успеху. Что же касается проблемы дочери, то здесь момент нашей встречи не играл роли, потому что я не хотел принимать какое-нибудь решение сразу.
Итак, я решил пойти. К тому же и время представлялось подходящим, для визита — восемь часов вечера. Я не знал, чем она занимается, работает ли вообще, но, даже если работает, в это время ее легче застать дома. Но я ее не застал. На радио мне дали адрес без указания квартиры, так что поначалу я подумал, что это какой-нибудь старый домишко, но дом оказался современным и довольно большим. Перед входом было нечто вроде миниатюрного сада с фонтанчиком, обсаженным кустами, которые в сумерках казались сплошной зеленоватой стеной. За стеклянной дверью в вестибюле видны были нештукатуренные стены из красного кирпича, вполне в современном функциональном стиле. Как многие новые здания, построенные лишенными воображения архитекторами в подражание определенным образцам и на скудные ассигнования, этот дом казался недостроенным.
В темной привратницкой никого не было, но впереди я увидел почтовые ящики с фамилиями жильцов и по ним установил, что девушка живет на втором этаже, вторая дверь. Но оказалось, что дома никого нет, на мой звонок никто не вышел. Тогда я позвонил в соседнюю квартиру, и мне открыл какой-то старик. Он был глух, позвал жену, и та ответила мне, что не знает в котором часу можно застать соседей.
— Они почти не бывают дома, — добавила она.
Меня не удивило множественное число, хотя на почтовом ящике значилась только фамилия девушки, почему-то мне казалось, что речь идет о пансионе или квартире родственников. Мне в голову не приходило, что девушка живет одна.
— И хозяйки нет? — спросил я.
— Они тут живут только вдвоем, — пояснила старуха. — Молодая пара. Его я никогда не видела.
Тон старухи в большей мере, чем ее слова, содержал в себе скрытое осуждение, и меня это неприятно изумило. Старуха как будто знала или подозревала что-то нехорошее, о чем не решалась сообщить незнакомому человеку. У меня было возникло искушение порасспросить ее, но она уже закрывала дверь, разговор был окончен, и я отказался от своего намерения.
Медленно спустился по лестнице. Почему бы ей и не быть замужем: ей двадцать три года или около того, в таком возрасте многие уже замужем и имеют детей! Но в словах старухи сквозило нелестное мнение, и это наводило на мысль, что обитатели квартиры сожительствуют незаконно. Мне хотелось бы разузнать об этом, потому что мое отношение к девушке будет совсем другим, если я узнаю, что это особа предосудительного поведения. Я был готов возместить зло, невольно причиненное мною ее матери. Но только в том случае, если дочь того заслуживает.
Приближаясь к выходу, я подумал, что скоро разрешу свои сомнения: в привратницкой горел свет, и там мне сообщат необходимые сведения, которыми я смогу руководствоваться, определяя свое отношение к девушке. Когда я постучал в окошко костяшками пальцев, не заметив кнопки звонка, я уже почти решил, что, если Рената ведет себя не так, как подобает, я постараюсь забыть о ней и воздержусь от вторичного посещения.
В дверях показалась совсем молодая женщина с ребенком на руках. Я сразу определил, что это особа упрямая и недоверчивая: об этом свидетельствовали узкий лоб и маленькие глазки, глубоко сидящие под густыми лохматыми бровями, которым не помогало никакое выщипывание.
— Я хотел повидать сеньору Жаума, — сказал я, поздоровавшись, — но никто не отвечает.
— Ее нет дома, — ответила женщина.
— Когда я мог бы ее застать?
— Не знаю, она приходит в разное время.
— Наверное, спать и обедать…
— Иногда. Она поздно кончает работу.
— А ее муж?
Ее природная недоверчивость как будто обострилась. Переложила ребенка с руки на руку и спросила:
— Какой муж?
— Она не замужем?
— Нет, я всегда видела ее одну.
— Тогда… А больше никто не живет в ее квартире?
Ребенок молча выкручивался у нее на руках, и ей пришлось спустить его на пол, где он стал на четвереньки — как видно, только учился ходить.
— А для чего вы хотите узнать все это?
Я, разумеется, смешался. На лице женщины я читал уже не настороженность, а откровенное недоверие, даже, я сказал бы, враждебность, если бы это не представлялось мне немыслимым.
— Да нет… Не то чтобы я хотел узнать…
— Но вы же спрашиваете…
— Мне только хотелось повидать ее, — пояснил я, поняв, что эта ведьма не рассеет ни одно из сомнений, обуревавших меня, пока я спускался по лестнице. — Я спрашивал, только чтобы узнать, в котором часу можно застать в квартире хоть кого-нибудь.
— Я вам уже сказала… — Немного подумав, она добавила: — Может быть, в середине дня. Но точно сказать не могу. Если она будет спать, тоже не откроет.
— Пожалуй, я смогу ее увидеть в другом месте, — пришло мне в голову. — Раз уж здесь так трудно ее застать… Где она работает?
— Не знаю, я о таких вещах жильцов не спрашиваю.
— Она могла случайно вам об этом сказать, — заметил я примирительно, но тут же подумал, почему бы не использовать эту женщину, которая ничем ей не обязана, и не попытаться вытянуть из нее все, что можно, и продолжал: — А давно она живет здесь? Дом, кажется, новый…
— Мы все здесь недавно. Поэтому я ничего и не знаю. — И еще менее любезно добавила: — Я занимаюсь своим делом, жильцы — своим.
— Она сама сняла квартиру? Я хочу сказать, на свое имя?
— Я не знаю, деньги получает управляющий, у него все квитанции. Почему бы вам не узнать об этом у нее самой?
— Так бы я и поступил, но, судя по вашим словам, у меня нет никакой возможности повидаться с ней…
— Попробуйте в середине дня. — Она немного смягчилась. — Может, и застанете.
— Завтра воскресенье…
— Неважно. Как мне ей сказать, кто ее спрашивал?
— Никак не нужно, я зайду еще раз.
Я понял, что напрасно теряю время, и ушел. Поведение этой женщины, однако, лишь укрепило во мне подозрения, зароненные словами соседки; я счел, что, если бы девушка жила честно и праведно, привратница отвечала бы на мои вопросы по-другому. Может быть, конечно, эта женщина от природы была недоверчива или я застал ее в дурном настроении, но естественнее все-таки было предположить, что она всячески пыталась выгородить жиличку не очень примерного поведения, которая, должно быть, ей щедро платила. Она защищала ее от не в меру любопытного незнакомца, не понимая, что тем самым, с одной стороны, лишь увеличивала мое любопытство, а с другой — создавала у меня неблагоприятное мнение о девушке. Ибо я все время думал, что именно так и вела бы себя привратница, если бы девушка оказалась какой-нибудь содержанкой или, еще того хуже, публичной женщиной, которая не хочет, чтобы ее беспокоили дома.
Я, конечно, преувеличивал. Все могло объясниться и более невинными причинами: девушка, разыскивающая отца или членов его семьи, едва ли такого рода особа, о которой соседи говорят осуждающе или уклончиво. Если вдуматься хорошенько, девице легкого поведения никогда бы и в голову не пришло интересоваться родителями; сам факт поисков говорил о том, что это открытая, чистая душа, достойная доверия, ведь черты характера ее не могут совпадать с теми, что типичны для женщин, так или иначе торгующих своими прелестями. Правда, какой-то мужчина с ней был: соседка говорила искренне, без дурных намерений, скорей, с некоторым упреком в адрес невидимого мужчины, присутствие которого в квартире было для нее очевидным. Я, разумеется, ничего не узнал о том, в каких отношениях она с этим мужчиной, и подумал, что в любовных. Но я мог и ошибиться — возможно, это брат или другой родственник.
«Но тогда привратница не стала бы делать из всего этого тайну», — подумал я, закуривая сигарету и трогая машину с места. Ведь если бы все объяснялось ускользавшими от меня естественными причинами, она разговаривала бы со мной иначе, даже будь она недоверчивой по характеру особой, которая принципиально не хочет давать какие бы то ни было сведения не назвавшему себя человеку. Как бы я ни смотрел на это дело и как велико ни было бы мое доброжелательное отношение к девушке, я не мог не признать, что в любом случае здесь что-то кроется, и вполне возможно — что-то неприятное. Но, странное дело, когда я ехал на проспект Инфанты Карлоты, у меня уже не было искушения бросить это дело, что поначалу представлялось мне наиболее благоразумным в такой неясной ситуации. Слишком я был честен, чтобы поддаться первому впечатлению, которое, несмотря ни на что, могло оказаться и ложным; если теперь я откажусь от знакомства с ней, меня всегда будет мучить сомнение, не совершил ли я несправедливость.
Потом мне подумалось, что даже в том случае, если это девица не совсем примерного поведения и мои подозрения подтвердятся, письмо, отправленное на радио с целью разыскать отца, может свидетельствовать о желании изменить образ жизни, оно — крик о помощи, к которому я не имею права остаться глухим. Потому что…
Внезапно мои размышления были прерваны. Я увидел, как Алехо вышел из какого-то заведения — это был бар, на вывеске нарочито неровными буквами было написано: «Попилс». С некоторым удивлением я обнаружил, что последние полчаса совершенно не думал о сыне, но теперь, увидев его, снова задумался о нем, хотя уже довольно длительное время эти мысли не приходили мне в голову.
На всякий случай я сбавил скорость. Не знал, что мне делать: поехать за ним или окликнуть его. Первое, безусловно, не имело смысла: если учесть довольно поздний час и направление, в котором шел Алехо, было ясно, что он направлялся домой. А с другой стороны, я обнаружил, что мне не улыбается мысль ехать с ним вместе. Будучи неприятно поражен таким открытием, я скоро понял, что боюсь остаться с ним с глазу на глаз, по крайней мере в данную минуту, так как я не готов к такой встрече, мне все неясно. Может быть, мы и проедем весь путь молча, но, если случайно пойдет разговор на скользкую тему, я подвергнусь опасности потерять спокойствие и выложить ему все, что накипело у меня на душе, невзирая на то что время и место для подобного разговора совсем неподходящие. Я, конечно, понимал, что разговор между нами необходим даже в том случае, если Алехо никак не отреагирует на исчезновение фотографий: я ведь мог даже заболеть от непрерывных сомнений. Однако подобный разговор мне следовало вести без нажима, он требовал от меня такта и особого подхода, которые облегчили бы сыну признание и Алехо не чувствовал бы себя осужденным заранее.
Я пребывал в нерешительности и в конце концов остановил машину. Алехо шел по проспекту и ни разу не оглянулся. Руки держал в карманах. Вернее, не руки, а кончики пальцев, наверно потому, что брюки были в обтяжку и просунуть в карман всю руку было трудно, а может, просто модно так ходить. Все друзья Алехо совали руки в карманы точно таким же способом, словно выполняя чей-то приказ. Это было смешно, как смешны были и брюки, плотно обтягивавшие ноги — у Алехо немного кривоватые; снять такие брюки, не сняв обувь, невозможно. Если смотреть на него сзади, то Алехо с его легкой сутулостью из-за высокого роста, узким торсом и плоским задом производил двойственное впечатление — не то силы, не то слабости в зависимости от того, обращаешь ли внимание на его несколько агрессивную осанку — возможно, из-за привычки чуть наклоняться вперед — или же на явную худосочность его еще мальчишеских ног.
Мне вдруг стало очень жаль его: Алехо ребенок, возможно, виноватый ребенок, и сейчас он нуждается в том, чтобы ему помогли разрешить ту самую проблему, которая заботит меня и которая, несмотря на его вызывающее поведение, для него беспредельно остра… Я отворил дверцу, чтобы окликнуть его, но сразу же застыл и прикусил язык. Сейчас на меня накатила волна чувствительности, и, если я заговорю с ним, я могу совершить бог знает какую глупость. Я проводил его взглядом до угла и вылез из машины. Мне вдруг захотелось поближе познакомиться с заведением, откуда он только что вышел. Не знаю почему, ведь у меня не было никакой уверенности, что Алехо завсегдатай этого бара. Быть может, он впервые зашел туда, причем совершенно случайно.
Стеклянная дверь была закрыта, а за ней висела пластинчатая штора, не позволявшая заглянуть внутрь, но одна из полосок немного отогнулась, образовалась щелка. Проще, конечно, было бы зайти, это я понимаю, и хорошенько все рассмотреть, но неизвестно почему я этого не сделал. Ограничился тем, что посмотрел через щелку и увидел небольшой зал, в конце которого была широкая арка и под ней — вход в другое помещение, где также виднелись столики. Как внутреннее помещение, так и зал, выходивший на улицу, были погружены в полумрак — отличительная черта всех заведений, где обслуживают только девушки. Что это именно такое заведение, я понял, увидев за стойкой двух девушек, одетых в черное; одна стояла спиной ко входу, так как стойка шла полукругом, а она разговаривала с молодым человеком, сидевшим у стойки на самом ее конце. Другая стояла поближе, облокотившись на стойку, и курила. Я разглядел, что у нее платье с глубоким вырезом, в котором видна ложбинка между грудями. Она смотрела на другую парочку — дама была постарше кавалера, — игравшую в кости за столиком. Больше в зале никого не было.
Я порадовался, что не вошел: там бы я себя чувствовал как муха в молоке. Тут, видимо, клиентура была постоянная — любители элегантного распутства. Противно было подумать, что Алехо тоже был здесь завсегдатаем. Странное дело, но мне не пришло в голову, что он мог не только постоянно захаживать сюда, но и познакомиться здесь с девицей, которая так бесстыдно ему позировала. Здешняя атмосфера вполне соответствовала безнравственности незнакомки. Но об этом я подумал, лишь когда снова сел в машину, да и что толку было думать об этом, находясь по эту сторону шторы. Я не мог зайти и задать вопросы, на которые никто бы мне не ответил; я не мог обнаружить себя. Но не следовало и упускать из виду заведение, где я мог получить ключ к поступкам сына и раскрыть его связи. «Если бы Мария Клара захотела…» — вздохнул я. Можно снова попробовать, но ответ наверняка будет таким же: вежливым, но и таким же ясным, как ее имя[4].
Алехо, должно быть, где-то задержался, так как я нагнал его у шоссе на Сарья. Вернее, он остановился: я увидел, как он стоит под деревом и закуривает, глядя на еще освещенную витрину, где была выставлена радиоаппаратура. Но вскоре я понял, что его интересовали не радиоприемники. У витрины стояла девушка.
Я во второй раз остановил машину. Алехо мог увидеть меня, но мне было все равно. Я ехал домой; нам было по пути, и, в конце концов, если кто-то и должен был что-то объяснять, так он, а не я. Мне хотелось посмотреть, как Алехо ведет себя, когда он один, вдали от глаз домашних, когда держится естественно, чего с ним дома — смело могу сказать — не случалось никогда. Ведь не может быть, чтобы Алехо день за днем жил в том напряжении, какое выдавали его слова и его манеры. Я не ожидал, что открою что-то особенно важное; мне достаточно было понаблюдать за ним, когда он не знает об этом.
Алехо смотрел на девушку, и я тоже посмотрел на нее. Сразу заметил, что она постарше его — лет двадцать пять — двадцать шесть, точней определить было трудно, так как она стояла ко мне спиной. Очень короткая юбка и туфли на очень высоких каблуках. Потом я увидел кое-что еще: она заметила, что Алехо интересуется ею, и стала смотреть уже не на выставленную аппаратуру, а на стекло витрины, служившее ей зеркалом, благодаря которому она наблюдала за моим сыном.
Алехо курил, не отделяясь от ствола дерева. Мне показалось, что он действует по привычке: выбирает себе жертву и выжидает удобный случай, чтобы наброситься на нее. Смешно, я согласен. Он сопляк, а она, судя по всему, не из тех, за кем охотятся, а из тех, кто сам подстерегает свою добычу, девушка была накрашена и держалась ничуть не менее уверенно, чем Алехо.
Она прошла по тротуару и остановилась на этот раз у банка, на витринах которого разглядывать было нечего. Алехо отделился от дерева. Я смотрел на них как зачарованный, будто мне показывали приключенческий фильм, и даже с большим интересом, потому что кинофильмы эти кажутся мне созданными для мальчишек; я почти забыл, что наблюдаю за собственным сыном. Алехо подошел к девушке и остановился в двух шагах от нее, не говоря ни слова. Осмотрел ее с ног до головы, будто лошадь, которую собирался купить.
Девушка обернулась, взглянула на него совершенно непринужденно. На лице ее появилась улыбка, возможно потому, что улыбался Алехо, но его улыбки я видеть не мог, он стоял ко мне спиной. Я видел только, что парень стоит перед ней с сигаретой в зубах и не вынимая рук из карманов. Девушка как будто помедлила, потом пошла к шоссе, подошла к перекрестку и, прежде чем перейти улицу, снова остановилась.
Алехо, идя в том же направлении, остановился очень близко от нее, подойдя чуть ли не вплотную. Они пристально посмотрели друг на друга, и ей не понадобилось при этом поднимать глаза — на каблуках они были одного роста, — и тогда Алехо наклонился к ней и что-то сказал. Я видел только губы девушки да ее улыбавшиеся глаза, а может, мне это показалось, ведь они были довольно далеко от меня, а освещение было недостаточным.
Я подождал, пока они перейдут перекресток, и тронул машину. Они шли по тротуару к площади, но остановились, не дойдя до нее. И снова я поставил машину к борту тротуара, на этот раз позади грузовика, но их мне было видно хорошо. Она как будто что-то объясняла, потому что Алехо ограничивался кивками, не вынимая сигареты изо рта. Затем взял ее под руку, причем она не сопротивлялась, и оба пошли к шоссе на Сарриа.
Грузовик немного мне помешал, но я был уверен, что они меня не заметили. Я ошибся. Завидев машину, Алехо замедлил шаг, наклонил голову, потом сделал мне знак рукой, чтобы я его подождал. Казалось, он нисколько не раздосадован; напротив, он улыбался. Она скользнула по мне рассеянным взглядом, поскольку молодой человек был совсем близко от нее. Оба остановились, немного не дойдя до шоссе, и там девушка снова обернулась, на этот раз, как мне показалось, с большим интересом. После этого они разошлись, и Алехо направился к машине. Открыл дверцу и, усаживаясь рядом со мной, сказал:
— Привет!
Я не стал задаваться вопросом, почему он задержался здесь, и не счел нужным объяснить свое присутствие. Но спросил его:
— Кто это?
— Из университета, — ответил он не моргнув глазом.
Я проглотил слова, рвавшиеся с языка, не мог же я сказать, что шпионил за ним и что видел, как он подходил к девушке. Заметил только:
— А не перезрела она для учебы?
Он пожал плечами.
— Почему же? Мне кажется, эта девушка вполне развилась, но не более. А что?
— Она здешняя?
— Наверное. Не знаю. Ты не подумай что-нибудь. Мы мало знакомы. Она на последнем курсе.
— Как и ты, на философском?
— Да.
Лгал он непринужденно, и от этого у меня пошли мурашки по спине. Я поверил бы ему, если бы минуту назад не видел эту сомнительную девицу, никак не похожую на студентку. Как бы ни было мне это неприятно, я вынужден был признать, что Алехо хитер не по годам.
— Ты откуда? — спросил я.
— Занимался вместе с Кортетом.
Я не знал, кто такой Кортет, да мне было и все равно. И я даже не спросил, где же его книги, потому что он тут же ответил бы, что оставил их у товарища: Алехо из тех, у кого на все готов ответ, и, если понадобится, он может белое назвать черным. От меня он отдалился; мой сын был уже не ребенок, но мужчина, который знает, чего хочет, и ничего другого не признает. И это еще не все. Сейчас я мучительно осознал, что сын мой опасный человек и что я утратил какую бы то ни было власть над ним. Я плакал — в душе.
3
Мы возобновили занятия. Вернее, они их возобновили. Я не пошел дальше патио, где мы собрались, чтобы освистать Санчеса Коси, которого подозревали в доносе. Надо полагать, сегодня он будет читать лекцию в пустой аудитории. Все недовольны: на многих наложили крупные штрафы. А я даже и не знал об этом. Мне рассказал Кортет:
— Ну да, конечно. Ты как с луны свалился!..
Потом пришел Ровирес.
— С меня — десять тысяч.
— А если не заплатишь?
— Тогда обратно за решетку.
Многие не смогут заплатить. Некоторые поговаривают о том, чтобы уйти, только это одни разговоры. Кортет предлагает собрать деньги по подписке со всех.
— В конце концов, их схватили случайно. На их месте мог оказаться любой из нас.
— Но многие не захотят платить. Или не смогут.
Багес пояснил:
— Наверное, брали не так уж случайно. За Торресом пришли к нему домой.
— Так он у них давно на заметке. Поэтому его еще и не выпустили.
— Отца его, говорят, тоже забрали.
— Никто точно не знает.
Однако, оказывается, все-таки кто-то знает: Баррильс заходил к ним — дома одна лишь мать Торреса.
— Так сколько человек забрали?
— Его и еще одного: Перу, с фармацевтического. Нашли листовки.
— И у Торреса тоже?
— Ты же знаешь, у него нашли множительный аппарат.
Багес уточняет:
— Стеклограф.
Я этого не знал. Жаль, теперь мне не получить мой бумажник. Надо было самому зайти к нему.
— Ну а отца-то его за что?
— За то же самое. Видно, хотят с ним поговорить по душам.
— Его забирают всякий раз, как что-нибудь произойдет.
Какой-то идиот шутит:
— Так уж заведено. Без него им праздник не в праздник.
У них нашли стеклограф, значит, делали обыск. Как по-дурацки можно попасться! Они наверняка захотят узнать, как в дом Торреса попали мои документы. А может, и нет. Кто их знает.
— Но все равно им придется отпустить ребят.
Все думают, что на тех наложат штраф побольше; только Багес говорит:
— Возможно, будут судить.
— На этот раз не в их интересах поднимать шум. Как вы думаете, почему выпустили остальных? Деньги им, что ли, понадобились?
— Кто знает. Дерут, как могут.
Кортет настаивает на подписке и даже заявляет:
— Нам надо бы создать резервный фонд на такие случаи.
Но тут нас отвлекает приход Альберта Серры, мы ждем от него новостей.
— Вы знаете, что с Рамоной Улья?
— Что?
Почти все знают, что она в больнице. Но слухи ходят противоречивые. Кортет считает, что это последствие избиения, которому она подверглась недавно. Но Багес возражает ему:
— Нет, ее сбила машина. Ты не видел ее на следующий день?
— Всех не увидишь…
— Так она была с нами. А потом ее сбила машина.
— Наверняка потеряет ребенка…
— Не знаю.
— Никто к ней не ходил?
— Ходили Бертран и Сока.
Это близкие друзья ее мужа, которого освободили под залог. Баррильс говорит:
— По сути дела, они одни о ней и заботятся.
— Надо как-то помочь им…
Багес сердится на Кортета:
— Елки-палки, ты все хочешь помогать да собирать, деньги по подписке, да только на словах. Чего ж ты не начинаешь?
Кортет огрызается:
— Да хоть сейчас!
Сует руку в карман, достает сотенную бумажку и несколько дуро.
— Ну, кто больше?
Я роюсь в карманах, но у меня всего тридцать две песеты. Ровирес останавливает нас.
— Это делается не так.
— Так вот он говорит…
— Пусть себе говорит.
Но для дальнейшего разговора не хватает времени: начинаются занятия, и двор пустеет.
— Ладно, потом поговорим. Есть у меня одна мысль, как привлечь других.
Кортет говорит:
— Я буду вон там, в баре.
— Не пойдешь на занятия?
— Нет. Как Фаррас, так и я.
— Фаррас себе на уме!
Ровирес смеется.
— Все знают, что он решил бросить учебу.
— Раз я не хочу сдавать экзамены!..
— Нынче таких, как ты, днем с огнем не найдешь! Кортет берет меня под руку, и мы идем к воротам.
Некоторые пришли просто посмотреть, за воротами небольшими группами толпится народ.
— Эй, Кортет, Фаррас!
Это Гарсиа. Подбегает к нам.
— Вы тоже не идете?
— Откуда ты взялся? Я ни разу тебя не видел на демонстрации…
— Я болел.
— Неплохое оправдание!
— Серьезно… У меня была высокая температура.
Кортет смеется.
— При медвежьей болезни температуры не бывает.
— Это ты ею страдаешь, а у меня был грипп.
По светофору переходим улицу. Нас довольно много, а с противоположной стороны навстречу нам тоже идет довольно много наших.
— Куда это вы?
— Вон туда.
И Кортет указывает на бар.
— Нам надо поговорить о сборе денег по подписке на штрафы.
— Идет подписка? Я и не знал.
— Будет проводиться. Ты остаешься?
— Да… А правда, что у Рамоны Улья выкидыш?
Кортет поднимает руку.
— Еще неизвестно. Она в больнице.
Мы останавливаемся у двери, и я говорю:
— Пока, я вас покидаю.
— Как! Мы еще не договорились…
— Потом скажете, что вы решили. Позвони мне вечером.
— Ну ты и нахал!
— Я же вам не нужен.
— Чтобы заплатить деньги — нужен.
Гарсиа хихикает:
— Да у него никогда ни гроша!
Но я намекаю:
— У меня есть план. Если получится, можете рассчитывать на несколько тысяч.
— Хочешь кого-нибудь ограбить?
— Не совсем, но вроде этого.
— Если нужен напарник, только скажи.
— Нет, тут надо работать одному.
Оба смеются, Кортет похлопывает меня по спине.
— Попробуй хотя бы не увеличить наши расходы.
— Не бойся… Так не забудь позвонить.
— Не забуду.
Когда я уже порядочно отошел, он вдруг вспоминает:
— Эй! А что твоя подруга?
— Кто? Рената?
— Да. Ты ее видел потом?
— Нет.
— И я не видел.
— Кто это? — спрашивает Гарсиа.
— Девчонка с экономического. Такая штучка…
— Ну уж, не преувеличивай, — пытаюсь я улыбнуться.
Он качает головой:
— Гляди какой скрытный!
И оборачивается к Гарсии:
— У нее такие…
Я ухожу. Пусть раздевают ее без меня.
Темнота и тишина. Оставляю на столике в прихожей письмо, которое передала мне привратница, — только что принесли почту. Это от ее родных. Она получает письма приблизительно раз в месяц.
Ощупью на цыпочках иду в спальню, где, несмотря на все предосторожности, натыкаюсь на какой-то предмет странной формы. Туфля. Вечно она бросает их где попало.
Из неплотно занавешенного окна падает узкая полоска света. Понемногу привыкаю к полутьме и могу уже различить лежащую в постели Ренату.
Гляжу на ее лицо: с полуоткрытых губ слетает ровное дыхание; затем босиком иду к окошку. Еще немного приоткрываю его, солнечный луч падает на подушку.
Она все не просыпается. Наклоняюсь над ней, беру ее за плечи, и лишь тогда она поворачивается.
Вздрагивает, приоткрывает глаза, еще полные сна, с тяжелыми веками, и с наслаждением потягивается.
— Алехо?..
Прижимает щеку к моей щеке, будто снова собирается уснуть, и потягивается. Я медленно целую ее веки, потом нахожу губы. Поцелуй получился долгий. Потом вижу, что она смотрит на меня. Улыбаюсь.
— Ты еще хочешь спать?
Она качает головой.
— Нет, я выспалась.
— Мне не надо было тебя будить.
— Надо. Я люблю, когда ты меня будишь.
Она крепче прижимается ко мне, потом соскакивает с постели.
Когда возвращается, на ней халат, который, должно быть, висел в ванной. Садится на край кровати и протягивает ко мне руку. Гладит по голове, смотрит почти смиренно.
— Что с тобой, Рена?
Она слегка пожимает плечами, наклоняется ко мне.
— Не знаю.
— Все перед глазами стоит?
— Нет, Алехо.
Гладит меня по животу, по груди.
— Я совсем о том не думаю, честное слово. А ты?
— Я тоже. Я знаю, что мы живем в джунглях. Не наша в том вина.
Она продолжает гладить меня по груди, а в глазах у нее все то же.
— Ты хочешь мне что-нибудь сказать?
— Почему?
— Мне так кажется.
— Может быть, и хочу, только словами этого не скажешь. Да ты и сам знаешь.
— Ничего я не знаю.
Но она упрямо кивает головой, наклоняется, чтобы поцеловать меня, потом встает. Я удерживаю ее.
— Скажи…
— Что я тебя люблю? Да, очень, очень, очень…
Мы обнимаемся, сидя на краю кровати, и я говорю:
— Только я не хочу, чтоб это была грустная любовь.
— И я не хочу. А ты считаешь, что она у нас грустная?
— Я говорю это из-за того, как ты на меня смотрела… Хватит и того, что все остальное совсем невесело.
Немного отодвигаюсь от нее и добавляю:
— А вот я хочу тебе кое-что сказать.
Она встает, подает мне руку.
— Пойдем на кухню, я приготовлю кофе.
Иду с ней, наблюдаю за ее движениями, пока она зажигает газ и ставит на горелку ковшик с водой. Она бросает на меня взгляд, я слегка улыбаюсь.
— Я приглашаю тебя совершить еще одно преступление…
В глубине ее глаз вспыхивает беспокойный огонек, но, прежде чем она скажет что-нибудь, я поясняю:
— Нет, на этот раз другое. Надо заставить раскошелиться моего отца.
— Зачем?
— Нужно. В университете хотят собрать денег, чтобы помочь заплатить штраф тем, кого задержали…
— Штраф? Ты мне про это не говорил.
— Я не знал. Требуется много денег, и мне пришло в голову вытянуть их у моего отца. Они хотят собрать деньги по подписке, но я знаю, что из этого ничего у них не получится.
— А что должна сделать я?
— Ты должна сойти за его дочь.
Она прыскает и широко раскрывает глаза.
— Как я понимаю, ты шутишь…
Облокотившись на холодильник, я качаю головой и поясняю:
— Нет. Во время войны он сошелся с одной девушкой из глухой деревушки в округе Уржель… Солдатские амуры, сама понимаешь. Но он не знает, что она забеременела.
— А ты знаешь?
— Я знаю. И родила девочку. Тебя.
Она бросает взгляд на воду в ковшике.
— Объясни-ка мне как следует… Во-первых, он сам, что ли, рассказал тебе о связи с той девушкой?
— Нет. У него есть что-то вроде военного дневника, я его и прочел. Я вот что придумал… Напиши на радио, в редакцию этой программы… Как ее?
— «Ищу родных».
— Ну да. Ты напишешь, что твоя мать, с которой ты жила до сих пор, умерла, и ты, оставшись одна, хочешь разыскать своего отца…
Она пошутила:
— И дело сделано. Ты думаешь, достаточно это сказать, и он…
— Подожди, дай мне кончить. В дневнике, о котором я говорю, достаточно данных, чтобы он заглотнул наживку. Он своего имени девушке не назвал, сказал, что он — Гасуль. А девушку звали Флора, она жила в Тальяделе…
— Ты же сказал, что это была деревня в округе Уржель…
— Ну да. А разве это не там?
— Тальядель — в округе Сегарра.
— А ты откуда знаешь?
— Я там родилась.
— Ты же из Аграмуна.
— Я все время жила в Аграмуне, потому так и говорю. Но родилась я в Тальяделе. Моя мать… — Она вдруг замолкает, смотрит на меня. — Как, ты сказал, звали девушку?
— Флора.
— А дальше?
— В дневнике только Флора. Фамилии он, скорей всего, не знал.
— Забавно: мою мать тоже зовут Флора.
— Многих так зовут.
— Да, конечно, многих…
Она оборачивается к шкафчику, открывает его и берет пачку сигарет.
— Хочешь?
Беру сигарету, и, пока мы закуриваем, вода в ковшике закипает.
— А когда это было? Ну, эта их встреча…
— В тридцать восьмом.
— А в каком месяце?
— Кажется, в ноябре.
Она смотрит на струйку дыма, шевелит губами, потом говорит:
— И эта девушка была крестьянка?..
— Да.
— А больше он ничего о ней не пишет?
— Кажется, раньше у нее был жених, погиб на фронте.
Рената поворачивается к столу, берет два стакана и банку растворимого кофе. Не спрашивая, кладет по нескольку ложек в каждый.
— Вот видишь, у нас целый ряд фактов, и, если мы о них напишем на радио, он обязательно подумает, что речь идет о нем. Тут придуман только ребенок…
— А может, и нет, ты не знаешь.
— Это верно, не знаю…
Обернув ручку ковшика полой халата, она наливает кипяток в стакан, помешивая ложечкой. Спрашивает, не глядя на меня.
— Если бы у них была дочь, она родилась бы примерно в августе тридцать девятого, да?
— Не знаю, не считал.
Она протягивает мне стакан.
— Держи. Хочешь булочку?
— Нет. Так что ты скажешь?
Она снова берет ковшик, наполняет другой стакан; левой рукой включает газ. Я повторяю вопрос: Так что ты скажешь? Разве не хитро придумано? Мы наверняка его проведем…
Рената оборачивается к шкафчику; вынимает тарелку с двумя булочками.
— Ты могла бы попросить у него денег под тем предлогом, что мать оставила долг и тебе надо его выплачивать… Мы еще это обсудим.
Отставив тарелку, она смотрит на меня. Я бросаю сигарету на пол, наступаю на нее ногой. Ее сигарета догорает на черном кафеле плиты.
— И все это только для того, чтобы помочь товарищам?
— Конечно. Думаю, ты поняла, что меня деньги не интересуют?..
Она берет кусок булочки, обмакивает в кофе и заявляет:
— Тебе необязательно заниматься этим обманом. Я могу дать денег.
— Ты?
— Ну да. У меня есть тысяч шестнадцать…
Я смеюсь и подхожу к ней поближе.
— Романист прошлого века сказал бы: «Великолепно, Рена!» Ты что же, больше не думаешь о старости?
— Я тебе сказала, что ни ты, ни я до старости не доживем.
— Ладно.
Снова отхожу от нее и беру стакан.
— Но этих денег не хватит. К тому же у моего отца гораздо больше денег, чем у тебя. Он богат. Столько лет обирает своих пациентов…
— Наверно, это тебе только кажется. Просто хорошо живете…
— Нет, уверяю тебя, я в курсе наших денежных дел. Мы миллионеры, хотя никто об этом не говорит.
— Может, и так…
— Тогда о чем ты беспокоишься? Мы его не разорим.
Она продолжает есть, какая-то странная и немного далекая, и я наконец спрашиваю:
— Так что же?
Она, видимо, думала о моей просьбе, потому что отвечает вопросом на вопрос:
— А что, если он не услышит эту передачу?
— Услышит. Ты же знаешь, что эта передача идет во время ужина. В крайнем случае мать ему расскажет. Она рассказывает ему обо всех несчастьях, о каких услышит.
Помолчав немного, она говорит:
— Не нравится мне это.
— Что у тебя за мания всегда сначала говорить «нет»?
— Нехорошо, Алехо, играть на человеческой честности…
— Какой там честности? О человеке, который разбогател, наживаясь на больных, можно говорить всякое, вот только честность тут ни при чем. Мы с тобой, Рена, и похуже натворили кое-что. Мы убили человека…
— Я не забыла…
Она ставит стакан, не допив кофе. У нее осталась еще целая булочка. Я подхожу к Рене, беру за подбородок и заглядываю в глаза.
— Рена… Если бы это нужно было мне, ты могла бы возражать. Но я же это делаю для других.
Она стоит на своем:
— Не нравится мне это… По-моему, в глубине души ты хочешь досадить своему отцу. Ты ведь его ненавидишь, да?
— Теперь ты ко мне еще и с этим… Нет, ненависти я к нему не испытываю. Но мне не по душе все, что он олицетворяет. Дешевое прекраснодушие, условности, лицемерие… Ты знаешь, у него есть подружка.
— Подружка?
— Я тебе не говорил?
— Но ведь и у тебя есть.
— Ты думаешь, это одно и то же? Я по крайней мере не строю из себя моралиста и никогда не обманываю, я не женат.
Рената чуть заметно улыбается, как бы про себя.
— А разве не условность — поднимать из-за этого шум?
— Я шума не поднимаю. Разве порядочно делать вид, что свято блюдешь какую-нибудь условность, а самому смеяться над ней? Не терплю непоследовательности.
— А последовательных людей и нет.
— Есть, и немало. Например, ты. Ты исповедуешь мораль кошки, которая гуляет сама по себе, и не скрываешь этого.
— Ну спасибо, дружок! А какая у тебя мораль?
— Не знаю. Наверно, никакой; мораль тех, кто видел, как проповедуют одно, а творят другое. Мораль пораженцев.
Немного отхожу от нее; смотрю на плиту и столик, где стоят ковшик и стаканы; провожу рукой по лбу.
— Поэтому я тоже человек, недостойный, но таковым себя не считаю. Мне не из чего было выбирать, меня заставили голосовать «против». Дали мне одни пустые слова, а с этим не проживешь. Я стал искать сам, на свой страх и риск, и ты видишь, что из этого получилось… Я смог выражать себя только через примитивные, низменные чувства… Совершил убийство и завоевал себе в жизни всего лишь падшую женщину…
Чувствую ее пальцы, на своих плечах, она прижимается к моей спине. Голос у нее теперь другой, нежный; он причиняет мне боль.
— Но ты меня любишь…
Я оборачиваюсь чуть ли не в ярости:
— Ну и что?
Она снова тянет ко мне руки.
— А разве это мало — любить? Хотя бы и такую девицу, как я… И заставить ее полюбить себя…
Обезоруженный, я опускаю руки.
— Не знаю… Не заставляй меня чувствовать себя еще более недостойным.
— Почему? Ты вовсе не такой.
— Такой. Иногда мне кажется, что я тебя не стою.
— Нет, это я недостойна тебя, я!
Она набрасывается на меня, не то обнимая, не то колотя.
— Это я тебя не стою. Ты добрый… думаешь не только о себе, хочешь, чтоб было лучше. Я всегда думала только о себе.
— Ну что ты, Рена. Я ничего тебе не даю…
— Даешь, даешь! Ты даешь мне все. Ну разве ты не видишь? Разве я такая же, какой была полгода назад?
Она склоняет голову мне на плечо.
— Когда я с тобой познакомилась, ты мне просто понравился… Мне показалось, что ты интересный парень, немного циничный; мне захотелось спать с тобой… и тебе того же самого… Я тебе показалась хорошенькой и доступной… К тому же бесплатно. Но потом что-то случилось и… Потому что ты захотел… Тебе было мало желать меня, ты захотел еще узнать и мою душу… Она не бог весть какая, но нежная и любящая… И ты стал говорить со мной как-то по-особому.
Она еще ниже опускает голову и качает ею в отчаянии.
— Не знаю, что я говорю, не знаю, как сказать… Но ты меня полюбил, заставил полюбить себя, и это навсегда… А я все ходила с другими, за деньги, я эгоистка, корыстная, мне одной твоей любви было мало…
Резко вскидывает голову и глядит на меня почти вызывающе.
— Я стерва, Алехо, стерва!
Но тут же понижает голос:
— А вот ты…
У меня в горле стоит комок, но я говорю:
— Нет, Рена. Не делай из меня бога. Мы оба замараны, ты знаешь. И я больше твоего, потому что делаю все это нарочно. Ты естественна и искренна, ты следуешь инстинкту самосохранения. А я… я хочу разрушать.
— Потому что у тебя благородные мысли…
— Но средства, которыми я пользуюсь, никак благородными не назовешь, и к тому же разрушение всегда предполагает страдание…
— Но страдать — это хорошо, Алехо, — прерывает она меня.
— Откуда тебе знать. Это одни слова.
— Нет. Раньше я не страдала, а теперь страдаю, и очень часто. Мучаюсь, боюсь потерять тебя. Но уж назад, обратно, я не вернусь ни за что: лучше страдать, потому что раньше у меня не было ничего, а теперь у меня есть все.
Я смотрю на нее. Трогаю ее лицо.
— Так ты меня понимаешь?
— Да, Алехо. Если б и не понимала, было бы то же самое. Я с тобой.
Опять она понижает голос:
— Мы никогда не поженимся… Да я и не хочу. Но я с тобой и в добром, и в плохом, и даже…
Она умолкает и закрывает глаза, но я снова беру ее за подбородок и смотрю в глаза:
— Рена… Что с тобой? Ты чем-то смущена…
Она кивает, пробует спрятать лицо.
— Почему?
— Потому что я хочу тебя…
Я сжимаю ее руку.
— Иди ко мне…
Но она уклоняется.
— Нет… Это не то. Я чувствую что-то такое глубоко-глубоко…
Мы долго сидим обнявшись, щека к щеке. Потом целуемся, но совсем без греховных мыслей, чисто, как дети. И она говорит:
— Это лучше, чем спать вместе, правда, Алехо?
— У нас все лучше, Рена. Другой такой на свете нет.
Она смеется, как будто получив вдруг отпущение.
— Да ты не знаешь. Я твоя первая женщина. Первая настоящая.
Она берет меня за руку.
— Пошли, пора одеваться.
Возвращаемся в спальню, но я гляжу на часы.
— Мне надо идти.
— Уже много времени?
— Да.
— Придешь вечером в бар?
— После ужина.
— А раньше?
— Нет. Хочу написать еще главу моего романа.
— Принеси почитать, а?
Мы одеваемся.
— Разве я тебе не приносил их все? А еще мне нужно написать письмо, это необходимо сделать как следует.
— Какое письмо?
— Твое письмо на радио. Лучше, чтоб его составил я, верно?
— Да…
Она продолжает одеваться, а я завязываю шнурки ботинок.
— Или ты не хочешь, чтоб мы его посылали?
— Нет, почему же. Раз ты говоришь, что у него так много денег и мы не очень его разорим…
Она снова замирает на мгновение, глядя отсутствующим взглядом в окно. Я спрашиваю:
— О чем ты думаешь?
— Я подумала, что для твоих товарищей это, наверное, очень важно…
— Ты как будто не совсем в этом убеждена… Может, это не соответствует тому представлению, которое ты составила обо мне?
Но она отрицательно качает головой и слегка улыбается.
— Нет, не в том дело. Когда-нибудь нам придется за это пострадать, но мне нравится, что ты знаешь, чего хочешь.
— А почему нам придется страдать?
— Этого я не знаю… Знаю только, что я тебя люблю, а там будь что будет.
— Из-за этого ты и говоришь так торжественно?
Она смеется.
— Нет, глупыш!
Когда она смеется, я обнимаю ее и целую.
— Вечером увидимся…
— Да. Приходи, как только сможешь…
Я иду к двери.
— Все будет зависеть от письма.
Тогда я вспоминаю и возвращаюсь.
— Да, забыл сказать, привратница передала мне письмо для тебя. Я его положил на столик.
— Наверно, от моих.
— Да.
— Сейчас пойду за ним.
Мы еще раз улыбаемся друг другу сквозь разделяющее нас пространство, потом я поворачиваюсь, иду по коридору и открываю дверь. Будто выхожу из своего дома.
Когда я вхожу в бар «Попилс», часы бьют двенадцать. Они немного спешат. Письмо мне пришлось писать после ужина. После обеда я работал над романом. Не знаю почему, на меня нашло вдохновение, и я этим воспользовался. Зашла мать, спросила, не хочу ли я закусить.
— Что это ты так много пишешь?
— Конспекты.
— Так много страниц?
— Они по разным предметам.
Ее обмануть легко. Верит всему. Она доверчива. И отец может безнаказанно продолжать шашни со своими подружками. Уверен, они ему влетают в копеечку.
Улыбаюсь девушке за стойкой. Мончи, хозяйка, играет в кости и выигрывает. Всегда. Приветствуем друг друга кивком головы. Броста, сидящий рядом с Косматой, чуть приподнимает бровь, как он обычно это делает. Дальше — еще одна девушка с двумя типами, которых я не знаю.
— А Рена?
Нина смотрит на другой конец стойки.
— Не знаю. Только что была тут… Ты знаешь, что она уезжает?
— Как уезжает?
— Она тебе еще не говорила? Письмо ей пришло…
— Это я знаю.
Слышится голос Бросты:
— Нина, сюда два «куба либре».
— А ты чего-нибудь выпьешь?
— Потом.
Иду в другой зал, там сидит только одна парочка; забились в угол. Это Гвидо, продавец из магазина тканей; его партнерша делает глупое лицо.
— Привет, мальчик!
— Привет.
Возвращаюсь в бар, останавливаюсь возле хозяйки. Она поднимает глаза.
— Хочешь сыграть?
— Я играю только в лотерею!
Ее партнеры смеются, а я возвращаюсь на мой подвесной стул. Это выдумка Мончи. Когда сидишь между цепей, создается впечатление, что ты на каком-то аттракционе.
Возвращается Нина.
— Дай пива.
— Маленькую?
— Самую маленькую, какую найдешь.
Она смеется, но я тут же поворачиваюсь: кто-то спускается по ступенькам из другого зала.
— Куда ты подевалась?
Рена идет вдоль стойки, серьезная, строгая.
— Это я должна тебя спросить. Посмотри, который час…
— Я работал, ты же знаешь.
Нина подает мне пиво.
— Что это она мне сказала? Ты уезжаешь?
— Да, завтра. Мать как будто заболела, хочет меня видеть. Даже странно, обычно она так не пугается.
— Это было в письме?
— Да, оно от брата.
— Я видел.
Она кажется озабоченной, но, когда Нина отходит, я говорю ей вполголоса:
— Ты обманщица.
Встретив ее вопросительный взгляд, поясняю:
— Ты это затеяла, чтобы не писать письмо на радио.
— Ну что ты, Алехо… Напишу сегодня же. Ты уже набросал его?
— Да.
Один из незнакомых мужчин встает, подходит к стойке и заказывает что-то Нине. Листает лежащую на стойке газету.
— Но тебя не будет, когда он придет.
— Я всего денька на три-четыре.
— Этого ты не можешь знать.
— А что прикажешь делать? Мать есть мать…
Смотрю на Мончи и ее партнеров, которые начали оживленно обсуждать игру. Это раздражает.
— Совсем стала невыносимой твоя патронесса.
Вынимаю пачку сигарет, протягиваю ей.
— Нет, не хочу.
Закуриваю, отхлебываю пива. Она говорит:
— Я напишу его перед отъездом и завтра же отошлю.
— В котором часу едешь?
— Поезд в восемь. Разве ты не придешь проводить меня?
Я не отвечаю. Незнакомец, сидящий чуть поодаль, говорит Нине:
— Я гляжу, про политика-то больше не пишут…
— Какого политика?
Он удивляется. Я краешком глаза смотрю на них.
— Вот тебе на! Ты разве не знаешь, что его убили?
Та слегка пожимает плечами, груди ее колышутся под черным платьем, здесь все девушки носят такие.
— Может, оно и так. Но я же не читаю газет…
Незнакомец оборачивается к нам:
— Эта, должно быть, читает только программу телевидения. — И добавляет: — На этот раз они быстренько замяли это дело.
— На этот раз? А что, были еще убийства?
— Не то чтоб убийства. Другие дела… всякие…
Отхлебываю еще пива и поверх стакана смотрю на Ренату; а она смотрит в стойку.
— Скорей всего, это дело политическое.
Никто ему не отвечает, и он продолжает листать газету. Рената, помолчав немного, снова спрашивает:
— Так придешь?
— Не знаю. Не люблю я ни с кем прощаться.
Незнакомец выпрямляется, продолжая сидеть на стуле-качелях, и складывает газету. За его спиной заиграл музыкальный автомат; обернувшись, вижу, как Броста возвращается на свое место рядом с Косматой. Я слушаю. «Tu, di chi sei?»[5]
Мы с Ренатой смотрим друг на друга. Эту пластинку ставили в тот вечер, когда я впервые зашел в бар. Ничего удивительного. Ее чуть не каждый вечер ставят. Мы знаем песню наизусть, но слушаем:
Amo le notti lucenti di stelle, d’un pallido argento lunar solo perche sogni di te…[6]Потом я спрашиваю:
— Ты должна быть здесь до часу?
— Нет, я могу уйти, когда захочу. Если бы не ты, я бы уже ушла.
— Так пойдем.
Одним глотком допиваю пиво и поднимаюсь по ступенькам в другой зал. Гвидо и та дурочка уходят. Гвидо что-то забирает со стола. Проходя мимо меня, говорит:
— Как дела?
— Как видишь.
Когда возвращаюсь, звучит «Peppermint Twist»[7], поставленный Бростой, но никто его не слушает в том числе и он сам. Подхожу к Нине.
— Получи.
Незнакомец с газетой поднимает глаза.
— Ну и гадость.
’Round and ’round, Up and down, it’s ’round and ’found and up and down…[8]Я рассеянно киваю в знак согласия. Нина, спрашивает:
— Хочешь получить сдачу?
— А ты как думала?
Она смеется:
— Дешево покупаешь.
— Я ничего не покупаю.
Забираю сдачу и подхожу к игрокам. У Мончи красные усы: размазалась помада.
— Чего не садишься?
— Мы уходим.
Она берет стаканчик. Пять шестерок и единица. Краем глаза вижу, как пара в темном углу целуется. Сидят, касаясь друг друга коленями. Один из игроков говорит:
— Я, в конце концов, куплю новые кости! На этих тебе что-то слишком везет, Мончи.
— Мы же играем, только чтоб убить время!
Тот ворчит:
— Ты меня оставила без шести зелененьких и еще называешь это «убить время»?
— Да разве дело в деньгах?..
— Вон что! Тогда в чем же?
Рената уже спустилась по ступенькам и говорит:
— Мы можем идти…
На ней расклешенная белая с желтым юбка и черная блузка. Сверху — кофточка. Мончи встает.
— Ну, дай бог, чтоб ничего серьезного не было.
— Может, и нет ничего. Нина…
— До свидания, Рена. Счастливого пути!
Хозяйка провожает нас до двери.
— Если тебе все же придется задержаться, напиши.
— Я позвоню.
— Конечно. Это еще лучше.
Они наклоняются друг к другу и целуются.
— До свидания, Мончи.
— До свидания. Всего хорошего вам обоим.
Она сама открывает нам дверь; потом закрывает.
На улице дует ветерок, еще довольно прохладный; Рената запахивает кофточку и жмется ко мне.
— Ты хорошо придумала — позвонить. Почему бы тебе не сделать это завтра, скажем, в половине девятого? К этому времени ты, наверно, уже будешь знать…
— Позвоню, если хочешь. Ты будешь здесь?
— Если будешь звонить, приду.
— Тогда договорились.
Помолчав, она добавляет:
— Хорошо бы поехать вдвоем.
— Уж не хочешь ли ты, чтоб я тебя сопровождал?
— Нет, сейчас не нужно. Но в другой раз… Этим же летом. Мы могли бы провести неделю где-нибудь у моря. Разве тебе не хотелось бы?
Я пожимаю плечами.
— Не знаю. Мне хорошо и тут.
— Ну какой ты противный!
— А мне противны всякие там путешествия по случаю медового месяца.
Она смотрит на меня.
— Это подозрительно… Если рассчитываешь ночевать у меня сегодня, так ничего не выйдет. У меня началось. Раньше, чем я ждала.
— Как вижу, одно к одному.
— Что ты хочешь этим сказать?
— Эта твоя поездка…
— Да, досадно, конечно…
Вытаскиваю из кармана листки.
— Держи, тут набросок письма и глава, которую я написал сегодня.
— Так успеешь отдать.
— Нет, я не буду подниматься. Перепиши и ложись спать. Ты, наверно, устала.
— Почему ты так думаешь?
— Ты сильно опираешься на меня.
— Это от холода.
Обнимаю ее за плечи, она убирает бумаги в сумочку. Потом поднимает голову, тянется ко мне губами. Целуемся на ходу. Я объясняю:
— Я написал, что твоя фамилия Жаума, как оно и есть на самом деле. Думаю, он не знал фамилии девушки, которую соблазнил.
— А если это не так?
— Тогда, значит, не повезло. Но в дневнике ее нет.
— А если он придет и попросит у меня какие-нибудь бумаги? И увидит, что фамилия матери — Мальфре. А незаконный ребенок…
— Я знаю. Тогда можешь объяснить ему, что мать потом вышла замуж и отчим тебя удочерил. Так делают. Но не думаю, чтобы он потребовал документы. Те подробности, о которых мы пишем в письме, знали только он и эта самая Флора. Вот увидишь.
Она качает головой, смотрит на носки туфель; потом говорит:
— Ты думаешь, получится?
— Конечно. По сути, мой отец очень доверчив и немного сентиментален. Вдруг отыскалась дочь — такое проймет его обязательно.
— Может быть…
Она молчит, отдалившись от меня, уйдя в свои мысли. Я крепче прижимаю ее к себе.
— Не делай такого озабоченного лица.
— Я не делаю…
— Делаешь. Мне нравится, когда ты оживлена.
Она улыбается, обнимает меня за талию.
— Когда такая?
— Нет. Послушай… Давай побежим наперегонки до твоего дома!
Я знал, что она засмеется.
— Какой ты глупый. На таких-то каблуках?
— Так разуйся. И я тоже. Здесь тротуар гладкий.
— Я и так знаю, что ты меня обгонишь…
— Я дам тебе фору десять метров… двадцать…
— Ну что ты как мальчишка!
— Нет, в самом деле…
Опираюсь на ее плечо и снимаю ботинки, не развязывая шнурков. Потом приседаю:
— Теперь ты.
— А если кто-нибудь нас увидит?
Она смеясь поднимает одну ногу, потом другую. Я глажу ее колено.
— Э-э, приятель, это уже не имеет никакого отношения, к бегу!
— Это ты так думаешь. У бегунов всегда рассматривают мускулы…
Она наклоняется, дергает меня за волосы.
— Какие же тут мускулы!
— Разве нет?
Мы смеемся, она заставляет меня встать, и мы обнимаемся.
— Рена…
— Ты уже не хочешь бежать?
Легонько хлопаю ее по заду, когда она наклоняется, чтобы подобрать эти четыре ремешка с каблуком, которые она называет туфлями.
— Пройди немного вперед. Я сказал: двадцать метров.
Она отходит, а я смотрю, как колышется широкая юбка, скрывая движения бедер. Бог мой, какая она!
— Здесь?
— Да. Как только я скажу «три»… Раз… два… три!
Мы срываемся с места, обувь в руках. Она летит, словно не касаясь земли. Юбка развевается, хлещет ее по ногам.
— Сейчас догоню!
Но сам сбавляю скорость. Мне видно, как трутся друг о друга ее ноги выше колен. Мелькают гладкие босые пятки…
Она падает на землю у подъезда, в тени, возле садика. Я падаю на нее, швырнув в сторону ботинки, наваливаясь всем телом. Она тяжело дышит:
— До чего устала!
— Видишь, как ты здорово бежала!
Она поворачивает голову, прислоняется к стене. Слышу стук брошенных туфель. Мы смотрим друг на друга.
— Алехо…
Глаза ее блестят, грудь поднимается и опускается. Обнимает меня за шею, но лица не приближает. Я говорю:
— Я люблю тебя, Рена.
Тогда она трется щекой о мою щеку.
— Мне так не хочется оставлять тебя…
— Ты же вернешься.
— Да, конечно…
Мы ищем губы друг друга и, крепко обнявшись, целуемся. Ее сердце громко стучит.
4
Мы вышли, из церкви, взволнованные проповедью падре Феу, который с потрясающей искренностью говорил о позиции церкви в социальных вопросах и высказал по этому поводу немало свежих мыслей; и я подумал, что пора пойти познакомиться с Ренатой, хотя состояние моего духа было не слишком подходящим для такой встречи.
Обычно после воскресной мессы Бернардина, Эмма и я гуляли, доходили до кафе «Парельяда» и там сидели, пока не наступало время идти обедать. Мне совсем не просто было уйти, даже сославшись на больных. По воскресеньям меня замещал доктор Роуре, но иногда все же приходилось самому навещать какого-нибудь больного.
— Если рано освобожусь, — сказал я, — заеду за вами.
Разумеется, я уехал на машине, им она была ни к чему: ни та, ни другая не водили, Эмма много раз заговаривала о том, что надо бы научиться, но так и не рискнула.
Приехав на улицу Рокафор, я заметил, что привратница стала немного любезнее. Да, конечно, она помнит меня; и, когда я спросил, дома ли девушка, ответила:
— Думаю, дома. Одну минутку, я позвоню.
Она пошла к доске с кнопками, расположенной рядом с почтовыми ящиками, и нажала одну из кнопок; ответа пришлось подождать.
— Может, спит еще…
Наконец приятный голос спросил:
— Кто там?
— Сеньорита Рената, — сказала привратница, — вас хочет видеть один сеньор, он к вам сейчас поднимется.
Ждать у двери она не стала: когда я поднялся на площадку, там никого не было. Наверное, побежала переодеться или поправить прическу. Я скромно позвонил, и дверь наконец открылась; я увидел небольшую прихожую в весьма современном стиле, переходившую в коридор, откуда девушка и вышла мне навстречу.
Я шел к ней в плохом настроении из-за того, что произошло вчера вечером, но, увидев девушку, не мог не признать, что внешность ее была такой же приятной, как голос. Она была довольно высокой и, насколько я успел заметить, очень хорошо сложена, хотя одежда ей совсем не шла: на ней были брюки чуть ниже колен, их еще называют «пиратские», и свободная кофта, разрисованная пересекающимися красными прямоугольниками. Глаза были большие, черты лица, пожалуй, немного резкие для женщины, но их смягчали маленькие уши и красиво очерченные полные губы, слегка подкрашенные. Густые брови и длинные ресницы придавали ее глазам лукавое, кокетливое выражение.
— Это вы приходили вчера? — спросила она, приветливо улыбаясь.
— Да. Мой визит вызван письмом, которое вы послали на радио…
— А, я так и подумала! — И она улыбнулась еще шире. — Мне никто визитов не наносит… Проходите, пожалуйста…
Она открыла было дверь слева по коридору, но тут же ее закрыла:
— Нам лучше будет в столовой…
— Как прикажете…
— Там естественное освещение. Так обидно включать электричество среди бела дня!.. Но в таких квартирах почти все помещения темные.
Она не была похожа на провинциальную девушку, только что приехавшую в столицу. Ни в ее движениях, грациозных и элегантных, ни в ее вежливой и правильной речи нельзя было заметить никаких следов деревенского воспитания. Это, конечно меня немного удивило, я ожидал совсем другого, и, кроме того, я был настороже, опасаясь обмана. Но она, несомненно, была из Лериды: акцент еще чувствовался.
— Вы живете одна? — спросил я непринужденно, когда мы вошли в столовую.
— Можно сказать, что одна. Квартира не моя, а одной супружеской пары, но они все время в отъезде. Так что практически я оказалась съемщицей…
Этим, возможно, объяснялась сдержанность привратницы вчера вечером, особенно когда я спросил, на чье имя снята квартира. Во многих домах не разрешается сдавать комнаты, и привратницы вполне могут держать сторону жильцов, нарушающих это правило, особенно если те хорошо им платят. Возможно, и соседка, говоря о живущих здесь супругах, имела в виду эту вечно отсутствующую пару, а не Ренату. Однако передо мной сидела женщина в полном смысле этого слова, я сразу понял. В ее фигуре проступали особенности, проявляющиеся лишь при достаточно интенсивной половой жизни.
— Садитесь, пожалуйста, — пригласила она.
И указала на небольшое кресло возле столика с радиоприемником и этажерки, на которой стоял резиновый дедушка Ноэль. Сама она села, слегка откинувшись назад, спиной к свету, падавшему из широкого окна, в которое виден был фасад дома напротив.
— Вы родственник… сеньора Гасуля? — спросила она.
— Родственник? — удивился я. — Почему вы так думаете?
— Потому что им самим вы быть не можете. Для этого вы слишком молоды…
Это лесть? Но она смотрела на меня открытым, искренним взглядом. Лучше бы она сидела лицом к свету, мне удобней было бы ее разглядывать.
— Не так уж я молод, — пояснил я. — Мы с ним, собственно, ровесники и вместе служили в армии. Я тоже был в вашем местечке и знал о связи Ансельмо с вашей матерью. Возможно, я один и знал об этом.
Ничего такого я говорить не собирался, это была импровизация, которой я удивился не меньше, чем она, но эта импровизация тут же показалась мне весьма удачной: она позволяла без труда и с достоинством отступить, если обстоятельства вынудят меня к этому.
— О! — сказала Рената. — Так вы от него?
— Нет, — ответил я. — Он живет не в Барселоне, и я очень сомневаюсь, что ему известно о вашем письме на радио. Поэтому я и позволил себе нанести вам визит без его ведома. Не знаю, может быть, мне не следовало так поступать…
— Вы поступили правильно, — успокоила она меня. — Я писала в письме, что буду благодарна за любые сведения… — Она остановилась, увидев, что я вынул трубку и снова ее спрятал. — Курите, пожалуйста, — заметила она мимоходом. — Единственное, чего я хочу, — найти его.
Я кивнул, набивая трубку, и вдруг сообразил, что девушка не носит траура. Может, в этом и не было ничего особенного: она у себя дома и, если верить привратнице, только что, встала… Я спросил:
— Давно ли умерла Флора, ваша мать?
— Скоро три года.
— A-а! По письму я подумал…
— Да, я слушала передачу. Они его не прочитали, а изложили, очень сократив, и это не всегда у них удачно получается. Наверно, виновата я сама, написала слишком много. Когда писала, не подумала о том, что из-за этого его читать не станут целиком, иначе им пришлось бы посвятить мне всю передачу… Но, в общем, они сказали достаточно.
— Разумеется, — улыбнулся я, — и доказательство тому — мое присутствие здесь. А отчего она умерла?
— Врач сказал, от мозговой эмболии. Она еще была не старая, а лечилась уже давно… Я хочу сказать, ей надо было лечиться, но она не всегда выполняла все предписания.
Внезапно она встала и пошла к серванту в глубине комнаты; над ним висела репродукция абстрактной картины очень дурного вкуса. Да они почти все дурного вкуса. Взяла пепельницу и поставила передо мной. Не глядя на меня, пока я закуривал трубку, продолжала:
— Мой отец умер годом раньше… Я хочу сказать, мой отчим, но я всегда звала его отцом. Мать вышла замуж. Он меня удочерил, и поэтому я ношу его фамилию: Жаума.
Для меня все это было неожиданностью, но звучало вполне правдоподобно. Она снова села в кресло, положив ногу на ногу и чуть наклонившись вперед, и говорила непринужденно, хотя немного торопливо; в ее рассказе незаметно было желание убедить, она просто излагала факты, которые кто угодно может проверять. Если меня что-нибудь и удивляло, так это отсутствие волнения. Но, впрочем, она говорила о событиях прошлых лет, которые давно пережила..
— И ваша мать, — сказал я наконец, кладя спичку в пепельницу, — призналась вам перед смертью, что Жаума вам не отец…
Она покачала головой и обхватила руками коленку. Она сидела нога на ногу.
— Нет, я знала это и раньше. Мать мне рассказала об этом, когда он умер, а я решила ехать жить в Барселону. Ведь я живу здесь уже почти четыре года. — Она пожала плечами. — В небольшом местечке трудно заработать на жизнь. Работай в поле или ходи в Таррегу. А я достаточно насмотрелась на тамошнюю жизнь…
— А этот Жаума был крестьянином?
— Нет, плотником. Но летом работал и в поле. И мама тоже. И я девочкой работала с ними… — Тряхнув головой, она продолжала: — Если вы там бывали, хотя бы во время войны, то, наверно, знаете, что за жизнь в округе Сегарра. Тянут изо всех сил лямку, а живут в бедности.
— А что конкретно рассказала вам ваша мать?
Она откинулась на спинку кресла, составила ноги вместе и потрогала верхнюю пуговицу на широкой кофте.
— Я писала об этом в письме. Она была знакома с солдатом интендантской, службы, студентом-медиком из Барселоны, который назвался Гасулем. Больше она о нем ничего не знала, они недолго были вместе, кажется одну неделю. — Она пожала плечами. — Война…
Я не мог вспомнить, говорил ли я Флоре, что я студент-медик, но, наверное, просто забыл, раз уж она это знала. Прошло столько лет, и по дневнику теперь мало что восстановишь в памяти; к тому же такую подробность не выдумаешь. Поразмыслив, я счел рассказ Ренаты правдивым.
— И теперь вы… А почему вы хотите познакомиться с вашим отцом?
— Ну это же так естественно! — ответила она, подняв голову. — Не только потому, что об этом просила моя мать… За эти годы я предприняла несколько попыток, даже обращалась к услугам детектива. Но он, конечно, сразу мне сказал: слишком мало сведений, чтобы разыскать. В коллегии врачей, например, не знали никакого Ансельмо Гасуля. Может быть, он не закончил курса… Он закончил?
— Да, но я вам уже сказал, он здесь не живет. Ничего удивительного, что его нет в списках.
— А он женат, холост?.. — спросила она.
Я ответил вопросом на вопрос:
— Вы намереваетесь жить вместе с ним, если его найдете?
— Это не мне решать… Не знаю. Пожалуй, если подумать, — нет. Понимаете, — она быстро подалась вперед, — может быть, я разыскиваю его больше всего из любопытства… ну и хорошо знать, что у тебя еще есть кто-то, потому мать и хотела, чтоб я его нашла… Я не могу ни любить его, ни испытывать к нему вообще никаких чувств, ведь я его не знаю, никогда не видела… — Девушка подождала, пока я кивком выразил свое согласие, и продолжала: — Я даже не считаю, что он в чем-то виноват… То есть в том, что он меня покинул. Как сказала мама, он никак не мог знать, что оставил ее в положении, а кроме того, я уже говорила, она вышла замуж, так что я выросла в семье. — Помолчав, она спросила: — Вас удивляет, что я так говорю?
— Совсем нет, мне это кажется вполне естественным.
Решительно она казалась мне особой весьма благоразумной. Я оценил ее искренность, хотя слова о том, что она не может «испытывать к нему вообще никаких чувств», немного меня задели. Я и сам это понимал, но говорить об этом не стоило. Правда, она думала, что говорит с другом своего отца, а не с ним самим; стало быть, она могла и говорить о нем в таких выражениях, которых при нем себе не позволила бы. Вдруг, сам не зная почему, я почувствовал себя неловко, как это бывает, когда услышишь от кого-нибудь то, чего не услышал бы, назвавшись собственным именем.
— Он женат, у него семья? — снова спросила она.
— Да, у него есть сын. Как я понимаю из ваших слов, вы не замужем?..
— Не замужем.
— А чем вы занимаетесь, если не секрет?
— Никакого секрета, — мило ответила она. — Когда я приехала из провинции, я поступила в лавку продавщицей, а теперь уже порядочно времени работаю в баре.
— Официанткой? — спросил я, поднимая брови.
— Да, здесь лучше платят. Не то чтобы мне нравилась эта работа, — тут же добавила она, — я ее брошу, как только соберу денег. К несчастью, моя мать оставила мне небольшой долг, и я должна его выплатить.
— Понимаю…
Мне это совсем не понравилось. Впечатление, что в жизни девушки есть нечто не очень презентабельное, создавшееся у меня вчера из-за поведения соседки и привратницы, рассеялось было благодаря приятной внешности и простому и скромному обращению девушки, но теперь это впечатление снова завладело мной. Я не был завсегдатаем заведений, где посетителей обслуживают только девушки, но прекрасно знал, что многим из них в конце концов приходится идти на уступки весьма неприятного свойства. Я почему-то сразу подумал о заведении, из которого на моих глазах вышел Алехо, вспомнил обстановку, которую видел сквозь щель в шторе. Перед моими глазами снова возникла склоненная над стойкой девушка в черном форменном платье в обтяжку, с низким вырезом, открывающим чуть не полгруди: такой наряд как будто приглашает мужчину обшарить девушку взглядом…
Она, видимо, заметила, что выражение моего лица немного изменилось, потому что вытянула руку вперед, словно отталкивая что-то надвигавшееся на нее.
— О нет, не подумайте!.. Заведение в высшей степени приличное, я хочу уйти оттуда не из-за этого. Просто трудная работа, бывает ночная смена. Я никак к этому не могу привыкнуть.
— Это не вполне подходящая работа для девушки, — подчеркнул я, как бы соглашаясь с ней. — Я знаю, многое преувеличивают, и наше поведение зависит чаще всего от нашего характера, от наших склонностей, а не от обстановки… Не сердитесь, что я так говорю.
— Я не сержусь, — отозвалась она. — Я понимаю, что вы говорите это из добрых побуждений. И если бы не долг, о котором я говорила, я бы не ушла из парфюмерного магазина.
— А велик ли долг?
— Для меня — да. — Она как будто поколебалась, удобно ли называть точную сумму, но все же сказала: — Около двадцати пяти тысяч песет. Думаю, я могла бы и не отдавать долг, ведь у меня за душой ни гроша, как с меня взыщешь? Но это было бы нехорошо. Если бы мать оставила мне не долги, а деньги, я бы их приняла. Значит, и долг надо признать.
«Но это немалые деньги», — подумал я. Непонятно, каким образом крестьянка, которая, вне всякого сомнения, жила скромно и работала до последнего дня, могла задолжать такую значительную сумму, да и кто мог рискнуть доверить ей столько денег, раз у нее не было, достаточного имущества в обеспечение долга. Мне хотелось продолжать расспросы, но я подумал, что при всем своем добром расположении она может посчитать такое любопытство нескромным. Да это обстоятельство и не было такое уж важное, чтобы его срочно выяснять; можно подождать более удобного случая спросить, если мы с ней еще раз встретимся, но я в этом совсем не уверен: мне надо убедиться в некоторых фактах — хоть я и считал, что проверка подтвердит ее слова, но для очистки совести считал проверку необходимой.
Я не сомневался, что эта девушка действительно моя дочь. Она искренна и откровенна, и все, что она знает, все изложенные ею в письме и в беседе факты соответствуют действительности. Я даже склонен считать, что она не очень старается убедить меня в чем бы то ни было, пользуясь теми скудными данными, которыми располагает; так она поступила бы, если бы ей не терпелось развеять у меня всякие сомнения. Фальсификаторы — это я знаю по опыту — обычно выдают себя тем, что приводят слишком много доказательств. О Ренате сказать этого никак нельзя.
Но, с другой стороны, хоть я и верил ей, мои отеческие чувства не вспыхнули с такой силой, как я ожидал. Скорей всего, потому, что я не знал ее раньше, особенно в детстве, и никакие нежные воспоминания не воздействовали на мое воображение. У нас не было ничего общего. Мы были чужими, и тот факт, что я ее зачал в этой ситуации ничего не менял. Не сомневаюсь, если бы я нашел ее беспомощной, если бы она оказалась девушкой с другим характером, ну, скажем, безоружной, то наверняка я отнесся бы к ней иначе, поддался бы порыву сострадания, а его легко спутать с отеческими чувствами, которые я, как мне казалось, должен был к ней испытывать. Но она не была беспомощной девушкой, слабым существом, нуждающимся в моей поддержке, моей помощи или моей любви. Наоборот, все заставляло предполагать, что она умеет постоять за себя и привыкла это делать. В ней ощущалась уверенность в себе, которая вовсе не располагала ни к состраданию, ни к покровительству.
А тут еще ее работа, ее образ жизни. Говорить она могла что угодно, и было вполне естественно, что она пытается строить из себя невинную девушку, но ничто не мешало мне усомниться в ее невинности. Держалась она просто и непринужденно, смею сказать, свободно; особа ее возраста и даже более зрелая может научиться этому лишь в результате длительного общения с людьми, когда накопит много опыта, причем и такого, о котором тяжело вспоминать и в котором трудно признаться. Короткая беседа с ней показала мне, что эта девушка привыкла к общению с мужчинами, что она может приспосабливаться и держаться непринужденно в любой обстановке, при любых обстоятельствах. Не хочу сказать, что в ней чувствовалось нечто предосудительное, она не была особой такого сорта, и это говорило в ее пользу, если, как я подозревал, она и вела не такую скромную жизнь, какой мы ждем от одинокой девушки. Не говоря об этом, должен добавить, что она слишком хорошенькая и обаятельная, чтобы я не почувствовал ее женственности, и в той среде, в какой она вращалась, неизбежно должна была этим пользоваться, извлекая для себя выгоду. Есть у нее долг или нет, она не согласилась бы на такую работу, если бы придерживалась строгой морали. В общем, я понимал, что у нее такой строгости не было, а отсюда напрашивалась мысль, что ей трудно удержаться и от использования своих возможностей.
Этот достаточно разумный довод превратился почти в уверенность, когда через минуту я, распрощавшись с ней, пошел к выходу. В коридоре, у стены, валялся на полу окурок сигареты. Прежде я его не заметил, но это не значило, что его там не было, я мог просто не обратить на него внимания, хотя он и резко выделялся на светлом мозаичном паркете, безукоризненно чистом, как и пол во всей квартире. Лицо, обитавшее в ней, в данном случае Рената, судя по всему, обладает такими качествами, как хозяйственность и чистоплотность, весьма ценными для хозяйки дома, которые соединялись с другими несомненными достоинствами: обаянием, красотой, обходительностью… Как раз это и привлекло мое внимание. Паркет был натерт недавно, может быть накануне вечером или даже в то самое утро, и тот, кто это сделал, не мог не заметить окурка. Тогда не оставалось ничего другого, как признать, что окурок был брошен после уборки, возможно ночью или утром, и к этому надо добавить, что это сделала не она сама и вообще не женщина, потому что на окурке не было следов помады. Когда мы уже подходили к двери, мне вдруг пришел, в голову еще один вопрос:
— А давно уехали ваши друзья, хозяева квартиры?
— Недели три назад, — ответила она, идя за мной. — Они оба музыканты, понимаете? Вот и путешествуют. Сейчас они за границей.
— Значит, вы живете одна… — продолжал я беззаботным тоном. — И гостей принимаете не часто.
Когда я обернулся, она улыбалась своей обычной улыбкой.
— У меня мало друзей. Хотя, глядя на меня, этого не скажешь, я с трудом завожу друзей. Наверно, у меня склонность к одиночеству…
— Действительно, этого не подумаешь. Правду говорят, внешность обманчива.
— Конечно, — согласилась она.
— А как же вы проводите свободное время? — поинтересовался я. — Не работаете же вы целый день…
— Нет. Я уже говорила, что у меня бывает ночная смена, от семи вечера до закрытия. И я много сплю. — Она засмеялась и добавила: — Наверное, все еще отсыпаюсь. В деревне никогда не поспишь вволю. Кроме того, я много читаю. Не хочется отставать от жизни. Меня взяли из школы в двенадцать лет, а мне всегда нравилось учиться.
Тут мне открылась другая неожиданная черта ее характера. Я уже отметил про себя, что говорит она правильно, как человек образованный, и, признаться, меня это удивило. Она производила впечатление развитой девушки, четыре года жизни в Барселоне, несомненно, сделали ее тоньше, придали лоск. Я продолжал:
— А какие книги вы предпочитаете?
— О, всего не перечтешь! — снова засмеялась она. — Прочла кучу романов. Но я интересуюсь и искусством, особенно живописью. Если б могла, занялась бы рисованием. Я знаю, женщины не так одаренны, как мужчины, но все же я могла бы, как мне кажется, разрисовывать ткани или заняться чем-нибудь другим в том же роде…
— Еще не поздно, — заметил я. — Вы очень молоды.
— Для того чтобы начинать — не очень. Мне двадцать три года. Вернее, скоро исполнится.
Я воспользовался случаем и задал вопрос, ответ на который мог оказаться мне полезным:
— А в какой день вы родились?
— Двадцать первого августа.
— А, так у вас действительно скоро день рождения… — заметил я, глупо пытаясь сделать вид, что вопрос мой совершенно невинный, только я уверен, что ее не обманул, — это дал мне понять ее взгляд.
Я потянулся к дверной ручке, но их было две, и она нажала другую.
— Вот эта…
— Хорошо, — сказал я, повторяя слова, сказанные перед тем, как мы покинули столовую. — Я напишу вашему отцу и объясню все относительно вас, а дальше уж решит он сам. Полагаю, он захочет повидаться с вами.
Меня нисколько не смущало, что, когда я приду к ней во второй раз, мне придется сознаться в своем обмане. Рената умна и поймет, что я хотел узнать, какой она человек, прежде чем открыться. Ибо в тот момент я был уверен, что приду еще раз и признаю ее своей дочерью; последние фразы, которыми мы обменялись, заставили меня по-другому взглянуть на создавшееся положение и даже оставить без внимания ее легкомысленные поступки, в которых я убедился, увидев злополучный окурок. И не только оставить без внимания ее прегрешения, но и прийти к мысли, что все еще поправимо, если мне удастся использовать ей на благо зародившийся интерес к искусству, если я смогу вырвать ее из сомнительной среды, толкающей на скользкую дорожку, дам средства на ученье и помогу на новом пути, по которому она могла еще пойти, невзирая на свои двадцать три года. Я готов был открыть ей широкий кредит, и уже не осуждал так строго беспорядочную жизнь, которую она вела, потому что думал о том, что не одна она виновата во всем, что с нею случилось. Безусловно, она получила весьма нехитрое воспитание, а ее приезд в Барселону, когда ей исполнилось всего восемнадцать лет, возможно, окончательно подорвал ее нравственные устои. Она была молода и хороша собой, мужчины за ней увивались, а сверх всего еще этот материнский долг… Мне было неприятно, по-настоящему неприятно думать о тех связях, которые могли быть у нее за эти четыре года, мне претила эта мысль. Но разве мог я первым бросить в нее камень и отвергнуть ее, если не будет доказано, что душа ее окончательно растлена, а поверить в это — трудно. Мне следовало помочь ей. Я поставлю только одно непременное условие: полный контроль над ее поведением. Это единственный способ удостовериться, что усилия мои не будут тщетными.
К несчастью, все эти благородные замыслы, так быстро родившиеся в моем сознании, были разрушены, уничтожены несколькими фразами, которыми мы обменялись в самый последний момент, когда уже вышли на лестничную площадку и пожали друг другу руки. Она меня спросила, и это было вполне естественно, даже странно, что это не пришло ей в голову раньше:
— Если мне понадобится увидеть вас, как это можно сделать?
— Не беспокойтесь. Я обязательно приду еще раз, — сказал я. — Что бы ни решил ваш отец, я приду.
— Но меня не всегда легко застать… Я много времени провожу в библиотеке.
— А теперь я уже знаю, что с семи до часу вас можно найти в баре. Я могу зайти туда, если вы скажете, где он.
— Конечно, — без колебаний ответила она. — Это недалеко отсюда, на улице Инфанты Карлоты. Он называется «Попилс».
Я убежден, что сумел скрыть свое изумление, я обычно владею собой, но это невинное для нее признание поставило на дыбы всю мою подозрительность. Я снова вспомнил Алехо и, пока спускался по лестнице, не переставал думать о том, что это очень странное совпадение. Если мой сын был завсегдатаем этого бара — а я был склонен полагать, что это именно так, — то он и девушка не могли не быть знакомы. Даже, возможно, между ними существовала и более интимная связь, как знать… Фотографии!!!
Это пришло мне в голову внезапно. Где мог Алехо встретить девушку достаточно вольного нрава, чтобы удовлетворить эту его прихоть, как не в баре типа «Попилс»? Я, конечно, не мог быть в этом уверен, но предположение было слишком правдоподобно, чтобы его отбросить. А если они были в близких отношениях, как я подозревал, то и Алехо не мог не знать о претензии девушки на то, что она моя дочь. Возможно даже, они вместе придумали эту историю с письмом — правда, непонятно, с какой целью, разве что с целью просто-напросто досадить мне, возмутить мой покой. Я уже начинал понимать, что Алехо — юноша, способный на все, лишенный чувства ответственности и какого бы то ни было представления о приличиях.
У меня, разумеется, тотчас возник вопрос, на который пока что я не мог найти ответа. Ведь Алехо ничего не знал о моем приключении с деревенской девушкой; собственно, об этом, кроме меня, не знал никто. В тот момент я не мог вспомнить, хвастался ли я своей победой во время нашего пребывания в Тальяделе или немного позже перед кем-нибудь из товарищей, хотя бы перед Каррерасом, с которым мы повстречали ее, когда она шла с поля. Я сильно сомневался в этом, потому что всегда был сдержан, у меня хватало порядочности не предавать тех девушек, которые когда-либо доверялись мне. Но даже в том случае, если по какой-то причине я проговорился, до моего сына эти сведения дойти не могли, тем более так точно и подробно, что я обязательно угодил бы в ловушку, если бы случайно не увидел Алехо.
Объяснить это я не мог, но я знал, что объяснение существует, и надеялся найти его. Единственное, чего я не мог принять, это возможности случайного совпадения, того, что Рената и Алехо друг друга не знали. Это маловероятно или вовсе невероятно, и к такому выводу можно прийти, лишь исчерпав все остальные возможности. Но за какой конец потянуть? С чего начать? Как это ни было неприятно, я волей-неволей вынужден был думать об активном участии моего сына в афере, куда он вовлек и эту несчастную.
Уже сидя за рулем, я сказал себе, что могу удостовериться по крайней мере в одном. Я тронул машину и поехал в «Попилс», намереваясь задать там несколько осторожных вопросов. По сути дела, достаточно было получить ответ на один.
Мне повезло: вопреки моим ожиданиям в баре почти никого не было. За стойкой сидела девушка в черном платье, та же самая, что накануне, или, может, другая, я не особенно всматривался в ее лицо, а теперь, при дневном освещении, все вообще выглядело иначе. В конце стойки сидела какая-то парочка на странных стульях, подвешенных цепями к потолку. Они, склонились друг к другу и были заняты только своим тихим разговором. Их присутствие мне не мешало.
Я подошел к стойке, но садиться не стал, эти сиденья, или как их еще назвать, казались ненадежными, и девушка приветливо улыбнулась заученной улыбкой, как улыбаются те, кто по должности обязан встречать улыбкой каждого посетителя.
— Коньяк, — попросил я.
Она спросила, какой марки, но мне в тот момент было все равно, и я предоставил выбор ей, что, кажется, ей понравилось, потому что она смогла подать один из самых дорогих, как выяснилось при расчете. Я поставил пустую рюмку на стойку и, когда она ее забирала, спросил:
— Алехо не приходил?
Вопрос нисколько не удивил ее, потому что она тотчас ответила:
— Нет, он по утрам не приходит.
— А вы знаете, о ком я спрашиваю? Алехо Фаррас.
— Так его фамилия Фаррас? Я и не знала. Молодой парень, лет двадцати, студент…
— Да-да, он самый, — подтвердил я. А так как девушка казалась любезной и расположенной к разговору, не таившему для нее никаких подвохов, я добавил: — А Рената? Ее тоже нет?
— Она приходит в семь. — Естественное любопытство заставило ее спросить меня: — А вы их друг? Я вас никогда здесь не видела…
— Это верно, не видели, — улыбнулся я. — По крайней мере в этот час. — И, набравшись смелости, спросил: — А что, они все так же дружны? Я давно их не видел…
— Как два голубка, — ответила она смеясь. — Смотреть и то сладко.
Но было ясно, что последнее она добавила для красного словца.
Прекрасно. Я получил то, что хотел, без всяких усилий, за одну порцию коньяка; однако это открытие не принесло мне никакого удовлетворения, скорей, наоборот. Теперь, когда я покидал бар, пробыв в нем не более десяти минут, я понял, что шел туда не с намерением подтвердить свои подозрения, а с надеждой, что они окажутся беспочвенными. Достаточно было девушке сказать, что она не знает никакого Алехо, или, если знает, отрицать его знакомство с Ренатой, чтобы я еще раз пересмотрел это дело и обрел доверие к Ренате. Но теперь это было невозможно. Рената и Алехо состоят в любовной связи и каким-то образом завладели кусочком моего прошлого — неизвестно с какой целью… Как неизвестно? Просто-напросто хотели вытянуть из меня деньги, шантажировать, живьем ощипать…
Я задыхался от негодования. Мало того, что Алехо убийца — а это, наверное, так и есть, — мало того, что он в таком возрасте имел нахальство завести любовницу, которую, может быть, еще и эксплуатировал — я и этому не удивился бы, — так он в своем бесстыдстве, в своей наглости доходит до того, что отрекается от отца, пытается угрожать ему, вымогать у него деньги… Как могло получиться такое чудовище? И почему он меня так ненавидит? Ведь надо было именно ненавидеть меня, чтобы затеять весь этот обман, чтобы укусить руку, которая его кормит, которая его ласкала… Если бы в тот момент он оказался передо мной, я надавал бы ему пощечин, избил бы без всякой жалости, чтобы он выплюнул весь тот яд, который ему кто-то впрыснул. Но еще будет время с ним посчитаться; я его заставлю признаться во всем. Сегодня же, за обедом.
Разумеется, ничего не произошло. Приступ возмущения понемногу стал утихать, и через несколько минут, ведя машину по улицам с оживленным движением, я признал, что насилие ни к чему не приведет, даже, пожалуй, все испортит, как всегда бывает, а кроме того, у меня еще не было неопровержимых доказательств. А вдруг я был введен в заблуждение внешними приметами, которые могли оказаться и ложными, несмотря на их кажущуюся достоверность? Пусть Алехо и Рената знакомы, пусть они любовники, это еще ничего не доказывает. «Ничто не свидетельствует против моего сына», — сказал я себе. Нельзя исключать и того, что он, узнав об этом эпизоде из времен моей молодости (надо еще выяснить, как), рассказал об этом девушке по простоте душевной, которая заставляет нас верить всем, кого мы любим, хоть любовь эта зачастую лишь отражение наших собственных добрых чувств, коварный мираж, жертвой которого мы становимся по неопытности, — в общем, он ей рассказал, а она уже на свой страх и риск решила использовать эти сведения в своих целях. Эту возможность не следовало сбрасывать со счетов и в том случае, если она действовала при его попустительстве, сделав его своим сообщником при помощи любовного шантажа, не менее опасного, чем тот, который она задумала, чтобы растрясти мой кошелек. Конечно, это авантюристка, которая зачаровала его своей близостью, своим обаянием. Я вполне мог его понять, поговорив с ней: это девушка ловкая, с большим тактом, и завоевать такого юнца, как Алехо, для нее — детская игра.
Тогда все меняется. Мой сын становится жертвой, и такой жертвой, которая из-за этой передряги могла оказаться в еще худшем положении, чем я, даже если бы случай не привел меня к раскрытию обмана. Я мог потерять только что часть денег или даже все мои деньги, если бы понадобилось, что, однако, сомнительно, но я был уверен, что Бернардина, если б уж пришлось сказать ей правду, сумела бы понять и простить такое давнее юношеское прегрешение, совершенное до встречи с ней; а вот он, наоборот, мог потерять все: жизненные иллюзии, доверие, честность — основу наших отношений с людьми, способность любить достойную, честную девушку, которая в будущем вошла бы в его жизнь.
Необходимо было действовать осторожно, ничего не форсировать, так как теперь мне казалось, что я имею дело не с преступником, а с больным; больному же возвращают здоровье терпеливо, не насилуя природу, но поддерживая защитные силы организма, постепенно заступая путь болезни. Меня ждет работа долгая, требующая терпения, постоянного внимания и любви…
Но мне не давал покоя первый вопрос: откуда он узнал о моей связи с Флорой? Этого я никак не мог понять; надо было успокоиться, хорошенько подумать, пораскинуть умом. Мне вспомнилось, что дома я не раз рассказывал о войне, намекал на мои приключения и наверняка упоминал Тальядель, как один из населенных пунктов, где мы останавливались, отступая к городу. Но этого, конечно, было недостаточно. Алехо знал или мог знать, что я провел несколько дней в этой деревне округа Сегарра, но не более того. Потом, когда я уже подъезжал к кафе «Парельяда» — было еще рано и, поколесив по городу, я решил заехать за Бернардиной и Эммой, — меня вдруг поразила другая мысль. Девушка — из Лериды, об этом недвусмысленно свидетельствует ее акцент, пусть и сглаженный четырьмя годами жизни в Барселоне. Возможно, она родом из того же селения, могла знать Флору — там все друг друга знают — и узнать о ее связи с солдатом, сама Флора могла ей об этом сказать при случае, а может, кто-нибудь видел, как мы ходили на гумно, и потом это стало известно всем. Правда, в то время Рената еще не родилась, но она могла узнать об этом, когда подросла, от своих родных: такие сплетни переходят из уст в уста и передаются из поколения в поколение, какой-нибудь случай мог заставить вспомнить о них. И если мой сын когда-нибудь упомянул о том, что я бывал в Тальяделе, а это естественно, и раз девушка оттуда родом, то она могла это запомнить, учесть, что я врач, что служил в интендантских частях, запомнить примерное время нашего пребывания в деревне и мое имя и сообразить, что отец ее дружка и соблазнитель Флоры могут оказаться одним и тем же лицом. Во всяком случае, можно было попробовать — написать это письмо и посмотреть, что получится. И она не просчиталась.
Во всем этом была, надо признаться, некоторая натяжка; по сути дела, я строил эту версию лишь для того, чтобы иметь хоть какое-то объяснение, каким бы невероятным оно ни казалось, и другого у меня в тот момент не было. Тогда я решил, что в любом случае главным объектом моего расследования для раскрытия загадки должна быть личность девушки. Лучше всего бы поехать в Тальядель и там, на месте, разузнать, действительно ли существует уроженка этого селения по имени Рената Жаума Мальфре и какая у нее семья, если она действительно оттуда. Кроме того, не мешало бы узнать, что сталось с Флорой, умерла ли она, как утверждала девушка, или еще жива. Но я не мог уехать из Барселоны: пришлось бы давать слишком много объяснений, а мне не приходило в голову ни одного; и, разумеется, я не мог доверить это дело сыскному агентству, о чем я вспомнил потому, что Рената сказала, будто обращалась в подобные учреждения, чтобы найти меня. Я не представлял себе, как можно доверить такое внутрисемейное дело, требующее особой деликатности, постороннему человеку, каким бы ловким и профессионально молчаливым он ни был, даже если не сомневаешься в его прекрасных деловых качествах. Что же делать? Отказаться от этой мысли?
Была еще Мария Клара. На днях она вежливо отказалась выслеживать моего сына, и теперь я понимал, что поступила Мария Клара правильно: я предлагал глупость, и ей, естественно, показалось, что это непорядочно. Но именно это ее благоразумие, которое она еще раз доказала, вело меня к мысли, что Мария Клара — единственный человек, который может помочь мне. И на этот раз она, конечно, не откажется, ведь я попрошу ее об этом лишь после того, как расскажу обо всем с полной откровенностью; она поймет, что дело серьезное, что оно грозит серьезными последствиями, и сумеет должным образом оценить мое доверие. Будь что будет, надо попробовать, и чем скорей, тем лучше; если можно, сегодня же.
На какое-то мгновение, когда я остановил машину у кафе, я испугался, что придется все это отложить, так как Бернардина и Эмма сидели с неким господином, в котором немного позже я узнал генерала Рамиру; одет он был в крестьянский костюм, из-за которого я сразу и не понял, что это он. Я не видел его лет пять, с моей последней поездки в Мадрид, когда меня наградили за то, что я возглавлял инспекционную комиссию, но он нисколько не изменился. Разумеется, пришлось пригласить его к обеду, а я знал, что он любит посидеть после обеда за десертом, но, на мое счастье, генерал отказался. Он уже был приглашен, и увидимся теперь мы не скоро: он сегодня же уезжает в Марезму, где купил хорошее имение. Мы посидели вместе минут двадцать, и должен сказать, что его разговор, как всегда благородный и умный, немного отвлек меня от моих забот. Он поведал нам, что через четыре года намерен выйти в отставку и поселиться в своем поместье, «превратиться в каталонца», как он выразился. Сам он по-каталански не говорит, но все понимает, хотя из уважения к нему мы говорили по-испански.
Его присутствие помешало женщинам заметить мою явную озабоченность, хоть разговор меня и отвлек; однако потом, когда мы вернулись домой и я увидел Алехо, я снова разволновался до такой степени, что жена спросила:
— Случилось что-нибудь? Как больной?..
Я, конечно, сразу за это уцепился.
— Неожиданное осложнение. Придется вечером опять заехать к нему.
Это было довольно необычно, но никаких возражений не вызвало.
Я заставил себя посидеть с ними за кофе, хотя предпочел бы остаться один, и наблюдал за Алехо, чье присутствие вызывало у меня глухое раздражение; я понимал, что должен бороться с подобным чувством, но сейчас это было выше моих сил. Наконец он ушел, ничего не сказав о своих планах на вечер, он давно уже говорил только о том, о чем его спрашивали, да и то через силу.
Из дому удалось вырваться около пяти. Выкурил две трубки и три сигареты почти одну за другой и почувствовал лишь горечь во рту и оскомину — наверное, обед пошел не впрок. Позвонил из бара Марии Кларе, чтобы удостовериться, что она дома. Правда, я не застал ее дома один лишь раз, но это было неприятно, и снова испытать такое мне не хотелось. Мария Клара ответила сразу и сказала, что никуда не собиралась. Была немного удивлена, что я звоню в воскресенье, единственный день, который я целиком или почти целиком мог провести с семьей.
Мария Клара открыла, как только я позвонил, я никогда не носил с собой ключи от ее квартиры, и первые слова ее были те же, что у Бернардины:
— Что с тобой, Ансельмо?
Мы вошли в столовую, Мария Клара выключила приемник, а я снова закурил, хотя во рту и без того было скверно. Сразу же начал все объяснять, слишком много накопилось, и не просто хотелось высказаться, а нужна была ее помощь в этом деле, дома они мне не помощники. Там были бы слезы, причитания, а с Марией Кларой я мог этого избежать, во-первых, потому, что она не член нашей семьи, а во-вторых, характер у нее уравновешенный.
Разумеется, она немало удивилась моим откровениям, впрочем, не таким полным, как хотелось бы: что-то мешало мне рассказать ей о моих подозрениях, вернее, о том, что я думаю о роли, которую Алехо сыграл в убийстве политического деятеля; в самый последний момент я сказал себе, что это частный вопрос и в него не следует никого мешать. Достаточно поговорить о моей предполагаемой дочери, о том, как я обнаружил ее связь с Алехо, и о том, какие сделал для себя выводы.
Мария Клара задала мне несколько умных вопросов, как того и следовало ожидать, и, когда я попросил ее поехать в Тальядель и справиться в Бюро записей гражданских актов, она тотчас согласилась.
— Ты неплохо придумал, потому что кончатся твои сомнения. Хотя, по-моему, ничего мы не выясним. По-моему, они придумали эту штуку, чтобы тебя обчистить. — И добавила задумчиво: — Никак не предполагала, что твой сын способен на такое…
— Лучше тебе ехать завтра утром, — сказал я, пресекая ее комментарии, — чем раньше мы с этим покончим, тем лучше.
Мне пришлось объяснить ей, где эта деревня и каким поездом туда ехать.
— В Тарреге возьмешь такси, оттуда до деревни километра три. Я все тебе напишу, чтобы ты не забыла.
На обороте визитной карточки я написал полное имя девушки, дату ее рождения и имя матери.
— Если найдешь что-нибудь в бюро, — сказал я, — возьми выписку… Меня больше всего беспокоит, — тут же добавил я, — эта точность, которая не может быть случайной. Я познакомился с Флорой в начале ноября тридцать восьмого, и мы были близки восьмого и одиннадцатого, как раз за девять месяцев до рождения Ренаты, если она не солгала. И я не понимаю, как она могла бы узнать эту дату, после того как прошло столько лет.
— Странно, что ты сам об этом помнишь, — восхищенно сказала она. — Я и не знала, что у тебя такая феноменальная память. Или эта крестьяночка произвела на тебя такое впечатление, что…
— Нет, не в том дело. Я освежил свои воспоминания…
И я умолк. Просто удивительно, как я не подумал об этом раньше — наверно, из-за того, что очень уж меня выбили из колеи события этого дня. Об этом надо было вспомнить в первую очередь! Мария Клара заметила, что я внезапно замолчал, немного подождала, потом спросила:
— Что ты?
— Дневник! — воскликнул я. — Во время войны я вел дневник, где записывал, все свои приключения, военные и прочие. Я его и сейчас храню, поэтому и смог уточнить, когда именно я спал с Флорой. Должно быть, мой сын нашел дневник… Теперь я все понял! Он рассказал своей подружке, и они вдвоем… Какое свинство!
В приступе возмущения я разразился бранью. Мария Клара предпочла промолчать. Она понимала, что мне необходимо отвести душу. Меня возмущала не только афера, жертвой которой сын хотел меня сделать, но и та бесцеремонность, с какой он рылся в моих бумагах и читал такие сугубо интимные записи, которые касались только меня и тех, кто со мной был связан. Я признавал, что в те смутные годы поплыл по течению и действовал порой под влиянием примера товарищей или с отчаяния, а возможно, из страха перед смертью, но никто не имел права копаться в этом моем прошлом и бросать его мне в лицо, потому что и я был тогда другим человеком, и время было необычное: мы жили сегодняшним днем, и женщины поступали так же, одурманенные запахом пороха и нашего солдатского пота.
Алехо, как видно, шарил повсюду без зазрения совести, нимало не заботясь о моих чувствах, не останавливаясь перед запертыми ящиками. Делал себе заметки, может быть, даже взял что-нибудь: письма, фотографии — невинные, конечно, не то что у него, — памятки моей молодости, порвать которые у меня не хватало духу, хотя я много лет не брал их в руки; то были свидетельства моего ученичества. Возможно, после этого подлого шантажа Алехо затеял бы другой; возможно, он задался целью загнать меня в угол, отравить мне жизнь. Но я ему этого не позволю! Я вспомнил о ящике в шкафу, в который Алехо вставил замок. Я в свое время обратил на это внимание и собирался как-нибудь проверить, что там такое, потом забыл. На этот раз вскрою без колебаний. Раз Алехо задумал покуситься на мой покой, я имею полное право защищаться.
Мало-помалу я успокоился. Возможность предпринять что-то успокаивает; хуже всего чувствовать себя как в мышеловке. Мария Клара все еще сидела на диване, как всегда тактичная и сердечная, и вид ее заставил меня извиниться.
— Прости, — сказал я. — Если б я не отвел душу, я бы лопнул.
— Я это очень хорошо понимаю, — ответила она, тронув меня за руку.
Потом сказала:
— Я думаю, теперь уж не надо ехать в деревню.
— Почему? — удивился я.
— Раз они все взяли из твоего солдатского дневника…
— Все равно. Я хочу, чтобы совесть моя была чиста.
Возможно, это было неразумно; но, если разобраться, у меня не было доказательств, что Алехо действовал именно так, как я себе представлял, исходя из фактов, а допрашивать его было бесполезно, потому что верить ему я уже не мог. Я должен был провести расследование самостоятельно, удостовериться, что у Флоры не было никакой дочери или если и была, то не Рената. Ну а если уж это все-таки она, то грех его еще страшней…
IV
Джози вешает трубку, смотрит на меня и, качая головой, возвращается за стойку.
— Не она…
Снова берусь за книгу, но спустя мгновение поднимаю голову.
— Дай мне кофе.
За столиком в глубине зала молодой Кабанес, часто наезжающий из Матаро, играет руками Эужении. Лола Мари, у которой нет пары, встает и бродит взад-вперед мимо этих двух щенков, которых раньше здесь никто не видал. Пока что они только потягивают пиво и посматривают краешком глаза.
— Что ты читаешь?
Ответа Лола Мари не ждет. Идет к крайнему висячему сиденью, садится и качается. Слышу, как она жалуется:
— Что это сегодня никто не приходит?
Но во внутреннем зале уже сидят три парочки.
Я опять утыкаюсь в «Молот», который утром дал мне почитать Кортет. «Попилс» не самое подходящее место для чтения такой книги, но все-таки как хорошо пишет Сарсанедас[9]! Мне бы так!
— Пожалуйста.
Джози ставит передо мной чашечку кофе и садится.
— Что ты читаешь?
Все спрашивают одно и то же. Не стоит отвечать. Потом она говорит:
— Наверно, позвонит попозже…
— Она вчера должна была позвонить.
— Ты ж знаешь, как это бывает.
— Не знаю. Как?
Она смеется, подталкивая легонько меня локтем.
— Ну, ты силен!
Входит Бокал. У него, конечно, другое имя, но он действительно похож на высокий бокал.
— Привет.
Джози встает.
— Где ты был столько дней?
— Недалеко…
Лола Мари забралась на стойку и села нога на ногу. Щенки уставились как баран на новые ворота.
— Дай мне чего-нибудь, Джози…
Помешиваю кофе, не поднимая глаз от книги; Бокал садится рядом со мной.
— Скучаешь, а?
Вытаскивает пачку сигарет, протягивает мне.
— Я уже курю.
— Ах, да!
Но моя сигарета догорает в пепельнице.
— Косматую не видал?
— Говорят, больна.
— Шутишь!
Джози из-за стойки подтверждает:
— Со вчерашнего дня. Грипп, наверно.
Бокал качает головой, бросает взгляд на Лолу Мари.
— Эй, опусти занавес.
— Тебе не нравится декорация?
Щенки смеются, хотя не громко, боятся пропустить какую-нибудь сцену из спектакля. Бокал отвечает:
— Чересчур нравится.
Она соскакивает, сверкнув телесами, протягивает руку к стакану, который Джози поставила рядом с ней.
— Чего ты мне налила?
Берет стакан и идет к столику, за которым сидит Бокал, садится.
— Расскажи что-нибудь.
— Вон его попроси, он все читает.
Она смотрит на обложку книги, которую я оставил на столике.
— Что за муть? Может, сообразим что-нибудь?.. Сыграем?
— Что? Меня облапошить хочешь? Я еще не забыл, как в прошлый раз…
— Да ты ничего и не проиграл!
— Вот как? Вы с Мончи поделили… А где она сегодня?
— Еще не пришла.
Кто-то негромко зовет из внутреннего зала, и Джози выходит из-за стойки. Мы все провожаем ее взглядом.
— С каждым днем хорошеет…
Он прищелкивает языком, смотрит на нас. Лола Мари разглядывает свои ногти. Потом просит:
— Дай сигарету…
Бокал вынимает пачку и, когда Джози возвращается, встает и идет к стойке. Лола Мари бросает:
— Будто ты ее никогда не видал.
— Может, и нет.
— Как это «нет»?
— Не разглядел как следует.
Она пожимает плечами, потом спрашивает:
— Когда вернется Рена?
— Не знаю. Должна позвонить.
Она курит и смотрит на меня, прищурив глаза.
— Вы с ней, чего доброго, поженитесь.
— Почему?
— Очень уж вас забрало.
— Ты-то откуда знаешь?
Она не обижается, наоборот, на губах ее играет улыбка.
— Да это сразу видать. Когда ты здесь, она с тебя глаз не сводит. А про тебя и говорить нечего…
Отпивает немного и добавляет:
— И это очень хорошо… У меня тоже был парень. Тогда мне не было так скучно.
— И что с ним стало?
Она кривит губы, пожимает плечами.
— Что бывает с парнями? Как пришел, так и ушел. Видно, женщин слишком, много.
Беру книгу и медленно закрываю ее.
— Или же есть парни, которые хотят, чтобы женщина была только их.
— Я такой и была.
— Должно быть, давненько.
Она как будто удивлена; смотрит на меня, потом снова подносит к губам сигарету.
— Что-то я тебя не поняла…
— Чего не поняла?
— Того, что ты сказал. Я знаю, что я не маленькая, но не так уж я стара, как тебе кажется. Просто ты сам еще очень молодой. Как ты думаешь, сколько мне лет?
— Не знаю. Двадцать шесть.
— Двадцать пять. И я еще крепкая, как наливное яблочко.
— Это видно. Я всегда считал, что ты девица с огоньком.
Но она, кажется, не польщена.
— Да, но… Что толку?
Пьет, и в это время звонит телефон. Джози смотрит на меня через плечо Бокала, но ничего не говорит; идет к телефону. Я гляжу на часы — десятый. Лола Мари говорит:
— Иногда мне бывает грустно…
Я не свожу глаз с Джози, и Лола Мари умолкает, тоже смотрит в ту сторону. Я слышу:
— Рена?.. Да…
Я встаю, а она продолжает говорить:
— Да, здесь… Весь вечер тебя ждет… Сейчас подойдет.
Отдает мне трубку, я подношу ее к уху.
— Рена?…
— Алехо… Я боялась, что ты ушел.
Я говорю:
— Я и вчера был здесь, но ты не позвонила.
— Не могла, потом расскажу…
— Скажи лучше — забыла.
— Нет, уверяю тебя.
— Как твоя мать?
— Все в порядке.
— Так когда ты приедешь?
— Завтра. Если захочешь встретить, поезд приходит в одиннадцать.
— Хорошо.
— Скажи Мончи, что я приезжаю.
Я молча жду.
— Ты ничего больше не хочешь сказать мне?
— А что?
— Сама должна знать.
— Что я тебя люблю?
— Да.
Она смеется, но смех ее деланный.
— Ты и так это знаешь.
Снова молчание.
— Алехо…
— Да… Что-нибудь случилось?
— Почему ты об этом спрашиваешь?
— Не знаю. Ты какая-то странная.
Но она лишь говорит:
— Завтра увидимся. Придешь?
Я медленно вешаю трубку и не отхожу от телефона.
— Еще не приезжает?
Это снова подошла Джози.
— Приезжает. Завтра. Скажи Мончи.
— Ты сегодня больше не придешь?
— Нет.
Шарю в карманах, протягиваю ей деньги.
— Получи и за ту гадость, что пила Лола Мари.
Она уходит за стойку, а я возвращаюсь к столику, забираю книгу. Лола Мари поднимает глаза.
— Не очень-то вы разговорились…
— Да, не очень. За твою заплачено.
— А, спасибо… Я тоже ухожу.
Она бросает взгляд на щенков; пожимает плечами. Потом встает и идет со мной к стойке.
— Если ты питаешь надежду, что я тебя провожу, так машины у меня нет.
— Разве я что-нибудь сказала?
Джози отдает мне сдачу.
— Ты как будто не очень доволен.
— Да? Так я же интровертный тип.
Бокал смеется.
— Что он сказал?
И оборачивается к Джози.
— Этот всегда шутит с серьезным видом.
— Когда-нибудь поговорим. Когда будут два воскресенья на одной неделе, как сказал Русиньоль[10] Мигелю де Унамуно.
— Что это он говорит?
Лола Мари поясняет ей:
— Ты его никогда не поймешь.
Потом идет со мной к двери. Выходим на улицу. Я останавливаюсь закурить.
— Тебе куда?
— В другую сторону. Я живу на улице Нумансия, в пансионе.
— Неудивительно, что тебе бывает грустно.
— Что ты хочешь этим сказать?
Но я уже шагаю прочь, махнув ей на прощанье рукой. — Она стоит, качая головой, стройная, на очень высоких каблуках, слегка расставив ноги. Внезапно мне приходит на память строка из Сен-Жон Перса[11].
«Portant, sous le nylon, l’amande fraiche de leur sexe…[12]»
Я твержу ее до самого дома.
Семья. Четыре человека, привычно не знающие ничего друг о друге. Мать рассказывает что-то о благотворительном обществе, но лучше ее не слушать. Тетушка спрашивает:
— У тебя нет аппетита?
— Я перекусил.
Она оборачивается к отцу:
— Мальчик мало ест.
Но отец кажется рассеянным, озабоченным. Наверно, повздорил с Марией Кларой. Он, конечно, не догадывается, что мне известны его похождения. Каждый что-то скрывает. Кроме матери — она ни рыба ни мясо.
— Он растет и много занимается, у него может развиться анемия.
Отец выходит из своей задумчивости.
— Я думал, Эмма, что врач в нашей семье — это я.
— Но ты же знаешь поговорку про сапожника без сапог…
— Не преувеличивай. К тому же Алехо всегда был крепким.
— Все бывают крепкими, пока не ослабеют.
Вот тоска-то! Лучше заботилась бы о своем здоровье, а меня оставила в покое. В ее возрасте ей наверняка надо бы хоть изредка встречаться с мужчиной. И не предаваться любовным грезам в одиночку.
— Ты в последнее время измерял свой рост?
Я отвечаю:
— Каждый день по два раза. С чего ты взяла, что в девятнадцать лет еще растут?
Отец изрекает:
— Расти можно примерно до двадцати двух лет… Это зависит от обстоятельств.
— От чего именно?
— От организма, его желез…
— Бывает, в девяносто лет зубы прорезаются.
Мать смеется.
— Как ты любишь преувеличивать, сынок!
— Я в газете читал. У какого-то американца. Такие вещи всегда случаются в Америке.
— Нет, я серьезно… За прошлый год ты намного вырос.
— Просто каблуки стали носить выше.
— Что ж, если мы все высмеиваем…
Никто, конечно, не смеется над всякой ерундой, над вещами дурацкими, бессмысленными. Их надо бы тоже вытаскивать на свет божий, чтобы на воздухе они скорей сгнили. А то уже давно повсюду пахнет гнилью.
Мать глядит на часы.
— Включи, пожалуйста, радио.
— Зачем?
— Сейчас будет конкурс «Кто быстрей ответит?».
Будем просвещаться. Будем просвещаться, потому что трапеза закончена, остался только десерт. Включаю радио и иду к двери.
— Куда ты?
— У меня много работы.
— Разве она не может подождать?
Тетка говорит:
— Спокойнее надо, спокойнее.
— Я вам это напомню, когда вы будете куда-нибудь собираться и носиться как угорелые… и в конце концов все-таки опоздаете.
Мать оборачивается к отцу:
— Не забудь, что мы собирались пойти в театр «Талиа».
— Хорошо, я возьму билеты.
Смотрит на меня.
— Ты пойдешь, Алехо?
— Нет, я…
— Тсс!
Началась программа:
«Продукты Энзе, знаменитые экстракты…»
Я исчезаю.
Шум доносится и через закрытую дверь, но лишь как жужжание. На фоне музыки. Снова раскрываю «Молот», потом встаю, иду в уборную. Соседи, как видно, тоже просвещаются, потому что я слышу:
— Как называются люди, обитающие на противоположной стороне Земли?
— Антиподы.
— Две секунды! В Соединенных Штатах есть город, знаменитый своими бойнями… Как он называется?
— …Чикаго.
— Пять секунд! На каком языке говорил Иисус?
Молчание. Удар гонга.
— Кто автор «Божественной комедии»?
Тяну за цепочку, и шум льющейся воды заглушает ответ. Выходя, слышу, как мать говорит:
— Только на один не ответили. Он говорил на еврейском, да?
— Наверное…
Я кричу:
— На арамейском!
Снова захожу в свою комнату, на этот раз, только чтобы закрыть книгу. Сейчас мы повторим обычную сцену. С порога столовой я говорю:
— Я пойду погуляю…
Отец, сидящий у приемника, быстро поднимает голову.
— Опять?
Мать:
— Разве ты не собирался заниматься?
Мне даже не дают ответить, потому что отец заводит свою пластинку. Мог бы записать, чтоб каждый раз не трудиться:
— Так нельзя, Алехо, ты живешь вне дома. Не знаю, почему ты такой… Кроме того, мне не нравится это твое перескакивание с одного на другое: ты как будто никогда не знаешь, чего хочешь. Если надо учить, учи…
— Я иду только выпить кофе, на полчаса.
— Ну и что же… Все равно так не делают. А кофе можешь выпить и дома.
— Скоро вернусь, — заверяю я.
Ретируюсь, а он все ворчит:
— Так продолжаться не может. Если бы мы в принципе…
Я уже не слушаю, иду по коридору. Тихонько закрываю за собой дверь.
На лестнице темно, автоматика не работает. Вечно ломается то одно, то другое. И за это отдали полмиллиона.
Я опоздал на последний автобус, и мне приходная идти на улицу Мунтане, где сажусь на двадцать третий. Трамвай почти пуст. Качаясь, мчится на полной скорости. Какая-то девушка и я долго глядим друг на друга в оконное стекло; потом я отворачиваюсь. У нее только колени красивые. И глаза, конечно.
— Далеко едете?
Сажусь рядом с ней, она отводит взгляд. Протягиваю ноги под переднее сиденье.
— Всякий раз как я еду, слышу, как кто-нибудь задает этот вопрос. А так как сегодня никто его не задает…
Она не отвечает, смотрит на проносящиеся мимо дома.
— Когда приходится ехать, желательно иметь хороших попутчиков, общительных. Бывают люди, которые никогда не разговаривают, уткнут нос в книгу и читают, читают… Это неприятно, правда?
В ответ, разумеется, молчание.
— Бывают и такие, которые глядят в окно, будто их интересует пейзаж. А он вовсе и неинтересный. Все пейзажи похожи один на другой. А еще бывают пейзажи с коровами. Сам я, правда, никогда не видал… Но говорят…
Теперь она слегка улыбается, все еще отвернувшись к окну.
— Конечно, на это не стоит обращать внимания. Бывают люди, которые и в пути навоображают невесть что. Один мой друг уверяет, что как-то видел козу… Невероятно, не правда ли? Наверно, он по ошибке попал в зоологический музей.
Делаю паузу, опускаю глаза и смотрю на ее ноги.
— Когда я путешествую, мне, откровенно говоря, больше всего нравится, смотреть на коленки. К счастью, я родился в прекрасное время. Представьте себе, какая была бы трагедия, если б я жил, когда наши бабушки закрывали даже щиколотки… Я содрогаюсь от одной только мысли об этом.
Она качает головой, улыбается пошире и, видимо, скоро повернется.
— Впрочем, коленки наших бабушек представляют лишь относительный интерес, археологический… Если подумать как следует, у них, пожалуй, коленок и вовсе не было…
Еще немного, и она засмеется. Но мы уже приехали на Гран-Виа, и я встаю. Поклонившись, добавляю:
— Мне выходить. Жаль. Мы только что нашли общий язык…
Она говорит:
— Я тоже выхожу.
Идем на площадку, и, когда двери открываются, я пристально смотрю на нее и заявляю:
— Так и знал! Опять легкая победа!
И выхожу, даже не взглянув на нее.
Не оборачиваюсь, пока не оказываюсь на тротуаре, и оттуда вижу, как она идет по центральной аллее, худенькая и невзрачная, обиженная. И вдруг я чувствую, как краснею от стыда.
У дверей бильярдной встречаю Серра и Монфульеду, но чуть ли не обхожу их стороной.
— Эй ты, блудный сын!
— О!
Монфульеда закуривает сигарету. Я спрашиваю:
— Кто внизу?
— Никого.
Но народу полно. Серра говорит:
— Ты с кем сцепился?
Я инстинктивно прикладываю руки к щекам:
— А что?
— Да у тебя такое лицо…
— Я приставал к девушке.
Они переглядываются, смотрят на меня.
— У этого парня винтики не в порядке.
— Смейтесь!
Выходим на улицу и останавливаемся.
— Что ты, спросил ее, не хочет ли она переспать с тобой?
— Да нет. С вами не бывает такого: вот вдруг захочется обидеть кого-то, оскорбить, унизить?..
— Ну, парень, не знаю, что тебе и сказать…
Монфульеда берет нас под руки.
— Пошли, а то холодно.
— Мне тоже.
— Это оттого, что иногда надо сбросить пар. Давление поднимается, понимаешь?.. Другие делают это иначе.
— И чему ты удивляешься?
— Я просто тебе рассказываю.
Серра становится серьезным. Останавливается.
— Я тебя понимаю. Мы все совершаем кое-какие поступки… но не всегда такие, которые обижают или, как ты говоришь, унижают других, только поступки эти выглядят необычными, да и на самом деле они необычные. Все же причину тебе надо бы знать.
Монфульеда двигает рукой, в которой держит сигарету.
— Я не делаю ничего такого.
— Делаешь. А кто написал своим родителям письмо, будто тебя убили?
— Ну, это ж была шутка…
— Хороша шуточка… Не знаю. Все кажется шуткой, а на самом деле это, может, и не так. Это они, старики, так думают, а мне так кажется, что нам бывает очень уж нехорошо, и мы защищаемся как можем.
Я наклоняю голову, соглашаясь.
— Да, так оно и есть.
— Конечно. Не знаю, задумывались ли вы когда-нибудь над этим… Но если бы мы жили в открытом обществе…
— Не будь педантом.
— Дай же мне объяснить, черт побери! Если бы мы жили в открытом обществе, мы могли бы самовыражаться как свободные люди: излагать свои взгляды, свои устремления в организациях, в ячейках или как их еще там! Всегда так делалось, разве не правда? Мы говорили бы в полный голос. А теперь — молчим. Нам дают направление, нам указывают путь, один для всех, и вперед, шагай, хочешь ты или нет.
— На нас как будто напялили форменную одежду. Все должны думать одинаково. Это ясно.
— Так вот, понимаешь? Раз нам закрыли пути, которые им не нравятся, мы выражаем свое несогласие в экстравагантных выходках, в поступках, которые могут показаться бессмысленными. Некоторые из нас доходят даже до преступления.
Монфульеда прерывает его:
— Пошли выпьем кофе…
Тот смотрит на часы:
— Только стоя, я спешу.
Я говорю:
— Должно быть, так и есть. Так как создавать нам ничего не дают, мы принимаемся разрушать. Отрекаемся от всего, от таких вещей, которые в другое время мы бы приняли…
— Конечно.
Заходим в открытую дверь и выстраиваемся вдоль стойки, за которой стоит румяный безбородый бармен.
— Три кофе.
Монфульеда встряхивает головой, отбрасывая непокорную прядь, сползающую ему на глаза, и говорит:
— Так вот, я не знаю, можно ли этим объяснить все. Насколько нам известно, в других местах тоже хватает нонконформизма, и там они могли бы себя выражать конструктивно, но этого почему-то нет. Социологи говорят, что преступность среди молодежи…
— Подожди. Ты заметил? Старики правят миром, и делают это железной рукой.
— Послушай, в Соединенных Штатах президенту…
— Знаю. Ему сорок лет. Но там они одержимы страхом перед коммунизмом. И еще заметь такую вещь: Соединенные Штаты — это не старая нация.
— Брось! Все мы знаем…
Но тот прерывает:
— Мы не знаем ничего. Бывает, люди старятся раньше времени. Знаешь, когда можно считать страну старой? По-моему, когда она не стремится к обновлению, когда считает, что достигла всего, и довольствуется тем, что есть. Понятно, что молодежь с этим не согласна. Но что она может сделать? Все кричат: «Коммунизм, коммунизм!» — и цепенеют от страха.
— Не знаю… Может быть, нам не хватает рассудительности.
— Если разобраться, ее всегда будет не хватать.
Серра тянется к чашечке с кофе. Монфульеда вроде бы еще не убежден.
— Будь так, никогда ничего бы и не менялось. А все меняется, и не только формы правления, но и сами люди, их идеалы…
— Это ясно. Давление растет. И в один прекрасный день котел взрывается. И тогда все начинается сначала. Другой круг, но такой же точно…
— Вижу, ты в душе скептик.
Пьем кофе.
— Все мы скептики. Но это не должно мешать нам пытаться что-то сделать. Ты видел, что произошло сегодня днем.
— Ты имеешь в виду подписи?
Я ставлю чашечку и спрашиваю:
— Какие подписи?
— Ах да, тебя не было. Мы в конце концов решили не проводить никакой подписки и вместо этого собрать подписи. Как обычно: работники умственного труда, люди искусства, словом — творцы зла!
Он смеется, Монфульеда тоже. Я возражаю:
— Но можно было сделать и то, и другое!
Серра презрительно замечает:
— Собрать подписи легче. Никто ничего не отдает. Зашел к одному, к другому — и все дело.
Молча допиваем кофе. Серра оборачивается ко мне:
— Так что, видишь? Тебе не о чем беспокоиться. Ты совершенно нормален.
Но я продолжаю наступать:
— А те, кто ничего не делает, они как? Ненормальные?
— Нет, они тоже нормальные. Только не совсем живые.
Вытаскивает из кармана несколько монет, кладет на стойку.
— Получите.
Мы разрешаем ему расплатиться. Он всегда при деньгах. Я говорю:
— Это всё слова.
— Нет, милый. Посмотри вокруг. Каждый ищет равновесия по-своему. Одни помешаны на футболе, другие с головой уходят в работу, какой незначительной она ни была, а ты и, может быть, все мы возмещаем крушение своих надежд антиобщественными поступками… Как бы там ни было, надо искать равновесия. Я теперь говорю с точки зрения, которую можно было бы назвать биологической, верно?
— Одно дерьмо!
Он берет сдачу, оставляя одну монету, улыбается:
— Вот видишь? Опять-таки равновесие…
Отходим от стойки, и я восклицаю:
— Больше всего меня злит в тебе то, что ты веришь, будто все можно объяснить.
— И ты тоже веришь.
Монфульеда замечает:
— Самая закавыка в том, что если бы обстоятельства были другими, то и мы были бы не такими. Пожалуй, что-то есть в этих теориях…
— Не знаю. Только мне кажется, что мы, собственно говоря, отличаемся завидным здоровьем. Все тела, обладающие хорошей реакцией, здоровы.
Выходим на улицу; дует ветерок.
— Но самыми здоровыми должны быть те, кого болезнь вообще не коснулась.
— Нет. Или, во всяком случае, по-другому.
Я улыбаюсь, пока мы переходим на аллею.
— Монфульеда сказал, что ты скептик. Я думаю, на самом деле ты — оптимист.
— Все мы оптимисты. С того момента, как пробуем хоть что-нибудь сделать…
Монфульеда взрывается:
— Собрать подписи!
— Что бы ни было, лишь бы начать.
Смотрит на часы.
— Ну, я вас покидаю. Иду на площадь Испании.
— Я тоже туда. А ты что будешь делать?
— Пойду спать.
— Завтра придешь?
— Не знаю. Может быть, днем.
— Тогда увидимся.
— Пока.
Расходимся, и я, засунув руки в карманы, шагаю к Университетской площади. Двое полицейских в мундирах дежурят у входа в метро. Пейзаж с фигурами. Блевать хочется.
Поезд прибывает с опозданием на десять минут. Набитый. Рената улыбается мне из окна, закрытого, потому что холодно. Потом становится в хвост на выход, выскакивает на платформу.
— Привет, Алехо.
— Рена…
Наклоняюсь к ее лицу, хочу поцеловать, но она отворачивается и подставляет мне щеку. Я спрашиваю:
— Ты без вещей?
— Без всего. Зачем? Поищем такси.
Отделяемся от группы пассажиров, ожидающих свой багаж, идем на угол.
— Ты меня проводишь?
— Да.
Сжимаю ее руку выше локтя, ищу ее глаза, но они как будто убегают от меня.
— Почему ты убрала губы?
Она не отвечает; помолчав, говорит:
— Мне надо с тобой поговорить, Алехо.
— Что-нибудь серьезное?
— Почему ты решил?
— По тому, как ты держишься со мной. Посмотри на меня…
Но она поднимает руку, подзывая такси.
— Я еще вчера по телефону услыхал, что ты какая-то странная.
— Дома поговорим.
Открываю дверцу затормозившего перед нами такси, сажусь вслед за ней, и мы оба откидываемся на сиденье.
— На улицу Рокафор…
Она оправляет юбку, и я вижу, что ее ногти немного запущены.
— Ты не взяла с собой маникюрный прибор?
— Я не подумала об этом.
Просовываю руку ей за спину, пытаюсь привлечь к себе, но она противится.
— Не надо, Алехо…
— Почему? Разве ты не понимаешь, что мне тебя не хватало?
Она не отвечает, смотрит на свои руки, лежащие на коленях.
— Что ты хотела мне сказать?
— Потом скажу. Когда приедем.
— Почему не сейчас?
— Нельзя.
Немного отстраняюсь, наклоняю голову.
— Догадываюсь. Ты уезжаешь в Аграмун.
— Нет. Что мне там делать?
Такси поворачивает, и я валюсь на нее.
— Ты сделала что-то нехорошее и боишься сказать мне?
— Разве я всегда не рассказывала тебе все?
— Да, это правда. Посмотри на меня.
Она поднимает глаза, и я вижу в них только горечь. Настаиваю:
— Да что случилось? Нельзя же так меня мучить…
Она кладет голову мне на плечо.
— Лучше б я не ездила в Аграмун…
— Но почему? Что-нибудь с твоей матерью?
Она качает головой.
— Значит, с нами?
— Да. Пока не спрашивай что.
Такси выехало на улицу, по которой идет довольно быстро. Тормозит у перекрестка, снова разгоняется. Рената говорит:
— А ты? Что ты тут делал?
— Ждал тебя. Почему ты не позвонила в первый день?
— Не смогла.
— Я просидел в баре до ужина, потом снова вернулся. Подумал, с тобой что-то случилось.
— Ничего.
— Нет, все-таки случилось.
Она не спорит, голова ее по-прежнему на моем плече. Я успокаиваю ее.
— Мы же здесь вдвоем, ты и я.
Касаюсь пальцами ее лица, глажу щеку, дотрагиваюсь до губ.
— Рена…
— Что?
— Ты больше меня не любишь?
Она трется щекой о мою руку.
— Нет, Алехо, я тебя люблю…
Но тут же выпрямляется, отодвигается на другой край сиденья и наклоняется вперед — такси остановилось. Шофер говорит:
— Здесь, да?
— Здесь.
Смотрю на счетчик: пятнадцать песет. Отсчитываю шестнадцать, пока она открывает дверцу.
— Пожалуйста.
Выхожу за ней на тротуар и, остановившись на мгновение, смотрю Ренате вслед: она идет к парадному своей изящной походкой. Оборачивается; такси уезжает.
— Ты что?
Она не может не улыбнуться.
— Никогда не видал?
Подхожу к ней, киваю.
— Видал, но сейчас у меня такое впечатление, что, может быть, больше и не увижу.
Она колеблется, выражение ее глаз меняется, она снова идет к парадной. Открывает. Привратница в своей клетушке расплывается в приветливой улыбке.
— О, сеньорита Рената!
— Привет, Эльвира.
— Не ждала, что так быстро вернетесь. Как ваша мать?
— Спасибо, ничего страшного.
— Я очень рада.
Она провожает нас до лифта; для меня корчит какое-то подобие улыбки, как обычно.
— Нетрудная была дорога?
— Нет. Это недалеко.
— И то верно.
Открывает нам дверь и повторяет:
— Я так рада, что все хорошо…
Закрывает дверь и нажимает кнопку. Мы с Ренатой смотрим друг на друга, стоя в разных углах кабины, потом я протягиваю руку и почти грубо привлекаю ее к себе и впиваюсь в губы.
— Не надо, Алехо!..
Она сопротивляется, прячет лицо, а встретив мой взгляд, умоляет:
— Подожди, ради бога, подожди!
Я тяжело вздыхаю и с горечью говорю:
— Никогда не думал, что настанет такая минута.
Не отвечая, она поворачивается к двери, ждет, пока лифт остановится. Молча выходит, я захлопываю дверцу, но забываю послать его вниз.
Перед дверью квартиры она начинает рыться в сумочке; я вытаскиваю из кармана ключ, открываю и уступаю ей дорогу. Идем друг за другом по коридору. Прежде чем войти в столовую, она толкает дверь спальни, мы входим, и она идет к столу. Комната залита светом.
Стою у косяка, не говоря ни слова, и наблюдаю за ее движениями, словно она — незнакомая мне девушка. Она бросает сумочку на кровать, подходит к столику, приподнимает лампу «тюльпан» и вытаскивает из-под нее бумагу. Оборачивается ко мне:
— На, читай.
Мы стоим посреди спальни, читаем по очереди листок. Это письмо. Письмо из дому, которое я сам ей передал. Читаю его от начала до конца; смотрю на подпись — оно от брата. С удивлением поднимаю на нее глаза.
— Он не пишет, что твоя мать больна.
— Она здорова.
Я открываю рот, смотрю на нее. Машинально складываю письмо и бросаю на кровать.
— Я не хотела лгать тебе, но пришлось.
— Зачем?
Мы говорим медленно, стоя неподвижно друг против друга, живут лишь, наши глаза и губы.
— Мне надо было задать ей один вопрос, Алехо. О твоем отце.
— Что ты несешь!
— Когда ты рассказал мне все это, мне показалось, что слишком уж много тут совпадений. Имя, дата, название деревни…
— Подумай, что ты говоришь!
Она поднимает руку.
— Подожди. Я вспомнила одну вещь, о которой тебе не сказала. Как-то раз, когда мне было лет девять, мы с матерью поехали в ее деревню, где тогда еще жила ее двоюродная сестра. Был какой-то праздник. Как-то раз соседка у нее спросила: «Это дочка солдата?» Или что-то вроде, точно не помню… Но смысл был именно такой.
Я сел на кровать. Рената стоит. Свет как будто померк.
— А твоя мать?
— Я и поехала спросить ее об этом.
— И, как я вижу, она сказала «да».
Рената качает головой.
— Она сказала «нет».
Я пытаюсь подняться, но она наклоняется над кроватью, берет сумочку, открывает ее.
— Подожди.
Вытаскивает сложенный вчетверо листок и подает его.
— Посмотри.
Пока я читаю, она поясняет:
— Не знаю почему, но я ей не поверила. Она клялась и божилась, что я дочь моего отца, Жаума; что ничего у нее не было ни с каким солдатом… Ничего ей не сказав, я взяла машину и поехала в Тальядель. Поэтому тебе и не позвонила. И получила вот это…
Это запись о ее рождении.
— Сам видишь. Рената Мальфре Гомис, дочь Флоры Мальфре Гомис, незамужней, и неизвестного отца.
— Тут не так сказано.
— Все равно. Отсутствует имя отца, указано, что мать не замужем… Мне разрешили заглянуть в книгу записей, и на полях я увидела пометку об удочерении Жаума и смене фамилии.
Держа бумажку перед собой, читаю ее снова и снова.
— Я вернулась в Аграмун… Хоть это было уже и не нужно, пошла посмотреть запись о браке. Моя мать и Жаума вступили в брак шестнадцатого марта сорок первого года, когда мне было уже почти два года.
Она умолкает, бросает сумочку, которую держала в руках. Я все смотрю на свидетельство о рождении, не видя его.
— Я еще раз поговорила с матерью, показала ей эти бумаги…
— И она призналась?
— Нет. Уперлась и твердила, что я дочь Жаума, что они были близки до свадьбы. Заявила, что, кроме Жаума, не знала ни одного мужчины. И с этого я ее сбить не могла.
Теперь я поднимаю глаза.
— А этого не могло быть?
— Могло, конечно. Но могло и не быть. Жаума нет в живых, и спросить не у кого…
— Ты назвала ей имя солдата?
— Да. И напомнила ей, что, когда я была маленькая, об этом же говорила незнакомая женщина.
— И?..
— Она говорит, что я не так поняла, что-то спутала… Но есть еще и все остальное. Много, слишком много совпадений.
Я с трудом глотаю слюну.
— Так ты убеждена, что мы — брат и сестра?
— Не знаю… То одно подумаю, то другое. Но теперь уже нам нельзя, как раньше…
Она садится рядом со мной, берет меня за руки.
— Пойми меня, Алехо. При таких сомнениях…
Но я качаю головой:
— Я в это не верю.
— Но эта бумага…
— Это я понимаю. Но сколько солдат во время войны оставили девушек беременными. Это был бы слишком редкий случай… И кроме того, мы с тобой ни в чем друг на друга не похожи. Ни по внешности, ни по характеру.
— Многие братья и сестры не похожи друг на друга.
Я продолжаю:
— И твоя мать сказала, что нет. Для чего бы ей отрицать?
— Не знаю. Этого я никак не могу понять… Меня больше всего настораживает то, что она даже не удивилась. Только возмутилась, огорчилась.
— Вот видишь?
Не спеша я рву бумажку надвое, потом на четыре части. Она поначалу делает движение, чтобы помешать мне, но убирает руку.
— Это ничего не меняет.
Бросаю клочки на пол.
— Ничто ничего не меняет.
— Да… Не надо мне было ехать в Аграмун, но теперь…
Оборачиваюсь к ней, беру ее за руки.
— Рена, мы любим друг друга… Мы любим друг друга как мужчина и женщина.
Она сникает.
— Но теперь мы не имеем права на близость, хотя я люблю тебя.
Я зло оскаливаюсь:
— Как сестра, да?
Она открывает рот, но я не даю ей ничего сказать, кричу:
— А я этого не хочу! Для меня ты женщина, ты моя…
Протягиваю руки, дотрагиваюсь до нее, но она уклоняется, отступает.
— Нет, Алехо, нет!..
— Я внушаю тебе отвращение?
— Нет, не знаю… Я боюсь, это нехорошо…
— Да почему? Этот документ ничего не доказывает. Я верю твоей матери.
— Я бы тоже хотела, но не могу…
— Не хочешь! Не может быть, чтобы мы были брат и сестра.
— Ну, а если да, Алехо… если все-таки это правда?
— Нельзя все ломать из-за одного только сомнения, подозрения.
Она жалобно говорит:
— Мы можем любить друг друга.
— Я тебя уже спрашивал: как?
Я снова протягиваю руки и пробую привлечь ее к себе.
— Рена… Я и через тысячу лет не смогу смотреть на тебя как на сестру. Даже если бы я в этом был совершенно уверен. Ты не могла быть для меня сестрой. В душе не могла бы.
— Я знаю.
— Ты думаешь, легко забыть все, что было между нами, если мы любим друг друга?
— Нет, я знаю, что нет.
— Если б еще ты была уверена в этом, тогда имело бы смысл прекратить все, и я бы как-нибудь преодолел себя, а так речь идет только о предположении, которое противоречит действительности… Нашей действительности, Рена, той, что сблизила нас и заставила любить друг друга так, как мы любим. — Нежно ласкаю ее. — Я хочу тебя, Рена, и ты меня хочешь. У нас с тобой только и есть что эта наша любовь. И если мы теперь ее разрушим…
— Замолчи, Алехо, замолчи. Дай мне немного времени.
— Для чего? Именно сейчас, сию минуту мы должны решить, что мы такое друг для друга. Время ничего не уладит.
— Я могу снова поехать к матери, объяснить ей положение вещей. Тогда она, может, скажет правду.
— Она сказала тебе правду, Рена.
— Если бы я могла этому поверить! Но у меня здесь такая тяжесть…
Она кладет руку на грудь и смотрит на меня.
— Я такая несчастная!
Глаза ее полны слез, сверкают лихорадочным огнем.
— Но мои чувства к тебе прежние, Алехо. Ты прав, этого забыть нельзя…
— Нет, нельзя. И мы не хотим забывать.
Как-то незаметно я снова заключаю ее в объятия, и на мгновение мы стискиваем друг друга, будто хотим раздавить. Она нежна и податлива и все же вскоре отталкивает меня мягко, но решительно.
— Теперь тебе лучше уйти, Алехо…
Приходится согласиться. Слегка касаюсь ее губ своими — как знать, не в последний ли раз? — сжимаю ее руку, которую все еще держал в своих, и быстро иду к двери. И пока не выхожу на улицу, у меня из головы не идет, что она ведь не так молода, как кажется, что тогда она мне соврала, а теперь, оказывается, ей почти двадцать три года. Но от этого я люблю ее не меньше. Я старше и сильнее.
V
До вторника я не сумел осуществить свое намерение вскрыть ящик Алехо. Эмма сказала, что идет в парикмахерскую, откуда она обычно приходила поздно, а у Бернардины было собрание дамского благотворительного общества, которое раньше половицы девятого не кончится. У меня прием в тот день оказался не очень тяжелым: всего четверо больных и девушка, которая на днях приходила провериться, не рак ли у нее. Гистологический анализ дал вполне благоприятный результат, и я сказал, что ей требуется только постоянное наблюдение; затвердение в груди я снова прощупал. Она в значительной мере успокоилась, когда я изложил ей на понятном для нее языке заключение гистолога, и мы договорились, что она придет на следующей неделе, чтобы проверить, сохранился ли симптом, и, если это будет так, принять надлежащие меры. У других пациентов заболевания были несложные: гастроэнтерит, разыгравшийся, по-моему, на нервной почве; синусит под вопросом — больного с ним пришлось направить к отоларингологу; цветущая аллергия с характерным отеком и онемением лица и сопутствующими явлениями крапивной лихорадки — в общем, все это можно было снять хорошими антигистаминными препаратами; да еще юноша с признаками анемии, несмотря на цветущий вид…
К половине седьмого я закончил прием; вернее, когда я прощался с последним больным, явился еще один, и я его сразу же принял. А потом распорядился, чтобы сестра не пускала ко мне больше никого. Такое решение было необычным, и она посмотрела на меня удивленно, но проявила достаточно такта, чтобы не задавать вопросов, и, не дождавшись от меня никаких объяснений, ограничилась обычным:
— Хорошо, доктор.
Незнакомый пациент отнял у меня довольно много времени. Мне пришлось заполнить на него карточку, как у меня заведено; составить историю болезни, дело оказалось долгим, не потому, чтобы было что-то очень сложное, а из-за самого пациента. Через пять минут я понял, что передо мной ипохондрик. За последние четыре года он посетил баснословное количество врачей. Как я выяснил, пять лет назад он совершил ошибку, оставив в расцвете сил — ему было тогда всего пятьдесят два года — свою работу коммерческого представителя. Работал много; потом сложилась спокойная ситуация, и к тому же сын мог его заменить; он позволил себе роскошь уйти на покой и посвятить себя своим увлечениям. Но тут обнаружилось, что у него их нет. Скоро он заметил, что его характер меняется: возникли трения в семье, обнаружились какие-то непонятные болезни, которые врачи никак не могли определить…
Теперь он жаловался на сердце, но тщательное прослушивание показало, что оно, хоть немного изношенное, работало безупречно. Так я ему и сказал и даже позволил себе заметить, что болезнь его, насколько я могу судить, не затрагивает физического состояния организма. Консультация закончилась несколько внезапно и резко: как только я начал объяснять ему, что человек, приученный к трудовой жизни, не может безнаказанно прекращать свою деятельность, он оборвал меня, заявив, что эту песню он уже слышал. Рассердившись, обозвал невеждами врачей, к которым до сих пор обращался; заверил меня, что досуг никогда еще никому не повредил, и даже довольно нагло спросил, чему учат на медицинском факультете.
Это было неприятно, особенно еще и потому, что, когда я отделался от него, он еще опротестовал мой гонорар, и это при том, что я спросил с него каких-то сто песет. Он заявил, что я осмотрел его слишком поверхностно, что я не заинтересовался его случаем и что я всего-навсего дал ему несколько советов, не вызванных теми симптомами, которые он описал; что я мог бы взять на себя труд осмотреть его повнимательней, без предвзятого мнения, которое в его случае оказалось явно ошибочным.
Из кабинета я вышел, естественно, в самом поганом настроении, и оно не покидало меня за рулем до самого дома; более того, на углу улицы Провенс я чуть не столкнулся с машиной, нарушившей правила и ехавшей навстречу движению. В какой-то мере водителя извиняло, что он иностранец и не знает особенностей езды по улицам Барселоны, но так или иначе мы все могли оказаться в больнице, а то и на кладбище, если бы на моем месте был менее искусный водитель или у машины плохо работали тормоза.
Прибыв домой, я уже был настолько раздосадован, что даже не взял на себя труд подыскать ключ к ящику в шкафу моего сына, как поначалу намеревался, — взял и взломал. Дома была только служанка: она что-то стирала на галерее и пела; моего прихода даже не заметила.
Ящик был набит всякими бумагами. Я их вынул и унес в свой кабинет, чтобы как следует просмотреть. Уверен, что даже не закрыл дверцу шкафа. Меня нисколько не тревожило, что Алехо может обнаружить взлом. Приспело время наконец объясниться, даже если содержание ящика окажется безобидным. Но оно таким не оказалось.
Прежде всего я занялся фотографиями, попадавшимися между бумаг, которые были свалены в таком немыслимом беспорядке, что настроение мое стало еще хуже, если только это было возможно. Верх безалаберности! Но в следующее мгновенье я забыл о беспорядке. В моих руках оказалась фотография девушки в полный рост. Разумеется, это была Рената.
Неважно, что ее связь с моим сыном и не была для меня новостью. Сердце мое все равно упало и руки задрожали; я положил фотографию на стол, иначе она наверняка оказалась бы на полу. Девушка, в костюме для улицы, была сфотографирована в парке или на бульваре, на фоне деревьев. В нижнем углу — надпись: «Я люблю тебя, Алехо. Твоя Рената».
Немного успокоившись, я принялся изучать другие фотографии. Почти на всех была она, иногда в непристойных позах, как на тех, которые я видел раньше, но в большинстве своем это были обычные фотографии, сделанные на улицах города или в помещении. На некоторых они были запечатлены вместе, когда гуляли или сидели обнявшись. Это были дешевые фотографии, работа бродячих фотографов. Но на всех видно было какое-то бесстыдное счастье. Я сердито отбросил их.
Бумаги. Они были разного формата и разного цвета; поэтому я подумал, что и содержание их различно, но скоро убедился, что это не так. Мне стоило немалого труда расположить их хоть в каком-то порядке, так как они не были пронумерованы, но я сделал все, что мог, руководствуясь их содержанием. В них Алехо описывал различные сценки из своей жизни, дома и вне его; в них участвовали друзья Алехо, Рената. Это не был дневник, даты отсутствовали, и, насколько я мог судить, Алехо не задавался целью подробно осветить свою и нашу жизнь, а лишь хотел рассказать о некоторых событиях, которые по той или иной причине показались ему важными. Только спустя время я понял, что в моих руках поучительный документ, который можно использовать впоследствии, если я решусь, как сейчас, описать события этого самого тягостного в моей жизни периода и создать, как теперь говорят, документальное произведение.
Но в тот момент я не думал ни о чем таком, я не мог ни о чем думать, даже если б мне посулили все золото мира. То, что я узнал о своем сыне, превосходило мои самые худшие опасения в минуты душевной депрессии, когда про себя я называл его чудовищем. Хладнокровие, с которым он убил человека, втянув в это преступление девушку, уступившую ему лишь из любви (мне пришлось признать это, хотя мои чувства к ней были далеко не дружескими); бесстыдство их любовной связи; его моральное падение, подтвержденное тем фактом, что он, хоть и писал, что любит девушку, разрешал ей заниматься проституцией, именно так следует это назвать, как бы дорого она ни продавала свою благосклонность; бездумность, мягко выражаясь, с которой он наметил план, как обобрать меня, завладеть деньгами, заработанными, что бы он там ни говорил, годами лишений и труда, — все это делало моего сына уже не только далеким мне, чуждым существом, которое я иногда видел в нем, а просто-напросто врагом, мало того, врагом подлым, который согласен унизить себя, лишь бы унизить меня, своего отца.
Хотя в одном месте он и утверждал, что ненависти ко мне не испытывает, он был движим именно ненавистью. Понять этого я не мог, но мне было совершенно ясно, что я произвел на свет животное ядовитое, безжалостное, лишенное каких бы то ни было благородных побуждений, одержимое болезненной манией разрушать все достойное уважения, надругаться над общепризнанными ценностями. Меня не могли убедить постоянно приводимые им доводы, которыми Алехо пытался оправдать свой бунт. Бывает бунт законный, конструктивный, предполагающий уничтожение лишь того, что подлежит уничтожению, но не более; такой бунт свойствен всем молодым, и я сам его пережил. Это бессознательный протест всего молодого против того, что устарело и закостенело. Но при этом нужно соблюдать достоинство, уважать правила игры, не опускаться. Он же пролил кровь под влиянием минутного порыва, даже, может быть, не совсем искреннего; замахнулся на меня под предлогом, который сам по себе мог быть и благородного характера, но это не оправдывало подлых средств. Его решения и поступки носили печать подлости, потому что в душе его не было никаких идеалов, а была лишь ярость загнанного зверя. Именно зверя, так как Алехо был опасным и злобным зверем.
Сердце мое обливалось кровью, когда я пришел к этому открытию, разом уничтожившему все надежды и мечты, возникшие, когда Алехо еще был ребенком; они не исчезали, несмотря на то что в отрочестве он был скрытным и упрямым. А теперь они исчезли; осталась змея, которую я выкормил, которую выкормили мы с Бернардиной, некая личность, стоящая вне общества и объявившая войну обществу и всему, что достойно уважения. Он еще и жалок, как всякий эгоист, который, утоляя свою жажду разрушения, уничтожает себе подобных. Алехо пал очень низко, а я знал, что он достаточно умен и, стало быть, сделал это сознательно. Я вынужден был признать, в конце концов, что бывают люди, стремящиеся к деградации, рожденные причинять зло.
Признаюсь, что в ту минуту, читая листки, исписанные моим сыном, я осуждал его безоговорочно. Потом немного одумался и понял, что, если его действия и были безрассудными и аморальными, их, пожалуй, несколько оправдывало его юношеское несогласие с действительностью. Только Алехо по слабости характера не сумел направить свой протест в нужное русло. Но этот несомненный недостаток характера, происхождение которого и свою долю вины я тщетно пытался выяснить, превращает сына в нежелательный элемент, в больного, всецело одержимого чувством мести и потому слепо мстящего и за выдуманные им самим обиды, которые он, однако, упрямо приписывает окружающим.
Нечего и говорить, что в тот вечер я прочел не все его записки. Мое собственное нетерпение заставляло меня спешить, перескакивать с одной страницы на другую, как будто я хотел растравить свою душевную рану, исчерпать до конца страдание, от которого колотилось сердце и пылало лицо. Руки мои по-прежнему дрожали, даже еще сильнее, комкая листки…
Приход Бернардины застал меня врасплох. Я не слышал, как хлопнула входная дверь, не знал, который час. Вероятно, даже забыл, где я. Она, должно быть, заметила свет, пробивавшийся сквозь неплотно закрытую дверь, и вошла.
— Ты здесь… — Но тут же умолкла, заметив, какой у меня вид, и тревожно спросила, подходя ко мне: — Тебе нехорошо, Ансельмо?
Бумаги и фотографии были разбросаны по всему столу, и спрятать их я не мог, да и незачем было, она тоже имела право знать правду, знать, что сын наш растлился окончательно и пошел против нас. Широким жестом я обвел все лежавшее на столе и сказал только:
— Гляди!
И стал выкладывать перед ней фотографии; сначала те, на которых были они оба. Она спросила:
— Кто это?
Но я, не отвечая, показал ей другие, где девушка бесстыдно выставляла напоказ свое тело; открыл ящик, где хранил прежние фотографии, и тоже положил их перед ней, каждый раз повторяя:
— Гляди! Гляди!
— О!
Она в ужасе поднесла ладонь ко рту и уставилась на меня, не веря своим глазам. Я вытащил последнюю.
— И вот еще!
До нее не сразу дошло; я понял это по ее удивленному взгляду, и она опять спросила:
— Кто это?
Я поспешно объяснил ей все какими-то неуклюжими словами, они словно не шли у меня из горла, и лицо ее понемногу темнело, становилось пепельно-серым, по мере того как кровь отливала от щек. У нее еще хватило духа пролепетать:
— Ты не ошибся?
Лихорадочно перебрав несколько листков дрожащими пальцами, я нашел наконец описание убийства.
— На, читай, читай!
Но читать пришлось мне самому, а она все ниже опускала голову, сникала, на глазах становилась старой и немощной, а когда подняла взгляд, я увидел, что глаза ее полны слез. Она упала в кресло и зарыдала.
— Он убийца, Бернардина, — сказал я, — и у него нет смягчающих вину обстоятельств: он совершил преступление не в состоянии аффекта, а выполняя заранее обдуманный план. И еще вот что: он нас ненавидит, он отрекается от нас… Послушай.
Я читал один фрагмент за другим, ничего не опуская; даже не скрыл от Бернардины попытку выдать Ренату за мою дочь. Она тихо плакала, закрыв лицо руками, и не отняла их, даже когда спросила:
— Это правда?
— Я был знаком с одной девушкой. Но давно даже не вспоминал о ней. Ты, конечно, представляешь себе, какое тогда было время; мы были молоды, и никто из нас не знал, что будет с ним завтра… С тобой я тогда еще не был знаком, Бернардина… — Она несколько раз кивнула в знак того, что эту сторону вопроса она понимает, слишком давно было. — Но насчет дочери — это афера, которую он и эта самая Рената затеяли, чтобы вытянуть из меня деньги, помучить меня… помучить нас… Наш сын никого не уважает. Отказывается продолжать учебу; участвует во всяких беспорядках; сожительствует с девицей, которая, сама понимаешь, ложится в постель с кем попало, и сверх того он еще убивает человека… Он хочет покрыть нас позором, бесчестьем, разрушить нашу семью, погубить мою карьеру… Не хватает только, чтобы он поднял на нас руку в прямом смысле слова: избил бы нас…
— Но за что, за что? — едва могла выговорить Бернардина.
Вот именно: за что? За то, что мы такие, какие есть, а не другие? Откуда у Алехо эта склонность к злу, ведь и в семье у Бернардины, и в моей все были люди уважаемые, безупречные, все выполняли свой долг и любили ближних? От какого безвестного предка унаследовал он эти немыслимые предрасположения, сделавшие его опасным для общества? Благодаря какому злополучному сочетанию генов двух людей, так органично вошедших в общество, так ответственно относящихся к своим обязанностям, как моя жена и я, смогло появиться на свет чудовище, которое подвергает поруганию все, что мы почитали как святыню?
— И что ты собираешься делать, Ансельмо? — вдруг сказала она, глядя на меня покрасневшими от слез, сразу ввалившимися глазами.
Странное дело, этот вопрос, можно сказать, застал меня врасплох. Конечно, что-то надо было делать: недостаточно лишь предъявить сыну доказательства его подлости и бросить в лицо наше огорчение, наше презрение, нашу боль, вызванные его недостойным поведением. Что-то в моей душе противилось мысли о полиции, хотя этого требовал мой гражданский долг. Чудовище он или нет, но он наш сын; мы породили его на свет, и та любовь, которую мы к нему питали и которая в ту минуту как будто нас оставила, будучи уничтожена низостью его поступков, все же побуждала меня попытаться переделать его, отклониться от собственной линии поведения, чтобы предоставить ему возможность, возможность, которой он, может быть, и не заслуживал, но отказать в ней такому молодому человеку было бы немилосердно. Тюрьма, в случае, если Алехо арестуют, лишь сделает его еще хуже, усилит в нем антиобщественные наклонности, и, когда он выйдет, старый, сломленный, это будет уже развалина, которой недоступно какое бы то ни было понятие ответственности. Если я выдам Алехо, я могу его уничтожить. И его могут убить…
Сердце билось у меня где-то в горле, я задыхался. Всю жизнь боролся я со смертью во всех ее проявлениях и не мог пойти на то, чтобы пожертвовать чьей-то жизнью; к счастью, я живу в христианском обществе, миновавшем стадию развития, на которой господствует закон возмездия. Оступившихся надо наказывать, это верно, но преступление не должно влечь за собой ответное преступление, и всякая казнь, какой бы законной она ни была, увеличивает чувство вины, давящее на все человечество, которое и без того уже ответственно за столько пролитой крови.
— Не знаю…
Да, я не знал. Не мог я также и ограничиться тем, чтобы сделать ему внушение и предложить исправиться. Проступок был слишком серьезным, и Алехо обязан был так или иначе искупить свою вину. Он должен был осознать, что он сделал, понять всю неправоту свою; все его существо должно было получить встряску, потрясение, так чтобы он открыл наконец глаза и согласился на искупление — пока что я не знал какое.
Когда вернулась Эмма, вся в завитках, она застала нас все в той же горестной растерянности: Бернардина лежала в кресле, а я, сидя за столом, перебирал, теперь уже бесцельно, фотографии и бумаги, свидетельствовавшие о позоре Алехо.
Пришлось и ей рассказать все сначала, и второй раз за тот вечер я увидел, как от этой новости бледнеет чье-то лицо. Но Эмма была из другого теста, она не заплакала. Может быть, потому, что, как бы она его ни любила, он был всего лишь ее племянником. Она взяла фотографии в руки — чего Бернардина не сделала, — внимательно их изучила, а также прочла некоторые места из его циничных записок, которые мог написать только безответственный человек. А потом вдруг, вместо того чтобы осудить его, стала обвинять нас.
— Виноваты в этом вы, — сказала она. — Вы предоставили ему слишком большую свободу, давали слишком много денег; вы его избаловали… Я не раз вам об этом говорила. Никогда я не слышала, чтобы вы всерьез его в чем-то упрекнули. Ты — из-за того, что многого не замечаешь, а если замечаешь, то отмахиваешься, сославшись на работу, на твои обязанности вне круга семьи, на своих больных; а ты, — продолжала она, повернувшись к Бернардине, которая смотрела на нее широко открытыми глазами, — потому, что тебе важна только форма, были бы соблюдены приличия… Например, тебе неприятно, когда он произносит грубые словечки, но ты никогда не позаботилась узнать, где он их подцепил, кто им его научил, ты не следила за его знакомствами… И кроме того, все мы живем как в теплице, где никогда ничего не меняется, где всегда одна и та же температура… Как вы думаете, мог он хорошо себя здесь чувствовать?
Мы с Бернардиной так и застыли, окаменев от изумления, потом я горячо возразил:
— Ты что, с ума сошла? Я не говорю, что мы были идеальными родителями, таких не бывает: признаю, что я виноват, что допустил много ошибок, был недостаточно внимателен и тому подобное, но никогда ни я, ни Бернардина не сделали и не сказали ему ничего такого, что могло бы привести вот к этому, — я хлопнул по бумагам. — Речь идет о преступлении, Эмма, о преступлении!
— Почему ты кричишь? — возмутилась она. И тут же обратилась к Бернардине: — Где наша девушка?
Мы совсем забыли, что у нас в доме служанка, поэтому Эмма поспешно вышла из кабинета. Простучала каблуками по коридору, остановилась. Бернардина и я продолжали сидеть, и, наверно, ни она, ни я не шелохнулись, пока не вернулась моя сестра.
— Она на кухне. Я знаю, что она ничего не понимает, но осторожность не помешает. Ведь все это, конечно, должно остаться между нами…
Она это уже решила. Я почти позавидовал той простоте, с которой она так естественно и легко уходила от всех проблем. Но, с другой стороны, меня это раздражало, ведь это признак недопонимания. Наверно, потому я и склонился над бумагами и отыскал нужный листок. Почти с ехидством сказал ей:
— Ты прочла, что он пишет о тебе? — и показал небольшой абзац, где Алехо писал о ее пороке; не знаю уж, как он его обнаружил, потому что я, конечно, никогда ничего за ней не замечал.
— Он бесстыдник, — сказала она, краснея, — этого я не отрицаю. Но важно знать, почему он такой. Раз ему нравится все опошлять, на то должна быть и какая-то причина. Поверьте мне…
Я прервал ее, не ей нас учить. Она и сама знает, но если забыла, то я ей напомню, что мы не жалели ничего, чтобы дать Алехо надлежащее образование, воспитание в христианском духе, и что в доме нашем, несмотря на слабости каждого из нас в отдельности, его всегда окружала атмосфера гармонии, порядка, взаимопонимания; что все мы вместе окружили его любовью и пониманием — и это должно было способствовать его нормальному развитию; что я сам помогал ему в решении всех проблем, которые возникали у него в детстве и отрочестве; что никогда не отказывал ему в совете; что всегда старался быть с ним справедливым, а если я предоставлял ему свободу, которую он теперь использовал во зло, так только потому, что отказать ему в ней не мог: такой же свободой пользуются и его товарищи, дети тех, кого мы знаем и с кем общаемся, но те никого не убили и против родителей не восставали… Мне больно было повторять ей то, что я вынужден был сотни раз твердить самому себе.
— Но вы были слишком мягкими с ним; мы все были слишком мягкими, если угодно — я тоже, — настаивала она. — Ни разу я не видела, чтобы кто-нибудь сделал усилие и потребовал от него элементарной дисциплинированности. И уверена, это нисколько бы не стеснило его свободу, о которой ты говоришь.
— Давай на том и покончим, — сказал я. — Единственные виновники — мы, а он — несчастный, которого мы растлили. Раз так, я могу сложить все бумаги обратно в ящик, где я их нашел, и, пожалуй, даже лучше не говорить ему ни слова, пусть и дальше позорит нас, убивает…
— Я этого не сказала, — запротестовала Эмма. — Разумеется, сейчас слишком поздно упрятать его в закрытый коллеж, но ты можешь принять другие меры, держать его в узде… Об этом уж ты должен позаботиться.
— Ты тоже так думаешь? — спросил я Бернардину.
— Я не знаю… Не знаю, что и думать. — И она патетически воскликнула: — У меня в голове не укладывается, что мы говорим о нашем сыне!
Но мы говорили о нем, и надо было что-то делать, принять какое-то решение. Я видел, что ни одна из женщин помочь мне не может. Зато был уверен, что и та, и другая, каждая по-своему и по несхожим причинам, изо всех сил постараются помешать мне выполнить мой долг, хотя, в чем мой долг будет заключаться, я еще и сам не знал толком. И если дать им высказаться до конца, если начать с ними спорить, я тем более этого не узнаю…
Внезапно Эмма встала:
— Он пришел!
Затем мы услышали, как хлопнула дверь. Это мог быть только он, и, конечно, через несколько мгновений он покажется в дверях кабинета, чтобы сказать нам: «Добрый вечер!» Мы спорили полчаса или даже больше, но я сообразил, что к встрече с ним мы не подготовлены. Меня уже не душил гнев, нахлынувший в первые минуты, когда я прочел его циничные и наглые записи, — возможно, потому, что я поделился их содержанием с Бернардиной и Эммой, и это загадочным образом притупило жгучую остроту; а может, и потому, что слова сестры подсознательно подействовали на меня, заставили подумать о моей собственной ответственности. Теперь я чувствовал себя скорее огорченным и оскорбленным, чем по-настоящему разгневанным, и вполне возможно, что все дело приняло бы совсем другой оборот и мы все вместе пришли бы к какому-нибудь положительному решению, если бы не наглое, почти грубое поведение самого Алехо.
Сначала он даже не заглянул к нам, наверно думал, что я один и работаю; но, когда увидел нас всех вместе, взгляд его изменился и, пока он машинально здоровался, скользнул по столу. Он сразу узнал листки и фотографии и тогда открыл дверь пошире и шагнул в кабинет.
— Я вижу, вы тут любопытничаете… — сказал он. Голос его немного дрожал, но, как бы то ни было, он быстро овладел собой, черты его лица стали жестче, а в глазах я заметил нездоровый блеск.
Эмма осталась стоять у стола, лицом к Алехо, и молча на него смотрела; но Бернардина, взволнованная появлением сына, снова зарыдала:
— Алехо, Алехо, сынок…
Я нашел на столе фотографию, на которой был снят труп, лежащий на ковре, в ногах кровати. Показал ему:
— Это что?
Он шагнул вперед; взял у меня фотографию, хотя прекрасно ее знал; мгновенье смотрел на нее и презрительным жестом швырнул обратно на стол.
— Вы знаете. Вы же все прочли.
— Да, но нам этого мало. За что? Почему?..
— Это была отвратительная скотина.
Я уверен, что мы, все трое, окаменели. От такого хладнокровия и бесчувствия по спине у каждого из нас пробежала холодная дрожь, но я быстро опомнился.
— Но, послушай! — закричал я. — Никто не имеет права поднимать руку…
— Ах, нет? Тогда почему же они ее поднимают?
Он оперся о стол с такой силой, что пальцы побелели. Лицо было серым, с губ срывались невнятные слова; ярость, порождая их, мешала Алехо говорить, и они застревали у него в горле.
— Этот политик, — говорил он, — и все, кто с ним, свободно распоряжались чужими жизнями. Они жаждут проявить свою власть и всячески ущемляют людей, а потом понемногу их уничтожают. Им все нипочем: им наплевать на честь, да и на жизнь этих людей, над которой они вечно издеваются, коверкают ее во имя своей истины, поставленной на службу подлой и реакционной идее, в основе этой идеи — эгоизм и тщеславие… Они прибегают к террору, чтобы навязать другим свое мнение, монополизировать идеи и верования, опошлить все высокое и благородное; они всех пытаются затянуть в униформу, в которой мы задыхаемся… А вы все — их сообщники, — обвинял он нас, — вы даже не шевельнулись в знак протеста, не произнесли ни слова осуждения, вы закрыли глаза…
— Прекрати! — закричал я, поднимаясь со стула.
Эмма смотрела на нас — больше на него — молча, и во взгляде ее заметно было сдерживаемое волнение; а Бернардина сидела в кресле, веки у нее распухли, она мигала и лишь время от времени всхлипывала:
— Алехо, Алехо…
— А что высокого и благородного во всем этом? — Я взмахом руки переворошил листки и фотографии, некоторые из них полетели на пол, но никто и не подумал их поднимать. — Чего ты требуешь: свободы убивать, позорить своих родителей, сожительствовать с проституткой?.. О таком достоинстве ты говоришь?
— А какое еще вы мне позволили обрести?
Кровь снова прилила к его щекам, он почти побагровел и вне себя от злости чуть наклонился вперед, будто вызывал меня на бой. Он действительно бросал мне вызов. Послушав его, можно было подумать, что я несу личную ответственность за все несправедливости, которые, по его словам, совершило мое поколение в своем рвении установить железный порядок, разрушающий жизнь и устанавливающий раз и навсегда все на свете, — порядок, который им, молодым, даже не дает возможности выражать себя. Мы, мол, последовательно дискредитировали и отвергли все, что противоречило нашей концепции жизни-тюрьмы, и поэтому у них остался лишь один выход, одна цель — разрушить стены этой окружающей их тюрьмы.
— Вы разрушаете самих себя. Вот что я тебе скажу, — возразил я. — Ты хочешь, чтобы мы вернулись к закону джунглей; чтобы по капризу избалованного мальчишки отказались от упорядоченной жизни и превратились в дикарей, повинующихся лишь слепому инстинкту? Мы люди цивилизованные…
— Вы тюремщики, вот вы кто!
Он ничего не признавал. Побуждаемый ненавистью и досадой, пытаясь оправдать свой поступок, совершенный по эгоистическим мотивам, ничего общего не имеющим с жизнью общества, он представлял себя жертвой обстоятельств, намеренно забывая о том, что мы и общество, в котором мы живем, день за днем предоставляли ему возможность мужать, гармонично развиваться, спокойно строить свою жизнь, и у него не было необходимости решать проблемы, которые могли бы нарушить эту жизнь, дезориентировать ее. Он ничего не видел в своем ослеплении.
— Вы изъяли из жизни все, что вам не нравилось, — осмелился он заявить. — Почему? По какому праву?
Я был в отчаянии. Обвинять должен был я, а не он: я не совершал преступлений; я честно выполнял свой долг без всякой смуты, без всяких безумств; я почитал своих родителей и принимал ту общественную структуру, которую мы создали, пусть не идеальную, но достойную, несмотря на неизбежные слабости, и всегда открытую для совершенствования. Если он не сумел найти свое место, это не наша вина, а его личный недостаток. Почему должен быть прав он, а не тысячи и миллионы людей, которые обрели способ прекрасно выражать себя в рамках законности. В конце концов, как я ему сказал, мы все живем в одном мире. Но он мне ответил:
— Существуют стены, и одни живут в огороженном ими пространстве, как ты, как вы все, и есть такие, как я, которые живут вне этих стен, в изгнании.
Возможно, потому, что мы оба слишком возбудились, я никак не мог убедить его, что это изгнание было добровольным; что никто не может бороться с обществом извне, игнорируя его, а нужно преобразовывать его изнутри, постепенно, терпеливыми каждодневными усилиями, не затрагивая тех ценностей, которые служат гарантией совместной жизни в обществе и без которых мы снова впали бы в хаос. Но, по его мнению, мы уже впали в хаос: мы все перепутали, все смешали. Даже слова изменяют свое значение в наших устах: общественной сознательностью и социальной зрелостью мы называем апатию эксплуатируемых, свободой — право молчать, прогрессом — духовное обнищание…
— Да ты-то что знаешь? Ты — сопляк, у которого молоко на губах не обсохло, у тебя нет ни своего опыта, ни уважения к тем, кто, будучи старше и благоразумнее, позаботился подумать…
— Но я не желаю, чтобы за меня думали другие! Я хочу думать сам, а мне не дают…
— Потому что ты к этому еще не готов! И никогда не будешь готов, если будешь стремиться учить других до того, как научился сам! Хорошенький же ты избрал путь! — Я снова хлопнул ладонью по бумагам, оставшимся на столе. — В университет ты не ходишь, решил оставить… Почему?
— Потому что одно дело — когда тебя учат думать, и другое — когда тебя учат, что ты должен думать. С малолетства я слышу одно и то же: «Это — правда; это — ложь». Но кто объяснит, как отличить заблуждение от истины? Никто! Наоборот, все как будто хотят запутать следы; все тебя оглупляют, долбя по темени: «Думай так; думай этак!» Вы сами…
И снова пошел нас обвинять: говорил, что мы дали ему «тенденциозное воспитание»; что мы дали ему такое образование, которое не открывало, а закрывало пути к познанию; что мы пытались оградить его от настоящих проблем, скрывая их, словно никто не предвидел, что однажды он вырастет и откроет их самостоятельно, не будучи подготовлен к тому, чтобы решать их. О чем мы думали? Что будем жить вечно и вечно таскать для него каштаны из огня, что мы настолько совершенны и можем себе позволить оглуплять наших детей, чтобы им не взбрело в голову изменить тот порядок, который мы почитаем как окончательный, как высший продукт человеческого ума?
— Какое несчастье! — воскликнул он. — Какое несчастье, что нам предшествовало поколение, которое знало все, которое всегда было право и право сейчас, даже когда действительность опровергает его мнение, а собственные дети восстают против него!
— А почему дети должны быть правы? — отпарировал я. — Потому что они молоды, а мы постарели? Так, что ли?
— Нет, потому что вы захотели завладеть нашим будущим. А вот это действительно преступление! Дело тут не только в возрасте. Я, например, очень уважаю таких, как Росендо Торрес…
Потому что он три раза сидел в тюрьме; потому что живет в стане побежденных, которые не поняли, что времена меняются, что запрещены любые отклонения, что ни о каких заговорах не может быть и речи! Только свихнувшийся мог считать этого второсортного или третьесортного писателя сверхчеловеком, каким-то чудом, сохранившим верность их доктрине! «Да, — подумал я, — есть какой-то изъян в нынешнем положении дел; и в том, что он есть, виноваты мы, раз еще встречаются такие, кто, подобно Алехо, обращается к прошлому и преклоняется перед Росендо Торресом». Значит, мой сын требовал такого же будущего, как это прошлое? Во имя этого он совершил убийство? Под моими ногами разверзлась пропасть.
Я остановил его, так как был сыт по горло глупостями, бравадами, поучениями этого Дона Никто, но сын взвился, точно его скорпион укусил:
— А ты-то кто?
— Алехо!
Это воскликнула моя сестра, которая все время молчала, как и Бернардина, плакавшая в своем углу, будто слезами можно чему-то помочь. Алехо не остановился.
— Да. Кто ты такой? Человек, благословляющий низость… Фасад, за которым скрыта гниль…
В негодовании я поднял руку, но он перехватил ее:
— Не рукоприкладствуй!
Я силился освободить руку, и Эмма бросилась между нами.
— Алехо! Ансельмо!
За спиной я слышал всхлипывания Бернардины:
— Сынок… Сынок!..
— Я тебе не позволю поднимать на меня руку, — сказал он, побагровев от злости. — Ты не имеешь на это никакого права!
— Я имею все права! Негодяй! Я выбью из тебя дьявола!.. — Но затем я стряхнул с себя обхватившую меня руками, Эмму и указал на дверь: — Вон отсюда! Я не желаю больше тебя видеть!
Он гордо выпрямился.
— Хорошо, ты меня больше не увидишь.
— Алехо… Нет, нет! — вскричала Бернардина и рванулась с кресла, чтобы загородить ему дорогу.
Но он уже открыл дверь и пошел по коридору, а я крикнул ему вслед:
— Убийца!
Эмма снова обхватила меня, потому что и я хотел броситься в коридор вслед за Бернардиной, которая, плача, пошла за Алехо.
— Ансельмо, Ансельмо! Успокойся! Не делай глупостей…
— Пусти!
Но она держала меня изо всех сил. То ли потому, что она стеснила мои движения, то ли потому, что на меня подействовало ее спокойствие… Я уступил; руки мои упали и бессильно повисли, а потом по инерции, по привычке я медленно уселся обратно за стол. Минуту посидел неподвижно, потом резким движением, словно в порыве ярости, сбросил со стола все бумаги и фотографии, которые еще там оставались; вместе с ними на пол полетели книги, но я и не подумал подобрать их. Эмма стояла рядом, она положила руку мне на плечо… Я сказал:
— И ты уходи! Уходите все!
Закрыл лицо руками, и сухое рыдание сотрясло мое тело. До меня издали доносился голос Бернардины; надломленный, умоляющий голос, затем — неразборчивый ответ Алехо. Глухо хлопнула дверь — конец.
— Он ушел! — воскликнула Эмма.
То же самое сказала Бернардина; обезумевшая, растрепанная Бернардина споткнулась о порог кабинета, она была похожа на какое-то насекомое, ослепленное ярким светом.
— Ансельмо, он ушел… ушел.
— Довольно! — И я стукнул кулаком по столу. — Больше никаких разговоров об этом.
— Он вернется, — сказала Эмма, самая спокойная из нас. — Куда ему деваться?
— Если вернется, будет на коленях просить у меня прощения!.. За кого он меня считает? За грязную тряпку, которую можно топтать ногами?
Никогда я до такой степени не терял контроля над собой; никогда не питал ни к кому такой ненависти, какую в ту минуту чувствовал к Алехо. Потом она пройдет; хочешь не хочешь, он мой сын; однако в то мгновение он олицетворял для меня все зло мира, страшного и враждебного. Он был грешником, упорствующим во грехе, который Алехо усугублял своей гордыней, тем, что плевал в лицо любящим его. Я дал ему высказаться; терпеливо выслушал кучу обидных заявлений; согласился, не отдавая себе в этом отчета, рассматривать его преступления как порожденные обществом, а не как его личные, совершенные по эгоистическим мотивам, из низменных побуждений…
— Ансельмо, успокойся, ради бога! И ты, Бернардина…
Да, я уже успокаивался. Вернее, умолкал, потому что никакие слова не могли выразить чувства, обуревавшие меня в ту минуту: грех Алехо был так велик и его упрямство таким несгибаемым, что все это не укладывалось у меня в голове. Мне казалось, что я столкнулся не только с другим типом мышления, но с другим типом существования; точнее говоря, он мог существовать только в облике чудовища, карикатуры на человека; это ощущение переполняло меня, и гнев сменялся каким-то омертвением.
— Что же мы теперь будем делать?
Кто это спросил? Эмма или Бернардина? Ничего мы не будем делать, я пальцем не пошевелю и им не разрешу ничего делать, чтобы вернуть этого несчастного, этого бунтаря, в ненавистный ему отчий дом, который он покрыл позором и который он предпочел покинуть, лишь бы не признать, что поступил дурно, позволил увлечь себя такими дикими идеями, что мы и представить себе не могли. «Мы уже бессильны помочь ему», — сказал я себе. Неизвестно как он выскользнул из наших рук, стал хуже чем чужим. «Он стал врагом, — повторял я себе, — врагом, ослепленным жаждой разрушения, которому нипочем страдания и слезы его матери».
— Уходите! — крикнул я женщинам.
Я хотел остаться один, не знаю почему, — может быть, чтобы страдать без свидетелей, может быть, в тот момент мне было ненавистно их присутствие; только мне это не удалось — не успели они уйти, как раздался грохот, и в кабинет вбежала сестра: Бернардина упала в обморок. Наступил какой-то кошмар; я сам был чуть не в истерике, но пришлось взять себя в руки и мчаться к жене, хлопать по щекам, чтобы привести в себя, а затем давать ей успокаивающее. Служанка, которая, наверно, слышала крики, несмотря на предосторожности Эммы, казалась испуганной и, поскольку она в доме недавно, приняла нас, вероятно, за сумасшедших. Она накрыла на стол, и ужин был готов, но в тот вечер никому из нас не хотелось есть.
Понемногу нам удалось успокоить Бернардину, и я убедил ее лечь в постель; но она не хотела оставаться одна, просила, чтобы я или Эмма побыли с ней. Потянулись долгие часы гнетущей тишины в квартире, как будто мы были слишком измождены, чтобы говорить и двигаться. Что касается меня, я испытывал ощущение пустоты, не мог собраться с мыслями, густой туман висел в моей душе, окутывая все. Я был выжат как лимон, осталась одна лишь оболочка, видимость.
Позже, гораздо позже, когда Бернардина наконец уснула, я вернулся в кабинет и с удивлением посмотрел на разбросанные бумаги и фотографии, словно это были свидетельства какого-то давно забытого эпизода. Следом вошла Эмма и сказала, что я должен что-нибудь съесть, но я смог лишь выпить стакан молока. Незаметно для себя я закурил трубку и курил, облокотившись о стол и глядя в пустоту. Но гнев мой уже окончательно остыл, я ощущал лишь огромное недовольство сыном, собой, нами всеми из-за того, что мы допустили, чтобы дело зашло так далеко и мы оказались в тупике. Эмма наклонилась и подобрала с пола бумаги, внешне она была спокойна. Она ни разу не вышла из себя. Когда она клала фотографии на край стола, глаза наши встретились. Я шевельнулся, сказал сам не зная почему:
— Вот видишь…
Она кивнула, снова наклонилась подобрать другие фотографии, книги и ручку, затем начала:
— Он говорил некоторые такие… — Она проглотила слюну и продолжала: — В чем-то он, может, и прав..
Час назад я бы вскочил, как от оскорбления; был бы с нею груб; если бы понадобилось, заставил замолчать окриком или даже пощечиной, но теперь у меня наступил упадок сил, обычный после сильных переживаний, после бурных сцен. Я смог лишь сказать:
— И ты туда же?
— Нет, — сказала она, — не то… — Она помолчала, как бы подыскивая слова. — Я хочу сказать, что мне вдруг показалось, что одно он определил верно: мы живем среди лжи и скверны.
Я не был готов к спору, да мне и не хотелось спорить с ней, а может, сейчас я сам колебался; кроме того, вполне допустимо, что я бессознательно искал какие-нибудь паллиативы в отношении сына. Точно так же, как и она. Поэтому я ограничился тем, что покачал головой и пробормотал:
— Почем я знаю!..
Я встал со стула, который внезапно показался мне неудобным, и стал прохаживаться по кабинету, а она продолжала говорить, обернувшись к столу, как будто я оттуда не уходил.
— А если его арестуют? — спросила она. Поскольку я не отвечал, она добавила, наклоняясь вперед: — Ты должен что-нибудь сделать для него, Ансельмо, он твой сын.
— Да…
— Хотя бы ради Бернардины. Она тебе никогда не простила бы…
Я это знал. Каким бы он ни был порочным, как бы ни был опозорен, она будет по-прежнему любить его, защищать. Я, наверное, тоже.
— Да, — повторил я.
Наступило долгое молчание, прерываемое лишь моим тихим шарканьем: я все ходил от двери к окну и обратно. «Я, наверное, тоже», — повторил я про себя. Ведь я никогда не покидал больного, всегда боролся до последнего за тех, кто были мне чужими, а иногда и за тех, которые мне не нравились или даже внушали отвращение. Значит, я могу бороться и за него, хотя бы это и было мне неприятно. У меня много знакомых, в том числе влиятельных, может, и удалось бы добиться заключения о временном помутнении рассудка; Исерн мне мог бы помочь…
— Куда он пошел, как ты думаешь? — спросила Эмма, прерывая ход моих мыслей. — К этой девушке?
— Наверное.
Она еще раз посмотрела на фотографии, положила их обратно на стол и спросила:
— Она на самом деле твоя дочь?
— Не знаю, Эмма, не знаю, что и думать.
Я узнал это на следующий день. Проходя через приемную, перед началом приема, в списке больных, звонивших по телефону, я увидел имя Марии Клары; это был условный знак: она вернулась и ждет меня. Правда, я не испытывал особого желания обсуждать этот вопрос, теперь уже для меня второстепенный; собственно говоря, мне не хотелось даже делать необходимые визиты к больным. Бернардину я оставил в постели, она проснулась и лежала молча, видимо, оправившись от вчерашнего приступа, но мне не нравились блеск ее глаз и землистый цвет лица; не внушала мне доверия и эта ее сдержанность, под маской которой могли вынашиваться любые безумные планы. Я предупредил сестру: если захочет, пусть встает, но ни в коем случае не выпускать ее из дому. Я знал, что на Эмму можно положиться, но все-таки предпочел бы из дому не отлучаться. И не только из-за Бернардины. Я очень плохо спал, чувствовал, себя усталым, нервы мои были напряжены, а настроение хуже быть не могло.
К счастью, вопреки ожиданиям прием больных, заставив отвлечься от собственных забот и проникнуться чужими, скорей успокоил меня и вернул силы, но все же кому-то из больных, видимо, пришлось поплатиться за наш вчерашний скандал.
Когда наконец перед самым обедом я добрался до дома Марии Клары, то уже достаточно совладал со своими нервами, чтобы она не заметила, какой тяжелый момент я переживаю. Если же от нее не ускользнула моя нервозность, то, возможно, она приписала это сведениям, которые собрала.
— Я привезла тебе выписку из книги записей актов рождения, — начала Мария Клара, едва мы вошли в столовую, и протянула мне бумагу, лежавшую на столе.
— Значит, она не солгала? — И тут я почувствовал странное волнение, словно во мне столкнулись два противоречивых чувства.
— Не солгала, но…
Это оказалось очень долгое «но», Мария Клара рассказала мне, что, побывав в Бюро записи актов, где ей сказали, что на днях другая девушка интересовалась Ренатой, она зашла в дом, где двадцать три года назад родилась моя предполагаемая дочь.
— Я подумала, что сам факт рождения Ренаты в августе тридцать девятого, через девять месяцев после твоих встреч с Флорой, еще ни о чем не говорит. Поэтому я решила поговорить с ее родными…
Но ей пришлось удовольствоваться разговором с соседями, потому что никто из родных Флоры там теперь не жил. Старуха соседка рассказала, что Флора уже много лет живет в Аграмуне и что ее единственная родственница, двоюродная сестра, уехала из местечка лет пять-шесть тому назад. Флора вышла замуж за плотника, это подтверждало то, что рассказала мне Рената, и незадолго до свадьбы они уехали. Он уже умер, а Флора, насколько ей известно, все еще живет в Аграмуне с сыном, потому что у нее было двое детей: сын и дочь…
— Старушка попалась очень разговорчивая, мне повезло; можно сказать, она рассказала мне всю историю этой семьи, — продолжала Мария Клара, сидя рядом со мной. — И я, пожалуй, на этом бы и закончила поиски, если бы не такая деталь: мать еще жива. Это было единственным, что не совпадало с твоими данными…
— Ты поехала в Аграмун?
— Нет, — ответила она, — это не понадобилось.
Оказалось, она просидела со старушкой на скамейке у ворот больше двух часов. Мало-помалу Мария Клара навела разговор на молодые годы Флоры, сказав, что встречалась с ней в Тарреге, где якобы работала модисткой в ателье.
— И она не сообразила, что во время войны ты была еще слишком молода, чтобы работать?
— На это она не обратила внимания, — смеясь ответила Мария Клара. — Но я сообразила и раскаялась, едва сказала… Это было первое, что мне пришло в голову.
Старушка пустилась в долгие воспоминания о тех временах, припомнив, конечно, и свою историю, которая ее интересовала больше, чем история Флоры, но рассказала и о той: у Флоры были нелады с женихом. Мария Клара об этом не знала?.. Они жили еще до свадьбы, и, когда она забеременела, Мануэль сказал, что, если будет мальчик, он женится на ней, а если девочка, он знать ничего не хочет. И родилась девочка.
— Рената, — пояснила без всякой надобности Мария Клара, и я кивнул.
Мануэль даже уехал из местечка, поселился в Аграмуне, стал работать плотником, но потом вернулся, и их отношения возобновились. Может, потому, сказала соседка, что девчушка была уж очень хорошенькая, и, увидев ее, он передумал. И они поженились.
— Тогда, — продолжала Мария Клара, — мне пришло в голову спросить ее, не было ли у Флоры жениха, которого убили на Арагонском фронте.
Но нет, у той, кроме Мануэля, других женихов не было, а тот на фронт не попал. Мария Клара, должно быть, путает Флору с другой Флорой по фамилии Сесса, та девушка женихалась с младшим из братьев Барри; вот тот действительно погиб на Арагонском фронте на второй год войны…
— Ты с ней повидалась? — нетерпеливо спросил я.
— Нет, — ответила Мария Клара, серьезно глядя на меня. — Старушка сказала, что она умерла в молодости: у нее был туберкулез; замужем она не была и детей не рожала. Наверно, с этой ты и был знаком…
— Да, должно быть, с ней, — согласился я.
Тут я снова вспомнил зиму тридцать восьмого, и мне припомнились два момента, давно забытых. Один из них, когда мы остановились у Тарреги в тот день, когда я провожал ее в город за покупками, и второй — перед тем как мы пошли на гумно в последний раз. Оба раза она сильно кашляла. Это обстоятельство и погибший на фронте жених…
— Да, это была она, — повторил я уже уверенно.
С души моей свалился камень, и потом, когда я ушел от Марии Клары и ехал на машине домой, среди оживленного движения, обычного для середины дня, даже вопрос о том, что делать с Алехо, не казался мне таким уж трудным. Можно найти выход; из всего можно найти выход, кроме смерти. Алехо одумается, я дам ему время одуматься. А потом, если стыд, робость, страх или что-нибудь еще помешают ему вернуться, подобно блудному сыну, я сам его найду, потому что знаю, где искать. Я заставлю выслушать меня. Не может он быть таким испорченным, чтобы не послушаться голоса крови, презреть любовь тех, кто желает ему добра, тех, кто если и ошибались, то свою часть вины искупили. Правда, оставался еще труп, и еще долго мы не будем знать, что с ним делать. Но, если Алехо был на самом деле таким юношей, каким он должен быть, несмотря на все свои ошибки, то мы поможем ему искупить и эту вину, ведь я все больше убеждался в том, что преступление он совершил в момент экзальтации, когда все — орудие, мотив и удобный случай — было у него под рукой, а он оказался слишком слабым, чтобы устоять перед таким искушением.
Когда я пришел домой, Бернардина уже встала, и Эмма сказала мне, что выходить она не пыталась. Она оставалась спокойной, более уравновешенной, чем утром, и даже, мне показалось, хотела ответить легкой улыбкой на мою улыбку. Но спросила меня:
— Ты видел Алехо?
— Нет, но я знаю, где он, не беспокойся.
Мне удалось говорить с ней спокойно, я вслух повторил все свои рассуждения и призвал ее проявить немного терпения. Эмма, которая присутствовала при этом, слушала с недоверчивой улыбкой; но, возможно, как раз потому, что я говорил столь убежденно, она поддакивала, даже воспрянула духом и не раз повторила для себя и для нас:
— Мальчик он неплохой…
Бернардина согласилась сесть за стол, поесть немного и даже с большей твердостью, чем я ожидал, выдержала приход полиции, явившейся около трех часов. Не застав Алехо, они произвели тщательный обыск, но думаю, ничего не нашли, потому что компрометирующие бумаги и фотографии я еще утром унес в свой врачебный кабинет…
5
Они там все трое, смотрят на меня мрачно, а на столе — мои записки, фотографии. На самом верху Рената показывает свои красивые ноги. Но отец тут же, не дав мне опомниться, подступает ко мне с фотографией и спрашивает:
— Это что?
Я указываю на гору бумаг, врасплох он меня не застал. Уже давно я ждал этого момента. И давно решил поддержать, игру.
— Тут все ясно сказано.
— Нет, не ясно. Почему ты это сделал?
— А почему бы нет? Это было животное!
— Это был человек! И никому не дано поднимать руку…
Он говорит гневно, он убежден, что в мире существует только одна правда, его правда, правда всех палачей, которые, когда придет их час, не прочь разыграть из себя жертв.
Я немного наклоняюсь над столом, а в это время внутри меня что-то взрывается.
— Но они-то ее поднимают! Во имя чего? Почему же ты их оправдываешь? Кто дал им право решать за всех, будто мы — вещи, орудия, которые можно выбросить, использовав их?
— Что ты говоришь?
Он, кажется, меня не понимает, смотрит выпученными глазами поверх очков, удивленный моей неожиданной страстностью.
— Нас постепенно уничтожают, и все молчат, никто не протестует. Им и слова не скажи, а они провозгласили себя хозяевами наших жизней… Хуже — нашей чести! Они ее топчут, они нас унижают… Если они люди, то почему они не позволяют и нам быть людьми?
— Они тебе ни в чем не препятствовали! Ты мог…
Но я прерываю его:
— Не мог! Я не могу даже мыслить свободно. Ты понял, что я сказал? «Если они люди, то почему они не позволяют и нам быть людьми?» Как будто мне нужно их разрешение, как будто без их соизволения нельзя сделать ничего… Из-за них я становлюсь все хуже и хуже… А они-то сами — ничто, они — никто, их правда подлая, она не служит человеку, нет, она человека порабощает. Они прибегают к террору…
Он стучит кулаком по столу и кричит:
— Хватит! Нет ничего отвратительнее, чем оправдание с помощью лжи, с помощью обвинений, которые ты не можешь доказать…
— Оправдание в чем?
Я тоже стучу кулаком по столу, не изо всей силы, но громко, потому что я его не боюсь, я не боюсь никого. Мать кричит:
— Алехо, сынок!
Но я не обращаю на нее внимания, как и на тетку, которая стоит передо мной столбом. Мы с отцом смотрим друг на друга, и сейчас я раз в жизни выскажу ему все, что у меня на душе, все, что меня убивает.
— Я не собираюсь осуждать какие-либо идеи и верования. Я — жертва, ты разве не знал? Я и все те, кто, как я, задыхаются в униформе, которая нам слишком тесна, в нашей богоданной стране. Что из того, что я оказался убийцей? Я имею право защищаться как угодно, если придется — ногтями и зубами или же ударом ниже пояса… Они этого хотели, потому что разрушили все высокое и благородное. И ты тоже, вы все!
— Ты с ума сошел! Только в горячечном бреду…
Но я продолжаю кричать:
— Вы стали сообщниками оболванивания, потому что оно служило вашим эгоистическим целям. Никогда не слышал я из твоих уст слова осуждения, а раз ты не протестуешь, значит, ты одобряешь!
— Я сказал: довольно!
Тут он резко поднимается с места, наклоняется вперед и одним взмахом сметает кучу бумаг и фотографий на пол.
— Чего ты хочешь? Чтобы тебе разрешили убивать, грабить, бесчестить семью? Чего ты требуешь? Свободы жить с проституткой и делать все, что тебе вздумается, не считаясь ни с кем? Об этой достойной жизни ты говоришь?
— Другой вы мне не оставили, я уже сказал! Если вы нас считаете безответственными, мы, естественно, так и ведем себя! В каком мире вы меня заставили жить?
— В том, который тебе соответствует…
— В замкнутом мире, без воздуха, где дышать — уже грех. То есть пытаться дышать! Потому что мы не дышим, мы понемногу чахнем. Мы молодые, поэтому нам дано только одно право — право умирать молча! «Тебе всего восемнадцать лет, тебе всего девятнадцать лет…» Сколько раз ты мне это говорил? Вся моя молодость — один гигантский кляп? Конечно, что я могу сказать, что я могу сделать, если вы всё уже решили?!
— Ты должен бы благодарить нас за то, что мы избавили тебя от колебаний и борьбы, которые пережили сами, от ошибок…
— Каких ошибок?
— …которые молодежь совершает даже без злого умысла и которые…
— Вам нужно мертвое поколение. Или поколение узников! Один за другим оплевывали вы наши идеалы, одну за другой развенчивали мечты, вы лишили нас чувства нашей незаменимости, без которого нет жизни, нет стимула, нет ничего! И вы почти добились своего: у многих из нас остался только инстинкт разрушения.
Мать за спиной у меня, кажется, плачет громче и время от времени произносит мое имя, словно заклятье, которое должно бы печатью молчания лечь на меня, чтобы я наконец замолчал. Но я уже не ребенок!
Он говорит:
— Вы разрушаете самих себя! Такова судьба всех неприспособленных!
— А почему мы такие? Ты когда-нибудь спрашивал себя об этом?
Но он меня не слушает, продолжает свое:
— Смотри, во что ты превратил свою жизнь! Ты словно вернулся в джунгли, где царствует дикий инстинкт. Но мы — люди цивилизованные…
— Вы просто тюремщики. «Направо, налево, спи, ешь, если хочешь, заводи шашни, но не думай, ничего не затевай, откажись от части самого себя, от самой лучшей!..» Разве могли мы когда-нибудь начать свободную дискуссию, могли высказаться откровенно, ничего при этом не опасаясь?
— Да в любое время, стоило вам захотеть!
— Хоть один пример!
Он прячется за общие фразы:
— Разве хоть раз мы отказали тебе в праве высказать, что ты думаешь, чего ты хочешь, рассказать нам о беспокоящих тебя проблемах?
— Так ведь для вас проблем не существует! Что ты советовал мне не так давно? «Думай, что хочешь, но держи это при себе…»
— Никогда я тебе ничего подобного не говорил!
— Ну как же, на днях, когда я уходил! Ты это называешь правом на свободное волеизъявление, на самовыражение? Но я-то им пользуюсь без чьего бы то ни было разрешения. Это право нельзя предоставлять нам или не предоставлять, хотя ты думаешь иначе. Вам очень удобно брать в скобки все, что вам не нравится… А так как в нас вам ничего не нравится, вы нас и оставляете по ту сторону стены.
— Говори за себя! От кого ты сейчас выступаешь?
— От многих! Нас гораздо больше, чем ты думаешь.
— Никого ты не представляешь. Ты живешь по ту сторону стены потому, что так тебе нравится, потому, что кто-то отравил твои представления о жизни, а не потому, что общество тебя игнорирует. Все честные претензии, открыто выраженные, принимаются, и есть каналы, по которым они могут быть предъявлены… Но ты диктуешь свой закон, закон насилия.
— А ты знаешь какой-нибудь другой в данный момент?
— Почему ты не спросишь об этом тысячи и миллионы людей, которые живут всем довольные, которые выполняют свой долг…
— И даже соглашаются, чтобы им указывали, как им развлечься в воскресенье!
— …и знают, что такое ответственность? Они живут в том же мире, что и ты… Мы все живем в одном мире.
— В мире, огороженном стеной, а некоторые, такие, как я, находятся снаружи, потому что несогласны…
— Ты сам и обрекаешь себя на изгнание! Как ты думаешь изменить порядок вещей? Потасовками и стычками на улицах? Есть незыблемые ценности, порядок, и тот, кто хочет бороться с несправедливостью, с ошибками, должен делать это в рамках существующего порядка, признавая его…
— Но кто такой ты или еще кто-нибудь из вас, чтобы устанавливать подобные запреты? Если я их не признаю, зачем мне ваш порядок?
Он глубоко и устало вздыхает, но глаза его поблескивают за стеклами очков.
— Без норм общежития не было бы общества… Был бы хаос.
— А сейчас у нас что?
Я пристально смотрю на фотографию, он безусловно мертв; снова поднимаю взгляд.
— Разве не хаотично общество, которое ведет двойную бухгалтерию и все запутывает настолько, что никто уже не знает, кто есть кто? Когда дела опровергают слова… Или когда искажается значение слов — и всеобщая нищета именуется благосостоянием, а благомыслящими и достойными гражданами — те, кто живет чужим потом; когда свободой называется обязанность молчать, а прогрессом — процесс окаменения…
Он снова ударяет кулаком по столу, сминая бумаги и фотографии.
— Да ты-то что знаешь? Ты — невежда, сопляк, выучись сначала… Хватит! Все это от заносчивости! От заносчивости и неуважения… Пока что не тебе надо думать!
— А кому же? Что я буду за человек, если позволю другим думать за себя? Нет! Я хочу думать сам, и вся беда в том, что вы всеми силами стараетесь мне помешать… Вот на что я жалуюсь, ты все еще не понял этого?
— Так ты готовься к этому! Прежде чем стать учителем, необходимо побыть учеником. Разве кто-нибудь отказывал тебе в праве подготовиться? Ну, скажи!.. Но ведь ты даже не ходишь на занятия в университет.
— А я не хочу, чтобы меня учили, что я должен думать, мне нужно научиться самому думать. А они этого не делают! Никто и никогда не учил меня, как отличать правду от лжи; они только и знают: «Это — хорошо, а это — плохо!» И так день за днем, с малолетства, в школе, дома… Попугай обучил вас тому, что есть добро и что — зло, и думать тут больше нечего, надо лишь повторять эти слова, пока мы все не превратимся в идиотов. Делается все для того, чтобы мы не научились мыслить. От нас даже утаивают сведения, которые могли бы пробудить нашу мысль!.. Вы, наверное, боитесь нас? Думаете жить вечно, а мы так и останемся детьми, которых надо водить за ручку? Так нет же!
— На что ты жалуешься? Ты получил образование, которому многие позавидовали бы, на тебя никто ничего не жалел…
— Денег не жалели. Но дело не в деньгах. Кто хоть когда-нибудь поинтересовался, какие у меня учителя: способные, честные, доброжелательные? Ты — никогда! Позволил набивать мне голову понятиями, которые действительность тут же опровергала; ты позволил меня обманывать и называешь это хорошим образованием! Они не сформировали у меня правильного мышления, наоборот: они его деформировали, потому что были слишком тенденциозны, и у них даже не хватало честности, чтобы сомневаться…
— Ты с ума сошел! А в чем надо было сомневаться?
— Честный человек сомневается в собственных убеждениях и из благоразумия делится своими сомнениями с другими. Надо открывать умы для истины, а не закрывать!
Я в отчаянии вскидываю руки, это все не то, я не умею высказать свою мысль; досада и злость мешают объяснить, что я чувствую и сознаю… И я говорю:
— Какое несчастье, что я появился на свет после тех людей, которые знали все, всегда были правы и правы сейчас, даже когда их дети отвергают их правду, а действительность ее опровергает!..
— А почему дети должны быть правы? Только потому, что они молоды?
— Нет. Но вы же захотели завладеть нашим будущим. Есть что-то нездоровое в человеке, который не допускает, чтобы другой жил по-своему и думал иначе. Возраст тут ни при чем. Я могу уважать человека, если он честен, не задумываясь о том, молод он или стар.
— А кто, по-твоему, честен, кроме вас?
Он спрашивает об этом обидным, насмешливым тоном. А может, просто скидывает маску?
— Есть такие… Как пример могу привести твоего знакомого — Росендо Торреса.
Тут он взрывается:
— Это он-то честен? Потому что трижды сидел в тюрьме? Ты сам не знаешь, что говоришь! Вечно он весь в интригах да заговорах…
— Ты, наверно, хочешь сказать, что он боролся, чтобы сохранить цельной и чистой свою личность, чтобы сохранить в чистоте и цельности весь свой народ в такое время, когда не гнуть спину перед ними — уже преступление? Ты хочешь сказать, что он всем пожертвовал во имя высокого идеала, что его не смогли заставить отступиться от этого идеала ни запугиваниями, ни репрессиями? Ты его ненавидишь, ведь так? Вы все его ненавидите, уверен!
— Третьеразрядный писатель! Смешная фигура!
— Великий писатель, которого ты не можешь оценить, потому что он живет полной жизнью, не окаменел, как эти мумии, которыми ты восхищаешься, и он свободен, свободен в этой тюрьме, которую вы для нас строите день за днем… С такими людьми, как он, вы можете сделать только одно: убить их. Но вы не осмеливаетесь! Потому что они…
Он не дает мне говорить дальше. Он кричит:
— Никто, и он — дон Никто!
Я секунду молчу, потом выпаливаю:
— А ты кто?
Тетка возмущается, мать вскрикивает и продолжает рыдать, но я добавляю:
— Ты — человек, который не знает, за кого он, потому что давно примирился со своим бесчестьем, и считает, что его страна, хотя и прогнившая…
Не могу продолжать, он бросается ко мне, подняв руку. Я хватаю его за руку, уклоняясь от пощечины.
— Я тебе не позволю меня бить!
Он пытается вырвать руку. Тетка впервые сдвигается с места.
— Алехо, Алехо! Прекратите!
— Он не имеет никакого права поднимать на меня руку!
И отпускаю его. Он тяжело дышит.
— Я имею все права, негодяй!
Но ударить меня больше не пытается, а лишь кричит:
— Прочь с глаз моих, выродок! Убирайся! Убирайся, раз не хочешь!..
— Да, я уйду…
И я быстро иду к двери, не обращая внимания на мать, которая взвизгивает:
— Нет, сынок, нет!
За спиной слышу его шаги, он кричит мне вдогонку:
— Мерзавец! Убийца!
Вхожу в свою комнату; немного ошеломленный; оглядываюсь. Но сразу решаю, что ничего с собой не возьму. Выйду отсюда нагим, каким, должно быть, и вошел.
— Алехо, Алехо, что ты хочешь сделать?
Рядом со мной мать. Мнет в руках платок, но берет меня под руку и крепко вцепляется.
— Пусти, мама…
Она умоляет:
— Не уходи, не уходи…
Мягко высвобождаю руку:
— Пусти.
— Останься, Алехо. Ради меня…
Я смотрю на хрупкую маленькую женщину, всегда далекую от действительности, но тут же твердость возвращается ко мне, я отрицательно качаю головой и молча выхожу в коридор.
— Алехо…
Она идет следом, протягивает ко мне руки. С трудом пытается что-то объяснить:
— Твой отец не то хотел сказать… Ты его рассердил…
Я опять начинаю высвобождать руку.
— Если ты попросишь у него прощения, вот увидишь…
Я останавливаюсь и спрашиваю:
— Просить у него прощения? За что?
— Алехо, не гляди на меня так!..
Но я уже никак не гляжу на нее. Проношусь через коридор и, хлопнув дверью, вылетаю на лестницу. Бегу вниз, перескакивая через несколько ступенек, будто спасаюсь от них бегством.
На улице моросит дождь.
В баре «Попилс» почти пусто. Два парня и девушка сидят у стойки очень близко друг к другу, скрутив цепи своих сидений; Лола Мари еще с каким-то парнем устроились за первым столиком; Мончи в одиночестве просматривает счета.
— Алехо!
Рената оставляет Нину, с которой разговаривала, и проходит за стойкой к внутреннему залу, еще темному, куда вошел и я. Она зажигает свет.
— Погаси.
Она повинуется и, освещенная бледным светом, проникающим из бара, идет к столику.
— Ты промок.
— Ничего. Принеси мне коньяк.
Она уходит, я снимаю пиджак и вешаю его на спинку стула. В пачке, которую я вынул из кармана, всего одна сигарета. Закуриваю. Провожу рукой по лбу, по мокрым волосам. Потом ощупываю лицо.
— Вот коньяк, Алехо…
Рената ставит на столик рюмку; какое-то мгновение стоит возле, затем садится и берет меня за руку.
— Что с тобой?
Я лишь угрюмо пожимаю плечами. Она трогает мою одежду.
— У тебя рубашка на груди вся промокла…
— Неважно.
Беру рюмку и выпиваю залпом. И объясняю:
— Я ушел из дому. Выгнали.
У нее перехватывает дыхание, она два-три раза моргает.
Крепко сжимает мою руку повыше локтя.
— Они узнали…
— Да, все.
— Ты им рассказал?
— Нет, нашли фотографии, записки… Я знал, что рано или поздно…
Она отпускает мою руку.
— Подожди…
Встает, и сквозь дым от сигареты я вижу, как она подходит к Мончи, наклоняется к ней. Хозяйка слушает, кивает, что-то отвечает, и Рената выпрямляется. Вернувшись, говорит:
— Мы уходим.
— Куда?
— Ко мне.
Отодвигаю рюмку.
— Ты думаешь, я могу жить у тебя?
Она лишь говорит:
— Я сейчас.
Исчезает за дверью, а я медленно встаю и беру пиджак. Спускаюсь по ступенькам к стойке. Один из парней держит руку на бедре девушки.
— Нина… виски.
Тут я вспоминаю, что у меня нет денег. Поправляюсь:
— Нет, коньяк.
— Так что же?
— Коньяк.
Она подходит с бутылкой и рюмкой.
— Сильный дождь?
— Нет.
— Ты же промок.
Затягиваюсь сигаретой, выпускаю дым понемногу. Она улыбается:
— Я вижу, сегодня мы не в духе, а?
Не отвечаю. Курю, беру рюмку. Но теперь мне действительно хочется пить.
— Дай мне стакан воды.
— Воды?
— Воды!
Остальные оборачиваются, смотрят на меня; она пожимает плечами. Я отпиваю коньяк.
Открывается дверь, и кто-то входит.
— Ну и погода!
Нина приносит воды.
— Держи, птенчик.
Бросаю окурок; жадно пью. Потом допиваю коньяк. Рената трогает меня за локоть.
— Я готова.
И повернувшись к подруге:
— Нина, я ухожу.
Та подходит получить и говорит:
— Он у тебя сегодня не в настроении, да?
Рената пробует улыбнуться.
— Такой уж день…
— А вот мне нравится дождь.
— Дело вкуса.
Оборачивается ко мне:
— Идем?
Иду за ней к двери; выходим на улицу под мелкий моросящий дождь.
— Придется бежать…
Но я останавливаюсь.
— Почему ты хочешь, чтобы мы пошли к тебе?
— Здесь мы не сможем поговорить.
— А мне нечего рассказывать… — Я стою на своем: — Не могу я жить у тебя.
— Почему? Куда ты пойдешь?
— Не знаю. Потому что ты уже не моя Рената.
— Твоя, Алехо.
Она смотрит на меня, и я встречаю ее взгляд. На лбу у нее капельки дождя.
— Ты и сам это знаешь. Потому и пришел.
Просунув руку мне под локоть, стискивает мои пальцы.
— Идем, не то промокнем…
Жмемся к стене сада у особняка, идем, укрываясь под балконами, сворачиваем.
— Какие у тебя горячие руки… — говорит она. — Наверно, температура.
— Нет.
— Ты здорово промок. Что ты делал? Шел сюда пешком от дома?
— Я прогулялся.
— Прогулялся! Но, Алехо… Почему ты так поступаешь?
— А я как Нина. Мне тоже нравится дождь.
— Я напою тебя горячим кофе… Ты просто ребенок.
Я останавливаюсь, беру ее за плечи и прижимаю к стене дома.
— Рена…
Наклоняюсь, ищу ее губы. Она молча дает себя поцеловать, но, когда я отрываюсь от нее, глаза у нее полны слез. У меня тоже. И, видя, что она не двигается, я жестко говорю:
— Чего ты ждешь?
— Ничего.
Она берет меня под руку, и мы идем по улице. Машина слепит нас фарами, в их лучах видны тонкие разорванные нити дождя. Вода струится по нашим лицам, затекает за открытый ворот. И она говорит:
— Алехо, ты останешься?
— Нет. Скорее всего, нет.
— Останься. Я тебя прошу.
— Этого мало.
— Если любишь, достаточно.
— А может, я тебя уже и не люблю.
Но тут же обнимаю ее за плечи; чувствую, что она тоже промокла.
— Люблю… Не обращай на меня внимания, Рената. Мне сейчас хочется сделать тебе больно.
— Алехо…
— Пожалуй, лучше бы мне не заходить к тебе… Мы будем страдать, Рената, будем страдать…
Ее голос нежный, влажный, как эта пронизывающая нас ночь.
— Я знаю. И не хочу, чтобы ты страдал один.
Легонько трогаю ее лицо и сразу опускаю руки. Теперь она обнимает меня.
— Идем, Алехо…
Но мы уже пришли. В стеклах двери отражаются ядовито-зеленые растения. Рассеянно и немного зачарованно трогаю листья, пока Рената достает ключ.
Запираем за собой дверь и в темноте идем к лифту. В кабине она прижимается ко мне, и мы обнимаем друг друга мокрыми руками. Она поднимает голову, и я второй раз целую ее, но тут же отрываюсь от ее губ и роняю голову ей на грудь. Она молчит.
В квартире все идет по-другому. Мы входим в спальню, и она сразу же снимает вязаный жакет, идет к шкафу:
— Снимай все это…
Но я ничего не снимаю, сажусь на край постели, кладу руки на колени и разглядываю свои грязные ногти. Она приносит мне пижаму.
— Держи…
Видя, что я не двигаюсь, склоняется надо мной, потом опускается на ковер, обхватывает мои ноги в мокрых брюках. Она всегда так делала.
— Алехо…
Я говорю:
— Правда, я болен, Рена?
— Почему ты так думаешь? Что у тебя болит?
Я показываю пальцем на голову. Она дрожит.
— Это отец тебе сказал?
— Нет, не знаю… Я сам… Может, прав Серра: давление растет, растет, и в конце концов неизбежно… Но я не чувствую себя больным, даже когда раскаиваюсь в своих поступках. Раскаиваюсь, даже если не считаю себя виноватым, потому что я сам себе противен, и с каждым днем все больше…
Она тормошит меня.
— Алехо, Алехо! Что ты говоришь?.. Это потому, что у тебя неприятности.
— Нет, никаких неприятностей не было. Я чувствую себя как будто… освобожденным. Но тем хуже. Не понимаешь? Мне бы надо радоваться этому. Я порвал со всем, решительно со всем! У меня ничего не осталось, как я и хотел.
— Осталась я, Алехо! Я!
— Теперь я и в этом не уверен. Думаю, что нет. А может, так и лучше.
— Нет… Ты сам не понимаешь, что ты говоришь!
Она жмется ко мне, мокрая от дождя, но теплая.
— Я тебя люблю.
Голос ее дрожит, он полон странной неудержимой страсти, как будто и она хватается за последнюю соломинку, но я чувствую себя далеким от нее и жестоким.
— Никогда никто меня не любил. Только тот, кого никто не любит, мог сделать то, что сделал я. Надо было сказать об этом ему… Но тогда я и сам этого не знал.
— Алехо, Алехо…
— Меня предали; они приняли за любовь свои заботы о том, как бы получше накормить и дать хорошее образование, но они вовсе не думали обо мне самом, обо мне таком, каким я был, о таком, каким я хотел быть. И ты тоже… Мы с тобой принесли друг другу только вред.
— Это неправда, Алехо! Вспомни…
— Не хочу вспоминать!
Я резко встаю, а она остается на ковре у постели.
— Теперь ты — моя сестра.
— Нет.
Стою неподвижно и смотрю на нее; спустя мгновенье спрашиваю очень тихо:
— Нет?
— Нет.
— Почему?
— Я не чувствую себя твоей сестрой.
— Это еще ничего не значит. В прошлый раз чувствовала…
— Нет, просто я была напугана, мне нужно было время.
Я медленно склоняюсь над ней, и во мне растет, все заполняя, что-то новое.
— Это не так.
Она привстает, протягивает руки навстречу моим, безмолвная и пораженная.
— Ты это говоришь, потому что я кажусь тебе несчастным.
— Нет, Алехо, нет, клянусь тебе!
Я продолжаю чужим голосом:
— Значит, потому, что ты любишь меня… Да, потому, что любишь, и я это знал, только не хотел самому себе в этом признаться. Видишь, какой я сумасшедший? И я плохой…
— Нет, Алехо! Для меня ты лучше всех на свете!
— Все потому же, потому, что ты меня любишь. Как я был не прав, когда говорил, что никто меня не принимает таким, каков я есть! Ты принимала, всегда… Но ты возненавидишь меня, если я тебе поверю и возьму тебя сейчас…
Протягиваю к ней руку, касаюсь ее плеча. Но выражение ее лица не меняется. Нет, пожалуй, меняется. Глаза закрываются и снова открываются, они еще более влюбленные, ее руки ищут мои. Она только говорит:
— Я не солгала, Алехо.
Да, теперь я знаю, что она не солгала и любовь ее — не самопожертвование. Мы долго смотрим друг на друга, и потом; когда, я опускаюсь на ковер, она поворачивается ко мне и прислоняется плечом к моей груди. Поднимает лицо, и глаза ее как будто просят, чтобы я ее поцеловал.
Помолчав, она говорит:
— Я всегда была с тобой искренна, Алехо. Даже когда еще не знала, что люблю тебя… Не знаю почему.
Я молчу, играю единственной пуговицей на ее блузке.
— Хочешь, я скажу тебе что-то?
Качаю головой, но она этого не видит. И вдруг говорю:
— Один раз ты меня обманула, Рена.
Она поворачивается, смотрит удивленно:
— Когда?
— Ты сказала, тебе двадцать лет, а тебе почти двадцать три.
— Да, правда. Но я не лгала, сказала машинально, по привычке. Солгала я только один-единственный раз, и не тебе.
— А кому?
— Мончи. Я думала, если скажу, что мне двадцать два, она посчитает, что это слишком много. Нине девятнадцать, а Джози и того меньше.
— По мне, так ты моложе их.
— Потому что ты меня любишь.
— Другим тоже так кажется, Рена. Ты такая красивая…
Она улыбается, услышав это непривычное в моих устах слово; трется щекой о мою щеку.
— Ты будешь моим?
— Да, Рена.
— А хочешь знать, что я хотела тебе сказать?
— Да. Что?
— Что я не хотела возвращаться.
— После того как побывала в суде?
— Да. Ты представить себе не можешь, как я себя чувствовала. И как боялась за тебя.
— За меня?
— Или за себя, пожалуй. Мне казалось, что, даже если я твоя сестра, я не смогу отказать тебе.
— Но ты смогла.
— Да. И знаешь почему?
— Нет.
— Потому что очень тебя любила. И хотела продолжать любить тебя, ничего не оскверняя.
— Разве уже не было?..
— Нет, мы же не знали.
— А теперь?
— Теперь мы знаем, что это не так. Я много думала и теперь знаю, что мать тоже не солгала.
— Почему?
— Я вспомнила ту фразу, которую слышала девочкой. Все эти дни я ни о чем другом не думала. Соседка не говорила о солдате, она сказал: «Эта та, которая родилась, когда он служил?..» А кроме того, я видала твоего отца. Понимаешь?
— Да.
— И ничего не почувствовала. Вернее, почувствовала, что он не может быть моим отцом. Пока я его ждала, то есть когда привратница сказала, что меня хочет видеть какой-то сеньор, сердце у меня заколотилось. Я была очень взволнована. Но как только он вошел, я сразу поняла, что никакого родства между нами нет.
Она переводит дыхание, устраивается поудобней, садится ко мне лицом.
— Сегодня тебе было плохо…
— Пожалуй. Не знаю…
Глаза ее кажутся мне еще больше, чем всегда.
— Не знаешь?
— Говорил почти я один. Вместо того чтобы защищаться, я нападал. Увидел кучу бумаг и фотографий на столе и сразу же…
— А как он их нашел?
— Это было нетрудно. Некоторые фотографии даже не были заперты. Лежали в открытом ящике.
Она начинает:
— Для того чтобы…
Но останавливается, поворачивается ко мне и кричит:
— Ты это нарочно… Ты хотел, чтобы он их нашел!
— Не знаю. Пожалуй, да.
Я тихо говорю:
— В душе я хотел уйти из дому, хотел, чтобы меня выгнали… Мне было все равно.
— Но почему?
— Я — не из их числа, Рена; ты это знаешь. Я не мог дольше оставаться там, обманывать их. Я не могу их любить, они меня — тоже, я же тебе говорил. Они только думают, что любят меня, теперь я это понял…
Она качает головой.
— Ты их любишь, Алехо. Поэтому ты так и поступил.
— Не говори глупостей!
Но Рената не пугается моего почти сердитого тона.
— Ты знаешь, что это не глупости. Ты не хотел компрометировать их, если что-нибудь случится. Но сказать им прямо ты тоже не мог.
Я не отвечаю. Лишь инстинктивно сжимаю руки. Но я ей верю. Она знает меня лучше, чем я сам, возможно потому, что она меня любит, а я себя не люблю.
— Что ты сказал о… о том, что мы сделали с ним?
— Об этом мы почти не говорили.
— Нет? Тогда о чем же? О деньгах, которые мы хотели у него вытянуть?
— Нет, вообще ни о чем.
И вдруг я чувствую, что удивлен не меньше ее. Меня охватывает досада. Если отец пошел на спор со мной, значит, он чувствует себя виноватым. Но не признается. Это от неискренности. Он, должно быть, всегда вел себя неискренне. Дрожь пробегает у меня по спине, по всему телу. Я сердито говорю:
— Никогда у него совесть не была спокойна.
— Алехо… Ты дрожишь!
— Нет. Знаешь, о чем мы спорили? О причинах, которые могли привести меня к убийству. Он знает, что есть вещи, которые стоят побольше, чем жизнь такого человека, как тот, ему пришлось это признать… Но… не знаю… Они мерзкие!
— Алехо, что с тобой?
Она упирается в пол коленом, встает.
— У тебя зубы стучат.
— Нет…
— Да. Ты не переоделся, а ведь ты совсем мокрый…
Она берет меня за руку и заставляет встать.
— Это я виновата: я забыла. Я же знаю, что ты… За тобой надо следить, как за маленьким!
Но я отталкиваю ее руки, хочу раздеться сам.
— Я приму душ.
— А я приготовлю тебе кофе.
Но прежде чем уйти, она приподнимается на цыпочки и быстро целует меня. Я протягиваю руку, но ее уже нет.
Раздеваюсь и иду в ванную. Когда становлюсь под душ, едва не вскрикиваю. Вода ледяная и кусается, как злая собака. Сжимаю зубы и энергично растираю грудь, живот, спину. Понемногу тело привыкает. Открываю рот и глотаю воду.
Рената входит, как только я закрыл кран.
— Держи, тут не было полотенца.
Я сильно растираюсь, будто хочу содрать с себя кожу, наклоняюсь, тру бедра, ноги.
Сзади до меня доносится приятный запах, и моей спины касается рука Ренаты.
— Что это?
— Одеколон.
Я распрямляюсь.
— А потом присыплешь тальком, да? Ты в самом деле считаешь меня ребенком?
— Ты и есть ребенок!
— Да? Ну подожди!
Швыряю полотенце и бросаюсь к ней, но спотыкаюсь; слышу, как она смеется уже в спальне. Выпрямляюсь и ограничиваюсь тем, что просовываю в дверь голову:
— Попробуй только явиться снова со своими лосьонами, узнаешь!..
Рената показывает мне язык из спальни, и мы смеемся. Потом она уходит.
Я причесываюсь перед зеркалом и выхожу собрать разбросанную одежду, складываю ее у стены.
Пижама лежит на постели, но я надеваю только куртку. Иду к своей одежде за сигаретами. И вспоминаю, что выкурил последнюю; иду в кухню.
Увидев меня, Рената смеется:
— Глядите, какой красавчик!
— Ах так?
Жду, пока она управится с ковшиком, и, когда обе чашки налиты, протягиваю руку и крепко вцепляюсь в Ренату.
— Сейчас посмотрим, что ты запоешь!
— Ты что?
Она вырывается и бежит в спальню…
Нищета и подлость остались далеко-далеко от нас; из этой дали они уже не могут причинить нам зла, и меня мучает только страшная красота этой минуты, когда я мог бы даже отказаться от Ренаты и все равно ее не потерял бы. Поэтому я жду, склонившись к ее лицу. Она гладит мое лицо и тоже молчит, наконец говорит снова:
— Любимый…
Даже страшно как чисто, высоко и безмерно все сейчас; не верится, что можно полюбить огонь, гореть на нем, не сгорая и не умирая. Мы умрем завтра, но не сегодня, мы умрем завтра, умрем когда-нибудь, когда будем уже другими, когда нас засыплет пепел: только он и останется от этого пожара.
Я лежу, уставившись в белый потолок, потом тоже встаю и иду на кухню. Над чашками уже не клубится пар, но кофе еще теплый. Выпиваю свою чашку залпом, а другую уношу в спальню и ставлю на ночной столик.
Она стоит позади меня и говорит:
— Слышишь?
Дождь стучит по стеклам. Идет сильный дождь.
— Откроем?
Она сама гасит свет; я чувствую ее рядом; Мы движемся в потемках, потом вдруг шум становится сильней, как будто ливень врывается в комнату. Обнявшись, высовываемся из окна; водяной полог отделяет нас от мира, от улицы, где бледным светом горит фонарь.
Она прижимается ко мне, я замечаю, что губы ее шевелятся.
— Ты останешься, да?
— Если хочешь, останусь.
— Хочу.
Я глажу ее по голове, трогаю мочки ушей, без конца прикасаюсь к ней — ведь сейчас все так просто и ясно.
Потом, не закрывая окна, мы возвращаемся на постель; она снимает халат.
На ночном столике стынет кофе.
Пять часов вечера. Я закончил свой роман, я работал весь день, сел за стол рано утром, когда она еще спала.
Это было нелегко. Я суховат и резок, а иногда впадаю в лиризм, наверное потому, что мне всего девятнадцать лет. Особенно когда я говорю о Ренате и нашей любви. Как влезть в шкуру пятидесятилетнего мужчины и найти соответствующий стиль? Я попробовал это сделать, но не знаю, что получилось.
Мне хотелось бы писать ярче, углубиться в психологический анализ, объяснять факты, а не просто излагать их, как это делали двадцать-тридцать лет назад… Надо, чтобы контраст между его литературной манерой и моей был разительным, броским, чтобы стиль и в самом деле стал мерилом самого человека. Рената считает, что получилось довольно хорошо. Но Рената меня любит и прочла слишком мало хороших книг; поэтому она не может быть истинным судьей.
Сейчас, пока я просматриваю первые страницы и вношу кое-какие поправки, она сидит передо мной и молчит. В руках у нее журнал, но она его не читает. Упорно смотрит на меня. Встретив мой взгляд, улыбается. Я знаю, Рената убеждена, что я великий писатель. Но мне-то известно, что это не так. Это мой первый роман. И теперь, когда он закончен, я немного обескуражен.
Не выпуская из рук пера, тянусь к пачке сигарет. Но пачка пустая. С десяти утра я только и делаю, что курю. Нервничал. Да и сейчас еще нервничаю.
— У тебя больше нет?
Она сразу встает.
— Есть, на кухне. Я всегда держу пачку в шкафчике на всякий случай.
— Это она и есть. Свою я прикончил вчера.
— Значит, больше нет. Пойду куплю.
Подходит, облокачивается на мое плечо и немного наклоняется.
— Ты доволен, а?
— Вовсе нет.
Удивляется.
— Почему?
Потом добавляет:
— Ты, наверно, слишком, требовательный.
— Не знаю… Слишком тщеславный.
Она трогает листки, смотрит на них.
— Что ты с ним собираешься делать?
— Пошлю отцу.
— Ему не понравится.
— Я писал не для того, чтобы ему понравилось. Он застрял на Бальзаке.
Она чуть выпрямляется, не снимая с моего плеча теплый голый локоть.
— И ты не похлопочешь, чтобы его опубликовали? Пошли на какой-нибудь конкурс. Например, Сан-Джорди[13]…
Я уже думал об этом. Но теперь только пожимаю плечами.
— Для чего? Все равно без купюр не опубликуют.
— Неважно. По-моему, главное, чтобы знали, что пишутся такие вещи, как эта.
Я беру ее за руку, улыбаюсь.
— Может, и правильно…
Но потом, когда она уходит за сигаретами в киоск, я снова об этом думаю. Я не сказал всего, что хотел сказать, или сказал недостаточно внятно. Не знаю почему. Никогда раньше не думал публиковать этот роман. Но что-то давит на меня: среда, окружающие условия, которые не дают мне быть вполне свободным, даже когда я наедине с самим собой, например сейчас, когда я пишу эти строки. Теперь больше, чем когда-либо, я понимаю, какой огромный ущерб они мне нанесли.
Передо мной на стене висит репродукция Тапиеса[14], она висела здесь, когда я впервые пришел к Ренате. Это вещь мрачная и выстраданная, глубокая. Творение человека свободного. Но он художник, а художники все сумели спасти свою творческую душу. А я не могу. Да, по сути дела, и не хочу. Как все, кто пишет. Литература — это куда больший компромисс с действительностью, особенно сейчас. Я — из тех, кто родился в огороженном пространстве, и, хотя я этих стен не признаю, у меня психология узника.
Кладу ручку на исписанные листки, тру лоб. Думаю о том, что, может быть, я написал книгу подлую, но так уж всегда бывает, если говоришь не всю правду. А я сам себя непрестанно сдерживаю, и понадобится много времени, чтобы от этого избавиться. Времени и опыта. Мне не терпится войти в силу, обрести собственный голос; ведь сейчас я еще не могу построить ничего долговечного и не смогу, пока не отвоюю для себя то внутреннее пространство, которое останется свободным от руин.
Я поднимаюсь, прохаживаюсь по залитой солнцем комнате: дождливую ночь сменил яркий лучезарный день; стою у стола. Мое произведение — лишь руины здания, оно с самого начала дало трещину. Я построил его из глины. И не смогу извлечь из него никакой пользы: глина недолговечна, она крошится и снова становится пылью, оседающей на наших стопах. Но я касаюсь этой пыли пальцами, собираю ее горстями, ссыпаю в кучу и что-то погребаю под ней. В фундамент всегда что-нибудь замуровывают; бывает, что замуровывают и человека, а бывает — в исключительных случаях, — что и целое поколение. Может быть, мое поколение…
Сажусь к столу, берусь за перо и медленно, на этот раз неохотно, перечитываю листки. Надо пожертвовать собой и оставить после себя какое-то свидетельство, хоть мы, наверно, и не стоим этого. Когда-нибудь в будущем это выяснится. В конце концов, я не написал бы мой роман, если бы не верил в будущее.
Слышу, как хлопает дверь, и через минуту Рената стоит рядом.
— Я купила тебе короткие «сельтас», длинных не было.
— Все равно…
Она кладет на стол две пачки; одну я раскрываю, и мы смотрим друг другу в глаза. Она гладит мои волосы, а я обнимаю ее за талию.
— Алехо… С тобой что-то происходит?
— Нет, ничего…
Отпускаю ее; мы оба улыбаемся. Ее близость придает мне силы. Я протягиваю ей открытую пачку, берем по сигарете. Закуриваем, и я сразу же снова начинаю писать, а она садится по другую сторону стола.
Необходимо еще поработать переделать некоторые сцены, написанные слишком стремительно в минуты чрезмерного эмоционального напряжения, посмотреть на текст, насколько это возможно, со стороны, с такого расстояния, которое позволило бы взглянуть на него критическим глазом. Но я знаю, что не смогу этого сделать, потому что это не только роман, а кусок моей собственной жизни в ее решающий момент, неизбежная автобиография романиста, который кует свое первое оружие и пробует его на себе…
Рената стоит у окна и, прерывая мои мысли, говорит встревоженно:
— Алехо… Иди сюда! Быстро!
И машет рукой, зовет к себе.
— Что такое?
Вскакиваю со стула и бегу к окну; она кивает, указывая на улицу:
— Смотри!..
Я еще успеваю увидеть, как второй человек в форме захлопывает дверцу автомобиля и исчезает, направляясь к подъезду.
— Полиция!
Взглянув на нее, я вижу, что кровь отхлынула от ее лица. Сигарета выпала из пальцев и дымится на полу. Мир обрушивается на нас.
— Они, наверное, идут сюда…
— Не знаю…
Она окидывает комнату рассеянным и в то же время напряженным взглядом, словно ищет убежища. Я говорю:
— Очень скоро мы это узнаем.
Она не слышит и спрашивает меня, спрашивает себя:
— Мы что-нибудь оставили там?
— Нет, ничего.
— Как ты можешь быть настолько уверен?
Она наугад протягивает ко мне руку, хотя уже светло; я беру ее руку и прижимаю к груди.
— Может быть, это не то, что ты думаешь. На днях я потерял бумажник.
Она, конечно, ничего не понимает, и я быстро поясняю:
— На демонстрации, как раз в тот день, когда ты пошла со мной.
— Ты мне ничего не сказал.
— Не сказал… Мой друг Торрес нашел его и взял домой.
— Почему не отдал?
— Не успел, его арестовали, он и сейчас там. У них был обыск… Разумеется, удивились, откуда там мой бумажник, вот они и хотят это выяснить.
— Алехо, они, наверно, побывали и у тебя дома?
— Должно быть, побывали.
— И твой отец…
Но я прерываю ее, этому я не поверю. Хочу быть справедливым.
— В бумажнике твой адрес, фотографии…
— Но в таком случае они не могут наверняка знать, что ты здесь… Я тебя спрячу!..
И тянет меня за руку, снова оглядывается. Но я-то знаю, что, в этой квартире негде спрятаться. Поэтому я ее останавливаю.
— Нет. Они войдут в квартиру.
— Я их не пущу.
— Все равно войдут, и будет еще хуже. Перевернут все, найдут роман и заберут его… Лучше подчиниться им: ведь это всего какая-нибудь неделя или еще меньше.
Она смотрит на меня все еще широко открытыми, полными тревоги глазами. Ее ногти впиваются в мои руки.
— А если это не то, если ты ошибаешься? Я не хочу тебя терять, Алехо!
— Нет, Рена, нет… — Глажу ее по щеке, и вот ее голова лежит на моем плече. — Ты никогда меня не потеряешь.
Сердце мое как будто остановилось, и вдруг оно срывается в галоп. Может быть все что угодно. Возможно, мы допустили какую-нибудь ошибку. Но я всегда был готов к расплате, теперь я это твердо знаю. Только за убийство, конечно…
Я отодвигаюсь от нее, возвращаюсь к столу и, как попало, складываю разложенные на столе листки.
— Куда мы это положим?
Но тут же сам себе отвечаю:
— На самое видное место, как будто мы и не думаем его прятать…
Наклоняюсь к этажерке, на которой стоит радиоприемник, и кладу листки под журнал рядом с папашей Ноэлем.
Когда выпрямляюсь, звонок уже звенит, долго и властно.
— Они пришли…
— Да.
Мы смотрим друг на друга, не трогаясь с места, но дышим учащенно, и сердца наши бьются о стены столовой. Потом она оказывается в моих объятиях, губы наши встречаются, и мы не знаем, не в последний ли раз.
Снова звенит звонок, чуждо и враждебно, и тогда я говорю:
— Идем…
Мы идем вместе, обнявшись, навстречу нашей судьбе.
1
«Малой умирает» (фр.) — роман С. Беккетта. — Здесь и далее примечания переводчиков.
(обратно)2
За праведника, которого поместили среди убийц (каталан.)
(обратно)3
Холостяцкая квартира (фр.)
(обратно)4
Clara — ясная (исп.)
(обратно)5
Скажи мне, чья ты? (ит.)
(обратно)6
Как я люблю эти звездные ночи,
В лунном сиянье светлей серебра,
В неге мечты
Ты, только ты… (ит.)
(обратно)7
Мятный твист (англ.).
(обратно)8
Кругом, кругом,
Вверх, вниз,
И еще раз кругом, и снова вверх, вниз… (англ.)
(обратно)9
Сарсанедас Джорди (р. 1924) — известный каталонский писатель.
(обратно)10
Русиньоль Сантьяго (1851–1931) — каталонский художник и писатель.
(обратно)11
Сен-Жон Перс (наст. имя Алекси Леже; 1887–1975) — французский поэт.
(обратно)12
«А под нейлоном влажная миндалина женщины…» (фр.)
(обратно)13
Сан-Джорди Джорди де (? — 1423 или 1425) — знаменитый каталонский поэт.
(обратно)14
Тапиес Антонио (р. 1923) — каталонский художник, чьи картины исполнены драматизма.
(обратно)



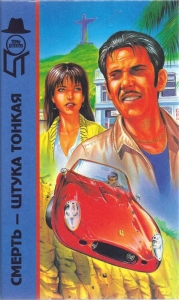




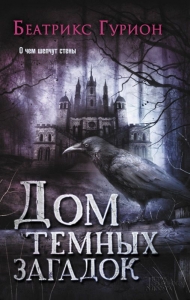



Комментарии к книге «Замурованное поколение», Мануэль де Педролу
Всего 0 комментариев