Николай Оганесов Играем в «Спринт» (сборник)
Играем в «Спринт»
Глава 1
1
Был вторник. Двадцать девятое сентября.
Собственно, начать, наверно, надо бы с пятнадцатого, поскольку именно эта дата значится во всех официальных документах, а в постановлении следователя о возбуждении уголовного дела, например, даже час указан с точностью до минут — 21.40.
Точность — вещь безусловно полезная, кто спорит, но много ли толку в цифрах, если им не сопутствует хоть какая-то ясность? В подобных случаях они ничего не объясняют, за ними — пустота, или, выражаясь языком криминальных романов, сплошной мрак неизвестности. Наше дело как раз из таких, мрака хоть отбавляй, и указание на часы и минуты тут не что иное, как формальность, ни о чем особенно не говорящая. Во всяком случае, пока.
Это во-первых.
А во-вторых, раз уж речь зашла о датах, пятнадцатого сентября меня здесь вообще не было. Я находился за тридевять земель, практически в другом конце страны, и понятия не имел ни о путаных обстоятельствах этого дела, ни о роли, которую мне предстояло в нем сыграть.
Сейчас мне и самому не верится, что всего две недели назад я был дома, сидел на кухне, пил с матерью чай из тонких фарфоровых чашек, не спеша готовился к отъезду. Прошло совсем немного времени, и нет больше чашек, нет занавесок на окнах, нет нашей старой обжитой квартиры с видом на Исеть. Верней, все это, конечно, есть. Но очень далеко — в том городе за Уральским хребтом, где осталась мама, друзья, где я жил и учился и где так недавно мне, новоиспеченному выпускнику Высшей школы милиции, вместе с дипломом об окончании вручили направление, предписывающее ехать сюда, на юг, к месту своего назначения.
Я уезжал в город, в котором никогда прежде не был, о котором знал до обидного мало: знал, что там тепло, что количество солнечных дней в году переваливает за двести, а берега, поросшие древними папоротниками и экзотическими пальмами, омывает «самое синее в мире Черное море мое»…
Море и вправду оказалось пронзительно синим. И солнце, не обращая внимания на календарь, припекало щедро, по-летнему. И пальмы росли прямо на улицах, поддерживая свои вечнозеленые кроны толстыми и морщинистыми, как слоновьи ноги, стволами. Тропики, одним словом! Но, пожалуй, главным из всего, что меня здесь ожидало, была работа — первая в жизни самостоятельная работа, о которой мечтал чуть ли не с детства…
Ну, да я отвлекся.
Был, как уже сказано, вторник. Двадцать девятое сентября. Вторая половина дня, точнее, восемнадцать тридцать.
Я сидел на скамейке у раскаленного зноем парапета набережной лицом к морю. Сидел и ждал, когда короткая стрелка на моем хронометре подберется к цифре семь. До этого исторического момента оставалось полчаса.
Я говорю исторического, потому что ровно через полчаса мне предстояло выдержать что-то вроде экзамена на профессиональную зрелость: действуя на собственный страх и риск, я намеревался предпринять решительный шаг, с тем чтобы добиться наконец ясности, которой так недоставало в порученном деле. С детства питаю слабость к ясности. В любом деле… Впрочем, не буду забегать вперед. Пока я пребывал в состоянии относительного покоя или — что ближе к истине — в состоянии накрученной до предела пружины.
Время тянулось адски медленно, как оно может тянуться, когда дожидаешься определенного часа. В таких случаях лучше всего отвлечься, не думать о бесконечно растянутых минутах, переключиться на темы более приятные.
Существуют десятки, а может, и тысячи способов убить время. Я выбрал простейший и, поднапрягши память, пытался воспроизвести одну из органных композиций Чеслава Немана.
Музыка вообще моя слабость, особенно современная, а музыкальные экзерсисы — привычка, перешедшая от матери, она постоянно что-нибудь напевает. Неудивительно, мама у меня профессиональный музыкант, работает аккомпаниатором в областной филармонии.
Обычно мелодия дается мне легко, однако в этот раз что-то не клеилось. Голова трещала и гудела, но, пожалуй, не от мощных аккордов немановского «Хаммонда», а от шума прибоя и еще от боли, поселившейся у меня в голове еще со вчерашнего дня. Похоже, это была несколько запоздалая реакция на перемену климата. Или первый симптом простуды. Потому что время от времени давал о себе знать второй, не менее отвратительный ком в горле, тугой, как теннисный мячик, и такой же упругий.
Скамейка, на которой устроился, стояла в полуметре от гранитного парапета, отчего возникала почти полная иллюзия одиночества. Моментами казалось, что вокруг нет ни души и что можно позволить себе сидеть вот так, не двигаясь, бесконечно долго.
Между тем времени у меня оставалось не так уж много, да и набережная была забита народом. Сюда полюбоваться штормящим морем со всего города стекались толпы отдыхающих.
Посмотреть и впрямь было на что.
Далеко, у самой оконечности волнорезов, один за другим поднимались огромные мутные валы. С глухим рокотом катились они к узкой полоске пляжа и, величественно опадая, выносили на своих гребнях обрамленные пышной пеной коряги, стволы деревьев, пучки коричневых и зеленых водорослей.
Захватывающее зрелище, завораживающее даже. Вот только головная боль, будь она неладна. К тому же, хотел я того или нет, мысли упорно возвращались к заметке, опубликованной в местной «Вечерке», которую получасом раньше купил в киоске у морского вокзала.
Я опустил взгляд на развернутый газетный лист.
В самом низу, между колонкой с объявлениями о размене жилой площади и программой телепередач, под рубрикой «ПРОИСШЕСТВИЯ» крупным шрифтом было напечатано:
ЗА ПОСЛЕДНЕЕ ВРЕМЯ В ГОРОДЕ И ПРИМЫКАЮЩИХ К НЕМУ ПЛЯЖНЫХ ЗОНАХ ВОЗРОСЛО КОЛИЧЕСТВО НЕСЧАСТНЫХ СЛУЧАЕВ.
Ниже и более мелко шел текст, который я успел выучить наизусть и теперь перечитывал скорее от безделья, чем по необходимости:
«Не так давно наша газета помещала на своих страницах подборку материалов о злостных нарушителях Правил поведения на воде. Сезон близится к концу, однако мы вновь вынуждены вернуться к этой теме.
Вчера в акватории морского порта на полном ходу опрокинулся прогулочный глиссер, которым в нетрезвом состоянии управлял рулевой-моторист Н. Н. Панчин. В результате опрокидывания пассажиры глиссера гражданин ПРУДКИН Э. П. и его дочь ПРУДКИНА Л. Э. оказались за бортом. Благодаря самоотверженной и оперативной помощи спасательной службы потерпевшие были спасены.
Зарегистрировано еще несколько несчастных случаев.
Так, семнадцатого сентября на диком пляже, что неподалеку от санатория имени С. М. Буденного, утонул житель нашего города КУЗНЕЦОВ С. В. Как предполагают, во время купания он находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. Причиной смерти послужило грубое нарушение гражданином КУЗНЕЦОВЫМ С. В. Правил поведения на воде».
Далее следовали призывы к осторожности и краткие выдержки из упомянутых правил, поданные в форме интервью с представителем ОСВОДа.
Рядовая, в общем-то, заметка, ничего особенного. Подобные сообщения здесь не редкость и обычно мало кого интересуют, разве что самих потерпевших, их родственников или знакомых. Но как раз на это, последнее, обстоятельство я и рассчитывал.
Дело в том, что нынешняя информация появилась в газете по моей инициативе, при моем, так сказать, непосредственном участии. Я надеялся, что она привлечет к себе внимание людей, имевших отношение к случившемуся. К сожалению, ни имен, ни даже количества этих людей я не знал — я вообще не мог утверждать, что они есть, мог только предполагать.
Аргументация, чего греха таить, не очень убедительная, тем не менее начальник уголовного розыска подполковник Симаков согласился с моими доводами, слегка выправил текст и дал «добро» на публикацию. И вот заметка в газете. Остальное зависело от моих действий — действий, названных в законе коротко и исчерпывающе ясно — оперативно-розыскными…
Участь гражданина Прудкина и его дочери, о которых говорилось в заметке, беспокойства не внушала: они спасены, моторист Панчин, вероятно, уже лишен водительских прав и в ближайшее время понесет заслуженное наказание. Объектом нашего внимания являлись обстоятельства гибели гражданина Кузнецова, ибо в действительности они были куда сложнее, чем об этом сообщалось в газете.
Начнем с того, что труп утонувшего до настоящего времени не найден. Как потерпевший оказался на пляже близ санатория имени Буденного — неизвестно. Был ли он пьян — неизвестно тоже.
Это бы еще полбеды. Куда важней было другое: Сергей Васильевич Кузнецов, двадцатичетырехлетний старший кассир бара-ресторана при местной гостинице «Лотос», прежде чем грубо нарушить Правила поведения на воде, совершил кое-что похуже.
За день до несчастного случая, то есть пятнадцатого сентября, в 21 час 40 минут, находясь при исполнении своих служебных обязанностей, он уложил дневную выручку в специальные мешочки — кстати, часть выручки была в валюте, поскольку бар и ресторан посещают иностранные туристы, — поднялся по винтовой лестнице в вестибюль гостиницы, но до находящейся здесь же сберкассы, где его ожидал инкассатор, не дошел, хотя расстояние от подвала, в котором расположен ресторан, до сберкассы каких-то полсотни метров.
Поднятое по тревоге подразделение милиции тщательно осмотрело гостиничные номера, службы, бар и сберкассу, но не обнаружило ничего, что могло бы помочь в поисках пропавшего кассира. Он исчез, не оставив после себя никаких следов, и появился только через сутки, семнадцатого, на загородном пляже, да и то лишь затем, чтобы, скинув одежду, снова скрыться, на этот раз окончательно…
Приблизительно в такой последовательности изложены события в постановлении следователя, и не его вина, что события эти сильно смахивают на завязку детективного романа.
На скамейку по соседству со мной присела пожилая пара.
— Пойдет твоя «Комета», никуда не денется… — Мужчина говорил, обращаясь к своей спутнице — сухощавой женщине в детской панамке, но, видно, был человеком общительным и следующую фразу произнес, полуобернувшись ко мне: — Я на этом деле собаку съел, седьмой десяток здесь обитаюсь Через день-другой установится прекрасная погода. Поверьте старожилу, будет полный штиль…
В прогнозируемую перемену верилось с трудом, однако спорить со старожилом, «съевшим собаку», я не рискнул: нынешнее, на мой взгляд странное, сочетание кипящего в семибалльном шторме моря с полным безветрием и чистым, будто выкрашенным из пульверизатора, небом моему опыту ни о чем не говорило.
Обмахнувшись сложенной вчетверо газетой, я вытянул ноги.
До семи оставалось чуть больше четверти часа.
Высокие, грязно-желтого цвета волны продолжали яростно атаковать сушу. С грохотом обрушиваясь на берег, они взрывались клочьями пены и отступали, волоча за собой мокрую, сверкавшую на солнце гальку. Было что-то вечное в их неутомимом движении, угрожающее и одновременно притягивающее, почти гипнотическое.
Надо полагать, к концу сезона погода в этих краях действительно не балует постоянством: семнадцатого, в тот самый день, когда двое отдыхающих из санатория имени Буденного заметили тонущего в двадцати метрах от берега Кузнецова, море, к сожалению, было абсолютно спокойным. Я говорю «к сожалению», потому что утони Кузнецов в такой вот семибалльный шторм, его смерть, возможно, не казалась бы теперь столь нелепой.
Мне не пришлось побывать на месте его гибели, но по фотографиям, которые видел в деле, я хорошо представлял и пустынный пляж, и впадающую в море горную речушку, и одежду, сложенную на остывших к вечеру голышах. Представлял и человека, плывущего на выручку к тому, кто уже не нуждался в помощи. Когда Пасечник — мужчина, бросившийся спасать утопающего, — доплыл до места, где пятью минутами раньше беспомощно барахтался Кузнецов, над тем уже сомкнулись волны.
Позже в карманах оставленной на берегу куртки нашли служебное удостоверение, носовой платок, мятую пачку сигарет, спички и горсть монет. Все. Выручка из гостиничного ресторана как в воду канула. Юмор, быть может, и неуместный, но ведь не пошел же Кузнецов купаться, перекинув через плечо сумки, набитые деньгами?! Разумеется, нет. Он их где-то оставил, и не исключено, что у сообщника…
Скорее всего, размышлял я, Симаков думает так же. Иначе не дал бы согласия на объявление в газете. Но почему из всего аппарата городского угрозыска его выбор пал именно на меня — вот вопрос, который я задавал себе чаще других. Может, он думает, что сообщников Кузнецова следует искать среди местных? Делает ставку на то, что я здесь человек новый, не примелькался? Похоже, так оно и есть…
Нужно сказать, что на первых порах меня к текущей работе не привлекали. Дали время осмотреться. Я бродил по кабинетам, знакомился с коллегами, копался в архивах. Постепенно стало складываться представление об оперативной обстановке в городе. Если откровенно, она показалась мне довольно унылой: нераскрытых дел за следственными органами не числилось, в сводках преобладали мелкие хулиганы, незначительные по размерам хищения, случайные драки. Единственным рецидивным явлением, портившим в общем-то вполне благополучную картину, были фарцовщики. С ними боролись, но, очевидно, соблазн был слишком велик — как-никак крупный морской порт, да и иностранцев в этом райском уголке круглый год хоть пруд пруди, — и спекулянты, не считаясь с риском, продолжали делать свой «маленький бизнес»…
Что касается происшествия в гостинице, то краем уха я слышал об этом ЧП, но сведения были очень приблизительные — этим делом занимались другие сотрудники.
Словом, я был близок к разочарованию и внутренне готовился к длинной череде мелких и скучных поручений. Однако инкубационный период окончился раньше, чем я ожидал, и совсем иначе, чем мне представлялось.
В пятницу меня вызвали к «самому».
— Ну как дела, Сопрыкин? — спросил он, когда я по всей форме доложил о своем прибытии.
— Нормально, товарищ подполковник.
— С жильем устроился?
— Квартиру снял, — ответил я.
— Небось в центре и с видом на море? — поинтересовался Симаков, подняв на меня свои выпуклые небесно-голубые глаза, и я в очередной раз подивился, как он умудряется сохранить девственно-белый цвет лица при здешнем климате.
— Не то чтобы в центре, — признался я, — но в принципе нормально, товарищ подполковник.
— Не квартиру ты снял, а койку. И дерут, наверно, семь шкур. — Он улыбнулся, но улыбка получилась какая-то вымученная. — Кто сейчас квартиру сдаст — самый сезон, бархатный. Койка нашлась, и то, считай, повезло.
Он вытащил из кармана своей белой отутюженной рубашки блокнот и вырвал из него лист.
— Короче, Сопрыкин, такие дела: комнату мы тебе выделили. В доме гостиничного типа. Вроде как молодому специалисту. Через неделю она освобождается — и можешь вселяться.
Он поднялся с кресла, обошел вокруг стола и протянул мне листок:
— Держи — твой новый домашний адрес. Матери напиши, чтоб не волновалась: комната приличная. Не сомневайся, сам смотрел. Газ на две конфорки, и душ индивидуальный имеется. Ну а недельку придется потерпеть.
— Спасибо, — промямлил я и впервые со дня приезда вдруг по-настоящему осознал, что нахожусь тут не временно, не случайно, что здесь, в этом городе, предстоит жить и работать, и не месяц, не год, а возможно, всю жизнь. Черт знает почему, при мысли об этом у меня защемило сердце.
— Спасибо, — еще раз пробормотал я, пожимая протянутую руку.
— Не стоит. Женишься — квартиру дадим, — пообещал Симаков.
По его тону можно было догадаться, что с решением жилищной проблемы наш разговор не исчерпан.
Опустившись в кресло, он спросил, глядя на меня голубыми немигающими глазами:
— Ну как тебе город? Освоился?
— Не совсем, — признался я.
— Что так?
Я перевел дух.
— Раньше бывать не приходилось, товарищ подполковник, а сейчас времени не хватает, в чужих делах роюсь, ориентировки читаю…
В последние слова я вложил намек на свое затянувшееся безделье, но Симаков сделал вид, что не понял.
— Ориентировки — вещь полезная, — обронил он, как видно, думая о чем-то своем. — Ты когда приехал?
— В прошлую пятницу, неделю назад.
— Да-да, помню… — Он откинулся на спинку кресла, скрестил на груди руки и снова остановил на мне внимательный оценивающий взгляд. — Значит, в чужих делах роешься? Что ж, может, это и к лучшему… — Продолжая вслух какую-то свою мысль, заметил: — Только вот прическа у тебя не того, длинноватая. Не модно это сейчас… — Помолчав, добавил: — Значит, надоело, говоришь, по коридорам слоняться?
— Так точно, — по-военному четко доложил я.
— Надоело… — Видимо, он подвел черту под своими неясными для меня размышлениями. — Так вот, Сопрыкин. Считай, закончился твой карантин. Работа для тебя имеется… Ты раньше времени не улыбайся. Дело серьезное. Про Кузнецова слыхал?
— Слышал.
— То-то. Человек пропал. Это тебе, брат, не кража с пляжа.
Ребята рассказывали, что много лет назад Симаков начал свою службу в милиции с задержания пляжного вора, накрыл его в раздевалке вместе с поличным, и теперь, будучи уже подполковником и начальником отдела, часто приводил «кражу с пляжа» как пример самого быстрого и оперативного раскрытия преступления. Разумеется, делал он это с известной долей юмора.
— …Пропал человек, — повторил Симаков. Он вытащил из пачки папиросу, постучал мундштуком по столу и, потарахтев спичками, закурил. — Сначала из гостиницы испарился, потом, того лучше, камнем на дно. Улыбаться тут нечему, плакать впору… Валюты одной на семь тысяч и наших столько же. Соображаешь?
Он сделал паузу, чтобы я оценил всю значительность суммы. При этом на его скулах шевельнулись желваки, отчего лицо стало жестче и даже как будто потемнело.
— Ладно, не буду тебе раньше времени голову забивать. Подробности в прокуратуре узнаешь, у следователя. Потом ко мне зайдешь, обмозгуем, с какого конца лучше взяться. А после… — Он опять смерил меня взглядом и, изменив тон, заключил: — А после придется тебе, парень, на время забыть дорогу сюда, в розыск. Самостоятельно будешь работать. На свой страх и риск. Понял?
— Понял, — отозвался я.
— Вопросы имеются?
Вопросов не было.
Они появились позже, и ответы на них, увы, не мог дать ни опытный Симаков, ни менее опытный, но старательный следователь. Ответы предстояло искать самому.
2
Собеседник из меня оказался никудышный. Старожил-синоптик со своей спутницей не спеша удалялся вдоль набережной.
Похожие на удравших с уроков школьников, они держались за руки, женщина в панамке смеялась чему-то, ей вторил мужчина, а я глядел вслед и завидовал их беспечности, их хорошему, ничем не омраченному настроению.
Обратной стороной самостоятельности, о которой говорил Симаков, было одиночество, хотя об этом мой начальник, конечно же, не обмолвился ни словом.
Я был обречен на одиночество в силу порученного задания — оно предполагало мою полную изоляцию от сослуживцев, от случайных, не идущих на пользу делу контактов. Я успел убедиться, что это состояние, кроме прочих, имело еще одно малоприятное свойство: к нему нелегко было привыкнуть. А если прибавить оторванность от дома, чужой, незнакомый, по сути, город, получалось совсем худо.
Не знаю, уместно ли тут слово «ностальгия», но, глядя на здешнее раскаленное докрасна солнце, на праздные толпы веселых и беззаботных людей, я мысленно уносился за тысячи километров к северу, в свой далекий, скупой на краски город. Там уже ночь. Горят уличные фонари. Напоминанием о близкой зиме качаются голые ветки деревьев, и асфальт блестит от осевшей на него измороси. Оно, конечно, не так красиво: и моря нет, и горы пониже, да ведь это кому что нравится…
Я вздохнул и посмотрел на часы. Они показывали розно семь.
Пора.
Прихватив полиэтиленовую сумку с изображением бородатого Демиса Русоса, я пошел добывать двушку.
Ближайший телефон-автомат находился неподалеку, у входа в бильярдную.
К трубке на другом конце провода долго не подходили. Наконец монета проскочила в прорезь, и глухо, точно с другой планеты, донесся низкий, не то мужской, не то женский, голос:
— Слушаю.
— Это библиотека?
— Слушаю, говорите, — повторил голос.
— Это библиотека? — крикнул я, опасаясь, что меня опять не услышат.
— Абонемент это. Вам кого? — откликнулось в трубке.
— Кузнецову Нину позовите, пожалуйста.
— Кого?
— Кузнецову Нину!
— Нету ее. Ушла.
— Давно?
— Громче говорите, не слышно.
— Давно она ушла?! — гаркнул я что есть мочи.
— Хулиган! — возмутился абонент, и в наушнике раздались короткие, как многоточие, гудки.
Я повесил трубку. Расстраиваться было не из-за чего. Телефонный разговор с вдовой погибшего в мои планы не входил — важно было убедиться, что она уже вышла. В остальном я полагался на удачу.
От библиотеки до улицы Приморской, где Нина Кузнецова жила одна после смерти мужа, четыре квартала. Следовательно, через десять-пятнадцать минут она будет дома. При условии, конечно, что мне повезет и она пойдет домой, а не свернет куда-нибудь по дороге.
Вообще-то идея встретиться с вдовой погибшего принадлежала не мне. Она принадлежала Симакову. Он эту идею выдвинул, и он же, поразмыслив, забраковал, посчитав малоперспективной. «Искать надо не тех, кто на виду, — инструктировал он напоследок, — а тех, кто хорошо знал Кузнецова и держался при этом в тени, на расстоянии. Ищи, Сопрыкин, невидимок! Это и будет твое задание».
Легко сказать! Второй день я болтался по городу, стараясь напасть на след этих самых «невидимок», и все попусту. Тогда — с отчаянья, что ли, — вспомнил об отвергнутом плане, и чем больше о нем думал, тем сильней становился соблазн пойти на Приморскую. В конце концов решил рискнуть: нас учили использовать любой шанс, каким бы ничтожным он ни казался, и не в моем нынешнем положении было пренебрегать этим правилом…
Я направился к лестнице. У ее каменного основания лежали два облезлых, подслеповатых льва. Сложив каменные морды на лапы, они меланхолично смотрели куда-то за линию горизонта.
Ступени вели круто вверх, к многоэтажному корпусу гостиницы, чьи ослепительно белые стены виднелись сквозь непролазные джунгли, раскинувшиеся по обе стороны спуска. Называлось это сооружение «Лотос». Тот самый «Лотос», из которого за день до смерти исчез Кузнецов. Гостиница стояла на Приморской, то есть на улице, куда лежал мой путь и где до своей кончины проживал известный нарушитель Правил поведения на воде. Вот, кстати, еще одна загадка: вместе с уложенной в парусиновые мешочки выручкой Сергей умудрился «пропасть» в ста метрах от собственного дома — обстоятельство если и не подозрительное, то весьма странное…
«Как он вообще мог утонуть? — рассуждал я, одолевая подъем. — Родился у моря, плавать, верно, научился едва ли не раньше, чем ходить. Что привело его на пляж? Свидание с сообщником? Он пришел немного раньше назначенного часа, решил окунуться… Но с тем же успехом можно предположить, что свидание уже состоялось. Шоссе в том месте проходит в непосредственной близости от пляжа, есть даже съезд к берегу. Сообщник подкатил на машине, забрал свою долю и… А почему они не поделили деньги раньше? Почему не разъехались сразу после ограбления? Почему, наконец, сообщник не взял его с собой? И вообще, был ли у него сообщник? Кто сказал, что Кузнецов был не один?
С другой стороны, где он скрывался после пятнадцатого? Как попал на дикий пляж? Откуда? Вот и выходит, что началась эта история гораздо раньше, чем зафиксировано в официальных документах. Слишком много в ней неясного, необъяснимого…»
В любое другое время путь наверх не занял бы у меня и пяти минут, но, как видно, я действительно был не в лучшей своей форме: когда одолел подъем и вышел к двум точным копиям с оставшихся внизу меланхоликов, и спину и лоб покрывала испарина, а голова ныла, словно на нее надели тяжеленный железный обруч.
Наверху стояла бочка с квасом. Я постоял в очереди и взял большую кружку, но, не успев сделать и глотка, поперхнулся. Проклятый теннисный мячик почти наглухо перекрыл горло. А жаль! Квас был хорош. Бережно поддерживая кружку обеими руками, я прислонился к холодному боку цистерны и посмотрел вдоль Приморской.
То, что я видел, меньше всего походило на улицу. Передо мной лежала короткая и широкая площадка, открытая для проезда и стоянки автомашин. Благодаря сравнительно короткому спуску к морю, близости к центру и дюжине магазинов, расположенных в квартале отсюда, это было одно из самых оживленных мест в городе.
Правую от меня сторону площади из конца в конец занимал фасад «Лотоса» с подстриженными газонами перед входом, светильниками и клумбами, террасой, на которой под пестрыми зонтиками шла бойкая торговля прохладительными напитками. На другой стороне тоже имелись газоны и клумбы, выложенные песчаником дорожки, а также невысокая стена, сплошь покрытая рекламными щитами. Прямо напротив «Лотоса» стояло карликовое здание под вывеской «Канцтовары», а за ним, полностью скрытый от глаз прохожих декоративным кустарником, прятался одноэтажный домик, в котором ожидала меня… впрочем, никто меня там не ждал — Нина Кузнецова и знать не знала о моем существовании…
Неудивительно, что все мои мысли так или иначе сводились к вдове покойного. С самого утра я только тем и занимался, что перебирал различные варианты нашей встречи, — занятие сколь необходимое, столь и бессмысленное. Рассчитывать, что она пройдет по загодя разработанному плану, глупо, я прекрасно понимал это, но ничего с собой поделать не мог и, точно одержимый навязчивой идеей, вновь и вновь проигрывал предстоящую встречу в лицах, пытаясь предугадать ее исход.
Этим самым я занимался и теперь, что отнюдь не улучшало моего самочувствия. Поэтому я вернул кружку с недопитым квасом и двинулся через дорогу, чувствуя на спине ожог от прикосновения к холодной, как лед, бочке.
В изгороди, правее магазина «Канцтовары», имелся проход. Им я и воспользовался.
Бетонированная дорожка вела мимо заросшей виноградом стены, сворачивала за угол, к беседке, в глубине которой стояла старая садовая скамейка с несколькими уцелевшими перекладинами, и обрывалась маленьким тупичком — двориком, размером чуть больше прихожей в квартире стандартных размеров.
На ступенях, ведущих в дом, сидела девушка.
Я сразу ее узнал. По снимку, который видел в деле. Он был из традиционного набора свадебных фотографий и изображал не менее традиционный сюжет под названием «Молодая чета обменивается обручальными кольцами». У жениха — лицо в меру торжественное, чуть растерянное, а у невесты… говорят, будто невесты нефотогеничны, будто во время церемонии бракосочетания они выглядят куда хуже, чем до и после. Может, оно и так, не спорю, только на снимке двухлетней давности невеста вышла очень даже недурно. Правда, время и события последних недель изменили Нину, и изменили не к лучшему: у глаз залегли тени, когда-то пышные волосы были стянуты в тугой узел, а у губ обозначились складки, которых на фотографии не было и в помине.
Нина сидела вполоборота к дорожке, в точности повторяя ракурс со свадебного снимка, и сосредоточенно рассматривала столбик пепла, наросший на сигарете, которая дымилась в ее руке.
Она меня не видела — я остановился у пышного, в человеческий рост растения, напоминавшего листьями домашний фикус, и мог наблюдать за ней сколько угодно долго. Однако рано или поздно надо было начинать. Я собрался с духом и вышел из-за своего укрытия.
Нина мельком посмотрела в мою сторону, автоматически отозвалась на приветствие и, помедлив, сообщила:
— Квартиры не сдаются.
Это был устный вариант популярного в городе объявления: я встречал его написанным от руки, отпечатанным на машинке и даже в виде долговечных металлических табличек, накрепко прибитых к дверям и заборам.
— Мне самому впору сдаваться, — сказал я как можно беспечней, но, кажется, сфальшивил и поспешил добавить более нейтральным тоном: — На квартиру у меня нет денег.
Вероятно, она решила, что ослышалась:
— Простите, что вы сказали?
— Я говорю, что у меня ни копейки. В кино сходить не на что, не то что квартиру снять. Знаете, где я спал последнюю ночь? На лавке, в парке культуры и отдыха. — Само собой, ни на какой лавке я не спал — просто слегка сгустил краски, рассчитывая на сострадание.
— В парке? — переспросила Нина. — Не понимаю. Чего вы, собственно, хотите? Кто вы?
Вот теперь другое дело — примерно таким и мыслилось мне начало нашего разговора.
— Извините, я забыл представиться. Володя, фамилия Сопрыкин. В настоящее время нахожусь в законном трудовом отпуске, приехал к вам…
— Меня не интересует, к кому и зачем вы приехали, — сухо перебила она. — Объясните наконец, что вам нужно?
Я готов был удовлетворить ее любопытство и извлек из сумки книгу, на которую делал главную ставку.
— Литературой случайно не увлекаетесь? Продаю вот…
Нина недоверчиво посмотрела на увесистый том в буром с позолотой переплете, и я, пользуясь моментом, перешел в наступление:
— Не упускайте случай, девушка. Это уникальное издание! «История крестовых походов». Слышали когда-нибудь? Единственный в своем роде экземпляр. Берите, не пожалеете. Правда, у меня только второй том, но… минуточку… вы только послушайте… — Я раскрыл фолиант на заранее отмеченной странице, где речь шла о легендарном Ричарде Львиное Сердце, и, подражая манере профессиональных чтецов, с расстановкой начал: — «Король Ричард, возвращаясь в свое отечество, сел на корабль и направил путь прямо в Германию. Пристав к одной гавани, он отправился оттуда, переодетый, сухим путем и, проходя через Австрию, был преследуем лазутчиками и узнан. Чтобы лучше скрыть себя, он переоделся слугой и нанялся на кухню помощником. Но один из лазутчиков узнал Ричарда и уведомил о том Герцога. Был послан сильный отряд конных воинов, чтобы схватить короля…» Ну как? Захватывающая история, правда? Только не говорите, что вам неинтересно, чем закончился этот средневековый вестерн… Серьезно, девушка, покупайте, пользуйтесь случаем. Другой может не представиться…
Я ничего не знал о характере Кузнецовой, о ее интересах, вкусах и наклонностях, не знал, что ей нравится, а что нет, и потому действовал вслепую. Отсюда и книга, купленная накануне в букинистическом, — более удачного предлога для знакомства я не нашел, ведь Нина как-никак работала в библиотеке.
— Ну что, хотите посмотреть?
Она неуверенно пожала плечами.
Ричард Львиное Сердце выдавал себя за слугу. А вот за кого выдавал себя я? За спекулянта? Хиппового оболтуса, путешествующего по стране без копейки в кармане? За попавшего в беду человека? В моем положении любая из перечисленных ролей могла оказаться выигрышной.
— Смотрите внимательней. — Я с подчеркнутой осторожностью протянул книгу. — И обратите внимание на год издания.
Нина взяла том, в нерешительности подержала его в руках, потом положила на колени и раскрыла на титульном листе.
— Тысяча восемьсот двадцать третий! — заглядывая ей через плечо, прокомментировал я. — Представляете?! Эту книгу вполне мог держать в руках Пушкин. Не верите? Напрасно. Тиражи были маленькие, какая-то жалкая сотня экземпляров. И дата подходящая. Только подумайте: в двадцать третьем Пушкин еще молодой человек, Гоголь — совсем мальчик, а Толстого — великого Толстого! — и вовсе на свете не было!
Столбик пепла с ее сигареты сорвался и рассыпался по странице.
— Ой, извините. — Она поспешно сдула пепел.
— Ничего, — снисходительно успокоил я. — Понимаю ваше волнение и потому не тороплю. Зрите и восторгайтесь!
— Но зачем вы ее продаете? — удивилась Нина. — Это же действительно большая редкость.
— Большая, — поддакнул я, радуясь наметившемуся в разговоре перелому.
— И вам не жаль с ней расставаться?
Прозвучавшие в ее голосе интонации я истолковал по-своему. Надежда, что между нами перекинулся мостик, придала уверенности, и я с удвоенной энергией перешел к укреплению своих позиций.
— Конечно, жаль. Еще как. Сами понимаете, я не стал бы продавать без особой нужды. Несчастье у меня, бумажник стащили… Собственно, может, и потерял я его, не знаю, но скорее всего стащили. И как назло, все деньги там были, в среднем отделении. Остался, что называется, без средств к существованию. — Для убедительности я похлопал себя по карманам. — Хорошо, документы уцелели, иначе совсем труба. На последнюю мелочь телеграмму матери отбил. Жду перевода. Ну а пока — полное банкротство. Спать негде, за койку платить нечем. Чужой город, ни друзей, ни знакомых. Приболел вот вдобавок. Лихорадку какую-то подцепил, второй день трясет. Одно к одному — знаете, как бывает…
Слушая мой треп, Нина рассеянно листала плотные, будто из картона вырезанные страницы, а я стоял сбоку и впервые после начала разговора позволил себе немного расслабиться.
Если не считать ссылки на болезнь, мой рассказ был чистым вымыслом, но, кажется, Нина принимала его за чистую монету, и в глубине души я уже поздравлял себя с успехом, почти не сомневаясь, что в самое ближайшее время с ее помощью нападу на след преступника. Как именно это произойдет и в чем конкретно будет заключаться ее помощь, я пока не знал, но это не мешало мне внутренне ликовать и праздновать победу.
Длилось это идиотское состояние всего секунду, не больше, и надо же было случиться — как раз в эту-то секунду Нина подняла голову. Что прочла она в моем взгляде, одному богу известно, только брови ее удивленно поползли вверх, и она поспешно отвернулась.
— Возьмите, — не глядя в мою сторону, она протянула злосчастный фолиант.
Это была расплата — справедливое возмездие за мою самонадеянность. Оно сработало как холодный, отрезвляющий душ.
— Но почему? — попробовал я спасти положение.
— Возьмите свою книгу, — настойчиво повторила она.
«Сейчас состоится изгнание торговцев из храма», — успел подумать я и зачастил с отчаянием утопающего, хватающегося за соломинку.
— Вы, наверно, из-за цены? Не беспокойтесь, я дешево уступлю, честное слово. Главное, книга вам нравится, остальное детали, об остальном мы договоримся…
— Все равно, — отрезала Нина. — У меня нет возможности ее купить.
— Ну хотя бы пятерку, — через силу выдавил я, ощущая закипавшую на самого себя ярость. А деньги отдадите завтра, мне не к спеху… — Я понимал, что сморозил глупость, но остановиться уже не мог: — Серьезно, давайте договоримся на завтра? У меня есть и другие книги, хотите принесу?
— Вы что же, так с библиотекой и путешествуете?
Ирония подействовала сильнее, чем если бы она послала меня ко всем чертям. «Знаю, зачем вы пришли, — будто говорил ее взгляд. — Вам нужны сведения о муже. Если так — спрашивайте прямо, к чему разыгрывать этот глупый спектакль, тем более что актер из вас неважный».
Я с треском заваливал экзамен. Я чувствовал себя как вор, на котором горит шапка. Ко всему прочему обидно было сознавать, что первая же серьезная попытка проявить самостоятельность потерпела полное фиаско. И из-за чего?
Нина поднялась со ступенек.
— Ничем не могу вам помочь. — Она смотрела с насмешливым любопытством, очевидно, ожидая, что произойдет чудо и я тут же, не сходя с места, сгину с глаз долой.
— Значит, нет?
— Нет.
Мне и в самом деле захотелось исчезнуть, то есть в самом прямом смысле взять и раствориться в теплом, перенасыщенном влагой воздухе. Без сомнения, я бы так и поступил, если б знал, как это сделать.
— До свидания, — сказала она.
— До свидания, — буркнул я в ответ и, кивнув, пошел со двора.
Ноги были точно ватные, в голове — ни единой стоящей мысли, полнейший вакуум. Я вдруг ощутил страшную, давящую на плечи усталость. Из всех желаний осталось одно: завалиться спать. И спать долго-долго, чтобы, проснувшись, можно было вспоминать о случившемся, как о дурном сне.
— Постойте, — раздался за спиной голос Нины.
Не уверенный, что не ослышался, я обернулся.
— Вам что, действительно негде переночевать?
Вероятно, мой вид сказал ей больше, чем я мог бы объяснить словами.
— Хорошо, я дам вам раскладушку… Только спать придется во дворе. Устроит вас?
Еще бы не устроило! Да предложи она мне лавку в беседке, собачью конуру, птичье гнездо на крыше, я согласился бы не раздумывая.
— Спасибо, — поблагодарил я.
Она пожала плечами:
— Не за что. Вы и в самом деле еле на ногах держитесь…
3
Близилась к концу программа «Время». Женщина из Гидрометцентра СССР вдохновенно рассказывала о движении холодных и теплых масс воздуха и приступила к описанию драматического столкновения циклона с гигантским антициклоном, когда я перебрался в комнату.
Наступила ночь. Душная южная ночь с желтой, как срез лимона, луной, россыпью крупных голубых звезд и неумолчным стрекотом цикад.
Я воспользовался приглашением хозяйки и, сменив жесткие ступеньки на упругие подушки дивана, продолжал делать вид, что с головой ушел в приключения короля Ричарда. В соседней комнате молочным светом мерцал экран телевизора. Нина возилась на кухне и не обращала на меня никакого внимания.
С тех пор как она великодушно позволила мне остаться, мы не перемолвились друг с другом и парой слов. Во дворе меня ждала раскладушка. Книга, которую так горячо расхваливал, оказалась скучной, практически непригодной для чтения макулатурой и представляла интерес разве что для собирателя древностей. Я добросовестно переворачивал страницы, но мысли были далеко — я вспоминал строчки из протокола допроса Нины Андреевны Кузнецовой. Разумеется, она об этом не догадывалась, иначе с треском выгнала бы меня вон.
Ее показания, зафиксированные на стандартном бланке, занимали всего полторы машинописные страницы. По словам Нины, в последний раз она видела мужа в роковой день пятнадцатого сентября. Видела утром, перед уходом на работу. Накануне он пришел поздно и отсыпался после дежурства. Нина оставила записку, позже ее приобщили к делу, но ничего существенного она не содержала — обычная записка в две строки: «Суп в кастрюле. Хлеб черствый. Если можешь, купи свежий».
Вечером, когда Нина вернулась домой, Сергей уже ушел на работу. Поздно ночью от сотрудников милиции ей стало известно о его исчезновении. На Приморскую он с тех пор не возвращался.
Ни подтвердить, ни опровергнуть эти показания было некому, так как соседей у Кузнецовых нет: после реконструкции улицы уцелел только их дом, остальные снесли при строительстве гостиницы несколько лет назад.
Далее в протоколе со слов Нины записано, что с мужем они жили нормально, ссор и скандалов между ними не возникало, ничего странного в его поведении она не замечала, спиртным он не злоупотреблял.
«Характер у него был мягкий, открытый, но, случалось, уходил в себя и тогда становился угрюмым, раздражительным», — сказала она следователю. Эта фраза вызвала уточняющий вопрос: как именно и по какому поводу проявлялась его раздражительность, однако ничего более определенного Нина добавить не смогла.
К работе он относился добросовестно, с интересом, о другой не помышлял. Имел многочисленные благодарности от дирекции — такими словами заканчивались показания вдовы погибшего…
Я оторвал взгляд от книги.
Вдова… Как нелепо звучит это слово. Ей всего двадцать. Приехала сюда три года назад, поступила в техникум на заочное. Жила в общежитии. Вскоре познакомилась с Сергеем, вышла замуж. И вот — вдова…
Дверь на кухню была открыта. Нина продолжала возиться у плиты, но не исключено, что в этот момент мы думали об одном и том же.
Интересно, любила она мужа? Была с ним счастлива? В протоколе об этом ни звука: не положено — официальный документ…
Я представил, как всего две недели назад на этом самом диване, возможно, в той же самой позе, что и я, с книгой в руках, сидел другой человек.
Молчали они? Или шутили? Улыбались друг другу? А может, ссорились?
Теперь этого человека нет в живых.
Каким он был? О чем думал? Чему смеялся? Неизвестно. И жизнь, и отдельные его поступки обернулись загадкой, которую по странному стечению обстоятельств предстояло разгадывать мне.
В декабре ему исполнилось бы двадцать пять. Мне двадцать пять стукнуло немного раньше, в июне. Выходит, мы ровесники! Случайность, конечно, простое совпадение, но почему-то оно смущало меня, хотя, если разобраться, ничего особенного в этом нет…
Я поежился. По плечам и спине пробежал озноб. До сих пор мне помогало самовнушение, и, отгоняя мысль о болезни, я снова уткнулся в книгу.
Итак, показания Нины. Они не противоречили характеристике, которую выдала на покойного администрация ресторана. Вежливый, безотказный, добросовестный — эти качества приводились и в письменных и в устных отзывах.
Один из сослуживцев Кузнецова дополнил его портрет следующим штришком; «Хороший был парень, что говорить… Ну еще одеться любил по моде. Знаете, наверно, стиль такой модерновый, заграничный вроде — нынче многие так ходят, не одни молодые… Придет, бывало, в полусапожках, только что шпор не хватает, ну, джинсы, конечно, рубашка с блямбой на кармане, словом, во всей амуниции. Вылитый ковбой, хоть в кино снимай. Не подумайте, что я в осуждение, у самого сын такой, тронутый маленько на шмотках. Вроде парень как парень, а штаны с нашлепками увидит, аж дрожит весь. У них это вроде как пароль, узнают друг друга по этим самым блямбам. В общем-то ничего, конечно, даже красиво, если меру знать. А Сергей, тот знал, всегда стройный, подтянутый ходил… Ну и работник, я уже говорил, отличный: аккуратный, честный, деньги всегда копейка в копейку сходились…»
При чтении этого протокола у меня возникло желание узнать, на какие средства приобретал Кузнецов свою «ковбойскую амуницию». Возможно, это не вызвало бы особого интереса — сам хожу в джинсах, — не будь гардероб покойного столь внушителен.
Два кожаных пальто, куртки всевозможных фасонов, полдюжины джинсовых костюмов на всех стадиях носки, около десятка пар импортной обуви, фирменные рубашки, которые он менял довольно часто, — все это, если вдуматься, стоило не так уж мало, да и в магазинах, как известно, подобные вещи попадаются нечасто. Выходит, переплачивал? Если добавить к перечисленному солидный стереофонический «Шарп» и еще два магнитофона поменьше, но тоже импортных, невольно зародится мысль о кладе, наследстве или богатой тетушке, ссужающей деньгами своего единственного племянника.
Но в том-то и загвоздка, что клада Кузнецов не находил, наследства не получал и родственников у него не имелось. Это установил следователь, который тоже заинтересовался источниками его доходов. Выяснилось, что получал Сергей прилично, за перевыполнение плана в «Лотосе» систематически выплачивались премии, и все же самая грубая прикидка показывала, что концы с концами не сходятся.
Следователь оказался человеком дотошным. В ходе его настойчивых бухгалтерских изысканий всплыл небезынтересный факт: полтора года назад Кузнецов приобрел несколько билетов лотереи «Спринт» и выиграл по двум из них две тысячи рублей.
Сумма значительная. Она устранила если не все, то некоторую часть бюджетных вопросов, а на остальные ответила Нина. На повторном допросе она подтвердила, что выигрыш имел место полтора года назад и что все деньги действительно ушли на покупку одежды для мужа. Где Сергей приобретал вещи, она не знала…
Я перевернул страницу.
Самовнушение не помогло. Головная боль не утихла, наоборот — становилась все сильней. Ком в горле тоже увеличился и окончательно блокировал дыхательные пути. Пора было обратиться к более радикальным средствам.
Я собрался уже поинтересоваться содержимым домашней аптечки Кузнецовых, но Нина меня опередила.
— Садитесь ужинать, — позвала она. Голос был усталый и доносился словно бы издали.
— Спасибо, что-то не хочется, — отказался я.
Мысль о еде вызывала отвращение. Смешно сказать, но я мерз. На дворе теплынь, плюс девятнадцать, а меня неудержимо тянуло под одеяло. Я с сожалением подумал о теплом шерстяном свитере, который вместе с остальными вещами уже второй день лежал в одном из отсеков привокзальной камеры хранения.
— Давайте-ка без церемоний. — Нина вошла в комнату и поставила на середину стола хлебницу. — Садитесь. И не стесняйтесь, пожалуйста…
Вторично отказываться было неловко, и я поднялся с дивана.
— Вы макароны с томатным соусом любите?
— Обожаю. — Я сделал шаг, другой и с удивлением обнаружил, что пол подо мной подозрительно покачивается.
— Что с вами? — спросила Нина.
— Нет, нет, ничего. Это пройдет…
Однако не проходило: висевшая под потолком лампочка внезапно выбросила яркие протуберанцы, затем свет сфокусировался и превратился в луч мощного прожектора, направленного прямо в глаза. Нинина фигура выпала из поля зрения. Там, где она только что находилась, мелькали оранжевые и ядовито-зеленые, похожие на жонглерский реквизит кольца.
Что-то невыразимо гнусное, тяжелое возникло на дне желудка, оформилось в пульсирующую опухоль и медленно поползло вверх.
— Сейчас, одну минутку… — Я наугад побрел к двери, переступил порог и опустился на приступку, на которой несколькими часами раньше впервые увидел Нину.
Стало чуть легче. Ровно настолько, чтобы понять отчетливо и ясно — заболел! Ничего хуже случиться не могло! Я не успел осознать последствий, к которым это может привести, — новый приступ головной боли накрыл меня и наглухо отрезал от внешнего мира.
Минуту спустя — а может, только почудилось, что прошла минута, — я поднял голову.
Надо мной низко висели звезды. От них исходили злые колючие лучи. Ни с того ни с сего они, вдруг сдвинулись с места и, постепенно увеличивая скорость, закружились, вовлекая в свой сумасшедший танец луну, крышу, черные силуэты деревьев, угрожающе нависших над тесным двориком. Этот дьявольский хоровод сопровождался таким оглушительным стрекотом, точно его издавали не цикады, а спрятавшийся в кустах оркестр, исполняющий нудную, состоящую из нескольких бесконечно повторяющихся нот мелодию…
Сколько прошло времени — неизвестно. То мне казалось, что проваливаюсь в сон, то вдруг наступало короткое просветление, но ни встать, ни двинуться с места не удавалось.
В памяти осталось прикосновение холодной ладони к пылающему лбу, тревожный Нинин голос. Она заставила меня подняться, отвела в комнату, насильно впихнула в меня несколько таблеток и подвела к дивану. Кажется, я пытался возражать, порывался уйти, что-то доказывал, но болезнь брала свое: усталость и тупое равнодушие овладели мной, заглушили остальные чувства. Я наспех разделся и, лязгая зубами, повалился в постель.
Свет померк внезапно, будто кто-то разом повернул выключатель…
…Сначала я был птицей, у которой на лету сковало морозом крылья. Потом — вмерзшей в оледенелый наст травинкой, деревом с намертво выстуженной сердцевиной.
Я рассыпался на тысячи осколков, гнулся под ураганным ветром; мое окоченевшее тело лежало посреди голой равнины, и не существовало в мире силы, способной спасти, защитить от жуткого, пробирающего до костей холода. Он проникал всюду, в каждую пору, в каждую клетку, от него стыла кровь в жилах, а кожа не выдерживала и дробилась на хрупкие ломкие кристаллы.
Это был бред. Самый настоящий бред, в котором не оставалось места реальности. Краем сознания я вроде понимал это и в то же время явственно видел бесконечную белую пустыню, себя, полузанесенного снегом, мерцающую вдали цепочку огней. То светились огни поселка, к которому мне надо было пробиться, или, может, туманное облачко Млечного Пути, или фары машин на заснеженной трассе. Нет, скорее то были факелы! Преследуемый конным отрядом герцога, я порывался бежать от погони, но тяжелые стальные латы тянули к земле. Я выбился из сил и теперь лежал, сжавшись в комок, беспомощный, одинокий, обреченный на верную гибель. Ветер заунывно свистел надо мной, сек лицо твердыми, как толченое стекло, крупицами снега и сыпал, сыпал, пока над грудой холодного железа не намело белый холмик…
В какой-то момент мне удалось разлепить веки, и тотчас что-то больно резануло глаза. Я застонал. Вероятно, меня услышали, потому что свет погас и пространство заполнилось серыми размытыми пятнами. На их фоне постепенно, как на бумаге, сунутой в проявитель, возникло лицо мамы.
«Ты?» — удивился я.
Она молча сняла с себя теплый пуховый платок, накинула его мне на грудь и укоризненно покачала головой.
«Как же так, Володя?.. — Губы ее оставались неподвижными, но я отчетливо слышал голос, который невозможно спутать ни с каким другим. — Ты совсем себя не бережешь… И писем от тебя нет. Обещал писать часто. Я жду, жду… Как же так, Володя?»
«Разве ты не получила телеграмму?» — хотел возразить я в свое оправдание, но мама заторопилась.
«Ладно, сынок, я ведь не упрекаю… — Черты ее лица стали терять определенность. — Ты все же выбери минутку, напиши, как устроился, где питаешься…»
Лицо стало уплывать куда-то в сторону. Я пытался остановить, крикнуть что-то вдогонку, но поздно. Мама исчезла.
Очнулся я оттого, что арктический холод сменился каракумской жарой. С меня ручьями лил пот. Едва ворочая распухшим, шершавым, как наждак, языком, я попросил пить.
Передо мной появился стакан с осевшими на дно ягодами малины. Его держала девушка в легком ситцевом халате. Лицо, охваченное ореолом волос, взгляд больших карих глаз показались мне смутно знакомыми.
— Вы кто? — спросил я у нее.
— Молчите… У вас жар, сильный жар…
Вспомнил: ну конечно, это Нина, только совсем другая, больше похожая на ту, с фотографии двухлетней давности.
— Который час? — прохрипел я.
— Половина первого.
Я не поверил.
— Половина первого ночи, — повторила она и протянула градусник. — Поставьте, надо измерить. Час назад было под сорок…
— Да ну? — вяло удивился я, изо всех сил сопротивляясь обволакивающей необоримой дреме.
— …тридцать девять и четыре… «скорую» хотела вызывать… испугалась… лекарство…
Голос становился все тише, пропадал, снова появлялся, и я, потеряв всякую способность к сопротивлению, погрузился в черную бездонную пропасть…
Глава 2
1
Утром меня разбудили шаги.
Кто-то топтался у двери, возился с замком, пробовал отворить форточку.
Прежде чем я успел открыть глаза, звуки оборвались, и мне не сразу удалось сообразить, продолжение ли это ночных кошмаров или кто-то действительно околачивается за дверью. В доме царила тишина, но тишина странная, как если бы за секунду до моего пробуждения был подан знак и говорившие до этого в полный голос вдруг разом смолкли.
Полусонный, я приподнял голову с подушки.
Смутное ощущение опасности, чьего-то незримого и оттого особенно гнетущего присутствия не исчезало. Прислушавшись, я понял, что не ошибся. Снаружи кто-то был. Сперва раздался шорох. Потом звякнула неосторожно задетая крышка почтового ящика. Прошло немного времени, и в дверь потихоньку постучали.
Затаив дыхание, я ждал, что будет дальше.
В комнату сквозь застекленную раму над входной дверью падал рассеянный пучок света. В нем лениво плавали взвешенные в воздухе пылинки. Где-то сбоку, на столе, размеренно тикал будильник. Более мирную обстановку трудно вообразить. Если б не человек, стоящий за дверью. Его молчание таило не совсем ясную и вместе с тем вполне реальную угрозу.
Первым нервы не выдержали у гостя. После продолжительной паузы стук повторился. Теперь стучали смелее, бесцеремонней, и не в дверь, а в плотно занавешенное окно.
Стремясь производить как можно меньше шума, я поднялся, чтобы подойти к окну и незаметно выглянуть во двор, однако на полпути споткнулся и задел стул.
— Кто там? — громко, якобы спросонья, спросил я.
Находившийся по ту сторону двери человек спрыгнул с крыльца.
Я кинулся к окну, отдернул край занавески. Никого. Только на повороте дорожки покачивались потревоженные бегством ветки кустарника.
Дверь оказалась запертой на ключ, но это уже не имело значения. О том, чтобы преследовать беглеца, не могло быть и речи — шансы догнать его, тем более в моем состоянии, равнялись нулю.
Я доковылял до дивана, влез в свернутое коконом одеяло и некоторое время, уставившись в потолок, переваривал случившееся. Ничего путного из этого не вышло. Голова работала туго, мысли путались, и найти сколь-нибудь разумное объяснение так и не удалось. Зачем приходил этот тип? Действительно ли он хотел взломать замок или мне померещилось? Непонятно.
Судя по времени, Нина ушла недавно. Перспектива оставаться в запертой квартире меня не устраивала — на два часа дня у меня была назначена встреча, ни отложить, ни перенести которую я не мог.
«Ничего, на крайний случай сгодится и окно», — решил я и закрыл глаза.
Еще минут десять я ворочался на своем сверхмягком ложе, силясь отыскать хоть какой-то смысл в происшедшем, и не заметил, как меня снова сморил сон.
* * *
Никаких психических отклонений я за собой не замечал. По крайней мере до сих пор. Но когда, проснувшись, услышал, что кто-то опять возится с дверным замком, первым делом подумал о слуховых галлюцинациях и поспешил посмотреть на часы.
Они показывали час дня. Секундная стрелка бодро бегала вокруг оси, из чего я заключил, что и хронометр мой, и сам я в полном порядке.
Между тем в замочной скважине провернулся ключ и в комнату вошла Нина.
— Добрый день, — сказала она.
— Здравствуйте, — сказал, вернее, прокаркал я, поскольку полноценной речи все еще мешали распухшие до невероятных размеров миндалины.
— Ну как вы? Лучше?
Видно, я не был создан для одиночества: вопрос Нины при всей его обыденности вызвал у меня острую потребность в общении. Захотелось поговорить с ней, поболтать о том о сем, без ухищрений, без задних мыслей, не контролируя каждое слово из боязни выдать себя. Но, увы, я не мог себе это позволить.
— Спасибо, вроде ничего, — ответил я.
— Давно проснулись?
— Только что. — Делиться известием об утреннем посетителе я счел излишним. — А вы с работы?
— У меня перерыв до половины второго. Принесла кое-что из продуктов.
Я в два приема подтянулся к изголовью, собираясь встать.
— Нет, нет, лежите, — остановила меня Нина. — Вам надо отлежаться. Температуру мерили?
— Не успел.
Она подала градусник. Я послушно сунул его под мышку и откинулся на подушку.
— Послушайте, а ведь мы с вами так толком и не познакомились. Вас как зовут?
— Нина, — сказала она, выкладывая из сумки свертки.
— А меня…
— Я знаю, вы уже говорили: Сопрыкин Володя.
— Наверно, раскаиваетесь, что разрешили мне остаться?
— Глупости… Скажите лучше, как вас угораздило простудиться в такую жару? — Нина вышла на кухню, но через дверной проем было видно, как она надрезает пакет молока. — А может, у вас грипп?
— Гриппозный больной — разносчик инфекции, — процитировал я из какой-то брошюры. — Он смертельно опасен для окружающих… Повис я у вас на шее, и идти мне некуда. Но вы потерпите, ладно? Вот переберемся мы с матерью сюда окончательно, она вас непременно навестит и выразит благодарность за спасение своего несчастного ребенка. Уж будьте уверены.
Нина поставила кастрюльку с молоком на огонь.
— А вы собираетесь переезжать? — спросила она.
— Ну да, затем и приехал…
И с некоторым опозданием я стал излагать незамысловатую историю, которую сочинил про запас вчера, сидя на набережной:
— Переезд — дело решенное. Мать давно рвется к морю. У нее хронический тонзиллит, слышали о такой болезни?
— Слышала, — отозвалась Нина.
— Неприятная штука. Врачи советуют менять климат, да и я в принципе не против. Все упирается в квартиру. Дали мы объявление о размене и у себя, и у вас в городе. Еще в прошлом году. Повторили несколько раз, только все без толку. Не хотят отсюда на север меняться, мы ведь с мамой за Уралом живем, я вам, кажется, говорил… Так вот, нет желающих, и все тут. Мы уже надеяться перестали, а недавно письмо пришло. От мужика одного. Он перевод по службе получил, перебирается с семьей в наши края. Вроде реальный вариант — двухкомнатная в районе цирка, семнадцатиэтажный дом, знаете, наверно…
Конечно, я врал, но врал по необходимости, в интересах дела, и потом, мое вранье было враньем безобидным, оно никому не причиняло вреда. А что самое удивительное — я настолько свыкся со своей выдумкой, что и сам почти верил тому, что говорил.
— Я, конечно, отпуск оформил, на месте хотел посмотреть, что к чему. Мне бы телеграмму перед выездом дать, предупредить, а я по запарке и не подумал, что могу не застать хозяев. Не повезло, короче. Разминулись. И опоздал-то на самую малость, всего на несколько часов: я — сюда, а обменщик этот с женой к родственникам уехал погостить. Соседи сказали, что вернется только через неделю, не раньше. Придется ждать, не ехать же обратно…
— Понятно, — суховато сказала Нина, и я догадался, что упустил момент, когда ее настроение сделало неприметный поворот к худшему. — Мне пора. — Она показала на плиту: — Скоро молоко закипит, не забудьте выключить. Продукты в холодильнике. — И прошла в соседнюю комнату.
— А вы не боитесь? — спросил я, гадая, что именно не понравилось ей в рассказанной истории.
— Чего, по-вашему, я должна бояться? — донеслось из-за двери.
— Ну, оставлять меня одного. Вдруг обчищу квартиру?
Нина вышла, держа в руках светло-коричневую, под цвет платья сумку.
— Не боюсь, — спокойно сказала она и неожиданно спросила: — Между прочим, вы на себя в зеркало смотрели?
— Нет, а что?
— Да так, посмотрите на досуге… И не забудьте принять лекарство, таблетки на столе.
Уже у порога Нина обернулась:
— Считайте, что вам не повезло, Сопрыкин Володя. У меня брать нечего.
И вышла, громко захлопнув за собой дверь.
Замечание Нины нисколько меня не задело. Я не принадлежу к числу мужчин, которые получают удовольствие, разглядывая себя в зеркало, и то, что сразу после ее ухода оно попалось на глаза, мне лично представляется чистой случайностью.
Просто зеркало стояло на краю тумбочки, куда я положил термометр, и, должно быть, машинально я взял его и поднес к лицу.
Хватило одного взгляда, чтобы догадаться, на что намекала Нина.
Я никогда не считал себя красавцем и, в общем, довольно сдержанно отношусь к собственной внешности, но то, что увидел, превзошло все мои ожидания. Можно подумать, что за одну ночь я прошел месячный курс голодания.
Из зеркала таращился тощий субъект с ввалившимися щеками, распухшими потрескавшимися губами и туго обтянутыми кожей скулами, из которых кустиками торчала рыжая, с красноватым оттенком щетина. А чего стоили уши — таким ушам позавидовал бы матерый африканский слонище. Жалкий портрет грабителя-самозванца довершали спутанные, торчащие во все стороны волосы цвета лежалой соломы.
Ошеломленный увиденным, я вернул зеркало в исходное положение и, избегая думать о зрелище, свидетелем которого только что стал, попробовал трезво определить, насколько далеко зашли последствия болезни.
В мою пользу была температура: тридцать семь и четыре по сравнению со вчерашней — пустяк, который можно не принимать во внимание. Голова тоже как будто работала ясно. Зрение в норме. Что еще? Я напряг мышцы, и они пусть не сразу, но подчинились. О вчерашней хвори, как ни странно, напоминала только общая слабость и чем-то похожая на ревматическую ломота в суставах.
Что ж, не так уж и плохо. Назначенное на два часа свидание не отменялось, а этого я опасался больше всего.
Откинув одеяло, я поднялся с дивана.
Голова слегка закружилась, и, чтобы не потерять ориентировки, я сосредоточил взгляд на фотографии, которая была просунута между стеклянными задвижками книжной полки. Сергей Кузнецов смотрел в пространство с безмятежной улыбкой человека, не подозревающего о грядущих несчастьях. Хотел бы я знать, каким виделся ему мир, что в нем радует и что огорчает, когда смотришь такими вот глазами?
Мои размышления прервало донесшееся из кухни шипение. Через край кастрюльки бежала пена. Я отключил газ.
От запаха подгоревшего молока судорогой свело желудок и потянуло на свежий воздух. Но сделать это оказалось не так-то просто. Пять минут ушло на джинсы, столько же, чтобы напялить на себя рубашку. Хорошо, на сандалетах нет шнурков, иначе, нагнувшись, я рисковал потратить полчаса на разгибание. В конце концов с одеждой было покончено. Мытье и чистка зубов — щетки у меня не имелось — заняли не меньше, чем одевание, но и эта процедура осталась позади.
Держась на всякий случай поближе к стенам, я вышел наружу. Погода была пасмурной. Не то чтобы тучи или туман, видимость как раз отличная, но во всю ширь неба простиралась сплошная серебристая пелена, а вместо солнца над головой висел матовый плафон, внутри которого светила стосвечовая лампа. Не знаю, в чем тут секрет, только все вокруг, даже листья на деревьях, стали почему-то в этом освещении необычайно контрастными, выпуклыми, а видневшиеся со двора верхушки кипарисов отдавали густой, переходящей в черное синевой.
Я запер дверь и сунул ключ под коврик. Конечно, лучше бы оставить его при себе, но я не оставил — вдруг в мое отсутствие вернется Нина?
По узкой бетонированной дорожке я вышел на улицу.
Многоэтажное здание «Лотоса» снизу доверху было увешано флагами всех цветов и оттенков. Со дня на день в городе ожидалось открытие международного фестиваля песни, и за неделю улицы начали украшать праздничными транспарантами, афишами, гирляндами. Дошла, стало быть, очередь и до «Лотоса»…
Я полез в задний карман. Выгреб оттуда горсть мелочи. Вместе с монетами в ладони оказался клочок бумажки — адрес моей будущей квартиры. Я разорвал его и выбросил в урну.
Теперь при мне не оставалось ничего лишнего.
2
Тофику Шахмамедову, к свиданию с которым я готовился со вчерашнего дня, надо было звонить ровно в два. В запасе имелось немного времени. Я присел за свободный столик на открытой террасе кафе и заказал бутылку «Фанты».
Причина, заставившая меня искать встречи с Шахмамедовым, крылась в его редком имени. Впервые оно встретилось среди множества других имен и фамилий при чтении материалов дела и уже тогда запало в память. К тому же именно его я видел запечатленным на свадебном снимке рядом с Кузнецовым во время бракосочетания.
Девятнадцатилетний таксист Шахмамедов, друг покойного, проходил свидетелем по делу. Но свидетелем не совсем обычным — он попадал в круг подозреваемых, поскольку ни на 15, ни на 17 сентября твердого алиби у него было. Пятнадцатого Шахмамедов работал во второй смене и разъезжал на своем таксомоторе по всему городу, оставаясь фактически бесконтрольным, а семнадцатого взял выходной и, если верить его собственным словам, с утра до вечера сидел дома и клеил обои. Мать Тофика находилась в отъезде, соседи в квартиру не заглядывали, подтвердить показания было некому. Следователь установил, что в его квартире действительно шел ремонт, но это, по вполне понятным причинам, мало что меняло. Разумеется, никто не собирался взваливать на Шахмамедова обязанность доказывать свое алиби — закон есть закон, и этим занимались те, кому следует. Занимались, между прочим, основательно. Тем не менее, побывав вчера утром на «сходняке» — так называют здесь неофициально существующий толкучий рынок, — я насторожился, услышав знакомое имя.
О «сходняке», куда меня привела все та же мысль о ковбойской экипировке погибшего, стоит, пожалуй, рассказать поподробней.
В районе морского порта, рядом с комиссионным магазином, есть сквер. Обычный городской сквер с аккуратными газонами и фонтаном в центре расходящихся лучами аллей. С самого утра по асфальтированным дорожкам сквера с независимым скучающим видом прогуливаются одетые по последнему крику моды молодые люди. Попав сюда и ни о чем не подозревая, вы наслаждаетесь журчанием воды в фонтане, любуетесь золотыми рыбками, идете в глубь тенистой аллеи, и тут до вашего слуха доносится едва различимый конспиративный шепот. Вы недоумеваете — откуда? Шепот повторяется, теперь можно разобрать слова: «Шмотки не нужны?» К вам обращается стоящий поодаль парень в вылинявших добела штанах, майке, украшенной эмблемой Коннектикутского университета, или девушка в прозрачном платье, сквозь которое можно увидеть пупырышки на ее коже. Парень предлагает куртку, рубашку; девушка — косметику, «жвак», фирменные кульки и сигареты. Представители обоего пола делают это с одинаково безразличным, отсутствующим выражением на лицах и, лишь убедившись, что вы «настоящий клиент», меняются прямо на глазах: начинают суетиться, на все лады расхваливают товар, настойчиво зазывают в сторонку, боясь, что «засекут» и будет «шум».
Ни покупать, ни продавать я, понятно, не собирался. Посещение «толчка» входило в план, который был разработан следователем. Мы надеялись отыскать здесь знакомых Кузнецова. Не тех знакомых, с кем он общался по работе, а тех, «невидимок», кого совсем не знали, к кому, собственно, и было адресовано вчерашнее объявление в газете.
Для начала я решил осмотреться и занял стратегически выгодную позицию на подступах к «торговому ряду». Сложность заключалась в том, что многих «продавцов» приводил сюда случай, нездоровое любопытство, а то и необходимость раздобыть денег на дорогу домой. Эти случайные «продавцы», или, как я их окрестил, «дилетанты», меня не интересовали, приезжие не интересовали тоже. Нужен был кто-то из местных, из завсегдатаев, нужен был профессионал!
Короля, как известно, сыграть нельзя, его играют окружающие. Помятуя об этом, я наблюдал за фланирующей в аллеях публикой, стараясь уловить закономерности в ее перемещениях. Задача оказалась не из легких, но в конечном счете после получасового ожидания я все же засек подходящий объект.
Мой избранник — упитанный прыщавый парень в коротких поношенных шортах и желтой жокейской шапочке — был явно из профессионалов: вел себя солидно, стоял в сторонке, клиентов не искал, но, если присмотреться повнимательней, именно к нему, как булавки к магниту, тянулись многие из торгующих, обращаясь то ли за советом, то ли за указаниями.
Рискнул обратиться и я.
Описав длинную кривую, я прошел вдоль зеркальной витрины комиссионки и приблизился к «толстяку».
— Привет, — сказал я.
— Привет, — без энтузиазма ответил он, даже не взглянув в мою сторону.
— Как жизнь? — поинтересовался.
Он не удостоил меня ответом.
— Выручай, старик, — в меру заискивая, я перешел на конспиративный шепот, заимствованный у «дилетантов», но и это не произвело на «толстяка» ни малейшего впечатления.
— Топай дальше, — бросил он, не шелохнувшись. — По понедельникам не подаю.
Шуточка так себе, ниже среднего, и чувствовалось, что весь его репертуар примерно на том же уровне.
— Послушай, серьезно. Дело есть.
Он промолчал, сосредоточенно глядя вдаль из-под прозрачного козырька своей шапочки.
Столь холодный прием мог обескуражить кого угодно, но я не сдавался:
— Может, отойдем? Поговорить надо.
— Здесь говори, коли охота есть. А нет — вали отсюда, мне и без тебя не скучно.
Насчет скуки это верно: сбоку уже маячил очередной тип, жаждущий получить консультацию.
— Напрасно заводишься. Дело серьезное.
— Ну? — обронил он безразлично.
Я понизил голос:
— Валюту обменять надо.
— Ну? — с тем же выражением повторил он.
— Что «ну»? Сумма большая, сечешь? Не в банк же идти. Оптовый покупатель нужен.
— А я при чем?
— Да брось ты… Я к тебе по-человечески, а ты… Помоги, внакладе не останешься.
Последний довод не оставил его равнодушным.
— Я тебя не знаю, — процедил он сквозь зубы. — Кто ты такой?
— Тебе что, фамилия нужна? — огрызнулся я. — Ты вроде не отдел кадров, и я не на работу к тебе устраиваюсь.
— Вот и топай, откуда пришел, — невозмутимо посоветовал он. — Я тебя в первый раз вижу. Может, ты из этих… — Он мотнул головой в сторону фонтана. Очевидно, райотдел милиции следовало искать в указанном направлении, но подобные сведения меня не интересовали.
— Не веришь мне, у Кузнецова Сережки спроси. Он тебе скажет, кто я и откуда. — Я прикинул, какой могла быть кличка у Кузнецова, и решил, что самое благоразумное взять производную от фамилии. — Надеюсь, Кузю ты знаешь?
— Впервые слышу. — Он стрельнул в меня крошечными водянистыми глазками, глубоко спрятанными между надбровными дугами и выпуклостями щек.
— Кузю, — повторил я. — С Приморской.
— Не знаю такого.
— Ну не знаешь, тогда и говорить больше не о чем…
Я смирился с поражением и сделал движение, собираясь уходить.
— Подожди, — остановил он. — Это случайно не тот кадр… ну, про которого Тофик рассказывал?
Где-то внутри у меня мгновенно загорелась контрольная лампочка и, точно милицейская мигалка, стала подавать тревожные сигналы: «То-фик… То-фик… Тофик…»
— Откуда мне знать, про кого тебе рассказывали? — Я боялся провокации со стороны «толстяка» и состроил постную мину: — Я тебе про Кузю толкую, а ты…
— Кажется, вспомнил, это тот деятель, что в «Спринт» два куска выиграл?
Я «просветлел».
— Он самый, а говоришь, не знаю.
Толстяк отвел глаза и хмыкнул:
— Везет же некоторым…
Казалось, он потерял ко мне всякий интерес, но это только казалось.
— И много у тебя валюты? — подумав, спросил он.
— Вагон и маленькая тележка. За вагон себе возьму, а за тележку, так и быть, бери себе.
Он оживился:
— Доллары?
— Не только. Марки, кроны, фунты, всего понемногу.
— Ты где остановился?
— Пока нигде. Утром приехал. Может, на Приморскую подамся, к Сергею. Не знаешь случайно, дома он?
Готов поклясться, что по лицу моего собеседника пробежала тень не то сомнения, не то недоверия. Он хотел что-то ответить, но в последний момент воздержался и, пожевав губами, сказал:
— Насчет валюты не обещаю, но попробую тебе помочь. Сам я такими делами не занимаюсь, разве что переговорю кое с кем. Придется немного подождать, как у тебя со временем: надолго приехал?
— Хорошо, — согласился я после подобающих в таких случаях колебаний. — Немного подождать я могу. Только немного!
— Годится, — произнес «толстяк», скрепляя наш договор. — Есть у меня один человек. Если он согласится… В общем, заходи на днях.
— Куда?
Он расплылся в улыбке:
— На кудыкину гору. Сюда, куда ж еще…
В это время, бочком и сильно сутулясь, к нам подошел загорелый дочерна парень в ярко-голубых джинсах и мятой рубахе с сержантскими нашивками на рукаве и клеймом на груди.
Мой английский не выходил за рамки школьной программы, но его хватило, чтобы перевести надпись: «Полицейский патруль. 14-е отделение полиции. Бирмингем, штат Алабама».
«Толстяк» не обратил на него внимания.
— Я их толкнул, Герась, — сообщил ему «полицейский». — За сто сорок.
— Ну и дурак, — отозвался Герась, употребив при этом весьма крепкое выражение.
Полчаса спустя я уже знал основные жизненные вехи Герася.
Помог телефонный звонок по номеру, который помнил не хуже, чем дату своего рождения, ибо это был единственный оставленный мне канал связи с розыском.
Человека по кличке Герась в милиции отлично знали. Там он значился как Герасимов Юрий Антонович. В прошлом его неоднократно задерживали и привлекали к административной ответственности за мелкую спекуляцию. Однако, к моему разочарованию, в данных о нем не содержалось даже намека на связи с покойным кассиром. Тофик Шахмамедов среди его знакомых тоже не числился. Правда, они проживали на одной улице, хотя и в разных ее концах.
Стопроцентной уверенности, что Тофик, о котором, между прочим, обмолвился Герась, и Шахмамедов, с которым дружил Сергей Кузнецов, одно и то же лицо, конечно, не было, и все же контрольная лампочка продолжала подавать тревожные сигналы. Интуиция подсказывала, что такое совпадение вполне возможно.
Чутье — советчик не очень надежный, это верно, но ведь и строгие логические обоснования далеко не всегда продуктивны. Словом, я решил попробовать и под тем же предлогом, что так удачно сработал на «сходняке», выйти на таксиста. Попытка не пытка, и терять мне было нечего.
В первой попавшейся гостинице я выпросил телефонный справочник и выписал оттуда номера всех абонентов, носящих фамилию Шахмамедовы. Их оказалось трое.
В двух случаях на просьбу позвать к телефону Тофика мне ответили, что я не туда попал, и посоветовали правильно набирать номер.
В третьем к телефону подошел сам Тофик.
— Слушаю, — с легким акцентом сказал он, когда я, не представившись, поздоровался и сообщил, кто мне нужен.
— Мы должны увидеться, у меня к тебе дело.
— Кто со мной говорит?
— Неважно.
— Я хочу знать, кто со мной говорит! — потребовал он сердито.
— Зачем? — Я возражал скорей из духа противоречия, чем из желания сохранить инкогнито: необходимости скрывать свое имя не было — Симаков на всякий пожарный снабдил меня легендой с богатым «валютным» прошлым.
— Сейчас я повешу трубку, — пригрозил Шахмамадов, и, судя по тону, он не шутил.
— Ладно, — сказал я, — раз для тебя это так важно. Меня зовут Володя, фамилия Сопрыкин. Я друг Кузнецова. Нам с тобой надо встретиться по очень важному делу.
— Что за дело?
— По телефону сказать не могу. Надо встретиться лично. И чем скорее, тем лучше. Ты тоже в этом заинтересован.
Тофик как воды в рот набрал.
— Ты слышишь?
— Слышу…
В трубке снова стало тихо. Очевидно, он обдумывал мое предложение.
— Хорошо, — сказал он наконец. — Я согласен.
— Вот и отлично. Ты когда свободен?
— Позвони завтра, в два.
— А почему не сегодня?
— Сегодня я занят, — и, не вдаваясь в подробности, Тофик отключился.
* * *
После того разговора минули ровно сутки.
За это время мои попытки нащупать связи покойного не принесли никаких результатов. В активе значились лишь невнятные обещания Герася, знакомство с Ниной и пока что несостоявшееся свидание с Шахмамедовым. Не густо, конечно, но я не отчаивался: в конце концов неизвестно, какова роль Герася, Нины и Тофика в этой темной истории — что, если они и есть те самые люди, на встречу с которыми мы с Симаковым рассчитывали?..
Я сидел под зонтиком на террасе кафе. Наискосок, через дорогу, у старинной пушки, направленной жерлом в сторону моря, толпились туристы. Оттуда доносились обрывки английской речи. Экскурсовод повествовал о русско-турецкой войне, а англичане — если то были англичане — без устали щелкали затворами фотокамер.
Что делать: у каждого свои заботы.
Я оставил на столе початую бутылку «Фанты» и поплелся к телефонной будке.
Рослый, одетый в униформу швейцар, стоявший у дверей «Лотоса», окинул меня суровым неодобрительным взглядом. Как видно, моя наружность резко расходилась с его представлениями о прекрасном. Немудрено: я выглядел как помятый больной пес, которого за дряхлостью выгнали из дома. Впрочем, до сих пор в этом городе бездомных собак мне лично видеть не приходилось.
Избегая смотреть на блестящий вращающийся диск, я набрал нужный номер. На первом же длинном гудке Тофик снял трубку.
— Это ты? — Впечатление такое, что он не отходил от телефонного аппарата со вчерашнего дня. Нелепая мысль, но, видно, я был не так далек от истины: едва заслышав мой голос, Тофик на едином дыхании выпалил явно заранее заготовленное: — Через полчаса жду у кинотеатра «Стерео». Справа. В руке буду держать «Огонек».
И все. Отбой.
Это ж надо, до чего самоуверенный тип!
Естественно, после вчерашнего я не ждал от него ни особой учтивости, ни дружеских излияний, но уж поздороваться-то он мог?!
Швейцар проводил меня более благосклонным взглядом, взглядом почти ласковым. На его широкой рыхлой физиономии читались самые теплые пожелания: иди, мол, парень, подальше. Чувствуй я себя чуть получше, обязательно бы задержался, чтобы высказать этому чванливому субъекту несколько соображений на его счет. Может, этот дядя с галунами отлично знал Кузнецова? Ну конечно! Почему и нет? Спрашивается только, где была его бдительность пятнадцатого? Куда он ее подевал? Глазел, раззявив рот, на прохожих? Мух ловил? А в это время преступник прошмыгнул мимо его недремлющего ока на улицу, в толпу, за угол и поминай как звали… А Тофик? Тоже еще тот гусь! Все предусмотрел: и время, и место, и опознавательный знак изобрел, небось уже и кукиш в кармане скрутил…
— Не хотите узнать свой вес? — перебил кто-то мои и без того сумбурные мысли.
Я обернулся. На обочине тротуара, у белых медицинских весов, сидела аккуратненькая старушка в белых нитяных чулках и теплой шерстяной кофте — это при такой-то жаре!
— Вы мне? — спросил я.
Она закивала приветливо, глядя сквозь круглые допотопные очки:
— И силомер тоже есть…
— Некогда, бабушка. — Не хотелось ее расстраивать, и я пообещал: — В другой раз обязательно взвешусь. Специально к вам приду, хорошо?
Она застенчиво улыбнулась. Я улыбнулся в ответ, и, как ни странно, настроение от этого немного улучшилось.
От гостиницы до кинотеатра «Стерео» спорым шагом не больше четверти часа. Я уложился минут в двадцать пять. Тофик — максимум в двадцать. Он уже курсировал у билетных касс с мятым «Огоньком» в кармане куртки. Сзади его спину украшала реклама «Мальборо». На голове — шар из черных как смоль волос.
Я подошел и, тронув его за плечо, показал на журнал:
— Мы так не договаривались, приятель. Держать в руке надо.
Он ответил хмурым взглядом.
— Ну, привет. — Я протянул руку.
— Здравствуй. — Он демонстративно не заметил протянутой руки.
— Давно ждешь? — спросил я, прикидывая, как бы разрядить атмосферу, но Тофик был настроен агрессивно. Его явно не устраивал предложенный темп, он жаждал ясности и, не откладывая в долгий ящик, разразился градом беспорядочных вопросов, больше смахивающих на обвинения.
— Чего ты хочешь? Кто ты? Откуда меня знаешь? — Каждый вопрос задавал почему-то дважды, причем первый раз произносил его правильно, а второй с акцентом, произвольно расставляя ударения в словах. — Зачем звонил? Какое у тебя дело? Где взял мой телефон?
— Погоди, погоди, — остановил я. — Не так быстро. Телефон есть в справочнике, ты же не кинозвезда. А зачем звонил, сейчас узнаешь. Давай-ка отойдем в сторонку, присядем.
Судя по тому, как Тофик шумно набрал в легкие воздух, как долго держал его там, мое предложение не укладывалось в продуманную им схему объяснения, но, когда я двинулся к свободной скамейке, он все же пошел следом.
Мы сели. Я — откинувшись на спинку, он — на краю, в напряженной позе человека, готового в любую секунду встать и уйти.
— Сережа говорил… — начал было я, однако Тофик тут же перехватил инициативу и в своей манере, повторяясь, зачастил.
— Сережи нет. Погиб Сережа. Погиб. Ты что, не знаешь? Не знаешь, да?!
— Представь себе, нет. Вчера, когда звонил, еще не знал.
— А сегодня? Сегодня знаешь?
— Сегодня знаю.
— Откуда?
— На Приморскую ходил. — С таким собеседником поневоле собьешься на его ритм.
— К Нине ходил?
— Да.
Я терпеливо ждал, когда иссякнут вопросы, должны же они когда-нибудь кончиться.
— Что она тебе сказала?
— Что Сергей утонул.
— И все?
— Все. — Я выдержал паузу. — А что еще она должна была сказать?
Это был первый пробный шар, но Тофик на него не отреагировал.
— Кстати, ты не в курсе, как это произошло?
— Не знаешь, как тонут?! — вспылил он, демонстрируя свой незаурядный темперамент. — Купался человек и утонул. Плавал, плавал, заплыл далеко и утонул…
— Несчастный случай, значит?
— Несчастный, несчастный, — сказал он и после затяжного молчания спросил: — Ты не местный, я вижу? Приезжий?
— Приезжий, — подтвердил я.
— А откуда?
— От верблюда.
Невежливо, конечно, но Тофик проглотил ответ и не поморщился. А может, просто не расслышал.
— Кузю откуда знаешь?
Ага, Кузю! Выходит, я угадал, назвав его так в разговоре с Герасем.
— Друзьями мы были.
— Друзьями? — Он сощурился недоверчиво. — И давно?
— Давно.
— А где познакомились?
Мне начинал надоедать этот бесцельный допрос. Впрочем, почему бесцельный? Цель-то у него наверняка была!
— Останавливался я у Сергея.
— На квартире?
— Ну-да, на квартире, а что?
— А то, что врешь ты все! — воскликнул он запальчиво и со злостью. — Все, все врешь! Кузя никогда квартиру не сдавал! Никогда и никому не сдавал! Зачем врешь?!
Я понял, что дал маху, но ничего другого, как настаивать на своем, не оставалось.
— Я приезжал к нему в прошлом году, и в позапрошлом тоже…
— Неправда! — гнул свое Тофик. — Врешь ты все! Ни на какой квартире ты не останавливался! Никогда ты у него не останавливался! Зачем врешь?!
Настал мой черед возмущаться.
— Ладно, допустим, вру! Но зачем мне, по-твоему, это надо? — Известно, что лучший способ защиты — нападение, и я прибег к этому древнему как мир оружию. — Он тебе что, обо всем докладывал? Или, может, отчет давал? Кто ты ему? Сват? Брат? Домовый комитет? И вообще, какое твое дело: останавливался — не останавливался!
Крылья широкого Тофикиного носа побелели от ярости, но он сдержался, сверля меня налившимися кровью глазами.
— Говори, чего хочешь! Говори, зачем звал, а то уйду!
— Так-то лучше…
В отличие от собеседника, неизвестно отчего успевшего воспылать ко мне ярко выраженной антипатией, я не питал к нему ни вражды, ни ненависти, и в этом было мое пусть маленькое, но преимущество.
— Ты не психуй, успокойся и слушай. Нам с тобой ссориться не к чему, нам понимать друг друга надо, иначе… иначе мы никогда не договоримся. В общем, считай, что тебе крупно повезло, приятель. Сейчас поймешь почему. — Я убедился, что поблизости никого нет, и доверительно сообщил: — Нас с Сережкой общее дело связывало. Крупное дело, понял?
Тофик молчал.
— Я почему открыто говорю — мы с ним как-то обсуждали твою кандидатуру. Он сказал, что на тебя можно положиться. До сих пор мы вдвоем управлялись, без помощников, теперь его нет и кто-то должен его заменить. Так вот, я не против, чтобы его место занял ты… Многого от тебя не потребуется. У меня — валюта, у тебя — покупатель. Я продаю, он покупает, а ты в барыше. Риск минимальный. Платить буду хорошо, в обиде не останешься…
Я внимательно следил за реакцией Тофика, и был момент, когда подумал, что взрыва не избежать. Однако он взял себя в руки, хмуро свел брови к переносице и слушал не прерывая. Только глаза по-прежнему горели злым внутренним огнем.
— Я буду поставлять товар, ты сбывать. Все элементарно просто, механизм опробованный, осечек не дает. С покупателем имел дело Сергей, теперь будешь иметь ты. Кстати, ты должен его знать — он наш постоянный клиент…
— Не знаю, — угрюмо отозвался Тофик.
— Ты не спеши, — продолжал блефовать я, так как это был самый главный вопрос, ради которого пришел на встречу. — Вспомни, с кем Сергей встречался в последнее время особенно часто.
— Не знаю.
— Может, с Герасем?
Тофик брезгливо поморщился.
— Не знаю. Они вообще не были знакомы.
— Как же так, ваш общий знакомый. Ты ведь ему о Сергее рассказывал, вспомни…
— Что рассказывал? Что рассказывал?
— Ну о выигрыше в «Спринт». Забыл?
Если он и удивился моей осведомленности, то не подал вида.
— Мало ли что я рассказывал этому подонку. Мы на одной улице живем.
— Понятно. Тогда кто?
— Не знаю.
— Подумай. — Я попробовал закинуть ту же приманку, на которую клюнул толстяк со «сходняка». — На этом деле можно хорошо заработать, почти без риска. Тебе что, деньги не нужны?
— Чужие не нужны. Своих хватает!
— Опять заводишься? — упрекнул я, но Тофика уже прорвало.
— Я не знаю, зачем тебе это надо, но про Сережку ты врешь! Это точно! Он не такой был! — Сгоряча Шахмамедов повторил последнюю фразу трижды. — Слышишь, ты… Сережа, он такими махинациями не занимался. И про деньги врешь, не было у него денег. Сам у меня взаймы просил… Подлец ты!
— Не закатывай истерики, нас могут услышать, — предостерег я, но мои слова только подбавили жару.
— Пусть слышат! Мне бояться нечего! — Он остановил на мне презрительный и вместе с тем почти ликующий взгляд. — Знаешь, что я сейчас сделаю?! Знаешь?! Я не буду с тобой ругаться. Я сейчас милицию позову. Милицию! Они твоему товару быстренько место найдут! И товару твоему, и тебе заодно!
— Зови, — хладнокровно сказал я, хотя мне не светило быть задержанным своими же коллегами. — Только учти, им говорить что-то надо, а что ты можешь сказать? Что? Ты даже имени моего не знаешь, я ведь мог соврать тебе вчера по телефону.
— Ничего, там разберутся, там во всем разберутся…
Тофик уже рыскал глазами по сторонам, и мне пришлось идти напролом:
— Ну, как знаешь. А насчет милиции не суетись. Еще неизвестно, кто из нас двоих их больше заинтересует.
— Как это? — не понял Тофик.
— Думаешь, я не знаю про гостиницу, не знаю про деньги?
Он растерянно уставился на меня.
— Что ты знаешь? Что?
Надо было пользоваться заминкой, иначе мои дела оборачивались совсем худо.
— Неважно.
— Нет, раз начал, говори. — Голос его звучал неуверенно.
— Ладно, замнем для ясности. Пошутили, посмеялись, пора и расходиться. Давай так: ты меня не видел, я тебя не знаю, и закончим на этом. — Я встал. — У тебя, приятель, с чувством юмора не все в порядке, ты уж не сердись…
Тофик тоже встал. Он подступился вплотную и с силой сжал мне плечо.
— Ты… ты настоящий подонок! Грязный и гнусный подонок! Подонок — вот ты кто! — Он подумал, достаточно ли точно выразил свое ко мне отношение, и веско закончил: — Морду бы тебе набить, да руки пачкать неохота об такую мразь, как ты. Убирайся, пока цел!
При всей своей немощи я мог не беспокоиться за исход драки, даже если бы она состоялась: Тофик относился к другой, более лепкой весовой категории и вряд ли знал специальные приемы борьбы, которыми владел я. Но угроза быть задержанным висела надо мной, а не над ним, и потому мериться силой было не в моих интересах.
— Проваливай, — повторил он, воинственно поводя плечами.
Не стоило лишний раз испытывать судьбу.
Я плюнул на свое растоптанное в пух и прах самолюбие и молча ретировался.
* * *
Итоги встречи с Шахмамедовым, как пишут в официальных отчетах, оставляли желать много лучшего. Сергей Кузнецов не был знаком с Герасем — этим фактом, по сути, исчерпывалась полезная информация, которую я немедля передал в розыск.
Помощи от Шахмамедова я не добился, на связи Кузнецова не вышел. Врал Тофик или говорил правду — неизвестно. По мне, лучше бы врал. Приятно, конечно, сознавать, что он парень честный, неподкупный, но для темной личности, каковую я представлял собой в настоящий момент, это было слишком слабым утешением. Моя задача заключалась в активном поиске людей совсем другого типа, и ценность каждого нового знакомого, как это ни парадоксально, определялась по принципу «чем хуже, тем лучше» — может, именно в этом и состояла основная сложность, с которой мне уже приходилось сталкиваться и с которой еще не раз предстояло столкнуться в будущем.
Ну хорошо, рассуждал я, шагая по усаженному вековыми платанами бульвару, допустим, Герась Кузнецова не знал. Возможно это? Вполне. Но почему он смутился, когда я сказал, что хочу остановиться на Приморской? И откуда у него сведения о «деятеле», выигравшем «два куска»? Не исключено, что Тофик тут действительно ни при чем: город невелик, слухи среди местных жителей распространяются мгновенно, и о крупном лотерейном выигрыше в свое время знали многие, в том числе и те, кто Сергея и в глаза не видел. Герась тоже слышал — в конечном счете не так уж и важно от кого, от Шахмамедова или от кого другого. Что же из этого вытекает? К сожалению, ничего — пустота, дорожка, ведущая никуда.
Предположим обратное. Тофик напутал или — что также не исключено — сознательно соврал, и Герась прекрасно знал Кузнецова. Что меняется? Практически ничего — та же дорожка никуда. Мелкий спекулянт Герась вряд ли имел прямое отношение к случившемуся, да и не стал бы он по мелочи промышлять на толчке, подвергать себя опасности, заполучив похищенные в гостинице деньги, — не тот он человек…
В общем, как справедливо заметил один шекспировский герой: «Из ничего и выйдет ничего».
Да, попал я в переплет! Положение, прямо скажем, неважнецкое. Герась исключается. Шахмамедов исключается тоже. Но ведь не дух же святой организовал и осуществил комбинацию с бесследным исчезновением кассира! Кто-то это сделал!
С какой стороны ни подступись, выходило, что продолжаю плутать в трех соснах. А тут еще утренний посетитель, будь он неладен. Зачем он приходил? Что ему понадобилось на Приморской?
Мысли, одна другой мрачнее, проносились в моем взбудораженном воображении. А вдруг смерть Кузнецова связана с деятельностью крупной, крепко сколоченной банды? Что, если ободренная успехом шайка уже готовит следующую дерзкую акцию? Что у них на уме? Нападение на инкассаторскую машину? Налет на сберегательную кассу? Ограбление банка?.. Любое, самое фантастическое предположение не казалось мне чересчур неправдоподобным.
На душе было муторно, неспокойно, будто худшие опасения уже сбылись и вина за случившееся целиком ложится на меня, не сумевшего вовремя раскрыть, обезвредить преступников. Я понимал, что не время философствовать, что надо действовать, надо что-то срочно предпринимать. Но что? Что?!
Самым неприятным было даже не отсутствие улик, а овладевшее мной чувство полной беспомощности. Я был на так называемой грани отчаяния, хотя до сих пор считал это состояние пустой выдумкой… Выход, конечно, есть. Можно позвонить Симакову: так, мол, и так, заболел, мол, прошу освободить от дальнейшего выполнения задания, и он освободит, подберет что-нибудь полегче да попроще, только какой же это выход? Дезертирство, другого слова не подберешь.
Я пощупал лоб. Он был горячим и липким от пота. Кажется, снова подскочила температура. Гул улицы сливался с внутренним звуковым фоном, отчего в ушах возникло и уже не пропадало знакомое крещендо, исполняемое теми же, что и вчера, оркестрантами.
Слегка оглушенный, я приостановился у спуска в подземный переход. Взгляд случайно упал на витрину магазина, и я замер, впившись глазами в покрытое бликами стекло.
Там, где черная обивка витрины делала его поверхность почти зеркальной, в полный рост отражалась монументальная фигура Герася!
Само собой, вероятность нашей встречи была достаточно велика, и, сведи нас случай даже десяток раз на дню, ничего сверхъестественного в этом не заподозришь, но когда, решив удостовериться, что не ошибся, я обернулся и не нашел поблизости ни самого Герася, ни его жокейской шапочки, мне, признаться, стало не по себе. Мистика какая-то! Ведь только что он был здесь, почти рядом!
Я снова взглянул на витрину. Герась как ни в чем не бывало стоял на прежнем месте, с той лишь разницей, что успел изменить позу: оперся спиной о ствол платана, а руки заложил в карманы своих потертых шортов.
Как-то я уже говорил о своем отношении к музыке. Так вот, при виде Герася во мне, перекрывая все остальные звуки, вдруг зазвучало первоклассное соло на ударных. Неистовый латыш Лаци Олах с упоением колотил в упругую кожу барабанов, водил щетками по медным тарелкам, задавая бешеный ритм ударам сердца, а я стоял как вкопанный и боялся отвести взгляд от грузной фигуры своего вчерашнего компаньона и собеседника.
Герась прятался. Теперь это не вызывало у меня никаких сомнений. Толстый неповоротливый флегматик, он устроил за мной слежку и делал это с присущей ему неуклюжестью, не учел, что оба мы стоим под предельно острым углом к витрине, и потому с моего места отлично просматривается его божественное отражение.
Догадка сперва рассмешила меня. Потом обрадовала. Как не радоваться, ведь слежка — верный признак повышенного интереса к моей особе! Однако уже в следующую секунду я мысленно себя одернул: «Не обольщайся. Возможно, он прячется вовсе не от тебя, а, скажем, от дружинников или от милиции. При его бурной, богатой на приключения жизни это самое обычное дело».
Существовал только один способ проверки.
Недолго думая, я спустился в подземный переход и, пройдя холодным гулким тоннелем, вышел на противоположной стороне бульвара. Вскоре внизу показалась приметная издали желтая шапочка с похожим на клюв козырьком.
Это еще ничего не значило — наши маршруты могли совпадать.
Я подпустил Герася поближе и проскользнул в гостеприимно распахнутые двери пассажа. Лавируя в толпе покупателей, пересек торговый зал, вышел на параллельную улицу и остановился под прикрытием бетонной колонны.
Сквозь прозрачные стены пассажа видна была секция грампластинок. За ней дверь, через которую я только что вошел в магазин.
Герась не заставил себя ждать. Раздвигая людей своим могучим торсом, он, как груженая баржа, медленно продвигался в центр зала. Остановившись, привстал на цыпочки и поверх голов окинул помещение длинным взглядом. После этого его движения обрели неожиданную легкость, даже, я бы сказал, грациозность. Во всяком случае, перебегая с места на место, он не сбил ни одного покупателя, не свалил ни одного прилавка, что при его комплекции не могло не вызвать восхищения. Удостоверившись, что на первом этаже меня нет, Герась развил прямо-таки спринтерскую скорость. Он кинулся к лестнице, ведущей на второй этаж галереи, затерялся в толпе, спустя минуту вновь появился внизу и, беспокойно озираясь, трусцой побежал к выходу.
Этот стремительный рейд убедил окончательно: Герась охотился за мной, другого объекта для наблюдения у него не было.
Не знаю, что повлияло на меня больше: джазовая импровизация Олаха, игра в прятки или со скрипом сдвинувшиеся с мертвой точки события. Вероятно, все же последнее — усталость, мрачное настроение как рукой сняло.
Я прикинул, как быть дальше, и после секундного колебания решил принять участие в игре, несмотря на то, что мне в ней отводилась незавидная роль поднадзорного.
Думаю, что мой преследователь тоже относился к числу рядовых исполнителей. Главной фигурой тут был кто-то третий, по чьей воле, как видно, и разыгрывался этот спектакль. Именно он распределил между нами роли и теперь со стороны наблюдал, как я поведу себя в предложенной ситуации. Что ж, постараюсь его не разочаровать. «Потерявшись», я ничего не выигрывал, зато, продолжая делать вид, что не замечаю слежки, мог в случае удачи разгадать тайные планы противника. Для этого надо было как можно скорее вернуться на сцену, где меня поджидал сгорающий от нетерпения партнер.
Покинув свое убежище, я тронулся в обратный путь, чтобы еще раз подтвердить старую, но справедливую истину — кто ищет, тот всегда найдет.
* * *
Письмо получилось длинным.
Под впечатлением ночного разговора с мамой я не скупился на подробности. Написал про море, про солнце и пальмы, про райские условия, в которых отныне протекает моя жизнь.
Вышло немного приторно, и для достоверности пришлось вставить два-три намека на суровые милицейские будни. Еще страницу заняли сведения о южной кухне, о моем рационе и железном здоровье, а также приветы друзьям и соседям. Мама должна была остаться довольной. Что до Герася, чей силуэт вот уже битых полчаса уныло маячил у входа на почтамт, то его эмоции интересовали меня в самую последнюю очередь. Пусть помучается, не я его посылал, не мне и печалиться.
Я заклеил конверт, надписал адрес и не спеша направился к почтовому ящику. У выхода наткнулся на большой стенд с образцами поздравительных открыток, и только жалость удержала меня от подробного осмотра этой обширной экспозиции.
Дальнейшее складывалось по традиционной схеме: я «прятался», а Герась неутомимо меня преследовал.
Он сворачивал и останавливался там, где сворачивал и останавливался я, одновременно со мной убыстрял и замедлял движение. По дороге к кинотеатру «Стерео» он буквально наступал мне на пятки. У парикмахерской, куда я зашел побриться, терпеливо выстоял все двадцать минут. То же повторилось у киоска, где я, смакуя, продегустировал имеющиеся в наличии соки и воды.
А потом произошло непредвиденное.
В квартале от Приморской мой спутник пропал. Я почувствовал это сразу — слишком заметным было его присутствие на протяжении последних двух часов — и тут же подверг проверке все мало-мальски пригодные для наблюдения точки. Тщетно. Его не оказалось ни за афишной тумбой, ни за приткнувшимся у обочины автофургоном, ни за будкой мороженщицы.
Громоздкий, выше среднего роста Герась как сквозь землю провалился.
Озадаченный, я не знал, что и думать. Это не могло быть случайностью. Иначе за каким чертом тащиться за мной через весь город, какой резон тратить на это уйму времени? Может, я ненароком выдал себя: он заметил и потому смотал удочки?
Для верности я разбил весь наш путь на участки и мысленно прошел по каждому из них еще раз. Нет, придраться вроде не к чему. Причина в чем-то другом.
Я засек его у подземного перехода. Правильно. Но ведь он мог вести слежку от самого дома, с той минуты, как я вышел, чтобы позвонить Тофику? Мог, конечно. Наверняка так оно и было. А исчез? А исчез он именно в тот момент, когда я направился обратно. Ни раньше, ни позже. Тоже верно. Но тогда…
От смутной догадки в спину пахнуло холодком. Я невольно прибавил шаг и почти бегом свернул на Приморскую. Если я угадал, вся петрушка с Герасем представала совсем в ином свете: выходит, не я, а меня водили за нос. И даже топорность слежки была предусмотрена заранее, запрограммирована специально в расчете на мою глупость!
У беседки я зацепился ногой за корявый корень шелковицы и чуть не растянулся во весь рост. Но вот наконец поворот к дому…
Дверь была распахнута настежь.
Еще надеясь, что предчувствия меня обманули, я громко позвал Нину. Ни звука в ответ. Гробовая тишина. В замке торчал ключ, тот самый, из-под коврика. Продетое в ушко кольцо еще покачивалось, словно дразня меня: опоздал, опоздал…
Я влетел по ступенькам и застыл на пороге. Так и есть! Меня обставили, как младенца! Осел! Неисправимый самонадеянный осел! Пока я строил из себя проницательного Холмса, они преспокойно орудовали в квартире и даже не сочли нужным скрыть следы своего пребывания.
Я без сил опустился на сброшенную на пол постель.
Винить было некого: не сваляй я дурака, и обыск, учиненный в мое отсутствие, можно было предотвратить. Еще утром следовало догадаться, что квартира находится под чьим-то неусыпным вниманием, что оставлять ее без присмотра нельзя. Я недооценил противника, пошел у него на поводу, и вот результат — сдвинутая мебель, перевернутый кверху ножками стол, сваленная в кучу одежда.
Да, они не церемонились! В отличие от меня они знали, что делали, и, не предупреди Герась о моем возвращении, они, пожалуй, взялись бы отдирать доски от пола и ковырять стены.
«Ну что, доигрался?» — ехидно осведомился голос, который почему-то принято называть вторым «я», хотя на самом деле это злое насмешливое существо не имеет с нами ничего общего. «Игра еще только начинается, — возразил я, — подводить черту рано». — «Ты так считаешь? — съязвил он. — Знавал я одного нападающего, который на первой же минуте забил гол в собственные ворота. Так вот он рассуждал точно так же». — «Зато теперь у меня есть твердое доказательство, что „невидимки“ не плод нашей коллективной фантазии, а реально существующие люди. Причем способные делать ошибки». — «Да ну?! — притворно удивился мой оппонент. — А я-то по наивности думал, что ошибку допустил ты». — «Да, я ошибся, но и они тоже. Они не выдержали и перешли к активным действиям, а это серьезный промах». — «Ну-ну, а сам-то ты в это веришь?» — нагло усмехнулся он.
Мне надоело препираться с самим собой, и я прекратил разговор. В моих рассуждениях безусловно имелись слабые места, но и доля истины в них тоже имелась.
Я не знал, что здесь искали. Ясно только, что заметка во вчерашней «Вечерке» попала по адресу. Ее прочли те, на чье внимание мы и рассчитывали. Прочли и сделали выводы. Мое появление на Приморской тоже не осталось незамеченным. Для кого-то оно послужило сигналом к действию. Пришли в движение скрытые рычаги, и события стали разворачиваться с нарастающей быстротой. Противник дал о себе знать и, сам того не желая, подтвердил нашу версию: Кузнецов погиб не случайно, он стал жертвой хорошо обдуманного и хладнокровно осуществленного преступления. Это был первый, пусть не очень большой, но важный шаг вперед.
Что до обыска, то о нем со всеми нелестными для меня подробностями надо было срочно сообщить в розыск. Представляю, какой разгон устроит мне начальство, — последний раз я выходил на связь с Симаковым позавчера.
Ладно, чему быть, того не миновать. А пока не мешало навести порядок в квартире. Я начал с осмотра. Не суетясь, обследовал обе комнаты и кухню. Разгром оказался меньше, чем показалось вначале. К тому же мне крупно повезло: тот, кто производил обыск, делал это со знанием дела, целеустремленно, и потому в общем хаосе просматривались все же элементы какого-то порядка. Платья Нины, пальто и джинсовые туалеты покойного валялись на полу. Вместе с вешалками их вытаскивали из шифоньера и бросали в одну кучу. Чтобы разместить вещи в прежней последовательности, достаточно было проделать ту же операцию в обратном порядке. Что я и сделал.
Потом возился с книгами, с постельным бельем. Потом с обувью и посудой. Сложней всего пришлось с мебелью, особенно с диваном — его оттащили на середину комнаты, — но, поднатужившись, я справился и с этим.
Постепенно квартира принимала прежний вид. Оставалось несколько мелких деталей, которые я не мог восстановить по памяти, но они были столь незначительны, что самый придирчивый взгляд не обнаружил бы теперь явных признаков чужого вторжения.
Будильник показывал без четверти семь, когда, обессилевший, я рухнул на диван и в последний раз окинул взглядом комнату.
И тут меня настигла мысль, от которой всеми силами старался избавиться в последние полчаса. Мысль, сводившая на нет все мои выкладки, не оставлявшая от них камня на камне.
Кто сказал, что они искали здесь выручку из ресторана «Лотос»? А если все гораздо проще и они охотились за валютой, о которой я говорил вчера на «сходняке» и сегодня у кинотеатра «Стерео»?!
Понятно, что после случившегося я не горел особым желанием выходить на прямой контакт с начальством. Меня вполне устроил бы дежурный, круглосуточно сидевший на связи. Но везение вещь капризная, и ее лимит на сегодня был, увы, давно исчерпан.
Несмотря на то что рабочее время давно истекло, Симаков оказался на месте. Дежурный не стал нарушать субординацию и с легким сердцем перекинул разговор на его кабинет.
После взаимных приветствий я во избежание нахлобучки с ходу принялся сыпать доводами в пользу своей вчерашней авантюры с посещением Кузнецовой. Как и следовало ожидать, моя инициатива не привела Симакова в восторг. Отрывистое «ну», которым сопровождался каждый новый аргумент в пользу моего визита на Приморскую, свидетельствовало, что он не в духе и что долго ждать разгона не придется. Правда, краткое описание нашего с Ниной знакомства вызвало некоторое потепление на другом конце провода. Суровое «ну» мало-помалу сменилось более мирным «так… так…», и, воспрянув духом, я доложил о свидании у билетных касс, о стычке с Шахмамедовым, о приставленном ко мне «хвосте».
— Любопытно, — расщедрился на реплику Симаков. — Ну и что дальше?
Пришла пора рассказать об обыске. В общих чертах я описал игру в прятки, внезапное исчезновение Герася и в заключение кавардак, который застал в доме.
Симаков отнесся к сообщению на удивление спокойно. Очевидно, причина заключалась в том, что он пришел к тем же выводам, что и я, только затратил на это значительно меньше времени. Кроме того, к нему стекалась вся оперативная информация, и не исключено, что в розыске уже знали, кто побывал на Приморской в мое отсутствие.
— Надеюсь, ты навел порядок в квартире? — спросил он.
— Навел.
— Правильно сделал.
— Но ведь они могут прийти снова! — Признаться, я был немного разочарован его реакцией. — Похоже, что они ничего не нашли.
— Пусть ищут, — невозмутимо обронил он. — Забудь об этом, считай, что ничего не было.
Его уверенность отчасти передалась мне.
— В таком случае у меня все.
— Хорошо, Сопрыкин, — лаконично похвалил он, подводя итог этой части разговора. — Просьбы имеются?
— Есть одна.
— Давай выкладывай.
Я знал, что мои товарищи не сидели сложа руки. Мы делали одно общее дело. Они тоже искали знакомых Кузнецова, его связи и за последние дни наверняка пополнили их список. Я попросил дать мне эту информацию.
— Понял, распоряжусь, — пообещал Симаков. — Завтра с утра передам через дежурного. Что еще?
— Пока все.
— Ну а вообще как? — спросил он после небольшой паузы. — Как ты?
Я ждал этого вопроса, но допускал, что он может и не спросить, — мало ли у него других забот?
— Нормально, товарищ подполковник. А у вас?
Чувствовалось, что он хочет что-то сказать и вместе с тем сомневается, стоит ли?
— Ты откуда звонишь?
Я понял, что его беспокоит, и заверил:
— Тут ни души, можно говорить хоть до утра.
— Неважно у нас, Володя, — неожиданно признался он, как, видно, высказывая то, о чем думал непосредственно перед моим звонком. — Надо бы хуже, да некуда. Версий миллион, а за какую ни возьмись — концы оборваны. Как в тумане действуем, ну а в тумане, сам знаешь, не больно развернешься: сколько ни маши кулаками, толку не будет. Тут расчет нужен, точность. — Он не удержался и вставил свой любимый афоризм: — Это тебе, брат, не кража с пляжа, тут алгебра, высшая математика. Противник нам ловкий попался, изворотливый, его голым энтузиазмом не одолеть, мозгами шевелить надо, иначе дело дрянь, так и будем кулаками в пустоте размахивать…
Я молчал, подавленный мрачным колоритом картины, которую он набросал.
— Ты на свой счет не принимай, — угадал он мое состояние. — Докладом твоим я в общем доволен. Просвет наметился, это хорошо. Теперь главное — терпение. Зря не рискуй, не зарывайся. Учти, ты у нас на перспективном направлении работаешь. Так что не подкачай… И головой, головой больше работай. Ясно ли?
— Ясно, — отозвался я.
— То-то, — буркнул он. — Кстати, какие у тебя на сегодня планы?
— Никаких, — чистосердечно признался я.
— Тогда вот что, двигай-ка ты, Сопрыкин, домой. Хозяйка твоя задержится, переучет у них в библиотеке, а гаврики эти в любую минуту нагрянуть могут, это ты верно заметил. — Я услышал, как он затарахтел спичками. — Ну, лейтенант, все. Звони. Ни пуха тебе.
Посылать начальство к черту не положено, но в виде исключения я все же отдал дань традиции. Само собой после того, как повесил трубку.
3
Солнце, так и не пробившись сквозь затянувшую небо пелену, незаметно скатилось за горизонт. Где-то далеко на западе его отраженные лучи еще боролись с темнотой, отчего над морем стояло слабое фиолетовое свечение, но с каждой минутой свечение это становилось все слабее, и на город огромным беззвездным куполом уже опустился вечер.
Две недели назад приблизительно в это время Кузнецов вышел на залитую электрическим светом Приморскую и двинулся через дорогу к гостинице. Он не знал, что это будет его последний рабочий день. А может, знал? Может, не было никаких сообщников и мы зря ищем? Что, если он был одновременно и автором, и единственным исполнителем операции по ограблению «Лотоса»?
Тот вечер начался для Кузнецова, как и множество других вечеров. По крайней мере так казалось вначале. В ресторан он пришел без опоздания. Сослуживцы утверждают, что он был спокоен, собран и, как обычно, немногословен.
В этот вечер с ним говорили работники валютного бара, официанты, администратор, но ничего странного, настораживающего в его поведении они не заметили.
В двадцать один тридцать к гостинице подъехала инкассаторская машина. Инкассатор прошел в холл и, как обычно, начал принимать деньги в сберегательной кассе. Примерно в это же время Кузнецов сложил выручку в парусиновые мешочки: в один валюту, в другой — советские деньги — и в двадцать один сорок, сказав, что идет сдавать выручку, стал подниматься по винтовой лестнице в вестибюль.
Это последний из достоверно известных нам фактов. Здесь, на лестнице, его след обрывался.
Существовало несколько вариантов концовки того фатального вечера. И теперь, стоя на углу, в двух шагах от «Лотоса», я пробовал определить, какой из них ближе к истине.
Если бы это удалось, мою миссию можно было бы считать законченной. Я мог сворачивать дела и с чистой совестью готовиться к вселению в свою изолированную гостиничного типа квартиру с персональным душем, санузлом и двухконфорной газовой плитой. Впрочем, душ мне сейчас был явно противопоказан, а плита вообще без надобности — готовить я все равно не умел. Ну, эту-то проблему, положим, решить можно, а вот как быть с Кузнецовым? Тайна его смерти продолжала оставаться за семью печатями.
Шеф прав: мы действительно блуждали в тумане и, точно брегелевские слепцы, беспомощно разводили руками, пытаясь на ощупь выбрать правильное направление. Понятно, что используемый нами метод проб и ошибок не отличался совершенством, но пока это была единственная доступная нам система поиска.
Я свернул на Приморскую.
В сквере, у древней пушки, слонялась очередная группа туристов. Не знающие усталости, они густо облепили смотровую площадку и безостановочно щелкали своими фотовспышками, обращая в бегство расположившиеся на лавках парочки.
На крыше гостиницы, отбрасывая в темноту сполохи света, загорался и гас гигантский рекламный куб.
«Играем в „Спринт“! Играем в „Спринт“!» — мигала неоновая надпись, призывая прохожих испытать судьбу.
Тротуары были запружены народом. Экзотическими цветами выделялись в толпе воздушные наряды женщин, щегольские, преимущественно светлых тонов костюмы мужчин. Попадались и дети, веселые, загорелые, принаряженные под стать взрослым. Это была особая — курортная — публика, и настроение здесь царило тоже особое. Шарканье ног, нестройный гул голосов мешались с обрывками музыки, смеха, и чудилось, что с минуты на минуту грянут литавры, запоют трубы и начнется всеобщий праздник с карнавальным шествием, ослепительными фейерверками, танцами до утра. Праздник, к которому может присоединиться каждый, стоит лишь захотеть…
Когда мысли заняты одним и тем же человеком, надо быть готовым к любым неожиданностям. Мне вдруг померещилось, что в общем людском потоке мелькнула знакомая фигура. На этот раз то был не Герась, а сам Кузнецов. Подтянутый, коренастый, он шагал по противоположной стороне улицы в новенькой японской куртке, узких, в обтяжку, джинсах с бляхой на заднем кармане, в надраенных до зеркального блеска полусапожках.
Впечатление было до того сильным, что на миг я поверил в невозможное и чуть не бросился следом. К счастью, мужчина обернулся. Это привело меня в чувство, и тут же, не сходя с места, я дал себе слово при первом же удобном случае сходить в поликлинику и записаться на прием к психиатру. Видно, я все-таки не отошел после осечки с Герасем. А тут еще шум, музыка, перемигивание электрических гирлянд. От всего этого с непривычки кружилась голова.
Я задержался у аптечного киоска, чтобы приобрести зубную щетку, и с покупкой в руке кратчайшим путем устремился к вожделенной тишине своего временного убежища.
Между тем мнимая встреча с Кузнецовым оказалась не последней. Предстояла еще одна и тоже из категории необъяснимых.
Ни о чем не подозревая, я свернул на ведущую к дому дорожку. Не успел сделать и трех шагов, как от темной массы беседки отделилась тень. Мне навстречу вышел плотный небольшого роста человек. Опираясь на костыли, между которыми свисали тесно прижатые друг к другу ноги, он бесшумно и очень быстро прошел мимо, совсем как привидение, с той лишь разницей, что привидения, насколько мне известно, не имеют запаха, а от него исходил слабый запах табака и бензина.
Мы разминулись, и я не успел хорошенько разглядеть лицо. Заметил лишь длинные, расчесанные на прямой пробор волосы и короткую рыжеватую бороду, покрывавшую щеки и подбородок незнакомца.
Я оторопело стоял на обочине дорожки. Надо было оглянуться, посмотреть вслед, но что-то помешало мне это сделать. Собственно говоря, не что-то, а вполне конкретное чувство, уверенность, что, обернувшись, наверняка натолкнусь на встречный, устремленный на меня взгляд.
Будь я кинорежиссером, непременно снял бы эту немую сцену под струнный квартет Бетховена. Есть там очень близкое по настроению место: несколько мощных отрывистых тактов, внезапно сменяющихся зыбкой и тревожной основной темой сонаты. Жаль только, мажорный финал сюда никак не монтировался. Когда я все-таки рискнул оглянуться, на дорожке было уже пусто.
Рыжебородый, если, конечно, он и впрямь не выходец с того света, не мог уйти далеко — слишком мало прошло времени, и, не отдавая себе отчета, зачем это делаю, я ринулся на улицу. Но и там мужчины на костылях тоже не было.
Не знаю, какой диагноз поставят мне в поликлинике, но, боюсь, что в нем не обойдется без упоминания о мании преследования. По оперативным данным, после пятнадцатого ни одна живая душа не появлялась на Приморской, и вдруг целое нашествие! Чудно: еще вчера я сетовал на застой в событиях — прожитый день оказался перенасыщен ими.
Поднявшись по ступенькам, я первым делом проверил метку — крошечный, втиснутый в дверной зазор камешек. Он был на месте. Стало быть, на неприкосновенность жилища в мое отсутствие никто не покушался. И на том спасибо.
Я зажег свет. Включил телевизор. Прилег на диван.
Физическая усталость и недомогание, а попросту болезнь буквально придавили меня к постели. Тело ныло, как будто по нему весь день били палками. Нащупав на тумбочке упакованный в фольгу аспирин, я вытряхнул на ладонь таблетку и запил ее остатками чая. Есть не хотелось, несмотря на то, что весь мой дневной рацион состоял из нескольких стаканов фруктового сока.
По телевизору шел концерт покойного Джо Дассена, но звук оказался выключен, а вставать было лень. Рядом со стаканом лежала записка, которую, уходя, оставил для Нины. Я машинально перечитал ее, взял ручку и принялся выводить каракули на обратной стороне листа.
В путанице штрихов и закорючек появился чей-то ястребиный профиль, девушка в чрезмерно коротенькой юбке, силуэт человека, опирающегося на костыли. Ниже рука сама собой вывела прямоугольник, и без всякого усилия с моей стороны на рисунке стали возникать очертания гостиничного вестибюля и придуманные на ходу символы. Буквой В обозначился главный вход. Буквой З — закрытые под замок запасные выходы. Р — валютный бар и ресторан. С — сберкасса, Л — лестница на верхние этажи, М — мусоросборник. Остальные надписи я внес полностью и стрелкой указал маршрут, по которому должен был пройти Кузнецов вечером пятнадцатого сентября.
Получилось не очень аккуратно, зато похоже.
Однако чем дольше всматривался в рисунок, тем меньше делалось сходство. Буквы приняли вид загадочных иероглифов, спираль лестницы, ведущая в бар, обернулась неясным математическим символом, и хотя в вычерченной схеме не содержалось абсолютно ничего нового, она показалась сложной головоломкой, разобраться в которой мне явно не под силу.
Снова тайны! Хватит, сыт по горло, пропади они пропадом!
Я смял лист, бросил его в пепельницу, но спустя минуту рассудил, что лучше не оставлять рисунок, и поднес к нему зажженную спичку. Огонь перекинулся на бумагу. Она вздрогнула в язычках пламени, подернулась дымком, съежилась и застыла черным комком пепла.
Меня охватила глубокая апатия ко всему, что имело отношение к делу. Будь что будет, в конце концов имею я право на отдых!
Я поднялся с дивана и выбросил оставшийся после «кремации» пепел в раковину, пустил воду. Потом выключил свет и прибавил громкость.
Концерт окончился. Крутили какую-то слащавую мелодраму из жизни автогонщиков. Молодой герой с внешностью супермена и интеллектом говорящего попугая, преодолевая несуществующие трудности, уводил жену у своего менее удачливого коллеги. Для полного счастья ему недоставало заполучить «Гран-при» на каких-то заграничных авторалли, но, надо полагать, в финале он его обязательно добудет.
Кое-как раздевшись, я влез под одеяло и, скрестив под затылком руки, уставился в потолок. В этой позе я пролежал около часа.
Фильм успел завершиться полным триумфом автогонщика. Закончилась и программа «Время». Я не спал и не бодрствовал, а лежал неподвижно, как мумия из древнеегипетского захоронения, и тихая печаль витала над моим дерматиновым саркофагом. В медицине, если мне не изменяет память, такое состояние называют каталепсией — со мной и впрямь творилось что-то странное: я точно раздвоился. Одна моя половина, окаменев, продолжала покоиться на диване, в то время как другая легко и свободно маневрировала в пространстве. Невесомый, я парил над рощицей у спуска к морю, бродил по пустынному пляжу, взбирался на холм, откуда видны были верхние этажи санатория имени Буденного, опять возвращался в гостиницу и плутал лабиринтами коридоров.
Эти странствия до того меня увлекли, что я не услышал шагов во дворе, скрипа ступенек, не заметил, как в дом вошла Нина.
— Вы не спите? — спросила она с порога.
Ее голос спугнул подвижную часть моего «я» и вернул к действительности, в мир, где, слава богу, не все замыкалось на преступниках, похищенных тысячах и исчезнувших на дне морском купальщиках.
— Володя, вы спите? — спросила она погромче. Похоже, ей не терпелось услышать живой человеческий голос.
— Вроде нет.
Мне показалось, что, услышав отклик, Нина облегченно вздохнула. Я даже подумал: уж не для того ли меня пустили в дом, чтобы было с кем перекинуться словечком — какой-никакой, а все ж живая душа.
— А почему вы молчите?
— Задумался, — ответил я, и это была чистая правда.
Нина прошла в спальню. Включила свет. Задернула за собой портьеру. Я слышал, как она отворила шифоньер, и, обратившись в слух, настороженно ждал — заметит она следы обыска или нет.
— И о чем же вы думали, если не секрет? — послышалось из-за портьеры.
Кажется, пронесло — не заметила.
— Так, о разном.
— И все-таки?
— Да вот лежу и гадаю, почему у вас свидание сорвалось.
Мой намек не имел успеха.
— Ужинать будете? — спросила она.
— Нет, спасибо.
— А температуру мерили?
— Мерил, — соврал я.
— Высокая?
Вопрос с подвохом: скажи я, что нормальная, и могу в два счета очутиться на улице, под открытым небом, на жесткой скрипучей раскладушке, — я не забыл, на каких условиях был оставлен в доме. Нет, лучше не рисковать.
— Высокая. Я только что аспирин выпил.
Нина вышла из комнаты. На ней был легкий ситцевый халат, войлочные тапки с клетчатым верхом. Волосы она распустила, и они обтекали плечи точь-в-точь как у Марыли Родович на последнем Сопотском фестивале.
— Так с чего вы взяли, что у меня сорвалось свидание? — поинтересовалась она и, подойдя к двери, набросила на нее цепочку.
Я облегченно вздохнул: диван, к которому успел привыкнуть, оставался за мной.
— Это совсем несложно: если вы с работы, то пришли слишком поздно, а если со свидания, то, пожалуй, рановато. Что, угадал?
Нина достала из кармашка халата сигареты, зажигалку и закурила, присев к столу.
— Вас, вижу, очень интересует, где я задержалась?
— Интересует, — сказал я. — Еще как.
— А почему, собственно?
Нет лучшего способа обескуражить собеседника, чем задать прямой вопрос, особенно когда ему есть что скрывать. Нина, по-видимому, знала это правило.
— Ну, я волновался, ждал. И потом, когда идешь на свидание, нелишне…
— Вы ошиблись. — Она стряхнула пепел, и по тому, как она это сделала, было видно, что курильщик из нее некудышный. — Я на работе задержалась. Переучет у нас.
— Вы, значит, в магазине работаете?
— Нет, я библиотекарь, — сказала она и вышла на кухню.
Вскоре оттуда донесся запах разогреваемого молока.
При мысли, что его готовят для меня, я содрогнулся — с детства не переношу молоко, особенно кипяченое. Однако спорить с женщиной, да еще если она задалась целью поставить вас на ноги, дело не только бесполезное, но и небезопасное. Я знал это по опыту общения с матерью, и Нина, ясное дело, вряд ли была исключением.
— Мне с детства противопоказано все молочное, — предупредил я, с тоской глядя, как она размешивает в стакане столовую ложку меда.
— Пожалуйста, без капризов, — подтвердила она мои худшие опасения.
— Неужто у вас совсем нет жалости!
— Пейте. — Нина подала мне стакан и стояла над душой до тех пор, пока последняя капля этого отвратительного пойла не перешла в мой организм. Не оценив проявленного мной мужества, она взяла стакан и отнесла его на кухню.
— Посидите со мной, — попросил я, когда, выключив свет и прихватив с собой книгу, она направилась к себе в спальню.
Нина в нерешительности остановилась, потом зажгла настольную лампу и присела. Свет мягким пятном лег на ковер, оставляя неосвещенными углы комнаты.
— Устали? — спросил я.
— Немного.
— Спать, наверно, хотите?
— Нет, рано еще. Я раньше двенадцати не ложусь.
— Бессонница?
Она неопределенно пожала плечами:
— Привычка. — Немного помедлив, спросила: — Скажите, а вас действительно зовут Володя?
— Конечно. А почему вы спрашиваете?
— Да так…
Меня кольнуло сомнение: что, если она все же заметила следы обыска и сейчас об этом скажет? Но даже если так и было, Нина предпочла обойти этот скользкий вопрос.
— Просто вспомнила место из книжки, что вы читали. Про короля, который переоделся, чтобы его не узнали.
— И что же?
— Ничего… Так вы серьезно решили переезжать?
— Серьезно.
Я думал, наш разговор только завязывается, но Нина посмотрела на часы.
— Уже поздно, — сказала она, — постарайтесь уснуть.
— Посидите еще, до двенадцати далеко.
Она промолчала, но книжку отложила.
Момент подходящий, располагающий к откровенности. Может, спросить у нее про Герася? Про Тофика? Сказать, к примеру, что они приходили, пока она была на работе. Нет, опасно, сейчас любой вопрос как шаг по минному полю.
— Это кто? — Я показал на фотографию, стоявшую на книжной полке. — Брат?
Нина отрицательно покачала головой.
— Знакомый?
— Нет, это муж.
Или у меня начисто пропал слух, или она говорила слишком тихо. Так тихо, что я скорей догадался, чем услышал ответ.
— А где он?
— Погиб.
— Погиб?
— Да, несчастный случай.
Мы помолчали. Паузу заполнил пронзительный стрекот цикад. Сдается, со вчерашнего дня их стало еще больше и с каждым часом все прибывало.
— Это случилось две недели назад? — спросил я.
— Кто вам сказал?
— Никто. Просто спрашиваю.
Она потеребила оборку халата, разгладила на коленях складки.
— Да, две недели назад.
— Тогда я, пожалуй, знаю, как это произошло… Не удивляйтесь, фамилия ваша на почтовом ящике написана, а о муже я во вчерашней газете прочел, в разделе происшествий. Фамилии сходятся, инициалы, по-моему, тоже. Сначала думал: случайность… Кузнецов С. В. — правильно? Он, кажется, заплыл дальше, чем положено?
Я увидел, как медленно наполняются влагой ее глаза. В них вдруг отразилось и одиночество, и боль, и тревога, и страх. Я непроизвольно накрыл ладонью лежавшие на коленях руки.
Несколько мгновений она сидела неподвижно. Потом встала.
— Спокойной ночи.
— Я не хотел вас огорчать, поверьте…
— Спокойной ночи, — повторила она и вышла в соседнюю комнату.
Глава 3
1
Говорят, будто голодному человеку мерещатся сплошь изысканные яства, будто в его фантазии рождаются рецепты самых диковинных блюд, о которых не упоминается даже в толстых кулинарных книгах. Может, оно и так, не знаю, только первое, о чем я, проснувшись, подумал — это об обыкновенной горбушке и хорошо прожаренном куске мяса. Главное, рассуждал я, сбрасывая с себя одеяло, чтобы и того и другого было побольше.
С таким настроением одна дорога — на кухню.
Отбивной я там не нашел. Зато обнаружил хлеб, масло, два сваренных вкрутую яйца, колбасу и стакан остывшего чая. На десерт отдельно, в блюдечке, лежали приготовленные для меня таблетки. Целых три штуки.
Первым делом я выбросил таблетки, они были без надобности. Если не считать мучительно сосущую пустоту в желудке, чувствовал я себя превосходно. А вот остальное пришлось как нельзя кстати: мои деньги вместе с вещами лежали в камере хранения, и теперь я вряд ли наскреб бы на приличный завтрак. Разве что на булочку и стакан газировки. К тому же время завтрака давно минуло — мой самозаводящийся пылевлагонепроницаемый хронометр показывал половину двенадцатого.
Я наскоро умылся, обновив вчерашнее свое приобретение, затем поставил на плиту чайник и приступил к трапезе.
Четкой программы на предстоящий день не было. Я сознательно не строил никаких планов, поскольку со вчерашнего дня каждый мой шаг скорее всего контролировался Герасем. Верней, не обязательно им персонально, а теми, кого он прикрывал во время обыска. Для них я — темная лошадка, заезжий коммерсант, подыскивающий партнера для сделки. Следовательно, и вести себя нужно соответственно. Поболтаюсь по городу, наведаюсь на толчок, потрусь у комиссионок. Там видно будет, что и как.
Вскоре от яиц осталась одна скорлупа. В ход пошел третий бутерброд с маслом и последний кружок колбасы. Когда с ним было покончено и я собрался было почаевничать, в дверь постучали.
Я придвинул сахарницу. Повторялась вчерашняя история, но на этот раз у меня не было ни малейшего желания соревноваться в скорости с непрошеным визитером. С какой стати? Захочет — войдет, не захочет — пусть уходит, скатертью дорога. Не силком же его в дом тащить!
Стук повторился.
— Войдите! — крикнул я на всякий случай и высыпал в стакан пятую ложку.
Дверь, как ни странно, отворилась — должно быть, игра в прятки наскучила не одному мне.
— Проходите, — я намеренно громко зазвенел ложкой, наводя пришельца на цель.
Гость поскрипел половицами и направился к кухне. Еще шаг, и он вырос на пороге, заслонив собой весь дверной проем. Мать честная: Герась собственной персоной — прошу любить и жаловать! Воистину легок на помине!
— Салют, — сказал он, шныряя по сторонам заплывшими жиром глазками.
— Салют, — сказал я.
— Как жизнь?
— Течет, как видишь, — ответил я уклончиво. — Зачем пожаловал?
Он покрутил своей усеченной башкой. Спросил, показывая через плечо:
— Ты один?
— Нет, опер под столом прячется. С магнитофоном.
— Чего мелешь?! — недоверчиво покосился он, но не поленился и, присев на корточки, заглянул под стол.
— Ну ладно, хватит! — Я не забыл прием, который он оказал мне в день нашего знакомства, но с тех пор кое-что изменилось. Мы поменялись ролями, и я не отказал себе в удовольствии подчеркнуть это. Конечно, в доступной форме. — Выкладывай, чего надо. И покороче, у меня время не казенное.
Пустая затея: Герась обладал толстой кожей — булавочные уколы на него не действовали. Он втиснул свои пудовые кулаки в карманы шортов, прошелся, обживая пространство, отчего в кухне сразу стало и тесно и неуютно.
— А ты времени зря не терял. — Он показал на оставшуюся неубранной постель. — Неплохо устроился, а?
Меня так и подмывало поставить его на место, но я не мешал ему высказаться, ибо не сомневался, что немного погодя обо всем увиденном и примерно в тех же выражениях он доложит тому, по чьей указке здесь находился.
— Она девочка что надо, аппетитная. Не гляди, что худенькая. — Последовал игривый жест и кивок в мой адрес. — Везет же некоторым…
— Меньше суй нос в чужие постели — повезет и тебе.
Нарывчики на его лице предательски побагровели. Не иначе как я ненароком задел больное место.
— Ты по делу или как?
— Да вот шел мимо, вспомнил про тебя. Дай, думаю, загляну. Ты ж говорил, что у Кузи остановишься.
— Ну заглянул. Дальше что?
Герась пропустил мою реплику мимо ушей.
— Чаи гоняешь?
— А ты против?
— Да нет… Может, угостишь?
— Перебьешься.
Мне не было жалко чая. Да и ему он был ни к чему. Просто шло взаимное прощупывание: он хотел убедиться, что я по-прежнему нуждаюсь в его услугах, а я намеревался внушить, что стремление к контакту с моей стороны не столь уж велико.
— Перебьешься, — повторил я.
— Что-то ты сегодня больно суровый, — насторожился он. — К чему бы это?
— Все к тому же. Давай ближе к делу. А нет — проваливай. Нечего из себя козырного туза корчить.
В компании мальчиков, которыми верховодил на толчке, Герась, понятное дело, привык к более почтительному обращению и теперь, обескураженный холодным приемом, перебирал в уме инструкции, полученные от хозяина. То, что он всего лишь марионетка, действиями которой управляют на расстоянии, уже не вызывало у меня сомнений. Доказательством тому был вчерашний обыск.
— Слушай, — выдавил он после глубокого раздумья, — да ты никак нашел, что искал?
— Не твоя забота. — Важно было не перегнуть палку, она и без того угрожающе потрескивала. — С вами найдешь, только языками трепать умеете.
У него внутри что-то сработало, точно кассовый аппарат выдал чек на покупку, и он малость приободрился:
— Не нашел?
— Я этого не говорил.
Однако Герась предпочитал обходиться без дипломатических тонкостей:
— Не финти, отвечай прямо: нужен тебе покупатель или нет?
— Ну, допустим, нужен.
— А без «допустим»?
— Нужен.
— Тогда собирайся, — тоном, не допускающим возражений, сказал он. — Да поживей. Там разберемся.
* * *
— Одну минуточку, молодые люди! — Давешняя старушка, дремавшая у медицинских весов, завидев нас, встрепенулась и помахала зажатыми в кулачке лотерейными билетами. — Не желаете приобрести? Через неделю тираж!
Герась на ходу выудил из кармана горсть мелочи и остановился, отсчитывая монеты:
— Давай, бабка, авось у тебя рука легкая.
— Легкая, легкая, — согласно закивала старушка, протягивая сложенные веером билеты.
Герась, зажмурившись, вытянул наугад три штуки.
— А ты ж чего, сынок? — спросила она и посмотрела поверх допотопных очков молодыми не по возрасту глазами. — Бери. Или снова торопишься?
— Тороплюсь, бабушка, — сказал я. — В другой раз непременно возьму.
— Пошли, пошли, кончай трепаться. — Герась спрятал билеты в карман. — Опаздываем.
Мы в темпе отмахали три квартала и свернули в безлюдный переулок, полого спускающийся к набережной. Он был нешироким, почти лишенным растительности. В просвете между крайними домами виднелась пепельно-серая полоска моря.
— Далеко еще? — спросил я.
— Уже пришли, — сказал Герась и направился к бару «Страус», вывеска которого висела поперек тротуара.
Он уверенно распахнул тяжелую дверь с медными поперечными полосами, с висевшей на гвозде трафареткой «Закрыто» и пропустил меня вперед.
В прохладном помещении мягко жужжал вентилятор. День стоял пасмурный, и внутри было сумрачно. Даже темно. Свет горел лишь в противоположном от входа углу. Там, на расположенных позади стойки полках, красовались сигаретные блоки, всевозможные вымпелы, пластинки, портреты эстрадных звезд — короче, целый иконостас для молящихся на подобные культовые причиндалы, а вместо лампадки горел розовый фонарь, освещавший многоярусную батарею разнокалиберных бутылок.
Под Герасем взвизгнуло обтянутое кожей сиденье. На этот звук, раздвинув бамбуковую занавеску, вышел худощавый парень в полосатой майке и широченных, усыпанных звездами подтяжках.
— Как дела, Витек? — приветствовал его Герась.
— О'кэй, — односложно ответил тот, пережевывая жевательную резинку.
— Клиента вот привел — наш кадр. Знакомься…
Витек бросил мимолетный взгляд, и я понял, что с этой секунды моя долговязая фигура, лицо, включая форму носа и разрез глаз, прочно отпечатались в его памяти. Что ж, будем считать, знакомство состоялось — я ведь тоже на память не жалуюсь.
— Мы не опоздали?
Бармен вопросу не удивился — надо полагать, знал, зачем мы пришли и кто нам нужен.
— Придется подождать, — сказал он, жестом приглашая меня сесть на высокий, обитый красной кожей табурет. — Вам кофе?
— Да, покрепче, — сказал Герась. — Чтоб с пенкой.
— И бутерброд с ветчиной, — добавил я, различив в полутьме поднос с едой. — Можно два.
Витек, не переставая двигать челюстями, поколдовал над кофеваркой, поставил перед нами чашечки величиной с наперсток, два стакана с водой и блюдце с бутербродами, после чего удалился, прошелестев бамбуковой занавеской.
— Музыку вруби! — крикнул вдогонку Герась.
Витек не откликнулся, но немного погодя из невидимых колонок заструился высокий медоточивый голос Демиса Русоса. Он, как водится, пел о солнце, о море, о неземной любви к красавице Афродите.
— Годится, — одобрил мой спутник и небрежно кинул на стойку пачку с золотым тиснением. — Кури.
Я отказался.
— Это же «Данхил», чудик! — поднял он брови. — Такие в магазине не купишь.
— Не имеет значения. Бросил. — Я принялся за декорированный петрушкой ломтик ветчины.
— Ну как знаешь… — Он спрятал пачку в нагрудный карман. Отхлебнул из чашки. — А погода сегодня ничтяк, не жарко.
Ох уж эти мне светские разговоры! Я попробовал кофе и запил его глотком холодной воды. Получилось очень недурно.
— Так откуда ты, говоришь, приехал? — спросил Герась.
— Говорю, что издалека. А что?
— Да так, любопытно.
— Про летающие тарелки слышал?
— Ну?
— Так вот я оттуда. Прибыл для налаживания контактов с братьями по разуму.
Он осклабился:
— С тобой не соскучишься.
— Очень этому рад, — сказал я, польщенный.
— Надолго к нам?
— Надолго.
— Дело или так, проветриться?
— Дело. Или так, проветриться. Выбирай, что больше нравится.
— Нет, я серьезно.
— Ах, серьезно. Ну, если серьезно, на работу вот думаю устраиваться.
— На работу? — заинтересовался он. — И куда?
За последние дни приходилось столько врать, что для разнообразия я позволил себе сказать правду:
— В милицию.
Он поперхнулся. По-моему, первым его побуждением было бежать сломя голову, однако встроенный в тесную черепную коробку механизм вновь сработал и выдал шпаргалку. Герась тупо уставился в чашку, потом на мой недоеденный бутерброд и наконец вымолвил:
— Ну шуточки у тебя! Меня аж в пот бросило. — Посидел в раздумье. — Черт с тобой, не хочешь — не говори. Мне лично наплевать.
«А кому не наплевать?» — чуть было не спросил я.
— Давай так, — продолжал он, желая, по-видимому, обрести твердую почву под ногами, — давай по существу. Ты говорил, что у тебя есть валюта?
— Говорил.
— Я нашел покупателя, правильно?
— Пока я его не вижу.
— Он подойдет. — Герась посмотрел на «сейку», скрепленную на запястье необъятным по длине браслетом. — Должен подойти. Обещал. Но наперед нам с тобой надо кое-что обсудить.
— Что именно ты хочешь обсудить?
— Я о своей доле. Сколько ты мне отвалишь?
Да, изящным такой подход не назовешь!
— За что? — спросил я.
— Как за что? — оскорбился он. — Ты что ж, воображаешь, что я за красивые глаза стараюсь?
— А ты стараешься?
— Не морочь голову! Гони монету! Иначе…
— Что иначе? — Я облокотился о стойку. — Ты меня за кого принимаешь? За благотворительный комитет? Я даром деньги не плачу.
— Как это даром?
— А так. Где твой покупатель?
— Я же сказал, придет.
— Вот когда придет, тогда и обсуждать будем. Кстати, на который час вы с ним условились?
— На двенадцать.
— На двенадцать?! — искренне возмутился я. — Ты что, издеваешься? Уже час дня!
— Не час, а без четверти, — поправил он. — А если и час. Сказано ждать, значит, будем ждать.
— И до каких пор?
— Хоть до вечера.
Не зная, пригодится мне это или нет, я решил воспользоваться случаем, чтобы набить себе цену. К тому же опоздание вполне могло быть подстроено специально, как и вчерашняя слежка. Если не самим Герасем, то его хозяином.
— Ну нет, ребята, играйте в эти игры без меня. — Я встал.
— Ты куда? — Он встал тоже.
— Неважно. Так серьезные дела не делаются. Заруби себе это на носу и дружку своему передай. А мне здесь больше делать нечего. Пока. Привет семье.
И с чувством оскорбленного достоинства я направился к выходу из бара. По моим расчетам, Герась должен был не мешкая ринуться следом. Но он этого не сделал, во всяком случае, не торопился. Я успел дойти до угла, прежде чем услышал за спиной его учащенное дыхание.
Знать бы, на что ушли эти минуты! На совещание с барменом? С самим хозяином, который все время находился где-то рядом, за бамбуковой занавеской, и подслушивал наш разговор — недаром в помещении была этакая темень. А может, Витек и есть хозяин и ему не понравился наш спор с Герасем?
«Ну-ну, не сгущай краски, — осадил я себя. — Вспомни Русоса. Если бы вас подслушивали, то наверняка выключили бы музыку. Какое ж подслушивание при таком шуме!»
— Слышь, как тебя, подожди… — Герась догнал меня и дернул за рукав рубашки. Физиономия у него при этом была просительная и вроде как виноватая.
— Ну, что еще?
— Дай передохнуть… — Его грудь вздымалась, усиленно поглощая кислород, а глаза в узких, как бойницы, прорезях были беспокойны и трусоваты. — Сейчас… сейчас мы с тобой на тропу пойдем…
— На какую еще тропу?
— На обыкновенную… Маршрут есть такой. Стас по нему курсирует…
2
— Ох, засекут меня, ох, засекут… — бубнил Герась не переставая.
Он крепко приуныл, мой покровитель, и, думается, не без причины: позволив мне уйти из бара, он таки нарушил данные свыше инструкции. А тут еще гонорар за посредничество уплывал из-под пальцев. Есть от чего прийти в отчаяние.
— Чует мое сердце, влипну, ох, влипну…
Сопровождаемые его негромкими жалобными стенаниями, мы дошли до драматического театра и остановились под аркой у главного входа.
Даже отдаленно не представляя, как выглядит человек, которого караулим, не зная, предстанет ли он перед нами в бескозырке или, скажем, проедет мимо в кресле на колесиках, я тем не менее подверг ревностному осмотру всех, кто находился на площади перед театром. Их было немного на этом голом и пустынном в дневные часы пятачке: ватага мальчишек-велосипедистов, две-три парочки, спутавшие день с ночью и страстно обнимающиеся на виду у впавших в полудрему пенсионеров, да женщина с коляской — в Стасы никто из них явно не годился.
«Неужто снова облапошили? — подумал я, зараженный пессимизмом своего спутника. — Неужто опять, сам того не желая, я лью воду на чужую мельницу?»
— Засекут, как пить дать, засекут, — продолжал тянуть свою грустную арию Герась. — Я ж на учете. Меня в милиции как облупленного знают. А тут иностранцев полно…
— Где ты видишь иностранцев? — не выдержал я.
— Где-где, — передразнил он. — «Интурист» рядом. До «тропы» рукой подать. Мне б за километр обходить, а я суюсь прямо в пекло…
— Ладно, не скули.
— Конечно, тебе-то что, тебя здесь никто не знает. И карточки твоей в милиции нет…
— Нет, так будет. Связался на свою голову. Ну где она, «тропа» твоя хваленая? Идем, что ли?
— Подождем еще немного, а? — предложил он неуверенно и тут же, себе противореча, махнул рукой: — А, была не была, не век же здесь торчать. Пошли… — И двинулся через мощенную брусчаткой площадь.
В рощице, неподалеку от театра, действительно было помноголюдней. И тропа была. Да не одна, а с полдюжины. Тенистые, уложенные дерном, они петляли в душистых зарослях рододендрона, между увешанных мелкой листвой эвкалиптов и вели вдоль берега в лощину, где располагался гостиничный комплекс «Интуриста». Оттуда и валила сюда иностранная публика в поисках тишины и прохлады.
Не успели мы сделать и четырех десятков шагов по этому утопавшему в зелени Эдему, как идущий впереди Герась резко тормознул и шарахнулся вправо, совершив одновременно разворот на полных сто восемьдесят градусов.
— Стой! — скомандовал он.
По инерции я сделал шаг-другой в том же направлении.
— Стой, говорю! — прошипел он свирепо. — И не таращься в ту сторону! Не видишь, Стас клиента обрабатывает.
Навстречу нам по одной из боковых тропинок шел высокий пожилой мужчина в белой тенниске, подрезанных до колен хлопчатобумажных брюках и шлепанцах на босу ногу. Рядом с ним семенил среднего роста малый с круглым румяным лицом и, энергично помогая себе руками, что-то ему втолковывал. Это и был, как я понял, «Стас, обрабатывающий клиента».
Они прошли совсем близко, однако ничего, кроме обрывка фразы, произнесенной на скверном, искаженном до неузнаваемости немецком, я не разобрал.
— Он что, языки знает, твой приятель?
— Заткнись! — Герась дождался, пока оба скрылись за деревьями, и лишь затем сообщил: — Самоучка он. И по-немецки, и по-английски шпарит, будь здоров! — И уж совсем по-свойски поделился: — Во работает, гад! Который сезон на «тропе», а ни разу не попался. А спроси, почему?
— Почему? — откликнулся я.
— Нюх собачий. Он иностранцев этих за версту как рентгеном схватывает, знает, кто чем дышит: кто позагорать приехал, а кто чемодан порастрясти. Глаз у него наметанный. Ну и языки, конечно. Светлая голова! «Ладу» на этом деле поимел последней модели — уметь надо! Железный кадр! За ним не пропадешь! — Истощив запас комплиментов, он бухнулся на стоявшую поблизости скамью. — Хорошо, что не разминулись. Я ж говорю, ты везунчик.
Хотел бы и я так считать, только вот оснований пока не имелось. Мы прождали десять минут, и еще столько же. Герась пообмяк, растекся по скамейке своими могучими телесами, вроде вздремнул даже. А я вернулся к тому месту из немановского «Энигматика», на котором застрял во вторник, сидя на набережной. Но и теперь ничего путного не получалось, больно заковыристая была вещица.
Наконец Стас вынырнул из-за дальнего поворота дорожки.
Он приостановился, будто принюхиваясь, покрутил головой и направился к нам ленивой походкой человека, которому некуда и незачем спешить.
Герася со скамейки как ветром сдуло.
— Ну что, Стасик, с уловом? — заискивающе осведомился он, когда расстояние сократилось до пределов слышимости.
— А ты почему здесь? — Стас был недоволен и не скрывал этого. — Я тебе где велел находиться?
Герась указал на меня глазами: мол, не при постороннем же выяснять этот сугубо частный вопрос, подхватил его под локоть и отвел в сторонку. Он был значительно выше ростом и, чтобы вещать в снисходительно подставленное ухо, вынужден был согнуться в три погибели.
Стас слушал не прерывая. Потом задал ряд вопросов. И, заручившись исчерпывающей информацией о моей особе, вернулся, чтобы проверить ее по первоисточнику.
— Тебя как зовут? — начал он с азов.
— Владимир.
— Фамилия?
— Миклухо-Маклай, — не сморгнув, ответил я.
Стас скользнул по мне тусклым, ничего не выражающим взглядом.
— У тебя ко мне дело?
— Поговорим, там видно будет. — Я решил держаться прежнего курса на сдержанность — чем несговорчивей партнер, тем меньше подозрений он вызывает, тем больше к нему доверия. Прием, известный со времен строительства египетских пирамид.
— Что ж, поговорим. — Стас подал Герасю знак, и тот крупной рысью удалился в противоположную от моря сторону. — У меня пятнадцать минут. Свободных. Думаю, нам хватит.
Он присел рядом, закинул ногу на ногу, и я заметил маленькую аккуратную штопку на его безукоризненно выглаженных брюках. Очевидно, к одежде, как и ко времени, он относился предельно экономно.
— Ну давай, Вальдемар, выкладывай.
— Собственно, я думал, ты в курсе. Твой ассистент поднял меня из постели, сказал, что в двенадцать…
— Я не о том, — остановил он меня.
— О чем же?
— Кто ты? Что ты? Откуда?
В любом разговоре рано или поздно определяется лидер, тем более в таком, как наш. Последние полчаса инициативой владел я. Теперь функции нападающего взял на себя Стас, и мне пришлось перейти к активной обороне. Но я был не в претензии.
— Автобиографию, значит? Так бы и сказал. Тебе как, с подробностями или в сокращенном виде? Устно? Или, может, письменно? Характеристику представить, справку с места жительства?
Он растянул губы в улыбке, отчего лицо сделалось совсем круглым — не лицо, а лучащийся простодушием шар. Ну вылитый колобок из финальной сцены с лисицей!
— Герась предупредил, что ты парень с юмором. Это неплохо. Но… — Улыбка сползла с его лица, будто ее там и не было. — …Но я не Герась. Ты не клоун. И мы не в цирке. Не так ли? — Стас выдержал паузу, ожидая возражений, но таковых не последовало, и он тронулся дальше. — Я задал вопрос. Ты на него не ответил. Почему? — Еще одна многозначительная пауза. — Уточним для начала. Чтобы потом не путаться. Кто кому нужен? Я тебе или ты мне?
— Я считал, что взаимно. А иначе не к чему и огород городить.
— Согласен. И все же я тебя совсем не знаю.
Похоже, игра в «а ты кто такой?» была особенно популярной в их компании. И я не стал отступать от ее несложных правил.
— Но и я тебя тоже не знаю.
— Не уверен, — как бы между прочим обронил Стас.
В это время мимо нас неторопливой походкой продефилировала женщина со скучающим, ярко накрашенным лицом. Я дождался, пока она исчезнет в конце тропинки, и лишь тогда сказал:
— Тебе не кажется, что было бы намного лучше, если бы мы приступили прямо к делу? Сколько можно ходить вокруг да около?
Он кивнул, давая понять, что согласен и что ему тоже досадно тратить драгоценные минуты на пустячные препирательства, да что поделаешь — надо.
— Ну хорошо, а валюта у тебя откуда?
— Нашел, украл — какая разница?
— Разница есть. И большая, — возразил он.
— Не усложняй. По мне: встретились и разбежались — куда проще. Разве не так?
— Так-то оно так. Но почему я должен тебе верить?
— Верить, между прочим, легче, чем не верить, — изрек я подходящую к случаю истину. — Не так хлопотно.
— Да ты, Вальдемар, философ. А поконкретней можно?
— Можно и поконкретней: тебе придется мне поверить — у тебя просто нет другого выхода.
— Это в каком смысле? — Реакция у него была отменная. Совсем как у зверька, мгновенно фиксирующего малейший намек на опасность. Даже если опасность мнимая.
— В прямом. Я, например, сказал, что меня зовут Владимир. А мог сказать, что герцог Бекингем. И в том и в другом случае ты будешь сомневаться. Выходит, я прав: тебе нужна справка. Дай тебе справку, ты характеристику потребуешь, рекомендации, а у меня их нет. Какой же выход? Вот ты спрашиваешь, где я взял валюту? Я говорю, нашел. Тебя это не устраивает, но ничего другого я тебе не скажу. Поверишь — будем говорить дальше, не поверишь — распростимся до новых встреч, я ведь ни на чем не настаиваю.
— Интересно рассуждаешь. — Его выпуклые, не то серые, не то бледно-зеленые глаза, смотревшие до сих пор вяло и безразлично, на миг стали жесткими, злыми, и вновь проступило сходство со зверьком, хитрым и осторожным.
Он хотел что-то добавить, но тут на тропинке вновь появилась женщина. Она поравнялась с нами и, уперев руки в бока, глуховатым голосом спросила:
— Который час, мальчики?
Стас поднялся с лавки, подошел к ней вплотную и шепнул что-то на ухо.
— Скотина! — взвизгнула она и как ужаленная с крейсерской скоростью понеслась по дорожке к «Интуристу».
— Я слушаю. — Стас вернулся на скамейку и как ни в чем не бывало принял прежнюю позу.
— А чего слушать, я все сказал. Выводы делай сам, не маленький.
Могло показаться, что я избрал слишком крутую, рискованную линию. По сути же, я не рисковал совсем. Либо Стас замешан в историю с «Лотосом», и тогда в силу неизвестных мне причин сам во мне заинтересован и не выпустит прежде, чем не попытается использовать в своих целях. Либо я ошибся, и никакого отношения к смерти Кузнецова он не имеет, а может, и вообще его не знает. Тогда и подавно незачем с ним миндальничать: чем раньше мы расстанемся, тем лучше. В ближайшие дни им займутся другие люди и по другому поводу, уж я об этом позабочусь.
А пока требовалось создать видимость, что меня занимает исключительно сделка, о которой говорил Герасю, одна только сделка, и ничего больше. Это единственный способ заставить Стаса раскрыть карты.
— Мне не доверие твое нужно, а дело сделать. И как можно скорей. У меня времени в обрез, а вы второй день резину тянете, родословную мою выясняете, будто я спаниель с подмоченной репутацией. Что ты, что помощничек твой. Как не надоест? Я же у вас документы не спрашиваю!
— И напрасно, — желчно заметил Стас. — А вдруг я из милиции, что тогда?
— Это ты-то?
— А что, не похож?
Мне вспомнился вчерашний обыск, сомнения, которыми так и не поделился с Симаковым.
— Не хотелось затевать этот разговор, да ты сам напрашиваешься. Из милиции, говоришь? А кто устроил за мной слежку? Кто приставил ко мне этого ублюдка? Кто влез в чужую квартиру и перевернул в ней все вверх дном?! Да ты сам милиции боишься больше, чем я. Думаешь, не знаю, что вы искали на Приморской?
Признаться, я не рассчитывал, что застану его врасплох, но, кажется, именно так оно и случилось.
— Это не я! — выпалил он быстро, но как бы в опровержение слов на его круглых мучнистых щеках выступили розовые пятна. — Не был я у Кузи. Не был, и точка.
Если у меня и были сомнения, они исчезли раньше, чем он закончил фразу. После короткого «не был я у Кузи» я понял: мне действительно крупно повезло. Стас участвовал в обыске, по крайней мере о нем знал. И как ни быстротечна была последовавшая за его репликой секунда, я успел отметить и выделить главное: он назвал Сергея не по имени, не по фамилии, а уменьшительным Кузя. Одно это с лихвой окупало и дежурство на «сходняке», и неудачу с Тофиком, и малоприятное общение с Герасем. Сидевший рядом со мной человек не только был знаком с покойным — он находился с ним в достаточно близких отношениях. Что и требовалось доказать.
Неизвестно, о чем думал Стас. Создавшаяся ситуация вряд ли его устраивала. Он понимал, что дал маху, и стремился исправить свою оплошность:
— Повторяю, я там не был. Но, предположим, ты прав. Подчеркиваю — предположим. Что же, по-твоему, мы там искали?
Версия, возникшая вчера во время уборки квартиры, как говорится, приказала долго жить, но Стас ожидал ответа, и мне пришлось к ней возвратиться.
— Валюту вы там искали. Валюту! Я сказал Герасю, что приехал с большой суммой. Он передал тебе. Ты и соблазнился. Весь дом перерыл, думал, что я ее на Приморской прячу. Нашел дурака…
— У тебя все? — Пятна исчезли. Щеки приобрели прежний мучнистый оттенок. Взгляд Стаса подернулся дымкой, что свидетельствовало о вновь обретенном душевном равновесии. — Что-то мы отвлеклись. Может, нам и говорить-то не о чем, а, Вальдемар?
— Может, и не о чем, — не стал спорить я.
— Много у тебя валюты?
— Немало.
— А точнее? — спросил он.
— Сначала скажи, какой суммой ты располагаешь?
— Тебя купить хватит. — Вопрос ему явно не понравился. Он постучал по циферблату часов. — В нашем распоряжении осталось семь минут. Ни секундой больше.
Речь шла о дутых величинах, и мне в конечном счете было безразлично, с какой цифры открывать торги.
— Скажем так: есть у тебя в обороте десять тысяч?
— Десять? — переспросил он.
— Десять-двенадцать.
Он нервно почесал переносицу.
— А ты не мог бы назвать более точную цифру? Сколько у тебя всего?
— Всего тысяч пятнадцать.
— Пятнадцать, — как эхо отозвался Стас.
Он опустил голову и погрузился в задумчивость, а я подумал, что это могло означать конец удачи и начало той самой дорожки, что ведет никуда.
— Все в марках? — спросил он минутой позже.
Я не сразу сообразил, о чем он.
— Я спрашиваю, все в марках? — В его голосе появились новые нотки, которых раньше не было.
— Нет, фунты, кроны, доллары.
Стас поднял голову. Он улыбался. Если бы существовала в природе сказка о колобке, пообедавшем лисицей, то я мог бы похвастать, что видел его живьем — до того сытая и самодовольная была у него физиономия.
— Слушай внимательно, Вальдемар, — сказал он, придвинувшись вплотную и впервые открыто посмотрев мне в лицо. — Ты парень неглупый. Многое понимаешь. Но не все. Это естественно. Всего не знаю даже я. Хотя, должен бы знать. Не так ли? — Он выставил перед собой ладонь, как бы упреждая мой протест. — Впрочем, это ваши с Кузей дела. Я в них не вмешиваюсь. Не буду тебя пугать, ты, вижу, не из пугливых. И торопить не буду. Просто предупреждаю: пути назад у тебя нет. Кузя свернул шею. Но я, как видишь, жив. И с этим тебе придется считаться. Отныне мы связаны одной веревочкой. Мне не обойтись без тебя. А тебе без меня. Ты обязан это понять. Понять и смириться. Вот все, что от тебя требуется. Детали мы еще обсудим. Позже. А пока подумай. Взвесь. И жди. Я дам о себе знать.
Выплеснув на меня всю эту абракадабру, он встал и, не оглядываясь, пошел по тропинке.
Ошеломленный, сбитый с толку, я смотрел ему вслед и не знал, радоваться мне или огорчаться.
Едва Стас скрылся за поворотом, как из растущих неподалеку кустов рододендрона, обламывая ветки, вывалился Герась. Только его-то мне и недоставало.
— Ну что, приятель, заждался? — спросил я, но он не был создан для сантиментов, его волновал чисто меркантильный вопрос.
— Рассчитываться будем или как? — промычал он, стряхивая с себя розовые лепестки.
— А что у нас сегодня?
— Четверг.
— Но вчера не было дождичка. Так что приходи в следующий. А сейчас, извини, мне некогда.
— Ты же обещал! — застонал Герась, оскорбленный, и вдруг припал к моему уху, как сделал это ровно четверть часа назад со Стасом. — Слушай, ты же Кузей интересовался. Я тебе о нем такое скажу, чего тебе о нем никто не скажет.
— Меня Кузя не интересует, — не в первый и не в последний раз солгал я.
— Он не утонул, — горячо зашептал Герась. — Убрали его, сечешь?
— Не пори чушь, кому это надо!
— Этого не скажу, не знаю, знаю только, что напрасно ты в это дело встреваешь, пожалеешь еще.
— Вот те на, ты же сам меня в него втравил!
— Ладно, — Герась уже раскаивался в своей откровенности, — сам разберешься… Так не дашь?
— Нет.
Он сплюнул под ноги:
— Я-то думал, ты человек, а ты…
— С хозяина получишь. Нет у меня денег. Нет и не предвидится.
Сзади он стал похож на огромный уродливый гриб, с которого по недоразумению смахнули шляпку.
3
Я включил телевизор.
Шла учебная программа для заочников. По астрономии. На экране мелькали изображения колец Сатурна, и ведущий, смакуя, перечислял гипотезы об их происхождении.
Мне было не до колец. Я все еще не очухался после свидания со Стасом, точнее, после речи, которой он разрешился под занавес.
Речь удивительная, что говорить, — жаль, я не застенографировал ее для Симакова, то-то обрадовал бы. Впрочем, я и без стенограммы запомнил слово в слово. Каждая фраза врезалась в память. Даже интонации. Оставался пустяк — докопаться до смысла. Ведь должен же быть в этой галиматье хоть какой-то смысл?!
Я взбил подушку и прилег на диван.
Смысл-то в его словах был. Только какой?
На память пришла сожженная накануне схема. Впечатление то же самое: внешне вроде бы элементарно просто, а вникнуть — чушь, бред, нелепица, сапоги всмятку. И все же разбираться надо, надо искать тот самый маленький ключик, с помощью которого, как известно, открываются самые большие двери.
Прежде всего уточним, что мы знаем о Стасе и Герасе, об этих действующих в тандеме предпринимателях.
Сделать это сравнительно легко. За три дня у меня скопилось достаточно информации, чтобы составить более-менее четкое представление об их процветающей компании.
Глава ее безусловно Стас. Он — поставщик, он «обрабатывает» клиентуру (ее в окрестностях «Интуриста» навалом, и одного я имел удовольствие наблюдать лично с час назад — турист в тенниске). Стас скупает у иностранцев барахло, когда подвернется случай, и валюту, и передает свою добычу по цепочке.
Следующее звено — Герась. Герась — диспетчер (возможно и даже наверняка у Стаса есть еще кто-то, кроме Герася, скажем, Витек из «Страуса»). Добытые на «тропе» трофеи попадают к нему, но сам он продажей не занимается. Герась находит посредников (например, мальчик на побегушках — тот, на «сходняке», в рубахе «полицейский патруль»), распределяет между ними товар, а они реализуют его на рынке.
Итак: поставщик — диспетчер — посредник. Три звена — замкнутый цикл. Не бог весть как сложно, зато в общем-то отлажено.
Спрашивается: какое место в этом механизме отводилось Кузнецову?
Поставщиком он не был, поставщик — Стас. Одним из диспетчеров? Маловероятно. Это работа для профессионалов и, как любое профессиональное занятие, накладывает известный отпечаток на личность, на характер и поведение, а у Кузнецова отличные аттестации: честный, порядочный, отзывчивый и так далее. Остается посредник. Теоретически он мог им быть. Но лишь теоретически. Посредник, насколько я могу судить, фигура в этой системе самая неустойчивая, эпизодическая. Его используют всего несколько раз: день, два, от силы неделю. В противном случае он быстро примелькается и обязательно попадет на заметку милиции. Приезжий — вот идеальная кандидатура: никакой мороки и минимум риска.
Нет, посредником Кузнецов не был.
Не был. И в то же время состоял в корпорации?
Пойдем дальше.
В своем ультиматуме — а его заключительная речь не что иное, как ультиматум, — Стас дважды упомянул имя покойного. Причем оба раза в одном контексте: «Я не знаю (чего?), а должен бы знать (почему?)», и второй раз: «Он свернул шею, а я жив». Очевидно, он подразумевал, что не знает того, что знал Кузнецов и будто бы знаю я. Но что? Что? А насчет шеи вообще непонятно. Намек на то, что Кузнецов погиб потому, что знал нечто, чего не знал он, Стас? А Стас, зная о том, что Кузнецов что-то знает, остался в живых благодаря тому, что… Нет, так и мозги вывихнуть недолго…
Вернемся к вещам более реальным.
После двухдневной проверки, которую он мне устроил, Стас, кажется, поверил, что мы с Кузнецовым были знакомы. Вот именно, что кажется! Во всяком случае, он заявил, что у нас имелись общие дела, в которые он, Стас, вмешиваться не желает. Может, он меня с кем-то путает? Или ляпнул первое, что пришло на ум? Не похоже. Слов на ветер он не бросает. Каждая произнесенная им фраза сказана не случайно и несомненно имеет свой, потаенный, но вполне определенный смысл. Прекрасно. Какой же? Имел ли он в виду предполагаемые дружеские отношения, якобы связывавшие меня с покойным? Конечно. Но не только это. Что-то еще…
Я встал и прошелся по комнате.
«Думай, Сопрыкин, думай! У тебя на руках данные, надо только суметь ими распорядиться, найти ключевую фразу, угадать ее смысл, выжать из нее все, что возможно».
«Это ваши с Кузей дела», — сказал Стас.
«Наши с Кузей дела…» «Наши дела…» «Наши…»
А что, если… что, если он решил, будто я участник ограбления?! Что мы с Кузнецовым сообщники?!
Странная, нелепая мысль, согласен, но — вдруг?!
В таком случае он, конечно, считает, что похищенные деньги находятся у меня. Да что деньги — кажется, он и смерть Кузнецова относит на мой счет! А то как же! Это наверняка соответствует его взглядам на конкурентную борьбу: убрал сообщника, убрал конкурента и теперь срочно продаю валюту, чтобы дать деру. Отсюда и «веревка», которой мы «связаны», отсюда угрозы, призывы «понять и смириться». «Мне без тебя не обойтись. А тебе без меня». Дескать, я знаю, чьих это рук дело, а коли так — будь любезен поделиться. Уж не по его ли велению сболтнул Герась «великую тайну» о смерти кассира?..
Ну и ну! Выходит, пока мы бьемся над этой историей, Стас ведет свое собственное расследование, ищет деньги и после сегодняшнего нашего свидания думает, что напал на верный след!
Ладно, так и запишем, гражданин колобок! В одном ты прав: теперь мы действительно связаны одной веревочкой, и мне без тебя не обойтись!
Я прибавил громкость. По телевизору передавали краткую сводку новостей.
На Ближнем Востоке рвались бомбы.
В Персидском заливе курсировали авианосцы под звездно-полосатыми флагами.
Наш официальный представитель в ООН выступил с новыми мирными предложениями.
Во Флориде полиция стреляла в демонстрантов. Убиты двое, ранены двенадцать человек…
Мне вспомнился парень с клеймом на рубахе.
«Полицейский патруль. 14-е отделение. Бирмингем. Штат Алабама».
Я не искал сравнения, оно само пришло на ум: от Бирмингема до Флориды, где убиты двое и ранены двенадцать, рукой подать. А вот что делает «алабамский полицейский» у нас, на Черноморском побережье Кавказа?! Интересно, задумывался этот парень когда-нибудь, с чьего плеча он носит рубашку? Или ему это безразлично?
Я вышел на кухню. Поставил на плиту чайник.
Половина пятого. До прихода Нины оставалось два с половиной часа.
Я поискал глазами газету. На подоконнике лежала стопа журналов, а сверху альбом в темно-зеленом бархатном переплете.
Вряд ли в нем хранились особые семейные тайны, не то Нина убрала бы его подальше. Я потянул альбом к себе. Он оказался тяжелей, чем я думал, и, выскользнув из рук, грохнулся на пол. Оттуда выпал черный конверт из-под фотобумаги, и, когда я его поднял, из него, сверкая глянцем, посыпались фотографии.
Я собрал их с пола и разложил перед собой на свободной части стола. Одну к одной, как карты в пасьянсе.
Лежавшие передо мной снимки были сделаны в разное время, но большим разнообразием не отличались. На всех, без исключения, был изображен Сергей. И везде один. Ощущение такое, что и фотографировал сам, пользуясь автоспуском, хотя некоторые кадры без посторонней помощи едва ли получились бы.
Вот он за городом. На фоне усыпанного осенними листьями леса. Правая нога чуть выдвинута вперед, большие пальцы рук просунуты под широкий кожаный ремень. Глаза прищурены, как будто смотрят не в объектив, а на дуло наведенного в упор кольта. Вот он жует резинку, вытягивает из-за крепко сжатых зубов тонкую эластичную нить. Вот стоит, подбоченясь, вполоборота к камере, эффектно выгнув корпус — из заднего кармана джинсов торчит горлышко коньячной фляжки.
Следующий снимок — лицо крупным планом: стальной взгляд из-под грубо простроченного козырька, верхняя губа чуть оттопырена, дымящаяся сигарета в углу рта.
Еще один: дача, на крыше редкие пятна подтаявшего снега, у крыльца, опершись на перила, Сергей — в подтяжках, широкополой шляпе с лихо загнутыми полями. Лицо напряженное, агрессивное, как у киногероя, готового спустить курок и всадить всю обойму в противника.
Были и другие. Сергей на пляже. Сергей в баре. Сергей стоя. Сергей сидя. Сергей в прыжке. В майке. В куртке. В коже. В джинсах…
Я смотрел и диву давался: кто он? Киноактер? Фермер? Скотовод с техасского ранчо? Поди разбери…
Речь, конечно же, не об одежде, верней, не только об одежде, одежда что — оболочка…
На ум опять пришел бравый сержант из Алабамы, кучка экстравагантной «попсы» на «сходняке», доморощенные «хиппи», группами и в одиночку шатающиеся по побережью. Откуда это? Откуда искусственные позы, заимствованные ужимки, вкусы, привычки, отстраненные выражения на лицах? Экипировка, наконец? Как откуда? Да ведь это Стас! Стас и его компания! О, нет, сам он не настолько глуп, чтобы участвовать в этом маскараде. Он сдержан, собран, он скромно одет — он бизнесмен и хорошо знает истинную цену тряпкам, знает и в прямом и в переносном смысле. Тряпки для него «товар», ничего больше, и он щедро снабжает им других, тех, что поглупее, стимулируя в них желание копировать, подражать, обезьянничать. Обезьянничать с кого попало: с удалых автогонщиков, с импортных и перелицованных на отечественный лад суперменов, кинотелеэстрадных звезд. И вот уже шагает по нашим улицам «полицейский». Ему неважно, где и во имя чего люди в такой же форме стреляют в демонстрантов, неважно и то, что нет на боку кольта, — его отсутствие компенсируют походка и взгляд, презрительно оттопыренная губа. Фирма «Стас и компания» работает с полной нагрузкой. Хотите быть ковбоем? Пожалуйста! А вы, девушка, парижанкой с Пляс Пигаль? На здоровье! Фермером в широкополой шляпе и патентованных подтяжках? Никаких проблем! Будьте ими, будьте кем угодно — только заплатите! Знай там, на родине патентованных подтяжек и чудо-штанов, о наших доброхотах-энтузиастах — грамотой бы наградили от министерства пропаганды, рады бы наградить, да ведь и приняли бы награду, такой вот Стас и принял бы — вот что страшно!
Ну да, как я мог упустить?! Стас и его компания и дня бы не продержались без еще одного звена в цепи — без покупателя!
Я смешал фотографии, сунул их в альбом и включил чайник.
Теперь я знал, кем был Кузнецов!
Он был покупателем!
— Полный застой — так охарактеризовал положение дел Витек, когда я спросил у него, почему «Страус» не ломится от посетителей.
К вечеру и бар, и его хозяин приняли вид более респектабельный. Под потолком ярко горели светильники. На низких столиках стояли свежие цветы. Сам Витек облачился в строгую черную пару, надел белоснежную сорочку с туго накрахмаленным воротничком. На его шее висела пестрая, удивительно похожая на настоящую бабочка.
— Сезон на исходе, какая же выручка, — сетовал он, машинально перетирая бокалы. — Студенты разъехались, а солидная публика ко мне не заглядывает, предпочитает рестораны. Разве что случайно забредут, как эти…
Он кивнул на компанию, занимавшую крайний от входа столик. То были степенные, средних лет мужчины, поглощенные своим, по-видимому, деловым разговором, которому, впрочем, не мешала ваза с фруктами и наполовину опорожненная бутылка с шампанским.
Кроме них, в баре находились еще трое: парень, клевавший носом в дальнем углу стойки, и две девушки, сосредоточенно танцевавшие под Поля Мориа.
— Да, не густо, — согласился я, прикидывая, с какого конца приступить к тому, ради чего пришел. — Стас не заглядывал?
— Нет, не заглядывал. — Витек, прищурившись, посмотрел в бокал на свет, остался им доволен и взялся за следующий. — Ну как, поладили вы с ним?
Я и сам не знал, как правильней ответить на этот вопрос, и решил промолчать, но он расценил мое молчание по-своему:
— Тоже верно — не мое это дело.
— Ну почему…
— Не мой масштаб, — охотно пояснил Витек. Челюсти его, как видно, отдыхали, и он был явно не прочь поболтать. — У каждого свой масштаб, свой потолок, выше которого не прыгнешь. У меня такой, — он отмерил расстояние от пола до собственной макушки, — а у Стаса — во! — Он закатил глаза кверху и прищелкнул языком для наглядности. — Разница!.. Выпьешь чего-нибудь?
— Денег не захватил.
Я покосился на батарею разнокалиберных бутылок. Ассортимент был неограниченным: от итальянского чинзано и мартеля до апельсинового сока и доброго десятка марок минеральной воды.
— Мудрец он великий, ваш Стас. Больно многого хочет, — вернулся я к затронутой теме, хотя она и не приближала меня к цели визита.
— Это уж как водится, — заметил бармен нейтрально.
— Он что, всегда такой?
— Какой?
— Ну, нахрапом берет?
Витек пожал плечами, от чего бабочка на его шее взмахнула крыльями, собираясь взлететь, да передумала и осталась висеть под идеально выбритым подбородком.
— Сейчас пленка закончится, надо сменить, — сказал он, откладывая салфетку. — Извини…
Я сидел как раз напротив двери в подсобку и, когда Витек раздвинул бамбуковую занавеску, ясно различил в глубине помещения фигуру знакомой комплекции. Там, внутри, сидел Герась. Он мирно с кем-то беседовал, одновременно отхлебывая из горлышка пепси-колу. Удивляться нечему, это в порядке вещей — у них тут что-то вроде штаб-квартиры.
Я перебрался на соседний табурет. Не для того, чтобы спрятаться, а чтобы разглядеть, кто был вторым. Но мой расчет не оправдался: возвращаясь, Витек заслонил собой щель в занавеске.
Между тем грянула запись с последнего диска «Спейс». Девушки в углу задвигались поживей. К ним нетвердой походкой подошел парень и неуклюже запрыгал, водя руками вдоль туловища.
— Разговор у меня к тебе, Витек…
Я решил не оттягивать, ибо ситуация изменилась и в любой момент из подсобки мог выйти Герась, а свидетели мне были ни к чему.
— Хочу приобрести стоящую аппаратуру. Не поможешь?
— Что, деньжата завелись?
— Только мне фирма нужна и чтоб без обмана, — ушел я от ответа.
— А что конкретно тебя интересует? — Витек наклонился над стойкой. — «Панасоник»? «Джи Ви Си»? «Филипс»?
Откровенность и готовность к услугам с его стороны объяснялись не иначе как моей причастностью к делам Стаса, а также рекомендацией, которую дал мне Герась.
— Меня интересует «Шарп».
— Какой модели?
— Желательно последней.
— Стерео или моно?
— Стерео.
— С памятью? — Вопросы следовали один за другим и свидетельствовали о том, что возможности Витька практически беспредельны.
— С памятью, — на всякий случай подтвердил я.
— Неигранный, конечно?
— Конечно.
— О'кэй. — Он соорудил кольцо из большого и указательного пальцев, что означало «сделка состоялась». — Дня через два-три тебя устраивает?
— Устраивает.
— Неси бабки, сделаю в лучшем виде. — Витек поставил передо мной рюмку. — Что будешь пить?
— У меня с собой ни копейки, — напомнил я, обдумывая, как бы ловчее подвести разговор к главному.
— Неважно, я угощаю, — расщедрился он. — Такое дело полагается спрыснуть. Чего тебе налить?
— Ну, если угощаешь. — Я никогда не пил мартель и ткнул в соответствующую бутылку.
Он поцокал языком и отрицательно покачал головой. Жалко, что ли, стало? Я указал на стоящий рядом литровый сосуд с болгарским вермутом.
— Чудак, в них же вода! — рассмеялся Витек. — Обыкновенная водопроводная вода. Приличное пойло я в заначке держу — только для друзей и по повышенному тарифу.
— Ну ты и химик! — вырвалось у меня.
— А то как же, — не обиделся Витек. — Чего добру зря пропадать. Так тебе водку или коньяк?
— Все равно. — Я понял, что еще не удостоен чести считаться его другом и что, следовательно, не могу претендовать на его личные запасы. — Кстати, сколько будет стоить «Шарп»?
— Две с половиной, — ответил он и наполнил рюмку.
— Две с половиной?! Это дорого.
— Дорого?! — Витек безусловно знал свой потолок, но уж здесь не терпел других авторитетов. — А сколько ж ты хотел? Стерео! С памятью! В упаковке! И пара кассет в придачу…
— Дорого, — повторил я. — Кузя за свой дешевле платил.
— А ты откуда знаешь?
— Он говорил.
— Что там он говорил! — раздраженно бросил Витек. — Я сам ему ту машину доставал, лично. В ней дефект был: автостоп не работал, и клавишу записи заедало, а цена та же.
Он явно химичил, как и со своей псевдоалкогольной коллекцией, но теперь это не имело никакого значения.
— Кузе сбавил, — сказал я, — и мне сбавь.
— Да не сбавлял я ему, не сбавлял! Ты бы его поменьше слушал, трепач он был, каких мало. Если на то пошло, магнитофон ему вообще даром достался… — Витек сообразил, что поверить в его альтруизм, мягко выражаясь, трудно, и внес поправку: — То есть почти даром. В долг он брал. Стас за него платил.
— Неважно, кто платил. Важно сколько. — Я изо всех сил старался не выдать обуявшую меня радость. — Сергей сказал, что вернул все долги. Значит, он и платил.
— Вернул?! — не на шутку возмутился бармен. — Из каких же это капиталов он их вернул? Из зарплаты?
— У него «Спринт» выигрышный был.
— Нашел, что вспомнить! Он свой выигрыш за месяц спустил, промотал до последнего пфеннига. А потом нищим ходил. Что ему босс подкинет, тем и сыт бывал. У меня же штаны клянчил, торговался за каждый рубль.
— Ты что-то путаешь, — подзадорил его я. — У Кузи деньги водились, это факт.
— Я-то ничего не путаю. Это он тебе лапшу на уши вешал, а ты за чистую монету принял. Кто-кто, а уж я его финансы наперечет знал. Он шмотки спокойно видеть не мог, твой Кузя, аж дрожал весь. С его аппетитом никакого «Спринта» не хватило бы. Ему б свой счет в банке иметь, а он кассиром при кабаке работал, за сто сорок рэ. Чужие считать — это он умел, а у самого в карманах шаром покати. А еще чистюлей прикидывался, нос воротил, если помочь просили…
Витек одернул пиджак и поправил манжеты, однако страсти в его словах не поубавилось. Правда, последующие его слова плохо вязались с предыдущими:
— Кузя, если хочешь знать, умнее всех нас оказался! Шутка сказать — босса облапошил. Стас до сих пор места себе не находит…
Не сомневаюсь, что экскурс в недалекое прошлое Кузнецова был бы продолжен, но тут затрещала бамбуковая занавеска и на горизонте показался Герась.
Увидев меня, он поморщился, точно больной на приеме у зубного врача, и удивленно уставился на бармена.
— Ну, пока, ребята, — сказал я. — Не буду вам мешать. — И специально для Витька присовокупил: — А насчет цены надо подумать.
— Смотри не прогадай, — ответил он. — Машина классная, жалеть потом будешь.
Выйдя на улицу, я не удержался и заглянул в окно.
На следующий день я неоднократно и во всех подробностях восстанавливал то, что увидел внутри, хотя ничего из ряда вон выходящего там не происходило. Компания за столиком приканчивала вазу с фруктами. Девушки лихо отплясывали в ритме «диско», а Витек бережно сливал содержимое моей рюмки обратно в коньячную бутылку.
Герася рядом с ним не было. Он вынырнул из-под стойки, сказал что-то бармену и пулей понесся к выходу с явным намерением меня догнать. Я поспешил улизнуть, так как имел все основания полагать, что он снова будет клянчить гонорар за свои труды и отделаться от него будет непросто.
Знай я, что вижу Герася в последний раз и что жить ему оставалось считанные минуты, не стал бы так торопиться.
Но этого пока не знал никто.
…«Хорошилова Юлия Дмитриевна. Шестидесяти восьми лет. Проживает по улице Островского, дом 25. Пенсионерка. Бывшая соседка Кузнецова.
Чалычев Валерий Федорович. Девятнадцать лет. Улица Нагорная, 15, квартира 6. Санитар наркологического диспансера. Раньше работал на мотороллере, доставлял продукты в ресторан „Лотос“. Встречался с Кузнецовым по работе…»
Список, составленный Симаковым, был длинным, и дежурный читал его медленно, с расстановкой, четко выговаривая фамилии и адреса.
При таких темпах меня давно уже выгнали бы из будки, но, к счастью, она стояла в блоке с другими автоматами и на нее никто не претендовал.
«Юрковский Николай Петрович, — продолжал с монотонностью говорящей машины дежурный. — Пятьдесят восемь лет. Проспект Мира, 8, квартира 31. Работает в горбольнице заведующим отделением. В прошлом году Кузнецов обращался к нему за медицинской помощью…»
Я слушал и смотрел через дорогу на двухэтажное здание библиотеки. Нина работала в фондах, в полуподвальном помещении, и заканчивала ровно в семь. На моих пылевлагонепроницаемых было без пяти.
«Янышевский Юрий Владимирович. Тридцать шесть лет. Улица Коммунаров, 200. Бывший официант ресторана „Лотос“…»
…Хорошилова, Чалычев, Юрковский, Янышевский…
Я механически усваивал информацию.
За минувшую неделю к старому списку прибавились новые фамилии, однако, как и прежние, они не вызывали у меня абсолютно никаких ассоциаций.
«Авдеев-Сайко Борис Борисович. Сорока двух лет. Севостьянова, 13. Часовой мастер, временно не работает в связи с общим расстройством нервной системы. В марте прошлого года производил ремонт наручных часов Кузнецова».
— Это все, — сказал дежурный. — Повторить?
— Не стоит. — У меня, как и у попавшего вопреки алфавиту в конец списка Авдеева-Сайко, тоже имелась нервная система, и она находилась отнюдь не в идеальном состоянии.
— «Первый» у себя? — спросил я.
«Первым» мы величали, разумеется, Симакова.
— У себя, но занят. Совещание. Просил не беспокоить. Что ему передать?
Действительно, что?
Едва ли мое начальство всерьез рассчитывало, что я вот так, запросто, выужу из массы фамилий имя преступника. Не настолько оно наивно.
— Передай, что список не пригодился. — Я подумал и решил, что эта формулировка чересчур безапелляционна. — Скажи, что пока не пригодился.
От описания встречи со Стасом, несмотря на ее несомненную важность, я воздержался. Отложил на потом. Сеанс связи и без того слишком затянулся. Помимо прочего, не исключено, что слежка за мной продолжалась, причем более квалифицированная, чем прежде, и длительные переговоры могли вызвать ненужные подозрения. С этим также приходилось считаться.
Назначив следующий сеанс на утро и попрощавшись, я вышел из телефонной будки.
В окнах библиотеки горел свет.
Дул ветер. Темно-серые, в черных подпалинах тучи все плотнее затягивали небо. В редких просветах между ними клубились белые и тяжелые, как круто замешенное тесто, облака.
Я подошел к торговавшей цветами тетке. Букеты стоили по рублю и выше, а порознь она не продавала. Я выскреб из карманов всю свою наличность. Набралось сорок две копейки. Пятнадцать из них следовало отложить на камеру хранения, иначе не видать мне своего багажа. «Хорошо, что меня не видит Витек», — мельком подумал я. Представляю, как вытянулась бы у него физиономия, узнай он о моих капиталах. А Стас, тот вообще лопнул бы от злости!
Пока я препирался с цветочницей, уговаривая ее разъединить букет, из дверей библиотеки вышла Нина. Меня она не заметила и пошла в сторону Приморской.
— Эх ты, кавалер, — пожурила тетка. — Рубля за душой нет, а туда же, в жентельмены. — Однако уступила: — Что ж с тобой делать, бери, все равно не распродать мне сегодня.
Я выбрал пурпурную, усеянную шипами розу, отдал деньги и перебежал через дорогу, но окликнуть Нину не решился.
Дистанция между нами не сокращалась, но у перекрестка Нину задержал светофор, и мы поравнялись.
— Володя? — удивилась она, когда я прикоснулся к ее согнутой в локте руке. — Вы что тут делаете?
Законный вопрос, непонятно только, почему я не подготовился к нему заранее.
— Да вот, на главпочтамт ходил, за переводом, — ляпнул я первое, что пришло на ум, и протянул розу, словно она служила неопровержимым доказательством правдивости моих слов. — Это вам.
— Спасибо, — поблагодарила она, но цветок за доказательство не приняла. — Откуда вы знали, что меня встретите?
— Предчувствие, знаете ли…
— А адрес?
— Какой адрес?
— Адрес библиотеки? Кажется, я вам его не сообщала.
Ну вот, снова надо хитрить, изворачиваться. Будет этому конец или нет?
— Книга попалась с библиотечным штампом, а на штампе адрес… — Наверно, никогда еще мои слова не звучали столь беспомощно.
— И вы решили завернуть по пути с почты?
— Ну да. А вы что, мне не верите?
— Почему, очень правдоподобно, — сказала она. — Только главпочтамт находится в противоположной стороне.
— Разве? — Я мысленно обругал себя за непроходимую тупость. — Простите, Нина, на меня иногда находит — болтаю, сам не знаю что. Не обращайте внимания…
Однако она ждала более убедительного ответа, и я понял, что, если снова совру, мне уже никогда не завоевать доверия. Но в том-то и беда, что есть вещи, о которых трудно говорить вслух, и это был как раз такой случай.
— …Понимаете, — запинаясь, начал я, — просто время тянулось очень медленно, а вас все не было. — Одолев первую фразу, я отважился прибавить: — Я подумал, может, вам будет приятно, вот и решил встретить. Ведь это не преступление?
В ее глазах промелькнул испуг. Я узнал этот взгляд. Точно так же она смотрела вчера, когда мы сидели рядом в полутемной комнате.
— Если я некстати или помешал, вы скажите…
Нина не ответила.
Мы молча перешли через перекресток и остановились у низкорослой мохнатой пальмы, растущей прямо посреди выложенного плиткой тротуара.
— Напрасно вы встали, — сказала она, рассеянно разглядывая незамысловатый рисунок на панели. — Я оставила вам таблетки, вы их выпили?
У меня отлегло от сердца. Коли речь зашла о моем хилом здоровье, значит, мир восстановлен.
— Нечего улыбаться. — В ее голосе прорезались знакомые нотки, присущие врачам и медицинским сестрам. — При простуде самое главное — отлежаться. По-моему, у вас и температура еще не спала.
Это не соответствовало действительности, но ничто не заставило бы меня возразить.
— И вообще, — продолжала Нина, — мне не нравится, что вы… — Она не договорила, что именно ей не нравится, но решимости в ее словах не убавилось: — Мне кажется, пора внести ясность!
Ничего хорошего такое вступление не сулило, и я поспешил вмешаться:
— Вы сегодня очень заняты?
— Я? — переспросила она.
— Да.
— Нет, не очень, а что?
— Просто я подумал, может, мы пройдемся немного, вы покажете мне город. Нет, серьезно! Я никогда раньше здесь не был. И потом, надо же мне что-то написать матери — я обещал разузнать все как следует…
Нина колебалась, и я пустил в ход последний довод:
— В конце концов я ваш гость. Вы просто обязаны оказывать мне гостеприимство… Давайте погуляем, а заодно внесем ясность. Вы же хотели внести ясность, верно?
Она улыбнулась:
— Не знаю… Дождь вот-вот начнется…
— Чепуха, это дело поправимое, у меня знакомство в небесной канцелярии…
Я задрал голову, и тотчас с пасмурного, низко висящего неба на меня шлепнулась первая увесистая капля.
Увы, Нина была права — собиравшийся вторые сутки дождь достиг наконец необходимых кондиций и обещал щедро пролиться на наши головы.
В ближайшие две-три минуты все разыгралось как по нотам: сперва на асфальте появились крупные мокрые пятна, потом окончательно погасло небесное освещение и, словно по взмаху дирижерской палочки, наступила абсолютная тишина. Умолкли птицы, улица опустела, а потерявший прозрачность воздух загустел, стал вязким и неподвижным.
Над нами беззвучно сверкнула молния.
Ослепительно яркая, она была похожа на остов могучего сухого дерева с многочисленными, раскинувшимися на полнеба щупальцами-отростками. На короткий момент вспышки мир сделался двухцветным и плоским, как отпечаток на передержанном негативе, и опять наступили потемки. Тишину расколол гром. Вместе с грохотом на землю обрушился ливень. Не дождь, а именно ливень, потому что вода падала сверху сплошной отвесной стеной. Она была повсюду: под нами, над нами, вокруг нас. В считанные секунды она окружила крохотный островок у навеса, под которым мы успели укрыться, и мне почудилось, что, кроме нашего таявшего на глазах пятачка суши, на всем белом свете ничего не осталось.
Следующий электрический разряд был намного поскромнее первого, зато сразу за ним шарахнуло с такой оглушительной силой, что содрогнулась под ногами почва и в воздухе запахло серой. Нина инстинктивно прижалась ко мне. Яростные удары следовали один за другим. Промежутки между ними становились все короче. Вдруг ахнуло где-то совсем рядом. Нина испуганно вздрогнула. Прошло несколько минут относительного затишья, и она, оттолкнув меня, выбежала из-под навеса.
Я кинулся следом.
Сверху хлестало как из ведра.
Глава 4
1
Около одиннадцати, сопровождаемый отголосками грозы, я брел на Приморскую. Небо очистилось. Светила луна. Тучи ушли далеко на юго-запад и, верно, висели сейчас где-то над песчаными пляжами Бургаса и Констанцы.
Улица была пустыннг.
Рыбьей чешуей блестел умытый дождем асфальт. Вдоль тротуара стояли тихие неподвижные деревья. Их невесомые кроны, изумрудно-зеленые там, где на них падал свет дуговых фонарей, казались сошедшими с волшебных полотен Руссо, а густые, иссиня-черные тени, лежавшие под деревьями, только усиливали это сходство.
Время от времени я останавливался, но не затем, чтобы полюбоваться игрой красок, хотя сам по себе вид расцвеченной огнями улицы был достаточно живописным. Повод был куда более прозаический: меня беспокоил субъект, вот уже с полчаса тащившийся следом.
Я засек его на обратном пути с вокзала, где пополнил свою отощавшую казну из лежавших в камере хранения запасов. Собственно, уже там, на вокзале, боковым зрением, что ли, я то и дело ловил на себе чей-то пристальный взгляд, чувствовал, что один и тот же человек назойливо ошивается рядом, но кто именно, не разобрал: больно много народу крутилось в зале ожидания, в буфете, куда я заглянул не без умысла, и на привокзальной площади. Правда, я мог и обмануться, и потому, возвращаясь в центр, дал кругаля, намеренно выбирая переулки потише и побезлюдней.
Вскоре убедился, что ошибки нет. Кто-то действительно повис у меня на хвосте. Стоило остановиться, и следовавший за мной тип тоже останавливался, тронусь с места — шаги слышны снова, но как ни ловчился, рассмотреть фигуру идущего позади субъекта так и не смог. Вряд ли это был Герась — не та манера, да и сноровка не та. Кто же тогда?
Поразмыслив, я счел за лучшее не мешать.
Слежка означала, что за моей особой продолжает приглядывать чье-то пытливое око, стало быть, интерес ко мне не потерян. Это должно было радовать, тем не менее особой радости я не испытывал: в самом деле, не такое уж большое удовольствие знать, что на протяжении всего дня за каждым твоим шагом наблюдают в увеличительное стекло…
Я шел, то и дело наступая в лужи, шел и мучился от одиночества, тяжесть которого становилась все ощутимей. Никогда раньше не думал, что это так мучительно трудно — быть одному. Настоящая пытка, хоть волком вой!
«Что молчишь?» — спросил я у мрачного типа, к которому обращался лишь в самых крайних случаях.
Дремавший где-то глубоко внутри голос откликнулся бодро, даже весело, как будто только и ждал, когда я о нем вспомню. Он предупредил, что последствия нашего свидания с Ниной еще выйдут мне боком.
Я и сам это понимал. Под угрозой оказалось практически все, чего удалось достичь: связь со Стасом, моя легенда и многое-многое другое.
«Вот именно, другое, — вставил мой критик. — Ты допускаешь грубейшую ошибку, путаешь свои личные дела со служебными, этого тебе никто не простит».
«Да в чем, черт возьми, я виноват? В том, что мне жалко эту девушку? Что сочувствую ей?»
«Сочувствуешь? И только? Со стороны это выглядело совсем иначе».
«Да ведь это со стороны!»
«А если кто-то действительно наблюдал за вами?»
«Что же делать?» — сдался я.
«А ничего, — пробурчал он. — Возвращайся домой, к мамочке, только и всего».
И, игриво хихикнув, сгинул.
Я вспомнил разговор, состоявшийся в прошлую пятницу в кабинете у начальства, вспомнил наполеоновские планы, которые строил, сидя на набережной, и почувствовал себя юнцом — незрелым младенцем, из тех, кого, обвязав веревкой, бросают в воду, считая, что это лучший способ научить плавать.
Интересно, думал об этом Симаков, посылая меня на первое самостоятельное задание?..
Если бы три дня назад мне сказали, что я не смогу отличить, где заканчивается работа и начинается моя собственная личная жизнь, я бы оскорбился. Чего проще? Вот дело, вот обстоятельства, вот свидетели и их показания, а вот он я — Володя Сопрыкин, работник уголовного розыска. Моя обязанность проверить факты, добыть доказательства, сделать соответствующие выводы и, вмешавшись в критический момент, подобно гроссмейстеру, одним махом решить поставленную задачу. Наивно? Да. И глупо. Теперь до меня начало доходить, что порученное дело — не шахматная партия, что мне далеко до гроссмейстера и что люди, задействованные в этой истории, не статичные фигуры, расставленные на доске в строго определенной комбинации. С появлением на Приморской из стороннего наблюдателя я превратился в непосредственного участника событий. Мало того, сам стал объектом наблюдения. Так вышло, что из абстрактного злодея, безликого врага общества преступник, существование которого уже не вызывало у меня сомнений, превратился в живого человека, угрожавшего мне лично, а дело, которым занимался по службе, — в личное мое дело. Да и могло ли быть иначе, если все происходящее — часть моей собственной жизни, часть, которую не проживешь заново, не выбросишь, не заменишь, не перечеркнешь крестом, как рекомендовал мне мой советчик…
Тип, сидевший внутри, помалкивал, и, ободренный его молчанием, я впервые за последние несколько часов открыто подумал о Нине.
Я познакомился с ней потому, что того требовали интересы дела. Те же интересы требуют от меня полной беспристрастности. Значит ли это, что я не имею права на личные симпатии и антипатии?
Все так, все правильно, и все же?..
Нет, придется, как видно, распрощаться с Приморской. Сейчас же пойду, попрощаюсь, заберу зубную щетку, и все — баста!
«А дальше что? — ехидно поинтересовался мой злопыхатель. — Ведь дорога в розыск для тебя закрыта».
«Ничего, переберусь б гостиницу. Там видно будет».
«Ну-ну, счастливого пути», — ядовито пожелал он и замолк, теперь уже надолго.
Подразумевалось, что надеяться на свободные места в гостинице может только такой ненормальный, как я, и что в конечном счете мне придется выбирать между жестким лежаком на городском пляже и не менее жесткой скамьей в зале ожидания на железнодорожном вокзале.
Оставаться у Нины нежелательно. О том, чтобы переночевать на бывшей квартире, тоже не могло быть и речи — я давно рассчитался с хозяйкой, и на моей койке наверняка уже блаженствует какой-нибудь счастливчик — здешние домовладельцы не любят простоев. Как же быть? Других вариантов не предвиделось. Разве что напроситься на ночлег к своему попутчику?
Как раз в этот момент его удлиненная светом фонаря тень упала на проезжую часть дороги.
Я продолжал топать по лужам, стараясь не замечать, как противно чавкают промокшие насквозь сандалии.
Шел и думал, что все мои рассуждения на поверку не стоят и выеденного яйца: как бы там ни было, сложившаяся ситуация требовала моего присутствия на Приморской. Другого выхода попросту нет.
Перемена местожительства и впрямь была чревата дополнительными осложнениями, а то и полным провалом. Связь со Стасом, разумеется, сохранится. Сообщить ему новый адрес пара пустяков: шепну Витьку, и вся недолга. А вот как объяснить ему свой уход? Под каким подать соусом? При его патологической подозрительности любой, самый убедительный предлог может не сработать, вызвать недоверие. Как ни крути, а пребывание на Приморской говорило в мою пользу, оно, пусть косвенно, подтверждало мою версию о близких отношениях с Кузнецовым, создавало видимость причастности к его делам и делишкам. Стоит уйти, и легенда о мнимой дружбе с Сергеем лопнет как мыльный пузырь.
Имелась еще одна, быть может, самая важная причина: я боялся оставлять Нину одну. Чутье подсказывало, что ей угрожает опасность и что с каждым днем, если не часом, она возрастает. Это ощущение возникло еще вчера, во время утреннего визита, и с тех пор не исчезало, а после сегодняшней аудиенции у «Интуриста» у меня появились вполне реальные основания для беспокойства. Прав я или нет — покажет время…
Откуда-то издали донеслись позывные «Маяка».
Половина двенадцатого.
Миновав освещенный холл гостиницы, у которого под гитару резвилась компания подростков, я не спеша перешел через дорогу, протиснулся между припаркованными к обочине автомашинами и нырнул во двор.
Место для обзора оказалось идеальным. Из-за кустов просматривался значительный отрезок улицы, вход в гостиницу и газоны по обе стороны от входа.
Кроме предававшихся веселью полуночников, у «Лотоса» не было ни души. Вскоре удалились и они.
Мы остались вдвоем: я и мой провожатый, не считая, конечно, обитателей гостиницы, большинство которых, судя по погашенным окнам, давно покоились в объятиях Морфея.
Я не сомневался, что мой спутник не ограничится провожанием от вокзала к дому. Скорей всего он затаился где-то поблизости: проверяет, останусь ли я здесь или мой визит на Приморскую только ловкий финт, имеющий целью сбить его со следа. Что ж, наберемся терпения, спешить мне некуда.
Прошло не менее четверти часа, прежде чем от торцевой стены «Лотоса» отделился темный силуэт.
Я до рези напряг глаза. Это был не Герась. Фигура показалась мне знакомой, хотя полной уверенности не было. И лишь когда он вышел на освещенную часть улицы, я его узнал и чуть не присвистнул от удивления.
Он постоял в раздумье, словно специально, чтобы я успел хорошенько его рассмотреть, направился было в мою сторону, однако на полпути остановился, нерешительно потоптался на месте, потом развернулся и прямо по газону зашагал прочь.
Я выбрался из кустов на дорожку. Очистил налипшую на подошвы грязь и пошел к дому, гадая, что заставило Тофика Шахмамедова сменить свою благородную должность таксиста на малопочтенное амплуа соглядатая.
За мной следил Тофик. Это было так же верно, как и то, что я понятия не имел, зачем он это делал.
2
По комнате, опираясь на костыли, расхаживал плотный, среднего роста парень лет двадцати пяти.
Не исключено, что он был немного старше или чуть моложе, — более точному определению его возраст не поддавался: рыжеватая, короткоостриженная борода и спадавшие на лоб волосы оставляли открытыми только нос и живые, чайного цвета глаза. Само собой, цвет глаз я различил несколько позже, когда успел к нему приглядеться, но узнал гостя сразу, едва приоткрыл дверь.
Своеобразная посадка плеч, полное отсутствие шеи, не говоря уже об остальных, не менее броских приметах, делали его внешность слишком запоминающейся. Это был тот самый человек, с которым мы столкнулись вчера под струнный квартет Бетховена и чье внезапное исчезновение привело меня в замешательство. «А ведь он вчера на машине уехал, — подумал я с опозданием на сутки, — не иначе как на машине, оттого я за ним и не угнался». Почему столь простая мысль не пришла в голову раньше, а возникла именно сейчас, когда это не имело уже ровно никакого значения, — непонятно.
И еще я подумал, переступая через порог: «Мир тесен, и, к счастью, не все в нем необъяснимо».
Увидев меня, бородач остановился.
— Володя? — спросил он обрадованно, точно мое появление было чудом, на которое он уже перестал надеяться.
— Володя, — подтвердил я. Встреча с Тофиком, кажется, начисто лишила меня способности удивляться.
Убедившись, что я — это я, бородач развернулся и, обращаясь к Нине, радостно возвестил:
— Ну вот, я же говорил! Цел и невредим твой квартирант. — Он в два скачка приблизился ко мне и протянул руку: — Давай знакомиться — Вадим.
— Очень приятно, — ответил я на пожатие.
— Ты где пропадал? Мы уже волноваться начали, не случилось ли чего…
— А что со мной могло случиться?
— Вот и я говорю, что с ним сделается, а она…
Я, а за мной и бородач посмотрели на Нину, но она демонстративно отвернулась, всем своим видом показывая, что мое отсутствие волновало кого угодно, только не ее.
— Что ж ты молчишь?! — воскликнул Вадим. — Сама себе места не находила, а теперь… Да вы что, поссорились?
Нина не ответила, я тоже, и он понимающе улыбнулся и окинул меня критическим взглядом.
— Между прочим, для тебя приготовлено. — Он показал на стопку одежды, поверх которой лежали толстые шерстяные носки. — Переоденься. С тебя вон вода течет.
Что правда, то правда — количество выпавших на меня осадков явно превышало годовую норму. Одежда промокла насквозь, и меня бил озноб. Поэтому я не стал вникать, в какой мере волен распоряжаться в доме этот самый Вадим: прихватил вещи и удалился в соседнюю комнату.
В сравнении с моим собственным новый наряд имел лишь одно, но весьма ценное преимущество — он был сухим. Брюки оказались малы и насилу сошлись в поясе, рубашка потрескивала на швах, а плотный, ручной вязки свитер еле-еле прикрывал локти. Но выбирать было не из чего. Я переоделся и вернулся к гостю.
Вадим расположился на самом краешке дивана, деликатно подвернув край постели, и вытянул перед собой негнущиеся ноги в ортопедических ботинках.
— Да, старик, это не Диор, — прокомментировал он мой выход. — Но на пожарный случай сойдет.
— Сойдет, — согласился я.
— Согрелся?
— Вроде бы. — Я был не прочь узнать, кто он и зачем пожаловал, но спрашивать впрямую было неудобно. К тому же, судя по активности Вадима, дежурными репликами дело не ограничится, а значит, рано или поздно все выяснится само собой.
Однако уже следующий вопрос показал, что интерес друг к другу у нас взаимный.
— Я слышал, новоселье скоро справлять будешь? — спросил он. — Квартиру меняешь?
— Откуда такие данные? — осведомился я с наигранным удивлением. То есть удивление было самое что ни на есть настоящее — напрасно я зарекался, — но светский характер беседы не предполагал проявления открытых эмоций.
— Нина рассказала, — сообщил Вадим.
— Вот как?
— Мы ведь с ней старые друзья, — объяснил он. — У нас секретов нет. Так что я теперь о тебе много чего знаю, товарищ Сопрыкин.
Внутри у меня что-то оборвалось. Из всех пилюль, которыми потчевала меня Нина, это была самая горькая.
— Да-да, конечно, — промямлил я, стараясь вообразить, насколько далеко простираются пределы их откровенности и что еще могла рассказать обо мне Нина.
Вадим поспешил просветить меня и на этот счет:
— Оказывается, ты тоже приезжал сюда каждый год. Странно, что мы не познакомились раньше.
На секунду я потерял дар речи. Приезжал? Каждый год? Разыгрывают они меня, что ли?
— Прости, что ты сказал?
— Странно, говорю, что мы до сих пор незнакомы, — повторил он. Лицо его при этом оставалось по-прежнему спокойным и доброжелательным.
— Ах да, не познакомились… Действительно странно.
«Еще бы не странно!» — подумал я, когда ко мне наконец вернулась способность рассуждать здраво. Подумал и снова посмотрел на Нину. На этот раз наши взгляды встретились, и я заметил, как в глубине ее глаз загорелись и тотчас погасли лукавые искорки.
Она взяла у меня мокрую одежду и понесла ее на кухню, а я смотрел ей вслед и гадал, в чьих интересах появилась на свет эта небылица: в моих, Вадима или в ее собственных? Нет, видно, не дано мне понять женщин, как не дано разобраться в пружинах, управляющих их поступками.
Оставалось принять к сведению ежегодные поездки, которых никогда не совершал, и поражаться феноменальной точности, с какой было угадано мое сокровенное желание.
— Раньше я здесь чаще бывал, — продолжал тем временем Вадим. — Человек я холостой, свободный. Кстати, ты женат?
— Нет.
— Вот и я тоже. Транспорт у меня свой. Никаких проблем: сел за баранку, выехал за кольцевую и знай жми на педаль — через пару дней дорога сама на юг приведет. Бывало, по нескольку раз в год приезжал: когда на недельку, когда и больше, старика своего проведать.
— Старика? — рассеянно переспросил я.
— Ну да, отца, — уточнил он. — Я ведь родился здесь, только не прижился, как видишь.
— Почему? — Я все еще с трудом улавливал, о чем он толкует.
— Учиться уехал. У нас с учебными заведениями напряженка, сам понимаешь, курортная зона, не до того. Ну а выучился, работу предложили, так и застрял в столице. Пока в общаге кантуюсь, а недавно в кооператив записался. Последние годы уже и не тянет сюда. Это для вас, северян, море в диковинку, а меня, знаешь, от переполненных пляжей с души воротит.
— На побывку, значит, приехал?
— Не совсем. Фестиваль послезавтра начинается, слышал, наверно?
— Музыкой увлекаешься?
— Увлекаюсь — не то слово. Это моя работа. Флейтист я в оркестре. Три фестиваля отыграл, этот четвертый. Можно сказать, бессменный участник.
— Да-да, припоминаю: мне Сергей о тебе что-то рассказывал, — рискнул вставить я, пользуясь Нининым отсутствием. Отныне я защищал уже не свою, а нашу с ней общую выдумку, и надо было подкрепить ее хоть каким-то подобием доказательств.
При упоминании о Сергее Вадим помрачнел.
— Идиотская история. Дичь какая-то. — Он нахмурился. — Я в понедельник приехал, хотел сразу зайти, ребят проведать, да репетиции все время съедают. Программа у нас очень плотная. А вчера газета под руку попалась, вот эта. — Он ткнул в лежавшую на столе «Вечерку» с заметкой под рубрикой «Происшествия». — Прочел и глазам не поверил. Ошибка, думаю, или опечатка. Не может, думаю, быть, чтоб Сергей… Он же крепкий, здоровый мужик был… Заехал вчера вечером, никого не застал. Весь день сам не свой ходил, не верю, и все тут… Мы ведь с Сережкой с детства знакомы… — Заметив появившуюся в дверях Нину, Вадим тактично перевел разговор: — А в этом году в Карпаты хочу податься. Мотор у меня в порядке, резину только что новую поставил. И отпуск как раз подоспел. Вот закончим выступления, в тот же день и отчалю…
— Садитесь чай пить, — пригласила Нина.
— Я — пас, — Вадим отрицательно мотнул головой. — И так засиделся. Завтра генеральная. — Он поднялся с дивана. — Отправляюсь я. Извините, если что не так… Еще увидимся.
Он кивнул Нине, махнул мне рукой.
— Пойду провожу, — сказал я и вслед за ним вышел в чернильную темноту двора.
Вопреки ожиданиям Вадим двигался быстро, уверенно и прекрасно ориентировался на узкой, почти неразличимой в темноте дорожке. Меня же у самого порога угораздило влезть в лужу, и носок мгновенно пропитался водой.
— Давно приехал? — не оборачиваясь, спросил Вадим.
— Недавно.
— Это с тобой мы здесь вчера встретились?
— Да.
— Неловко получилось.
— Неловко, — согласился я.
Мы вышли на улицу и остановились у белого приткнувшегося багажником к тротуару «Жигуленка».
— Твой?
— Моя, — поправил Вадим, — она у меня женского рода. «Каравелла». — Он любовно похлопал по блестящей крыше. — Посудина хоть куда. Правда, в экипаже один капитан, да и тот, — он хмыкнул, — Джон Сильвер, хоть флаг с костями вывешивай… Давай, старик, сядем, если не против. Мне тяжело стоять.
Я не возражал: обошел вокруг машины, подождал, пока он отопрет дверцу, и сел на покрытое искусственным мехом сиденье.
— Забрось мои ходули, — попросил Вадим.
Я помог ему уложить костыли.
— Ручное управление?
— Ручное. Хочешь, прокатимся? — предложил он. — Потом я тебя обратно доставлю.
— В другой раз, — отказался я, — настроения нет.
Мы опустили стекла: внутри было душно, не продохнуть. Вадим вынул кассету, вставил ее в магнитофон и надавил клавишу.
— Шопен? — спросил я, услышав легкие, как шелест листьев, звуки.
— Нет, Филд. Джон Филд. Два моих любимых ноктюрна. — Прежде чем произнести следующую фразу, он долго колебался, а в результате сказал то, что и без слов было очевидно: — Мне поговорить с тобой надо. — Он протянул мне сигареты. — Будешь?
— Спасибо, не курю.
Вадим сунул в рот сигарету, прикурил ее от электрозажигалки. Потом сложил руки на рулевом колесе и надолго застыл в этой позе…
Сладкие грезы Филда в сочетании с мягким удобным сиденьем навевали дремоту. Меня начало клонить в сон. Голова отяжелела, а между веками и роговицей вовсю царапал песок.
— Напрасно, старик, вы меня обманываете, — произнес Вадим глухо. — И ты и Нина. Не приезжал ты к ним в гости — это и слепому видно. И вообще, вряд ли был знаком с Сергеем. Думаю, что Сергея ты и в глаза не видел…
«Ну вот, сейчас он тоже потащит меня в милицию», — вяло подумал я, вспомнив, чем закончилась перебранка с Тофиком на ту же скользкую тему.
Но Вадим в отличие от Шахмамедова к обострению не стремился.
— Я это не к тому, чтобы спорить. Наверно, у вас с Ниной не оставалось выхода. Надо же было как-то объяснить мне твое присутствие. — Он говорил подчеркнуто бесстрастно, и чувствовалось, что вступление продумано им еще до того, как мы сели в машину. — Ты не думай, ни во что вмешиваться не собираюсь, да и права такого не имею. Ездил ты или не ездил, неважно. Просто неприятно, когда тебя за дурачка принимают.
Уличив нас во лжи, он, как видно, изложил лишь часть того целого, что намеревался сказать, причем часть наименее сложную. Дальше его речь потекла не так свободно и напоминала скорее неряшливо составленный конспект или партитуру с пропущенными нотными знаками:
— Просто я хочу предупредить… Это, если хочешь, мой долг… Конечно, ты можешь не слушать, послать меня ко всем чертям… И вообще, если б ты не вышел провожать, но раз так… — Он помялся и сделал еще одну попытку перейти к сути. — Тебя, я понимаю, интересует настоящее, тебе нет дела до Сергея, только будь он жив… Не то я говорю, не то…
Во время очередной продолжительной паузы его мысль проделала извилистый путь и приняла неожиданное направление:
— Они не ладили, это не секрет. Слишком были разные. Он попроще на жизнь смотрел, знал, чего хочет от жизни. Жена, музыка, одежда — в сущности, очень скромные желания. А она… Ты не подумай, я не в упрек, только трудно им приходилось, адски трудно… Да что говорить: ты сам знаешь это лучше меня…
«Хотел бы знать», — уточнил я про себя.
— Ведь вы с Ниной… Я хочу сказать, что вы, конечно, давно знакомы…
Знак полувопроса, повисший в конце, оставлял лазейку, и хотя «ежегодные поездки» давали мне право ответить утвердительно, я предпочел промолчать.
— Понимаешь, старик, так получилось, что ближе этих ребят у меня никого нет. — Вадим откинулся на спинку сиденья. — Мы не виделись по полгода, по году, но я всегда знал, что меня здесь ждут, что мне будут рады. У меня ведь не так много друзей… Их и не может быть много. Не спорь, тебе этого не понять. И никому не понять… Ну да ладно, опять я не о том. Семейные неурядицы — дело внутреннее. Возможно… скорее всего они бы развелись, но и тогда оба остались бы моими друзьями. Оба, — подчеркнул он. — Я хочу, чтобы ты это знал. Я к тому, что… Имей в виду, я не дам Нину в обиду. Она жена моего друга. Если ты решил поразвлечься, учти… — И незаконченное предупреждение прозвучало довольно грозно. — Не рассчитывай, что после смерти Сергея, — слово «смерть» ему не понравилось, и он изменил формулировку, — что после его гибели за Нину некому заступиться.
Теперь он высказался полностью, и я, признаться, вздохнул с облегчением: нравоучения, даже когда они облекаются в столь корректную форму, оставляют неприятный осадок. Разумеется, забота о жене погибшего друга объяснима, а решимость постоять за нее заслуживает всяческого уважения, но не ожидал же он, что в ответ я начну бить себя кулаком в грудь и вопить о своей порядочности.
Однако уже в следующую минуту я пристыдил себя: «Никто и не просит тебя стучать кулаком в грудь. Человек к тебе со своей бедой, со своими сомнениями, а ты сразу в бутылку…»
Время шло. Рядом со мной сидел близкий друг Кузнецова, и пусть мне тоже не по душе было слово «смерть» — как, впрочем, и слово гибель, — я адресовал Вадиму вопрос, который задавал себе чаще других:
— И все-таки непонятно, как это могло случиться? Он что, плохо плавал?
— То-то и оно, что нет, — сразу откликнулся Вадим. Он явно обрадовался возможности сгладить впечатление, которое оставила его проповедь. — Плавал Сергей превосходно.
— Может, неважно себя чувствовал? — предположил я. — Или ногу судорогой свело, так тоже бывает.
— Вряд ли. Кто же больной пойдет купаться. Какая в этом необходимость, он что, моря не видел?! А судороги… судорога ерунда. Для опытного пловца это несмертельно.
Его мнение не расходилось с моим собственным. Пожалуй, если бы мы поменялись местами и вопросы задавал он, я отвечал бы точно так же.
— В газете написано, что он был в нетрезвом состоянии.
И эта попытка поколебать нашу общую точку зрения не увенчалась успехом.
— Мало ли что написано! Он не полез бы в воду в подпитии. Ни пьяным, ни больным он не был, можешь не сомневаться. Это так же верно, как то, что в моей флейте четырнадцать клапанов, ни одним больше, ни одним меньше. И вообще, если хочешь знать, я не верю этой заметке.
— Как не веришь? — не понял я.
— Не верю, и все.
— Но его видели, — с моего языка чуть не сорвались фамилии Пасечника и Аксеновой — живых свидетелей гибели Кузнецова, но я вовремя спохватился. — Наверняка видели, иначе откуда столько подробностей?
— Утонуть-то он утонул, только я не верю, что это произошло случайно. — Вадим резким щелчком выбросил сигарету и тут же закурил новую.
— Ну ты и смолишь, — заметил я, наблюдая, как он выдувает из зажигалки застрявшие там крошки табака.
— Привычка. Какие у меня развлечения? Курево да езда. Ну еще музыка. Если уж в этом себе отказывать… — Он затянулся. — Ты торопишься, наверно, а я задерживаю.
— Ничего, только отключи, пожалуйста, музыку, а то в сон клонит.
Он выключил магнитофон.
— А может, все-таки проедемся?
— Не сегодня, — возразил я. — Ты что-то о случайности говорил.
— Наоборот, — поправил Вадим. — Возьми, к примеру, дорогу. Когда кто-то попадает под колеса, первое, что мы делаем, — выясняем, кто виноват. Долго и нудно ковыряемся в болтах и гайках, замеряем тормозной путь, ну и так далее. Водитель обвиняет пешехода в неосторожности, пешеход, если остался жив, обвиняет водителя в превышении скорости. Обоих выслушивает компетентный товарищ из инспекции и выносит решение: виноват такой-то. Но есть случаи, когда виновных нет: и водитель прав, и пешехода вроде обвинить не в чем. Все разводят руками и признают: случай, стечение обстоятельств. Это на дороге. Здесь тоже можно свалить на случай, это, кстати, легче всего. А можно с серьезным видом искать виновного: море виновато, что оно глубокое, берег, что крутой, Сергей в том, что не соблюдал каких-то там правил. Ну а представь на секунду, что он и не собирался их соблюдать, что тогда?
Намек был слишком прозрачным, чтобы искать подтекст.
— Уж не хочешь ли ты сказать, что он… — не произнесенное вслух слово не помешало Вадиму утвердительно кивнуть в ответ.
— По-моему, это единственное разумное объяснение, старик. Другого нет. Прикинь сам, зачем ему было лезть в воду? Да еще переться черт знает куда. Море-то вот оно, рядом, в пяти минутах ходьбы, а его понесло за город. Спрашивается: зачем?
— Но ведь должна быть какая-то причина?
— Причина? — Вадим глубоко затянулся. — Причин могло быть тысячи. В последний раз я приезжал сюда весной, в мае. Мне страшно не понравилось его настроение. Таким я его никогда не видел.
Он замолчал. Я подумал, что это все, и хотел уже порасспросить поподробней, но Вадим продолжил:
— Сергей был подавлен, нервничал, жаловался, что у них с Ниной не ладится. То винил в этом себя, то вдруг начинал обвинять Нину в глупости, упрекать в неумении жить как все. Надо знать Сергея, чтобы понять, каково ему было говорить об этом. Он ведь особой общительностью не отличался и раз делился, значит, припекло до крайности. Я пробыл тут дней десять и находился при нем почти неотлучно, боялся оставить одного. Уже тогда было видно, что добром это не кончится, слишком сильно он любил Нину, слишком тяжело переживал разрыв. Так и сказал мне перед отъездом: «Я не выдержу, если она меня бросит. Я не могу без нее жить». Это его подлинные слова…
Вадим закинул локоть на спинку сиденья и повернулся ко мне, словно проверяя, внимательно ли я его слушаю.
— Теперь сопоставь факты, — сказал он. — Вывод, по-моему, напрашивается сам собой.
Последние дни я только и делал, что сопоставлял факты.
Занятие чем-то похожее на детскую игру в кубики, где каждый кубик — отдельный фрагмент общей картинки. Казалось бы, невелика премудрость: знай себе подставляй их друг дружке, пока не получишь искомое целое. Была, однако, в этой игре особенность — в кучу оказались свалены сразу несколько разных наборов. К тому же я понятия не имел, как в конечном счете должна выглядеть эта самая общая картинка. К имевшимся на сегодня фактам-кубикам Вадим подбросил новый, и его рисунок никак не стыковался с остальными.
В самоубийцу, который бросается в морскую пучину из-за личной драмы, еще можно поверить. Но при чем здесь деньги? Зачем самоубийце казенные деньги? Даже версия Стаса, по которой ограбление совершили мы с Кузнецовым, представлялась более убедительной. Нет, факты фактами, а с выводами придется повременить.
Вероятно, Вадим ждал, что, вызвав его на разговор о Сергее, я выскажу и свои собственные соображения, и был немного разочарован моей пассивностью.
— Может, надо сообщить об этом в милицию, как думаешь? — спросил он.
Неплохая мысль, правда несколько запоздалая.
— Зачем? Понадобится, они тебя сами отыщут.
— Тоже верно. — Он тронул потешного, составленного из крупных коричневых желудей человечка, который висел на резинке у лобового стекла, и тот упруго закачался, водя выпученными бусинками глаз.
— Симпатичная штучка, — заметил я. — Где купил?
— Тут, в магазине. — Он показал пальцем за спину. — Ты, я вижу, со мной не согласен?
— В чем?
— Ну, что Сергей… — Вадим искал нужное слово, но так и не смог его произнести.
— Откровенно говоря, нет.
— Почему?
— Долго объяснять.
Я посмотрел на часы. Стрелки моего «Полета» свидетельствовали, что сорок минут назад наступил новый день — пятница, второе октября.
— Ты не обижайся, но уже поздно, — сказал я. — Мне пора.
Вадим пожал плечами.
— Иди, конечно.
Я вышел из машины и обошел ее спереди.
— Подожди. — Он высунулся в окошко. — Чуть не забыл. Вот, возьми. — И протянул глянцевую бумажку размером с визитную карточку. — Это контрамарка на открытие фестиваля. На два лица. Для Сережки доставал.
— Но ведь я…
— Бери. — Он сунул мне билет. — Все. Счастливо оставаться.
Выпустив облачко выхлопных газов, машина тронулась с места и, круто развернувшись, стремительно понеслась мимо погруженных в сон этажей гостиницы.
С полминуты в близлежащих улицах слышался удалявшийся шум, затем он стих, и наступила тишина.
На мокром блестящем асфальте, там, где только что стояла «Каравелла», павлиньим пером расплылось радужное пятно бензина.
3
Я осмотрелся. Справа, на бетонном лафете, дремала обнесенная цепью пушка. Позади, за черными копьями кипарисов, искрилось море.
Отель, темный изнутри и залитый электрическим светом снаружи, был похож на огромный белый корабль, с минуты на минуту готовый пуститься в плаванье. Слабый ветерок играл в натянутых над столиками кафе тентах. Вокруг по-прежнему ни души. Только в кресле, у стеклянной двери «Лотоса», клевал носом тучный швейцар. Судя по блуждавшей на лице улыбке, ему снились чаевые.
Я вспомнил вчерашний вечер, тротуары, запруженные толпами нарядно одетых людей, смех и музыку, гул голосов, и пустая, сияющая огнями Приморская показалась мне гигантской декорацией, которую ненадолго покинули те, кому с восходом солнца предстояло принять участие в продолжении праздника.
И снова, как в прошлый раз, я подумал о Кузнецове, представил его идущим по улице, возвращающимся с работы. Это получилось само собой, без всякого усилия с моей стороны, и я не удивился, когда он действительно появился в конце квартала. Такой, каким хотел казаться: мужественный, слегка утомленный полуночный ковбой с осанкой Юла Бриннера и клацающими о мостовую подковками — ожившая фотография из альбома, фантом, тайна, которую неразгаданной я ношу с собой. Все громче подковки, все ближе и ближе четкий, подсвеченный сзади силуэт, расстояние между нами все короче. Я силюсь поймать его взгляд, но на лицо падает густая тень. Еще секунда, и он проходит сквозь меня. Гаснут за спиной шаги. И опять безлюдна улица. Опять тишина, прерываемая едва слышным журчанием стекающей в люки воды…
Он ушел. Как ушел тогда, пятнадцатого, как днем позже навсегда ушел из жизни, не оставив после себя никаких следов, ничего, кроме разноречивых воспоминаний, груды одежды, неоплаченных долгов и гадающих о его смерти друзей.
Как это сказал о нем Вадим? «Он знал, чего хочет от жизни». Чего же?
Жена, музыка, одежда.
Много это или мало?
Не знаю. Он считал, что достаточно, и все это у него было. Программа, выполненная на все сто? Впрочем, нет. Одна из трех опор, на которых строилось его благополучие, оказалась непрочной. Вадим прав: предполагаемый развод грозил вывести из равновесия все сооружение, мог повлечь любые, самые неожиданные последствия: месть, отчаяние, загул, бегство, наконец, на манер толстовского Феди Протасова. Любые — да, но не самоубийство. Ведь семья была лишь одним из слагаемых в этой системе ценностей, остальные-то оставались при нем…
Я подпрыгнул и сорвал с ветки несколько продолговатых, жестких как картон листьев. Растер их в ладони и поднес к лицу. Они пахли одуряюще сладко.
Почему Нина сказала Вадиму неправду?
На этот вопрос я, кажется, мог ответить. Но был еще другой, гораздо более сложный, — вопрос о причастности Нины к смерти мужа.
Сообщение Вадима о разладе в семейной жизни Кузнецовых имело как бы двойное дно. Поначалу я этого не понял, а когда понял, впал в уныние. Потому что разлад не всегда укладывается в сравнительно безобидную формулировку «не сошлись характерами». Иногда он означает и отчуждение, и непримиримость, и враждебность, и ненависть, а к чему могли бы привести подобные чувства, комментариев не требует.
Подозревал ли я Нину? И если подозревал, имелись ли для этого основания?
Формально она входила в число подозреваемых. По тем же формальным признакам в их число попадал и Вадим. Я обязан был рассмотреть даже кандидатуру швейцара из гостиницы «Лотос»…
На память пришел давний случай. Я тогда учился во втором или в третьем классе и однажды, собирая макулатуру для школы, наткнулся в общей бумажной свалке на связку книг в основательно потрепанных переплетах. На обложках стоял значок о принадлежности к популярной приключенческой серии. Кто-то выбросил их за ненадобностью или наивностью повествования, а может, и по ошибке. Так или иначе, я притащил книжки домой и, едва открыл первую страничку, с головой ушел в мир, где против коварной госпожи Барк, ее куклы и агента по кличке Бумеранг действовал отважный и находчивый майор Пронин.
В течение одной ночи освоив винегрет, щедро заправленный перестрелками, минами замедленного действия и шифрованными телеграммами, я немедленно приступил к поискам объекта для наблюдения и, конечно, тут же его нашел. Моей «жертвой» стал тихий безобидный старик, имевший несчастье соседствовать с нами по лестничной площадке. Он показался мне угрюмым, замкнутым, он не всегда отвечал на мое бодрое пионерское «здрасте», и я поразился, как это раньше не заметил, что рядом, за стенкой, живет и процветает матерый резидент иностранной разведки. Дальше — больше. Дошло до того, что каждый самолет, пролетавший над нашей блочной пятиэтажкой, я принимал за вражеский транспорт, с которого ему сбрасывают секретные инструкции и динамитные шашки. Приключение закончилось плачевно: в один прекрасный день — а может быть, вечер, уже не помню, — я решил самолично задержать резидента. Позвонил к нему в квартиру и выложил все, что знал о его шпионской деятельности. Возмущенный старик сгоряча надрал мне уши, а мать, разобравшись в причинах моей сверхбдительности, долго не могла унять смех. Наказывать меня она не стала, ограничилась тем, что рассказала немного о соседе, который по иронии судьбы оказался бывшим работником уголовного розыска. Он и привил мне впоследствии любовь к этой профессии.
С тех пор прошло много лет. Я успел кое-чему научиться. Тому, например, что подозрение — не самый лучший способ составить о человеке верное мнение, что в нашей работе это лишь одно из средств к достижению цели и что пользоваться им надо крайне осторожно.
Я отбросил смятые листья магнолии и вошел во двор.
С крыши еще срывались редкие звонкие капли. Они падали в лужи и, наверно, выбивали в них пузыри.
Сна не осталось ни в одном глазу. Он улетучился вместе с усталостью, и я пожалел, что не воспользовался предложением Вадима. Прокатиться бы сейчас по городу, поболтать о том о сем, не обязательно о Сергее — так, о музыке и вообще. А то махнуть на пляж, искупаться — смешно сказать, но если не принимать во внимание кратковременное и пока единственное погружение в морскую водичку в день приезда, я до сих пор не выбрал времени по-настоящему окунуться, поплавать вволю, все не до того было.
— Володя, это ты? — окликнули меня по имени.
— Нина? — По моим расчетам, она давно должна была видеть десятый сон — шутка ли, час ночи!
Я вслепую пошел на голос.
Нина сидела в беседке.
Лунный свет, чудом пробившийся сквозь густые побеги винограда, пятнами лежал на скамейке. Лицо и плечи Нины тоже были залиты лунным светом, но не прямым, а мягким, отраженным, от которого слабо фосфоресцировал воздух и поблескивали крошечные, похожие на застывшее стекло бусинки на листьях.
Я присел рядом.
— Он уехал? — спросила Нина.
— Уехал.
Это были первые слова, которыми мы обменялись после размолвки.
— Ты знал его раньше? — Она говорила, глядя в сторону, в противоположный угол беседки, хотя смотреть там было не на что: он был черным, как провал, ведущий куда-то под землю.
— Нет, с чего ты взяла?
Она не ответила.
— Вы, конечно, договорились встретиться?
— Конечно, — соврал я.
— И он пригласил тебя к себе на дачу?
— Пригласил, — ответил я, несмотря на то, что впервые слышал, что у Вадима есть дача.
— Я так и думала… — Возможно, она что-нибудь добавила бы к сказанному, но помешал резкий протяжный гудок, долетевший со стороны порта.
Нина поежилась. На ней было легкое платье, да и то без рукавов.
— Тебе холодно? — Я стянул с себя свитер и накинул его ей на плечи.
— Спасибо. — Она потянулась за сигаретами, но пачка была пуста, и Нина положила ее на скамейку.
Мы сидели молча. Я где-то читал, что молчание сближает. Может, оно и так, только наше молчание было скорее в тягость. Как будто каждый, думая о своем, догадывался, о чем думает другой, и чувство мнимого понимания, которого на самом деле не было и в помине, мешало отнестись друг к другу с настоящим доверием.
— Он рассказал тебе?
Странно, но мы действительно думали об одном и том же.
— Да, рассказал. Он говорит, что вы с Сергеем собирались развестись. Это правда?
Нина снова не ответила, и вновь воцарилась тишина. Теперь ее прервал я:
— Объясни, почему ты мне не веришь, словно подозреваешь в чем-то или боишься?
Я не предполагал, какой опасной темы коснулся, иначе ни за что не полез бы в расставленную самим собой ловушку.
— Ты не тот, за кого себя выдаешь, — негромко, но отчетливо сказала Нина.
— То есть как это не тот?
— Ты играешь какую-то роль, Володя, и сам не замечаешь, как при этом фальшивишь.
— Какую еще роль? — Я старался говорить как можно естественней, чтобы не выдать охватившей меня паники.
— Не притворяйся. — Она посмотрела на меня и тут же отвела взгляд. — Я не знаю какую. Только чувствую, что здесь что-то не так. По отдельности — мелочи, а в сумме… Например, книга, которую ты принес. Это предлог, я сразу догадалась. Догадалась, что это как-то связано со смертью Сергея. Не знаю как, но связано. Ты ведь об этом не из газеты узнал, верно?
Я не нашел, что ей ответить.
— Не отрицай. Ты узнал об этом раньше, до того, как пришел сюда. Может быть, еще раньше, чем я. А вчера… Я не хотела этого говорить. Вчера кто-то рылся в шкафу, на полках. Если ты что-то искал, почему не сказал, не спросил? И еще: где ты раздобыл адрес библиотеки? В городе десятки библиотек, откуда ты узнал, в какой из них я работаю? Ты сказал, что прочел адрес на штампе, но в доме нет книг с библиотечными штампами. Я хорошо это помню, а когда пришла, специально проверила…
Ночь разоблачений, начало которой часом раньше положил Вадим, продолжалась. Нина исполнила свое желание внести ясность и сделала это предельно убедительно. Все, о чем она говорила, было справедливо. За исключением обыска, к нему-то я не имел никакого касательства.
На мне висело слишком много собственных грехов, чтобы нести ответственность за чужие, и я собрался возразить, но Нина не дала мне этой возможности — самую вескую улику она приберегла напоследок:
— Вчера я еще сомневалась, а сегодня… У нас на работе хранятся подшивки старых газет. Я просмотрела все, где есть объявления о размене квартир…
Она могла не продолжать — я прекрасно понимал, чем должна была закончиться такая проверка, — но Нина довела свою обвинительную речь до конца.
— Твоего объявления там нет, — сказала она.
Отпираться не имело смысла. Пришла, как видно, пора пожинать плоды своей самостоятельности, и валить вину было не на кого. Я явился на Приморскую по личной инициативе, не подстраховавшись, даже не посоветовавшись, а ведь Симаков предупреждал, что самонадеянность в нашем деле хуже глупости. Но не это меня огорчало: из самого щекотливого положения можно выкрутиться, по крайней мере теоретически, а вот завоевать доверие, если тебе запрещено говорить в открытую, — задача едва ли выполнимая.
— Ты молчишь, — проронила Нина. — Значит, я права…
Секунду-другую она еще ждала ответа, потом безвольно опустила плечи.
— Помнишь, ты читал мне про Ричарда Львиное Сердце? Но ведь он скрывался от врагов. А ты? От кого скрываешься ты, Володя?
Что я мог сказать?
Что завидую Ричарду, твердо знавшему, где друг, а где враг — пусть беспощадный, пусть коварный и могущественный, но зато конкретный, зримый и осязаемый.
— Я хотела тебе верить, хотела… — Голос ее дрогнул. — А ты лжешь, лжешь даже в мелочах…
Ее глаза наполнились слезами. Однажды я уже видел, как она плакала, но сейчас причиной был я, а это совсем другое дело.
— Не надо, успокойся…
Но Нина меня не слышала:
— Я устала. Я запуталась и перестала понимать, что происходит. Помоги же мне… Не молчи, скажи что-нибудь!
— Ты можешь мне верить, — сказал я, хотя и не собирался говорить ничего подобного. И повторил: — Мне хочется, чтобы ты мне верила.
Очевидно, это были единственные слова, способные пробить брешь в разделявшей нас стене взаимного недоверия.
— Я боюсь, — прошептала она. — Мне страшно, Володя…
— Это пройдет, пройдет, — сказал я, очень смутно представляя, что имею в виду: ее страх или свое бессилие помочь ей от него избавиться…
— Володя, я хочу знать правду, — сказала Нина чуть погодя. — Даже самую тяжелую, самую жестокую, но правду. Слышишь?
Я слышал. Слышал и пытался еще пусть ненадолго продлить короткий миг, когда не надо лукавить, не надо отвечать на вопросы, заведомо зная, что не сможешь на них ответить, а если и ответишь, это ничего не изменит, потому что тебе неведома та «самая жестокая правда», ты сам ее ищешь, а она разбросана по крупицам, и если даже известна кому-то из нас двоих, то скорее Нине, чем мне.
— Я не требую, я прошу…
— Видишь ли, есть обстоятельства, — начал я издалека, но Нина меня остановила.
— Не надо про обстоятельства. Обстоятельства есть всегда. Я хочу верить людям, хочу верить тебе — только и всего, неужели это так много?
Того же хотел и я.
— Разве ты сама всегда говоришь правду?
— Мне нечего скрывать.
— А Вадим? Зачем ты сказала ему, что я приезжал к вам раньше, что останавливался у вас?
— А ты не понял? — Нина еще выше подтянула ворот свитера. — У меня просто не было другого выхода. Он видел, что я нервничаю, спросил, вот и пришлось сказать.
— Это и есть обстоятельства…
— Но он чужой, — перебила она. — Ему безразлично, давно мы с тобой знакомы или нет.
— Мне так не показалось.
Я почувствовал, как между нами вновь пробежал холодок отчуждения.
— Скажи, почему ты уходишь от ответа? Почему?! Ведь я боюсь назвать тебя по имени — оно может оказаться такой же выдумкой, как и все, что ты мне говорил до сих пор.
После разоблачительных обвинений, которые она предъявила получасом раньше, мне трудно было что-либо возразить. Я не нашел ничего лучшего, как брякнуть:
— Но меня действительно зовут Владимир.
— Что ж, спасибо и на этом. — Нина хотела встать, но я ее удержал. — Я надеялась, что ты все объяснишь, поможешь…
— Как я могу помочь, если ты не веришь ни единому моему слову. Как?
— А ты попробуй. Представь, что рядом с тобой не враг. Хотя бы на секундочку представь.
— Не говори глупости. Просто я не вижу способа доказать тебе, что я не шпион, не диверсант, что это не я копался в твоих вещах, не я шарил по полкам…
— Не ты?!
— Вот видишь, ты не веришь.
— Это правда не ты? Дай честное слово!
— Да за кого ты, черт возьми, меня принимаешь?! — Я сказал это громче, чем сам того хотел, но, похоже, именно это и убедило Нину.
— Почему же ты молчал?! Но если это правда не ты… это все меняет. Подожди, послушай меня. Я постараюсь объяснить… Когда ты пришел тогда, с книгой, я почему-то сразу подумала, что ты из милиции… Молчи, не перебивай…
Предупреждение совершенно излишнее — даже при желании я не смог бы выдавить из себя ни слова.
— Не знаю, почему я так решила, — продолжала Нина. — Может, потому, что нуждалась в поддержке, а поддержки ждать неоткуда — не могла же я пойти в милицию и сказать: защитите меня, мне страшно. Может, из-за твоей настойчивости или из-за книги — она полгода пылилась в букинистическом магазине, я сама видела, а ты сказал, что привез ее с собой…
«Еще один прокол», — автоматически отметил я.
— В общем, я сразу подумала, что ты оттуда. И разрешила остаться. Ты свалился больной, и я даже заподозрила, что ты притворяешься. Потом у тебя начался жар. Ты лежал такой слабый, беспомощный, и все равно мне было спокойно, как давно уже не было. Я была уверена, что ты сумеешь меня защитить. Глупо, да?
— Ну почему, — неопределенно промычал я.
— Вчера я уже хотела все тебе рассказать. Все-все. И вдруг этот обыск. Он и сбил меня с толку. Ну, думаю, влипла, наверно, он тоже из этой банды…
— Какой банды?
— Сейчас, Володя, сейчас. — Она взяла со скамейки какой-то пакет. — Сейчас ты все поймешь. Я знаю, Сергея подозревают в каком-то преступлении. Мне не сказали прямо, но несколько раз допрашивали и постоянно интересовались, откуда у него столько денег, где он их брал. Денег у него действительно было много, я сама удивляюсь: тех двух тысяч, что он выиграл в лотерею, не могло хватить на все эти вещи — квартира забита его одеждой, обувью, магнитофонами. После того выигрыша с ним вообще творилось что-то странное. Просто помешался на лотереях. Десятками покупал билеты, заполнял карточки, составлял таблицы. Завел специальный блокнот и записывал туда тиражи «Спортлото»…
Нина снова поежилась, но это было скорее нервное: ночь была теплая, даже душная, и от земли шел влажный, напитанный запахами трав воздух.
— Ему не везло, но он продолжал играть. Я просила, убеждала, говорила, что это нехорошо, что нельзя ставить всю свою жизнь в зависимость от слепого случая. Мне всегда казалось, что есть в этом что-то безнравственное, что ли: заплатить копейки и ждать, что взамен получишь тысячи. Ведь это незаработанные деньги, шальные, они не могут принести счастья. Мы с девчонками даже на комсомольском собрании как-то об этом говорили. А ты как считаешь?
— Пожалуй.
Я никогда не смотрел на лотерею с этой точки зрения, но мысль Нины показалась мне любопытной.
— Ну вот. Я просила его бросить, не играть. Он злился. Мы ссорились, а на следующий день он снова приносил билеты, заполнял свои карточки. И все тащил и тащил в дом барахло, просто как помешанный. Принес, например, как-то туфли итальянские, а они оказались велики, на несколько размеров больше, чем нужно. Так он их на четыре пары носков надевал, лишь бы оставить у себя. В последний год он вообще сильно изменился, стал совсем другим. Я просто его не узнавала — напустил на себя таинственность, замкнулся. К нему зачастили друзья. Они часами обсуждали, кто во что одет, какая фирма лучше, какая хуже, и так без конца, одно и то же. А потом… ты знаешь, что случилось потом. А начиная с семнадцатого я стала получать вот эти письма. — Нина положила сверток мне на колени. — После его смерти они приходили каждый день. Каждый день, пока не появился ты…
— Можно посмотреть? — спросил я.
— Конечно.
Я развернул сверток. В нем лежала пачка конвертов. Я раскрыл тот, что лежал сверху, и вытащил оттуда сложенный вдвое листок.
Глаза успели привыкнуть к темноте, и я без труда разобрал два слова, составленные из крупных, вырезанных из газетных заголовков и наклеенных на бумагу букв:
«ГДЕ ДЕНЬГИ»
Вопросительный знак отсутствовал, но было ясно, с каким вопросом обращались к Нине анонимные отправители.
— Остальные можно не читать, они все одинаковые. Только последнее отличается. Оно снизу.
Я вытащил нижний конверт.
«ЖДИ, МЫ ПРИДЕМ», — гласило послание, выполненное тем же, не блещущим оригинальностью способом. Правда, пунктуация на этот раз была соблюдена полностью: и запятая стояла на месте, и точка.
— Теперь ты понимаешь?
Теперь я понимал. Еще как понимал! Я догадывался, кто составлял эти письма, кто подбрасывал их в почтовый ящик, кто обещал прийти и выполнил свое обещание.
— Они следили за мной, — продолжала Нина. — Ночью я услышала, как они бродят по двору, возле дома. Несколько раз звонили на работу — возьму трубку, а там молчание или смех, злой, издевательский. После таких звонков домой идти боялась. Надо было, конечно, сообщить в милицию, но я испугалась, ведь они могли отомстить.
— Ты видела кого-нибудь из них в лицо?
— Нет. Просто ощущение, что за спиной все время кто-то стоит, дышит тебе в затылок.
Ощущение, хорошо мне известное.
— Вчера ты об этом хотела мне рассказать?
— Да.
— И побоялась, что я имею отношение к этим письмам?
Нина кивнула.
— Я подумала, что они выполнили угрозу… — Она не договорила, и я закончил вместо нее:
— И послали меня за деньгами?
Она закрыла лицо руками:
— Я не знаю, чего они хотят от меня, о каких деньгах пишут…
Только теперь я в полной мере осознал, какой ценой дался ей этот разговор. Три дня сомнений, колебаний, страха и неуверенности. Три дня рядом с человеком, в котором видела то друга, то заклятого врага. А разве раньше было легче? Одиночество, муж, ушедший в мир, где счастье определяется номером и серией лотерейного билета, его внезапная смерть, преследования, угрозы.
Хотелось сказать: «Потерпи, потерпи немного. Ты не одна. Сейчас десятки людей заняты тем, чтобы на твоем лице чаще появлялась улыбка, чтобы жизнь не казалась мрачной и опасной загадкой». Хотел, но не сказал — это было бы равносильно признанию своей причастности к расследованию, которое ведется органами правосудия, а на такое признание я не имел права.
Вместе с тем перелом, который произошел в разговоре, давал мне кое-какие преимущества: я мог, не таясь, задавать вопросы и рассчитывать получить на них прямой и честный ответ.
— Ты сказала, что в последний год к нему зачастили друзья. Ты имела в виду Стаса?
— Да, он приходил чаще других.
— А ты не допускаешь, что письма — дело его рук?
— Не знаю, — сказала она.
— Ну хорошо, а остальные? Вадим, Стас, кто еще?
— Кроме Стаса, приходили еще двое. А Вадим, последний раз он приезжал, кажется, весной, в мае. С тех пор я его не видела.
— Какие они из себя?
— Кто?
— Ну эти двое?
— Один такой толстый, прыщавый и глаза крохотные, как пуговки.
— А другой?
— Другой худощавый. Одет всегда строго. Все время резинку жует.
— Витек?
— Имени я не знаю. Он часто приносил с собой спиртное. И всегда такие необычные бутылки с яркими этикетками. Они и сейчас в сарае стоят.
— А Тофик? Тофик Шахмамедов? Брюнет, среднего роста, прическа такая — шаром, он бывал у вас?
— Приходил несколько раз. Я имя запомнила. Он, по-моему, на такси работает.
— Больше никто?
— Кажется, нет.
Итак: Стас, Витек, Герась и Тофик — «невидимки», друзья, которых мы искали.
Круг, кажется, установился.
— Нина, после пятнадцатого Сергей где-то скрывался почти двое суток. Как ты считаешь, он мог прятаться у кого-нибудь из своих приятелей?
— Конечно, мог. — Она подняла голову, улыбнулась устало: — Еще есть вопросы?
О вопросы! Я был напичкан ими, как задачник по математике. Но стрелки уже подбирались к трем, и пора было закругляться.
— А почему ты так уверена, что мы с Вадимом договорились встретиться?
— Как видишь, я тоже кое-что понимаю. Ты не мог пропустить возможности пообщаться с ним, верно? Ведь он знал Сергея как никто другой — они с детства дружили.
— А дача? С чего ты взяла, что он должен был позвать меня на дачу?
— Он любит похвастать своей аппаратурой, коллекцией пластинок. Он меломан.
— Между прочим, твой меломан вручил мне контрамарку на открытие фестиваля. На две персоны.
— Ты что, хочешь меня пригласить?
— А ты против?
— Я не против, Володя, — с каким-то особым выражением сказала она. — Только боюсь загадывать на будущее, я каждую минуту жду, что что-нибудь случится и…
По Приморской, шурша шинами, проехала машина. Где-то в районе магазина «Канцтовары» она остановилась, и оба мы невольно замерли, вслушиваясь в наступившую тишину.
Машина отъехала. По асфальту застучали каблучки. Звук шагов постепенно стих, удаляясь.
Мне стало неловко, словно своим молчанием я лишний раз подтвердил, насколько реальна опасность, о которой только что говорила Нина. Глупо, конечно: молчи не молчи, а самые веские доказательства этой опасности находились сейчас у меня в руках.
Я вложил листок обратно в конверт и протянул пачку Нине.
— Оставь себе, — сказала она. — Мне они ни к чему, а тебе могут пригодиться.
Глава 5
1
Ночь я провел в сарае.
Это была кирпичная, примыкающая к дому постройка, сухая и теплая. Внутреннее ее убранство состояло из сваленной в углу пустой стеклотары, двух стульев, тумбочки и стола. Стену украшало старое, побитое оспой зеркало в тяжелой резной раме.
Пока я болел, Нина из жалости оставляла меня в доме, предоставив в мое распоряжение мягкие диванные пружины, но теперь, когда я выздоровел, она деликатно напомнила о поставленном с самого начала условии и переселила меня в сарай. Здесь было бы даже уютно, если б не тусклая, свисавшая с потолка лампочка и раскладушка, на которую и указала мне Нина, прежде чем пожелать спокойной ночи.
Погасив свет и забравшись в постель, я долго ворочался с боку на бок, а когда глаза наконец начали слипаться, заказал себе сон без сновидений.
Действительность превосходила самые смелые фантазии — добавлять к ней что-либо было лишним.
Разбудил меня солнечный луч, ненароком проникший сквозь узкую дверную щель.
Зажмурившись, я с минуту лежал неподвижно, витая где-то на грани между сном и реальностью. В памяти обрывками всплывали дождь и навес, беседка, залитая лунным светом, и точно камертон, отозвавшийся на верно взятую ноту, внутри возникло легкое, ни с чем не сравнимое чувство радости. Оно росло и ширилось, вытесняя последние остатки сна, и вскоре заполнило всего, с головы по самые пятки. Отбросив одеяло, я вскочил с раскладушки.
Было уже девять. На тумбочке, у изголовья, рядом с пачкой анонимных писем лежал ключ от входной двери, а под ним записка.
В помещении стоял полумрак. Лампу включать не хотелось. Я распахнул дверь и, как был, в одних трусах выбежал на яркий дневной свет.
На четвертушке вырванного из ученической тетрадки листа было написано:
«Позвони. Буду ждать. Н.».
Я перечитал записку несколько раз. Что-то в ней было не так. Я не сразу понял что. И только присмотревшись, обнаружил, что именно: буква Н стояла под чуть более острым углом, нежели остальные буквы в строке, а линия обрыва проходила слишком близко к тексту.
Курс криминалистики еще не окончательно выветрился у меня из головы: очевидно, это было не все, что написала Нина, а только часть — остальное она по каким-то соображениям уничтожила и уже после подставила Н, чтобы обозначить конец. Может, там было что-то важное? Ну конечно, было!
Я снова перечитал записку, осмотрел ее с обратной стороны и вернулся в сарай.
На столе лежала тетрадка. В ней не хватало как раз одной страницы.
Остальное было делом техники. В косых лучах лампы — для подобных операций искусственное освещение сподручней — я сравнительно легко прочел недостающие в записке строчки, они отпечатались на бумаге благодаря нажиму ручки и твердой поверхности стола.
«Какой длинный день впереди, — писала Нина. — И так не хочется уходить». Там было еще что-то, густо зачеркнутое, чего я, как ни старался, не разобрал.
Размахивая тетрадкой и насвистывая что-то из Оффенбаха, я взлетел по ступенькам, дернул дверную ручку, постучал в окно, потом сообразил, что в доме никого нет, и еще некоторое время бестолково крутился между сараем и домом в поисках ключа, зажатого в собственном кулаке…
Неизвестно, во что вылилось бы состояние, в котором пребывал, только не прошло и получаса, как судьба в лице самого Симакова позаботилась поумерить мои восторги.
Одетый (Нина высушила и выгладила мою рубашку и джинсы), сытый (на кухне меня ждал завтрак: яичница с поджаренным картофелем, сыр и крепчайший черный кофе, еще теплый), с сияющей физиономией, я вышел на Приморскую и бодро зашагал к ближайшему телефонному автомату, собираясь позвонить в библиотеку.
В полусотне метров от будки на меня, чуть не сбив с ног, налетел дюжий детина в плетенном из соломки сомбреро. Трудно сказать, по чьей вине произошло столкновение, но пострадал от толчка, несомненно, сомбрероносец: из его рук выпала сумка, а из нее, подпрыгивая по асфальту, покатились яблоки. Извинившись, я нагнулся, чтобы помочь, и он, тоже наклонившись, вдруг выпалил мне прямо в барабанную перепонку: «Срочно свяжись с первым».
Такой способ сообщения между мной и розыском в общем-то обговаривался, но прибегать к нему мы условились лишь в самых исключительных случаях.
В первый момент я растерялся, однако у меня хватило ума не подать вида. Мы собрали яблоки и мирно распрощались, после чего я слегка изменил курс.
На длинные телефонные собеседования с некоторых пор было наложено строгое табу: они могли вызвать раздражение у моих «друзей» из «Страуса», да и у Тофика, если он околачивался где-то поблизости. «Не к чему дразнить быка красным», — рассудил я и направился к будке, стоявшей в закутке позади пивного ларька, — там можно было говорить вволю, не опасаясь, что за тобой выстроится хвост из желающих опустить в автомат свою монетку.
— Тебе нельзя задерживаться у телефона. — Это первое, что сказал Симаков после того, как дежурный соединил меня с его кабинетом.
Как тут не поверить в телепатию? Только вот кто из нас двоих принимал, а кто передавал мысли на расстоянии: я или он?
— Когда ты в последний раз видел Герасимова?
— Герасимова? — До меня не сразу дошло, что Герасимов — не кто иной, как мой старинный друг и приятель Герась. Очевидно, сказывалось игривое настроение, запас которого не иссяк даже после столкновения со связником.
— Ты не оглох случаем? — отрезвляюще донеслось с того конца провода.
— Я видел его вчера. В восемнадцать сорок.
— Где? — Симаков остался недоволен допущенной мной неточностью.
— На выходе из бара «Страус», — ответил я и поспешил добавить: — Якорный переулок, тринадцать.
— Почему не докладываешь подробно? — Он прервался, видимо, затягиваясь своим любимым «Беломором», и вдруг рявкнул с неподдельным гневом: — Почему, черт побери, я узнаю обо всем последним?! Ты чем там занимаешься, Сопрыкин?! Частным сыском?! Почему не докладываешь, спрашиваю?! Самодеятельность, понимаешь, развел, в Шерлока Холмса ему, видите ли, поиграть вздумалось!.. Почему молчишь? Я тебя спрашиваю?!
— Но, товарищ подполковник… — не успел я заикнуться, как на меня обрушился следующий яростный шквал.
— Какой товарищ подполковник?! Какой подполковник?! Ты в своем уме? Может, ты еще форму надел, когда шел ко мне звонить! Ну, послал бог помощничков на мою голову! Детский сад!..
Атака, начатая столь внезапно, так же внезапно захлебнулась.
— Вчера Герасимов сбит, — сказал Симаков, — сбит неустановленной автомашиной.
— Как сбит? — растерялся я. — Какой автомашиной?
— Это ты мне скажи какой, — проворчал он, но уже не так свирепо. — Когда, говоришь, ты его видел?
— В восемнадцать сорок, — повторил я ошалело.
— А в восемнадцать пятьдесят его нашли в переулке с проломленным черепом. Сразу после того, как вы расстались. Минут, стало быть, через десять, а может, и того меньше.
— Он жив?
— Скончался по дороге в больницу. Не приходя в сознание. — Голос Симакова потускнел — видно, потерял надежду услышать от меня что-нибудь дельное. — Переулок пустынный. Никто ничего не видел, свидетелей ни единого, кроме посетителей бара. Сейчас исследуем следы протекторов, а следов этих — кот наплакал. Никакого намека на торможение. Кто-то мчался на предельной скорости, выехал на тротуар, там бордюры низкие… в лепешку, короче.
— Такси… — от волнения я не смог договорить, но Симаков понял меня правильно.
— Шахмамедов заступил на смену в двенадцать дня. Вернулся в таксопарк без опозданий, в двадцать ноль-ноль. Мы осмотрели его машину — ни малейших повреждений.
Вопреки собственному предупреждению он сделал солидную паузу и спросил, будто выполняя некую тягостную формальность:
— У тебя нет соображений на этот счет?
На мгновение передо мной возник залитый светом бар, девушки, танцующие под неслышную с улицы музыку, Герась, торопливо бегущий к выходу.
Меня ли он догонял? Хотел сказать что-то важное, как в тот раз? Или опять клянчил бы комиссионные за свое посредничество? В сознании как-то не умещалось, что никогда больше не мелькнет в толпе громоздкая фигура в линялых шортах, в желтой жокейской шапочке. Неуклюжий, жадный, туповатый Герась — он был из одной шайки со Стасом, но отчего же так сжалось сердце при известии о его гибели?
— Нет, — ответил я Симакову, потому что другого ответа у меня не было.
— Может, это несчастный случай, — не очень твердо сказал он.
Не знаю, как ему это удавалось, но неуловимым оттенком голоса он умел дать понять, когда его устами глаголет облеченный властью начальник, а когда просто старший товарищ. Сейчас он говорил не как начальник.
— Не нравится мне все это. Разучился я верить в подобные случайности, понимаешь?
Я кивнул, как будто он мог видеть мой кивок.
— Мы тут совещание утром проводили. Товарищи высказали суждение отозвать тебя, заменить более опытным работником…
— Заменить? Но, товарищ под… — Я осекся и до боли в пальцах стиснул трубку.
— Короче, поручился я за тебя. Только смотри, чтоб без самодеятельности. Последний раз предупреждаю. — Он потарахтел спичками. — Это мое официальное тебе предписание. Приказ, понял? И моя личная просьба, ты слышишь?
— Слышу.
— То-то… Ну, давай, Сопрыкин, выкладывай, что там у тебя?
Я и выложил. Все подчистую, пункт за пунктом, сделав исключение лишь для эпизода под навесом. Напоследок попросил навести справки о бармене и уточнить кое-какие данные о Шахмамедове: когда его мать отбыла в отпуск? когда вернется? знала ли она о ремонте в квартире?
— Еще просьбы имеются? — справился Симаков.
— Хочу съездить в санаторий имени Буденного, если не возражаете.
— Это зачем?
Я и сам толком не знал зачем. Идея с поездкой посетила меня после вчерашнего сидения в Вадимовой «Каравелле» — захотелось самому взглянуть на те места, где была поставлена точка в этой истории. Верней, многоточие.
— А вы против?
— Отчего же, поезжай. — Кажется, он немного обиделся и попрощался суше, чем обычно. — Все, Сопрыкин. Вечером звони.
2
Растерянность, как и всякое человеческое состояние, проявляется по-разному. Один грызет ногти, на другого нападает хандра, у третьего опускаются руки или сдают нервы.
У меня растерянность вызвала что-то вроде временной потери ориентировки. Я брел, не разбирая дороги, сворачивал куда-то, спускался, обходя встречных, а перед глазами, словно проецируясь на внутренний экран, стояла все та же картина: узкий переулок с пепельно-серой полоской моря, свет в окнах бара и Герась, бегущий между двумя рядами столиков к выходу. Навстречу своей смерти.
Что было бы, дождись я его тогда, задержись хоть на минуту? Может, ничего и не случилось бы, не было бы никакой катастрофы? Эта мысль, раз возникнув, уже не отпускала.
С другой стороны, его могли сбить умышленно, сбить, заранее спланировав и рассчитав акцию, и лишь стерегли подходящий момент?
В этом надо было разобраться. Обязательно надо.
Попробуем представить, как все произошло.
Герась выскочил из бара и побежал вдоль переулка. В это время в Якорном появляется автомашина. Она мчится навстречу (или вослед?), не сбавляя скорости, врывается на тротуар и, сбив Герася, бесследно исчезает. Прохожие обнаруживают тело и вызывают «скорую». Приблизительно так.
Есть только два взаимоисключающих варианта: либо сидевший за рулем человек не хотел предотвратить катастрофу, либо не смог этого сделать по чисто техническим причинам и уехал с места происшествия, боясь ответственности.
Других вариантов нет.
Я вспомнил ночной разговор с Вадимом и пример, приведенный им по совсем другому поводу, но удивительно совпавший со случившимся. Похоже, кто-то действительно не прочь был обставить столкновение как несчастный случай, да сорвалось: Герась не вышел на проезжую часть, словно чувствовал… хотя, если б чувствовал, сидел бы себе в баре, носа не высовывал.
А может, он и вправду знал о нависшей опасности, потому и спешил?..
Домыслы, домыслы, а нужны были факты.
Что ж, рассмотрим и факты. Попробуем, как говорил Вадим, поковыряться в болтах и гайках. Рассмотрим вариант с несчастным случаем. В машине могло отказать рулевое управление. Тормозная система тоже могла оказаться неисправной. Что произошло бы в таком случае?
В таком случае, неуправляемая, она расшиблась бы на первом же повороте. Как пить дать разбилась бы! Если не до, то после катастрофы. Но этого не произошло. Почему?
Ответ только один: тот, кто сидел за рулем, и не собирался тормозить. Он специально разогнал машину и сознательно направил ее в человека, желая его смерти…
Вывод был настолько прост и очевиден, что я невольно остановился и с опаской оглянулся по сторонам — не подслушивает ли кто мои мысли.
Мимо группами и в одиночку шли люди. С зонтиками и сумками, термосами и полотенцами. И никто не обращал на меня внимания. Никто не догадывался, какими мрачными выкладками забита моя голова. Я стоял у парикмахерской, в нескольких шагах от широкой каменной лестницы, и соображал, куда это меня занесло.
На пьедесталах у нижних ступеней, опустив морды на передние лапы, дремали львы. Невозмутимым покоем веяло от их белых с прозеленью грив, от меланхолических взглядов, обращенных куда-то за линию горизонта.
Выходит, сам того не заметив, я повторил путь, который проделал во вторник, поднимаясь к гостинице, только сегодня двигался в обратном направлении, не вверх, а вниз, к набережной. Последнее обстоятельство почему-то особенно меня разозлило. Что это: символическая случайность? Перст судьбы, указующий на бесплодность моих усилий? Мертвая петля? Ну нет, дудки! Все равно я добьюсь своего, все равно докопаюсь до истины, даже если для этого придется перевернуть весь город, разнести в пух и прах все страусиные гнезда, вывести на чистую воду всех благородных таксистов из всех автопарков побережья, — иначе не знать мне покоя…
Нина назвала четырех ближайших друзей Кузнецова: Тофика, Стаса, Герася и Витька. Герась выбыл из этого квартета. Кому он помешал? Каким неосторожным поступком приблизил свой конец?
Чтобы не сбиться с мысли, я завернул в парикмахерскую. Занял свободное кресло и, дождавшись, когда обильная пена покрыла мои щеки и подбородок, погрузился в раздумье.
Итак: второе убийство и вторая по счету жертва!
«Его убрали», — сказал о Кузнецове Герась. Это было последнее, что я от него слышал. Прошли сутки, и теперь те же слова можно отнести к самому Герасю.
Смерть настигла их при разных обстоятельствах, но было в этих обстоятельствах и нечто общее. Да, было. Готов биться об заклад, что и семнадцатого на пляже, и вчера в переулке поработала одна и та же рука (уместней, наверно, сказать: голова). Даже не потому, что в обоих случаях слишком наглядно желание выдать происшедшее за несчастный случай, — была здесь более глубокая — причинная — связь. Ее трудно нащупать, пока подходишь к событиям с привычными мерками, но ведь, кроме нормальной человеческой логики, есть еще темная, непредсказуемая логика преступника…
Собственно, почему непредсказуемая? Взять того же Стаса. Его взгляды на конкурентную борьбу допускают и даже прямо предусматривают убийство как крайний, но практически возможный способ сведения счетов с бывшим партнером. Готовность пойти на такой шаг он подозревает во мне и недвусмысленно дал понять, что не остановится ни перед чем в случае, если мы не найдем общего языка. Другой вопрос: относился ли Герась к числу его конкурентов? Другими словами, был ли он достаточно опасен?
На первый взгляд — нет. То есть в рамках их преступной компании — безусловно нет. Для этого Герась слишком мелкая, незначительная фигура, он целиком и полностью зависел от предприимчивости и благорасположения своего босса, знал свое место и дорожил им.
Ну а за рамками спекулятивных сделок? Разве не могли они соперничать? И вообще: так ли уж безоблачны были их отношения?
Я не забыл монолог, произнесенный Герасем в рощице на подступах к «Интуристу». Его хвалебные оды содержали в себе изрядную дозу зависти. Кто знает, сколько яда накопилось в его душе, сколько обид стерпел он за время их обоюдовыгодного сотрудничества? А жадность! А тщеславие! Нет-нет: подвернись ему случай насолить Стасу, сорвать тайком от него солидный куш, и он, не задумываясь, им бы воспользовался. А деньги из «Лотоса» чем не случай? Чем не повод расквитаться, взять реванш у своего везучего шефа? Герась вполне мог соблазниться, начать самостоятельную игру, а так как вести ее достаточно тонко ему не под силу — выдал себя и тем вызвал гнев своего хозяина…
Я вздрогнул: мастер, поправляя виски, слегка порезал кожу и засуетился, прижигая ранку одеколоном. Вероятно, ученик. Везет же мне!
В зал вошел паренек с увесистым транзистором под мышкой и сел в соседнее кресло. Он поставил транзистор на пол и спросил, обращаясь к присутствующим:
— Граждане, не возражаете, я включу погромче? Шикарный концерт по «Маяку»!
Граждане не возражали, и он на всю мощь врубил «Маяк».
Рыбка, рыбка, помоги, Золотая, сделай милость: Подскажи девчонке чтоб, Чтоб в меня влюбилась.жизнерадостно вещал певец под интенсивное кваканье синтезатора.
Я перевел взгляд на свою чисто выбритую физиономию и подумал, что двухдневная щетина меня явно не украшала. И еще подумал, что здорово изменился за эти дни: похудел, и скулы выперли, складка появилась на лбу — раньше ее вроде не было.
— Прическу поправим? — слегка заискивая, спросил мастер, пряча испачканную кровью ватку.
— А как у вас с чувством меры?
— В избытке, — улыбнулся он, — будете довольны.
— Валяйте, — согласился я.
Говорят, что Чарли Чаплин всю жизнь стригся сам. Я его понимаю. Стрижка всегда вызывала у меня внутреннее противодействие, но то ли меня разморило пригревавшее в затылок солнце, то ли заворожили пассы, которыми, точно шаман, сопровождал свою работу парикмахер, — я настроился на философский лад и махнул рукой: пусть упражняется, надо же ему на ком-то тренироваться.
Заслышав стрекот ножниц, я прикрыл глаза и постарался сосредоточиться. Этому немного мешало транзисторное крещендо, но история наших отношений с Герасем — а именно ее я восстанавливал в данный момент — не требовала особого напряжения памяти.
Она была короткой, эта история, всего-навсего две встречи: в день знакомства на «сходняке» и вчерашняя, более продолжительная. Слежку накануне обыска и свидание в баре я во внимание не принимал — эти немые эпизоды ни о чем не говорили, кроме того разве, что со стороны могло показаться, что в последние дни мы были прямо-таки неразлучны. Куда важней, на мой взгляд, было другое: за нами обоими и тогда и позже присматривал кто-то третий, чье пристальное внимание к своей особе я не переставал ощущать ни на минуту с тех пор, как появился на Приморской. Но это уже из другой оперы. Сейчас меня занимал Герась, и я пытался в мельчайших подробностях воссоздать последнюю нашу встречу, весь разговор, вплоть до самой незначительной реплики. Поэтому начал с «привета», которым он меня осчастливил за утренним чаем.
Вместе с ним я опять проследовал в «Страус», познакомился с барменом, снова торговался из-за вознаграждения, потом под его жалобные стенания отправился к драмтеатру, оттуда на «тропу», где мы встретили Стаса. Затем — переговоры, к которым Герась допущен не был, и его финальное появление в ореоле из розовых лепестков…
На этом месте я споткнулся, чувствуя, что упустил что-то существенное, и начал медленно прокручивать ленту назад. Ага, вот оно: сцена ожидания на лавочке, или нет, чуть раньше, когда разговор зашел об иностранных языках.
У Стаса есть машина — «Лада» новейшей модели. О ней говорил Герась, перечисляя достоинства своего метра: «„Ладу“ на этом деле поимел — уметь надо!» Так кажется.
Может, пока не поздно, перезвонить в отдел — пусть глянут, нет ли на этой самой «Ладе» вмятины где-нибудь в районе радиатора?
Еще недавно я бы не раздумывая помчался к телефону и выложил все, что думаю по этому поводу. Но то недавно. Последнее время со мной вообще происходило что-то странное: сейчас, вспоминая парня, сидевшего во вторник на набережной и грезившего о легкой молниеносной победе над противником, я едва узнавал в нем себя, как будто с тех пор прошло бог знает сколько времени. А ведь это было три дня назад! Да что там три — даже вчерашний Володя Сопрыкин казался мне другим, не таким, каким был сегодня. По идее, ничего необычного в этом нет. Кажется, еще Демокрит говорил, что нельзя дважды войти в одну и ту же реку. Но почему я не замечал этого раньше?..
«Нет, звонить не буду, — решил я. — Стаса трогать нельзя. У него нюх, как у гончей: один неверный шаг, и тебе уже никогда не узнать, за какие услуги он платил Кузнецову, за что ссужал его деньгами и покрывал его расходы, где он был пятнадцатого, где семнадцатого и где вчера вечером, между шестью и семью».
Ладно, разберемся сами.
Я посмотрел в зеркало, но ничего не увидел — его загораживала накрахмаленная спина с отутюженным хлястиком.
Хорошо, вернемся к вопросу о машинах. Самое время провести маленькую инвентаризацию автопарка, которым располагают знакомые Сергея и Герася, а теперь и мои тоже.
Во-первых, Стас с «Ладой».
Во-вторых, Вадим со своей «Каравеллой». В котором часу он вчера приехал на Приморскую? Асфальт под его машиной был мокрым, а дождь начался в семь вечера. Получается, после семи. Значит, нельзя исключать, что в восемнадцать пятьдесят он тоже мог проезжать по Якорному переулку.
Ну и конечно, Тофик! Вездесущий Тофик. Как это он повсюду поспевает? В половине одиннадцатого я засек его на вокзале. С какого времени он вел наблюдение — неизвестно, зато доподлинно известно, что смену сдал в восемь. Герася сбили в семь. При определенной сноровке — а ее Тофику не занимать — одного часа вполне хватит, чтобы устранить повреждения, оставшиеся после наезда на капоте или бампере. Правда, сделать это совсем незаметно едва ли возможно, следы все равно останутся…
Стало быть, трое. Но не исключено, что машина есть и у Витька. Он оставался в баре, но это еще ни о чем не говорит. Кто поручится, что он не отдал ключи тому парню, что крутился у стойки, а потом танцевал с девушками? Тот по-быстрому вывел машину в переулок, сделал свое черное дело и преспокойно вернулся допивать коктейль…
Фу ты, лезет в голову всякая чертовщина! Поневоле свихнешься: вторая жертва! Последняя ли? Симаков предупредил, чтобы я был осторожней. Уж не думает ли он, что мне тоже угрожает опасность, что следующей жертвой могу оказаться я? Ерунда! С какой стати?..
Мне не удалось довести мысль до конца — слух резанули слова:
И птица удачи опять прилетит.Вслед за солистом из могучего нутра транзистора грянул дружный мужской хор:
Птица счастья завтрашнего дня Прилетела, крыльями звеня, Выбери меня, выбери меня, Птица счастья завтрашнего дня.Я не впервой слышал эту песню, но сегодня столь категоричное, смахивающее на заклинание требование, обращенное к фортуне, меня покоробило. Наверно, виной был вчерашний рассказ Нины об одном из ловцов счастья — человеке, мечтавшем схватить его за хвост и ощипать перья.
Парикмахерская постепенно превращалась в парную. Кондиционер, по-видимому, барахлил, а вялые лопасти вентилятора не справлялись с жарой и вхолостую гоняли раскаленный воздух между стеклянными стенами. При почти стопроцентной влажности от этого не было никакого толку: разве что под потолком соберутся тучи и с подвешенной в центре зала люстры ливанет дождь?
Концерт закончился. Судя по количеству волос на моих плечах и вокруг кресла, стрижка тоже подвигалась к концу.
Откровенно говоря, я даже жалел об этом. Спешить было некуда. Поездку в санаторий я решил отложить до лучших времен, и, кроме звонка Нине, никаких дел на сегодня не предвиделось. В гонке за смутно маячившей впереди целью наступило что-то вроде временной передышки. В моем положении единственно разумным было затаиться и ждать. Ждать, когда обо мне вспомнит Стас.
Он обещал подать о себе весть, и теперь все зависело от того, какой срок отпустил он на обдумывание своего предложения. Сутки? Двое? Неделю? Насколько хватит его выдержки? Долго тянуть он не будет, это ясно. Но и торопиться не станет, чтобы выдержать марку. Следовательно, надо ждать.
«Маяк» передавал новости. Мой сосед по креслу убавил громкость, но в зале было сравнительно тихо, и голос диктора звучал отчетливо.
На Женевских переговорах наметился сдвиг.
Близятся к завершению парламентские выборы в Португалии.
Недалеко от базы ВВС США в Калифорнии разбился бомбардировщик В-52. Есть подозрения, что на борту самолета находилось ядерное оружие.
В шведском городе обнаружены гигантские захоронения ядохимикатов. Огромная территория оказалась зараженной диоксином. Размеры бедствия превосходят аналогичный случай в Севезо, Италия. Стоит вопрос об эвакуации населения.
«А теперь послушайте легкую музыку», — сказал диктор, хотя после двух последних сообщений реквием был бы куда уместней.
Мастер, пощелкивая ножницами, отошел в сторонку и свесил голову набок.
— Ну как? — спросил он, приглашая меня оценить плоды своего труда.
Я глянул в зеркало. Это действительно было новое слово в парикмахерском искусстве: провозившись битых полчаса, он умудрился сохранить прическу в полной неприкосновенности, во всяком случае, я не обнаружил в ней никаких изменений. Откуда только взялись клоки волос на простыне, в которую он меня упаковал, — ума не приложу!
— Вам нравится?
— Не то слово. — Мне показалось, что он слегка разочарован моей реакцией, и я добавил: — Считайте, что с сегодняшнего дня у вас одним постоянным клиентом больше.
— Постоянным? — улыбнулся он. — Разве вы не приезжий?
— Нет.
— А где живете?
Я вспомнил листок с адресом, валяющийся сейчас где-то на городской свалке, и неожиданно для себя сказал то, что говорить было вовсе необязательно:
— На Строительной.
— Да ну? А я на Мира, — обрадовался он. — Это же совсем рядом, в двух шагах!
Пришлось срочно давать задний ход, иначе я рисковал быть приглашенным в гости, а при нынешней ситуации водить со мной знакомство было небезопасно.
— Значит, еще увидимся, — скомкал я разговор, наскоро расплатился и вышел из парикмахерской.
Снаружи было не лучше — то же пекло.
Солнце стояло высоко и, будто наверстывая упущенное, палило немилосердно, возмещая недоданное накануне тепло. Градусов двадцать семь, не меньше. Это в октябре-то!
Я спустился на набережную.
Прозрачные тени эвкалиптов, преобладавших на этом участке, лежали в стороне от дороги, и было видно, как от влажных каменных плит, клубясь, поднимается пар. Он не успевал рассеяться, зависал в воздухе, грозя обернуться к вечеру густым стойким туманом. С гор плотными ватными языками тоже опускалась пелена. Но не это привлекло мое внимание. Приблизившись к парапету, я замер, пораженный открывшейся взгляду картиной. Так поразить может только то, что видишь впервые в жизни!
На море был штиль. Полнейший штиль. Тот самый, который двумя днями раньше предрекал старожил-синоптик.
От берега и до терявшегося в дымке горизонта простиралась неподвижная, ровная, как столешница, бирюзовая гладь. Даже не верилось, что такое возможно, что вся эта огромная масса воды способна прийти в равновесие, а тем более продержаться в таком состоянии сколько-нибудь долго. Над застывшей, бликующей светом поверхностью с гортанными криками носились чайки. Там, где их белые сильные крылья касались воды, оставался пенный след, и чудилось, что море вот-вот забурлит, пойдет пузырями, доведенное до кипения исходящим с небес жаром.
Вода. Небо. Птицы. Клубящийся над земной твердью пар. Наверно, такой выглядела земля много веков назад. Такой видели ее наши далекие пращуры. Теперь видим мы. Я не склонен к риторике, но, глядя на этот дивный, ослепительный в своей первозданной красоте мир, невольно думалось о том, как он хрупок, как уязвим, как легко его уничтожить и как трудно, но необходимо сохранить…
— Володя! — крикнул кто-то за моей спиной.
Я оглянулся.
— Сейчас же вернись! — Полная женщина в темных защитных очках бросилась к шустрому мальчугану, норовившему перелезть через парапет.
Только теперь я обратил внимание, что в воде никого нет, то есть почти никого: купальщиков можно было пересчитать по пальцам.
Вдоль всей набережной шли работы по очистке пляжа от нанесенного штормом мусора. Как видно, в городе объявили субботник, к которому стихийно присоединились отдыхающие. Они собирали ветки, коряги, водоросли, выброшенные на сушу, складывали их в кучи, потом грузили в самосвалы.
Я поймал себя на желании скинуть рубаху и поразмяться вместе со всеми, но у тех, кто за мной присматривал, это наверняка вызвало бы недоумение, а мне следовало беречь свою репутацию.
Порывшись в карманах, я отыскал двушку и пошел к телефонной будке.
— Алло, слушаю, — откликнулся на звонок не то мужской, не то женский голос.
Мне не повезло — трубку и в этот раз сняла девушка из «абонемента».
— Добрый день, — сказал я вкрадчиво, памятуя о ее крутом нраве.
— Это ты?! — воскликнула она радостно. — Ну, наконец! Что ж ты не пришел?!
Если на первый вопрос я еще мог ответить утвердительно, то на второй лишь пожать плечами. Меня явно с кем-то спутали.
— Это библиотека? — более сухо спросил я.
В ответ она коротко хихикнула:
— Не дурачься, Славик. Я тебя узнала.
— Я не Славик…
— Ладно, кончай свои шуточки, хватит!
— Но я правда не Славик.
— Не морочь мне голову! — Девушка-«абонемент» начинала сердиться. — Ты почему не пришел? Я ужин приготовила, мать в кино отправила…
Я понял, что спорить бесполезно, и повесил трубку. Вместе со следующей двушкой вытащил носовой платок, прикрыл им микрофон и снова набрал номер.
— Кузнецову, пожалуйста, — попросил я, имитируя сильный южный акцент.
— Кого?
— Кузнецову Нину, — повторил я погромче.
— Нет никого, — рявкнули на том конце провода, и я невольно пожалел, что я не Славик. — Все ушли на субботник.
— А где они работают?
— У морвокзала. — Девушка торопилась освободить линию и опустила трубку.
Я вышел и взял курс на видневшиеся вдали шпили морского вокзала.
3
Домой мы возвращались в начале третьего.
Репутация моя к тому времени была основательно подмочена: отыскав Нину, я не удержался и, закатав рукава, вместе с ее коллегами расчищал пляж, таскал мусор, грузил автомашины. Воображаю, что подумает Стас, когда ему доложат, чем я занимался с одиннадцати до двух! Наплевать — пусть думает, что хочет. Что же мне, витрины бить, чтобы завоевать его доверие?
Уставшие, проголодавшиеся, мы всей компанией перекусили в чебуречной на набережной, после чего заведующая распустила нас по домам, и теперь мы с Ниной поднимались по лестнице к «Лотосу».
Неожиданно, сама собой, во мне возникла мелодия, которую тщетно вспоминал на протяжении всех последних дней. В ней сталкивались и распадались, спорили и сливались в одно целое две самостоятельные темы: высокий чистый голос пел об обретенном покое, а тревожные нервные звуки органа говорили о страхе его потерять.
Я мысленно видел пальцы, стремительно взлетающие над клавиатурой, и мнилось, что их уверенные, отточенные и сильные движения исполняют мелодию судеб, мелодию прошлого, настоящего и будущего…
— О чем ты думаешь? — спросила Нина.
— Так, о разном. — Мне показалось, она догадывается, чем заняты мои мысли.
Мы преодолели последний лестничный марш и вышли к гостинице.
У магазина «Канцтовары» я остановился.
— Мне надо купить одну вещицу, подождешь?
— У тебя есть деньги? — спросила Нина.
— Навалом. Я же перевод получил.
На самом деле деньги из камеры хранения были остатком моей зарплаты, но мне не хотелось произносить это слово. Мне вообще не хотелось ни говорить, ни думать о работе — передышка на то и передышка, чтоб отдыхать…
— Кстати, ты не возражаешь, если мы сходим куда-нибудь вечером?
— Куда?
— Ну, в кафе или в бар, должен же я отблагодарить тебя за гостеприимство.
Она кивнула, но как-то грустно.
— Вот и хорошо, — сказал я. — Иди, я быстро.
Магазин был совсем крошечный. Обстановка выдержана в стиле ретро: колокольчик с внутренней стороны двери, матовые бра на стенах, тяжелая драпировка у входа в служебное помещение.
За прилавком стояла средних лет женщина с лицом кинозвезды эпохи немого кино. Раскрытая книга и очки, лежавшие на прилавке, говорили, что покупатели заглядывают сюда нечасто.
Поздоровавшись, я склонился над витриной. Она содержалась в образцовом порядке, но найти нужную вещь среди залежей резинок, карандашей, блокнотов и транспортиров оказалось делом абсолютно безнадежным.
— Вы что-то ищете? — пришла на помощь продавщица. Ниточки ее бровей были приподняты, а подведенные темной краской глаза влажно блестели, свидетельствуя, что пятьдесят — далеко не старость.
— Да, сувенир на память. Собственно, меня интересует талисман в виде желудевого человечка. У вас нет таких?
Она развела руками:
— Сожалею, но они давно проданы.
Я был искренне огорчен и попросил:
— Поищите, пожалуйста, может, один все-таки завалялся?
— Простите, а вам для кого? — поинтересовалась она.
Я все еще не терял надежды заполучить желаемое и выбрал довод, который должен был сработать наверняка.
— Подарок хотел сделать девушке.
Последствия не замедлили сказаться: она обворожительно улыбнулась и, обнадежив взглядом, внезапно скрылась под прилавком.
— Сию минутку, — донеслось оттуда. Она громыхнула коробками, выдвинула и задвинула ящик. — Вот то, что вам нужно! — И протянула стальной брелок, сделанный в виде сердца, пронзенного стрелой.
Я не думал, что буду понят так буквально, да и вещица, откровенно говоря, была до предела безвкусной.
— Держала для своей знакомой, — поспешила объяснить продавщица, — но ради такого случая…
Деваться было некуда, пришлось взять сердце вместе с торчавшей из него стрелой. Выложив четыре рубля с копейками, я горячо поблагодарил хозяйку магазина и засунул свое приобретение поглубже в карман, заранее зная, что если и извлеку его на свет, то лишь затем, чтобы выбросить.
Нина ждала меня на ведущих к дому ступеньках: одна рука была прижата к груди, в другой она сжимала клочок бумаги.
Сперва я решил, что это ее собственная записка, но, увидев выражение лица, понял, что Нина чем-то сильно напугана: она стояла неподвижно и смотрела на меня расширившимися от страха глазами.
— Что случилось? — спросил я. — Что с тобой?
Она протянула мне листок и, как автомат, в котором полностью раскрутилась пружина, так и застыла с согнутой в локте рукой.
«Жду в 5. Стас».
Я отметил, что послание выполнено на том же сорте мелованной бумаги, что и анонимные письма, но написано от руки. Последнее не могло меня не обрадовать — это означало, что проверка закончилась и что отныне я пользуюсь у Стаса полным доверием.
— Где ты это нашла?
— В почтовом ящике… Ты пойдешь? — Нина говорила тихо, словно боялась, что ее услышит кто-то третий. — Прошу тебя, не ходи… Это страшные люди! Не ходи к ним, слышишь?!
Она продолжала говорить, убеждая, настаивая, требуя, а я украдкой поглядывал на стрелки своего хронометра.
До пяти оставалось чуть больше двух часов.
4
Стас встретил меня по-королевски.
Один из столиков в глубине бара был сервирован большой вазой с фруктами, блюдом, на котором лежали бутерброды с черной икрой, рядом стояла другая ваза — с пирожными, кофейник, ведерко со льдом и бутылка мартини. На соседнем столике чуть слышно гудел вентилятор.
— Ты закрыл? — спросил Стас у Витька.
Сегодня на бармене был белый, сильно приталенный пиджак, бледно-сиреневая рубашка с неизменной бабочкой на шее. От него за версту несло одеколоном и апельсиновой резинкой.
Впустив меня в бар, Витек остался стоять сбоку и немного сзади, в шаге за моей спиной, разыгрывая из себя не то часового, не то телохранителя.
— Все о'кэй, босс, — доложил он. — Запер на засов и табличку повесил.
— Оставь нас, — распорядился Стас и указал мне на кресло. — Присаживайся, Вальдемар.
Бармен послушно удалился в подсобку, а я сел напротив, спустив между коленей кожаную сумку, где лежал включенный на запись магнитофон — самый маленький из тех, что я нашел в кузнецовской коллекции.
К числу его преимуществ относилась абсолютная бесшумность в работе, к недостаткам — получасовой запас пленки. Правда, в кассете имелась вторая дорожка, а в сумке лежали еще две запасные кассеты. В том случае, если меня обыщут сразу и обнаружат магнитофон, ничего страшного нет — скажу, что был на пляже, а магнитофон взял, чтобы послушать музыку. Ну а если обыщут в конце, я успею сменить кассету с записью беседы, так как предпринял кое-какие меры на этот счет. Что касается запаса пленки, то оставалось надеяться на телеграфный стиль Стаса. Я тоже настроился говорить в его манере, сжато, по возможности без эмоций.
Что из этого получилось, видно из стенограммы нашей беседы.
СТАС: Кофе?
Я: С удовольствием.
СТАС: Сандвичи?
Я: Благодарю, я сыт.
СТАС: А я перекушу. Не обедал сегодня (поедая бутерброды). Что-то ты невеселый сегодня, а, Вальдемар? Нервничаешь?
Я: Не вижу причин.
СТАС: Вот и я думаю, с чего бы это…
Я: Просто у меня мало времени.
СТАС: У тебя? А может, у машинки, которая стрекочет в твоей сумке?
Я (после паузы): Нет у меня никакой машинки.
СТАС: Небось еще на улице включил?
Я: У тебя, случаем, не мания преследования?
СТАС: У меня? А тебе не кажется, Вальдемар, что мы поменялись ролями? В прошлый раз на преследования жаловался ты.
Я: Зачем ты меня позвал? Упражняться в остроумии?
СТАС: Куда мне. Шутник у нас ты… Между прочим, с Герасем — тоже твоя шутка?
Я: При чем тут Герась?
СТАС: Я думал, ты мне расскажешь. Это не меня, а тебя видели здесь вчера в семь вечера.
Я: Ну и что? Горло зашел промочить. Разве запрещено?
СТАС: Да нет. Витек вон говорит, что вы вместе из бара вышли. А через десять минут Герася в морг увезли. Странное совпадение. Ты не находишь?
Я: В совпадениях всегда есть что-то странное. Не исключено, что в это же время где-то поблизости был ты или твои люди. Такое совпадение тоже вполне возможно.
СТАС: Вот ты как повернул?
Я: Мне он не мешал, а вот за тебя я бы не поручился.
СТАС: Резонно… Ты только не учел одной мелочи. Герась был моим человеком. Со всеми потрохами. От и до, понял? Живой он был для меня полезней, чем мертвый. К тому же не меня, а тебя видели с ним последним. Витек на всякий случай записал адреса всех, кто был в «Страусе», но милиция о тебе пока не знает. Пока!
Я: Это все, что ты хотел мне сказать?
СТАС: А ты не горячись… (покончив с бутербродами). Кстати, когда будешь уходить, пленочку все-таки оставь. Она мне пригодится.
Я: Какую пленочку?
СТАС: Ту самую (наливая в рюмки мартини). Боюсь, Вальдемар, ты плохо кончишь. Сначала Кузя. Вчера Герась. На твоем месте другой бы давно смотался отсюда. Рискованно работаешь. Самоуверенность и не таких, как ты, подводила… Впрочем, я это так, к слову — у каждого свой метод.
Я: Твой метод я уже изучил.
СТАС: Неужели?
Я: Представь себе. Не так уж это сложно.
СТАС: Особенно если тебе помогает такой трепач, как наш покойный друг. Ты это хотел сказать?
Я: Надеюсь, ему нашли замену, прежде чем убрать.
СТАС: Это ты мне?
Я: А то кому же?
СТАС: Ну ты даешь! Мне бы твои нервы. Повторяю: живым он был мне полезней.
Я: Еще бы, не самому же теперь торговать на «сходняке», унижаться из-за каждого червонца.
СТАС (неожиданно со злобой): Заткнись! Мой бизнес ничем не хуже твоего. Зато я не перехватчик, как некоторые!
Я: Не понял.
СТАС: Сейчас поймешь (более миролюбиво, доливая в рюмки вино). Давай-ка лучше выпьем. Прозит!
Я: Прозит…
СТАС: …Ну вот. Теперь можно переходить к деловой части. Ты обдумал мое предложение?
Я: Да.
СТАС: И что скажешь?
Я: В принципе я не против.
СТАС: Что значит «в принципе»?
Я: Это значит, я не против того, чтобы заплатить, но сначала хочу знать, за что выкладываю монету.
СТАС: А ты недогадлив.
Я: Какой есть.
СТАС: За информацию, Вальдемар. За информацию.
Я: Пустой номер. Я не плачу за информацию. Я в ней не нуждаюсь.
СТАС: Ты-то, может, и не нуждаешься. Но это не значит, что в ней не нуждается кое-кто другой.
Я: Вот пусть другой и платит.
СТАС (напористо): Деньги заплатишь ты.
Я: Вопрос прежний: за что?
СТАС: Хотя бы за возможность драпануть отсюда.
Я: А с чего ты взял, что я хочу драпануть? Мне и здесь нравится: море, солнышко светит, друзья, вот, бутербродами с икрой угощают…
СТАС: Не ломай комедию. Мне все известно.
Я: Неужели все? Уважаю людей, которым все известно.
СТАС: Выходит, ты ничего не понял… Я знаю, откуда у тебя валюта.
Я: Это уже серьезней. Откуда же?
СТАС: Из «Лотоса». Сказать, во что она упакована?
Я: Попробуй.
СТАС: В парусиновые мешочки. Продолжать?
Я: Разумеется. Это страшно интересно.
СТАС: Это гораздо интересней, чем ты думаешь. Пятнадцатого вы с Кузей грабанули ресторан и валютный бар. Потом ты избавился от него и сейчас сбываешь выручку. Достаточно? Или еще?
Я: Еще, если можно. И пожалуйста, поподробней насчет моего участия в этом деле. Меня, правда, там не было, но это, как я понимаю, неважно.
СТАС: Все остришь? Я предвидел и это возражение.
Я: Тем лучше.
СТАС: Дело с «Лотосом» одному не провернуть, а почему — ты знаешь лучше меня.
Я: Не вижу связи. Нельзя ли пояснее?
СТАС: Продолжаешь темнить? Ну-ну, слушай. Я перебрал всех возможных партнеров Кузи. Всех до единого. И понял, что с ним был кто-то, кого я не знаю. Когда встретил тебя, все стало на свои места.
Я: А свою кандидатуру ты случайно не забыл рассмотреть?
СТАС: Если бы в «Лотосе» был я, то сейчас нашел бы собеседника поумнее.
Я: Ого! Я ведь могу и обидеться.
СТАС: Ладно, извини. Я не со зла.
Я: Ты дерьмо. Был и останешься дерьмом. Извини, я тоже не со зла… Продолжим?
СТАС: За это ты тоже заплатишь.
Я: Я не заплачу тебе ни шиша. Всей твоей информации грош цена в базарный день.
СТАС: Это почему?
Я: Потому что я не знаю никакого «Лотоса», никогда там не был и никаких парусиновых мешочков в глаза не видел. Так что спасибо за содержательный разговор. Если у тебя все — я пойду.
СТАС: Счастливого пути. Если позволишь — один вопрос на прощание.
Я: Хоть десять.
СТАС: Когда звонишь по ноль-два, необязательно называть имя, не так ли?
Я: Ну?
СТАС: Тогда прими дружеский совет: не ходи на Приморскую. Там тебя будут ждать дяди с суровыми лицами. В аэропорту тоже. Ну и на вокзале, естественно. Если они случайно спросят, где ты взял валюту, не теряйся. Скажи, что нашел (вытаскивает из кармана «Вечерку» и тычет пальцем в статью). Семнадцатого, на пляже. У санатория имени Буденного. Они поверят.
Я (после паузы): Что ж, может, ты и прав. Лучше, если валюту я продам тебе, всю, оптом.
СТАС: Слава богу, до него дошло!
Я: Я согласен сбросить в цене, если…
СТАС: Не сбросить. Отдать. И без всяких «если».
Я: Хорошо, пусть отдать, раз тебе так больше нравится. Я согласен отдать немного при условии…
СТАС: Никаких условий. Ты отстегнешь мне две трети!
Я: Что?!
СТАС: Две трети от общей суммы.
Я: Ты в своем уме?!
СТАС: Успокойся. Я не сказал главного. Ваша с Кузей операция от первого и до последнего шага — моя идея. А за идеи, дорогой Вальдемар, положено платить. Как видишь, я не занимаюсь рекетом. Я только требую то, что принадлежит мне по справедливости.
Я: При чем тут ты? План разработал Сергей.
СТАС: Заблуждаешься. Это он тебе так сказал. План разработал я. А он его украл. И оставил меня с носом.
Я: Впервые слышу.
СТАС: Я всегда подозревал, что наш тихоня ведет двойную игру. Теперь, надеюсь, ты в этом убедился?
Я: Лирика. Где доказательства?
СТАС: Я знаю каждый ваш шаг там, в «Лотосе». Какие еще нужны доказательства?
Я: Чепуха, сказать можно все.
СТАС: Я предвидел и это твое возражение.
Я: Предупреждаю — поверю только фактам.
СТАС: Хорошо. Я назову одну деталь. И ты поймешь, что мне известно все остальное. Согласен?
Я: Говори.
СТАС: Английский замок. Ты открыл его изнутри.
Я (после паузы, нерешительно): Предположим. И что дальше?
(В это время в зале появляется Витек.)
ВИТЕК: Шеф, извини, но его к телефону.
СТАС: Кого его?
ВИТЕК (кивая на меня): Его. Женский голос. Володю, говорит, очень нужен.
СТАС (поднимаясь из кресла): Ты не против, если трубку возьму я?
Я: Против.
СТАС: Вот и прекрасно. Скажу, что ты занят. Не волнуйся, я вежливо. А ты поразмысли, Вальдемар. Стоит ли упираться…
С этими словами он нырнул под стойку и исчез за бамбуковой занавеской.
— У тебя есть сигареты? — спросил я у Витька, оставшегося меня сторожить.
— Найдутся.
Он повернулся ко мне спиной, чтобы дотянуться до лежавшего на полке блока, а я, не теряя ни секунды, запустил руку в сумку, остановил магнитофон и быстро сменил кассету.
Все вышло, как и планировалось. Нина позвонила с точностью до минуты. И хотя последовавшую за ее звонком паузу я предполагал использовать несколько иначе и снова поставить магнитофон на запись, делать этого не стал.
Витек кинул через стойку нераспечатанную пачку «Кемел» и, покосившись на бамбуковую занавеску, спросил вполголоса:
— Ты не раздумал? Завтра принесу «Шарп», какой ты хотел, последней модели.
— Стерео? — в тон ему поинтересовался я.
— Стерео, стерео, — заверил бармен. — Значит, две с половиной, как договаривались?
— Боюсь, ничего не выйдет. Кажется, я вылетел в трубу.
Он понизил голос до шепота:
— Да не дрейфь ты, босс уступит. Обещай половину, он согласится. Куда ему деваться.
— Подслушивал?
— Тут акустика хорошая. — Он подмигнул игриво, и мне захотелось слегка подпортить ему настроение: нагрубить или, скажем, дернуть за бабочку.
— Вчера сразу после Герася кто-нибудь выходил отсюда?
— Ты о чем? — растерялся он.
— Сам знаешь. О том парне, что здесь ошивался.
Ответить Витек не успел — в зал вернулся Стас.
В полумраке — бар освещался одним фонарем, горевшим где-то позади стойки, — его лицо было похоже на большой плоский блин, в нижней части которого была прорезана щель, долженствовавшая изображать улыбку.
— Твоя звонила, — небрежным взмахом руки он отправил Витька в подсобку. — Беспокоится. Просила передать, что ждет.
Стас опустился в кресло и закинул ногу за ногу. На нем были те же брюки, что и вчера, только штопки видно не было.
— Ну что, Вальдемар, поразмыслил? — спросил он.
— Дай прийти в себя, — вяло огрызнулся я. — Деньги не рыба, не протухнут.
— Ну-ну, шевели мозгами. Я не тороплю.
Обнадеженный моей покладистостью, он прямо-таки раздувался от самодовольства. Речь стала более плавной, фразы длинными, язык витиеватым.
— Вчера, если помнишь, ты говорил, что я должен тебе доверять. Что у меня нет другого выхода. Дело, дорогой Вальдемар, не в выходе. Просто я тебя вычислил. А вот у тебя выхода действительно нет. Ты парень тертый, должен соображать: твой отказ вынудит меня принять ответные меры. Один звонок, и через полчаса ты не выберешься отсюда и на подводной лодке. А еще через час, максимум через два, тебя уже будут допрашивать в эмвэдэ. Ты потеряешь все. Все, до последнего цента. Ты хочешь все потерять?
— О двух третях не может быть и речи, — буркнул я. — Это наглый грабеж.
— Понимаю, тебе обидно, но что делать? Мне, думаешь, не обидно было? Целый год вынашивать план, уговаривать этого мозгляка, а в итоге получить шиш… — Он мельком посмотрел на лежавшие передо мной сигареты. — Разве ты куришь?
— Только когда встречаюсь с вымогателями. — Я распечатал пачку, взял протянутые Стасом спички, прикурил и, не затягиваясь, выпустил дым. Во рту остался противный горьковатый привкус.
Бармен дал дельный совет: надо было торговаться, надо было вести себя в точности так, как вел бы себя со Стасом тот, за кого он меня принимал.
— Все равно, две трети — это много, — повторил я.
— Много, — охотно согласился Стас и вновь перешел на более привычный телеграфный способ общения. — Конечно, много. Но посуди сам. Если б не я, не видать вам этих денег как своих ушей. И потом, кто мне возместит убытки? Кто заплатит Кузины долги? Знаешь, сколько я в него вложил? Пять тысяч!
Я уловил чуть заметное колебание, с которым он назвал сумму долга, и возразил, чтобы подтвердить свою компетентность:
— Имей совесть! Откуда пять?!
— Пусть не пять. Пусть три с половиной, пусть полторы. Какая разница?! А моральный ущерб? Кто мне возместит моральный ущерб? Кузя доил меня как хотел. Я ему ни в чем не отказывал. Давал по первому требованию. И вот благодарность. Украл идею, которой цены нет, обвел вокруг пальца…
Вчера я уже слышал нечто подобное из уст Витька. Он тоже обвинял Кузнецова во всех смертных грехах, правда, не успел сказать, в чем, собственно, они заключаются. Стас восполнил этот пробел. Размягченный перспективой получить крупный куш, он утратил былую сдержанность и выкладывал все новые и новые подробности:
— Предлагал ему как человеку. Обделаем дельце — выручку пополам. Фифти-фифти. Забирай свою долю и мотай на все четыре стороны. Хоть на Камчатку. Что его держало? Детей нет. С женой не клеилось. А с таким капиталом везде начать можно. Жил бы как король. Нет, отказывался, чистюлю из себя строил. Тоже мне, шериф задрипанный. Борец за справедливость… И так его умолачивал, и этак. Ни в какую. Тогда я ему условие поставил. Или, говорю, долг отдавай, раз такой честный, или соглашайся. И срок назначил — пятнадцатое. А он, видишь, что выкинул, идеалист наш! Кусок пожирней взять захотел. Половины ему мало. Сколько он тебе выделил, кстати?
Я не ответил, однако Стаса это не смутило.
— Не хочешь, не говори. И так ясно, что половина его не устраивала. Половину и я ему давал… — Он вздохнул. — Эх, Кузя! Жадность одолела. Послушал бы моего совета, может, до сих пор был бы жив…
— Письма на Приморскую ты писал? — спросил я. — С буквами из газет?
— Это так, каприз художника. Наивно, конечно…
Он допил свой мартини и посмотрел на часы.
— О, пора. Итак, дорогой Вальдемар, я весь внимание. Что скажешь?
В свое время я сдавал экзамен по финансовому праву, но мой личный коммерческий опыт был слишком мал, чтобы тягаться с таким асом. Впрочем, в подобных сделках особенно больших знаний и не требовалось. Разве что нахальство.
— Двадцать процентов, — сказал я.
— Это несерьезно, — мгновенно отреагировал он.
— Двадцать, и ни одним больше.
— Однако ты скуп.
— И на том скажи спасибо. Замок-то все-таки я открывал, а не ты.
Очевидно, последняя реплика мне удалась — Стас перестал спорить и изменил тактику.
— Хорошо, — сказал он. — Есть другой вариант. Надеюсь, он тебе больше понравится. Слышал о таком понятии — файр плей?
— Честная игра, — перевел я.
— Вот именно. Честная. Я предлагаю тебе честную игру и не претендую на всю сумму. Я согласен ограничиться валютой. Она перейдет ко мне полностью. Все, что вы взяли в советских дензнаках, остается тебе. Ну как, устраивает?
Это предложение только выглядело уступкой. Несомненно, оно и было тем единственным вариантом, на который он делал ставку с самого начала. Не вызывала сомнений и подоплека его «честной игры»: просто Стас не знал, какая часть выручки была в наших деньгах, и понимал, что здесь его легко надуть, зато с моих собственных слов знал, сколько у меня валюты, и решил заполучить ее полностью. Он понимал и то, что я догадываюсь об этом, и теперь боялся напороться на отказ.
— Ну что, по рукам? — Он начинал нервничать. — Прости, но я вынужден напомнить тебе про телефон. Ноль-два никогда не занято.
Делать нечего, надо было соглашаться, вытребовав взамен наиболее выгодные для себя условия.
— Черт с тобой, — сдался я и для достоверности добавил: — Подавись своей валютой.
— Вот и отлично.
Он повеселел и показал на бутылку: мол, налить? Я отказался.
— Значит, по рукам?
— По рукам, — сказал я, ломая голову над тем, как оттянуть исполнение этой утопической сделки на предельно возможный срок.
— О'кэй. — Стас не скрывал своего торжества и щелкнул костяшками пальцев, подытожив таким образом завершение основного этапа переговоров. — Остаются чисто технические детали, — сказал он. — Когда? Где?
«Три дня он мне не даст, — прикинул я, — но просить надо как можно больше».
— Во вторник. Здесь, в «Страусе».
— Во вторник? — Круглое мучнистое лицо по ту сторону стола вытянулось и приняло форму эллипса. — Почему во вторник?
— Раньше не получится. Деньги не у меня.
— А у кого?
— Неважно.
Замешательство длилось недолго. Понемногу его физиономия пришла в норму, если, конечно, круг можно считать эталоном человеческого лица.
— Нет, Вальдемар, — отрезал он. — О следующей неделе не может быть и речи. Столько ждать я не могу. Ты отдашь валюту сегодня. Не позже десяти вечера.
Теперь нашел нужным возмутиться я:
— Тебе же русским языком объясняют, нет у меня денег! Что я, по-твоему, за пазухой их держу, с собой таскаю? Спрятаны они! Ехать за ними нужно.
Он думал не меньше минуты. Потом выдал результат.
— Я дам тебе отсрочку. На одни сутки. Но завтра деньги должны быть здесь. Это последнее мое слово.
— Я не управлюсь.
— Это уже не моя забота.
Как и вчера у «Интуриста», он вновь напомнил мне зверька неизвестной породы, зверька злого, агрессивного. Я вдруг с необыкновенной ясностью представил, что точно так же, возможно, в этой самой обстановке и в тех же самых выражениях, он диктовал свои условия Кузнецову, назначал крайнюю дату возвращения долга — пятнадцатое сентября. При мысли об этом у меня между лопаток пробежал холодок.
— В твоем распоряжении вечер и весь завтрашний день. До двенадцати ночи…
— И никакой слежки, — ввернул я, — ни сегодня, ни завтра. Это мое условие.
Стас смерил меня своими бесцветными рыбьими глазами.
— Слежки не будет. Хватит с меня Герася. Пусть за тобой эмвэдэ следит… Витек! — позвал он.
Бармен незамедлительно возник у бамбуковой перегородки.
— Проводишь нашего друга через заднюю дверь. Так верней. — И, обращаясь ко мне, кивнул на сумку: — Ну а теперь выкладывай свой агрегат.
— Какой еще агрегат?
— Давай, давай, не стесняйся.
Я хотел встать, но он, перегнувшись через стол, сжал мою руку в запястье.
— Не заставляй нас применять силу. Мы же цивилизованные люди.
Хватка у него была железная.
— У меня там действительно магнитофон, но я ничего не записывал…
— Тем более не вижу причин расстраиваться. За кассету я тебе заплачу. При расчете. Не волнуйся.
Я с кислой миной вытащил магнитофон. Стас ловко извлек из него кассету, покрутил ее в руках.
— Сколько же ты хотел с меня за нее содрать? — расплылся он в улыбке и небрежно сунул кассету в нагрудный карман рубашки. — Ладно. До завтра, Вальдемар. Не теряй времени. Деньги принесешь сюда. В любое время. Скажешь Витьку, он знает, где меня искать.
Я положил магнитофон в сумку и, не попрощавшись, вышел вслед за барменом.
Он провел меня через подсобное помещение, добрую половину которого занимала цинковая мойка, а другую — большой промышленный холодильник, потом свернул в тесный коридор с голыми кирпичными стенами и, скрежетнув засовом, открыл обитую железом дверь.
Мы вышли во двор.
Туман сгустился. В сплошной серой пелене едва, проглядывали потерявшие четкость силуэты домов, Во дворе, почти впритык к двери, стояла автомашина. Она тускло блестела от осевшей на нее водяной пыли.
— Твоя или Стаса? — спросил я.
— Моя. — Витек глянул вверх и сплюнул под ноги. — Ну и погодка, черт ее дери. Семи нет, а уже темень… — Он потоптался в нерешительности. — Ну что, я пошел?
— Погоди, — остановил его я. — Ты так и не ответил на мой вопрос.
— Какой еще вопрос?
— Я про список.
— Какой еще список?
— Стас говорит, что ты всех переписал, кто вчера в баре сидел.
— Ну и переписал, тебе-то что?
— А списочек, конечно, ему представил, чтоб было чем меня к стене припереть, так?
Витек пожал плечами:
— Нужен ты мне…
— Дружка своего тоже туда включил?
— Да какого дружка?!
— Того, что весь вечер пьяненьким прикидывался. Он выходил после Герася? Да или нет?
— Никто не выходил.
— А точнее?
— Говорю, никто, — буркнул он. — А в чем, собственно, дело?
— Не понимаешь? — Я слегка поправил бабочку на его шее. — Запомни и боссу своему передай: Герася убрал не я, но я знаю, кто это сделал.
— Кто?
— Его убрал кто-то из ваших людей.
— Уж не я ли?
— Очень может быть.
— Но-но, ты не очень… — Витек с опаской косанул по сторонам. — Я к этому делу ни с какого бока, понял? У меня свой потолок. — Он повторил знакомое движение, отмеряя расстояние снизу до собственной макушки. — Я в ваших делах не волоку, и нечего меня путать. Сами разбирайтесь. И вообще…
— Что вообще?
— Пошел я, сыро здесь.
— Топай, — сказал я, слегка оттеснив его к двери. — А то еще Стас уши надерет. Куда ты без ушей годен-то будешь?
Он попятился, испуганно юркнул в щель и захлопнул за собой дверь.
Я подождал, пока громыхнет засов, и, убедившись, что вокруг тихо, двинулся вдоль машины. Видимость была ниже среднего, и для верности я помогал себе руками. Сетка радиатора была безукоризненно ровной. Таким же ровным был обвод правого переднего крыла. Я присел на корточки и провел ладонью по бамперу. С края на его поверхности имелась неровность.
Рискуя быть пойманным на месте, я опустился прямо на асфальт и тщательно, сантиметр за сантиметром, прощупал вмятину. Она была неглубокой и продолговатой — именно такой, какая должна была остаться после столкновения с Герасем.
На всякий случай я запомнил номер и, уже выходя в Якорный, мысленно пополнил свой автопарк еще одной транспортной единицей.
Аудиенция, которой удостоил меня глава корпорации, не обманула моих ожиданий. Скорей наоборот. За последний час я узнал больше, чем за предыдущие три дня. Однако, чтобы переварить все эти сведения, выстроить их в строгий логический ряд, требовалось время. И не только время. Нужен был опыт, недостаток которого я ощущал как никогда остро. Очевидно, именно этим и объяснялся тот факт, что количество подозреваемых не убывало, а день ото дня увеличивалось.
«Как получилось, — думал я, шагая вверх по пустынному переулку, — как получилось, что, посланный со скромным заданием выяснить круг знакомых покойного, я незаметно для себя оказался в роли его двойника? Именно двойника. Ведь по сути, я втянулся в те же отношения, что связывали его с „невидимками“, на мне сосредоточились интересы тех же самых людей: Стас требует денег, Вадим дает мудрые советы, Витек предлагает новую модель магнитофона, Тофик кичится своей честностью, и мне, как, вероятно, и Кузнецову, трудно определить, кто из них ведет двойную игру, кто, прикрываясь маской друга, хладнокровно обдумал и рассчитал каждый свой шаг, в точности повторенный пятнадцатого сентября…»
Из всех его друзей самым загадочным был, пожалуй, Витек.
Он относился к числу близких знакомых Сергея — Кузнецов был его постоянным клиентом. Это неважно, что в их компании бармен из «Страуса» выполняет функции рядового посредника. Но такая ли уж он мелкая сошка, какой хочет казаться? Что, если потолок, который он сам себе определил, в действительности намного выше, чем у всех остальных в этой разномастной компании, включая и самого хитроумного предводителя? То, как умело Витек пользуется акустическими свойствами своего заведения, а проще говоря, склонность к подслушиванию, не оставляет сомнений, что он был в курсе планов своего босса, ему наверняка было известно и об ультиматуме, предъявленном Кузнецову, Но коли так, версия, придуманная в порядке бреда утром в парикмахерской, на проверку оказалась не столь уж бредовой и Витек вполне мог быть человеком, имевшим отношение к английскому замку, о котором в порыве откровенности поведал мне Стас…
Я остановился на углу. Здесь туман был не таким плотным. Местами в его разрывах проглядывали черные лоскуты неба с редкими звездами, но ближе к земле дымка стелилась толстыми, похожими на слоеный пирог пластами.
Вчера где-то неподалеку отсюда нашел свой конец Герась. Наверно, поэтому место показалось мне глухим и угрюмым.
Я ступил на булыжник мостовой и почти сразу услышал за спиной шум мотора. Оглянувшись, увидел свет фар.
Окруженные голубоватым ореолом, они пробивали толщу тумана и светили прямо в лицо.
Зрение и слух обострились до предела. Я перешел на тротуар и заставил себя идти в прежнем темпе, но, даже отвернувшись, продолжал видеть светящие в спину фары и то, как машина, переваливаясь через бордюр, выезжает на тротуар. «Сейчас он прибавит скорость, и все повторится», — мелькнуло в голове.
Я шел и смотрел на свою тень. Расплывчатая, отраженная стеной тумана, она на глазах делалась короче, резче, отчетливей. Я решил подпустить машину как можно ближе. Это увеличивало шансы разглядеть хоть какие-то приметы: марку, цвет, если повезет, номер.
Шум мотора становился все громче, пока не превратился в оглушительный рев. А может, мне только казалось. Сдается, я слышал, как в недрах двигателя стучат поршни и взрываются в камерах сгорания пары бензина.
Машина мчалась прямо на меня. Еще немного, и удара не избежать.
Я обернулся.
Фары были уже в считанных метрах. Они слепили, надвигались с неумолимостью секиры в руках палача. «Легковая», — мелькнуло в последнюю секунду.
Оттолкнувшись, я что было сил прыгнул вправо и, упав на асфальт, откатился к стене дома.
В следующее мгновение меня обдало запахом выхлопных газов. Смерть пронеслась мимо.
Я вскочил было, но резкая боль в колене и в правом предплечье удержала на месте. Приподнявшись, успел увидеть, как исчезает в конце переулка темный силуэт — сгусток материи, чуть не лишивший меня жизни.
Мышцы оцепенели. С минуту я лежал неподвижно, точно набитая ватой кукла. Потом ощутил жжение в руке. Ладонь была стерта до крови. Колено, кажется, не пострадало — обыкновенный ушиб, плечо тоже, хотя малейшее движение отзывалось в нем болью.
Опершись о стену, я кое-как поднялся и прислонился к фасаду здания.
В переулке стояла тишина. Ни шагов, ни шума машин, ни малейшего колебания воздуха. Лишь туман, словно живое существо, стягивал вокруг меня свою непроницаемую оболочку.
Не знаю, явилось ли это прямым результатом падения или удар ускорил процессы, происходящие в тайниках моего подсознания, только я вдруг ясно понял, что человек, сидевший за рулем автомашины и желавший спровадить меня на тот свет, как вчера в это же самое время спровадил туда Герася, панически боится моих контактов с людьми, знавшими о плане ограбления «Лотоса». В этом суть! Суть и разгадка вчерашнего убийства и сегодняшнего покушения.
Но он опоздал. Стас намекнул, что по названной им детали можно догадаться обо всем остальном.
Я уже знал эту деталь, знал, где мне ее искать.
Глава 6
1
Несмотря на распухшую до размеров боксерской перчатки ладонь, ноющую боль в плече и пригоршню иголок, сверливших мой коленный сустав, я пошел не на Приморскую, куда намеревался идти сначала, а на главпочтамт.
Для этого понадобилось сделать солидный крюк, что меня вполне устраивало. Хотелось привести мысли в порядок, без спешки, не торопясь обдумать свои дальнейшие действия. Кроме того, я давно не получал вестей из дома, и интуиция подсказывала, что на почте меня ждет письмо.
С горем пополам я доковылял до почтамта, потратив на дорогу вдвое больше времени, чем если бы полз по-пластунски.
Предчувствие не обмануло: в окошке «до востребования» мне выдали письмо. Штемпель на конверте свидетельствовал, что оно пришло накануне, в четверг.
«Володенька, — писала мама. — Ты уехал, и от души как будто что-то оторвалось. Третью неделю живу одна, а все не верится. Дни какие-то безразмерные. Приду домой, чайник поставлю и две чашки по привычке вытаскиваю, твою, большую, и свою. Сижу и думаю, как там мой мальчик? А то еще моду взяла, фотографии достану, перебираю… Ну вот, давала себе слово не жаловаться. Совсем старухой стала.
Из твоего письма, сынок, знаю, что доехал ты благополучно, устроился хорошо. Я рада. Если, конечно, все так, как ты пишешь. Ты ведь у меня великий фантазер. В конце письма ты жалуешься, что тебе не дают самостоятельной работы. Это не беда. На первых порах всегда так. Уверена, что все у тебя образуется. И с работой, которую ты так любишь, и все-все. А пока отдыхай, ходи на море, загорай. Не забывай о режиме, питайся вовремя, это единственная моя просьба.
На работе у меня по-прежнему: утром репетиции, вечером концерты. Друзья твои звонили, Коля и Валера. Спрашивали о тебе, обещали написать, а летом грозятся нагрянуть в гости. Я и сама все думаю, не приехать ли? В отпуске мне не откажут, ты знаешь. Можно взять дней пять-десять. Как считаешь? Ежедневно слушаю прогноз погоды. Передают, что на побережье жарко. А у нас вчера снег выпал, крыши белые, и мне все кажется, что ты мерзнешь. Недавно даже сон такой видела. Проснулась и свитер взялась вязать. Сделаю с треугольным вырезом, как ты любишь. Может, успею к ноябрьским. Вот и все мои новости.
Пиши, Володенька, не откладывай со дня на день. Помни, с каким нетерпением я жду твоих писем.
Обнимаю и крепко целую, твоя мама».
Я смотрел на исписанную размашистым почерком страничку и чувствовал, как к горлу подкатывает предательский ком. Видно, сказалось напряжение последних часов. Еще немного, и я бы заревел, до того сильно потянуло меня домой, в тихую уютную квартиру на четвертом этаже блочной пятиэтажки, к маме, сидевшей на кухне у стола с двумя чашками, большой и маленькой, к улицам, припорошенным первым снегом…
Я спрятал письмо в карман и, чтобы хоть в какой-то мере застраховать себя от неприятностей, подобных той, что случилась в Якорном, проскользнул на служебную лестницу и вышел через запасной ход. Попетляв переулками, вывернул на бульвар в двух кварталах от почтамта и пошел к остановке.
Уже сидя в автобусе, который вез меня на Приморскую, и потирая ушибленное колено, я перечитал письмо и решил, что завтра же напишу ответ. В крайнем случае послезавтра.
— Слышь, друг, как к морю пройти, не подскажешь?
Парень, обратившийся ко мне за справкой, смущенно озирался по сторонам и не знал, куда девать оттягивавший его руку чемодан со свисавшей на суровой нитке аэрофлотской биркой.
— Понимаешь, отдыхать приехал, — будто извиняясь, объяснил он. — Никогда моря не видел, ну и решил прямо из аэропорта на берег, соленую водичку посмотреть…
— Правильно решил.
— Да вроде несолидно как-то, с чемоданом. Как считаешь?
— Наоборот, очень даже солидно, — сказал я и растолковал, как ему найти ближайший спуск к набережной.
— Ну, спасибо. — Он перевел свою поклажу с руки на руку. — Пойду. Счастливо тебе, браток.
— Счастливо, — сказал я, испытывая что-то похожее на зависть: проблема, которую собирался решить сегодня вечером, была не из легких.
Как попасть в «Лотос», оставаясь не замеченным для персонала гостиницы и для ее постояльцев, вот вопрос, на который мне предстояло ответить. Будь в моем распоряжении даже шапка-невидимка, она не облегчила бы задачи, ведь у Кузнецова ее наверняка не было.
Не я первый ломал голову над этой задачей. До меня ее пытались решить многие, в том числе и ведущий дело следователь. Он тоже искал лазейку: вооружившись секундомером и линейкой, пункт за пунктом изучал маршрут Кузнецова, моделировал его возможные отклонения, но в результате ни одна из его комбинаций не выглядела достаточно убедительно.
И все же лазейка была! После рандеву в «Страусе» я был уверен в этом на все сто процентов.
По дороге сюда я тоже перебирал варианты, но как бы далеко ни отклонялся в своих поисках, мысли, словно лошадки в карусели, вращались вокруг одной и той же, выросшей до значения символа, детали — двери с английским замком. Как известно, у такой двери есть особенность — ее-то и имел в виду Стас, рассказывая о своей сверхценной идее.
«Фокус в том, — рассуждал я, — что она запирается на ключ, а открыть ее можно без ключа, надо только зайти с внутренней стороны».
Стас уверен, что это сделал я. Он думает, что я был соучастником ограбления, что Кузнецов посвятил меня в тайну, и теперь ждет платы за реализацию своего плана. Что ж, пусть ждет. А я тем временем должен отыскать эту самую дверь. Отыскать во что бы то ни стало!
Вид у «Лотоса» и впрямь был таинственный. Его зыбкие, размытые туманом огни манили, притягивали и в то же время казались ненастоящими, висящими в пустоте, почти нереальными.
Я стоял на противоположной стороне улицы и, точно фельдмаршал, готовящийся к штурму крепости, обдумывал ход предстоящего сражения. Не хватало карты, ее заменила схема, которую сжег в среду. Конечно, она не отличалась по части пропорций и соотношения отдельных частей гостиничного вестибюля, но что касается расположения дверей, служебных помещений, то они были воспроизведены с максимальной достоверностью. Поэтому, прежде чем начать, я мысленно обратился к своей планировке, выискивая в ней уязвимые места.
Второй этаж отбросил сразу. Не из-за высоты — высота как раз была сравнительно небольшая, забраться туда пара пустяков, однако у лифта на втором этаже круглые сутки сидела дежурная, и, как установлено, вечером пятнадцатого она никуда не отлучалась. Мусоросборник для задуманной операции тоже не годился: расположенный в полуподвальном помещении, полностью автоматизированный, он соединялся с жилым корпусом узкими шахтами, в которые не пролезет и ребенок.
Остаются двери.
В «Лотосе» их три. Основная и две запасные. Неделей раньше все три осматривал следователь, но между мной и им есть разница: он ничего не знал об английском замке и искал выход, через который Кузнецов выскользнул из гостиницы, а выхода, кроме основного, со швейцаром на посту, здесь нет. Я же хотел найти вход, которым собирался воспользоваться Стас и которым вместо него воспользовался кто-то другой. Такой вариант, то есть вариант с проникновением в гостиницу извне, если и рассматривался раньше, то чисто гипотетически, как один из многих возможных вариантов, поскольку само существование соучастников Кузнецова стояло тогда под большим вопросом.
Центральный вход я, поразмыслив, исключил. Эти двери практически не запирались, и, хотя швейцара нетрудно отвлечь — на этом обстоятельстве, кстати, и держалась одна из официальных версий, — не думаю, чтобы Стас строил свой план в расчете на случайность.
Две другие двери, наоборот, были заперты постоянно. С них-то и надо было начинать.
Слежки я не боялся. Не то чтобы полагался на данное в «Страусе» обещание, лучшим прикрытием была погода. К тому же по Приморской, как обычно в эти часы, толпами валили отдыхающие, что обеспечивало полную свободу маневра.
Я пересек дорогу и прошелся вдоль торцевой стены гостиницы. Потом присел у обочины, делая вид, что вожусь с застежками на обуви.
Двустворчатая прозрачная дверь из толстого каленого стекла была врезана в такую же прозрачную стену, сплошь заставленную декоративными пальмами. Просвет между их вечнозелеными кронами позволял видеть внутренность вестибюля.
Слева от меня тянулся ряд игральных автоматов. В центре, опоясывая спуск в валютный бар и ресторан, стояли каменные вазоны с цветами. Справа — перегородка из полированного дерева, за которой находился кабинет директора, бухгалтерия и бюро экскурсий.
Дверной замок был также на виду. Наброшенный с внутренней стороны двери, он представлял собой две стальные пластины, пропущенные через ручки и стянутые по бокам толстыми болтами. Даже допустив, что преступники не боялись быть замеченными людьми, постоянно находившимися в зале, невозможно представить, как им удалось выйти, а потом поставить пластины на место и прикрутить их болтами, — к моменту приезда милиция нашла запор в полном порядке.
Нет, эту дверь тоже придется исключить.
Я поднялся, дошел до угла и остановился у зеленой, в человеческий рост, изгороди. Дождался, когда поток пешеходов немного схлынет, раздвинул ветки и ринулся сквозь колючий кустарник.
Проход позади гостиницы смахивал на узкий, прорубленный в скалах тоннель: по одну сторону вздымались этажи «Лотоса», по другую стоял глухой кирпичный забор. Сверху и впереди ничего, кроме серого месива тумана. Кое-где в окнах горел свет, но внизу, под выступавшим на уровне второго этажа бетонным козырьком, лежала густая тьма.
Держась поближе к стене, я добрался до мусоросборника. Люк был открыт, и если бы я не знал, что встречу его на пути, наверняка бы загремел вниз. Запасной выход находился где-то рядом, метрах в пяти-семи. Я двинулся дальше, для верности касаясь стены кончиками пальцев.
Дверь помещалась в неглубокой нише. На ней, продетый в массивные стальные скобы, висел амбарный замок.
Я взял его в руки. Он был холодным и влажным. На поверхности гусиной кожей выступали заклепки. Я попробовал его на вес, подергал, испытывая на прочность, и понял, что и от этого варианта придется отказаться. Тяжелый, тронутый ржавчиной замок, казалось, висел здесь тысячу лет и намертво сросся с дверью. Открыть его можно было разве что с помощью динамитной шашки.
Выходит, Стас обманул! Свидание, закончившееся, как я полагал, моей полной победой, на самом деле было сплошным надувательством, спектаклем, который он разыграл с единственной целью — меня околпачить! Ну не кувалдой же взламывать эту проклятую дверь?!
Учитывая, что замок не имел никакого, даже самого отдаленного отношения ни к Англии, ни к английской системе запоров, что дверь, на которой он висел, ведет не в холл, а в служебное помещение, что Кузнецов не мог… Стоп! А при чем здесь Кузнецов? Ведь это я должен был помочь ему выбраться наружу!!
«Наконец! — пробурчала половина моего „я“, всегда трезвая и рассудительная. — Поглупел ты, однако. Тут мозгами шевелить надо, а не кувалдой».
«Заткнись», — оборвал я, но сидевший во мне чревовещатель не унимался.
«Интересно, чего ж ты ждал? Ковровой дорожки у входа? Транспаранта „Добро пожаловать!“? Духового оркестра? Тебе надо войти в гостиницу, так за чем же остановка?»
«Но ведь за дверью бухгалтерия, — возразил я. — Зачем им было лезть к черту на рога? Там могли находиться люди».
«Ерунда, — тут же нашелся он. — В десять вечера там никого нет. Рабочий день заканчивается в шесть. И в бухгалтерии, и в бюро, и у директора. Не веришь — проверь. Сейчас восемь, и там нет ни души».
«Ну хорошо, а замок?»
«А что замок? Замки, уважаемый, на то и существуют, чтобы их открывать».
«Так-то оно так, и все же…»
«Надоело! — взорвался он. — Разглагольствуешь о логике преступника, ищешь нестандартные решения, а сам рассуждаешь как младенец! Замок, видите ли, его не устраивает. Поставь себя на место Стаса. Как, по-твоему, остановит его такая мелочь?»
Не скажу, чтобы перепалка с самим собой рассеяла все мои колебания, но другой возможности проникнуть в гостиницу действительно не было, и я не мог так просто от нее отказаться.
Дальнейшие мои действия не отличались последовательностью. Сперва хотел бежать в ближайший хозяйственный магазин, чтобы скупить все образцы замков вместе с ключами, какие там найдутся. После сообразил, что вероятность успеха зависит не от количества ключей, и начал шарить сначала в сумке, потом в карманах. В одном из них обнаружил брелок, который купил днем в «Канцтоварах». Сердце, пронзенное стрелой. Как раз то, что нужно.
Я сунул наконечник стрелы в дверной зазор и нажал, чтоб его загнуть. Раздался сухой щелчок, и брелок сломался. Чертыхнувшись, я отбросил его в сторону и тут же пожалел об этом, присел на корточки и принялся искать.
Сердце вместе со сломанной стрелой как сквозь землю провалилось. Зато у забора, в куче хлама, под руки попался обломок доски с торчавшим из него гвоздем.
Отчаяние порой толкает на крайние поступки; я схватил доску, придавил ее коленом к земле и с остервенением стал расшатывать гвоздь. Ладонь горела, точно ее жгли паяльной лампой. Колено тоже. Но я стиснул зубы и удвоил усилия.
Наконец гвоздь начал поддаваться. Когда он уже почти выскочил из гнезда, я загнул его под прямым углом, вытащил и кинулся к двери.
Едва моя самодельная отмычка погрузилась в замочную скважину, во мне шевельнулось мимолетное, но вполне определенное чувство, что иду по верному следу. Больно велико было несоответствие между внушительными габаритами старого, изъеденного ржавчиной замка и той легкостью, с какой пришел в движение его механизм. Внутри, мягко пощелкивая, прокручивались невидимые детали. После нескольких холостых оборотов гвоздь уперся во что-то твердое.
Небольшое усилие, и замок, клацнув, повис на разомкнутой дужке.
Даже в Якорном, под слепящим светом фар, я не испытывал такого напряжения, как здесь, на задворках гостиницы, перед вскрытой отмычкой дверью. Руки дрожали, пульс наверняка перевалил за сто двадцать. На лбу выступила испарина.
«Так или иначе, дело сделано», — подумал я и огляделся по сторонам. На миг почудилось, что по забору скользнул луч фонарика, но, присмотревшись, увидел, что это, потревоженные порывом ветра, перемещаются в темноте клочья тумана.
Дверь отворилась бесшумно. Вероятно, ее петли были смазаны столь же обильно, как и механизм замка, который, предварительно осмотрев, я сунул в сумку.
Внутри было темно. Словно в бутылке из-под туши.
Я зажег спичку.
Она осветила тесную клетушку, доверху забитую пыльным гостиничным инвентарем. На моей схеме это помещение не значилось. Здесь было свалено имущество, явно предназначенное для сдачи в утиль: обшарпанный холодильник, сломанные пылесосы, карнизы, телевизоры с дырами вместо экранов. По стенам плясали причудливые тени. Духота стояла неимоверная — просто нечем дышать. Похоже, сюда заглядывали нечасто. Если вообще заглядывали.
За первой спичкой в ход пошли еще три, однако ничего, кроме пыли и покрытого паутиной хлама, я внутри не обнаружил. Ни следов на полу, ни окурков, ни парусиновых мешочков.
Само собой, до меня эту кладовую уже осматривали, но, как видно, не придали ей значения — может, ввел в заблуждение вид замка, залежи старой рухляди или массивный крюк, имевшийся с внутренней стороны двери, ведущей отсюда в бухгалтерию? В смысле надежности все это выглядело весьма внушительно, особенно если учесть, что до сих пор следствие не располагало данными о том, что у покойного кассира были помощники, что Кузнецов был не один. Как раз эти-то данные я сейчас и добывал.
Откинув крюк, я вошел в бухгалтерию.
Здесь было не так темно. Перегородка, отделявшая помещение от гостиничного вестибюля, не доставала до потолка, и горевшие по ту сторону люминесцентные лампы отбрасывали сюда неяркий свет. Из-за стены доносился приглушенный вой сирен, треск выстрелов, рев раненых животных — фонограмма, под которую в зале работали игровые автоматы.
Я прошел между двумя парами симметрично расположенных столов и остановился у двери.
С прикнопленного к ней календаря, улыбаясь, смотрел Вахтанг Кикабидзе. На уровне его груди, чуть выше дверной ручки, я увидел то, ради чего затеял свое рискованное предприятие и за что часом раньше чуть было не поплатился жизнью в Якорном переулке…
Телефон зазвонил внезапно и, как мне показалось, очень громко. Ощущение такое, будто через тебя пропустили электрический ток.
Последовала короткая, в доли секунды, пауза. Потом снова раздался бьющий по нервам зуммер.
Случайность? Неправильно набранный номер? Или кто-то подает мне сигнал, предупреждающий об опасности? А может, меня пугали? Пугали, давая понять, что знают, где я нахожусь.
Звонок следовал за звонком. Один требовательней другого.
Я смотрел на аппарат и испытывал те же муки, какие, наверно, испытывал привязанный к мачте Одиссей. Только моя мачта называлась осторожностью.
На пятом сигнале телефон смолк.
Я подошел к столу, осторожно поднял трубку, плотно прижал ее к щеке.
— Бухгалтерия? — спросил женский голос.
— Нет, бухгалтерия уже не работает. Вы куда звоните? — Второй голос, тоже женский, раздался у самого уха, он принадлежал кому-то из работников «Лотоса», с чьим аппаратом был запараллелен телефон бухгалтерии.
— Мне нужна Люба.
— У нас такой нет.
Девушка, спрашивавшая Любу, замешкалась, потом переспросила:
— Это бухгалтерия ресторана «Восход»?
— Нет, вы не туда попали. Перезвоните.
Дождавшись коротких гудков, я повесил трубку.
Люба из ресторана «Восход».
Ошибка? Или все же предупреждение, имевшее целью нагнать на меня страху? Она спросила бухгалтерию. Не исключено, что сейчас где-то поблизости, у телефонной будки, стоит некто и выспрашивает подробности у звонившей сюда девушки. Он остановил ее на улице, дал номер телефона, попросил позвонить, надеясь, что я сдуру схвачу трубку…
Ладно, это будет нетрудно проверить, лишь бы только выбраться отсюда.
Я присел в кресло и попытался собраться с мыслями, сосредоточив все внимание на замке, темным пятном выделявшемся на сером костюме Кикабидзе.
Много лет назад мой первый наставник — тот самый, что в детстве надрал мне уши, — рассказывал об известной с древнейших времен «семичленной формуле» — семи вопросах, ответы на которые дают самое полное представление о любом происшествии: кто, что, когда, где, с чьей помощью, почему и как. «Запомни, — говорил он, — каждый из этих вопросов важен и начинать можно с любого, но истину ты узнаешь, только ответив на все семь». Он был дока в сыскном деле и слышал об этой формуле от своих учителей. Так вот, из семи вопросов, связанных с исчезновением Кузнецова из гостиницы, до сегодняшнего дня без ответов оставались два: с чьей помощью и как. Теперь стал известен ответ еще на один вопрос — как?
На столе у письменного прибора лежала стопка аккуратно нарезанной бумаги для заметок. Я взял ручку и нарисовал на четвертинке листа срез первого этажа. Потом прилегающие к «Лотосу» улицы, забор и кладовую. Пунктиром обозначил свои передвижения, а сплошной линией передвижения кассира и недостающую часть маршрута.
Вроде все верно. В этот раз схема получилась куда обстоятельней.
Можно было сматывать удочки — проторчи я здесь хоть до утра, ничего сверх того, что узнал, все равно не узнаешь.
Но что-то меня удерживало. Очевидно, тот, самый короткий и самый опасный отрезок пути, который начинался за дверью. Хотелось испытать на собственной шкуре, как это происходило в действительности.
Сжигать схему я не стал — не те условия. Сунул ее в карман и пошел к двери. Буба улыбнулся мне поощряюще и немного загадочно.
Я повернул ручку замка против часовой стрелки до упора, поставил ее на предохранитель.
Можно было открывать.
«Все у тебя будет хорошо, — пришла на память строчка из письма. — Все-все». И пусть мама не имела в виду столь рискованную ситуацию, ее слова немного меня ободрили.
Я пригладил волосы, заправил рубашку и, перекинув сумку через плечо, рывком открыл дверь.
В вестибюле я провел в общей сложности минут пятнадцать.
Убедившись, что мой выход из бухгалтерии остался незамеченным, я обошел зал по кругу, рассматривая интересующую меня часть помещения под всеми возможными углами зрения.
Если в плане Стаса и имелись слабые места, то их следовало искать не здесь: администраторская стойка находилась слишком далеко — оттуда опасность не угрожала; со стороны швейцара и подавно — его заслонял выступ стены; расположение автоматов тоже оказалось идеальным: играющие стояли спиной к бару и не могли видеть выходящего оттуда кассира, разве что кто-то специально вел за ним наблюдение. Ко всему прочему лестницу ограждали каменные вазоны с цветами, что также сокращало сектор обзора.
Знакомство с планировкой и ее особенностями заняло от силы пять минут. Остальные десять я провел у аттракционов, изучая обстановку в непосредственной близости от спуска в питейное заведение.
Публики в этом закутке хватало. Я разделил ее на три категории: заядлые игроки, игроки-любители и посетители бара. Первые околачивались тут с утра до вечера и с детской непосредственностью часами торпедировали морские караваны, сбивали самолеты, участвовали в автогонках и танковых атаках. Вторые, сыграв разок-другой, удалялись восвояси. Третьи вообще проходили мимо, транзитом, ибо спешили утолить жажду из находящегося в подвале источника.
Теоретически имелась еще одна категория — я имею в виду тех, кто находился здесь по делу, — но, кажется, ее единственным представителем был я сам.
За все время, что я торчал у входа в бар, на меня обратили внимание лишь однажды. Молодой финн с длинными, до плеч волосами и облупленным носом, как видно, принял меня за соотечественника, приостановился на верхней ступеньке винтовой лестницы и обратился ко мне с короткой фразой, сопроводив ее жестом, который можно было понять как приглашение составить ему компанию. Я отказался, и он, махнув рукой, нетвердой походкой двинулся вниз, откуда доносился гул голосов и всплески музыки.
Пора было двигаться и мне. Все, что нужно, я уже выяснил. Очередной кубик лег в предназначенное ему место, в точности совпав по рисунку с остальными.
Бухгалтерия встретила меня полумраком и относительной тишиной.
Телефон молчал. Вахтанг улыбался.
Спустив замок с предохранителя и подмигнув на прощание Кикабидзе, я вышел.
Снаружи было по-прежнему пусто, ни души.
Отсюда громада «Лотоса» выглядела необитаемой. Где-то наверху в нескольких окнах горел свет, да и тот походил на пятна, лишь по случайности не затушеванные темнотой.
Восемь — время вечернего моциона. Время, когда дома пустеют, а улицы переполнены. Это подтвердилось, едва я свернул за угол.
Тротуар запрудила группа туристов, предводительствуемая девушкой-гидом. У обочины стояли два вместительных автобуса, из которых они вышли.
— Одновременно с курортом развивается и город, — бойко вещала экскурсовод, вооружившись портативным мегафоном. — Возрастающими темпами ведется жилищное строительство, возводятся школы, культурно-бытовые сооружения. Сейчас перед нами гостиница. Это одно из самых первых высотных зданий, построенных в городе-курорте.
Все, как по команде, задрали головы вверх, но девушка-гид живо вернула их на землю:
— Для переработки сельскохозяйственной продукции на территории города-курорта построены молочный и консервный заводы, хлебокомбинат. В городе много магазинов, кафе, ресторанов…
Из толпы послышалась чья-то реплика, что, мол, самое время заглянуть в одно из перечисленных заведений, однако девушка пресекла бунт в зародыше:
— Пройдемте дальше, товарищи. Прошу не растягиваться. Сейчас мы посмотрим вид, открывающийся на залитый огнями порт…
Чтобы не идти против течения, я вклинился в толпу и, приноровившись к общему неторопливому ритму, побрел к перекрестку. У светофора поток разделился: туристы с гидом во главе двинулись осматривать достопримечательности, а неорганизованная часть публики разбрелась на все четыре стороны.
Я скользнул взглядом вдоль Приморской.
Она была забита до отказа. Блестели лаком крыши автомобилей, сияли иллюминацией деревья, с террасы кафе неслась музыка. Праздник продолжался.
Я смотрел на катящиеся по тротуарам потоки и думал о том, какое нелегкое, наверно, это дело — жить тут постоянно. Город-курорт — звучит, конечно, красиво, и про консервный завод все правильно, но есть проблемы, о которых девушка-экскурсовод не расскажет своим любознательным подопечным. Со всей страны съезжаются сюда люди. Веселые и беззаботные, разные и в то же время одинаковые в своем стремлении отдохнуть, набраться новых впечатлений, они заполняют парки и пляжи, рестораны и концертные залы. Расточительные, легкомысленные, они не отказывают себе в развлечениях, не стесняют себя в средствах. Оно и понятно — отпуск бывает раз в году. Закончится срок, и они разъедутся по городам и весям, вернутся к своим повседневным делам и заботам. Но на смену им приедут другие. Колесо снова завертится. Снова будет греметь музыка, будут сновать официанты, снова праздными толпами будут переполнены пляжи и увеселительные заведения. Каково же тем, кто дышит этой атмосферой чуть ли не с рождения, кто окружен ею изо дня в день, из года в год? Хорошо, если понял, что отдых не профессия, а награда за труд. А если нет? Если не понял? Не то ли произошло с Сергеем? Выиграл крупную сумму, появились запросы, которых раньше не было, друзья, взявшиеся удовлетворять эти запросы, «лишние деньги», без которых уже не обойтись и запас которых пополняет безотказный Стас… Его гардероба хватило бы, чтобы одеть целую роту, аппаратурой можно оснастить студию звукозаписи, а аппетиты все растут. Но вот кормушка захлопнулась, пришел момент расплачиваться за свои неизмеримо возросшие потребности. Долгий, казавшийся бесконечным, праздник кончился. Предъявлен счет. И оказалось, что платить надо ценой преступления…
Туман слегка рассеялся.
На крыше гостиницы, отбрасывая сполохи света, зазывно мигал гигантский рекламный куб: «Играем в „Спринт“!», «Играем в „Спринт“!» Синий, красный, желтый. Потом снова синий, снова красный, и так без конца. Я перешел через дорогу и оказался на другой, менее людной стороне бульвара.
Под гирляндой из разноцветных лампочек сидела знакомая бабуся со своими допотопными медицинскими весами. Стараясь не попасться ей на глаза, я пошел было к телефонной будке, но вспомнил, что последнюю двушку израсходовал утром на звонок в библиотеку. Пришлось вернуться.
— Здравствуйте, бабушка.
Она взглянула поверх пластмассовой оправы, в которой сидели круглые, с палец толщиной, стекла.
— А-а, старый знакомый. Пришел, значит? Ну становись, взвешу. Похудел ты за эти-то дни.
— Да нет, спешу я, — в который раз обманул я ее ожидания.
— Может быть, лотерею возьмешь? Тираж скоро. У меня рука легкая.
Я не суеверный, но невольно вспомнил Герася и билеты, не принесшие ему счастья. Даже не верилось, что с тех пор прошло всего два дня.
— Спасибо, бабушка, в следующий раз. Не разменяете мне двухкопеечными? Позвонить надо.
— Все торопишься? — Она поднесла к лицу коробку с мелочью. — Разменяю, чего ж не разменять. — И, отсчитав в ладошку пять монет, протянула их мне. — Держи. Только в первой будке не звони, испорчен там телефон.
— Спасибо.
— Не за что. Беги, сынок, твое дело молодое.
Справочное отозвалось быстро и так же быстро выдало номер ресторана «Восход».
— Скажите, пожалуйста, Люба сегодня работает? — спросил я у поднявшего трубку мужчины.
— Возможно, — последовал ответ.
— Нельзя ли поконкретней?
— А какая, собственно, Люба вас интересует? — спросил мужчина доброжелательно, но не без ехидства.
— Люба из бухгалтерии, — уточнил я.
— Ах, из бухгалтерии! — Чувствовалось, что мой собеседник располагает временем и рад возможности скоротать его с моей помощью. — Знаете, я думаю, что какая-нибудь Люба в какой-нибудь бухгалтерии наверняка работает. И именно сегодня. Не исключено, кстати, что она и завтра будет работать, если, конечно, не заболеет или…
Ну, бездельник! Я понял, что, если не сопротивляться, наша беседа затянется до утра. Посетителей у них нет, что ли?
— Простите, это ресторан «Восход»?
— Совершенно верно.
— У вас в бухгалтерии работает Люба?
— А вам нужна только Люба? Таисия Петровна вас, например, не устроит?
Я еле удержался, чтобы не послать его ко всем чертям.
— Нет, мне нужна именно Люба.
— Жаль, очень жаль. Вынужден вас разочаровать. Насколько мне известно, в нашей бухгалтерии Любы нет. И никогда не было. Возможно, в будущем…
Я нажал на рычаг. Пусть упражняется с кем-нибудь другим. Главное он сообщил: никакой Любы в ресторане «Восход» нет. Как и следовало ожидать, это был лишь предлог, и телефон в «Лотосе» зазвонил неспроста.
Я опустил в прорезь еще одну двушку и набрал знакомую комбинацию цифр.
Трубку снял Симаков.
— Слава богу! — воскликнул он, едва услышав мой голос. — Как ты, Сопрыкин?! Жив, здоров?
По тону можно было догадаться, что ему уже известно о событиях в Якорном.
— В полном порядке, товарищ подполковник.
Он великодушно не заметил оплошности, пропустив «подполковника» мимо ушей.
— Ты где был? Мы потеряли тебя у почтамта.
Ага, стало быть, я ушел не только от чужих, но и от страховавших меня своих. Нужно отдать должное — за все эти дни я ни разу не почувствовал их дружеской опеки и даже забывал порой, что, как у альпиниста, к моему поясу постоянно подстегнут страхующий фал.
Дабы не искушать судьбу вторично, я ответил в полном соответствии с правилами конспирации.
— Халтура тут одна подвернулась, пришлось зайти кое-куда.
— Ты можешь говорить свободно?
— Вполне.
— За тобой никого?
Это он о возможно сопровождающем меня эскорте.
— Вроде нет.
— Где ты сейчас находишься?
— У «Лотоса».
— Жди меня там. Запомни номер. — Он назвал четырехзначную цифру. — Через четверть часа я буду ехать по бульвару в сторону центра. «Москвич» красного цвета, с противотуманными фарами. Увидишь, подними руку, как если бы левака останавливал. Понял?
— Понял.
— Все, до встречи. — И он отключился.
Разговор не на шутку меня встревожил.
Вариантами, заготовленными нами на все случаи жизни, личная встреча с начальником отдела не предусматривалась. Не иначе случилось что-то из ряда вон выходящее, коли Симаков решился на прямой контакт.
«Терпение, — урезонил себя я. — Через пятнадцать минут все выяснится».
А пока надо было куда-то деваться — стоять на одном месте опасно.
Я посмотрел вправо и снова натолкнулся взглядом на старушку.
Что ж, видно, судьба…
— Что, сынок, сорвалось? — посочувствовала она, когда к встал на платформу весов.
— Что сорвалось, бабушка?
— Известно что, свидание. — Она передвинула большую гирьку на одно деление и сокрушенно покачала головой. — Рост-то у тебя какой, орел?
— Метр восемьдесят.
— Вот я и говорю, больно ты худой, кожа да кости. По правилам в тебе семи кило недостает. Что, кормят плохо?
— Кто кормит? — не понял я.
— Ну в санатории или где ты там питаешься?
— Я сам по себе.
— Оно и видно, что сам. — Она вздохнула. — Силу мерить будешь?
— Давайте.
Я сжал в здоровой ладони продолговатый никелированный браслет и посмотрел на стрелку. Она чуть-чуть не дотянула до ограничителя.
— Надо же, — удивилась старуха. — Тощий-тощий, а силенка еще есть. С лотереей что делать-то будем? Возьмешь?
Гулять, так гулять — я выудил из кармана рубль, отдал ей и спросил, проверяя только что пришедшую на ум мысль:
— Скажите, бабушка, вы случайно не знаете, где здесь автостоянка поблизости?
— Случайно знаю. У тебя что, машина есть? — с сомнением поинтересовалась она.
— Не у меня, у друга.
Она достала пачку билетов, отделила от нее с десяток и сложила веером.
— Как завернешь за гостиницу, там автобусная остановка будет. Сядешь в автобус, три остановки проедешь — так и уткнешься в автостоянку.
— Был он там, друг-то. Мест, говорят, нет, все заняты. А ему неподалеку надо. Может, другую какую знаете?
— Нет, милок, другой не знаю.
— А что, если он за гостиницу машину поставит? — Я показал пальцем за спину. — Как думаете, не прогонят?
— Как же он ее поставит, ежели туда мусорник в день по два раза приезжает?
— Какой еще мусорник?
— Какой — обыкновенный. Машина такая специальная. Ящики с мусором возит, не видал, что ли?
— Как же она туда въезжает? Узко там.
— Товарищу твоему, значит, не узко, — поймала она меня на противоречии. — Заедет передом, а потом задний ход дает.
— Понятно…
— Выбирай билеты-то, — напомнила она.
— Не надо, — отмахнулся я. — Оставьте себе, вдруг выиграете. У вас рука легкая.
— Подарок, что ли? — смутилась старушка. — Ну, спасибо. — Она спрятала билеты в сумочку, возраст которой за древностью не поддавался определению. — Дай тебе бог здоровья.
— И поправиться на семь кило, — добавил я, хотя переход в другую весовую категорию на ближайшее время не предвиделся.
Попрощавшись, я направился к кромке тротуара и пошел навстречу движению.
Мои антимагнитные показывали половину девятого.
3
В половине двенадцатого Симаков высадил меня у автозаправочной станции на въезде в город.
— Ну-ну, не вешай нос, лейтенант, — сказал он напоследок. — Ты сделал все, что мог, даже больше. Готовь, Сопрыкин, рамку. Благодарность тебе объявим по управлению.
Это было слабое утешение, и, глядя на удалявшиеся в сторону города габаритные огоньки симаковского «Москвича», я старался умерить чувство досады, которое оставил во мне наш разговор.
Как ни лестно слышать похвалу из уст высокого начальства, какие бы железные доводы ни приводило оно в обоснование принятого решения, факт остается фактом — с нынешнего дня меня отстраняли от дальнейшего выполнения задания. Приговор был окончательным и обжалованию не подлежал.
Я опустился на лавку, вкопанную у щита с расписанием движения, и в ожидании рейсового автобуса стал перебирать подробности нашего трехчасового свидания, хотя в моем положении это уже не имело никакого значения. С тем же успехом я мог считать проносящиеся мимо автомобили или деревья, стоящие по ту сторону шоссе, — результат был бы тот же самый. Но, видно, слишком велика была сила инерции, слишком глубоко завяз я в этой истории, чтобы вот так, разом, выйти из игры. Думать не мог мне запретить даже Симаков.
Поначалу все шло гладко.
Он подъехал минута в минуту, ровно четверть часа спустя после моего звонка. Я издали увидел красный «Москвич», увешанный противотуманными фарами, и, как договорились, поднял руку.
Мы покружили по улицам, потом Симаков вывел машину на шоссе и погнал ее по направлению к аэропорту. Скорость была приличная, и я помалкивал, тем более, что он тоже молчал, сосредоточив все внимание на дороге.
На одном из поворотов мы притормозили и свернули к железнодорожному переезду. «Москвич» подбросило на ухабах, качнуло из стороны в сторону, и под колесами зашуршала галька.
В полной темноте мы проехали еще с полсотни метров. Остановились. Симаков заглушил двигатель.
Секунду-другую в ушах еще стоял дорожный гул, потом наступила тишина. Стало слышно, как за приспущенными стеклами трещат цикады и где-то совсем рядом плещется море.
— Пляж? — спросил я.
— Он самый. Искупаться хочешь? — неожиданно спросил он.
— У меня полотенца нет, товарищ подполковник.
— Ты, случаем, не забыл, как меня зовут?
— Не забыл.
— Давай-ка, брат, по имени-отчеству, так оно проще будет, время-то не служебное. А насчет полотенца не беда, у меня запасное есть.
Я понимал, что встреча назначена не ради увеселительной прогулки к морю, но Симаков, похоже, и думать забыл о деле.
— Люблю, знаешь, окунуться в конце дня, — продолжал он. — Мозги прочищает, и усталость как рукой снимает. Ну что, искупаемся?
— Искупаемся.
Мы вылезли из машины.
Моря видно не было. Спокойное, почти беззвучное, оно тонуло в темноте, напоминая о себе лишь тихим однообразным шелестом. Пахло йодом и немного железной дорогой, которая проходила выше по склону.
Я увидел, как упала на гальку белая рубашка Симакова, и тоже разделся. Камни были теплые, не остывшие после дневного пекла.
— Только, чур, не увлекаться. Пять минут, и на берег, — предупредил он и с разбега бросился в воду.
Я последовал за ним.
В первый момент мгновенной острой болью обожгло ссадину на ладони, но тут же боль прошла, и я саженками поплыл от берега. Сбоку и чуть позади, отфыркиваясь, вынырнул Симаков.
— Горазд ты плавать, — послышался в темноте его голос. — Где выучился?
— Я же на реке вырос, Игорь Петрович.
— Ну и как морская водичка?
— Нормально.
Он шумно втянул в себя воздух и снова исчез под водой.
Я лег на спину и закрыл глаза.
Что-то беспредельное, нежное и всесильное окружило меня. Ничего похожего на это состояние я никогда не испытывал, его просто не с чем было сравнить. Меня точно унесло на тысячелетия назад, отбросило к нижним ступеням эволюции, превратив в зыбкий комок плоти, обособленный и вместе с тем неотторжимый от чего-то целого — от стихии, из которой вышел и в которую рано или поздно возвратишься. Море мягко покачивало меня на своей обманчиво-надежной поверхности, обволакивая, пронизывая идущим снизу теплом…
Я потерял счет времени и, когда вдалеке послышался всплеск и человеческий голос, не смог бы сказать, прошла ли минута или тысяча лет…
Вскоре мы сидели в машине. На капоте сохли наши мокрые полотенца.
Симаков включил вмонтированную под приборный щиток лампочку.
— А теперь давай перекусим. — Он вытащил завернутый в газету пакет и положил его посреди сиденья. — Только без стеснения, пожалуйста. Разворачивай, я соль поищу.
Я повиновался. В пакете оказалось несколько бутербродов с сервелатом, здоровенный кусок пирога, помидоры, огурцы и пара яблок величиной с автомобильную фару.
— Жена утром положила, — пояснил он, — не нести же обратно. После моря аппетит волчий…
Аппетит действительно был отменный. Мы по-братски разделили еду и умяли ее в считанные минуты. Потом он открутил крышку термоса и разлил в раздвижные стаканчики чай.
— Ты как, с сахаром пьешь?
— С сахаром.
— Напрасно. От сахара весь вкус пропадает, один цвет остается. — Симаков подул в стаканчик, отхлебнул и зажмурился от удовольствия.
В штатском, с непросохшими взъерошенными волосами, он выглядел моложе своих пятидесяти, но лицо, как и прежде, удивило меня своей бледностью. Собственно, чему удивляться: при его распорядке солнечный удар не схватишь — днем занят, а ночью не позагораешь, разве что под кварцевой лампой.
— Тебе долить? — спросил он.
— Спасибо, не откажусь.
Морская ванна и общая трапеза слегка сбили нетерпение, с которым я ждал начала разговора, но вот этот момент наступил. Симаков достал свой «Беломорканал», по привычке потарахтел спичками и закурил, пустив по кабине синеватый табачный дым.
— Ну выкладывай, Сопрыкин. Что нового? — Он повернулся вполоборота и приготовился слушать.
— Новостей хватает, Игорь Петрович, не знаю, с какой начинать… — И, подобно Шехерезаде, я начал с того, чем закончил в прошлый раз, — с анонимных писем, которые подарила мне Нина.
Затем описал утреннее столкновение с сомбрероносцем, посещение парикмахерской и участие в субботнике.
— Это еще зачем? — нахмурился он.
Чтобы не пускаться в длинные объяснения, я слегка подретушировал действительность:
— Гулял по набережной, случайно столкнулся с Ниной, ну и…
Поверил он или нет, не знаю, но последовал кивок, означавший, что я могу продолжать.
Посещение магазина и обнаруженная в почтовом ящике записка вызвали у него интерес. Когда с уточняющими вопросами было покончено, Симаков спросил:
— Записка у тебя с собой?
— С собой. — Я передал ему послание Стаса. — Там должны быть отпечатки мои и Нины.
— Ясно. — Взявшись за уголки, он развернул бумагу и поднес ее к лампочке. Прочитав, так же аккуратно сложил и спрятал в целлофановый кулек. — Дальше?
О моих приготовлениях к свиданию в «Страусе» слушал молча, не перебивая, но стоило перейти к самому свиданию, остановил:
— Погоди, Володя. Давно хочу спросить: что за отношения у тебя с этой девушкой?
— Нормальные отношения.
— Нормальные? — Ответ явно не удовлетворил Симакова, и он ждал продолжения.
Надо было что-то говорить, но слов, как назло, не было, и с отчаяния я ляпнул первое, что пришло на ум:
— Между прочим, ваша газета, Игорь Петрович, за сегодняшнее число.
— Какая газета?
Я понимал, что сморозил глупость, однако отступать было поздно.
— В которую продукты завернуты.
— При чем тут газета? — удивился он.
— При том, что не могла ваша супруга утром завернуть в нее бутерброды. «Вечерка» выходит во второй половине дня, после пяти.
Самое поразительное, что Симаков тоже порозовел.
— У вас кто криминалистику читал? — спросил он.
— Крутилин, — ответил я.
— Иван Сергеевич?
— Да, а что?
Он тщательно затушил окурок и только после этого сказал:
— Насчет газеты ты прав. Продукты я у ребят конфисковал, когда к тебе собирался, думал, голодный ты. Но к нашему разговору это никакого отношения не имеет. Так что, Сопрыкин, зря ты мне зубы заговариваешь. Я тебя о чем спрашиваю?
По опыту наших телефонных собеседований я догадался, что сейчас последует вспышка, и тушить ее мне было нечем.
— Это что ж получается?! — начал Симаков на нижних регистрах. — Нина отдала тебе письма. Нина рассказала тебе о муже. Нину ты случайно встретил на набережной. Она же согласилась позвонить в бар спустя полчаса после того, как ты туда заявишься. — Оборвав на высокой ноте перечень обличающих меня улик, он закончил в прежней тональности: — Ты вообще улавливаешь разницу между личными делами и служебными?
Удар был, что называется, не в бровь, а в глаз. Вопрос, казавшийся мне сложным и запутанным, вмиг представился простым и самоочевидным: конечно же, ни при каких обстоятельствах я не имел права вовлекать Нину в свои дела, не говоря уже о том, чтобы держать это втайне от своих.
— Ты понимаешь, что ставил под удар не только себя, ее, но и все дело в целом?
Я кивнул, вперившись в резиновый коврик под ногами.
— Ты что, сказал ей, кто ты?
— Нет, товарищ подполковник, этого не было…
— И на том спасибо, — буркнул он. Опять повторился ритуал с коробком. Симаков закурил и выбросил спичку в окошко. — Она знала, зачем ты идешь в бар?
— Нет, — выдавил я.
— Послал бог помощничков… — Он проворчал еще что-то, чего я, к счастью, не расслышал. — Ну, давай повествуй, герой, не по слову же из тебя вытягивать.
Делать нечего, я отступил на три дня назад и при полном безмолвии Симакова вспомнил все: и сидящую на приступках девушку, и книгу, и свою болезнь, вспомнил вчерашнюю грозу, ночной разговор в беседке и записку, прочитанную на чистом тетрадном листке. Завершив круг, вернулся к отправной точке, то есть к половине пятого, когда, уложив в сумку магнитофон и кассеты, я отправился в «Страус».
— Стало быть, так, — после продолжительной паузы произнес Симаков. — Если я правильно тебя понял, ты ей доверяешь?
Самое трудное осталось позади. Признание далось нелегко, зато теперь мне нечего было скрывать.
— Доверяю, Игорь Петрович.
Он вздохнул.
— В общем, распекать я тебя не буду. По многим причинам. Во-первых, и свою вину здесь вижу: не предостерег, не учел, что опыта у тебя маловато. Да и смысла теперь нет — сделанного не воротишь. — Он покрутил в руках погасшую папироску и ткнул ее в пепельницу. — Что касается Нины, тебе повезло. Выводы делать рановато, но, кажется, она в этом деле не замешана. Если, конечно, не считать, что ты ее в помощницы к себе определил… Улыбку свою оставь. Повторяю: поведения твоего не одобряю. В силу личных обстоятельств ты давал неполную, а следовательно, искаженную информацию. Не будь это первое твое задание, мы бы иначе разговаривали. В другой раз…
— Другого раза не будет, Игорь Петрович. Обещаю.
Он посмотрел на меня долгим испытывающим взглядом, будто решая сложное уравнение, где иксом был я, игреком Нина, а за знаком равенства — чистое место, которое ему предстояло заполнить.
— Боюсь, Володя, не все так просто, как ты думаешь, — глухо сказал он, и я ясно почувствовал, что ему известно что-то, в чем он пока не уверен и что имеет ко мне самое прямое отношение. Поколебавшись, он решил, что напрасно затронул эту тему: — Подождем до завтра. Мне и самому еще не все ясно. — И подвел черту под этой частью разговора: — Продолжим, время не ждет. Что там у тебя с записью получилось?
Лучше б он меня выругал. Нина к делу не причастна — он сам только что сказал это. Что же тут неясного? И почему надо ждать до завтра?
Я извлек из сумки магнитофон, вставил кассету и перемотал пленку.
Прослушивание заняло полчаса — ровно столько, сколько длилась запись в «Страусе». Все это время Симаков сидел не шелохнувшись, склонив голову набок и впитывая в себя каждое произнесенное слово.
Когда сработал автостоп и магнитофон остановился, он пробормотал что-то вроде «недурно, очень недурно» и изъявил желание прослушать концовку еще раз.
Я на глазок прокрутил запись назад и снова нажал на клавишу.
«…А за идеи, дорогой Вальдемар, положено платить», — раздался в кабине голос Стаса.
В том месте, где он упомянул об английском замке, Симаков попросил остановить пленку.
— Любопытно, — сказал он, задумчиво поглаживая подбородок. — Стас не сомневается, что ты помогал Кузнецову. По-моему, он не стал бы тебе врать насчет замка, как считаешь?
— По-моему, тоже.
Приятно было сознавать, что Симаков делает первые шаги на пути, который я успел пройти от начала до конца. Это щекотало самолюбие.
— Разрешите вопрос, Игорь Петрович?
— Да, — автоматически отозвался Симаков. Он все еще плутал в дебрях гостиницы, отыскивая среди сотен замков тот единственный, который двумя часами раньше я нашел подвешенным к груди Кикабидзе.
— Стас где-нибудь работает?
— Работает.
— А где?
— В порту, на буксире. Сейчас оформляет документы в загранплаванье.
— В загранплаванье?!
— А ты думал, для чего он валюту копит? — Симаков поднял из-под ног кулек и присоединил кассету к записке, положенной туда раньше. — Не отвлекайся, Володя, пойдем дальше. Итак, ты воспользовался заминкой и заменил кассету. Затем вернулся Стас. Он догадался, с какой целью звонила Нина?
— Нет, ему не до того было… — И я передал спор, который предшествовал заключению сделки.
— Когда, говоришь, Стас предъявил Кузнецову свой ультиматум?
— Не знаю, Игорь Петрович, но думаю, что это было скорее всего в сентябре.
— Из чего ты это заключил?
— Стас назвал только число, пятнадцатое, а месяц упустил. Обычно так говорят, когда срок не выходит за пределы одного месяца.
— Возможно, — согласился он. — Получается, у Кузнецова было время: неделя или даже больше. Мог продать что-нибудь из вещей или взять в долг.
— Зачем ему брать в долг, — возразил я. — Просто Стас ускорил события. Кузнецов давно задумал воспользоваться его идеей, да не решался, а после предупреждения нашел себе другого напарника и сам хапнул деньги.
Симаков реагировал неожиданно бурно:
— Что же он раньше не хапнул?! Чего ждал? Возможностей у него, по-твоему, не было? Он же не один год работал в «Лотосе», если б захотел, без всяких напарников выручку бы похитил. Что молчишь?
— Мне это как-то в голову не приходило, — признался я.
— Зря не приходило. Кузнецов считался хорошим работником. Это что-нибудь да значит. Стас вон и тот не отказывает ему в честности, допускает, что он не соглашался участвовать в преступлении из принципиальных соображений.
— Но как же так, Игорь Петрович, ведь Кузнецов ушел из «Лотоса» с выручкой!
— Вот и я думаю, как? — Его лоб собрался в мелкие продольные складки. — Из гостиницы он, конечно, ушел, это верно… Ладно, Сопрыкин, давай дальше.
В предельно сжатой форме я рассказал о том, чем закончились наши переговоры со Стасом, о машине Витька и об эпизоде в Якорном. При этом умышленно избегал каких-либо комментариев. Хотелось, чтобы картина была предельно объективной.
— Сними, пожалуйста, полотенца, — попросил Симаков. — Они уже высохли.
Я вышел из машины. С моря тянул ветерок. Поднялась небольшая волна. В темноте, у самого берега, узкой белой полоской вскипала пена.
Сняв с капота полотенца, я вернулся в машину.
— Итак, что мы имеем? — Загибая пальцы, Симаков пункт за пунктом перечислял основные моменты из моего доклада: — Записка Стаса — встреча в «Страусе» — валюта — английский замок — вмятина на машине бармена — попытка наезда в Якорном переулке. Я ничего не пропустил?
Пришла пора предъявить свой главный трофей.
Я достал из кармана схему.
— Кроме вот этого, Игорь Петрович.
Получилось несколько театрально. Он посмотрел сперва на меня, потом на листок, взял его, поднес к свету и тут же удивленно вскинул на меня глаза, как бы спрашивая, что это я ему подсунул. Потом наклонился и с минуту молча разглядывал мои каракули.
Когда он выпрямился, я впервые увидел, как улыбается мой начальник.
— Ох и пижон же ты, Сопрыкин, ох пижон! — Наверно, это была высшая мера похвалы. Во всяком случае, так мне показалось. — Что ж ты молчал?!
Он снова склонился над чертежом, словно тот был произведением искусства, от которого невозможно оторваться.
— Ну, брат, удивил! Удивил! Ты даже не представляешь, до чего это важно! Замок-то как открыл?!
— Гвоздем.
За первым последовал еще добрый десяток вопросов, после чего я не отказал себе в удовольствии сделать общий вывод:
— Их было двое, теперь это установлено точно. Элементарный расчет показывает, что Кузнецову кто-то помогал. Ему попросту не хватило бы времени, чтобы проделать все это самостоятельно.
— Ну-ка, что за расчет? — поинтересовался Симаков.
Я воспроизвел выкладки, которыми занимался, сидя за письменным столом в бухгалтерии.
— Если бы он решил провернуть дело самостоятельно, то должен был заранее подготовить себе пути к отходу, и не позже, чем в шесть тридцать, потому что без пятнадцати семь он был уже на работе и никуда не отлучался.
— Продолжай.
— Если бы Кузнецов был один, то в шесть тридцать он должен был снять один замок, поставить на предохранитель другой и оставить двери незапертыми. А это исключено: в шесть заканчивается рабочий день, кто-то мог задержаться в бухгалтерии или, скажем, вернуться за забытой впопыхах вещью. Я уж не говорю, что в таком случае обе двери оставались бы не запертыми до десяти вечера, то есть на протяжении почти четырех часов. Это чистое безумие! Нет, все было иначе. Операция уложилась в считанные минуты. Дверь открыли скорее всего после девяти. И сделал это второй — соучастник.
Симаков спрятал схему в кулек и, как всегда в подобных случаях, помянул легендарное дело с карманником:
— Да, брат, это тебе не кража с пляжа. Обратил внимание: преступник сделал все, чтобы создать видимость, будто Кузнецов действовал в одиночку. Как полагаешь, зачем?
— Путал след?
— Правильно, но неточно.
— Ну, чтобы отвести от себя подозрения?
— Причина не только в этом. Тот — второй, знал, был уверен, что поиски кассира нам ничего не дадут.
— Вы хотите сказать… — Я удивился, как не додумался до этого сам. — Вы хотите сказать, что он уже тогда, пятнадцатого, решил избавиться от Кузнецова?
— Конечно. Этим и устраивал его план Стаса. Твой дружок из «Страуса» тоже надеялся, что после случившегося все подозрения падут на Сергея, потому и хотел, чтобы тот скрылся, уехал из города, прихватив в виде компенсации половину выручки. То же самое делает и реальный преступник. Он приводит план в исполнение а пытается выдать Кузнецова за грабителя-одиночку. Ему это выгодно — стоит убрать кассира, и все нити разом обрываются.
— Но это глупо. Неужто он всерьез рассчитывает, что мы остановимся на одной версии?
— Не так уж это глупо, — не согласился Симаков. — До сегодняшнего дня у нас действительно не было сколько-нибудь серьезных оснований предполагать, что в гостинице орудовали двое. Да что серьезных — никаких не было. Ты забыл, с чего мы начинали? Кузнецов взял выручку и исчез — вот все, что я мог тебе сказать на прошлой неделе. И потом: никогда не берись судить за других, исходя из своего собственного опыта. Ошибешься. Двух одинаковых людей в природе не существует, и каждый рассуждает в меру своих, а не твоих способностей. Я думал, вас этому учили. — Отпустив шпильку, он не ограничился ею и еще раз прошелся в мой адрес: — Ну а предполагать мы можем все, что угодно, никому от этого не холодно и не жарко. Ведь двое в гостинице — это пока тоже всего лишь предположение, а нужны доказательства. Не хочу тебя огорчать, но, видно, преступник понимает это лучше, чем ты. — Усмехнувшись, он добавил: — Это тебе за газету.
— Пусть так, — согласился я. — А Стас? Он же многое знает, ведет чуть ли не собственное расследование. Почему же преступник убирает Герася и совсем не боится Стаса? Это же он, а не Герась автор плана.
— Разве не ясно? — Симаков зябко передернул плечами. — Стас понял, что в «Лотосе» была использована его идея. Это и есть самая верная гарантия, что он будет держать язык за зубами. Согласись, это не тот случай, когда настаивают на авторских правах.
Ветерок с моря усилился, и в машине стало прохладно. Мы наполовину приподняли стекла.
— И все-таки не понимаю, зачем было нападать на меня, к чему этот спектакль в Якорном?
— А ты подумай и поймешь. Ты, Сапрыкин, такую бурную деятельность развернул, что у него просто не оставалось другого выхода.
— Опять, значит, я виноват?
— Это как посмотреть. Поработал ты на совесть. — Симаков кивнул на целлофановый кулек. — Только не зазнавайся… Ну а Якорный — что ж, это закономерно. С момента прихода на Приморскую ты действовал почти в открытую, на виду, и таким образом заставил противника себя обнаружить. Возможно, он догадывается, кто ты, а может, принимает за настоящего знакомого Кузнецова, этакого авантюриста, который прослышал об ограблении и тоже присоединился к поискам пропавших сокровищ. И в том и в другом случае его беспокоят твои встречи с людьми из «Страуса», тем более что с каждым днем ведешь ты себя все активней…
Симаков, снимая усталость, протер лицо ладонями и замолчал. Последние десять минут меня не покидало ощущение, что его мысли заняты еще чем-то, помимо нашего разговора.
— На чем я остановился? — немного погодя спросил он рассеянно.
— Вы сказали, что преступника тревожат мои контакты с людьми из «Страуса».
— Не тревожат — пугают. Особенно с Герасимовым. Встречу на толчке еще можно принять за случайность, но он приходит к тебе на Приморскую, ведет тебя в бар, оттуда на «тропу», к Стасу, а вечером вы снова встречаетесь в баре. Герасимов погибает под колесами автомашины. Однако тебя это не останавливает. Сегодня ты опять идешь в бар и проводишь там около двух часов. И как результат этого посещения — машина в Якорном… Короче, будь я агентом Госстраха, не видать бы тебе, Сопрыкин, страхового полиса. У этого молодчика железная хватка, и момент он выбрал, надо признать, удобный.
— Обидно. Если бы не туман, возможно, мы б уже знали имя убийцы.
— Разве дело только в этом? — откликнулся Симаков.
— А в чем же еще? — удивился я.
Он не ответил, отыскал на сиденье свои часы и надел их на руку.
— И все-таки жаль, что я не смог разглядеть машину, ее номер, хотя бы цвет.
Симаков неопределенно хмыкнул и обронил негромко:
— Мы это знаем.
Мне показалось, что я ослышался, хотя привыкший к ночным шорохам слух уже не воспринимал ни шума моря, ни трескотни кузнечиков и цикад.
— Что знаете?
— Марку машины, цвет, — сказал он с прежним бесстрастным выражением. — Мы засекли его, когда он сворачивал из переулка на бульвар, сразу после того, как пытался тебя сбить. Нашим ребятам, которые работают по этому делу, удалось сфотографировать машину.
Вот оно что?!
Теперь понятно, чем было вызвано наше свидание! Выходит, пока я шастал по задворкам гостиницы и упражнялся в картографии, операция благополучно завершена?! Да, но к чему в таком случае весь предыдущий разговор? К чему конспиративный характер нашего свидания? Зачем было расспрашивать, делать вид, что это важно и нужно, если вот уже несколько часов, как известно имя убийцы?!
— Мы предположительно знаем, кто сидел за рулем, — продолжал Симаков ровным, я бы сказал, чересчур ровным тоном. — Но это мало что меняет. Важно другое. Противник решился на крайние меры. Остановить его может только твоя бездеятельность, твоя полная пассивность. А потому, Володя, с завтрашнего дня, а точней, с этой самой минуты ты освобождаешься от дальнейшего выполнения задания.
Если он поставил себе целью окончательно сбить меня с толку, то добился своего — мысли замелькали, как стекляшки в калейдоскопе. Значит, преступник не арестован? Ускользнул? Или Симаков хочет проследить его связи? Если так, то чем вызвана моя отставка? Соображениями безопасности? Но я же сейчас в самом выгодном положении, это ведь надо использовать…
— Но, товарищ подполковник, какая необходимость… — заикнулся было я, но он не дал мне договорить.
— Ты свою миссию выполнил, и выполнил успешно. Теперь очередь за нами.
— Я не о том, я хотел сказать…
— Знаю, что ты хотел сказать. — В его голосе прорезались резкие нотки. — Повторяю: с сегодняшнего дня ты выходишь из игры. Все — точка.
Боясь вызвать новые упреки, я взял себя в руки. И без того ясно, что так разговор кончиться не может. Однако Симаков не спешил. Можно подумать: у него вообще пропало желание говорить.
Он включил зажигание, развернул машину и уверенно погнал ее через кустарник по одному ему ведомой дороге.
До самого шоссе мы ехали молча, и лишь когда вышли на трассу и с умеренной скоростью покатили к городу, он заговорил подчеркнуто сухо, показывая тем самым, что время беседы по душам и на равных истекло:
— Приказы, лейтенант, не обсуждаются. Они выполняются. Это азбучная истина, и надеюсь, мне не придется ее повторять…
Вступление не сулило ничего хорошего, и продолжение было выдержано в том же духе. Он припомнил мне и Нину, и вчерашний невыход на связь, и мою чрезмерную склонность к самостоятельности. Перебрав все большие и малые грехи, окончил:
— В розыске многое строится на индивидуальной работе, но труд у нас коллективный. Он требует дисциплины. Чем раньше ты это усвоишь, тем лучше.
Мы проехали мимо придорожного кафе. Под легкой пластиковой крышей, на ярко освещенном пятачке, танцевало несколько пар. Они пронеслись как мираж, как плоское изображение на экране кинотеатра, в котором только что выключили свет. За поворотом нас снова обступила тьма.
— А теперь слушай и запоминай, Сопрыкин. Сегодня с твоей помощью мы вышли на след преступника. Но, к сожалению, этого недостаточно. Остался невыясненным ряд важных вопросов. Нам нужно время: может, несколько часов, может, сутки — думаю, что не больше. Обстановка такова, что в течение завтрашнего дня ты должен оставаться на Приморской, но при этом категорически запрещаю тебе проявлять какую бы то ни было активность. Если б это зависело от меня, я бы вообще отозвал тебя оттуда, но преступника это может насторожить, да и наши планы окажутся под угрозой срыва. Оставайся, но никаких контактов по твоей инициативе, никаких идей, никаких самовольных действий. Ты понял?
— Понял.
Мой ответ будто снял ограничения в скорости: Симаков сменил передачу, и мы легко обогнали «Запорожец» с горой туристского снаряжения на крыше. Та же участь постигла маленькую «Ладу», а за ней огромный рефрижератор, обвешанный сзади фонарями, как елка новогодними игрушками.
Влажность была чудовищная, еще больше, чем днем. На стекло оседала мелкая, взвешенная в воздухе водяная пыль. Симаков включил «дворники», и они заходили из стороны в сторону, стирая влажную пленку, а вместе с ней и останки разбившихся о стекло насекомых.
— Что приуныл? Гадаешь, кто сидел в машине? — спросил он и сам же ответил: — Я и сам этого не знаю. Нет у нас стопроцентной уверенности. След есть, а уверенности нет. Пока нет.
Я так и не понял, хитрит он или говорит правду, и, точно прочитав мои мысли, Симаков добавил:
— Если бы я даже знал, кто крутил баранку этой машины, вряд ли тебе сейчас сказал, так что не забивай себе голову.
— Но почему? — не выдержал я.
— Видишь ли, иногда человека выдает случайно брошенный взгляд, одно неосторожное слово, а после сегодняшнего инцидента преступник будет особенно внимателен. Он может искать встречи с тобой. Нам нельзя рисковать.
Мне нечего было противопоставить его логике, и все же я возразил:
— Ну а если я сам узнаю его имя, что тогда?
— Вряд ли у тебя это получится, — спокойно парировал он.
Пожалуй, это был самый сокрушительный удар по моему самолюбию.
— Ты не обижайся, просто у тебя слишком мало исходных данных. — Последние слова он произнес не так официально, как прежде, но мне это было уже безразлично. — Учти, от того, насколько естественно ты будешь держаться, зависит многое, если не все. Будь валютчиком, спекулянтом, обменщиком квартиры — кем угодно, но о деле постарайся забыть. Выброси его из головы. Завтра у тебя выходной. Ты абсолютно свободен. Отдыхай, купайся, загорай…
Совсем не к месту на ум пришли строчки из маминого письма, где она рекомендовала мне делать то же самое. Сговорились они, что ли?
— Постараюсь, — сказал я не слишком бодро для человека, которому перепал внеочередной выходной день.
Один за другим мы сделали два крутых поворота, успев дважды сменить направление почти на сто восемьдесят градусов, и вновь вышли на прямую.
Симаков молчал, давая мне возможность освоиться в новом для себя качестве. А может, ждал, чтобы я выложил ему все, что скопилось на душе за последние полчаса. Если ждал, то напрасно. Я ушел в себя, как черепаха под панцирь, и не испытывал ни малейшего желания высовываться наружу.
Кто спорит, он мой начальник, к нему стекается вся информация, ему видней. В интересах дела он может менять ход операции, может держать в тайне имя преступника, может вовсе вывести меня из игры — это его законное право. Обижаться тут не на что — какие могут быть обиды? — но ведь и меня можно понять. Досадно сознавать, что после стольких усилий тебя берут за ухо и, точно нашкодившего первоклашку, отводят в сторонку, чтобы не путался под ногами у взрослых…
В стороне от дороги показались огни автозаправочной станции.
— Здесь я тебя высажу, — сказал Симаков, съезжая на обочину. — Доберешься городским транспортом. — И по установившейся традиции спросил: — Вопросы имеются?
— Имеются.
— Слушаю.
— А связь, Игорь Петрович? — схитрил я. — Как будем поддерживать связь?
Но он лишил меня и этой, последней, надежды.
— Никак и ни под каким видом. Ты что, не понял? Мы же условились — ты абсолютно свободен. — Он протянул руку. — Ни пуха тебе, Сопрыкин. И пожалуйста, никакой самодеятельности. До завтра.
— До завтра, — ответил я замогильным голосом.
— Ну-ну, не вешай нос, лейтенант. Ты сделал все, что мог, даже больше. — И уже когда я открывал дверцу, добавил: — Готовь, Сопрыкин, рамку. Благодарность тебе объявим по управлению.
4
К остановке, мягко покачиваясь на рессорах, подкатил темно-желтый «Икарус».
Я вскочил на подножку, бросил в кассу пятак и сел на свободное место. Автобус тронулся.
Езды до центра было минут двадцать — двадцать пять, и от нечего делать я уставился в окно, откуда на меня смотрело собственное отражение — хмурое лицо с пасмурно сведенными бровями. Прав Симаков — надо учиться держать себя в узде, по такой физиономии можно читать, как по открытой книге.
Я попробовал улыбнуться, но лучше б я этого не делал — выражение стало еще свирепей.
«Что приуныл? — подал голос мой неизменный оппонент и собеседник. — Радоваться надо, дурачок. Сам слышал, благодарность объявят, поработал на совесть, чего еще человеку надо?! Или у тебя нет личных проблем? Взять ту же Нину…»
«Замолкни», — попросил я, и он обиженно затих, оставив меня в полном одиночестве.
Вскоре сплошной массив зелени за окном сменился чередой санаториев и домов отдыха.
Мое отражение в стекле перечеркнули цепочки огней. Многоэтажные, похожие на пчелиные соты корпуса подступали к самой дороге, поднимались из ущелий, гроздьями огней мерцали на фоне Большого Кавказского хребта.
Я смотрел в окно и силился внушить себе, что с делом покончено раз и навсегда. С этой минуты я предоставлен сам себе, волен делать все, что пожелаю, — ходить в кино, принимать морские и солнечные ванны, нагуливать недостающие семь килограммов — полная свобода! Абсолютная, как выразился мой начальник. Единственное, что мне запрещалось, — вмешиваться в события. Но разве я виноват, что именно этого мне хотелось больше всего?
Впрочем, запреты запретами, а события развивались по своим, непредсказуемым, законам, и никакие, даже самые веские, аргументы не могли в них что-либо изменить.
Стоило мне сойти на ближайшей к «Лотосу» остановке и пересечь бульвар, как на самом углу Приморской я увидел такси, номерной знак которого показался мне смутно знакомым.
Я взял чуть левее, подошел к машине со стороны багажника и заглянул внутрь через заднее стекло.
Впереди, припав головой к рулевому колесу, сидел Шахмамедов. Я узнал его по густой шапке вьющихся волос, широкому не по росту размаху плеч и куртке с рекламой «Мальборо» на спине — в ней он был в среду у кинотеатра «Стерео», в ней я видел его вчера у гостиницы.
В первый момент я подумал, что Тофика сморил сон, и, лишь присмотревшись, догадался, что застал его за любимым занятием. Он высматривал кого-то, хотя выбрал для этого не самую удачную позицию.
Изнутри на лобовое стекло падал отблеск зеленого фонарика. Формально Тофик был свободен. Почти как я. Только привязан к месту.
Признаться, я с трудом подавил желание составить ему компанию. А что: открыть дверцу, сесть в машину и предложить совместную прогулку по городу-курорту. Заодно поинтересоваться, что это он здесь вынюхивает. Как-никак он на работе и не имеет права отказывать пассажиру!
Пожалуй, я бы так и сделал. Если б не инструкция. Отдыхать, купаться, загорать — вот весь мой репертуар на сегодня и на ближайшие сутки. Душеспасительные беседы с таксистами в него не входили.
Делать нечего: бросив последний взгляд внутрь кабины, я обошел машину справа и медленно поплелся вдоль улицы, втайне надеясь, что, заметив меня, Тофик проявит свою знаменитую активность.
Увы, этого не произошло. Наверно, он тоже действовал по инструкции. А может, сказалось врожденное любопытство: на подступах к дому меня поджидал еще один «почитатель». У «Канцтоваров», шлифуя асфальт блестящими штиблетами, прогуливался Витек.
Моя популярность росла не по дням, а по часам. Конечно, никто не сомневался, что после переговоров в баре меня будут опекать с особым усердием, и все же появление на Приморской сразу двух визитеров настораживало.
Памятуя о данных указаниях, я добросовестно прикинул, есть ли возможность разминуться с Витьком, и вынужден был признать, что такой возможности нет. Независимо от того, находились эти двое здесь вместе или порознь, я был зажат в клещи. Все пути к отступлению были перекрыты.
Пока я раздумывал, бармен заметил меня и, махнув рукой, двинулся навстречу. Мне ничего не оставалось, как остановиться и ждать.
«Что ни говори, а костюмы у него высший класс, — отметил я про себя, глядя на приближавшуюся поджарую фигуру в плотно облегающем шелковом пиджаке и с неизменной бабочкой на шее. — И брюки, не в пример некоторым, в образцовом порядке».
— Салют, — выплюнув жевательную резинку, приветствовал меня Витек.
— Салют, — ответил я.
В последний раз мы расстались не очень-то дружелюбно, и, очевидно, памятуя об этом, он приступил прямо к делу.
— Я принес, — сказал он и повел глазами по тому отрезку улицы, что остался у меня за спиной.
— Что принес? — не понял я.
— Список. — Он, не глядя, сунул мне в ладонь скатанную в шарик бумажку. — Здесь все, кто был в баре. Они тебя интересовали.
— Меня интересовали не все, — поправил я.
Передав список, Витек явно испытал облегчение и обрел светскую непринужденность:
— Знаю, что не все. Но того вальта я действительно никогда раньше не видел. Ей-богу. Это ж шпана. Я такую шушеру на нюх не переношу. Выпросит у мамы с папой полтинник, и туда же, на курорт… А насчет списка не сомневайся, все шестеро записаны.
— Шестеро?
— Ну да, их шестеро было. Я когда милицию вызывал, заодно боссу звякнул. Так, мол, и так, загнулся наш толстячок. Он как услышал, что и ты у меня был, сразу и попросил взять на заметку свидетелей. Он ведь уверен, что это твоя работа, с Герасем… — Витек посчитал эту тему слишком деликатной и перешел на более безопасные материи. — Там и фамилии есть, и адреса. Я, конечно, не сам — слышал, когда их милиция опрашивала…
«Осечка. — Я посмотрел на бумажный ком в своей ладони. — Выходит, у наших такой список давно имеется».
— …Так что зря ты ко мне прицепился, — продолжал Витек. — Из бара, кроме вас двоих, никто не выходил. Девицы плясали, а фрайер тот к ним присоединился. Компания так и сидела за столиком, пока Герася с улицы не занесли.
— Он еще живой был?
— Куда там — мертвей не бывает.
Я, не разворачивая, отбросил бумажный шарик, и он откатился в кусты. Витек не поленился, присел и, поискав, выудил его обратно.
Воспользовавшись моментом, я повернулся спиной к изгороди с тем расчетом, чтобы держать под присмотром машину Тофика, но опоздал. На месте, где она только что стояла, было уже пусто.
— Возьми, ты обронил, — сказал бармен.
— Оставь себе. — Я тщетно выискивал среди припаркованных к тротуару автомобилей зеленый огонек такси.
— Ты же сам просил, — удивился он.
— Ничего я у тебя не просил.
— Странно…
Повторный осмотр привел к тем же результатам — Тофик либо уехал, «передав» меня на попечение бармена, либо отогнал машину за угол, а сам спрятался где-то поблизости, у гостиницы. Черт с ним, пускай прячется. Хоть на крыше. С сегодняшнего дня я в эти игры не играю.
— Значит, не требуется? Что же мне с ним делать?
— С кем? — машинально переспросил я.
— Ты что, сбрендил? С адресами, говорю, что теперь делать?
— Открытки пошли. С извинениями за испорченный вечер.
Он фыркнул и сунул бумажку в карман.
— Как знаешь. Я для дела старался.
Этого он мог не говорить. Дубликат списка появился на свет не ради моих красивых глаз, это я понимал. Понимал и то, что бармен старался для дела. Только вот для какого?
— О'кэй. — Как видно, Витька не очень огорчил мой отказ. — Будем считать вопрос закрытым. Но это не все. У меня к тебе предложение, Вальдемар. Очень важное.
Нас никто не слышал, и все-таки я предупредил для очистки совести:
— Не теряй времени. С делами покончено, хватит с меня твоего босса.
— Знаю, все знаю, — не смутился, а вроде даже обрадовался он. — Я, если хочешь знать, самый нужный сейчас для тебя человек.
— Это почему?
— Потому что помочь хочу. Затем и пришел.
Ну не Витек, а воплощенная добродетель!
— И чего же ты хочешь, помощник?
— Есть маленький бизнес, — доверительно сообщил он.
О господи, снова бизнес! С некоторых пор при одном этом слове у меня начинало сводить скулы.
— Я же сказал, делами не занимаюсь, — повторил я опять же для очистки совести.
Витек укоризненно скривил губы:
— Я тебя полтора часа жду. Сменщика специально вызвал, бар на него оставил…
Вопрос о том, оставлял ли он сменщика вчера, чтобы сразу вслед за Герасем выскочить во двор и завести машину, так и вертелся у меня на языке, но я воздержался. По идее, мне вообще не следовало ввязываться в разговор. В то же время послать Витька куда подальше, не дав ему исповедаться, не поинтересовавшись, ради чего он толокся здесь полтора часа, было бы невежливо, да и неестественно, а это противоречило указаниям Симакова.
— Ладно, говори, чего надо, только покороче. — Я решил применить жесткий прессинг по заимствованному у Стаса методу: — В твоем распоряжении пять минут, ни секундой больше. Я спать хочу.
Витек встрепенулся. Это был именно тот язык, к которому он привык.
— Значит, так. — Он зыркнул по сторонам и, удостоверившись, что поблизости никого нет, зачастил: — Боссу позарез нужна валюта. Срочно и в неограниченном количестве. Он гребет ее под себя всеми конечностями. На этом мы и сыграем. Если ты возьмешься толкнуть ему мою монету, мы сдерем с него семь шкур. Он берет по любой цене, усек?
— Не очень.
— Да что тут непонятного! Я продаю, он покупает, и ты не в убытке.
Нет, видно, не выйдет из меня бизнесмена. Не так давно я сам предлагал Шахмамедову похожую сделку, но там посредник был необходим, а зачем он Витьку?!
Спрашивать было неудобно, да и без надобности — изложив суть, Витек в прежнем ускоренном темпе перешел к деталям:
— У нас с ним свои счеты. Босс не знает, что у меня есть валюта. И потом я — свой, мне он никогда не даст настоящей цены, а у тебя возьмет и не пикнет, еще и спасибо скажет. Он тебе верит. — Помедлив, бармен пустил в ход тяжелую артиллерию: — Ты просил достать «Шарп». Так вот, если провернем это дельце, я отдам тебе его даром. И пару кассет в придачу, бесплатно…
Ого! Я невольно вспомнил, как он переливал в бутылку содержимое моей невыпитой рюмки. Такой своего не упустит. На сколько же он рассчитывает надуть своего любимого босса, если только мой процент со сделки исчисляется четырехзначной цифрой?!
— …Пойми, это верняк, — поощряемый моим молчанием, продолжал Витек. — Прибыль гарантирована, как в швейцарском банке. Это я тебе обещаю. Если согласишься, двойное удовольствие получишь: пару тысяч в карман положишь и сволочь эту прижмем… Ты не думай, я его уважаю, но всему есть предел. Таким налогом обложил, хоть вой. На горло становится, сука… — Витек вошел в раж и, не скупясь, сыпал непечатными выражениями. — Он и тебя обобрал, я же все слышал. Неужели не обидно? Я б этой падали… — последовала длиннейшая тирада, смысл которой терялся из-за обилия похабщины. — Порядочки завел, диктатор хренов, ни вздохнуть, ни… Под страхом держит, двигает, точно пешками… Ну ничего, мы ему покажем! Теперь я его прижму, так прижму, что сок потечет…
В этой речи все было фальшивым, от начала и до конца. Все, кроме злости. Она была неподдельной. Настолько неподдельной, что я перестал сомневаться, что предлагаемая сделка — такая же приманка, как и список. Верней, не приманка, а фикция, с помощью которой он пытается прикрыть подлинную цель, ради которой затеял дело с куплей-продажей валюты.
Слуга всех господ, в разное время служивший и Кузнецову, и Герасю, и Стасу, — на самом деле он не служил никому. Я сознательно избегал обобщений, но факты налицо: Кузнецова нет, Герася тоже, как видно, дошла очередь и до Стаса. В общих чертах я уже догадывался, чего добивается этот тихий, услужливый и, быть может, самый опасный тип в их компании, хотя до конца проникнуть в тайники его хищного мозга мне едва ли дано.
— Ну что, годится? — спросил он, немного обеспокоенный тем, что я не изъявляю восторга.
— Сначала ответь мне на два вопроса.
Очевидно, он опасался, что я буду торговаться, и с напускной бодростью согласился:
— О чем разговор. Конечно, Вальдемар.
— Зачем Стасу столько валюты?
Витек ухмыльнулся.
— А ты не знаешь? Туда собирается. — Он кивнул почему-то вверх. — Чемоданчики с двойным дном приготовил, как в кино. Визы ждет, скотина. Ничего, дождется.
Угроза, прозвучавшая в последних словах, подтверждала мою догадку, и я даже пожалел, что здесь нет Стаса, — то-то была бы потеха посмотреть, как они перегрызутся.
— А ты чего теряешься? Валюта есть, пиджак вон шелковый, хоть сейчас в Гонолулу, доллары сшибать.
— Нашел дурака, — не поддержал мою шутку Витек. — Там таких, как я, своих хватает. — И не без злорадства добавил: — Пусть босс едет, может, со своим оксфордским произношением пособие по безработице выхлопочет, а мне и здесь неплохо.
Его рассуждения лишний раз убеждали, что потолок, который он себе отмерил, был несравненно выше, чем у хозяина, которому он служил.
— Хорошо. Вопрос второй: сколько у тебя валюты?
— На пятнадцать тысяч, — без запинки ответил бармен. — Все, что у меня есть. Загонишь дороже, разницу оставишь себе.
Я оторопел. Если б Витек сказал, что у него миллион, я удивился бы меньше. Из всего, что он тут болтал, это было самым поразительным.
— Так что, согласен ты? — занервничал он.
— Подумать надо.
— Ты что, ничего не понял?! — возмутился он. — Некогда думать, он же со дня на день разрешение получит, ищи тогда ветра в поле. Не темни, Вальдемар. — В его голосе появились просительные нотки. — Какая тебе разница, это же беспроигрышное дело, чистая прибыль. Может, тебе два куска мало, так скажи прямо.
Что ж, придется сказать прямо. Он сам напросился.
— Значит, ты даешь мне валюту?
— Ну да!
— Я продаю ее Стасу, отдаю выручку тебе и по-быстрому сматываю удочки, правильно?
— Ну!
— А потом — при таможенном осмотре, например, — твой босс горит синим пламенем вместе со своими чемоданчиками, верно? — Он растерялся и не знал, что сказать. — Нет, ты тут ни при чем. Ты просто стоишь среди провожающих и смотришь, как его уводят под белы руки. Ну и заодно подсчитываешь выручку, конечно. Знаешь, как это называется? Двух зайцев одним выстрелом положить. Только до тебя это никому не удавалось.
— Чего несешь? Чего несешь? — слабо возразил Витек, покрываясь красными пятнами.
— Когда все уляжется, — продолжал я, — ты спокойненько занимаешь вакантное место и прибираешь дело к своим рукам. Оно, конечно, неплохо задумано, только я в этой комбинации лишний. Своди счеты сам. — Я подмигнул. — Привет, босс!
Его лицо налилось кровью. Сейчас он ненавидел меня не меньше, чем своего дружка-соперника.
— Он же тебя как липку ободрал, идиот… — И Витек смачно обложил меня матом.
Самым естественным было бы съездить ему по физиономии, в конце концов я был свободен, почти абсолютно свободен. Но я не стал пачкать руки. Я только удовлетворил свое давнее желание — взялся за бабочку и оттянул ее на себя. Как и предполагал, она держалась на резинке.
Бармен испуганно шарахнулся в сторону, оставив у меня в руках самую живописную часть своего туалета.
— Ты что, шуток не понимаешь? Пошутил я, пошутил…
— Проваливай, шутник, пока я добрый…
Даром я старался — самолюбие у этого типа полностью отсутствовало. Отбежав на безопасное расстояние, он одернул пиджак и как ни в чем не бывало напомнил:
— Смотри не прогадай, времени в обрез. Подумай до завтра. О'кэй? — и, махнув рукой, потопал к одной из стоявших у тротуара машин.
Вполне возможно, к той самой, что была сегодня в переулке. По крайней мере сумма, которую он назвал, в точности сходилась со стоимостью похищенной из «Лотоса» валюты.
Глава 7
1
Пошел пятый день моего пребывания на Приморской.
Пятый и, судя по всему, последний. Сегодня истекал назначенный Стасом срок. Симаков тоже надеялся уложиться в одни сутки. Лично же для меня этот день обещал стать едва ли не самым тягостным из всех предыдущих.
Мои товарищи в поте лица работали над сбором доказательств, я же был обречен на бездействие. У меня имелась информация, но не имелось разрешения передать ее по назначению.
Взвесив свои урезанные до минимума возможности, я пришел к печальному выводу, что единственная польза, которую могу принести, — это аккуратно фиксировать факты, с тем чтобы включить их потом в рапорт, который независимо от обстоятельств должен буду представить своему высокому начальству.
Решение далось не без труда, но оно было принято, и я, не откладывая, приступил к делу. Правда, за неимением письменных принадлежностей пришлось ограничиться мысленными заметками.
00 часов 10 минут. На углу улицы Приморской и Курортного бульвара мною замечено такси марки ГАЗ-24, номерной знак 34–80. За рулем находился Т. Шахмамедов. Вскоре после моего появления он уехал.
00 часов 12 минут. У поворота к дому встретил Витька (фамилия мне неизвестна). Он вступил в разговор и предложил мне от своего имени продать Стасу (фамилия мне неизвестна) принадлежащую ему валюту на сумму 15 тысяч рублей. В качестве вознаграждения был обещан магнитофон стоимостью 1,5 тысячи рублей.
00 часов 27 минут. Бармен уехал на автомашине марки «Жигули» синего цвета, номерной знак 75–16 (ранее на бампере с правой стороны мной обнаружена вмятина неизвестного происхождения).
Так началась суббота, четвертое октября.
Я много бы отдал, чтобы знать, как будет выглядеть заключительная строка моего отчета.
«Ну и темень», — думал я, почти вслепую пробираясь по дорожке к дому.
Если кому-то еще не расхотелось испытать на прочность мою черепную коробку, ему представлялась прямо-таки идеальная возможность: кругом ни души, темень, и время самое что ни на есть подходящее — половина первого ночи. В детективных романах именно этот час отводится для исполнения самых коварных замыслов.
Однако мой опекун не увлекался детективами. Он либо выжидал, полагая, что убрать меня никогда не поздно, либо вовсе сбросил со счетов, надеясь, что я хорошо усвоил урок, преподанный в Якорном, и сделал для себя надлежащие выводы. А может, ни то, ни другое. Может, просто подыскивал камень потяжелее, чтобы подвесить его мне на шею и отправить вслед за Кузнецовым на дно морское.
Так или иначе, во дворе было темно и тихо. Ни огонька, ни проблеска света.
Я поднялся на крыльцо и дернул за ручку двери. Она не поддалась. Должно быть, Нина заперлась из предосторожности — мера не только разумная, но и необходимая.
Я постучал в окно и окликнул ее по имени.
Никто не отозвался.
Прижавшись лицом к стеклу, я заглянул в комнату, но увидел лишь плотную ткань занавески. Снова постучал, и снова ответом была тишина.
У меня внутри что-то оборвалось. Я опрометью кинулся в сарай, зажег свет. Раскладушка стояла в углу за тумбочкой, остальное не тронуто — пустые бутылки с яркими этикетками, побитое оспой зеркало, за которым спрятал анонимные письма, тетрадка с вырванной страницей. Ни записки, ни знака, ни метки…
Выскочив из сарая, я пошарил под лежавшим на пороге ковриком.
Ключ был там.
Это и огорчило меня, и обрадовало. Нина ушла, это ясно, но ушла по своей воле — если б ее увели насильно, вряд ли кто стал бы заботиться о ключе.
Я открыл дверь, осмотрел обе комнаты и кухню. Так и есть — никого. Никаких следов борьбы. На спинке кресла, напротив телевизора, ситцевый халат, под креслом тапки, на журнальном столике раскрытая книга и будильник с вытянувшимися в вертикальную линию стрелками.
Я мысленно дополнил свой рапорт новой записью:
00 часов 30 минут. В доме по улице Приморской никого нет.
В кухне, накрытый салфеткой, стоял ужин: хлеб, масло, сыр, розетка с вареньем. Вода в чайнике чуть теплая. Стало быть, Нина ушла не так давно, от силы полчаса назад. Но куда? Зачем? И почему не оставила записки? На ум невольно пришли слова Симакова: «Боюсь, Володя, не все так просто, как ты думаешь». Несомненно, он знал больше, чем говорил, возможно, скрывал что-то важное. Но что? И есть ли тут связь?
Искать Нину бесполезно, нужно было запастись терпением и ждать.
Я выключил свет, запер дверь и отправился в беседку.
Нина могла вернуться с минуты на минуту, а могла прийти и под утро, поэтому я устроился с комфортом: нашел в кустах пустое ведро, поставил у скамейки и закинул на него гудевшие от усталости и ушибов ноги. Тело, обретя опору, расслабилось и заныло, будто только теперь вспомнило о полученных ударах. Я вдруг почувствовал себя самым несчастным человеком на свете — брошенным, никому не нужным. Видно, такая у меня судьба: вечно скитаться между домом и улицей, без тепла, без пристанища, без крыши над головой.
Чтобы хоть чем-то себя занять, я вытащил из сумки кассету — последнюю из взятых с собой в «Страус» — и вставил ее в магнитофон. Мне повезло. Батарейки не сели, и пленка оказалась с записью — классический джаз вперемежку с «Арсеналом» Алексея Козлова.
Я скрестил руки на груди и под нервную, с резкой сменой ритмов мелодию стал отсчитывать долгие минуты ожидания.
Незаметно мысли вернули меня на восемь часов назад, к моменту, когда видел Нину в последний раз. Она сказала: «Я сделаю все, как ты просил». Это было за несколько минут до встречи со Стасом, в квартале от «Страуса». Там мы и расстались. На случай если беседа затянется и мне понадобится время, чтобы сменить пленку, я дал ей телефон бара и попросил позвонить туда трижды с промежутками в полчаса.
Первый раз она позвонила в половине шестого. Получается, что остальные два звонка пришлись на шесть и половину седьмого, когда меня там уже не было.
Я пытался представить, что она делала потом, после семи, однако дальше кресла у телевизора и раскрытой книги фантазия не срабатывала.
Почему она не дождалась меня? Что заставило ее выйти из дома?
Кроме самой Нины, об этом знал, пожалуй, только Симаков, но мне от этого не легче. Он много чего знал, да мало что говорил.
Я заново перебрал подробности нашего с ним разговора и удивился, как много в нем темных мест, намеков, неясностей, которые раньше прошли мимо внимания.
Взять те же снимки. Он сказал, что им удалось сфотографировать машину. Но кто в ней сидел? Кто? По всей видимости, я знаю этого человека, скорее всего знаю. Кто же? Я не имел возможности проверить алиби ни одного из своих новых знакомых. Любой из них мог сидеть за рулем. Любой!
Страшно подумать, кого только не подозревал я за минувшие четыре дня! И Стаса, и Герася, и Вадима, и Тофика. Теперь к ним прибавился еще и Витек.
Названная им сумма совпадала со стоимостью похищенной валюты. Чем не улика? Допустим, он пронюхал о пресловутом плане и ему удалось добиться того, чего не смог добиться Стас, — найти общий язык с Кузнецовым. Дальше все разыгралось как по нотам: заручившись согласием, он подогнал машину с тыльной стороны гостиницы, проник в бухгалтерию, впустил туда кассира и вместе с ним смылся в неизвестном направлении, а спустя сутки убрал сообщника. Логично? Вполне.
Ну а если отбросить улику? Если это и не улика вовсе, а случайность наподобие тех, на каких строились прежние мои гипотезы? Сколько их было? Не сосчитать! Они возникали и лопались, точно мыльные пузыри, а в итоге привели к тому, с чего начинал, — к полной неопределенности.
«Подождем до завтра», — сказал Симаков. Завтра уже наступило. Пока оно приносило лишь новые сомнения, по сравнению с которыми прежние казались детской забавой…
Глаза успели привыкнуть к темноте. На сплошном черном фоне проступили еще более черные заросли герани, сухая ветка тутовника, а над ней — остроконечные верхушки кипарисов. На них падал отблеск с горевшей на крыше гостиницы рекламы.
Синий, красный, желтый. Синий, красный, желтый. В сочетании с «Арсеналом» получалось что-то вроде цветомузыки.
Я перенес магнитофон на колени и хотел немного увеличить громкость, чтобы не пропустить сольную партию саксофона из «Опасной игры», как вдруг мелодия оборвалась. Я решил, что заело пленку, но катушки вертелись исправно.
Внезапно в динамике раздался щелчок, и чей-то незнакомый голос произнес с вопросительной интонацией:
«Посмотри, я правильно поставил на паузу?»
«Твоя машина, ты и разбирайся», — послышалось в ответ.
Я буквально остолбенел от неожиданности.
«Тут миллион кнопок… Эта, что ли?»
Тембр резко изменился на более высокий.
«Кстати, ты принес Хендрикса?»
«Нет».
«Почему, я же просил».
«Мало ли чего ты просишь!..»
Голос, подавший последнюю реплику, был мне знаком. Он звучал несколько глуше, очевидно, говоривший находился подальше от микрофона.
Я сидел, весь обратившись в слух, но особой необходимости в этом не было — качество записи было отличным.
«Приличные люди, между прочим, за записи с пласта наличными платят, а не обещаниями».
Это был Витек! Его голос!
Я мысленно взмолился, чтобы тот, кого услышал первым, как можно дольше не нажимал клавишу «пауза». Впрочем, бармен как-то проговорился, что подсунул Кузнецову не совсем исправный магнитофон.
«Ты же в курсе, я на мели. Но я отдам, обязательно отдам. И тебе и ему».
«Слышали, знаем. — Витек явно чувствовал себя хозяином положения. — За твое „отдам“ фирменный пласт не купишь, на него и газировки не дадут. Тебе, чтоб с мели сняться, не в „Спринт“ играть надо, а машинку для печатанья гознаков завести. Тогда и с долгами расплатишься».
Второй голос принадлежал Сергею — теперь в этом не было ни малейших сомнений!
«Слушай, Виски, ты не забыл, о чем мы говорили?»
«Сколько раз просить, не называй меня Виски!»
«Извини, не буду… Так что — дашь?»
«Опять заладил. Ну откуда у меня такие деньги?»
«Не зажимай. Для тебя это не сумма».
«А ты мне их давал? Это когда чужие — не сумма, а я их не на улице нахожу».
«Да верну я, честное слово, верну. Ты что, не веришь? Мне б только долг Стасу отдать».
«Вот и отдавай. Собери барахлишко и снеси в комок».
«А в чем ходить буду? В трусах?»
«Мне-то что, хоть и в трусах. Иностранцы вон ходят, и ничего».
«Ну одолжи, будь человеком. Два дня осталось!»
«Нет. И не проси».
«Ну почему, Виски? Раньше давал!»
«Я-то давал, а вот чтоб ты возвращал, что-то не припомню. Хватит, я, значит, в дерьме ковыряйся, перед каждым спину гни, пепельницы вытирай, а ты чистеньким ходить будешь? Видал я таких аристократов знаешь где?»
«При чем тут аристократы?»
«А при том! Спрашиваешь, а сам небось в глубине души радуешься, что аристократом назвали. Знаю я тебя. Нет, Кузя, кончился Виски! Нет его. У меня, между прочим, имя имеется и отчество. И бабки ни у кого не клянчу, как некоторые».
«Да не заводись ты».
«А ты не успокаивай. Я-то в порядке. О себе побеспокойся. Думаешь, не знаю, как ты к нам относишься? Спекулянты, фарца, за два цента мать родную продадут — что, неправда? Только поздно хватился. На себя посмотри, сам-то чем лучше? На какие шиши живешь? На заработанные? Как бы не так. На наши и живешь. На мои да на Стасовы. Все отдыхаешь, а как до дела доходит — нос воротишь. Нет, Кузя, — посидел на чужой шее, хватит. Брать научился, учись и отдавать».
«Да пойми ты, не с чего мне отдавать. Не с чего!»
«Как это не с чего? А в мешочках чего носишь? Макароны? Разжевали тебе, в рот положили, а ты и глотать не желаешь. Пользуйся, пока предлагают. У тебя выбора нет».
«Не могу я».
«Почему?»
«Не могу, и все».
«Что, совесть не позволяет?»
«Считай, что совесть».
«Оригинальная она у тебя. Шмотки в долг, значит, позволяет, а как платить, нет ее? Ладно, пошел я, не понять нам друг друга. Только учти: долги с тебя все равно сдерем. Не Стас, так я выжму. Имей в виду…»
00 часов 49 минут. В результате прослушивания кассеты, принадлежавшей покойному, на стороне, помеченной цифрой 1, мной обнаружена запись беседы между Кузнецовым и Витьком.
Я наскоро прокрутил оставшуюся часть пленки, но больше ничего интересного не нашел: обратная сторона была целиком заполнена Челентано и Джанни Моранди. Я вновь перевернул кассету и несколько раз подряд прослушал запись.
Из разговора следовало, что: 1) Сергей встречался с Витьком за два дня до срока, отпущенного ему для принятия решения, то есть тринадцатого сентября; 2) Кузнецов просил в долг деньги и получил отказ; 3) бармен имеет кличку Виски; 4) Виски знал о предложении Стаса и склонял Кузнецова принять это предложение.
Насколько полезны эти сведения и как они стыкуются с теми, что сообщил мне Симаков, я обмозговать не успел.
01 час 15 минут. На Приморскую вернулась Нина.
Сначала я услышал шаги на дорожке, потом неразборчивое восклицание и мужской голос:
— Рассуди, раз его нет ни в больнице, ни в милиции, значит, ничего страшного не произошло. Вспомни, как ты вчера психовала…
Они остановились прямо напротив беседки. Сквозь путаницу виноградных листьев я увидел сгорбленную, опиравшуюся на костыли фигуру Вадима.
— Не паникуй, — продолжал увещевать он. — Ну хочешь, еще раз в «неотложку» смотаемся?
— Нет, поздно уже. Ты езжай, а я подожду, — сказала Нина.
— Куда езжай?! Могу я тебя в таком состоянии одну оставить? — Он еще глубже втянул голову в плечи. — Вот горе… Ты его давно знаешь, может, он выпил лишнего или родственники у него здесь? Зашел проведать и засиделся. Он хотя бы намекнул, куда идет?
— Нет, ты уже спрашивал.
— Ничего не понимаю. Зачем же мы тогда в Якорный ездили, зачем ты в бар ходила?
Значит, они искали меня в «Страусе»?!
Надо было выручать Нину: я втравил ее в эту историю, мне и выкручиваться. Я подхватил сумку и, пошатываясь на затекших ногах, вышел из своего укрытия.
— Не меня случайно ищете, граждане? Вы бы еще всесоюзный розыск объявили…
Нина не двинулась с места, зато Вадим кинулся навстречу:
— Ну ты даешь! Кто ж так делает, старик! Мы из-за тебя полгорода исколесили. Ты бы для разнообразия предупреждал, что ли! — Он хлопнул меня по плечу. — Вчера до полуночи пропадал, сегодня…
— Дело у меня было. Тип один магнитофон обещал достать, а потом на переговорный ходил матери звонить.
— Это не Стас тебе случайно магнитофон обещал? — спросил Вадим.
— Он самый. — Я старался не смотреть туда, где стояла Нина, догадываясь, какого рода чувства она сейчас испытывает. — Ты его знаешь?
— Конечно.
— Думаешь, надует?
— Это уж непременно. Обманывать его профессия, старик. И вообще, дешевка твой Стас. — Вадим сказал это без всякой злости, отчего его слова прозвучали особенно веско. — Дешевка и шизик. Торгаш копеечный. Знаешь, как его фамилия?
— Нет, он как-то не представлялся.
— Маквейчук.
— Ну и что? — удивился я. — Обыкновенная фамилия.
— То-то и оно, что обыкновенная. Как раз это его и не устраивает. Твой дружок спит и видит заграничный паспорт, и чтоб в нем на английский лад значилось — Макковей. И непременно чтоб с двумя «к». Свихнулся на этой почве. Все никак не выберет, что лучше: мистер, сеньор или месье. Шизик, — повторил он. — Не связывался бы ты с ним.
Вадим взглянул на Нину и заторопился:
— Ну, ребята, вы тут разбирайтесь, а я отчаливаю. Не забыли — завтра открытие фестиваля. Придете?
Я не рискнул ответить за обоих, но вопрос был задан, и это была вынуждена сделать Нина.
— Придем, — сказала она.
Я понял, что помилован, и с легким сердцем пошел проводить Вадима к машине.
— Ну, будь, старик, — сказал он, усаживаясь в свою «Каравеллу». — А с магнитофоном не чуди. Магазинов тебе мало? Если что, я помогу. Подберем подходящий. Идет?
— Идет.
Я помог ему поместить костыли на заднее сиденье, и «Каравелла» тронулась с места.
Еще с минуту я обозревал окрестности, но ничего достойного быть отраженным в рапорте не приметил. Разве что швейцара, мирно клевавшего носом у входа в гостиницу, да бесшумно мигавший над его головой магический кубик.
Не стану описывать своего возвращения — это тоже не для отчета. Скажу только, что Нины во дворе уже не было. Дверь в дом была заперта на ключ. Я мысленно пожелал своей хозяйке спокойной ночи и пошел к себе в сарай.
Когда я лег и погасил свет, на меня вдруг нашло необъяснимое чувство. Я впервые почувствовал себя по-настоящему свободным. Мне даже показалось, что это ощущение не покинет меня никогда.
2
Проснулся я поздно, но никаких угрызений совести по этому поводу не испытывал.
Будильник показывал десять, и пусть его точность не внушала особого доверия, проверять по своему непогрешимому «Полету» не хотелось.
За окном вовсю светило солнце, пели птицы, и мир представился мне в эту минуту до удивления простым и понятным. Похоже, пока я спал, кто-то основательно прочистил мне мозги: то, над чем ломал голову минувшей ночью, сейчас, при свете дня, выглядело далеким, надуманным, почти невероятным. Загадочные убийства, сделки, возникающие из тумана фантомы — все это, если и было, вспоминалось скорее как прочитанная накануне книга или сон и никак не вязалось с погожим солнечным утром, с шелестом листьев за отворенным окном, с переполнявшей меня беспричинной радостью.
Вопрос «что такое счастье?» всегда ставил меня в тупик, но сегодня… сегодня я мог бы провести пресс-конференцию на эту тему. Счастье, сказал бы я в короткой вступительной речи, это когда просыпаешься таким вот утром и тебе не надо вскакивать с постели, чтобы бежать сломя голову невесть куда и неизвестно зачем. Счастье, уважаемые дамы и господа, это тишина, это тиканье часов, когда тебе нет до них дела, это солнечные зайчики на стенах и залетевшая с улицы ниточка паутины, а еще ощущение силы, какого ты отродясь не испытывал, ликующая, бьющая через край радость при мысли, что впереди день, отданный в твое полное распоряжение, а за ним целая вереница таких дней, вся жизнь…
Я лежал и думал о будущем. Нужно ли говорить, что оно виделось мне исключительно в розовых тонах. Скоро все закончится. Я переберусь в свою комнату с душем и двухконфорной плитой. Буду жить как нормальный человек, сидеть у окна с видом на… собственно, не так уж важно, куда выходят окна моего будущего жилища — на море, горы или на пальмовую рощу, — важно, чтобы тамошний пейзаж не портили подонки типа Стаса и его подручных. Сейчас само их существование казалось нелепым и противоестественным.
А может, их действительно нет? Может, я и впрямь видел сон — дурной сон, за которым, как водится, наступило пробуждение?
Еще немного, и я бы окончательно в это поверил, но тут взгляд случайно упал на висевшую у двери сумку. Я сам повесил ее на гвоздик и слишком хорошо знал, что в ней, чтобы делать вид, будто меня это не касается. Внутри лежали магнитофон и кассета, и, как ни грустно было расставаться с мечтой о всеобщей гармонии, пришлось срочно опускаться на грешную землю.
Я еще пытался замедлить падение, но это не помогло. Беззаботное настроение улетучивалось как воздух из дырявой велосипедной камеры. В памяти обрывками, а потом со все новыми и новыми подробностями всплыл записанный на пленку разговор, встреча с Витьком, пустынный переулок, накрытый шапкой тумана, и свет фар, бьющий прямо в лицо.
Это были картины другого мира — не того, тихого и уютного, что умещался в габариты изолированной квартиры, а огромного сложного мира, где ни на миг не прекращалась борьба, где еще есть алчность, подлость, жестокость и преступники, увы, пока тоже не перевелись. В этом, реальном, мире розовая краска расходовалась куда экономней, в нем рвались бомбы, умирали дети, выжигали землю продукты ядерного распада, и, хочется нам того или нет, ни одно из его противоречий не обходит нас стороной…
Я перевел взгляд на заросшее виноградом окно, но ощущение покоя больше не возвращалось.
Там, на улице, меня наверняка уже поджидали люди, в существовании которых я имел глупость усомниться. Они, конечно, не сон и не плод воображения, и им наплевать, что я о них думаю. У них свои проблемы: они притаились и стерегут добычу, готовые взять ее любой ценой, пусть даже ценой человеческой жизни.
Не берусь утверждать, но, похоже, меня угораздило попасть сразу между двух огней.
С одной стороны, за мной охотились те (или тот?), кто участвовал в ограблении и кто, по всей видимости, убрал сначала Кузнецова, а за ним и Герася. С другой стороны, каждый мой шаг контролировался тем (или теми?), кто задумал и спланировал ограбление, но не успел его осуществить и теперь подозревает, что я был в сговоре с Сергеем и что деньги находятся у меня. И те и другие одинаково опасны, но самое поразительное, что и тем и другим мог оказаться один и тот же человек, — вот это уж совсем не укладывалось в рассудке. То есть я допускал, что подобный ход давал какие-то особые преимущества преступнику, но в таком случае пришлось бы признать, что мы имеем дело не с человеком, а с выжившим из ума компьютером.
Впрочем, лучше не зарекаться. Не так уж они просты, эти джентльмены из «Страуса». Я и раньше встречался с ними, хотя до сих пор как-то не принимал всерьез. В подъездах и закутках магазинов они выглядят в общем-то безобидно: ну, мелкий спекулянт, ну, сдерет лишку, зато достанет нужную вещь — дело вроде житейское. Но, видно, таково свойство дармового рубля: погоня за ним рано или поздно приводит к насилию.
Истина, быть может, и банальная, вернее, кажется банальной, пока не испытаешь ее на собственной шкуре.
Понадобилось пройти весь путь от «сходняка» до гостиничного холла, чтобы очевидной стала связь между «маленьким бизнесом», которым занимаются эти джентльмены, и двумя зловещими убийствами. Я не оговорился: даже если Кузнецов не был убит, если он погиб в результате несчастного случая или — что, на мой взгляд, совсем маловероятно — сам наложил на себя руки, это ничего не меняет, все равно его смерть была прямым и, пожалуй, закономерным итогом отношений, которые связывали его с компанией из «Страуса». Так же, кстати, как и смерть Герася.
Симаков сказал, что у меня слишком мало шансов установить истину. Наверно, он прав. Я не знал, кто ждал Кузнецова за дверью бухгалтерии, кто пришел с ним на санаторский пляж, кто сидел за рулем автомашины вчера в Якорном. Но у меня скопилась изрядная информация о самом Кузнецове, а это чего-то да стоило. Собранные из разных источников, сведения о нем не во всем совпадали, однако это был уже не тот безликий манекен, с которым я повстречался однажды вечером.
Кто же он? Преступник? Или потерпевший? О чем думал и чего хотел? Что любил и что ненавидел?
Вопросы остались прежние. Иными были ответы.
Было время, когда я считал, что он стал жертвой хорошо организованной банды грабителей. Потом ударился в другую крайность, решив, что мы имеем дело с преступником-одиночкой. И лишь теперь начал понимать, что истина находится где-то посередине. Началось с фотографий из зеленого альбома. Запечатленные на любительских снимках позы, жесты впервые навели меня на мысль о косвенной причастности Кузнецова к делам компании из бара «Страус». Многое прояснила встреча с самим Стасом и магнитофонная запись, в особенности упреки Витька в заключительной части разговора. Им нельзя отказать в справедливости. Не случайно при всей несхожести отношения к покойному все, кто мало-мальски знал Сергея, подчеркивали его увлечение тряпками. Конечно, сами по себе вещи не могут быть опасными, делает их такими наше к ним отношение; и в данном случае правильней говорить не об увлечении — кто ж этим не увлекается? — а о болезненной страсти, в которую со временем переросло у него нормальное и вполне понятное желание красиво и модно одеться. Я где-то читал, что мода — один из способов самоутверждения. Это верно. Плохо только, если это средство единственное.
Несколько дней назад в разговоре со мной Вадим по пальцам перечислил интересы Сергея: жена, музыка, одежда. Тогда я так и не решил, много это или мало. Теперь знаю точно — мало! Можно любить музыку, тряпки, можно играть в «Спринт», если не нашел игры поинтересней, но нельзя втиснуть мир в эти узкие рамки — рано или поздно жизнь все равно их сломает, и тогда обнаружится, что ты не готов принять ее такой, какая она есть, со всем ее добром и злом, хорошим и плохим, простым и сложным.
…Жена, музыка, одежда…
Наверно, так было не всегда. Став владельцем крупной суммы, он и сам не заметил, как постепенно менялась его жизнь. Поощряемый подачками, неограниченным кредитом, который предоставлялся отнюдь не бескорыстно, он потерял способность трезво оценивать происходящее. Нет, преступником он еще не стал — в том смысле, что не спекулировал, не копил и не перепродавал валюту, — но первый шаг был уже сделан. Он стал покупателем! Не просто покупателем, а покупателем-партнером, покупателем-соучастником!
Сколько человек в этой страусиной компании? Пять? Десять? Она явно малочисленна и не продержалась бы и часа без тех самых добровольных партнеров и соучастников, для кого одежда давно перестала быть просто одеждой, а мерилом всех ценностей земных стали штаны с блямбой, кожаное пальто или магнитофон с никелированными цацками на панели. Путь, которым прошел Кузнецов и который следом за ним повторил я, — это путь любого из завсегдатаев «сходняка», а ведь именно среди них вербует Стас свои кадры.
С чего начинается этот путь, сказать трудно, у каждого, наверное, по-разному, но при мысли о Сергее я почему-то представлял день, когда он, заплатив полтинник уличному торговцу, вытянул из пачки лотерейный билет и, отойдя в сторонку, оторвал корешок. Спустя полтора года, зажатый в угол, мечущийся в поисках выхода, он наверняка вспоминал этот день, но и тогда едва ли понимал: можно вытащить счастливый билет, но нет билета, на который выпадает счастье…
И все-таки что произошло вечером пятнадцатого сентября? Что заставило его изменить маршрут и свернуть в заранее открытую дверь бухгалтерии?
Вероломство Стаса? Очередная подачка? Собственные неумеренные аппетиты?
По идее реальным был любой вариант, в том числе и последний, не насильно же втолкнули его в эту проклятую дверь!
Так-то оно так, и все же что-то мешало мне поверить, что он сознательно пошел на преступление: может, отзывы сослуживцев, которые читал в деле, может, спор с Витьком, зафиксированный на пленке. При всех недостатках и слабостях были в характере Сергея качества, отличавшие его от остальной компании. Надолго бы их хватило — неведомо. Со временем он мог превратиться в исправного «посредника» или «диспетчера», но так вышло, что судьба устроила ему испытание, определив совершенно точно час и место, как будто нарочно хотела проверить эти его качества на прочность.
Передо мной в сотый, наверное, раз встал гостиничный вестибюль, шеренга игровых автоматов, лестница, ведущая в бар.
По ней Кузнецов поднялся наверх и свернул влево, в проход между каменными вазонами и перегородкой. Перед ним был отрезок длиной пять-шесть метров — отрезок, на котором он оставался практически невидимым, на котором решилась его судьба…
Чутье подсказывало, что я как никогда близок к разгадке. Не хватало какой-то детали, мелочи, которая поставила бы все на свои места. Досадней всего, что я понятия не имел, где искать эту самую мелочь: в «Лотосе», в таксопарке или на пляже санатория имени Буденного. Зря все-таки я туда не съездил, авось что и выискал бы. Ну ничего — мое время еще не истекло. До открытия фестиваля — а других мероприятий на сегодня не предвиделось — оставалось целых десять часов. Самым разумным было воспользоваться советом начальства и провести день на пляже. А уж на каком именно пляже — решу сам, там видно будет…
Я приподнялся на локте и взял с тумбочки часы. Они показывали половину одиннадцатого.
Мысль о еде вызывала у меня что-то вроде павловского рефлекса, однако на Нинины запасы рассчитывать не приходилось — со вчерашнего дня в холодильнике оставалась только пачка масла да бутылка молока, которое не стал бы пить, даже если б мне угрожала голодная смерть. Делать нечего — придется бежать в магазин.
Откинув простыню, я выбрался из постели и, наскоро одевшись, вышел во двор.
В 10.45 мой рапорт пополнился новой строчкой:
По дороге в магазин слежки не обнаружил.
Погода стояла великолепная — один из двухсот двадцати солнечных дней, гарантированных туристскими справочниками. Да и сама Приморская словно сошла с глянцевой обложки рекламного проспекта. Поблескивали темно-зеленым лаком кроны пальм, слепили белизной стены «Лотоса», всеми цветами радуги полыхали тенты над столиками кафе, а сверху, объединяя все это, туго натянутым полотном висело пронзительно голубое небо.
В качестве бесплатного приложения к экзотическому ландшафту у входа в гостиницу прогуливался известный на всю страну исполнитель цыганских романсов, и публика глазела на своего кумира.
Отсутствие среди припаркованных у гостиницы машин шахмамедовского такси меня не удивило — не может же он работать круглые сутки, но и Витька видно не было, а к нему я успел привыкнуть не меньше, чем к Тофику. Должно быть, они тоже взяли выходной. Что ж, тем лучше.
Я перешел через дорогу и свернул на бульвар.
До магазина было рукой подать, и я добрался до него без всяких приключений, что случалось со мной в последнее время нечасто.
Продуктов набрал с запасом, сколько влезло в сумку, а под занавес купил две банки консервированных ананасов — очень уж красивая на них была этикетка.
11.10. На обратном пути слежки не обнаружил.
Завтракали мы с Ниной часом позже, но ни этот факт, ни перечень своих покупок я в отчете не отразил — это не имело к делу никакого отношения.
12.45. По дороге на городской пляж слежки не обнаружил.
К двум часам я начал подумывать, не бросить ли мне свою затею с рапортом. Горизонт был чист, без единого пятнышка.
После очередного заплыва мы с Ниной лежали на горячей гальке у самого моря и обсыхали, подставив солнцу мокрые спины. Болтали о разном, больше о пустяках. Получилось это само собой, без нажима, хотя в глубине души я побаивался, что Нина сделает попытку возобновить разговор о моей профессиональной принадлежности, но она молчала. Может, ждала, что я сам затрону опасную тему, но я, разумеется, тоже помалкивал.
Народа на пляже было негусто.
Справа к молу то и дело приставали прогулочные катера, и тогда оттуда доносился усиленный мегафоном голос, объявлявший время отправления и остановки в пути следования. Среди других остановок назывался и санаторий имени Буденного. Катера в том направлении шли с интервалами в сорок минут.
Я с самого начала собирался предложить Нине прокатиться — кстати, это был самый верный способ проверить, нет ли за нами «хвоста», — но вода оказалась до того теплой, а желание искупаться столь сильным, что я всякий раз откладывал.
Мы пропустили уже два рейса, а несколько минут назад от причала отвалил еще один катер, взявший курс на санаторий.
«Поедем следующим», — решил я, глядя на ныряющих с мола пляжников.
Мое внимание привлек парень в ярко-красных купальных трусах. Он прыгал почти без разбега и находился под водой особенно долго. Это был ловец рапанов. Всякий раз, когда он выныривал с раковинами в поднятых руках, помощник помогал ему выбраться на волнорез и складывал раковины в сетку, а ныряльщик, отдышавшись, отправлялся за следующей партией.
— Интересно, сколько можно продержаться под водой без акваланга? — спросил я после особенно затяжного прыжка.
— Не знаю. Минуты две, наверно. — Нина возилась с камешками, которые мы перед этим собрали на берегу.
— А вон тот парень пробыл три с половиной минуты.
Нина протянула мне голубоватый камешек с тремя серебряными прожилками. Он светился изнутри и был почти прозрачным.
Спрятав его в карман рубашки, я перевел взгляд на белую точку, удалявшуюся в сторону санатория. Пора было собираться. Лучше, конечно, если мы поедем вдвоем, это вызовет меньше подозрений, но, если Нина откажется, поеду один.
— Тут акулы водятся? — начал я издалека.
— Водятся.
— А дельфины?
— Конечно. — Нина перевернулась на спину и зажмурилась от прямых солнечных лучей. — Если хочешь, можешь съездить в дельфинарий. Туда электрички ходят и автобусы.
— Обязательно съезжу… Ну а на воле, в открытом море? — гнул я свою линию.
— К берегу они не подплывают, но иногда в хорошую погоду их видно с прогулочных катеров.
Теперь она попала в самую точку.
— Вот бы взглянуть! Всю жизнь мечтал посмотреть на живого дельфина. Может, прокатимся, вдруг повезет?!
Наверно, я маленько переборщил, изображая свой восторг по поводу прогулки, — Нина приподнялась на локте и спросила настороженно:
— Это необходимо?
— Что? — попробовал я схитрить, хотя это не имело никакого смысла.
— Тебе нужно, чтобы мы туда поехали?
Можно было потянуть резину, спросить, что она подразумевает под словом «туда», но я и так это знал.
— Мне нужно, чтобы туда поехал я.
Она снова опустилась на гальку и прижалась лицом к сложенной в изголовье одежде.
— Когда это кончится? Когда?!
— Сегодня, — сказал я. — Сегодня все выяснится, а завтра… — Я запнулся, потому что в голове вдруг мелькнула догадка — верней, не догадка, а только тень догадки, настолько она была странной и неожиданной.
— Что завтра? — спросила Нина.
— Завтра?.. Ах да. Завтра мы с тобой поедем в дельфинарий. На автобусе.
Она уловила перепад в моем настроении, а может, ее смутил тон, которым я это сказал, но промолчала.
Я не сводил взгляда с ныряльщиков — именно они натолкнули меня на идею, которая с каждой секундой казалась все менее странной. Она в корне меняла представление о случившемся, и как раз по этой причине я не хотел торопиться с выводами.
Подтвердить или опровергнуть мою идею мог лишь один человек. Чтобы с ним увидеться, надо было ехать в санаторий.
Я подумал о магнитофоне, который специально не вынул из сумки, когда собирался в дорогу, и спросил у Нины:
— Хочешь мне помочь?
— Хочу, — ответила она без колебаний.
— Нужно, чтобы ты прослушала одну запись. Только не сейчас и не здесь.
— Хорошо, — кивнула она.
— И еще: через полчаса отходит катер. Мы сядем в него и поедем смотреть дельфинов. Учти — это самая обычная морская прогулка. Нам безразлично, куда идет судно и где оно делает остановки.
— Ты хочешь, чтобы поездка выглядела как бы случайной? — Нина улыбнулась чуть грустновато. — Будет исполнено, капитан.
Она угадала мое желание, но ошиблась в звании — до капитана мне было еще очень далеко.
Корабль назывался «Ассоль».
Вблизи он оказался гораздо больше и комфортабельней, чем я думал, имел две палубы, бар в трюме и площадку для танцев на корме.
Мы сели в числе первых пассажиров и сразу поднялись на верхнюю палубу, облюбовав место у спасательной шлюпки.
Отсюда открывался прекрасный вид на набережную, а мол с билетной кассой и трапом был как на ладони.
Долго ждать не пришлось. Вскоре у питьевого фонтанчика, что находился неподалеку от причала, появился Тофик.
14.43. При посадке на катер обнаружил «хвост». Слежку ведет Т. Шахмамедов.
Купив билет, он долго ошивался около кассы и прошел на корабль, затесавшись в толпу туристов, из чего я заключил, что распределение ролей осталось прежним и что прятаться нужно не нам, а ему.
Это намного облегчало задачу.
Постепенно поток пассажиров пошел на убыль. Заиграла музыка. Мы спустились вниз и пробрались на корму, где незадолго до отплытия начались танцы.
Я не искал Тофика, и он, надо отдать ему должное, не попадался нам на глаза. Лишь однажды, когда «Ассоль» уже отвалила от пристани и вышла в море, его пышная, похожая на черный одуванчик шевелюра возникла справа по борту. Возникла и тут же исчезла.
Санаторий был второй по счету остановкой. По расписанию мы прибывали туда в 15.45.
К этому времени веселье на корме достигло апогея.
Поддавшись общему настроению, мы тоже танцевали, причем увлеклись настолько, что чуть не пропустили остановку. Нина танцевала отлично. Это оценил не только я: возле нас, норовя оттеснить меня в сторонку, лихо отплясывал шустрый паренек в адидасовской экипировке и с блестящим амулетом на шее. Держался он в рамках приличия, но от этого нравился мне еще меньше, так что пришлось пару раз нечаянно наступить на его новехонькие кроссовки, что не оставило его равнодушным. Он огрызнулся, но намек понял и мигом переключился на яркую блондинку, танцевавшую по соседству.
Нам пора было двигаться к выходу. Делать это следовало с умом, чтобы не обеспокоить Тофика раньше времени.
Сперва мы заглянули в бар (по пути я боковым зрением засек, как он метнулся в другой конец палубы), потом прогулялись вдоль салона и остановились поблизости от дверцы, через которую должна была производиться посадка.
Над водой в поисках провианта носились чайки. Розовые, белые, с янтарным отливом, они подлетали так близко, что были видны их черные, без возраста, бусинки глаз. Мы успели скормить им полпачки печенья. Другую половину съели сами.
Тофик забрался наверх и укрылся за спасательной шлюпкой прямо над нашими головами. Заметил я его чисто случайно: Нина вытащила зеркальце, и на его поверхности на миг отразилась желтая майка с зеленым кантом по рукавам — второй такой на судне не было.
«Ассоль» сбавила обороты. Описав плавную дугу, она приближалась к причальной стенке, сплошь увешанной старыми автомобильными покрышками.
Мягкий толчок, и на берег полетели канаты. Выдвинули трап. Началась посадка.
Я почувствовал, как напряглась в моей ладони рука Нины.
— Идем? — спросила она вполголоса. Я не говорил ей о Шахмамедове, но, видно, она догадалась, что наши перемещения по кораблю совершались неспроста.
— Успеем.
Здесь выходили человек шесть-семь, вошла одна девушка. Вахтенный, не глядя, надорвал ее билет и взялся за поручни, собираясь убрать сходни.
— Постой, друг. — Я пропустил Нину вперед и следом за ней быстро сошел на пристань.
За спиной лязгнули дверцы. «Ассоль» плавно отвалила от причала.
Полоска воды все увеличивалась, отдаляя нас от владельца желтой майки с зеленым кантом по рукавам. Кстати, его на верхней палубе видно не было — очевидно, бежал вниз, кроя меня на чем свет стоит, но это было уже его личное дело.
Мой отчет украсила следующая пометка:
15.52. Ушли от наблюдения.
Санаторий стоял на пригорке. Вероятно, когда-то его территория была обнесена забором, от которого с той поры осталось несколько литых чугунных ячеек по обе стороны от входа.
Под стать им была и арка, и лавки на тяжелых гнутых ножках, и старая, но добротная лестница с пузатыми стойками балюстрады, тщательно отреставрированная и выкрашенная белой масляной краской.
По этой лестнице мы поднялись к трехэтажному зданию, где, судя по вывеске, помещались администрация и процедурные кабинеты. Поодаль на газоне паслись не то бронзовые, не то «под бронзу» олень с олененком.
Внутри царила стерильная тишина, а чтобы мы ненароком ее не нарушили, полы выстелили толстыми ворсистыми дорожками.
— Вы не подскажете, в каком корпусе искать отдыхающего Пасечника? — спросил я у строгой усатой женщины, сидевшей под табличкой «дежурный регистратор».
— Зачем он вам?
Я растерялся.
— А разве это имеет значение?
— Имеет, — отрезала она, выразительно покосившись на мою сумку. — Здесь лечебное заведение, у нас режим, и я обязана оберегать покой своих больных.
Вот, значит, куда подевались недостающие ячейки от забора!
— Видите ли, он мой дядя. Мы с сестрой отдыхаем тут неподалеку и хотим с ним повидаться. Если он узнает, что мы были тут и не зашли проведать, у него откроется язва, а то и еще что похуже. Так уже было однажды, в прошлом году. Его еле откачали…
Она смерила холодным взглядом сначала меня, потом Нину, но журнал все-таки открыла.
— Как его имя и отчество?
— Валерий Федорович.
Дежурная полистала свой гроссбух, нашла нужную запись.
— Вы опоздали, — сказала она подчеркнуто бесстрастно. — Пасечник Валерий Федорович закончил курс лечения и первого октября выехал по месту жительства.
Ниточка, с помощью которой я надеялся проверить свою идею с ныряльщиком, оборвалась. Правда, оставалась еще одна.
— Скажите, пожалуйста, а Аксенова Ирина Николаевна, она еще у вас?
— Это тоже ваша родственница? — ядовито осведомилась дежурная.
Трудно сказать, что ею руководило: бдительность или мания величия — не исключено, что и то и другое вместе.
— Вы угадали, она моя тетя. Если нужны доказательства, я готов их представить вашему главному врачу. Где он у вас помещается?
Дежурная пошевелила усами, но, пересилив себя, зашелестела страницами.
— Аксенова выехала позавчера.
И вторая ниточка оборвалась.
Так всегда: лишь только удается найти ключ и открыть дверь, как за ней сразу же обнаруживается следующая. Я тянул с поездкой, потому что внутренне не был готов к встрече с последними свидетелями, видевшими Кузнецова живым, и вот теперь, когда один-единственный вопрос мог разрешить все сомнения, мне некому его задать.
16.37. Установлено, что Пасечник В. Ф. и Аксенова И. Н. выехали из санатория.
3
Солнце прошло уже две трети пути. Удлинились тени. В проемах между деревьями голубой ширмой висело море, и кто-то прятавшийся за горизонтом двигал по его кромке игрушечные кораблики.
Всю дорогу до пристани я думал о ловце рапановых раковин. Идея, которую он мне подсказал, нуждалась в проверке. Я почти не сомневался, что Пасечник, застань мы его на месте, подтвердил бы мою догадку, но он уехал. Значит, надо было искать другой способ проверки. И я его нашел. В первый момент он показался чересчур жестоким по отношению к Нине, но иного выхода у меня не было.
— Ты бывала здесь раньше? — спросил я, когда мы спустились к причалу.
— Нет.
— Ты не против, если мы пройдемся вдоль берега? А домой вернемся автобусом, тут неподалеку должно быть шоссе.
— А как же фестиваль? — спросила Нина. — У нас билеты на восемь.
— Успеем.
Она пожала плечами, и мы свернули вправо, взяв направление на дикий пляж.
Впереди, километрах в полутора, в море выступал мыс. Туда мы добрались довольно быстро. Дальше берег обрывался, и пришлось брести по колено в воде. Потом пошла узкая полоска, уставленная крупными валунами, потом валуны кончились, и склон горы стал более пологим.
Через час с четвертью мы были у цели.
Я помнил эту местность по фотографиям, только в натуре она выглядела еще пустынней. Действительно, дикий пляж — другого названия не подберешь. Два недостроенных волнореза, кучи нанесенных штормом водорослей, покосившаяся кабинка раздевалки.
Даже море здесь было другим, более первобытным, что ли. Покрытое мелкой рябью, сейчас оно не радовало и не влекло, как прежде, скорей пугало, будто было живым существом, неприступным, холодным, готовым защищать свою тайну.
Переправившись через речушку, мы остановились у гладко отполированной коряги.
Примерно в этом месте семнадцать дней назад нашли личные вещи Сергея: одежду, платок, сигареты со спичками и горсть монет — все, что после него осталось.
Я повесил сумку на сучок и скинул сандалии. При мысли, что придется лезть в воду, по коже пробежал холодок, но идти на попятную было поздно.
— Уйдем отсюда, — неожиданно сказала Нина. Наверно, ей передалось мое состояние.
— Ты забыла про запись, — напомнил я, стягивая с себя рубашку. — Сейчас окунусь, послушаем пленку и…
— Прошу тебя, уйдем!
— Почему?
— Не нравится мне здесь.
— Ерунда, роскошное место… — Я отвернулся, чтобы не видеть выражения ее глаз, и с разбегу бросился в воду.
Отплыв подальше, я лег на спину и подождал, пока восстановится дыхание.
Нина стояла на берегу у самой воды. Она не отрываясь смотрела в мою сторону. Я не различал ее лица — мы были слишком далеко друг от друга, — но чудилось, что она смотрит с тревогой и осуждением.
Меня вдруг взяли сомнения и неудержимо потянуло назад. «Для чего ты все это затеял? — ломая традицию, спросил я у своего двойника. — Для чего стараешься? Для дела? Но оно практически закончено. Для себя? Для Нины? Но даже в случае удачи это не принесет облегчения ни тебе, ни ей. Вернись, пока не поздно, чего тебе не хватает?»
Он молчал, и я ответил за него: «Правды». То, что собирался сделать, тоже было борьбой за правду, ведь каждый борется за нее по-своему.
Я вскинул руки, набрал полные легкие воздуха и нырнул в зеленую, пронизанную солнцем толщу воды.
Ловец рапанов держал дыхание три с половиной минуты. Это наверняка не предел, но требует тренировки и опыта. У меня его не было, поэтому я решил сэкономить на скорости и что есть мочи припустил к волнорезу.
Мысли работали четко — я и не знал, что под водой так хорошо думается. Одно плохо — запас воздуха был небеспредельным.
Вскоре появился звон в ушах и стало давить в виски.
До волнореза было метров двадцать пять, больше половины этого расстояния осталось позади. Если я рассчитал правильно, в момент, когда поднимусь на поверхность, Нина будет плыть мне на выручку. Сейчас она находилась в положении Пасечника, точь-в-точь. Условия были те же самые, не совпадало только время, но это даже на руку…
На исходе второй минуты я начал задыхаться.
Боль в висках сделалась невыносимой, а в ушах гремели колокола. В груди, корчась от нехватки кислорода, билось и рвалось наружу сердце. Это был предел. Еще секунда, и в легкие, заполняя пустоту, хлынула бы морская вода, но тут, словно в награду за муки, мои ладони уперлись в покрытую мхом поверхность.
Нины на берегу не было. Рассекая воду, она мчалась к тому месту, где видела меня в последний раз.
Я хотел закричать, но из горла вырвался хриплый клекот. Пальцы посинели, как у утопленника, а перед глазами вспыхивали и гасли оранжевые круги.
Кое-как я вскарабкался на скользкий от слизи бетон волнореза и замахал руками.
18.10. На диком пляже близ санатория имени Буденного мною воспроизведены обстоятельства, при которых была найдена одежда Кузнецова С. В.
Считаю, что вечером семнадцатого сентября погибший на пляже вообще не находился. Дело, по всей видимости, происходило так: после совершения ограбления преступник (сообщник Кузнецова) привел кассира в бесчувственное состояние, увез его с места преступления и убил. Затем привез вещи на пляж с целью инсценировать несчастный случай. Не исключено, что вещи подброшены еще шестнадцатого, а спустя сутки отдыхающий санатория Пасечник В. Ф. со своей спутницей натолкнулся на сложенную у берега одежду, увидел человека, барахтавшегося в воде, и в темноте (21 час) принял его за утопающего, в то время как это был ныряльщик, случайно оказавшийся в этом районе пляжа.
Неизвестно, что подумала Нина по поводу моей выходки. Похоже, поверила, что я просто не рассчитал силы и едва не пострадал от собственной неосторожности. Это было очень недалеко от истины, так что разубеждать ее я не стал. Мы вернулись на берег. Нина заставила меня надеть рубашку и уложила под корягой, наскоро соорудив тент из полотенца. Я все еще не пришел в себя после заплыва и потому не сопротивлялся — лежал притихший, завороженный теплом, исходившим от прогревшейся за день гальки.
В нескольких шагах от нас сонно плескалось море. Пахло водорослями и хвоей от стоявшей неподалеку сосновой рощи. Солнце клонилось к горизонту. Возможно, я уснул, но сон был легким и очень недолгим: когда открыл глаза, Нина по-прежнему сидела рядом.
— Знаешь, а мне здесь нравится, — сказал я, на этот раз вполне искренне.
Разница и впрямь была велика. Одно дело находиться на месте преступления и совсем другое на заброшенном пляже, где никто никого не убивал. Теперь берег казался по-своему уютным, даже симпатичным, а море спокойным и ласковым.
Нина промолчала — она осталась при своем мнении.
Я достал из кармана камешек. Он подсох и стал почти белым. Природа придала ему безукоризненную форму, а три поперечные прожилки были расположены симметрично и сверкали, как дорогая инкрустация, врезанная в твердь искусным ювелиром.
Нина взяла его у меня, подержала, рассматривая, и вернула. У нее были еще влажные руки, и камешек, смоченный морской водой, снова стал голубым.
— Что-то есть хочется, — сказал я. — У нас печенья не осталось?
— Нет, — односложно ответила Нина.
— А который час?
Она подвернула манжету рубашки и посмотрела на часы.
— Без двадцати семь.
— Ого! — Я приподнялся и сел, облокотившись о корягу. — Мы, кажется, опаздываем?
— Если на такси, успеем. — Она повернулась лицом к заходящему солнцу и напомнила: — Ты хотел, чтобы я прослушала какую-то запись.
Откровенно говоря, у меня пропало желание крутить пленку. Не вспомни о ней Нина, я бы, пожалуй, отказался от этой своей затеи.
— Ты раздумал? — не оборачиваясь, спросила она.
— Да как тебе сказать…
— Ты меня жалеешь? Не надо, я же вижу, что тебе это тоже неприятно.
— В общем-то, да…
— Где она? В сумке?
— В сумке.
Она вытащила магнитофон, положила его рядом с собой и включила.
Из динамика вырвалось стремительное аллегро из «Опасной игры» Алексея Козлова. От форсированного звука электросаксофона отдавало металлом. Он резал слух и был в явном разладе с разлитым в воздухе покоем.
Наконец музыка оборвалась. Раздался щелчок и сразу за ним голос Кузнецова:
«Посмотри, я правильно поставил на паузу?»
Остальное было мне известно. Я слушал вполуха, попутно вспоминая четыре пункта, которые вывел ночью, сидя в беседке.
Пункт первый: Кузнецов встречался с барменом 13 сентября.
Пункт второй: Он пытался взять в долг деньги.
Пункт третий: Бармен имеет кличку Виски и не любит, когда его так называют.
Пункт четвертый: Виски склонял Сергея принять предложение Стаса.
К ним стоило добавить пятый и, может быть, наиболее существенный: Кузнецов просил одолжить ему деньги не тринадцатого, а раньше — тринадцатого он только напомнил о своей просьбе: «Ты не забыл, о чем мы говорили?»
Коли так, выходит, Витек мог быть не первым и уж наверняка не последним, к кому Сергей обращался с подобной просьбой. Причем обращался к самым близким друзьям и тем, кому мог откровенно, без утайки, рассказать о долге, и о Стасе, и о плане, в котором ему предназначалась роль козла отпущения.
Пойдем дальше.
До тринадцатого нужной суммы у него не было. Это точно. Но оставалось еще целых два дня. Получается, что в эти-то два дня он и встретился с человеком, которому поведал о двери с английским замком, которого просил занять деньги и который…
Я пропустил момент, когда закончилась запись.
Из магнитофона неслись скрежещущие модуляции синтезатора. Я выключил его и, не вытаскивая кассеты, спрятал в сумку.
Нина сидела, опустив голову. Ее лицо прикрывали мокрые, непросохшие пряди волос.
— Сергей погиб из-за этого? — спросила она тихо.
— Из-за этого тоже.
— С кем он говорил?
— С барменом из «Страуса», с тем, что приносил с собой спиртное, помнишь?
Она не ответила.
— Я не знала, что у него был долг.
Со стороны гор пахнуло ветерком, и стало слышно, как в отдалении шумят сосны.
Я застегнул рубашку.
— Давай собираться. Уже поздно.
Мы молча оделись и пошли к шоссе.
По дороге впечатление от прослушанной записи немного улеглось, и Нина ответила на мои вопросы. Она повторила, что сегодня впервые узнала о долге, что своих друзей Сергей принимал, как правило, не дома, а в пристройке, что там они вели свои разговоры и там скорее всего и была сделана запись, которую я ей дал прослушать.
— Он продавал что-нибудь из своих вещей в последнее время?
— Насколько я знаю — нет.
— Не заводил разговора о деньгах?
— Нет. Мы вообще мало говорили. Это был полный разрыв, — сказала она. — Жили практически порознь: он в одной комнате, я в другой. Я готовила на двоих, оставляла ему еду, но мы почти не общались.
— Это его устраивало?
— Мы договорились, что я поживу до зимы. К Новому году мне обещали комнату в общежитии. Он это знал.
— Скажи, кто мог занять ему крупную сумму денег?
— Никто, — твердо сказала Нина.
— А у кого он мог просить взаймы?
— Мне, кажется, у любого. — Она подумала и уточнила: — Но, конечно, не такую большую сумму.
— А какую?
— Не знаю. У сослуживцев вряд ли. Может, у своих друзей? У того, толстого, или у Тофика. Но я уверена, что таких денег ему бы никто не дал.
— Почему?
— Ему нечем было возвращать, они это знали. А в лотерейный выигрыш верил только он один.
— Но сам-то он мог надеяться, что ему дадут в долг?
— Это на него похоже…
* * *
До центра мы добрались на попутной. Водитель не возражал подбросить нас до самого дома, но я попросил остановить на привокзальной площади: вспомнил, что мне не во что переодеться. Костюм и приличная пара обуви лежали в камере хранения.
Там, как назло, толпилась очередь, и мы потеряли минут пятнадцать. Потом еще десять, пока ловили машину. К дому подъехали под сигналы точного времени.
— Ничего, попадем на второе отделение, — сказал я, расплачиваясь с водителем.
20.00. Вернулись на Приморскую.
Улица к этому времени обезлюдела. Те, кому повезло с билетами, сидели сейчас в концертном зале, остальные смотрели фестиваль по телевидению. Из окон гостиницы доносились фанфары, возвещавшие о начале песенного марафона.
Пока мы приводили себя в порядок, телевизор прогрелся, и на экране возникла сцена с двумя ведущими. Шло представление гостей и участников фестиваля.
Нина надела длинное вечернее платье, сделала прическу.
Я тоже переоделся — облачился в костюм, повязал галстук, навел глянец на туфли, хотя мама всю жизнь учила меня делать это в обратном порядке.
В восемь сорок мы вышли из дома.
Нина сунула было ключ под коврик, но передумала и положила в сумочку. Оставлять его было не для кого.
Концертный зал «Юбилейный» находился слишком близко, чтобы пользоваться городским транспортом, но мы уже опоздали и решили срезать путь. Спустились до середины лестницы, что брала начало у «Лотоса», и свернули в боковую аллею, ведущую вдоль набережной. Однако там оказалось перекопано — прокладывали кабель, — и пришлось возвращаться.
«Плохая примета», — подумал я, поднимаясь обратно к гостинице.
Здесь было все так же пустынно. Швейцар покинул свой пост и украдкой потягивал пепси на террасе кафе. В глубине вестибюля светились телевизионные экраны.
Когда мы проходили мимо телефонной будки, у меня зачесались руки — страшно хотелось позвонить своим, посоветоваться, поделиться последними новостями, но это было запрещено. До конца моей изоляции оставалось три с половиной часа.
Вскоре мы вышли на широкую площадь, посреди которой, топорщась зубчатой кровлей, высилась бетонная громада «Юбилейного» — самого большого в городе концертного зала.
У входа шумела кучка опоздавших. Они осаждали билетершу, которая предусмотрительно спряталась за толстой, запертой на висячий замок решеткой.
— Не просите, товарищи, зал переполнен, — механически повторяла она, как видно, не в первый раз. — Со всеми вопросами обращайтесь в дирекцию. Есть указание опоздавших не пускать. Видите замок?
Против замка возразить было нечего.
— А после антракта пустите? — спросил кто-то.
— И после антракта не пущу.
— Это безобразие! У нас билеты!
— Не просите, товарищи, зал переполнен. Со всеми вопросами… — И все повторялось сначала.
Примета начинала сбываться — шансов попасть в зал, кажется, не было.
Мы с Ниной поднялись на смотровую площадку, бетонным козырьком нависавшую над крутым берегом.
— Ну вот, я испортил тебе вечер, — сказал я.
Она улыбнулась и легко коснулась моего плеча.
— Посмотри, как красиво.
Внизу, под нами, в мягком лунном сиянии искрилось море. Справа, на фоне фиолетового неба, темными силуэтами вырисовывались строгие шпили морского вокзала. Слева цепочками огней горел порт.
Вскоре за ажурными решетками «Юбилейного» появилась нарядная публика. Закончилось первое отделение.
— Не знаешь, где здесь служебный вход? — спросил я.
— По-моему, за кассами, с тыльной стороны, — сказала Нина. — А что?
Я снял с руки свой верный хронометр и опустил его во внутренний карман пиджака.
— Пойдем попробуем прорваться.
Мы пересекли площадь и обошли здание сбоку.
У служебного входа стояло десятка два машин. Несколько таксистов, собравшись в кружок, травили анекдоты — оттуда то и дело раздавались взрывы дружного смеха. У самой двери, поглядывая в их сторону, прохаживался парень с красной нарукавной повязкой.
— Послушай, друг, — обратился я к нему, — не скажешь, это здесь музыканты, что в фестивале участвуют?
— Ну здесь.
— Ты не вызовешь нам Вадима — флейтиста из оркестра?
— Какого еще флейтиста?
— Юрковского, — подсказала Нина.
— Понимаешь, какая история, — снова вступил я. — Мы с ним на пляже сегодня познакомились, в шахматы играли, а когда он ушел, часы остались, вот эти. — Я вытащил из кармана «Полет». — Ну мы и хотим отдать. Часы вроде ценные. Может, подарок или память от любимой женщины.
Дружинник с видом знатока взглянул на хронометр и согласился:
— Часы недешевые, у меня такие были. Только позвать я его не могу, нельзя мне отсюда отлучаться. — И посоветовал: — А вы подождите, после окончания все артисты через эту дверь выходить будут.
— Да не можем мы ждать, в том-то и загвоздка. Поезд у нас через час. — Я показал ему контрамарку. — Видишь, он нам и пригласительный дал, да мы не пошли. Уезжаем, какой уж тут фестиваль. Отсюда прямо на вокзал.
Он взял контрамарку, осмотрел ее с обеих сторон и нашел, что она в полном порядке.
— Да, дела…
— Ну не оставаться же нам из-за этих часов: сам рассуди.
— Ладно, — сдался он, — раз такой случай. Валяйте к своему флейтисту. Тут его один уже спрашивал, сказал, что брат, так я его тоже пропустил. — Он поправил повязку. — Только уговор: по-быстрому, одна нога здесь, другая там. Пойдете по коридору и первый поворот налево — там оркестранты.
— Спасибо.
Мы прошмыгнули мимо. Я не стал уточнять, кого он пропустил перед нами, гораздо больше меня интересовало другое.
— Как, ты сказала, фамилия Вадима? — спросил я, шагая вместе с Ниной в указанном направлении.
— Юрковский. Ты разве не знал?
— Нет.
Мы свернули налево и чуть не столкнулись с тучным мужчиной, сильно напудренным, во фраке и крахмальной манишке. Кроме него, в коридоре стояли еще несколько курильщиков, но никто из них не обратил на нас внимания.
Мы прошли дальше вдоль ряда одинаковых, отделанных коричневым пластиком дверей.
Я пожалел, что не спросил, за какой из них можно найти Вадима, и уже остановился, собираясь постучать в первую попавшуюся, как вдруг дверь, мимо которой мы только что прошли, распахнулась, и, оглянувшись, я увидел Тофика.
Схватив Нину в охапку, я отпрянул к стене. И вовремя. Из комнаты вслед за Шахмамедовым, опираясь на костыли, вышел Вадим.
— Подожди, — крикнул он. — Я согласен.
Видимо, Тофик остановился — я не видел его из-за прикрывавшей нас двери.
— Ты сегодня работаешь?
— Нет, нет! Ты меня не уговаривай. Три дня уговаривал, хватит! Я тебе так скажу: если не хочешь, это сделаю я! Понимаешь?! Сам сделаю!
«Чего-чего, а горячности в нем не поубавилось», — мельком подумал я.
— Хорошо. Подожди меня у служебного входа. После концерта…
— Никакого концерта! Никакого после! Сейчас! Сию минуту! Мне надоело цацкаться с этой гадиной! Сегодня он от меня ушел, а завтра из города улизнет. Ты этого хочешь, да?! Этого?! Или сейчас, или…
— Ладно, — перебил его Вадим. — Я попробую отпроситься, придумаю что-нибудь. Только сначала заедем ко мне, надо переодеться. Ты на машине?
— Нет, не на машине.
— Ничего. Поедем на моей. На, держи ключи. Жди, я скоро выйду.
Я взял Нину под локоть и, шепнув «не оборачивайся», повел ее в конец коридора. Так было меньше риска, что нас обнаружат. Если бы после того, как закроется дверь, Тофику взбрело в голову оглянуться, он увидел бы нас в спину.
Мы благополучно дотянули до конца коридора и свернули за угол.
Только тут я перевел дух. Потом взглянул на Нину. Лицо у нее побледнело и было испуганным. Но времени для объяснений не оставалось.
— Ни о чем не спрашивай, — сказал я. — Потом все поймешь.
В ответ Нина беззвучно пошевелила губами.
Я выглянул из-за угла.
Вадим стоял в противоположном конце коридора и говорил о чем-то с напудренным толстяком в черной фрачной паре. Надо было переждать.
В это время в проходе показался кто-то из оркестрантов. Повернувшись к нему спиной, я загородил собой Нину. Мужчина прошел мимо и, хохотнув, пропел густым басом:
О, море в Гаграх! О, пальмы в Гаграх! Кто вас увидел, не забудет никогда…Голос стих за поворотом.
— Не бойся, все будет хорошо, — сказал я.
— Я не боюсь. — Страх в ее глазах и вправду исчез.
— Сейчас мы зайдем к Вадиму. Постарайся держаться так, будто ничего не случилось.
— Я постараюсь…
Дальнейшее происходило быстро и как будто не с нами, а с кем-то другим, за кем я наблюдал со стороны, не в силах ни помешать, ни помочь, ни что-либо изменить в происходящем.
Вадима мы застали укладывающим свою флейту в футляр — очевидно, его отпустили, — но, увидев нас, он отложил инструмент и, выслушав, повел лабиринтами переходов в зал, где перепоручил высокой седой женщине, которая после коротких переговоров пообещала посадить нас на приставные места сразу, как только начнется второе отделение. Вадим, в свою очередь, пообещал встретить нас после концерта, пожелал приятно провести время и, сославшись на строгость дирижера, удалился.
Минут пять мы мозолили глаза седовласой контролерше, а потом, улучив момент, сбежали и пустились в обратный путь по закулисным лабиринтам.
Плутая узкими коридорами, я лихорадочно соображал, что делать дальше, как предупредить своих, ведь они не знали, какой оборот приняли события. Дорога была каждая минута! К черту запреты, я готов был нарушить приказ и позвонить в розыск, да где сейчас найдешь телефон. И потом: попробуй растолкуй в двух словах, почему я считаю, что нельзя оставлять эту парочку без присмотра…
Вадима мы нагнали у самого выхода. Он мелькнул в проеме и захлопнул за собой дверь.
Счет пошел на секунды. Больше медлить было нельзя, надо было что-то решать. Я почти физически ощущал приближение развязки.
Приняв решение, я двинулся в конец коридора.
— Я с тобой! — Нина не отставала от меня ни на шаг.
— Ты останешься здесь, — как можно тверже сказал я.
Неизвестно было, во что выльется моя последняя попытка проникнуть в тайну смерти Кузнецова, но в любом случае я не имел права втягивать в это дело Нину.
— Сейчас ты найдешь телефон и позвонишь по номеру, который я тебе дам. Скажешь, кто ты, и передашь разговор, который мы слышали. — Я назвал номер. — Запомнила?
Она кивнула и отпустила мою руку.
— Повтори.
Нина повторила.
— После того как позвонишь, немедленно возвращайся домой и жди. Все, иди.
Я легонько подтолкнул ее в спину, выждал немного и открыл входную дверь.
Пока мы мотались по закоулкам «Юбилейного», наступила ночь. В небе осколком блюдца висела половинка луны. Высыпали звезды.
— Ну что, нашел своего флейтиста? — спросил дружинник.
— Нашел.
— А девушку где потерял?
— Сейчас выйдет, — ответил я, чтобы отвязаться, но Нина действительно вышла и остановилась рядом.
Выяснить, почему она это сделала, я не успел — со стоянки, мигая малиновыми фонарями, отъехала «Каравелла».
Я был не один, меня окружали люди — тысячи людей, готовых прийти на помощь, попроси я об этом, но последние отпущенные мне секунды уже истекли. Сейчас от моего решения зависела человеческая жизнь. В сравнении с этим доводом все остальные потеряли всякое значение.
Я миновал компанию таксистов и подбежал к крайней машине с шашечками на дверцах.
Из приборного щитка торчал ключ зажигания.
Я открыл дверцу и опустился на сиденье.
Шофер, подошедший следом, заглянул в кабину сквозь опущенное стекло.
— Вылазь, парень, машина занята.
Пришлось в нескольких словах обрисовать ему положение. Был, конечно, риск, что он не поверит, подтвердить свои слова мне было нечем, но он поверил — недостающие доказательства, как видно, компенсировало выражение моего лица. Не теряя времени, он сел за руль и включил зажигание.
— Куда?
— Давай-ка за той машиной. — Я показал на удалявшуюся «Каравеллу». — И как можно осторожней, — предупредил я, сам точно не представляя, что означает мое «осторожней».
Обернувшись, я мельком увидел, как к нам со всех ног бежит Нина. В ту же секунду взвыл двигатель, и, чиркнув крылом о багажник соседней машины, мы вылетели со стоянки.
22.07. Начал преследование. Объект — «Жигули» белого цвета. Государственный номерной знак 87–92.
«Каравелла» показалась сразу, лишь только мы свернули на бульвар.
Она шла на средней скорости, соблюдая правила, и на долю секунды во мне шевельнулось сомнение: стоило ли суетиться, чтобы догонять того, кто и не собирается убегать? Правда, мысль эта тотчас улетучилась — я знал, что один из сидевших в «Каравелле» убийца, а другой — его следующая, третья по счету жертва.
Выровняв скорость и перестроившись в левый ряд, таксист установил дистанцию и шел на безопасном расстоянии, пропустив впереди себя три легковушки. Сосредоточенный и невозмутимый, он вел машину, не делая попыток задавать вопросы.
Между передними сиденьями была вмонтирована портативная рация. Время от времени оттуда раздавался треск, и искаженный помехами голос запрашивал свободное такси. Наше было занято: чтобы погасить зеленый глазок, водитель еще у «Юбилейного» включил счетчик.
Четкого плана у меня не было — в подобных случаях действуют по обстановке. Не пытался я и анализировать подслушанный разговор. Достаточно того, что он вывел меня на преступника. Будь я повнимательней, это произошло бы намного раньше. Сейчас я видел все свои ошибки. И мелкие и крупные — всякие, но одной себе не прощу — список, переданный мне дежурным управления. Я штудировал его дважды, но, увлеченный стремительной сменой событий, совсем упустил из виду. Конечно, список не панацея, а совпадение фамилий еще не улика, и все-таки…
Теперь-то ясно, что отец Вадима и значившийся в списке Николай Петрович Юрковский — одно и то же лицо. «Заведующий отделением горбольницы», — уточнил я про себя, и это прозвучало как упрек, потому что опоздал со своим открытием на целых трое суток.
Помнится, Нина говорила, что Вадим, приезжая сюда, останавливается не у отца, а на даче, где у него аппаратура, коллекция пластинок, даже сауна есть. Значит, сейчас они едут туда, ведь он сказал, что хочет переодеться. Да, скорей всего так оно и есть — они едут на дачу…
Мы выскочили на ярко освещенный центральный проспект и пошли по прямой.
Во встречном потоке света стали отчетливо видны два силуэта на переднем сиденье «Каравеллы».
О чем они говорили? Обо мне? О Сергее?
Я вспомнил еще одну грубейшую свою ошибку — магазин «Канцтовары». Там я проворонил железное доказательство, не оставлявшее камня на камне от алиби преступника. Желудевый человечек. Продавщица сказала, что они давно проданы. Давно! Значит, он приехал не в понедельник, а много раньше, еще до пятнадцатого. Мне бы зацепиться за это слово… Да что вспоминать — задним умом кто не горазд?
Ничего, теперь он от меня не уйдет, как тогда, в Якорном, теперь он на крючке. Главное, не сплоховать, не попасться им на глаза…
— Я — «Океан»! Я — «Океан»! — протрещал вмонтированный между сиденьями аппарат. — Михалыч, ты свободен? Сообщи, где находишься.
Водитель, не глядя, протянул руку и поднес к лицу микрофон.
— «Океан»! «Океан»! Я занят. У меня заказ. — Михалыч отключил микрофон и снова невозмутимо уперся взглядом в дорогу.
Мы проезжали мимо расцвеченного огнями цирка, когда он сказал, показав пальцем в спину:
— За нами едет какая-то машина.
— Пусть едет. — На всякий случай я все же оглянулся.
Сзади, пристроившись нам в хвост, катила новенькая желтая «Лада».
— Вы давно ее заметили?
— От самого «Юбилейного», — ответил он.
Только этого не хватало!
Я попросил чуть сбавить скорость. «Лада» сделала то же самое. Я попросил поменять ряд. Она повторила наш маневр. Кажется, нас тоже держали на крючке!
— А ну-ка, Михалыч, попробуем рассмотреть, кто в ней, — сказал я.
Водитель кивнул. Он подпустил машину поближе и резко тормознул.
Уличного освещения вполне хватило, чтобы рассмотреть сидевшего за рулем человека. Это был Стас. Он же Маквейчук. Он же подданный всех держав Макковей — босс и главный сборщик податей.
«Что-то рановато он засуетился, — подумал я. — Это, конечно, большая честь, но он нарушает условия договора. До назначенного срока еще почти полтора часа».
Михалыч отыскал в потоке машин «Каравеллу» и немного сократил дистанцию.
Слева мелькнула автозаправка и конечная остановка, на которой вчера я ждал автобуса после свидания с Симаковым.
«Каравелла», за ней мы, а за нами желтая «Лада» пересекли городскую черту.
Дорога пошла петлять. Несмотря на это, идущая впереди «Каравелла» резко увеличила скорость. Я боялся потерять ее из вида и попросил прибавить газ. «Лада» наседала и шла почти впритык — в отличие от нас Стас действовал в открытую.
Стрелка спидометра перевалила за девяносто, что по такой дороге было равносильно всем ста сорока. На особо крутых поворотах нас заносило, и я чувствовал, как от напряжения под сердцем возникает холодная сосущая пустота.
В свете фар возник синий дорожный указатель с обозначением развилки, но я не успел прочесть надписей.
— Куда это?
— Сейчас будет поворот на дачный поселок, там асфальт заканчивается, дальше идет грунтовка.
Далеко впереди замигали рубиновые огоньки. «Каравелла» прижалась к осевой и стала плавно сбавлять ход.
Мы пронеслись так близко, что можно было разглядеть сигарету в руке у Тофика.
Когда проехали метров триста, я попросил развернуть машину в обратном направлении. За нами, визжа шинами, развернулся Стас, но я старался не обращать на него внимания.
Справа в сплошном массиве зелени открылся просвет. Там еще не осело облачко пыли.
— Потушите фары, — сказал я, — и съезжайте на обочину.
Михалыч четко выполнил маневр, и мы остановились у места, где брала начало грунтовая дорога.
— Спасибо, друг, — поблагодарил я, пожалев, что так и не успел как следует разглядеть своего помощника. — Еще увидимся.
— О чем разговор, — пробурчал водитель. — Может, еще чем подсобить, так я с удовольствием.
— Нет, теперь уезжайте.
Не прощаясь, я побежал к лесополосе.
После освещенной дуговыми фонарями трассы здесь было темно, как в подземелье.
Со стороны шоссе послышался шум отъезжающей машины, а через минуту на дороге раздался хруст гравия.
Темноту прорезал яркий пучок света. Скользнув по частоколу деревьев, он уперся мне в спину. По земле заплясали длинные тени.
Стас отбросил всякую осторожность и на полной скорости шел прямо посередине дороги, заставив меня отскочить на обочину.
«Ну, теперь держись!» — мысленно приободрил себя я.
«Лада» обошла меня, скрежетнула тормозами и как вкопанная стала поперек дороги. Из кабины выскочил Стас.
Мы сближались. Верней, приближался я, а он стоял, глядя на меня с опаской, как человек, настигший врага, но не знающий, на что тот способен.
— Вот мы и встретились, Вальдемар, — сказал он, пряча что-то за спиной. — Как видишь, я исполнил обещание. Теперь очередь за тобой. Где деньги?
— Нет денег. И не будет. — Я сделал шаг в сторону.
— Стой там, где стоишь. — В его руке появился обрезок трубы. — Кончились твои шуточки. Предупреждаю, лучше отдай добром.
— Я не шучу, нет у меня…
Он не дал договорить, коротко взмахнул обрезком и ударил, целясь в голову.
Мне удалось увернуться.
— С Хромым спутался? — Он восстановил равновесие и стал, широко расставив нога, похлопывая концом трубы по ладони. — Чем он тебя купил?
— Покупают то, что продается.
— Цену набиваешь? — криво усмехнулся он. — Ладно, где деньги? Говори? Конечно, с собой прихватил. Где они?! В кармане? Или у этой оставил?..
Время разговоров закончилось, тема была исчерпана, а значит, сейчас он перейдет к действиям. Я понял это чуть раньше, чем Стас, и, сделав ложный выпад, откачнулся в сторону. В ту же секунду в воздух взметнулся стальной обрезок. Раздался звон разбитого стекла.
Я пошел на перехват, но тоже промахнулся, и мы оба повалились на землю.
Он был тяжелей килограммов на шесть, к тому же я упал на спину. Это стоило мне нескольких зуботычин, от которых из глаз посыпались искры. Стас воспользовался моментом, вывернулся и вскочил, чтобы добить меня ногами, но он переоценил силу своих ударов.
Я успел подняться и, когда он кинулся вперед, встретил его прямым правым. Левый боковой лишил его способности к сопротивлению, а третий, в который я вложил весь остаток сил, сбил его с ног.
Стас рухнул, и в наступившей тишине стало слышно, как в пустой машине размеренно щелкает указатель поворота.
Если не считать ссадины под глазом и порванной рубашки, я отделался легким испугом. Чего не скажешь о противнике. Он лежал, широко раскинув руки, и не подавал признаков жизни.
Я похлопал его по щекам. Он застонал и судорожно глотнул воздух. Приводить его в чувство я не стал, это заняло бы слишком много времени, а сейчас каждая минута была на вес золота.
Я снял галстук, перевернул Стаса лицом вниз, крепко связал ему руки. Потом оттащил к «Ладе», уложил на заднее сиденье, опустил предохранители на задних дверцах, вынул ключ и закрыл машину.
Прежде чем уйти, я еще раз проверил дверцы «Лады» и во весь дух помчался по дороге.
В зеленоватом свете луны смутно мерцала колея с проросшей посередине черной травой. Без умолку верещали кузнечики.
Я добежал до поворота.
Впереди, на фоне густых зарослей орешника, тускло поблескивая лаком, стояла «Каравелла».
Где-то невдалеке хрустнула сухая ветка, наверно, птица или обломился перегнивший сук. Надо было действовать, и действовать без промедления.
Я подбежал к машине.
Кабина была пуста. За увитой плющом изгородью, в глубине участка, светилось два окна — одно поярче, другое мутным красным прямоугольником, — остальное тонуло в потемках.
Калитка оказалась незапертой. Я прошел к дому и остановился у крайнего от крыльца окна.
По ярко освещенной комнате, поглядывая на часы, нервно расхаживал Шахмамедов. Через приоткрытую форточку доносилась ритмичная музыка.
Пригнувшись, я двинулся вдоль стены и заглянул во второе окно. Оно было занавешено, но не плотно — в центре, между задернутыми шторами, оставалась узкая щелка.
Я прильнул к стеклу, но увидел лишь висевший на стене ковер и колеблющуюся тень на полу, по движениям которой невозможно было определить, что делает человек, отбрасывающий эту тень.
Вот она переместилась, пропала, затем снова появилась, и всю длину щели заслонила фигура в белоснежной сорочке и черном с атласными лацканами смокинге.
Вадим — а это был, несомненно, он — и не думал переодеваться. Он поставил на подоконник пузырек и вновь исчез из поля зрения, направившись, по всей видимости, в соседнюю комнату. За миг до этого я заметил в его правой руке мокрый носовой платок, с которого капала какая-то бесцветная жидкость.
Все, что происходило со мной до сих пор, начиная с памятного разговора в кабинете начальника уголовного розыска и до столкновения со Стасом, от которого еще ныли синяки и ссадины, было прелюдией, подготовкой к этой самой минуте. В мою постройку лег последний недостающий кубик. Сейчас на моих глазах, по существу, повторялась сцена, однажды уже разыгранная на задворках гостиницы. Преступник действовал тем же способом, что и тогда, уверовав в его универсальность и собственную безнаказанность. Я знал, чем это закончилось для Кузнецова, и потому не раздумывал: бросился к крыльцу, перескочил через ступеньки и, распахнув дверь, ворвался в комнату.
В противоположном ее конце, опираясь на костыли, стоял Вадим. В шаге от него — Тофик. Оба они, услышав шум, обернулись в мою сторону.
— А вот и он! — С этими словами Шахмамедов сорвался с места, и почти одновременно меня пронзила дикая боль в голени.
Мне нельзя было нагибаться, но рефлекс, на который и был рассчитан удар, сработал, прежде чем я успел что-либо сообразить. Я склонился к ушибленному месту и немедленно поплатился за это.
Сокрушительный удар ногой в подбородок отбросил меня назад. Я стукнулся затылком о дверной косяк и потерял сознание.
4
Глаза у Симакова голубые. Даже слишком голубые. Для человека, занимающего его должность, больше подошли бы серые со стальным отливом, и чтобы брови сходились на переносице, как у героев потрепанных книжек, которые нашел когда-то на школьном дворе. Увы, во внешности моего начальника не наблюдалось ничего героического: и брови самые обыкновенные, и глаза без отлива — скорей усталые, с белками, покрытыми от недосыпания сетью мелких кровеносных сосудов. Это было первое, что я увидел, выбравшись из бездны, куда меня отправил не знающий жалости и сомнений Тофик.
Симаков смотрел пристально, не отрываясь, потом сказал что-то, но я расслышал только конец фразы: «…так будет удобней», после чего лицо его отодвинулось и надо мной навис розовощекий мужчина в белом медицинском халате. Он тоже заглянул мне в лицо и, ободряюще улыбнувшись, сгинул.
«Плохи мои дела», — подумал я и пощупал голову.
Она была туго спеленута бинтами, а шум в ушах и одеревеневшая челюсть свидетельствовали, что дела мои и впрямь не блестящи.
Постепенно я сориентировался в пространстве и обнаружил, что сижу в кресле, поблизости от места, где получил первый в своей жизни нокаут. Самого победителя в комнате не было. Кроме Симакова, здесь находились еще несколько человек, которых я раньше не видел. У стола с ручкой и бумагой сидел парень в милицейской форме, а у окна, спиной ко мне, Вадим.
— …Вы встретились четырнадцатого, — долетел до меня приглушенный повязкой голос Симакова. — Он переместился в дальний угол комнаты и обращался к Вадиму, видно продолжая прерванный разговор. — Кузнецов сообщил вам об условии, которое поставил перед ним Станислав Маквейчук, и вы пообещали занять деньги. Верно?
Ответа я не расслышал — Вадим говорил слишком тихо, — но что-то он все же ответил, потому что последовал уточняющий вопрос:
— Но вы дали ему понять, что он может рассчитывать на вашу помощь?
И опять я не услышал, что ответил Юрковский, да это в общем-то и не требовалось — я знал, как оно было на самом деле, и мог при желании воспроизвести его ответ, если, конечно, он не настолько глуп, чтобы запираться после того, как его накрыли с поличным.
— У вас с Кузнецовым давние счеты, к тому же в глубине души вы всегда презирали его за слабость. Себя-то вы всегда считали и считаете сильной личностью, не так ли? Впрочем, об этом позже…
Симаков достал папиросу, продул мундштук, но, поколебавшись, не закурил и спрятал ее обратно в пачку.
— Вы решили воспользоваться планом бывшего компаньона и в тот же вечер подобрали ключ. Объясните, как вы установили точное время ограбления.
Думаю, что он знал это не хуже Вадима, — никакого времени тот не устанавливал, просто выследил, вот и вся премудрость.
— …Хорошо, я вам напомню, — сказал Симаков ровно, каким-то чужим, незнакомым голосом. — На следующий день, пятнадцатого, около семи вечера Кузнецов вышел из дома и отправился на работу. Вы наблюдали за ним из машины и, убедившись, что он вошел в гостиницу, уехали. В девять пятнадцать вы снова подъехали к «Лотосу», дождались инкассаторской машины, после чего подогнали свой автомобиль к двери с обратной стороны гостиницы. Затем открыли замок, проникли в бухгалтерию и взяли под наблюдение спуск в ресторан. Припоминаете?..
Последующие события представлялись мне до того зримо, будто я сам при этом присутствовал.
До сих пор Юрковский действовал по чужому сценарию, а дальше — по своему собственному. Если Стас шел напролом и чуть ли не силком заталкивал Кузнецова в ловушку, то он поступил хитрее: подкинул приманку, и Сергей сам полез в западню. Произошло это так.
В двадцать один сорок Кузнецов, взяв с собой выручку, поднялся в холл гостиницы. Вадим встретил его наверху, у лестницы, и сказал, что привез деньги и что готов их отдать, — для друга, дескать, ничего не жалко. Кузнецов, естественно, счастлив: наконец-то он вернет долг и освободится от унизительной зависимости от шантажистов. Чего же мы ждем, спрашивает он, где деньги? Как это где, отвечает Вадим, разумеется, в машине, не таскать же такую крупную сумму с собой, а машина здесь, в двух шагах, — он специально подъехал с черного хода, о котором рассказывал Сергей. Почему с черного? Ну, во-первых, ради интереса, проверить, правду ли он говорил о плане Стаса или это только выдумка, предлог, чтобы одолжить деньги. Ну и, во-вторых, не хочет передавать деньги на виду, при публике, которая вечно торчит в вестибюле. Мало ли кто что подумает, сумма-то не маленькая.
Кузнецов в нерешительности: он должен сдать выручку, через полчаса он освободится. Как хочешь, не настаивает Вадим, однако ждать он не может. Давай встретимся позже, предлагает Сергей, после работы или завтра утром? Вадим не возражает, только сегодня он занят, прямо сейчас должен срочно уезжать — ненадолго, всего на пару дней. Это решает дело — такая отсрочка пугает Кузнецова. Он соглашается. Они входят в дверь бухгалтерии, щелкает английский замок, и единственный свидетель, Вахтанг Кикабидзе, с застывшей улыбкой смотрит им вслед…
Возможно, я ошибался в деталях, возможно, все происходило немного иначе и Вадим использовал другие, более веские, с точки зрения Сергея, доводы и аргументы, но общая картина была именно такой. Это подтверждалось и вопросами, которые продолжал задавать Симаков:
— Каким образом вы заставили его сесть в машину?
«А зачем заставлять?» — подумал я, вспомнив, как дважды помогал Вадиму укладывать костыли на заднее сиденье. Кузнецов сделал то же самое, и в ход пошли носовой платок и пузырек с жидкостью.
— Вы пользовались эфиром? — спросил Симаков.
О содержании ответа я догадался по слабому кивку Вадима, сидевшего в прежней позе у окна.
В это время к Симакову подошел одетый в штатское оперативник. Он сказал что-то, чего я, разумеется, не расслышал — повязка стягивала не только затылок и распухшую челюсть, но заодно и оба моих уха.
Оперативник удалился, и Симаков вновь обратился к Юрковскому, неожиданно переведя разговор на мою особу:
— Двадцать девятого на Приморской появился наш сотрудник. Поначалу вы не придали этому особого значения, тем более что вечером прочли заметку о несчастном случае. Вы решили, что нас обманул трюк с одеждой, и успокоились. Однако уже на следующий день, тридцатого, вас разыскал Шахмамедов и сказал, что к нему обращался некий Сопрыкин — подозрительный тип, назвавшийся знакомым Кузнецова. Он остановился на Приморской и предлагает сбыть валюту. Шахмамедов сказал также, что со слов Кузнецова ему известно о плане ограбления гостиницы, так как Сергей незадолго до этого просил у него в долг, и что он, Шахмамедов, подозревает, что Сопрыкин и есть преступник, виновный в гибели Кузнецова. Тофик считал вас близким другом Сергея, доверял вам. Он хотел обратиться в милицию, но прежде решил посоветоваться с вами. Сообщение Шахмамедова вас напугало. Не из-за Сопрыкина, которого вы не знали и пока что не имели оснований опасаться. Полной неожиданностью для вас стало то, что кто-то еще, кроме вас, знает о плане Маквейчука и связывает этот план с гибелью Кузнецова. Вы предложили Тофику установить наблюдение за квартирантом и вместе пойти в милицию, но не раньше, чем добудете более веские улики его виновности, для чего обещали познакомиться с Сопрыкиным…
Вот она, причина и разгадка агрессивности, которую проявлял по отношению ко мне Тофик!
Собственно, оба мы заблуждались. Каждый по-своему. С его точки зрения мое поведение в эти дни было более чем подозрительным, а сам я до последнего считал Шахмамедова наиболее вероятным кандидатом на роль обвиняемого. Лишь после перепалки, подслушанной в кулуарах «Юбилейного», начал догадываться, что он ни при чем, но и тогда не предполагал, что моя попытка выручить его из беды закончится для меня столь плачевно…
Я сосредоточился, стараясь унять нараставшую головную боль. Ненадолго это удалось.
— Утром первого октября, — продолжал Симаков, — на Приморскую пришел Герасимов. Вместе с Сопрыкиным они посетили бар «Страус». Это насторожило вас. Подозрения усилились еще больше, когда они пошли к «Интуристу», где встретились со Станиславом Маквейчуком. Утверждение Сопрыкина, что он и раньше останавливался на Приморской, его активность и узкая избирательность в контактах навели вас на мысль, что он — работник милиции. Вечером Сопрыкин вторично посетил бар, а когда вышел оттуда, следом за ним выбежал Герасимов. Вы в панике. Задуманное и осуществленное с математической точностью преступление может раскрыться из-за единственной неучтенной вами мелочи. О способе совершенного вами преступления знают уже трое. Шахмамедов до поры обезврежен, он под вашим контролем. В молчании Маквейчука вы тоже уверены — тому невыгодно рассказывать первому встречному о своем лопнувшем прожекте. С Герасимовым совсем иначе. Он ближайший помощник Маквейчука, наверняка знал о его намерениях, но он поглупей и может проболтаться о черном ходе, которым воспользовался преступник. В этом случае милиция получила бы сведения, которые, по вашему мнению, заставят ее отказаться от версии о несчастном случае. Возникнет другая версия — о сообщнике, а этого вы боитесь больше всего. Герасимов становится опасным, и это решило его участь. Если до Якорного вы были только грабителем, то там, Юрковский, вы стали убийцей…
До меня не дошел смысл последних слов Симакова.
Почему в Якорном? А Кузнецов? А одежда, подброшенная на пляж?
Я даже не пытался вникнуть в это противоречие. И комната, и люди, и стул у окна с сидевшим на нем флейтистом подернулись дымкой, отдалились. Перед глазами вдруг всплыла луна, дорога, искаженное злобой лицо Стаса. Где он? Задержан?
Я хотел спросить об этом, но не успел…
Когда я очнулся, стул у окна был пуст — Юрковского уже увели. Парень в милицейской форме продолжал возиться с бумагами, а Симаков сидел в кресле напротив, держа руку у меня на колене.
— Ну вот и молодцом, лейтенант, — сказал он. — Таким ты мне больше нравишься.
Не знаю, что ему во мне понравилось, но чувствовал я себя паршиво.
— Говорить-то можешь?
Я выдавил из себя какой-то невнятный звук.
— Ладно, ладно, вижу, что можешь. — Он подавил улыбку. — Не горюй, Сопрыкин, до свадьбы заживет. Кости целы, а царапины пройдут. И то сказать, сам виноват, зачем лез на рожон, дача-то блокирована была, на полсекунды ты нас опередил… — Из сострадания он не стал развивать эту тему. — Ничего, теперь ты у нас тот самый битый, за которого двух небитых дают. Отдохнешь денек-другой — и за работу.
— Стас… — прошепелявил я.
— Здесь он, задержан, — успокоил он. — Ты его так спеленал, что насилу развязали. — Помявшись, он добавил: — Тут вот какая штука, Володя, ты еще не знаешь… — Симаков убрал с колена невидимую пылинку. — В общем, Кузнецов жив…
«Ну и шуточки у него», — подумал я, но Симаков не шутил.
— Жив Кузнецов, — повторил он. — Мы нашли его тут, в подвале. В бессознательном состоянии, потому и задержались. Сейчас над ним медики колдуют. Юрковский его больше двух недель какой-то дрянью пичкал…
Я перевел взгляд на стул у окна, на котором раньше сидел Вадим.
— Говорит, что не хотел убивать Кузнецова, — объяснил Симаков. — Рука, говорит, не поднималась. Собирался вывезти после фестиваля, а потом шантажировать: так, мол, и так, исчез, мол, вместе с выручкой, считаешься погибшим, а потому вот тебе на первые расходы и кати на все четыре стороны. Так-то, брат…
Он встал, подошел к двери и заговорил с кем-то стоявшим снаружи. Потом вернулся ко мне.
— Машина пришла, сейчас поедем.
«Куда?» — подумал я, но начальство на то и начальство, чтобы предвидеть вопросы подчиненных.
— В больницу тебе надо. Подлечиться и вообще…
Я достаточно хорошо изучил Симакова, чтобы сомневаться, что его «вообще» сказано неспроста.
— Между прочим, ты помнишь чемоданчик с двойным дном, ну тот, что Маквейчук для валюты приготовил?
Он полез в карман за своим «Беломором», но так его и не вытащил.
— Понимаешь, Володя, записную книжку мы в этом чемоданчике нашли. Связи у Стаса обнаружились, спекулянты, расхитители, эти бы связи прощупать…
Я оперся о подлокотник и попробовал встать. Симаков поддержал меня, и мы вышли на крыльцо.
Посреди двора лежало ярко-зеленое пятно травы, освещенной фарами милицейской машины. Чуть поодаль стояла «скорая помощь» с задранной кверху дверцей багажника.
«Вот и финал, к которому ты так стремился», — съязвил сидевший во мне чревовещатель.
«Скорей пролог», — по привычке возразил я, хотя в данном случае мы говорили об одном и том же.
Двое из прошлого
Посвящаю моему отцу
Глава 1 12 февраля
СКАРГИН
Стальные прутья решетки не мешают мне видеть тюремный двор — белый, усыпанный снегом квадрат, со всех сторон замкнутый темными, кажущимися почти черными зданиями. Отсюда, из комнаты для допросов, они меньше всего похожи на обычные городские постройки: ни балконов, ни подъездов, а вместо окон — узкие, смахивающие на бойницы прорези в толстых кирпичных стенах.
В углу двора — заключенные. Трое соскребают снег деревянными лопатами, четвертый идет следом, подметает асфальт куцым домашним веником. Работают не спеша, вполсилы, старательно сгребая снег в аккуратные кучки, которые потом, судя по всему, так же тщательно и неторопливо соберут в одну большую, чтобы погрузить в самосвал, стоящий здесь же, во дворе.
Я вижу, как издали к административному корпусу движутся две фигурки. С высоты четвертого этажа они кажутся неправдоподобно маленькими, но не настолько, чтобы я не узнал человека, шагающего впереди. Его ведут ко мне. Это мой подследственный Красильников.
За ним, щеголяя новенькой отутюженной формой, идет сопровождающий — прапорщик, которого я раньше не видел. Собственно, и не мог видеть, потому что у входа в административный корпус сопровождающие меняются и после повторного личного досмотра, а проще говоря, обыска в специально отведенном боксе, заключенного ко мне на четвертый этаж поведет другой человек. Таков порядок.
Игорь Красильников, ради встречи с которым я нахожусь здесь, в следственном изоляторе, одет в черную стеганую фуфайку, синие хлопчатобумажные брюки, на ногах грубые, с заклепками, ботинки. Учитывая расстояние, рассмотреть столь мелкие подробности, разумеется, трудно, но я уже имел возможность видеть его в этом одеянии раньше. Руки, как и положено, он держит сзади. По движению головы можно догадаться, что он щурится на свет, отводит глаза на кирпичные стены, дает им привыкнуть к слепящей белизне снега. Так и идет, глядя не вперед и не под ноги, а двигая головой из стороны в сторону, отчего кажется скорее любопытным экскурсантом, чем заключенным. Думаю, ему хочется по возможности растянуть считанные минуты, отпущенные на дорогу, подольше побыть на воздухе, под чистым в эту пору небом. При известном воображении — а его у Красильникова, как я успел убедиться, с избытком — можно представить, что ты на свободе, ненадолго забыть об идущем сзади конвоире, и тешить себя иллюзией, что чем дольше ты будешь находиться вне камеры, тем быстрее пробежит время заключения. Нужно признать: в положении моего подследственного без такого самообмана обойтись трудно.
На середине двора он медлит, полуобернувшись к сопровождающему, что-то говорит ему — наверное, просит не спешить, — и тот великодушно укорачивает шаг.
Что-что, а просить он умеет — это точно. Когда надо, умеет вызвать жалость, сочувствие. Однако сейчас — и именно сейчас, а не днем или двумя раньше — его маленькие хитрости не вызывают во мне никакого отклика. Этому есть серьезные причины: хитрость всегда одна из личин лжи, особенно в его, Красильникова, положении, а после той большой лжи, на разоблачение которой потрачено полных четыре недели, маленькая становится неинтересной.
«Что ж, — говорю я себе, — отойди от окна, не смотри. Кто тебе мешает?» Но что-то удерживает меня на месте. Это не праздное любопытство, не желание понаблюдать за человеком в тот момент, когда он тебя не видит, чтобы извлечь из своих наблюдений какую-то пользу (такой прием иной раз помогает в нашей работе). Нет. В первые дни наши отношения действительно не выходили за рамки стандартной схемы «следователь — подозреваемый». Но после бесчисленных и поначалу тщетных попыток понять его, разобраться в его связях с убитым (в настоящее время Игорь Красильников обвиняется в убийстве), после разговоров с глазу на глаз, когда он совершенно спокойно, как заученный текст, слово в слово повторил одно и то же, а каждый день приносил все новые доказательства его вины, после неопределенного и не сразу появившегося чувства, что по ту сторону стола сидит не случайно попавший в беду человек, а человек, совершивший преступление сознательно, продуманно и теперь так же продуманно и сознательно желавший уйти от ответственности, — после всего этого интерес к нему стал иным, во всяком случае, перестал быть сугубо профессиональным.
И вот пришел день, когда все или почти все осталось позади, тот последний день, которого все мы ждали, последний не в том смысле, что сегодня закончится следствие по делу, — нет, еще предстоит выполнить ряд формальностей, — последний потому, что только сегодня мы наконец располагаем совокупностью неопровержимых доказательств, позволяющих полностью восстановить картину происшедшего и окончательно отбросить то, что между собой успели окрестить «легендой Красильникова». Казалось бы, можно вздохнуть с облегчением и поставить точку, но облегчения почему-то не было, да и точку ставить, пожалуй, рановато.
С того, теперь уже далекого, январского дня прошел месяц. Много это? Не знаю. Покажите мне человека, способного в более короткий срок выявить, что произошло, без единого свидетеля, между двумя людьми, при условии, что один из этих двух мертв, а другой прекрасно понимает, что его слова невозможно проверить, — покажите, и я скажу, что он рожден для работы в следственных органах, а то и пойду к нему в ученики…
Нет, если говорить об эмоциях, то сейчас я скорее испытываю нечто противоположное любопытству. Это не равнодушие, не безразличие. Может быть, усталость? Но в таком случае почему бы, в самом деле, не отойти от окна, не сесть за намертво привинченный к бетонному полу стол, не разложить на нем бумаги и не закурить в ожидании, пока Красильникова проведут по двору и поднимут сюда, на четвертый этаж? По всей вероятности, потому, что все это уже было: и бумаги на столе, и сигарета, дымящаяся в пепельнице, и мой подследственный, сидящий напротив, сидящий так, как обычно сидят на этих кованых табуретках — с понуро опущенной головой, сложенными на коленях руками и бесцельно двигающимися пальцами, глядя на которые я всякий раз почему-то представляю оборванные нити, еще недавно связывавшие этого человека с миром.
КРАСИЛЬНИКОВ
Он не знал, что следователь наблюдает за ним, а если бы и знал, это ничего не меняло. Его румяное от легкого мороза лицо было спокойно, на нем не отражались ни тревога, ни волнения, и невозможно было понять, чем заняты его мысли. Тем не менее именно сейчас, по дороге в административный корпус, где предстоял очередной, бог знает какой по счету допрос, нервы Красильникова были напряжены до предела. Каждый шаг, приближавший его к мрачному четырехэтажному зданию, усиливал предчувствие беды, страшной, неотвратимой. Собственно, ощущение это возникло не сегодня и не вчера, оно появлялось всякий раз перед встречей со следователем, но сейчас было, как никогда, сильным. Еще накануне, проснувшись среди ночи, он битый час ворочался на жесткой койке, а когда понял, что заснуть не сможет, начал ворошить в памяти все, что когда-либо приходилось слышать о милиции, прокуратуре, следствии. Из случайных, обрывочных сведений вдруг выудил где-то читанное: якобы на расследование по уголовным делам отпускается жесткий срок — два месяца, и ни днем больше. Стало быть, половина уже позади! На короткое время это успокоило — значит, недолго, значит, скоро, ведь топчутся же они на месте целый месяц, потопчутся и второй! Но наступило утро, засветилось матовым светом узкое окно под потолком камеры, и совсем другая мысль овладела им. Мысль трезвая, безжалостная: надеяться не на что. При чем здесь срок? Они не успокоятся до тех пор, пока не докопаются до сути, а докопаться могут и сегодня и завтра — в любой день, и он, здоровый, сильный человек, обречен на пассивное ожидание, сомнения, бесконечно долгие ночи, когда даже во сне не покидает чувство страха. Дошло до того, что утром, в придачу к ночным кошмарам, вспомнилось, как давным-давно, еще в детстве, соблазнился яркой, затейливо раскрашенной коробкой из-под монпансье, которую сосед держал на кухне в ящике со столярным инструментом. Дождавшись подходящего момента, он стащил ее, убежал в самый дальний конец двора, открыл крышку и в ужасе отпрянул. В круглой жестянке, потревоженные дневным светом, извивались отвратительные на вид дождевые черви. Похоже, тогда он видел их впервые в жизни, иначе как объяснить охватившую его панику, а потом жестокость, с которой он уничтожал этих мерзких расползающихся тварей. Сравнивая тот далекий свой испуг и теперешний страх, он с внутренней дрожью на миг представил, что в голове, как тогда в комочках земли, копошатся, сворачиваются кольцами, скользкие коричневые тела. Но их не сожжешь, не заставишь корчиться в языках пламени…
«Тоже, нашел о чем вспоминать!» — обозлился Красильников и замедлил шаг, будто это могло помочь избавиться от страшной картины, так некстати нарисованной воображением.
— Не останавливаться! — мгновенно отреагировал сопровождающий.
Игорь полуобернулся. Обращенное к прапорщику лицо выражало крайнюю степень покорности.
— Пойми, друг, воздухом подышать хочется…
— Отставить разговоры! — обрезал прапорщик, но скрип снега за спиной стал раздаваться чуть реже.
Пусть маленькая, а победа. При других обстоятельствах она бы порадовала Красильникова, только не теперь. Сейчас голова была занята другим.
Чтобы унять резь от бьющего прямо в глаза солнца, он перевел взгляд на стены каменного колодца.
Окна, окна, окна — бесконечная череда окон. Справа, слева, впереди, сзади…
Странное дело, на протяжении всего месяца, здесь, в тюрьме, ему с огромным трудом удавалось сосредоточиться на главном, обдумать создавшееся положение. То школу вспомнит, сокурсников по университету, то вдруг черви эти привиделись. Ну разве не чушь?! С чего, например, ему о жене, о Тамарке, беспокоиться, если сто лет как с ней все решено и крест поставлен? Так нет, вставала перед глазами чуть ли не каждый вечер. Будто наяву видел. Гнал от себя — она возвращалась. Жалость откуда-то взялась: как она там, что делает, есть ли деньги на расходы? Дальше — больше. Размяк, раскис душой, дошел до того, что раньше было просто невозможным, немыслимым, — в порыве раскаяния, мучимый укорами совести, признался: «А ведь погубил я ее жизнь, искалечил. Виноват и перед Тамарой, и перед дочкой». Вроде полегчало. Повеселел даже, попросил свидания с женой, хотя знал, что откажут, — не положено. Да и неизвестно, пришла бы она или тоже крест поставила после случившегося? На этом и споткнулся, обозлился снова: не больно нужно, пусть строит из себя несчастную, обиженную, обманутую — пусть! Все глупости. Стоит только выпутаться из этой истории, и все станет на свои места. Исчезнут сомнения и колебания. Все пойдет своим чередом. Лишь бы выкарабкаться. Сейчас важнее этого ничего нет…
…Скрипит снег под ногами, плывут мимо окна камер…
Краем глаза Красильников уловил чуть заметное движение, которым один из заключенных, убиравших снег во дворе, передал другому окурок. Тот косанул на конвоира и, убедившись, что все сошло гладко, спрятал бычок в рукав телогрейки…
«Тоже мне, конспираторы, — раздраженно подумал он. — И что они в этом находят?»
На память пришел давний случай, когда он тринадцатилетним мальчишкой поддался на уговоры приятелей и выкурил свою первую и, как оказалось, последнюю в жизни сигарету. Шел домой и мучился предчувствием нагоняя — не сомневался, что мать обо всем догадается. Видно, страх у него врожденный, раз нечего вспомнить, кроме такого рода переживаний…
А ведь мать он любил! Одинокая, в те годы молодая еще женщина, все свободные вечера она проводила в клубе медицинских работников, где истово упражняла свои голосовые связки в хоровом кружке. Время от времени выступала в концертах художественной самодеятельности, а однажды ее даже показывали по местному телевидению. Но то ли не все ладилось в клубе, то ли на работе не все шло гладко — она работала медсестрой в поликлинике, — домой чаще всего она возвращалась не в духе. Бралась за шитье, за уборку, но все валилось у нее из рук. Он с детства запомнил ее прямую, негнущуюся спину, то, как неожиданно она вскакивала со стула, быстро и бестолково двигалась по комнате в своем развевающемся, пахнущем нафталином халате. В такие минуты лучше было не попадаться ей под руку — могла придраться к мелочи, отхлестать по щекам, больно выкрутить ухо, а то и ударить по голове. Вряд ли кто-то еще, кроме сына, знал, какой жестокой иногда становилась эта маленькая, чуть склонная к полноте женщина. И все же Игорь любил ее…
Как и предполагал, в тот вечер она с первого взгляда угадала его состояние, спросила строго:
— Ты курил?
Он стоял посреди комнаты, виновато понурив голову.
Мать взяла с буфета тонкую дамскую папиросу, нервно, ломая спички, прикурила и стремительно пошла вдоль стен. Потом приблизилась к нему. Остановилась.
— Откуда у тебя деньги?
Он сразу сообразил, о каких деньгах идет речь, но сделал попытку уйти от ответа.
— Я не покупал, — промямлил он чуть слышно. — Ребята угостили.
— Угостили?! А это что?! — Порывистым движением она выхватила из кармана халата пачку трехрублевок и, размахнувшись, резко бросила ему в лицо. — Что это, я спрашиваю?!
Зеленые бумажки, как однокрылые бабочки, зависли в воздухе и в беспорядке рассыпались по ковру.
— Здесь тридцать рублей! Откуда у тебя эти деньги?!
Она с силой нажала ему на плечи, усадила на стул и сама села напротив. Приблизила лицо. От того, что зрачков не было видно — они прятались между густо подведенными веками, — ему стало не по себе.
— Я… я продал фотоаппарат… Он все равно не работал. — Приготовившись к худшему, Игорь сжался в комок. — Ты же сама хотела его выбросить…
Он ждал удара, но удара не последовало, мать неожиданно мягко провела ладонью по его щеке и шее.
— Господи, — низким, вызвавшим в нем нервную дрожь голосом сказала она, — как ты похож на своего отца…
Ладонь была маленькой и очень холодной. Ему захотелось отбросить руку, увернуться, отбежать в сторону, но он пересилил себя, сидел, боясь шелохнуться, и украдкой разглядывал валявшиеся под ногами новенькие трешки — законно принадлежавшую ему добычу. Ну да, он собирал деньги, что тут плохого? Ведь не он же их придумал, эти красивые, разноцветные бумажки, за которые купишь все, что душе угодно.
— Я не буду больше… — готовясь расплакаться, сказал он.
Она вздрогнула. Отойдя в дальний угол комнаты, презрительно скривила губы и процедила:
— Слушай и запомни, негодяй! Если я когда-нибудь увижу тебя с папиросой — берегись! Ты меня понял?
— Понял, — чуть шевеля губами, прошептал он.
— Все, разговор окончен…
«А как же деньги?» — хотел спросить Игорь, но мать, взмахнув полами халата, уже вышла из комнаты. В воздухе стоял сладковатый запах дыма. Он дождался, когда из-за двери послышались мощные аккорды, которые она извлекала из их старенького пианино, и, поминутно оглядываясь на дверь, стал быстро собирать с ковра хрустящие трешки.
Смешно: прошло больше пятнадцати лет, но курить он так и не начал. Мать уже наверняка забыла тот случай, а он, надо же, помнит…
СКАРГИН
Я знаю, что Игорь не курит, и, вытащив из пачки сигарету, ловлю себя на настойчивом желании досадить своему подследственному. Скажем прямо: для старшего следователя прокуратуры, разменявшего пятый десяток лет, желание несколько странное: надымить в кабинете и испытывать мстительную радость от того, что это будет неприятно человеку, который войдет сюда через несколько минут. Ерунда, конечно. При нем я не курю. Но это тоже странно, потому что в данном случае сознательный отказ от курения — признак все той же неприязни, только вывернутой наизнанку. Впрочем, у нас с Красильниковым довольно сложные отношения, и мою неприязнь есть чем объяснить.
Я заталкиваю сигарету обратно в пачку и чуть приоткрываю форточку.
Месяц назад в числе прочих была версия, что Красильников совершил преступление вследствие случайного стечения обстоятельств — так называемое неосторожное убийство. «Значит, — думал я, — не исключено, что мы имеем дело не с расчетливым преступником, а просто с попавшим в беду человеком». Поначалу Игорь действительно произвел неплохое впечатление, в меру нервничал, но в целом держал себя естественно: волновался там, где надо было волноваться, был спокоен тогда, когда это требовалось, — в общем, всем своим видом внушал доверие, насколько можно говорить о доверии в такой ситуации. «Все обойдется без осложнений, — решил я. — Дело сравнительно простое и не займет много времени».
Слово «простое», мелькнувшее тогда в сознании, должно было насторожить — пора, казалось бы, привыкнуть, что в нашей работе просто не бывает никогда, даже если налицо чистосердечное признание, даже если явка с повинной. Уже через несколько минут после начала первого допроса, когда Красильников, обаятельно улыбаясь, стал категорически отрицать все подряд, в том числе и сам факт присутствия в доме убитого, я понял, что ошибся, но и тогда еще не представлял, насколько глубоко…
Да, мое отношение к нему за минувший месяц сильно изменилось. Может быть, пока есть время, в этом стоит разобраться? Наверное, стоит. Тем более что следователь обязан не только раскрывать преступление, но и всесторонне изучать личность человека, оказавшегося, как мы говорим, по ту сторону стола…
Я медленно перелистываю страницы дела, рассматриваю подпись Красильникова под первым протоколом допроса, заключения экспертиз — судебно-медицинской, технической, криминалистической. Разглядываю фотографии. Под ними моим почерком помечено: «Обзорный снимок места происшествия», «Узловой снимок места происшествия», «Снимок трупа с окружающей обстановкой».
«А вдруг все же ошибка? — возникает нечаянная мысль. — Не может быть, исключено, но… вдруг?» Прошло четыре недели, события еще свежи в памяти, и нет никакой необходимости подстегивать воображение. Я закрываю папку с делом…
Это случилось девятнадцатого января. В одноэтажном флигеле, находящемся в глубине двора по улице Первомайской.
В единственной, если не считать тесной прихожей, комнате был обнаружен труп гражданина Волонтира Георгия Васильевича. Сторож районной овощебазы, свободный в тот день от дежурства, умер в результате общего отравления бытовым газом. Девятнадцатого января ни один из нас не мог предположить, что смерть эта — логическое завершение событий, начало которых приходится на годы войны, что причины убийства прямо связаны с оккупацией города в сорок втором году…
Рано утром, проходя мимо дверей флигеля, почтальон Рыбакова почувствовала сильный запах газа. На ее стук никто не отозвался, и, встревоженная, она немедленно вызвала техническую помощь. Вскоре на место прибыла аварийная машина. Бригадир газовщиков, на наше счастье, человек предусмотрительный, не повредив двери, проник в помещение. Внутри увидел мертвого человека. Бригадир не растерялся, тут же позвонил в милицию и принял меры, чтобы никто больше во флигель не входил. «Будьте уверены, я порядок знаю», — сказал он нам часом позже.
Прежде чем в дом вошли мы, аварийщики перекрыли газ и основательно проветрили помещение. Но и после этого находиться в нем продолжительное время было невозможно: все вещи, мебель и даже стены небольшой, метров семнадцати, комнаты пропитались гнилостным запахом, от которого вскоре появлялась головная боль и начинали слезиться глаза.
В комнату набилось не меньше семи человек, но тесноты не ощущалось. Работали сосредоточенно, молча. Время от времени шелкал затвор фотоаппарата. Каждый щелчок сопровождался мощной вспышкой света, отчего предметы принимали зловещий вид, фигуры людей на доли секунды отбрасывали густые черные тени, а лица, как в грозу, освещались голубоватыми всполохами.
На первых порах ничто не вызвало наших подозрений. Происшедшее представлялось несчастным случаем. Подтверждала эту версию и поза трупа (Волонтир умер во время сна, лежа на старом, продавленном диване), и то, что Георгий Васильевич, по мнению медика, накануне смерти находился в состоянии сильного алкогольного опьянения. И пожалуй, главное на тот момент — входная дверь была заперта на крючок изнутри. Выпил лишнего, забыл зажечь газ — классический несчастный случай из тех, о которых еще долго будут судачить соседки, а газовщики приводить в пример нерадивым хозяйкам при инструктаже. Так думали мы. Но заблуждались недолго.
При исследовании ручек газовой плиты (обе конфорки были открыты до упора, но газ не зажжен) эксперт не обнаружил на них каких бы то ни было отпечатков пальцев. Его сообщение сработало, как мина замедленного действия. Правда, сравнение это пришло на ум несколько позже, но и тогда заключение дактилоскописта прозвучало неожиданно. Не сговариваясь, все, кто был в комнате, одновременно посмотрели на аварийщика, но бригадир отрицательно покачал головой: нет, к ручкам он не притрагивался. Значит, следы стер не он. Но никто другой до нашего приезда в дом не входил! Это означало, что несчастный случай, так же как и самоубийство, полностью исключался. Рассеянный человек, забывший зажечь вытекающий из конфорок газ, не мог стереть отпечатки пальцев на ручках. Да и самоубийцу, заботящегося в последние минуты перед смертью об уничтожении следов своих приготовлений, представить трудно. С другой стороны, версию о самоубийстве нельзя было окончательно сбрасывать со счетов, не рассмотрев всех возможных вариантов, то есть действуя методом исключения.
Сотниченко, приданный мне в помощь инспектор уголовного розыска*, предложил свое объяснение: это все же самоубийство, но обставленное таким образом, чтобы после смерти Волонтира на кого-то пало подозрение в убийстве. Это можно сделать из мести, сводя счеты…
_______________
* Действие повести происходит до 1984 года, поэтому работники милиции именуются по существующим тогда должностным званиям.
— Не совсем обычный способ, согласен, — сказал он, — но теоретически возможный.
Коллега и традиционный оппонент Сотниченко Костя Логвинов вполне резонно возразил:
— Если уж навлекать подозрение, то на конкретное лицо, на того, кому мстишь, с кем сводишь эти самые счеты. Где в таком случае записка, письмо, хоть какой-то намек? — Он подумал и закончил: — И потом, Волонтир не стал бы запирать дверь на внутренний крючок, это уж как пить дать.
Крыть было нечем, и пусть Логвинов не произнес слово «убийство», оно словно повисло в воздухе. Очевидно, все мы подумали об одном и том же: исключив несчастный случай, а за ним самоубийство, остается предполагать худшее. Этот момент будто послужил сигналом для участников осмотра: быстрее задвигались люди, чаще стал вспыхивать блиц фотоаппарата.
Вплотную к флигелю подогнали машину «скорой помощи», погрузили в нее труп.
К девяти часам медленно и нерешительно над городом взошло тусклое солнце. Сумерки нехотя отступили под его холодными косыми лучами, и непонятно было: утро это или вечер, за которым вот-вот снова наступит ночь.
Я стоял посреди узкого, как пенал, двора и, выдыхая из легких остатки тухлой нечисти, которой успел наглотаться в доме Георгия Васильевича Волонтира, занимался тем, что на военном языке называется рекогносцировкой. Я не случайно воспользовался военным термином, поскольку и в самом деле чувствовал себя как на поле боя после газовой атаки.
Свежий воздух быстро привел меня в чувство: дышать стало легче, а зрение постепенно приблизилось к положенным ста процентам. Пора было приниматься за работу.
Двор (я уже говорил об этом) был похож на длинный и узкий школьный пенал. Флигель Волонтира — небольшая мазанка с одним, наглухо закрытым ставнями окном — находился на том месте, которое в пенале соответствует торцу. Напротив, в глубине двора, темным контрастным пятном на фоне белого снега выделялись хозяйственные постройки. С двух других сторон, параллельно друг другу, стояли два дома-близнеца — двухэтажные, дореволюционной постройки, здания с так называемыми архитектурными излишествами на наружных стенах. Один, тот, что находился слева от меня, пустовал: людей выселили, окна заколотили досками. Дом был предназначен на снос. Сквозь отвалившуюся местами штукатурку торчали ребра ветхой дранки, а подъезды, обращенные внутрь двора, зияли немыми бездонными дырами. Брусчатка, которой был вымощен двор, в нескольких местах осела и походила на изваянное в камне море в легкую штормовую погоду. В общем, картина невеселая. Слегка припорошенные снегом кучи мусора, битого стекла дополняли ее и делали совсем мрачной. Впрочем, жителей второго дома этот пейзаж скорее всего радовал, ибо напоминал о том, что в самое ближайшее время им тоже предстоит покинуть темный, неуютный двор с покосившейся колонкой в центре и переехать в новые, благоустроенные квартиры. Пройдет несколько месяцев, на этом месте построят новый дом или разобьют сквер с модерными, неудобными для сидения скамейками и коротко остриженными газонами, и мало кто вспомнит о старом здании, некогда украшавшем улицу своим лепным фасадом, высокими окнами, крутой черепичной крышей…
Мои праздные размышления о судьбе обреченного на снос строения прервал Костя Логвинов. Он вышел из подъезда и, ежась в своем коротком замшевом пальто, показал большим пальцем вверх, что означало: «Есть новости, и неплохие». Повинуясь его знакам, я вошел в подъезд. Внутренние стены, выкрашенные синей масляной краской, были покрыты разводами инея. От них несло таким холодом, что я с невольным сожалением вспомнил об оставшемся дома старом, но теплом пальто и подумал, что зря не послушал жену и надел плащ на тонкой подкладке из искусственного меха.
— Нам в четвертую квартиру, — сообщил Костя и, как человек, успевший освоиться в новой обстановке, стал быстро подниматься на второй этаж, перепрыгивая через ступеньки.
Лестница была широкая, с массивными, вытертыми до глянца перилами. Из большого овального окна, напоминающего неправильной формы иллюминатор, на межэтажную площадку падал дневной свет. Пожалуй, здесь было светлее, чем во дворе.
На втором этаже мы попали в высокий, выложенный кафелем холл, от которого шли два просторных коридора.
Нужная нам квартира с жестяной «четверкой» на двери была рассчитана на несколько семей: рядом с кнопками звонков в стандартные рамки были вписаны фамилии жильцов.
Минуя высокие массивные двери, выстроившиеся по обе стороны коридора, Логвинов провел меня в огромную квадратную комнату, где нас встретила худенькая, ниже среднего роста, женщина лет тридцати.
— Ямпольская Елена Борисовна, — представил ее инспектор и тут же попросил: — Елена Борисовна, повторите, пожалуйста, этому товарищу то, что рассказали мне.
Женщина перевела на меня большие печальные глаза, как бы раздумывая, действительно ли необходимо повторять, прошла к окну и присела у письменного стола.
— Хорошо, — сказала она, кутаясь в пуховый платок, и мне показалось, что она греется от света настольной лампы. — Что именно вас интересует?
— В котором часу вы легли спать?
— В половине третьего, — не меняя выражения, ответила она.
— Почему так поздно?
— Работала.
Особой разговорчивостью Ямпольская, видно, не отличалась, и Логвинов пришел ей на помощь:
— Елена Борисовна — переводчица. Как раз вчера ей принесли работу на дом, — и, обращаясь к ней, уточнил: — Я вас правильно понял?
Облокотившись на подоконник, я стоял метрах в трех от письменного стола и почему-то не мог отвести взгляда от рук женщины, на которых сквозь тонкую кожу проступали веточки кровеносных сосудов.
— Я болею, — нашла нужным пояснить женщина. — Руководство нашего института попросило выполнить срочную работу. Перевод надо сделать сегодня к вечеру.
«Поболеть не дают человеку, — молча посочувствовал я. — А тут еще мы…»
— Около двух ночи, — продолжала Елена Борисовна, желая быстрее закончить, по-видимому, тяготивший ее разговор, — я подошла к окну. Во дворе увидела Игоря Михайловича Красильникова.
Я поймал на себе быстрый Костин взгляд, но тогда он мне ни о чем не сказал и я не придал ему значения. Позже Логвинов объяснил, что в первый раз Ямпольская назвала Красильникова только по имени, и это, учитывая небольшую разницу в их возрасте, воспринималось естественно. Сейчас к имени прибавилось отчество. Расхождение, казалось бы, незначительное, но оно обратило на себя внимание инспектора. День спустя я тоже понял значение этой разницы, а пока внимательно слушал продолжавшийся между ними разговор.
— Вы сказали «около двух». А точнее? — спросил Логвинов.
— Не знаю. — Поколебавшись, Елена Борисовна добавила: — На часы не смотрела. Легла в половине третьего, а видела его приблизительно за полчаса до этого.
«Что ж, арифметика простая, но, как показывает практика, вполне надежная».
— Вы посмотрели в окно случайно или что-то привлекло ваше внимание?
— А что могло привлечь мое внимание? — не поняла Ямпольская.
— Ну, шум, какие-нибудь звуки…
— Нет, я подошла к окну случайно.
«Побольше бы таких случайностей», — подумал я.
— Красильников вышел из дома Волонтира — так вы сказали, — напомнил Логвинов.
— Да.
— Вы уверены, что не ошиблись? Может быть, он просто остановился около флигеля? Возвращался домой, приостановился, чтобы прикурить, например, и пошел своей дорогой.
— Он не курит, — сказала Елена Борисовна.
Костя снова послал в мою сторону многозначительный взгляд.
— К тому же я видела, как он захлопнул за собой дверь.
«Захлопнул», — отметил я про себя.
— У него было что-нибудь в руках?
— Нет, кажется, ничего. Я не видела, — уточнила она.
— Он вышел из дома Георгия Васильевича, захлопнул дверь и что же дальше?
— Ничего.
— Сразу пошел к себе?
— Нет, сначала подошел к дому напротив, постоял там, потом ушел домой.
— Квартира Красильникова в вашем подъезде? — поинтересовался я.
— Да, на первом этаже.
Надо сказать, что к тому времени уже было известно, что Волонтир умер не раньше трех часов ночи. В два из его дома вышел Игорь Михайлович Красильников. Это было уже кое-что! На первых порах нам, как говорится, крупно везло…
Минут через десять, оставив Логвинова с Ямпольской, я стоял у двери первой квартиры и жал на кнопку звонка, под которым синими чернилами на белой бумажке была выведена фамилия Красильникова.
Щелкнул замок. Я представился растрепанной темноволосой женщине с заплывшими от сна глазами, и меня впустили в забитую хламом прихожую. Стоило закрыться входной двери, как мы оказались в кромешной тьме. Сначала я наткнулся на подвешенное к стене корыто, потом на ощупь определил стиральную машину и тумбочку с тазом. Когда моя спутница, довольно уверенно передвигавшаяся в темноте, открыла дверь в комнату, я увидел еще и разобранный на зиму детский велосипед, санки и тускло блестевший шифоньер.
— Извините, лампочка перегорела, — сказала заспанная женщина, и я уловил исходящий от нее запах спиртного. — Я Красильникова Тамара, — представилась она. — Проходите, пожалуйста.
Прежде чем воспользоваться приглашением, я кивнул в сторону второй двери, имевшейся в прихожей, и спросил, кто живет в одной с ними квартире.
— Теперь уже никто. — Она вяло махнула рукой. — Видите — бумажка приклеена. Опечатано. Жила Нина Ивановна Щетинникова. Два дня назад умерла, вчера на кладбище увезли. Наследников у нее не оказалось, вот домоуправление и опечатало дверь.
Мы вошли в комнату. Здесь царил тот же хаос, что и в прихожей. Стол, накрытый плюшевой, потерявшей свой первоначальный цвет скатертью, был завален немытой посудой, какими-то коробками, банками из-под солений и компотов, детскими игрушками. Сервант с облезлой полировкой, телевизор, тумбочку, почти все, что находилось в комнате, покрывал заметный слой пыли.
— Напрасно беспокоитесь. — Красильникова смахнула со стула грязное полотенце и села, придерживая рукой полы халата. Она явно принимала меня за представителя домоуправления. — Охотников на ее каморку днем с огнем не сыщешь. Семейных туда не вселишь, квадратов маловато, да и дом у нас на снос, сами знаете, последний месяц доживаем, скоро новоселье справлять будем, уже и решение исполкома есть.
— У вас двухкомнатная? — спросил я, оттягивая момент, когда она предложит мне сесть.
— Двухкомнатная. — Тамара зевнула, прикрыв рот пухлой ладонью. — А что толку? В одной тринадцать квадратных метров, в другой — девять. А нас четверо прописано: я, муж, отец — он сейчас у своей сестры гостит, — дочка. По всем законам нам трехкомнатная положена, не сомневайтесь.
На столе, рядом с алюминиевой кастрюлей, валялся потрепанный учебник русского языка.
— А дочка где? — спросил я.
— Я ее к тетке отвезла. На пару дней погостить.
Не вставая со стула, она потянула за шнурок, свисавший над подоконником. Вьетнамская соломка, сворачиваясь в рулончик, рывками поползла вверх. В комнату проник дневной свет. Возникшие из полутьмы розовые, с накатанными серебрянкой узорами стены сделали ее еще неуютнее.
— Сколько же времени? — спохватилась Красильникова, отыскивая взглядом часы.
— Начало десятого, — подсказал я.
— Ого! — Она всплеснула руками, поправила сбившуются на бок прическу и вопреки своему собственному восклицанию осталась сидеть в прежней позе. — Так что вы хотели? Слушаю вас.
Я сообщил, по какому поводу пришел. Тамара не удивилась, выслушала, понимающе покачивая головой, и недвусмысленно дала понять о своем отношении к смерти Волонтира:
— Так ему, алкашу, и надо. Допился, значит?! Я тысячу раз говорила, что он этим кончит. Мыслимое ли дело: пил и днем и ночью, в будни и праздники, без разбора. Предел-то должен быть, как вы считаете?
Обмен мнениями на таком уровне меня не устраивал.
— Скажите, в котором часу ваш муж возвращается с работы? — спросил я, направляя разговор в нужное русло.
Она пожала плечами:
— Когда как. Раз на раз не приходится.
— И все-таки.
— Как вам сказать? Когда в пять, когда и в десять — по-разному. Работа у него такая.
— Кем же он работает?
— Он оптик. Приходится мотаться по городу, искать дефицитные стекла, оправы… Часто задерживается…
До сих пор я не подозревал, что у специалистов по ремонту очков такая беспокойная профессия. А может, дело не в профессии?
Снова, на этот раз более внимательно, я осмотрел комнату. Похоже было, здесь не убирали месяцами. Со слов Ямпольской, Тамара, жена Игоря, нигде не работает, другими словами, занимается домашним хозяйством. Тем более странным показались мне запущенность и грязь в квартире…
Не знаю, по какой причине задерживался Красильников, но мне с трудом верилось, что нормальный человек мог торопиться с работы, чтобы быстрее вернуться в этот «райский уголок». Впрочем, это дело вкуса и привычки, а во вкусах и привычках Игоря я пока разбирался еще меньше, чем в оптике.
— Вчера, например, он поздно вернулся?
— Вы что ж думаете, он с этим алкашом, с Волонтиром, пил? — Она опустила голову и начала перебирать бахрому на скатерти. Потом мотнула головой: — Может, и пил, кто его знает… А насчет работы, так он вчера вообще в ателье не ходил. Отпросился. — Она улыбнулась каким-то своим мыслям. — Шампанское купил, водки.
Что они делали со спиртным, я спрашивать не стал — у ножки стола стояла целая батарея пустых бутылок.
— И часто у вас… — я поискал подходящее слово, — такие вечеринки случаются?
— Это не ваше дело, — отрезала Тамара и тут же, взяв тоном ниже, объяснила: — Не подумайте чего. Вчера действительно повод был: восемь лет, как мы с Игорем поженились…
Ну и жизнь! Вчера праздновали, вчера же хоронили соседку, ночью убит другой сосед. Не многовато ли событий на такой короткий срок?
— Значит, вчера была восьмая годовщина вашей свадьбы, и по этой причине Игорь отпросился с работы?
— Да нет, я же говорила: у нас соседка, Щетинникова, умерла. Нина Ивановна. Родственников у нее нет, побеспокоиться некому, вот Игорь и взял на себя хлопоты.
— Вы имеете в виду похороны?
— Ну да. В похоронное бюро ездил, машину заказал, место на кладбище оформил.
— У вас с соседкой хорошие отношения были?
Она кивнула:
— Хорошие. Тихая была старушка, безобидная.
— Отчего она умерла?
— Болела часто. Сердце и вообще… Игорь ей все путевку хотел достать, чтобы поехала подлечилась в санатории на старости лет. Да вот не успел, не получилось. Он ее очень уважал…
Меня интересовало все, что прямо или косвенно касалось Красильникова, тем более речь шла о вчерашнем дне. Я продолжал расспрашивать Тамару, и она, пусть без особого энтузиазма, но исчерпывающе, отвечала на мои вопросы. На это, я думаю, были свои причины: она не сомневалась, что их сосед Волонтир умер по собственной неосторожности, и принимала мой визит как необходимую в таких случаях формальность. И я ее не разубеждал в этом. Кто знает, как сложился бы наш разговор, если бы она знала то, что к тому времени знал я: Георгий Васильевич был убит!
Так или иначе, объяснять ей, почему я связываю смерть Волонтира с ее мужем, было не в моих интересах, кроме того, я не имел на это права: пока по линии Красильникова у нас имелись только предположения, разрозненные факты — не больше.
— Вчера ваш муж так и не вышел на работу? — Я все же присел на стул у заваленного немытой посудой стола.
Красильникова отрицательно покачала головой:
— Когда бы он пошел? С утра — в похоронное бюро, в начале второго Нину Ивановну отвезли на кладбище. Игорь тоже поехал. Через час вернулся и лег спать. Намотался за день, устал. А я с Наташкой поехала к отцу.
— Вы говорили, что дочь у тетки, — вставил я.
— Ну да, сестра отца и есть тетка, — удивилась она моей непонятливости. — Я же говорила, что он у сестры гостит, у тети Ани.
— Ясно. Ну а дальше?
— Наташу я там оставила, а домой вернулась вместе с отцом. Пригласила его к нам годовщину отпраздновать. Сколько же времени было, дайте сообразить… — Она закатила глаза к потолку, стараясь вспомнить, как мне показалось, больше для себя, чем для меня. — В шесть мы приехали. Ну да, точно, в шесть. Будильник еще зазвонил, а я его на шесть поставила, чтобы Игоря разбудить.
— Он еще спал?
— Нет, уже проснулся. Сбегал в магазин за шампанским. Потом они с отцом сели в шахматы играть, а я на скорую руку мясо поджарила, салат приготовила. Все было тихо-мирно. Сели, выпили. И тут Игорь завелся…
В этом месте рассказ Тамары прервался. С ее лица сбежало полусонное выражение. Она уперлась взглядом в пространство и на некоторое время, забыв о моем присутствии, задумалась о чем-то своем. Несколькими днями позже я узнал, с чем это было связано, но тогда поторопился и попал впросак: начал активно выспрашивать, что там у них произошло, отчего «завелся» Игорь, и она, поморщившись, осадила меня:
— Ничего, ничего. Вас это совершенно не касается…
Ее круглые, темные, как маслины, глаза так и не обрели прежнего умиротворенного выражения. Она стала отвечать нехотя, с видом человека, вынужденного поддерживать разговор, в то время как его самого одолевают совсем другие мысли. Да так оно в действительности и было. Невидимая стена выросла между нами: по одну сторону осталась она со своей жизнью, своими заботами, по другую — я, посторонний человек, докучающий ей ненужными вопросами.
— Вы долго сидели за столом? — спрашивал я.
— Нет.
— До которого часа?
— До восьми. В восемь я легла спать, — доносилось словно бы издали.
— Отец остался у вас?
— Нет, ушел.
— А муж?
— Тоже.
— Кто из них ушел раньше?
— Отец.
— Не знаете, куда ушел ваш супруг?
— А почему вы у него не спросите?
— Обязательно спрошу при встрече…
— Вот и спросите, — вяло огрызнулась она. — А я время не засекала.
— Когда он вернулся?
— В двенадцать.
— Вы точно помните?
— Точно, точно…
Это противоречило показаниям Ямпольской и, как любое противоречие, должно было быть устранено. Я попросил, чтобы Тамара объяснила, откуда ей стало известно точное время возвращения мужа домой.
С ее слов, ночью она проснулась от шума и увидела в соседней комнате Игоря. Спросонья спросила, который час. Он ответил: «Не слышала, что ли? Гимн только что отыграли. Двенадцать». Потом разделся и лег спать.
— И больше не вставал?
— Нет. Он спит у стенки, а я с краю. Я бы проснулась.
— Скажите, Тамара, а сами вы радио слышали? — полюбопытствовал я.
— Нет, не слышала.
— И на часы не смотрели?
— Не смотрела.
Противоречие растаяло, как леденец во рту младенца. В два ночи Игорь был во дворе у флигеля Волонтира, а вернувшись домой, попытался обзавестись алиби, обманул жену. Факт сам по себе значительный!
— Больше вы ничего не хотите рассказать? — спросил я.
Красильникова удивленно посмотрела на меня:
— А что рассказывать?
— Ну, мало ли…
— Нет… Извините, мне пора обед готовить. Если у вас все…
— Пока все. — Я встал. — Спасибо. И до свидания.
Мы вышли в прихожую. Здесь было по-прежнему темно.
— А лампочку надо бы вкрутить новую, — сказал я.
— Надо бы, да руки не доходят, — нехотя отозвалась Тамара.
— Давайте вкручу, — предложил я неожиданно для самого себя.
Сейчас остается только гадать, чем это было вызвано. То ли мыслью о Наташе, дочери Красильникова, которая вернется сюда и может споткнуться в темноте, то ли тронуло расстроенное Тамарино лицо, а может быть, подсознательно чувствовал, что ее супруг еще очень не скоро вернется домой. Во всяком случае, уверен, что предложил свои услуги без всяких задних мыслей, из вполне естественного желания помочь.
Тамара не удивилась. Как мне показалось, она вообще была лишена способности удивляться. Молча принесла стул, поставила на него табурет, и я кое-как взгромоздился на это шаткое сооружение полутораметровой высоты. Сюда не доставал свет, падающий из открытой в комнату двери, но кое-что все же было видно. На потолке, рядом с крученым электрическим шнуром, серым пятном выделялся след руки. Это был четкий отпечаток ребра ладони и мизинца. На всякий случай я осмотрел и лампу.
Все остальные мои действия были продиктованы чистым любопытством: уверенности, что поступаю правильно, не было. Я вытащил из кармана носовой платок, обернул им лампу, осторожно выкрутил ее и как ни в чем не бывало положил в карман плаща. Затем, нагнувшись, принял из Тамариной руки новую лампочку и ввинтил в патрон. Загорелся свет.
Подобрав полы плаща, я спрыгнул с табурета, попрощался с хозяйкой и вышел в подъезд. Развернул платок. На толстом слое пыли, покрывавшем верхнюю, узкую часть лампочки, ясно отпечатались следы чьих-то пальцев. Но не это было самым интересным. Глянув на свет, я убедился, что не зря лазил под потолок: внутри стеклянной колбы венчиком дрожал неповрежденный вольфрамовый волосок…
Глава 2 19–23 января
ХАРАГЕЗОВ
Заведующий ателье «Оптика» Харагезов был сама любезность: встретил инспектора в дверях, проводил к столу, отработанным до изящества движением придвинул роскошную хрустальную пепельницу и даже предложил кофе, от которого Сотниченко отказался. Времени оставалось в обрез — на половину шестого было назначено оперативное совещание в прокуратуре, а Скаргин бывал строг к опоздавшим. Поэтому он не взял и сигарету из тугой пачки «Мальборо», лежавшей рядом с пепельницей, что для него, заядлого курильщика, было равносильно подвигу.
— Приступим, — предложил он, избегая смотреть на обтянутую целлофаном коробку. — Вы в курсе событий, поэтому обойдемся без предисловий. Нет возражений?
Харагезов ограничился понимающим кивком.
— В котором часу ушел с работы Красильников позавчера, восемнадцатого января?
— Восемнадцатого он на работе отсутствовал, — по-военному четко, без запинки ответил заведующий.
— Прогул?
— Что вы! У меня в ателье нарушителей дисциплины нет. Мы на хорошем счету в управлении, занимаем ведущее место в соцсоревновании. — Он был не только любезен, но и словоохотлив, этот Харагезов. — Все гораздо проще: я отпустил Красильникова по его просьбе. Чуткое отношение к подчиненным — первейший долг любого руководителя, хотя сейчас как-то не принято об этом говорить. Совсем недавно был такой случай…
— Он назвал вам причину? — прервал заведующего Сотниченко.
— А как же! У него скоропостижно скончалась соседка. Одинокая женщина, нет ни близких, ни родных. Красильников — парень сознательный, отзывчивый, вот и решил взять на себя хлопоты. Он и фамилию назвал, да я не запомнил. — Харагезов округлил глаза. Ему в голову пришла неожиданная мысль: — Я, конечно, не проверял, но неужели… вы думаете, он соврал? Нет-нет, быть этого не может. Разве подобными вещами шутят?! Если так, мы немедленно разберемся, примем меры…
— Соседка у него в самом деле умерла, — подтвердил инспектор, не спрашивая, какие меры имел в виду Харагезов.
— Вот видите, — сразу успокоился заведующий, — я же вам говорил…
— Ну а вчера, девятнадцатого, в котором часу он пришел на работу?
— Вчера? Как обычно, к девяти. У нас опоздавших практически не бывает. К тому же ведется строгий учет явки сотрудников. Есть специальный журнал. Хотите, нам принесут?
— Не надо, я посмотрю позже, — отказался Сотниченко. — Значит, к девяти? И никуда не отлучался?
— А вот в смысле отлучек не могу дать никаких гарантий, — посетовал Харагезов. — Положение таково, что на пять-десять минут любой из сотрудников имеет возможность беспрепятственно покинуть рабочее место. Увы, здесь я бессилен — у нас не завод, пропускной системы нет. А за всеми разве уследишь? Девушки иногда бегают в галантерейный магазин напротив, мужчины — в табачный киоск…
— Красильников не курит.
— Ах да! — Заведующий подтолкнул пачку «Мальборо» поближе к инспектору. — А вы, простите, курите? Угощайтесь.
Сотниченко мужественно отодвинул сигареты.
— Вам придется писать на Красильникова характеристику. Скажите, какого вы о нем мнения?
— Встречаются, к сожалению, среди руководящих работников, — издалека начал Харагезов, и инспектор подумал, что скорее всего опоздает на совещание и головомойка, пожалуй, обеспечена, — встречаются такие, кто опасается давать положительные характеристики на людей, с которыми случилось несчастье. Я не оговорился — несчастье, поскольку уверен: с Красильниковым произошла какая-то ошибка. Порой мы перестраховываемся, спешим делать выводы, осуждаем товарища, в то время как из периодической печати нам известно…
Пока он в том же назидательном тоне излагал свои взгляды на ошибки вообще и следственные в частности, Сотниченко, не рискнувший перебивать заведующего, чтобы не затянуть встречу еще больше, изловчился прочесть задом наперед рекламные надписи, горевшие за окном кабинета: «СТЕКЛА ДИОПТРИЧЕСКИЕ, ПРИЗМАТИЧЕСКИЕ, АСТИГМАТИЧЕСКИЕ». Это заняло минут пять. Покончив с чтением, он все же прервал Харагезова:
— Но ведь вы не знаете, в каком преступлении подозревается Красильников.
— Вот-вот, подозревается! — подхватил заведующий. — Подозревается, а не обвиняется! Чувствуете разницу?! Не знаю, как другие, — он со значением посмотрел на инспектора, — а лично я верю, что все уладится. Работник он отличный, безотказный, таких поискать. Ничего плохого о нем сказать не могу.
— А зачем говорить плохое? Говорите хорошее.
Харагезов смешался.
— Да-да, конечно, — согласился он поспешно. — Я завтра же оставлю характеристику и в ней все изложу… Простите, вы с ним, наверно, встречаетесь? С Красильниковым, я имею в виду.
— А что?
— У меня к вам большая просьба. Передайте, пожалуйста, что на днях в управлении решается вопрос о его переводе на самостоятельную работу в отдельной мастерской. Это его подбодрит, поддержит в трудную минуту. Передадите?
— К сожалению, не смогу выполнить вашу просьбу, — ответил Сотниченко.
— Жаль, — искренне огорчился заведующий. — Очень жаль… Ну, на нет и суда нет…
Инспектор взглянул на часы, висевшие в проеме полированной стенки. Он еще успевал на совещание.
ТИХОЙВАНОВ
Федор Константинович проснулся в пять утра. Проснулся неожиданно, разом, будто его толкнули в плечо, и впечатление это было настолько сильным, что, не разобравшись со сна, он вытянул руку, — может быть, дочь будила, может быть, ей плохо? Но рядом с раскладушкой никого не было.
Он повернулся на спину, и раскладушка отозвалась тонким неприятным скрипом. Спать не хотелось, но и вставать тоже. Он лежал, чувствуя, как из него уходят последние остатки сна. Вскоре из темноты проступили силуэты предметов, в которых он не сразу и не без труда узнал стол, сервант, спинку стула. Обманчивые, с нарушенными пропорциями, контуры мебели, черные провалы в углах изменили комнату до неузнаваемости, сделали ее чужой, и ему вдруг показалось, что он находится не дома и даже не в гостях, а в совсем незнакомом месте, куда попал случайно, по недоразумению…
Федор Константинович прислушался. Из спальни донесся едва различимый шорох. Он приподнялся, морщась от скрипа пружин, нащупал ногами тапочки, встал.
За окном, сплюснутый в неровностях стекла, неподвижно висел холодный диск луны. В комнате было тепло, даже жарко — от батареи исходили волны сухого горячего воздуха. Контраст между студеным, залитым лунным светом пространством там, за окном, и жаркой теснотой обжитого помещения создавал обманчивое впечатление покоя, уюта.
Осторожно ступая по рассохшимся половицам, Федор Константинович пошел в спальню.
— Ты чего? — шепотом спросила дочь.
Она тоже не спала — Тихойванов увидел две слабо светящиеся точки, отблеск света в ее глазах, — мучилась своей болью, переживала горе, нежданно свалившееся на ее плечи. Покой действительно был иллюзорным.
— Чего ты, папа? — повторила Тамара, и в том, что она осталась лежать неподвижно, не встала, не шевельнулась в ответ на его приход, тоже было что-то тревожное, саднящее душу.
— Да так, — буркнул он. — Спи…
— Может, чаю налить? В термосе остался…
— Не надо, спи. Я Наташку посмотрю.
Он наклонился над кроваткой, поправил на внучке одеяло и, шаркая по полу задниками тапочек, вернулся к себе на раскладушку. Лег, сцепил пальцы под затылком и долго вслушивался в тишину. Постепенно она наполнилась звуками: на холодильнике громко тикал будильник, в трубах парового отопления урчала вода, а в спальне, шурша простынями, ворочалась внучка.
По мере того как его теперь уже окончательно покидала надежда заснуть, все настойчивее становилось желание уйти из дома, наполненного чужими тенями, звуками, запахами — чужой жизнью.
Третий день продолжалась эта пытка — иначе он создавшуюся ситуацию не воспринимал, — третий день как заведенный вставал он в семь утра, кормил внучку завтраком, провожал в школу, до полудня шатался по городу, чтобы не возвращаться к погруженной в трагическую немоту Тамаре, в половине первого встречал Наташу, вел домой, готовил с ней уроки, а к вечеру, доведенный до предела изматывающей нервы недоговоренностью, садился у телевизора и, уставившись слепым взглядом в экран, прислушивался к шагам слонявшейся из угла в угол Тамары. Старался не обращать внимания на ее по-старушечьи поджатые губы, на угрюмое лицо, на красные от недосыпания веки…
Горе не красит человека, да и добрее не делает. Это понятно. Однако терпеть молчаливый и оттого особенно обидный нажим со стороны дочери было невмоготу. Он знал, чего она добивается, чего ждет: хочет, чтобы он надел свои ордена и при полном параде пошел в милицию выручать зятя. Я, мол, участник войны, кавалер трех орденов Славы, ветеран труда, помогите, мол… Плохо же она знает отца, если надеется на это. Защищать преступников — дело адвокатов, а не родственников, и спекулировать боевыми наградами, козырять заслугами ради подонка он не намерен. Ведь не хулиганство, не драка, не воровство даже — убийство! Подумать только, его зять — убийца! Игорь, муж его дочери, убил Жорку Волонтира! За что?
Никогда не питавший к зятю ни любви, ни особой симпатии, Федор Константинович преступником его все же не считал и был в полном смысле слова ошарашен новостью. В среду вечером заехал на часок проведать внучку, и вдруг — словно обухом по голове: Игорь арестован милицией, подозревается в убийстве! Конечно, Тамаре нелегко, кто спорит, тем более с ее характером. Поневоле изнервничаешься, озлобишься, будешь искать, на ком бы сорвать накопившуюся горечь. Но быть мишенью для ее нападок — увольте. С какой стати? И вообще, почему она ведет себя так, будто во всем виноват он, отец? Разве не стараниями дочери и ее обожаемого супруга вся внутренняя жизнь семьи Красильникова уже целых семь лет находится для него под запретом?
«Неужто прошло семь лет? — удивился он. — Да, точно — семь. Тамара вышла замуж восемь лет назад, а через год…»
С появлением в доме Игоря отношения между Федором Константиновичем и дочерью стали сначала натянутыми, потом открыто враждебными и закончились полным разрывом. Он оставил их в этой квартире, переехал на другой конец города к своей сестре Аннушке и с глубоко осевшей в душе обидой устранился, ушел из их жизни, дав себе слово ни при каких обстоятельствах не вмешиваться в нее. И вот сейчас от него ждут, требуют помощи…
Тихойванов не мигая смотрел в черный прямоугольник окна, перечеркнутый крестовиной рамы, и мысленно видел занесенный сугробами сад с припорошенными снегом деревьями, тропинку, протоптанную от калитки к крыльцу, светлую прохладную веранду, куда по нескольку раз на день выходил прямо в шерстяных носках, чтобы попить ледяного молока из глиняного кувшинчика, — видел дом на противоположном конце города, где всегда, в любое время дня и ночи, ждал его покой, налаженный, неторопливый быт, мягкая в обращении, все понимающая сестра Аня, видел и сознавал, что не сможет вернуться туда, не сможет оставить дочь без поддержки и помощи… Новое решение — новое, ибо накануне он уже собирается сказать Тамаре, что все, хватит, завтра он уезжает к себе, — не принесло ожидаемого облегчения, напротив, вызвало раздражение и досаду. «До седых волос дожил, а ума не нажил, — ругнулся он про себя. — Раскладушка и обязанность делать, чего не желаешь, — вот все, что тебе осталось под конец жизни…»
Он хотел повернуться на бок, но вспомнил об отзывавшихся на каждое движение пружинах и остался лежать на спине. Мысли вновь обратились к событиям восьмилетней давности.
Тогда Федор Константинович еще работал на железной дороге, водил электровозы в длительные, по неделе и больше, рейсы. Как-то вскоре после Нового года он стал замечать в дочери перемены. Догадался, что с ней происходит. Догадался потому, что в памяти навсегда сохранилось лицо ее покойной матери с тем же счастливым выражением нежности и любви, потому что в свое время сам познал это прекрасное чувство, когда жизнь кажется нескончаемым, полным надежд праздником. Ему не надо ничего объяснять. Он радовался вместе с Тамарой, хотя, чего скрывать, к радости примешивались и ревность, и тоска, и тревога за дочь; ведь не из чужих рассказов, а на собственном опыте убедился, что рядом с любовью иногда ходит беда…
В ту пору даже сон такой ему снился, один и тот же. На длинных перегонах, когда напарник сменял его у пульта управления электровозом, он дремал под мерное покачивание поезда, и чудилось ему, что стоит он на перроне, у окна вагона, Тамара смотрит на него в окно — уезжает куда-то. Он вплотную придвигался к стеклу, уговаривал ее остаться, но она не слышала его или делала вид, что не слышит, а только кивала головой, вроде успокаивала. Состав трогался, удалялся, набирая скорость, а он смотрел ему вслед, беспомощно разводил руками и бормотал: «Куда ж ты, дочка? Вернись…» Сон оказался, что называется, в руку.
Тамара из девчонки прямо на глазах превращалась во взрослую, самостоятельную женщину. Само собой получилось, что она перестала делиться с ним своими заботами, возвращалась домой позже обычного, не говорила, как раньше, с кем и где проводит время. Федор Константинович не торопил событий, терпеливо ждал момента, когда дочь познакомит его со своим избранником, верил, что рано или поздно она это сделает. Ждал и дождался…
В первых числах февраля поздно вечером она ворвалась в дом, не сняв пальто, бросилась на кровать и зашлась в слезах. Из ее сбивчивых, путаных слов он понял, что произошло несчастье — то самое, о чем думал и чего боялся… В ту ночь он впервые по-настоящему осознал: что-то изменилось в их жизни, что-то уходит и возврата к прежнему уже не будет.
Вскоре Тамара притихла. Укрыв ее одеялом, он еще долго сидел рядом, держа в руках ее горячую ладошку, а утром, едва рассвело, оделся и пошел к железнодорожному вокзалу — в том районе жил Игорь Красильников…
Человек, ставший мужем его дочери, никогда не был ему близок. Не был и не мог стать. Он понял это еще тогда, восемь лет назад, ранним февральским утром, когда стоял в прихожей чужой квартиры и, переминаясь с ноги на ногу, ждал приглашения войти. Федор Константинович на всю жизнь запомнил, как это все происходило.
Он стоял спиной к двери, лицом к приоткрытой дверце шифоньера, и в большом, находящемся в шаге от него зеркале видел то, что делалось у него за спиной. В соседней комнате под низко висящим малиновым абажуром двигалось какое-то существо. Наверное, надо было отвернуться, но он продолжал вглядываться в отражение, смотрел и не мог отвести глаз от полноватого, круглолицего парня, неуклюже прыгающего на одной ноге. Волосы косой челкой спадали ему на лоб; из-под нее в сторону зеркала, то есть в спину Тихойванову, то и дело бросались быстрые, растерянные взгляды. От волнения Игорь — Федор Констанинович сообразил, что это был он, — никак не мог попасть в штанину и, только когда оперся о спинку стула, надел наконец брюки. И хотя, наблюдая эту сцену, глядя на нелепо приплясывающую фигуру, Тихойванов каким-то образом — косвенно, что ли? — надеялся унизить обидчика дочери, получилось совсем наоборот: униженным почувствовал себя он сам.
Возможно, в эту минуту и родилась неприязнь к будущему зятю. Или чуть позже, когда Игорь пригласил его войти в комнату с малиновым абажуром, предложил сесть на диван, а сам остался стоять, прислонившись к оклеенной темно-красными обоями стене, как посторонний, как зритель, ожидающий начала представления.
Светлана Сергеевна, мать Игоря, тоже находилась в комнате. Тоже стояла. Сбоку, почти за спиной гостя, демонстративно скрестив руки на груди. Тихойванову недвусмысленно давали понять, что чем короче будет его визит, тем лучше. Даже настенные часы с длинным раскачивающимся маятником, казалось, говорили о том же: «Чужой в доме, чужой в доме». Мягкое, податливое ложе дивана, на который он имел неосторожность сесть, всасывало Тихойванова все глубже, заставляя принять неудобную позу, и он подумал, что вещи в этом доме, под стать хозяевам, тоже настроены против. Невозможным показался разговор, стыдно было его начинать; да и о чем, собственно, говорить? О том, как ему обидно, как больно за себя и за дочь? Он как бы увидел себя со стороны, представил, как должно быть неуместно его присутствие здесь, в этой незнакомой квартире, в столь ранний час, как несуразно он выглядит — этакий солдафон (на нем был форменный китель железнодорожника, правда, без петлиц, и даже пуговицы были черные, гражданские), поднявший на ноги мирно почивавшую семью.
Пожалуй, Игорь все же успел что-то шепнуть матери, и теперь его принимали за просителя: «Надо же, и позицию выбрали, — подумал Федор Константинович. — Сынок в лоб, мамаша с фланга».
Ему захотелось, не медля ни секунды, встать и уйти, никому ничего не объяснив, не произнося ни слова, но дома ждала Тамара. Кто-кто, а он знал, какого известия она ждет и к а к будет смотреть на него, когда он вернется. «Ведь я пришел не из любопытства, — успокаивал он себя. — Тамара ждет ребенка, и я хочу знать намерения отца этого ребенка. Что же тут непонятного? Вполне законное желание». Последнее соображение и заставило остаться.
— Я пришел… — излишне громко начал он, но спазма, сковавшая горло, мешала говорить, и он глухо закончил: — Вы… вы и так все знаете.
Последовавшая затем пауза была заполнена размеренным ходом тяжелого маятника. «Чужой в доме, чужой в доме», — все громче стучал он.
— Простите, я не совсем понимаю, — хорошо поставленным голосом сказала Светлана Сергеевна. — Собственно, чего вы от нас хотите?
От того, как неудачно он начал, как скомкал первую фразу, как холодно и спокойно задала свой вопрос Светлана Сергеевна, как подчеркнула «от нас», объединяя себя с сыном, Федору Константиновичу стало не по себе. Снова захотелось встать и уйти.
— Моя дочь ждет ребенка, — все так же глухо, раздельно цедя слова, сказал он, впрочем, уже не надеясь и как бы даже не желая быть понятым этими людьми.
— Позвольте, а какое отношение к вашей дочери имеем мы? — спросила мать Игоря.
— Моя дочь ждет ребенка от него. — Он показал глазами на стоявшего в стороне парня.
— Вы в этом уверены? — надменно подняв ниточки бровей, прежним ледяным тоном спросила Светлана Сергеевна. — У вас что же, есть доказательства?
Вопрос повис в воздухе, неожиданный, как удар бича.
«Доказательства! — обожгло Тихойванова. — Доказательства! Но какие могут быть доказательства?!»
— Вы мне не верите? — Голос его дрогнул.
— Простите, а почему мы должны вам верить? — парировала Светлана Сергеевна.
— Вы спросите у своего сына, — сказал Тихойванов, и они оба посмотрели на Игоря.
Тот стоял с отсутствующим выражением лица, почти отвернувшись, но, очевидно, матери его вид о чем-то все же говорил.
— Если даже так, — неуловимо изменив тон, снисходительно сказала она. — Допустим, что так… Предположим… на секунду предположим, что мы вам верим и ребенок на самом деле от Игоря. Что меняется?.. Простите, как вас зовут?
— Федор Константинович.
— Так вот, уважаемый Федор Константинович, я не совсем понимаю, чего вы хотите. Вы что же, намерены насильно женить моего сына на своей дочери и таким образом устроить ее счастье? Но это же смешно! Сами подумайте, разве о таком браке может мечтать девушка в ее возрасте? Вы, ее отец, вы уверены, что она поблагодарит вас за такое сватовство?
Она тонко рассчитала силу своих аргументов — Федор Константинович растерялся. Он видел, как Светлана Сергеевна неслышно подошла к дивану, как опустилась на стул и, подавшись к нему своим негнущимся корпусом, заглянула в глаза. На лбу и в углах ее рта стали видны редкие, но глубокие морщины. «Когда она успела напудриться?» — мельком подумал он, едва слыша, о чем она говорит.
— Я мать, я понимаю ваше состояние и сочувствую вам… Я ни в коем случае не оправдываю сына… Раз уж так случилось, давайте лучше вместе подумаем, что можно сделать практически…
Он пропустил несколько последующих фраз, потом издали, будто она говорила в подушку, услышал:
— …Я — медицинский работник, у меня есть знакомые среди врачей, и, наверно, они смогут помочь вашей дочери… ничего страшного, обезболивающий укол и…
— Стыдно! — пересилив себя, хрипло произнес он и заметил, как отшатнулась от него Светлана Сергеевна. — Вам должно быть стыдно! Девочка любит его, понимаете вы это? Любит! Если бы не любила… Я пришел не клянчить и не заставлять вашего сына силком жениться на Тамаре. Я только хотел узнать… узнать его отношение… А вы что молчите, молодой человек? Вам что же, нечего сказать? Или вы тоже полагаетесь на обезболивающие уколы?
Он встал с дивана и тут же почувствовал облегчение, словно избавился от тяжкого груза. Спросил, перед тем как направиться к двери:
— Ты, кажется, в университете учишься?
Игорь кинул быстрый взгляд в сторону матери и двинулся наперерез Тихойванову.
— Постойте. Не уходите… Мама просто не в курсе… Давайте поговорим спокойно…
Федор Константинович остановился.
— Я действительно учусь в университете, на втором курсе, и только потому… ну, вы понимаете… — Он снова коротко посмотрел на мать.
— Размазня! — зло бросила она, уже не обращая внимания на гостя. — Учти, я снимаю с себя всю ответственность. — И, круто повернувшись, Светлана Сергеевна вышла из комнаты.
— Что ты собираешься делать? — спросил Федор Константинович.
— Ну, не знаю… — неуверенно пожал Игорь плечами.
— Но ты ее любишь, Тамару?
— Конечно, конечно… — Игорь, оглядываясь на дверь, за которой скрылась мать, тронул гостя за рукав кителя. — Как бы это вам поточнее сказать… Все не так просто… — И когда Тихойванов решительно отвел его руку, он неожиданно твердо пообещал: — Даю вам слово: все будет хорошо, поверьте. Я поговорю с Тамарой, мы все решим, и сегодня же… нет, завтра я приду к вам…
На улице, подставляя холодному ветру разгоряченное лицо, Федор Константинович думал о том, что теперь ему есть чем успокоить дочь. «Парень не так уж плох, — решил он, отбрасывая одолевшие поначалу сомнения. — Сказал, что любит Тамару. Это главное. А если что и показалось… что ж, люди — они разные».
Не чувствуя подстерегавшей его опасности, он восстанавливал в памяти слова Игоря, его матери, свои собственные слова, представлял, как будет пересказывать все Тамаре, и вдруг ощутил неприятный внутренний холодок от мысли, что перелом в разговоре произошел сразу после его вопроса об университете. Не раньше. Вспомнил, и уже по-другому оценил и обещание Игоря, и молчание Светланы Сергеевны, и их быстрые, как ему теперь думалось, многозначительные взгляды. Вся сцена у Красильниковых внезапно предстала в ином свете — свете беспощадном, не оставлявшем места иллюзиям. «Неужто струсил? Неужто побоялся, что я пойду в университет жаловаться?» Тихойванов не хотел верить, что это так, запретил себе даже думать об этом, но неприятное ощущение, как будто прикоснулся к чему-то мокрому и скользкому, уже не покидало его.
Он не нашел в себе сил идти домой, изменил маршрут и пошел к сестре — нужно было время, чтобы привести мысли в порядок. Возможно, в том поступке и крылся зародыш его будущих отношений с дочерью и зятем. Уйти, чтобы не мешать тому, чего не мог понять до конца. Да, видно, тогда протоптал он дорожку, по которой спустя год навсегда ушел из дома. «Пусть сами разбираются, — думал он. — Им виднее».
К Тамаре пошел только под вечер. И хотя по дороге продолжал мучиться все тем же вопросом — с испугу пошел на попятную Игорь или это ему только показалось, — так и не смог на него ответить. Острой занозой осталось в сердце сомнение…
Неделей позже, на свадьбе, глядя на счастливое Тамарино лицо, на возбужденное, улыбающееся лицо Игоря, Федор Константинович ненадолго забыл о своих подозрениях, вместе со всеми кричал «горько», произносил тосты за молодых и даже поцеловался со сватьей. Светлана Сергеевна много пела — как оказалось, она много лет выступала в самодеятельности, — гости пили за здоровье новобрачных, а сестра Аннушка успела влюбить в себя моложавого подполковника, неизвестно как оказавшегося в числе приглашенных.
Особенно понравился ему сокурсник Игоря — Антон Манжула, серьезный, задумчивый паренек в круглых очках, в строгом сером костюме и галстуке. Пользуясь относительным затишьем за столом, Антон несколько раз порывался встать, чтобы произнести тост, но, видно, смущался и, расплескивая вино, опускал руку с зажатой в пальцах рюмкой. Еще не зная, о чем он хочет сказать, Федор Константинович, как это часто с ним бывало, если человек нравился ему с первого взгляда, проникся к пареньку доверием, мало того, втайне надеялся, что он-то и скажет те самые необходимые слова, которые изменят к лучшему его собственное мнение об Игоре.
В середине вечера Антон все же произнес свой тост — за столом временно установилась тишина, он встал и, заметно волнуясь, начал говорить о дружбе, связывающий его с Игорем, о том, что такого товарища поискать, что все ребята на курсе его уважают и любят, а преподаватели постоянно ставят в пример. Он говорил длинно и большей частью трафаретными фразами, гости слушали вполуха, зато Федор Константинович не пропустил ни слова, угадывая за банальностью слов искреннюю, неподдельную доброжелательность — то самое, в чем так нуждался сам…
А через месяц Игорь заявил, что бросает университет. Отговаривать было бесполезно. Он сказал, что скоро станет отцом, что ему не до учебы и что он обязан содержать семью. «Благородный молодой человек, — не то в шутку, не то всерьез сказала сестра, когда узнала о намерении Игоря. — Тебе радоваться бы надо». Но Федор Константинович радоваться не спешил: внутренним чутьем угадал, что дело не в отцовстве и не в ребенке, которого ждет Тамара, однако истинную причину понять не сумел. Это была вторая загадка. Правда, ответ на нее он все же получил.
Вскоре после этих событий, вернувшись из очередного рейса, он зашел к Светлане Сергеевне — благо она жила недалеко от вокзала — и застал у нее Игоря. Закинув ноги на стул, он сидел на диване и, прихлебывая кофе, листал разложенный на коленях журнал мод.
— На ловца и зверь бежит, — сказал Федор Константинович, присаживаясь к столу. — Вы знаете, что надумал ваш сынок? Хочет уйти из университета!
Светлана Сергеевна кроила себе новый халат.
— Игорь достаточно взрослый человек и сам способен решить, как ему лучше, — невозмутимо сказала она, — видимо, уже знала о решении сына.
— Позвольте, но зачем в таком случае было поступать? Зачем? Ведь он не первоклассник, на второй курс перешел, и успеваемость хорошая…
Приложив выкройку к расстеленному на столе куску шелка, Светлана Сергеевна быстрым движением обвела его остроотточенным кусочком мыла и втянула носом воздух — вздохнула.
— Вы только не обижайтесь, Федор Константинович, — сказала она. — Но почему от вас всегда пахнет керосином?
К его щекам прилила кровь.
— Я прямо из рейса… — не нашел он что ответить.
— Ах да! — Она взяла в руки большие портняжные ножницы.
— И это не керосин…
— Ну, все равно. — Светлана Сергеевна начала резать по отмеченной линии. — Так чем вы недовольны?
— Как чем?! Он бросает учебу. Прямо посреди года. Ему надо учиться, получить специальность.
— Не беспокойтесь, Игорь не собирается тунеядничать. Я через знакомых подберу ему работу, а на первых порах поработает у нас в клубе…
— Вот оно что?! — Он не знал, как реагировать на ее слова, и сказал первое, что пришло на ум: — Выходит, это ваша затея. Как это я сразу не сообразил!
— Во-первых, не моя, — спокойно возразила Светлана Сергеевна. — Игорь сам принимает решения, и вам об этом отлично известно. — Это был скрытый намек на брак с Тамарой. — Во-вторых, не вижу причин расстраиваться. — Переменив тон, она резко обратилась к сыну: — А ты чего молчишь? Язык отнялся? Почему я должна из-за тебя трепать нервы?! — Она не уточнила, но было ясно, с кем ей не хочется их трепать.
Игорь опустил ноги со стула.
— Да поймите вы, Федор Константинович, университет мне ничего не дает.
— Как это не дает? — растерялся Тихойванов.
— Ну, кем я оттуда выйду?
— Ты на биологическом — значит, биологом.
— То-то и оно! Буду куковать в какой-нибудь задрипанной лаборатории на сто двадцать рублей ноль-ноль копеек. Это разве деньги? Я их и сейчас заработаю, хоть завтра, без всякого образования. И вообще, как говорили классики, лучшим каждому кажется то, к чему он имеет охоту.
— Но ведь ты шел на биологический, потому что выбрал эту профессию! Учеба тебе дается, ребята тебя уважают…
Игорь переглянулся с матерью. Светлана Сергеевна состроила гримасу — мол, я-то тут при чем? — и снова склонилась над выкройкой.
— Вы с Тамарой, кажется, не нуждаетесь, — продолжал Федор Константинович. — Если вам не хватает моей зарплаты, скажите, не стесняйтесь. Я могу зарабатывать больше, поддержу материально.
— Да что вы все на деньги переводите?! — огрызнулся Игорь. — Не в них дело…
— Так в чем же, черт возьми?! Можешь ты объяснить по-человечески?
— Просто не хочу выбрасывать четыре года коту под хвост!
— Выходит, когда поступал, четыре года тебя не пугали, а теперь новое призвание появилось? Что-то ты темнишь, Игорь… Если денег вам не хватает, скажи прямо, не юли, а если хватает, тогда…
— Ну насчет «хватает» я бы не сказал… — начал было Игорь, но на ходу передумал и раздраженно закончил: — Как вы не поймете? Не нужно мне высшее образование, не нужно, и все. Незачем мне оно!
— А что нужно — в клубе работать? — Федор Константинович встал, натягивая на голову фуражку. — Ты даже толком не знаешь, какую работу готовит тебе мамочка через своих знакомых, а уже… Эх ты! — Он посмотрел на стоящую к нему спиной Светлану Сергеевну и понял, что продолжать бессмысленно. — Ладно, пошел я…
Его не удерживали.
Прошел еще месяц. Игорь работал в клубе медицинских работников осветителем сцены (наимоднейшая по тем временам профессия). Возвращался домой поздно, по полдня отсыпался, отчего в квартире стараниями Тамары постоянно царили полумрак и тишина. Вечерами приходил Толик, новый его приятель. Они о чем-то подолгу шептались, нередко распивали бутылку вина и уходили только после того, как Тамара, стараясь делать это тайком от отца, совала мужу в карман деньги.
Вскоре Игорь попался на краже.
Вместе с Толиком, подобрав ключи к двери радиокружка, они похитили оттуда дорогой стационарный магнитофон «Темп».
Дом погрузился в траур. Зять несколько дней пропадал неизвестно где. Тамара, узнав о случившемся, сначала не желала верить, что ее Игорек способен на воровство, но уже на второй день стала искать оправдания поступку мужа. Была тут и маленькая зарплата, и доверчивость Игоря, и негодяй Толик, сбивший его с правильного пути. А к концу того же дня, расстроенная отсутствием супруга, робко намекнула, что, если вдуматься, часть вины падает и на Федора Константиновича: почему он не общался с Игорем, почему замкнулся, не помог советом, не прогнал Толика?..
Вечером она отправилась на поиски мужа и нашла его у Светланы Сергеевны. Однако вернулась одна. На вопрос, почему не вернулся Игорь, она едва слышно ответила, что он боится тестя, и заплакала. Пришлось идти самому.
Прямо с порога Светлана Сергеевна категорически заявила, что знать ничего не знает, у нее хватает своих забот, она и пальцем не пошевельнет — пусть Игорь сам выпутывается, ей надоело его опекать, тем более что у него теперь своя семья. «Забирайте его, — сказала она, — и оставьте меня в покое».
В итоге коротких переговоров Федор Константинович увел зятя с собой. По дороге они большей частью молчали. У самого дома Игорь извинился, признал, что наделал ошибок, слезно просил помочь, заверил, что возьмется за ум. Федор Константинович со своей стороны пообещал возместить стоимость магнитофона, что и сделал, сняв на следующий день часть своих накоплений со сберкнижки.
Уголовного дела не возбудили. На работе посчитались с авторитетом Светланы Сергеевны — ограничились профсоюзным собранием. Игорь уволился по собственному желанию и последовавшие за этим три месяца нигде не работал, сидел дома. Встречаясь с тестем между его поездками, он делал виноватое лицо, не говорить о своих планах избегал. Молчала и Тамара.
Однажды терпению пришел конец. Федор Константинович не выдержал и высказал вслух все, что накопилось. Наверное, он выбрал неудачный момент — Игорь и Тамара сидели у заваленного грязной посудой стола и перекидывались в дурачка. Слушали его молча. При упоминании о брошенном университете, о краже, о том, что нельзя до бесконечности сидеть дома, пора устраиваться на работу, Игорь покраснел, но ничего не сказал, только исподлобья посмотрел на Тамару. Она встала, подошла к двери.
— Если тебе жалко денег — не давай, — сдерживая слезы, крикнула дочь и, перед тем как захлопнуть за собой дверь, добавила: — Сами как-нибудь проживем!
— Да разве я об этом?! — оторопел Федор Константинович и как подкошенный опустился на стул. — Нельзя же так…
Он потянул за ворот рубашки. Оторванная пуговица покатилась по полу, стукнулась о плинтус и, перевернувшись в воздухе, упала у его ног. Игорь осторожно, словно минуя опасную зону, прошел мимо и тоже выскользнул за дверь.
Тамарино «сами проживем» ранило больнее всего. Оно, это «сами», по существу, ничем не отличалось от «чего вы от нас хотите?» Светланы Сергеевны. «Сами» означало: она и Игорь — ОНИ. ОНИ и ОН — два враждебных лагеря. Им Федор Константинович не был нужен. Ни Игорю, ни Светлане Сергеевне, а теперь и дочери.
Вот тогда он и ушел к сестре. Ушел, в глубине души надеясь, что Тамара прибежит, позовет обратно, извинится. Но прошел день, за ним другой, потом еще и еще.
Через две недели Федор Константинович зашел на Первомайскую. Там ничего не изменилось: полумрак, гробовая тишина. Разве что чуть чище, чем обычно. Его постель была свернута, вещи стояли нетронутыми. Тамара лежала у себя в комнате. Под простыней тугим мячом вздувался ее огромный живот.
— Если хочешь поесть, борщ на плите, — сказала она, не делая попытки встать.
Как ни хотел, ни раскаяния, ни желания помириться в ее голосе он не уловил.
— Спасибо, я сыт.
Он побыл минут пятнадцать и ушел, так и не дождавшись разговора по душам. Это был окончательный разрыв, хотя отношения с тех пор внешне не стали ни хуже, ни лучше…
Тамара заснула. Федор Константинович угадал это по ее ровному, глубокому дыханию.
Он посмотрел на часы и, стараясь производить как можно меньше шума, встал с раскладушки.
ВОСКОБОЙНИКОВ
Начальник отдела кадров овощной базы Воскобойников смотрел сквозь толстые линзы очков на синюю учетную карточку и скучно, без всякого выражения, читал:
— Волонтир Георгий Васильевич, русский, беспартийный, образование неполное среднее, не женат, детей не имеет, инвалид второй группы, проживает по улице Первомайской, дом сто пять дробь два, квартира один.
Продолжая держать карточку перед собой, он поверх очков посмотрел на Сотниченко, не то закончив, не то сделав паузу.
— Это все? — спросил инспектор.
— Почти, — отозвался Воскобойников. — Взысканий не имел, благодарностей тоже. Ну а должность вы его знаете — сменный сторож.
— Вы лично его хорошо знали?
— Обязан знать своих людей. — Воскобойников отложил карточку и несколько оживился. — Работаю в кадрах уже восемнадцать лет, успел познакомиться с каждым, а Волонтир у нас давно, пришел на базу в пятьдесят шестом.
— Вот вы сказали, что Георгий Васильевич инвалид. А по какой болезни он получил инвалидность?
— Хромал на левую ногу. Довольно сильно.
— Травма?
— Нет, врожденное.
Сотниченко сделал пометку в блокноте.
— Как он зарекомендовал себя на работе?
— На его-то должности? — Воскобойников скупо улыбнулся. — Дежурил как положено: «пост сдал — пост принял» — вот и вся премудрость.
Он посмотрел на инспектора, проверяя, удовлетворяет его ответ или нет.
— А подробней можно? — спросил тот.
— Подробней? Можно и подробней. — И, словно только сейчас удостоверившись, что Волонтир интересует посетителя всерьез, начальник отдела кадров продолжил: — Было у нас тут два случая. Разбирали его товарищеским судом. Первый раз лет шесть назад. Поймался наш Георгий Васильевич на мелком хищении — пытался вынести с базы мешок с тепличными огурцами. На продажу, естественно. Уже через забор перекинул, тут его дружинники и задержали. Урок он, как говорится, извлек и с тех пор на кражах не попадался. Но был за ним еще один грешок. В прошлом году его снова судили товарищеским судом — за употребление спиртных напитков в рабочее время.
— А говорите, не зарекомендовал, — упрекнул Сотниченко. — Ну и как, подействовал на него второй суд?
— Где там! Горбатого, говорят, могила исправит. На посту, правда, пить перестал, зато к концу смены, перед самым приходом напарника, одну-две бутылки вина, как правило, оприходует. И не придерешься — отработал человек, вроде право имеет, тем более что держал себя в рамках, не дебоширил.
— Не пойму, он что, заядлый алкоголик? Каждый день пил?
— Ну, каждый день я его не видел. Георгий Васильевич выходил на работу через двое суток на третьи. График у него такой. Но прикладывался частенько — что было, то было. Вот позавчера, к примеру, тоже.
— Восемнадцатого?
— Постойте, дайте сообразить, чтоб вас не подвести. Заступил он на пост в двадцать ноль-ноль семнадцатого, а сменился в двадцать ноль-ноль восемнадцатого. Да, восемнадцатого.
— Я полагал, сторожа несут охрану только ночью, — заметил Сотниченко.
— Сторожа — те да, ночью работают, — подтвердил Воскобойников. — А у нас штаты не позволяют и сторожей держать, и вахтеров. Они у нас совмещают: заступают на сутки, ночью сторожуют, а весь день и вечер проверяют пропуска на проходной. И сторож и вахтер в одном лице.
— Вы говорили о восемнадцатом, — напомнил инспектор.
— Насчет выпивки? Было такое дело. — Воскобойников снял очки и устало потер веки. — Откровенно говоря, давно бы пора его уволить. Но ведь инвалид, да и не так просто это сделать — закон на его стороне. Пил после работы, милицией в нетрезвом состоянии не задерживался. С другой стороны, замену где найти? Людей-то нет. Видели объявление у ворот? Требуются постоянно. — Он водрузил на нос очки, отчего видимая сквозь линзы часть лица исказилась и выпуклым наростом выступила над щеками. — А восемнадцатого что… Как обычно. Я несколько раз в течение дня обошел территорию базы и, конечно, заглядывал на проходную. Волонтир был трезвым. Вечером у нас профсоюзное собрание состоялось по принятию коллективного договора. После собрания я еще полчасика у себя посидел, возился с бумагами. Короче, освободился без десяти восемь. Не специально так получилось — совпадение. Как раз они пост сдают. На дежурство уже заступил Козлов, сменщик Волонтира. Я заглянул в боковушку — есть у них там что-то вроде подсобного помещения, кладовка, — а там Георгий Васильевич собственной персоной. «Чего домой не идешь?» — спрашиваю. Он звякнул стаканчиком, деликатно так, и отвечает: «Сейчас допью и пойду с богом». Не успел я свет включить, а он уже складывает в кошелку пустую бутылку из-под вермута и стакан.
— Больше ни о чем с ним не говорили?
— Пристыдил, но с него как с гуся вода. Слова на него не действовали. Пошел, даже не попрощался.
— Это была последняя ваша встреча?
— Последняя.
— Скажите, а с чего он пил? Повод-то был? С горя или, может, наоборот, радость у него какая была? Не интересовались?
— Минуточку. — Воскобойников развернулся вместе со своим вертящимся креслом, запустил руку в сейф и вытащил оттуда картонную папку.
Время от времени тыкая пальцем в пропитанную водой резиновую губку, он стал перелистывать содержимое папки.
— Вот она. — Кадровик протянул инспектору пожелтевший с краев лист бумаги. — Обратите внимание на дату.
Это была автобиография, написанная Волонтиром в пятьдесят шестом году. Неровными, далеко отстоящими друг от друга буквами Георгий Васильевич записал место своего рождения, сведения о родителях, другие анкетные данные. Среди прочих была строчка:
«В тыща дивятсот сорок дивятом году был под следствием. Привлекался по питьдесят восьмой статье, но дело прикратили».
— Какое, вы говорили, у него образование?
— Три или четыре класса. Еще до войны закончил.
— Любопытно, — сказал Сотниченко, дочитав бумагу. — И вы считаете, что причина в этом? — Инспектор показал на запись, относящуюся к сорок девятому году.
— Не совсем. — Воскобойников снова снял очки и постучал дужками по бумаге. — Знаете, в чем его обвиняли?
— В чем?
— В пособничестве оккупантам. Я наводил справки.
— Но, насколько я понимаю, до суда дело не дошло?
— Нет. Компетентными органами установлено, что немцам он не помогал. В сорок втором, в оккупацию, ему было всего пятнадцать лет.
— Я не совсем понимаю. Если в его действиях не нашли состава преступления, к чему вытаскивать на свет эту историю? Зачем вы мне рассказываете об этом?
Воскобойников откинулся на спинку кресла. По его губам пробежала улыбка.
— Ведь вы интересовались, с какого горя пил Волонтир? Не удивляйтесь. Дело в том, что у Волонтира был старший брат — Дмитрий. Четыре года назад его судил военный трибунал, и наш Георгий Васильевич выступал на процессе свидетелем. Дмитрия приговорили к высшей мере…
— В чем он обвинялся?
— В измене Родине.
— А подробностей не знаете?
— Знаю. Во время войны Дмитрий Волонтир перешел на сторону врага, служил в зондеркоманде, участвовал в массовых расстрелах мирного населения на территории СССР, в частности у нас в городе в период оккупации.
— Понятно, — не совсем уверенно проговорил Сотниченко. — Простите, а откуда у вас столь обширная информация?
— Да не смотрите вы на меня так подозрительно, — снова, на этот раз совсем по-мальчишески, улыбнулся кадровик. — И не думайте, что я разыгрываю из себя Шерлока Холмса. Все гораздо проще: я участвовал в суде над Дмитрием Волонтиром.
— В каком качестве?
— Общественным обвинителем.
— Вот оно что. — Инспектор с повышенным интересом посмотрел на начальника отдела кадров. Следовательно, вы считаете, что суд над старшим братом так сильно подействовал на Георгия Васильевича, что он запил?
— Утверждать, конечно, не могу, но что пить он начал после того процесса — это точно.
Некоторое время сидели молча. Воскобойников спрятал папку в сейф.
— Еще вопрос, — нарушил молчание Сотниченко. — Почему вы посоветовали мне обратить внимание на дату, стоящую под автобиографией?
— В пятьдесят шестом он не указал, что у него есть брат. Скрывал это, — ответил Воскобойников. — После процесса это было бы невозможно. О суде над Дмитрием Волонтиром знали все, весь город…
ТИХОЙВАНОВ
Он скатал матрац, сложил раскладушку и поставил ее за дверь. В прихожей подогрел на плите воду, тщательно выбрился, надел свежую рубашку. С галстуком пришлось повозиться — обычно его завязывала сестра, а здесь, в гостях, Тамара. Но ее он будить не хотел.
От неосторожного движения звякнул металлический тазик, спрятанный под раковиной, и он замер, прислушиваясь, не разбудил ли спящих. Вроде нет. Прикрыл дверь в комнату, подошел к зеркальцу над умывальником. В его мутной, забрызганной высохшей пеной поверхности отразились серое, перечеркнутое шрамом лицо, седые, зачесанные назад волосы. Федор Константинович поправил галстук. Узел вышел так себе, больше похожий на трапецию, чем на треугольник, но перевязывать он не рискнул — могло получиться еще хуже.
К левому лацкану пиджака были приколоты три орденские планки, соединенные в одну колодку. Он было потянулся, чтобы снять их, но, подумав, оставил. Обмотал горло теплым шарфом и, взвалив на плечи тяжелое драповое пальто с каракулевым воротником, вышел из квартиры.
В подъезде Тихойванов остановился под свисавшим с потолка матовым плафоном. Было еще рано. Не было половины седьмого. К нему ненадолго вернулось ощущение бесмысленности того, что он собирался предпринять. «Ну что мне скажут в милиции? — подумал он. — Что идет расследование? Я и так это знаю. Зачем же идти? Зачем отрывать людей от работы? Чтобы ублажить дочь? Исполнить ее очередной каприз?»
На душе стало скверно. Часом раньше квартира, а теперь и подъезд, пустой и гулкий, показался ему чужим, неуютным и безликим в своей наготе помещением, куда он забрел по ошибке, перепутав адрес. Живя у сестры, он успел отвыкнуть от этой холодной в любое время года глубины лестничных пролетов, от истертого мрамора ступеней, от запаха сырости, которым даже сейчас, зимой, было пропитано все от подвала до чердака.
«Когда мы вселились сюда, в этот дом? — подумалось ему. — Ну да, в тридцать девятом. Летом тридцать девятого!»
В памяти совершенно отчетливо всплыл тот бесконечно далекий солнечный июльский день. Вспомнился отец, еще совсем молодой, с большими буденовскими усами, с пустым рукавом, заправленным под узкий украшенный серебряной насечкой ремень. Он ловко орудовал одной рукой, легко подхватывал с телеги узлы с вещами, перебрасывал их за спину и нес в квартиру, где одуряюще пахло свежей побелкой и столярным клеем. Имущества у них тогда было немного, а по нынешним меркам и вовсе ерунда, зато имелась герань — первый и вернейший признак оседлости. Ее поставили на подоконник и специально выходили во двор, чтобы полюбоваться на манящее, по-домашнему уютное окно с пышным зеленым кустом, усеянным багрово-красными цветками. Да, полюбоваться было чем…
Федор Константинович вышел из подъезда под куцый бетонный козырек, постоял, задумчиво Глядя на легкую, стлавшуюся по влажному булыжнику поземку. Снежная пыль вздымалась облачком и неслась по двору, пока не натыкалась на встречный поток воздуха. Тогда она закручивалась маленькими смерчами и спадала на булыжник. Небо заметно посветлело, из темно-синего стало сиреневым, с голубизной. Кляксами чернели на деревьях гнезда. С ветвей срывались комки снега и рассыпались на лету искрящейся пылью.
Тихойванов прошел через темный тоннель подворотни и не спеша двинулся вдоль улицы.
Мысленно он все еще был в прошлом, там, где навсегда остались отец, переезд на новую квартиру, его собственное беззаботное детство. Ему вспомнилось, как однажды — кажется, это было на Первое мая в сорок первом — они с отцом вышли во двор, и обомлевшие мальчишки, разинув рты, уставились на орден Красного Знамени, привинченный к отцовской гимнастерке. Орден надевался до обидного редко, два-три раза в год. Но если уж он появлялся на отцовской груди, то праздник становился торжественней вдвойне.
Как он тогда гордился отцом! В свои семнадцать, как и все сверстники, мечтал о подвигах, о большом, полезном для Родины деле, зачитывался газетами, бегал в «Ударник» на трилогию о Максиме, на «Щорса» и ждал, с нетерпением ждал возможности проявить себя так же геройски, как отец в годы гражданской войны.
Кто мог предполагать, что этот Первомай окажется последним перед войной и что пройдет несколько месяцев, и его вместе с другими ребятами их двора будут провожать на призывной пункт!..
Отец храбрился, до последней минуты казался веселым, шутил и, лишь когда настало время прощаться, крепко прижал его своей единственной рукой и прошептал на ухо сбивчиво, торопливо, будто боясь не успеть или кого-то стесняясь:
— Береги себя, сынок, ладно? Ты ведь у меня один… — и отвернулся.
Играла гармонь, ей вторила гитара и мандолина. Странное сочетание, но никогда — ни до, ни после — Тихойванов не слышал музыки выразительнее и прекраснее. Кто-то запел молодым, ломающимся от волнения голосом:
Если завтра война, если завтра в поход, Если черная сила нагрянет…Песню подхватили:
Как один человек, весь советский народ За Советскую Родину встанет…Пели отцы и матери, сестры и младшие братья, пели соседи, а чудилось — вся страна поет, провожая своих сыновей на святое, правое дело, выше которого и почетнее ничего нет.
С их двора уходило шесть человек. Провожающих было в десять раз больше. Среди пацанов между прочими крутился и Жорка Волонтир. Он провожал своего старшего брата Дмитрия. Ненадолго свела их война, Дмитрия Волонтира и Федора Тихойванова, на неделю, не больше, — пока везли на формирование. Война и развела. Потом, через много лет после возвращения, Федор Константинович узнал судьбу каждого из той шестерки. Четверо погибли смертью храбрых, а Дмитрий… С ним, как оказалось, они воевали не просто в разных воинских частях, а по разные стороны фронта: Волонтир попал в плен и спасся ценой предательства. Канул его след в неизвестность.
В сорок шестом Тихойванов вернулся в город. Отца к тому времени уже три года как не было в живых. Осталось лишь неотправленное письмо, датированное декабрем сорок второго. Письмо это по доброте душевной, а может быть, из какой-то особой инвалидской солидарности сохранил безногий сапожник из мастерской в двух кварталах от дома. Он появился в жизни Федора Константиновича так же внезапно, как и исчез. Прикатил на своей гремучей тележке, пристально, с любопытством и завистью рассматривал ордена и медали, пока читалось письмо, а потом, с жадностью затягивался столичным «Казбеком», которым угостил его Тихойванов, коротко рассказал, что в сорок втором под Новый год оккупационные власти выселили жильцов из их дома, и отец перебрался в сапожную мастерскую, откуда спустя неделю и взяли его по доносу как участника и героя гражданской войны.
Через час он укатил, отталкиваясь от земли деревянными валиками, и больше Тихойванов его не встречал: дверь в мастерскую оказалась заколоченной, и никто не мог сказать, куда делся хозяин. Письмо тоже затерялось. До сей поры Федор Константинович так и не избавился от мысли, что сапожник был единственным человеком, который знал, что скрывалось за обычными, в общем-то, отцовскими приветами и пожеланиями бить врага до победного конца — кроме этого, в последней его весточке ничего не было…
Дом нисколько не изменился, даже не пострадал, хотя город дважды побывал в руках врага. Удивительно было и другое: тогда, в сорок шестом, улица показалась Тихойванову гораздо короче и уже, чем была до войны, двор — меньше, подъезд — темнее. Конечно, перемена произошла скорее с ним самим, а не с окружающим его материальным миром, и перемена значительная. Между тем посторонним, чужим он себя не чувствовал — это был его дом, его, пусть связанная с грустными воспоминаниями об отце, квартира. Из крепких сосновых досок он смастерил нары, раздобыл чайник и набитый морской травой тюфяк, выменял на барахолке примус. В те месяцы было не до комфорта, да и воспоминания тревожили не так часто. Успевая за день отработать полную смену в депо и отсидеть несколько часов в библиотеке института инженеров железнодорожного транспорта, куда поступил учиться заочно, он приходил сюда только ночью, чтобы, укрывшись потрепанной шинелью, ненадолго забыться перед новой сменой.
Так продолжалось до сорок седьмого. Весной он познакомился с Машей — худенькой стеснительной девушкой из соседнего механического цеха. Самым приметным в ее лице были огромные карие глаза. Раз заглянув в их полную затаенной нежности и доброты глубину, он понял, что не сможет прожить и дня без того, чтобы не смотреть в них еще и еще. Весной он привел ее к себе, и она осталась с ним навсегда. Началась новая, ни с чем прежним не сравнимая жизнь. В комнатах посветлело, понемногу обзавелись мебелью, на окнах появились занавески, на полках в прихожей — кухонная утварь, от одного взгляда на которую у него с непривычки сжималось сердце.
Спустя год у них родилась маленькая черноглазая Тамара. Ей не исполнилось и пяти, когда случилось непоправимое: после короткой с непонятным латинским названием болезни Маша умерла. Позже он узнал, как переводится на русский слово «cancer», но разве это имело хоть какое-то значение? Он помнил себя сидящим у белой, с черными вкраплинами ржавчины больничной койки, помнил уставшее, изменившееся до неузнаваемости восковое лицо жены на серой жесткой подушке, шепот нянечек за спиной и неотвязную мысль, что жизнь на этом кончилась.
Аннушка, сестра, взяла ребенка к себе. Сказала мягко, но решительно, что так будет лучше и для него, и для девочки. Он не возражал: с дочерью или без нее — все равно он оставался один. Совсем один, если не считать Машиной фотографии в скромной картонной рамке — снимок был сделан незадолго до смерти, а увеличен уже потом. Застенчиво улыбаясь, она смотрела на него, и он, живой, завидовал ей, потому что там, куда она ушла, не испытывают ни отчаяния, ни безысходности, ни одиночества — всего, что, оставшись один, испытывал он.
И снова Тихойванов удивился. На этот раз раздвинувшимся стенам, звонкой тишине огромной квартиры, высоте потолков, гулкой пустоте двора, куда среди ночи выходил покурить, не в силах терпеть замкнутого стенами пространства. Но и во дворе мир замыкался плоским, неровно обрезанным крышами куском неба и темными, без единого огонька в окнах, домами.
В одну из таких ночей пришло решение взять дочь к себе. И, несмотря на уговоры сестры, он проявил твердость, забрал девочку к себе. Зная его характер, Аннушка скрепя сердце смирилась, поставив единственным условием, что на время своих рейсов он будет приводить племянницу к ней.
Так и зажили вдвоем. Тамара росла, с каждым годом становилась все больше похожей на мать, разве чуть пошире в кости, покрепче. Глядя на ее розовое личико, на прыгающие за спиной тугие, смоляного цвета, косички, слушая ее смех, он не сразу и не без удивления заметил, что в отцовской своей любви обрел новый, неиссякаемый источник душевных сил, и корил себя за легкость, с которой однажды согласился расстаться с дочерью.
Время побежало незаметно, чередованием больших и маленьких событий, забот и радостей: первый класс, первая тарелка, вымытая детскими ручонками, первая пятерка и первая двойка, ангины и корь, температура под сорок и медленное выздоровление, совместные поездки в зоопарк, экскурсия в паровозное депо, организованная им для учеников ее класса, подружки, веселой гурьбой приходившие к ним зубрить уроки, выпавшая из портфеля записка от мальчика, первый телевизор — он посейчас помнил их с дочерью общее ликование при виде зеленого пористого экрана, спрятанного в пахнущий свежим лаком ящик. Были родительские собрания с восторженными похвалами и «последними» предупреждениями, были проводы в пионерские лагеря со слезами под духовой оркестр, прием в комсомол, окончание школы, выпускной бал.
И вдруг, в один день, бег времени оборвался. Случилось это в тот самый день, когда он оставил дома плачущую Тамару и пошел к Красильниковым. Все, что произошло потом, было похоже на растянувшийся до бесконечности сон, в котором ему отводилась не всегда понятная, иногда странная, а иногда и вовсе унизительная роль…
Федор Константинович усмехнулся: как много сходного между тогдашним, восьмилетней давности, и сегодняшним его настроением. И обстоятельства схожи: он идет просить, правда, теперь уже не за дочь — за зятя. Впрочем, нет, просить он не будет — это решено твердо и окончательно. Никаких просьб, только справиться, как и что. Должен же он знать, в чем, собственно, дело…
До начала работы районного отдела внутренних дел, куда направлялся Тиховайнов, оставалось чуть больше часа. Он старался не смотреть на часы: чем меньше оставалось времени, тем больше волновался. Но волновался не потому, что хотел как можно скорее узнать подробности о судьбе зятя, и даже не из желания побыстрее успокоить дочь — нет. Изматывающая душу трехдневная нервотрепка, сегодняшняя бессонная ночь, постоянные мысли о случившемся привели его к малоутешительному, но вполне определенному выводу: то, что он собирается сделать, то есть его визит в райотдел милиции, не что иное, как фикция, самообман. Ведь не сострадание заставляет его беспокоиться о зяте и не любовь к дочери, а родительский долг, в который с течением времени трансформировалось его отцовское чувство, еще до недавней поры составлявшее главный смысл всей жизни. Теперь было не до высоких чувств. Долг — вот к чему свелась его роль и его участие в жизни дочери. Даже убедившись, что перестал быть ей необходим, да что там необходим — просто не нужен, он продолжал помогать ей, наведывался на Первомайскую, а с уходом на пенсию взвалил на себя заботы о внучке. Но между долгом и любовью есть разница…
Федор Константинович стоял у входа в парк. Слева на фоне чистого снега густым частоколом стояли голые, черные от сырости деревья, справа, в отдалении, разбрызгивая колесами желтоватую кашицу снега, сновали машины.
Времени в запасе было много. Он свернул в аллею. Приостановился у садовой скамейки, вытащил из кармана папиросы. В нескольких метрах от него, между корявым стволом акации и низенькой, покрытой шапкой снега елкой, кто-то набросал хлебного мякиша. У особенно крупных кусочков снег был вытоптан птичьими лапками. С верхушки акации тяжело слетела сорока. Она спланировала на снежный наст, повела бусинками глаз в сторону Тихойванова и, молниеносно клюнув, лениво взлетела…
Федор Константинович закурил, спрятал горелую спичку в коробок и присел на скамейку…
Глава 3 12 февраля
СКАРГИН
Поставив себе целью восстановить в памяти все подробности этого, как мне думается, не совсем обычного дела, размышляя сейчас о событиях месячной давности и пытаясь восстановить последовательность, я задаюсь вопросом, а есть ли смысл теперь, когда расследование практически закончено, копаться в интимных переживаниях Тихойванова, его отношениях с дочерью, тем более что все сообщенное им стало известно не сразу, а по мере того, как росло его ко мне доверие, то есть сравнительно недавно?
Решающей роли его показания не сыграли, что правда, то правда, и обстоятельств убийства они непосредственно как будто не касались, и все же… все же я убежден, что без них общая картина преступления была бы неполной, а отдельные аспекты дела вообще остались бы неизвестными. Поэтому в моем представлении Федор Константинович остается фигурой достаточно значительной, а его личная жизнь — достойной пристального внимания.
Однако не буду забегать вперед, попробую лучше описать сумятицу первых, пожалуй, самых трудных и хлопотливых дней, когда знакомство с тестем Красильникова еще не состоялось и перед нами стояла самая важная на тот момент задача: обнаружить и задержать преступника.
Утром девятнадцатого января после разговора с женой Красильникова, Тамарой Федоровной, я стоял у флигеля Волонтира и ломал голову над своей находкой — электрической лампочкой из прихожей первой квартиры. Мысли мои текли приблизительно по такому руслу: некто, чье имя мы пока не знаем, был крайне заинтересован, чтобы в прихожей погас свет, и на один-два оборота выкрутил лампочку из патрона. Логично? Логично, потому что стоило нашему незнакомцу выкрутить ее совсем, и непременно возникли бы вопросы: кто выкрутил да зачем, а так и без слов ясно — перегорела. Как способ обеспечить темноту в помещении — оригинально. Но кто из жильцов был этим любителем потемок? Красильников? Тамара? А может быть, их покойная соседка Щетинникова? Когда выкрутили лампочку, зачем? Ну темно в прихожей, ну и что? По-моему, довольно глупо, и все же кому-то это показалось не только разумным, но и необходимым! Одно из двух: или моя находка не имела никакого отношения к делу, и тогда ее следовало выбросить, или это была одна из улик, значения которой я пока не понимал, и в этом случае ее необходимо, как говорится, приобщить.
Здесь же, на месте происшествия, лампа перекочевала в объемистый саквояж криминалиста и на время выпала из сферы нашего внимания.
Тем январским утром я думал еще и о том, что в деле образовался загадочный узел с местом действия — прихожая Красильниковых — Щетинниковой. Причина не только в лампочке — уж больно много событий произошло в этой квартире за предыдущие дни. Чтобы внести хоть какую-то ясность, я поручил Сотниченко через соответствующие медицинские учреждения собрать сведения о причине смерти Нины Ивановны Щетинниковой. Сразу после этого мы с Костей Логвиновым, который к тому времени закончил допрос Ямпольской, направились к пустующему дому.
У подъезда Костя остановился. Правее, вровень с моим плечом, находилось окно первого этажа. Покосившаяся рама едва держалась на старых, погнутых петлях, в ней торчали осколки стекла. По словам Елены Борисовны, именно на этом месте прошлой ночью в течение нескольких минут стоял Красильников, перед тем как уйти домой.
— Войдем? — предложил Логвинов, и по его тону я понял, что просидел у Тамары Красильниковой довольно долго; за это время Костя успел проверить показания Ямпольской, прошел тем же, что и Красильников, маршрутом и, кажется, обнаружил что-то любопытное.
Мы вошли в подъезд. Здесь вовсю гуляли сквозняки, слабо пахло подгнившей древесиной. В квартире, куда привел меня инспектор, дорогу нам преградили обломки старой мебели, пол усеивали куски штукатурки вперемежку с битым кирпичом, со стен свисали обрывки электропроводки.
Обходя кучи мусора, Логвинов, а за ним и я пробрались поближе к окну.
— Взгляните. — Он показал себе под ноги.
Слой снега пальца в два толщиной покрывал подоконник и часть пола у оконного проема: всю прошлую неделю мела метель, снег, видимо, занесло ветром через пустые рамы окон. Там, где слой снега сходил на нет, то есть ближе к середине комнаты, валялись зеленые бутылочные осколки. Поменявшись с Костей местами, я присел на корточки. В неровном, идущем от окна свете блестел срез уцелевшего донышка бутылки, рядом — большой кусок стекла с оборванной наклейкой «Экстра» и осколки поменьше. Я мог даже показать половину кирпича, о которую разбилась бутылка. Не вызывало сомнений и другое: бросили ее сюда недавно — на битом стекле не было ни крупицы снега.
— Зови экспертов, — распорядился я…
«Обзорный снимок места происшествия», «Снимок трупа с окружающей обстановкой». Я продолжаю перелистывать страницы лежащей передо мной папки. Вот фотографии разбитой бутылки; под ними подобные же надписи: «Обзорный снимок», «Узловой снимок». Сразу же за протоколом осмотра — заключения экспертов. Сейчас они еще не подшиты, не пронумерованы, лежат в папке и ждут своего часа. Он близок, этот час, но путь к нему был некороток, а в те январские дни казался еще длиннее…
В тот же день, девятнадцатого, около четырех часов, стали известны результаты вскрытия трупа. Оно подтвердило, что Волонтир умер от общего отравления бытовым газом — смерть наступила между тремя и пятью часами утра. После вскрытия химики взяли на анализ кровь, содержимое желудка покойного и пришли к выводу, что Георгий Васильевич перед смертью выпил большое количество спиртного.
Чудеса оперативности продолжались.
Чуть позже я получил заключение дактилоскопистов. Оно занимало пятнадцать страниц машинописного текста плюс несколько страниц со сравнительными фотографиями, зато выводы уместились в несколько строчек, что, несомненно, подчеркивало их категоричность: отпечатки пальцев, обнаруженные на поясном ремне убитого, на спинке стула в его комнате, на клеенке, которой был застлан стол, полностью совпадали с отпечатками пальцев задержанного к тому времени Красильникова. Кроме того, криминалисты дали заключение об идентичности волос Красильникова с волосом, найденным на трупе убитого. На лампочке — пальцы того же Красильникова. На осколках бутылки — четкие отпечатки пальцев Красильникова и Волонтира.
Показания Ямпольской и Тамары Красильниковой были запротоколированы и приобщены к делу.
В шестнадцать сорок я вынес постановление об избрании меры пресечения, а немного погодя получил санкцию прокурора на арест Игоря Михайловича Красильникова, двадцати восьми лет, русского, беспартийного, женатого, имеющего ребенка и так далее, в связи с павшим на него подозрением в убийстве.
Спустя всего восемнадцать часов после совершения преступления в этот самый кабинет вошел молодой человек с мягкими, выразительными чертами лица и поморщился, вдохнув пропитанный табачным дымом воздух…
Я подхожу к зарешеченному окну и смотрю вниз.
Треть двора уже убрана от снега. Там, где по нему прошлись скребками, влажно блестит асфальт. Сегодня тепло. Пожалуй, около ноля. Солнце светит щедро, в полный накал, и тут, в кабинете, куда бьют его прямые лучи, становится даже жарко.
Знакомые фигуры скрылись из поля зрения. Их заслоняет железный сток с наружной стороны окна. Стало быть, скоро они будут в приемнике и минут через пятнадцать-двадцать Красильников поднимется сюда. Он поздоровается, сядет на привинченный к полу табурет, и продолжится то, что он считает игрой и что в отличие от него я назвал бы поединком, схваткой. Да, схваткой, поскольку речь идет об одном из самых тяжких преступлений — убийстве и человек, чью суть, чью жизнь и поступки я стараюсь познать объективно, не только не признался в содеянном, но всеми доступными средствами путает следствие, пытается уйти от ответственности. За все четыре недели я не услышал в его голосе ни нотки раскаяния, не поймал во взгляде ни намека на чувство вины. Он хитрил, изворачивался, а когда убеждался, что это не удается, менял тактику, подсовывал мне урезанную на свой вкус правду, то есть полуправду, прекрасно понимая, что проверить ее гораздо сложнее, потому что ложь — это, по сути, отрицание, от нее можно отталкиваться в поисках истины, а полуправда сбивает с толку, лишает ориентировки, до неузнаваемости искажает действительное положение вещей.
Нет, не игроками сидели мы с Красильниковым в этом тесном кабинете, хотя порой наши отношения были похожи на игру: я нападал — он защищался, я ловил его на противоречиях — он их избегал; если же попадался, то в качестве трофея мне доставалась деталь, клочок общей картины. Сравнение событий, имевших место в квартире Волонтира в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое, с картиной вряд ли удачно, но я до сих пор не могу от него отделаться — так и вижу спящего на продавленном диване Георгия Васильевича и застывшего над ним Красильникова. Фрагмент, так сказать. Теперь мне известна общая композиция этого полотна и практически все детали…
Пройдет четверть часа, и я увижу его — чуть полноватого, на вид спокойного, уверенного в себе… Впрочем, уверенности у него за последнее время сильно поубавилось, а если и осталась, то напускная, рассчитанная на внешний эффект, так же как и спокойствие. Но надежда осталась, осталась вера в шанс на выигрыш в игре, которую ведет. Красильников еще не знает, что шансов нет. Их и не было никогда, даже в те, самые первые дни, когда наша цель казалась почти недостижимой. Это знаю я. Знал всегда.
Не пройдет и недели, и материалы из лежащей передо мной папки будут переданы в суд, дело назначат к слушанию, и Красильников сменит тюремный табурет на не менее жесткую скамью подсудимых. Все верно — моя работа закончена. Сегодня я скажу ему об этом. Сможет ли он взглянуть на происшедшее иными глазами, сможет ли, пусть на секунду, испытать то, что зовется угрызениями совести? Наверное, это и есть вопросы, ответы на которые я ищу, ради которых роюсь сейчас в памяти, ожидая, когда откроется дверь, и он войдет, убежденный в собственной безнаказанности…
На первом допросе Красильников отрицал все подряд.
— Ничего не видел, ничего не знаю. У Волонтира не был, — говорил он вполголоса и как-то апатично, будто оставляя себе возможность отказаться от своих слов в том случае, если у меня найдутся факты, свидетельствующие об обратном. Но так только казалось — факты подействовали на него не сразу.
Я понял, что первая, стремительная, многообещающая часть дела позади и в ближайшем будущем нас ожидает не триумфальное его завершение, а многотрудная и малопродуктивная работа.
Для начала пришлось ознакомить Красильникова с показаниями Ямпольской. Пожалуй, с этого и началось то, что потом длилось целый месяц.
— Она лицо заинтересованное, — сказал он с подчеркнутой невозмутимостью, но я уловил в его голосе нотки облегчения.
Именно это в его интонации заставило меня если не поверить, то прислушаться к сказанному. Тогда я понятия не имел о его немудреной тактике говорить полуправду, с тем чтобы соврать в главном. Позже мне пришло на ум следующее сравнение: он был похож на невезучего картежника, чувствующего, что надежды на выигрыш почти нет, и тем не менее делающего минимальные ставки с единственной целью — как можно дольше побыть у игорного стола. Но это позже, а тогда я попросил объяснить, почему он считает Елену Борисовну лицом заинтересованным.
— Неудобно как-то, — замялся он. — Да вроде и ни к чему вам это…
Но, как и следовало ожидать, долго уговаривать его не пришлось, хотя Красильников и делал вид, что говорит с неохотой, идет на уступку.
— Вы войдите в мое положение. О таком вслух говорить не принято, я как-никак человек семейный, а у нас с Леной… как бы это поточнее выразиться, сердечная склонность была, обоюдное влечение, если хотите. Ну да, куда денешься, в моем положении стесняться не приходится… Ладно, слушайте. Мы с женой вообще-то дружно живем, у нас и дочь большая уже, но нет-нет и поругаемся. Без этого не бывает. Я, конечно, переживал размолвки, мучился. Вот в такой момент и подвернулась она… Лена, значит. Получилось как в стихах: «Она меня за муки полюбила, а я ее — за состраданье к ним». Ну, встречались мы с ней, встречались, а потом поссорились. Она, естественно, ревнует, вот и наговаривает со зла. Вот вам и объяснение.
— Со зла, значит?
— Со зла. В наше время, знаете, и устрица врагов имеет. — Подумав, он предположил: — А может, и показалось ей. Сами посудите, не днем видела — ночью, в два часа. Тут не такое причудится. Тем более она женщина с фантазией… — Красильников помолчал, проверяя, достаточно ли мне этих сведений, и решил, что сказал мало. — Это длинная история, гражданин следователь. Год назад, в августе, кажется, предложил я ей прогуляться вместе. Чисто случайно получилось: встретились утром по дороге на работу. С этого и пошло. Она женщина одинокая, эффектная, хотя и не первой молодости, — ну я и соблазнился…
Он улыбнулся, и я без особого труда представил, какой обаятельной была его улыбка тем августовским утром.
Внешность у Красильникова, надо отметить, ничем не примечательная, но черты лица довольно приятные, правильные — этого не отнять. Густые волнистые волосы, серые, с синевой, глаза. Даже лишние килограммов шесть-семь веса не очень портили его фигуру — распределялись равномерно, придавая движениям плавность, солидность и уверенность. И только подбородок несколько портил общее впечатление — он был как бы срезан вровень с нижней губой и едва заметно скошен. Думаю, Красильников избегал показывать себя в профиль. Женщинам он, должно быть, нравился: рост чуть выше среднего, модная стрижка, живой взгляд, четко очерченные розовые губы, прямой, хорошей формы нос и вдобавок к этому сдержанность, умение держать себя с достоинством. Правда, подлинную цену этим последним его качествам я узнал два дня спустя, на очной ставке с Ямпольской.
Вызывать Елену Борисовну для встречи с Красильниковым, честно говоря, не хотелось. То, как и в каких выражениях он говорил о своей бывшей возлюбленной, если, конечно, она и вправду ею была, не оставляло сомнений, что очная ставка будет для Ямпольской серьезным испытанием. Кроме того, я понимал, что любое, даже вынужденное вмешательство в их сугубо личные отношения причинит ей боль. Мне было жаль Елену Борисовну. Прежде чем выписать повестку, я не раз взвесил все «за» и «против» и, только убедившись, что иначе показания Красильникова проверить невозможно, вызвал ее в прокуратуру.
Она долго крепилась. Оставаясь верной своей манере, отвечала коротко, односложно, не переставая бросать на Игоря тревожные, полные недоумения взгляды. Он, в свою очередь, отвечал ей снисходительной полуулыбкой, но не щадил, говорил об их отношениях открыто, почти грубо, и, когда опрометчиво повторился насчет присущей ей фантазии, Елена Борисовна, изо всех сил старавшаяся держать себя в руках, не выдержала.
— Прекрати! — воскликнула она. — Немедленно прекрати!
— Вы же видите, она истеричка! — нервно выкрикнул в ответ Красильников. — Неужели вы верите тому, что она тут наболтала?!
— Какой же ты подлец! — Ямпольская отвернулась от Игоря и твердо сказала, обращаясь только ко мне: — Я настаиваю на своих показаниях! Не знаю, какое это имеет для вас значение, но девятнадцатого около двух часов ночи этот человек вышел из дома Георгия Васильевича. Ошибка исключена — я видела его собственными глазами.
Красильников демонстративно повернулся к ней боком.
— Что скажете? — спросил я.
— Пока эта девушка… — Он умышленно подчеркнул последнее слово, произнес его желчно, с издевкой, и я заметил, как Ямпольская вздрогнула, словно ее ударили по лицу. — Пока эта девушка, — повторил он, — здесь, я не скажу ни слова! Не был я у Волонтира, ничего не знаю! — И прибавил, переходя на крик: — Пусть убирается, я не желаю ее видеть!
Я увидел слезы, покатившиеся из глаз Ямпольской, и не стал ее задерживать. Она наспех расписалась в протоколе и выбежала из кабинета.
После очной ставки на душе у меня еще долго оставался осадок: так бывает, когда сталкиваешься с чем-то не до конца понятным и оттого кажущимся значительным и важным. Меня не могла не удивить позиция Красильникова. Дело в том, что двумя днями раньше, в ходе первого допроса, после того как я ознакомил его с некоторыми соображениями экспертов, между нами было заключено нечто вроде временного перемирия: поразмыслив, он перестал спорить с очевидным и, признавшись, что встречался с Волонтиром в ночь на девятнадцатое, выдвинул свою версию происшедшего, вторую по счету. Да, он приходил к Георгию Васильевичу, и они распили бутылку водки. Ничего особенного в их встрече нет, соседи и жена могут подтвердить, что время от времени они выпивали вместе — это не преступление, у нас ведь не сухой закон! В последний раз действительно сидели до двух часов ночи, а потом он ушел домой. Почему так поздно? Так вышло, но тоже не впервые — бывало, засиживались и подольше. Какие дела их связывали? Никаких особых дел не водилось, болтали о том о сем, время пробежало незаметно. Ни ссоры, ни драки не было, разошлись мирно.
— Кто закрывал дверь? — спросил я.
— Дверь закрыл Жора. — Так он называл Георгия Васильевича в силу приятельских отношений.
— Что потом?
— А что потом? Ничего. Вернулся домой, лег спать, утром ушел на работу.
Внешне все сходилось. «В том-то и дело, что только внешне», — уже тогда подумалось мне.
— Когда и от кого вы узнали о смерти вашего приятеля?
— Сегодня. От вас, — коротко ответил Игорь.
— Разве вы не видели утром во дворе милицейскую машину?
Вопрос не случайный — в восемь мы уже были на месте происшествия, и он не мог, выходя из подъезда, не заметить нас у флигеля.
— Видел, — сказал Красильников, — но не придал этому значения.
— Хорошо. Подведем итог. Восемнадцатого января в половине девятого вечера вы без всякого повода, по-соседски, пришли к Георгию Васильевичу в гости. Распили с ним две бутылки водки, и около двух ночи он проводил вас до двери и закрыл ее за вами. Я ничего не перепутал?
— Все точно, — подтвердил Красильников.
Я счел, что для первого раза этого достаточно, и прервал допрос. Для меня было важно, что он отказался от тактики тотального отрицания и признался: у Волонтира был, пил с ним, ушел в два часа ночи.
И вот двадцать первого января на очной ставке с Еленой Ямпольской он взялся за старое. Как было не удивляться?! Сейчас я твердо знаю, чем было вызвано это противоречие, а тогда… тогда строил предположения, пытался понять, почему он надумал отказаться от того, в чем успел сознаться двумя днями раньше. Непоследовательность? Расчет? Наивность? А может, он еще питал надежду, что все обойдется, что Ямпольская, потрясенная встречей с бывшим возлюбленным, не найдет в себе сил повторить свои показания? Или испугался, что она проговорится о чем-то важном, и специально спровоцировал ее возмущение, чтобы сбить, увести разговор в сторону? Последнее предположение (оказавшееся самым верным) встревожило меня не на шутку. Впрочем, не прошло и часа, как Красильников взялся устранить противоречие.
— Понимаете, захотелось досадить этой старой деве, — сказал он, когда я вызвал его на повторный допрос.
— Только и всего?
— Конечно. А что ж еще? Я ведь не отказываюсь, что был у Жоры до двух ночи…
Оставалось поверить ему на слово, тем более что неясностей в ту пору было хоть отбавляй. Например, крючок, на который дверь в волонтировский флигель запиралась изнутри. Аварийщики, первыми прибывшие на место, в один голос утверждали, что дверь была заперта и что бригадир, опасаясь гнева хозяина квартиры, запретил им ломать дверь, а, изрядно повозившись, поддел крючок проволокой.
Красильников на лету схватывал ситуацию и наверняка догадывался, почему при встречах с ним я не затрагиваю эту немаловажную деталь, а догадавшись, сам перешел в наступление.
— Волонтир закрыл за мной дверь, — настаивал он. — Не мог же я пройти сквозь стену, накинуть крючок и выйти из запертого помещения. Неужели непонятно?!
В чем, в чем, а в логике ему отказать было трудно. Раз дверь заперли изнутри, значит, после ухода Красильникова Георгий Васильевич был жив и здоров. Железный довод, не придерешься. А придираться надо было.
Меня насторожила настойчивость, с которой Красильников ссылался на это обстоятельство. На следующий день мы провели следственный эксперимент. Он состоял из десяти попыток закрыть дверь, находясь снаружи, со стороны двора. Девять попыток не принесли результата. Лишь в одном случае с помощью тонкой стальной проволоки, просунутой сквозь щель в двери, удалось накинуть крючок на скобу. Чтобы проделать этот трюк ночью, при плохом освещении, надо было обладать ловкостью фокусника или навыками профессионала-медвежатника, но, что особенно важно, на это понадобилось бы слишком много времени. Красильников, насколько известно, ни фокусником, ни потрошителем сейфов не был и у двери, по словам Ямпольской, не задерживался.
Мы стояли у флигеля и чувствовали себя как герои известной сказки, забывшие волшебные слова «сим-сим…». Вот тут-то один из понятых, присутствовавших на следственном эксперименте, предложил принципиально другой способ закрыть дверь, не входя в квартиру.
Все последующие десять попыток увенчались успехом. Все десять! Стоило поднять крючок, установить перпендикулярно плоскости пола и посильнее стукнуть дверью, как от сотрясения он срывался и попадал прямо на скобу.
Слова Елены Борисовны о том, что Красильников захлопнул дверь, как нельзя лучше подтвердились. Ни у кого из присутствующих не осталось ни малейших сомнений: тот, кто был знаком с особенностью дверного запора, мог справиться с задачей в любое время дня и ночи с завязанными глазами. А Игорь Красильников эту особенность знал — достаточно вспомнить его собственные слова о частых визитах к Волонтиру, с которым он поддерживал дружеские отношения.
За экспериментом последовал допрос. Самый длительный и, как оказалось, самый результативный за предшествующие три дня. Правда, сначала мне показалось, что Красильников, воспользовавшись своим правом отказаться от дачи показаний, решил вообще не произносить ни слова.
— Дверь заперли вы, — говорил я. — Это подтверждается свидетельскими показаниями и результатами следственного эксперимента.
Он молчал.
— Между вами произошла ссора?
Молчание.
— Вы подрались с Георгием Васильевичем?
Красильников как будто не слышал.
— На трупе Волонтира был найден волос, — продолжал я. — Криминалистическая экспертиза установила, что волос принадлежит вам. Понимаете, что это значит?
Он не проронил ни слова.
— Это значит, что вы наклонились над Волонтиром уже после того, как он лег на диван. Это значит, что после вашего ухода он уже не вставал. Я не хочу пугать, Красильников, но пора бы понять: против вас имеется достаточное количество улик и молчание в данном случае может только повредить. Учтите, у вас есть только одна возможность смягчить свою вину: чистосердечное признание. Подумайте об этом…
Красильников, казалось, всерьез воспринял мои слова, задумался, но, подозреваю, совсем не о моем предостережении. Убийство убийству рознь, и для правильной квалификации этого преступления существует множество вспомогательных понятий — умысел, форма вины, способ и так далее. В Уголовном кодексе этому посвящены пять статей с различной диспозицией и разными санкциями. Умышленное убийство с отягчающими обстоятельствами наказывается лишением свободы на срок до пятнадцати лет, а, скажем, неосторожное убийство — до трех. Есть разница? Еще бы! И знаем о ней не только мы, но и люди, преступившие закон…
Так или приблизительно так рассуждал Красильников, и последовавшие вскоре события показали, что я был прав.
Он «признался». Но в чем? Сделав скорбное лицо, он, не моргнув глазом, выдал очередную, третью по счету, версию — шедевр, который по аналогии с известным живописным полотном я бы назвал так: «Игорь Михайлович Красильников по неосторожности убивает своего лучшего друга Жору». Если же говорить серьезно, эта версия мало чем отличалась от предыдущей: ни правда, ни ложь…
Мне приходилось иметь дело с разными людьми. Были такие, для кого чистосердечное признание становилось необходимостью, вызванной полным раскаянием, осознанием вины, и потому они не врали, не изворачивались, чтобы уйти от наказания. Такая позиция вызывает понимание и сочувствие. С Красильниковым было иначе…
КРАСИЛЬНИКОВ
Ровно скрипит снег под ногами…
На душе муторно, неспокойно. Со дня последней встречи со следователем прошло двое суток. Двое суток тягостного ожидания. Игорь ненавидел эти заполненные неизвестностью паузы, мучился предчувствием беды: что происходит там, за стенами тюрьмы, что еще надумал следователь, кого еще допросил, какую подстроил каверзу?
Периоды относительного покоя, как ни странно, наступали сразу после допросов, ибо встречи со следователем создавали иллюзию хоть какого-то движения, какой-то деятельности, и, пока он перебирал подробности встречи, обдумывал отдельные реплики Скаргина, смаковал свои удачные ответы, было еще терпимо. Он подбивал итог и, когда становилось ясно, что ему не верят, его подозревают, но доказательств нет, преисполнялся надеждой на благополучный исход. «Ну что, взяли?! — отводил он душу, оставаясь один. — Черта с два! Я так просто не дамся!»
Утешая себя мыслью, что положение следователя немногим лучше его собственного — тоже привязан к делу, тоже мучается, ночи, наверное, не спит, — Игорь радовался мелким своим победам. Но проходил час, другой, и он чувствовал, как надвигается то страшное, чего больше всего боялся, с чем не мог и не умел бороться. Им овладевал безотчетный тошнотворный и нестерпимый, как зубная боль, страх, и не было от него спасения.
«Главное — помнить, — внушал себе он в такие минуты, — постоянно помнить, что этого и добивается следователь. Ему выгодно, чтобы ты ударился в панику, наделал глупостей. У тебя же один выход — держаться до последнего. Малейшее отклонение, слабость — и этот правдоискатель расколет тебя, как высохший орех».
Думы о следователе угнетали его особенно сильно. Внешне мягкий, вежливый, спокойный и обходительный, на самом деле вероломный и хитрый, не верящий ни единому его слову, — вот кто был врагом номер один. И ведь что интересно: обратился бы к нему такой тип там, на свободе, попросил бы сделать очки, стекла в оправу вставить или еще что — и он сделал бы, и содрал бы, как с обычного клиента, лишний рубль-два за срочность, и разошлись бы, чтоб никогда больше не встретиться. Как ни силился Красильников представить себе такую сцену, что-то не клеилось, не складывалось. Может, не мог представить Скаргина в роли просителя? Еще как мог — не такие люди обращались, посолиднее. А вот чтобы разойтись могли мирно — этого, пожалуй, не представлял, фантазии не хватало. С таким не разойдешься, не сговоришься! Схватил бы, гад, за руку, точно, схватил бы…
Во время допросов, особенно в последние дни, Игорю казалось — нет, он был уверен, — что Скаргин нащупал слабые места в его обороне, чувствует, когда он врет, а отсюда только один шаг до того, чтобы всплыла наружу правда. Куда хуже?!
Да, он боялся Скаргина, и, как бывало почти всегда, когда он кого-то или чего-то боялся, его охватывало непреодолимое желание смягчить свою вину, признаться, коль нет другого выхода, покаяться, попросить прощения. И невероятно трудно было отказаться от этого желания, задушить его в себе… В таких случаях, и то лишь ненадолго, отвлекали мысли о постороннем, не имеющем связи со следователем, с тюрьмой, с его делом.
Вот по стене здания пробежала тень облака. Вот открылась форточка на четвертом этаже административного корпуса. С крыши сорвалась сосулька и разбилась об асфальт на множество мелких осколков. «Так и моя жизнь», — подумал Игорь. Его обострившийся за последние недели слух вдруг уловил слабые, чуть слышные трамвайные звонки. Каким ветром занесло их сюда, за толстые тюремные стены, непонятно. Может, галлюцинация? Он прислушался — нет, в самом деле звонки. Они будто специально вторглись сюда, чтобы подразнить, напомнить о существовании другого мира — мира, откуда он пришел месяц назад и куда так стремился попасть снова. Там было все, к чему его тянуло всегда, а сейчас особенно: сытная, вкусная еда, музыка, красивые женщины. В той, другой жизни было место случайностям, риску, возможности выбора.
Он с сосущей душу тоской представил улицу, свободно движущихся людей, шум транспорта, юркие, окрашенные в красный и желтый цвета трамваи. Вспомнил деньги, обыкновенные бумажные деньги разного достоинства. Вспомнил не потому, что любил их, — он просто знал им цену, не преувеличивал и не преуменьшал ее. Игорь любил все то, что на них можно было купить. Радужные десятки, которые он регулярно носил в сберкассу, обладали в его глазах удивительными качествами, в них крылась необыкновенная сила: стоит захотеть — и в любой момент они могли обернуться бутылкой хорошего вина или столиком в ресторане, новым костюмом или каютой люкс на комфортабельном теплоходе. Да мало ли чем!.. Нет, если разобраться, он любил не деньги, он любил… как бы это точнее выразиться… он любил чувствовать себя платежеспособным. Именно платежеспособным. Всегда, везде, в любое время дня и ночи при тебе должны быть деньги, и чем больше, тем лучше, тем спокойнее и безопаснее. Но сейчас он испытывал совсем иное чувство, сейчас хотелось подержать в руках хотя бы пятерку. Помять ее, услышать хруст бумаги, увидеть ее цвет. Просто увидеть… Подумать только, сколько разной всячины можно купить на обыкновенную пятерку, сколько он умудрялся покупать в детстве на спрятанные от матери трояки! Это сейчас для него три рубля не деньги, а в то время!..
«Рассказать бы Алику, ни за что не поверил бы», — усмехнулся он про себя, вспомнив заведующего ателье «Оптика» Харагезова — еще совсем молодого, не больше тридцати, парня, успевшего в свои годы обзавестись и небольшим брюшком, и солидными залысинами, и строгим, начальственным взглядом карих, навыкате, глаз. Он всегда нравился Красильникову — серьезный, немногословный, внушительный. Хотелось бы со временем походить на него, занять такое же положение, иметь его доходы.
Их отношения с заведующим были до поры официальными, хотя Харагезов и отличал его среди остальных сотрудников, а с ноября прошлого года стали приятельскими.
Как-то, проходя мимо столика Красильникова, заведующий небрежно бросил:
— Ты свободен? Зайди ко мне, разговор есть…
В просторном, уставленном полированной мебелью кабинете он выкатил на него свои выпуклые, немигающие глаза и спросил, беззвучно постукивая подушечками пальцев по крышке стола:
— Ну как, Красильников, работается?
— Не жалуюсь, — ответил Игорь.
— Зарплата как, устраивает?
— Сами знаете — лишних денег не бывает.
— Та-а-ак. — Харагезов перестал стучать пальцами, подвинул к нему пепельницу и пачку «Мальборо». — Ты закуривай, не стесняйся.
— Спасибо, не курю.
Заведующий смерил его изучающим взглядом.
— Значит, не бывает, говоришь, лишних? Это верно… — Он усмехнулся одними глазами. — Ну а что ты скажешь, если я предложу тебе работать отдельно? Хочешь?
Предложение было настолько неожиданным, что Красильников смог только кивнуть в знак согласия.
— Чего киваешь? Хочешь или нет? — переспросил Харагезов.
— Угу, — выдавил из себя Игорь.
— Не тебе объяснять, что это дает. Через год-другой, если постараешься, на машину накопишь и на гараж в придачу. Ты парень неглупый, потому и предлагаю, — польстил заведующий. — Сам понимаешь, такой случай не часто выпадает, желающих на это место вагон, отбоя нет. Но пройдет только мой кандидат. У меня в управлении свой человек. Так что шевели мозгами — ты мужик сообразительный.
— Сколько? — стараясь не выдать охватившего его волнения, спросил Игорь.
Харагезов энергично замахал руками:
— О чем разговор? Мне ничего не надо. Мы ведь друзья. А вот того человека, сам понимаешь, отблагодарить не мешает. Он тебе еще не раз пригодится.
— Сколько? — повторил Игорь, на этот раз гораздо тверже.
Харагезов приложил палец к губам и перевел взгляд на закрытую дверь кабинета.
— Ну, тысчонку дать придется, — тихо и как будто нерешительно сказал он. — Как думаешь? — И сам же ответил: — Меньше неудобно, не тот уровень…
Ох и пришлось же Игорю побегать за этой тысячей! Со сберкнижки снимать не хотелось — то был неприкосновенный запас, о котором не знала ни одна душа. Попросил у матери — она не дала. Шестьсот кое-как наскреб, а остальные пришлось занять у Волонтира.
Через день принес деньги Харагезову. Тот покрутил в руках конверт и, не считая, сунул в ящик стола.
— В январе переселишься, — пообещал он. — Раньше не получится. Все. Иди работай.
Игорь вышел и, выждав с полминуты, заглянул в кабинет. Как и предполагал, Харагезов считал деньги из его конверта…
«Сколько же ему тогда перепало? — подумал Красильников. — Пятьсот монет как минимум. Это тебе не пятерка, не трояк! А может, и весь кусок между пальцев застрял?!»
Такой вариант пришел ему в голову впервые. Как же это он раньше не сообразил?! Что ж получается — то место, за которое он выложил этому подонку тысячу кровных рублей, теперь достанется кому-то другому? Уже досталось! И с того небось содрал не меньше! Значит, сейчас, в эти самые минуты, когда его ведут по тюремному двору с заложенными за спину руками, кто-то другой сидит в небольшой, уютной мастерской по ремонту оптики на его, Красильникова, месте?! «А деньги? Деньги присвоил мутноглазый Алик, и теперь радуется, что меня нет, что забрали, засадили… Ну нет, погоди радоваться, скотина! За мной не заржавеет! Я тебе прижму хвост, выложишь мне все до копейки, еще и сверху положишь, дай только выбраться отсюда…»
До сих пор он не вспоминал о своей работе в «Оптике» под началом Харагезова. Выходит, лучше было не вспоминать — одно расстройство! Взятка, отданная заведующему, чтобы тот перевел его на работу в отдельную мастерскую, где можно было работать на свой страх и риск, ни от кого не зависеть, сам себе хозяин, пропала впустую. Нет ни денег, ни места, а есть камера два на три и ни сантиметром больше, невкусная, пресная пища и вместо развлечения окошко в стене — кусок неба, по которому, если повезет, раз в день пробежит край облака… Были перспективы, планы, программа на будущее, мечтал начать новую жизнь с Танькой, студенткой пединститута, с которой встречался вот уже полгода, мечтал уехать с ней к морю, купить машину, дом где-нибудь в Крыму или в Сочи, неважно, хоть у черта на куличках, — главное, все реально, осуществимо, даже средства имеются — и вдруг из-за недоразумения, случайности все это летит в тартарары. Вместо теплого моря — тюрьма, следователь, допросы: вместо домика в Крыму — камера…
Стоило подумать о камере, и мысли сделали привычный скачок. По замкнутой цепи он вернулся к воспоминаниям, надоевшим, неприятным, но назойливым и неотступным. В них, точно на старой, затертой кинопленке, навсегда запечатлелось одно и то же: ночь на девятнадцатое, старик Волонтир, пьяный, потирающий ладони, скрип его ботинок, минуты, тянувшиеся, как часы; потом жена, спящая мертвецким сном, тяжелое ее дыхание и снова старик Волонтир, ночь без сна, утро без рассвета, с головной болью и страхом, с милицейской машиной у флигеля, поездка к матери, от нее — к Таньке. Она, румяная от мороза, пар, вырывающийся изо рта, обманчивое недолгое успокоение и за всем этим — арест. Двое в штатском — один, он помнит, в коротком замшевом пальто, другой в нейлоновой куртке — приказали снять халат, повели к машине под удивленными взглядами Кротова, Щебенкина, Харагезова, усадили на заднее сиденье, повезли через весь город… Хорошо, дали время подумать, а не то — позорный провал с первой минуты. Подготовлен не был, рассчитывал, что смерть соседа спишут на несчастный случай: включил, пьянчуга, газ и заснул, забыв зажечь. И вдруг арест! Спасло чудо — простая, но спасительная мысль: только они двое знают, как было на самом деле. Волонтира, второго, нет в живых, сдох, собака, иначе не взяли бы. Значит, остался он один! Это и выручило. Еще не зная противника, он сумел перехитрить его, сумел вывернуться.
Так уже было однажды. Двенадцатилетним мальчишкой увязался с компанией взрослых ребят. Они снисходительно терпели его присутствие, решали какие-то свои, недоступные ему проблемы, не обращая на него никакого внимания. Их пренебрежение больно задевало самолюбие, и ему захотелось во что бы то ни стало доказать, что он с ними на равных и по праву находится в их компании. Когда проходили мимо заправочной станции, между старшими возник разговор о том, по какому принципу действует бензонасос. Решив, что это и есть самый удобный случай заставить их заметить себя, он поотстал, крадучись подошел к колонке и нажал на большой красный рычаг. Бесцветная пахучая жидкость тугой струей ударила в асфальт; в солнечных лучах ярко заблестели бензиновые брызги, и в считанные секунды по улице разлилась огромная лужа. Завороженный этим зрелищем, он упустил подходящий момент, промедлил секунду-другую и тут же поплатился за неосторожность. Какой-то мужчина успел схватить за шиворот и потащил в детскую комнату милиции. По дороге Игорь расплакался, просил отпустить, а когда понял, что это не поможет, стал лихорадочно соображать, как бы выкрутиться. В детскую комнату вошел уже с готовым решением. Глядя прямо в глаза строгой женщине, одетой в синюю милицейскую форму, сказал, что его подучили старшие, заставили нажать на рычаг, и выложил все, что знал о ребятах: их имена, фамилии…
Можно, конечно, назвать это предательством, но ведь можно и самозащитой. И потом, разве его самого не предавали? Еще как! Толик Нестеренко, тот самый, с кем утащили стационарный «Темп» из клуба медработников, попавшись при продаже магнитофона на толкучем рынке, сразу назвал его, Красильникова, да еще и выложил, что именно он, Игорь, задумал всю операцию. Хорошо, замяли дело. А если бы нет?
Или взять Ленку. Ну что он ей плохого сделал? Мало он с ней возился, терпел ее капризы? А в награду — пожалуйста: мало того, что подглядывала, выслеживала, наблюдала за каждым шагом, так и в прокуратуре все рассказала, истеричка! Дежурила она, что ли, у окна? Кто ее за язык тянул? Мстит, сволочь, утопить хочет! Сколько раз убеждался, что рассчитывать можно только на себя, ни в ком другом уверенности нет и быть не может… Ну, ничего, плевать, он выдержит. Не все потеряно. Еще посмотрим, кто кого, гражданин следователь, посмотрим!
И что-то отдаленно похожее на улыбку мелькнуло на его губах.
СКАРГИН
Итак, через три дня после ареста Красильников признал себя виновным в убийстве по неосторожности.
На первый взгляд этот шаг может показаться странным, противоречащим логике его поступков: отказывался, отрицал, цеплялся за любую возможность, чтобы уйти от ответственности, а потом вдруг разом сознался. Но ведь поступки человека не всегда подчинены законам логики, к тому же случается, и довольно часто, что они лишь кажутся непоследовательными. Достаточно внимательнее присмотреться, разобраться в них, и они оказываются вполне объяснимыми. Свидетельством тому история с кражей в клубе.
Нам удалось разыскать Анатолия Нестеренко. Он отбывал наказание в колонии общего режима за злостное хулиганство. Встретился с ним Костя Логвинов.
— Не думал, что Игорь когда-нибудь попадет к вам, — первое, что сказал Нестеренко инспектору.
— Почему же? — спросил Логвинов.
— Осторожный кадр. — Нестеренко не спускал глаз с сигареты, дымящейся в руке инспектора. Не выдержав, попросил: — Не угостите, гражданин начальник?
Логвинов протянул пачку «Столичных». Тот вытащил сигарету, поднес ее к лицу и втянул носом воздух.
— О, табачок! Экстракласс! — Его глаза мечтательно закатились под веки. — Ну, спасибо, уважили. — Он размял сигарету пальцами, закурил и зажмурился от удовольствия. — Ну, раз вы ко мне с пониманием, то и я… Записывайте, авось пригодится, — начал он, выпустив струйку сизого дыма. — Дело давнее, да и не выгорело тогда ничего из нашей затеи, так что могу рассказать, убытка не будет… С магнитофоном — вы знаете — обошлось. Кажись, мамаша Игорева дело замяла. Поругали, покричали, в милицию потаскали и на том успокоились. А через две-три недельки, когда поутихло все, предложил я Игорю другое дельце. Глупость, конечно, детство, ну да что теперь говорить… Короче, был у меня на примете один деятель, из тех, у кого денег полная сберкасса на дому. Стеклотару он принимал в ларьке, ну и подворовывал помаленьку. Так вот и говорю я Игорю: дочка, говорю, у него есть лет четырех, души он в ней не чает, давай, говорю, подстережем, когда она одна гулять будет, заманим шоколадкой там или еще чем; посидит она у нас взаперти день-другой, а отцу, приемщику этому, письмо напишем или по телефону позвоним: так, мол, и так, деньги на бочку — и забирай свое чадо в целости и сохранности, а иначе, мол, тебе удачи не видать. — Нестеренко стряхнул пепел в ладонь и косо улыбнулся. — Он бы отдал, не пикнул бы даже. Рыльце-то в пушку, в милицию идти не с руки: он ее больше меня боялся, да и сумма пустяковая — тысяча, это для него так, капля в море. Да-а… Думал, верняк, потому и поделился с Игорем…
— И что Красильников?
— Я был уверен на все сто, что он согласится. Ведь магнитофон — его затея…
— А не наоборот?
— Мне врать незачем, — обиделся Нестеренко. — Говорю, его — значит, его. Он и провернул всю операцию, а я только помогал. Он вообще на идеи силен был. Еще до кражи в клубе сидим, бывало, в парке или дома у него, он и начнет выдавать: то кассу в кинотеатре почти без риска взять можно — знаешь, говорит, какая там выручка! — то магазин. Спрячемся, говорит, в туалете, дождемся закрытия и обчистим прилавки. Идеи из него прямо фонтаном били…
— Ну а как он с приемщиком стеклотары, — напомнил Логвинов. — Отказался?
— Ага. — Нестеренко с сожалением посмотрел на окурок. — Наотрез. Не ожидал я от него. Такого страху напустил, что я и сам напугался. Ты, говорит, как хочешь, а я пас.
— Как думаете, почему он не принял ваше предложение?
— А чего тут думать? В штаны он, извините за выражение, наложил после того случая с магом. Я, говорит, Толик, больше в эти дела встревать не хочу, у меня, говорит, биография чистая должна быть…
Ничего больше Нестеренко об Игоре не сообщил. Не знаю, помогла ли мне характеристика, которую он дал своему бывшему дружку. Пожалуй, да.
Все, что рассказал Нестеренко, можно свести к одной фразе: Игорь — человек осторожный; и, возвращаясь к признанию Красильникова о совершенном преступлении, я лишний раз убедился, что с его стороны признание — совсем неглупый, а возможно, и единственно правильный ход. Во-первых, доказательства его вины слишком серьезны, чтобы пренебрегать ими, а во-вторых, как шахматист, сознательно идущий на жертву фигуры, он пошел на это из стратегических соображений — признался в малом, чтобы скрыть большое. Правильность такого вывода косвенно подтверждало и то, что с его признанием наша работа усложнилась. «Легенда» о неосторожно совершенном убийстве была настолько складной, глубоко продуманной, что, явив нам будто бы четкую картину происшедшего, не приблизила к истине ни на шаг.
— Я виноват, — «изливал душу» Красильников. — Мне ужасно неприятно, что все так получилось, но, гражданин следователь, войдите в мое положение: мы с Жорой много выпили, что называется, до чертиков, поневоле потеряешь контроль над собой, не только про газ, но и как зовут не вспомнишь.
— Ближе к делу, Красильников, — попросил я, — ближе к делу.
Это был период, когда мне уже удавалось отсеивать из его речей крупицы правды. Не всегда, но удавалось. «Потеря контроля над собой» явно относилась к области фантастики.
— Значит, как было, — ни капли не смутившись, продолжал он. — Волонтир позвал меня к себе. Я пришел с бутылкой водки, у него тоже была бутылка «Экстры». Сидели выпивали. Потом вижу, он уже буквально с ног валится, из-за стола подняться не может. Дотащил я его до дивана, уложил и сам собрался уходить, да черт дернул — захотелось чаю попить: выпью, думаю, тут чашечку, чтобы дома жену не будить. Подошел к плите, открыл конфорку, а спичек под рукой не оказалось — ведь некурящий. Нашел в комнате коробок. Вернулся к плите, открыл другую конфорку — про ту, первую, видно, забыл начисто, — чиркнул спичкой, она не зажглась, сера отлетела. Я в коробок, а он пустой, в нем всего одна спичка и была. Ну, разозлился я, опять по комнате стал искать. Не нашел. Смотрю на часы, а на них уже два часа ночи. Пора, думаю, домой бежать. Ну и побежал, а про газ-то и забыл. Что значит выпивший! Такое только спьяну могло случиться. И ведь не пил никогда водки этой проклятой в таких количествах. Шутка ли — больше бутылки в себя влил. У кого мозги не затуманятся…
Он продолжал в том же духе и, если бы я не остановил, пожалуй, перешел бы на актуальную тему о вреде алкоголя.
— Коробок куда дели?
Я понимал, что пустой коробок тоже миф, но интересно было, как он выкрутится. Я, что называется, накапливал опыт общения.
— Затерялся где-то, — бойко ответил Красильников. — Может, даже захватил с собой, а по дороге выбросил.
Его самообладанию можно было позавидовать.
— В доме Георгия Васильевича, на полке, в метре от газовой плиты, мы обнаружили около четырех десятков коробок спичек, — сказал я, собственно, уже не сомневаясь, какой услышу ответ.
— Чужой дом, как и чужая семья, — потемки, — ответствовал Красильников. — Трезвый я бы тоже нашел. Да и чай, если б был трезвый, вряд ли стал разогревать.
Довод сколь простой, столь и лишенный намека на правду: спички лежали на виду, их невозможно было не заметить. Честное слово, по мне, лучше бы он продолжал отпираться.
— Куда вы дели пустую бутылку от «Пшеничной», которую принесли с собой?
— Это уже когда выпили? — уточнил Игорь. — Отнес домой. Думал, может понадобиться в хозяйстве. Она литровая, удобно подсолнечное масло держать.
— А бутылку из-под «Экстры»? Ведь обе пустые бутылки вы унесли с собой.
— А зачем их оставлять?
— Отвечайте на вопрос: куда вы ее дели?
— Вы же сами показывали снимки, на них все видно — бросил в пустующий дом, в окно.
— Зачем?
— А черт его знает, — простодушно улыбнулся он: мол, судите меня, виноват, но такой уж я бестолковый человек. — Знал бы, что так обернется, конечно, оставил бы на столе. Прихватил случайно, с каждым может случиться…
Сделав сноску на скудность материалов, которыми я располагал в то время, можно понять двойственность моего положения: я чувствовал, что в объяснениях Красильникова нет ни слова правды, но доказать этого не мог. Еще не мог: на любой вопрос был готов заранее продуманный, тщательно взвешенный ответ. Да, следует признать, что в те дни у меня было слишком мало фактов, и с этим приходилось считаться.
— Следы пальцев на ручках плиты вы тоже случайно стерли? — спросил я. — Или холодно было, и надели перчатки?
Он посмотрел на меня с укоризной, будто упрекая в неуместном в данной ситуации легкомыслии.
— А это уж вам лучше знать — вы специалисты, вам и карты в руки.
— Но ведь вы брались за ручки?
— Брался… — Он изобразил глубокую задумчивость. — Ума не приложу… Смазались, наверно?
— Да нет, не смазались. На пластмассе отпечатался рисунок ткани, следы которой были уничтожены.
— А вы не ошиблись? Может быть, отпечатки есть, а вы не заметили…
— Нет отпечатков. — Я намеренно давал ему выговориться.
Он сделал недоумевающие глаза:
— Ну, не знаю, не знаю…
Странно, что не добавил ставшее привычным: «Ну, стер следы — пьян был, с каждым может случиться».
Я прекрасно понимал, что следы пальцев стер не кто иной, как Красильников. Понимал и то, что сейчас он страшно жалеет об этом, ведь отсутствие отпечатков подтверждало первоначальную версию, которую он приготовил заранее, зато явно противоречило второй. Теперь, когда собранные нами улики вынудили его признаться, что у Волонтира он был, что брался за ручки газовой плиты, эта деталь работала против него.
Красильникова увели в камеру, а я сидел и, признаться, чувствовал себя растерянным. Слабость моего подследственного была очевидной, только вот ясности это не прибавило, а мне нужна была ясность.
Примерно то же ощущение возникло у меня часом позже, когда стали известны результаты эксгумации трупа Щетинниковой. Не стану говорить, какие мысли роились в моей голове накануне, но заключение о том, что Нина Ивановна умерла от приступа стенокардии, свидетельствовало, что ее смерть не имела отношения к делу, во всяком случае, прямого.
Сотниченко установил, что старушка — ей было семьдесят два — жила одиноко, родственников не имела, последние годы никуда не выезжала, никого у себя не принимала и в гости никуда не ходила. В рапорте инспектора преобладала частица «не», и лишь когда речь пошла о здоровье Нины Ивановны, сведения стали разнообразнее: на здоровье Щетинникова жаловалась постоянно, в поликлинике хранилась двухтомная история ее болезни. В числе недугов ревматизм, люмбаго, гастрит, приступы радикулита, простуды и, наконец, сердце…
Так, не успев обрасти уликами, рухнула еще одна версия, выскользнула из рук еще одна ниточка, а их и без того было не слишком много.
«Где пресловутые зацепки? — спрашивал я себя вечером, сидя на кухне и невпопад отвечая на вопросы жены. — Куда подевались клубочки с торчащими из них кончиками ниток, за которые только потяни — и знай свое дело, разматывай?» Жена, заметив мое состояние, тактично удалилась в комнату, но мне это не помогло. Закончилось тем, что я совершенно отупел от безуспешных попыток проникнуть в тайну смерти Георгия Васильевича Волонтира. Только этим можно объяснить катастрофически растущий список подозреваемых, в число которых я с отчаяния готов был включить и Ямпольскую, и бригадира газовщиков, и даже почтальоншу Рыбакову. Еще немного, и туда вошли бы и Сотниченко с Логвиновым…
Глава 4 24–30 января
ЯМПОЛЬСКАЯ
Все-таки не следовало спешить с бюллетенем. Она вполне могла позволить себе поваляться еще пару дней. Ничего страшного за это время в институте не произошло бы, зато теперь налицо все признаки рецидива: болит голова, ломит тело, в ушах постоянный гул — типично гриппозное состояние. Ничего удивительного, если к ночи снова подскочит температура.
В коридоре прозвенел звонок. Рабочий день окончился. Елена Борисовна наскоро рассовала документы в ящики стола, оделась и вышла из института.
С обложенного тучами неба срывалась мелкая колючая крупа. Ветер носил ее в воздухе, сдувал с крыш и с размаха бросал в лицо прохожих. Погода не располагала к прогулкам, но домой идти не хотелось.
Ямпольская свернула в знакомый переулок, решив посидеть немного во дворе детского сада, который находился как раз на полпути между домом и институтом. Одноэтажный, расположенный в глубине большого двора дом сегодня показался ей увеличенной до гигантских размеров фотографией, из тех, на которых принято писать новогодние поздравления. Над трубой метались клочья белого дыма, а вдоль крыши свисали причудливые гребешки сосулек.
Миновав калитку, Елена Борисовна прошла в крытую беседку. Внутри было пусто и не так ветрено. На низеньких лавочках еще с осени остались кучки песка, застывшие в форме детских ведерок. В углу, припорошенная снегом, валялась охапка прошлогодних листьев. Она выбрала место почище и села. Отсюда были видны окна с приклеенными к стеклам бумажными снежинками, часть очищенной от снега дорожки, по которой, закручиваясь воронками, гулял ветер. «Здесь меня никто не найдет, — подумала она и тут же удивилась собственной мысли: — Кто может меня искать? И разве я от кого-то прячусь?.. Посижу минут десять и пойду».
Она все еще находилась под впечатлением вчерашнего посещения прокуратуры. Следователя интересовали ее отношения с Красильниковым, а что она могла сказать, если сама до сих пор не могла понять, какое место в ее жизни занимает Игорь. Ей хотелось побыть одной, чтобы разобраться в этом. Одно дело думать, что все в их отношениях с самого начала было зыбким, неопределенным, и совсем другое — вслух говорить об этом посторонним людям — им нужен четкий и конкретный ответ. Есть он у нее? Нет. Кто, например, поверит, что целых три года, живя бок о бок в одном доме, они с Игорем не замечали друг друга?
Она мельком видела его, знала, что сосед, что женат, знала, как зовут, но эти случайные, разрозненные сведения ни к чему не обязывали, они были тем самым минимумом, который она позволяла себе запоминать о соседях, да и то лишь затем, чтобы не перепутать, не забыть поздороваться, встретив смутно знакомое лицо на улице, во дворе или в подъезде.
Жизнь ее протекала вне стен дома, в институте, где она работала и проводила большую часть дня. Там работали ее подруги, друзья, поэтому в «келью» — так она называла свою комнатушку в общей квартире — возвращаться не торопилась, тянула до вечера, потом кое-как готовила ужин, смотрела телевизор, если не было срочной работы, и ложилась спать. Изредка у нее собирались сослуживцы, но и они долго не задерживались. В компании всегда находился хохмач, который часов в одиннадцать выразительно прикладывал палец к губам. «Тс-с-с! Квартира коммунальная, товарищи, — говорил он, показывая на стены и не подозревая, что слово в слово повторяет предыдущего остряка. — Пора, товарищи, и честь знать». Эти слова почему-то неизменно пользовались успехом, все смеялись и тут же начинали собираться, думая, наверное, что их торопят не без ведома хозяйки. Впрочем, она редко отговаривала гостей — быстро уставала от шума и музыки. Может быть, оттого, что музыку и шумные вечеринки любил Славик, ее бывший муж, с которым она развелась несколько лет назад.
Когда она в результате обмена въехала в свою «келью», ей еще долго не верилось, что в квартире может быть так идиллически тихо. Она ценила обретенный покой, как могла оберегала его и, хотя не уклонялась от новых знакомств, шла на них не слишком охотно. Соседки, в основном женщины пожилые, окрестили ее неугожей (слово не совсем понятное, но смысл она смутно улавливала) и вскоре потеряли всякий интерес к новой «жиличке», что как нельзя больше устраивало Лену. Да, ее жизнь была небогата на развлечения, но она не жаловалась. Ей нравилось безмятежное одиночество — по крайней мере пока, как она говорила приятельницам.
И все-таки… все-таки она немного кривила душой, утверждая, что вовсе не замечала Красильникова. Пожалуй, она чуть выделяла его из общей массы полузнакомых людей. Он ей немного нравился, только это скорее настораживало, чем привлекало ее. Отчасти по этой причине попытка Игоря познакомиться поближе привела ее в замешательство, и первым ее побуждением тогда было уйти.
Случилось это меньше года назад, в августе, в первых числах.
Помнится, она опаздывала на работу. Наскоро умылась, обжигаясь, выпила чай из крышки термоса, подхватила сумку и выбежала из квартиры. На повороте лестницы вдруг спохватилась, что забыла дома пропуск в институт. Чтобы не возвращаться, на всякий случай полезла в сумку, перевернула в ней все вверх дном — пропуска действительно не было. Вдобавок к этому, вытаскивая руку из сумки, она неосторожно зацепила за дужку очков. Очки промелькнули в воздухе, ударились о ступеньку и упали в лестничный пролет. Она бросилась вниз.
У входа в подъезд в прямоугольнике яркого света, заполненном пляшущими пылинками, стоял парень в голубой джинсовой рубашке и вельветовых брюках. Это был Игорь.
— Итальянские, — сказал он, рассматривая клеймо на дужке. — Таких стекол не достанешь. Вам не жалко?
— Ничего, отдам в починку…
Она сделала шаг навстречу и вступила в лежавший под ногами прямоугольник света. Казалось бы, ничего особенного — обыкновенное пятно от солнечных лучей, падающих с улицы. Однако гораздо позже, когда их отношения с Игорем успели стать сложными, но еще не окончились полным разрывом, она в самые тяжелые минуты вспоминала тот светящийся в полумраке подъезда островок, себя и Игоря, обособленных, отрезанных от окружающего горячими солнечными лучами, и тогда все происшедшее оживало волшебной и, увы, короткой сказкой, в которой ей суждено было ненадолго сыграть роль принцессы. Должно быть, в этом проявлялась всегдашняя ее слабость — идеализировать избранника. Так было в свое время и со Славиком. Впрочем, скорее даже не слабость, а подсознательное стремление оживить в себе способность и желание любить, почерпнуть в прошлом то, чего уже не было в настоящем. Но ведь и в прошлом ничего не было — никакой сказки, а была заурядная и по-своему глупая история с экзальтированным восторгом вначале («Это он! Мы искали друг друга всю жизнь!») и опустошающим душу разочарованием в конце («Какая я была дура!»). История, каких тысячи.
Например, тогда на лестнице он сказал:
— Моменты свиданий, уважаемая соседка, для многих, между прочим, самые великие моменты в жизни.
Она спросила:
— Это, кажется, Козьма Прутков?
Он ответил:
— Разве это имеет значение? Важно, что это сказано о нас с вами…
Она:
— А вы уверены?
Ерунда? Да, ерунда. То есть теперь она понимала, что не было сказано ничего значительного. Так, благоглупости, пустой треп. Но тогда каждая фраза ей казалась наполненной скрытым, волнующим и непонятным для непосвященных смыслом. То, как вел себя Игорь, как говорил, содержало в себе туманный намек на нечто большее, чем нечаянная, ни к чему не обязывающая встреча малознакомых людей.
Она протянула руку, чтобы взять очки, но он не намеревался их отдавать. Сложил дужки и спрятал в карман.
— Пойдемте. Я звезд с неба не хватаю, но стекло вставлю. — И снова идиотская присказка: — Не нам, господа, подражать Плинию, наше дело выравнивать линию.
Это опять был Прутков, которого Игорь знал почти наизусть.
И она пошла, забыв обо всем: о пропуске, о работе. Нет, не забыв. Она помнила, знала, что еще вполне успевает в институт, но, отважившись на что-то, в чем еще не отдавала себе ясного отчета, решила: «Задержусь ненадолго».
А спустя полчаса, после того как узнала, что у Игоря выходной, подумала: «У меня, в конце концов, есть три законных отгула. Надо же их когда-нибудь использовать». Понимала, что обманывает себя, но это не помешало ей пойти с ним.
У ателье тоном, не допускающим возражений, он велел подождать на улице, а сам исчез за двойной стеклянной дверью. Через четверть часа вышел с отремонтированными очками.
— Сколько я вам должна? — спросила она, поблагодарив.
— Нисколько, — отмахнулся он. — Если не возражаете, давайте лучше пройдемся немного.
— А если возражаю?
Чисто формальный вопрос, и Игорь уловил это по ее тону. Остановился.
— Или мы идем на набережную, — сказал он с напускной свирепостью, — или…
— Или что?
Он сделал страшные глаза:
— Или я лишу тебя бокала шампанского и шашлыка на закуску.
«Первое „ты“!» — отметила она. И хотя что-то в ней протестовало против столь стремительного сближения, она все же согласилась, обманывая себя тем, что поступает так лишь из невинного желания подурачиться, и Игорь, конечно, это понимает и подыгрывает ей. В общем, есть возможность немного развлечься, поболтать с неглупым молодым человеком — почему же не воспользоваться? Что она — монашка, отшельница? И так, кроме работы и своей «кельи», ничего не видит…
На набережной было очень жарко. Игорь предложил сходить в кино — там прохладнее, работает кондиционер. Она не возражала, но сеанс уже начался, очередной будет через два с половиной часа (фильм был двухсерийный).
Они, не сговариваясь, направились к стоянке катера. Переехали на другой берег реки, прошли через забитый до отказа пляж, спрятались от палящего зноя под одним из больших зонтов на открытой террасе кафе. Бахрома над их столом свисала так низко, что в поле зрения оставались только нижние половины двигающихся по террасе пляжников. Возникало странное ощущение: вокруг масса людей, но ты не видишь их лиц, а они не видят твоего, и кажется, что находишься один на один с сидящим напротив человеком.
«Он специально привел меня сюда», — подумала она, и вновь сладким предчувствием надвигающихся перемен шевельнулась в ней безотчетная радость. Ненадолго настроение омрачилось из-за подозрения, что она участвует в игре, правила и весь ход которой, видно, заранее продуманы, но подозрение — всего лишь подозрение, и вскоре ей удалось отвлечься и даже безболезненно перейти с Игорем на «ты», чего он настойчиво добивался.
— Анонимное кафе. — Он кивнул в сторону обезглавленного атлета, остановившегося в двух шагах от их зонтика: — Всадник без головы, или Останки профессора Доуэля.
Она улыбнулась. Не столько словам, сколько своим беспорядочным мыслям.
— Тебе здесь нравится?
«Не знаю, ничего не знаю», — хотелось ответить ей.
— Может, уйдем отсюда, перейдем в другое место? — заметив ее колебания, предложил он.
— Не стоит. Здесь необычно. — Подумав, она решилась: — У меня есть вопрос к тебе. Только обещай, что ответишь откровенно. Обещаешь?
— Постараюсь.
— Скажи, когда ты задумал привести меня сюда? Еще там, в подъезде? Только не лги.
Игорь смутился.
— Умная женщина подобна Семирамиде, — отшутился он и уже всерьез добавил: — А с тобой надо ухо держать востро…
Вскоре на столе появилось шампанское и два огромных шампура с хорошо прожаренным шашлыком.
— За умных женщин, — сказал Игорь, поставив перед ней полный бокал, кипящий тысячью пузырьков. — Я не хочу форсировать события, но не могу не признать, сеньорита, того факта, что вы мне давно нравитесь… Мало того, я хочу воспользоваться представившейся мне возможностью, чтобы рассказать о своем чувстве…
Он продолжал в том же духе, витиевато, дурашливо, обращаясь к Лене на «вы», но теперь это не разъединяло, а, напротив, как бы подчеркивало предполагаемую близость, служило доказательством того, что знакомы они давно и он может для разнообразия позволить себе сказать «вы» там, где должно быть только «ты». В своем растянувшемся, похожем на признание в любви тосте Игорь привел такое количество тайных знаков, которыми он якобы давно и безуспешно старался привлечь ее внимание и благосклонность, что растворились ее последние сомнения и в конечном счете она, отвыкшая от мужского внимания, вроде стала припоминать: да, кажется, он здоровался с ней как-то особенно тепло; да, его взгляды при желании можно было принять за признаки повышенного интереса; да, он не раз намекал на встречу…
— …Итак, за умных женщин, — закончил он и залпом выпил.
Она сделала несколько мелких глотков, опустила бокал, потом снова подняла и выпила до дна.
Шампанское было неправдоподобно холодным.
На обратном пути сделали большой крюк, завернув в тенистую рощу у обочины шоссе. Едва они оказались под деревьями, Игорь, шедший сзади, обнял ее и рывком повернул к себе. Его лоб был покрыт мелкими бусинками пота, уголки рта подергивались, словно не решаясь растянуться в улыбку. Захотелось расслабиться, подчиняться его воле, но к ней внезапно вернулось ощущение, что все происходящее заранее продумано Игорем; кафе, шампанское, теперь роща в стороне от загородного шоссе — опробованная, наверное, не раз испытанная им программа. И она уперлась руками ему в грудь, изо всех сил оттолкнула от себя — на долю секунды ей показалось, что отталкивает она не его, а себя и злится тоже на себя, а не на Игоря.
Он отошел, прислонился к стволу дерева и, глядя куда-то поверх ее головы, замер, не произнося ни слова и не делая попыток приблизиться.
— Не надо, прошу тебя…
Он не пошевелился.
От душного, насыщенного запахами трав воздуха легко и приятно кружилась голова. Деревья отбрасывали пятнистую, пронизанную солнцем тень.
Она не выдержала, подошла первая и провела по его щеке.
— Ничего хорошего не выйдет, поверь мне, — сказала она. — Я старше, я знаю…
— Не надо меня успокаивать. — Он продолжал стоять, глядя мимо нее.
— Вот и хорошо, — сказала она и пошла к причалу, обрывая на ходу высокие стебли пожухлой за лето травы.
На катере к ней неожиданно вернулось хорошее настроение, она стала оживленнее, смеялась по любому поводу. Особенно ее смешил «морской волк» — средних лет мужчина, стоявший у штурвала в тельняшке, коротких «тропических» шортах и лихо заломленной фуражке с выщербленным лаковым козырьком. А когда они вышли на набережную, вытащила из сумки билеты и сказала, подстраиваясь под прежний тон их разговора, будто не было рощи и его попытки сближения:
— Ты, конечно, оскорблен до глубины души, я понимаю, но не пропадать же билетам.
— Пойдем? — обрадовался он.
Лена кивнула.
Они вошли в темноту зала — сеанс уже начался, — вслепую, натыкаясь на подлокотники, двинулись по проходу, нашли свободные места.
То, чего она ждала и чего втайне боялась, случилось. Как только они опустились в кресла, Игорь крепко и уверенно обнял ее, привлек к себе, и она, покорно ослабев, не в силах больше сопротивляться, почувствовала на своем лице его горячие, ищущие губы. И, уже с облегчением и готовностью подчиняясь чужой воле, погрузилась в нереальный мир, заполненный прохладной темнотой.
Потом был полупустой зал, залитый желтым электрическим светом, красное, клонящееся к закату солнце, снова билетная касса, еще один сеанс, перестрелки, грохот взрывов, неожиданно черное, в крупных звездах, небо при выходе из кинотеатра, озноб — она почему-то мерзла, несмотря на то, что на ее плече лежала горячая ладонь Игоря, — поездка на такси в новый микрорайон города, где она на цыпочках вошла в незнакомую квартиру (ключи оставил Игорю его приятель, уехавший на на месяц в отпуск), и снова его руки, его губы, его ставшее родным, бесконечно дорогим, лицо…
Поздно вечером, завернувшись в простыню, она сидела на низенькой скамеечке у открытой балконной двери и наблюдала за Игорем. Вот он встал, подошел к серванту, достал оттуда бутылку сухого вина («Заранее припас для такого случая», — ревниво, с оттенком горечи подумала она), поддел ногтем пробку, разлил вино в длинные, узкие бокалы. Ни одного лишнего движения, уверенность, неторопливость в жестах. Это успокаивало, завораживало ее.
«Сейчас он подойдет ко мне», — загадала Лена. Улыбнувшись, она протянула руку, и он, покорный, тут же оказался рядом. Присел, прижал голову к ее плечу.
Она гладила его мягкие, волнистые волосы, изредка отпивала из бокала кисло-сладкую, вяжущую небо жидкость и думала о том, что разница в четыре года, наверное, не так уж существенна, если им так хорошо и спокойно вдвоем.
— Я люблю тебя, — прошептал Игорь. — Ни о чем не беспокойся. Мы будем вместе. Всегда-всегда…
Снизу доносился приглушенный расстоянием мальчишеский голос. Он заметно фальшивил, никак не мог попасть в такт аккордам гитары, поэтому дальше первых строчек куплета дело не шло. Игорь говорил еще что-то, тихо, чуть слышно. Его голос, сливающийся с шорохом листьев, безлунное, усыпанное звездами небо, тополя, обесцвеченные светом уличного фонаря, и даже парень, монотонно поющий о том, как «выткался над озером алый свет зари», — все это находилось в странной, необъяснимой связи, казалось необходимым, единственно нужным сейчас, и если бы кто-то взялся исполнить ее самые сокровенные желания, она не смогла бы придумать ничего лучше этих звезд, этих деревьев и только попросила бы, чтобы минуты длились долго, очень долго, если можно — бесконечно… Она сидела, чувствуя плечом тяжесть его головы, слыша его голос, но не слыша, о чем он говорит, и думала, что еще никогда ей не было так хорошо. Ощущение счастья, покоя было настолько полным, что даже мысль о предстоящем расставании не замутила его…
Не было ни раскаяния, ни угрызений совести. И то и другое пришло позже, когда на следующий день — была суббота, — выйдя из дома, она увидела на улице всю их семью. Они возвращались домой, нагруженные покупками: впереди бежала долговязая девочка лет семи, за ней, под руку с мужем, шла Тамара — полная, ярко одетая женщина, выглядевшая из-за неумеренно наложенной на лице косметики намного старше своих лет.
Вечером, сидя над текстом, который надо было перевести к понедельнику, она вспоминала утреннюю встречу, скрупулезно и безжалостно восстанавливала подробности: Игорь чему-то смеялся, его ладонь сжимала локоть жены. Увидев Лену, он тут же отвел глаза, но руку не убрал, сделал вид, что не заметил, даже не поздоровался.
«Уж это-то он мог бы сделать! — думала она, бессмысленно водя глазами по строчкам. Текст то расплывался, то снова становился четким. — Это он мог, должен был сделать!»
Припомнилось, что накануне Игорь ни словом не обмолвился о Тамаре, о дочери, о своем отношении к ним. Теперь это не казалось естественным. Он в самом деле рассчитал, все рассчитал — каждый свой шаг, каждое слово…
Не в силах думать ни о чем другом, она изобретала и тут же отбрасывала один вариант за другим: он любит жену; он ее не любит; он накануне развода; он и не собирается разводиться; мы будем жить вместе, постараемся взять Наташу к себе; он обманул, я ему просто нравлюсь; я для него всего лишь приключение, эпизод, одна из многих… и так до бесконечности.
На следующий день, возвращаясь из магазина, она увидела Игоря во дворе. Рядом с ним стоял Волонтир — угрюмый, неприветливый мужчина, которого она втайне побаивалась.
Холодно поздоровавшись, Лена прошла в подъезд. На лестнице, между вторым и первым этажом, Игорь догнал ее.
— В девять отопри дверь. Я приду.
— Я не хочу, — ответила она со всей твердостью, на какую была способна. — Не приходи.
Он удивился:
— Ты серьезно?
— Абсолютно…
С опаской оглянувшись на дверь своей квартиры, он крепко взял ее за руку.
— Почему? Что-нибудь случилось?
— Не знаю, Игорь. Не надо, и все…
Он приблизил лицо, стараясь заглянуть ей в глаза.
— Зато я знаю. Это из-за вчерашнего, да?
— Может быть, из-за вчерашнего…
Он отпустил ее.
— Ну и глупо. Выбрось из головы, — и, уже спускаясь по лестнице, обернулся: — Лучше добром отопри. А то подниму на ноги всех твоих старушек, пусть потом сплетничают.
Она не восприняла это как угрозу и, ровно в девять, отпирая дверь, меньше всего беспокоилась о том, что Игоря увидят соседи по квартире…
Трудный разговор вели они в тот вечер, но еще сложнее было разобраться в себе. Она поняла, что Игорь совсем не такой, каким показался ей в день знакомства. В нем было что-то детское — тщательно скрываемая неуверенность в себе — и в то же время способность быть настойчивым, а иногда и идти напролом. Странная смесь — мальчик-мужчина, воск, способный, застывая, превращаться в сталь.
Прошло еще немного времени, и она обнаружила в нем и другие качества, которых не замечала раньше: он мог лгать, изворачиваться, мог быть грубым, наглым и жестоким, но, несмотря на это, она все сильнее привязывалась к нему, старалась не думать о двусмысленности положения, в котором оказалась. Правда, что-то все же изменилось в ее отношении к Игорю: как о чем-то навсегда утраченном вспоминала она о темном, почти черном небе, о серебристых тополях за перилами балкона, о приглушенном голосе невидимого певца. Мало что осталось от испытанного в день знакомства, в их первый день, ощущения покоя и счастья.
Менялось и отношение Игоря к ней. Он уже не утруждал себя пылкими объяснениями, обещаниями, перестал даже туманно намекать на возможные перемены в своем семейном положении, все реже и реже звонил ей на работу. Встречаясь во дворе, он или сухо здоровался, если рядом был кто-то третий, или, шутовски подмигивая, бросал очередной прутковский афоризм: «Не шути с женщинами, эти шутки глупы и неприличны».
По нескольку дней она ждала его звонков, как ненормальная бежала к телефону, вызывая недоуменные взгляды сослуживцев, делала вид, что верит всем его отговоркам, терпела его выходки, но и это перестало помогать.
В середине декабря ее пригласили на день рождения в молодежное кафе. Она была простужена, выглядела ужасно, но подруги буквально силой вытащили ее из постели. Медленно и нехотя одеваясь, она посмотрела на себя в зеркало и ужаснулась: белое, цвета алебастра, лицо, пятна нездорового румянца на щеках, лихорадочный блеск в глазах. «На кого я похожа?! Надо остаться, принять таблетки…» Но смутное, внезапно возникшее неясное предчувствие беды словно подстегнуло ее…
В кафе было шумно, накурено. Танцевальная площадка битком забита парами. У нее мгновенно разболелась голова, но, чтобы не портить настроение подругам, она осталась.
Около одиннадцати, незадолго до закрытия, в кафе неожиданно появился Игорь. С ним была молоденькая, лет девятнадцати, девушка в джинсах и вызывающе открытой блузке. Официантка подвела их к столику у самой эстрады.
Предчувствие не обмануло Лену. Первым желанием было уйти. Удержала появившаяся за последнее время привычка во всем сомневаться: а вдруг случайность, вдруг девушка не имеет к нему никакого отношения, мест нет — вот и усадили за один стол. Сомневалась и одновременно знала, что не ошибается: именно такой тип женщин, на ее взгляд, вульгарных и недалеких, нравился Игорю.
Чувствуя, как пылают ее щеки, она поднялась и, пройдя через зал, подошла к их столику.
— Разрешите вас пригласить? — сказала она демонстративно громко, чтобы слышал не только он, но и его спутница.
Игорь посмотрел на нее снизу верх, пожал плечами — это движение предназначалось девушке с глубоким вырезом: мол, извини, не моя вина, что кому-то взбрело в голову пригласить меня на танец, — и встал.
— Как ты здесь оказалась? — спросил он, когда девушка уже не могла их слышать. — И что с тобой? Ты ужасно выглядишь. Ты случайно не больна?
— Кто она?
— Кого ты имеешь в виду? Эту девицу? — Он явно придумывал ответ. — Так, случайность… знакомая моего знакомого. Он должен скоро прийти.
— Ты хочешь, чтобы я тебе поверила?
— Это уж как тебе угодно, — рассеянно сказал он и сострил: — И мудрый Вольтер сомневался в ядовитости кофе.
— В таком случае, если не возражаешь, я перейду за ваш столик и дождусь твоего знакомого.
«Еще немного, и я расплачусь, — подумала она. — Главное, чтобы он этого не видел».
— Послушай, а тебе никогда не приходило в голову, что, для того чтобы упрекать в чем-то, надо иметь на это право?
Игорь говорил без злости, и оттого слова прозвучали особенно безжалостно.
— Я, значит, не имею?
— Нет. И знаешь почему? — Он остановился посреди танцевальной площадки и опустил руки: — Потому что я не могу заставить себя любить. Понимаешь: заставить! В этом никто не виноват, ни ты, ни я. Это жизнь, понимаешь?.. И не обижайся, ладно?
Танцующие толкали их, и Лену начало относить в сторону от Игоря. Он еще что-то говорил, но она не слышала, только видела его двигающиеся губы.
Слезы текли из ее глаз. Как в полусне, она вернулась к столику, взяла сумку, в которой был номерок, и, сказав, что скоро вернется, пошла к гардеробу. Здесь ее ожидал еще один удар. В двух шагах, у зеркала, не замечая ее, стоял Игорь со своей девушкой. Они на полминуты опередили Лену.
— Ты можешь толком сказать, кто она такая? — спрашивала девушка, никак не попадая в рукав своего пальто.
— Откуда я знаю, Таня? — оправдывался он. — Ну откуда я могу знать?
— Тогда почему мы уходим?
— Ты что же, ничего не поняла? — Игорь понизил голос. — Она же сумасшедшая. Знаешь, что она сказала мне, когда мы отошли от столика? Что будет приглашать на все танцы подряд. Так что, если хочешь просидеть весь вечер одна, я не против — давай вернемся.
— Терпеть не могу твоих идиотских шуточек…
Девушка наконец надела пальто, напялила свой капюшон, отвернулась от зеркала и тут, заметив устремленный на себя взгляд, испуганно схватила Игоря за рукав. Он обернулся.
— Ну вот, я же тебе говорил. — Он схватил ее за руку и торопливо повел к выходу.
Лена слышала, как за ними захлопнулась дверь, но долго еще не могла двинуться с места, глядя на свое заплаканное лицо, отраженное в огромном, в человеческий рост, зеркале…
Из детского сада вышла нянечка. Она выплеснула на землю горячую воду из ведра и, окутанная паром, с любопытством посмотрела на сидевшую в беседке женщину.
Ямпольская встала и направилась к калитке…
КРАСИЛЬНИКОВА
— Выгораживать сына я не собираюсь, — заявила Красильникова, и по тому, как решительно она это произнесла, Логвинов понял: Светлана Сергеевна ждала разговора и настроена по отношению к Игорю агрессивно.
Инспектор не спешил с выводами, и потому ответа на вопрос, что заставляет эту женщину занять именно такую позицию — свойства характера, равнодушие или желание избежать упреков в свой адрес, — у него не было. За те несколько минут, что прошли с начала беседы, мать Красильникова успела убедить его в одном: судьба сына волнует ее меньше, чем можно было ожидать.
— …Ему двадцать восемь лет. Возраст, когда пора отвечать за свои поступки. — Так она закончила свою мысль и одновременно как бы подвела черту под предварительной частью беседы.
Они сидели в просторном врачебном кабинете, сплошь заставленном стеклянными шкафами. Сквозь их прозрачные стенки были видны лежащие на полках эмалированные сосуды, банки, прикрытые марлей инструменты, пузырьки с лекарствами. Под потолком назойливо гудела лампа дневного света.
Светлана Сергеевна сидела, не касаясь спинки стула, внешне спокойная и подтянутая. Изредка она проводила пальцами по отворотам своего халата, проверяя, застегнута ли верхняя пуговица, и, убедившись, что застегнута, профессиональным жестом засовывала руку глубоко в карман. Халат был сильно накрахмален, и инспектор подумал, что он, наверное, страшно жесткий и скрипит, как застывшее на морозе белье.
— Видите ли, Светлана Сергеевна, — Логвинов отодвинул чистый бланк протокола, — в первую очередь нас, конечно, интересуют обстоятельства дела. Если вам что-нибудь известно о совершенном неделю назад преступлении, мы будем благодарны за помощь. Если нет — просто расскажите о своем сыне, нам это тоже интересно.
— Что и как там произошло, не имею ни малейшего представления, — отрезала Красильникова. — Живу я в другом районе города и на Первомайской не бываю.
Это прозвучало как подтверждение прежней линии невмешательства и предупреждение, что она снимает с себя всю ответственность за действия сына.
— Но вы знаете, что Игорь арестован? — спросил Логвинов. У него начинало складываться впечатление, что он вообще попал не по адресу.
— Два дня назад ко мне приходила Тамара, его жена, и сказала, что его забрали в милицию.
— А в чем он обвиняется, вы знаете?
Красильникова утвердительно кивнула.
— И это вас не удивляет?
— Как вам сказать… — Она без всякой надобности поправила шапочку, из-под которой кокетливо выглядывала прядь оранжевых, мелко завитых волос. — И да и нет.
— Поясните, пожалуйста.
— Долго рассказывать…
— Ничего, время у нас есть.
Светлана Сергеевна не спускала с собеседника твердого взгляда своих наведенных бледно-зелеными косметическими тенями глаз.
— Когда Игорю исполнилось пять лет, муж бросил меня, — сказала она бесстрастно. — С тех пор он ни разу не видел сына, открытки ко дню рождения не послал. Я воспитывала Игоря одна, без чьей-либо помощи.
— Вы хотите сказать, что, если бы отец…
— Я хочу сказать, — перебила она, — что делала для Игоря все, что было в моих силах. Он ни в чем не нуждался, никогда и ни в чем не был хуже других детей. Поэтому и удивляет, как могло случиться, что из него вышел… — Она запнулась, потом энергично продолжала: — Я хочу сказать, что из него вышел неполноценный член общества. Безусловно, мне, как матери, обидно сознавать, что мой сын оказался преступником…
Инспектор подождал продолжения, однако Светлана Сергеевна, в очередной раз подтвердив свою непричастность к случившемуся, а заодно подчеркнув объективность своих суждений, замолчала.
— Я вижу, отношения с сыном у вас не сложились, — констатировал Логвинов. — Почему, если не секрет?
— У меня нет секретов, — тоном учительницы, поучающей нерадивого ученика, сказала Красильникова. — А отношения… отношения у нас были не хуже, чем у других… — Она выдержала паузу и добавила: — Да, не хуже. Я считаю, нормальные отношения. — В подтексте звучало: разве в других семьях лучше?
— Он доставлял вам много хлопот?
— Игорь — взрослый, самостоятельный человек…
— Это я уже слышал, — мягко остановил ее Логвинов. — Я имею в виду не последние годы, а, скажем, детство, переходный возраст.
— Не больше, чем другие.
— Значит, он рос нормальным мальчиком?
— Совершенно нормальным, — с оттенком неприязни уточнила Красильникова.
— Ну, хорошо, — сдался Логвинов. — Вы сказали, что происходящее, с одной стороны, удивило вас, а с другой — не было для вас неожиданностью. Как это понимать?
Светлана Сергеевна, сощурившись, перевела взгляд на стеклянный шкаф, словно ответ на этот вопрос лежал на полке, среди пузырьков с лекарствами, и снова твердо и отчужденно посмотрела на инспектора.
— Перед окончанием школы, — сказала она, — Игорю выдали характеристику. Он принес ее домой, показал мне. В целом о нем отзывались неплохо, но в конце было написано: «Легко поддается чужому влиянию». Я побоялась, что это может повредить ему — Игорь как раз собирался подавать документы в институт, — пошла к классной руководительнице и упросила ее переписать характеристику. Понимаете, зачем я это рассказываю?
— Кажется, понимаю.
— Новую характеристику ему написали, а характер остался, — нашла нужным пояснить Светлана Сергеевна. — Он в самом деле легко поддавался чужому влиянию. Посудите сами: поступил в университет — через год бросил. Я устроила его на работу — он обзавелся дружками, проштрафился в чем-то и уволился.
— А в чем проштрафился?
— Уже не помню… Да это и неважно. — Красильникова явно не хотела говорить о краже. — Примеров и без того достаточно. Взять хотя бы его женитьбу. Я была категорически против, но отец Тамары нажал на Игоря, и он согласился.
— А почему вы были против их брака, Светлана Сергеевна?
— Я считала и до сих пор считаю, что эта девушка ему не пара. Какая-то подозрительная семья — отец вечно в разъездах, неделями не бывал дома. Девушка оставалась одна… — Она на секунду задумалась. — Не знаю, возможно, я не права, не могу сказать. Не лежало сердце — и все. Да и рано было ему жениться…
— Вы думаете, Тамара тоже плохо влияла на вашего сына?
— Он ведь арестован, так что выводы делайте сами, — не без сарказма ответила Красильникова. — Может быть, она, может быть, Федор Константинович, ее отец.
— А что отец?
— Он очень тяжелый человек. Я до сих пор так его и не разгадала. Всегда кичился своей порядочностью, любовью к дочери, а сам, не прошло и года, оставил их, бросил на произвол судьбы, ушел жить к своей сестре…
— Надо полагать, у него были серьезные причины.
— Не берусь судить, — не стала спорить Светлана Сергеевна. — Меня это не интересует.
— А почему сын не перешел жить к вам?
Вопрос, как ни странно, застал ее врасплох.
— Жилплощадь не позволяла? — переспросил Логвинов.
Она пожала плечами:
— Мы просто не обсуждали этот вариант…
— Но если Игорь нуждался, как вы говорите, в постоянном присмотре, контроле… Простите, Светлана Сергеевна, это как-то странно. А может, причина в том, что вы до сих пор не можете простить ему брак с Тамарой?..
— Ну, знаете! — Голос ее осекся, и Логвинов неожиданно увидел, как повлажнели глаза Светланы Сергеевны. — Не надо меня провоцировать! Свой материнский долг я выполнила, и совесть моя чиста! Лучшие годы я отдала ему, отказывала себе во всем, забыла, что такое личная жизнь. У меня голос, я могла бы петь на профессиональной сцене, могла тысячу раз выйти замуж. Всем пожертвовала ради него. И что же?! Что я получила взамен? У этого негодяя было все, чтобы вести честную, красивую жизнь, так нет — нашкодит, как приблудный кот, и в кусты, а ты за него отдувайся. Вылитый отец!.. — Красильникова перевела дыхание. — Да, я не могу видеть его жену, ненавижу всю их семейку! Они чужие для меня люди, и я не вижу причин скрывать это. Я сознательно устранилась, перестала вмешиваться в жизнь Игоря. Сам заварил кашу — сам пусть и расхлебывает, а у меня, простите, своих проблем по горло. — Последние слова Светлана Сергеевна произнесла почти спокойно.
Вспышка была сильной, но короткой.
— Скажите, а как у Игоря обстояло с деньгами? — спросил Логвинов.
— Не знаю. Думаю, хватало. Если бы нуждался — давно бы обратился ко мне, не из стеснительных.
— Он работал в ателье «Оптика». Это вы его туда устроили?
— Да, я.
— Работа ему нравилась?
— Наверно. Иначе давно бы ушел. — Она окончательно успокоилась и отвечала, по-прежнему вперив взгляд в невидимую точку между собой и собеседником. — Недавно хвастал, что скоро ему дадут свою мастерскую, то есть мастерскую, где он будет работать один, самостоятельно.
— Игорь жаловался на семейные неурядицы? Как он относился к жене?
— Вряд ли он был доволен своей семейной жизнью, — после долгой паузы сказала Красильникова. — Однажды я застала его у себя дома с посторонней девушкой. Смазливая такая, молоденькая… Значит, изменял жене, так надо понимать?
— Вы знаете эту девушку? Как ее зовут?
— Не помню. Кажется, Таня. Я ее тогда первый раз видела.
— Давно это было?
— Не очень. За несколько дней до Нового года. Я отпросилась с работы, уже не помню зачем. Пришла домой, стала открывать дверь, а ключ не проходит в скважину. Начала стучать. Он открыл. С ним была эта девица.
— Больше вы его с ней не встречали?
— Нет. Я отобрала у него ключ, чтобы неповадно было водить в дом всяких… — Осекшись, она так и не смогла подобрать подходящего определения.
— А кто она, где работает или учится?
— Игорь пытался представить ее мне, но я немедленно прогнала обоих. — Светлана Сергеевна сдвинула брови, и на ее лбу обозначилась глубокая поперечная складка. — Да, точно, ее звали Таней, вспомнила. А вот учится она или работает — не знаю… Игорь просил меня, чтобы я случайно не проговорилась Тамаре, сказал, что у него с этой девушкой все очень серьезно…
— Но если у них действительно было серьезно, почему он боялся, что вы проговоритесь Тамаре?
— Я не вникала в его интимные отношения с женой, — последовал ставший универсальным ответ.
— Они часто ссорились?
— Кажется, да.
— Ну, а к тестю он как относился?
Красильникова поморщилась:
— Повторяю, я не вникала в их внутренние дела.
— Восемнадцатого января была восьмая годовщина свадьбы, — сменил тему Логвинов. — Игорь не приглашал вас?
— Нет. Он знал, что я не приду.
— Вы что же, вконец рассорились?
Светлана Сергеевна подумала, прежде чем ответить.
— Не совсем. Но отношения были прохладные, это верно. Последние годы мы с сыном виделись все реже.
— Вечером восемнадцатого Игорь поссорился с Федором Константиновичем. Вы не подскажете, хотя бы в порядке предположения, из-за чего могла произойти эта ссора?
— Понятия не имею. Отношения между ними настолько запутаны…
Логвинов оторвался от протокола и, отложив ручку, подвигал пальцами.
— Еще один вопрос, Светлана Сергеевна, — сказал он. — Скажите, когда вы видели сына в последний раз?
Он не ожидал услышать что-то мало-мальски интересное, но Светлана Сергеевна удивила его:
— Девятнадцатого января.
— Девятнадцатого? — Логвинов мгновенно прикинул в уме: по словам жены, Игорь в тот день в половине девятого ушел на работу. Заведующий ателье подтвердил, что он пришел без опоздания, к девяти, и никуда не отлучался. А во время перерыва Красильников уже был арестован. — А вы не путаете, Светлана Сергеевна?
— Да нет, не так уж давно это было.
— Вы говорили, что отобрали у него ключ. Он что, пришел наобум, ведь вас могло не оказаться дома?
— Я работаю через день, и он отлично знает график моих дежурств, тем более что был у меня в гостях то ли шестнадцатого, то ли пятнадцатого.
— И в котором часу он пришел?
— Утром, не было еще девяти. Сказал, что на улице его ждет такси. В руках у него был пакет.
— Пакет? Большой?
Красильникова развела руки:
— Ну, размером со среднюю хозяйственную сумку. Довольно большой. Он сказал, что оставит его у меня. Был возбужден, взволнован. Я заподозрила неладное, потому что всегда жду от него подвоха, и спросила, что в пакете. Он замялся, ответил, что мне это знать не обязательно, пусть полежит, а вечером он его заберет. Тогда я схватилась за обертку, но Игорь успел вырвать сверток и, не попрощавшись, ушел.
— Вы не разобрались, что в нем было? Может быть, на ощупь?
— Что-то твердое, с прямыми гранями, похожее на коробку…
ТИХОЙВАНОВ
Два часа, как он сидит у следователя, а тот не исписал и половины страницы, все слушает. «Скаргин, кажется, — припомнил Федор Константинович фамилию, а вот имя и отчество, как ни старался, вспомнить не мог. — Серьезный, по всей видимости, человек, внимательный. Может, и разберется».
Воспользовавшись заминкой в разговоре, Тихойванов мысленно посетовал, что оказался не в состоянии сказать о зяте ничего путного, так за восемь лет и не постиг его характера.
В войну, пожалуй, проще было: не то что за восемь лет, в считанные дни, а то и часы успевал и познакомиться с человеком, и привыкнуть к нему, и сродниться, доверять, как брату, и, случалось, как брата, потерять. Одно слово — война: жизнь и смерть, солдатская спайка, зависимость от товарища, чей локоть вплотную к твоему… А что, разве сейчас иначе? Разве люди перестали зависеть друг от друга? Да нет, так же связаны, и друзья есть, и враги, как прежде, только что название у врага другое — хамство, подлость, равнодушие, и ранят они иначе — не тело, а душу…
«Чем же ему помочь? — подумал он. — И рад бы, но чем?»
— А теперь, Федор Константинович, вспомните, пожалуйста, что произошло между вами и Игорем в последнюю вашу встречу, когда вы праздновали восьмую годовщину свадьбы дочери, — попросил следователь и прибавил, улыбнувшись: — Только постарайтесь не взваливать всю вину на себя.
Тихойванов удрученно взглянул на полную окурков пепельницу и решил, что курить еще одну папиросу неприлично.
Просьба следователя заставила вернуться к тому, что уже много дней тяжелым грузом лежало на сердце: он вспомнил вечер, такую же, как и здесь, пепельницу на столе, Игоря, вошедшего с мороза с бутылками под мышкой, возившуюся у плиты Тамару…
Федор Константинович помог зятю разгрузиться, поставил шампанское на сервант, водку — на стол и, задымив «Казбеком», полез за шахматами.
Ничто не предвещало чудовищной ссоры, разразившейся получасом позже. Игорь ходил по комнате в приподнятом настроении, насвистывал какую-то мелодию, дочь была весела и добродушна. Слегка пожурив мужа за то, что он, не дождавшись, когда будет накрыт стол, открыл бутылку «Пшеничной» и налил две рюмки, себе и тестю, она освободила угол стола для шахматной доски, достала третью рюмку и тоже налила водки.
От батареи парового отопления несло жаром, под потолком горела пыльная старая люстра с оторванными стеклянными подвесками, за белым от мороза окном чуть слышно свистел ветер. Федор Константинович раскрыл доску и начал расставлять фигуры.
— За упокой души рабы божьей Нины свет Ивановны, — провозгласил зять.
Он чокнулся своей рюмкой о рюмку тестя, зажмурился, одним махом выпил и, морщась, двинул пешку вперед. Тамара тоже выпила.
— А ты что ж? — спросила она, обращаясь к отцу. Ее щеки горели ярким румянцем — видно, ей передалось приподнятое настроение мужа.
— Мне спешить некуда, — буркнул Федор Константинович и сделал первый ход.
Ему не понравился тон, которым Игорь произнес тост: «За упокой души рабы божьей… свет Ивановны». Он знал цену жизни и потому не переносил, когда о смерти говорили без особой на то необходимости, пренебрежительно, а тем более в шутку. Кроме того, Щетинникова была его соседкой много лет, знала покойную жену, нянчила, хотя и не часто, дочь. Он хотел было сделать замечание, но в последний момент удержался, промолчал, опасаясь нарушить мир и покой, в кои-то веки снизошедший на эту семью.
А Игорь, вяло переставляя фигуры, продолжал упражняться в остроумии.
— Любопытно, куда попадет ее душа: в рай или в ад? — разглагольствовал он. — Как вы считаете, Федор Константинович? Я лично думаю, ее душа останется на нейтральной полосе; знаете, как в песне: «А на нейтральной полосе цветы необычайной красоты». Грехов за ней особых не водилось, следовательно, в ад не пустят, но подвигов за старушенцией тоже не числилось. За что же в рай? Получается, ни в рай, ни в ад. Куда же приткнуться, что остается? Дырка от бублика? Бермудский треугольник? — Глядя на шахматную доску, он пробубнил под нос отрывок из военного марша, потом передвинул фигуру и потянулся, отводя руки назад. — Ох и холодно ей сейчас на кладбище…
— Прекрати, Игорь, — не оборачиваясь, сказала возившаяся у плиты Тамара. — Ты же к ней неплохо относился.
— Я? — Он длинно, широко открыв рот, зевнул. — А что я? Я ничего. Я, как все, отдаю должное, чту, так сказать, память.
— Однако поглупел ты, зятек, — сказал Федор Константинович. Он выиграл фигуру, но слова его относились не к игре. Игорь уловил это и почувствовал себя задетым.
— Между прочим, все там будем, — раздраженно сказал он. — И умные и глупые.
— Вот ты бы о себе и говорил, а она свое отжила.
— А, ладно, — отмахнулся зять. — Далась вам эта старуха!
— Она ненамного старше твоей матери. — Тихойванов почувствовал закипающую внутри злость. — И имя у этой старухи тоже имеется!
Игорь ответить не успел.
— Слушайте, какая муха вас укусила? Мы что, поминки справляем? — вмешалась Тамара. Она была похожа на пожарника, почуявшего запах дыма. — А ну-ка, убирайте свои шахматы, я на стол накрывать буду. Несите тарелки.
Не успев начаться, скандал затух, но атмосфера сделалась взрывоопасной — это стало ясно всем, за исключением, может быть, Тамары. Она наполнила свою рюмку и рюмку мужа, выпила, далеко запрокинув голову, и, не обращая внимания на их хмурые, насупленные лица, взялась за вилку.
Ели молча. Зять — уткнувшись в тарелку. Федор Константинович — упершись взглядом в скатерть.
— Да, Игорь, я тебе говорила? Пока ты ездил на кладбище, домоуправление опечатало ее комнату, — сказала Тамара, вопреки логике надеясь таким образом разрядить обстановку. — Предупредили, чтоб ничего не трогали и никого не впускали.
— Знаю, — хмуро бросил Игорь.
Помолчали.
— Лампа в коридоре перегорела, — посетовала Тамара, переводя тревожный взгляд с мужа на отца. — Надо бы новую вкрутить, а, Игорь?
Игорь не ответил.
В окно ударил комок снега, и он вздрогнул.
— Может, телевизор включить? — спросила Тамара.
— Включи, но без звука. — Он повернулся к тестю и сказал, пережевывая кусок мяса: — Вот так и живем, Федор Константинович, хлеб жуем.
Вызова в его словах не было, но и сказаны они были вряд ли случайно.
— Вижу. — Тихойванов уже раскаивался в том, что так глупо сорвался за шахматами.
— Не нравится? — Зять не ждал ответа. Он искал повод высказаться и громче, чем, наверное, самому хотелось, добавил: — Мне, представьте, тоже!
Тамара насторожилась.
— Ты чего, Игорь?
— Да так. Хочу внести ясность в один вопрос. Знаешь, пьеса есть такая, «Без вины виноватые» называется. Островский написал. Не тот, что про сталь, а другой… Ты пей, пей… Так вот там, говорят, было виновато общество. — Он открыто, с вызовом посмотрел на тестя. — Ну а в нашем случае?
Федор Константинович сжал кулаки. Он понял, куда гнет Игорь, и это отозвалось в нем давней, никогда не утихавшей обидой. Зять действовал безошибочно, бил в самое больное место.
Недобро улыбаясь, он постучал вилкой о край тарелки и, будто обращаясь к многочисленной публике, воскликнул:
— Минуточку внимания, господа! У меня есть несколько слов… В эту славную годовщину мне хочется поговорить о супружестве. О супружестве вообще и о нас с Тамарой в частности. Вы, дорогой Федор Константинович, стояли, так сказать, у истоков наших отношений, вы в свое время настояли на нашем браке, и вам я задаю волнующий меня вопрос: вы довольны? Заметьте, я не обвиняю, не упрекаю, я тактично и вежливо спрашиваю: вы довольны?
Сколько раз Тиховайнов казнил себя за тот, восьмилетней давности, визит к Красильниковым, но никогда еще ему не было так горько и обидно за себя, за дочь, за ее отравленную семейными неурядицами жизнь.
— Вы человек положительный, — продолжал Игорь, — заслуженный, медалист, так сказать, и почетный пенсионер, но, простите, мне иногда кажется, что вы так и прожили всю жизнь, не сходя со своего любимого локомотива, просидели все годы в тендере, или как он там у вас называется…
Тамара истерично хохотнула и тут же прикрыла рот ладонью.
— Ну, хорошо, каждый сам находит место, где ему лучше — это понятно. Но зачем вы подцепили к своему составу меня? Катили бы своей дорогой на своем электровозе, а я бы свою и пешком прошел…
— Хватит, я ухожу. — Тиховайнов хотел подняться.
— Нет, постойте. Это не все. У меня еще вопрос. — С лица Игоря сползла напряженная улыбка. Он со злостью рубанул воздух рукой: — Чем, скажите на милость, я заслужил жену-грязнулю, квартиру хуже нужника? Чем? Это же общий вагон, уважаемый, общий! У меня были возможности, планы, перспективы, я жил полнокровной жизнью, под ясным небом, для меня светило солнце, понимаете вы — солнце…
— В плевке солнце тоже отражается, — не выдержал Федор Константинович.
— Вот-вот! Вы всегда презирали меня, — почти радостно подтвердил Игорь. — А чем, спрашивается, я хуже вас, хуже вашей дочери?! В чем я перед вами провинился?
— В чем?! — Тихойванов взглянул на дочь, увидел ее покрытое красными пятнами лицо, и его пронзило острое чувство жалости. — Ты спрашиваешь в чем? Хотя бы в том, что до замужества она не знала вкуса спиртного.
Тамара фыркнула:
— Ладно тебе, папа… — Глаза ее пьяно блестели. — И вообще, чего вы завелись?
Но Федор Константинович уже не мог остановиться:
— Чтобы ублажить тебя, она так и не поступила на работу, не смогла учиться, как мечтала до замужества. Восемь лет сиднем сидит в четырех стенах, готовит, обстирывает тебя и опускается, да, опускается все ниже! Посмотри на нее… — Он перевел дыхание, и зять воспользовался этим.
— Восемь лет назад, — выпалил он, — ваша дочь отдалась мне чуть ли не в подъезде первого попавшегося дома. Куда же еще опускаться?!
— Мерзавец! — задохнулся в приступе гнева Тихойванов. — Ты всегда был и остался мерзавцем!
— Отлично! — нервно улыбнулся Игорь. — Вот мы и разобрались, кто виноват.
Федор Константинович поднялся.
— Наталью можете привозить по-прежнему, — сказал он. — А моей ноги здесь больше не будет.
Тамара уткнулась лбом в скрещенные руки и заплакала. Игорь похлопал ее по спине.
— «Не плачь, девчонка, пройдут дожди…» Есть у меня одна идейка: что, если тебе отдохнуть от меня? А что? Поживешь одна, устроишься на работу, в институт поступишь и начнешь подниматься все выше и выше. Слышала, что говорил твой папаша? Я с ним полностью согласен. А вы, Федор Константинович, — обратился он к Тихойванову, — переезжайте сюда. Ведь вы этого добивались? Переезжайте, переезжайте, и Наташу возить не придется. Заживете одной дружной семьей. А мне, злодею…
В дверь настойчиво позвонили.
Игорь осекся, нерешительно привстал и тут же опустился на стул. Но раздались еще более требовательные звонки, и он кинулся открывать.
Федор Константинович снял с вешалки пальто.
— Не обращай внимания, он пошутил, — всхлипнула Тамара, тяжело подняв опухшее от слез лицо. — Он всегда так: наговорит, потом отходит…
Тихойванов не нашел что ответить, оделся и вышел в темную прихожую.
Дверь в подъезд была открыта. Двое, стоявшие у лестницы, отпрянули друг от друга. Похоже было, что они ругались и даже собирались драться. Игорь демонстративно отвернулся, а Волонтир — вторым был он — поздоровался с Федором Константиновичем и, покачнувшись, сделал несколько шагов в сторону Игоря.
Тихойванов прошел мимо и громко хлопнул дверью…
— Вот такой была последняя наша встреча, — сказал он Скаргину.
— Вы не задерживались в подъезде? — спросил Владимир Николаевич.
— Нет, сразу ушел. У меня сложилось впечатление, что они либо выясняли отношения, либо сводили счеты. Хотя, если вдуматься, какие у них могли быть счеты?
— А вы попробуйте представить, что счеты были, — ухватился за эту мысль следователь. — Попробуйте. Вдруг получится?
Тихойванов подумал и отрицательно мотнул головой.
— Даже не знаю…
— Вспомните, Игорь никогда при вас не заводил разговора о Волонтире?
Федор Константинович помялся: разговор такой был, это верно, но не с Игорем, а с самим Волонтиром. Только стоит ли выносить сор из избы, тем более что ничего определенного об отношениях с Игорем Волонтир тогда не сказал.
Тихойванов решил промолчать.
— Так что? — переспросил следователь. — Как все-таки ваш зять относился к Георгию Васильевичу? Приятелями они были? Друзьями?
— У них слишком большая разница в возрасте и вообще…
— Что вообще?
— Игорь парень молодой, современный, а Георгий… Я знаю его много лет…
— А старшего брата тоже знали?
— И старшего тоже.
— Расскажите о нем, — неожиданно попросил Скаргин.
— О Дмитрии? — удивился Тихойванов.
Ему было что рассказать, но смущала та же мысль: нужно ли? Неужто это и впрямь интересует следователя?
— Зачем вам это? — неуверенно спросил он.
— А вы не находите, Федор Константинович, что настоящее зачастую определяется прошлым? — туманно произнес Скаргин, и пусть эти слова мало что Тихойванову объяснили, он подумал: «Что ж, надо так надо. Ему видней…»
За год до начала войны в их дворе появился коренастый парень с ярко-синими, глубоко посаженными глазами. Вместе со своим младшим братом Жоркой он поселился во флигеле, который раньше занимал дворник дядя Миша, и на следующий день уже мел улицу, нацепив на себя широкий дворницкий фартук.
Ходили слухи, будто их родители до революции имели мельницу, будто были раскулачены и высланы куда-то в Сибирь, но слухи смутные, неопределенные, и многие в них не верили.
Должности своей Дмитрий не стеснялся. Замкнутый, почти бессловесный, он быстро делал свое дело и исчезал на весь день. Изредка, по вечерам, у него собирались какие-то люди, мужчины и женщины. Он выгонял младшего брата и запирался во флигеле. Жорка стучал в дверь, просил впустить, чуть ли не скулил под окном, а иногда так и засыпал, сидя на приступке, ожидая, когда разойдется компания.
Тринадцатилетний Жорка вел себя не так, как брат: набивался в друзья к каждому, дневал и ночевал во дворе, но из-за вздорного и диковатого характера своим среди сверстников так и не стал, а ребята постарше относились к нему равнодушно, в лучшем случае терпели его присутствие.
О брате он отзывался по-разному: то хвастал его силой, превозносил его ум, находчивость и смелость, а то вдруг начинал жаловаться, что Дмитрий обзывает его «хромым», срывался на крик, оскорблял, говорил, что ненавидит его и всю его компанию картежников. Непонятно было, ревнует он брата к ночным посетителям или завидует, вымещает злобу за свою увечную ногу. Скорее все же причина была в хромоте — любимым его словечком было «бугай», в которое он вкладывал особо обидный, оскорбительный смысл и вместе с тем откровенную зависть.
Старшего Волонтира видели редко — либо рано утром, когда, надев фартук, он невозмутимо возился у мусорника, деловито стучал ведрами, подметал улицу, либо вечером, в тех редких случаях, когда, принарядившись, он подсаживался к ребятам и рассеянно, думая о своем, слушал песни и их разговоры о линии Маннергейма, о Молотове, о мирном договоре с Германией. Несмотря на разницу в возрасте — ему уже исполнилось двадцать шесть, — Дмитрий предпочитал общество ребят моложе себя, кое-кого даже приглашал к себе во флигель, где угощал вином, а для тех, кто внушал ему особое доверие, предварительно взяв клятву молчать, вытаскивал из-под клеенки, как величайшее сокровище, несколько потрепанных и замусоленных порнографических открыток.
Изредка братья дрались: из-за двери флигеля доносились истошные крики Жорки, но на вопрос, за что его бил старший брат, он с вызовом отвечал, что еще не известно, кому больше досталось. И это было не хвастовство, не пустые слова: старшего частенько видели с царапинами и синяками. Однажды, это случилось зимой, Жорка прямо посреди двора напал на брата. Припадая на левую ногу, он подкрался сзади и неожиданно кинулся на него, вцепившись в шею мертвой хваткой. Дмитрий, матерясь, отбивался от него, от его зубов и ногтей; с трудом отбросил в сторону, и Жорка отлетел в сугроб. Дергаясь всем телом, пачкая снег розовой слюной, стекавшей с разбитой губы, он истерично вопил: «Не подходи, бугай, не подходи! Зарежу гада!» Однако старший изловчился и несколько раз ударил брата ногой. Его схватили за руки, оттащили от Жорки, и тот, секундой раньше замерший в нелепой позе, словно убитый, легко вскочил на ноги и, прихрамывая, опрометью кинулся со двора.
На следующий день стало известно, что драка произошла из-за Нины Щетинниковой — тридцатидвухлетней вдовы погибшего в финскую кампанию Егора Щетинникова, весельчака и балагура, всеобщего дворового любимца…
— Из-за вашей соседки? — уточнил следователь.
— Ну да, — подтвердил Тихойванов.
Он испытывал двойственное чувство: с одной стороны, воспоминания о событиях тех лет были необычайно свежи в памяти, с другой — он продолжал считать интерес следователя к ним случайным и потому говорил неохотно, как бы через силу.
— Дмитрий Волонтир встречался с ней, — добавил он. — Собирался жениться.
— А при чем здесь младший брат?
— Наверно, не хотел, чтобы Дмитрий привел ее к ним в дом. А может, ревновал — она, Щетинникова, красавицей была… — Федор Константинович собрал на лбу морщины. — Мы, ребята, все были в нее немного влюблены…
— Скажите, а какие отношения с братьями были у вас лично?
— В общем-то, никаких. Дмитрий поначалу приглашал меня к себе, но я не ходил.
— Почему?
— К нему мало кто ходил. Мы, знаете, вином не увлекались, в карты тоже… Несколько раз он предлагал мне купить кое-что из одежды, отрезы на костюм, но я… не знаю, брезговал, что ли…
— А с младшим Волонтиром?
Федор Константинович вздохнул:
— Ему не позавидуешь — несчастный человек…
— В каком смысле?
— Так всю жизнь и прожил в тени брата, опозоренный… После войны стало известно, что Дмитрий изменил Родине. Сами понимаете, как к этому отнеслись.
— А вы?
— Я с ним не здоровался… Года четыре назад Дмитрия нашли — скрывался где-то. Военный трибунал судил. В газетах писали, что приговорили к расстрелу. Так Георгий после этого окончательно себя потерял, спился. Еще злее стал…
Скаргин долго молчал, обдумывая что-то, потом спросил таким тоном, будто не был уверен, что поступает правильно, спрашивая об этом:
— Ваш отец погиб здесь, в городе, верно?
— Да, зимой сорок третьего.
— Скажите, вам известно, при каких обстоятельствах это случилось?
— Я вам уже рассказывал. Его схватили в январе и расстреляли за городом, у рва…
— Да-да… — подтвердил следователь. — Вы говорили, что его взяли как героя гражданской войны. Об этом знали многие, не правда ли?
Тихойванов напрягся.
— Да, многие…
Скаргин встал, прошелся вдоль стены и остановился рядом со стулом, на котором сидел Федор Константинович.
— А ведь в сорок третьем, в январе, Дмитрий Волонтир был здесь… — Следователь постоял еще немного и вернулся на свое место.
Тихойванов провел рукой по лицу. Вспомнился незначительный, полузабытый эпизод — стычка, которая произошла с Дмитрием летом сорок первого года, сразу после начала войны.
Сам он в то время безрезультатно обивал пороги райкома комсомола, военкомата, ходил даже в профком завода, на котором работал, с просьбой посодействовать, чтобы его призвали в армию на два месяца раньше, чем ему было положено. Как-то, возвращаясь домой, он встретил в подворотне Дмитрия. Тот был навеселе. Пьяно покачиваясь, преградил дорогу и с напускным добродушием, как бы между прочим, попросил: «Слышь, Федька, ты скажи своему пахану, чтоб не задевал меня, а?» Тихойванов хотел обойти его стороной, но Дмитрий ухватил его за лацканы куртки и совсем другим, трезвым голосом, сплюнув в сторону, пригрозил: «Я не шучу, слышь, кореш. Не его ума дело, с кем я живу да почему добровольцем не прошусь. Пусть вон тобой командирствует. А будет нос совать не в свои дела, не посмотрю, что герой…» Тихойванов оттолкнул его, а Дмитрий вроде только того и ждал: размахнулся, и, целясь в подбородок, двинул кулаком в лицо. Они схватились, упали на землю, но борьба была короткой. Тихойванов положил его на обе лопатки, прижал к булыжной мостовой. «Ну, подожди, — процедил, задыхаясь, Волонтир. — Мы еще сквитаемся!»
Отца дома не было, и к вечеру инцидент забылся, потому что и раньше отношения с Дмитрием были натянутыми…
— Не знаю, не знаю… — тихо, как бы в забытьи, пробормотал Федор Константинович, однако, повторяя это, чувствовал, как в сознание проникает и укореняется там страшная мысль о том, что в сорок третьем в занятом немцами городе среди огромного количества человеческих трагедий разыгралась еще одна и участниками ее были его отец, прятавшийся в сапожной мастерской, и Дмитрий Волонтир, получивший при «новом порядке» почти безграничную власть над людьми… При мысли об этом по коже пробежал мороз.
Следователь молчал. Наверное, думал о том же. Потом, придвинувшись к столу, сказал:
— Это предположение, Федор Константинович. Фактов у меня нет, у вас, вижу, тоже, так что оставим на время эту тему. — Он покрутил в руке карандаш и отбросил его в сторону. — Вернемся ко дню сегодняшнему. Скажите, вы помогали дочери деньгами?
— Какая там помощь… — подавленно отозвался Тихойванов. — Давал сколько мог…
— Когда и сколько в последний раз?
— Не стоит об этом, — сказал Тихойванов, но, увидев, что следователь ждет, ответил: — В начале января дал семьдесят рублей. Это для внучки, на фрукты.
— А в декабре сколько дали? В ноябре? — Не дождавшись ответа, Скаргин спросил: — Зачем вы это делали, Федор Константинович?
— А на кого мне тратить? Пенсия-то немаленькая. На себя и половины не уходит, а у Тамары вечно не хватает. Что ж тут плохого?
— В общем-то ничего, конечно… А Игорь, как он относился к деньгам?
— Зарплату вроде Тамаре отдавал… А почему вы спрашиваете?
— Есть у меня одно соображение, — уклончиво ответил следователь. — Хочу проверить.
— Жадным его вроде не назовешь, но цену деньгам знал.
— Ну, например, мог он занять близкому другу сто рублей, зная, что тот очень нуждается и отдаст деньги не скоро?
Вопрос оказался трудным: Тихойванов замялся.
— Другу, — подчеркнул следователь, — самому близкому.
— Может быть, но вряд ли, — нашел компромиссный ответ Федор Константинович.
— А если бы знал, что друг сильно болен и может вовсе не вернуть долг? Как тогда?
— Исключено, — без колебаний ответил Тихойванов.
— Федор Константинович, забудьте на минутку тот последний вечер, вашу ссору, отбросьте эмоции и скажите: как Игорь на самом деле относился к соседке? Ладил с ней? Мирно они жили, не скандалили?
— Со Щетинниковой? — удивился Федор Константинович. — Да он ее просто не замечал.
— Ваша дочь сообщила нам, что последнее время Игорь хлопотал о санаторной путевке для Нины Ивановны. Правда это?
— Вы это серьезно? — не поверил Тихойванов. — Это какая-то ошибка…
— Почему вы так думаете?
— Да не приспособлен он для таких чувств! — воскликнул Тихойванов. — Путевку! Да он пальцем бесплатно не пошевельнет, копейку без выгоды не потратит, а вы говорите — путевку. Он даже пил с прицелом на то, чтобы бутылку окупить. Был я у него как-то в ателье, видел. Чуть со стыда не сгорел. Приходит к нему знакомый — поздоровались за руку, по имени друг друга назвали, может, друзья даже. Так он с него пятерку за обыкновенную вставку стекол содрал. А по прейскуранту меньше рубля стоит!
— Вы хотите сказать, что у него не было настоящих друзей? — Следователь истолковал его слова по-своему.
Тихойванов задумался.
— Вроде был один. Скуластый такой, в очках. Давно это, правда, было…
Он вспомнил свадьбу, худенького однокурсника Игоря в строгом, не по возрасту, костюме, с тонким, как шнурок, галстуком, болтающимся на худой шее, его попытки произнести тост, чтобы сказать о товарище что-то хорошее, проникновенное, вспомнил и то, как ждал этих слов он, отец невесты, чтобы укрепить свою веру в чистоту помыслов жениха…
— …Манжула! Манжула его фамилия. Учились они с Игорем на одном факультете…
ЩЕБЕНКИН
Заведующий ателье уехал в командировку на два дня, и Сотниченко допрашивал работников «Оптики» в его кабинете.
Первым вошел Щебенкин. Он поправил каштановые вьющиеся вихры, одернул ношеный, видавший виды халат и присел на краешек стула. Сообщая анкетные данные, он беспричинно улыбался, а когда Сотниченко начал задавать вопросы, рассмеялся:
— Да вы не обращайте внимания на журнал. Там расписываются все кому не лень. Вы его видели, журнал этот? Проставлен час прихода — девять часов, а под ним подписи. Опоздал на десять минут, а расписываешься там же, где все, в той же графе, под той же девяткой, что и все.
— Но там есть несколько подписей с указанием времени опоздания, — возразил Сотниченко.
— Это Кротов, не иначе. Записал пару раз для хохмы…
— Выходит, журнал — пустая формальность?
— Это как посмотреть, — жизнерадостно улыбнулся Щебенкин. — Можно и очковтирательством назвать, а можно и борьбой за дисциплину. У нас борьбой называют. — Заправив непокорные локоны за уши, он рассудил: — С другой стороны, все вроде правильно. У нас опоздавших практически не бывает: народ сознательный, да и заинтересованный — работа-то стоит, кто ж ее за тебя сделает?
— Значит, вы пришли, расписались под девяткой и пошли себе на рабочее место?
— Точно.
— И если кто-то опоздал, узнать об этом можно только по очередности подписей в журнале?
— Как — по очередности? — не понял Щебенкин.
— Подпись опоздавшего должна стоять последней, правильно?
— Ну да, верно. Я не сообразил.
— В графе за девятнадцатое января подпись Красильникова стоит в конце.
— Да зачем вам подпись? — удивился Щебенкин. — Я и так могу сказать: он пришел не раньше одиннадцати. Это точно. Я хорошо помню, его в этот день милиция забрала.
— Почему же ваш заведующий сказал, что Красильников пришел на работу без опоздания, ровно к девяти?
— Честь мундира бережет. — У Щебенкина на все был готов ответ. — И потому, его самого не было, откуда же ему знать, что Игорь опоздал? Девятнадцатого у нас что? Среда! А по средам у Харагезова планерка в управлении. До одиннадцати.
— Вы это точно знаете или предполагаете?
— Чего тут предполагать, если Игорь, когда пришел, у меня лично спросил: «Начальство на месте?» Я сказал, что нет, еще в управлении. Он и пошел на приемку.
— Красильников пришел ровно в одиннадцать?
— В одиннадцать приехал Харагезов. А Игорь — в половине. Может быть, без двадцати, где-то так. Подъехал на такси. Я еще сказал ребятам: «Глядите, наш министр задержался».
— А почему «министр»?
— Ну, он у нас аристократ, голубая кровь: точку отдельную должен был получить…
— А что, не заслужил?
Щебенкин впервые затруднился ответить сразу.
— Кто его знает… Работать индивидуально — это выдержку надо иметь, я так считаю. А у Игоря на деньги слабость была.
— То есть?
— Он же постоянно в зале крутился, так и вился около приемщицы. Клиент, он ведь какой — ему поскорее очки нужны. Видят: человек в халате, ну и обращаются к нему. Сделай, мол, отблагодарим. И дают, конечно, сверху, за срочность. Игорь брал.
— Что ж вы на него не воздействовали?
— Почему не воздействовали? Говорили с ним, предупреждали, да ведь за руку не поймаешь. К тому же он даже не комсомолец…
— Ясно. Скажите, а восемнадцатого он был на работе?
— Нет. Харагезов его отпустил.
— Не знаете зачем?
— На похороны. Соседка у него вроде умерла…
МАНЖУЛА
Отпустив сотрудников лаборатории, Антон снял трубку, разыскал в справочнике нужный телефон и позвонил в прокуратуру.
— Назовите номер дела, — попросил его женский голос. — Он проставлен на повестке.
Манжула назвал.
— Следователя зовут Владимир Николаевич. Соединяю…
В трубке щелкнуло, раздался мужской голос:
— Скаргин слушает.
Представившись и объяснив, что в одиннадцать ноль-ноль он вызывается свидетелем по делу Красильникова, Манжула начал сбивчиво рассказывать об испытании нового бактерийного препарата, о смеси, которая вот уже двадцать четыре дня находится в заданном режиме, о предстоящей в двенадцать часов выемке из муфеля…
— Вы хотите присутствовать при завершении опыта? — спросил следователь. — Хорошо, приезжайте сейчас, постараемся успеть до двенадцати.
Антон вздохнул с облегчением и, поблагодарив, повесил трубку.
Двадцать минут спустя он сидел в кабинете Скаргина и добросовестно вспоминал все, что знал об Игоре. Начав говорить, Антон удивился: давняя история их с Красильниковым отношений вдруг представилась не такой уж давней; оказывается, она еще могла волновать и даже наталкивала на размышления более глубокие, чем десять лет назад.
Первый раз они с Игорем встретились на вступительных экзаменах в университет. Попали в одну группу. Но, как это обычно бывает, контакты между абитуриентами сводились к минимуму — ходили порознь, напустив на себя таинственность: то ли стеснялись, то ли видели друг в друге потенциальных соперников; шатались по коридорам, лихорадочно листали учебники и как по команде кучей бросались к счастливчикам, успевшим отмучиться: что получил? О чем спрашивали? Здорово гоняли? На чем засыпался?
По-настоящему познакомились позже, через несколько дней, у щитов со списками принятых. Оба, продравшись сквозь толпу, с замиранием сердца скользили глазами по густо исписанным страницам в поисках своих фамилий, и оба нашли их почти рядом: Красильников… Манжула. Из толпы жаждущих узнать свою судьбу выбирались вместе. Жали друг другу руки, поздравляли. Немного стесняясь своей радости, юркнули в ближайшее кафе-мороженое и взяли сразу по двести пятьдесят граммов пломбира в шоколаде.
— Понимаешь, старик, — возбужденно говорил Игорь, — все зависело от русского устного. Если б трояк — я б пролетал. Представляешь положеньице? Приплелся на экзамен, захожу, сажусь и смотрю на экзаменаторшу, изучаю. Вижу — мучает одного, дополнительными вопросами засыпала прямо, а тот понимает, что все равно горит, возьми и состри что-то. Ну, такое, чему и смеяться-то лень. А она, экзаменаторша, аж закатилась от смеха. Ну, я, конечно, мотаю на ус. Выхожу отвечать. На первый вопрос — слабо, на второй — еще хуже. Пара светит! Но третий знал хорошо: вводные слова и предложения. Отбарабанил ей, она и спрашивает: «Есть у вас пример на вводное слово в начале предложения?» Я делаю вид, что усиленно ищу, а у самого этот пример давно готов, у меня на него вся ставка была. Ты слушай, старик, слушай… — Игорь отправил в рот огромную порцию пломбира. — Она уже начинает нервничать, а я ей: «Минуточку, сейчас… Такой пример: „КОНЕЧНО, ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ МНЕ ЛЮБУЮ ОТМЕТКУ…“ „Конечно“, — говорю, — вводное слово, отделяется запятой». Она улыбается: «Правильно, но предложение не закончено, оно у вас, кажется, сложносочиненное?» Тут я опускаю глаза и скромненько так, негромко, говорю: «Вы правы». Она даже руки от удовольствия потерла — так ей интересно. «Хорошо, — говорю, — раз вы требуете, я закончу». И выдаю полностью… — Игорь расплылся в улыбке: — «КОНЕЧНО, ВЫ МОЖЕТЕ ПОСТАВИТЬ МНЕ ЛЮБУЮ ОТМЕТКУ, НО МНЕ НЕОБХОДИМА ЧЕТВЕРКА, ИНАЧЕ Я НЕ ПРОЙДУ ПО КОНКУРСУ». Риск, знаешь ли, дело благородное…
— И поставила? — поражаясь находчивости своего нового приятеля, спросил Антон.
— Как видишь, — с выражением некоторого превосходства ответил Игорь. — Посмеялась, поругала, что готовился слабо, но «хор» поставила. Она ведь тоже на этом выиграла: сто лет будет рассказывать этот анекдот своим студентам. Так что я — ей, она — мне.
В августе ездили на уборочную в колхоз. Игорь тоже собирался, но в последний момент не явился на сбор. Позже принес справку об освобождении по болезни.
Длинными летними вечерами Антон жалел, что его нет рядом, могли бы вместе ходить на рыбалку, в кино, на танцы в местный клуб, но очень скоро он втянулся в работу, сдружился с ребятами и до отъезда не вспоминал об Игоре.
А в сентябре начались занятия. Они снова сблизились, подолгу бродили по городу, отчаянно жгли сухие листья в заброшенном студенческом парке, говорили. Мало что сохранилось в памяти, и, наверное, были какие-то разногласия — иначе невозможно объяснить полный разрыв, последовавший за столь близкой дружбой, — но какое это имело значение сейчас, если в целом то время отложилось как самое беззаботное, счастливое и радостное?
Когда оставались вдвоем, Игорь шутил, мог часами говорить о всякой ерунде, строил фантастические проекты переделки мира, но среди сокурсников, в группе, он терялся, держался особняком, становился незаметным, поэтому и друзей у него, кроме Антона, не было. Учился он средне, и то, что Антон часто ходил в библиотеку, часами просиживал в читальне, раздражало его. Правда, вскоре он тоже нашел себе занятие: купил по случаю «Сочинения Козьмы Пруткова», и с тех пор они стали, пожалуй, единственной книгой, которую он читал с удовольствием. Игорь вызубрил ее наизусть, и взял в привычку к месту и не к месту вставлять в речь прутковские афоризмы…
Первая крупная размолвка произошла из-за девушки.
Как-то вечером, возвращаясь с занятий, они познакомились на улице с двумя подружками. Одна была низкорослой и вызывающе некрасивой. Отсутствие восхищенных поклонников, видимо, сказалось на ее характере, он у бедняжки был скверным. Девушка клокотала от злости и охотно изливала свое презрение на всех мужчин подряд. Зато вторая — ее звали Тамарой — была ей полной противоположностью. Стройная, с нежным овалом лица, высокой, взбитой по моде тех лет прической, она сразу понравилась Антону. Игорю тоже. Но классический треугольник не сложился: Антон, заметив, что девушка не спускает зачарованного взгляда с Игоря, забыв обо всем на свете, слушает его украшенную чужими афоризмами болтовню, без борьбы уступил место и весь вечер плелся рядом с невзрачной подружкой, выслушивая ее ядовитые замечания о знакомых, приятелях и просто гуляющих по проспекту ребятах.
С того вечера Игорь начал встречаться с Тамарой. Почти ежедневно он, как сводки с места боевых действий, сообщал другу о своих маленьких победах, а Антон, испытывая легкие уколы ревности, делал вид, что страшно занят, и под любым предлогом сбегал в читальню, где обкладывался учебниками, а сам запоем читал бунинские «Темные аллеи».
Пришел день, и Игорь сказал ему то, о чем Антон предпочел бы не знать. Был первый день занятий после ноябрьских праздников, студенты сонно слушали лекции, а на переменах в коридоре собирались кучками, делясь впечатлениями и строя планы на приближающийся Новый год. Красильников держался еще тише, чем обычно, избегал разговоров о Тамаре, а когда заинтригованный Антон спросил, как он провел праздники, снисходительно процедил сквозь зубы:
— Ничего, терпимо.
— Был в компании?
— Да как тебе сказать, старичок, — неопределенно протянул он. — Не до этого было. Нельзя объять необъятного, как говорили классики.
— А Тамара? — не смог сдержать любопытства Манжула. — Она была с тобой?
Неожиданно схватив его за плечи и рванув к себе, Игорь перешел на шепот:
— Я овладел ею, мой юный друг! В полночь! Когда мои наручные часы пробили двенадцать раз!
И, почти силой увлекая Антона в укромный уголок у запасной лестницы, начал излагать подробности. Говорил, торопясь, избегая смотреть в лицо, скороговоркой и непоследовательно, то забегая вперед, то возвращаясь к началу, посмеиваясь, отпуская остроты. От того, как смачно он описывал детали, как охотно и бесстыдно раздевал перед ним свою девушку, Антону стало не по себе.
— Как ты можешь?! — сорвался он. — Говорить о таких вещах вслух — пошло. Цинично, наконец!
Игорь ошарашенно уставился на него:
— Ты что? Ты это серьезно? — И брезгливо выпятил губы: — Эх ты, старичок! Я-то думал, ты мужчина, а ты просто завистливый девственник!
— Ничего подобного…
— Ладно, вегетарианец, катись на лекцию, изучай размножение инфузорий-туфелек — это для тебя в самый раз будет.
С неделю они не разговаривали, но постепенно острота ссоры сгладилась, и Антон стал испытывать угрызения совести. Игорь, безусловно, грубоват, но ведь и он перегнул палку. Подошел, извинился, и все снова стало на свои места.
По-прежнему сидели на занятиях рядом, вместе готовились к сессии. Оба избегали говорить о Тамаре, пока однажды, после обеда в университетской столовой, Красильников не сообщил, что Тамара, кажется, беременна.
— Не забудь пригласить на свадьбу, — предупредил Антон вполне серьезно, но Игорь пропустил его слова мимо ушей, отмахнулся и больше к этой теме не возвращался.
Прошел Новый год. Манжула видел, что Игорь мучается, ходит сам не свой, но не хотел новой ссоры и не вмешивался.
В начале февраля Красильников отозвал его в сторонку.
— Знаешь, старичок, ты был прав — меня окольцевали. Придется тебе раскошеливаться на подарок. Приходи вечером, дам тебе свой новый адрес. — И в заключение изрек: — Женатый повеса воробью подобен. Побегу покупать градусы.
На свадьбе Антон не сводил глаз с Тамары. Он не видел ее несколько месяцев, с самого дня их знакомства, и она показалась ему еще прекраснее, чем была. Улучив минуту, Игорь вывел его в прихожую и зашептал горячо, в самое ухо:
— Ну как, старичок, недурна? Правда? А уж в постели… — он плотоядно зажмурил глаза, — это что-то неподражаемое! — И пьяно подмигнул: — Я выбирать умею, будь спок!..
Окончательный разрыв произошел неделю спустя.
Однажды в перерыве между лекциями к ним подошел только что избранный секретарь комсомольской организации — симпатичный, но недалекий парень со спортивной фигурой, вечно куда-то спешащий. Поглядывая на часы, он безапелляционным тоном скомандовал:
— Вот вам, ребятки, бланки заявлений. Заполните и сдайте мне. На следующем собрании прием.
Заметив на их лицах недоумение, пояснил:
— Комсомол — организация массовая. Охватывать надо. Должны понимать, не маленькие…
После занятий Антон возмущался формальным подходом к важному делу, горячо доказывал порочность автоматического приема в комсомол. Игорь с ним соглашался и даже предложил написать в студенческую многотиражку. Обсудили детали. Антон взялся составить письмо. Просидел над ним до полуночи, а утром принес в университет.
Игорь прочел, похвалил.
— Одобряю, старик. Очень даже толково написано, — и протянул письмо Антону.
— Подожди, — остановил его Манжула. — Ты что, не понял? Его подписать надо. Видишь, я поставил свою подпись.
— И напрасно. Напрасно ты это сделал, — сказал Красильников. — По-моему, старик, лучше послать анонимно.
— Как? — растерялся Антон. — Почему анонимно?
Игорь замялся:
— Наивный ты человек… Ну, представь последствия, если поймут неправильно. Нам тогда комсомола не видать как своих ушей. Подумай, старик, это дело очень серьезное! Пораскинь мозгами… Как говорится, во время боя сгоряча не стреляй в полкового врача…
— Но это же твоя идея…
— Разве? Что-то не припомню. По-моему, ты что-то путаешь, старичок. Инициатива была твоя. Мне лично этот Жаботинский (нового комсорга прозвали Жаботинским) очень даже симпатичен.
— Значит, не подпишешь? — вскипел Антон, успев наконец понять, куда клонит вчерашний единомышленник.
— И тебе не советую… Не обижайся. — Красильников сунул листок ему в руки. — Ну, будь здоров, некогда мне…
Дальнейшая судьба письма уже не касалась Игоря. Его подписала большая часть группы, оно было напечатано на первой странице многотиражки под заголовком «Комсомол: формальность или выбор цели», вызвало многочисленные отклики, повлекло за собой перевыборы комсорга.
То, что Игорь не захотел подписать письмо, каким-то образом стало известно всему курсу, он оказался в изоляции и вскоре ушел из университета.
Разумеется, уход Игоря был связан с какими-то более серьезными причинами, но он не удержался, чтобы напоследок не сказать Манжуле язвительно и обидно:
— Спасибо, старичок, удружил. Я, признаться, недооценил тебя. Вегетарианцы, оказывается, тоже питаются мясом.
Последний раз Антон видел его в том же году на первомайской демонстрации. Университетская колонна двигалась к площади. Звуки маршей мешались с веселым гамом, шутками, смехом. В воздух, цепляясь за разноцветные, украшенные рисунками шары, откуда-то выпустили стайку голубей, и они трепещущими белыми комками поднялись над крышами и исчезли, будто растворились, в чистой лазури неба.
Антон заметил Красильникова где-то сбоку колонны, но подходить не хотел. Перед выходом на площадь колонна начала перестраиваться, и Игорь оказался в одном с ним ряду.
— Привет будущему члену-корреспонденту, — сказал он. — Как жизнь, старичок?
— Спасибо, ничего, — ответил Антон. — А ты с нами?
Наверное, в его вопросе прозвучал отголосок старой обиды, потому что Игорь насторожился:
— Да нет, шел вот мимо, увидел знакомых… — И надменно, видимо, из желания самоутвердиться, добавил: — У меня, старик, есть дела поважней.
— Ну-ну…
После этого оставаться в колонне Игорь уже не мог и решил сорвать зло:
— Эх, с каким удовольствием я врезал бы тебе по морде, старик, ты себе даже не представляешь!
— А ты попробуй. — Антон сделал шаг вперед.
Игорь с опаской посмотрел на ребят, начинавших прислушиваться к их разговору.
— Да катись ты… очкарик. Вместе со своими ублюдками-друзьями.
Он коротко сплюнул под ноги и, круто повернувшись, стал пробираться сквозь толпу.
Это был уже другой Красильников, незнакомый, чужой, — Красильников, которого Антон Манжула совсем не знал…
Глава 5 12 февраля
СКАРГИН
С тех пор как Красильников признался в неосторожном убийстве, не меньше недели мы топтались на одном месте, делая непрерывные, но тщетные попытки выбраться на оперативный простор. Тянулись дни, заполненные беготней, сбором различных справок, сведений, запросами, допросами, и все это к вечеру неизменно оборачивалось впустую или почти впустую затраченным временем.
Должно быть, я несколько сгустил краски, говоря о бесполезно потраченном времени, потому что благодаря этим запросам и справкам к концу второй недели у нас сложилось более или менее полное представление о личности обвиняемого, однако обстоятельства дела по-прежнему оставались далеко не ясными.
Красильников упорно держался за свое, твердил одно и то же, с той лишь разницей, что для каждой следующей встречи придумывал новые живописные подробности то относительно Волонтира, то относительно себя. За неимением лучшего приходилось выслушивать его фантасмагории (будь моя воля, водил бы на такие допросы режиссеров детективных фильмов, чтобы лишать их иллюзий о киногеничности работы следователя: прежде чем найти Рембрандта, иногда приходится изрядно попотеть).
Он попросту водил нас за нос, и то, что со временем суд расценит его поведение как отягчающее вину обстоятельство, меня лично утешало весьма слабо — это было все равно что ставить горчичники при открытом переломе ноги.
— Я проснулся среди ночи, — «откровенничал» он на одном из допросов, — и вроде даже вспомнил, что оставил газ открытым. Смутно так, туманно. Но тут же снова заснул — знаете, как бывает: проснешься и не поймешь — сон это был или явь. А ведь стоило мне тогда встать, и я мог бы спасти его и не сидел бы сейчас перед вами. Разве не обидно? И вот еще что удивительно: утром, когда увидел во дворе милицейскую машину, даже мысли не допустил, что с Жорой что-то случилось. Прошел мимо. А стоило мне подойти, поинтересоваться, и я сам заявил бы о случившемся. Это потом мне страшно было, а тогда точно бы рассказал все как на духу. Как вы считаете, гражданин следователь, зачли бы мне явку с повинной?
— Удивляюсь, — разглагольствовал он на другой день. — Почему я не заметил спичек? Вы говорите, они у самой плиты лежали? Просто поразительное невезение. Я ведь часто ношу спички с собой, так, на всякий случай, а в этот раз, как назло, не взял. Нет-нет, мне все-таки крупно не везет: если бы тогда не отлетела сера, если бы в коробке была еще хоть одна спичка, я зажег бы конфорку, подогрел бы чай, выпил бы да и пошел себе спать… А следы! — восклицал он с хорошо разыгранным удивлением. — Куда могли подеваться следы? Уму непостижимо! Я же брался за ручки, значит, должны были остаться следы, отпечатки пальцев, правильно я говорю? Куда же они делись? — И Красильников смотрел на меня с наивным удивлением, словно следы с ручек стер не он, а я.
В следующий раз высказался о Волонтире:
— Не думаю, что Георгий Васильевич большая потеря для общества. Суд должен учесть, что он был одинок, а у меня все-таки семья и несовершеннолетний ребенок, которого надо воспитывать… Это, конечно, не значит, что я не раскаиваюсь и мне его не жалко. Нет. Я виноват в его смерти и каюсь. Но справедливость требует, чтобы вы учитывали и личность потерпевшего… — Убитого им Волонтира Красильников тактично называл потерпевшим. — Жора был далеко не идеальным человеком. Вы, к примеру, знаете, что время от времени у него случались запои? Несколько раз в году он напивался прямо-таки до бесчувственного состояния, и это могло длиться неделю, а то и больше. Не представляю, что могло меня с ним связывать, ведь ничего общего… Я вот думаю: может, спаивал он меня специально?.. — Красильников понял, что хватил лишку, и поспешил вернуться к более безопасной теме: — Другой на его месте тысячу раз проснулся бы и почувствовал запах газа, а он… Согласитесь, при таких обстоятельствах часть вины падает и на потерпевшего…
И так до бесконечности.
Я слушал внимательно, не перебивая, отсеивал лишнее, по крупицам собирал нужное, вникал в подтекст. Красильников упрямо гнул свое: убил случайно, по неосторожности, я в это не верил, и чем больше он старался меня убедить, тем меньше сомнений у меня оставалось.
Сомнения — привилегия следователя. Я вовсе не стремился злоупотреблять этим своим правом, но в то же время из головы никак не шли слова Тихойванова о встрече с Игорем и Волонтиром вечером, накануне убийства. «Они или выясняли отношения, или сводили счеты», — сказал он. В отличие от меня Федор Константинович не знал, что буквально через несколько минут после того, как он встретил в подъезде эту парочку, Игорь ушел в гости к Волонтиру и там началось то, что привело к смерти Георгия Васильевича.
Интуиция подсказывала мне: Тихойванов прав, они сводили счеты. Но какие?
Причины столкновения могли крыться в прошлом этих людей, но прошлое Красильникова было как на ладони. Идеальным его не назовешь — это верно: незначительные проступки, потом кража, мелкий мещанский цинизм, моральная нечистоплотность, измена другу. Но до убийства от этого — путь, пожалуй, слишком длинный… Впрочем, такой ли уж длинный? Товарища ли он предал, пойдя восемь лет назад на сделку с собственной совестью?.. Нет-нет, жизнь так или иначе складывается из отдельных поступков; моральный крах — это не обусловленный врожденными преступными наклонностями срыв, это итог, к которому чаще всего идут окольными путями, совершая огромное количество микроуступок, микрокомпромиссов, малозаметных окружающим микропредательств, и только в конце этого долгого пути наступает критический момент, когда человек, попав в чрезвычайные обстоятельства, вынужден выбрать, принять решение, и вдруг оказывается, что решение давно принято, предопределено всей прошлой жизнью…
После встречи с Манжулой я сделал еще одну попытку поглубже разобраться в прошлом моего подследственного.
— Как долго вы были знакомы с Волонтиром? — спросил я на очередном допросе.
— По-соседски знал около восьми лет, — без запинки ответил он. — А близко познакомились года три назад, не больше.
— Вы говорили, что были с ним в дружеских отношениях. Объясните, что вас связывало? О чем, например, вы говорили при встречах или когда бывали у него в гостях? Кстати, он сам к вам в гости приходил?
— Нет, — ответил Красильников и пояснил: — У меня семья, ребенок…
— Хорошо. Так о чем вы беседовали?
Игорь пожал плечами:
— Да о разном. Разве сейчас вспомнишь?
— Допустим. Ну а в ночь на девятнадцатое?
— Ей-богу, не припомню.
— Но прошло не так уж много времени.
— Кажется, о спорте.
— Вы любите спорт?
— Кто ж его не любит?! Хоккей, бокс, фигурное катание, марафонский бег…
— Марафонский бег? — заинтересовался я.
— А что? Очень на жизнь похоже.
— Каким же это образом?
— А таким: стартуешь вместе со всеми и бежишь сломя голову к финишу. Дистанция вроде длинная, а времени не хватает. Каждый старается в лидеры попасть, вперед вырваться. — Игорь ухватился за возможность поговорить на отвлеченную тему и сам не заметил, как увлекся. — А все почему? Там, впереди, — слава, почет. Впереди три призовых места. Всего три, на всех не разделишь. Попал в тройку — твое счастье, забирай золото, серебро, в худшем случае — бронзу, а не попал — считай, что и не бежал вовсе, зря только силы расходовал. По мне, так лучшее… — Красильников замолчал, недосказав, и, сощурившись, посмотрел на меня. — Что-то не о том мы с вами говорим, гражданин следователь.
— Почему же, продолжайте — это очень интересно.
— Вот выйду отсюда, — он кивнул на стены кабинета, — тогда можно и о жизни порассуждать, если у вас желание не пропадет, а сейчас, извините, не то настроение.
Будто на миг случайно приоткрылся край занавеса, и тотчас чья-то невидимая рука поправила его и наглухо отрезала происходящее по ту сторону. Игорь сболтнул лишнее и теперь жалел об этом.
— Вот, стало быть, о чем вы говорили с Волонтиром, — сказал я, — о марафоне?
— Не обязательно. Может, о боксе или о футболе…
— О футболе? Зимой? — удивился я. — Да вы, я вижу, заядлый болельщик.
— Есть грех, — подыграл он мне. — Игра динамичная, интересно понаблюдать, это как-то отвлекает.
— И когда, если не секрет, вы в последний раз ходили на стадион?
Он не ожидал, что я буду копаться в таких подробностях. Ответил неуверенно:
— В октябре или ноябре…
— Вы могли бы напомнить мне, какое место в турнирной таблице занимает местная команда?
Он смешался, но все же выкрутился:
— Удивляюсь, гражданин следователь, почему вы мне не верите? Разве я дал вам повод?
— Это сложный вопрос, Красильников, мы еще к нему вернемся. В данном случае мне просто любопытно: вы были в гостях у Волонтира больше четырех часов. Неужели ни о чем, кроме спорта, не говорили?
— Говорили, конечно.
— О чем же? Не помните?
— Очень смутно. Мы много выпили, — последовал ставший традиционным ответ.
«Не помню», «забыл», «мы много выпили». Красильников возвел укрепления под стать крепостным сооружениям Трои. Пробить в них брешь казалось непосильной задачей — ответ был готов буквально на все. Но и вопросы, которые накопились у меня за две недели, были не из легких.
— Сколько вы получали в месяц, Красильников? — начал я издалека, зная заранее, что он не рискнет соврать. В деле имелась справка из бухгалтерии.
— В зависимости от выработки. Когда сто сорок, когда сто шестьдесят.
Это соответствовало действительности.
— Вам хватало?
— С трудом, — ответил он, и я догадался: Игорь подозревает, что нам известно о сберегательной книжке, и хочет на всякий случай перестраховаться. Моя догадка тут же подтвердилась: — Часть денег я относил в сберкассу, собирал на машину.
— Жена знает о сберкнижке? — спросил я.
Он пожал плечами:
— Нет, мы как-то не говорили об этом.
— И много вы собрали?
— Четыре тысячи.
Характерная для Красильникова черта: соврать хотя бы в малом, если нельзя в большом. Согласно нашим данным он собрал более пяти, но я не стал уточнять: в мою задачу не входило спорить о величине вклада.
— Мать оказывала вам материальную помощь?
— Нет.
— А тесть?
Не понимая причин моей настойчивости, он забеспокоился:
— Ну да, я же говорю, что нам приходилось туго, денег не хватало, иногда он давал для внучки.
Именно такой ответ я и хотел услышать.
— Значит, ваш семейный бюджет не отличался большим размахом? — Это был последний уточняющий вопрос, перед тем как навести первый удар.
— Да, иной раз приходилось экономить, — с легким вызовом ответил он. — Даже в мелочах.
— Объясните тогда, как вам удалось выкроить деньги на похороны Нины Ивановны Щетинниковой, вашей соседки?
Удар попал в цель. Красильников растерялся и опрометчиво ляпнул первое, что пришло на ум:
— Похороны обошлись недорого…
Это была ошибка.
— Но и не так уж дешево. У нас есть справка, что они стоили вам сто тридцать семь рублей пятьдесят копеек. Ваш полный месячный заработок.
Он допустил еще одну грубую ошибку:
— Кажется, я снял деньги с книжки.
— Пусть вам это не кажется. В лицевом счете значится, что за последний год вы только вкладывали деньги и не сняли ни одной копейки.
Я не обольщался насчет результатов допроса, но продолжал наступление по всему фронту.
— В каких отношениях вы состояли с Щетинниковой?
— Ни в каких! — выпалил он чересчур поспешно. — В соседских, не больше.
— Она ваша родственница?
— Нет.
— И вы ничем ей не обязаны?
— Абсолютно!
У меня возникло четкое ощущение, что мы подошли к чему-то важному, что имело непосредственное отношение к убийству, но, к сожалению, дальше ощущений дело не пошло.
— Я не был ей обязан абсолютно ничем, — повторил Красильников.
— Тем более непонятно, по какой причине вы при столь жестком семейном бюджете пошли на столь значительную трату.
— Она была одинока…
— Но заботы о похоронах в таких случаях берет на себя государство. Куда вы торопились, почему не подождали? Или у вас были лишние деньги?
— Нет, — промямлил он.
— И зачем вы выкрутили лампочку в прихожей? Только не говорите, что у вас от света болели глаза…
Это был момент, когда я почувствовал, что самообладание покидает Красильникова, — он сник, как надувная кукла, из которой выпустили воздух. На лице проступили глубокие морщины — раньше я их не замечал.
— Вам плохо? — вынужден был спросить я.
— Да, мне нездоровится, гражданин следователь, — невнятно проговорил он. — Позвольте вернуться в камеру.
Я нажал на кнопку, вмонтированную в крышку стола. В дверях тотчас появился дежурный.
— Заключенному плохо. Вызовите, пожалуйста, врача.
Красильников поднял голову.
— Подождите, — несколько живее попросил он. — Наверное, не стоит… Не надо врача…
— Что так?
— Мне уже лучше.
Я отослал дежурного, но момент был упущен: Красильников действительно пришел в себя и последствия не замедлили сказаться — без видимых усилий он вернулся к обычному своему тону, довольно удачно имитируя человека недалекого, прямого и чуждого хитрости.
— Что я могу сказать, гражданин следователь. С лампочкой что-то не припомню, забыл, а насчет похорон вы правы — подозрительно. Но войдите в мое положение: рядом в квартире мертвая лежит, а у меня дочь-первоклассница… Да и старушку жалко. Разве за это можно осуждать? Жили по соседству, душа в душу, кому ж позаботиться, если не мне?
— Вы, я слышал, даже путевку в санаторий ей доставали?
— Не было этого, — резко ответил он.
Что ж, не было, значит, не было. Разберемся в этом вопросе без его помощи. Нам не привыкать.
Второй удар я нанес без подготовки:
— У вас, Красильников, была знакомая по имени Таня. Расскажите, пожалуйста о ней поподробнее.
— Вы что-то путаете, — не очень уверенно возразил он. — Не знаю я никаких Тань.
— Вы уверены? — переспросил я.
— Да, уверен, — гораздо тверже, чем в первый раз, сказал Игорь.
Это была не ошибка. Это был почти подарок. О Тане говорила его мать, говорила Ямпольская; существование Тани не вызывало никаких сомнений, скорее наоборот: я боялся, что Таня Ямпольской и Таня Светланы Сергеевны — два разных человека, мало ли как бывает. После ответа Красильникова стало очевидным: речь идет об одной и той же девушке, сознаться в знакомстве с которой ему невыгодно. Почему? Надо будет выяснить. Отрицая сам факт существования знакомой по имени Таня, он невольно наводил на мысль, что это важно, заострил на ней наше внимание, я ловил его таким приемом не впервые, поймал и на этот раз.
— Значит, знакомство с девушкой по имени Таня вы категорически отрицаете?
— У меня такой знакомой нет.
Я зафиксировал его ответ в протоколе и, чтобы не спугнуть удачу, прекратил расспросы о Тане. Была на это и более серьезная причина: мы слишком мало о ней знали…
На очереди оставалось еще одно противоречие, на мой взгляд, самое серьезное. И я снова пошел на приступ:
— Вы можете описать, как провели утро девятнадцатого января?
— Я уже рассказывал. — Красильников ожидал ловушки и теперь отвечал осторожно, хотя и продолжал сохранять вид человека, которому нечего скрывать.
— Ничего, повторите. Возможно, припомните что-нибудь.
— А что именно вас интересует?
— Меня интересует все: в котором часу встали, когда вышли из дому…
— Встал в восемь. Умылся, привел себя в порядок и в половине девятого пошел на работу.
— Не опоздали?
— Куда? — Он мучительно искал в моих словах подвох, и это отражалось на его лице.
— На работу.
— Вроде нет…
— До сих пор вы утверждали, что пришли вовремя, а теперь что — сомневаетесь?
— Вроде нет, — повторил он.
— И чем же вы занимались с утра?
Все-таки его выдержка имела пределы: он откровенно выжидательно смотрел на меня, смотрел жалостливо, с просящим выражением, будто заклиная не произносить больше ни слова, закончить на этом разговор.
— Как это — чем? Работал…
— А вот ваши сослуживцы говорят, что вы опоздали больше чем на час. Неувязочка получается, Красильников.
— Я расписался в журнале явки на работу, — нашел он не самый сильный ход. — Проверьте.
— Уже проверили, — сообщил я. — Но Щебенкин… вы знаете Щебенкина?
— Знаю.
— Так вот Щебенкин продолжает утверждать, что видел, как вы подъезжали к ателье в такси в половине одиннадцатого. То же самое говорят и другие ваши сослуживцы. Кому же верить: записи в журнале или живым свидетелям?
— В девять меня видел на работе заведующий ателье Харагезов. Не верите мне — спросите у него.
Разговор с Харагезовым был еще впереди. Сейчас мне важно было, что он скажет о своем визите к Светлане Сергеевне.
— Обязательно спросим. А как быть с вашей матерью? Ее мы уже спросили.
— Ну и что? — Голос Красильникова был лишен всякой окраски, не голос, а идущий из глубины выдох.
— Она видела вас в девять утра у себя дома с пакетом, который вы хотели оставить ей до вечера. Как же так: были на работе и одновременно были у нее? Вам это не кажется странным?
Я не спускал с него глаз, видел, как снова теряется твердость его черт, безжизненно опускаются плечи. Передо мной сидел зажатый в угол преступник, но даже сфотографируй я его в то мгновение со всеми признаками слабости на лице и предъяви снимки суду, они не служили бы доказательством по делу. К великому сожалению, все это не имело ни малейшего практического значения и только лишний раз убеждало меня в собственной правоте: он убил, сводя счеты, из корысти, из мести, из чего угодно, но не случайно!
— Повторяю, — глухо сказал Красильников. — Я был на работе в девять.
— Если не желаете рассказывать о своей поездке к матери, может быть, скажете, что было в пакете и куда вы его все-таки пристроили? — Вопрос чисто риторический, учитывая наши диаметрально противоположные интересы и позиции.
— Я не понимаю, о чем вы говорите, — подтвердил мою мысль Красильников.
Примерно теми же словами он ответил еще на несколько вопросов, и мы, как говорится, расстались до новых встреч: он вернулся в свою камеру, чтобы подготовиться к следующему допросу, я с той же целью вернулся к материалам дела.
Итак, причина ссоры с Волонтиром могла уходить корнями в прошлое — на этом я прервал свои размышления после разговора с Антоном Манжулой, с нее и начал очередную, не помню какую по счету, попытку разобраться в происшедшем…
Если прошлое Красильникова внешне представлялось сравнительно ясным, то с Георгием Васильевичем было несколько сложнее: во-первых, он прожил дольше, а во-вторых, интересовал нас до сих пор значительно меньше, чем Игорь. О нем мы не знали ничего, кроме того, что сообщили Воскобойников и Тихойванов. Правда, Сотниченко наскоро проверил факты его биографии и не нашел расхождений с личным делом, хранящимся в отделе кадров, но я давно привык к тому, что интересующие нас частности имеют странное свойство — они теряются между строк официальных документов. Невозможно представить себе заверенную печатью справку, подтверждающую, что несколько десятков лет назад во дворе дома по улице Первомайской корчился на снегу подросток с рассеченной губой и его бил ногами старший брат, — такое оставляет след не на бумаге, а в памяти очевидцев, только в ней, потому и нет задачи сложнее, чем понять и объяснить прошлое.
Это ощущение не покидало меня по пути в военный трибунал, где я надеялся добыть дополнительную информацию. Речь шла об архивном деле по обвинению Дмитрия Волонтира, старшего брата нашего, как его называет Красильников, потерпевшего.
Архивариус, строгая сухонькая женщина с седыми, будто присыпанными пудрой буклями, отобрала выданное мне разрешение, бесшумно нырнула в коридор между стеллажами и так же бесшумно вернулась, сгибаясь под тяжестью пятитомного дела.
Стол мне отвели здесь же, в архиве, у выходящего на тихую улочку окна. Архивариус поставила передо мной стакан с остроотточенными карандашами, пачку бумаги для заметок и растворилась в закоулках архива.
С головой уйдя в работу, я постепенно начал терять представление о времени, о том, где нахожусь и зачем пришел: пять томов, аккуратно переплетенных в вощеный, цвета картофельной шелухи, картон, содержали огромный материал; их страницы были полны живой памятью о войне, ее ужасах и трагедиях. Лето сорок второго, зима сорок третьего, оккупация — слова, ставшие черными символами для тех, чьи свидетельские показания лежали передо мной. Леденящие сердце подробности дополняли документы, фотографии тех лет. Из закоулков памяти — мне приходилось видеть освобожденные от гитлеровцев города — всплывали жуткие картины того времени: заросшие бурьяном мостовые, трупы на безлюдных улицах, отброшенные от побуревших рельсов трамваи с разбитыми стеклами, обугленные, покрытые серой чешуей пепла заборы. Мои личные воспоминания были неотъемлемой частью воспоминаний людей, чьи свидетельства хранились в деле. Атмосфера тех лет так плотно обволокла меня, что минутами казалось, будто за окном, у которого я сижу, не тихая, мирная улочка, по которой неторопливо шествуют прохожие, а тревожная, полная смертельной опасности тишина замершего в оккупацию города, и там, за углом, — стоит выглянуть и увидишь — протягивают к небу ветви искалеченные осколками деревья, стоят черные от копоти скелеты зданий, красные, как сгустки крови, раскачиваются на уцелевшей арматуре кирпичные болванки. Развалины, бывшие до бомбежек жилищем, домом, Родиной…
Мне невольно пришло на память: морозная ночь сорок третьего, пустынная, продуваемая сквозным ветром улица и приближающиеся шаги немецкого патруля…
Нас было трое, ребят с одной улицы, бывших учеников шестого «Б» класса. Старший из нас, Валерка, стоял на углу, метрах в тридцати, чтобы предупредить в случае опасности, а мы с Юрой, царапая ногтями холодную штукатурку стен, срывали большие, размером с театральную афишу, приказы оккупационных властей. На их место, согревая дыханием застывшие на морозе пальцы, клеили листовки — листки из ученических тетрадей с написанным от руки текстом собственного сочинения. Иногда переписывали сводки Совинформбюро — их с таинственным видом приносил нам Валерка. Он верховодил нами, строил из себя настоящего партизана, опытного подпольщика, но мы прощали ему это, потому что был он взрослее, рассудительнее и степеннее нас с Юркой и связи у него кое-какие все же имелись, раз сводки попадали ему в руки… В два-три дня раз, дождавшись комендантского часа, я прятал под телогрейку банку с клеем, проходными дворами пробирался к зданию бывшей библиотеки, где гитлеровцы устроили ремонтную мастерскую, и оттуда все трое мы шли на улицы, прилегающие к базарной площади…
В ту январскую ночь патруль появился неожиданно и совсем не с той стороны, откуда мы ждали, — из-за противоположного от Валерки угла. Мы с Юркой услышали их раньше. Характерное «я-а-а, я-а-а», звяканье подков о булыжную мостовую и оборвавшийся смех, когда они увидели нас. «Бежим!» — крикнул Юрка, и мы кинулись в подворотню. Тишину вспорола автоматная очередь, за ней грянули винтовочные выстрелы. Пули с визгом рикошетили в темный колодец подворотни, гнали нас через незнакомый двор к забору, заставляя бежать и бежать без оглядки, петлять по развалинам, прятаться в развороченных тяжелыми авиационными бомбами подвалах. Нам удалось уйти. Валерке — нет.
Наутро у той самой школы, в которую мы вместе ходили до войны, стыл на лютом морозе труп худенького мальчишки со взъерошенными, слипшимися от крови рыжими вихрами. На его груди висела табличка, на которой корявыми, далеко отстоящими друг от друга буквами было написано одно слово: «Бандит»…
Память людей, переживших войну, — неспокойная память. Она оживает от малейшего толчка, загорается от малейшей искры, а если перед тобой пять томов жестокой правды тех лет — она дает о себе знать неизбывной болью старых ран…
Два дня я работал с многотомным делом. В нем содержались неопровержимые доказательства вины бывших фашистских прихвостней из зондеркоманды СД «Эйзатцкоманда-6». Обвиняемых было трое: Волонтир-старший служил немцам в звании ефрейтора, двое других — рядовыми карателями.
Немногие из оставшихся в живых жертвы и очевидцы злодеяний свидетельствовали перед трибуналом о палаческих «подвигах» этих выродков. Охрана заключенных, облавы, участие в массовых расстрелах советских граждан — вот сухой перечень их предательских деяний. Усилиями гитлеровцев и их пособников город превратился в огромный концентрационный лагерь, где по малейшему подозрению в связях с партизанами, в нелояльности или непослушании убивали и жгли, насиловали и истязали…
Георгий Васильевич в отличие от старшего брата прямого отношения к этим зверствам не имел. Оккупантам он не служил, видимо, по двум причинам: не подходил по возрасту и из-за хромоты. В свидетели попал потому, что, живя в тот период под одной крышей с братом, многое видел, о многом мог рассказать трибуналу. Однако в протоколе судебного заседания его допрос умещался всего на полутора страницах, причем львиную долю занимали ответы на вопросы членов трибунала, прокурора и адвоката. Постороннему глазу такое соотношение не говорило ни о чем, но человеку, искушенному в судопроизводстве, позволяло сделать определенные выводы.
Была, например, в протоколе такая строчка: «Председательствующий оглашает лист дела 87, том 1». Открываю нужный том, читаю. Показания, данные свидетелем Волонтиром на предварительном следствии. Это значит, что в суде Георгий Васильевич был пойман на противоречиях, и возникла необходимость напомнить ему его собственные, более ранние высказывания. Читаю внимательнее, сравниваю. Противоречия действительно имеются. Сначала он говорил, что брат часто возвращался домой среди ночи и приносил имущество, награбленное у расстрелянных за городом людей. В суде от этих показаний Волонтир-младший отказался.
ВОПРОС ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО: Свидетель, когда вы говорили правду — тогда или сейчас?
ОТВЕТ ВОЛОНТИРА: Сейчас.
ВОПРОС ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО: Ваш старший брат не приносил с собой ценности, золото, одежду расстрелянных у рва людей?
ОТВЕТ ВОЛОНТИРА: Нет, не приносил.
ВОПРОС ПРЕДСЕДАТЕЛЬСТВУЮЩЕГО: Почему же вы утверждали, что приносил, и даже называли конкретные вещи и предметы из награбленного?
ОТВЕТ ВОЛОНТИРА: Объяснить не могу. Прошло много лет.
Далее. Оглашается лист дела 201, том 3.
Открываю третий том, сравниваю. На следствии Георгий Васильевич утверждал, что их дом часто посещали немецкие офицеры, которых с его братом связывали какие-то темные дела: то ли покупали у него что-то, то ли продавали — он точно не знал.
Председательствующий спросил: «Вы подтверждаете факты посещения немецкими офицерами вашей квартиры в декабре сорок второго — январе сорок третьего года?»
Следует краткий ответ Волонтира: «Нет, к нам никто не приходил».
«Чем вызвано изменение в ваших показаниях?»
На этот вопрос председательствующего ответа не последовало.
Поведение Волонтира в трибунале мало чем отличалось от поведения Красильникова на следствии, а его «не помню», «прошло много лет» было сродни красильниковскому «забыл, потому что был пьян». Я не искал сходства, да и о каком, казалось бы, сходстве может идти речь, если один из них убийца, а другой — его жертва. Тем не менее что-то общее между ними все-таки было — в манере держать себя, в настойчивом, безоглядном желании уйти от ответа, в упорстве, с которым оба стремились выдать желаемое за действительное…
Я вспоминал наши самодельные листовки — исписанные лиловыми чернилами странички из ученических тетрадок, вспоминал нескладный Валеркин силуэт на углу улицы, его ярко-рыжую голову, неподвижно лежавшую на снегу у школы, — вспоминал и думал, что дело, наверное, не в возрасте, не в обстоятельствах, не в том, идет ли война или наступило время мира: независимо от того, сколько тебе лет, шестьдесят или пятнадцать, жизнь заставляет делать выбор, заставляет отличать, что есть добро, а что зло, и это в конечном счете определяет, к а к жил и д л я ч е г о жил; дело в самом человеке, его совести, чувстве долга, в его жизненной позиции, а позиция эта вырабатывается не в момент принятия решения, а всей предшествующей жизнью…
Не исключено, что именно эта последняя мысль повлияла на мое настроение, когда второго февраля, сдав архивариусу дело, я вышел на промозглый, но уже пахнувший весной воздух и не обнаружил за углом ни разрушенных домов, ни окон, крест-накрест заклеенных полосками бумаги, ни воронья, рассевшегося на дороге в предвкушении поживы.
В кармане моего пальто лежали заметки. С ними еще предстояло работать, однако смысл записанного я не смог бы передать лучше, чем это сделал Сотниченко. Доложив о результатах проверки, он заметил об убитом: «А прошлое-то у него с душком, Владимир Николаевич».
Да, прошлое Георгия Васильевича выглядело весьма неприглядно. Прав был Тихойванов: кровавые преступления фашистского прихвостня бросали на Волонтира-младшего тень, и избавиться от ощущения, что он, живя бок о бок со своим братцем-ефрейтором, пусть косвенно, пусть чисто умозрительно был связан с чудовищными его преступлениями, невозможно. На этом этапе расследования я не видел прямой связи между событиями военных лет, оккупацией и убийством Волонтира, но связь эта, несомненно, была. Чтобы понять, в чем именно она состоит, надо было понять не только настоящее, но и прошлое. Судьбы Георгия и Дмитрия Волонтиров, Щетинниковой, Тихойванова и Красильникова сплелись в такой тугой узел, что, не распутав его, нечего было и мечтать о раскрытии убийства.
Была среди моих заметок одна, особая, которую мне предстояло показать Федору Константиновичу. Это выдержка из показаний Божко — одного из обвиняемых по делу. Пять лет назад, на следствии, он показал:
«В январе сорок третьего, числа не помню, Дмитрий Волонтир лично задержал и поместил в следственную тюрьму однорукого мужчину. Говорил, что это герой гражданской войны, бывший буденовец. Фамилии его не знаю, знаю только, что он прятался в сапожной мастерской и кто-то его выдал. Через день мужчину вместе с другими арестованными вывезли за город и расстреляли».
Федор Константинович скорее всего не знал о показаниях Божко, но если допустить, что ему из другого источника — от той же Щетинниковой, например, — стало известно, кто был виновником гибели отца, то у него имелись все основания желать смерти Георгия Васильевича… Неожиданный оборот, но, признаться, я верил Тихойванову и не допускал мысли, что Волонтира убил он. Почему? Во-первых, потому, что уже знал имя убийцы. Другая причина в способе, которым был убит Георгий Васильевич. Способ этот исключал элемент случайности, свидетельствовал о трусости (убийца дождался, когда Волонтир заснет, а потом пустил газ), цинизме преступника, а Тихойванову эти качества явно не присущи.
Любые два факта в принципе можно как-то увязать друг с другом, выстроить правдоподобный логический ряд, объясняющий поступки и действия всех участников этой истории. Скажем, разве нельзя предположить, что братья в годы войны были связаны с Щетинниковой некой условной тайной или обязательством, а в январе этого года пришел срок исполнения. Известно, что Нина Ивановна умерла от сердечной недостаточности, но ведь ее могли намеренно довести до критического состояния. Много ли надо больному человеку: острое объяснение, ссора — вот сердце и подвело. Дав волю фантазии, допустим, что в ее смерти виновен Волонтир. Красильников же, узнав об этом, убил Георгия Васильевича из мести; правда, в таком случае его со Щетинниковой должны были связывать особые отношения: месть — дело нешуточное. Что ж, возможно, и связывали. Что мы знаем об их отношениях? Да ничего. Они могли быть совершенно другими, нежели представлялось Тамаре, Тихойванову, всем нам. Во всяком случае, т е о р е т и ч е с к и могли быть другими. Чем, спрашивается, не версия? Есть мотивы, соблюдена последовательность событий, и все же… все же я не мог принимать ее всерьез. Кто знает, может быть, потому, что в ней не оставалось места Тане — таинственной приятельнице Игоря, знакомство с которой он так настойчиво отрицал.
Из архивного дела было выписано все, что так или иначе касалось Георгия Васильевича, но этого явно не хватало. Нужны были свидетели, участники процесса, и самым идеальным в этом плане, на мой взгляд, являлся адвокат, защищавший в суде интересы Дмитрия Волонтира. Им был бывший член областной коллегии адвокатов, а ныне пенсионер, Яков Александрович Аронов.
КРАСИЛЬНИКОВ
Они приближались к обитой железом двери.
В который раз приходилось проделывать этот путь! Он знаком до мельчайших подробностей: вот пятно протаявшего у порога снега, вот ребристая решетка для чистки обуви, вот кнопка, на которую надо нажать, чтобы открылся глазок, их увидели и впустили внутрь.
Красильников безучастно наблюдал, как конвоир проделывает эту несложную процедуру. «Ему что?! Отведет, перекурит, вечером — домой, а каково мне?» — и мельком подумал: хорошо, если бы можно было поменяться. Конвоиром стал бы он, Красильников, а заключенным — прапорщик в отутюженной форме. Власть, что ни говори, дает много преимуществ, в том числе веру в себя. А сейчас ни в чем другом он не нуждался больше, чем в душевном равновесии, в твердости и уверенности, но обрести их не мог — не находил способа. Смутно догадываясь, что надежд на благополучный исход практически не осталось, Игорь вопреки здравому смыслу не хотел в это верить и всеми средствами старался скрыть свою слабость и если не чувствовать себя, то хотя бы выглядеть на встречах со следователем собранным, готовым к отпору. Он придавал этому большое значение, но вынужден был признать, что с каждым разом играть невозмутимость и твердость духа становится все труднее. Все чаще простые, невинные на первый взгляд вопросы застигали его врасплох, выбивали из колеи, а каждый его хитрый, заранее выверенный и тщательно обдуманный ход вопреки ожиданиям пропадал впустую, не спасал, а скорее еще больше затягивал петлю.
У кого не сдадут нервы?! Отмалчивался — плохо, начинал говорить — еще хуже: путался в мелочах, сам себе противоречил и в результате шаг за шагом сдавал позиции. А ведь, казалось, предусмотрел все: еще в день ареста, отъезжая от ателье в милицейской машине, он, поборов первый испуг, заранее распределил роли, разработал сценарий. Действие первое: невзирая ни на что, отрицать свою вину, дать понять, что им попался не слабачок, готовый распустить нюни при виде милиционера, а сильный и умный человек, который будет защищаться до последнего. Был и второй вариант, на случай, если все же припрут к стенке: признаться, но свалить все на неосторожность, случайность — с кем не бывает? По его расчетам, такая развязка должна была устроить обе стороны. Следователь будет доволен тем, что удалось раскрыть преступление, и он тоже внакладе не останется. Много не дадут — умысла-то не было, — а уж два-три года отсидит, не растает. Хорошего, конечно, мало, да ведь сухим из воды все равно не выбраться. Он даже представлял себе, как в колонии станет налаживать работу по оптической части. Ничего, не пропадет, с его-то специальностью! В заключении тоже хватает людей с плохим зрением, он предложит свои услуги, и, может, все еще обернется сравнительно благополучно.
Оба варианта просты, как все гениальное, и поначалу вроде шло нормально, как по писаному: вопрос — ответ, вопрос — ответ, в общем — ничья. Но с какого-то момента — пожалуй, после очной ставки с Ямпольской — он вдруг начал замечать, что роли меняются: ни следователь, ни свидетели не желают произносить предназначавшийся им текст, сам он теряется под напором улик, предварительно заготовленные реплики отдают фальшью, а происходящее все больше становится похожим на детскую игру в «горячо — холодно», когда тот, кто ищет, все ближе подбирается к цели.
Да, все началось с Ленки. Ну разве мог он предполагать, что эта полуночница увидит его из своей «кельи»? Нет, конечно. Ох и струхнул он тогда на очной ставке. Вот когда было «горячо»! Чудом удалось повернуть разговор так, чтобы Ленка не проболталась о Тане. Следователь не обратил внимания на его трюк, благодаря чему он продержался лишних несколько дней. Но Ямпольскую вызвали еще раз, и она, стерва, разоткровенничалась, выложила все про встречу в кафе. Ничего страшного в ближайшие дни не произошло — Таней не заинтересовались, однако ее имя уже фигурировало в протоколе, и это значило, что рано или поздно Скаргин за нее зацепится. Как пить дать, зацепится. Игорь успел изучить следователя и не заблуждался на его счет. Так оно и случилось. Мамаша подвела, чтоб ей пусто было! После ее показаний Скаргин вспомнил о кафе, связал ту встречу с прошлогодним инцидентом у матери и стал допытываться: что за Таня, кто она да где живет? Ну кто тянул мать за язык?! Что он ей плохого сделал, зачем было вытаскивать на свет всю подноготную — и про посещение девятнадцатого, и про Таню, и про пакет.
Добра от нее он никогда не видел. Еще с тех пор, как увели они с приятелем тот несчастный магнитофон из клуба. Она, правда, помогла, замяла дело, но потом предупредила: все, в последний раз, надоело, мол, с тобой нянчиться, выкручивайся, мол, сам. Он и выкручивался, на нее не рассчитывал, знал: слов на ветер она не бросает. Разошлись их дороги — видно, ни он ей, ни она ему нужны не были, а после женитьбы на Тамаре совсем как чужие встречались: «Здравствуй — до свиданья» — и все, больше говорить не о чем. На второй день после свадьбы так прямо и заявила: «Ты сам этого хотел, так что сам и расхлебывай. Теперь у тебя своя жизнь, а у меня своя». Ну и черт с тобой, пой в своем хоре, солируй на своих концертах, куй свое личное счастье. Только вряд ли что из этого выйдет: раз пять уже собиралась замуж, а так и не вышла, бросали мужики, не выдерживали твоих закидонов. Но это дело твое, зачем другим гадить, зачем? Знала же, что арестован, что дело пахнет тюрьмой…
А Манжула?! Святоша! Такое на свет божий вытянул — ахнешь! Неужели было это: университет, биофак, история с Тамарой, когда по недомыслию и из боязни неприятностей подал заявление в загс? Неужели была дружба с Антоном, комсомол, письмо в газету? Даже не верится. Все же прав был Волонтир, когда говорил: все они одним миром мазаны. Они — это и Манжула, и Лена, и тесть-правдолюбец, и подлец Щебенкин… Щебенкин особенно! Ну ему-то не все ли равно, кто и во сколько пришел на работу? Ведь даже не представляет, какое это имеет значение, сболтнул не иначе как сдуру, не ради же абстрактной правды?! Да нет, какая там правда — из зависти скорее всего: обидно стало, что сам не может шустрить, не может вышибить лишний рубль из клиента. Рвань! Подонок! Его бы, гада, сюда, в камеру, поглядели бы, как запел! А теперь по его милости ссылайся хоть на Харагезова, хоть на черта лысого, хоть во всю глотку кричи «холодно» — не поможет. Как там у Козьмы Пруткова? «Единожды солгавши, кто тебе поверит?» В самую точку! Изоврался, нагородил и все без толку. Игра, судя по всему, близится к концу. Если и оставалась надежда — только на Таньку: случится чудо, не найдут ее — он спасен, отыщут — пропал окончательно и бесповоротно. Шансов маловато, что и говорить. Разве что повезет. Ведь, кроме имени, им пока ничего не известно. Сколько всяких Тань разбросано по городу — не сосчитать. Пойди поищи. Это для него она единственная, одна из тысячи…
Войдя следом за сопровождающим в спецприемник и усевшись на табурет в ожидании, пока оформляются нужные документы, Красильников мысленно вернулся на полгода назад, к тому дню, когда впервые увидел Таню на железнодорожном вокзале среди провожающих, — там она тоже была одной из тысячи, но что-то отличало ее от других, даже в толпе. А может быть, ему только казалось? Зачем он тогда пришел на вокзал? Дело, помнится, было, но какое? Ах да: передавал через проводника партию дымчатых стекол большого диаметра для знакомого оптика из Тбилиси. Выгодная была сделка — заработал на этом полторы сотни…
За четверть часа до прибытия поезда он поднялся на второй этаж, прошел через зал ожидания и по стеклянной галерее направился к выходу на третью платформу, На полпути задержался: внизу, на забитом до отказа перроне, ждали отправления поезда стройотрядовцы. Ребята — это были, как он потом узнал, студенты педагогического института — теснились у вагонов, передавали через открытые окна рюкзаки и чемоданы.
Со стороны смотреть на это было забавно — похоже на киносъемку: перрон освещали мощные прожекторы; кто-то играл на гитаре в плотном кольце одетых в защитные куртки товарищей; кого-то под дружный смех девушек высоко подбрасывали на руках; широкоплечий парень в обтягивающем свитере размахивал кумачовым самодельным плакатом «Школы для Камы — своими руками!». Игорю вспомнилось, как много лет назад вот так же, гурьбой, шумно и весело, уезжали в колхоз его сокурсники, среди которых был и Антон. Мать устроила тогда справку о болезни, но он не выдержал, пришел проводить ребят. Однако в последнюю минуту побоялся чего-то и, прячась, с другой стороны улицы смотрел вслед отъезжающим грузовикам со смешанным чувством вины, сожаления, но и смутной радости, что один со всего курса смог перехитрить всех, увильнуть от практики…
Внизу, на перроне вокзала, среди провожающих он заметил девушку, выделил ее из толпы. Она стояла рядом с долговязым, длинноруким студентом, слушала его с преувеличенным вниманием, поправляла лямки рюкзака, врезавшиеся в его худые плечи. Делала она это не совсем естественно, жеманно, скорее демонстрируя окружающим свои права на долговязого, чем действительно о нем заботясь.
Началось с пустяка — по своей давнишней привычке наблюдать обратил внимание на красивую девушку, а потом и на стоявшего поодаль от заинтересовавшей его парочки солидного мужчину в роговых очках. Того теснила молодежь, он выказывал все признаки нетерпения, что-то кричал парню с рюкзаком, поглядывал на часы и, Игорь заметил это сразу, был как две капли воды похож на долговязого. «Отец», — решил он и, услышав объявление диктора о прибытии поезда, не без сожаления покинул свой наблюдательный пост.
Оглядываясь, он пошел к выходу на платформу, куда подали тбилисский состав. От нечего делать на ходу легко дорисовал в воображении, какие отношения могут связывать этих трех человек. Получалось складно. Шагая вдоль состава, Игорь фантазировал: отец — профессор, мужик солидный и состоятельный, мог бы устроить сыну отдых где-нибудь в Ялте или в Дубултах, но из педагогических соображений отправляет его в тмутаракань со студенческим отрядом строить коровники, а сыночка-хлюпика с самыми серьезными намерениями успела заарканить пронырливая девица, похожая на пантеру. На его взгляд, она и вправду была похожа на пантеру из мультфильма о Маугли: движения мягкие, вкрадчивые, волосы черные, густые, гладко зачесаны назад, отчего голова казалась непропорционально маленькой даже по сравнению с невысокой, стройной фигурой (это ее совсем не портило, скорее придавало какую-то особую прелесть), а черные джинсы и рубашка дополняли сходство.
Отдав коробку со стеклами толстому, лоснящемуся от пота проводнику и заплатив ему за услуги два рубля, Красильников не спеша поднялся на стеклянную галерею.
Платформа опустела. Вдали, за семафорами, виднелся хвост уходящего поезда. Но, как говорил Прутков, ничто существующее исчезнуть не может: на привокзальной площади Игорь нос к носу столкнулся с «отцом-профессором» и «девушкой-пантерой». Приостановился и услышал, как «профессор» предлагает девушке подвезти ее на своей машине. Она поблагодарила, но отказалась под тем предлогом, что ее ждут подруги. «Звоните, Таня, — сказал на прощание „профессор“. — Скорее всего мой обормот напишет вам раньше, чем мне, так вы уж не сочтите за труд — звякните, хорошо?» Он махнул рукой и пошел к автостоянке, а «пантера» тем временем поспешила в привокзальный скверик, где под темневшими в наступающих сумерках липами ее ждала «подружка» — длинноволосый усатый парень в потертом джинсовом костюме.
Видя во всем этом подтверждение своей придуманной между делом схеме, Игорь ощутил знакомое чувство подъема, которое приходило всегда, когда он был особенно доволен собой. Обычно в такие минуты он испытывал прилив сил, уверенности, чувствовал себя необыкновенно удачливым, проницательным, способным на многое, даже на поступки, кажущиеся необыкновенными или рискованными. Тогда, на привокзальной площади, произошло то же самое: ему захотелось выкинуть экспромтом что-нибудь неожиданное, выбивающее из ритма обычных дел и забот. Дома, терпеливая и приторно-заботливая, ждала Тамара, по уши погрязшая в домашних делах, а к Лене не тянуло — роман, вначале обещавший быть легким, необременительным, затянулся и, по сути, превратился в муку, мало чем отличавшуюся от его семейной жизни: те же претензии, те же обязанности да еще и требования определенности в отношениях. Связь с Леной тяготила не меньше, чем нудная, однообразная и давно набившая оскомину жизнь с Тамарой, с той лишь разницей, что жена за восемь лет привыкла к тому, что он ее не замечает, а Лена нет.
Полагаясь на везение, действуя, как это часто с ним бывало, по наитию, он решительно вошел в скверик и вклинился между девушкой и парнем.
— Таня, мне надо срочно поговорить с вами, — начал он, соображая, как бы половчее нейтрализовать «подружку». — По очень важному делу.
Девушка подняла на него свои немного сонные, оттененные тушью глаза. В них не было удивления, только любопытство.
— Кто вы? Я вас не знаю.
— Я и хочу исправить это недоразумение. Давайте отойдем в сторону.
Длинноволосый сделал движение навстречу, но Игорь с самого начала был готов к такому повороту, решительно перехватил на лету руку и с силой сжал пальцы. Парень был на голову выше, но явно слабее.
— Не горячитесь, молодой человек, — сказал он и, импровизируя на ходу, многозначительно предупредил: — Знаете, что бывает за сопротивление работнику милиции?
— А в чем дело? — неуверенно спросил парень.
— Сейчас пройдем в отделение — там я тебе все объясню.
Напор и резкий переход на «ты» подействовали в тот же миг: длинноволосый отступил, безвольно расслабил руку.
— Извините, — промямлил он и просительно, подвывая, добавил: — Что я такое сделал?
— Ничего? Тогда проваливай, — великодушно разрешил Игорь, довольный тем, что так легко справился с соперником. — Иди и не оглядывайся, пока я не передумал.
— По какому праву вы пристаете к незнакомым людям? — с опозданием поинтересовалась Таня.
Ее знакомый резвой трусцой удалялся к троллейбусной остановке.
— Что вам, собственно, нужно? — В ее глазах по-прежнему не было удивления, только любопытство. Ничего, кроме любопытства. И это понравилось Игорю.
Он взял девушку под локоть, но она отвела руку. Надо было срочно менять тактику.
— Между прочим, я могу рассказать «профессору» о вашей «подружке». — Игорь выдержал паузу. — Я так думаю, что «профессору» это не очень понравится.
— Какому профессору? — Было видно, что она смутно догадывается, кого он имеет в виду.
— Этому, с машиной.
— Блефуете? — понимающе улыбнулась Таня. — Он такой же профессор, как вы работник милиции.
— Разве?
— Иван Денисыч — управляющий строительным трестом, если вас это очень интересует.
— Ну, неважно. Он отец того самого «обормота», которого вы провожали. Скажете — нет?
— Я скажу, что у вас прекрасный слух, — Таня посмотрела на него чуть внимательнее, чем раньше, и сказала, будто делая одолжение: — Да, мы учимся с его сыном на одном факультете. И что из этого следует?
Она капризно скривила губы, но Игорь чутьем угадал, что они уже говорят на одном языке. Он сделал еще одну попытку взять ее под руку, но она снова уклонилась.
— Мне нравится ваш оптимизм, Таня, — выдал он вычитанную где-то фразу. — Но не заставляйте меня описывать муки отца, узнавшего, что невеста его сына встречается с усатой подружкой. — Игорь кивнул в сторону троллейбусной остановки. — Мы должны быть гуманными к пожилым людям. Зачем разбивать отцовское сердце? Ведь у вас с его сыном серьезные отношения, я угадал?
— Глупый шантаж, — небрежно бросила Таня и, дернув плечом, пошла из сквера. Но само собой как бы подразумевалось, что Игорю разрешается ее сопровождать. — И что же вы хотите в награду за вашу, так сказать, проницательность?
— Сущие пустяки. — И снова блеснул где-то вычитанной репликой: — Хочу, чтобы мы узнали друг друга поближе, бесценная.
— Только и всего? — Она улыбнулась. — У меня такое впечатление, что я вас уже давно знаю…
Случайные слова, сказанные вряд ли всерьез, оказались тем не менее провидческими: они не только нашли общий язык, но уже через несколько дней научились понимать друг друга с полувзгляда.
Это были те странные отношения, когда полная, идущая из самых глубин откровенность — Таня, например, скоро призналась, что делает на своего студента крупную ставку: сама она приезжая, и надеяться на постороннюю помощь ей не приходится, а брак с Валеркой, или, как она его называла, Леркой, сулил множество преимуществ, квартиру от строительного треста, которым руководил Иван Денисович, и прочие материальные и нематериальные блага — так вот эта откровенность удивительным образом сочеталась с осторожностью, недоверием, соперничеством, будто оба задались целью перехитрить друг друга, взять верх в единоборстве, в сложном переплетении взаимных интересов. Интересы были. Таня дала понять, что Игорь ей нравится и что она не остановится перед тем, чтобы откорректировать или даже полностью изменить свои планы на ближайшее будущее. Все зависит от Игоря… Пока же она держала Игоря на расстоянии. Хладнокровно контролировала и его и себя, рассчитывала каждую уступку со своей стороны — только на вторую неделю их знакомства она позволила ему поцеловать себя. Игорь, не отличавшийся особым терпением в подобных ситуациях, видел и понимал искусственную заданность ее поведения и все же привязывался к ней все сильнее, мало того — находил естественным ее желание присмотреться, взвесить все «за» и «против». Возможно, это объяснялось тем, что и сам он тоже взвешивал, тоже прикидывал, как быть, потому что догадывался: Таня не относится к категории Тамар или Лен, то есть она не из тех, кого выбирают, а из тех, кто выбирает сам.
По нескольку раз в неделю они ходили в ресторан, где Игорь оставлял свой дневной «приработок» — десять-двадцать рублей, а потом ехали на такси к Тане и по часу простаивали в подъезде — к себе она не приглашала, ссылаясь на строгость хозяйки, у которой снимает комнату, но туманно намекала на предстоящий ее отъезд к родственникам на целый месяц. Здесь начиналось то, что они между собой называли маленькой войной: легкие, как бы случайные прикосновения, полушутливые препирательства из-за поцелуя, а заканчивалось какой-то вакханалией. В тесном, глухом подъезде, где пахло борщами и подгнившим луком, они жадно и упоенно ласкали друг друга, Игорь настойчиво, почти грубо прижимал к себе ее невесомое, упругое тело. Таня бурно дышала, не забывая, однако, в самую критическую минуту вырваться из его рук. Она отбегала на несколько шагов, поправляла на себе одежду. «Все. На сегодня хватит. Не подходи больше. Мне пора». Он вновь привлекал ее к себе, говорил что-то. Всерьез, искренне, позабыв о своих выкладках, о предполагаемых расчетах Тани. И она слушала, внимательная, точно завороженная, тесно прижавшись к его плечу. Никогда прежде он не говорил таких слов, простых и нежных. Никогда и никому. Даже Тамаре в самый разгар их романа. Нет, с Таней все было иначе. Ее-то он любил по-настоящему, потому и упрашивал не уходить, побыть еще хоть пять минут. А она… она все же умела держать себя в руках. И себя, и его тоже. «Нет, мне пора, милый. Не обижайся, ты просто не знаешь мою хозяйку. Цербер, а не женщина».
Случалось расставаться и по-другому. Время от времени наступали кризисы, когда оба испытывали безотчетную неприязнь друг к другу, взаимное отталкивание, почти враждебность.
— А ты злой, — говорила она, выскальзывая из его объятий. — Ты даже не замечаешь, какой ты злой.
Игорь силой ломал ее сопротивление, это не удавалось, и он отвечал колкостями, упрекал; выходило наружу недовольство, подспудно копившееся неделями, и тогда путаный клубок их взаимоотношений представлялся ему элементарно простым: Таня ничем не отличается от Лены, так же давит на психику, так же беззастенчиво стремится замуж.
Он выходил на улицу, прислушивался к отрывистому, ленивому лаю — окраинные дома кишели собаками — и чувствовал, как дрожат руки. В полупустом автобусе, которым он добирался до центра, Игорь садился на свободное место кондуктора, смотрел на свое отражение в черном подрагивающем окне и думал, что надо что-то делать, что-то решать; глупо таскаться в такую даль ради ушлой, расчетливой девки… Иногда она рассказывала ему о неуклюжих ухаживаниях Валерки, вернувшегося к тому времени из стройотряда, о том, как принимали ее в доме Ивана Денисовича, как быстро она нашла контакт с Валеркиной мамой. Делала это не без умысла, напоминала, торопила, набивала себе цену. Все так, но, как ни крутил, выходило, что без Тани он не может. Значит, разводиться? Но к Тамаре привык, о ней все-таки удобнее. Да и дочка. К Наташе Игорь относился особо: любил, приятно было, когда называла «папочкой», ластилась, но ведь в любом случае дочь останется дочерью. Ну, разведется — что такого? Будет навещать, платить алименты — все как положено…
Приходил домой поздно, голодный. Чмокал Тамару в щеку, наскоро прожевывал мясо с вермишелью — любимое свое блюдо — и ложился в прохладную мятую постель. Решал, что на Тане надо поставить крест. Но наступало утро, и, собираясь на работу, он принимался вычислять время окончания ее лекций, чтобы не опоздать на свидание.
Снова встречались, снова занозой сидела мысль о Валерке, его могущественном отце, снова переживал все перипетии игры, в которую сознательно втянулся, погряз по уши.
— Что у нас сегодня, крошка? — спрашивал он, придя на очередное свидание. — Обсуждение достоинств жениха? Или его всесильного папаши Ивана ибн Денисовича? А может, невинные ласки под лунным сиянием? Выбирай, дорогая, все в твоей власти.
Таня возмущалась:
— Послушай, ты ведь, кажется, оптик, а интеллектуальничаешь, будто преподаватель на лекциях. — Она тоже любила щегольнуть новым словцом, услышанным в институте. — Не занудствуй, веди себя проще.
— Проще?! Милая, да разве по нашим временам есть простые люди? Все сложные, все грамотные. Прости, но даже ты, уроженка какого-то там сельского уезда малознакомой губернии, ведешь игру на два фронта и считаешь это нормальным. Ублажаешь интеллектуала Валеру и нас, грешных оптиков, не обходишь вниманием. Так что упрек твой, дорогая, попал не по адресу.
— Не смей, — уже не на шутку злилась Таня, и он понимал, что напоминание о деревне, откуда она приехала, больно ее задевает, воспринимается как личное оскорбление.
Однажды — это случилось в октябре, когда он окончательно решил: годик поработаю на себя в отдельной мастерской, подсоберу деньжат и махну с Танькой в Крым, — она наконец пригласила его к себе, в однокомнатную изолированную квартиру…
Никакой хозяйки, как выяснилось, не было и в помине — квартиру для Тани уже два года снимали родители…
Идея с Крымом вообще-то принадлежала Тане: там теплее, там не будет ни ее Валерки, ни Игоревой жены, а оптики везде нужны; кстати, и ей нетрудно перевестись в Симферопольский университет. Запивая чаем бутерброды с мясистым свежим окороком — его прислали из деревни Танины родители, — они прикидывали, сколько понадобится денег, чтобы купить дом, мебель, машину. Таня обещала помощь со стороны родственников.
У Игоря тоже скопилась энная сумма, и, кроме всего прочего, имелась возможность, о которой он до поры помалкивал, боясь сглазить: необыкновенная, сулящая колоссальные деньги волонтировская идея после каждой новой встречи с Жорой обретала черты реальности. Если сначала она казалась не более чем утопическим бредом одичавшего от одиночества, вечно полупьяного соседа, то в дальнейшем фанатическая уверенность Волонтира в шансе на мгновенное обогащение постепенно заразила и его. Не вдаваясь в подробности, он намекнул Тане на некие чрезвычайные обстоятельства, заставляющие отложить на некоторое время развод и поездку на юг, и она довольствовалась тем немногим, что он сказал. Ей достаточно было сознания, что речь идет о деле серьезном, и она решила не настаивать на немедленном оформлении брака, только взяла с Игоря слово, что при первой возможности он посвятит ее в свои планы. Он обещал.
На дни их «медового месяца» пришлась встреча с Леной в молодежном кафе — несколько неприятных минут, наполненных отчасти жалостью, отчасти возмущением ее настырностью, а отчасти и удивлением: как мог он не замечать мелкой сети морщинок на ее щеках и шее, нездорового цвета лица, психопатического характера? Позже испытал еще и гордость: как-никак, а Лена любит его всерьез, готова пойти на все, лишь бы вернуть — этим может похвастать не каждый! Сунулся даже по старой памяти, позвонил среди ночи условным звонком, но Ленка, чудачка, не открыла — вот и пойми после этого женщин. «Ну и черт с тобой», — решил Игорь.
Он вычеркнул ее из жизни, тем более что, похоже, наступил период общего, сказочного, какого-то безграничного везения: что ни задумывал, все удавалось. Впереди отличные перспективы, наладилась надежная связь с человеком, через которого доставал дефицитные стекла, импортные оправы. В семье — затишье. С Таней — он безоговорочно верил в ее чутье на удачу и втихомолку радовался, что выбор между ним и Валеркой оказался в его пользу, — полный порядок. Даже Харагезов, мнящий себя умнее всех, фактически попался ему на крючок — пошел на взятку и тем самым повязал себя по рукам и ногам…
Золотая пора! Узкий круг близких, знакомых людей виделся ему театром марионеток, единственным хозяином которого был он: потянешь за ниточку — кукла делает то, что ты хочешь. Главное, не пережимать, делать это незаметно, чтобы ниточка не оборвалась. Одна идея занять деньги у Волонтира чего стоит! Такого монстра сумел прижать, загнать в угол! Причем не пугал, не уговаривал, просто попросил и, пожалуйста, — как миленький выложил четыре сотни, не пикнул даже. Только после этого Игорь окончательно поверил соседу, догадался: его уступчивость убедительнее любых доказательств…
Сейчас, сидя на жестком табурете и рассеянно, одними глазами наблюдая за прапорщиком, оформляющим документы, Красильников мучительно искал ответа на вопрос: когда и где произошла осечка, с какого момента счастье изменило ему, с какой минуты началось падение, закончившееся этим домом с решетками на окнах и приставленной к нему персональной охраной? Искал и не мог найти.
Кто-то из знакомых — кажется, Толик, дружок, подбивший бросить университет, приятель, с которым совершил кражу, знакомый, чей след затерялся то ли в колонии, то ли еще где, — сравнивал жизнь с бегом на длинную дистанцию. Дураки, говорил он, бегут по правилам, забывая, что победителем может стать только один из них, а умный воспользуется случаем, удобным моментом — срежет путь, вырвется вперед и станет лидером. Так ли?
Глава 6 2–9 февраля
АРОНОВ
Звонок в дверь обрадовал Якова Александровича. В его утреннем ничегонеделании наступил момент, когда поливка домашней оранжереи — так он называл угол, отведенный для настурции, плюща, традесканции, — была позади, хождение вдоль стеллажей, до отказа забитых книгами, надоело, и он, раскачиваясь с пяток на носки, стоял у окна, смотрел на припорошенные снегом крыши и решал, включать или не включать телевизор. Смотреть еще раз вчерашнюю кинокомедию большого желания не было, но других занятий в это утро не предвиделось.
Год назад Аронов, семидесятилетний адвокат с внушительным стажем, ушел на пенсию и с тех пор, не в силах примириться со своим новым положением, перепробовал десятки способов заполнить свободное время: бегал трусцой, ездил на рыбалку, становился заядлым театралом, от безделья начинал придерживаться строжайшего режима, пробовал читать запоем, как в юности, и даже писать дневник — все напрасно. От пробежек начинало колоть сердце, от чтения болели глаза, театр быстро надоел, а писать не хватало усидчивости. Единственным светлым пятном в его пенсионной жизни были посещения юридической консультации. Там, в родной стихии, среди коллег-адвокатов, он блаженствовал. Но бывшие сослуживцы в отличие от него находились на работе, занимались ежедневной текучкой и к одиннадцати часам, как правило, расходились по судам. Лишенный собеседников, Яков Александрович возвращался в свою кооперативную квартиру на девятом этаже нового дома и садился за разбор шахматной партии или, зевая до хруста в костях, смотрел передачи для поступающих в вузы. Случалось, к нему за консультацией обращались соседи, и тогда он ненадолго воскресал: переворачивал гору справочной литературы, копался в периодике, а потом, расхаживая по пушистой глади ковра, подолгу объяснял, давал советы, втолковывал правильное понимание законов.
Утром второго февраля, услышав звонок, Аронов обрадовался. Бегло осмотрел себя в зеркало, поправил галстук, с которым не расставался, дабы чувствовать себя в форме, одернул гусарского покроя домашнюю куртку и поспешил к двери.
Осмотрев посетителя с ног до головы, а заодно и его служебное удостоверение, Яков Александрович обрадовался еще больше, поскольку пришедший был следователем и разговор обещал быть профессиональным, а стало быть, и интересным. Он так и сказал плотному, представительному мужчине, приглашая его войти, однако несколько приуныл, узнав о цели посещения: интересовавший следователя процесс над Дмитрием Волонтиром он помнил смутно.
— Знаете что, — задумчиво сказал он, сняв с гостя пальто и усадив его в кресло у особенно пышного куста китайской розы. — Я пороюсь в бумагах, что-нибудь должно сохраниться. Это мне поможет вспомнить подробности. Только вы меня не торопите, хорошо?
Аронов имел привычку оставлять у себя различные заметки, записки, лишние экземпляры справок, копии документов — все, что месяцами собиралось в карманах, в портфеле, в ящиках письменного стола, и сейчас в специально отведенном отделении секретера у него скопился целый домашний архив.
— Минуточку, — говорил он, одну за другой вытаскивая пухлые папки. — Не все делается скоро. Я складывал документы бессистемно, поэтому придется смотреть все подряд.
Яков Александрович развязал тесемки той папки, в которой, по его мнению, должны были храниться документы четырехлетней давности. Разворачивая листки, он узнавал свой почерк, читал первые строчки, не без сожаления откладывал — вот чем давно пора заняться! — и продолжал поиски. Не то… снова не то… За каждой бумажкой дело, за каждой его труды. Вот кассационная жалоба по делу Пинчука — приговор тогда изменили в пользу осужденного. А вот сразу два исковых заявления о расторжении брака и разделе имущества. В руки ему попалась стопка страниц в двадцать, отпечатанных на папиросной бумаге. Ага, кажется, оно, обвинительное заключение. Сколько их было на его веку! Сотни! Волонтир Дмитрий Васильевич. Идет первым по списку. Всего обвиняемых трое. Да, это оно.
Аронов погрузился в чтение и, по мере того как читал — о волшебные свойства памяти! — вспомнил низкорослого, стриженного под машинку подзащитного, его темное, землистого цвета, лицо, выцветшие, глубоко запавшие глаза, вспомнил свои собственные сомнения накануне процесса. Непростой была его задача — защищать изменника Родины, палача, матерого фашистского прихвостня, руки которого обагрены кровью советских военнопленных, стариков, женщин и детей.
Яков Александрович вспомнил, что тогда, в ходе заседания трибунала, впервые и единственный раз за свою многолетнюю адвокатскую практику усомнился в гуманной миссии защитника, хотел оказаться на месте прокурора, общественного обвинителя, судебного секретаря, только не адвоката, ибо его собственная роль была во всех отношениях незавидной. Но он сделал все возможное, чтобы выполнить свой профессиональный долг. Добросовестно следил за ходом судебного заседания, активно задавал вопросы, просил приобщить к делу справки о состоянии здоровья подзащитного…
К обвинительному заключению канцелярской скрепкой приколоты тезисы его защитительной речи, куцый перечень смягчающих вину обстоятельств: «Слепой исполнитель», «Обработка в спецшколе СД», «Трудовая деятельность после войны», «Преклонный возраст». В глубине души желая максимальной меры наказания убийце, внешне он оставался бесстрастным, держал свои чувства под семью замками и даже добился исключения, как недоказанного, одного из эпизодов обвинения. Скромная адвокатская победа. Вот заметка, сделанная его рукой на полях обвинительного заключения: «Присвоением и спекуляцией имуществом казненных В. не занимался». Выступая в прениях, прокурор спорил с ним, но трибунал посчитал доводы защиты более убедительными. Пусть это не отразилось на резолютивной части приговора, зато его совесть была чиста.
Уловив, что этот эпизод особенно интересует гостя, Аронов рассказал подробности: подзащитный, признавая вину по целому ряду пунктов, почему-то настойчиво отрицал присвоение имущества казненных за городом людей. Возможно, он преувеличивал значение этого факта, питал надежду на смягчение приговора? Ничего подобного. Он был на редкость хладокровным человеком, впрочем, скорее циником с извращенной психикой. Прекрасно сознавая, что ему грозит смертная казнь, он в беседах с Яковом Александровичем, своим адвокатом, часто и с каким-то мазохистским спокойствием говорил, что ждет расстрела как избавления, как заслуженной кары, не боится смерти, готов к ней в любую минуту. И это были не пустые слова, не бравада. Атмосфера зала, в котором шел суд, как он признавался Якову Александровичу, действовала на него убийственнее даже, чем предстоящий приговор. Клуб машиностроительного завода был заполнен до отказа, и реакция присутствующих, свидетельские показания, просмотр кинохроники тех лет привели к тому, что на четвертый день Дмитрий Волонтир не выдержал очной ставки с прошлым, не вынес столкновения с настоящим. Он предпринял попытку покончить с собой.
— Вы не допускаете мысли, что он симулировал? — спросил следователь.
Аронов покачал головой:
— Нет, врачи едва выходили его. Волонтир перерезал вены на обеих руках, но сосед по камере вовремя поднял тревогу, и кровь успели остановить. Процесс возобновился только через несколько дней.
Его подзащитный пожелтел, высох, стал прятаться за барьером, огораживающим скамью подсудимых, чтобы не видеть лиц сидящих в зале людей. Он нехотя, с большими оговорками признавался в том, что забрасывал гранатами заключенных в следственной тюрьме, в том, что участвовал в облавах, что стрелял из карабина в безоружных женщин и детей у рва, но продолжал отрицать присвоение имущества убитых — факт хотя и не из самых ужасных и отвратительных по этому делу, но в моральном аспекте весьма значительный.
— Вы спросите, как это совместить с чувством обреченности, которым он бравировал? Отвечу. Одно дело приватно говорить со своим адвокатом и совсем другое — в присутствии тысячи сидящих в зале людей признаваться в грабеже убитых. Мародерства даже гитлеровцы открыто не поощряли. Кроме того, в действиях утопающего есть своя логика: любая соломинка кажется ему спасательным кругом, потому он за нее и хватается. Волонтир признавался только в тех эпизодах, которые были полностью доказаны в ходе предварительного следствия. Обвинение же в спекуляции имуществом казненных людей держалось на показаниях только одного свидетеля.
— Им был младший брат вашего подзащитного, — уточнил следователь.
— Совершенно верно. Вот его фамилия в списке свидетелей — Волонтир Георгий Васильевич.
— Он-то нас и интересует больше всего. Вы не помните, как он вел себя на суде?
— Как же, как же. Ведь эпизод с грабежом я просил исключить из обвинения как недоказанный, поэтому особенно внимательно слушал этого свидетеля. Он изменил показания. Возможно, сознательно, возможно, и нет — не берусь утверждать. В сорок втором, в декабре, он был совсем мальчишкой, мог что-то напутать, забыть. Нужно отметить, мой подзащитный был настроен по отношению к нему агрессивно. Обмолвился как-то: «Братишку бы сюда, на скамейку, для компании». Но его можно понять: на предварительном следствии младший брат говорил о спекуляциях золотыми вещами, о немецких офицерах, которые захаживали к ним домой, то есть, фигурально выражаясь, подвел брата…
Аронов, поощряемый следователем, силился вспомнить еще какие-то подробности, но четыре года — немалый срок, да и возраст давал себя знать — не вспомнил. Впрочем… Подзащитный что-то говорил о Жоре — так, кажется, он называл своего брата. Что именно он говорил? Волонтир просил передать ему привет. Да-да, Яков Александрович припоминает, как во время одного из перерывов он перекинулся парой слов с Георгием Васильевичем, внешне очень похожим на его подзащитного, но вот о чем — выпало вчистую. Обидно, конечно, да что поделаешь…
Может быть, следователя интересует послевоенная судьба Дмитрия Волонтира? Или как его нашли через столько лет после войны? Он долго скрывался, жил где-то за Уралом, под чужой фамилией, работал в леспромхозе, на валке леса.
— Вы случайно не знаете, — вернулся следователь к интересовавшей его теме, — где жили Волонтиры во время оккупации?
Яков Александрович полистал обвинительное заключение и развел руками:
— Мой подзащитный имел квартиру в доме, где находилась казарма для солдат зондеркоманды, а вот где находилась казарма — сказать затрудняюсь. Вроде бы рядом со зданием следственной тюрьмы, потому что, по рассказам очевидцев, в декабре сорок второго целый взвод полицаев в считанные минуты прибыл на усмирение поднявшегося в тюрьме восстания. Но, как ни обидно, где находилась следственная тюрьма, я тоже не знаю… Есть памятник жертвам, есть мемориал, есть Вечный огонь — туда мы все знаем дорогу, потому что это действительно вечно, а вот спросите, где находилось гестапо или комендатура, — мало кто скажет…
— Пока жив хоть один из числа подобных вашему подзащитному, боюсь, придется вспоминать и казармы… — задумчиво возразил следователь. — Скажите, Яков Александрович, во время процесса или после него Георгий Волонтир не проявлял интереса к судьбе брата?
— Никакой… Он, как родственник, имел право ходатайствовать о свидании, но я не припомню, чтобы кто-нибудь обращался в трибунал с подобной просьбой. Сам я с Дмитрием Волонтиром встречался — хотел узнать, будет он обжаловать приговор или нет, предлагал ему подать прошение о помиловании, но он отказался. Через два месяца приговор привели в исполнение…
Аронов не без сожаления смотрел, как его гость поднимается с кресла, но делать было нечего, и он пошел открывать дверь…
ТАМАРА КРАСИЛЬНИКОВА
Она сидела посреди комнаты на перетянутом ремнями чемодане. Одна в пустой квартире. Со двора сквозь приоткрытую форточку доносилось завывание ветра и далекий, то утихавший, то нарастающий стрекот работающего двигателя — наверное, к соседнему дому подгоняли бульдозер. Ходили слухи, что строители ждут, когда выедут последние жильцы, чтобы ломать оба дома сразу. Выходит, через день-два начнут.
«Вот и все, — равнодушно подумала Тамара. — Уезжаем». Опершись локтями о колени, она опустила подбородок в ладони и обвела взглядом комнату. «Странно. Здесь родилась, здесь жила с Игорем, сюда привезла из роддома Наташку. И вот уезжаю. И совсем не грустно. Ни плакать не хочется, ни смеяться. Все равно». Смотрела на знакомые с детства розовые стены, украшенные выцветшими серебряными цветами, на старомодные стулья, на квадратный стол со вздувшейся местами фанерой и не верила, что все это навсегда уходит из ее жизин. «Навсегда. И жалеть как будто не о чем…»
Через дверь в спальню была видна гора сумок и тюков с посудой и одеждой, свернутый и завязанный бельевой веревкой матрац. «Как на вокзале», — подумала она.
В углу — упакованный в коробку телевизор, скатанный рулоном ковер. Холодильник, обтянутый серой мешковиной, отодвинут от стены — его вынесут первым. На нем — забытый в предотъездной суете будильник. Тамара собралась было встать, чтобы сунуть его в какой-нибудь узел, но передумала, махнула рукой: успеется, да и за временем следить легче. Отец просил выйти через полчаса, встретить грузчиков с машиной. «А зачем они? Сами бы справились — грузить-то, считай, нечего».
Мебель решили не брать, только самое необходимое. Собственно, решил отец — Тамара не вмешивалась, молча помогала ему складывать вещи и безучастно кивала, глядя, как он ходит по комнате и нарочито бодрым тоном, вроде бы обращаясь к внучке, говорит о новом мебельном гарнитуре, выставленном в витрине магазина недалеко от их новой квартиры: там и кресло, и полированный шифоньер, и диван-кровать с тумбочкой для белья, и письменный стол для Наташки.
— Сделаю вам подарок на новоселье, — говорил он, расхаживая перед сидевшей за столом внучкой, а сам украдкой бросал взгляды на дочь. — Чего рухлядь эту старую с собой тащить? Она свое отслужила. Правильно я говорю, Наталья? Будешь ты свой кабинет со столом иметь. Все новое будет: мебель, квартира, жизнь новая! Разве плохо?
— Хорошо, деда, — в тон ему отвечала внучка.
Тамара отлично понимала, ради кого он старается, к кому обращены его слова, в глубине души была ему благодарна. И все же неуклюжая попытка утешить, смягчить ее горе вызывала еще и жалость к отцу, досаду и даже злость на него. Как уживались в ней эти, казалось бы, взаимоисключающие чувства, неизвестно, но, сколько она себя помнила, уживались. Бывало, особенно в детстве, приливы любви к отцу были так сильны, что, едва дождавшись его возвращения с работы, она бросалась в его объятия, беспричинно плакала, и ее маленькое сердечко стучало так сильно, что она всерьез боялась, как бы оно не выскочило из груди. Но, бывало, и злилась…
Вот он ходит из угла в угол, рассуждает о мебели, об отдельной комнате для Наташи, а подумал, как больно ей, Тамаре, слышать это?! Кабинет для Наташи в переводе на нормальный взрослый язык означает, что дочь займет комнату, предназначавшуюся для их с Игорем спальни — так планировали раньше. Когда это было? И месяца не прошло — с ума сойти!..
А отец продолжал описывать квартиру, лоджию, ванную с голубым кафелем. Господи, ну о какой новой жизни он говорит?! Кому нужен его показной оптимизм? Зачем делать вид, будто ничего не случилось, — ведь случилось же, случилось! Она осталась без мужа, Наташка — без отца, и никуда от этого не уйдешь, не спрячешься.
Злилась еще и оттого, что интуиция подсказывала: отец прав, начинается — да что начинается, уже началась — другая жизнь. С арестом мужа что-то надломилось в ней, изменив отношение к Игорю. Все восставало против такого исхода, между тем опыт всей прежней жизни говорил о том, что отец в конечном счете всегда оказывался правым. На все сто процентов.
После смерти матери, еще девчонкой, она научилась понимать, когда он одобряет ее поступки, когда нет, и не со слов — он никогда не отличался красноречием, к тому же жалел ее сверх всякой меры, вероятно, боялся услышать упрек в грубости, обидеть слишком категоричным «нельзя», — а по выражению лица, по взгляду, по случайно оброненной фразе. Привыкшая за время его частых и продолжительных отлучек к самостоятельности, она нередко поступала наперекор его молчаливому неодобрению. Делала это из духа противоречия, и, надо признать, не раз обжигалась на этом, и тогда злилась еще больше, винила отца, а он, вместо того чтобы приструнить, отругать, поставить на место, как назло, упрекал не ее, а себя, находил в ее неудачах свою вину и этим, случалось, доводил ее до истерики: жалость к самой себе мешалась с пронзительной жалостью к отцу, и вместо облегчения она испытывала дополнительные муки, угрызения совести из-за собственной несправедливости. В таких случаях он терялся, не знал, что предпринять, и чаще всего уходил на несколько часов из дому, чтобы дать ей время успокоиться. Бедный отец! Каким терпением надо обладать, чтобы безропотно сносить ее капризы, причуды взбалмошного характера, как надо любить, чтобы прощать обиды, бездумно наносимые не раз и не два, а годами, изо дня в день.
Неужели, повзрослев, Наташка будет к ней так же беспощадна?
Утром, помогая укладывать вещи, Тамара впервые за последние недели смогла отвлечься от постоянно гнетущих мыслей о муже, о неожиданно свалившемся на ее плечи несчастье. Словно вернувшись после долгой разлуки, она смотрела на отца и едва узнавала его.
Как он постарел! Мужественное, перечеркнутое глубоким шрамом лицо покрылось сетью морщин. Седина перекинулась с висков на всю голову, даже в бровях серебрились белые волоски. Он наклонился над чемоданом, и Тамара рассмотрела светло-коричневые пятна на его руках, худую, старчески незащищенную шею, склеротические жилки на скулах, прядь пепельного цвета волос. Она смотрела на него со смешанным чувством удивления и стыда и ощутила, как к горлу подкатывается мягкий, парализующий дыхание комок. Вдруг совершенно отчетливо и неожиданно для себя подумала: «Сколько же часов, дней, а может быть, и лет отняла я у него, насколько усложнила его и без того нелегкую жизнь?» Захотелось прижаться к нему, выплакаться, как в детстве, на его груди, но что-то мешало сделать это — незримая, ставшая за последние годы непреодолимой преграда.
Не в силах сдержать рыдания, она успела выскочить в прихожую, оттуда в подъезд и там заплакала громко, навзрыд, прислонившись к холодной батарее парового отопления. По лицу катились слезы — не облегчающие, очищающие душу, не приносящие в конечном счете успокоение, а горькие слезы раскаяния. Припомнилось все: ссоры, взаимное непонимание, препирательства по пустякам, стычки, все те раны, что наносила ему своей черствостью, эгоизмом, и самая большая из них — ее отношения с Игорем.
С самого начала, с первой минуты знала, что отцу он не понравится — откуда была эта уверенность? — и сознательно не знакомила их, оттягивала встречу. Даже после того как они стали близки, не привела Игоря домой, а ведь чувствовала: отец все замечает, догадывается, ждет. И только когда пришел тот злосчастный вечер и Игорь с обычными своими шуточками, но достаточно твердо заявил, что начисто лишен родительского инстинкта и намекнул, уже более осторожно, что через знакомых устроит так, чтобы без лишнего шума избавиться от ребенка, — вот тогда первый, о ком она подумала, был отец. Бежала по пустынным улицам, падала в снег, поднималась и снова бежала навстречу слепящим фарам автомашин, чтобы пожаловаться единственному во всем мире человеку, способному понять, пожалеть, простить. И он понял, не упрекнул и утром, чуть свет, не сказав ни слова, пошел к Игорю.
Не успела за ним захлопнуться дверь, ей стало не по себе: отец, всегда служивший для нее эталоном мужества, честности, принципиальности, вынужден идти к чужим для него людям чуть ли не на поклон, выступать в роли просителя. И пусть понимала, что пошел он не по своей воле, а угадывая ее желание (кстати, пользуясь адресом, который она же ему и дала), — авторитет отца пошатнулся. Его визит к Красильниковым представился ей постыдным, унижающим и ее и его достоинство. Собственное бессилие породило в ней стойкое, впоследствии долго не проходившее чувство, что она безоружна перед Игорем, который в отличие от нее всегда знает, как себя вести, как поступить, всегда уверен в себе, прекрасно приспособился к жестким законам, по которым течет жизнь. Быть может, тогда, сравнивая этих двух одинаково дорогих ей, но таких непохожих друг на друга людей, она выбрала Игоря? В сумбуре лихорадочного ожидания была и такая мысль, но она отбросила ее: глупости, Игорь — это Игорь, а отец — это отец. Зачем устраивать трагедию? Она любит отца, это верно, но и Игоря она тоже любит, не мыслит без него жизни. У них будет ребенок, их ребенок!..
Восемь лет назад, вьюжным февральским утром, она и думать не могла, что наступит день и прошлое покажется ей темной дорогой, по которой брела, будто слепая. Впрочем, слепая ли? Зачем кривить душой? Игоря она любила как раз за те качества, которых не было в отце: за уверенность, легкость в общении, ироничность. Она видела и недостатки, подозревала, что с ним будет нелегко, но чувство ее походило на неизвестную медицине болезнь: знаешь, что заболел, а лекарства нет. Имя этой болезни было любовь…
После ухода отца она заново вспомнила весь разговор с Игорем и постепенно убедила себя, что все еще может измениться, все может быть хорошо: Игорь одумается, осознает свою ошибку, у них родится ребенок, отец найдет с зятем общий язык, заживут весело и дружно, и, кто знает, возможно, она исполнит свою заветную мечту — поступит в медицинский институт. Не сразу, конечно, ведь Игорь тоже учится… В таком просветлении и встретила она известие о согласии Игоря на брак.
Несколько дней спустя, когда уже было обговорено время свадьбы, Тамара убедилась, что предчувствия не обманули ее.
Отец, как всегда, был в отъезде, и Игорь, успевший перенести к ним свой небогатый студенческий скарб, восседал на отцовской кровати, накинув на себя его полосатый махровый халат. Она лежала рядом, положив голову ему на колени.
— Не представляю, — сказал Игорь, перебирая ее волосы, — как мы будем жить под одной крышей с твоим отцом. Может, лучше сразу квартиру снять?
— А что тебя беспокоит? — спросила она.
— Тесно здесь. Квадратов маловато. А наследник появится, что будем делать?
— Ничего, как-нибудь устроимся, — вздохнула она. — Всем места хватит.
— Да и предок у тебя, извини, не того… — продолжал Игорь, — не дворянских кровей. — Заметив, что она хочет возразить, поправился: — Ну-ну, ладно, не так выразился, не кипятись. Просто он не из тех особ, с кем вечерком под рюмочку наливки можно уютненько сыграть в подкидного. Согласна?
— Сам ты у меня подкидной, — пробормотала она.
— Нет-нет, что там ни говори, он железнодорожник. — Игорь подул ей в лицо, поцеловал в висок. — Ты только вслушайся: железный дорожник! По-моему, этим все сказано…
Она не осадила его, промолчала, завороженная теплом, исходящим от его мягких ладоней…
Если бы знать, как мало впереди таких мгновений, как редко будут ласковы и нежны его ладони. Не минуло и года, и в пылу ссоры Игорь впервые поднял на нее руку, и она отлетела на ту самую кровать, чувствуя на щеке ожог от хлесткого, злого удара. «Все, конец!» — мелькнуло в помутившемся сознании, но прошла минута, час, день, и в слабости своей, в неизбывной надежде на перемены к лучшему она простила, постаралась забыть и снова готова была на все, лишь бы удержать его рядом. Любой ценой. Как оказалось, даже ценой любви к отцу.
В марте отец переехал к сестре. Игорь бросил университет и поступил на работу. Родилась Наташа. Ни о каком институте, конечно, не могло быть и речи. На веревках, как флаги о ее капитуляции, висели непросыхающие Наташкины пеленки, на плите постоянно что-то кипело, из выварки клубами валил пар, а по всей квартире валялись погремушки, резиновые зайчики и слоны, которые в огромных количествах покупал и приносил отец. Изнурительно-трудные, но и полные мелких радостей полетели дни. Тамаре было не до мужа — она засыпала, едва ее голова касалась подушки, по нескольку раз за ночь вскакивала, услышав Наташкин крик, часами просиживала у кроватки, а утром, пошатываясь от недосыпания, наскоро кормила Игоря и снова бралась за нескончаемые стирки.
Он все позже возвращался домой, все чаще приходил навеселе, оправдываясь деловыми свиданиями, необходимостью, как он говорил, наладить и закрепить контакты, и она, поглощенная заботами о дочери, упустила момент, когда еще могла что-то предпринять, а заметила — было уже поздно. То немногое, что связывало их до рождения дочери, оборвалось. Тамара по инерции еще делала слабые попытки наладить отношения, но наступало время — Наташа подросла, ходила в детский садик, дел поубавилось, — и стало до жути ясно, что опоздала: у Игоря появилась своя, обособленная и недоступная ей жизнь, в которой не было места ни ее любви, ни их счастливому, как ей теперь представлялось, прошлому.
Однажды, выйдя из магазина, она увидела его идущим под руку с девушкой в длинном кожаном «макси». Хотела устроить скандал прямо здесь, на улице, но, представив, как смешно будет выглядеть рядом с ними со своей перегруженной продуктами сумкой, отложила разговор на вечер. А дома, стоило ей заикнуться, Игорь с наглой ухмылкой предложил: «Давай разведемся. Расходы, так и быть, возьму на себя».
Что было делать? Подавать на развод? Мало что осталось от ее прежней любви к нему, и все же слишком многое было позади, слишком большой ценой достался ей Игорь. И главное: была еще Наташка — дочь, называвшая его папой. Невзирая ни на что, Тамара продолжала делать уступку за уступкой: все, что угодно, только не развод. Он заночует у товарища — пусть, она промолчит; он пьет — она тоже будет пить!
Так в нижнем ящике серванта появился потаенный графинчик с портвейном. Вечерами, в ожидании мужа, Тамара, морщась, выпивала рюмку-другую и, чтобы как-то заглушить в себе чувство одиночества, подолгу простаивала у зеркала, один за другим примеряя все свои наряды. Многое из недавно купленного жало, не сходилось в поясе, многое успело выйти из моды, однако она с одинаковой аккуратностью вешала одежду на плечики и прятала в шифоньер до следующей примерки. Иногда за этим занятием ее заставал Игорь.
— Все любуешься? — спрашивал он и вытаскивал из портфеля бутылку. — Ладно, хоть ты и не заслужила, держи. Купил по случаю — специально для знатоков! «Стременная»!
На ее слабость он смотрел сквозь пальцы. А может, она его даже устраивала. Если дома не было Наташи, они пили вместе, и тогда ненадолго возвращалось что-то отдаленно похожее на прежнюю близость…
Сколько могло длиться такое существование, сказать трудно. Одно она понимала четко: бесконечно это продолжаться не может — за стенами их квартиры шла иная, настоящая жизнь, люди работали, любили, приносили какую-то пользу. Даже семилетняя Наташка как-то спросила: «Мама, почему у нас не так, как у всех?» — «Да потому, — чуть было не ответила ей Тамара, — что у всех семья, а у нас общежитие, куда твой папа приходит только переночевать…» Для нее уже не было секретом, что Игорь нечист на руку, приносит домой гораздо больше, чем выдают в зарплату, да еще умудряется собирать. О сбережениях мужа она узнала совершенно случайно — нашла сберегательную книжку, спрятанную в потайном отделении тумбочки. Ее поразило не то, что он это делает втайне от нее, — к этому привыкла, а вопрос: откуда Игорь берет деньги? Ворует?! Что же делать?! С кем посоветоваться? С отцом — не позволяла совесть, сама оттолкнула его. Со Светланой Сергеевной — исключено, та давно потеряла всякий интерес к делам сына. Не идти же самой заявлять в милицию. В прошлом году, обнаружив у него в кармане конверт с тысячью рублями, совсем уже было собралась пойти к его матери, да все откладывала со дня на день, пока грянувшие после Нового года события не избавили ее от этой необходимости. Девятнадцатого Игоря арестовали. Первые дни она крепилась, Наташе сказала, что папа в командировке. С отцом на эту тему не разговаривала. Он сам не выдержал — пошел, разузнал, что к чему. Потом несколько раз и ее вызывали в прокуратуру. Вчера тоже…
Тамара почувствовала, как кто-то коснулся ее плеча.
— Не стой на сквозняке, простынешь, — сказал отец, отводя глаза от ее заплаканного лица.
Похоже, все это время он стоял в подъезде рядом с ней. Она отвернулась, вытирая щеки подолом фартука.
— Не надо, доченька, — пробормотал он, — успокойся. Пойдем в комнату, здесь холодно.
Она послушно направилась к двери, у порога приостановилась, намереваясь сказать ему что-то важное, необходимое, но слов не было.
— Ничего, ничего, — смешался он и тут же, изменив интонацию, командирским голосом, чтобы его услышала внучка, распорядился: — Наталья, я беру тебя с собой. А ты, — он повернулся к Тамаре, — через полчасика выгляни во двор. Приедут грузчики с машиной. Без нас не приступайте.
Испытывая безотчетное облегчение, к которому примешивалась робкая радость от мимолетно возникшей былой близости к отцу, она проводила их на прогулку и, подойдя к окну, прижалась к холодному стеклу, чтобы ненадолго увидеть удалявшиеся к воротам фигуры — одну высокую, в тяжелом драповом пальто, другую вдвое ниже, в коротенькой цигейковой шубке…
Будильник показывал четверть десятого.
Тамара обошла квартиру, проверила, все ли собрано, и присела на чемодан. Мысли ее незаметно вернулись к последней встрече со следователем. Все, что она узнала об Игоре за три предшествующие недели, отложилось в сознании одной страшной фразой: он обвиняется в убийстве!
Поначалу в голове не укладывалось: как он оказался способным пойти на такое? Должно же быть какое-то объяснение. Очень скоро ответ нашелся. Она поняла, что это и есть та самая изнанка его жизни, о существовании которой она догадывалась, та скрытая деятельность, доступ к которой Игорь закрыл ей раз и навсегда. Суета, манипуляции с дефицитными оправами, его «контакты», лишние рубли, деловые и неделовые свидания — все, чем он занимался последние годы, на поверку обернулось не знанием законов, по которым складывается жизнь, а полнейшим крахом.
Поэтому Тамара не удивилась, узнав о нечистых делах, связывавших мужа с Волонтиром. О соседе следователь расспрашивал ее особенно подробно. А что она знала? Что он пил беспробудно? Об этом знали все. Летом, бывало, так и засыпал пьяным, сидя на лавочке у своего флигеля. Что работал сторожем? Это тоже известно.
Припомнилось, как несколько лет назад Нина Ивановна, соседка, говорила, что Волонтир предлагает ей обмен, и советовалась: меняться ей с ним квартирами или нет? Тамара ужаснулась, представив, что, возможно, придется жить дверь в дверь с запойным пьяницей, и отсоветовала Щетинниковой. Правда, старушка и сама вряд ли серьезно относилась к волонтировскому предложению, скорее поделилась по-соседски новостью, и все же Тамара успокоилась только после того, как Игорь сообщил, что обмен окончательно расстроился.
Следователь заинтересовался, каким образом Игорь оказался причастным к обмену квартирами. Может быть, у него был свой, особый интерес, комиссионные, например?
Этого она не знала.
Обе предыдущие встречи со следователем изобиловали не совсем понятными, ненужными и пустыми, на ее взгляд, вопросами, но последняя, третья по счету, окончательно поставила в тупик. Ее спросили, не приходилось ли ей слышать, где проживал Волонтир во время войны. Да, она слышала, но какое это имеет отношение к Игорю?
— И все-таки, что вы об этом знаете? — более настойчиво спросили ее.
— Он проживал в нашей квартире, — ответила она. — Кажется, вместе с братом.
— Откуда вам это стало известно?
— Отец говорил. И соседи тоже.
— Кто из соседей?
Тамара задумалась.
— По-моему, Щетинникова. — Она напрягла память. — Да, Нина Ивановна. А вот по какому поводу и когда — забыла.
— А ей откуда известно, не знаете?
— Наверно, жила в этом доме, — предположила она, — или была знакома с Волонтиром.
Следователь многозначительно переглянулся с сидевшим в кабинете лейтенантом.
— Простите, — извинился он, — это наши внутренние дела. Вам, вероятно, неизвестно, кто жил в этом доме во время оккупации?
Ну откуда ей знать? Нет, конечно. И вообще, при чем здесь оккупация?
Следующий вопрос тоже показался ей праздным.
— Если вы помните, девятнадцатого января я сменил в вашей прихожей лампочку, — сказал следователь. — Не заметили, когда она перегорела?
Час от часу не легче! При чем тут лампочка?
— Я их часто меняю, — пожала она плечами. — Знаете, какое качество…
— Ну, а восемнадцатого, к примеру, она еще горела? — Он улыбнулся, как бы извиняясь за ничтожность вопроса. — Я вам попробую помочь. В тот день около трех часов ваш муж вернулся с кладбища после похорон Щетинниковой и отослал вас с дочерью к отцу. Вы собрались, оделись и вышли в прихожую…
— Да, лампа горела, — вспомнила Тамара.
— Прошло три часа, — продолжал следователь. — Ровно в шесть вы вернулись. Помните, вы говорили о будильнике? Дверь открыл Игорь. Темно было в прихожей?
— Темно. Еще пришлось зажечь спичку.
— Получается, что лампа перегорела в период вашего отсутствия?
— Получается так.
— А кто зажигал спички — отец или Игорь?
— Игорь.
— Любопытно… Он всегда носит с собой спички или коробок случайно оказался у него под рукой?
Ну вот и до спичек добрались!
— Даже не знаю. Он вообще-то некурящий.
— Вы не просили его вкрутить новую лампочку?
— Просила.
— И что он вам сказал?
— Не помню. Кажется, сказал, что вкрутит завтра.
— После ссоры, когда ушел ваш отец, Игорь снова выходил. К Георгию Васильевичу. Как же он пробирался в темноте через прихожую?
— Не знаю…
Вечером восемнадцатого января ей в самом деле было не до этого. Доведенная до отчаяния ссорой Игоря с отцом, его оскорблениями, угрозой бросить семью, Тамара, оставшись одна, кинулась на кровать и зашлась в плаче. Она не заметила, как Игорь возвращался за водкой, как ушел к Волонтиру. Так и уснула, не раздеваясь, лишь среди ночи услышала, что он укладывается спать…
— На следующий день утром вы провожали мужа на работу? — настойчиво допытывался следователь.
— Нет, утром меня разбудил ваш звонок.
— И больше вы его не видели?
— Не видела.
Тамара почти автоматически ответила на этот и на многие другие вопросы. И чем больше ее расспрашивали об Игоре, тем сильнее становилось чувство, что речь идет не о ее муже, а о чужом, малознакомом человеке, о котором ей ничего не известно, разве что имя.
В конце беседы, когда разговор вновь зашел о Волонтире, произошло нечто странное: ей вдруг показалось, что оба эти человека, Волонтир и Игорь, неуловимо похожи друг на друга, что постепенно, со временем, через много лет Игорь превратится в такого же замкнутого, обособленного от людей бирюка с недобрым огоньком в глазах, каким был Волонтир, станет его точной копией. С чего это ей почудилось, Тамара сказать не могла, только ощущение, будто заглянула в будущее, не исчезало еще долго.
Она посмотрела на будильник и тут же услышала автомобильные гудки.
«Пора», — подумала она и встала с чемодана.
ТИХОЙВАНОВ
Он мог и не отпрашиваться: во-первых, на пенсии и приходит в депо по своей собственной инициативе, а во-вторых, пэтэушники — группа из четырех мальчишек-практикантов, которых по согласованию с парткомом он, как ветеран производства, взялся натаскивать, — слушались своего наставника беспрекословно. Федор Константинович был абсолютно уверен: если сказал ребятам, чтобы сегодня они безвылазно сидели в ремонтном у Егорова, значит, будут сидеть и, как промокашки, впитывать премудрости своей будущей профессии. Однако, прощаясь с Егоровым, на попечение которого оставил практикантов, он все же попросил:
— Ты, Кузьмич, выкрой минутку, передай начальству, что меня сегодня не будет.
— Что, новоселье? — подмигнул Егоров. — Не забудь пригласить. — И дружески подтолкнул в спину: — Иди-иди, не беспокойся. И за пацанами твоими пригляжу…
Тихойванова беспокоил не переезд на новую квартиру, хотя мороки с ним было предостаточно: предстояло перевезти вещи, купить мебель да еще и со школой что-то решать — переводить внучку в новую, поближе к дому, или оставить в старой, где привычнее. Беспокоило другое. Все последнее время он непрерывно думал о Скаргине, вернее, не о нем, а о разговоре, который между ними состоялся. С тех пор не оставляли думы об обстоятельствах смерти отца — следователь вернул его к мучительным сомнениям, начало которым с месяц назад положила Щетинникова.
Сейчас, направляясь в прокуратуру, он думал о том же и испытывал глухое чувство вины: в прошлый раз, самонадеянно решив, что дело это глубоко личное, не рассказал следователю о встрече с Георгием и разговоре с Ниной Ивановной…
А дело было так.
Незадолго до Нового года Тамара пожаловалась ему, что Игорь все чаще приходит домой пьяный и что виноват в этом сосед, Георгий Васильевич, — он якобы спаивает мужа, плохо на него влияет. Федор Константинович не забыл, что так уже было однажды — с дружком, Толиком, который, по словам дочери, тоже плохо влиял на зятя, но решил все же зайти к Волонтиру.
Отношения с ним были не особо хорошими. За все послевоенные годы они не перемолвились и парой слов: Федор Константинович едва отвечал на его приветствия, а Георгий при встречах с ним почему-то держался заискивающе, здоровался чуть ли не подобострастно.
Сразу после праздников Тихойванов постучал в наглухо закрытые ставни его флигеля. Подошел к порогу.
Дверь открыл Георгий.
— Вы? — спросил он, отступая в глубину прихожей, и Тихойванову показалось, что он чем-то напуган.
— Поговорить надо. — Федор Константинович продолжал стоять у порога.
— О чем это? — глухо спросил Георгий.
— Предупредить хочу… Ты вот что: не можешь не пить — пей, а других не спаивай. Ищи себе других собутыльников.
— Что-то не пойму я, о чем ты?
— О зяте своем, об Игоре… Оставь его в покое, добром прошу, слышишь?
Волонтир приблизился, все еще настороженно глядя из-под густых, нависших над глазницами бровей.
— Теперь понял?
— Теперь понял. Чего ж не понять? — ответил он и шагнул навстречу. — Да ты проходи, Федор, чего у порога стоять. Посидим, потолкуем, как люди.
— Не о чем нам с тобой толковать. Я тебя предупредил, а ты думай.
— Все такой же бедовый, — усмехнулся Волонтир, будто обращаясь к кому-то третьему, находящемуся внутри дома, и пошире раскрыл дверь. — А ты все-таки войди, Федя, не гнушайся. Здесь у меня, поди, и не был ни разу?
Тихойванов переступил порог — было в тоне соседа что-то такое, что заставило его остаться.
— Вот ведь как получается, — скороговоркой, почти радостно ворковал за его спиной Волонтир, провожая к столу. — В кои-то веки зашел, и то по делу. Нет чтобы просто по-соседски заглянуть, ведь соседи мы с тобой, а, Федор? Ты извини, что я тебя по имени — разница-то небольшая, мизерная, можно сказать, и знакомы целый век… Ты садись, я сей момент чайку организую…
— Не надо чая, — отказался Тихойванов, но Волонтир уже суетился у газовой плиты.
— То есть как не надо? Обязательно надо. Тут у меня чекушка завалялась, но я не предлагаю. Ты, знаю, пить не будешь. Зять твой на это дело падкий, это ты верно сказал, любит приложиться. Но я понял, понял… Хоть и не силком его к себе затаскивал, а предупрежу, чтоб не ходил. По старой дружбе.
— Друзьями мы с тобой никогда не были, — осадил его Тихойванов.
— Ну, нет так нет, — легко согласился Георгий. — Я, правду сказать, никудышный товарищ был. А почему, знаешь? Слишком хромоту свою переживал, злость да зависть к вам, здоровым, заедала. Кабы не это, у меня, может, вся жизнь по-другому сложилась бы. Это сейчас мудрости поприбавилось…
Тихойванов присел на шаткий стул, осмотрелся. Взгляд его задержался на длинной, узкой вазе с пыльным бумажным цветком, прикрученным к проволочному стеблю.
— Что смотришь? — издали заметил Волонтир. — У вас, кажется, такая же была? Она, ваза-то, довоенная еще, но не ваша, ты не сомневайся. Я ее днями на свалке подобрал. Жиреть люди стали, такое добро выбрасывают. А мне она приглянулась, взял на память.
— На память?
— Ну да. До войны такие в каждом доме были. Как посмотрю на нее, время то вспоминаю, молодость свою. — Он хмыкнул и покачал головой. — Помнишь, как меня Митька до крови избил? Да что спрашивать, помнишь, конечно. Я ведь тогда влюбленным ходил в эту… ну, Нинку-то Щетинникову. Смешно… К брату ревновал. Он с ней тогда амуры крутил, любился до войны. А меня завидки брали. Люто завидовал, ох, люто! Господи, думал, ну почему у меня, а не у него нога увечная, почему?! — Волонтир замолчал, искоса посмотрел на гостя. — Неприятно тебе слушать? Ты скажи, если что…
Тихойванов промолчал.
— Да… так вот я и говорю: смотрю на вазу эту и жизнь свою непутевую вспоминаю, ребят наших дворовых. Мало нас осталось: ты, да я, да мы с тобой. Ну, Нинка еще… Хорошие хлопцы были, а, Федор?
— Хорошие, да не все, — сухо откликнулся Федор Константинович.
Волонтир поставил чайник на огонь.
— Знал, что упрекнешь. — Он подошел к дивану, но не сел, а втиснулся между диваном и этажеркой, от чего слоники, стоявшие на верхней полке, пошатнулись. — Съеду я отсюда, Федор, в другой город съеду. — Он пощупал карман рубашки, вынул оттуда мятую пачку «Севера», но она была пустой, и Волонтир смял ее совсем, отбросил в угол. — Думал, доживу свой век здесь, да невмоготу стало, уеду.
— Может, это и к лучшему.
— Ты б хоть поинтересовался почему?
— Неинтересно.
— А я все же скажу. Причина, Федя, в том, что надоело мне косые взгляды ловить. — Настроение Волонтира резко упало. — Жестокий ты человек, пойми, что в такой срок любую вину простить можно, а ты без всякой моей вины волком смотришь. Спросить, за что — не ответишь. Меня вон в сорок девятом привлекали, дело завели, как на пособника, а какой из меня пособник, если мне тогда пятнадцать всего стукнуло? Как завели, так и прикрыли, чист я оказался — и юридически, и с любых других сторон. Я это к чему, Федор? К тому, что не ответчик я за брата и не хочу, чтоб вину его мне приписывали.
— Не пойму, зачем ты мне все это говоришь?
— Не поймешь? — с сомнением спросил Волонтир, изучающе глядя на гостя. — Ну, пусть… Не понимаешь — мое, значит, счастье. Одно тебе честно скажу, ты уж не обижайся: страшно мне с тобой встречаться.
— Это почему же?
— Пострадавший ты от войны человек, а того понять не хочешь, что и я пострадал, может, еще пуще твоего пострадал. Думаешь, легко мне было кошмары эти видеть?
— Ну, ты! Говори, да не заговаривайся. Не мое дело навоз с твоей совести счищать. Я воевал с немцем, а ты с братцем служил ему…
— Вот-вот, — перебил Волонтир. — Выходит, не ошибся я. Таким, как ты, твердолобым, сроков давности не существует. Ничего вам не докажешь. Ты, наверно, до сих пор войну эту проклятую во сне видишь. Потому и боюсь я тебя, таких, как ты, боюсь. У вас, у пострадавших, свой закон — закон мести.
— Совести, а не мести. — Тихойванов поднялся со стула. — Все, поговорили — хватит. Пойду я. А насчет Игоря имей в виду: не оставишь парня, я с тобой иначе говорить буду.
Волонтир, понурившись, пошел вместе с ним к двери, но в прихожей остановился.
— Постой, Федор. — Он нерешительно коснулся рукава его пальто. — Сказать тебе хотел. Давно. Еще когда ты с фронта вернулся, да все не решался…
— Ну, говори, — полуобернулся к нему Тихойванов.
— Ты, конечно, относись ко мне как хочешь, я не в обиде, ко всему привык, но не верь, если что… не верь, если на меня наговаривать тебе станут…
— Кто? — не понял Федор Константинович.
— Я ведь и сегодня думал, что Нинка тебе натрепалась…
Свет падал на Волонтира сзади, и лица его не было видно.
Несколько дней спустя Тихойванов пошел к соседке. Он не придал большого значения разговору с Волонтиром, счел его неудачной и ненужной попыткой спустя четыре десятка лет выяснить отношения, но последняя фраза заинтриговала его, и он пожалел, что не расспросил подробнее.
С Щетинниковой они жили в одной коммунальной квартире, но общались мало. Первые годы отношения с соседкой поддерживала жена, после ее смерти — сестра и дочь. Сам Федор Константинович всего несколько раз обращался к ней с просьбой присмотреть за Тамарой на время своих отлучек, а последние восемь лет, после того как перешел жить к сестре, практически с ней не виделся.
Нина Ивановна болела, но приняла его охотно и совсем не удивилась, когда он вкратце передал ей свой разговор с Георгием. Она даже не спросила, чего он, собственно, ждет от нее, что хочет услышать, только покачала головой и, накрыв его руку своей сухой старушечьей ладонью, усадила на край кровати.
— Не знаю, как и сказать тебе, Федя, — начала она. — Путаная это история, туман один, а у тебя и без того жизнь нелегкая, уж я знаю. Ты когда на фронт-то ушел?
— В октябре сорок первого.
— Вот, — не очень твердым голосом сказала Щетинникова, словно он сам нашел ответ на мучивший его вопрос. — Ты там горюшка хлебнул, а мы здесь, под немцами, в оккупацию. Всем досталось. — Она глубоко вздохнула, помолчала. — Знаю я, о чем он печется, и давно бы тебе рассказала, но ведь нет у меня доказательств. Это бы еще полбеды. Уверенности у меня нет, Федя, оттого и молчала. Сама не знаю, как оно было на самом деле… Ты Дмитрия-то помнишь?
— Помню.
— Вот, — она снова вздохнула. — Мы ведь с ним расписаться собирались. Война помешала. Призвали его как человека. Я, дура, все весточки с фронта от него ждала. — Нина Ивановна убрала руку, положила ее поверх одеяла. — Знаешь, что предал он?
Тихойванов кивнул.
— Так вот, в сорок третьем нашел он меня. Из наших, дворовых, тогда мало кто остался: кто эвакуироваться успел, кого немцы потом в Германию угнали, а остальные попрятались кто куда. Я недалеко отсюда жила, у тетки. Ты слушаешь?
— Слушаю.
— В январе это было. Сразу после Нового года. Иду как-то по улице. Вдруг сзади меня кто-то хватает за руку. Обернулась — Жорка Волонтир. «Ты что ж, — говорит, — знакомых не узнаешь? Радуйся, Митька приехал, тебя по всему городу ищет». Я тогда не знала еще, что он в холуях у немцев, удивилась. «Как, — спрашиваю, — ищет? Он же в армии». — «В армии, — говорит Жорка, — да только не в той, что ты думаешь». Смотрю: на нем пилотка немецкая, сапоги новые. Тут я сообразила, что к чему, и аж похолодело у меня внутри. А он вроде хвастает: «Ну, как видик у меня, — говорит, — подходящий? Это Митька, бугай, подарил. Обещал и парабеллум с кобурой дать». Я слушаю, а самой бежать хочется, и ноги от страха подкашиваются. «Знаешь, — прошу, — Жорка, ты ему не говори, что меня встретил, ладно?» — «Почему это?» — спрашивает. Я не ответила, пошла, еле с места сдвинулась, а он за мной хромает. «Ты что ж, — спрашивает, — не рада, что ли? Неужто и видеть его не желаешь? Так напрасно, он теперь петухом ходит, в начальниках, и денег у него чемодан, везет гаду. Слушай, — говорит, — а может, ты с этими заодно, с теми, кого на площади у исполкома вешают?» Я молчу, слово боюсь вымолвить, а он не отстает. «Ты, гляди, не прогадай. Хана вам, товарищам, пришла, так что поберегись. Героя нашего, Тихойванова, помнишь, с орденом все ходил, — у сапожника прячется, думает, не знает никто, а стоит мне словечко Митьке шепнуть, от него вместе с орденом мокрого места не останется». Я прибавила шаг. «Да не боись, так и быть, не скажу», — крикнул он вдогонку и приотстал, видно, уморился за мной бежать. А через день-два старший Волонтир пожаловал. Хорошо, меня дома не было. Вечером тетка сказала. Отвела к знакомой, спрятала. — Голос Щетинниковой дрогнул. Она снова накрыла его руку ладонью. — Не знаю, Феденька, Жорка ли выследил, сам ли Дмитрий отыскал, или совпадение это было — врать не буду. Только отца твоего взяли тогда…
Больше месяца после той встречи прошло. Последовавшие вскоре события — смерть Щетинниковой, убийство Волонтира, арест зятя — вытеснили на время мысли о нем, но разговор у Скаргина вернул Тихойванова к словам Нины Ивановны, и он, еще не зная о показаниях Божко, сопоставляя факты, пришел к убеждению: в смерти отца замешаны оба брата. Следователь был прав: прошлое действительно не может существовать само по себе, в отрыве от настоящего, не может хотя бы потому, что подлость, совершенная более трех десятков лет назад, отзывается болью в живущих сегодня…
ХАРАГЕЗОВ
Заведующий ателье поминутно прикладывал ко лбу свой щегольской, под цвет галстука, платок, после чего нервно, по-женски, комкал его в руках. При этом взгляд его карих выпуклых глаз красноречивее слов говорил об испытываемых страданиях. Вызов в прокуратуру был чреват крупными неприятностями. Увольнение с работы — вопрос времени, с ним Харагезов успел смириться, внутренне к нему подготовился. Злоупотребление служебным положением, мелкие нарушения финансовой дисциплины, отпуск товаров «налево», а теперь еще взятки… Тут легким испугом не отделаешься, придется отвечать. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Значит, арест, суд, конфискация! Ужас!.. Сколько же ему дадут? Год? Два? Больше? Наверняка больше.
Экскурс в недалекое будущее прервал следователь:
— Как же нам быть, Алексей Михайлович? Несолидно получается. Мы вас предупреждаем об ответственности, а вы…
— Я готов, — поспешно заверил Харагезов, для убедительности приложив руку к груди. — Вы мне только намекните, что вас интересует, и я со всей душой.
— Ну, если вы не понимаете прямых вопросов, придется говорить намеками. Вы не забыли свои первые показания?
— Да-да, глупо получилось, — согласился он, как будто речь шла не о нем, а о ком-то отсутствующем. — Не сориентировался, недооценил всей важности момента. Оказывается, вопрос с нашим работником Красильниковым стоит очень остро. — И более доверительно добавил: — Прошу вас, не придавайте моим словам значения.
— Каким? Тем, что вы говорите сейчас, или тем, что вы сказали в прошлый раз?
— Ну что вы? — Изобразив на лице жалкое подобие улыбки, Харагезов как можно тверже пообещал: — Сейчас я скажу все как есть. Зачем мне покрывать преступника?
— Вот и я думаю: зачем?
— Мой прямой долг говорить правду, — храбрился Алексей Михайлович.
— Совершенно верно.
— И я скажу!
— Прекрасно. Пожалуйста, я вас слушаю.
— Красильников выполнял плановые задания — это истина, не скрою. Но когда работаешь в коллективе, этого мало. Надо еще ладить с людьми, считаться с мнением общественности, и вот этого-то Игорю Михайловичу недоставало. В общественной работе он участия не принимал, пренебрегал культурно-массовыми мероприятиями, в общении с товарищами держал себя высокомерно, иногда допускал грубость…
— И поэтому вы приняли решение перевести его в отдельную мастерскую?
Харагезов на мгновение замер, словно позируя невидимому фотографу, но через секунду снова заговорил, обильно уснащая свою речь округлыми казенными оборотами:
— Боюсь, что произошло недоразумение. У отдельных наших товарищей, у Щебенкина, например, и у некоторых других тоже сложилось не совсем правильное, я бы сказал, извращенное представление о методах работы руководства. Они считают перевод на индивидуальную работу поощрением, фактом признания особо высокой квалификации отдельных работников, в то время как…
— …это не так, — продолжил за него следователь.
— Это не всегда так, — осторожно поправил заведующий. — Увы, в случае с Красильниковым произошло наоборот: уволить его по своей инициативе мы не могли, не было достаточных оснований. Но, простите за откровенность, избавиться от такого, с позволения сказать, работничка хотели. Вот и пришлось изыскивать средства, ставить вопрос о переводе. В целях изоляции от коллектива. — Чтобы придать вес своим словам, он сослался на начальство: — Прежде чем принять это решение, я советовался в управлении, и там меня поддержали.
— Интересно, — заметил следователь. — И кто именно?
Харагезов снова стал неподвижен и шевельнулся только после паузы, которой с лихвой бы хватило, чтобы навести объектив на резкость и щелкнуть затвором.
— Простите, как — кто?
— Кто поддержал?
— Ах кто? — Он вперил удивленный взгляд в собственный носовой платок. — Знаете, вопрос решался еще в прошлом году, так что мне потребуется время, чтобы…
— Хорошо, оставим это. Продолжайте.
Харагезов замялся.
— Если вы настаиваете, я могу позвонить в управление и уточнить, — предложил он.
— Не надо, мы сами разберемся.
От уверенно произнесенного «разберемся» Алексея Михайловича бросило в холодный пот. Он заерзал на стуле, представив, что значит «разберемся» и какие это «разберемся» повлечет последствия лично для него. «Они разберутся, — с тоской подумал он. — Они во всем разберутся. И устроят тебе, дорогой товарищ, показательный суд с общественным обвинителем в лице того же Щебенкина…»
А пока ему продолжали задавать вопросы.
— Скажите, Красильников не жаловался вам на низкую зарплату, на нехватку денег?
— Ну что вы, он получал до ста шестидесяти рублей плюс премиальные.
— А сверху?
— Простите, не понял?
— Брал он «левые» заказы?
— Вообще-то мы боремся с этим позорным явлением. В целом коллектив у нас здоровый…
— Значит, не брал?
— Ну, за всем разве уследишь, — уклончиво ответил Харагезов. — Ходил у нас слушок, что он занимался частными заказами, но за руку в таких случаях поймать трудно. И потом, борьбой с преступностью занимаются специальные, уполномоченные на то органы, мы не вправе вмешиваться в их деятельность. Существует милиция, народный контроль…
— А как он вообще относился к деньгам?
— Я не припомню случая, чтобы у нас с ним заходил разговор о деньгах.
— Мы договаривались, что вы будете откровенны, — напомнил следователь. — Так что постарайтесь вспомнить. Мог он, к примеру, одолжить деньги товарищу?
Харагезов собрался с духом и выпалил:
— Не думаю. Не тот он человек, чтобы вкладывать деньги, не предусмотрев процентов прибыли.
Заявление плохо вязалось со сказанным раньше, но сидевший за столом следователь не подал виду.
— Понятно. А его семейные отношения? Что вам, как руководителю, известно о его личной жизни?
— Трудный вопрос. — Харагезов искал, за что бы зацепиться, так как тема личной жизни Красильникова непосредственно его не касалась и была сравнительно безопасной. — У него есть дочь. Учится во втором классе. Жена не работает. — Видя, что следователь ждет продолжения, добавил: — Мы с ним были не настолько близки, чтобы делиться своими семейными проблемами. Как там у него с женой складывалось — я не в курсе, но на днях мне звонила девушка, интересовалась Игорем. И это не в первый раз. Раньше ему тоже звонили.
— Вы уверены, что звонила посторонняя девушка, а не жена Красильникова?
— Конечно, посторонняя, — оживился Харагезов. — Жену зовут Тамара, а звонила Таня.
— Она что же, назвала себя?
— Нет. Просто я слышал, как кто-то во время разговора позвал ее, обращаясь по имени, и она ответила, что через минуту освободится.
— Так когда вам звонила эта самая Таня?
— Позавчера, кажется. Да, позавчера. В первой половине дня. Спросила, вышел ли на работу Красильников. Я сказал, что нет. Тогда она поинтересовалась, не болеет ли он и если болеет, то когда выйдет… — Харагезов запнулся.
— И вы ответили, что он арестован?
— Но ведь меня никто не предупреждал, — потупив взгляд, повинился он. — Я бы ни за что не сказал, если бы знал, что нельзя.
— Больше она ни о чем не спрашивала?
— Ни о чем, — подтвердил Харагезов. — Сразу повесила трубку. Напугалась, наверно.
— Алексей Михайлович, когда-нибудь Красильников обращался к вам с просьбой достать санаторную путевку?
— Обращался.
— Когда?
— В ноябре. Я объяснил ему, что это не так просто, но он очень просил, и я обещал помочь. У нас в управлении иногда бывают «горящие» путевки, особенно зимой. В декабре он справлялся, как обстоят дела.
— Не говорил он вам, для кого нужна путевка, в какой именно санаторий?
— Нет, Сказал только, что желательно в санаторий для сердечников, а если не будет для сердечников, то в любой.
— Еще вопрос. Он вам давал деньги на путевку?
— Ну что вы! Если бы я выбил ее в управлении, то все оформили бы законным путем через местный комитет. — И, порозовев, негромко закончил: — Мой долг соблюдать соцзаконность на вверенном мне участке работ.
Следователь зашелестел бумагами, и Харагезов, готовясь к худшему, тоскливо посмотрел в окно на голубое безоблачное небо. Он вдруг представил, как его выведут из кабинета и на виду у всех подчиненных поведут к милицейской машине.
— Вернемся к январским событиям, — сказал следователь, отрываясь от своих записей.
Харагезов облегченно вздохнул, взятку он взял в прошлом году, значит, пока пронесло, но опасность еще оставалась. Если его спросят про девятнадцатое, почему он сказал, что Игорь пришел на работу вовремя, тогда…
— Восемнадцатого января… — начал следователь.
— …Восемнадцатого Красильников отпросился у меня на похороны соседки, — торопливо заверил Харагезов. — Честное слово, так и было! Он приехал к девяти, сказал, что у него большое несчастье и что он хочет взять отгул. Соседка якобы женщина одинокая, ни родных, ни близких. Я и разрешил — причина-то уважительная.
— А девятнадцатого?
«Все, дождался! Они все знают! Теперь хочешь не хочешь — придется говорить. — Харагезов вытер взмокший лоб. — Я не виноват: сам горю, как швед под Полтавой…»
Девятнадцатого около одиннадцати часов — только он приехал из управления — к нему без стука вошел возбужденный Игорь. Он плотно прикрыл за собой дверь и не допускающим возражений тоном предупредил: «Для всех, кто бы ни спрашивал, сегодня с самого утра я был на работе. Ты понял?»
Ошарашенный его наглостью, Харагезов потерял дар речи, хотел возмутиться, поставить подчиненного на место: что это он себе позволяет? Влип в какую-то грязную историю, по роже видно, что в грязную, и диктует свои условия. Думает, непонятно, что речь идет об алиби. Дурака нашел!.. Но Красильников будто читал его мысли: «Не подтвердишь — расскажу о взятке. Вылетишь из своего кресла под фанфары. Мне, сам понимаешь, терять нечего». Да, волчий прикус у парня, а все овечкой прикидывался! Куда было деваться, пришлось пообещать. Уже уходя, Игорь подмигнул и небрежно, как милостыню, бросил: «Не мандражируй, может, и не понадобится твоя защита».
Однако понадобилась. И очень скоро. Часа не прошло — ну и темпы у милиции! — Красильникова арестовали, а его самого на следующий день взяли в оборот, изволь отдуваться. Был соблазн выложить все начистоту, отмежеваться от неприятностей, все равно Игорю крышка — это и коню понятно. Но удержал взаимный интерес: если он промолчит о просьбе Игоря, Красильников промолчит о взятке — глядишь, и пронесет.
Целый месяц ходил в страхе. Теперь чувствовал: не пронесет. Не сегодня, так завтра. Не завтра, так послезавтра. Видно, спета его песенка. Конец карьере. Э-эх, денег ему, что ли, не хватало? Ведь хватало! Дом — полная чаша, с книжки одних процентов по пятьсот рублей в год набегает, дачу недавно купил с бассейном! Что ж еще надо? Так нет, связался с этим уголовником?! Возможности упускать не хотел, власть свою показать, благодетелем всесильным перед подчиненным представиться, чтобы восхищался и кланялся, кланялся и восхищался…
— Так как же девятнадцатого, Алексей Михайлович?
— Чистосердечно признаюсь, товарищ следователь, напутал кое-что в спешке, с кем не бывает…
Глава 7 12 февраля
СКАРГИН
Изучение пяти томов архивного дела, как и следовало ожидать, не прошло бесследно. Снова и снова я возвращался к нему, чтобы до конца разобраться в отношениях, связывающих убийцу и его жертву. Георгий Волонтир и Игорь Красильников — чем больше я о них думал, тем очевиднее становилась эта связь. Они были людьми не только разного возраста, но, по сути, и разных поколений, это верно. И все же что-то объединяло их, притягивало друг к другу, по неуловимым для окружающих признакам они узнавали «своего» и отличали его от «чужого»…
Это «что-то», несомненно, существует, думал я. И еще думал, что много лет назад, в сороковом, там, на Первомайской, вряд ли кто обращал особое внимание на Дмитрия Волонтира. Знали за ним недостатки, слабости, осуждали за пьянки, за грубое обращение с младшим братом, но никому — я уверен, никому — и в голову не приходило, что парень с их двора, утром усердно метущий улицу, вечером слушающий, как в беседке задушевно поют под мандолину, а в сорок первом вместе с другими ушедший на фронт, спустя год вернется в город с оккупантами и будет хладнокровно уничтожать беззащитных стариков, женщин и детей — своих сограждан, соседей. И дело тут не в маске, за которой, дескать, скрывался хитрый, вероломный враг. Суть в другом: задолго до того, как он предал, в душе его уже зрели ростки алчности, трусости, жестокости — того, что мы привыкли называть емким словом «пережитки», забывая, впрочем, как смертельно опасны порой бывают их носители. Что говорить — иной раз внешняя, так сказать, анкетная благополучность подобных людей вводит в заблуждение: чувствуешь червоточину, а разобраться в человеке, понять его успеваешь далеко не всегда…
Но вернемся к Красильникову. Несмотря на разницу в возрасте, он имел много общего со своей жертвой: оба нечисты на руку — один по мелочи воровал на базе, другой выколачивал «левые» с клиентов в ателье, — оба пили, оба были равнодушны к делам общественным и активны в личных и, как результат, оба, быть может, не отдавая себе отчета, были внутренне готовы стать на скользкий путь, ведущий к предательству, измене, преступлению. Нет, не внешнее, бросающееся в глаза сходство объединяло их, а тайное, спрятанное глубоко внутри. В этой их похожести, наверное, и крылась разгадка расследуемого дела…
Размышления размышлениями, а следствие продолжало идти своим чередом. На прошлой неделе мы предприняли выезд на место происшествия.
С первых минут в доме Георгия Васильевича Красильников повел себя по классической схеме «Убийца на месте преступления». Сначала впал в заторможенное состояние, потом стал озираться по сторонам, нервничать, а во время эксперимента с газовой плитой даже порывался бежать. За этим не последовало признания (втайне я немного надеялся на него), но пищи для размышлений эксперимент дал предостаточно. Во всяком случае, все мы пришли к твердому убеждению: случайно оставить газ открытым было просто невозможно — через минуту в тесной кухоньке начинал ощущаться сильный запах, а ведь Красильников, по его собственным словам, искал спички довольно долго. Кроме того, в полной тишине — Игорь подтвердил, что в доме было исключительно тихо, — становился слышен звук, с которым вытекал газ.
Так удалось отмести еще один пункт «легенды» Красильникова. Факт преднамеренного убийства оказался доказуемым, но мотив… мотив продолжал оставаться загадкой.
Все вместе, включая последние показания Тихойванова, Аронова, Харагезова и других, наталкивало на мысль о сложной и глубокой связи между прошлым покойного, путевкой для Нины Ивановны, вывернутой в прихожей лампочкой и утренним опозданием Красильникова на работу. Даже последовавшее за новыми показаниями Харагезова признание Игоря о взятке, которую он дал заведующему ателье, тоже, пусть косвенно, относилось к этой цепи. У меня не оставалось сомнений: каждая из перечисленных деталей имеет отношение к делу, случайных звеньев здесь нет. Скажу больше: я не сомневался, что мы стоим на самом пороге разгадки, хотя шли довольно сложным путем — через выяснение обстоятельств смерти Волонтира к мотиву его убийства. Количество рано или поздно переходит в качество, так получилось и с нашим делом.
Перелом в ходе следствия произошел на следующий день после выезда на место происшествия, то есть четыре дня назад…
Я сидел у себя в кабинете. Время близилось к шести.
Дневная работа была закончена, и в ожидании последней сводки из уголовного розыска я потихоньку собирал со стола бумаги. Не знаю почему — возможно, потому, что ждал звонка, а скорее всего без всякой связи — мне вспомнился фильм, который мы с женой смотрели неделю назад, вспомнился неправдоподобно закрученный сюжет, благообразный седовласый сыщик, лазавший по чужим чердакам в поисках всемирно известных шедевров живописи. Наверное, по аналогии с забитым хламом чердаком в сознании всплыла прихожая в квартире Красильниковых, а от нее мысли перекинулись на Нину Ивановну — безобидную старушку, которой так и не довелось съездить в санаторий за счет необъяснимой щедрости соседа. Необъяснимой… Мне бы способности киношного сыщика, вот для кого не существовало тайн!
И все же: зачем Красильникову понадобилось доставать путевку для Щетинниковой?
В бескорыстие его не то чтобы не верилось, я его просто исключал. «Не тот он человек, чтобы вкладывать деньги, не предусмотрев процента прибыли», — думал я словами Харагезова. Действительно, не тот. Но для чего же тогда? Какие проценты могло принести ему здоровье Нины Ивановны? Да никаких!.. А что, если поставить вопрос иначе: какие проценты мог принести ему отъезд соседки?..
И вот тут меня осенило — с нами, следователями, это случается; правда, не так часто, как с киногероями. Удивительно, как это я раньше не догадался?! Еще тогда, в день убийства, когда менял в прихожей лампочку?! И Красильникову и Волонтиру нужна была квартира Щетинниковой! Пустая квартира! И лампочка — она тоже… Ну, конечно!
Не медля ни секунды, я вызвал дежурную машину, соединился с отделом внутренних дел и спустя пять минут, прихватив двух понятых, вместе со своими ребятами выехал на Первомайскую. Уже по дороге вспомнил: за месяц, что мы возились с делом, жильцов дома успели выселить, предоставив им новые квартиры, и сейчас в доме наверняка никого нет, двери могут оказаться запертыми. Сотниченко, догадавшись о моих сомнениях, успокоил, показав никелированную отмычку, с которой, вероятно, расставался только на время сна.
Когда мы свернули на Первомайскую, в боковое окошко я мельком увидел Тихойванова с дочерью. Они стояли на трамвайной остановке. Федор Константинович что-то говорил Тамаре, и та, слушая его, кивала и слабо улыбалась чему-то. Между ними, взявшись за руки деда и матери, стояла Наташа, дочь Красильникова, — самый таинственный, но в определенном смысле и самый главный участник этой истории. Главный потому, что любой поворот в судьбе близких ей людей в первую очередь и больнее всего отзовется на ее жизни. Как ни громко звучат эти слова, но часть ответственности за ее будущее ложилась и на мои плечи — я ни на секунду не забывал об этом.
КРАСИЛЬНИКОВ
Сменивший прапорщика старшина повел его вверх по лестнице. Ребра ступеней были окантованы металлическими полосами, в средней части они стерлись до блеска и отражали дневной свет, льющийся сверху.
Всякий раз, поднимаясь на четвертый этаж, Игорь принимался считать ступени, но всегда сбивался, потому что по мере приближения к кабинету следователя совсем другие мысли овладевали им. И сегодня, гадая, что ждет его за обитой дерматином дверью, он вспомнил, как на прошлой неделе его неожиданно вызвали из камеры, посадили в машину и повезли к домику Волонтира, чтобы предложить ему воспроизвести все свои действия, показать и рассказать еще раз, что и в какой последовательности происходило в ту ночь. На их языке это называлось: «Выезд на место происшествия». Сидя между одетыми в длинные шинели конвойными, он не подозревал, что это будет так трудно и опасно, и даже обрадовался возможности хоть ненадолго сменить обстановку.
На Первомайскую приехали вечером. Вышли из крытого «газика» на злой, колючий от мороза воздух, через пустую подворотню прошли во двор.
Слева высилась черная громада пустого строения. Справа сиял огнями его дом. Мелкая снежная крупа плясала в падающих из окон пятнах света, холодной пылью оседала на шапках и пальто молча идущих по двору людей. На подсвеченной изнутри занавеске в окне первого этажа мелькнул знакомый Тамарин силуэт. Там было тепло и уютно, за столом, склонившись над тетрадкой, наверное, сидела Наташка или зубрила что-то, готовясь к занятиям. Хотелось остановиться, хоть одним глазком посмотреть на дочку, но его быстро ввели в нетопленый тесный коридорчик, где все еще ощущался легкий запах газа. Сзади захлопнулась дверь. Гулко забилось сердце. «Ловушка», — подумал он, оглядываясь по сторонам.
Знакомые предметы, оставшиеся на своих прежних местах, обступили со всех сторон и как будто злобно радовались его появлению. То, что он хотел считать безвозвратно канувшим в прошлое, о чем, сидя в своей камере, избегал думать, а если и думал, то, обманывая себя, как о постороннем, не имеющем к нему никакого отношения, оказывается, существовало все это время и ожидало его прихода, чтобы напомнить о себе парализующим волю страхом. Сознавая, что психологически не подготовлен к предстоящему испытанию, он изо всех сил сопротивлялся давящей атмосфере дома, в то же время завороженно смотрел на синие, с голубыми кольцами, обои, на календарь с не оторванным за январь листком, на газовую плиту, на колченогий венский стул, прижатый гнутой спинкой к стене, — смотрел и, не желая того, «видел» Волонтира.
Призрачный, видимый лишь одному ему, он выходил, припадая на левую ногу, из комнаты, почесывая поросшую седым волосом грудь, и ухмылялся. Совсем как в тот последний вечер. «Ничего, потолкуем. Вот попьем чайку и потолкуем…»
Мимо двигались люди, следователь отдавал какие-то распоряжения, а он застыл у проема, соединявшего коридор с комнатой, и не мог оторвать глаз от этажерки со старомодными слониками, безделушками, от круглого, покрытого пестрой клеенкой стола, рядом с которым стоял обтянутый коричневой кожей диван. Оставаясь невидимым для присутствовавших, Волонтир сидел на потертом диванном валике и скалился, обнажая свой желтые от табака зубы. Это до такой степени было похоже и на сон и на явь одновременно, что на миг поверил в живого Волонтира и даже услышал его знакомый испитой голос. «Мальчишка, щенок, — прозвучало в ушах. — Я тебя насквозь вижу, все твои куриные потроха. Вздумаешь обмануть — подохнешь. С того света достану…»
Следователь тронул его за рукав телогрейки:
— Красильников, вы меня слышите?
— Да-да… — Он перевел дух.
Рожденный воображением призрак пропал. На диване сидел молоденький лейтенант в милицейской форме и заполнял бланк протокола.
Неизвестно, что было хуже — плод его фантазии или действительность, во всяком случае, Игорь постарался сосредоточиться на происходящем, и ненадолго ему это удалось.
— Мы приступаем, — сказал Скаргин. — Красильников, покажите, пожалуйста, где располагались вы и где находился Волонтир в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое января.
— Я? — Он неуверенно подошел к столу. — Я весь вечер просидел тут, на стуле. Волонтир — напротив, на диване. — Разрываясь между желанием не вспоминать подробности и необходимостью отвечать на вопросы, он указал на центр стола: — Здесь стояла закуска, бутылки, стаканы.
— С вашего места были видны часы. — Следователь остановился у этажерки. — Вы смотрели на них?
— Нет. У меня были свои, наручные.
— Уточните, в котором часу вы пришли к Георгию Васильевичу.
— В половине девятого.
«Да, это было в половине девятого», — подумал Игорь. Врать не было никакого смысла: тесть видел их с Жорой в подъезде, а сразу после его ухода, забежав домой за бутылкой, он, как и обещал, пошел к соседу.
— И больше временем не интересовались?
— Нет.
— На свои часы тоже не смотрели?
— Не смотрел.
Хотелось отвечать легко, непринужденно, а получилось сухо и скованно: продолжала давить обстановка, слова застревали в горле. Особенно избегал он смотреть в сторону дивана — излюбленного места Волонтира.
— Что пили? — продолжал следователь.
— Сначала мою «Пшеничную», потом Жора вытащил из холодильника «Экстру».
— На холодильнике отпечатки ваших пальцев.
— Да, извините, «Экстру» доставал я.
— Пили одинаково, поровну?
Игорь вспомнил, как, пользуясь любой возможностью, подливал водку в стакан Волонтира, подливал до тех пор, пока у того глаза на лоб не полезли.
— Поровну, — сказал он.
— О чем беседовали?
— Я же говорил — о разном.
— Точнее не можете сказать?
— Не могу.
— Присядьте на свое место. — Следователь подвинул ему т о т с а м ы й стул.
Подчиняясь чужой воле, он, как сомнамбула, присел, и сразу же произошло то, чего больше всего боялся: снова «увидел» Волонтира. Продолжением кошмарного сна промелькнула его зеленая байковая рубашка, его смазанное движением лицо с насупленными, черными как смоль бровями. Разом всплыло все, что исподволь наслаивалось в течение нескольких последних лет, всплыли полузабытые детали, некогда составлявшие нечто целое, значимое, но со временем выпавшие из памяти как мелкие и ненужные, потому что все разговоры, встречи были только прелюдией к главному — о б щ е й ц е л и, а она появилась не сразу, лишь на второй год знакомства.
С чего же все-таки началось?
А началось со странной просьбы.
Волонтир подстерег после работы, зазвал к себе, угостил вином и сказал, что давно к нему присматривается.
— Ну и что? — Привыкший у себя в ателье к конкретным просьбам заказчиков, Игорь не склонен был затягивать разговор без необходимости. — Надо чего?
В том, что у соседа просьба, не сомневался — иначе зачем дармовое вино?
Волонтир усмехнулся:
— Торопишься, парень…
Но тут же перешел к делу. Он хочет поменяться квартирами с их соседкой Ниной Ивановной, но она будто бы против, хотя условия выгодные: он предлагает сделать у себя капитальный ремонт и даже доплатить ей небольшую сумму — так, в виде компенсации.
— Какая же компенсация? — удивился Игорь. — У нее и площадь поменьше, и сторона несолнечная.
— Неважно. Мне больше нравится ее квартира, — отрубил Георгий Васильевич.
Игорь почуял: дело нечистое, но вникать не стал — своих дел по горло — и, чтобы отвязаться, отработать дармовое угощение, пообещал при встрече перемолвиться с соседкой, походатайствовать. На том и порешили.
Случай вскоре представился, однако Щетинникова — болезненная, еле передвигавшаяся старушка — наотрез отказалась: «Переезд — все равно что пожар, да еще в моем возрасте. Нет-нет, умру здесь, тут привычней». Игорь не особенно настаивал, не был заинтересован: Щетинникова как соседка его вполне устраивала — тихая, спокойная, неделями не выходила из своей комнаты, одним словом, божий одуванчик. Передал результат разговора Волонтиру. Тот расстроился и попросил повторить предложение. Игорь согласился, но на этот раз ничего делать не стал.
Настойчивость Жоры — они перешли на «ты» после нескольких совместных попоек — укрепила Игоря в мыслях о нечистой сделке. Он был совсем не прочь проникнуть в настоящие планы своего нового дружка и даже предпринимал что-то в этом направлении, расспрашивал, но Жора, или, как он его иногда называл, Джордж, не поддавался. «Ну и черт с тобой», — отступился тогда Игорь. Он был занят сколачиванием своей первой тысячи, которую тайком, от жены собирал из «левых» рублевок и трешек, и чужие секреты интересовали его постольку поскольку.
Со временем как-то само собой между ними стало считаться, что у Волонтира есть свой хитрый интерес в обмене, какая-то своя выгода. Сам он на эту тему не распространялся, но Игорю говорить не мешал, ему вроде даже нравилось слушать его треп о Щетинниковой.
Так повелось, что раз, а то и два в неделю они посиживали в волонтировской мазанке, ни о чем особенно не говоря, но и не скучая. Игоря устраивало новое, вскоре перешедшее в привязанность знакомство, тем более — и это немаловажно — что в большинстве случаев спиртным угощал сосед.
Привычка рождает доверие. Постепенно — на это ушли месяцы — Игорь многое рассказал о себе, и Волонтир, в свою очередь, стал откровеннее. Но прошло еще много времени, прежде чем Игорь понял все до конца. А пока «Джордж» сначала скупо и урывками, потом все подробнее говорил о своей жизни, о том, как в двадцатых годах его раскулаченные родители навсегда сгинули, уехав куда-то в Сибирь, как жили они со старшим братом на окраине, как собирались у них вечерами какие-то подозрительные типы, пили самогонку, играли в карты, делили барахло, а в сороковом брат устроился работать дворником, и они перебрались во флигель, откуда год спустя Дмитрия призвали в армию…
Однажды — это было уже совсем недавно, в ноябре, — разомлев от выпитого, Волонтир рассказал, как мальчишкой, оставшись в оккупированном городе, трусил, спасаясь от бомбежек в подвале дома, как в июле сорок второго после жестоких боев и вселяющих ужас артналетов в разрушенный город на мотоциклах и пятнистых танках ворвались немцы, а вместе с ними его брат Дмитрий, служивший в зондеркоманде.
— Так он предатель, изменник Родины? — поразился Игорь, впервые услышав эту историю.
— Идиот! — рассердился Волонтир. — Ты что ж думаешь, предателями рождаются, в роддоме их метят: этот героем будет, а этот предателем? Дмитрий свое получил. Расстреляли его по приговору трибунала. Думаешь, хотел он этого? Глуп ты, парень, жизни еще не нюхал настоящей. Повернулась фортуна задом — вот и пошел служить. Не по своей воле — заставили: не ты убьешь, так тебя прихлопнут. Разговор у немцев короткий был…
Игорь слушал вполуха, удивляясь и довольно слабо представляя, как могло случиться, что находившийся перед ним не старый еще мужик, оказывается, самолично видел то, что ему было знакомо только из книжек и кино: видел живых гитлеровцев, жил под одной крышей с братом-изменником, а теперь, спустя много лет, т о т ж е с а м ы й человек, взяв в гастрономе пол-литра и накачавшись, расселся на диване, спокойно разглагольствует об этом, и он, Игорь, пьет с ним, называет Джорджем. Уму непостижимо!
— Время такое было, — не унимался задетый за живое Волонтир. — Это сейчас все умные стали да волевые. Ты вот думаешь, из тебя непременно Александр Матросов вышел бы, случись что? А я так разумею: жидковат ты для этого в кости, парень…
— Но-но, полегче! — возмутился Игорь, и разговор на этом оборвался.
Допив бутылку, разошлись.
В течение последующих нескольких дней он то и дело возвращался к словам Волонтира, хотел даже порвать с ним, не здороваться при встречах, но острота ситуации сгладилась, потускнели новизна и необычность узнанного. Да и в чем, собственно, Жора виноват? Брата судили и расстреляли, а его-то не привлекли, не тронули, следовательно, ничего опасного в знакомстве с ним нет. К тому же возникла какая-то нужда в нем — кажется, Тане пришла блажь полакомиться бананом, а на овощебазе они были, — и отношения возобновились.
Позже они не раз и уже безболезненно возвращались к этой скользкой теме. Встречались часто, почти каждый день; вышло так, что не развела, а, наоборот, вмертвую соединила их история, рассказанная Волонтиром. Игорь будто чувствовал, что за сказанным стоит еще что-то очень важное, важное для него лично. Жора упорно проповедовал свои взгляды, сводившиеся к примитивной формуле: пятерка всегда была и есть лучше трояка.
— Жизнь одна, — философствовал он, — и, если повезет, выжимай из нее все, что можешь.
— Не много же ты из нее выжал, — поддевал его Игорь.
— Мой день еще не пришел, — многозначительно отвечал Волонтир.
Намеки на какие-то не осуществленные пока возможности, на имеющийся в запасе шанс разжигали любопытство Игоря, будили фантазию, придавали смысл и какое-то особое значение их отношениям. Он и не заметил, как постепенно «Джордж» занял в его жизни чуть ли не первое после Тани место…
Чего бы он ни отдал сейчас, чтобы вернуть те дни: ушел бы, забыл, вычеркнул, как кошмарный сон. Откуда он взялся на его голову, этот потомок раскулаченного мельника?! Откуда, будь он трижды проклят!
— Красильников, очнитесь…
Игорь вздрогнул.
— Вы что, не слышите? Почему не отвечаете? — громко спросил следователь.
— Простите, я задумался и не расслышал вопроса.
— От какого места вы тащили Волонтира к дивану?
— От какого… от какого места, — медленно приходя в себя, повторил он за следователем и встал со стула. — Потерпевший стоял в проходе между комнатой и кухней. Я заметил, что ему стало плохо…
— Как вы это определили?
«Как, как! — раздраженно подумал он. — От такого количества спиртного другой свалился бы с ног еще до двенадцати! Фактически он выпил не меньше чем полторы бутылки, да еще и на работе приложился, не иначе…»
— Он зашатался, оперся спиной о косяк двери и начал сползать на пол.
— Что сделали вы?
— Подхватил его и повел к дивану.
— Положили, а дальше? Георгий Васильевич говорил вам что-нибудь?
«Говорил! Конечно, говорил, а то как же! Может, вам стенограмму представить, гражданин следователь?»
— Бормотал что-то, но я слов не расслышал.
— Уложив его на диван, вы пошли ставить чайник?
Игорь со скрытой ненавистью посмотрел на Скаргина: «Сколько будет продолжаться эта экзекуция? Неужели он надеется, что я выложу все как есть: нет, мол, пришлось подождать, пока эта скотина не отключится окончательно, и только потом…»
— Вы сразу пошли ставить чайник?
— Да, я пошел к плите.
— В чайнике была вода?
«Господи, ну откуда мне знать, была она там или нет?! Что ответить? Вдруг не угадаю?»
— Кажется, была. — И тут же, поймав взгляд следователя, поправился, чувствуя, как до предела напряглись нервы. — Точно была.
Следователь, видимо, понял, в чем дело, но виду не подал и жестом пригласил его выйти в коридор.
— Постарайтесь вспомнить: в доме не было слышно никакого шума? Музыки, например…
— Нет, было тихо.
— А репродуктор?
«Ну, на этом ты меня не поймаешь», — подумал он, не понимая, куда клонит Скаргин.
— Программа давно закончилась. Шел второй час ночи.
Следователь подождал, пока его ответ занесут в протокол, и кивнул на плиту:
— Включайте.
— Но ведь газ… — растерялся Игорь.
— Включайте смело. Газ перекрыт.
Фотограф навел на него свой объектив. Черная, с никелированной полоской, ручка легко повернулась на девяносто градусов. Послышалось шипение.
— Он не отключен! — воскликнул Игорь, и тут же мелькнула мысль: «Подловил, гад! Опять подловил!»
Взгляды всех присутствующих были направлены на него. Он ощущал это кожей, каждым нервом и оттого испытал неодолимое желание бежать, исчезнуть, оказаться где угодно, только не здесь, в ставшей безмерно огромной кухне, рядом с газовой плитой, из которой с мышиным свистом непрерывно вытекал газ.
— Слышите? — нарушил молчание Скаргин.
— Да.
— А тогда не слышали?
— Нет, не слышал! — поспешно выкрикнул он и взорвался: — Считайте, что у меня заложило уши, что я оглох, считайте, что хотите, только оставьте в покое!
— Слух у вас, прямо скажем, неважный, — холодно заметил Скаргин. — Ну а со зрением как? Взгляните прямо перед собой — на кухонной полке перед вашими глазами лежат спички. Тридцать шесть коробок…
Одновременно с фотовспышкой щелкнул затвор аппарата.
Скаргин, не дождавшись ответа, спросил:
— Покажите, где нашли коробок с одной спичкой?
— На столе. Я же говорил. — Взгляд Игоря был прикован к конфорке.
— Вы много чего говорили. — В тоне следователя впервые прозвучала неприязнь, но он справился с собой и по-прежнему сухо и подчеркнуто официально предложил: — Пройдите к столу, как если бы шли за коробком, и вернитесь сюда.
Игорь выполнил просьбу. Когда он снова подошел к плите, в нос ударил тухлый, вызывающий тошноту запах. С ужасом прислушиваясь к шипению газа, теряя над собой контроль, Игорь инстинктивно сделал шаг назад.
— Чувствуете запах? — следователь в упор смотрел на него.
— Нет, — едва выговорил он.
— Откройте вторую конфорку. Как тогда.
— Нет!
— Открывайте! — потребовал Скаргин.
— Нет! Не могу! — сорвался он на крик и в панике рванулся к двери.
Кто-то удержал его за руку, преодолевая сопротивление, вернул в комнату.
Он с облегчением отметил, что газ перекрыли, и лишь после этого спрятал лицо в ладони. Провал! Полный провал! Они привели его сюда, в волонтировский флигель, где еще бродит призрак хозяина, где еще звучит его голос, привели, чтобы он своим поведением выдал себя, и добились своего, добились, добились!..
Боясь отнять руки от лица, он раздвинул пальцы и сквозь узкий просвет увидел, что никто не обращает на него никакого внимания — каждый занят своим делом: лейтенант заполняет протокол, фотограф перезаряжает кассету, следователь диктует, прохаживаясь из угла в угол. Но это не успокоило. Он понимал: если и оставались возможности бороться за себя, то лишь формальные, потому что после сегодняшнего эксперимента морально он был уже уничтожен. Волонтир мстил ему, выполняя давнюю свою угрозу расквитаться за предательство. И, словно в подтверждение этой странной мысли, он вновь «увидел» сидящего почти рядом приятеля…
— Деньги я дам, парень. — Жора хлопнул заранее извлеченным из шифоньера бумажником. — Я ведь не так, как ты, в сберкассу не хожу. Держу свои наличными. Так спокойней. Сколько, ты сказал, надо? Четыреста?
Он послюнявил пальцы и отсчитал деньги.
— На, держи. Потом рассчитаемся. — Он снова полез в бумажник. — И вот тебе еще двести на путевку.
Игорь потянулся за деньгами, но Жора отвел руку.
— Погоди. Даю с условием, что отправишь эту каргу в санаторий не позже января, лады?
Разговор происходил в последних числах ноября, спустя месяц после того, как Игорь был посвящен в тайну.
Три года выжидал Волонтир: то боялся милиции, то сомневался. На четвертый начал строить планы, изобретал способы проникновения в чужую квартиру, но лучшее, что мог придумать, — обменяться со Щетинниковой. Обмен не состоялся. Нина Ивановна уперлась. И Волонтир растерялся. Прикидывал и так и этак, в конце концов сообразил: одному не справиться. Стал думать, кого взять в напарники, остановил свой выбор на Игоре. Тот устраивал его по всем статьям: в семье неблагополучен, собирается развестись с женой и уехать из города, не прочь выпить, в меру труслив, но за приличные деньги пойдет на риск, а главное — единственный сосед Нины Ивановны. Без него никак не обойтись. Делиться, конечно, не хотелось, но другого выхода не было, и он не торопясь стал готовить компаньона: осторожно прощупал, рассказал о Дмитрии, о его службе в зондеркоманде, потом о спекуляциях с имуществом, описал золото, драгоценные камни…
Как и ожидал, Игорь загорелся:
— Вот это размах, я понимаю!
— Ты, парень, еще не представляешь того размаха. Он, Дмитрий-то, в немцев не шибко верил, знал: будут деньги, будет и сила, и власть — все будет, потому и рассчитывал только на себя. Представь: сотни обручальных колец, перстни, монеты царской чеканки, часы с браслетами! Возьмешь такой — рука отвиснет.
— А ты не преувеличиваешь? — засомневался Игорь.
— Дурак. Знаешь, сколько народу в сорок втором ко рву поставили?..
— Так он с расстрелянных снимал?!
— И снова ты дурак, парень. Ну какая тебе разница, с кого снимал? Ты, что ли, этим занимался? Да и не знаю я точно. Может, и не снимал вовсе, может, ему немцы приносили. Среди них тоже спекулянтов хватало.
— В принципе верно, но…
— Что «но», что «но»? Отказался бы ты, к примеру, от килограмма золота? А?
Игорь ухмыльнулся:
— Чего зря языком молоть: отказался — не отказался. Был бы этот килограммчик в натуре, а уж я бы нашел ему применение, будь спокоен.
— Ну а если есть? — спросил Волонтир, невольно понизив голос, так как впервые открыто произносил то, что не давало покоя все три года. — Если есть такой килограммчик, что скажешь?
И подробно, пугаясь и одновременно удивляясь своей откровенности, рассказал, как часто в послевоенные годы вспоминал вещички, попадавшие в их дом от немецких офицеров, как удивился, узнав, что Дмитрий жив и привлечен к уголовной ответственности.
На допросах он не стал скрывать темные делишки брата в оккупацию, но при рассмотрении дела в трибунале изменил показания в его пользу. Произошло это по следующей причине. В один из первых дней судебного заседания его разыскал среди свидетелей словоохотливый адвокат, защищавший брата, и, отозвав в сторонку, передал привет от Дмитрия и его слова: «Если все обойдется благополучно, он сможет забрать себе все». При этом адвокат поинтересовался, не идет ли речь о деньгах. Волонтир поспешил ответить отрицательно, хотя сразу понял, что имеет в виду старший брат, понял так ясно, что, разволновавшись, вышел на улицу, чтобы никто не видел его дрожащих рук. Догадаться было и в самом деле несложно, так как ни на что другое, кроме ценностей из железного ящика, старший брат намекать не мог.
«Значит, не увез, спрятал», — ликовал Волонтир, прикуривая от вздрагивающей в пальцах спички. Стал перебирать в памяти полузабытые узелки с перстнями, монетами, массивными часами из тусклого желтого металла и только полчаса спустя, немного успокоившись, подумал: надо еще узнать, где спрятано. Дмитрий дал ему понять, что скажет, если все будет б л а г о п о л у ч н о. Значит, из кожи вон надо заслужить, сделать что-то для него! Но что? Над трибуналом не властен, свидетелей не подкупишь, остается изменить собственные показания. Скорее всего на это он и намекал, желая смягчить свою вину.
— Ну и ну, — удивился Игорь, слушавший внимательно, заинтересованно. — Много же ты выжал из одной фразы.
— На то и голова к плечам привешена, а не тыква, парень, — усмехнулся польщенный Волонтир.
— И что, сказал он тебе, где ящик?
— Прежде с меня семь потов сошло. Хотели даже к суду привлечь за ложные показания, но обошлось, сослался на память. Зато после приговора Дмитрий передал, что, мол, в печке кафель сменить надо. Там, значит, спрятана коробка.
— И известно, где печка-то?
— Не было бы известно, не затевал бы разговора. Но сначала скажи: поможешь?
— А ты уверен, что не соврал он тебе?
— Перед смертью? Его ж к расстрелу приговорили!
— Вот именно, что перед смертью.
Волонтир подозрительно повел глазами.
— Не юли! Говори прямо, согласен или нет?
— Ну согласен.
— Без «ну». В случае чего с того света достану, парень, так и знай. Со мной не шути, обожжешься!
Игорь успел догадаться: ценности спрятаны в квартире Щетинниковой, недаром Жора так «болел» обменом. Догадался, но не стал забегать вперед и терпеливо выслушал историю о том, что во время оккупации в их двухэтажном доме располагалась казарма зондеркоманды. В доме напротив — следственная тюрьма. На фасаде, со стороны улицы, висел флаг со свастикой, а перед домом ходили с карабинами часовые. Старший брат Волонтира занимал комнату на первом этаже, ту самую, в которой живет Щетинникова. Печь находится в этой комнате, вернее, не печь, а выложенная кафелем стенка, когда-то протапливавшаяся из другой квартиры.
В тот вечер они расстались поздно. Сошлись на такой идее — ее подсказал Игорь: достать старухе путевку в санаторий, уговорить ехать и в ее отсутствие обделать дело. Для осуществления этого плана Игорю следовало войти в доверие к Нине Ивановне, проявлять всяческую заботу и внимание, чтобы затея с путевкой не показалась ей подозрительной. Ценности решили разделить поровну.
Трудно сказать, принимал ли Игорь всерьез историю с кладом. Были, конечно, сомнения. Но в ноябре, когда Жора так легко согласился одолжить ему четыреста рублей, пошедших на взятку Харагезову, да еще прибавил двести на путевку, он поверил окончательно. Щедрость приятеля, значительность суммы — аргументы, против которых Красильников устоять не мог. На следующий день он нанес визит соседке и с тех пор заходил каждый вечер. Харагезов обещал достать путевку, и, если бы не смерть Щетинниковой, возможно, все повернулось бы по-другому.
Около восьми вечера семнадцатого января у Нины Ивановны случился сильнейший приступ. Она попыталась встать с кровати, кликнула ослабевшим от боли голосом соседей, но тромб, подобравшийся к сердечному клапану, в секунду оборвал ее жизнь.
К девяти, слегка поссорившись с Таней, домой вернулся Игорь и по установившейся за последние два-три месяца привычке постучал к Щетинниковой. Не дождавшись ответа, толкнул дверь, вошел и обнаружил труп соседки. Был соблазн сразу взяться за поиски, но шум могла услышать Тамара. Игорь рисковать не хотел. Он позвал жену, а сам выскочил к Волонтиру. Того дома не было — ушел на суточное дежурство. Игорь вернулся, отослал плачущую Тамару звонить в «Скорую помощь», собрался было, пока никого нет, простучать стенку, но помешала дочь…
Дальнейшее он помнил как в тумане. Приехали врачи, сидели, писали что-то. Игорь сказал, что он берет хлопоты с похоронами на себя. «Скорая» уехала. Приходили соседки, причитали вполголоса, плакали. Ушли. В одиннадцать, улегшись в постель с Тамарой, он стал обдумывать создавшееся положение. Жена долго ворочалась, мешая сосредоточиться, а когда заснула, он понял, что идти среди ночи в комнату, где лежит покойница, не сможет.
Наутро проснулся с готовым планом. Съездил на работу предупредить начальство, оттуда — в похоронное бюро, на кладбище, снова в бюро, и к часу дня все было в ажуре: соседки уложили старуху, гроб снесли в машину, отвезли, закопали. Около трех он уже был дома.
— Приходили из домоуправления и опечатали квартиру, — огорошила новостью Тамара и спросила: — Ты не забыл? Сегодня восемнадцатое.
— Ну и что?
— Годовщина нашей свадьбы.
Он ругнулся, удивляясь ее простодушию, но слова жены натолкнули на спасительную мысль.
— Значит так, собирай Наташку и езжай к отцу. — Знал, что дорога туда и обратно с транспортом, разговорами у тетки о житье-бытье займет, как минимум, три часа. — Оставишь Наташу и возвращайся с Федором Константиновичем. Отпразднуем. А я отдохну, устал что-то.
Едва дождавшись, когда хлопнет дверь в подъезде, подошел к двери в комнату Щетинниковой.
Поперек створок была приклеена четвертинка листа с чьей-то подписью и круглой домоуправленческой печатью. Сбегал к себе за бритвенным лезвием, попробовал поддеть — бумага надорвалась. Снова попробовал — опять надрыв. Кое-как справился. Сунул в замочную скважину ключ, висевший у входа на гвоздике, повернул. Дверь отворилась.
Внутрь через щели в ставнях падали полоски света. Пустая кровать, наспех застеленная шелковым покрывалом, стояла справа, слева — торшер.
Игорь действовал так уверенно, словно давно отрепетировал каждое движение: зажег свет, осмотрелся, присел на низкую скамеечку у кафельной стены и легонько стукнул молотком по плите. Звук получился слишком звонким. Тогда принес из дому стамеску и тыльной стороной ручки снова стукнул. Глухо. Ударил рядом. Глухо. Еще раз — то же самое.
Передвигая следом за собой скамеечку, добрался до середины. И вдруг звук изменился. Под кафелем, несомненно, была пустота. Под соседней плиткой — тоже. И еще под четырьмя. Игорь вытер капли пота, выступившие на лбу, стал на колени, приложил стамеску острым срезом к щели и ударил по ручке. По молочной белизне плитки побежали трещины. Он ударил сильнее. Стамеска, кроша сухую известь, на треть вошла в зазор между кирпичами. Брызнуло красное крошево.
Последующие удары он наносил, не целясь, стараясь лишь придерживаться намеченного прямоугольника. Острые осколки кафеля впивались в лицо, известковая пыль ела глаза, оседала во рту, но Игорь не замечал этого. Только когда преграда была сметена, он отбросил молоток и стамеску, заглянул внутрь. Там лежал ящик. Он вытащил его, попробовал на вес — тяжелый! Дернул за приваренную к плоской крышке ручку, ковырнул пальцем отверстие для ключа. Взгляд случайно упал на часы. До прихода жены и тестя оставалось чуть больше часа! Он удивился: неужели столько прошло?! Отнес металлический ящик к себе, положил под кровать, потом передумал, вытащил и задвинул под сервант, заложив банками с консервированными огурцами. Проверил, чтобы не было видно. Видно не было.
Целый час ушел на возню с дырой. Он заложил ее обломками кирпича, наскоро замазал разведенным на воде алебастром и на всякий случай придвинул к стене кровать.
Оставалось подклеить бумажку на двери. Как ни старался, получалось заметно, а времени было совсем мало. Он вынес из комнаты стул, поставил на него табурет и, забравшись наверх, выкрутил из патрона лампочку…
Четыре дня прошло после выезда на место происшествия, и все четыре дня, вспоминая свою позорную слабость, свое граничащее с полным признанием вины поведение, Красильников не находил себе места. Что-то изменилось в отношении к нему следователя — он чувствовал это совершенно отчетливо. Всего лишь раз, на следующий день после выезда, тот вызвал его к себе, но не строил, как обычно, ловушек, не ловил на противоречиях, а ограничился уточнением малозначительных, казалось, деталей: спрашивал о лампочке, о Щетинниковой, о ссоре с тестем, о времени его ухода. За всем этим что-то стояло: не то формальности последней стадии следствия, не то подготовка к последнему, решающему разговору. Игорь надеялся на первое и не хотел верить во второе. Создавшуюся расстановку сил предпочитал расценивать как патовую позицию, когда с его стороны не было ни малейшего желания сдаваться, а со стороны Скаргина не хватало данных для предъявления обвинения в умышленном убийстве.
«Ничего, пусть помучается, — думал Игорь, поднимаясь по ступенькам административного корпуса. — Пусть ищет. А я подожду, мне торопиться некуда — впереди два-три года в местах не столь отдаленных. Зато вернусь — заживу! Небесам жарко станет!» На возвращение после отбытия наказания он возлагал большие надежды, лелеял планы беззаботной, материально обеспеченной, или, как он называл, платежеспособной, жизни у Черного моря. И сейчас, в считанные минуты перед встречей со Скаргиным, ему вспомнился последний разговор в волонтировском доме в ночь с восемнадцатого на девятнадцатое. Разговор, крепивший зыбкую почву его надежд…
Началось с угроз. Жора затащил его в комнату, швырнул на диван, придвинулся, дыша перегаром, разъяренно сверля глазами.
— Ты что ж, падла, в прятки со мной играешь? — Он схватил со стола кухонный нож. — Кровь пущу!!! — и приставил острие к горлу. — Где сейф? Говори, гаденыш, не то пырну!
— На работе спрятал, — выдавил из себя Игорь. Соврал сознательно, побоялся, что на самом деле пырнет, если принести ящик немедленно.
— Как — на работе?! — взревел Волонтир. — Зачем? Почему не принес мне? Вильнуть вздумал, гнида?!
— Тебя не было, я заходил… — Игорь изо всех сил давил затылком в спинку дивана, чтобы ослабить укол лезвия. — А дома держать побоялся. Вдруг жена найдет. Все дело насмарку…
Волонтир ослабил хватку.
— Сам должен понимать, не маленький, — оживился Красильников. — Ты подумай, подумай своей дурной башкой, куда мне его девать?! С собой носить? Или в камеру хранения на вокзал сдать? Усек?!
— Рассказывай. — Жора плюхнулся на валик. — Все рассказывай, гад! — И потянулся к бутылке.
Трогая саднящую ранку на шее, Игорь подробно описал весь день: хлопоты с похоронами, отправку жены с дочерью к тестю, поиски тайника. Когда дошел до сейфа, Жора, успевший проглотить полстакана водки, перебил:
— Ручка есть на крышке?
— Есть, есть, — успокоил его Игорь.
— А эмблемка с орлом?
— С орлом и свастикой. Сбоку пришлепана. Фирма!
— Он! Это он! — Волонтир опрокинул в себя стакан, крякнул, закусил огурцом. — Ну, парень, давай еще — за успех!
Выпили.
— Ты, видать, в рубашке родился, — повеселел Жора. — Тяжелый ящик-то?
— Килограммов пять-шесть будет.
— Господи! — Он сорвался с места, суетливо забегал по комнате. — Господи, шесть килограммов! Да ты соображаешь, что значит шесть килограммов?! — Внезапно остановился, пошатнулся, осел на диван. — Ты, конечно, открыл?
Игорь догадался, о чем подумал напарник.
— Да не бойся, не взял я оттуда ничего.
Волонтир сощурил глаза:
— Ты не бойсь, я проверю. — И слегка заплетающимся языком повторил: — Проверю… Думаешь, забыл я? Все помню, сколько чего…
Разлив оставшуюся водку, Игорь заглянул в холодильник и достал еще одну бутылку.
— Не волнуйся, все на месте. Разделим по-честному, Джордж, как договаривались…
С каждой минутой Волонтир хмелел все сильнее. Спустя полчаса, обнимая Игоря, допытывался:
— Ну скажи, скажи, колец много?
— Не считал, — отвечал Красильников, стараясь освободиться от его цепких объятий.
— Да я не спрашиваю, сколько штук. Ты только скажи: много? Только не ври, я помню. Они в связках были, на шпагат продеты.
Игорь, не вскрывавший ящик, мысленно прикидывая его вес, поддакивал:
— Много, много. Нам с тобой хватит.
— А камешки в парусиновом мешочке есть?
— Есть.
— А десятки золотые?
— Навалом, — говорил он и сам почти наяву видел россыпь золотых монет.
В половине второго ночи Жора, едва двигавшийся от выпитого, неожиданно резво кинулся к двери, запер ее, а ключ опустил в брючный карман.
— Ты вот что… не обижайся, парень… Будешь сидеть тут, со мной. До утра… Вместе пойдем… Вместе…
Он свалился на диван и, похоже было, потерял сознание.
Игорь, чуть не плача от досады, с ненавистью смотрел на полуоткрытый Жоркин рот, из которого вырывалось хриплое, нездоровое дыхание, искал выход, и когда решение пришло, оно показалось ему единственно разумным, снимающим все проблемы. Да, это и есть финиш, его финиш. Бег на длинную дистанцию закончился, позади остались Антоны и Тамары, Лены и Жоры, а ему наградой — золото…
Не колеблясь, он вытащил из кармана лежавшего без движения Волонтира ключ, отпер входную дверь и, обернув носовым платком пальцы, крутанул до отказа ручки газовой плиты…
СКАРГИН
Дом, как и ожидалось, был пуст. Теперь он стал точной копией второго — таким же заброшенным и обветшалым. По двору, повернувшись к нам мордой, пробежала собака с уныло опущенным хвостом. Холодная пустота подъезда была наполнена звуками, и каждый из них будто напоминал, что во всем здании не оставалось ни души. Где-то на втором этаже вовсю гуляли сквозняки, стукнула оконная рама — может, в квартире Ямпольской?..
В прихожей я первым делом подошел к двери справа. При ярком свете переносной лампы, которую притащил из машины Логвинов, увидел то, что из-за темноты не разглядел в первый раз — листок с росписью и круглой печатью. Края его были надорваны.
Несколько вспышек блица, и мы прошли в квартиру Щетинниковой. Странно было видеть единственную меблированную комнату в покинутом жильцами доме. Сбоку стоял торшер, вплотную к нему — столик, шкаф для одежды. По другую сторону — швейная машинка и кровать. Четкого представления, что именно следует искать, я не имел, подсказала сама обстановка: при осмотре в глаза бросились четыре лунки на полу, свидетельствовавшие, что на этом месте долгое время стояла кровать. Ее передвинули к противоположной стене, и передвинули, по некоторым безошибочным признакам, совсем недавно.
Логвинов уже занимался отпечатками пальцев, а я внимательно осмотрел мебель и пол. Ничего подозрительного, кроме крошечных осколков кирпича в разных углах комнаты, не обнаружил. С помощью понятых мы отодвинули кровать, и здесь, в кафельном монолите стены, увидели нечто интересное. В пятнадцати сантиметрах от плинтуса кафель был выбит и место это неаккуратно замазано белым веществом.
— Алебастр, — определил Сотниченко, когда мы, выполнив формальности, стали ковырять слой замазки.
Он был тонким, этот слой, зато тайник, скрывавшийся за ним, оказался прочным и вместительным, сделанным на совесть. Никто из нас не надеялся найти в нем что-либо; напротив, с первой минуты было ясно, что до нас здесь уже побывал кто-то. Собственно, гадать не приходилось: Красильников!
Оставалось узнать, за чем так долго и настойчиво охотились наши «кладоискатели», за что поплатился жизнью Георгий Волонтир.
На обратном пути я обдумывал создавшееся положение. Утром девятнадцатого Красильников ездил к матери, чтобы оставить у нее «коробку». Надо полагать, «коробка» и была тем искомым кладом из тайника. Светлана Сергеевна отказала ему. И он уехал. Куда? На что ушло у него время между девятью и половиной одиннадцатого? Где провел Красильников полтора часа? Где спрятал свою «коробку»?
Все замыкалось на Тане — таинственной знакомой Игоря.
Она занимала меня и раньше — девушка, промелькнувшая в свое время перед заплаканными глазами Елены Ямпольской, проскользнувшая мимо рассерженной Светланы Сергеевны, звонившая в ателье Харагезову…
Совместными усилиями уголовного розыска и народной дружины удалось отыскать шофера такси, в машине которого утром девятнадцатого января Красильников прикатил на работу. Шофер хорошо запомнил маршрут — они ездили в пригородную зону, и там, у девятиэтажного блочного дома, он больше сорока минут ожидал парня в пальто из искусственного меха. По фотографии шофер, не колеблясь, опознал Красильникова.
Установить личность Тани, располагая такими данными, было делом одного часа. Но посетить мы ее не успели. Вчера студентка третьего курса педагогического института Татьяна Филипченко лично явилась в районный отдел внутренних дел. Ее, как мне потом говорили, сопровождал долговязый светловолосый парень. Он и нес тяжелый, обернутый двумя листами ватмана пакет. Поступок Тани Филипченко понять нетрудно: месяц она выжидала, опасаясь наводить справки о внезапно исчезнувшем Игоре, потом все же решилась и, когда узнала, где в настоящее время находится ее приятель, струсила и принесла «коробку» нам…
Поздно вечером мы собрались в кабинете прокурора.
Отмычка плавно вошла в замочную скважину, послышался щелчок, и тяжелая крышка стального, украшенного свастикой и орлом сейфа открылась.
Злую шутку сыграл напоследок со своим младшим братом бывший ефрейтор. Внутри лежали толстые пачки банкнотов. Здесь были итальянские лиры, довоенные сторублевки, немецкие марки и даже американские доллары — валюта на все случаи жизни…
Сейчас у окна, выходящего на тюремный двор, все кажется предельно понятным.
Самое любопытное в этой истории то, что человек, который с минуты на минуту войдет в мой кабинет, до сих пор не знает, что убил человека из-за бумажек, давно потерявших всякую ценность.
Стоило ли, спрашиваю я себя, тратить время, прилагать столько сил, чтобы разобраться в грязной возне, поднятой двумя нечистоплотными людьми вокруг старого сейфа — наследства, оставшегося от фашистского прихвостня Дмитрия Волонтира? Я вспоминаю инвалида-буденовца, расстрелянного во рву за городом, вспоминаю своего друга Валерку, лежащего на испачканном кровью снегу, вспоминаю других участников этой истории. Да, стоило! Конечно, не ради Красильникова. Ради Тамары, ее отца, ради маленькой Наташи…
Я не спеша перелистываю томик с сочинениями Козьмы Пруткова. Не буду кривить душой — ношу его с собой не случайно. Еще в первые дни, стараясь лучше понять своего подследственного, я перечитывал эту книгу в надежде найти в ней ответы на одолевавшие меня вопросы. Ответов не нашел. Зато нашел другое — строчки, показавшиеся мне интересными: «Магнит показывает и на север и на юг; от человека зависит избрать хороший или дурной путь жизни».
На этом месте меня прерывает стук в дверь.
— Войдите, — говорю я, не вставая из-за стола.
В дверной щели появляется гладко выбритое лицо Красильникова…
Об авторе
Николай Сергеевич Оганесов — прозаик, член Союза писателей СССР. Автор остросюжетных повестей «Визит после полуночи», «Лицо в кадре», «Мальчик на качелях», «Двое из прошлого», опубликованных в Ростове и в Москве.
Н. Оганесов родился в 1947 году в Ростове-на-Дону. Окончил юридический факультет Ростовского государственного университета. Печататься начал в 1972 году.
По сценарию Оганесова Ленинградским телевидением снят двухсерийный телевизионный спектакль. Повести «Двое из прошлого» и «Мальчик на качелях» переведены на иностранные языки.
Дважды — в 1980 и 1984 годах — Н. Оганесов становился лауреатом литературной премии журнала «Смена». За большую работу по коммунистическому воспитанию молодежи Н. Оганесов награжден Почетной грамотой ЦК ВЛКСМ.


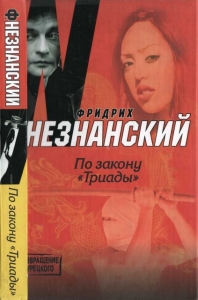


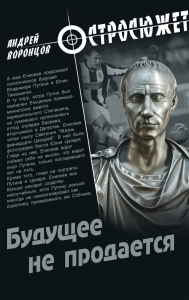


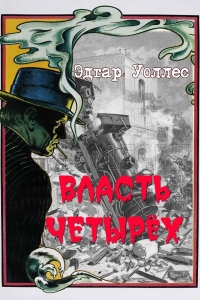


![Чисто английский детектив по-русски [сборник]](https://www.4italka.su/images/articles/576515/primary-medium.jpg)
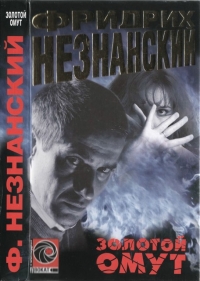

Комментарии к книге «Играем в «Спринт»», Николай Сергеевич Оганесов
Всего 0 комментариев