Александр Кулешов НОЧНАЯ ПОГОНЯ Повести
Повести, собранные в этой книге, документальны. Автор изменил имена, сместил события, многое обобщил, но почти все, что рассказано в них, происходило в действительности.
Писатель Александр Кулешов — лауреат литературного конкурса Министерства внутренних дел и Союза писателей СССР на лучшее произведение о милиции.
К читателю
Днем и ночью, в любую погоду, в любом уголке страны милиция на посту. Она надежно охраняет покой наших граждан, плоды их труда.
Работа милиции многообразна — в ее обязанности входит не только борьба с особо опасными преступлениями, кражами, хулиганством, но и охрана порядка, регулирование дорожного движения и многое другое.
Но прежде всего предотвращение преступления.
Служба в милиции трудная, суровая, порой опасная, но благородная и почетная.
Рассказу о деятельности нашей советской милиции посвящены многие романы, повести, кинофильмы.
Вот и в этой книге читатель найдет три повести лауреата премии Министерства обороны СССР и премии имени А Фадеева Александра Кулешова. Они посвящены разным аспектам деятельности нашей милиции.
Сила советской милиции в ее связи с народом. Ее верные помощники — народные дружинники. Работник милиции всегда помнит, что при всей строгости и решительности его действия должны быть справедливы и понятны народу. На работу в милицию приходят люди по рекомендации коллективов трудящихся, направленные партийными и комсомольскими органами. Эти люди беспредельно преданы партии и Советской власти. Именно такими, вооруженными самой совершенной техникой, наукой, высокой профессиональной подготовкой, умными, смелыми, решительными, всегда готовыми выполнить свой долг, идти на риск ради защиты граждан, верными стражами закона и правопорядка, показывает работников советской милиции в своих повестях Александр Кулешов.
Генерал-лейтенант внутренней службы
Б. ШУМИЛИН
От автора
Более чем двадцатилетняя дружба связывает меня со многими работниками советской милиции. Встречаясь с ними, беседуя, слушая их рассказы, наблюдая за их трудом, я не устаю восхищаться замечательными душевными качествами этих людей — их скромностью, благородством, гуманностью, преданностью делу, беззаветной храбростью, высоким сознанием возложенной на них ответственности.
В свое время я написал несколько повестей, рассказывающих о работниках милиции и публиковавшихся в периодической печати. Прототипами героев этих повестей послужили реальные люди, которых я хорошо знал. Они и сейчас, уже в высоких званиях, продолжают трудиться в органах Министерства внутренних дел.
В те дни, о которых идет речь, они были еще на рядовой работе. Однако уже тогда в полной мере проявились их лучшие качества — профессиональный талант, смелость, решительность, пытливость, упорство, категорическое неприятие всего, что мешает жизни нашего общества.
Разумеется, как и в любом художественном произведении, я многое обобщил, изменил, пропустил через призму авторской фантазии, оставив при этом документальную основу.
За эти годы многое, разумеется, изменилось в работе нашей милиции, усовершенствовались методы, шагнула вперед наука, богаче стала техническая оснащенность, еще более возросли профессиональное мастерство, уровень подготовки и образования работников.
Однако высокие душевные качества этих людей, их преданность делу, их самоотверженность в борьбе со злом неизменны — как в первые годы создания нашей милиции, как на протяжении всего ее существования, в том числе и в годы, к которым относится написание повестей, так и ныне, когда нашей славной милиции исполнилось шестьдесят лет.
В заключение мне хотелось бы поблагодарить всех товарищей — работников МВД, помогавших мне в сборе материала, а также советами и замечаниями и в то время, когда создавались эти повести, и теперь, когда они готовились к настоящему изданию.
НОЧНАЯ ПОГОНЯ Повесть
11 часов 30 минут
— Дежурный по городу Голохов слушает!
Зажав между плечом и правым ухом трубку, подполковник быстро записывает что-то в рабочий журнал, изредка задавая невидимому собеседнику короткие вопросы.
Владимир смотрит на него.
За десять лет, что подполковник служит дежурным по городу, сколько раз произносил он вот эту фразу — пятьдесят тысяч раз, сто тысяч?
Подполковник еще молод. Он веселый, всегда бодрый, всегда энергичный и решительный. Впрочем, в этом отделе все такие: и неторопливый, высокий, любящий пошутить подполковник Бибин, и подполковник Воронцов, самый дотошный и упорный, и другие. Здесь, в этой огромной комнате, середину которой занимает многометровый стол с планом столицы, идет нелегкая работа.
Десятки тысяч москвичей переезжают каждый год в новые квартиры, справляют свадьбы, нарекают именами родившихся детей.
Но об этом сюда не сообщают.
Сюда звонят, когда приходит беда. Беды этой все меньше с каждым годом, но она есть. Если сравнить ее с радостями, она покажется совсем маленькой, и в многомиллионном, колоссальном городе ее и не заметишь.
Но здесь, куда звонят только о ней, она заполняет комнату.
Бациллы чумы незаметны, сколько их на весь мир? Но когда они собраны в одной колбе…
В этой комнате не только собирают сообщения о горестях и несчастьях, но и борются с ними, исправляют. Возвращают людям покой и радость. К людям возвращаются смех, тишина, безопасность, и они вскоре забывают о прошедших тревогах. Тревоги, горести, все грязное, все жестокое оседает в этой комнате, в сердцах и памяти этих спокойных, энергичных людей.
Но сердца их не становятся оттого черствее, наоборот, они становятся добрее и шире открываются людям.
— Дежурный по городу Голохов слушает!
С тех пор как полтора часа назад Владимир пришел на дежурство, он только внимательно смотрит и слушает. Вообще-то говоря, ему, назначенному в очередной наряд оперативнику из уголовного розыска, положено сидеть внизу — там есть специальная комната. Но кто же прогонит его отсюда, молодого лейтенанта, впервые попавшего на дежурство?
Ему здесь все интересно. В этом небольшом двухэтажном доме, что приютился за огромным зданием, которое москвичи привыкли называть «Петровка, 38», круглые сутки не спят. Сюда протянулись провода со всех концов столицы.
В комнате за пультами сидят дежурный по городу, его заместители и помощники.
В тишине то и дело раздается спокойный, негромкий голос: «Заместитель дежурного по городу слушает!», «Помощник дежурного по городу слушает!» Короткие вопросы, а потом короткие, ясные распоряжения.
И вот где-то далеко, разрывая тишину сиреной, мчатся дежурные машины, спешат патрули, несутся мотоциклы…
Происходят в этом гигантском городе и убийства, и ограбления, и драки. Но все меньше становится преступлений, все меньше непойманных преступников.
Чтобы было так, трудятся многие — тысячи, сотни тысяч, миллионы. Дружинники и милиционеры, комсомольцы и спортивные коллективы, педагоги и просто хорошие ребята — рабочие, студенты. Многие… И люди, сидящие в этой комнате, особенно ясно ощущают перемены. Ведь за десять лет легко проследить, как меняется характер преступлений, как уменьшается их число.
Владимир все это знает. В школе милиции, на занятиях, на лекциях в заочном юридическом институте, учебники, наконец, рассказали ему то, что годами на собственном печальном порой опыте познавали старшие.
Вот и сейчас, разве то, что видит здесь и слышит Владимир, не школа?
На каждое дежурство в помощь постоянному дежурному по городу, его заместителям и помощникам разные отделы милиции, в том числе и уголовный розыск, где служит Владимир, выделяют сотрудников. В комнатах на первом этаже дежурят судебно-медицинский эксперт, специалист из научно-технического отдела, следователь прокуратуры, фотограф, оперативные работники, такие, как Владимир, проводники розыскных собак, просто наряд милиции. Во дворе всегда наготове машины.
Дежурить приходится нечасто. Вот сколько служит Владимир, первый раз довелось.
И хотя он уже опытный работник, и хотя он понимает, что каждый выезд оперативной группы — это большая беда, он все же хочет, чтобы что-то случилось и его послали, хочет действовать. Как-то неудобно сидеть сложа руки. Владимир прекрасно знает, что можно сто раз продежурить, так и просидев все двадцать четыре часа на диване и размышляя о самых разных вещах. Он это знает, но все же испытывает нелепое чувство вины за то, что просто сидит и ничего не делает.
А вообще у Владимира нет никаких оснований быть собой недовольным. Он кандидат партии, заканчивает второй курс заочного юридического института, мастер спорта по борьбе самбо, лейтенант… Многие ли стольного добились в его годы?
Ну а потом еще вот Таня. Есть Таня. Жена. И потому все его «штатские» мысли сосредоточены, разумеется, на Тане.
Все-таки Танька (виноват, Татьяна Георгиевна Анкратова) молодец! Серьезно! Не всякая женщина согласится иметь мужа, который может сутками не возвращаться домой, может вскочить по телефонному звонку среди ночи и умчаться в дождливую или снежную неизвестность. Не каждая привыкнет к тому, что, когда уже нет сил ждать, в час ночи, в два может раздаться в трубке хрипловатый голос полковника: «Владимир тут ударился… споткнулся… поехал в больницу… Да нет, так, пустяки, вы не волнуйтесь, скоро привезем».
Нет, совсем не просто быть женой сотрудника уголовного розыска, для которого нет мирных дней, который всю жизнь на передовой невидимого фронта.
Ведь случается, что полковник не звонит, а приезжает сам, седой, еще более суровый, чем всегда, и по взгляду его, печальному и яростному, все становится ясно…
На невидимом фронте война не прекращается никогда.
Мы всегда наступаем, мы всегда побеждаем в ней, но, как всегда на фронте, мы несем потери. И женщина, которая станет женой милиционера, должна быть мужественной.
А Таня, она не выглядит мужественной, совсем наоборот, у нее такие золотые волосы, такие карие глаза, такая улыбка, все время улыбка. Как-то это не вяжется с понятием мужество. А вообще, почему не вяжется? Где сказано, что мужественный человек должен быть черноглазым брюнетом с мрачным выражением лица? Где?
Владимир внутренне улыбается — надо позвонить Тане. Она, наверное, беспокоится — все же первый раз на дежурстве, и даже если бы это было не первое дежурство. Ведь привыкнуть к беспокойству за любимого человека нельзя ни за день, ни за год, ни за целую жизнь.
Владимир вспоминает их первую встречу. Она произошла в стиле лучших романтических историй.
…Было поздно, часов двенадцать. Владимир возвращался с концерта. Он шел не спеша, он любил возвращаться домой по ночной Москве. Впереди раздавался размеренный стук каблучков и маячил стройный девичий силуэт. Этот гулкий перестук органически вписывался в настроение Владимира.
Сначала он хотел отстать — еще подумает, что увязался. Потом пошел быстрее — мало ли что бывает, ночь все же, девушка одна. Кстати, почему одна? И Владимир ускорил шаги, чтобы все время держаться на одном расстоянии. В конце концов он сам увлекся этой невинной игрой. Он шел уже совсем не в направлении своего дома, шел быстро, бесшумно, упругой походкой спортсмена. И вдруг за одним из поворотов стук каблучков оборвался, замер на мгновение и с нарастающей быстротой послышался опять Девушка возникла перед ним и промчалась мимо так стремительно, что он даже не успел разглядеть ее. А через секунду из-за угла показались двое..
— Эй, красотка, эй, стой! Стон, говорят, хуже будет!
Голос злой, хриплый, пьяный.
Владимир не стал раздумывать.
Девушка, остановившаяся в отдалении и нерешительно переминавшаяся с ноги на ногу, услышала короткую возню, шарканье ног по асфальту, глухой вскрик — и вот уже трое идут, взявшись под руки, как самые лучшие друзья: неизвестный парень посередине, оба пьяных хулигана по бокам. Ей не слышен их негромкий разговор.
От страха и боли хулиганы тяжело дышат. Они идут тихо, послушно. Руки их зажаты в железном захвате.
Отделение, оказывается, недалеко. Владимир сдает дежурному сразу начавших обычное нытье хулиганов, предъявляет удостоверение. А где же девушка? Куда она исчезла? Необходимые формальности, и Владимир прощается с дежурным и выходит на улицу…
Она стоит на другой стороне переулка и терпеливо ждет. Владимир переходит и останавливается перед ней.
В тусклом свете фонаря ее карие глаза кажутся совсем черными, зато волосы еще светлей.
Она доверчиво берет его под руку, и они медленно идут по пустынным переулкам. Она — стуча каблучками, он — совсем бесшумно.
Они прошли минут десять в молчании. И только тогда она осторожно сжала его руку и сказала:
— Таня.
— Владимир.
Они рассмеялись.
…Вот так они познакомились год назад. Таня очень гордится этим знакомством, она любит рассказывать о нем подругам, а те восхищаются, охают и, наверное, тайно завидуют.
12 часов 20 минут
— Помощник дежурного по городу подполковник Воронцов слушает. Да, да. Где? Да. Когда? Да вы не волнуйтесь, гражданка. Найдем. Найдем, говорю вам. Сколько лет? Восемь? Цвет волос? Как не знаете? Русые? Ну вот, а говорите, не знаете. Сын ведь! Небось каждую родинку помните. Конечно. А глаза? Карие? Хорошее сочетание. Баловник? Нет? Да вы не плачьте. Все будет хорошо. Телефон ваш? Так. Так. Позвоним. Не волнуйтесь…
Подполковник укоризненно качает головой, улыбается. Только в ясных глазах затаилась печаль. Голохов хмурит брови и бросает на него тревожный взгляд. Но подполковник уже негромко диктует по селектору:
— Пропал мальчик Вова Сорокин, восемь лет, волосы русые, глаза карие, на правой щеке родинка, трусы черные, ковбойка. Потерялся у метро «Сокольники». Повторяю…
Владимир встает с дивана и спускается вниз. Надо позвонить Тане. Сегодня у нее занятий нет, и она наверняка дома.
Владимир набрал номер и, услышав звонкий голос жены, произнес не очень оригинальную фразу:
— Таня, это я…
При этих словах пивший чай проводник собак Николай Филиппович встал и тихо вышел, деликатно прикрыв за собой дверь.
На протяжении последующей четверти часа (а может быть, и получаса — кто считал?) Николай Филиппович несколько раз осторожно приоткрывал дверь и, грустно поглядывая на остывающий чай, со вздохом вновь прикрывал ее. Наконец Владимир вышел из комнаты, дав возможность Николаю Филипповичу допить холодный чай. Лицо Владимира свидетельствовало о том, что никаких неприятных происшествий за истекшие с момента его ухода из дому три часа не случилось. Таня любит его по-прежнему, она позавтракала, читает конспект лекций, очень скучает…
Владимир прошел мимо шахматистов и поднялся в комнату дежурного.
— Бибин, заместитель дежурного по городу, слушает… Да. Да. Адрес? Так. Так. Ясно. Ясно, гражданин, сейчас приму меры.
Владимир тихо сел на диван.
Бибин набрал номер.
— Двадцатое? Почему там у вас в овраге мусор жгут? Там же люди рядом. Как нет людей? A-а… Ну а что, если деревянный дом — так там не люди живут? Нет, ты скажи, там живут люди чи не живут? Так не сегодня ведь переезжают! Нет, будь добр, чтоб жгли где положено, мало ли что далеко возить. А в свою хату не ближе? Нет? Вот так: пока люди живут, никакого мусора. Точка.
Впрочем, конца Владимир не слышал. Он был еще под впечатлением телефонной беседы с женой.
…После того памятного вечера, когда он словно средневековый рыцарь прилетел для спасения своей дамы (это было не его сравнение — Танино), они встречались почти каждый день. Владимир сказал ей, что он студент юридического института. (Это, собственно, не было ложью — он действительно занимался заочно, как и многие его молодые сослуживцы, в юридическом институте.) А не хотелось сразу сообщать свою профессию потому, что вдруг Таня подумает, что, не будь он милиционером, не заступился бы за нее в тот вечер.
Они бродили по уединенным аллеям, целовались по часу, прощаясь у ее подъезда. Много говорили о лекциях, как всегда, без конца рассказывали истории о преподавателях, немного преувеличивая, чуть-чуть придумывая.
И, слушая забавные Володины истории про доцента гражданского права, прозванного студентами «гражданином быть обязан», заливаясь безмятежным смехом.
Таня, конечно, и представить себе не могла, что в тот самый день ее веселый, только уж очень ведущий себя по-мальчишески друг, рискуя жизнью, задержал особо опасного рецидивиста, поймав его руку с бритвой в сантиметре от своих глаз.
Она об этом не знает, а Владимир не думает. Когда он с Таней, он думает только о ней. Просто странно, что еще недавно он не знал ее и каждый из них жил своей жизнью, имел неизвестные другому мысли…
Владимир улыбается про себя: хорошие ребята, те двое хулиганов, без них он бы Таню не повстречал, надо их разыскать, пожать руку.
В семь часов Владимир прощается с Таней — пора на тренировку.
Из-за этих тренировок Таня вскоре и узнала о его профессии.
Дело было так. Вдруг Таня стала ревновать. У очень влюбленных так бывает. Верят-верят, а потом неожиданно начинают ревновать. То ли уж очень хорошо им — надо придумать какую-нибудь заботу, то ли им становится непонятно, как это все девушки на свете не стремятся отбить ее любимого, такого замечательного, единственного, и надо отражать опасность. Словом, появляется ревность. И Таня решила посмотреть, что это за такие «тренировки», на которые Владимир отправляется через день по вечерам. На тренировки, конечно, идти неудобно, а вот на соревнования в зале «Крылья Советов», о которых как-то говорил Владимир, можно сходить.
И пошла. Купила билет, прошла на трибуны и стала смотреть.
Это был финал первенства Москвы по борьбе самбо.
Таня не очень разбиралась в этом виде спорта. Вернее, совсем не разбиралась. Но, когда она увидела, с какой силой, с какой ловкостью и быстротой борцы проводят приемы, бросают друг друга, намертво захватывают руки и ноги, она поняла, почему так легко справился в ту ночь Владимир с двумя здоровенными хулиганами.
А когда сам Владимир вышел на ковер, Таня забыла обо всем на свете. С волнением следила она за схваткой, кусая губы, переживала все ее перипетии. Она хотела лишь одного: чтобы выиграл Владимир.
Но Владимир проиграл. Таня шмыгала носом, суетливо и беспорядочно разыскивая и не находя в сумочке платок. С каким бы наслаждением она отхлестала того рыжего, наглого, наверняка глупого, злого и самонадеянного парня, который оказался победителем! Да и судьи тоже хороши! Вот тот лысый явно подсуживал рыжему. И этот тоже…
Сам Владимир удивил ее, даже разочаровал. Он, весело улыбаясь, пожал руку сопернику, и, обнявшись, они вместе покинули зал. Вряд ли ему требовались утешения.
Когда стали награждать победителей, на верхнюю ступеньку пьедестальчика поднялся рыжий, на второй встал Владимир, а на третьей пристроился невысокий крепыш. Некто в белом костюме подошел, вручил призерам жетоны, дипломы, пожал руки.
А тем временем судья-информатор представлял победителей. Рыжий парень, новый чемпион Москвы, оказался мастером спорта, динамовцем, лейтенантом милиции Николаем Второвым.
«Сразу видно — милиционер, их учат самбо! — с неприязнью подумала Таня. — Как он грубо боролся, жестоко. Неудивительно, что Володя ему проиграл».
Мысли ее прервал сухой голос судьи-информатора:
— Жетоном и дипломом второй степени награждается занявший второе место мастер спорта Владимир Анкратов. Он также представитель общества «Динамо», лейтенант милиции. Третье место завоевал…
Но Таня ничего не слышала. Пораженная, сидела она трибуне. Володя! Володя — милиционер! Лейтенант! Ее Володя — лейтенант милиции!
Таня вскочила, торопясь к раздевалкам спортсменов.
Он! С ней всегда веселый, всегда беззаботный, ходит, гуляет, смеется, а его на каждом шагу подстерегают бандиты и опасности, о которых он ей никогда не говорит! И этот рыжий Второв, наверное, чудесный парень, такой же смельчак, как и Владимир, они вместе борются с преступниками, плечом к плечу! Как могло ей показаться, что он грубый, наглый…
Словом, все стало с головы на ноги, и одного только сейчас хотелось Тане — поскорей увидеть Владимира. Но в раздевалку ее не пустили.
— Вы куда? — сухо спросила дежурная.
— К Анкратову…
— А вы кто? Сестра?
— Нет, я… не сестра… я, собственно, так, знакомая. — Таня покраснела и замолчала.
Дежурная окинула ее снисходительным взглядом и значительно промолвила:
— Ах знакомая! Знакомых, милочка, у такого парня знаешь сколько? Вот то-то. Нет, посторонним нельзя, нельзя посторонним.
Таня убежала, глотая слезы. Посторонняя, это она посторонняя!
И, дождавшись Владимира у выхода, она, к великому его смущению, бросилась Володе на шею и громко, совсем по-детски расплакалась. Владимир долго утешал ее, обещая в следующий раз выиграть, но она только мотала головой, пока он наконец понял, что дело не в упущенной победе А в чем? Он тогда еще не мог понять того, что уже ясно поняла Таня: посторонними они никогда не будут…
Мысли Володи прервал негромкий голос Голохова:
— Дежурный по городу слушает…
14 часов
— Да. Ну и что? — продолжал подполковник. Затем он стал молча кивать головой, отложив в сторону ручку, которую сразу же взял, как только раздался звонок. — Знаете что, гражданин, вы выйдите прогуляйтесь. Да, да, прогуляйтесь до первого поворота и обратно и опять нам позвоните. А мы к тому времени узнаем адрес вашего брата. Договорились? Ну и чудесно.
Подполковник Голохов положил трубку и усмехнулся.
— Кто только не звонит! — сказал он, отвечая на вопрошающий взгляд Владимира. — Человек выпил, зашел в автомат, чтобы позвонить брату, телефон и адрес его он забыл. Монеты нет. А к дежурному набрал 02, и все. Легче всего. Вот он и требует, чтобы мы ему сообщили хотя бы адрес брата. Ну этот еще ничего. А то такие бывают…
— А вы расскажите, товарищ подполковник! — Глаза Владимира заблестели.
Несколько минут Голохов молча улыбался, устремив взгляд в одну точку, припоминая, наверное, разные забавные случаи из опыта своих бессчетных дежурств.
— …Старушка звонит, говорит: «У меня на карнизе пятого этажа кошка мяучит, спать не дает, пришлите снять». Мы ей говорим: «А почему вы пожарных не вызовете?» — «Пожарные ее водой зальют, — говорит, — намокнет, а мне ее жалко». А то еще так однажды было…
Звонок прервал рассказ подполковника.
— Да, — говорит он через секунду, записывая что-то в книгу. Взгляд его сразу стал жестким и сосредоточенным. — Да. Адрес? Ясно. Выезжаем.
Положив трубку и посмотрев на часы, подполковник нажал рычажки селектора и коротко скомандовал:
— Врач, фотограф, эксперт, Николаев — на выезд. Самоубийство. Адрес…
И Голохов продиктовал адрес шоферу. Через минуту за окном раздался шум мотора, и машина, шурша по асфальту, выехала за ворота.
Голохов посмотрел на Владимира и, словно заканчивая прерванный разговор, тихо сказал:
— Так что разные бывают случаи…
Теперь глаза его были печальны и задумчивы.
Владимир встал и, стараясь не шуметь, вышел в комнату дежурного. Там раздавался сердитый голос подполковника Воронцова.
— А вы еще раз проверьте, еще раз. Да что вы меня учите — «на вокзалах»! Вокзалы давно проверены. Я вам сказал: прочешите лес. Он же у Сокольников потерялся. Что значит «смотрели»? Еще раз посмотрите, ведь не клад ищем — мальчика! Ясно? Мать уже сколько времени беспокоится. Вот так! И доложите!
А через минуту тот же голос звучал тепло и мягко:
— …Нет еще, но не беспокойтесь. Все будет в порядке. Найдем. Вот я вам и звоню, чтобы вы не волновались. Нет. Нет. Найдем вашего Вовку…
В углу у окна подполковник Бибин глухо ворчал в трубку:
— Надо проверить. Он второй раз звонил, тот гражданин, неизвестную машину, говорит, разувают, без номера. Что-то клепают. Надо проверить. Он говорит, у них в переулке нет такой машины. Проверьте, только быстренько, и мне сюда звоночек. Точка.
Владимир вновь спустился вниз. Дежурство его явно не удовлетворяло — ну чего он бродит, как неприкаянная душа, то наверх, то вниз! Интересно, конечно, послушать рассказы, но хочется самому участвовать. Эдакое серьезное дело! Чтоб можно было тело размять, да и мозги, кстати говоря, тоже.
Если б знал Владимир, как скоро и как трагически осуществится его желание!..
Внизу врача не было, он уехал с группой. Фотограф Коля скучал и с радостью встретил потенциального собеседника:
— Ты вот, Анкратов, спортсмен, ну, я хочу сказать, мастер спорта и все такое. Как ты думаешь, может, мне тоже заняться или поздно? А? Как вот ты начинал? Расскажи. Почему ты занялся спортом?
— Потому что по шее надавали! — ответил Владимир и, глядя в изумленное лицо Коли, рассмеялся. — Ладно, Расскажу. Я тогда еще в школе учился. Был у меня друг Колька Второв по прозвищу Рыжий. Однажды назначили нас на школьном вечере дежурными — следить за порядком…
Владимир, словно это было вчера, помнит тот вечер. Они встали с Рыжим у дверей, важно и придирчиво проверяя билеты.
Уже кончилась торжественная часть, концерт самодеятельности, начались танцы. Всюду и в зале наверху, и в коридорах, и даже здесь внизу, в вестибюле. Нарядные девочки, мальчишки, аккуратно причесанные, кружились в вальсе. И вдруг наружные двери с грохотом распахнулись, и человек пять ребят ввалились в вестибюль. Здесь был Ванька Длинный, его неизменный друг Ленька Короткий и другая окрестная шпана.
Владимир и Коля пытались загородить им дорогу, но были отброшены в сторону.
— А ну, брысь! — рявкнул Ванька Длинный.
Владимир мужественно вступил в борьбу. Он схватил Ваньку за рукав и потянул. Но сильный удар по затылку заставил его разжать пальцы. Не успел он обернуться, как Ванька Длинный схватил его за волосы, сделал подножку, и Владимир растянулся на полу в смешной и нелепой позе. Не боль от удара, а именно эта глупая поза, унижение, которому он подвергся на глазах у всех, исторгли у Володи слезы. С хулиганами справились быстро. Подбежали комсомольцы-старшеклассники и без особой деликатности вытолкали всю компанию за дверь. Когда угроза миновала, девочки стали хихикать, подталкивать друг друга и показывать на Владимира. Не помня себя от стыда, он убежал домой.
На следующий день в сарае за домом они с Рыжим поклялись торжественной клятвой, что изучат тайные японские приемы джиу-джитсу и всегда будут стоять друг за друга. «Твоя обида — моя обида! Моя обида — твоя обида!» — торжественно провозгласил Коля. Его рыжие волосы пылали как костер, и даже веснушки, сплошь покрывавшие лицо, стали не так заметны.
Оставалось немногое — достать «книжку с приемами». Книжку достали. Дорогой ценой — отдали за нее новый футбольный мяч. Пыхтя и сопя, то и дело крича друг на друга, разучивали за сараем приемы. Но получалось плохо. Прием срабатывал лишь тогда, когда противник был неподвижен как колода. Стоило ему начать сопротивляться — и ничего не удавалось.
Словом, вряд ли что-либо путное вышло из этой затеи, если бы однажды, когда Володя и Рыжий старательно топтались во дворе, изучая новые приемы «ива-наме» и «юки-оре», что значило «скала, смытая волнами» и «сломанная снегом ветка», к ним не подошел крепкий мужчина в коричневом костюме и свитере. Некоторое время он критически наблюдал за раскрасневшимися друзьями, а потом сказал:
— Вот что, самураи, хотите заниматься самбо?
Ребята стояли в нерешительности.
Мужчина в свитере взял истрепанную книжку, перелистал и, пренебрежительно махнув рукой, вернул ее Рыжему.
— Только время тратите на ерунду. Будете хорошими самбистами, любого дзюдоиста разложите. Так как? Мгновенного успеха не ждите, но к окончанию школы будете разрядниками.
Володя и Рыжий переглянулись.
Через два дня они неуверенно вошли в зал с косым потолком под Восточной трибуной стадиона «Динамо» и встали в шеренгу таких же, как они, будущих борцов. Впрочем, и Володя и Коля еще много сотен раз входили в этот зал, прежде чем стали настоящими борцами. Но тренер Михаил Андреевич Владенов не обманул: через несколько дней после того, как они получили аттестат зрелости, им вручили и маленькую голубую книжечку — теперь они стали спортсменами-разрядниками!
Аттестат зрелости был на руках. Как и все их сверстники, пока они учились в школе, Володя и Коля переменили мысленно сотню будущих специальностей. И, как иногда бывает, путь, по которому они пошли, оказался совершенно неожиданным.
Однажды, где-то, наверное, в классе девятом, Михаил Андреевич после тренировки предложил:
— Вот что: хотите посмотреть школу милиции? Там, правда, день открытых дверей не проводится, но я это дело устрою.
Владенов, заслуженный тренер СССР, тренировал и курсантов Московской специальной средней школы милиции. Разумеется, друзья согласились. Они не собирались стать милиционерами, но школу посмотреть интересно.
Они ожидали увидеть тир, зал для занятий самбо, плац для строевой подготовки.
А увидели совсем другое. Здесь были интереснейшие лаборатории, здесь занимались фото- и автоделом, изучали физику, химию, знакомились с медициной, психологией, радиоделом… Здесь преподавали множество увлекательнейших наук. И оказалось, что милиционеры — это и ученые, и бухгалтеры, и шоферы, и спортсмены, и следопыты, и специалисты еще многих дел.
Разинув рты, ребята ходили по классам и залам, где занятия вели кандидаты наук, старшие офицеры — люди, больше похожие на профессоров, чем на милиционеров, какими их представляли себе оба друга.
Через два года курсанты Анкратов и Второв заняли свои места в учебных классах школы милиции.
Борьбе самбо здесь тоже уделялось много времени. И наступил день, когда Владимир и Николай (разумеется, в один день — иначе они не могли) привинтили к кителям новенькие, сверкающие серебром значки мастера спорта СССР.
15 часов 55 минут
В это время открылась дверь и вошли сотрудники, выезжавшие «на самоубийство». Старший ушел докладывать дежурному, а врач, сняв очки и тщательно протирая их замшей, рассуждал:
— Всех могу понять: вора, убийцу, жулика (понять — не оправдать) — самоубийцу понять не могу. Конечно, когда ты в бою, ранен, окружен врагами и последний патрон себе… Но вот так, в мирное время, здоровый парень, студент-отличник, у которого все хорошо, есть мама, папа, даже пианино… И вдруг набрать барбамила и выпить словно какая-нибудь истеричка! Не понимаю! И из-за чего, вы думаете? Из-за несчастной любви…
Врач смешно вытянул губы трубочкой, закатил глаза и произнес последние слова в нос.
Снова надев очки, он продолжал:
— Студенты оба. Он — лирик, она — «физик», точнее, эпикуреец. Он больше любит бродить по ночной Москве, стихи читать, о любви говорить; она — больше рестораны, танцы, вечеринки. В общем-то плане, так сказать человеческом, он парень стоящий, она — пустышка. Годы тянули; иногда она стихи слушает — зевает, а большей частью ему приходилось тащиться в рестораны да еще ревновать, когда она с другими танцует, — сам-то он в этом деле не великий мастер. В конце концов обоим надоело: ей — скучать с ним, и она бросила его ради какого-то пижона; ему — видите ли, жить! Накопил барбамила, написал в лучшем стиле Надсона письмо на двенадцати страницах и проглотил дюжину таблеток. «Скорая» тоже примчалась. Еле откачали. Я бы лично за такие поступки публично порол розгами! — закончил врач свой рассказ.
— Мне кажется, — сказал Владимир, — что у нас в стране самоубийством могут кончать только люди, которых случайно просмотрели врачи-психиатры.
— И еще ничтожества, — заметил врач, снова протирая очки, — жалкие дураки, истеричные мамзели. Нет, вы как хотите, а у меня самоубийцы вызывают презрение, я бы даже сказал — отвращение, а уже никак не жалость. Трусы! Слюнтяи! Лицемеры!
Раздался звонок.
Звонил Николай.
— Ну, как дежурится?.. — гремел в трубке Колькин бас. — Я слышал, вчера на вокзалах нельзя было достать билетов — весь преступный мир бежал из столицы: знали — Анкратов выходит на дежурство по городу!
Николай громко хохотал над своей же шуткой и, не давая Владимиру вставить слово, продолжал болтать:
— Но уцелел самый грозный, самый страшный, и, поскольку он не испугался даже Анкратова, ловить его выезжает сам Николай Второв! Володька, еду на операцию — проверка домовых кухонь, едем заметать Повара! Так сказать, к театральному разъезду. Его кулинарное сиятельство изволит сегодня слушать «Пиковую даму», собирается переквалифицироваться в шулера…
У Николая наконец не хватило дыхания, и он замолчал.
— Нет, с тобой не утонешь! — закричал Владимир в трубку. — Ты и в воде никому рта не дашь раскрыть! Так правда, что нового?
— Нового — бесконечность! — гудел Николай на другом конце провода. — Газеты прислали из Женевы фото — наша команда в момент объявления победы и надпись: «Советские дзюдоисты — чемпионы Европы; слева направо: капитан команды Второв, Арканатов…»
— Как — Арканатов?
— Вот так, — хохотал Николай, — перепутали, не Анкратов, а Арканатов написали Ну ладно, еще позвоню, а то я из автомата, тут девушка торопит — ей, наверное, «ему» позвонить надо. И не забудь — завтра к нам с Таней и пирогом. Нина ждет.
Владимир огорчился. Вечно путают газеты. Ребята на смех поднимут, скажут: «Чего врал, что чемпион? Арканатов — чемпион». Но огорчение длилось недолго — все же здорово быть чемпионом Европы! И не в тяжелой атлетике там или борьбе, где мы к этому привыкли, а именно в дзю-до, которой заниматься-то наша команда начала совсем недавно. И Николай тоже чемпион!
Тренер Михаил Андреевич часто притворно удивлялся.
— Поразительно! — говорил он. — Опять вместе. Что Европа, что первенство страны — всегда рядом! В прошлом году — Второв первый, Анкратов второй, в этом году — Анкратов первый, Второв второй. У вас как, наперед расписано? Вот друзья!
Действительно, нелегко было найти еще таких друзей.
Вместе в школе, вместе в школе милиции, вместе в заочном юридическом, вместе в секции самбо. В один день вручили им комсомольские билеты, в один день кандидатские карточки.
И даже женитьба Владимира не нарушила этой дружбы. Правда, к девушкам они относились по-разному. Владимир встретил Таню, женился и нашел свое счастье.
Николай на первый взгляд был куда легкомысленнее. Его огненная шевелюра, веселый нрав, густой бас и неиссякаемая любовь к жизни привлекали к нему девушек.
Он был великим охотником до разных, как он выражался, «массовых мероприятий» — загородных пикников, домашних вечеров, коллективных походов в театры, кино, на стадионы. Правда, была у него черта, немало раздражавшая его подруг: Николай слово «массовые» понимал буквально. В «мероприятие» он вовлекал человек по десять. Иногда единственным представителем сильного пола бывал он сам. Но это его не смущало — веселья, острот у него хватало на всех его ревниво посматривавших друг на друга приятельниц.
— Понимаешь, — говорил он Владимиру, — богатство моей натуры настолько велико, а сердце столь любвеобильно, что я просто не считаю себя вправе одаривать какую-нибудь одну счастливицу! Это значило бы обижать лучшую половину человечества. А этого я допустить не могу.
И он весело смеялся, гулко и басовито.
В действительности ему просто никто не правился. А может, причина крылась в другом: в том, о чем не знал никто, кроме Владимира.
У Николая была сестра. Только она, и больше никого на свете. Были у него когда-то отец, мать, старший брат, был дом.
Во время войны хоть и летали еженощно над Москвой немецкие самолеты, разрушений и столице было мало. Но среди немногих словно срезанных бритвой домов. оказался тот, в котором жили Второвы. Небольшой, деревянный, в зеленом дворе на окраине, он взлетел в небо, рассыпавшись словно фейерверк. Рассыпался и похоронил под черными головешками всю Николаеву семью и рано окончившееся детство.
Николаю не было пяти лет, сестренке Нине — четырех. В ту ночь Коля ночевал у тетки: та, бездетная, незамужняя, частенько брала его к себе. Нину, обожженную, с изувеченными ножонками, нашли спасатели в десяти метрах от дома, куда ее, наверное, отбросила взрывная волна. Нина не кричала, не плакала, она лежала молча, устремив неподвижный взгляд в багровое небо.
Было непонятно, как уцелела девочка, но еще непонятнее, как выжила она после ампутации обеих ног.
Детей взяла к себе тетка.
Тетка умерла, когда Николай кончил школу.
Второвы остались вдвоем: брат и сестра-калека.
Она не только потеряла ноги, что-то еще случилось с позвоночником. Словом, ни о каких протезах, даже о костылях не могло быть и речи.
Утром Николай поднимал сестру с постели, переносил в кресло. И там она сидела до вечера, читая, слушая радио, глядя в окно на уходящие вдаль подъемные краны (им дали комнату на седьмом этаже нового дома в Юго-Западном районе). Соседка-пенсионерка (в квартире было всего две комнаты), женщина столь же ворчливая, сколь и добрая, кормила Нину обедом, а то и ужином. Деньги на хозяйство брала, а за свои услуги категорически отказалась, как следует отчитав Николая, когда он предложил ей это.
— Привык со своими бандюгами! А люди людьми должны быть, а не зверьем…
В первый год работы Николай купил сестре телевизор, себе же не покупал даже необходимого (на Нину эта экономия не распространялась). Теперь Нине было не так скучно, когда брат был занят по вечерам на службе.
Вот на сестру и изливал Николай всю свою нежность. На других девушек, наверное, уже не хватало. Для них оставались смех, остроты, всегда бодрое настроение, веселое ухаживание, редкий поцелуй.
Из друзей только Владимир бывал у Николая. И всегда поражался его отношению к сестре. Нина почти всегда молчала, никогда не смеялась, лишь изредка ее бледные губы раздвигала улыбка.
Николай старался развлечь ее, с юмором рассказывал о своих делах. Если послушать, его служба в уголовном розыске — сплошное удовольствие и отдых. Все преступники были дураками и трусами, неизменно оказываясь в глупом положении; милиционеров они боялись как огня и чуть что поднимали руки вверх.
Но Нину трудно было обмануть, она о многом догадывалась. Владимир не мог забыть, как однажды, когда он зашел перед операцией к другу и тот зачем-то вышел на кухню, Нина шепнула:
— Береги его, Володя, прошу тебя, береги! Если с ним что-нибудь случится, я умру! Слышишь?
Владимира поразили тоска и отчаяние, прозвучавшие в словах всегда такой спокойной Нины.
С тех пор он невольно чувствовал какую-то ответственность за Николая. Это было нелепо, потому что Николай ни в чьей защите не нуждался — он был сильнее Владимира, искуснее в стрельбе. Во время операций его обычно назначали старшим, и Владимир попадал к нему в подчинение.
А вот случай, когда Николай спас другу жизнь, был.
Оба служили в отделе, занимавшемся среди прочих дел и борьбой с карманными ворами.
Однажды их вызвали в суд как свидетелей по делу одного из пойманных ими карманников. Это был не просто карманник, а опасный преступник по прозвищу Повар, отбывший срок наказания и вернувшийся домой. Потребовались деньги, и Повар отправился «заколотить кусочек» в троллейбус. Но то ли утратилась квалификация за долгие годы тюрьмы, то ли не повезло — в троллейбусе случайно ехали Второв и Анкратов, — но друзья преступника задержали.
Суд еще продолжался, когда Владимир и Николай, закончив свои показания, покинули зал, торопясь на занятия Неожиданно их окружила группа хулиганов — дружков Повара, человек пять или шесть.
— Гады! Вам больше всех надо? Да? Довольны? Довольны?
Хулиганы наступали, и внезапно один из них, здоровый детина, видимо, занимавшийся когда-то боксом, изо всех сил ударил Николая в челюсть. Николай упал. В то же мгновение хулиган почувствовал, как ноги его отрываются от земли и он летит через голову на асфальт. Не обращая внимания на безжизненно распростертого противника, Владимир наклонился над другом. Ошеломленный Николай уже пришел в себя и даже приподнялся на локте. Вдруг глаза его сузились, резким движением он дернул Владимира в сторону, одновременно сильно выбросив вперед ногу. Раздался вскрик, ругательство и звон выпавшего из рук нападавшего ножа.
Опоздай Николай на секунду — и нож оказался бы у Владимира между лопатками.
Дальнейшее заняло меньше минуты. Трое хулиганов убежали со скоростью, которой позавидовал бы и мировой рекордсмен, двое были доставлены в ближайшее отделение. А друзья торопились на занятия.
20 часов
Владимир сходил в столовую, перекусил, позвонил и доложил об этом Тане, которая подробно рассказала ему обо всех делах, переделанных ею за истекшее после очередного телефонного разговора время, и поднялся на второй этаж.
Он застал подполковника Воронцова, который настойчиво втолковывал кому-то по телефону:
— Вы что — дальтоник? Я же вам сказал — черные трусы. Чер-ны-е, а не бежевые! И потом: тот лесок вы так и не проверили? Нет? А там ямы песочные, мог упасть. Ну вот что — выезжаю сам. Ждите у леска.
Он сердито опустил трубку на рычаг и вышел.
В маленькой комнате раздавался, как всегда, негромкий голос подполковника Голохова:
— …Гражданин жалуется, что котлеты недоброкачественные. Что значит — не отвечаем? Мы, дорогой, за все отвечаем, ясно? За все в городе! Да! И за продукцию этой фабрики-кухни тоже. Пошлите кого-нибудь из ОБХСС, пусть проверят.
Не успел он повесить трубку, как раздался говорок Бибина:
— Заместитель дежурного по городу слушает. Да. Да. Чья машина? Ага. Ясно. Свою же машину и разувает? К техосмотру готовится? Добре. Добре. Пускай крепко готовится — ГАИ шутить не любит! Ничего. Ничего. Наше дело проверить. Гражданин бдительность проявил, а мы проверили. Точка.
Бибин встал, потянулся. В большую комнату вышел подполковник Голохов. Дежурные знали: скоро «передых» кончится, начнется вечер, ночь, а с ними и возможные происшествия. Это днем тухлые котлеты, мусор, пьяные. Вечером происходили дела посерьезней.
— Ну-ка, Анкратов, — Голохов повернулся к Владимиру, — расскажите-ка ваше недавнее дело с врачом. Уезжал я на два дня — не знаю подробностей.
— Да ничего особенного, товарищ подполковник, дело как дело…
— Ну-ну, не скромничайте. Не случайно же вам благодарность по управлению объявили. Давайте докладывайте.
Это в сто седьмом автобусе было, — начал Владимир, — напротив гостиницы «Украина». Знаете? Там мы нащупали компанию. Раз проехали — зря, два — зря. В общем, во вторник накрыли…
В тот день на задержание шайки карманников направилась оперативная группа уголовного розыска в составе грех человек во главе с лейтенантом Анкратовым. Шайку удалось обнаружить сразу: подходя к остановке автобуса, Владимир услышал одну-две фразы, произнесенные на воровском жаргоне. Этого было достаточно. Шайка, вот она, вот эти четверо немолодых, хорошо, даже элегантно одетых мужчин в велюровых шляпах и дорогих галстуках.
Настоящие карманники — это не мальчишки с нахальными взглядами и неловкими руками, таких берут за шиворот и, хнычущих, отводят в отделение. Нет, истинный представитель этой древней, ныне почти вымершей воровской профессии человек немолодой, солидный. При виде такого подозрение падет на кого хочешь, только не на него. «Работает» он не один, а с ассистентами, которые намечают жертву, ощупывают карманы, а затем, толкаясь, извиняясь, нажимая, прося передать билет и т. д., поворачивают жертву так, чтобы «главный» мог начать свою молниеносную и незаметную работу. И если все проходит гладко, «главный» в течение нескольких секунд расстегивает самые сложные застежки, самые обтягивающие пиджаки и пальто, вырезает специально оборудованной бритвой или ножницами карман и вынимает добычу. Он сразу же передает ее одному из своих ассистентов, а тот старается как можно скорее покинуть место кражи. Важно передать бумажник, деньги, тогда «главному» нечего бояться: не пойман, как говорится, не вор. При малейшей опасности карманники роняют добычу и бритвы под ноги, и тогда доказать их вину становится практически невозможно.
И шайка, и оперативная группа аккуратно стали в очередь, и вскоре на задней площадке сто седьмого автобуса, покинувшего остановку «Гостиница „Украина“», оказались среди других пассажиров, тесно прижатых друг к другу, восемь человек: четверо воров, трое милиционеров (разумеется, в штатском) и будущая жертва приезжий туркмен в очках, как потом выяснилось, врач.
Очень быстро воры определили, что во внутреннем боковом кармане врача лежит толстая пачка денег. Толкаясь, они повернули его поудобнее к «главному», заставив взяться левой рукой за поручни и открыть тем самым левый бок. Всего несколько секунд понадобилось интеллигентному человеку лет пятидесяти, с лицом профессора, чтобы расстегнуть на туркмене плащ и пиджак, вскрыть карман, вынуть деньги и передать их стоявшему рядом ассистенту. Все шло как по маслу, словно хорошо отрепетированный номер.
Ко в самое последнее мгновение номер не удался… Ассистент, уже готовившийся спрятать деньги в свой карман, почувствовал, как сильная, ловкая рука внезапно зажала его собственную руку, в которой он держал деньги, и завела ее ему за спину. Захват был крепкий, по, если так можно выразиться, «вежливый». Вору не было больно, пока он не оказывал сопротивления. Однако он понимал, что при малейшем движении кисть может быть сломана.
Пока Владимир держал ассистента с зажатым в его руке вещественным доказательством, двое других сотрудников схватили «главного». Но они хоть и разбирались в самбо, однако мастерами не были. К тому же пожилой «профессор» оказался наделенным огромной силой и более чем стокилограммовым весом. Оставшиеся ассистенты, как им и полагалось в таких случаях, вели себя как остальные пассажиры и никакой помощи своим не оказывали.
Справиться с «главным» помощникам Анкратова не удавалось. Пришлось ему, отпустив ассистента, применить прием, который сразу успокоил силача. Но зато ассистент тут же выбросил деньги на пол. Ошеломленный всем происходящим, ничего не понимающий приезжий вежливо подобрал деньги и всеми силами пытался их вручить отбивавшемуся от них карманнику.
— Вы уронили, — приветливо улыбаясь, втолковывал туркмен.
— Ничего я не ронял! Это не мои! Не мои! — кричал в ярости ассистент.
— Ваши, — убеждал туркмен, — сейчас подобрал. Бери…
Автобус остановился, и дверь открылась. Первыми из машины выскочили два ассистента. Их никто не задерживал — все равно против них не было улик.
Затем на тротуар вывалился Владимир. Одной рукой он в железном захвате держал «главного», другой тащил за рукав отчаянно отбивавшегося туркмена. Напуганный всем происходившим, видимо, плохо понимавший русский язык, он кричал: «Я не брал, ничего не брал, я доктор!» — и потрясал пачкой каких-то командировочных удостоверений и книжечек. Сколько Владимир ни пытался ему втолковать, что обокрали его самого, он ничего не хотел слышать. Двое других милиционеров, освобожденные Владимиром от заботы о «главном», схватили оставшегося ассистента.
Подъехала оперативная «Волга». Ассистента и врача усадили в нее, с ними сели помощники Владимира, и машина помчалась в милицию. Автобус, пассажиры которого, жужжа словно пчелы, взволнованно обсуждали происшествие, покатил дальше по своему маршруту.
А на тротуаре остались «главный», Владимир и подъехавший на мотоцикле с коляской милиционер. Усадить в коляску вора оказалось делом нелегким. Несколько раз он пытался сильно ударить Владимира ногой в живот, и лишь быстрота реакции, приобретенная в занятиях спортом, помогала Владимиру вовремя избежать удара. В какое-то мгновение преступник сумел освободить руку и, выставив вперед огромные пальцы, хотел нанести Владимиру удар в глаза. Молниеносным движением тот успел увернуться.
Принимавший участие в усмирении карманника мотоциклист не выдержал:
— Да что, право, ведь он убьет! Надави ты ему на руку, чтоб знал, черт!
Владимир только усмехнулся.
В конце концов вора посадили в коляску и доставили в отделение…
— Вот тут-то самое смешное и произошло, товарищ подполковник, — закончил свой рассказ Владимир, — когда врачу показали надрезанный карман и вернули деньги, он только тогда понял, что обворовали-то его, а то все кричал, шумел. И тогда кинулся на задержанного, еле оттащили.
Владимир смеялся. Он не помнил о вооруженных бритвами ворах, о могучем преступнике, пытавшемся искалечить его. Он помнил о смешном эпизоде и, вспоминая, смеялся. Смеялись и дежурные.
Они были милиционерами, и риск был элементом их профессии.
Ну а как потерпевший? — спросил Голохов.
Благодарил, товарищ подполковник, — Владимир продолжал улыбаться, — благодарил. Адрес просил, хотел каракуль прислать. Я говорю: «Не надо, рано, вот буду полковником, тогда присылайте на папаху». — И комнату дежурного вновь огласил веселый смех.
В это время быстрым шагом вошел подполковник Воронцов. Сапоги его были в глине, к фуражке прилепились древесные листья. Он прошел к телефону, заглянул в журнал и набрал номер.
— Гражданка Сорокина? Помощник дежурного по городу. Нашли вашего Вову, повезли к вам, сейчас приедет. Да что вы плачете! Радоваться надо, а не плакать. В парке, как я говорил. Пошел парень погулять, воздухом, знаете ли, подышать и в яму провалился. Напугался, сам никак не вылезет. Все. Все. Только, чур, не наказывать! Обещаете? Нет, вы обещайте, он и так напуган. Ну то-то. Чаем напоите, и пусть спит. — Подполковник Воронцов на секунду замолчал. — Берегите сына, гражданка Сорокина… — Голос его прозвучал глухо. Казалось, говорит кто-то другой. — А вот этого не надо, зачем благодарить, это наша обязанность… Ну, до свиданья, до свиданья!
Он поспешно повесил трубку и еще минуту стоял около телефона, продолжая держать руку на аппарата. Потом, словно очнувшись, смущенно улыбнулся:
— Пойду почищусь — вон заляпался как. Все, понимаешь, обыскали, чуть не целое отделение ходило, а до ям не дошли. Я те ямы еще с прошлого года запомнил. Ну парень там и сидел.
Он укоризненно покачал головой и, вынув из нижнего ящика стола сапожную щетку, вышел.
Минуту в комнате царило молчание. Потом Голохов вздохнул и, посмотрев на Владимира, сказал:
— Месяц назад сын у него погиб. Только школу кончил. Совсем мальчишка. Нелепый такой случай…
Он встал, поправил фуражку и ушел в свой кабинет. Некоторое время Владимир сидел неподвижно. Потом тоже встал и спустился на первый этаж. На площадке лестницы подполковник Воронцов, отложив щетку, наводил бархоткой глянец на свои вычищенные сапоги…
21 час 30 минут
Внизу кто-то прилег на диваны — фотограф Коля даже похрапывал, кто-то читал. Владимиру читать не хотелось. Он лежал на кожаном диване, подложив руки под голову, и размышлял. Владимир вспомнил, как вел себя Николай вначале по отношению к Тане. Как присматривались друг к другу его лучший друг и его любимая, его будущая жена. Настороженно, ревниво — не отнимет ли другой Владимира?
А потом как-то сразу понравились друг другу.
Таня поразила Владимира своей еще неведомой ему тогда женской проницательностью.
— Ты знаешь, Володя, — сказала она как-то, — он замечательный парень, твой Рыжий. Он надежнейший. С ним я готова тебя одного не только на ваши операции пускать, а даже с девушками гулять. Он-то уж твое счастье всегда будет защищать. А, как известно, твое счастье — это я. — И Таня посмотрела на Владимира своими карими смеющимися глазами.
— Кому известно? — притворно удивился Владимир.
— Всем известно, мне Николай говорил, что ты в управлении всем направо-налево рассказываешь, даже хотел объявление повесить: так и так, мол, у меня есть Таня, которую я обожаю и даже надеюсь, что, если я буду очень хорошим, она, возможно, тоже отнесется ко мне с некоторым вниманием!..
— Ох, болтушка! — Владимир рассмеялся и поцеловал жену.
Но та, вдруг став серьезной, продолжала:
— Только, знаешь, мне кажется, что все его веселье от печали.
— Как — от печали? — насторожился Владимир.
— Ну так. Словно у него есть какое-то скрытое горе. Может, любит кого-нибудь безответно, а скорее какая-то давняя печаль. В общем, не знаю, но у меня такое ощущение…
Владимир молчал, дивясь Таниному чутью. Она тогда еще ничего не знала про Нину.
С Владимиром Николай виделся ежедневно на службе, на тренировках, в институте.
У Тани было не так уж много свободного времени: техникум, домашние дела.
Воскресенье же они почти всегда проводили вместе — втроем. Таня не требовала, как некоторые женщины, недавно вышедшие замуж, чтобы они все время оставались с мужем вдвоем. Наоборот, ей было даже приятно, чтобы кто-то видел ее счастье, кто-то близкий, кто бы не завидовал, не был бы равнодушным, а радовался ему. Она словно хотела показать Николаю: «Вот видишь, твой Володя в надежных руках!»
Хорошие у них бывали прогулки, хорошие и интересные.
У Тани вообще был ровный, веселый характер. Но иногда вечером, оставшись с Владимиром наедине, затевала серьезные разговоры.
— Скажи, Володь, почему ты решил стать милиционером? — спросила она однажды. — Ведь ты мог пойти просто в юридический институт или физкультурный. А почему так?
Владимир отложил конспект, понимая, что заниматься сегодня больше не удастся.
— Почему решил стать милиционером? Да как тебе сказать. Ну, в школу-то мы пошли (он сам не замечал, как начинал говорить и за себя, и за Николая) просто потому, что уж очень там все интересно было. А вот теперь, теперь я уже могу точно ответить, почему мы полюбили это дело. Думаю, что могу…
Он помолчал.
— Так почему? — повторила Таня. Она не любила, когда не получала скорого ответа на свой вопрос (а на вопросы ее было порой совсем не просто ответить).
— Видишь ли, это дело характера, темперамента. — Владимир нахмурил брови, он старался понятнее изложин, свою мысль. — Мы ведь в революции не участвовали, в Отечественную под стол пешком ходили — с оружием в руках, словом, не боролись… — Он замолчал, подыскивая нужное слово.
— За что не боролись?
— Ну, за Родину нашу, за все. — Владимир развел руки, словно хотел обнять что-то очень большое. — За коммунизм…
— Коммунизм еще не наступил, — категорически заметила Таня.
— Да не в этом дело…
— Впрочем, наступил, — так же категорически сказала она.
Владимир недоуменно посмотрел на нее.
— Ну как тебе объяснить? — Таня наморщила лоб. — У людей некоторых уже наступил. В душе, что ли, в сердце, в поступках. Словом, я не могу объяснить! Ты прости, я перебила…
Владимир помолчал, обдумывая Танину мысль, потом продолжал:
— Так вот, я говорю, с оружием мы с врагом не сражались. Понимаешь? И мне почему-то кажется, что в милиции мы как-то восполним этот пробел. Погоди, погоди! — Он поднял руку, словно останавливал еще не высказанные Танины возражения. — Я знаю, ты сейчас скажешь, что любой рабочий, инженер, врач, уже не говоря, скажем, о пограничниках, летчиках-испытателях, — что многие делают не меньше, а иные и больше, чем воевавший солдат. Можно быть бухгалтером, всю жизнь крутить ручку арифмометра и, сэкономив государству сотни тысяч, принести великую пользу. Я не спорю. Это так. Но вот с нашим темпераментом, вот моим и Колькиным, мы должны, как бы тебе объяснить, ну фактически, что ли, драться… И притом с самым плохим.
Владимир помолчал.
— Ты опять можешь сказать, что какие-нибудь сорняки на полях, трахома, чума, засуха страшнее тысячи преступников, и потому агроном, врач, мелиоратор, которые с этим борются, делают более важные дела. Но у них все же не такие ощутимые враги, вот именно в смысле ощутимости. А наши — они реальны. Они здесь, возле нас, и их надо корчевать в активной борьбе, в буквальном смысле с оружием в руках. Ведь даже когда настанет коммунизм, надо будет воевать с засухой и болезнями, а вот пока есть на земле преступники, коммунизм не наступит. Разные есть, конечно, преступники, большие и малые, у «них» и у нас. Я не говорю о «тех». Но здесь, внутри страны, мы должны их выкорчевать. И когда я это делаю, мне ощутимее мой вклад в общее дело. Но это, конечно, вопрос характера, повторяю, темперамента… — Владимир улыбнулся и взял Танину руку. — Я понимаю, что я не Плевако. Все это звучит, конечно, довольно неясно. Да? Ничего не поняла?
— Я все поняла… — Серьезное выражение было в ее карих глазах. — Я отлично поняла. Вот за это я тебя, наверное, и люблю.
Их беседу прервал звонок.
Это пришел Николай.
Пока Таня ушла на кухню готовить чай, Николай, как всегда, шумно рассказывал:
— Ужас! Полная деградация преступности! Уходят лучшие люди! Убийцы переквалифицируются в карманников, скоро станут фальшивыми нищими — пойдут по вагонам электрички и будут петь: «С неразлучным своим автоматом побывал не в а-да-ной я стране…» Ты знаешь, кто появился на нашем светлом горизонте? Повар! Да, да, тот самый. Словом, так. — Николай заговорил серьезно: — Повара действительно выпустили. Прописан он в области, в Москву приезжает на «гастроли». Из-под надзора то и дело ускользает. Есть сведения, что занялся карманными кражами. В основном ходит по театрам, циркам и концертам перед началом или после окончания, когда народ спешит, толпится у входных дверей. Надо проверить…
Но тут вошла Таня с подносом, где дымились стаканы с чаем и домашними печеньями, предметом ее великой гордости.
Деловой разговор пришлось прекратить.
Пока пили чай, Таня внимательно разглядывала Николая.
— Коля, а почему ты сегодня такой нарядный? — подозрительно спросила она. — В последний раз, помнится, я тебя с галстуком видела у нас на свадьбе. И то повязала Володин. Уж не влюбился ли ты? А?
Таня вся оживилась от такого предположения — вот где потребуются ее советы, указания…
— Да что ты! — Николай таинственно отводил взгляд. — Так…
— Нет. — Таня даже привстала, пытаясь заглянуть Николаю в глаза. — Нет! Говори! Влюбился, да? В кого? Ну не томи. Куда идете? Наверняка ведет тебя к родителям знакомиться! Иначе ты б так не разоделся. Она кто?
— Она повар, — изображая смущение, ответил Николай, — в столовой в нашей, в управлении. Володя ее знает. Ты ведь ее знаешь, Володька? Да? Она мне всегда больше мяса накладывает. Очень красивая. — Николай, оживленно размахивая руками, старался описать красоту своей дамы. — Глаза! Больше тарелок! Руки ловчей ухватов, зубы…
— Ну ладно, ладно! — Таня была разочарована. Романа у Николая явно не намечалось. Он, как всегда, валял дурака. — Но куда ты все-таки идешь такой нарядный?
— А она, — оживленно басил Николай, — увлеклась теперь театром. Мы с ней теперь театралы, интегралы, меломаны, клептоманы… — Тут он подавился словами и замолчал, испуганно глядя на Таню, — он боялся ее проницательности, когда дело касалось их с Владимиром работы. Опасения его оправдались.
— «Меломаны»! — зловеще заговорила Таня. — «Клептоманы»! Опять ваши карманники! Даже на отдыхе, даже в театре вы должны кого-то ловить. Я не дурочка, я все понимаю…
Но Николай придумал новый прием, чтобы отразить нападение. Перекрывая Танин голос своим могучим басом, он закричал:
— Да! Иду в театр ловить воров! У нас теперь новые обязанности! Мы выполняем задание Управления по охране авторских нрав! Есть приказ: весь уголовный розыск бросить на просмотр пьес и фильмов — не стащил ли один автор у другого сюжетик. Вот. Вчера задержали двоих — один выкрал два акта у малоизвестного иркутского драматурга, другой стянул три реплики у Мольера…
Так сидели они и болтали за столом часов до десяти. В десять, посмотрев на часы, Николай встал.
— Не удалось сходить с моей дамой, с моим дорогим поваром, в театр, пойду хоть встречу у входа…
Он распрощался и ушел. А на следующий день в управлении жаловался Владимиру, что опять Повара не нашел.
Сведения поступали все чаще. То карманная кража совершена у входа в Большой театр, то прямо в фойе цирка, то у консерватории. Было известно, что «работал» Повар, но, сколько ни дежурили оперативные работники, в том числе Николай, возле театров перед началом и после окончания спектаклей, Повар так и не обнаруживался.
И вот сегодня наконец поступили точные сведения: Повар должен быть у театра А. С. Пушкина. «Интересно, — размышлял Владимир, — возьмут его Колька с ребятами на этот раз или того опять не окажется?» Не дежурь Владимир сегодня, он бы, конечно, пошел с Николаем…
Резкий голос из репродуктора заставил его вскочить. В комнате наступила тишина. Подполковник Голохов негромко проговорил:
— Врач, эксперт, фотограф, Логинов, Анкратов — на выезд….
Владимир быстро подтянул расслабленный на отдыхе ремень, схватил фуражку. Вот оно! Наконец-то!
Дежурная группа торопливо вышла во двор. Не было только следователя прокуратуры: за час до того у него случился приступ аппендицита, и его увезли в больницу. А заменить не успели. У дверей уже урчала мотором оперативная машина. Обмениваясь на ходу короткими фразами, подошли к «Волге».
В этот момент высокая фигура подполковника Голохова показалась в дверях. Он быстро прошел к машине, сел рядом с водителем, негромко скомандовал: «Поехали! Побыстрей»!
Воцарилась тишина. Никто не произнес ни слова. На происшествие выезжал сам дежурным по городу. Значит, происшествие это было чрезвычайным…
22 часа 30 минут
Завывая сиреной, черная «Волга» вылетела к «Эрмитажу», визжа на повороте, свернула к Пушкинской площади, минуя испуганно застывшие при звуке сирены автомобили, пересекла улицу Горького и понеслась вдоль бульвара к Никитским воротам.
Машина на полном ходу затормозила напротив театра А. С. Пушкина у бульварной ограды, Владимир почувствовал, как невидимые ледяные пальцы прошлись по спине, поднялись к затылку…
— Товарищ подполковник… — Владимир сам не узнал своего голоса, хриплого, задыхающегося.
— Да, Володя.
Больше Голохов ничего не сказал. Он открыл дверцу и вышел из машины. За ним вышли врач и Алексей Логинов, второй оперативник. Владимир вылез из машины последним, ему казалось, что ноги его налились свинцом. Он испытывал странное чувство: будто он стоит в стороне и наблюдает за другим Владимиром Анкратовым, который вышел из машины, перелез вслед за остальными через ограду и прямо по траве меж кустов движется к небольшой группе людей, стоящих в боковой аллейке бульвара.
Владимир уже знал, что он увидит, когда подошел к расступившимся при виде Голохова милиционерам в форме и в штатском, безмолвно стоявшим в этой узкой, плохо освещенной аллейке.
…Николай лежал на спине, рыжие волосы, казалось, потускнели в бледном свете дальнего фонаря, руки не были раскинуты в стороны, а сжаты в кулаки и сведены у груди, словно в свой смертный час готовился он к решающей схватке. На белом как бумага лице застыло удивленное выражение.
Он лежал безмолвный и беспомощный, казавшийся сейчас особенно молодым. Но то лежал не мальчик, а боец, он не умер, а погиб, и в чертах этого удивленного, совсем юного в смерти лица был отпечаток какой-то суровой решительности.
Врач, как всегда, протер очки, наклонился над убитым, знаком подозвал двух милиционеров, чтобы помогли перевернуть тело…
Возле Голохова стоял немолодой майор, видимо, старший из прибывших на место работников ближайшего отделения милиции. Он докладывал:
— …хотел закурить. — Майор указал на валявшуюся сигарету и зажигалку. — А тот, видимо, шел сзади, да как шел! Тише тени. Ну, лучшего места не найти. Сами видите — здесь подряд два фонаря не горят, темно, да и нет никого. Он остановился прикуривать, сгорбился, словно нарочно спину подставил. Ну тот и ударил. По лицу видно, — он указал на Николая, — сразу… Вот сейчас врач скажет.
Врач, подошедший к концу доклада, кивнул головой.
— Удар, товарищ подполковник, нанесен, — сказал он, — исключительно точно: окончательный вывод можно будет сделать после вскрытия. Но думаю, что нож пробил широчайшую мышцу спины, прошел через межреберный промежуток и проник в сердце или легкое почти на всю длину. Это необычный нож. Лезвие узкое, типа стилета. Смерть наступила мгновенно.
Послышался вой сирены. Шурша шинами, у ограды остановилась машина «Скорой помощи».
Милиционеры, санитары перепрыгнули через ограду и, на ходу расправляя носилки, направились к убитому. Их белые фигуры, словно привидения выделялись на черном фоне кустов.
Николая осторожно, как будто боялись причинить ему боль, подняли, уложили на носилки.
Последний раз Владимир увидел на секунду мертвое лицо друга. Потом тело прикрыли простыней и понесли. Санитары, тяжело ступая по траве, удалились в сторону машины.
Все это время Владимир стоял с безучастным видом. Вокруг ходили люди, его даже кто-то нечаянно толкнул, слышались негромкие разговоры. Но он ничего не замечал, только смотрел на зажигалку. Он подарил ее Николаю в день рождения, и друг ею очень дорожил. В тот вечер гости разошлись поздно, и Николай отправился ночевать к Владимиру, жившему недалеко от ресторана, где отмечалось торжество (Нина на этот вечер была поручена заботам соседки). Они долго разговаривали, лежа в «постелях» (Николаи на диване — гостю почет, а Владимир на полу).
Николай любил мечтать о будущем. Делал это он, как обычно, с юмором, давая волю гноен неисчерпаемой фантазии.
— Ты понимаешь, Володь, что меня смущает, — гудел в темноте его озабоченный бас. — Пока мы лейтенанты, нам вместе служить нетрудно — один отдел. Станем капитанами — куда ни шло; майорам тоже в одном управлении место найдется. Но ведь лет через пять будем мы с тобой генералами, и конец: меня, видимо, сделают министром, тебя тоже… начальником горотдела на Чукотке: вместе двум таким чинам в одном городе места-то не найдется. А? Володь?
Но потом Николай заговорил серьезно:
— Эх, Володя, попасть бы нам в высшую школу! Я не знаю, что бы делал: днем и ночью долбил, конспектировал, язык бы выучил, честное слово! А то только родной да воровской — маловато. Кончил бы — честное слово, диссертацию защитил! Не веришь? Защитил бы!
И тема будет: «Превентивные меры по борьбе с детской преступностью».
Он помолчал.
— И еще, Володя, я мечтаю: неужели Нинку никак нельзя поставить на хоть на искусственные какие ноги? Ведь смотри, что делается: зрение возвращают, почки пересаживают, сердце, понял, сердце остановившееся оживляют… Хоть что-нибудь придумать!
Сейчас эта ночная беседа ожила во всех деталях. Придет время, и наука что-нибудь придумает — Нина будет ходить, а вот сердце Николая, пробитое ножом, уже никто не оживит.
Как сказать Нине? Задыхаясь от тоски, Владимир представлял себе, как сообщит ей страшную весть. Сделать это должен только он. Ведь просила его: «Береги Николая». А он не уберег. Какое значение имеет то, что он был в ту минуту далеко, что нельзя его в чем-либо упрекать? Все равно он никогда себе этого не простит. Себе? Нет, не только себе. «Твоя обида — моя обида» — так поклялись они, двое голоштанных ребят, тогда за сараем. Их было двое. Теперь Владимир остался один. Гибель Николая не должна остаться безнаказанной. Это его кровное дело, его долг!
Владимир стоял бледный, сжимая кулаки. Его наполняла безмолвная, слепая ярость. Попадись ему в эту минуту убийца, он бы задушил его, сжег на медленном огне! Одна мысль сверлила мозг: найти, немедленно найти преступника! Владимир не сомневался, что убийца Коростылев — преступник с нелепой кличкой Повар, хотя в прошлом работал шофером. Владимир мысленно представлял себе всю сцену, словно она произошла у него на глазах.
Повар пришел к концу спектакля. Люди возбуждены, оживленно обсуждают увиденное, они не так внимательны, как обычно. Идут. И тут он заметил Николая. Он, конечно, хорошо помнил его (еще на суде тогда крикнул: «Я вас, гады, запомню!»). А может быть, он приметил Николая и раньше, у других театров, и понял, что тот ищет его, что не будет ему спокойной жизни, пока жив Николай.
Увидев теперь Второва, он притаился, спрятался где-нибудь в неосвещенном углу, выжидал. Когда народ разошелся и Второв отправился домой, пошел за ним. Пойди Николай улицей, сядь в троллейбус, может быть, ничего и не произошло — Повар не решился бы. Но Николай пошел бульваром, да еще боковой аллейкой, где было темно. Повар крался бесшумно, держа нож в рукаве, в любую минуту готовясь или ударить, или убежать. И когда Николай остановился закурить, повернув к нему незащищенную спину, он одним прыжком преодолел разделявшее их расстояние и ударил. Ударил точно. А потом бежал.
Вот так это было. Наверняка так! Владимир, чья профессиональная память, словно фотографию, хранила облик убийцы, представлял себе этого массивного, отлитого из одних мускулов великана, его коротко постриженную тяжелую голову, злом взгляд маленьких глаз, широкий рот, в котором, когда он открывал его, блестел тусклым блеском неизбежный золотой зуб…
Да, его он узнает и ночью, и в любом обличье, и среди миллионов прохожих!
Только надо найти его. Найти немедленно!..
— Лейтенант Анкратов! — резко прозвучал голос Голохова.
— Слушаю вас, товарищ подполковник!
— Останетесь с товарищами из отделения, Логинов с вами и… — подполковник сделал паузу, — возглавите поиски! Возражений не будет? — повернулся он к майору.
Тот отрицательно помотал головой.
Минуту Голохов смотрел Владимиру прямо в глаза, потом положил ему руку на плечо и своим обычным негромким голосом произнес:
— Давай, Володя. — И, словно прочтя его мысли, добавил: — И не забывай: ты не только друг Второва, ты прежде всего работник советской милиции.
23 часа 05 минут
Голохов уехал, уехал майор и сопровождавшие его офицеры. На бульваре остались Владимир, Логинов и оперативная группа, выделенная в их распоряжение начальником местного отделения милиции.
Они внимательно осмотрели место преступления (а чего тут было смотреть?), опросили немногих свидетелей. Позже это более подробно и тщательно сделают следователь прокуратуры, криминалисты. Собственно, свидетелей-то не было. Шедшая на дежурство стенографистка из ТАСС, наткнувшаяся на тело; какая-то женщина, поздно прогуливавшая по бульвару собаку и видевшая, как высокий мужчина, лица которого она не разглядела, в плаще с поднятым воротником быстрой походкой вышел с бульвара, пересек улицу и направился в сторону Пушкинской площади. Живший неподалеку гражданин, сошедший с троллейбуса у театра; ему показалось, что на бульваре в боковой аллейке произошла какая-то короткая возня. Вот и все. Билетеры в театре, дворники окрестных домов ничего не заметили.
Оперативная группа направилась в отделение, чтобы окончательно уточнить план действий.
Тем временем от дежурного по городу одновременно всем патрульным машинам, во все отделы и отделения милиции, дежурному по области, на вокзалы и во многие другие места было передано описание преступника и приказ о задержании; пришло подтверждение, что убийство совершил именно Повар: желая, видимо, избежать шума от падения тела, убийца, вонзив нож в спину Николая, поддержал другой рукой падающего и неслышно опустил его на землю. Отпечатки пальцев остались на запекшейся крови и были сличены с отпечатками, хранившимися в картотеке.
Направили телефонограммы во все таксомоторные, трамвайные, троллейбусные и автобусные парки — не запомнили ли случайно водители и кондукторы человека такой-то наружности (следовало подробное описание), который воспользовался каким-либо транспортом на Пушкинской площади, у Никитских ворот или в прилегающих районах.
Однако все эти меры вряд ли могли дать многое. В такой час — час театральных разъездов — в центре, когда тысячи людей спешат домой и садятся в троллейбусы, такси, автобусы, вряд ли кто-нибудь заметил, а тем более запомнил человека в общем-то ничем не примечательного, кроме высокого роста. Надо было такте учесть, что Повар был не «случайным», так сказать, преступником, не новичком. Он был опытный, хитрый, много раз сидевший за решеткой, и уж Повар-то хорошо знал, какие меры будут предприняты для его задержания.
Совершив свое преступление, он мог пройти большое расстояние пешком и только потом воспользоваться троллейбусом или такси, а возможно, и метро; мог сразу же с бульвара свернуть в один из переулков, например, к Бронной, или проходным двором выйти в Большой Гнездниковский, дойти до Малого Гнездниковского, а там снова нырнуть в проходной, чтобы сразу появиться у Моссовета.
Известно было лишь одно: Повар никогда не «работал» с сообщниками — волк среди волков, он не доверял даже своим. Владимир понимал: бродить ночью по Москве Повар не станет. Одно из двух: или он спрячется у кого-то, кто предоставит ему убежище, или постарается как можно быстрей выбраться из города.
Логинов считал, что Повар уже давно спит беззаботным сном у какой-нибудь своей знакомой или у одного из надежных дружков, живущих в Москве. Зачем ему уезжать куда-то ночью, рискуя быть пойманным на вокзале? Лучше отсидеться несколько дней, не выходя на улицу, а потом тихо исчезнуть.
Лейтенант Русаков, старший приданной Владимиру группы, молодой светловолосый парень, придерживался другого мнения.
— Уверен, — горячо доказывал он, рубя воздух рукой в такт своим словам, — что прятаться в городе Коростылев не будет! Опасно это для него. В конце концов, рецидивисты на учете. Известно, кого из них можно заподозрить в связи с ним. Может быть устроена проверка документов, могут выдать свои — его не очень-то любят. Да он и вообще такой мужик, что никогда особенно ни с кем не сходился. «Старая гвардия» его далековато — он, слава богу, сколько отсидел-то последний раз! — а новых дружков, наверное, завести не успел. Да и времена не те: сколько теперь таких, как он? Раз-два и обчелся. Их не то что ночью, днем с фонарем не сыщешь. Ведь не случайно он не только прописался в области, но и живет там, а в Москве только «гастролирует». Иначе бы он все время здесь у кого-нибудь прятался. Это раз. Два: будь у него в Москве надежные сообщники, разве стал бы он заниматься карманными кражами? Одолжил бы денег и притаился, готовил настоящее дело. А то вынужден карманкой промышлять. Сколько риску на ерунде погореть! Если б он когда-то, пока свои настоящие художества не начал, не был мастером по части карманов, он бы в жизни этим не занялся. А так нужда заставила — другого выхода нет. Совершенно ясно, — закончил Русаков, — что он будет стремиться покинуть город.
Говорили и другие. Владимир молчал.
В рассуждениях Русакова было много правильного — действительно, вряд ли можно предполагать, что Коростылев останется в городе, скорей всего ему не у кого здесь спрятаться. С другой стороны, убийца достаточно хорошо знал, с какой быстротой действует милиция: раньше, чем он добрался бы до любого вокзала, там уже знали о совершенном преступлении и приметах убийцы. На ноги была бы поднята вся транспортная милиция. Какой же выход? Какой выход мог придумать Коростылев, хитрый и опытный, наверное, даже умный бандит? Владимир хорошо знал один из основных законов работника милиции: не считать преступника глупей себя, лучше переоценить его, чем недооценить. Вот что бы сделал он, Владимир, на месте Повара?
И тут мелькнула мысль — самолет! Ну, конечно же, такая мысль вполне могла прийти Коростылеву в голову: в Москве оставаться не у кого, садиться в поезд или пригородный автобус опасно. А на аэродроме вряд ли будут его искать. Тем более что в поездах можно продолжать поиски и в дороге, и на промежуточных остановках. Самолет же улетел — и ищи-свищи ветра в поле, приземлится где-нибудь во Владивостоке. Это было важным преимуществом. Коростылев понимал, что чем дальше он на время окажется от Москвы, тем лучше. Правда, самолеты ночью уходят редко, но все же уходят. Наконец, можно подождать и до утра, и необязательно в здании аэропорта, что во Внукове, что в Шереметьеве, это можно сделать в лесу, поблизости.
Но тут Владимир сам прервал ход своих мыслей. У Коростылева наверняка есть паспорт на чужое имя. А вот деньги? Ведь денег-то у Повара не было, билет же на самолет, тем более куда-нибудь далеко, стоит все же недешево.
Теперь Владимир мог изложить свой вариант поиска.
Некоторое время царило молчание. Первым нарушил его Русаков.
— Ну и что? — сказал он. — Такой, как Повар, мог вполне принять подобное решение, рассчитывая добыть деньги на месте. Мы ведь знаем, что он и раньше во время своих «гастролей» обычно пользовался самолетом — быстро покидал город и сразу оказывался далеко. Вот и теперь решил воспользоваться старым способом. Я не удивлюсь, если выяснится, что сразу же за убийством в том же районе или еще где-нибудь последовало ограбление и приметы грабителя совпадут с приметами Повара. Кроме того, аэропорт тоже отличное поле деятельности для карманника.
— А из аэродромов, — заметил Логинов, — мне кажется, Шереметьево и Быково отпадают: там самолеты реже.
Владимир встал.
— На выезд! — скомандовал он.
И пока одна группа занялась проверкой первой версии, другая во главе в Анкратовым отправилась на аэродром. Через несколько минут две оперативные «Волги» уже мчались во Внуково, оглашая воздух звуком сирен.
Начался мелкий дождь. Шоссе в свете фар блестело, словно гладкая кинопленка. Ветровое стекло покрылось водяной россыпью. Шофер включил «дворники», и они еле слышно шуршали, прометая окно слева направо — справа налево, подобно маятнику, отсчитывающему время.
Владимир опустил боковое стекло, и сырой ночной воздух, пахнущий травой и лесом, залетел в машину.
Никто не разговаривал.
Логинов курил. Русаков закрыл глаза, и можно было подумать, что он дремлет.
Владимир не чувствовал ветра, не замечал дождевых капель, порой залетавших в окно и попадавших ему в лицо. Устремив неподвижный взгляд вперед, на летевшее навстречу ночное шоссе, он думал, и память с удивительной четкостью воскрешала перед мысленным взором эпизоды их дружбы с Николаем.
…Как меняются в жизни мерила вещей и понятий, мечты и желания!
Где кончается детство и начинается юность? Где кончается юность и начинается зрелость? Владимир не запомнил той минуты (а быть может, секунды), когда самбо из любимого занимательного вида спорта превратилось в грозное оружие, спасшее ему жизнь. Где пролегла та черта, что разделяла увлекательные занятия, игру в школе милиции и рискованные операции, в которых успех приносил не пятерку в журнале, а арест опасного преступника, а неуспех мог стоить не двойки, а жизни… Эта жизнь, которая дается человеку лишь однажды, она развертывалась перед ним и Николаем так же стремительно, как это шоссе за окном. Но не ночное, а яркое и солнечное, какое оно бывает днем.
…Владимир бросил взгляд на часы. До Внукова оставалось еще минут пятнадцать езды, дождь усилился, и «Волги» замедлили ход. Пришлось поднять стекло — холодные струи залетали в машину.
Теперь лобовое стекло сразу мутнело, после того как «дворник» прометал его…
А мысли все возвращались к Николаю и их дружбе.
Да, все им было дано: сотни дорог — только выбирай, — по которым они могли идти и на которых ждали их радости избранного труда, новые горизонты, открываемые учением, интересный отдых, любимые подруги, по-хорошему беспокойная, увлекательная, чудесная жизнь…
А вот Николай не прошел и половины своей.
Глупая смерть! Бессмысленная и обидная. Владимир сжал кулаки.
Бессмысленная? А почему бессмысленная?
Он вспомнил диспут, который они, школьники-комсомольцы, устроили однажды. Это был диспут по книге Константина Симонова «Живые и мертвые». В какой-то момент разгорелся спор о цене человеческой жизни на войне. Кто-то утверждал, что лишь немногие на фронте гибнут ради конкретного успеха, закрывая амбразуру дота своим телом, тараня вражеский самолет, сознательно оставаясь на гибель, чтоб прикрыть отход своих.
Владимир и Николай горячо возражали.
Неправда, утверждали они, ни одна жизнь, отданная армией, воюющей за правое дело, не пропадает напрасно. В атаку поднимается батальон, окопы противника захватывает порой взвод. Но разве напрасно погибли те сотни бойцов, что начинали атаку и не дошли до цели? Пусть даже ни одна пуля солдата не настигал врага, наоборот, сам он пал, пронзенный вражеской пулей, — что ж, его смерть бессмысленна? Нет! Она пусть маленький, но тоже кирпич, из которого слагается общее здание победы. И тот, кто добрался до окопов Прага, и тот, кто уснул вечным сном перед их брустверами, одинаково достойны восхищения. Потому что в большом, но обязательно благородном деле важен конечный результат, если, разумеется, достигается он благородными средствами. А добиваться с оружием в руках победы в правой войне одинаково благородно и для того, кто доживет до этой победы, и для того, кому это не суждено…
Разве зря отдал сейчас Николай свою жизнь? Да, он не поймал Коростылева, он сам погиб от его ножа. Ну и что?
Коростылева все равно поймают, пусть не Николай, пусть другие, но поймают, и, что главное, рано или поздно поймают всех коростылевых.
Так думал Владимир, пока машина мчалась сквозь дождливую мглу по блестевшему в свете фар шоссе…
Его по-прежнему немигающий взгляд был устремлен далеко, дальше этого стекла, что прометали «дворники», подобно отсчитывающим время маятникам, дальше этого блестящего в свете фар шоссе.
…Он видел золотистый пляж в Химках, где они с Таней и Николаем любили купаться; лабораторию фотодела — предмета, почему-то трудней всего дающегося Николаю, — из которой он не уходил, пока не добивался, чтобы Владимир сказал: «Теперь правильно».
Он видел его всегда веселого и доброго, а в тот день — беспомощного и растерянного. Николай метался по городу в поисках какого-то редкого лекарства, необходимого Нине (Владимир пробегал тогда с ним вместе полдня, но они все же разыскали это лекарство)…
А теперь все это в прошлом. Печально покидать прекрасные города, если знаешь, что никогда больше не доведется вернуться в них; грустно расставаться со школой, институтом. Сколько б ни было во время учебы забот, все же грустно, что навсегда покидаешь институтские стены; порой невыносимо тяжело разлучаться с любимой, но ведь встретишься вновь. А вот как быть, когда навсегда ушел лучший друг, часть твоей жизни? И ни смеха, ни голоса его больше не услышишь, не увидишь знакомых глаз, рук, рыжих волос…
На лбу у Владимира пролегла морщима. Она была еще не очень заметна на этом чистом юношеском лбу. Пройдут годы, она сделается глубокой и нестираемой; будет Владимир седым заслуженным генералом, как мечтали они когда-то с Николаем. Много еще горьких и страшных минут предстоит ему в жизни — что ж, он сам выбрал свой трудный и порой опасный путь.
По первая морщина пролегла в эту ночь. Еще неглубокая, еле заметная, она безвозвратно отделила молодость от зрелости.
0 часов 55 минут
Начался дождь. Машины свернули на боковую дорогу. На мгновение фары выхватили из темноты затейливый указатель: «К аэродрому»; плохо видные за пеленой дождя, в обе стороны убегали вдоль просеки красные аэродромные огни.
Еще один поворот, и машины (чтобы не привлекать внимания, с промежутком в пять минут) остановились в стороне, на общей стоянке. В этот поздний час здание аэропорта было пустынным. Лишь редкие пассажиры дремали в креслах, ожидая вызова на ночные самолеты. Газетные и парфюмерные киоски были закрыты. С поля раздавался рокот двигателей, то глухой, то нарастающий.
Прибывшие — все они были в штатском — поодиночке и не сразу вошли в здание аэропорта. Владимир отправился к дежурному.
Дежурный взволнованно сообщил, что, как только последовал звонок из Москвы, были немедленно опрошены аэродромные кассиры. И действительно, кассирша Михеева вспомнила, что незадолго до этого к ней подходил человек, схожий по приметам с тем, которого ей описали, взял билет на Ашхабад.
— На Ашхабад? — переспросил Владимир.
— На Ашхабад, точно помню, — закивала кассирша, — точно! У нас ведь редко берут на такие рейсы, все больше в городе, в билетных кассах, а здесь те, что с пересадками. Так что народу мало — я запомнила.
— Этот? — Владимир показал Михеевой фотографию Повара.
— Этот, этот! — радостно подтвердила кассирша. — Этот самый. Я его еще запомнила — он, когда расплачивался, толстющую пачку денег вынул. Тыщу небось!
А вдруг кассир ошиблась? У Повара таких денег быть не могло. Не пошел же он к театру лазить по чужим карманам, набив предварительно деньгами собственные. И вряд ли он за время, прошедшее с момента убийства, успел зайти куда-нибудь, где у него хранились деньги. Да и денег у него таких не было — иначе он бы не занимался карманными кражами. Вероятнее всего, как это предположил Русаков, Повар совершил ограбление по дороге. Но где? И у кого в ночную пору могли оказаться такие деньги? К тому же никаких данных об ограблениях, совершенных за последние два часа, не поступало.
Владимир взглянул на часы. До посадки на ашхабадский самолет оставался еще час.
Но время шло, а Коростылев не появлялся. Не появился он и тогда, когда объявили посадку и когда с некоторым опозданием закончили ее. В этот-то момент и раздался звонок к аэродромному дежурному. Голохов сообщил: в Шереметьеве человек, по приметам похожий на Повара, только что приобрел билет на Красноярск. Кассирша не сразу сообразила, что к чему: пока сообщила дежурному милиции, человек исчез. Судя, по сообщению шереметьевской милиции, Повар вряд ли догадался, что кассирша обратила на него внимание. Дело в том, что она потом несколько минут сидела без дела. Только когда пришла сменщица — как раз наступило время смены, — она, сначала поговорив с ней, ушла. И, лишь оказавшись в служебном помещении, она сообразила, что последний бравший билеты пассажир подозрителен, и позвонила дежурному. Если все это время Повар незаметно следил за ней, то ничего тревожного заметить не мог. Дежурный милиции сразу же организовал при помощи дружинников незаметное, как он выразился, «прочесывание» аэропорта. Результатов это не дало никаких. Но для опытного преступника ночью не так уж сложно было найти в здании или поблизости место, где спрятаться.
До отправки красноярского самолета оставалось сорок минут. Поспеть за такой срок и по такой погоде с Внуковского аэродрома на Шереметьевский было невозможно. Голохов уже направил туда две находившиеся в том районе патрульные машины.
На минуту Владимир задумался. Нет, он должен сам задержать Повара! И не только потому, что это было самое меньшее, чем он обязан был Николаю. Ему нужна была эта победа над убийцей друга. Владимир как никто другой знал повадки и жестокость Коростылева — чтобы спастись от «вышки», он пойдет на все. Он был вооружен ножом, а возможно, и пистолетом. Все это могли не знать или не учесть патрульные. Но все это отлично знал Владимир. Словом, во что бы то ни стало Владимир со своими помощниками должен за полчаса добраться до Шереметьевского аэродрома. Думать здесь нечего — единственным реальным путем оставался вертолет. Когда Владимир обратился со своей просьбой к дежурному отдела перевозок, тот категорически отказал.
— Вы что, смеетесь, товарищ лейтенант, посмотрите на погоду! Да какой летчик согласится лететь? Я же не могу им приказать. Нет, ничего не получится.
— Я сам поговорю с летчиками и механиками, — сказал Владимир. — Они коммунисты?
— Комсомольцы, а что? — спросил растерявшийся дежурный.
— Если комсомольцы, то поймут! — уверенно сказал Владимир.
Дежурный в раздумье посмотрел на него.
— Ну а я коммунист, — ни с того ни с сего сообщил он и, сам поняв, как по-детски это прозвучало, неожиданно рассмеялся.
Владимир улыбнулся, но тут же лицо его снова приняло озабоченное выражение.
— Я объясню вам, товарищ дежурный. Этого нельзя не понять… — В двух словах Владимир сообщил, в чем дело. Еще когда он рассказывал об убийстве Николая, дежурный молча схватил плащ и фуражку.
Летчик и механики поняли еще быстрей. Владимир только начал свой рассказ, а они уже торопливо одевались.
Через несколько минут вертолет летел в ночном московском небе в направлении Шереметьевского аэродрома. Дождь перестал. Но небо было покрыто тучами.
Трех милиционеров Владимир оставил — с Поваром следовало быть готовым ко всему: он мог с такой же быстротой и внезапностью примчаться с Шереметьевского аэродрома на Внуковский, с какой он только что сделал это в обратном направлении.
С Владимиром летели только Логинов и Русаков.
…Вот так прошлым летом летели они из отпуска: Владимир, Таня и Николай. С этим отпуском вообще вышла целая эпопея. Они уже предвкушали, как вместе проведут его (Николай надеялся, что сможет перевезти и Нину), как будут валяться на горячем пляже, купаться в теплом море (а в Москве в те дни дождило), как поедут на Рицу. Ни Владимиру, ни Николаю на Кавказском побережье бывать раньше не приходилось. И вдруг начальник заявил, что одновременно того и другого не отпустит.
Владимир и Таня уехали. Это было для них словно свадебное путешествие. Они просто опьянели от счастья. Они с такой жадностью набросились на этот отдых, как будто он был последним в их жизни. Отпуск пролетел как один день.
Вставали в семь; купались, лежали на солнце часа по три-четыре; заплывали так, что берег чуть не пропадал из виду; по вечерам, взявшись за руки, уходили бродить по горным дорогам и где-нибудь на пустынном склоне, оглянувшись — нет ли кого поблизости, — целовались (как будто не могли этого делать хоть целый день в своей комнате, где жили вдвоем).
— Почему, — в недоумении спрашивала мужа Таня, лежа на пляже ранним утром, — почему в таком мире, где так здорово, где только и веселись, есть люди, которые убивают, воруют, насилуют? Ну чего им не хватает, работали бы себе, что, времени, что ли, для отдыха мало? А то нет, пьют, режут, грабят. Наворует, и что? В Сочи, что ли, поедет? Нет. Прячется небось как зверь в норе, каждою стука боится, полжизни в тюрьме проводит. Ты знаешь, Володя, мне кажется, что надо упразднить судебно-психиатрическую экспертизу, — закончила она свою речь несколько неожиданно.
— Почему? — удивился Владимир.
— А потому, что самый факт, что какой-то человек в нашей стране совершает преступление, уже свидетельствует о его психической ненормальности. — И Таня победно посмотрела на Владимира, очень довольная своей идеей.
Владимир рассмеялся.
— Прекрасная теория! Правда, был еще такой Ламброзо, высказывавший сходные мысли, но по сравнению с тобой у него все, конечно, примитивно. Да, надо будет внести предложение: как поймаем преступника, так его в больницу. Полежит-полежит, а потом в санаторий. А?
— Ну хорошо, — в азарте спора Таня даже села, — а зачем тогда воруют? Чего им не хватает? Я уверена, что, если бы любой вор употребил все то время, что он проводит в тюрьме, например… — Таня на мгновение вдумалась, — например, на учение, на научную работу, он уже давно стал бы профессором и зарабатывал в десять раз больше, чем своим воровством.
— Замечательно! — Владимир хохотал теперь уже по все горло. — Создать университет из жуликов. Можно даже академию наук! Кончает парень школу, и ему вопрос: кем хотите быть — вором или доктором философии? Если вором, твердого заработка не гарантируем! Нет, Танька, тебе самой на эту тему надо защитить диссертацию. — Он стал серьезным. — К сожалению, тут другие причины. Ты права, у нас социальный строй такой, что преступность порождать не может…
— А откуда же она?
— Разные причины, Таня, — пьянство, распущенность, слабохарактерность родителей вначале, попустительство окружающих позже… Ну что мне тебе лекцию читать? Хочешь, устрою в школу милиции? У меня там знакомства.
Таня вскочила. Она сорвала с Владимира купальную шапочку, которую он только что надел, и побежала к морю.
— Есть еще причина! Забывчивость мужей! Забыл вторую купить! Теперь краду твою!.. — закричала она, бросаясь навстречу шумной, лохматой волне…
Выходить на работу Владимир должен был в понедельник. Чтобы выкроить еще один день, решили возвращаться не поездом, а лететь в воскресенье самым поздним самолетом.
И вдруг в пятницу, ни о чем не предупредив, как снег на голову свалился Николай. Он явился на пляж, когда Таня с Владимиром только возвращались из очередного дальнего заплыва. Они увидели Николая еще за полкилометра от берега. Он стоял посреди пляжа, сияя молочной белизной тела и огненной шевелюрой («Как маяк, — говорила потом Таня, — смотри, тоже побеленная длинная башня и тоже наверху огонь горит»), и махал им.
Оказалось, что Николай имел два дня отгула и вот на пятницу, субботу и воскресенье прилетел.
За какой-то час он обгорел на солнце и стал похож на вареного рака. Он позавтракал с друзьями, схватил такси и за один день объехал «чуть не все, — как выразилась Таня, — достопримечательные места Черноморского побережья Кавказа».
— Ах, как здорово! — шумно восхищался Николай. — Ах, как чудесно! Теперь каждым отпуск сюда! Каждый выходной! Каждый обеденный перерыв!
Обратно достать билеты рядом не удалось. Владимир с Таней, заказавшие их давно, сидели в четвертом ряду, тогда как Николай, доставший билет в последний момент, — в хвосте самолета.
Когда вылетели, была ясная, звездная ночь, но по дороге машина попала в грозу.
За окнами сплошной мрак. То и дело с невероятным грохотом, слышным в салоне, вспыхивала совсем близкая ветвистая, ослепительно белая молния. Машина кренилась то вправо, то влево, то задирала нос кверху, то куда-то проваливалась.
Стюардесса с вымученной улыбкой, держась за спинки кресел, ходила вдоль прохода. Раза два в салон заглядывали озабоченные летчики.
Таня сидела бледная. Ее потемневшие глаза были широко открыты, пальцы судорожно вцепились в Володин рукав. Иногда она искоса поглядывала на него и, видя спокойное лицо мужа, его ободряющую улыбку, сама жалко и мимолетно улыбалась.
Тане было очень страшно. Однако при мысли, что Владимир рядом, она на мгновение успокаивалась — с ним она не боялась ничего. Но тут гремел гром, молния превращала за секунду до этого черные овалы окон в чистые листы бумаги, и Таня еще сильней цеплялась за рукав мужа.
Неожиданно, раскачиваясь, как молодой матрос во время шторма, к ним подошел Николай.
— Лететь осталось недолго. Мне нужно рассказать Володьке одну важную штуку. В Сочи-то забыл. Дело срочное, а то опять забуду. Давай, Танька, поменяемся местами. Мне ненадолго.
Таня посмотрела на него отчаянными глазами. Но Николай улыбался, как всегда.
— Ты что, — спросил он вдруг, изобразив на лице преувеличенную тревогу, — уж не боишься ли, часом? А? Нет, ты скажи, ты трусишь, что ли?
Таня быстро поднялась. Она трусит? Сам он трусит!
Владимир пытался ее удержать, но она, не оборачиваясь, раскачиваясь, добралась до последнего ряда, где было место Николая, и, опустившись в кресло, закрыла глаза. А Николай начал какой-то длинный и путаный рассказ о возможных перемещениях и слияниях в отделе, в управлении и так далее и тому подобное. Владимир слушал не перебивая, а когда Николай наконец замолчал, спросил:
— Для чего ты всю эту чепуху развел? Чтоб с Таней местами поменяться? Да? Для чего?
Николай облегченно вздохнул. Он не был мастером врать. Еще прихвастнуть куда ни шло. А врать — это у него не получалось.
Выяснилось, что сосед Николая по самолету — опытный воздушный пассажир, то и дело разъезжающий по командировкам, — с самого начала грозы стал рассказывать страшные истории об авиационных катастрофах, свидетелем которых он был, а иногда даже и участником.
Единственное, что Николай понял из всех этих страшных историй, — это то, что, когда самолет совершает вынужденную посадку где попало, а иной раз даже падает, у пассажиров, сидящих впереди, нет никаких шансов спастись, в то время как те, кому повезло сидеть в хвосте, остаются невредимыми. Поэтому и пассажир этот всегда брал билеты в последний ряд. Конечно, гроза при современном состоянии авиации — это ерунда, но все же пусть Таня сидит в хвосте, так спокойней.
Он неуверенно посмотрел на друга. Владимир усмехнулся и, положив свою руку на руку Николая, крепко пожал ее.
…Вот о чем вспоминал Владимир, пока вертолет летел в ночном, затянутом тучами небе к Шереметьевскому аэродрому.
Наконец машина пошла на снижение. Внизу замелькали огоньки — красные, золотые, синие. Засверкала политая дождем бетонная полоса. Шум мотора стал тише. На минуту, слегка покачиваясь, вертолет повис над самой землей, а потом мягко опустился на нее.
Торопливо открыв дверцы и крикнув летчикам: «Спасибо, ребята!» — Владимир, Логинов и Русаков выпрыгнули из вертолета и бегом направились к светящемуся вдали зданию аэропорта.
2 часа 45 минут
Владимира и его помощников встретил на поле дежурный. Он сообщил, что посадку на красноярский самолет еще не объявляли и что патрульные машины к аэродрому не подъезжали — Повар мог их заметить, — а стоят неподалеку, наблюдение же за входами и выходами осуществляют внешне ничем не приметные дружинники-комсомольцы.
Было ясно, что Повар появится (если он вообще появится) в последнее мгновение, когда посадка будет заканчиваться. Оставалось еще несколько минут, и дежурный милиции коротко передал Владимиру то, что просил передать ему для информации Голохов.
В общих чертах предположения милиционеров оправдались. Дежурному по городу позвонили из девяносто шестого отделения милиции и сообщили, что туда доставили гражданина Гокиели.
Гражданин Гокиели дал следующие показания.
Он очень спешил на Внуковский аэродром. На площади Революции такси не было, да еще стояла большая очередь. Он пытался остановить машину у «Метрополя», у «Москвы», не удалось.
Наконец, когда очередное такси остановилось у подъезда гостиницы «Москва», высаживая пассажиров, он, даже не дождавшись, пока они вылезут, решительно сел рядом с шофером и сказал: «До Внукова. Хорошо заплачу». Но шофер все-таки подъехал к стоянке автобуса и спросил, не нужно ли кому на аэродром. Желающих не было, и шофер уже собирался ехать, когда к машине подбежал какой-то здоровенный запыхавшийся мужчина и сказал, что он торопится на аэродром (с какой стороны подбежал, пострадавший не заметил). Мужчина сел сзади (гражданин Гокиели сидел рядом с шофером). В пути пассажиры молчали, болтал один шофер.
Гражданин Гокиели молчал, а второй пассажир только однажды спросил: «А бензина-то хватит?» (Голоса человека он не запомнил.) На что шофер сообщил, что бак заправлен «до крышки».
Когда выехали за город, второй пассажир начал смотреть в окно так внимательно, словно искал номер дома на неизвестной улице, хотя кругом была только дождливая ночь и лес.
И вдруг — гражданин Гокиели даже побледнел при одном воспоминании об этом — второй пассажир вцепился в плечо шофера и закричал:
«Стой! Стой! Не видишь?!»
Ошалевший от неожиданности шофер резко нажал на тормоза. Машина заплясала по скользкому шоссе и, чуть не въехав в кювет, остановилась. И тогда человек выхватил нож и изо всех сил ударил шофера по голове рукояткой. Потом быстро, но спокойно перетащил тело (причем без всякого труда — он, наверное, был очень силен) на заднее сиденье и, бросив дрожащему гражданину Гокиели угрожающее: «Не рыпайся!» — сел за руль.
Видимо, преступник хорошо водил машину, потому что, ловко развернувшись на шоссе, съехал на какую-то боковую дорогу (свидетель не помнит какую, он из Тбилиси, Москву не знает) и довольно быстро поехал по ней. Ехали долго (сколько, свидетель не запомнил). Наконец остановились. Преступник сделал гражданину Гокиели знак вылезать, сам вытащил шофера и, быстро обыскав его и забрав выручку (свидетель запомнил, что она была значительной), оттащил тело к обочине. Потом он обыскал гражданина Гокиели и взял у него все деньги, затем поднял руку с ножом и ударил гражданина Гокиели. Тот потерял сознание. Когда он пришел в себя, посмотрел на шофера, тот слегка стонал. Гражданин Гокиели с трудом, спотыкаясь и падая, добрался до шоссе. Затем он остановил первую же машину — ею оказался грузовик. Поехали за шофером. Тот уже пришел в себя и тоже пытался дотащиться до шоссе.
Всех доставили в отделение милиции. Хотя шофер не успел разглядеть преступника, а гражданин Гокиели его внешности и одежды не запомнил, можно было предположить, что нападение совершил Повар. Непонятным оставалось только то, почему он не убил свои жертвы. Во всяком случае, ему привалила неожиданная удача — он располагал теперь большими деньгами и машиной.
Дальше преступник, видимо, действовал так: он доехал до Внукова, оставил машину где-нибудь на подъезде и, войдя в аэропорт, купил билет до Ашхабада.
Затем он, наверное, решил на всякий случай дождаться объявления посадки где-нибудь снаружи. Тогда-то он и увидел подъехавшие милицейские машины. Он был слишком опытным преступником. Опытным и решительным. Поэтому он немедленно побежал к брошенному им такси и помчался в Шереметьево. Рассуждал он, наверное, так: до посадки еще час, да то, да се. В общем, часа полтора в его распоряжении. Дождь перестает, он хороший шофер — за это время по пустынной ночной Москве, да еще лучше по кольцевой, домчаться до Шереметьева он сумеет. А его там начнут искать, лишь когда станет ясно, что к отлету ашхабадского самолета он не явился. За это время, если в Шереметьеве есть подходящий рейс, он сумеет улететь.
Повар выполнил свой план. Он добрался в рекордный срок до Шереметьевского аэродрома, бросил машину где-то в лесу, купил билет до Красноярска и снова вышел. Он наверняка спрятался снаружи и наблюдает.
Владимира и его помощников он видеть не мог — вряд ли он сообразит, что они прибудут на вертолете. Патрульные машины к аэродрому не подъезжали. Они стоят неподалеку на шоссе (прибыв туда уже после того, как Повар проехал) и связываются с милицией в аэропорту через дежурного по городу по радиотелефону.
Наконец, по утверждению докладывавшего все это лейтенанта, дружинников Коростылев распознать не мог. Они ничем не приметны, среди них есть даже девушки.
Владимир был далек от такой уверенности. Он прекрасно знал, каким хитрым и осторожным преступником был Повар. От такого следовало всего ожидать. Во всяком случае, теперь достигнуто главное — напали на след.
Если даже, почуяв опасность, Повар не выйдет на посадку, куда он денется? Шоссе перекрыто патрульными машинами. Шереметьево не такой уж большой населенный пункт, чтобы он сумел здесь спрятаться. Можно поднять на ноги всю местную милицию, вызвать собак…
В репродукторе раздалось:
«Производится посадка в самолет, вылетающий рейсом двадцать девятым по маршруту Москва — Омск — Красноярск. Пассажиров просят пройти на перрон для посадки в самолет».
Владимир, Логинов, Русаков и дежурный лейтенант стали в неосвещенном углу, недалеко от выхода на поле, когда начали появляться первые пассажиры.
Владимир то и дело поглядывал на часы. Они отсчитывали секунды, секунды слагались в минуты, минуты шли, а Повар не появлялся.
Репродуктор уже дважды возвестил: «Заканчивается посадка…» — а они все стояли, напряженно всматриваясь в лицо каждого выходящего пассажира. Наконец вышел последний, пассажиры уселись в автобус, и он бесшумно укатил куда-то в ночь, в дальний край летного поля.
В ту же секунду из дверей выскочил запыхавшийся парень, он торопливо огляделся и, увидев дежурного лейтенанта, бросился к нему.
— Он… там… побежал! — Он задыхался от волнения, и не сразу удалось понять, что произошло.
Оказывается, Повар проник в здание аэровокзала не через дверь, а через плохо запертое окно в одном из коридоров первого этажа. У выхода из этого коридора в пассажирский зал стояли двое дружинников, Повар подошел незаметно и, видимо, услышал, о чем они разговаривали. Он все понял и повернул было обратно. Но в этот момент дружинник обернулся и встретился с Поваром глазами. Он сразу же бросился за мим, крикнув другому: «Зови милицию!»
Парень говорил быстро, на ходу. Вся группа уже подбегала к коридору, когда он закончил свое сообщение. Владимир, Логинов и Русаков выскочили в окно и побежали прямо к лесу — больше отсюда преступник никуда бежать не мог, в других направлениях была открытая местность. Дежурный лейтенант остался, чтобы распорядиться дружинниками.
Не прошло и нескольких минут, как десяток комсомольцев уже спешили по следам милиционеров к лесу.
На опушке преследователи наткнулись на неподвижно лежащее тело. Владимир быстро наклонился, осмотрел дружинника и, облегченно вздохнув, выпрямился — парень был невредим, его просто свалили ударом кулака. Повар, наверное, спрятался за деревом и, когда дружинник пробегал мимо, ударил его. Коростылев знал, что человек, получивший удар ножом, мог перед смертью указать направление, в каком скрылся преследуемый. Оглушенный же (да еще таким кулаком, как v Повара), он долго не придет в себя.
Погоня продолжалась.
И вдруг Владимир остановился. Коротко бросив: «Продолжайте преследование, прочешите лес!» — он повернул обратно.
У аэровокзала подбежал к автомобильной стоянке. Пусто.
Как быть?
Тут Владимиру повезло. На дороге, слабо освещенной фонарями, показалось такси. Бог знает кого оно привезло: растяпу, опоздавшего на предыдущий самолет, или предусмотрительного, прибывшего за два часа до отправления следующего. Он еле дождался, пока пассажир расплатился, сел рядом с шофером и, предъявив ему свое служебное удостоверение, сказал:
— Гоните вовсю. Мы должны срочно добраться до патрульных машин! Не встретили по дороге?
— Стоят, — ответил водитель, молодой парень, которого неожиданное приключение явно начало увлекать.
— А кого ловим, товарищ лейтенант?
— Кого ловим? — задумчиво переспросил Владимир, пока машина на полной скорости вылетала на шоссе. — Мерзавца одного ловим! Ему бы я вот этими руками шею свернул!
И в голосе его прозвучало столько ненависти, что шофер замолчал и только еще сильнее нажал на педаль. Через минуту он все же нарушил молчание:
— А вы не таксиста ловите? Вот дал, будто ему багажник скипидаром смазали! — И парень рассмеялся.
До Владимира, занятого своими мыслями, не сразу дошел смысл этих слов. Но, когда дошел, он чуть не схватил водителя за руку.
— Таксист! Где вы его видели?
— А вот как на аэродром ехали, метров двести не доезжая патрульных. Он прямо из лесу выехал. А потом как газанет в Москву! Вот я и думаю: чего ему в лесу делать — не от вас он, случаем, прятался?
Теперь все было ясно. Предусмотрительный Коростылев спрятал свою машину в лесу, в километре от аэродрома, и остаток пути проделал пешком. А теперь он лесом добежал до нее и выехал на шоссе. Поскольку патрульные перегородили шоссе ближе к аэропорту, чем было спрятано такси Повара, они, естественно, не могли видеть, как он выезжал. Сейчас они, вероятно, спокойно продолжают стоять на дороге, если только не присоединились к дружинникам, прочесывающим лес.
Последнее предположение оказалось верным.
Когда Владимир, который включил в такси внутреннее освещение, поравнялся с милицейскими машинами, его никто не остановил. Промчавшись мимо, он успел лишь увидеть, что рядом с патрульными стоят двое дружинников, усиленно жестикулировавших и показывавших на лес.
Видимо, они, прочесав свой участок, сообщили милиционерам, что Повар скрывается в лесу, и просили помощи. Патрульные машины включились в погоню, но вскоре отстали. (Владимир затем и включил внутреннее освещение, чтобы патрульные разглядели его.)
Владимир решил не останавливаться — дорога была каждая секунда. Кроме того, хотя он и гнал от себя эту мысль, могла ведь произойти и ошибка: может быть, из лесу выезжало не такси, а какая-нибудь частная машина с загулявшими кутилами или такси, но «настоящее», а не с Поваром за рулем… Мало ли что могло быть? Так пусть патрульные лучше помогают дружинникам ведь те не вооружены. Владимир находил и другие столь же веские причины не останавливаться и продолжать преследование в одиночку.
Но где-то внутри он со свойственной ему прямотой признавался себе: просто он хочет поймать убийцу Николая сам. Это не только его долг, это его право!
…Парень оказался лихим шофером, и машина неслась по еще мокрому от дождя шоссе с бешеной скоростью.
3 часа 10 минут
Владимир прикидывал в уме, как далеко мог обогнать его Повар и как быстро тот ехал. Повар был отличным шофером (это доказывала быстрота, с какой он после похищения машины домчался до Внукова, а потом до Шереметьева), он знал, что за ним погоня, движения по шоссе почти не было. А патрульные и дружинники, как скоро они поймут, что птичка улетела, и сообщат дежурному по городу, а тот постовым на шоссе? И не свернет ли где-нибудь преступник, который ведь может предположить, что за ним гонятся милицейские машины, снабженные радиосвязью; и если он свернет, то куда? Кроме того, нет ли у Повара огнестрельного оружия? Тогда почему он не воспользовался им для того, чтобы нанести удары своим жертвам, когда похищал такси (если преступники почему-либо не хотят стрелять, они делают именно так)? А потому, сам себе отвечал Владимир, что при феноменальной силе Повара ему достаточно было собственного кулака, тем более если в нем зажата рукоятка ножа.
Все эти мысли роились в голове Владимира, пока такси мчалось по пустынному шоссе. Начинался рассвет, предметы приобретали очертания и все яснее проступали в сером свете наступающего утра.
Долгое время шофер, сосредоточенно нахмурив брови и крепко сжав руль, молчал. Потом, «втянулся в скорость» и, несколько раз метнув взгляд в сторону Владимира, наконец не выдержал:
— Одного догоняем, товарищ начальник?
— Одного, — помолчав, ответил Владимир, не сразу оторвавшись от своих мыслей.
— Тогда порядок. — Парень повеселел. — В случае чего могу подсобить. Тоже не лыком шит — первый разряд по футболу имею!
После паузы он задал новый вопрос:
— Что, сшиб кого-нибудь? Пьяный, наверное…
— Нет, не сшиб, — медленно сказал Владимир, — убил. Нож всадил…
— Убил? — Добродушное лицо шофера сразу стало суровым. — Вот гад! Кого убил? Пассажира? Небось за деньгой погнался!
— Нет, не пассажира. — Владимир повернулся к шоферу. — Да он вообще не таксист — машину угнал. А убил он друга моего, лучшего друга, понял?
Владимир сам не знал, почему вдруг сказал об этом незнакомому парню. Сказал, пожалел и сразу жалеть перестал, столько искреннего, горестного сочувствия прочел он в глазах шофера.
— За что убил-то? — глухо спросил тот.
— За что убил? — Владимир задумался. — За то, что боялся его. За то, что знал, не будет ему жизни, пока Николай жив. Вот за это и убил. Всадил нож в спину.
— Что ж он, дурак, — после долгой паузы заговорил шофер, — не понимает, что ли? Ну одного из милиции убил, другого. Все равно ведь пустым место не останется! Верно я говорю? В конце-то концов прихлопнут его и всех их таких! Не будем же мы их терпеть! Теперь тем более! Милиция-то ведь не один человек, а сила! Да и то скажу, народу сколько помогает, вон дружинники там, комсомольцы! Да любой. Хоть меня возьмите, хоть кого. Если сейчас поймаем, я ему, честное слово, первый шею сверну!
Владимир не отвечал. В своей нехитрой речи парень высказал мудрую и непреложную истину: преступный мир обречен. Времена изменились. Теперь милиционеры — это в большинстве комсомольцы и коммунисты с образованием, окончившие средние и высшие специальные учебные заведения, вооруженные современной могучей техникой и наукой, их начальники соединяют в себе знания ученых и искусство полководцев.
Плечом к плечу с милицией стоит многотысячная армия дружинников, людей решительных, беспощадных к преступникам, сильных своей ненавистью к ним, своей сплоченностью и убежденностью.
А печать, а общественное мнение… Да что там говорить преступный мир обречен! Если вообще еще можно называть «преступным миром» вымирающих профессионалов, тунеядцев, предпочитающих воровство работе, трусливых хулиганов…
* * *
…Машину Повара увидели, когда подъезжали к водной станции «Динамо».
Далеко впереди, в еще неясном свете утра показалась «Волга», мчавшаяся к городу. Она была хорошо видна на пустынном шоссе.
— Ну, — сказал Владимир шоферу, — теперь давай! Вот он!
Парень не ответил, он только крепче вцепился в руль.
«Волга» росла. Как ни отчаянно мчался Повар, шофер Владимира был еще более искусным водителем. И все же расстояние сокращалось очень медленно. Одно время казалось, что Повару удалось даже немного оторваться, но потом расстояние вновь стало сокращаться.
Машины миновали развилку шоссе, нырнули в туннель, вот позади остались станции метро «Сокол», «Аэропорт», «Динамо», «Белорусский вокзал»… Раза два-три машины пролетели мимо постовых. Но те, разумеется не могли знать, что происходит у них на глазах. Они наверное, думали, что это мчатся таксисты-лихачи, спешащие доставить пассажиров с Шереметьевского аэродрома на Внуковский или на вокзал.
Милиционеры свистели вслед, а один даже заспешил к телефону, чтобы сообщить следующему посту о нарушителе, превысившем скорость.
На площади Маяковского, когда машины разделяло уже не больше двухсот метров, Повар неожиданно свернул вправо, на Садовое кольцо. Он до предела увеличил скорость. Еще несколько минут — и машины промчались по площади Восстания, вновь нырнули в туннель. Миновали Смоленскую площадь и понеслись к Зубовской. Расстояние между машинами еще больше сократилось. И вдруг Повар применил неожиданный маневр. Он сбросил скорость и, не доехав немного до улицы Щукина, внезапно свернул влево. Завизжали шины. Повар направил такси в подворотню невысокого дома и резко затормозил.
Вот тут-то Владимир смог в полной мере оценить искусство своего водителя. Он не проскочил дальше, как рассчитывал преступник, а свернул сразу же вслед за Поваром. Его такси ударилось в преследуемую машину в тот самый момент, когда Повар выскочил из своего такси и устремился в глубь двора. Владимир понял план Коростылева. Уйти от преследования на машине тот не мог. Еще пять минут, еще десять, и Владимир нагнал бы его. К тому же мчаться по центральным улицам становилось опасно — стало почти светло, светофоры включили, регулировщики выходили на дежурство, навстречу попадалось все больше машин.
Кроме того, Повар уже сумел разглядеть, что преследует его не патрульная и вообще не оперативная машина, а такси, в котором всего один пассажир. В этих условиях он мог рассчитывать, добравшись до хорошо знакомого ему места, бросить машину где-нибудь у проходного двора и скрыться. В крайнем случае можно было, спрятавшись где-нибудь за выступом стены, в темном подъезде, убить преследователя, используя преимущество внезапности, нож и свою огромную силу.
Когда такси Владимира врезалось в машину Повара, шофер ударился грудью о руль, и его немного ошеломило.
Владимир мгновенно открыл дверцу и бросился в погоню. С трудом протиснувшись между брошенным такси и стеной подворотни, он вбежал во двор.
Повар был метрах в тридцати впереди. Он пробежал мимо палисадников, мимо стоявшей в глубине двора школы и скрылся за ее углом.
Владимир устремился за ним. А Повар уже подбегал к деревянным раскрытым воротам, выходившим на улицу. «Улица Веснина», — мысленно прикинул Владимир. Он бежал быстрей преступника, и расстояние между ними с каждым шагом сокращалось.
Но, когда Владимир добежал до ворот, Повара нигде не было видно.
Старый московский переулок был пустынен. Слева, возле массивного здания посольства, неторопливо прогуливался милиционер; сейчас он был как раз в дальнем конце своего маршрута и обращен к Владимиру спиной (он наверняка не успел заметить промелькнувшего Повара); справа, на перекрестке, ритмично то вспыхивал, то гас желтый свет «мигалки».
Убежать влево преступник не мог — там ходил милиционер, да и переулок протянулся далеко. Справа, правда, где перекресток располагался намного ближе, можно было свернуть за угол. Но, если бы Повар сделал это, Владимир успел все же увидеть его — расстояние между ними было недостаточно велико. А что это значит? Возможно, преследуемый или в подъезде дома напротив (но это маловероятно — дом высокий, а кругом маленькие — по крышам не убежишь), или он вбежал в калитку рядом с домом.
Все эти размышления заняли секунду. Владимир бросился в калитку. Он попал в небольшой захламленный двор, казалось, без другого выхода, но, добежав до конца замыкавшей этот двор стены дома, Владимир обнаружил узенький проход. Он осторожно — уж очень проход был удобен для засады — вбежал в него, завернул за угол и оказался в сквере, разбитом перед невысоким домом.
Мелькнула спина Повара, выбегавшего из ворот снова на улицу.
Владимир устремился за ним. Теперь они опять оказались в переулке, но «мигалка» на этот раз была прямо перед ними. Повар пересек улицу Веснина и побежал дальше. Вдали виднелось Садовое кольцо, откуда уже доносился первый шум уличного движения — Москва просыпалась.
Повар промчался вдоль каменной ограды, отделявшей от улицы пятиэтажный дом, свернул вправо в ворота и снова свернул направо.
Их разделяло метров двадцать, Повар бежал тяжело, и Владимир понял, что развязка близка. Кроме подворотни, двор выходов не имел.
На мгновение Владимир остановился и перевел дыхание. Теперь Повару оставалось лишь одно — вступить в схватку.
Но тот, не задерживаясь, уверенно вбежал в один из подъездов. Что он намерен был сделать? Как скрыться?
И тогда Владимира осенило. Еще вбегая в ворота, он заметил справа узкий глухой сад, расположенный между оградой и домом. В сад выходили двери подъездов. Они находились напротив тех дверей, что выходили во двор. Теперь он понял маневр Повара. Пока Владимир будет искать его по всем этажам, Коростылев покинет подъезд через парадное, выходящее в сад, и спокойно выскочит снова на улицу.
Владимир мгновенно повернул обратно, миновал арку, свернул в сад. В нескольких метрах от себя он увидел бежавшего навстречу Повара.
Повар был страшен. Он остановился, тяжело дыша, во рту, широко открытом, блестел золотой зуб, в маленьких глазах затаилась ненависть, лицо покрылось потом. Он был весь в грязи…
Какое-то мгновение оба стояли неподвижно. Потом в руке Повара сверкнул длинный тонкий нож, и с глухим звериным ревом он бросился вперед…
Много позже, когда все уже кончилось, кто-то спросил Владимира, почему он не воспользовался пистолетом. Владимир недоуменно посмотрел на задавшего вопрос — действительно, почему? Ведь проще простого было во время преследования приказать Повару остановиться под угрозой оружия, дать предупредительный выстрел, наконец, просто выстрелить в ногу. Когда же преступник бросился на Владимира с ножом в руке, меры необходимой самообороны не только разрешали, а просто требовали, чтобы Владимир воспользовался пистолетом. (и главное, разве не было бы это самым простым и к тому же законным способом отомстить за Николая?)
Однако он этого не сделал. И вряд ли мог объяснить почему. В тот момент, когда Повар бросился на него, Владимир почувствовал себя на спортивном ковре. Это была очередная схватка по самбо, с той разницей, что ставкой здесь была не золотая медаль, а жизнь. Мозг Владимира, как всегда во время поединка, работал с невероятной быстротой, но абсолютно спокойно. Обстановка оценивалась в долю секунды. Решения принимались мгновенно, почти автоматически, и так же мгновенно осуществлялись.
Но Повар был не обычный противник — его вес превышал вес Владимира на добрых двадцать килограммов (в самбо такого не могло бы случиться). Он весь был отлит из мускулов и ростом на голову выше. В своей огромной руке он держал нож (и, между прочим, не деревянный, который используют в показательных выступлениях самбисты), нож, которым он искусно владел.
Резкий, точный удар ноги, которым Владимир попытался выбить у преступника оружие, оказался недостаточным. Повар только взвыл от боли, но ножа не выпустил. Он на секунду остановился и, молниеносно перехватив нож в другую руку, снова кинулся на Владимира.
Владимиру не повезло. Он сумел мгновенно восстановить равновесие, потерянное после неудачной попытки выбить нож, сумел отбить удар, который Повар нанес ему левой рукой, но в это время нога его поскользнулась на мокрых после прошедшего дождя листьях и он чуть не упал. Повар воспользовался этим и ударил снова. Владимир успел рвануться в сторону, и нож рассек одежду, глубоко вспоров мякоть руки.
Повар быстро перехватил нож в правую руку — он сделал это инстинктивно, — правой рукой действовать было привычней.
Это была ошибка. И ошибка непоправимая. Не обращая внимания на боль, Владимир левой рукой отбил кисть нападавшего и в то же время правой резко рванул к себе руку Повара за локоть. Молниеносным движением Владимир завел ее Повару за спину и нажал. Преступник взревел от боли, нож со звоном отлетел на асфальт. Владимир чуть-чуть ослабил захват, ровно настолько, чтобы задержанному не было больно и в то же время чтоб он не смог шевельнуться.
Он держал в руках убийцу Николая — своего самого близкого, самого дорогого друга. Он держал в руках страшного, неисправимого преступника. Но в эту минуту Коростылев был для него лишь «задержанный». Лейтенант Анкратов — работник милиции, а не судья, не заседатель.
Его обязанность — задерживать преступников, не карать.
Из раны обильно текла кровь, каждое движение вызывало острую боль, а руку приходилось держать напряженной. Видимо, удар ножа оказался серьезней, чем думал Владимир.
Он вывел Повара на улицу и огляделся. Кругом никого не было, он потащил задержанного на улицу Веснина, где около посольства стоял милиционер. Именно потащил: Повар упирался, шаркал ногами по земле, ругался, стонал в бессильной ярости, огромный кулак свободной руки то сжимался, то разжимался.
Владимир находился в постоянном напряжении — малейшая потеря внимания, и Повар мгновенно воспользовался бы ею.
Когда они вышли на улицу Веснина, Владимир увидел, что рядом с милиционером стоит шофер его такси. Оправившись от толчка, парень прошел, наверное, за ними следом по дворам.
Увидев Владимира, он бросился к нему навстречу. В глазах его было столько злости, а в движениях — решительности, что Владимир предостерегающе крикнул:
— Не трогать!
Однако парень, подбежав, изо всей силы ударил Повара кулаком.
— Не трогать! — повторил Владимир, поворачиваясь так, чтобы загородить собой задержанного.
Но шофер вложил в удар всю свою злость, теперь шипел сквозь зубы:
— Гадина! Не человек ты, понял? Гадина! Моя бы воля, я б тебе не то что руку, голову свернул! Человека убил, подонок…
Он топтался вокруг, не зная, как поступить, чем помочь.
Постовой у посольства, еще издали завидев Владимира, не стал терять времени. Он не мог покинуть пост, но тут же бросился к телефону и позвонил в отделение милиции, находившееся в соседнем переулке.
Не прошло и трех минут, как из-за угла вылетела дежурная машина. Повара запихнули в машину и повезли в отделение. Один из милиционеров, получив подробные указания Владимира, где искать нож, отправился за ним.
Минут через двадцать в отделение прибыл Голохов. За это время Владимиру кое-как перевязали руку.
Приехавший с дежурным по городу врач сделал перевязку заново. Щуря глаза за очками, он бормотал:
— Ты смотри, как повезло. Вот повезло, совсем рядом с веной, миллиметры… Да и то резанул! Я ж говорил: стилет. — Он косился на принесенный милиционером нож, который Голохов, покачивая головой, вертел в руках.
Владимир сидел бледный — крови он потерял все же немало, рана продолжала гореть, хотя врач и смазал ее чем-то.
— Сменишься, надо обязательно сходить перевязать, — сказал врач.
Владимир коротко и ясно доложил о ходе операции по задержанию преступника Коростылева по кличке Повар. Приехавшие с Голоховым сотрудники и местные милиционеры, разделившись на группы, отправились одни к брошенным такси, другие к месту схватки, третьи записывали показания свидетеля — шофера. Повара увезли на Петровку.
Голохов сел в машину, Владимир поехал с ним.
Не успел дежурный по городу войти в свой кабинет, позвонил начальник управления.
Он звонил из квартиры. Несмотря на ранний час, он не спал. Уж, кажется, чего только не повидал начальник управления за свою жизнь, вряд ли был в Москве другой человек, который ежедневно сталкивался с таким количеством трагедий, несчастий, подлостей, слез и крови. Но он от этого не стал равнодушным к человеческим судьбам, и каждое горе задевало его. Особенно же тяжело переживал он гибель своих сотрудников.
Дежурный по городу точно и коротко доложил подробности ночной операции.
— …Анкратов. Лейтенант Анкратов… — повторил он дважды фамилию Владимира, отвечая на какой-то вопрос начальника управления. — Ясно, передам! — закончил он разговор. — Лейтенант Анкратов, — Голохов повернулся к Владимиру, — начальник управления объявляет вам благодарность. — И, не дав Владимиру ответить, добавил: — А теперь давай-ка в поликлинику.
После перевязки Владимир вернулся на дежурство.
Когда он вошел в комнату на первом этаже, его окружили. Это не было простое любопытство, это был интерес коллег и товарищей, любому из которых приходилось бывать в таких же переделках, как Владимиру, любого из которых могла постигнуть такая же судьба, как Николая.
Лица были спокойны и суровы. Вопросы задавали деловые, профессиональные.
Так же по-деловому, стараясь скрыть жалость и печаль, обсуждали, что надо сделать для Нины, как сообщить ей страшную весть.
Об отдыхе Владимир и не думал.
В девять часов он позвонил Тане.
— Володька! — радостно кричала она в трубку. — Ну чего ты так поздно? Я совсем заждалась. Мне тут такие кошмары ночью снились — что все твои бандиты за нами гонятся, а мы удираем, а потом ты как выстрелишь, еще, еще… И проснулась, а это Клавдия Ивановна стучалась — молоко принесли. А то бы не проснулась. — Она весело смеялась, потом заговорила озабоченно: — Володь, ты хоть поспал? А? Хоть немного?
— Ну, конечно, я…
Но Таня перебила:
— Ты помнишь? Мы ведь сегодня к Николаю идем. Я Нинке пирог мой знаменитый обещала испечь, пойду тесто ставить. Я сейчас ей позвоню, может, Николай еще дома…
— Нет! Не звони!
Было, наверное, в голосе Владимира что-то такое, что заставило Таню сразу замолчать. Потом она тихо спросила:
— Почему? Что-нибудь случилось? Володя…
Но Владимир уже овладел собой:
— Не надо, Таня, он сегодня всю ночь работал, устал, спит еще, не звони. Я приду, тогда вместе… А Николай, он спит, — медленно повторил Владимир.
— Хорошо, подожду тебя, ты скоро?
— Скоро. Понимаешь, я тут ударился немного… споткнулся на лестнице, света все никак не сделают, забегу только в поликлинику и приеду. Хорошо?
— Расшибся? — Таня разволновалась. — Сильно? Володя, бедненький мой! Тоже мне милиция — солидное учреждение, не могут свет на лестнице провести! — сердито кричала она. — Ну, скорей, Володенька, скорей! И не завтракай там. Будем вместе. Ладно? Я буду ждать…
Владимир долго сидел у телефона, неподвижно глядя в пространство. Да, верно. Сегодня они с женой должны были идти в гости к Второвым, захватив пирог, который Таня будет сегодня старательно печь и который Николай уже никогда не попробует…
Он решительно встал. Надо было ехать к Нине, все сказать ей и быть при этом спокойным и бодрым, надо было работать, учиться, служить…
Надо было идти дальше по жизни, твердо и смело, так, чтобы ни о чем не жалеть, чтобы спокойно смотреть людям в глаза; так, чтобы пройти ее хорошо и честно, как прошел Николай.
10 часов
Владимир сменялся с дежурства.
Подполковник Голохов ушел диктовать сводку. Новый дежурный, подполковник Кафтанов, уже сидел за столом, листая журнал. Заместители и помощники сдавали сменщикам дежурство.
Владимир доложил об уходе и направился к двери. Последнее, что он слышал, перед тем как прикрыть ее за собой, был негромкий, чуть хриплый голос подполковника:
— Дежурный по городу Кафтанов слушает!
Начинался новый день…
1964 г.
1978 г.
Ныне полковник милиции Владимир Иосифович Панкратов — начальник одного из управлений Главного управления внутренних дел Мосгорисполкома.
СЫЩИК Повесть
Кое-какие сравнения
Как-то уж так повелось, что, желая похвалить современного сыщика, его часто сравнивают с непревзойденным мастером следствия Шерлоком Холмсом, созданным талантом Конан Дойля.
А между тем на Петровке, 38, в большом здании, где помещается Главное управление внутренних дел Мосгорисполкома, есть люди, за которыми величайшему литературному детективу всех времен непросто было бы угнаться.
У них высшее специальное образование (а мы помним, что эрудиция Холмса была весьма однобокой и неровной), они не только, как Холмс, владеют боксом, но еще и приемами самбо, на службу им поставлена такая техника, о какой великий английский сыщик не мог и мечтать.
А главное, они не одиноки.
Как ни гениален был Холмс, но еще старая русская поговорка гласит: один ум хорошо, а два лучше. А если их двадцать или даже двести? Холмс же был, как известно, совершенно одинок.
Как в каждом коллективе, здесь есть люди выдающиеся, обладающие природным даром в своей работе, намечающие то, что не замечаем мы с вами, умеющие так оценивать факты, как не сумеем мы, мгновенно делающие из этого выводы, какие нам в голову не пришло бы сделать. Одним словом, уметь наблюдать не так-то просто.
Многое дается здесь учебой, тренировкой, опытом, но многое, как говорится, от бога.
Есть люди, у которых природные способности к музыке, к рисованию, к математике, к литературе! А есть — к следовательской работе. Вряд ли кто-нибудь будет это оспаривать. И вот когда эти природные способности подкрепляются трудом и высокой профессиональной подготовкой, тогда и появляются таланты. Думаю, что в полиции любой страны есть такие люди. Но у наших есть преимущество. И не потому, что в нашей стране нет профессиональной преступности, — спросите у любого криминалиста, и он скажет вам, что иметь дело с профессиональными преступниками куда легче. Нет, просто советский следователь лучше вооружен для борьбы с преступниками психологически и идеологически: ведь человеку, верящему в людей, верящему в силу добра, легче бороться с преступниками, чем тому, кто видит в мире лишь зло.
Гуманизм — неотъемлемое свойство советского работника милиции — резко отличает его от западных коллег.
Так вот, среди многих работников московской милиции — и тех, кто украшен сединой и витыми генеральскими погонами, и тех, кто только привинтил на китель академический значок и на чьих погонах с одним пропитом две совсем маленькие звездочки, — я встречал людей, которые уверенно и спокойно могут вступить в соревнование с Шерлоком Холмсом.
Просто их еще мало знают, а Холмса знает весь мир. И, честно говоря, я не считаю, что это справедливо.
Называю я своего героя Шерлоком Холмсом с Петровки, 38 не потому, что хочу сделать ему этим комплимент (с моей точки зрения, он ничем не уступает тому профессионально), а просто пользуюсь образным, понятным многим читателям сравнением.
Кто знает, может быть, когда-нибудь, говоря о литературном герое Конан Дойля, скажут: ну как же, это был известный английский Тихоненко!
И не думайте, пожалуйста, что такой Тихоненко на Петровке, 38 один-единственный. К радости честных людей и к огорчению преступников, могу сообщить, что, кроме него, есть там и другие.
Не хочу умалять и коллективности действий нашей милиции — черты, впрочем, характерной для всех советских учреждений и организаций. Но в этой повести я пишу о совершенно реальном и конкретном человеке, о его реальных делах, удачах и неудачах, мыслях, поступках. О старшем лейтенанте милиции Викторе Ивановиче Тихоненко, сотруднике Московского уголовного розыска, размещающегося по адресу: Москва, И-51, улица Петровка, дом 38; вход с Колобовского переулка.
Поскольку это повесть, а не корреспонденция, здесь смещены во времени кое-какие события, изменены кое-какие имена, кое-что домыслено. Но, повторяю, так или иначе, все, о чем пойдет речь, случилось в действительности. Это рассказ о сыщике. «Сыщик» — хорошее старое русское слово. И пора ему вернуть его первоначальное значение.
Капля крови
Над вечерней Москвой висел упрямый, терпеливый дождь. Мелкий и частый, он несильно шуршал по асфальту, чуть громче по железным подоконникам и крышам.
Асфальт блестел, отражая свет фонарей, и если поднять к ним, к этим высоко подвешенным над улицей светильникам, глаза, то не различишь тонкую мокрую сетку, опустившуюся с черного неба.
Чуть дрожали, рябились в неясном свете лужи.
От промокших заборов остро пахло сырым деревом. А от розыскной собаки, грустно поглядывавшей на весь этот мокрый пейзаж, — мокрой шерстью. Чувствуя свою бесполезность, она посматривала в сторону машины, внутри которой, она это твердо знала, есть уютный и сухой проволочный домик.
Человек десять в почерневших от дождя плащах толпились возле подъезда. Подъезд был обыкновенным, с тусклой лампочкой, освещавшей номера квартир, черной эмалью нанесенные на белый фон дощечки.
Виктору было тоскливо. Он не любил дождь, сырость, промозглость. Да и кто их любит?..
Виктор усмехнулся. Ему вспомнился эпизод в общем. не такой уж далекой его юности. Произошло это около книжного магазина на Кузнецком. Он приходил туда частенько и старался купить на скопленные (прирабатывал подсобником) деньги какую-нибудь желанную книгу. Томик Есенина, например. В те первые послевоенные годы это было куда как трудно. С отсутствием шоколада Витька мирился, с отсутствием любимых книг не хотел. Он собирал свою библиотеку со страстью и редким для мальчишки упорством. Вот и в тот день он пришел, толкаясь по морозу среди собравшихся сюда кто купить, кто продать, кто обменять книгу.
Ходил долго, и вдруг несказанная удача: какой-то парень продает Есенина! О нем Витька так долго мечтал.
— Сколько?
Парень назвал цену.
Витька обомлел. Он лихорадочно шарил по карманам. Плохо слушавшейся от мороза рукой считал мятые бумажки. Да где там…
— Сбавь!
— Давай, давай, пока не набавил!
— Нету столько, — печально констатировал Витька.
— Нету, так мороженое иди покупать, а то ишь, за Есениным пришагал!
Парень повернулся к Витьке спиной. Есенин уплывал из-под носа. Столько гонялся за ним, искал, с таким трудом копил… И все к черту! Неужели совести нет у людей!
Витька не находил слов. Он понимал, что спекулянты существуют, что они заламывают, но ведь есть же предел. Он не находил слов, зато нашел жест. Догнав парня и быстро забежав вперед, он неумело, но сильно ударил его по противной роже.
Поднялся шум, крик. Витьку забрали в милицию. Он нарушил порядок и подлежал наказанию, хотя у самого педантичного блюстителя законов не лежала душа наказывать мальчишку за то, что он ударил спекулянта.
— Но он же втридорога дерет! — негодовал Витька, глядя горевшими от обиды глазами вверх, на обступивших его высоких мужчин в милицейской форме.
— Да ты пойми, — растолковывал без особой убежденности дежурный, — нельзя драться…
— А такие деньги за Есенина драть можно? — вопил Витька, не имевший других аргументов в свою защиту.
Милиционеры смущенно переглядывались, пожимали плечами. Конечно, нельзя. И, конечно, они с куда большим удовольствием привели бы в отделение того мордастого спекулянта. Но не пойман — не вор.
— Знаешь что, мальчик, — предложил наконец дежурный, — раз ты хочешь с такими вот бороться, возьми да сколоти дружину из ребят. Сам понимаешь, как мы в форме подходим — спекулянты разбегаются. А вас опасаться не будут. Давай действуй, а мы поможем. Только не деритесь.
Витька ушел домой довольный. Он сколотил дружину и начал бороться с преступниками.
…Виктор мотнул головой, отряхивая холодные капли. Да, он тогда считал, что спекулянты — это нормально, вот только безбожно обирать они не должны. Прошло некоторое время, пока он понял, что ни спекулянтов, ни воров, ни убийц вообще не должно быть.
Но пока они есть. Только что в этом обыкновенном московском подъезде убили одного и ранили другого человека. В милицию уже отвезли предполагаемого убийцу, отсидевшего свой долгий срок за тяжелое преступление, только что вернувшегося… И вот снова, наверное, взявшегося за старое…
Наверное, но не наверняка. Потому что он категорически, отчаянно, изо всех сил отрицает свою вину. Он понимает, что вряд ли кто ему поверит, что улики против него, но все равно упорно, безнадежно протестует.
Дежурному по городу сообщили, что в подъезде обнаружен труп человека — Рулева Федора. Через полчаса в одну из больниц доставили другого Рулева — Петра, с ножевым ранением бедра. Глубоким, но, к счастью, неопасным.
Оперативные работники выехали на место и выяснили следующее. В подъезде, когда оба брата Рулевы мирно беседовали, пережидая дождь, к ним подошел живущий по соседству их знакомый Карпенко слегка навеселе. Он недавно вернулся после отбытия срока. Карпенко вмешался в разговор, стал приставать к братьям, ругаться, грозить, а когда они захотели выгнать его из подъезда, выхватил нож, убил одного, ранил другого и убежал. Особой сложности дело не представляло, свидетели видели всех троих, стоявших в подъезде, слышали шум ссоры. Карпенко, как уже известно, имеет преступное прошлое. Да он и сам не отрицал, что ссорился с братьями. Просто он пытался утверждать, что ушел раньше, оставив их одних. Выпил же самую малость по случаю радости — нашел наконец работу. А то все брать не хотели. Он и вообще-то не пьет теперь. А чтоб драться, да еще ножом… «Что вы, гражданин начальник, да ни в жисть!» Он смотрел на Виктора таким отчаянным, таким тоскливым взглядом, что тому делалось не по себе.
И хотя картина в общем казалась ясной, Виктор не мог изменить твердому правилу: проверить, осмотреть, так, словно в деле был сплошной туман и абсолютная неизвестность.
Пока милиционеры в десятый раз осматривали подъезд, стучались к жильцам, Виктор шел вдоль улицы, останавливаясь у подворотен, подъездов, подсвечивая себе карманным фонарем.
Часть оперативников уехали, а он все ходил с помощниками и искал.
Что?
На такой вопрос вряд ли сможет ответить даже самый опытный, самый выдающийся следователь. В каждой профессии рано или поздно, и тем раньше, чем сильнее призвание у человека к этой профессии, достигаются некие вершины и возникает такая степень интуиции — шестого чувства, что ли, которая кажется непостижимой для понимания простых смертных. Нелегко представить себе машинистку, печатающую чуть не триста знаков в минуту, слесаря, выполняющего пятьсот процентов нормы, хирурга, возвращающего жизнь умершему человеку, актера, знающего наизусть сотню ролей, или автомеханика, по звуку мотора точно определяющего малейшую неисправность.
Кому-то это не понять, а для них самих, асов своих профессий, это высшая степень мастерства.
Виктор не волшебник. Он просто опытный, добросовестный работник, одаренный к тому же исключительными способностями. Ведь он вполне мог ограничиться осмотром места происшествия, а не бродить с фонарем по дождю за сотню метров от этого места. Он мог не заметить маленькую темную каплю крови, чудом сохранившуюся дождливой ночью на сухом местечке у входа в один из домов. Наконец, он мог заметить ее и не придать значения, не обыскать с поразительной тщательностью захламленное, пыльное, темное подлестничное помещение и не обнаружить там окровавленный нож. Он мог не найти еще две-три капли крови, а найдя их, не догадаться, куда ведет след…
Но он все это сделал.
Он сумел построить правильную версию, обнаружить свидетелей, задать им нужные вопросы, а потом сделать из их ответов правильные выводы.
И позже, на допросе, еще раз выслушав Петра Рулева, сказал:
— А теперь, хотите, я вам расскажу, как все было на самом деле? Вы стояли втроем в подъезде и ссорились. Только не с Карпенко, а с братом. Карпенко пытался помирить вас, разобраться, кто в чем виноват, потом ушел, вы убили брата, ушли в подъезд дома номер двенадцать, сами себе нанесли рану в бедро, забросили нож и, зажав рану, добрались домой.
— Кто же мог видеть? Ведь не было никого… — вот все, что мог сказать подавленный убийца…
Теперь, когда расспрашивают Виктора об этом деле, непременно задают вопрос, что именно толкнуло его на дальнейшее расследование, кроме обычной профессиональной добросовестности, что заставило его не поверить сразу, с налету, в казавшуюся очевидной виновность Карпенко?
Ну, обычное для следователя недоверие к очевидному, ну, излишняя, но, в общем-то, объяснимая горячность и озлобленность Петра против Карпенко, старание убедить всех в его виновности. А еще? А еще, сам себе отвечал Виктор, глаза Карпенко, его неуклюжие, отчаянные оправдания. Да, бывший преступник, да, под хмельком… и тем не менее он тоже имеет право на доверие!
Не просто сочувствие…
Каждое утро, приходя на работу, Виктор, как он выражался, «знакомится со своей корреспонденцией».
Это приказы, ориентировки, служебные записки, отчеты и так далее. Но порой среди вороха напечатанных на машинке бумаг попадался треугольник или простой конверт, надписанный далеко не всегда красивым почерком.
Эти письма он читал в первую очередь.
Они, как правило, приходили не из Сочи, и не из Малаховки. Их отправители жили в далекой сибирской тайге. Они обосновались там надолго благодаря его, Виктора, усилиям.
Но содержали письма не проклятия и угрозы, а совсем наоборот, — неумелые слова благодарности, рассказы о суровом житье. И главное — планы на будущее, мечты, вопросы.
Виктор ни разу не оставил такое письмо без ответа. Наверное, немало было таких, кто когда-то, загнанный Виктором в угол, в сладком сне видел, как расправляется с ненавистным оперативником. Проходило время, порой годы, и многие все же поняли, что к чему, и… разгадали сочувствие.
Людям, даже самым плохим, так нужно бывает сочувствие, одна капля.
Виктор отложил перо, посмотрел в помутневшее от мокрого снега окно. Тонкие струйки стремительно начинали свой бег по стеклу и потом, нерешительно остановившись, на мгновение замирали и вновь продолжали путь, на этот раз зигзагами, виляя из стороны в сторону.
За их причудливой оградой виднелось серое, набухшее небо, клочкастые облака, потемневшая стена дома напротив.
Виктор еще раз неизвестно зачем поворошил бумаги на столе — письма от Губановой не было. Жаль.
Больше всего он любил получать письма от нее. И не потому, что она лучше всех умела их писать. Скорее потому, что эта странная печальная женщина, трудное единоборство с которой он никогда не забудет, оставила в памяти какое-то особое, смешанное чувство горечи и удовлетворения.
Вот уже два года, как она переписывается с Тихоненко, ей осталось не так уж много времени пробыть в тюрьме, он знает, что потом, когда она вернется, то придет сюда, к нему, на Петровку, 38, как приходили до нее многие, как будут приходить после нее, и он поможет ей устроиться на работу, поможет снова найти место в жизни.
Обычное дело. Разве только к нему сюда приходят, разве только он помогает…
Обычное дело, старое дело. Он хорошо помнит его.
Губанову задержали при смешных обстоятельствах. К тому времени, когда это произошло, она была уже опытной «домушницей». На ее счету были десятки краж, и она дважды отбывала наказание. Губанова тщательно готовила свои операции и шла наверняка. Вот и тогда она два месяца следила за квартирой и ее жильцом. Казалось, все предусмотрела. Ан нет, всего, оказывается, не предусмотришь. Хозяин квартиры, человек тихий и степенный, отличался аккуратностью и точностью: всегда в одно время уходил на службу, в одно время возвращался. А тут взял да и загулял. Пошел к другу на рождение да так с непривычки напился, что на следующий день проспал все на свете. Еле придя в себя, с раскалывающейся от боли головой, он часов в одиннадцать утра поднялся с постели и вышел в соседнюю комнату.
Увидев незнакомую женщину, спокойно и неторопливо укладывавшую его костюмы, рубашки и обувь в его же чемодан, хозяин квартиры сначала решил, что продолжает видеть сон. Сообразив наконец, что происходит, он бросился к женщине и стал звать на помощь.
— Несолидный мужчина, — презрительно отозвалась о нем Губанова при первом же разговоре, — пьяный, небритый и кричал, словно его не обворовывают, а режут. Несолидный!
— Да, — согласился Виктор, — несолидный. Что ж делать, не всем мужчинам храбрыми быть.
— Да, все вы подлецы, — неожиданно зло сказала женщина, — извините, конечно, гражданин начальник, я не вас имею в виду.
Виктор некоторое время внимательно разглядывал Губанову. Откуда такая злость? Такое мужененавистничество?
— Замужем были?
— Что я, дура? Зла себе желаю? — Губанова фыркнула.
«Была, — сразу определил Виктор. — Была и обожглась».
— Одной, наверное, трудно, — он сочувственно посмотрел ей в глаза, — работы найти не можете, специальности нет, с образованием плохо.
— Перестаньте, гражданин начальник, вы же сами думаете не то, что говорите. Работы для меня найдется сколько хотите, университетского диплома у меня, правда, нет, — она покосилась на значок, украшавший пиджак Виктора, — но о литературе и музыке могу с вами поговорить. Ворую, потому что хочу!
— Ну и сколько это может продолжаться? Вы же молоды…
— Постарше вас, но не старая. А продолжаться… какая разница — все равно жизнь моя кончена. Сажайте хоть на сто лет…
— Зачем же. Все можно еще поправить.
Словно кинематографический ролик, стала разматываться перед Виктором хроника неудавшейся, жалкой жизни.
В суровые годы войны девчонкой опоздала на работу, была осуждена, обозлилась на всех, вышла из заключения воровкой, встретилась с человеком, полюбила, вложив в это чувство все, что было в ней хорошего, нерастраченного. Обманул, бросил с ребенком. Опять пошла воровать. Потом ради дочери решила все кончить, взяться за честный труд. Уехала далеко от больших городов, от недоверчивых людей и соблазнов. В маленьком глухом колхозе стала дояркой. Колхозники обогрели, уважали за хорошую работу. Назначили за начитанность библиотекарем по совместительству, по вечерам. Оттаяла.
А потом и здесь разыскался подлец, а может, просто дурак, искренне веривший, что делает как лучше. Посмотрел ее анкету, личное дело, увидел судимости и сказал: «Такая не может быть библиотекарем. Пост ответственный — отстранить».
Уехала. Устроила дочку в детдом и снова пошла воровать. В этой профессии достигла вершин. Работала ловко, хладнокровно, искусно. И, как всегда бывает, попалась таким вот глупым образом. А теперь черт с ним совсем! О дочери следователь не знает. О ней позаботятся. Слава богу, в нашей стране взрослого еще могут обидеть, ребенка — никогда. И мечтала: станет дочь хорошим человеком, достигнет многого, проживет счастливую долгую жизнь, какая самой ей в удел не досталась… Поняв, что Виктор знает все о дочери, в первый раз на допросе растерялась. Смотрела со страхом. Словно сдуло гордость, глупую удаль.
— Только дочери не говорите, — просила, — я все расскажу. Во всем признаюсь!
— О чем расскажете? И так все известно. — И добавил с горечью: — Вы лучше подумайте, что дочери будете рассказывать? Вправе вы ждать от нее благодарности, уважения? Как думаете? Вы-то, может, и будете когда-нибудь ею гордиться. А она вами…
Опустив голову, Губанова молчала.
Да, немало сил потратил Виктор на борьбу с этой женщиной.
С ней? А может, за нее?
«Обо всех преступлениях, — писала она позже в своих показаниях, — я намерена рассказать потому, что решила порвать с преступным прошлым и посвятить свое будущее воспитанию дочери».
Милиция сама ходатайствовала перед судом, чтобы ей дали минимальное наказание.
А в заключении Губанова стала руководителем бригады отличного труда. Не одну воровку заставила она раскаяться, пересмотреть свою жизнь. Виктор нашел ключик к сердцу этой женщины — любовь к дочери, ответственность перед ней.
Не было в этом деле ни стрельбы, ни схваток, ни ночных облав. Была спокойная беседа в теплой, освещенной мягким светом комнате.
Не было предотвращено убийство или схвачена банда. Но это было, быть может, самое сложное и трудное из всех его дел, которым он больше всего гордился. Потому что выиграл он его не с помощью пистолета, не с помощью совершенной милицейской техники.
А с помощью доброты, веры в человека и другой, самом сложной в мире науки — знания человека.
Поэтому-то Виктор так радовался, когда приходили письма от Губановой.
«Получила ваше письмо, — писала она в последнем. — Прежде всего хочу вас поблагодарить за ответ, за известие из детдома, за частицу человеческого тепла. Одним словом, за человечность». Такие вот письма помогали Виктору работать, придавали новые силы.
Богатый нищий
Разбор корреспонденции закончен. Виктор смотрит на часы. Одиннадцать.
Короткий звонок. Внутренний телефон. В трубке хорошо знакомый голос: «Зайдите ко мне, Тихоненко».
Виктор поднимается, по привычке одергивает штатский пиджак и идет к начальству.
У начальника оперативное совещание. За столом подполковник Данилов в форме и вокруг человек десять сотрудников уголовного розыска, товарищей Виктора по работе, в штатском. Своим спокойным, негромким голосом подполковник Данилов излагает дело.
В ночь на двадцатое декабря неизвестные преступники, перепилив в окне с помощью ножовки металлическую решетку, проникли в торговый зал магазина № 84 «Овощи — фрукты», что на Стромынской площади, в доме номер один, где, взломав с помощью гвоздодера два сейфа и два кассовых аппарата, совершили кражу денег — разменной монеты в банковской упаковке…
Виктор слушает и думает о завтрашних соревнованиях на первенство «Динамо».
Он уже давно научился слушать и одновременно думать о другом. «Как Гай Юлий Цезарь», — шутит он. «Интересно, выиграю у Хилого или не выиграю. Надо же такую фамилию для борца — Хилый! Смех, да и только. Но Хилый, он парень здоровый, мастер спорта к тому же. Виктор пока перворазрядник. Это по борьбе. А вообще интересно подсчитать, сколько у него всех разрядов. Значит, так: футбол, гимнастика, легкая атлетика, баскетбол, лыжи, плавание, стрельба, шахматы, борьба самбо, вольная борьба, мотоспорт. Третьи, вторые, первые. По конькам вот, по альпинизму, по тяжелой атлетике еще не успел получить… Ничего, как говорят, все впереди».
— …Двадцатого декабря, — доносится до него ровный голос подполковника Данилова, — на Центральном колхозном рынке за сбыт разменной монеты в количестве пяти килограммов был задержан гражданин Веревочкин…
— Ничего себе, богатый нищий! — раздается чья-то реплика, в комнате слышится смех.
Выждав паузу, подполковник продолжает:
— Веревочкин Гаврила Николаевич, двенадцатого года рождения, в прошлом судимый, работает помощником кладовщика в кафе. В качестве вещественного доказательства у него был изъят банковский мешочек, принадлежащий магазину № 84 «Овощи — фрукты».
«…Все-таки этот Хилый… чем его брать? Силой тут ничего не сделаешь, — Виктор огорченно смотрит на свои могучие, мускулистые руки, — он сам как медведь. Нет, надо брать „вертушкой“. Он недаром только ее и отрабатывает со своим тренером. „Не можешь же ты одной „вертушкой“ жить, — сердится тренер, — ну Хилого поймаешь, ну другого, третьего. А в турнире пятнадцать человек. Так они все и будут подряд попадаться?“ Он, конечно, прав: нельзя все внимание сосредоточить на одном приеме. Это как в розыске: попробуй стать в своих методах однообразным — и жизнь бесконечным разнообразием быстро загонит тебя в тупик. То же и в спорте. Встретишься с кем-нибудь, кто твой любимый прием не хуже тебя знает…
Жалко все же, что так мало времени остается на спорт. Было бы побольше, Виктор по-настоящему занялся борьбой самбо. Она очень нравится ему — точная, быстрая, красивая и разнообразная. Стрельбой из пистолета он и сейчас занимается достаточно, но надо бы побольше. Уж о любимом мотоспорте и говорить не приходится. В конце концов, все эти виды спорта необходимы в его профессии.
Поэтому, наверное, он так увлекается ими, да разве только он? Наверняка любой его товарищ по уголовному розыску в самбо, стрельбе, боксе, умении водить машину или мотоцикл может дать не одно очко вперед какому-нибудь джимену из американского ФБР, разносторонние боевые способности которых так рекламируют. А вот в шахматы джимены вряд ли играют.
Пришли б они посмотреть турнир на первенство МУРа!»
— Двадцать третьего декабря по подозрению в краже из магазина номер восемьдесят четыре был задержан сын Веревочкина — Веревочкин Юрий, сорок первого года рождения. При личном обыске у него было изъято восемьдесят пять монет достоинством в одну копейку. Его допросили, но за недостаточностью улик придется освободить… Видите ли, товарищи, — закончил изложение дела подполковник Данилов, — Веревочкин-старший с такой яростью утверждает, что нашел деньги на дороге, да еще прямо в банковском мешочке, что никто с ним не связан, что сын его ни при чем и вообще что все это недоразумение, что возникает мысль: старик хочет отвести подозрение от кого-то, скорее всего, от человека ему близкого. Надо приглядеть за Веревочкиным-младшим. И, кроме того, кража в восемьдесят четвертом магазине мне кое-что напоминает. Давайте покопаемся в делах и в памяти.
Когда совещание закончилось и сотрудники стали расходиться, Виктор подумал: «Ерундовое дело — дело о богатом нищем».
Ему и в голову не приходило, что дело это окажется одним из самых сложных в его практике.
Пропавшая лиса
Проклиная ледяной ветер, Виктор отправился в магазин № 84. Магазин как магазин, одно слово — «Овощи — фрукты». Он заранее представлял себе кражу. Обычная картина: влезли, утащили деньги… Но, ознакомившись с обстоятельствами кражи на месте, он насторожился. Виктор сразу понял, что здесь действовали люди уверенные и опытные. Причем действовали удивительно нагло. Магазин располагался в жилом доме, и рядом был другой, охранявшийся сторожем. По существу, сторож смотрел за обоими магазинами.
Впрочем, воры обратили на сторожа весьма мало внимания. Зайдя за угол дома они не торопясь перепилили решетку довольно высоко расположенного окна подсобного помещения, влезли в него и, не считаясь с тем, что снаружи за широкой витриной маячил бдительный страж, взяли валявшиеся где-то под прилавком гвоздодеры и принялись за работу.
Виктор осмотрел оконную решетку — да, красивая работа: прутья были распилены точно, экономно, со знанием дела. Но особенно интересен был прием, с помощью которого грабители вскрыли сейфы. Конечно, то, что теперь принято называть «сейф», в общем-то не сейф, а железный шкаф — он хорошо защитит содержимое от огня, но не очень — от воров. Это не массивные, толстостенные стальные громады с хитроумными и сложными замками, а именно шкафы из железа. Но и их не так просто открыть. Тем не менее воры ухитрились сделать это быстро и даже не ломая замков. Они просто сумели засунуть в щель между дверцей и стенкой шкафа гвоздодер и, так сказать, выгнуть дверцу кнаружи. Ловко.
Сомнений не было — работали квалифицированные грабители. Об этом говорили другие признаки. Видно было, например, что преступников не интересовало ничего, кроме денег; нигде не было обнаружено отпечатков пальцев, причем эксперты установили, что действовали воры без перчаток, но тщательно, без упущений, протирали все, до чего дотрагивались.
Виктор долго ходил по магазину, сопровождаемый директором. Директор печально смотрел на него большими черными восточными глазами и сокрушался:
— Найдете, а? Подлецы, а? Совести нет! Найдете?
— Найдем, найдем! — буркнул Виктор. «Найдем-то найдем, но когда?»
Было ясно, что в деле участвовали минимум три человека. Один, бесспорно, следил за сторожем, двое других проникли в магазин.
* * *
А через три дня Виктор ехал на новое происшествие. Дело принимало серьезный оборот.
…По дороге Виктор повторял про себя только что услышанные подробности ограбления. Наглость воры на этот раз проявили удивительную. Было ограблено ателье № 1 Куйбышевского района, расположенное чуть ли не напротив отделения милиции.
Виктор долго тщательно осматривал все входы и выходы, все окна ателье. Что блокировка цела, он знал и так: сигнал тревоги молчал, да и проникли преступники в ателье иначе. Его интересовало другое: не делали ли они попытки взломать, скажем, дверь. Нет, не делали. Они даже не подходили к дверям. Было ясно, что воры отлично знакомы с системой охраны ателье и, вместо того чтобы нейтрализовать эту систему (то ли выйдет, то ли нет), поступили гораздо проще. Проще, но насколько смелее!
Виктор проделал весь путь, пройденный грабителями. Значит, так: они вошли во двор, прямо скажем, довольно захламленный (и это в двух шагах от милиции!), потом влезли на сарай по мусорным контейнерам и далее, продемонстрировав неплохую физическую подготовку, на крышу ателье. Эта часть крыши с улицы не видна. И именно туда выходит чердачное окно.
Виктор, скользя по замерзшей крыше, добрался до окна. Оно закрывалось глухой ставней, запиравшейся навесным замком с толстой дужкой. Замок он осмотрел еще раньше — дужка была аккуратно и, видимо, быстро перепилена ножовкой. Светя фонарем, Виктор проник на чердак. Вот и пролом. Чувствовалось, что люди, совершившие кражу, не раз заходили в ателье, хорошо знали расположение помещений. Место, где они пробили потолок, было выбрано не случайно. Оно приходилось над рабочей комнатой. Кроме того, преступники нашли, скорей всего путем выстукивания, самое тонкое место в потолке. Здесь легче всего было продолбить потолок и, пользуясь захваченными со двора и найденными на чердаке железными ломами и крючьями, а также принесенной ножовкой, быстро проделали дыру и спустились вниз. Сколько их было, двое, трое? Во всяком случае, не один.
Схватившись сильными руками за края отверстия и секунду пробалансировав в воздухе, Виктор спрыгивает на стоящий под отверстием стол. Работники милиции, уже побывавшие здесь до него, сняли со стола отпечатки следов, так что теперь можно безбоязненно ходить по нему.
Что делали воры, оказавшись в этой огромной темной комнате, заставленной невероятной длины столами? Ведь в ателье хранились почти готовые костюмы и пальто, отрезы, рулоны подкладки.
Но они ничего этого не тронули. Быстро и уверенно они прошли к сейфам, к этим большим, но не слишком недоступным железным шкафам, и открыли их своим привычным способом. Да, теперь он уже может говори и о привычном способе, о так называемом «почерке» преступников.
Они как-то не очень любят утруждать себя ношением инструментов — все находят на месте. Там был гвоздодер, здесь массивные портновские ножницы. Ими-то они и выдавили дверцы сейфов. Добыча, впрочем, им досталась небогатая.
В сопровождении уставших понятых Виктор ходит по комнате, как всегда осматривая все вокруг. До него то же самое сделал добрый десяток людей: эксперт из НТО, дежурный МУРа, работники соседнего, 24-го отделения милиции. Все, что они обнаружили, зафиксировано на десятках страниц протоколов. И все же Виктор снова и снова обходит комнату.
Вот здесь один из грабителей высморкался. Очень хорошо — взяты ли следы мокроты? Взяты. Интересно сравнить с теми, что взяты в магазине № 84. Так. А вот стул, на нем следы — следы один на другом, видно, что на этот стул вставал не один человек. Когда оперативники вошли в комнату, стул валялся в углу. Ясно. Этот стул преступники поставили на стол и таким образом влезли обратно в пролом. Первого, наверное, подсадили, а последнего подтянули за руки. А он ногой оттолкнул стул. Зачем?
Еще стул, еще, еще. Их здесь много. Стоят в беспорядке. На них сидят швеи во время работы. Впрочем, некоторые стулья стоят как-то странно по отношению к столам. Но и это понятно. Виктор не раз видел, как порой работница сидит на столе, поставив ноги на стул — ей так удобней. На этих стульях, наверное, немало женских следов. Ну а вот еще стул, одиноко притулившийся у стены. Нет, не у стены, а скорее у окна. Хотя окно очень высоко. В него ничего не видно — не достанешь. Впрочем, достанешь как раз, если встать на этот стул. Виктор наклоняется и внимательно рассматривает поверхность стула: на ней отчетливо видны отпечатки мужских ботинок.
Что делал этот человек, стоя на стуле у высоко расположенного окна? Виктор ставит рядом другой и влезает на него. Вот теперь понятно: из окна открывается вид на постового и на вход в отделение милиции.
Интересно, зачем нужно было так внимательно наблюдать за отделением? Постовой был гораздо лучше виден из другого окна. По ходу дела Виктор не без удивления узнает, что, кроме денег, взятых преступниками из сейфа, украдена лишь одна вещь: лиса, сданная клиенткой для воротника. «Здесь что-то не так», — говорит себе Виктор. А что? Он бы затруднился ответить на этот вопрос. В конце концов, не слишком ли рано он связывает одной веревочкой (Веревочкин!) оба ограбления: магазина № 84 «Овощи — фрукты» и ателье № 1 Куйбышевского района?
Осмотр закончен. Виктор едет в управление. Теперь версию о том, что в обеих кражах участвовали одни и те же преступники, надо «обкатать», надо подкреплять фактами. Он выдвинул версию. Что говорит «за», что «против»? И там и тут распил решетки или замка, причем очень искусный. И там и тут единственная, принесенная с собой ножовка (после использования выброшенная). И там и тут с помощью орудий, найденных на месте, вскрыты сейфы очень своеобразным способом. Преступники в обоих случаях действовали без перчаток, а потом протирали все, что трогали, и при этом без упущений, ничего не забыв.
Это — за. А против?
В первом случае казалось, что, кроме денег этих, воров ничего не интересует. Тогда почему исчезла лиса? Только лиса, ничего больше, а там были вещи и поценнее.
И главное: выясняется, что в этом ограблении Веревочкин-младший участвовать никак не мог, поскольку лишь за час до этого был выпущен из милиции (как раз из 24-го отделения) и всю остальную часть ночи, по единодушному утверждению соседей, провел дома.
Но если в магазине «Овощи — фрукты» воры следов не оставили и узнать, кто они, из-за упрямого молчания Веревочкина-старшего невозможно, то в ателье положение лучше. Дело в том, что, проникнув в сейф, грабители нечаянно испачкались кассовой краской, хранившейся там. Теперь они долгое время будут на одежде и теле носить почти несмываемые, незаметные для глаза, а главное, неизвестные им следы своего преступления. Они и сами вряд ли заметили, что запачкали одежду. Улика решающая. Остается «мелочь»: поймать их, чтобы им эту улику предъявить.
Опасно для жизни
Когда начинается рабочий день, Виктор возвращается домой досыпать. На это у него отпущено полтора часа. Немного. Но он привык мало спать. В семье все встают рано. Отец, кандидат наук, доцент Московского областного педагогического института, мать — научный сотрудник опытной станции сельскохозяйственной академии имени Тимирязева, сестра тоже кандидат наук, преподаватель той же академии — все народ занятый, умеющий ценить каждую минуту времени, с четко распределенным днем. Единственный возмутитель спокойствия — Виктор. Убегает в три часа ночи, спит иногда в двенадцать дня, уходит за зарплатой, а потом неделю отсутствует… Праздник для него не праздник. Неизвестно, где он берет время пополнять и держать и порядке свою огромную библиотеку, вообще поспевать за книгами, тренироваться, жить семейной жизнью. Слава богу, теперь женат. Может, наконец-то будет думать хоть немного о себе, о том, что жизнь человеку дается один раз, а не десять, и не мешает заботиться о ней.
Виктор улыбается про себя…
Вот ведь как сложилось. Вся семья сеятели, один он работает на корчевке…
Действительно, жизнь у него, прямо скажем, немного беспокойней, чем, например, у нотариуса или бухгалтера.
Он вспоминает, как однажды, дежуря в ГУМе, заметил двух карманников. Проследив за ними и убедившись в том, что не ошибся, он выждал момент, когда один из них вытащил у кого-то бумажник и собирался передать его своему партнеру.
В то же мгновение Виктор приемом самбо зажал руку вора, державшую бумажник, словно в тиски. Другой рукой он схватил второго карманника и, несмотря на сопротивление, доставил воров в дежурную комнату на другом конце магазина.
После первых бурных объяснений, когда все стало на свои места и карманники признались, старший, не скрывая уважительного изумления, поглядел на Виктора и сказал:
— Ну и здоров ты! Опомниться не успел, как сгреб нас и повел. А я ведь боксером был, перворазрядником.
Или еще случай.
Нужно было задержать одного хулигана в Сокольническом парке. Задержали. Двое милиционеров повели его в отделение, а двое, в том числе Виктор, остались в арьергарде. В арьергарде, потому что группа парней самого разного возраста, видя перед собой людей в штатском, пыталась отбить своего дружка.
Однако Виктор и его товарищ с помощью приемов самбо очень быстро усеяли поле сражения телами нападавших, аккуратненько так, не повредив никому из них рук или ног. Убедившись в бесполезности своих атак, хулиганы разбежались.
И еще…
В одном московском универмаге была совершена кража. Воры унесли три новеньких чемодана, набив их носильными вещами.
Примечательным было то, что среди этих носильных вещей оказался костюм самого большого существующего размера. Зачем он потребовался преступникам? Сбыть такой крайне сложно: великаны не ходят сотнями. «Значит, для себя», — решил Виктор.
И действительно, вскоре на рынке были задержаны два человека, продававшие носильные вещи. Один из них, настоящий гигант, сумел мгновенно раскидать дружинников и скрыться.
Тот, которого удалось схватить, на допросах плел всякую чепуху. Всем было ясно, что он врет, но уличить его не удавалось, тем более что, судя по всему, у него за плечами был солидный опыт. Виктор тем временем стал изучать записную книжку задержанного. В этой замусоленной, помятой книжонке были записаны сотни адресов и телефонов, многие сокращенно, условно, неразборчиво.
Виктор отобрал штук тридцать адресов. Проанализировал, кое-какие проверил, посоветовался с подполковником Даниловым и отобрал из них еще полдюжины. Трудно сказать почему, но Виктор остановился на одном из адресов. «Магазин „Вата“, серый дом, первый этаж, Тоня».
Почему? Виктор не раз задумывался над собственными примерами и над примерами своих товарищей — какая интуиция, какое «шестое чувство» заставляет из многих вариантов следствия остановиться на этом, из многих следов выбрать тот? И что такое вообще «шестое чувство»? Отбросив чисто профессиональное умение оценивать вещи и факты, отбросив опыт, когда все данные равны? В конце концов он пришел к выводу, что, как это ни странно, даже такая точная наука, как криминалистика, совершенно не может обойтись без вдохновения.
В какую-то минуту сыщика озаряет. Он еще сам не может объяснить, почему выбрал этот ход, а не тот, но выбирает его. Потом он разберется почему, и ему будет казаться это совершенно естественным. Он забудет, что в момент озарения еще не было у него тех или иных данных, а были сомнения и колебания…
Разумеется, все это доступно действительно талантливому, опытному, знающему работнику, великолепно «влезшему» в данное дело. Но все же… Наверное, человеческий мозг как-то срабатывает, заставляя принимать иной раз решения раньше, чем он сам может объяснить точно причину этих решений.
Ну да ладно. Об этом, наверное, еще много будет когда-нибудь написано, да и сейчас пишут.
А в тот раз, поскольку Виктор чувствовал, что дорог каждый час, он прямо в воскресенье, без оружия отправился вместе с подполковником Даниловым по подозрительному адресу.
В тот день шли городские соревнования по борьбе самбо, великим любителем которой был подполковник, сам человек уже немолодой и не очень здоровый. Данилов хотел посмотреть соревнования и обещал заехать за Виктором на машине — Виктор в этих соревнованиях участвовал.
Данилов заехал раньше, и Виктор предложил:
— Товарищ подполковник, у нас есть еще полчаса, заедем к этой «Вате».
— Ну что ж, заедем, — согласился Данилов, — а где это?
Ему и в голову не приходило, что Виктор мог сделать свое предложение, не выяснив предварительно адреса. Действительно, в то утро Виктор узнал, что магазин «Вата» в Москве один и находится он на Ленинском проспекте.
До «Ваты» доехали легко. А дальше?
Но тут все сомнения отпали. Поблизости стоял лишь один серый дом, весьма заметный. Обойти все квартиры первого этажа было бы несложно, однако им сразу повезло. В первой же, в которую они позвонили, дверь им открыла девица, вид которой не мог оставить никаких сомнений у опытных работников уголовного розыска.
Не останавливаясь в дверях, мимо растерявшейся Тони они прямо прошли в комнату, где за уставленным водкой и закусками столом сидели два человека. Один из них и сидя был чуть не на голову выше Виктора. Под кроватью выстроились все три новеньких чемодана.
На столе среди вилок и ложек лежали самодельные автоматические ножи.
Подполковнику Данилову и Виктору достаточно было обменяться быстрым взглядом. Подполковник вышел и из ближайшего автомата вызвал оперативную машину.
А тем временем в комнате происходил разговор, который Виктор теперь вряд ли сумел бы передать даже приблизительно.
Он весь состоял из намеков, недомолвок, непонятных для непосвященного вопросов и ответов. Казалось бы, странно: вошел незнакомый человек, сел за стол, словно невзначай положил автоматические ножи себе в карман, налил всем полные фужеры водки, первый выпил, а потом стал подливать только им.
Никто друг у друга не проверял документов, ни о чем прямо не спрашивал.
Продолжая разговор, Виктор встал из-за стола и начал ходить по комнате так, чтобы одновременно видеть и дверь, и окно, и всех троих преступников. Он был совершенно спокоен, хотя понимал, что, если грабители придут в себя, очнутся от психологической, что ли, летаргии, в которой они находились, ему придется плохо.
Иногда, много позже, Виктор, спрашивал себя: что бы он сделал, напади на него преступники. И каждый раз уверенно отвечал: вступил бы в схватку. Один. Против троих, в том числе одного великана. Даже не зная, есть ли у них еще ножи, а может быть, и пистолеты. Тут не могло быть двух решений.
Но гипноз его воли, его силы, его смелости действовал достаточно долго, чтобы успели прибыть милицейские машины. А гигант, оказавшийся при проверке одним из самых опасных, давно разыскиваемых московских рецидивистов, потом на допросе недоуменно пожимал плечами:
— И почему я его не убил — сам не пойму. Нахрапом взял…
Что ж, он правильно выразил свою мысль. Именно «нахрапом», если понимать под этим смелость, находчивость, самообладание, стремление выполнить свой долг.
«Погоня» в комнате
Утром, придя в отдел, Виктор садится за стол и начинает, как он выражается, «погоню». Он ловит преступников, опознает их, прослеживает их пути, уличает, и все это не вставая из-за стола.
Итак, Веревочкин-младший не мог участвовать в краже в ателье, коль скоро он сидел в милиции. Значит, эта кража с ним не связана?
«Нет, связана! — убежденно решает Виктор. — Ведь сидел-то он не где-нибудь, а в 24-м отделении, том самом, что в двух шагах от ателье. В том самом, за входом в которое наблюдал человек, оставивший следы на стуле у окна».
Это происходило в двенадцать ночи, а Веревочкин покинул отделение в одиннадцать и сразу пошел домой, откуда никуда не выходил и не звонил по телефону.
Воры не могли знать, что в момент, когда они перепиливали замок чердачного окна, их приятель был уже свободен.
Их приятель? Нет, Веревочкин. А вот что он их приятель, это надо еще установить и доказать…
Виктор задумывается. Почему из всех ателье Москвы преступники выбрали именно это, расположенное рядом с отделением милиции, в котором пребывал Веревочкин?
Это не может быть случайностью. Воры преследовали определенную цель. Но какую?
Вот, скажем, если б на их месте был он, Виктор, и если б в шайку входил Веревочкин, и если б Веревочкина задержали, то с какой целью он «брал» бы это ателье, да еще так быстро после своего ареста? С той целью, чтобы милиция убедилась: Веревочкин под замком, а ограбления продолжаются, значит, он ни при чем. А чтоб, не дай бог, не прошло ограбление мимо 24-го отделения, его совершают тут же перед носом.
И притом в срочном порядке, пока еще Веревочкина не выпустили. Но если все это так, то, значит, налет на магазин «Овощи — фрукты» и налет на ателье не единственные подвиги шайки. Потому что, будь только два этих случая, на их основании трудно строить серьезно предположения о наличии шайки, в состав которой входит Веревочкин.
Однако преступники, зная за собой ряд других краж и предполагая, что милиция уже связала в своем расследовании эти кражи, совершают хитрый маневр, чтобы выгородить Веревочкина. Им и в голову не приходит при этом, что пока милиция располагает лишь двумя ограблениями.
Что ж, спасибо, за высокую оценку! Можете не сомневаться, что завтра или послезавтра Виктор приступит к изучению всех аналогичных дел за невесть сколько лет.
Виктор копается в ориентировках за последние месяцы, в сводках за последние годы — изучает картотеку МУРа, отбирая нераскрытые дела, сгруппированные по способу совершения преступлений, выезжает в райотделы или запрашивает оттуда архивы.
Погоня продолжается. Продолжается не день и не два.
Виктор листает протоколы осмотра мест происшествия, смотрит фотографии. Вот, например, прошлогоднее дело о краже в ателье в Ленинградском районе. Перепилили дужки замка… выдавили неизвестным инструментом дверки сейфа… взяли деньги, только деньги… бросили полотно ножовки.
«Неизвестный инструмент». Виктор тщательно разглядывает в лупу фотографию. Что это возле сейфа за предмет с кольцами на концах, уж не ножницы ли? Качество снимков не удовлетворяет Виктора. Он идет в научно-технический отдел, просит увеличить снимки, рассматривает их снова. Сомнений быть не может — портновские ножницы.
А в продовольственном магазине — ломик. А в кафе — специальный кухонный нож.
Картина все больше проясняется, и Виктор отправляется на доклад к подполковнику Данилову.
— Ситуация складывается следующим образом, — сообщает Виктор, — за последнее время, точнее, на протяжении более года, совершен ряд дерзких преступлений — кражи в кафе, ателье, продовольственных магазинах.
Поскольку все они совершены в определенных участках Ленинградского, Куйбышевского, Тимирязевского и Дзержинского районов, центром которых является Марьина роща, можно предположить, что там преступники и живут. Посмотрите, товарищ подполковник, на план — видите, если поставить неподвижную ножку циркуля в середине Марьиной рощи, то можно обвести небольшой и почти точный круг, внутри которого окажутся все точки совершения преступлений.
Оно и понятно. Грабили ночью, когда транспорт не работает, прохожих почти нет. Если преступление будет быстро обнаружено, то все посты и патрули узнают об этом раньше, чем преступники доберутся до дому. А так раз-два, и они уже спят сном праведников. Что действует одна и та же группа, сомневаться не приходится, слишком много сходных моментов.
— Например? — спрашивает Данилов.
Виктор удивленно смотрит на него — что ж, он не знает, что ли? Но сразу же перестает удивляться — это обычный прием подполковника: он перепроверяет, и, между прочим, не всегда подчиненного, чаще себя.
— Например, — продолжает Виктор, — одинаковые приемы взлома, то, что они никогда ничего, кроме денег, не берут. Один только раз унесли лису…
— Лису? Продолжайте.
— Да, лису для воротника из ателье № 1. И знаете, товарищ подполковник, я думаю, что эта лиса еще скажет свое слово.
— Согласен, — Данилов задумчиво барабанит пальцами по столу, — только надо тщательно продумать, что подсказать этой лисе, когда придет ее черед говорить. Продолжай.
— Продолжаю. Работают эти деятели очень квалифицированно. Спокойно, точно, быстро. Не удивлюсь, если они слесари высокого разряда или хотя бы один из них. Перепиливают решетки и дужки замков артистически. Полотно ножовки потом бросают, а весь другой инструмент находят на месте. Причем весьма изобретательны. Сейфы открывают исключительно ловко: вставляют ножницы в щель между дверцей и стенкой сейфа и выгибают дверцу наружу. Замок остается целым и неотпертым. Поэтому, когда потом осматривается сейф, то факт, что его открыли, представляется прямо-таки таинственным.
Далее. Один из преступников каждый раз сморкается чуть ли не в сейф.
Орудуют всегда без перчаток, это тоже говорит о высокой квалификации — знают, что и в перчатках можно оставить следы. Зато тщательно вытирают все после себя.
Есть основания предполагать, что Веревочкин-младший замешан в этом деле, хотя, как мы знаем, одна из самых дерзких краж произошла в его отсутствие. Но именно это…
— Именно это! — поторапливает Данилов.
— …именно это, товарищ подполковник, убеждает меня в его виновности. Пока у меня нет доказательств, но я уверен, что они специально совершили этот налет, чтобы снять подозрение с Веревочкина: мол, видите, он за решеткой, а кражи продолжаются. К тому же его отец, когда попался, сами помните, яростно отводил от сына всякие обвинения.
И, наконец, знаете, кто Веревочкин-младший по профессии? Слесарь!
— А вообще-то, что они собой представляют, Веревочкины? — спрашивает Данилов.
— Веревочкин-младший, Юрий Гаврилович, сорок первого года рождения, несудимый, работает на заводе. Жену и сына бросил. Веревочкин-старший, Гаврила Николаевич, двенадцатого года рождения, в прошлом судимый, работал кладовщиком, а в последнее время помощником кладовщика в кафе. Возможно, наводчик он, хорошо знает кафе, продуктовые магазины, систему охраны, сдачи выручки, расположение помещений и так далее. Пьяница.
— Ну, это анкета, — нетерпеливо перебивает Данилов, — а человек?
— Доложу завтра, — отвечает Виктор.
— Что ж, не успел узнать?
— Нет. Говорил с соседями, на заводе, еще кое-где, но с одной теткой хочу еще поговорить, с бывшей дворничихой того дома, где живет Юрий Веревочкин.
Подполковник машет рукой. Он знает Тихоненко. Тот может допросить сто свидетелей, но, пока не опросит сто первого, которого по каким-то своим соображениям считает самым главным, — докладывать не будет. Ему, видите ли, «неясна картина».
Виктор выходит из кабинета Данилова и едет к «тетке», а попросту говоря, к бывшей дворничихе того дома, где живет Юрий Веревочкин.
Разговор с умным дворником
Виктор идет по заснеженной Москве. Он любит иногда, особенно перед серьезным допросом или разговором, пройтись по воздуху, «проветрить мозги», как он выражается.
Идет по бульвару. Под ногами скрипит снежок. Деревья напоминают гигантские белые кораллы. Солнце слепит глаза, отражаясь от ветровых стекол машин. Синеют сугробы вдоль аллей. Мороз спокойный, не сырой, не слишком сильный, и Виктор даже не надевает перчаток.
У скамеек кучки людей — пенсионеры. Вдоль всего бульвара идут шахматные сражения. Обмотав носы шерстяными шарфами и натянув на уши шапки, пенсионеры обдумывают ходы (свои — когда играют сами, чужие — когда болеют, стоя возле игроков).
Вот, размышляет Виктор, всю жизнь работали, наверное, не все богато жили, наверное, отказывали себе в чем-то. Дети у них, внуки. Радовались небось, когда получали повышение или прибавку. И никому из них не приходила в голову мысль, что можно в течение часа заработать свое годовое, а может, и двухгодичное жалованье, взломав сейф в магазине. Не потому, что боялись попасться, — наверняка среди этих пенсионеров есть люди смелые, ловкие, бывшие в молодости сильными, отчаянными; просто они не представляют себе и никогда не представляли, что деньги можно приобретать таким путем. А вот Веревочкин представляет. Он, наверное, теперь не предполагает, как их иначе зарабатывать.
…Шурша по асфальту, проносятся машины. Как чисто убирают от снега московские улицы! Если не знать, что зима, то в центре столицы и не почувствуешь — никакого снега. Виктор проходит мимо старого здания Московского университета; из дверей выбегают группки студентов без пальто, они переходят в другую аудиторию.
Когда-то и он здесь так же бегал.
Он был уже «начальником» в бригадмиле, когда ему стукнуло семнадцать лет. Он увлеченно работал бригадмильцем. Однажды поздно вечером во время своего дежурства у гостиницы «Москва» он увидел четырех мужчин, пристававших к женщине. Послав напарника за милицией, он вступил с ними в борьбу. Один школьник против четверых здоровых парней. Двоих уложил, а двое так и не смогли уложить его. Позже он получил за это благодарность, первую благодарность в своей жизни борца с преступностью, и еще больше увлекся самбо.
А когда, кончив школу, Виктор успешно сдает экзамены в Московский государственный университет, он уже начальник штаба бригадмильцев 117-го отделения милиции. В бригаде шестьдесят человек — все студенты. Позже он заместитель начальника штаба дружины охраны общественного порядка юридического факультета МГУ, между прочим, одной из первых в стране.
Виктор улыбается про себя — почти что боевая биография.
В 1961 году, привинтив к лацкану университетский значок, он становится офицером советский, милиции, сотрудником Московского уголовного розыска.
Вот он идет сейчас для беседы с тетей Клавой, техником-смотрителем одного из ЖЭКов, а до недавнего времени дворником в доме, где живет Веревочкин.
В голове у Виктора почему-то навязчиво засел эпизод из «Двенадцати стульев» — эпизод беседы Остапа Бендера с «умным дворником». Неужели тетя Клава будет такой же?
Тетя Клава оказывается не такой.
Но разговаривать с ней не так-то просто. Дело в том, что она не просто отвечает на вопросы, а одновременно высказывает свои взгляды на современную молодежь, частенько обвиняя в создавшейся ситуации Виктора по принципу «а куда милиция смотрит?».
— Почему у вас такие на воле бегают? Вы что ж, значит, не видите ничего? Если баба семечками торгует — это вы видите, а таких? — И она устремляет на Виктора негодующий взгляд.
— Погодите, Клавдия Федоровна, мы видим, видим, — успокаивает ее Виктор, — вот пришел же я к вам.
— Эка, милок, когда пришел, он, может, за это время сто человек зарезал!
Виктор наигранно таращит глаза и хватается за ручку.
— Сто человек! Клавдия Федоровна, давайте имена, скорей все имена.
Тетя Клава остывает.
— Какие имена? Я же не говорю — убил, а говорю, может, убил…
— Ну а чем он плох-то, Веревочкин, может, это вам все кажется?
— Кажется? — Тетя Клава задыхается от негодования. — Мне кажется! Сами судите. Шурка — маленький, двенадцать лет ему. А эти оболтусы — Юрка Веревочкин, Володька, друг его первейший, — пьют в подъезде поллитру и угощают.
— Кого угощают?
— Как кого? Шурку того. Двенадцать лет пацану, а они ему вместо соски поллитру суют! А вы где были?..
Виктор спешит изменить ход мысли тети Клавы:
— А что за Володька?
— Да Володька же Балакин, тоже такой вот бездельник…
— А может, еще кого знаете?
— Сережка еще какой-то, модник, брючки что те трубы водосточные, носки — ворон пугать на огороде. Вот если б милиция…
— Клавдия Федоровна, — поспешно перебивает Виктор, — не помните, к каким часам он на работу ходил, Веревочкин?
Тетя Клава негодующе всплескивает руками.
— Да ты спроси, милок, ходил он на нее, на работу-то! Он день работал, а три прогуливал. По вечерам бывало, дежурю, смотрю: из такси вываливается голубчик. Да не один. Девки, срам, а не девки, одни волосья чего стоят. Вот вылезут за ним две такие страшилищи, сами-то на ногах не держатся, и тащат его в дом. А уж, поди, часа три ночи-то.
— Так всегда и возвращался?
— Ну, не всегда. Бывало, как тень прошмыгнет в одиночку, и не заметишь.
— А не помните, когда, например, так бывало?
— Ну разве все упомнишь! Я-то ведь не полуночница, слава богу, я по ночам спать привыкши. Это когда дежурила только. Вот, помнится, — тетя Клава задумалась, — помнится, в прошлом году. Восьмое марта было, наш бабий день. Я дежурила, помню. Так он часа, не соврать бы, в четыре пришагал. Я еще спрашиваю его: «Что это ты сегодня трезвенький такой, что стеклышко? Вроде б женский день, а ты сегодня без подружек своих». Так я ему, значит, с намеком. А он вздрогнул весь, не приметил меня сперва в подъезде-то, а потом буркнул только: «Не все пить-то, тетка, надо и отдых знать». Отдых, думаю…
«Восьмого марта прошлого года… — размышляет Виктор. — В эту ночь был ограблен продовольственный магазин».
— Может, еще вспомните?
— Нет, милок. Был, правда, случай. Тоже часа в три вернулись, но уже тогда трое их было, и вроде под хмельком. А может, не под хмельком. Так-то вроде не качались. Пешком пришагали, прошли, меня и не заметили. Юрка-то вздохнул так, облегченно вроде, и говорит: «Ну вот и порядок! А ты, Володька, каркал».
— Балакин Володька?
— А какой же еще? Наверное, Балакин. Другого-то вроде нету… — И, воспользовавшись тем, что Виктор записывал что-то в блокнот, перешла в наступление: — Ты скажи, милок, почему вот вы за мусор штрафуете, а за то, что во дворе в козла стучат до зари, нет. За то, что снег не уберем, — штрафуете, а за то, что дружина у нас в ЖЭКе только на бумаге, — нет. Создали, всех позаписали, я хоть не молодка, а первой записалась. И чего? Ничего. Походили месячишко, а теперь уж забыли, как это делается.
— Клавдия Федоровна, мы-то…
— Вы-то, вы-то! Вы-то и должны за этим смотреть. Вы хоть все генералами станете, а без народа-то не будет толку. Ну что вот ты, милок, сделаешь, хоть и с пушкой своей, если мы тебе помогать не будем?
Да, тетя Клава — умный дворник.
Виктор молчит. Что говорить? Он и так знает, что она права. У них на Петровке, 38 прекрасно все это знают. Это вот тетя Клава не знает, сколько таких же, как она, добровольных, бескорыстных помощников у Петровки, 38! Если б знала — радовалась. А те: ночные рыцари, хулиганы, шпана — они, между прочим, тоже не знают, сколько у нашей милиции помощников в народе. А жаль. Знали бы, может, вели себя потише. Но для иных народ мало что значит. Вот милиция — другое дело. Это они понимают.
Виктор продолжает свое путешествие. Нужно повидать Шурку, других свидетелей.
В который раз он перечитывает записи с показаниями.
Двенадцатилетний Шурка:
«Она такая горькая, водка. Фу! Противно! А если не выпьешь, он таких подзатыльников надает…»
Сосед по квартире, пенсионер-бухгалтер:
«Конечно, гулял, а что же ему — дело молодое. Конечно, выпивал — так ведь дома не шумел, а на улице, знаете, это уже пускай милиция смотрит».
Соседка, работница на фабрике:
«Нехороший парень. Не знаю, как вам объяснить, вроде и здоровается по утрам, а вот чувствую, только объяснить не могу. И потом, видели, как одет-то? И брючки, и галстучки, и все прочее. Откуда деньги? Он же дорогу на работу небось в адресной книге узнает».
Мастер энергетического завода, где Веревочкин работал:
«Золотые руки у парня. Была бы голова не садовая, далеко в нашем деле пошел. Он запросто мог хорошие деньги зарабатывать. Так нет, прогуливал, а то и пьяный придет. Я его сколько раз от станка отставлял».
Один из рабочих его бригады:
«Подонок он, не наш, не рабочий человек. Верно мастер говорит, мог бы работать. Так ведь мало ли что кто может? Судить-то надо по тому, что делает. А вы глаза его видели? Обратили внимание? Он же как волк смотрит! Волчьи глаза у него. Посмотрите, точно волчьи».
Подруга из Колькиной компании:
«А я откуда знаю, где он деньги берет? Знаю только, что есть они у него всегда. Ну выпила, так ведь не хулиганю! Да что вы ко мне с этим Юркой пристали — парень как парень, аккуратный, не дерется, угостит всегда. А где он работает — я не нянька за ним смотреть. И не очень он мне нравится. Володька, тот да!»
Виктор докладывает подполковнику Данилову:
— Юрий Веревочкин — подонок. Пьет, водит к себе женщин сомнительного поведения, прогуливал работу. Денег много, откуда — неизвестно. Отец у него, как я уже докладывал, тоже пьяница, у сына под каблуком. Несколько раз Юрий Веревочкин возвращался среди ночи один, трезвый, стремился остаться незамеченным. Одно из возвращений совпадает по времени с одним из ограблений. В общем, товарищ подполковник, — подытожил Виктор свой доклад, — остается, как говорится, самая малость: поймать и изобличить.
— Вот и займись этим, — ворчливо посоветовал Данилов, — лови и изобличай.
— Слушаюсь, — сказал Виктор и, собрав свои записи, вышел из кабинета.
Сколько веревочке ни виться…
Через несколько дней после описываемых событий была совершена кража в сберегательной кассе. Надо заметить, что обокрасть сберегательную кассу — это не то же самое, что вытащить бумажник у зазевавшегося пассажира трамвая. Сберкассы имеют соответствующую систему защиты, да и сейфы там настоящие. К тому же редко так случается, чтобы в сберкассе на ночь оставались большие суммы.
И для того чтобы выбрать удобный момент, преступники должны следить за кассой долго и тщательно.
Когда Виктор приезжает на место, царит глубокая ночь. Только что заведующий сберкассой вернулся домой из гостей — а он живет почти в том же помещении, — обнаружил взлом и позвонил в милицию.
И вот милиция на месте. Собаке, как всегда, не везет. Метель такая, словно это не Москва, а сибирская тайга. Фонари раскачиваются. Их скользящий свет с трудом прорывается сквозь вихри жесткой белой крупы, затеявшей во мраке неистовую, беспорядочную пляску. Тротуары заметены, и языки снежных наносов вытянулись к самым стенам домов. Метель воет, как стая волков, она заглушает слова, уносит их куда-то.
У входа в сберкассу притопывают прибывшие раньше работники милиции.
Другие, внутри, уже смотрят, фотографируют, пишут протокол. Обычная работа.
Виктор останавливается в дверях и обводит взглядом помещение. Да, ничего не скажешь! Нахальные ребята.
Он мгновенно понял, что за сберкассой следили долго и тщательно и вообще выбрали ее не случайно.
Те, кто располагал ее здесь, наверное, чутко заботились об удобствах для будущих воров.
Касса находится на первом этаже жилого дома. Вход в нее из жилого подъезда. Ни лифтера, ни дворника (которому полагается дежурить и который, разумеется, не делает этого) в подъезде нет. Лампочка не горит. Ее, наверное, предусмотрительно вывинтили преступники.
Защитная система сберкассы из-за неисправности два дня не работала. И преступники должны были об том знать, раз они выбрали один из этих дней. А это требовало не только тщательного наблюдения за кассой, но и умения определить, работает или нет защитная система.
И это уж не говоря о том, что они видели, как ушел заведующий сберкассой. Дело в том, что из подъезда вход вел в нечто вроде тамбура, из которого одна дверь открывалась в сберкассу, а вторая — в квартиру, где жил заведующий.
Что было бы, если б он не ушел? Или вернулся домой не поздно? Остался бы он в живых?
Тем не менее воры спокойно входят в подъезд, без груда проникают в квартиру заведующего, покинувшего ее буквально десять минут назад, верные своей системе не носить с собой инструменты, находят все необходимое на месте. Перепилив дужку навесного замка, попадают в помещение сберкассы.
Они вскрывают маленький ящик, забирают находившиеся там деньги и приступают к взлому сейфа.
Но тут их постигает первая неудача. Сейф в сберкассе не несгораемый шкаф ателье — его портновскими ножницами и даже туристским топориком не откроешь.
На мгновение Виктор закрывает глаза и представляет себе всю сцену.
Несколько человек — сколько: трое, четверо? — толкаясь в темноте, тяжело дыша, шепотом ругаясь, возятся у сейфа, примеряются к нему так и этак, сплевывают с досады, а один, как обычно, сморкается.
Что же произошло дальше?
Дальше преступников постигла вторая неудача: убедившись, что с сейфом им не справиться, они уходят, но по дороге нечаянно толкают стол, разбивают чернильницу с красными чернилами.
Виктор тщательно осматривает стол и пол вокруг стола. Вот здесь чернильница разбилась, от нее полетели брызги, они попали сюда и сюда. А почему не сюда? Потому что здесь что-то преградило им путь. Нетрудно догадаться, что именно — преступники. Сколько? Судя по ширине незапятнанного пространства — двое. А судя по высоте полета брызг — запачканы руки, рукава…
Виктор выходит на улицу. Метель продолжает буйствовать. Он не успевает опомниться, как весь исхлестан твердой крупой, ослеплен воющим ветром.
Где-то вдали слышен прорвавшийся сквозь этот вой звонок первого трамвая. Домой ехать нет смысла, и Виктор отправляется в управление.
Он спускается в буфет, пьет крепкий чай, идет в свой кабинет, смотрит на часы — уже можно звонить Люде, жене, она встала. Занятия в училище, где она преподает, начинаются рано, а находится училище на другом конце города. Разговор короткий и деловой. В ее спокойном голосе не чувствуется волнения, она давно научилась скрывать беспокойство.
Виктор устремляет взгляд за окно, в бешено крутящийся белый мрак, и размышляет. На губах у него застывает довольная улыбка. Виктор счастлив, что у него есть Людмила. Сейчас, пожалуй, он доволен этим больше всего. Людям редко свойственно ощущать свое счастье, неприятности — другое дело. В древности говорили: «Я чувствую свою руку». Это значит, рука болела. Потому что когда она не болит, ее не чувствуешь. Так и с женой. Замечаешь ее присутствие, когда она плохая, а когда хорошая — нет. «Нет» в том же смысле, в каком человек не ощущает, что он здоров, сыт, дышит воздухом, доволен жизнью. Это все воспринимается как естественное, само собою разумеющееся.
Поэтому он доволен.
А она?
А для нее естественно, само собою разумеется иметь такого мужа, который воюет, когда для всех кругом мир. Ведь нет же войны, нет сражений, и многим женщинам в Москве не приходит в голову, что их мужья могут умереть под пулей! А ее муж может.
Он не ходит в стальной каске, не берет с собой на работу саперной лопатки, даже пистолета. Он завтракает, как правило, дома и бреется электрической бритвой.
И все же каждый раз, как он закрывает за собой дверь и квартиры, она провожает его как на бой. И пока в полночь ли, или под утро он не вернется домой, она не знает, жив ли он.
Конечно, в стране больше умирает людей от болезней, от уличных катастроф, наконец, тонет во время купания, чем гибнет милиционеров.
Но ведь нельзя же не купаться летом, не ходить по улицам или считать себя застрахованным от рака.
А вот не идти работать в уголовный розыск можно. Можно читать по вечерам повести про милицию и ворчать: почему не поймали карманника или не убрали пьяницу со скамейки.
Это легче.
И не следует осуждать людей за то, что они становятся инженерами, врачами, строителями, журналистами, шахтерами, а не сотрудниками уголовного розыска. Среди них тоже немало смелых людей. Известно много случаев, когда они помогали тушить пожары, спасать утопающих или задерживать убийц. И порой отдавали при этом жизнь.
Но все же это очень редкие случаи.
Для работников уголовного розыска ловить убийц и грабителей, рискуя жизнью, а иногда и жертвуя ею, обычно. Это их профессия.
Число сотрудников уголовного розыска, а тем более работающих в отделе по борьбе с особо опасными преступлениями, ничтожно мало по сравнению с остальным населением страны. И найти себе мужа среди всего этого остального населения соответственно неизмеримо легче.
Но Людмила выбрала именно его, Виктора. Хотя отлично знала, что доля жены работника милиции — нелегкая доля.
Она никогда не ворчит, когда он ночью убегает из дому, не предъявляет нелепых требований, например, быть дома в день ее рождения или под Новый год.
Она старается, чтоб ему было легче.
А кому из них трудней?
Ему, увлеченному боем, захваченному действием, видящему опасность, борящемуся с ней, хорошо знающему, когда эта непосредственная опасность угрожает.
Или ей, на работе и дома, одной и с гостями, днем или ночью, ничего точно не зная, не имея возможности помочь ему, защитить, что-то сделать, хоть как-то, хоть в чем-то принять участие, ей, беспомощно и пассивно ждущей его возвращения?
Когда он дома и ночью или в другое неурочное время раздается в их квартире телефонный звонок, он знает — в нем нуждаются.
А когда она одна и телефон зазвонит в ночной тишине? Что должна она пережить в те секунды, пока тянется к трубке? Сейчас она услышит его веселый уверенный голос, и гора упадет с плеч.
А если голос будет не его? Если подполковника Данилова или… или самого генерала? Нет, конечно, не все так страшно. Бывают и веселые случаи, да и самое страшное дело почему-то выглядит потом в его рассказе как забавный эпизод. Работают в уголовном розыске десятками лет и вот ведь живы и невредимы. В конце концов, преступники есть, но не все же убийцы. Есть статистика: гибель каждого милиционера — трагедия, но это каждый раз исключительный случай… Зачем думать о худшем?
Теперь Виктор смотрит за окно не улыбаясь. Его взгляд становится печальным. А потом холодным и злым. Так всегда с ним бывает в эти минуты. Как будто мало на земле бед: наводнений, пожаров, болезней, катастроф! Как будто не делают у нас все, что можно, чтоб людям жилось лучше! Не все еще хорошо, многое еще предстоит сделать. Так помоги! Нет, наоборот, норовят подставить ножку, украсть, обмануть, убить. Плевать таким на всех и на все, кроме себя. И пока будут ходить они по земле, Виктору, его товарищам и тем, кто придет ему на смену, не придется жить спокойной жизнью, а их женам забыть о страхе и волнении.
За окном по-прежнему бушует метель, но мрак рассеялся, настало утро. В коридоре слышны шаги, открываются и закрываются двери, кто-то смеется, кто-то разговаривает.
Жизнь продолжается…
Его мысли прерывает телефонный звонок. Говорят от дежурного по городу:
— Сегодняшнюю сводку читал?
— Нет.
— Почитай.
— А готова?
— Понесли.
Через несколько минут Виктор читает: «По подозрению в попытке обокрасть ателье верхней одежды № 3 Свердловского района задержаны Веревочкин Юрий Гаврилович и Гришин Сергей Иванович…»
Не успев дочитать сводку, Виктор вскакивает. И, перепрыгивая через ступеньки, мчится вниз. Машина с включенным мотором уже ждет его у подъезда.
Новогодняя ночь
Пока машина мчится к отделению милиции, Виктор «расслабляется». Он заимствовал это выражение из спорта. Он знает, что для сохранения сил в соревнованиях по любому виду спорта надо уметь чередовать мгновения максимального напряжения с периодами расслабления. Это как перед прыжком — все мышцы расслаблены, мягки, и вдруг короткий разбег и мгновенное неистовое напряжение. Или пока бежишь, надо уметь отдыхать, хоть секунду, хоть долю секунды, в момент переноса руки, переноса ноги…
А у него напряжение постоянно. И мгновенное и длительное. Виктор знает: сейчас он приедет на место — и начнется психологическая борьба. Все чувства в этот момент должны быть в предельном напряжении, ничего нельзя упустить, не заметить. Поэтому сейчас он расслабляется.
Эта вьюга и снег напоминают ему прошлогоднюю встречу Нового года. В вагоне. На пути в Москву.
Это было интересное и поучительное дело, запутанное и легко решившееся благодаря пустяку. Из длинных многословных рассказов шести человек он выудил тогда одну фразу, и эта фраза привела к раскрытию сложного дела, к поимке убийцы.
…Морозным декабрьским днем в столицу прибыл поезд из Харькова. Среди других пассажиров в нем ехало шесть тбилисцев и один ленинградец. Познакомились в пути, сдружились. Ленинградец ездил на Украину, возил теще в подарок телевизор, но оказалось, что телевизор ей уже подарил сын, и вот теперь он везет его обратно. Телевизор заинтересовал одного из тбилисцев, и он решил приобрести его у раздосадованного ленинградца.
Договорились так. Поскольку ленинградец задерживается в Москве на два дня, а тбилисец наутро едет дальше, в Ленинград, то телевизор оставят в камере хранения в Москве, а когда ленинградец прибудет в свой город, он отдаст там тбилисцу багажную квитанцию, а тот ему деньги.
Непонятно, зачем потребовалась столь сложная договоренность, но поскольку она состоялась…
Четверо тбилисцев поехали в Ленинград, а ленинградец и двое других отправились в район ВДНХ и устроились там в гостинице. К сожалению, ленинградец оставил паспорт в сданном вместе с телевизором чемодане. Тбилисцы общими усилиями уговорили администраторшу прописать их нового товарища по единственному имевшемуся у него в кармане документу — диплому об окончании института на имя Самохина. Он взял администраторшу на обаяние.
Перед отъездом в Ленинград компания весь день носилась по Москве. Что-то покупали, смотрели, обедали в ресторане.
Около ГУМа зашли на почту послать поздравительные телеграммы в Тбилиси. И тут Самохин подошел к тбилисцу, купившему у него телевизор, и, смущаясь, попросил половину оговоренной суммы. Они уже так подружились, что, проявляя великодушное доверие, тбилисец отдал ему все деньги. Дружба дружбой, доверие доверием, но в последний момент перед отъездом друг тбилисца Гиви зашел все же в камеру хранения и, рассказав суть дела, попросил кладовщика не отдавать ленинградцу телевизор, если тот за ним придет.
Оставшиеся в Москве два тбилисца на следующее утро встретили мать одного из них, прибывшую в Москву с большими деньгами, чтобы закупить себе, многочисленным родственникам и друзьям новогодние подарки.
Вместе с тбилисцами встречать ее поехал и управившийся со всеми своими московскими делами Самохин. Встретили и прямо с вокзала — по магазинам. Только часам к пяти с двумя набитыми чемоданами вернулись в гостиницу и пошли по корпусам искать для прибывшей отдельный номер.
В какой-то момент разделились: тбилисцы пошли в одну гостиницу, Самохин — в другую. Вскоре обаятельный ленинградец вернулся в вестибюль и, сообщив старой женщине, что сейчас сын придет за ней, чтоб вести в номер, который они только что нашли, сам взял у нее оба чемодана и сумку, где лежали деньги, и любезно отправился вперед.
Когда сын минут через двадцать пришел за безмятежно ожидавшей его матерью, все выяснилось, и начались истерика.
Прибывшие работники милиции немедленно поехали и камеру хранения. Выяснилось, что Самохин только что приходил за своими вещами. Однако верный своему слову кладовщик не выдал их ему, сославшись на то, что что отделение временно закрыто. Нормальный гражданин, если бы ему попробовали не дать его же вещи по имеющейся у него законной квитанции, естественно, поднял бы скандал. Самохин же мгновенно исчез.
В его чемодане среди других вещей нашли паспорт на имя Борисова и справку о том, что он только что отбыл срок. На фотографии в паспорте Борисов оказался удивительно похожим на Самохина.
Сведения о преступнике были немедленно разосланы по все органы милиции. И через два дня у Виктора раздался телефонный звонок. Звонил дежурный по одному из московских отделений.
— У нас находится Борисов, о розыске которого было дано указание.
— Что он говорит? — спросил Виктор.
Последовала пауза.
— Так что он говорит? Алло!
— Видите ли, — сказал наконец дежурный, — он в таком виде, что от него мало чего можно добиться. Лучше бы вы заехали.
Виктор немедленно отправился в отделение. И сразу же убедился, что к Самохину Борисов имеет весьма отдаленное отношение. В первую очередь внешне.
Короче говоря, выяснилось, что Борисов действительно недавно освобожден, но что где-то в Орше он потерял или у него выкрали документы, о чем он сделал там соответствующее заявление. Проверка подтвердила его слова.
Итак, тонкая ниточка, имевшаяся у милиции, порвались. Тогда Виктор и его товарищи стали изучать аналогичные дела.
Красивый и обаятельный парень, по описанию схожий с Самохиным, вставал со страниц архивных дел в самых разных качествах. И прозывался он то Александром, то Андреем, то Юрием, но чаще всего Анатолием.
Не обладая талантом Аркадия Райкина, этот человек тем не менее оказывался и инженером из Иркутска, и режиссером из Москвы, и капитаном дальнего плавания из Мурманска, чаще же всего кем-то из Ленинграда.
Там он обманул старика, унеся его деньги, здесь — доверчивых попутчиков в поезде, в другом месте — пожилую чету, но больше всего ему удавалось обманывать женщин.
И однажды, втершись в доверие к проводнице поезда Москва — Ленинград, даже поселился у нее. Он назвался Анатолием, сказал, что архитектор. Как-то ночью у них произошло бурное объяснение (о чем рассказали соседи). И на следующее утро архитектор исчез. А через час в комнате обнаружили труп хозяйки. Теперь это уже был не мелкий авантюрист, охотник за ротозеями и железнодорожный вор.
Это был убийца.
Где его искать?
Виктор занимался текущими делами, ходил на тренировки, затеял новый каталог для своей библиотеки. Но чем бы он ни занимался, мысль о Самохине-Борисове не выходила у него из головы. Его не покидало ощущение, что была где-то в этом деле какая-то важная деталь, могущая пролить на все яркий свет. Какая? Виктор без конца пересматривал все возможные варианты, снова и снова просматривал протоколы допросов шестерых тбилисцев и ничего не находил. У него было такое чувство, будто он играет в детскую игру «горячо — холодно». «Тепло, еще теплей, горячей, почти совсем горячо!» — подсказывал ему внутренний голос. Но «горячо!» так и не говорил.
Наконец, не выдержав, он вылетел в Тбилиси и попросил всех шестерых свидетелей вновь повторить свой рассказ.
Прозрение наступило утром, когда тбилисец, купивший телевизор, вновь рассказал об эпизоде на почте:
— Я уже говорил… Сижу там за столом — такой большой овальный, домой пишу. Вдруг он подходит, говорит: «Слушай, Жора, может, дашь мне аванс в счет телевизора? Все равно я тебе квитанцию багажную дам, хочешь, в Москве отдам? А то мне очень нужно сейчас». Мы пообедали, выпили хорошо, сердце радуется, доверяет человеку сердце. Я все даю, говорю: «Зачем квитанция, человек человеку верить должен. Я тебе верю!»
Это уж потом Гиви кладовщика предупредил все-таки. Мало ли что. А тогда, на почте, я ж не знал, что он жулик.
— Ну, дали вы ему деньги, а дальше что? Куда он пошел?
— Не знаю, не следил. Мы к окошечкам подошли, телеграммы сдавать. Он тоже, по-моему, у какого-то окошка стоял. Не помню. Помню только, что с почты он по уходил.
— А позже, — продолжал спрашивать Виктор, — когда вы по городу ездили, он о деньгах ничего не говорил?
— О каких деньгах?
— Вообще о деньгах.
— Нет, не говорил. Только когда уж прощались в центре, у Серго рубль попросил — до гостиницы, говорит, на такси доехать…
«Горячо!» Вот теперь «горячо!». Виктор с неожиданной радостью поблагодарил удивленного тбилисца и на следующий день вылетел в Москву.
Все было ясно. Деньги, взятые на почте, Самохин-Борисов куда-то отправил.
Прямо с аэродрома Виктор поехал на почту. Он просидел там, забыв об обеде и ужине, до самого закрытия и в результате нашел то, что искал. В тот день, когда тбилисцы и ленинградец побывали на почте, оттуда был отправлен денежный перевод в городок Дубки Иркутской области на имя некой Рубакиной. Адрес отправителя; Москва, К-9, до востребования. Самохвалову Анатолию Ивановичу.
В ту же ночь срочная телеграмма сообщила в Дубки приметы и описание «Самохвалова», адрес Рубакиной и приказ немедленно задержать преступника.
Буквально на следующее утро пришел ответ: человек, отвечающий приметам Самохина-Борисова, задержан.
Втиснувшись в самолет сверх всякой нормы, Виктор с помощником в тот же день вылетели в Иркутск.
Самохин-Борисов-Самохвалов отнесся к своему задержанию довольно спокойно. Виктор не сообщил ему, что он из Москвы, и тот решил, что за ним прибыли из Иркутска.
В ночь на 1 января, когда все порядочные люди «стреляют» шампанским и произносят тосты, Виктор, скрепив себя за руку с преступником наручниками, ехал в пустом вагоне из Дубков в Иркутск. Напротив сидел его помощник Валерий.
Оба не спали перед тем две ночи, глаза у них слипались, ритмичное покачивание и перестук колес еще больше усиливали желание спать. Чтоб не уснуть, они то и дело поливали друг другу головы купленным на станции боржоми.
Вот так встретил он в тот раз Новый год…
Приехав в Иркутск и поместив своего подопечного в камеру, они прежде всего выспались. А ранним утром повезли арестованного на аэродром.
Поехали по городу, Самохин без конца рассказывал разные истории, из которых явствовало, какой он ловкий, хитрый, веселый жулик. Как он там обвел «шляпу», здесь обманул простофилю, даже милицию он неизменно оставлял в дураках.
Он охотно брал на себя кражи, совершенные в области, даже в других городах, только не в Москве и Ленинграде. Когда же он увидел, что машина, мчавшая его по предрассветным иркутским улицам, миновала милицию, прокуратуру, тюрьму и понеслась к аэродрому, лицо его вытянулось. Он понял, что за ним прибыли из столицы.
Но вскоре опять приободрился, опять начал свои рассказы, он даже подробно описал, как обокрал тбилисцев. Он охотно выкладывал все, лишь бы отойти подальше от единственного дела, которого страшился, — убийства ленинградской проводницы.
Когда его наконец доставили в Москву, начались допросы. Постепенно все яснее и яснее проявлялся кадр за кадром из его жизни. И, как всегда, стремление к «красивой» жизни.
То, что людей тянет к «красивой» жизни, неудивительно. Важно, как ее, эту красивую жизнь, понимать. Виктор никогда не уставал удивляться тому, сколько еще есть у нас юношей и девушек, видящих эту жизнь в роскошных туалетах, пьянках, безделье.
А так как туалеты и пьянки требуют денег, а безделье приобретению таковых не способствует, некоторые становятся на путь преступления. Не сразу, не вдруг, а постепенно. Одних затягивают более опытные, другие начинают с мелкой кражи или обмана, третьи, напившись, лезут в драку. Многих своевременно останавливают товарищи, школа, комсомол, родители, иногда милиция. Но там, где на споткнувшихся вовремя не обратили внимания, отмахивались от них, дело кончается порой катастрофой.
Комсомол, школа — все это хорошо. Но ведь в школе учатся, в комсомоле состоят ребята далеко не ясельного возраста. У них уже есть своя голова на плечах, свой, пусть маленький, жизненный опыт. Почему он, Виктор, вместо того чтобы стать спекулянтом, в комсомольском возрасте побил спекулянта, вместо того чтобы лазить по карманам, ловил карманников?
Надо, чтобы каждый молодой человек с детства привык отвечать сам за себя, а не прятаться за родительские спины. Вот теперь этот Самохин-Борисов будет оправдываться тем, что его «проглядели». Да нет, он отлично знал, что делал, и когда тащил завтраки из портфелей товарищей, и когда ударил девочку, отказавшуюся с ним танцевать, и когда украл первый чемодан у попросившей его присмотреть за вещами пассажирки.
Обман, злоупотребление доверием, кражи, а потом…
— …Так как же вы называли себя, когда знакомились с людьми? — интересуется Виктор.
— Да по-разному, чаще всего Анатолием, друг был такой у меня, вот и прихватил потом его имя.
Они говорили долго.
— А вы здоровый парень, вам бы штангой заниматься, — заметил Виктор, окинув взглядом крепкую фигуру «Самохина».
— Штангой не штангой, а боксом несколько лет занимался. Разряд имел. Только выгнали меня потом за драки…
Он рассказывает о десятках городов, где «гастролировал», о десятках людей, которых «обрабатывал». И однажды, увлекшись, сам не заметил, как упомянул о знакомстве с ленинградской проводницей. И это стало началом его конца.
Виктор незаметно, не торопясь, но неотступно и твердо сжимал вокруг «Самохина» кольцо улик, загонял его все дальше и дальше туда, откуда уже не было выхода. В конце концов убийца сознался.
Найдя у проводницы скопленные ею деньги, он забрал их, а когда, поймав его, можно сказать, за руку, она стала требовать их обратно, просто убил ее.
…Все это Виктор вспоминал, пока машина мчала его морозным январским днем по московским улицам в отделение милиции, где ему предстояла наконец встреча Веревочкиным-младшим.
На пороге развязки
Обстоятельства задержания преступников были следующие.
Постовой Филиппов поздно ночью обходил свой район. Это был опытный милиционер, пришедший в органы после сверхсрочной службы в армии. Участок свой он знал хорошо, а службу еще лучше.
Филиппов только что прошел улицу из конца в конец, внимательно поглядывая на навесные замки палаток, на запоры магазинных дверей, осматривал торговые залы через широкие витрины.
А сейчас он стоял на перекрестке и курил. Через пять минут он пройдет улицу опять, но по другой стороне, покурит на другом ее конце и углубится в один из переулков… Так он делает каждое свое дежурство, каждый раз изменяя маршрут и время обхода.
Но, стоя на перекрестке с сигаретой в руке, Филиппов продолжал дежурить: он чутко вслушивался в ночные звуки города. Вот где-то вдали звякнул случайный, запоздавший трамвай, вот прошелестели машины на соседней улице, где-то залаяла собака — необычный для города звук, шаги поздних прохожих… А это что? Откуда-то, даже трудно определить откуда, доносится словно однотонная комариная песня. Может быть, это только кажется ему?
Филиппов напрягает слух — нет ничего. Опять! Где это?
Филиппов бросает недокуренную сигарету в снег и, медленно ориентируясь на звук, идет по улице. Сворачивает на соседнюю. На мгновение останавливается и продолжает путь. Но теперь он идет по-иному: быстро, уверенно. Расстегивает кобуру пистолета. Теперь он знает, что это за звук. Это ножовкой перепиливают железо.
Неожиданно вдали слышен тихий, почти слившийся с ветром, свист, звук ножовки прекращается. Раздаются чьи-то торопливые шаги, замирающие в ночи.
Филиппов бегом преодолевает оставшиеся метры: он уже знает, где все произошло, — ателье № 3. Подбегает к боковой стене, вынимает электрический фонарь. У стены в снегу валяется ножовка, несколько прутьев толстой решетки перепилены. Все ясно. Двое пилили, один стоял на стреме. Увидев или услышав приближающегося милиционера, он подал знак, и грабители скрылись.
На протяжении квартала Филиппов прослеживал их путь по следам на снегу, дальше след теряется: воры вышли на широкую, очищенную от снега улицу.
Филиппов немедленно сообщает в отделение. Но раньше чем оперативная группа успевает отправиться на место, преступников уже вводят в караульное помещение.
Их поймали в двух кварталах от ателье. Возвращавшиеся с дежурства девушки-медсестры заметили двух парней, торопливо перебегавших улицу, воровато оглядывавшихся по сторонам.
Встретив на углу милицейский мотоцикл, девушки сообщили о своих подозрениях патрульным. Обогнув дом, милиционеры подъехали к одной из подворотен в тот момент, когда парни выбегали из нее.
Через десять минут оба сидели в отделении и довольно нагло отвечали на вопросы дежурного.
— Ну выпили, ну домой идем! Порядок не нарушаем? Не нарушаем! Так чего привязались? Ножовка? Какая ножовка? Ателье № 3? Ну знаем, но сегодня мы и мимо-то не проходили. Где выпили? Дома выпили. И, между прочим, на свои, не на краденые!
Что ж, подозревать можно было, но доказательств нет. Первое, что распорядился сделать Виктор, это направить в научно-технический отдел одежду задержанных.
У него была своя мысль. Где-то в глубине души он надеялся, что сорванная бдительным Филипповым попытка ограбить ателье № 3 и окажется той точкой, в которой сойдутся пути Веревочкина, подозреваемого, но пока не изобличенного, и неизвестных преступников, обокравших ателье № 1, находившееся в двух шагах от отделения милиции, из которого Веревочкина только что выпустили.
Связи, знакомства, в какой-то степени даже жизнь Веревочкина были изучены Виктором. Он давно вел с ним странный поединок, односторонний и молчаливый. Веревочкин ел, спал, гулял, выпивал, ходил по улицам и не подозревал, что в тиши своего кабинета Виктор сражается с ним, изучает, готовит стратегические планы, собирает материалы, чтоб в тот неизбежный момент, когда поединок станет явным и Веревочкин окажется перед ним в роли обвиняемого, выступить во всеоружии.
Не наступил ли сейчас этот момент? Ведь второй задержанный, Гришин, на примете у Виктора как один из ближайших друзей Веревочкина.
Виктор входит в дежурку и внимательно оглядывает сидящих перед ним парней.
Пальто с цигейковыми воротниками, шапки-пирожки, яркие носки. Настороженные взгляды, поджатые губы. Обоим лет по двадцать пять.
Есть в их облике, на первый взгляд обыкновенных, современных парней, что-то затаенное, недоверчивое, что-то от зверя, но не львиное или тигриное, а шакалье.
В них чувствуется наглость, которая так же легко может перейти в беспощадность, как и в трусость, изобретательную на ложь и зло.
Это лишние люди. Люди, которых вряд ли исправишь и, уж во всяком случае, не скоро. Люди, усвоившие одну мораль: что хочу, то и делаю, лишь бы не попасться. И ради вот этого «хочу» они могут пойти на многое: могут быть хитрыми, настойчивыми, дисциплинированными, осторожными, изобретательными…
А может, это Виктору все кажется? Может, просто сидят перед ним два ни в чем не повинных парня? Или так, повинных в мелочах. А он создал в своем кабинете образы опасных злоумышленников, опытных коварных преступников… Все может быть…
Ведь предвзятость не мирится с объективностью. И чем упорней будет держаться следователь за свою ранее построенную версию, тем меньше шансов у него раскрыть истину.
Виктор привозит задержанных на Петровку, 38 и идет в научно-технический отдел. Ему не терпится выяснить результаты экспертизы.
Они оказываются совершенно неожиданными.
На одежде Гришина обнаружены бесспорные следы кассовой краски. Ясно: Гришин участвовал в краже, совершенной в ателье № 1.
Но самое поразительное то, что и на одежде Веревочкина найдены те же следы! А ведь он-то, это точно установлено, не мог участвовать в этом преступлении…
Откуда же следы? К тому же Гришин ничего со своей одеждой сделать не пытался, а Веревочкин хотел отстирать пятна. Что ж, он знал? А если знал, то почему не предупредил дружка, не попытался отделаться от одежды?
Виктор и сотрудник отдела долго ломают голову. Решают посоветоваться с опытным экспертом-специалистом.
— И знаете что, — подумав, просит Виктор, — узнайте у него, нет ли других веществ, оставляющих такой же след?
Продолжалась обычная работа. Опрашивались свидетели, собирались улики, проверялось времяпрепровождение задержанных. Кое-что это дало. Так, например, возникло подозрение, что попытку обокрасть ателье № 3 совершили трое, а не двое. Кто был этот третий?
Однажды вечером, задержавшись на работе, Виктор вновь и вновь пересматривал материалы дела. Зазвонил телефон. Сотрудник научно-технического отдела сообщал:
— Так вот, у вашего Гришина следы кассовой краски ателье. Это вы знаете. Это точно. А у Веревочкина — следы красных чернил. Реакция та же. Алло, алло! Вы слушаете? Я говорю, красных чернил. Это что-нибудь дает?
Виктор поблагодарил.
Дает ли что-нибудь? Да все дает. Последнюю нить, последнее звено сложной и извилистой цепи. Вот теперь эта цепь замкнулась. Теперь действительно: сколько веревочке ни виться — пришел конец.
Итак, Гришин и еще кто-то совершали кражу в ателье № 1 Куйбышевского района, а Веревочкин в этом налете участия не принимал — он только что вышел из милиции и сидел дома. Он не знал, что его товарищи в этот момент «берут» ателье, так же как они не знали, что их дружок уже отпущен. Да и ателье-то это они выбрали именно потому, что находилось оно вблизи отделения милиции, и поторопились, чтоб доказать, что Веревочкин никакого отношения к краже в магазине № 84 «Овощи — фрукты» не имеет. Все это не вызывало у Виктора никаких сомнений. И наверняка в налете на сберегательную кассу принимала участие вся компания. Гришин, Веревочкин и еще кто-то. Там Веревочкин, разбив чернильницу, запачкался. Потом они где-то пьянствовали, Веревочкин пытался отмыть чернила. Далее все они, или часть шайки, решили закончить эту ночь, ограбив еще одно ателье. Но, застигнутые милиционером Филипповым, бежали. Гришин и Веревочкин попались, а третий, ибо Виктор не сомневался, что был третий, сбежал.
Вот и все.
В том, что именно так все произошло, Виктор был абсолютно убежден.
Оставалось убедить самих преступников. Убедить в том, что каждый их шаг, каждое движение, каждое действие известно милиции не хуже, чем им самим. А для этого нужно было услышать их рассказ о событиях, их ответы и, отфильтровывая все ложное, по крупицам собирать полезную информацию тут же, мгновенно, обращая ее в свое оружие, и с ее помощью вновь идти в атаку для добычи новой информации.
Обстоятельства дела
Первая встреча с Гришиным. Тот сидит напротив Виктора, положив руки на колени, расстегнув ворот рубашки в цветочек. Он не отводит глаз, смотрит исподлобья, напряженно, по-волчьи. Отвечая, цедит слова, иногда ухмыляется или кривит рот. Сразу видно, что это прием.
— Ваше имя, отчество, фамилия?
— Гришин Сергей Васильевич.
— Год рождения?
— Сорок второй.
— Москвич?
— Москвич.
— Где работаете?
— С декабря не работаю.
— С какого декабря?
— С семнадцатого декабря.
— А раньше где работали?
— В артели…
— Кем?
— Слесарем.
Это формальности. Все, что сейчас отвечает ему Гришин, Виктор отлично знает.
Впрочем, Виктор знает и многое другое. Еще накануне в этом же кабинете, была у него немолодая, заплаканная женщина — мать Гришина. Их не разделял стол. Виктор сидел с ней рядом на диване, сочувственно глядя в глаза.
— Знаете, — говорила она, вытирая головным платком слезы, — как говорится: придет беда — отворяй ворота.
Старший сын-шофер недавно попал в аварию. Он в больнице. Отца нет — одна растила. И вот Сергей пошел по плохой дорожке. Сколько раз говорила, предупреждала. Да разве мать слушают? Понимает, конечно, все понимает. Но неужто совсем он безнадежный? Быть того не может!
Она рассказывает о трудном Сергеевом детстве.
Дальше с Гришиным начинается разговор по существу.
— Где вы были в ночь на четвертое?
— Сидели у Веревочкина, потом выпили, потом решили погулять; гуляли, а нас задержали…
— Кто еще был в квартире, кто видел, что вы выпивали?
— Никого.
— Гуляли всю ночь? Вас ведь чуть не под утро задержали? Не холодно было по морозу гулять?
— Ничего, мы закаленные, по утрам зарядку делаем…
— Значит, вы отрицаете свою причастность к попытке совершить кражу в ателье № 3?
— Конечно.
— А если ваш друг и коллега Веревочкин окажется умнее и признается?
— А чего ему признаваться? Что он, нервный…
— А если уже признался?
— Не ловите, начальник. Я не карась, вы не рыбак.
Пауза.
— Ну что ж, раз не хотите признаваться — не надо. Рано или поздно все равно придется. А расскажите, что вы делали в ночь на двадцать седьмое декабря?
— Не помню. Спал, наверное.
— А вы, случайно, не лунатик?
— Как, почему лунатик? Не понимаю.
— Вы не могли во сне встать, подойти к ателье № 1 Куйбышевского района, влезть через слуховое окно на чердак, проделав отверстие в полу, спуститься вниз по стояку? Не могли?
Гришин, нахмурив лоб, настороженно смотрит на Виктора.
— А потом, по-прежнему в состоянии сомнамбулизма, — продолжает Виктор, — не могли вы взломать портновскими ножницами сейф и забрать оттуда деньги. Или это вы стояли на стуле и следили за милицией?
И глазах у Гришина мелькает беспокойство и удивление, пальцы теребят складку брюк.
— Не знаю, о чем вы говорите, гражданин…
— Знаете, Гришин, отлично знаете. Значит, это он на стуле стоял, чуть не упал, еле за решетку удержался, а вы пока сейф открывали?
— Он? Кто он? О чем речь? Кто вам рассказал? Это же все неправда!
— Нет, Гришин, это уж вы называйте фамилии. Ну что, вам еще подробности привести? Пожалуйста. Вот, например, зачем вы чистоту нарушаете? Пришли воровать — воруйте. А сморкаться на пол зачем?
— Я не сморкался. Это…
— Ну кто? Чего ж скрывать: в магазине № 84 сморкались, в ателье № 1 тоже, и в сберкассе…
Молчание.
— Что же вы молчите? И зачем вам понадобилось в тот же вечер еще и ателье № 3 грабить?! Совершенно не понимаю. Жадность обуяла?
Молчание.
— Почему, Гришин, вы так стараетесь выгородить ваших дружков? Воровская дружба? Да? А вот они что-то не очень придерживаются этих правил — рассказывают.
— Не ловите на пушку, гражданин начальник…
А к чему ловить-то? Вы еще можете попытаться отрицать, а ваш дружок куда денется. Его-то с поличным поймали. Он вас обманул, а сам попался.
— Кто обманул?
— Это уж сами догадайтесь. Вы ведь только за деньгами охотились, так? Вещей-то не брали, а он взял. Вот когда мы у него лису нашли…
— Какую лису, никто лису не брал!
— …когда у него лису нашли, что ему оставалось делать? Против фактов не пойдешь, Гришин, хоть вы и пытаетесь это делать. А вот ваш коллега это понял, когда мы ему лису предъявили.
— Гад Володька! — Глаза Гришина сузились, губы побелели от ярости, пальцы конвульсивно мяли брюки на коленях. — Договорились…
— Да, нехорошо получилось… Договорились вещей не брать, а он, этот нарушитель конвенции, взял да и уволок лису. Давайте не терять времени, Гришин, серьезно.
Наступает молчание.
— Скажите, Гришин, — Виктор испытующе смотрит на сидящего напротив него человека. Тот на мгновение поднимает глаза, часто моргает и быстро опускает их. — Скажите, вы когда-нибудь думаете о других? Нет, не о ваших дружках, а о вашей матери, например? Думаете? Она была у меня…
— Была? — вопрос вырывается у Гришина неожиданно для него самого.
— Была, — Виктор задумчиво качает головой, — была. Каково ей — между тюрьмой и больницей… Только в больницу не по своей воле попадают, а в тюрьму…
— В тюрьму и подавно, — невесело усмехается Гришин. Лицо его выражает тоску.
— Нет, Гришин, в тюрьму в конечном счете человек сам себя определяет. У нас в стране, во всяком случае. Когда человек не хочет жить по законам нашего общества, хочет встать на путь преступления, это значит, что он захотел в тюрьму. Так?
— Наверное, так, — соглашается после паузы Гришин.
— Только попадают туда, — продолжает Виктор, — не навсегда. На честный путь всегда можно встать. — И он добавляет совсем тихо, так, что Гришин весь в напряжении подается вперед: — Ваша мать вот верит, не может не верить, что вы встанете на честный путь. Права она? Не знаю, Гришин. Вам видней.
Постепенно Гришин оттаивал.
…Он рассказал, как была совершена кража в магазине № 84, как этот паразит Володька сам же предложил очистить ателье № 1, чтобы отвести подозрение от задержанного в 24-м отделении милиции Веревочника. Но насчет сберкассы особенных подробностей старался не сообщать, а главное — фамилии Володьки не называл.
Виктор и его товарищи уже держали на примете друзей Веревочкина, в том числе и Владимира Балакина, 1939 года рождения, слесаря, временно не работавшего.
А уволили его с завода совсем недавно — как раз тогда, когда был в первый раз задержан Веревочкин. Кстати, и работали они в одном цехе. И жили в одном доме, и пьянствовали вместе.
Обокрав в тот вечер сберкассу, они, как рассказал Гришин, отправились на Савеловский вокзал, пили там до глубокой ночи, а потом решили мимоходом взять в ателье № 3. Кто? Он и Веревочкин. А Володька? Володька ателье брал, а сберкассу, ателье № 3 — этого Гришин не помнит.
Балакина задержали на следующий день, привели к Виктору.
— Имя, отчество, фамилия? Год рождения?
Снова обычные вопросы.
— Вот что, Балакин, — сказал Виктор после того, как формальности были закончены, — хоть и банально по звучит: «нам все известно», но что же делать, коль это так? Лучшее доказательство этому, что вы здесь. Так сами расскажете, что знаете, или я вам должен описать, как, например, «брали» сберкассу?
— Опишите.
Балакин знает, что его сообщники задержаны, но не верит, что они «раскололись».
— Не верите. Тогда слушайте. Про сберкассу. Вы пришли туда вместе с Веревочкиным и Гришиным. Зная, что блокировка не работает, а заведующего нет, вы вошли в подъезд, проникли в квартиру заведующего, помнили топорик, а потом пытались вскрыть сейф. Пока возились, разбили чернильницу. Веревочкин залил одежду. Гришин, как всегда, сморкался на пол. Вы стояли на стреме. В какой-то момент вы даже зашли в сберкассу — наверное, чтоб поторопить дружков.
Из сберкассы поехали отмечать удачу на Савеловский вокзал. Пригласили парней со двора. Напоили их, сами выпили. Поехали, опять же втроем, брать ателье № 3. Вы, как всегда, в карауле. Гришин подставил ящик к окну. Веревочкин пилил решетку. Когда вы увидели постового и свистком предупредили сообщников, те, бросив ножовку, убежали в одну сторону, а вы в другую… Потом мы их задержали. Неужели нужно вам рисовать, как все было? Кстати, зачем вы нарушили сухаревскую конвенцию и утащили лису?
Балакин молча сидел, опустив голову. Когда Виктор замолчал, он пробормотал:
— Для девчонки взял, на Новый год подарить хотел… Они уже и это трепанули?
— Я вам не сказал, что они трепанули. Это вы сами делаете такой вывод.
Дальше с ним трудностей не было. Он рассказал, между прочим, что когда забежал в сберкассу, чтоб торопить ребят, — он замерз на ветру, — то забыл пароль, и лишь чудом Веревочкин, притаившийся за дверью, не убил его. Рассказал он и много другого интересного. Выяснилось, что главарем был в общем-то Веревочкин, он и Гришина и Балакина привлек к делу. Книг они не читали, в кино ходили редко. Обычно время проводили- отсыпаясь или, когда были при деньгах, пьянствовали в ресторанах.
Но во всем, что касалось работы, соблюдали дисциплину и организованность. Свою шайку Веревочкин держал в железных руках.
Он, например, организовал изучение одной популярной книги, посвященной криминалистике. Он считал, что там содержатся сведения, которые могут принести пользу начинающим преступникам.
Причем он не ограничивался коллективным и индивидуальным чтением, а устроил экзамены, и, когда обнаружилось, что Гришин плохо усвоил материал, Веревочкин заставил его читать книгу второй раз.
Веревочкин хвастался перед своими сообщниками и перед кое-какими достойными доверия друзьями, что вот, мол, они истинные «медвежатники», грабители сейфов, современные возродители угасшей ныне воровской профессии, которую он считал наиболее романтичной.
Он не замечал, что сейфы, во всяком случае те, с которыми им приходилось иметь дело, теперь не те. Просто крепкие железные шкафы, которые, надо отдать им справедливость, они умело открывали. Но все же это были не сейфы. А когда они впервые в сберкассе столкнулись с настоящим сейфом, то оказались бессильны.
Веревочкин готовил себе помощников: он спаивал подростков со своей улицы, водил их в рестораны, похвалялся своими подвигами. Но осторожно. Намеками, присказками.
Словом, Балакин рассказал немало.
С самим Веревочкиным разговаривать было трудней. Он иронически посматривал на Виктора и молчал. Но это Виктора не смущало. Он неторопливо излагал Веревочкину, как делал это с его сообщниками, все подробности преступлений, в которых Веревочкин участвовал. Только с большими подробностями, со всеми деталями, какие знал. А знал он теперь, по существу, все.
Виктор предугадал защитную тактику Веревочкина, и сказал ему:
— Слушайте, Веревочкин, нам известны все дела вашей компании: и магазин № 84 «Овощи — фрукты», и ателье № 1 Куйбышевского района, где вас лично не было, и сберкасса, и, наконец, ателье № 3 Свердловского района. Так что отрицать что-нибудь бесполезно.
И хотя Веревочкин долго молчал и заговорил лишь после того, как Виктор сам рассказал, как и где все произошло, расчет был правильный: Веревочкин сознался.
Раз сама милиция утверждает, что знает все их дела, а дел таких четыре, что знает всех преступников, то есть троих, то, признавшись, он как бы закрывал все дело. Больше копаться не будут. И в результате он сам дополнил подробностями то, что знал Виктор.
Виктор уже отобрал ряд старых, нераскрытых дел, имевших двух-трехлетнюю давность, в которых — он был в этом совершенно убежден — участвовал Веревочкин и компания.
Необходимо было уличить их.
Дела давно минувших дней
В кабинет Виктора приводили то Гришина, то Веревочкина, то Балакина.
— Как на службу хожу, — усмехался Веревочкин.
— Хоть в чем-то на честных людей похож! — ворчал Виктор.
Постепенно разматывался клубок преступлений — краж, налетов на магазины, кафе, ателье…
Клубок становился все меньше.
— Что же вы, Гришин, такой небритый, — укоризненно встречал Виктор арестованного, — запустили себя. Что, побриться негде? Там же есть рядом с душами…
— Успею еще побриться — у меня впереди времени много, — мрачно бормочет Гришин.
— Это уж точно, Гришин, если вы и дальше так будете себя вести, вам придется изрядно посидеть.
— Отсижу…
— Отсидите. Только можно больше, а можно и меньше. Скажите, Гришин, вы статью тридцать восьмую знаете, пункт девятый?
— Юрка рассказывал…
— Эрудированный человек Веревочкин. Он с вами и уголовное право изучал. Так помните, что гласит пункт девятый?
— Это, как его…
— Вот именно. А следовало бы помнить. За явку с повинной, за содействие правосудию полагается скидка. С повинной вам поздновато приходить, а вот помочь раскрыть преступление вы еще можете. Так как? Может, расскажете уж все дела, а то что ж вы нас заставляете ребусы разгадывать. Пока вам все не расскажешь, вы никак не хотите признаваться. Ну, скажем, кафе «Аэлита».
— А что «Аэлита», начальник? Я же признался, что «Аэлиту» брал. Чего еще-то?
— Что брали, это, между прочим, не вы признались, а мы установили. У нас ведь все время разговор такой: «Нет, не я». Потом я вам изложу, что к чему, тогда: «Ах да, моя работа, признаю…»
— Так ведь на «Аэлите» я…
— Послушайте, Гришин, вы же не один там были, а вы опять за свое: «я» да «я». Когда вы наконец забудете о вашей несуществующей воровской солидарности, нет ее, поверьте!
— Есть…
— Нет. И раньше, чем трижды пропоет петух, вы предадите. Да, да, вы! Я вам это предсказываю.
— Какой петух?
— Неважно, Гришин! Вы не сильны в священном писании? Ну и ладно. Но этот неписаный закон воровского мира вы сами же нарушите. Хорошо, давайте все сначала. Значит, отец Веревочкина навел вас на «Аэлиту».
— Я не сказал, что отец Веревочкина…
— Нет? Видимо, я ошибся. Кто-то другой сказал.
— Володька?
— Почему вы решили, что Володька? Я же вам этого не говорил.
— Ничего, гад, раньше выйдет, раньше за свой длинный язык расплатится!
— Да бросьте, Гришин, не те времена. Давно уже ни с кем за честные признания не расправляются. В особенности те, кто будет сидеть в пять раз дольше, чем те, с кем они собираются расправляться. Так расскажите подробно, как вы проникли в кафе?
— Я же говорил. Люк там грузовой. Замки висячие. Перепилили.
— Долго пилили?
— Да ну, долго! Раз-два, и готово!
— Еще бы, вы же высокой квалификации слесарь, Гришин.
— Был слесарь, — с горечью шепчет Гришин.
— Может быть, и будете. Это ведь от вас зависит. Ни от кого больше.
Наступает молчание.
— Что же дальше было?
— Влез в подвал, темно, чуть не расшибся, нашел еще люк…
— Как это нашли, вы что ж, в темноте искали? И нашли? Такой маленький подвал был?
— Нашел…
— Не валяйте дурака, Гришин, это же смешно. Признайтесь, что отлично знали расположение подвала, знали, где был люк. Все это сообщил вам отец Веревочкина. Что вы его покрываете? Он же все равно сидит и за вашу «Аэлиту» больше, чем ему за другие дела полагается, не получит.
— Ладно, начальник, черт с ним, со стариком! Он навел.
— Что дальше было?
— Через люк пролез в холодильник. Потом в комнату за залом, где касса. Ее ломать-то нечего было: взял нож кухонный поздоровей, и все.
— Все?
— Все.
— Что ж, давайте, Гришин, проедем на место, освежим, так сказать, в памяти.
Они спускаются вниз, садятся в машину и едут в кафе. Едут утром. Кроме директора, их никто не встречает. Виктор, следователь и другие сотрудники уголовного розыска вместе с Гришиным спускаются в подвал через грузовой люк. Подходят к холодильнику.
Виктор, расхаживая за спиной у Гришина, примерился к его фигуре. Съездив еще раньше в «Аэлиту» и ознакомившись на месте с маршрутом, который проделал, по его словам, Гришин, Виктор убедился, что из подвала в один из холодильных залов Гришин проникнуть не смог бы.
И вот они на месте. Виктор внимательно наблюдает за Гришиным. Спокойно, со скучающим видом тот спускается в подвал, находит люк в холодильник, пролезает туда, заходит в один холодильный зал, в другой…
— А туда вы не заходили? — спрашивает Виктор, показывая на последний холодильник.
— Заходил.
— Так идите.
Гришин направляется к узкой щели, служащей входом в холодильник, пытается влезть. Лицо его становится красным от напряжения, он снимает пиджак.
Виктор не торопит его. Он внимательно, даже сочувственно следит за безуспешными усилиями Гришина.
Наконец, махнув рукой, тот надевает пиджак и с досадой смотрит на Виктора.
— Не помню, может, я туда и не лазил. Наверное, не лазил.
— Ну не лазил так не лазил. В конце концов, всего не упомнишь, — замечает Виктор. — Поехали обратно.
Облегченно вздохнув, Гришин спешит покинуть это место, не таившее для него особо радостных воспоминаний.
— Вы что, гурман, Гришин? — задает ему Виктор неожиданный вопрос после возвращения на Петровку.
— Кто? — переспрашивает тот.
— Я говорю, вы гурман, вы любите тонкие блюда? Черную икру, например?
Гришин хмурит брови. Он молчит.
— Так как, любите вы икру?
— Ну люблю, — неуверенно отвечает Гришин.
— Еще бы, — смеется Виктор, — вы тогда прилично подъели ее в «Аэлите». Помните?
Гришин пожимает плечами.
— Помните?
— Помню. Ну и что ж! Жрать захотелось, вот и поел.
— В, наверное, до того неделю голодали. Не помните, сколько съели? Сто граммов, двести?
— Может, и больше.
— Килограмм, два килограмма?
— Не помню уж теперь…
— Так я вам напомню, Гришин, вы съели ни много ни мало — пять килограммов — целую банку! Не вздумайте отрицать: это зафиксировано в протоколе осмотра места происшествия. Мало того, вы настолько торопились есть, что пользовались двумя ложками. Их тоже нашли там.
Гришин молчит.
— А главное, эта банка, которую вы вдвоем навернули, что тоже, к слову говоря, не так-то просто, как раз и находилась в том холодильнике, куда вы не могли пролезть. А уж съев два с половиной килограмма, вы бы оттуда наверняка не вылезли. А?
— Да и четверти не сожрал, — зло выдавливает Гришин, — это Сережка все. Сморчок, и куда столько влезло…
Виктор отлично знает, кто такой Сережка. Все возможные варианты Сережек, Ванек, Петек, вращающихся в орбите шайки, со всеми их биографиями, связями у него в голове. Поэтому он мгновенно задает вопрос:
— Это Тучков, что ли, с хлебозавода? Ему ж семнадцати еще нет. И его затянули? Где ж у вас совесть, Гришин!
Но тот не отвечает; он сидит, низко опустив голову, внимательно глядя на носки стоптанных, грязных модных ботинок…
Так возникает еще одна фигура — Тучков.
Но и это не все.
Очередное свидание с Веревочкиным. Тот словно сам получает удовольствие, наблюдая за тем, как милиция одно за другим раскрывает совершенные им преступления. Он отрицает все. А когда его припирают к стене окончательно, рассказывает уже сам подробно, с охотой. Только припереть его к стене не так-то просто. Это приходится делать каждый раз по-разному. Один раз с помощью железной логики, другой — загнав в ловушку, а порой неожиданностью, психологическим трюком.
— Так, Веревочкин, значит, в отношении магазина на Дмитровском шоссе у нас разногласий нет. Все трое «брали» — вы, Гришин, Балакин. — Виктор настолько тщательно изучил место происшествия и дело, — а произошла кража за год до того, — настолько вдохновенно домыслил все подробности и описал их, что в результате и Гришин и Балакин во всем признались, решив каждый, что признался другой.
— Это уж ваша работа — вопросы задавать, — иронически улыбается Веревочкин, — моя — не отвечать…
— Так ведь ответили же!
— Это уж только, когда деваться некуда.
— А преступнику, уважаемый Веревочкин, рано или поздно всегда деваться некуда.
— Окромя тюрьмы… — ухмыляется Веревочкин.
— Это уж точно, — поддерживает Виктор, — а теперь приглашаю вас прокатиться.
И теперь уже с Веревочкиным, он едет на Дмитровское шоссе, в тот магазин, где была совершена кража.
Но о магазине он думает сейчас меньше всего. Он задумал другое. По пути к магазину находится ателье № 23, где в свое время была совершена кража, оставшаяся нераскрытой. Артистически перепиленные решетки окна, портновские ножницы, которыми были выдавлены дверцы сейфов, — все это не оставляло сомнений. Действовал Веревочкин. Но с кем?
Виктор тщательно все проверил — ни Гришин, ни Балакин участвовать в этом деле не могли. Тучков тогда еще с шайкой связан не был. А между тем в налете на ателье участвовали минимум двое. Так кто же был второй?
Дело давнее. Восстановить картину оказалось невозможным. Во всяком случае, с той степенью достоверности, без которой Веревочкина не заставишь признаться.
И вот Виктор придумал ход.
Получится или не получится? Сейчас все решится. Внешне спокойный, он рассеянно смотрит в окно машины, но сам весь в напряжении.
Веревочкин погружен в свои мысли. Подняв воротник, засунув руки в карманы модного пальто, он мрачно смотрит перед собой.
О чем он думает?
О той самой веревочке, которой сколько ни виться?..
Или о бесцельности немногих прожитых лет? Или, что, если б начать все сначала, он бы поступил иначе?
А быть может, он думает о том, что его ждет? О неотвратимости наказания?
О чем вообще думает преступник, когда он пойман?
Неожиданно Виктор кладет ему руку на колено и иронически смотрит в глаза.
— Глядите внимательно, Веревочкин… — И Виктор кивает в сторону мелькающих мимо машины домов.
— Чего глядеть-то? — ворчит Веревочкин.
— Как бы не пришлось разворачиваться обратно. А то здесь далеко до разворота.
В этот момент машина как раз минует ателье № 23. Накануне они дважды проехали здесь с шофером, прорепетировав сцену и рассчитав ее по секундам.
Внезапно оторванный от своих невеселых дум, Веревочкин смотрит в окно, и первое, что ему бросается в глаза, это вывеска: «Ателье № 23». Он быстро поворачивается к Виктору и встречается с его ироническим взглядом.
— Что, и это знаете? — удивленно и тоскливо спрашивает он.
— Пора бы уж привыкнуть, что мы все знаем, — скрывая торжество, бросает Виктор. И, обратясь к шоферу, добавляет: — Давай, Коля, заедем, пожалуй, сначала в ателье, а потом уж дальше двинем. А то возвращаться потом…
Они выходят из машины. Веревочкин жадно вдыхает холодный воздух. Неторопливо рассказывает, как было дело.
— Что ж, вы вдвоем справились? — спрашивает Виктор.
— Как вдвоем?
— Не знаю как, Гришин вот говорит, что вы вдвоем были, а я сомневаюсь.
Веревочкин морщит лоб, стараясь быстрей сориентироваться.
— Вдвоем, — наконец подтверждает он, — а чего сомневаться-то?
— Неужели один не справился бы? — Виктор, словно удивляясь такой беспомощности, оглядывает Веревочкина.
— Может, и справился бы, — осторожно отвечает Веревочкин.
Он недоумевает: почему Гришин взял на себя вину за эту кражу, коль скоро он в ней не участвовал? Ага, ясно, чтоб как-нибудь не всплыл Валерий.
— А может, вы со своей тенью работали, Веревочкин? Или себя одного за двоих считаете?
— Чего?
— Как — чего? Гришин-то не был с вами. И никак не мог быть. Уж если это нам известно, то вам-то тем более. Так что вы припомните-ка лучше, кто был.
Веревочкин некоторое время молчит, потом усмехается:
— Вы меня купили, и я вас купил. Один работал!
— И много взяли? Ведь вы тогда еще вещичками не брезговали.
— Что ни взял, все мое…
Виктор вынимает из кармана вчетверо сложенный листок.
— Так, — начинает он не спеша, — «пальто зимних — три, пальто демисезонных — четыре, костюмов четыре, отрезов…»
Закончив читать, он поднимает на Веревочкина глаза.
— Список точный, составлен сразу же на месте, да и батюшка ваш уважаемый, который все это по вашему поручению на рынке ликвидировал, подтверждает. Одного не понимаю — как это вы в одиночку столько вещей вынесли. Ведь посмотришь на вас и не скажешь, что чемпион по штанге. — Виктор делает паузу, а потом другим, сухим, деловым тоном спрашивает: — Так кто был ваш сообщник, Веревочкин? Кто был?
Молчание.
— Не валяйте дурака, Веревочкин, вы же сами прекрасно понимаете, что это глупо.
Веревочкин еще долго молчит, но в конце концов не выдерживает и называет своего напарника по этому делу, пятого и последнего члена шайки — Шарова. Впрочем, Валерий Шаров, как выяснилось в дальнейшем, был не пятым, а первым. Опытный рецидивист, он-то и втянул в преступление и Веревочкина и Гришина. Вместе они начинали.
Но как-то, пытаясь совершить кражу в магазине «Ткани», они были застигнуты врасплох милицией, Веревочкину и Гришину удалось скрыться, а Шаров попался.
(Между прочим, с тех пор они и дали себе зарок: никогда ничего, кроме денег, не брать — зарок, столь опрометчиво нарушенный Балакиным.)
На следствии и позже, на суде, Шаров взял все на себя. Он, упрямо и тупо блюдя закон воровской солидарности, утверждал, что воровал один, хотя был пойман подле пяти набитых чемоданов.
Сейчас он отбывал срок.
Воровской закон оказался липовым. Веревочкин после недолгого запирательства рассказал о Шарове. Теперь Шарову предстояло вернуться в Москву на новый суд, а затем добавить к немногим оставшимся ему годам заключения еще солидный срок.
За Шаровым, опытным рецидивистом, числилось не одно преступление. Какие-то он признал, какие-то — нет. Но сейчас, когда возникла в деле Веревочкина его зловещая фигура, целый ряд эпизодов прояснился, и многое дотоле тайное стало явным.
Одиннадцать минут
…Вечером Виктор задерживался в своем кабинете. Перед ним лежали все материалы по делу Веревочкина, подготовленные для следователя. Вот и оправдалась пословица — наступил веревочке конец.
Наступил конец бессонным ночам, внезапным выездам, мучительным анализам и обдумываниям, когда голова пухнет от мыслей.
Закончилось одно дело, чтобы уступить место новому…
Виктор уже уходил домой, когда раздался телефонный звонок. Говорил подполковник Данилов.
— Ко мне, Виктор Иванович, быстро. Дело серьезное!
Дело действительно было серьезным. Хотя началось все спокойно, даже весело, под звуки вальса и задорного смеха на вечере в одной из типографий, что на Большой Переяславской улице, недалеко от проспекта Мира.
Было Восьмое марта — женский день. Первые весенние цветы. Хороший вечер, веселый и дружный. Без четверти одиннадцать Женя и Галя покинули вечер. Галя попала на вечер случайно: ей дали пригласительный билет в издательстве, где она работала курьером; она жила далеко, пора было возвращаться домой. А Женя, сын работницы типографии, жил в двух шагах. Они неторопливо шли по ночной улице и болтали. О чем? Ну о чем болтают двое семнадцатилетних, познакомившихся два часа назад и без устали два часа танцевавших?
Когда поравнялись с домом, в котором жил Женя, небольшим, одиноко стоившим двухэтажным особняком, Галя спохватилась:
— Ой, ни копейки нет — все в буфете оставила!
Женя пошарил по карманам и смущенно помялся: он тоже обнаружил, что его финансы в таком же положении. Бывает…
— Погоди минутку, — сказал он, — сейчас забегу домой, возьму. — Он улыбнулся ей и скрылся в подъезде.
Улыбнулся последний раз в жизни.
Галя остановилась на противоположном тротуаре и, устремив взгляд вдоль улицы, стала прислушиваться к ночной тишине, к доносившимся откуда-то издалека немного грустным звукам гитары.
А Женя тем временем, посвистывая, быстро забежал в квартиру, взял у матери мелочь, поцеловал в щеку, уже у двери крикнул: «Мировой вечер! Скоро вернусь», — и выбежал на улицу.
Он вернулся через две минуты. Услышав несколько слабых, странных ударов в дверь, мать открыла — Женя бездыханным упал к ее ногам. Мать Жени, его сестра, соседи, поднятые криком, выбежали на улицу. Но улица была пуста. Только напротив дома одиноко маячила девичья фигурка.
Когда Виктор прибыл на место, он без труда установил подробности преступления. Убийцы (а может быть, убийца) или прятались в соседнем подъезде, или подбежали из переулка, выходившего на Переяславскую. Они нагнали Женю, ударили ножом и убежали. Стена дома в том месте, где они совершили свое страшное преступление, была забрызгана кровью.
Женя из последних сил сумел добраться до своей квартиры, но эти усилия стоили ему жизни.
Непонятным оставалось одно: Галя, рыдая, захлебываясь слезами, твердила, что ничего не видела и не слышала.
Работники милиции только пожимали плечами: как мог человек, стоявший в десятке метров от места преступления, на пустой улице, не увидеть, а тем более не услышать, как было совершено убийство? Это была ложь, причем глупая, безнадежная, непонятная. Но Галя с поразительным упорством стояла на своем. Да, ждала, смотрела вдоль улицы (правда, в противоположную сторону от переулка), да, слышала гитару. И все! Только когда мать и сестра Жени выскочили на улицу, она узнала, что случилось.
Галю допрашивали, втолковывали ей нелогичность ее показаний, объясняли, что лично ее никто не винит, убеждали, что если она боится мести убийц, то ее сумеют надежно охранить. Ничего не действовало. Она продолжала твердить свое.
Первый, кто поверил ей, был Виктор. Милиция мгновенно установила личность Гали, девушки, о которой на работе, в доме — всюду говорили только хорошее. Да и в район этот она попала случайно, впервые.
Но если Галя непричастна к убийству, то кто же убил, а главное, почему?
Одну за другой выдвигали работники уголовного розыска версии и сами же одну за другой отвергали их.
Женя был прекрасный парень, плохих знакомств не водил, работал и учился в вечерней школе. Кроме матери и сестры, у него никого не было, отца только что похоронил. Он был не очень общителен. И сколько ни копались, отыскать у него не только врагов, а просто недоброжелателей оказалось невозможным.
Тогда ревность? Кто-то, Галин поклонник, сделал это в порыве ревности? Но и эта версия рассыпалась в прах. Во-первых, никто не мог знать, что Галя пошла на этот вечер: получив билет, она даже не успела зайти домой. Как уже говорилось, дом ее и круг ее друзей располагались совсем в другом районе города. Был у нее юноша, с которым она дружила больше, чем с другими, но он служил сейчас в армии.
Об ограблении нечего было и думать. А если б речь шла о драке, то все это заняло бы куда больше времени и наверняка сопровождалось шумом и криками.
И тогда Виктор выдвинул версию об ошибочном убийстве. Женю приняли за другого, кого подстерегали и хотели убить.
Кого? Разумеется, кого-то, кто жил в этом доме. Но оказалось, что в этом доме не проживал никто, кого можно было бы спутать с Женей, — одни женщины, два старика, несколько ребятишек. Да и всего-то там было четыре квартиры.
Но при проверке жильцов выяснились интересные обстоятельства. На втором этаже проживали мать и две взрослые дочери. Это была непутевая семья. Мать ни раньше, ни теперь не отличалась строгими нравами, пила, бездельничала, сквозь пальцы смотрела на поведение своих дочерей, а то и сама принимала участие в вечеринках, которые постоянно происходили в квартире. Девушки не учились, их интересовали лишь модные пластинки, заграничные тряпки, кавалеры, танцы.
В квартире у них постоянно толкались какие-то длинногривые бездельники. Бывали дни, когда у них проводили время две-три компании одна за другой.
Вот и в тот день оказалось, что в четыре часа к сестрам пришли трое дружков, в том числе очередной «официальный» поклонник старшей, Тани, — Русаков. Но и в этом категорически сходились все жильцы квартиры, ребята как пришли, так до полуночи не выходили. А Русаков даже ушел в десять часов. Двое же оставшихся вместе со всеми жильцами дома активно принимали участие в драматических событиях, звонили в милицию, перенесли Женю в комнату.
Виктор и его товарищи стали тщательно проверять всех, кто бывал у сестер. Перед ними прошло немало подозрительных и просто плохих парней. Естественно, допросу подвергли и Русакова, Он несколько сбивчиво объяснял, что ушел в десять вечера, так как договорился с ребятами с завода идти назавтра в туристский поход и должен был накануне уточнить все детали. Наметили встретиться у кинотеатра. Но они почему-то не пришли, и он отправился спать. В двенадцать был дома. Жильцы подтвердили это. А вызванные и допрошенные ребята подтвердили все остальное.
Сам Русаков, восемнадцатилетний токарь, в общем производил неплохое впечатление.
К тому же выяснилось, что Женя ни с кем из троих гостей знаком не был.
Виктор не спал, ночами обдумывая всевозможные варианты. Может быть, это как раз с Русаковым или с кем-то из его двух дружков хотели расправиться?
Неожиданно в этом темном лабиринте блеснул свет.
Один из многих десятков парней, в разное время бывавших у сестер на квартире, некий Мальков, хулиган, терроризировавший соседние дворы, признался, что в тот день с приятелем, слегка навеселе, решил зайти к Тане. Узнав, что пришел Мальков, мать выгнала его. Но Мальков сквозь приоткрытую дверь заметил в комнате незнакомых парней, услышал смех, музыку. Он стал звать Таню, мать вытолкала его. Тогда разозленный таким приемом, он грубо обругал Таню и пригрозил, что расправится с ее гостями.
Теперь возникала версия, приобретавшая реальные формы. Мальков с приятелем решили выполнить свою угрозу. Они притаились, а когда увидели выходящего Женю, приняли его за одного из Таниных гостей и убили.
Осталось проверить времяпрепровождение Малькова в вечер убийства.
А утром к Виктору явился смущенный Русаков и попросил его принять.
— Виктор Иванович, — сказал он, краснея, — простите, обманул вас и ребятам велел. Но я один виноват. Честное слово, просто стыдно было признаваться. Понимаете… в милицию попал. Словом, очень нехорошо получилось…
Выяснилось, что ребята наврали. Они-таки встретились, но поссорились. Назавтра турпоход, а друзья выпили, и Русаков стал их отчитывать. Расшумелись так, что всех забрали в милицию. Было это в одиннадцать часов вечера. Ребята покаялись, просили извинить, и около двенадцати их выпустили.
Но стыдно в таком деле было признаваться, и потому они вначале сказали, что не встретились, словом, наврали всякую чепуху.
Виктор тут же снял трубку и позвонил в отделение. Там подтвердили: да, часов в одиннадцать была задержана компания, в том числе и Русаков, потом их выпустили.
Теперь невиновность Русакова становилась очевидной. Оставался Мальков.
Обхватив голову руками, Виктор думал. Что-то было не так, что-то смущало его. «Заноза в мозгу», как говорил он в таких случаях.
Уж как-то очень гладко и точно Русаков с друзьями оказался в милиции в момент убийства. И почему не сказать об этом сразу? Он же понимал, что Виктор проверит, что он делал с десяти до одиннадцати вечера.
Виктор снова снял трубку и позвонил в отделение. Он потребовал опросить всех, кого можно, дежурных, мотоциклистов, случайно задержавшихся милиционеров, уборщиц: не заметил ли кто точного, а не приблизительного времени, когда в отделение привели буянов. Вскоре позвонил один из работников детской комнаты и сообщил, что, случайно задержавшись допоздна в отделении, он как раз покидал его, когда привели Русакова и компанию. Торопясь на электричку, работник этот посмотрел на часы: было одиннадцать минут двенадцатого.
Виктор заложил руки за голову и откинулся в кресле. Вот и все.
Разумеется, еще предстоит немалая проверочная работа, но знакомое чувство уверенности охватило его. И когда раздался телефонный звонок и один из помощников Виктора огорченным голосом сообщил, что у Малькова «железное» алиби и ни он, ни его приятель совершить преступление не могли, так что эта версия отпадает, Виктор почти радостно (что немало удивило его товарища) поблагодарил.
А вечером на Переяславской улице четверо молодых людей торопливо выходили из подъезда двухэтажного одинокого особняка, быстро шли к троллейбусу, вскакивали в него, доезжали до остановки, рядом с которой расположено отделение милиции. После чего, сев в ожидавшую их здесь машину, возвращались на Переяславскую и начинали все сначала. При этом они беспрестанно поглядывали на часы. Следственный эксперимент показал: от Жениного дома до троллейбуса три минуты быстрой ходьбы, максимальный интервал в движении на линии в это время суток — четыре минуты, езды до милиции три минуты. Итого десять. А если они не шли, а бежали и если им не пришлось ждать троллейбуса, то шесть-семь. Еще одна-две минуты на скандал. Как ни крути, одиннадцать минут было вполне достаточно Русакову, чтоб совершить преступление, а потом добраться до отделения и создать себе алиби. Но почему он убил?
Когда личность Русакова стали изучать особенно тщательно, то выяснилось, что на заводе он выточил два ножа, из которых один кому-то отдал, а судьба второго осталась неизвестной…
И вот Русаков опять сидит перед Виктором — аккуратно причесанный, элегантный, в узконосых модных ботинках, в коротком пальто, без шапки, несмотря на еще холодную пору.
Он смотрит на Виктора чуть-чуть нагловатым, спокойным взглядом. Он уверен в себе. Такое алиби — милиция! Виктор не спешит начать этот последний допрос. Он размышляет. Красивый парень, хорошо зарабатывающий, хорошо одетый, который нравится девушкам, перед которым столько путей… Так нет же, из всех девушек он выбрал самых грязных, из всех друзей — самых дурных, из всех дорог — самую черную: дорогу преступления.
— Ну что ж, Русаков, — Виктор вздыхает, — начнем наш последний допрос. Мы его построим необычно. Вы будете молчать, а я вам рассказывать. И только в конце вы ответите мне на один-единственный вопрос. Постараюсь говорить покороче. Итак, восьмого марта вы втроем пришли к Тане. Около десяти туда пришли Мальков с другом. Их не пустили, и, уходя, они пригрозили вам. Оставив своих дружков, вы отправились за подмогой. Зная, кто такой Мальков, и боясь с его стороны расправы, вы решили расправиться с ним раньше. Вооружившись ножом, вы явились с вашими друзьями к дому в тот момент, когда из него выходил Женя. В лицо Малькова из вашей компании знали только двое, а вы наверняка шли впереди. Вы подбежали к Жене и, хотя он был один, а вас много, хотя вы не знали наверняка, кто он, не раздумывая, ударили его ножом. Все произошло так быстро и тихо, что стоявшая к вам спиной Галя ничего не услышала. А теперь ответьте на мой единственный вопрос — где нож?
— Я бросил его в сугроб… — прошептал побелевшими губами Русаков.
Наверное, теперь следовало бы, закапчивая повесть, по традиции рассказать о том, как утром Виктор раскрыл окно своего кабинета и, «устремив взгляд усталых, умных глаз» на предрассветную Москву, подумал про себя: «Как хорошо, что москвичи могут мирно спать, избавленные от таких выродков, как Веревочкин или Русаков». И, включив радио, услышал утренний бой кремлевских курантов…
Но я закончу ее иначе.
Виктор действительно лег поздно, а потому поздно встал на следующий день. Это было воскресенье, они еще накануне поссорились с женой, потому что Виктор хотел идти смотреть мотогонки на льду, а она предложила пойти на лыжную прогулку. Виктор тогда резко бросил: «Раз я сказал, что пойду на мотогонки, значит, пойду!» — и хлопнул дверью.
…И вот сейчас, звенящим морозным днем, они мчались по сверкающей лыжне навстречу синеющим вдали елям, навстречу ослепительно белым полям, где метель начисто замела все ночные следы…
Разумеется, хотелось бы подробней рассказать о товарищах Виктора, его помощниках и о том, как расследовались дела, о которых шла речь выше. Увы, в короткой повести всего не скажешь. Просто я пересказал здесь читателю некоторые эпизоды из жизни Виктора Тихоненко, о которых он поведал мне во время наших встреч.
1967 г.
1978 г.
Ныне кандидат юридических наук полковник милиции Виктор Иванович Тихоненко является ответственным работником в штабе Министерства внутренних дел СССР.
ЛИШЬ БЫ НЕ ОПОЗДАТЬ Повесть
Лена
25 сентября 196… года в толстый журнал регистрации дежурного ГАИ по городу Москве твердым крупным почерком было записано два происшествия.
Первое случилось в 18.50 на одной из больших площадей, расположенных по улице Горького. Второе — в 19.10 на Беговой улице, при выезде из туннеля, что пролегает под Ленинградским проспектом.
В первом случае легковой автомобиль марки «Волга», принадлежащий частному владельцу, получил сильные повреждения. Во втором транспорт не пострадал.
И в том и в другом водители машин остались живы.
В первом случае погибли трое, во втором — один человек, тем не менее первого водителя оправдали, а второго спустя восемь месяцев приговорили к длительному отбыванию в тюрьме.
Он получил по заслугам — это был убийца. Виновник же гибели троих — девушка наказания не понесла. Она и ныне спокойно занимается своими делами. Совесть ее не мучает. Но попробуйте заговорить с ней о шоферах-пьяницах, лихачах, нарушителях — вам станет не по себе от ненависти, звучащей в голосе этого человека. Она считает, что всех их надо расстреливать, нет, лучше вешать, всех до одного!
Такие чувства можно понять: те, кого эта девушка так ненавидит, отняли у нее любимого человека.
Как ни печально, происшествия, о которых рассказывается в этой короткой повести, действительно были. И люди, о которых идет речь, существовали или существуют. Быть может, они не совсем такие, какими их описывает автор, и не совсем так провели тот роковой день, и наверняка иные у них имена, но, в конце концов, разве это так уж важно?
— Ой, девчонки, как в кино! Честное слово! Ох…
Лена задыхалась от переполнявшего ее желания поделиться сенсацией с Валей и Ниной.
Их было трое: Валя, серьезная и обстоятельная, Нина, доверчивая и восторженная, и Лена, легкомысленная и самоуверенная. Во всяком случае, таковы были неофициальные характеристики, которые выдало им общественное мнение курса. Были, разумеется, отклонения, как и во всяком общественном мнении, так сказать, крайние точки зрения. Ну, например, Олег считал, что Мина жестока и коварна, а Юрка обвинял Валю в легкомысленном и несерьезном отношении к его большим и вечным чувствам. Многие девочки находили за Леной кое-какие грехи, но, наверное, сами грешили против объективности, потому что была Лена уж слишком красивой и слишком нравилась всем мальчикам. Но общественное мнение, хоть и составляется из мнений индивидуальных, все же, как правило, отражает действительную картину, так как крайние точки зрения отбрасывает, как в судействе по фигурному катанию.
Общались друг с другом на курсе все, но одни дружили больше, другие меньше. Валя, Нина и Лена составляли одну из самых дружных компаний. Вместе ездили в институт, поскольку жили в одном доме, вместе готовились к занятиям, вместе обсуждали и порой решали «мировые проблемы»: например, где встречать Новый год, какое надеть платье и как сказать Юрке, что взаимных чувств к нему нет…
Секретов друг от друга у подруг не было, хотя каждое признание начиналось с неизменного требования: «Только дай честное слово, что никому…»
В начале сентября какие занятия! Но эта зануда лексичка уже задала приготовить диалог. Проект основы — выражаясь парламентским языком — был, как всегда, составлен Валей; Нина внесла в него немногочисленные, но полезные поправки, а когда все было готово, примчалась с опозданием, тоже как всегда, Лена.
Лена действительно была очень красивой — высокой, с хорошей фигурой, с блестящими черными волосами, спускавшимися по новой моде до середины спины; юбка, которая была «миней мини», обнажала загорелые после южного отдыха ноги. Губы Лена не красила, они и так у нее были яркими. Зубы на загорелом лице сверкали, черные глаза сверкали, сверкало какое-то огромное кольцо, подаренное ей, как она таинственно намекала, отвергнутым вздыхателем, а в действительности купленное отнюдь не за миллионы на сочинском базаре у цыганки. Словом, Лена вся сверкала.
— Погоди… — Валя недовольно поморщилась. — Вот мы тут разыграли диалог…
— Ой, Валька, ну ты не можешь подождать со своим диалогом? Ей-богу, девчонки, такое дело…
— Но ведь завтра…
— Ну послушай, Валь, ну, пожалуйста! Я чуть в милицию не попала.
— Ой! — испуганно пискнула Нина.
Столь невероятное сообщение заставило замолчать даже строгую Валю.
— Только не ворчите. — Лена понизила голос до шепота. — И потом, дайте честное слово, что никому, даже…
— Да что ты, правда, мы ж могилы, — запротестовала Нина, — уж по части хранения тайн ты нас с Валькой знаешь…
— Вот именно, знаю. Ну да ладно, — смилостивилась Лена. — Помните, я в среду мрачная пришла? Ну когда декан заболел, ну же, ну кофточка на мне была гипюровая, ну…
— Ну помню, — сказала Валя, которая всегда все помнила, — кофточка с отложным…
— Вот, вот! — закивала Лена. — Так это потому, что я чуть штраф не заплатила!
— Что значит «чуть»? — спросила Валя, не любившая незаконченных формулировок.
— Началось все с того, что я забыла в автобусе пятак опустить. Вдруг контролер подходит. Ей-богу, десять лет езжу, первый раз контролер — как раз когда забыла билет взять…
— Ты их никогда не берешь, — заметила Валя.
— Сама ты не берешь! Ну, слушайте. Вытаскивают меня на тротуар — хорошо, народу никого, денег у меня нет, документов нет, что я студентка — не верят… Тут как раз проезжает лейтенант на мотоцикле. Милицейский лейтенант. Словом, бросили меня контролеры ему в объятия, а сами на следующий автобус сели и уехали.
— Ну и что, он тебя на мотоцикл и в милицию? — предположила Нина.
— Да нет! Минут десять стояли, он все пилил меня: студентка, а без билета, и документов не возит, и правила нарушает, и т. д. и т. п. Я слушаю и не пойму: то ли он серьезно, то ли смеется. Брови нахмурил, но, я чувствую, внутри улыбается…
— Про себя, — поправила Валя.
— О господи, ну про себя! Отчитал и говорит под конец: «Идите, гражданка, и больше не нарушайте!» Помолчал и добавил: «Документы с собой носите, а то как потом узнать, где такая красавица живет». И улыбнулся. Он, девчонки, красивый до чего! Рост — ну, ну, ну вот под дверь. Зубы, нос, глаза — как этот, помните, в «Римских каникулах» играл? Ну помните?..
— Грегори Пек, — сказала Валя.
— Так он же старый, — разочарованно вздохнула Нина.
— Ну а этот в молодом варианте. — Лена не любила менять своих мнений. — Уехал он, а я стою красная как рак. Хорошо, никого не было.
— Ладно, — рассудительно констатировала Валя, — это было в прошлую среду, а сегодня понедельник, так при чем тут…
— А при том, что я его сегодня встретила! — торжествующе воскликнула Лена. — Идет — красивый, высокий, штатский. В смысле в штатском костюме. И, между прочим, модном! Я его сразу узнала. И он. Подходит как ни в чем не бывало и говорит: «Здравствуйте, товарищ нарушитель! Разрешите представиться — Никитин Валентин» (твой тезка, Валька, слышишь?). Я стою как дура, руку протянула, бормочу: «Лена Зорина. Здравствуйте». Самой противно, словно опять из автобуса меня вывели. «Вы в институт, Лена Зорина, или из института?» — «Из института», — говорю. «Тогда разрешите вас пригласить вот хоть сюда, в „Космос“, если вы любите мороженое. Я недолго задержу, просто чтоб вы убедились, что вне службы я не такой уж зануда. Пойдемте?» — «Пойдемте», — говорю. Вот потому и опоздала.
— А он влюбился? — с придыханием спросила Нина.
Лена смущенно опустила глаза.
— А ты влюбилась? — Нина даже скинула туфли от волнения и поджала одну ногу под себя.
Последовала новая пантомима — Лена пожала плечами, устремила взгляд в потолок…
— Ну а дальше-то что, дальше? — Нина поджала вторую ногу, оперлась на руки. Теперь на диване у нее была поза бегуна, приготовившегося к низкому старту, когда команда «Внимание!» еще не последовала.
— Знаете, девочки, честное слово, я так интересно еще ни разу время не проводила… Ну, в общем, он такой интересный! Он все знает, институт кончил заочно, машину водит, стрелять умеет…
— Стрелять умеет? Для милиционера это странно, — иронически перебила Валя.
— Нет, честное слово, девчонки, я такого еще не встречала. С ним обо всем можно поговорить — все понимает, а анекдотов знает… Вот, например: заходят двое в вагон…
— Да погоди ты со своими анекдотами! — Нине не терпелось услышать продолжение. — Чем кончилось-то? Договорились встречаться?
— Договорились. Завтра после дежурства идем в кино.
— Значит, влюбилась, — удовлетворенно констатировала Нина.
Но Лена пропустила это замечание мимо ушей.
— Проводил меня, — закончила она свой рассказ, — еще цветы купил, телефон записал…
— Значит, влюбился, — сказала Нина.
— Ну и что? — Лена раскраснелась. — «Влюбился, влюбилась»! У тебя только две краски: черная и белая…
— Бывают и оттенки чувств, — вставила Валя.
— Вот именно! — Лена осуждающе посмотрела на Нину. — Оттенки. Может, и влюблюсь, может, замуж за него выйду, и у нас будет сто детей, и все лейтенанты. Пока здорово с ним, ни с кем так не было. А завтра сходим в кино — и выяснится, что он мне надоел… Или я ему, — закончила она грустно.
Обсуждение сенсации заняло весь вечер. Были рассмотрены всевозможные варианты будущих встреч, разговоров, признаний, даже предложений выйти замуж. Остановились на разборе вопроса, где молодожены должны жить — у Лены или у Валентина, как его уже все называли, будто старого знакомого.
Старик
Степан Степанович Степанов ничем особенным не выделялся. Ну что это за имя, отчество и фамилия — кругом Степан! Степан в кубе.
И внешность у него была неприметная: худой, среднего роста, лысоватый, стрелка на весах после еженедельного субботнего похода в Сандуны еле до шестидесяти пяти доползает…
И профессия самая обыденная — кассир. Вернее, бывший кассир. Впрочем, нынче общественное положение Степана Степановича было еще более неприметным — пенсионер.
Нет того чтоб какой-нибудь Феликс или Святослав по имени, генеральный конструктор, или стратегический разведчик, или хотя бы заслуженный артист по профессии. И чтоб рост метр эдак девяносто, кудри там, бицепсы. Увы, ничего этого не было.
Но на жизнь Степан Степанович отнюдь не жаловался. Была жена-старуха, с которой, слава богу, четыре десятка лет душа в душу прожил. Дети были, внук… Были три десятка лет честной службы без единой недостачи, была за плечами война — долгий путь от Москвы до Вены, одиннадцать наград и ни одного ранения. Мало кто мог поверить, что тихий и не богатырского сложения Степан Степанович всю войну был фронтовым разведчиком, десятки раз ходил во вражеский тыл, захватил небось за четыре года целый батальон «языков». И, что того удивительней, не получив ни единой царапины.
Степан Степанович вел весьма размеренный образ жизни, что свойственно, говорят, многим счетным работникам.
По-прежнему, уже выйдя на пенсию, вставал рано, всегда в одно и то же время, шел с внуком гулять, с удовольствием обедал, после обеда посиживал с такими же, как сам, пенсионерами на Тверском бульваре, вспоминая былые дни, былые сражения — военные, футбольные, шахматные.
По вечерам подолгу засиживался у телевизора. Привычки были давние, устоявшиеся и многочисленные. В том числе и дарить внуку с пенсии подарок. Каждое пятнадцатое число Степан Степанович, получив в сберкассе № 7982 свои восемьдесят целковых, заходил в магазин детских игрушек, что в двух шагах от сберкассы, и что-нибудь покупал — барабан, мишку, пластмассовую пожарную машину.
Возвращаясь домой, заранее радовался, предвкушая зрелище задранного носа-пуговицы, румяных щек и громаднющих сияющих глаз, устремленных на деда в радостном ожидании.
Вот и сейчас Степан Степанович торопился — до закрытия магазина едва оставалось десять минут, — вспоминая на ходу сенсационное событие.
Событие заключалось в том, что встретил он сегодня друга-однополчанина, привел его с собой на бульвар, перезнакомил с другими стариками и долго с наслаждением слушал, как тот рассказывал всем о его ратных подвигах. Не врал, не преувеличивал, рассказывал честно.
Приятно все же. Самому ведь нельзя свои дела комментировать, ну там похвалиться кое-где, хоть и не грех. Неудобно как-то. А так другой рассказывает, что хочет, то и говорит.
Особенно красочно друг излагал необычный эпизод военной биографии Степана Степановича, связанный с захватом немецкого капитана.
— Да, — не спеша повествовал он, поглядывая на собравшихся на скамейке пенсионеров, — наш Степа время даром терять не любил. Вот был у него случай с капитаном-фрицем.
Степан Степанович заранее начал улыбаться, а летописец продолжал свой рассказ.
Дело было летом, в период относительного затишья на фронте, когда обе стороны всеми способами старались выяснить намерения друг друга. То и дело наши разведчики переходили линию фронта, а дня через два-три возвращались обратно, приводя «языка», принося записи наблюдений. Или не возвращались…
В ту ночь сержант Степан Степанов с двумя бойцами сумел пробраться к немцам в тыл — преодолели колючку, проползли по минному полю, тихо миновали сторожевые посты так близко, что слышали немецкую речь. На рассвете очутились в лесочке, в километре за линией фронта. Тут осуществили задуманную хитрость. Степанов закопал каску, автомат, нацепил на голову окровавленный бинт и, заложив руки за спину, босой, понурый, двинулся по дороге. За ним, одетые в немецкую форму, с автоматами под мышкой шли его бойцы.
Один из них, до войны учитель немецкого языка, грозно покрикивал на «пленного», как только кто-нибудь попадался навстречу. Так разведчики собирались «пройтись» по расположению противника, а в случае удачи на обратном пути прихватить «языка».
Но пройтись пришлось лишь метров пятьсот. Неожиданно за поворотом, скрытым густым кустарником, раздался рокот мотора, какая-то возня, стук, голоса. Снова взревел мотор, шум затих, машина, видимо, уехала, оставив кого-то на дороге.
Степанов и его товарищи смело продолжали путь.
Завернув за кустарник, они остановились, пораженные: навстречу им шел немецкий солдат в разорванном кителе, без головною убора, а за ним два красноармейца в пилотках, с автоматами в руках. Они двигались в сторону передовой.
Некоторое время обе группы стояли молча, настороженно разглядывая друг друга. Первым среагировал «пленный» немец. Замахав руками, он завопил, обращаясь к конвоирам Степанова:
— Не стреляйте! Свои! Я капитан Мюзеолек! Не стреляйте!
Разведчики ничем не выдали себя. Бывший учитель, щелкнув каблуками, доложил капитану, что так, мол, и так, ведут пленного советского сержанта в штаб. Капитан усмехнулся, улыбнулся, захохотал. Заулыбались сопровождавшие его «красноармейцы», потом «немецкие конвоиры». Один Степанов мрачно смотрел себе под ноги.
— А? Ничего придумали? — веселился капитан. — Сейчас переберемся к Иванам и будем вот бродить, штаб искать… Курт, — он кивнул в сторону одного из «красноармейцев» — знает русский, как Лев Толстой. Поищем штаб до вечера и обратно. А? Ничего! А?
— Замечательно придумано, господин капитан! — Учитель немецкого языка восхищенно качал головой.
Капитан выпятил грудь, но тут же внезапно сник, зашаркал сапогами, вобрал голову в плечи, жалобно заныл: «Рус, рус, не стреляй!», изображая перепуганного пленного.
Потом опять захохотал. Наконец величественным жестом отпустил встреченных солдат и, указав на Степанова, сказал:
— Передам там от этого привет.
Продолжая шутить, немцы собрались двинуться дальше.
И тут случилось неожиданное. Из-за поворота выскочил мотоцикл — шум его никто не услышал за смехом и разговорами. На мотоцикле сидели полевые жандармы. Тяжелые шлемы были опущены на самые глаза, металлические нагрудники подскакивали в такт движению. Никто не успел опомниться, как сидевший в коляске жандарм очередью из автомата скосил сопровождавших капитана «красноармейцев».
Нисколько секунд все молчали. Наконец старший жандарм подмигнул и воскликнул:
— Ну как, выручили? Растяпы! Я сразу понял, что они вас на прицеле держат. Ничего, не ушли…
Капитан взорвался. Брызгая слюной, он орал на своих незваных избавителей, обвиняя их в срыве ответственной операции, в убийстве немецких солдат.
— Где я теперь найду второго Толстого! — бушевал капитан.
К сожалению, он забыл представиться, он забыл, что по-прежнему выглядит солдатом в разорванном кителе. Один из жандармов напомнил ему об этом, ударив наотмашь по лицу.
— Как говоришь с фельдфебелем, свинья! — рявкнул он.
Капитан мгновенно преобразился. Он заговорил вдруг ледяным высокомерным тоном, сообщил, кто он, потребовал у жандармов документы, зловеще улыбаясь, пообещал им полевой суд.
Жандармы переглянулись. И вот тогда мгновенно прореагировал Степанов. Он первым разгадал намерение жандармов, и, когда фельдфебель поднял автомат, целясь в капитана, Степанов уже был рядом и, выхватив висевший у немца на поясе нож, ударил. Очередь ушла в небо.
Второй жандарм успел выстрелить в учителя. Это было последнее, что он успел сделать, — пущенный Степановым нож вонзился ему в горло.
Все это длилось мгновение. Степанов наклонился над своим раненым бойцом… Впрочем, рана оказалась легкой. Теперь на дороге были четверо: немецкий капитан в разорванном кителе, советский сержант с забинтованной головой и еще двое советских бойцов в немецкой форме.
Капитан сообразил не сразу, но реакция его была неожиданной. Указав на Степанова, он властно приказал:
— Расстрелять мерзавца! Он убил солдат рейха. Расстрелять!
Но ни Степанов, ни второй разведчик не поняли его — они не знали немецкого. Учитель морщился, ощупывая простреленную руку.
— Пошли, — мрачно сказал Степанов своему бойцу, — теперь не погуляешь, берем капитана, и пошли.
Капитаны на дорогах тоже не валяются — ротный будет доволен.
Поздно ночью к советскому штабу три красноармейца вели понурого немца в разорванном кителе. Немец пугливо оглядывался на своих конвоиров, бормоча под нос:
— Рус, рус, не стреляй.
…Вот об этом, по мнению Степана Степановича, очень смешном эпизоде и рассказывал старичкам на бульваре встреченный им однополчанин.
— А? — радостно восклицал Степанов. — А? Мы, значит, с пленным, и они с пленным! Ну надо же! Одна идея! А? Одного недоучли — переоделись рано, обмундирование наше, видишь ли, тяжело им было через фронт тащить. Фрицы, что с них возьмешь! Комфорт любили!
— Как же это? — подивился один из старичков. — Выходит, их же жандармы и своего же хлопнуть хотели, так?
— Э-э-э, брат, — махнул рукой Степанов, — что ж, думаешь, им охота под трибунал! Война, кто там будет разбирать — валяются на шоссе полдюжины ихних и наших. И капут делу. Зато сами целы. Я вот вам расскажу еще не такую историю! Помнишь, Степан, как мы тогда миномет взяли…
Однополчане еще долго развлекали своих слушателей разными боевыми рассказами.
Вот об этом и вспоминал Степан Степанович сейчас, торопясь до закрытия в магазин игрушек…
Студент
Дима Каюров, хотя уже две недели ходил в институт, все никак не мог прийти в себя. Да и не он один. На каждой «переменке», как по привычке называли первокурсники перерывы между часами занятий, они собирались группками и вспоминали жуткую пору экзаменов.
— А помнишь, как Валька заснул, умора, взял билет и спит на нем…
— Нет, погоди, погоди! Ленка, помнишь, все будущие времена на левой коленке записала, а прошедшие — на правой, а…
…а преподаватель к ней подходит — ой, с ума сойду! — и говорит: «Что это вы, девушка, не по моде? Все теперь в мини-юбках, а вы как курсистка дореволюционная!»
Экзамены, столь страшные, столь немыслимые для преодоления, — пора отчаяния, слез, вздохов, бессонных ночей — теперь представлялись серией веселых и забавных эпизодов, этакий месячник смеха и радостей.
Еще никто не ворчал на раннее вставание, на строгого профессора, недоверчивого декана, на необходимость бегать из одной аудитории в другую, на ужас экзаменов, не таких ерундовых и легких, как вступительные, а настоящих, действительно безумно сложных, немыслимо трудных, за первый курс, за второй, за третий… Тех самых экзаменов, которые через несколько лет будут вспоминаться смешными и забавными.
Приглядывались друг к другу. Приглядывался и Дима Каюров. К профессорам, к соседям, к новым друзьям и товарищам. Это занимало двадцать процентов внимания, остальные восемьдесят процентов занимала Наташа…
К сожалению, внимание было односторонним. Наташа как-то не очень обращала на него внимание. Пришлось прибегнуть к крайней мере — на несколько запоздавший вечер, посвященный поступлению в институт, Дима пришел в новом черном костюме с медалью на лацкане.
Медаль вызвала сенсацию.
— Все медали видел, — восхищался Борис, новый Димин друг, — «Золотую Звезду», «За взятие Берлина», «800-летие Москвы», лауреатскую, а вот «За отвагу на пожаре» первый раз вижу.
Потребовали рассказ о подвиге. Дима мямлил, отнекивался: Наташа зачем-то выходила, а без нее не имело смысла рассказывать. Наконец она вернулась.
— Да ничего особенного, — бормотал Дима (выяснилось, что при Наташе или без нее он все равно ничего толком рассказать не мог. И зачем только он нацепил эту несчастную медаль?). — Иду из школы домой, ну вечером… Они кричат…
— Кто кричит? — спрашивает Борис.
— Ну эти ребята. Они побольше, поэтому и кричат, а тот напугался и молчит…
— Кто молчит?
— Да самый маленький, в ванной спрятался. Я проходным шел. Там стена такая, всего и выходит-то на нее окон пять. Вечер, народу нет, огня еще не видно. А дверь оказалась с той стороны заперта, она их заперла и ушла…
— Кто, дверь? — опять спрашивает Борис. (Общий смех.)
— Перестаньте гоготать, — говорит Наташа. — Ну, дальше.
Дима, вдохновленный этим вмешательством, продолжает:
— Да нет — мать ушла, заперла их, а они играть начали со спичками. Ну, банальное дело. Знаете, на коробках пишут: «Не давайте детям…» Словом, загорелось там все. А до парадного надо квартал обегать. Так я и полез по ней…
— По кому? — терпеливо спрашивает Борис.
— По трубе, не перебивай, — неожиданно огрызается Дима и смотрит на Наташу, ища поддержки. — Влезаю — это третий этаж. Ну, влез, а до окна еще по карнизу метров пять переть…
— Идти, — поправляет Наташа.
— Идти, конечно, идти… — торопливо соглашается Дима.
— Добираться, — предлагает Борис.
— Ну, словом, добрался, то есть дошел я, в окно влез. Дым там. Соседи уже поняли, в дверь ломятся. А к ней с моей стороны не добраться — огонь. Я их взял, вокруг пояса веревкой обвязал — веревок там много, не квартира — корабль, для белья, что ли, и прямо из окна осторожно спустил. Двое — пацан лет шесть, девочка тоже лет пять, наверное. Орут, не хотят из окна вылезать. Словом, выпихнул. Спустил. Сам опять по карнизу к трубе. Ну а уж вниз по трубе-то совсем легко.
— А третий? — спрашивает Борис. — Ты говорил, был третий.
— А это как раз когда спустился, тут девочка мне и говорит: «А Ванюшка? Там еще Ванюшка». Ну я по второму заходу, опять маршрут: труба — карниз — окно. Шарю, а уж ничего не видно из-за дыма, кашляю. Но нашел его — он в ванной спрятался, как котенок, — совсем маленький, года три, не знаю. Подхожу к окну, а там уже лестница торчит — пожарные подъехали.
Если б не они, ей-богу, не вылез бы. Дышать-то нечем…
Рассказ вызвал в этот день оживленный обмен мнениями. Но награда пришла в субботу — договорились с Наташей пойти в кино. Для оригинальности и в честь первого свидания Дима решил сделать ей подарок: купить надувного Бемби — необычно. Впрочем, что купить, было предварительно обсуждено на товарищеском сонете.
— Крокодила, — предложил Борис.
— Сам ты крокодил, — заметил флегматичный Олег. — Я бы купил ей мед. Знаешь, в бочонках такой продается в «Дарах леса».
— Может, варенье? — иронически поинтересовался Борис. — Или бумагу для мух — тоже липкая…
Словом, сошлись на надувном Бемби. Лань — изящно и с намеком. Каким, никто не уточнил, но с намеком.
Сегодня Дима решил зайти в магазин после занятий. Но пока со всеми переговорил, пока добрался, то да се, только к шести успел.
В магазине долго выбирал. Может, лучше зайца, или мишку, или какую-нибудь там зверюгу пооригинальней, но в конце концов, посоветовавшись с живо принявшими в нем участие продавщицами (надолго забывшими в связи с этим о других покупателях), Дима приобрел все же своего Бемби. Он тут же надул его и торжественно вышел из дверей магазина. Постоял минуту, любуясь на покупку, и направился домой…
Лейтенант Никитин
Прохаживаясь вдоль широкой асфальтовой магистрали, выбегавшей из туннеля, лейтенант Никитин то и дело бросал взгляд на часы. До конца дежурства оставались считанные минуты, а в семь они договорились встретиться с Леной у Белорусского вокзала. Накануне он так рассчитал время, чтоб успеть переодеться, но с утра все изменилось, и хорошо было бы вообще поспеть к назначенному часу.
Ну и что? Никитин пожал плечами, мысленно рассуждая с самим собой: может быть, у него некрасивая форма или плохо сидит на нем? Они договорились пойти в кино. Почему, собственно, он должен быть в штатском, когда встречается с Леной? Ведь армейские офицеры, как правило, всегда ходят в форме…
Никитин усмехнулся — забавная девушка эта Лена! Он вспомнил, как она стояла вся красная, растерянная, когда контролеры подвели ее к нему, вспомнил, какой она была сначала смущенной и недоверчивой, когда они встретились во второй раз и он пригласил ее в «Космос». И какой она стала в конце этого свидания веселой, как заливисто хохотала, сверкая зубами, как увлеченно рассказывала про свои институтские дела, про подруг — эту «Вальку-сухаря» и «Нинку-шляпу». Было в ней какое-то непередаваемое очарование, очарование юности, беззаботности. Чувствовалось, что, увлекшись чем-нибудь, Лена уже ни о чем, кроме этого, не думала, только к этому стремилась…
Другое дело, что увлечения у нее менялись с невероятной быстротой, так что она и сама-то не успевала уследить за ними.
Никитин был очень откровенным с самим собою. Он прекрасно сознавал, что увлекся Леной не на шутку. И увлечение все росло. Это казалось странным. В конце концов, Лена была еще совсем юной и действительно, даже для ее возраста, сверх меры легкомысленной. Никитин же, наоборот, для своего тоже, прямо скажем, не такого уж пожилого возраста, отличался серьезностью. Это, разумеется, не мешало Никитину любить смех, и шутки, и, как мы знаем, анекдоты, и девушек, и веселые компании, и петь под гитару, и танцевать до упаду.
Но все же Никитин был зрелым мужчиной, с немалым и не очень веселым жизненным опытом, отличным, смелым, даже отважным милицейским офицером, а Лена совсем еще девчонка, хохотушка и кокетка.
Что общего?
Общее было. Общим была безграничная, неуемная, жадная любовь к жизни, радостное, восторженное ее восприятие, стремление жить напряженно, постоянно ощущая, что живешь. Даже в юном (а может быть, именно в юном) возрасте это дано не всем.
Лена испытывала все эти радости, ощущала это стремление наполовину подсознательно. Никитин же — прекрасно сознавая. Но оттого любовь к жизни не была у него или у нее меньше. Впрочем, по роду своей службы на избранном им пути Никитин несколько раз мог полновесно, отчетливо взвесить, что значит жизнь. Обычно это происходит тогда, когда ее рискуешь потерять.
Нет, Никитин не был сотрудником уголовного розыска. В его обязанности не входили опасные операции по задержанию убийц, рецидивистов, грабителей, с перестрелками и рукопашными. Но и ему за в общем-то недолгую службу в милиции пришлось раза два ощутить на своем лице дыхание смерти. Что ж, такая профессия… К этой профессии он готовил себя, любил ее и ни на какую другую не променял бы.
Мысль пойти работать в милицию зародилась у него еще в армии, где он после десятилетки служил на пограничной заставе.
Началось все с собак.
Никитин вообще любил животных, а тут такие замечательные овчарки!
Он подолгу простаивал возле питомника, смотрел, как работают с собаками, не раз, облачившись в толстые ватник и штаны, добровольно изображал «нарушителя» и удирал от преследовавшей собаки.
Он серьезно задумывался о том, чтобы, демобилизовавшись, работать с собакой. Но где? Это можно делать только в уголовном розыске.
Потом пришло новое увлечение. Ему предшествовало событие, которое на границе называется ЧП. Границу перешел нарушитель.
Когда застава была поднята по тревоге, Никитин, прослуживший на ней уже почти месяц, решил, что это, как всегда, тревога учебная. Ведь за год не случилось ни одного происшествия.
Но когда, вскочив в машину, он увидел лицо лейтенанта, то понял, что на этот раз дело серьезное. Машина мчалась по горным дорогам, а потом и вовсе без дороги, качаясь и подскакивая на камнях, царапая борта кустами.
Никитин никак не мог поверить в реальность происходящего. Это звездное, черное южное небо, нависшее над головой, эти причудливые камни, кусты, выхваченные из мрака фарами и стремительно убегавшие назад, суровые лица товарищей с ремешками касок под подбородками, тусклый блеск автоматов, далекий собачий лай, выстрелы — все это казалось какими-то театральными декорациями, элементами спектакля.
Он никак не мог поверить, что вот он, Валька Никитин, вчерашний школьник, по-настоящему мчится в погоне за настоящим диверсантом.
Но потом он забыл обо всем, кроме главного.
Соскочив с машины и развернувшись цепью, пограничники начали движение по долине, поросшей высоким и густым кустарником, зажатой между двух высоких крутосклонных холмов.
Никитин шел в паре с опытным пограничником-сверхсрочником, старшиной Рубцовым. Казалось, Рубцов без всякого ночного бинокля видит в темноте; он двигался бесшумно, быстро и ловко, а Никитин то царапал лицо о жесткую ветку, то спотыкался о камень и, как ему самому казалось, производил невероятный шум.
И вдруг совсем рядом глухо шлепнул пистолетный выстрел. Видимо, оружие было со звукоглушителем, сверкнула лишь красноватая вспышка.
Никитин не успел опомниться, как Рубцов, подобно большому хищнику, пронесся мимо него и прыгнул. Раздался яростный крик, стон. Никитин бросился вперед: на земле, скрученный приемом самбо, лежал человек, а Рубцов, сидя на нем верхом, спокойным голосом приказывал: «Ну-ка, Никитин, дайте ремешок, свяжем почетного гостя!»
Никитин только потом понял, что они подошли к нарушителю сзади, пока тот отстреливался от наступавших на него пограничников.
Когда подоспели остальные, когда зажглись карманные фонари, Никитин увидел, что нарушитель огромного роста, из-под черного свитера мышцы выступали буграми. Рубцов, хоть и не слабого десятка, ни в какое сравнение идти с ним не мог — Никитин выжимал гирю гораздо больше раз, чем старшина. А вот самбо, по которому у Рубцова был первый разряд, помогло ему мгновенно справиться с этим великаном.
Нарушителя увезли, но пограничники возвращались молчаливые, мрачные. В перестрелке был тяжело ранен молодой, одного с Никитиным года, солдат. Карманные фонари выхватывали из темноты белое, неподвижное, все в бисеринках пота лицо, запекшуюся в уголке губ кровь, черное пятно, расползшееся на животе раненого…
В ту ночь Никитин уже не спал.
Вся жизнь человека пересекается рубежами, подчас незаметными, подчас отмеченными событиями, которые навсегда врезаются в память. Эти рубежи метят человеческую жизнь в любом возрасте.
Кто может сказать, когда юноша превращается в мужчину; частенько он и сам не ответит на этот вопрос.
В последующие годы Никитин никогда не мог забыть черного пятна на гимнастерке товарища, его воскового лица, белевшего в слабом свете карманных фонарей.
Вся предшествующая жизнь человека — это лишь подготовка к преодолению очередного рубежа. Наверное, Никитин сам не сознавал этого, но в одну ночь вчерашний школьник стал солдатом. Он ощутил цену жизни, однако понял и то, что порой ее приходится отдавать — отдавать, не жалея, не раздумывая, лишь стремясь всеми силами к той высокой цели, за которую ее отдаешь…
Из ночной схватки Никитин сделал и еще один вывод: надо овладеть самбо как следует.
Естественно, как всякий пограничник, Никитин изучал самбо. Он вообще был хороший спортсмен: физически сильный, рослый, ловкий, Никитин еще в школе имел взрослые разряды по волейболу и легкой атлетике, на заставе прибавил к этому третий разряд по штанге и второй по стрельбе.
А теперь он все свое свободное время посвящал самбо.
Когда настало время увольняться, Никитин не без гордости приколол на грудь значок перворазрядника. За годы службы ему не раз пришлось участвовать в задержании нарушителей, и хотя лично он при этом никаких подвигов не совершал, но мечтал о них не раз.
И не раз подумывал: а не пойти ли по возвращении в милицию, в тот отдел, который специально занимается ловлей бандитов (он предполагал, что таковой должен существовать). Из чтения приключенческой литературы и на основании собственных рассуждений Никитин сделал вывод, что создан для поимки опасных преступников — очень сильный, ловкий, быстрый, великолепный стрелок, самбист: пусть-ка от него попробует уйти какой-нибудь Волк, Серый, Рыжий или кто там еще!
Однако на первом году службы там же, на заставе, случилось еще одно событие.
Никитин был послан в соседний поселок с каким-то поручением. Следовало привезти груз, и он ехал на машине, которую вел сержант Бобылев, водитель со стажем.
До поселка оставалось два километра, когда, резко затормозив машину, Бобылев стал со стоном валиться с сиденья.
Никитин вытащил его, положил на обочину и растерянно топтался рядом.
Бобылев, весь белый, стонал. Это был острый приступ аппендицита. С утра солдат чувствовал легкий озноб, тупую боль в животе, где-то справа. Подумаешь… Проходило раньше, пройдет и теперь. Не прошло.
Никитин поднял сержанта на руки и два километра нес его до поселковой больницы. А что было делать? Водить машину он не умел.
Бобылеву сделали операцию, вскоре он вернулся на заставу и пришел поблагодарить Никитина.
Но тот сразу пресек всяческие излияния:
— Не валяй дурака, сержант. Благодарить не за что. Любой на заставе сделал бы то же самое. Да только шляпа я…
— То есть как? — не понял Бобылев.
— А так, — с грустью констатировал Никитин, — машину водить не умею. Я, хорошо, бык здоровый — донес, а вот довезти не смог — не умею. Так что давай-ка лучше учи машину водить.
Вскоре эта «индивидуальная самодеятельность», как выразился начальник заставы, была превращена в кружок автолюбителей. Шефы дали заставе мотоцикл.
И вот тут-то раскрылись в полной мере разносторонние таланты Никитина. Он оказался прямо-таки виртуозом в искусстве мотоциклетной езды. Дело дошло до того, что он начал демонстрировать всякие фокусы и даже попытался изображать ковбоя, стреляя на ходу из сложных положений, выполняя за рулем всякие акробатические упражнения, и т. д.
На областных соревнованиях, а затем и на окружных он завоевал призы по мотокроссу, стал без пяти минут мастером спорта.
И, вернувшись после службы домой и претворяя в жизнь свое решение, Никитин стал инспектором ГАИ.
Он был доволен службой, хотя ничего особенного в ней не было. Дежурства, «беседы», порой неприятные, с нарушителями правил, тренировки по самбо, заочная учеба в автодорожном институте.
Однажды случилось происшествие. Был объявлен розыск угнанной опасными преступниками машины. Никитин принял в нем участие. Ему довелось тогда проявить все три своих, как он выражался, «милицейско-пограничных навыка».
Дело было так.
Патрулируя вечером на своем мотоцикле на одной из окраинных улиц, Никитин нос к носу столкнулся с серой «Волгой» и, привычно бросив взгляд на номерной знак, увидел знакомые цифры — номер угнанной машины. Развернувшись, он поехал за ней, приказывая остановиться. Но «Волга» лишь прибавила скорость. Пассажиров было двое.
Никитин начал преследование и вскоре понял, что имеет дело не с новичками. За рулем, видимо, сидел опытный и искусный водитель.
«Волга» без конца петляла по пустынным переулкам, совершая крутые и неожиданные повороты, а потом вылетела на окраинную, плохо освещенную, но прямую улицу, где развила максимальную скорость.
Неожиданно боковое стекло опустилось, высунулась рука, раздался выстрел, второй, третий, четвертый… Однако преступник был плохим стрелком.
Никитин, сумевший на своем мотоцикле до сих пор не отстать от машины, теперь вряд ли мог рассчитывать догнать ее. Кроме того, после выстрелов стало очевидно, что это именно преступники, а не какие-нибудь юнцы, любители загородных прогулок на чужих автомобилях. Трудно было представить, что они могут натворить, если Никитин не задержит их.
«Волга» все удалялась — двадцать метров, тридцать, сорок…
И тогда Никитин принял единственное, как он считал, возможное решение.
Выжав из мотоцикла все, что мог, он вынул из кобуры пистолет и, продолжая управлять одной рукой, выстрелил. Но сначала прокричал в рвущийся навстречу густой ветер: «Стой!», «Стой, стрелять буду!» И лишь потом выстрелил. В воздух. Еще раз в воздух. И наконец, прицелившись, в шину. И еще раз в шину.
Машина бешено завиляла на дороге и, проехав метров сто, остановилась. Никитин сумел оценить искусство водителя. Через мгновение он уже поравнялся с «Волгой». Едва он успел сойти с мотоцикла, как человек, сидевший за рулем, выскочил из машины и бросился на Никитина. Второй преступник торопливо обходил «Волгу», чтобы помочь товарищу. Они не стреляли — видимо, израсходовали патроны.
Никитин воспользовался уже своим мастерством мотоциклиста и стрелка. Наступила очередь самбо. С одним из преступников пришлось обойтись сурово: он остался лежать на асфальте; второго Никитин «взял на прием», пока не подоспела помощь.
…Так что в его службе инспектора случалось порой, как он выражался, «приятное разнообразие». Хотя Никитин после этого происшествия и получил репутацию отчаянного парня, он был принципиален в службе, дисциплинирован, и начальство ценило его.
До звания мастера спорта оставалось чуть-чуть…
У него было немало друзей, немало знакомых девушек. Свободное время он проводил интересно и весело.
Вряд ли Никитина можно было считать «увлекающейся натурой». В общем, он довольно трезво смотрел на все свои увлечения — спортивные, деловые, дружеские, любовные.
И вряд ли Лена была самой интересной из встреченных им в разное время в жизни девушек. Были и женственнее, и обаятельнее, и наверняка умней.
Но вот встретились… Он все время думал о ней, стремился к ней. Он был счастлив.
Пожалуй, в этом дуэте ведущая роль принадлежала ему. Он усвоил с Леной чуть иронический, покровительственный тон, словно в возрасте их разделяли не шесть, а шестнадцать лет. Эдакий убеленный сединами генерал милиции Никитин с орлиным взглядом, пронизывающим не только человека, но и стену, и робкая, потрясенная свалившимся на нее счастьем девушка… Но за этим отношением крылись нежность, тепло и, наверное, любовь.
И Лена, привыкшая к поклонению и восхищению, которыми избаловали ее сверстники, робевшие перед пей, вдруг с Никитиным почувствовала какую-то радость подчинения любимому, гордость за то, что любимый этот силен и отважен, умен и уверен в себе.
Женщина с ребенком
Когда люди видели Лидию Романовну с Ксюшкой, они не сомневались, что это мать и дочь. Правда, матери можно было дать лет сорок, а то и больше, а Ксюшке от силы восемь, но мало ли… Поздний ребенок. Зато дочь всем пошла в мать: и глазами, и носом, и льняными волосами, и манерой улыбаться и говорить.
А между тем у Лидии Романовны детей никогда не было. Ксюшка же потеряла родителей, когда ей минул год. На Дальнем Севере в неожиданно налетевшем буране потерпел аварию самолет. Большинство пассажиров спаслось, но пять человек погибли, в том числе Ксюшкины родители. Девочку, ничего не понимавшую, притихшую, принесли в здание аэропорта. В зале суетились врачи, сестры, десятки добровольных помощников; кругом стояли люди — бледные, осунувшиеся от волнения. Весь аэропорт, весь городок работал, помогал, делал что мог. Раненых развезли по больницам, тех, кто не пострадал, — по домам. Успокаивали, отогревали, стараясь приласкать. Летной погоды теперь ждать да ждать… Пусть придут в себя, забудут беду.
Ксюшку забрала к себе старшая стюардесса — Лидия Романовна. Девочка привлекла ее еще в самолете: Лидия Романовна опекала ее, старалась устроить поудобней. В момент катастрофы бросилась к ней и, может, потому и осталась Ксюшка жива.
Сама вся в крови, вынесла девочку, не отходила от нее.
Позже увезла к себе.
Улегся буран. Ушли в небо самолеты, пассажиры продолжали каждый свой путь. Кто в командировку, кто на отдых, кто домой.
У Ксюшки дома не оказалось. Не оказалось ни дальних, ни близких родственников. Отец и мать, строители, кочевали по стране, нигде не вили гнезда, да и не хотели вить. «Пойдет Ксюшка в школу, — говорил отец, — тогда осядем. А пока…» А пока своего уюта не имели, создавая уют другим.
Лидия Романовна оставила девочку у себя навсегда. Было много хлопот вначале: как это так — оставить? Ребенок не двугривенный: увидел, подобрал… Есть же органы опеки, милиции, нужны поручительства, справки, заявления… В конце концов все обошлось, и Лидия Романовна официально удочерила Ксюшку. Муж был счастлив, его угнетало отсутствие детей, а тут «прямо с неба упала дочка». Сказал, засмеялся шутке, осекся — шутка получилась невеселая…
Лидия Романовна ничего от Ксюшки не скрывала и, как только сочла, что та поймет, все ей рассказала. Но девочка знала лишь новых отца и мать, и правда не очень взволновала ее. Лидия Романовна считала себя обязанной выполнить волю погибших Ксюшкиных родителей. Они тогда, в самолете, долго беседовали. «Мечтаю ее в английскую школу, — говорил отец, — и чтоб музыке училась. А уж спортом — это и говорить нечего. Вон мать — перворазрядница небось, да и я, слава богу, полдюжины разрядов имею».
И Лидия Романовна даже квартиру обменяла, чтобы попасть в микрорайон с «английской» школой; зимой три раза водила дочь на Стадион юных пионеров в секцию фигурного катания, хлопотала об устройстве в музыкальную школу.
Жили теперь в Москве, куда мужа перевели по работе. Лидия Романовна с работы ушла — воспитывала дочь. Радовалась.
Да и как не радоваться? Какой ребенок!
— Я, мама, все буду уметь, — с энтузиазмом сообщила Ксюшка, — играть на всех инструментах: на рояле, на скрипке, на гармошке. Языки все — английский, немецкий, французский, и на коньках, и гимнастику, и в футбол, и в хоккей.
В этом году Ксюшка перешла во второй класс. Она пребывала в ощущении значительности этого факта, тщательно готовила все уроки, дежурила по классу. Словом, получала радость от всего.
День Ксюшки был заполнен, по выражению Лидии Романовны, как у министра.
Встав очень рано, помахав перед открытой форточкой руками и ногами, попрыгав, поприседав, Ксюшка мчалась в ванную комнату на весы. С тех пор как Лидия Романовна купила напольные весы, они стали чуть ли не любимой Ксюшкиной игрушкой. Она ежедневно озабоченно взвешивалась, радостно отмечая прибавку. Она была еще в том счастливом возрасте, когда могла стремиться набрать килограммы, а не расстаться с ними.
После зарядки, туалета и завтрака Ксюшка мчалась и школу — одна. Борьба с Лидией Романовной длилась долго, но в конце концов дочь восторжествовала, отстояв свое право ходить в школу без провожатых. Несколько раз Лидия Романовна пыталась незаметно следовать за дочкой вдалеке, но была обнаружена и позорно изобличена.
— В вожди команчей ты не годишься, — сказал отец смущенной жене, — в пинкертоны тоже. Так что оставь Ксюшку, пусть проявляет самостоятельность.
В дни, когда «не было катка», были занятия у учительницы музыки. И там тоже Лидия Романовна ждала, подремывая в передней под нехитрые музыкальные упражнения дочери, которые, само собой разумеется, получались у нее просто замечательно!
Лидия Романовна ввела систему поощрений, хотя муж и возражал, считая это непедагогичным.
И когда учительница музыки внесла в Ксюшкин самодельный дневник жирную пятерку, награда последовала незамедлительно — мать и дочь отправились покупать новые фигурные коньки.
Хотя коньки скорей подходили для поощрения спортивных успехов, но какое это имело значение? Подарила же Лидия Романовна дочери красивую папку для нот, когда Ксюшка победила в беге на коньках на двадцать метров!
Кто подал Лидии Романовне мысль, будто коньки можно приобрести в том магазине игрушек на улице Горького, где их никогда не продавали, — неизвестно. Во всяком случае, спустившись в метро на станции «Белорусская», возле которой жила учительница музыки, и выйдя на станции «Маяковская», мать и дочь бодро зашагали в магазин. У окошка, откуда доносился волшебный аромат пончиков, Ксюшка упросила задержаться. Но, бросив взгляд на часы, Лидия Романовна сказала:
— Ты стой, дочка, получишь пончики, жди меня здесь, я быстро, а то магазин закроется. Возьму коньки, если есть, и вернусь сюда. Смотри никуда не отходи!
Кивнув головой, Ксюшка прилипла взглядом с заветному окошку, а Лидия Романовна поспешила в магазин — до закрытия оставалось каких-нибудь десять минут.
Инженер
В переходах Московского метро за маленькими столиками сидят пенсионеры и предлагают лотерейные билеты. Билеты лежат перед ними веером, или пачками, или в коробочках, иногда даже в плексигласовых вращающихся восьмигранных ящиках. Пенсионеры, кто громко, кто тихо, кто с присказкой, кто попроще, взывают к прохожим — купите билеты! Многие останавливаются и покупают.
Но инженер Румянцев равнодушно проходил мимо. Равнодушно проходил он и мимо сверкающих «Волг» и «Москвичей», разукрашенных транспарантами, привлекающих прохожих у метро «Площадь Революции». Он давно уже не интересовался лотерейными билетами ни в кассах магазинов, ни в справочных киосках. Он считал, что выиграть по лотерейному билету не то что «Волгу», но утюг — дело такое же безнадежное, как выловить из глубин океана сокровища затонувшего «Черного принца».
Другое дело мечтать о машине, которая появится не в результате лотерейного счастья, а каким-нибудь иным путем. Нередко Румянцев видел во сне, как получает за выдающееся изобретение награду — «Волгу». Или за замечательную коллективную работу Ленинскую премию и на свою часть приобретает «Москвич».
Мечтал. В конце концов, никому мечтать не запрещено. Однако богатых родственников у него не водилось, а на гениальные изобретения надежд было мало: хотя Румянцев слыл добросовестным и честным инженером, но звезд с неба все же не хватал.
Каждый человек стремится в жизни хоть прикоснуться к мечте. Румянцев, что называется, хватал свою мечту обеими руками.
Он окончил курсы шоферов-любителей, отлично сдав все экзамены. Он знал правила уличного движения лучше, чем любой таксист с тридцатилетним стажем, он разбирался в марках всех машин — одним словом, после разговора с ним не оставалось сомнений, что имеешь дело с человеком, давно владеющим собственной машиной да еще не вылезающим из-за руля.
Все мы ходим по улицам спокойно, а если движемся по тротуару, то мало обращаем внимания на проносящийся по мостовой поток машин.
А вот Румянцев ходил иначе. Он со скрытой тоской, с восхищением, с завистью поглядывал на автомобили. Даже подходил, заглядывал внутрь. Про себя думал, что сменил бы обивку, убрал бы этот дурацкий вентилятор…
…Иногда, к сожалению далеко не всегда, людские мечты сбываются. Порой самым замысловатым, сложным образом.
Румянцеву исполнилось сорок лет. Дата круглая, и ее следовало отпраздновать. Жена неделю готовила необходимое продовольственное обеспечение, были выделены финансовые средства, специально для этого случая копившиеся, соседи отдали в распоряжение юбиляра свою комнату.
Гостей набралось человек тридцать. Отдельный столик отвели под подарки. У тех, кто пришел первым, подарки бережно принимались из рук, переносились на столик в сопровождении более или менее искренних одобрительных возгласов. Но потом гости стали прибывать один за другим и уже сами добирались до столика, складывая туда свои дары.
Поэтому, когда после их ухода, часов в пять утра, счастливый юбиляр вместе с супругой стал рассматривать, что же ему преподнесли друзья и товарищи, он обнаружил много неожиданного. Рядом с портфелем, тремя бумажниками и двумя нейлоновыми рубашками высился самовар, лежали две пары ночных туфель (одна на номер больше, чем нужно, другая — на номер меньше). Стоял спиннинг (Румянцев никогда не удил). Были тут и наборы маленьких винных бутылочек, и — о радость! — панорамическое зеркало для несуществующей машины, и даже зажигалка (Румянцев не курил). И где-то, сиротливо затертая между сверкающей рубашкой и расшитой тюбетейкой, валялась пачка лотерейных билетов — первых в жизни, оказавшихся в руках у Румянцева.
Подарки были все размещены по полкам и ящикам, спиннинг переподарен соседу-рыболову (тому самому, что предоставил свою комнату), а лотерейные билеты небрежно брошены в стол.
Там они пролежали все три месяца до тиража и еще три после него.
Но как-то супруга Румянцева в момент генеральной уборки обнаружила забытые билеты и ворчливо заметила:
— Ты бы проверил, что ли, смотри — раз, два, три, пять, десять, господи, сорок билетов! Может, пылесос хоть выиграем… Без пылесоса прямо как без рук!
Он взял билеты с собой. И еще неделю носил, забыв в кармане.
А однажды, проходя куда-то мимо сберкассы, неожиданно вспомнил про билеты и, нерешительно потоптавшись у входа, зашел, сел за стол и, водя пальцем по засаленному листу, стал добросовестно, как он все делал в жизни, проверять один за другим свои сорок билетов. По мере того как он убеждался, что билет пустой, он разрывал бумажку пополам и бросал в корзинку.
Девятый билет выиграл рубль, двадцать первый еще рубль, двадцать второй одеяло жаккардовое метисовое, а двадцать девятый… «Волгу».
Сначала Румянцев долго сидел в задумчивости. Потом спокойно проверил оставшиеся одиннадцать билетов и, аккуратно порвав их, бросил в корзину. Потом снова сверил номер серии, номер билета. Опять посидел и снова сверил. Серия 25813, билет 084. Все верно.
Наконец, тяжело вздохнув, словно проиграл в карты сто рублей, поднялся, подошел к кассе и, протянув билет, прошептал:
— Скажите, я не ошибся, он действительно выиграл?
Румянцев был бледен, он ощущал странный холодок в спине, он боязливо оглядывался на других людей, толпившихся у окошек. Ему казалось, что кассирша сейчас громко захохочет, крикнет ему: «Вы что вообразили! „Волгу“! Ха-ха! Утюг ваш билет выиграл, а не „Волгу“! Нет, надо же такое нахальство!»
Кассирша молча, профессионально-деловито пробежала глазами таблицу, подставив линейку, несколько раз перевела взгляд с билета на колонку цифр и обратно и широко улыбнулась.
Она посмотрела на Румянцева весело и радостно, будто это не он, а она выиграла, и так же тихо прошептала:
— Поздравляю вас, гражданин. Деньгами будете брать или…
— Машиной, то есть натурой, ну «Волгу» возьму, — торопливо забормотал Румянцев. — Они же не могут не дать, а? Не могут, если я не захочу заменить деньгами, а?
— Да что вы! Ради бога — берите машину. Катайтесь на здоровье. — Кассирша, продолжая улыбаться, стала объяснять, что нужно сделать, чтобы получить выигрыш.
…И вот теперь он катил в этой собственной «Волге», несся на крыльях казавшейся ему недостижимой мечты.
За те два месяца, что прошли с момента получения машины, он проехал на ней, вероятно, весь положенный за десять лет километраж. Он просто не вылезал из нее. На службу, со службы, за женой, в магазин, к друзьям, за город, по делам всех друзей и знакомых… Был бы предлог. А когда он не сидел за рулем, он копался в моторе, в багажнике, с колесами, что-то проверял, исправлял, налаживал, чистил. Наконец, просто любовался.
Правил Румянцев не нарушал — он знал их отлично еще тогда, когда пользовался троллейбусом и автобусом. Кроме того, он глубоко уважал законы, правила и инструкции во всем, а уж что касается автомобильного дела — тем более.
В тот день, закончив работу и заехав на улицу Горького за водой «Ессентуки» № 17, он, как всегда, испытывал глубокое наслаждение оттого, что руки его лежат на теплом руле, нога плавно нажимает педаль, что «Волга», красивая и сверкающая, послушная его воле, мягко скользит в потоке машин. Ехал по главной московской улице. Взглянул на часы: 18 часов 49 минут. Точные часы. У него в машине все точно, слаженно, проверено. Было, правда, одно огорчение — вышло из строя реле. Кое-как удалось наладить, но Румянцев понимал, что ненадолго, надо менять.
Где, как? Он был в отчаянии, потому что не мыслил себе дня без своей «Волги», а ждать очереди на станции техобслуживания или остаться без реле — значило лишиться машины на неделю, а может быть, и больше.
Но, к счастью, один из сослуживцев, тоже автофанатик, познакомил его с симпатичным старичком, который может «все достать». Надо только немного вознаградить его за это — старик, пенсия небольшая, сами понимаете…
Благодетель сказал, что в делах этих ничего не понимает, но у него есть знакомый механик, у того была своя машина, машину он продал, а вот некоторые детали, в том числе и реле, остались.
Он познакомит с ним Румянцева, а там их дело.
И вот через десять минут у Румянцева деловая встреча с этим милым старичком и его симпатичным знакомым, который- принесет к метро «Сокол» вожделенное реле.
А затем он захватит жену, которая ждет его у метро «Войковская», и они поедут в гости к друзьям, справляющим новоселье в Химках-Ховрине.
В подарок Румянцев вез пачку лотерейных билетов.
Убийца
Николай открыл глаза и устремил взгляд в потолок. Потолок слегка кружился, словно огромный сплошной вентилятор, кровать тихо покачивалась, по груди, то больше нажимая, то меньше, прохаживался паровой каток. О господи! Николай попытался приподнять голову и посмотреть на часы, но голову кто-то сдавил чугунным обручем.
Прошло добрых полчаса, пока, чертыхаясь, проклиная себя, дружков, водку, закуску — словом, всех и вся, Николай наконец поднялся и сел на кровати. Он спал не раздеваясь — брюки, рубашка были измяты, влажное белье прилипло к телу.
Николай неверной походкой подошел к старому буфету и достал захватанный, давно потерявший прозрачность графин, заткнутый бумагой. Дрожащей рукой налил водку в чайную чашку, выпил — при этом лицо его сморщилось в гримасу невыразимого страдания — и минут пять стоял неподвижно, устремив бессмысленный взгляд в пространство.
Постепенно глаза его оживились, лицо приобрело осмысленное выражение.
Николай вышел на кухню, поставил на плиту чайник и под осуждающими взглядами соседок по квартире прошел в ванную.
Через полчаса, умытый, причесанный, в чистой рубашке (приготовила мать, уходившая на работу много раньше), Николай шел на автобазу, находившуюся недалеко от дома. Выезд в десять часов, время еще есть. Проходя мимо зеркальной витрины, Николай посмотрел на себя и горестно покачал головой — ну и вид! Опухшие щеки, веки как мешки, да и нос мог бы быть побледней. «И когда только кончится это пьянство!» — сам себе выговаривал Николай.
А как оно началось?
Как обычно. Когда Кольке было семнадцать-восемнадцать, Петр, главарь всей окрестной хулиганской мелюзги (самому-то Петру давно перевалило за двадцать пять), поднес ему стакан и мятый огурец. Колька проявил мужество и отказался, за что схлопотал по шее. В следующий раз Колька поспешил выпить водку до того, как Петр нахмурился.
Как известно, пьянство трудно совместимо с любой профессией, тем более шоферской. Потому что шофер, выпивающий лишь в нерабочие часы, — фикция. Может быть, какое-то время так может продолжаться, но рано или поздно грани между нерабочими и рабочими часами стираются, и человек садится за руль, сначала едва опохмелившись после вчерашней попойки, потом не успев опохмелиться и, наконец, просто «выпивши».
Что касается разницы между «выпивши» и «пьяный», то ее установить не под силу никаким экспертам.
В жизни бывают разные парадоксы. Например, шофер, зарабатывающий, как Николай, вначале 150 рублей, а потом и 180, и 200, и даже 220, может великолепно питаться. Самому прожорливому вполне хватает на еду. Но вот беда, даже наискромнейшему пьянице, если он уже прочно носит это звание, никакой зарплаты не хватает. Причины этого явления таинственны — возможно, водки ему требуется в десять раз больше, чем молока или шоколадных конфет; возможно, одному пить неинтересно и приходится угощать дружков. К тому же чем больше человек пьет, тем меньше он, как правило, зарабатывает. Неизбежны и иные материальные потери — там легкая авария, тут крыло помнет или, проснувшись утром, вообще не может вспомнить, куда делись еще вечером лежавшие в кармане десять рублей. Люди, несклонные к пьянству, обычно находят возможности немного увеличивать свой заработок, не входя при этом в противоречие с законом.
Люди, к пьянству склонные, как правило, кроме воровства, мелкого или крупного, ничего придумать не могут. Вот и Николай придумал, а вернее, позаимствовал довольно простой способ обогащения. На территории автобазы помещались ремонтные мастерские другого ведомства, что создавало удобную неразбериху.
В мастерские на ремонт доставлялись машины. Николай снимал с них некоторые мелкие дефицитные части и продавал их.
Когда отремонтированная машина должна была покинуть гараж, Николай возвращал снятые части на место, снимая их с вновь доставленных машин.
Сей круговорот теоретически мог продолжаться годами.
Однако жизнь порою вносит в теоретические построения свои поправки. Так произошло и теперь. Какой-то дотошный водитель машины заметил подмену. Не потому, что замененные части были хуже, нет, просто вот такой оказался человек, что заинтересовался, почему это произошло. Сообщил куда следует. Проверили. И убедились, что хотя машины, выпускаемые из ремонта, оказывались комплектными, но с момента их поступления и до выпуска многих частей недосчитывались. Разгадать причину труда не составляло: Николай не изобрел пороха, аналогичные комбинации пытался делать и кое-кто другой. Оставалось выяснить, кто комбинатор. На автобазе и в мастерских работали сотни людей. Многие механики и шоферы автобазы прирабатывали одновременно и в мастерских. Капитан милиции Юнков и помогавшие ему представители народного контроля занимались этим делом добросовестно и кропотливо. Они сами были шоферами и механиками. И их не так-то легко было провести. Но Николай тоже приобрел в этом деле высокую квалификацию.
В борьбе с законом он постоянно совершенствовал свои приемы.
Во-первых, предполагалось, что вор работает по ночам или в обеденный перерыв, когда мастерские пусты, но наблюдение ничего не дало. Николай заменял части в самый разгар работы, можно сказать, на глазах у всех. Во-вторых, частенько он не просто изымал часть, оставляя место «оголенным», а ставил взамен аналогичную деталь, внешне годную, а в действительности бракованную, давно списанную. С такой деталью автомобиль не прошел бы и ста метров, но, пока длился ремонт других частей и деталь не функционировала, определить ее непригодность было невозможно.
Поиски злоумышленника шли и другими путями — выясняли, кому он сбывает краденое. Обнаружили нескольких частников, признавшихся, что покупали ворованные детали, но никто из них не сумел {или не захотел) вспомнить приметы «продавца».
И все же дело потихоньку продвигалось.
Поскольку работа в мастерских шла посменно, а детали, как удалось установить, пропадали не «посменно», можно было сделать вывод, что ворует кто-то из рабочих автобазы, работающих в одну смену. Это сразу ограничило круг поисков.
Далее были отсеяны те — их было большинство, — кто стоял вне подозрений.
Капитан Юнков, разумеется, обязан был проверить каждую версию, а вот народноконтрольцы больше всего полагались на свое знание коллектива. Они составили список людей, которых можно было заподозрить, — пьяницы и выпивающие, прогульщики, лодыри, «кулаки» (как называли тех, кого интересовал только личный заработок) и им подобные. Начались проверки.
Вскоре список подозреваемых стал совсем коротким. Но никакой особой опасности Николай не видел: все же основная работа по обнаружению вора велась в строгой тайне.
Кроме того, когда Николай порой решал бросить свое доходное, но опасное ремесло, это благое намерение длилось недолго — до первых затруднений, связанных с выпивкой. И вообще «красивая жизнь» затягивает…
Капитану и его помощникам потребовалось некоторое время, чтобы окончательно выяснить, кто вор.
Быть может, удалось бы, проведя, например, обыски, установить это быстрее. Но Юнков не хотел обижать большой коллектив недоверием. Он не хотел, чтобы люди подумали, что подозревают всех и случайно обнаружили виновного. Вор здесь был печальным исключением, следовало искать его и только его, даже если от этого немного затянется работа.
Итак, вора теперь необходимо изобличить — лучше всего взять на месте преступления.
Неожиданно Юнкову «повезло». Сразу возникло несколько обстоятельств, заставивших Николая действовать. Во-первых, накануне в мастерские была доставлена целая партия, да еще иногородних, машин на длительный ремонт. С них можно было спять много дефицитных деталей, которые когда еще потребуется вернуть… Да и заменить можно будет деталями похуже: машины из других городов — пока там обнаружат да напишут… Во-вторых, накануне Николай имел встречу с «оптовиком».
«Оптовик», лысый, маленький, болтливый, все время суетившийся, все время в заботах.
Он не воровал — упаси боже, он не скупал и не хранил краденого — как можно! Но всей своей деятельностью способствовал и тому, и другому, и третьему.
Его «бизнес» заключался в том, чтобы выяснить, как он любил выражаться, «конъюнктуру», спрос и предложение. Действовал он в самом широком диапазоне: его интересовали меховые шубы, доллары, автомобильные запчасти, драгоценности, дефицитные лекарства, магнитофоны и фотоаппараты, модные заграничные вещи и даже редкие вина и продукты.
Все эти столь различные вещи объединяло одно — они все были краденые или добытые иным нечестным путем, продавали их воры, спекулянты, валютчики. С ними «оптовик» не церемонился, они были его поля ягода. Личность ясна, и расчет прост.
С покупателями дело обстояло сложней. Разумеется, и среди них встречалось немало таких, кто отлично понимал, с кем имеет дело и каким путем добыто то, что он покупает. Но имелись и честные, просто наивные, неискушенные, верившие в басни о «лишних» деталях, «не пришедшихся» по размеру шубах, ликвидируемых по нужде «фамильных драгоценностях». Были и подозрительные, въедливые, любопытные. С такими приходилось возиться — уговаривать, придумывать всякие уловки, убеждать!
Дело в том, что роль «оптовика» ограничивалась исключительно сводничеством. Он выяснял, кому что нужно, у кого что есть, и сводил «покупателя» с «продавцом», получая с того и другого комиссионные. Редчайшая по нынешним временам и крайне хлопотная профессия.
В специальных тетрадях «оптовика» хранились сотни имен, адресов, телефонов, записанных столь сложными тайными способами, что их не сразу разгадал бы и опытный шифровальщик. Сами же книжки покоились в подкладках старых пиджаков или под стельками ветхих башмаков, запертые в вокзальных камерах хранения.
«Оптовику» перевалило за семьдесят, и занимался он своей уникальной профессией чуть ли не с дореволюционных времен.
Преимущество ее заключалось в том, что подобная деятельность была сравнительно безопасной с точки зрения взаимоотношений с законом. В конце концов, отвечает перед законом вор, спекулянт, сбытчик краденого, в определенной степени покупатель этого краденого. А он что? Он просто познакомил двух людей, оказал им услугу. Откуда ему знать, что происходит нечестная сделка?
Последнее время, правда, работать становилось трудней. Дефицитных товаров становилось все меньше, меньше встречалось и дураков и воров, зато больше честных людей, готовых отвести тебя в милицию. Да и милиционеры норовили отправить за решетку, усматривая почему-то в невинном хобби «оптовика» нарушение закона. А уж когда дело касалось валюты и золота, тут пощады не жди!
Но все же кое-что было — автомобильные запчасти, например. Ходкий товар. Приходится, конечно, возиться, но что делать, такая уж профессия…
Вот хоть с этим инженером Румянцевым. Просто помешанный какой-то — выиграл свою «Волгу» и теперь ухаживает за ней, как за молодой женой. Себе в чем-нибудь откажет, только не ей.
Что-то у него там вышло из строя, реле, что ли, так он сон и покой потерял, готов чуть не месячную зарплату отдать, лишь бы найти эту деталь. Ведь если ехать на станцию техобслуживания, придется неделю ждать, а он без своей «Волги» дня не может прожить.
И то, что этот пьянчуга и мелкий воришка Колька существует, тоже удача. «Оптовик» уже не раз имел с ним дело — никогда не подводил.
На этой неделе он нашел для Кольки еще четырех «нуждающихся». Словом, сегодня они договорились о свидании у станций метро, расположенных по Ленинградскому проспекту. Первое было с инженером Румянцевым у «Сокола», в семь вечера. Там он их, как обычно, познакомит и сразу же уйдет. Купля-продажа пусть происходит без него. За своими комиссионными он зайдет на следующий день.
…Вот с этим «оптовиком» Николай два дня назад встретился и договорился о большом заказе. Тот за несколько часов нашел ему покупателей почти на все детали, которые можно было снять с поступившей партии машин.
Первый заказ надлежало реализовать сегодня. Встречи с «оптовиком» и его клиентами были назначены начиная с семи вечера у станций метро «Сокол», «Войковская», «Водный стадион», «Речной вокзал».
Операция сулила Николаю большую выгоду.
Николай уже успел накануне снять детали с машин, завернуть их в пакет и спрятать в укромном месте. План был прост. На своей трехтонке он должен ехать сегодня в Шереметьево. Перед выездом он заедет под предлогом исправления какой-нибудь мелкой поломки в помещение мастерской, незаметно переложит пакет под сиденье и спокойно выедет с территории автобазы. Он уже не раз пользовался этим способом.
А затем, пока будет ехать по Ленинградскому проспекту, сделает несколько остановок у станции метро — он потому и назначил там места встреч.
Единственно, что мучило его, — это головная боль после вчерашней попойки.
Но не мог же он не обмыть столь крупный заказ «оптовика»! Вот и пошли с дружками. Ох уж эти дружки! Что-то Николай не помнил, чтобы они хоть раз пригласили его в ресторан, получалось почему-то наоборот. И еще было у дружков удивительное свойство — они неизменно исчезали в период безденежья и столь же безошибочно появлялись в «жирные» дни.
— Коля, друг! — приветствовал его очередной приятель. — Выручай, пересох. Веришь, неделю во рту градуса не было. Веди, друг, веди, за мной не пропадет.
И хотя за всеми ними пропадало, Николай вел, поскольку были деньги, хотелось выпить, и вообще «горела душа».
Иногда в компанию приглашали девушек, и тогда прибавлялся новый стимул: приятно было изображать этакого купца-миллионера — «разберите стенку, я здесь пройду!» — сорящего деньгами, окруженного льстивыми прихлебателями и который все может, ни на что не скупится.
Так что выпили в счет будущих доходов изрядно.
На время головная боль отпустила его, ее вытеснили напряжение и страх.
Забрав путевой лист, небрежно осмотрев свою трехтонку, Николай лихо развернулся во дворе, выехал из ворот и через другие ворота заехал в мастерские.
— Чего приехал, — спросил его знакомый мастер, когда, громко хлопнув дверцей, Николай спрыгнул на землю, — на капиталку ставить?
— Да нет, вон подтянуть надо. У нас, сам знаешь, инструмент какой… — Николай небрежно кивнул в сторону грузовика. — Пойду сейчас у ребят возьму.
— Неужто и такой мелочи у вас нет? — удивился мастер. — Бедно живете. Лысо. Не база — шар бильярдный. — И он пошел по своим делам.
Тем временем Николай, взяв у механика инструменты, повозился немного под машиной, отнес их обратно и, делая вид, что вытирает ветошью пальцы, торопливо оглянувшись, достал из тайника детали и отнес их в машину. Завел мотор и выехал за ворота.
Капитан Юнков аккуратно уложил в футляр фотоаппарат, с помощью которого запечатлел на нескольких снимках действия преступника (каковым Николай теперь числился уже с полным правом в заведенном на него деле), и, выйдя через другой выход, сел за руль ненового, ничем внешне не примечательного серого «Москвича». Фотографии необходимы для следствия и суда. Во всяком случае, никто бы не предположил, что «Москвич» этот без труда мог догнать любую «Волгу», что из него капитан милиции Юнков может поддерживать связь с дежурными и другими машинами, что под капотом спрятаны громкоговорители и сирена и что по им одним известным приметам инспектора ГАИ сразу определят, что это за машина, и откроют ей зеленую улицу.
Николай вел свою трехтонку аккуратно — сейчас не время попадаться из-за пустяков. Погруженный в свои мысли, он не замечал следовавшего за ним на некотором расстоянии серого «Москвича».
Головная боль усиливалась. Кроме того, Николай начал ощущать какую-то непонятную нервозность, какое-то странное напряжение.
Николай никогда не верил в предчувствия. А бороться с недугами он мог только доступными ему средствами. Остановив свой грузовик в хорошо известном ему месте, он прошел проходным двором и, протолкавшись без очереди к пивному ларьку, жадно осушил две кружки пива.
Убедившись, что «лекарство» не подействовало, Николай, проехав еще две улицы, забежал в магазин и, «скинувшись» с двумя какими-то пьянчужками, «принял» полагавшиеся на его долю 150 граммов. Как сообщил он позже следователю, ему «стало лучше, но не совсем». Потом он сделал третью остановку и «принял» еще бутылку пива, из горлышка, прямо в магазине. Только тогда наконец он почувствовал себя «в полном порядке». В магазине он, кроме того, захватил две бутылки про запас.
Капитан Юнков, терпеливо дожидавшийся в своем «Москвиче», зафиксировал торчавшую из кармана бутылку. Однако мысль о том, что Николай успевал «заправиться» еще и прямо в магазине, ему не пришла в голову.
При других обстоятельствах капитан задержал бы Николая после первого же возлияния. Но необходимость проследить связи преступника, добыть доказательства куда более серьезного преступления не позволяли капитану Юнкову вмешаться.
Теперь головная боль прошла окончательно — никакой тяжести Николай не ощущал. Наоборот, появилось чувство приятной легкости. Пришла уверенность, что никаких опасностей для такого ловкого, смелого и хитрого человека не существует и что осторожность в общем-то, излишняя, поскольку вряд ли кто посмеет его тронуть, а посмеет, так пожалеет, такое получит…
Перспектива сегодняшнего дня выдалась заманчивой. Куш он отхватит солидный — не на один «культпоход» хватит…
Кроме того, Николай намеревался купить за двадцать пять рублей автоматический нож у Кривого и какие-то журналы с девицами, а еще галстук, который ночью, говорят, светится. Николай был франтом и, когда гулял, старался выглядеть столь же элегантным, сколь грязным и неопрятным был во время работы.
Приятные мысли легко проносились в голове, Николай, сам не замечая, слегка увеличил скорость; ухмыляясь, он прижимал своей могучей машиной какую-то автомобильную мелюзгу, толкавшуюся по бокам. В одном месте он проскочил автоматический светофор на желтый свет и беззвучно обругал погрозившего ему кулаком водителя встречной машины.
А капитан Юнков, сидя в своем сером «Москвиче», хмурил брови. Оборот событий его не устраивал. В чем дело? Если так будет продолжаться, Николай, чего доброго, не доедет до места назначения, не встретится с тем или с теми, кому должен передать ворованные детали.
Машина Николая, проехав по Пресне, миновав мост, свернула на Беговую и, нырнув в вечно ремонтировавшийся туннель, выскочила с противоположной стороны.
Лихо повернув направо, чтобы выехать на Ленинградский проспект, Николай даже запел от удовольствия. Еще бы: голова не болит, впереди приличные деньги, в запасе еще детали, бизнес его функционирует прекрасно… И вообще все здорово! Надо только на минутку еще разок остановиться. До нормы как раз кружечки не хватает…
И вот тогда Николай услышал свисток и, оглянувшись, увидел инспектора ГАИ. Помахивая жезлом, он приказывал остановиться.
Николай мгновенно вспотел. Он сразу понял, что находится на грани краха всех своих надежд. Инспектор без труда определит, что Николай выпил. Заберет. Машину осмотрят. Обнаружат ворованные детали. Свяжутся с автобазой. Начнется следствие. Вскроются старые дела. И все. И хороший срок обеспечен. Прощай, дружки, рестораны, вечеринки, девушки и галстуки!
И все из-за дурацкого случая. Из-за мелкого нарушения. Да и нарушения-то нет! Что он нарушил? Что? Скорость не превысил и не мог — поворот, рядность тоже соблюдал, машина из гаража, чистая, не сигналил, все в порядке. Ну в чем нарушение? Чего он придрался, этот инспектор! Чего ему надо? Мораль прочесть или план по штрафам недовыполнил? А у него, у Николая, вся жизнь насмарку, все к черту полетит. Столько работал, старался, эти детали снимая! Столько страху натерпелся, нервов потратил! Столько времени все шито-крыто, все с рук сходило! Сторож однажды чуть не накрыл — удрал; клиент попался, донести хотел — уговорил; мастер застал на месте — вывернулся. А тут на тебе! Когда такое дело, такие возможности, когда все трудности, казалось, позади… Из-за какого-то придиры, бездельника все погибнет!
Мысли с невероятной быстротой неслись в голове Николая, лютая, жаркая ненависть охватывала его.
Механически он остановил машину. Не в силах шевельнуться, ненавидящим взглядом смотрел на медленно приближавшегося к нему инспектора.
Проехав мимо и выехав на Ленинградский проспект, капитан Юнков остановил свой «Москвич» и озабоченно наблюдал за Николаем и инспектором. Вот черт, еще заберет его! И пропала нить. Начнется дело, ищи потом свищи Николаевых клиентов. А инспектор тем временем вплотную приблизился к трехтонке Николая. Это был высокий, широкоплечий парень, лейтенант. Его решительное, волевое лицо не обещало нарушителю ничего хорошего.
Нарушитель? «А в чем, кстати, заключалось нарушение?» — подумал Юнков. Поразмыслив, он пришел к выводу, что никакого нарушения правил Николай не совершил. Тогда почему его остановил инспектор? Может быть, случайно? Ошибся, а теперь неудобно идти на попятную? Но уж очень он уверенно направляется к машине.
Юнков помрачнел, он начинал догадываться…
Лена и Никитин
В тот день встреча Лены и Никитина была назначена на семь часов у Белорусского вокзала. Они последнее время — а все-то время их знакомства измерялось неделями — встречались почти ежедневно. Здесь, под мостом, толпились продавцы цветов — «законные» и дикие, с ведрами, кадушками, корзинами. Полыхали в полумраке перехода желтые золотые шары, бордовые гвоздики, белые, розовые астры, кремовые розы…
Никитин выбирал два-три красивых цветка, и, куда бы они ни шли потом, Лена бережно несла их с собой, а вечером дома ставила в вазу.
Лена всегда опаздывала, и все попытки Никитина приучить ее к аккуратности оказывались тщетны.
— Ну хочешь, я брошусь под машину, — в отчаянии восклицала Лена, — или под поезд? Или навсегда откажусь от мороженого, или ущипну декана за нос? Только скажи! Все смогу, а точной быть не могу! Знаешь, я теперь к тебе на свидание накануне выхожу. И вот все равно опаздываю!
«Накануне»… — ворчал Никитин. — Выходи за неделю.
В конце концов он придумал хитрый прием — стал сам опаздывать на свидания, хотя это и противоречило всем его привычкам. Но прием себя не оправдал — Лена все равно приходила позже.
Проведя первые пять минут встречи в упреках и оправданиях, они, взявшись за руки, отправлялись в любимый «Космос», в кино, на концерт, в театр или в гости. И хотя вкусы у них были весьма разные, даже во многом противоположные, шли с удовольствием — ведь, и конце концов, они были вместе.
Происходил, как выражалась Лена, процесс «взаимного обогащения». Например, Лена заразила Никитина своей любовью к цирку, а он ее — к спортивным соревнованиям.
Сначала Лена сопротивлялась.
— Не могу понять! Ну выходят два человека на ковер, пыхтят, сопят, швыряют друг друга, тратят кучу энергии… Зачем? Да еще ты говоришь, что каждый день теряют два-три часа на тренировки. Это же уйма времени!
— Во-первых, — солидно возражал Никитин, — я не говорил «тратят время». Они от тренировки получают удовольствие. Они благодаря этому «потраченному» времени становятся здоровыми, сильными, атлетичными. Ты вот, например, сколько времени проводишь каждое утро перед зеркалом? А? То-то! Тратишь время. Зачем? Чтобы выглядеть красивой — «от того удовольствие и торжество в чувствах получая». Во-вторых, кто сопит и пыхтит? Ты, может быть, когда контрольную пишешь, а у самбистов я что-то не замечал. И вообще, по-твоему, самодеятельные певцы, танцоры, актеры, художники, фотографы, композиторы, все, кто пишет для себя и друзей, а не для журналов и издательств стихи, все, кто вообще «тратит время», совершенствуясь в чем-то, не связанном с его непосредственной профессией, делают это зря?
— Нет, ну я не говорю… Но… В общем…
Однако такая аргументация звучала малоубедительно, и Лена замолкала.
В конце концов она увлеклась самбо, азартно вопила на соревнованиях, толкала Никитина в бок, охала или и сердцах восклицала: «Шляпа! Дистрофик!»
Друзей у них было много, и в гости они ходили часто. Но тут наметилось явное размежевание. Несмотря на примечательную красоту и все признаки любви к Никитину, которую она не скрывала, его товарищам Лена не нравилась.
Разумеется, они были приветливы, галантны, гостеприимны, но Никитин чувствовал, что это делается ради него.
Дима Сурков, например, занимавшийся у одного с Никитиным тренера.
— Видишь ли, — говорил он раздумчиво, стараясь подбирать выражения помягче, — не настоящая она какая-то. Не обижайся, Валька. Тебе, в конце концов, судить. Но, с другой стороны, ты не можешь судить в этом деле объективно. Со стороны видней.
— Но ведь она же… — горячился Никитин.
— Знаю, влюблена. По всему видно. Бесспорно. Но как бы тебе сказать? Мне кажется, что вот так она могла бы любить еще сто человек. Нет, не одновременно — последовательно. Ну, понимаешь, вот есть женщина, которая любит самозабвенно именно тебя. Ни до тебя, ни после никого так уже не полюбит, да если б тебя и не было, никого бы так не любила. По-другому. А Лена твоя, она любит вообще так, любого, кого любит, если ты понимаешь, что я хочу сказать. Не было б тебя, она так же отчаянно была бы влюблена в другого. Исчезнешь ты — следующего, а за ним следующего будет так любить. Да и до тебя…
— Но она же девчонка…
— Э нет! В чувствах она зрелый человек, поверь мне. Просто она вообще такая. И в двадцать пять, и в тридцать, и в сорок будет такой же. Ну, легкомысленная она, что ли. Или это другое. Вот она постановила для себя, что влюблена, и шлюзы открылись. Потом решит, что влюблена в другого, — повторится то же. Таких, как ты, она, наверное, еще не встречала, но ведь встретит. Подобные ей быстро забывают.
Дима Сурков во многом был прав, в одном он ошибался — Лене никогда не суждено было забыть Никитина…
Иногда Никитин мечтал. Прохаживаясь с жезлом в руке вдоль широкой асфальтовой магистрали, по которой уже прохладный ветерок то и дело гонял начинавшие желтеть листья, он мечтал. Это не мешало ему зорко следить за машинами, останавливать нарушителей — вообще выполнять свои прямые служебные обязанности.
Отнюдь.
Просто в какие-то спокойные минуты он представлял, что они с Леной вместе. Он избегал находить этому понятию более точное определение — просто вместе. В основном он мечтал о том, что Лена станет другой — она будет серьезной, с чувством ответственности; будет увлечена своей профессией педагога, к каковой ныне ома относится довольно иронически, будет любить его, Никитина, не восторженной любовью, а глубокой, спокойной, «солидной». Никитин досадливо обрывал свои мечты, когда над головой его любимой начинал светиться нимб. А вообще здорово, если б она стала такой, какой он хотел! Но, наверное, само ничто не приходит, надо над этим работать, воспитывать ее, разумеется, незаметно, чтобы она и не догадывалась…
— Девчонки, он меня перевоспитывает, — увлеченно рассказывала Лена своим внимательно слушавшим подругам, — ведет душеспасительные беседы.
— А ты? — вопрошала Нина.
— Поддаюсь! Всецело. Скоро запишусь в секцию самбо — буду вас швырять через стол. Хочешь, сейчас?
Лена набрасывалась на подруг, начинались визг, возня, пока все трое в изнеможении не падали на диван, растрепанные и тяжело дышащие.
— Нет, вы только подумайте, — продолжала Лена, отдышавшись, — он, например, не понимает, зачем я учусь в педагогическом, если не собираюсь учить детишек! Я объясняю — язык хочу знать, а там куда-нибудь в интересное место. «В какое?» — спрашивает. А я откуда знаю? Я сама не знаю. Ты вот, Валя, знаешь?
Валя презрительно пожала плечами.
— Я-то знаю. Я, между прочим, это еще в седьмом классе знала. Пойду в школу. Поработаю несколько лет; если смогу, буду в институте преподавать.
— А я, если возьмут, — в аспирантуру, вставила Нина. — Я и тему уже придумала…
— Да ладно… — Лена махнула рукой. — Вы же образцово-показательные. Вас на выставку надо, в музей, а я буду гидом — указкой в вас тыкать и объяснять на заграничных языках: «Вот идеальные бывшие школьницы, позже образцовые студентки, ныне показательные учительницы…»
Она помолчала.
— А вот он всегда знает, чего хочет. И уж он, будьте покойны, своего добьется. Он еще генералом станет…
— А ты генеральшей… — подхватила Нина.
— Нет, — сказала Лена с неожиданной грустью, — не буду я генеральшей. Он найдет лучше, настоящую, не такую балаболку, как я… Но тут же она вскочила, закружилась по комнате, запела: — «Как хорошо быть генералом, как хорошо быть генералом, стану я точно генералом, если капрала переживу!..»
— Да брось ты! — Валя растрогалась. — Все у вас будет хорошо. Между прочим, если он дослужится только до капитана, тоже ничего страшного, будешь капитаншей.
Лена иногда спрашивала себя, по-настоящему ли она любит Никитина. Дело в том, она это твердо знала, что истинная любовь беспричинна и необъяснима. Когда человек любит по-настоящему, он не может ответить, почему он может любить урода, глупца, подлеца.
А вот она отлично знала, за что любит Никитина. Она просто по полочкам могла разместить все эти «за что», Никитин умный, решительный, волевой, романтичный. Герой. Он сильный, ловкий, атлетически сложен и красив, он самбист и снайпер, спортсмен и офицер. Супермен. Когда они идут рядом, девчонки засматриваются на него, а на нее бросают завистливые взгляды.
Но однажды где-то в кино, в ожидании сеанса, они, случайно заглянув в газету, увидели постановление Президиума Верховного Совета о награждении лейтенанта милиции из далекого города. Последним словом в постановлении было «посмертно». Лена вдруг задумалась. Она себе представила, что вместо фамилии того далекого лейтенанта стоит фамилия Никитин. Ей стало страшно — она вцепилась в его руку с такой силой, словно они должны были расстаться навсегда. Она внезапно представила себе, что он больше не позвонит, не придет на свидание, вообще исчезнет из ее жизни.
Вот тогда она поняла, что любит по-настоящему. Она замучила Никитина нелепыми вопросами: не палят ли нарушители движения в инспекторов из пистолетов, не опасно ли ездить на большой скорости на мотоцикле, вооружен ли он, когда ходит в штатском, особенно ночью, и т. д.
Никитин смеялся, шутил, но Лена смотрела на него укоризненным взглядом, и ему становилось неловко.
Впрочем, долго грустить и тревожиться Лена не умела. Ее увлекала какая-нибудь очередная идея — веселая, а то и взбалмошная: то готовилась свадьба подруги, то возникала мысль кого-то разыграть, то выяснялось, что где-то, чуть не в подмосковном поселке, устраивается бал-маскарад, и она во что бы то ни стало хотела попасть туда, да еще с Никитиным.
— Тебе просто, — рассуждала она, — ты наденешь форму. Никто не поверит, что лейтенант милиции придет на такое мероприятие. А я переоденусь пьяницей — ты вроде бы меня задержал! А? Здорово?
— Гениально! — кисло улыбался Никитин. — В результате нас обоих задерживают дружинники и отправляют на психиатрическую экспертизу.
— Никакой фантазии в тебе нет, — сокрушалась Лена. — Трезвяк, сюрреалист…
— А ты знаешь, что это такое? — коварно вопрошал Никитин, но Лена спешила переменить тему разговора.
В последнее их свидание у Лены с Никитиным произошел волнующий для нее разговор. Пожалуй, это был первый разговор, откровенно затронувший их отношения.
Дело в том, что «безумная любовь» являлась темой бесед Лены с подругами или внутренних монологов молодых людей. Друг другу они еще об этом не говорили, хоть слова здесь, вообще-то говоря, не требовались. Когда парень и девушка проводят все свободное время вместе, смотрят друг на друга сияющими глазами, целуются в кино и на прощанье в подъезде — как изволите называть такие отношения? Шапочным знакомством?
А тут, сидя в сквере на скупом в тот год осеннем солнышке, они рассуждали о жизни. Как-то незаметно разговор перешел к планам на будущее. У Никитина все было ясно: его жизненная программа была начертана твердо и точно — надо было ее выполнить. Во-первых, он решил закончить еще один институт — юридический. Уже занимался, готовился, но считал, что поступать в этом году рано, а на будущий — обязательно. На вечерний или заочный — еще не решено; это зависело от начальства, как позволит служба. К тому времени, когда он кончит институт, Никитин будет капитаном. Имея такой стаж работы, два высших образования и звание капитана, Никитин рассчитывал серьезно заняться следовательской работой. Он уже сейчас читал много книг по криминалистике, ходил в НТО, надоедая там сотрудникам бесконечными вопросами, присутствовал при допросах, смотрел дела.
Далее (Никитин загибал второй палец), далее он станет мастером по мотоспорту, а возможно, и по борьбе самбо. И, кто знает, вполне может быть — по стрельбе. Трижды мастер спорта, да еще по столь разным видам, — «это красиво», как любит выражаться Лена. И наконец (загибается третий палец), он займется языком — сейчас без языка не то что до Киева, до соседней улицы не дойдешь.
— В-четвертых, — Никитин загнул еще один палец, — в-четвертых, но не в последних, буду устраивать личную жизнь. Сейчас я ведь у родителей. Там сестры, одна замужем. Тесновато. Начальник управления сказал: «Как женишься, дадим комнату». Так что дело за малым — надо жениться.
И он прямо посмотрел Лене в глаза, то ли серьезно, то ли, как всегда, насмешливо. Она тотчас опустила голову.
Потому что одно дело говорить о замужней жизни с подругами, играть в мечты и совсем другое, когда мечты без пяти минут становятся явью.
Вот ему все ясно, он все знает наперед, не сомневается, видит цель и идет к ней настойчиво, уверенно.
А она? Ну, кончит институт, ну, поработает с делегациями (желательно на кинофестивалях, а не на выставках полиграфических машин), а дальше? Чего она хочет? К чему стремится? К какой близкой или далекой цели?
Может быть, она вообще хочет быть лишь женой? Вот если б ей предложили стать супругой уважаемого академика, генерала и при этом ничего не делать. Устроило бы это ее? Наверное, нет. Наверное, она бы тосковала по делу, хоть и не представляет какому, по коллективу, по товарищам, связанным с ней общими рабочими интересами.
Но все это так неясно, так расплывчато…
Лена злилась порой на себя. Скоро институт кончит, а до сих пор «не определилась», плывет себе по течению без ясной цели.
Ну а Никитин? В конце концов, дело делом, но ведь здесь любовь. Она его любит. Какая же девушка не мечтает стать женой любимого человека? Так нет, и здесь все словно в какой-то игре: маленькие играют во взрослых. А какая же игра, если вот он, рядом, почти все сказано и надо говорить самой?
Лена в панике искала какие-то иные темы разговора, прятала глаза.
А потом дома плакала, называла себя дурой.
По в тот день, когда, как всегда опаздывая, она мчалась к месту свидания, к Белорусскому вокзалу, она решила, что все скажет сама. Вот возьмет и скажет.
Ну почему она не умеет не опаздывать? Прямо рок какой-то! Пока спустится в метро, дождется поезда, доедет… О господи, хоть бы такси! Но такси шли в сторону центра, а с этими их дурацкими правилами, пока развернется, целый час потеряешь!
В эту минуту Лена увидела зеленый огонек, приближавшийся к ресторану «Баку». Она быстро огляделась — милиционера в поле зрения не было. Прижав локтем сумочку, Лена стремглав помчалась через улицу Горького, отчаянно размахивая рукой приближающемуся такси…
Происшествие на улице Горького
Около семи вечера движение на улице Горького становится особенно оживленным: кончился рабочий день, скоро начнутся концерты и спектакли, а осенью еще многие спешат за город. Может быть, в силу этой последней причины поток машин, стремящихся из города, куда гуще того, что движется в обратном направлении. Черные, бежевые, серые, зеленые «Волги», «Москвичи», «Жигули», с затерявшимися среди них редкими машинами зарубежных марок, маршрутными такси, пыхтящими от нетерпения мастодонтами аэродромными автобусами — или изящными туристскими «карами», сплошным потоком неслись по главной столичной магистрали, застывая у светофоров, набирая скорость в промежутках.
Невеселое, пасмурное небо нависло над Москвой, дождя не было, но он где-то копился, чтобы вылиться потом, ночью, когда все будут спать блаженным сном.
Спешил, выйдя из сберкассы № 7982, в расположенный по соседству магазин игрушек Степан Степанович Степанов; сжимая в руках резинового Бемби, студент Дима шел домой, мечтая о первом свидании с Наташей; в тщетной надежде купить в магазине игрушек до его закрытия никогда там не продававшиеся коньки торопилась Лидия Романовна, оставив Ксюшку возле окошка, где торговали пончиками, заранее переживая радость приобретения нового реле, вел свою «Волгу» инженер Румянцев.
У всех были дела, приятные или хлопотные заботы…
И никто из этих людей не знал, что через несколько секунд по воле очень красивой, очень влюбленной, опаздывающей на свидание девушки, случится с ними самое страшное, что может случиться с человеком.
Лена мчалась, виляя между машинами, к заветной цели — мелькавшему все ближе зеленому огоньку. На мгновение сплошной, несшийся в направлении площади Маяковского поток машин преградил ей путь. Она замерла, остановившись на узкой полосе резервной зоны. Но огонек все приближался, он уже был рядом; еще немного — и такси проедет, не заметив ее.
К счастью, наметился просвет — огромный рейсовый автобус Аэрофлота, приближавшийся со стороны Пушкинской площади, был, как показалось Лене, еще далеко. Ей показалось, что и машины, двигавшиеся по ту сторону автобуса, также не близко. Веселые искорки заплясали у нее в глазах. Она представила себе, как будет ворчать Никитин, когда она расскажет ему о нарушении порядка, совершенном ради него. Что по сравнению с этим какие-то дурацкие правила и инструкции! В конце концов, если она заслужила штраф, пусть он купит ей сегодня на рубль меньше цветов. Это была традиционная шутка. Лена часто повторяла ее. Никитин же встречал ее без особого энтузиазма.
Лена, еще продолжая улыбаться, легкая и быстрая, промчалась почти перед самым гигантским тупым носом автобуса, почувствовав жар, услышав над ухом мощный сигнал…
Она бросила быстрый взгляд вправо и похолодела: на нее неслось грузовое такси. Растерянная, в панике, с расширенными от ужаса глазами, Лена каким-то чудом успела прошмыгнуть буквально в нескольких сантиметрах от машины. Дикий воющий скрежет тормозов покрыл все другие шумы. Грузовик остановился, а Лена, ничего не замечая, кроме спасительного тротуара, рванулась вперед. Она не заметила за высоким грузовиком быстро двигавшуюся в первом ряду «Волгу», да если и заметила бы, все равно у нее не было иного выхода, кроме движения вперед.
Казалось, третьего чуда для Лены уже не произойдет. Но оно произошло…
Инженер Румянцев вел машину быстро и спокойно. На всем этом участке улицы Горького были подземные переходы, на самой площади Маяковского лишь несколько секунд назад зажегся в светофоре зеленый свет, и не было причин чего-либо опасаться. К тому же слева от него по центральной части улицы двигался сплошной поток машин.
Девушка, вылетевшая каким-то непостижимым образом буквально из-под колес соседнего грузового такси, застала инженера врасплох.
Быть может, будь на его месте водитель с тридцатилетним стажем и феноменальной реакцией, он что-нибудь смог бы предпринять. Хотя вряд ли.
Румянцев же был просто достаточно опытный и осторожный любитель. Но все же любитель.
Девушка была так близко, что, даже мгновенно затормозив, он сбил бы ее; свернув влево, он врезался бы в набитый детьми «Москвич», который к тому моменту занял место проехавшего вперед грузового такси. Повернув же вправо, на одно из окаймлявших улицу Горького деревьев, Румянцев жертвовал лишь собой.
Таков был ход мыслей инженера, делавший ему честь. К сожалению, не все решения удается осуществить, в особенности если на их принятие и выполнение дается секунда. А у Румянцева не было и этой секунды. Резко, отчаянно крутнув руль вправо, он чуть-чуть не довернул его, совсем чуть-чуть. Но этого оказалось достаточно, чтобы «Волга», прочертив по асфальту черный след и содрав с дерева кору, врезалась в огромную витрину магазина игрушек, сметая все на своем пути.
Все и всех…
Визг тормозов, звон разлетающегося на куски гигантского витринного стекла, стук сталкивающихся машин, крики перепуганных людей слились воедино.
Потом наступил миг тишины.
Потом понеслись другие шумы — милицейские свистки, крики, сирены «скорой помощи»…
Через несколько минут санитары в белых халатах укладывали в свои машины пенсионера Степанова, студента Диму, бывшую стюардессу Лидию Романовну…
Санитары повидали много горького и страшного — такая уж у них работа. Но сейчас и они не могли скрыть подавленности.
Они бережно укладывали тела на носилки, они делали свое дело, и машины на бешеной скорости мчались в Институт Склифосовского. Но они прекрасно понимали, что для спасения этих троих машины могли уже не спешить…
Были раненые. Их перевязывали, делали им уколы и увозили. Был увезен и инженер Румянцев.
Выездные инспектора и следователи дежурного по городу щелкали фотоаппаратами, растягивали рулетку, милиционеры, отчаянно свистя и жестикулируя, восстанавливали движение. Вскоре разбитую «Волгу» утащили на буксире, убрали с тротуара стекло и заложили витрину фанерой. Люди разошлись, инспектора в своих машинах, выстроившихся вдоль тротуара, опрашивали потрясенных свидетелей.
С ровным гулом мчался по улице Горького поток машин, спешили по своим делам прохожие, зажглись фонари…
Жизнь для тех, кто продолжал жить, входила в нормальную колею.
Для тех, кто продолжал жить.
Для Лены, например.
Где она? Что случилось с ней в эти страшные минуты? Как поступила она, поняв, что совершила, чему была виной?
Быть может, в отчаянии бросилась под машину или рыдала, упав на холодный асфальт? Может быть, оцепенев, стояла недвижно в толпе, глядя на дело рук своих…
Нет. Лена, озабоченно поглядывая на часы, переминалась у двери вагона метро, мчавшего ее на свидание к Никитину.
Когда, чудом избежав гибели под колесами машин, еще дрожа от пережитого, Лена выскочила на тротуар, она услышала за спиной страшный грохот, звон, крики. Она не обернулась: о такси она теперь не думала, лишь бы удрать от милиционера или от этих активных граждан (есть же такие, вечно лезут не в свое дело) — еще остановят! Плати штраф, выслушивай нотацию. Она заторопилась ко входу в метро, по-прежнему не оглядываясь, удалялась своей легкой походкой.
В суматохе и растерянности, царившей в первые секунды после происшествия, никто Лену не задержал а даже не разглядел как следует.
«Перебегала какая-то девушка…», «Девчонка выскочила из-под машины…», «Ну какая? Обыкновенная, юбка короткая, волосы по плечам. Цвет юбки? А бог его знает, не заметил…» — так говорили свидетели.
А Лена нетерпеливо пощупывала резиновые прокладки вагонных дверей, ожидая, пока поезд остановится.
Наконец поезд остановился, двери со стуком разъехались, и она торопливо побежала к эскалатору, стуча каблуками. Эскалатор, по ее мнению, тоже шел медленно. И люди в дверях толклись… Черт! И так опаздывает. Ну ничего, Никитин простит. Она сейчас рассмешит его своей обычной шуткой. Впрочем, нет, на этот раз она ничего не расскажет. Почему? Лена сама не могла бы ответить на этот вопрос. Но настроение ее неожиданно испортилось. Оно стало совсем плохим, когда, войдя под гулкие своды туннеля, туда, где вдоль стен выстроились продавщицы цветов, она не увидела знакомой высокой, широкоплечей фигуры.
Не может быть! Не мог он уйти! В конце концов, это свинство: она опоздала всего минут на пятнадцать — это даже меньше, чем обычно. Неужели он решил ее проучить? Ну погоди! Имеет же девушка право опаздывать! Это испокон веку ведется, это всегда было…
А может, его задержали по службе? Нет, он всегда умудрялся предупредить ее. Да и было так всего раза два. Тогда что же?
Лена почувствовала, как слезы выступили у нее на глазах. Раньше эта мысль даже не приходила ей в голову. Сейчас впервые она вдруг подумала: а что, собственно, она собой представляет? Девчонка как девчонка, таких тысячи по Москве бегают. И такие же красивые, и такие же разодетые, с такими же фигурами и прическами. Что она, очень уж умная или талантливая? Может быть, великая актриса, чемпионка по гимнастике, кандидат наук? Да она никто! Никто!
Потом Лена взяла себя в руки. Нет! Этого не может быть. В конце концов, не так уж много таких красивых, как она, таких обаятельных, кокетливых, изящных…
Лена долго пересчитывала мысленно свои достоинства и постепенно успокоилась.
То и дело бросая взгляд на часы, она продолжала ходить по туннелю.
Просто он задержался. Еще несколько минут, и придет.
Но Никитин не пришел…
Происшествие на Беговой
Посматривая на часы, Никитин прохаживался вдоль асфальтовой магистрали. До конца дежурства оставалось не так уж много времени — он успеет. Тем более что не было еще случая, чтобы Лена не опоздала на свидание.
Лена! Сейчас они встретятся в туннеле у Белорусского вокзала, где такой выбор цветов… Но вообще-то место встреч надо менять — осень, в туннеле продувает, холодно. Вместо цветка придется приобретать шоколадку.
А сейчас он купит ей самый яркий цветок, какой будет, и они отправятся смотреть какой-то приключенческий фильм, который, как всегда, «методом анализа» доски объявлений обнаружит Лена.
Глядя на схватки и происшествия на экране, Никитин, имевший представление о настоящих схватках и приключениях, не смеялся. Он уважал искусство и считал, что хороший фильм не только интересен, но и полезен.
Лена, обожавшая детективы, была разочарована, когда выяснилось, что ее любимый, хоть и офицер милиции, судя по его рассказам, никогда не рисковал жизнью, не был героем немыслимых историй и вообще его имя не связывалось ни с какими кровавыми и жуткими драмами.
Никитин улыбался про себя, но ему было приятно, что он все же нравится Лене как человек, а не из-за каких-нибудь там романтических фантазий. И он сознательно говорил о своей службе как о чем-то очень будничном, все время эту будничность преувеличивая.
Лена быстро примирилась и стала восхищаться Никитиным как спортсменом. Она ахала и охала, внимая рассказам о его спортивных победах, и здесь, будем откровенны, Никитин порой позволял себе кое-какие невинные преувеличения.
Снисходительно улыбаясь про себя, он представлял, как Лена наводит красоту перед зеркалом. Затратив на это добрый час, она затем пытается за пять минут доехать от своего дома до «Белорусской». Такси она, конечно, не находит, на троллейбусе долго, на автобусе неудобно (нет автобусных билетиков), на метро — спускаться-подниматься… Она мечется и опаздывает еще больше.
Наконец, наверняка перебежав улицу где-нибудь в неположенном месте, она самым длинным и неудобным путем добирается до места свидания.
Кстати, эта вот манера Лены пренебрегать правилами уличного движения не только профессионально раздражает Никитина, но, если быть откровенным, беспокоит его.
Уж он-то знает, к чему это может привести. Скольких молодых, еще за минуту до этого здоровых, полных сил, видел он неподвижными на носилках, с восковыми лицами, навсегда изувеченными, калеками, а то и…
…Мысли о Лене ни на секунду не отвлекали Никитина от прямого дела. Поэтому его привычный, опытный взгляд мгновенно уловил что-то необычное в движении трехтонки: выехав из туннеля на Башиловку, она повернула направо с намерением, вероятно, попасть на Ленинградский проспект.
Водитель трехтонки ничем, казалось бы, не нарушил правила, и машина его была внешне в порядке, но выработавшаяся с годами интуиция, натренированная наблюдательность, а главное, профессиональная бдительность подсказали Никитину: остановить! Он засвистел и сделал повелительный знак жезлом, раньше чем понял причину своих действий — водитель наверняка выпил. Смущали неуловимые детали в движении машины, в том, как она делала поворот. Неуловимые, но достаточные, чтобы Никитин мгновенно поднес свисток ко рту.
Грузовик остановился.
Никитин неторопливо подошел к кабине водителя и, приложив руку к козырьку, произнес:
— Инспектор Никитин. Пожалуйста, водительское удостоверение и путевку.
Водитель не вылез из машины, не опустил окно. Он открыл дверцу и протянул документы. Его желание держаться от инспектора подальше было настолько очевидным, что, если даже у Никитина не было подозрений раньше, они возникли бы теперь.
Лейтенант внимательно рассматривал удостоверение, путевой лист — здесь все было правильно. Но сейчас не это имело значение.
— Машина в порядке? — внезапно спросил лейтенант и, раньше чем водитель успел ответить, легко вспрыгнул на подножку и резко приказал: — Подвиньтесь, проверю.
Этого Николай не ожидал, и на какое-то мгновение его лицо оказалось рядом с лицом лейтенанта. Повернувшись к водителю, Никитин демонстративно вдохнул носом воздух.
Наконец-то Николай понял. Какой дурак! Как он мог на таком деле выпить! И как мог не сообразить, почему остановил его этот чертов инспектор, уж неизвестно каким невероятным путем учуявший неладное. Ведь догадайся Николай, он бы сделал вид, что не слыхал свистка, удрал, а там, когда на базу придет вызов, все будет проще. Ну, ответит за нарушение, которого, кстати, не было. Главное — деталей не будет! А теперь? Что теперь?
— Много выпил? — спросил Никитин.
— Да что вы, товарищ лейтенант! Да ей-богу… да я…
Никитин только махнул рукой.
— Отстраняю вас от управления! Поедем на экспертизу… — Никитин спокойно нажал педаль и повел машину.
Жаль, конечно, что свидание с Леной сорвется. А может, она дождется? Ведь это впервые. И все из-за этого пьяницы… Никитин бросил в сторону Николая презрительный взгляд. Он, конечно, не пьян, так, едва-едва выпил, но за рулем трехтонки… Даже если был бы один процент риска, этого не следовало допустить. Ничего нет страшней в городе, чем пьяница за рулем. Ладно, надо побыстрей доставить его… Так размышлял лейтенант Никитин, спокойно ведя машину.
Ворча про себя, следовал за грузовиком на своем «Москвиче» капитан Юнков. Отдавая дань бдительности инспектора, восхищаясь его наблюдательностью, он в то же время досадовал, что срывается операция. Но, может, он ошибся и водителя выпустят? Или удастся изобличить его прямо в милиции в воровстве деталей, сразу же допросить, выяснить, куда, к кому ехал? Эх, если б капитан Юнков мог предполагать, к чему приведет его затянувшаяся слежка…
Николай все больше наливался яростью. Накрылся! Кончено дело, теперь срок обеспечен. Был хороший бизнес, были деньги, была клиентура. А теперь из-за этого, из-за этого… все летит прахом!
Николай не желал признаться себе, что виноват во всем сам. Не в воровстве — разумеется, об этом он и не думал, — а в том, что выпил. И именно то, что виноват он, вызывало к задержавшему его милиционеру жгучую ненависть.
Он задыхался от этой ненависти, лицо покрылось испариной, короткие пальцы, сжатые в кулак, побелели.
При мысли, что его ждет и что он потерял по вине этого… этого (Николай не находил слов), он застонал. Но Никитин так же спокойно продолжал вести машину. Он вывел ее на Ленинградский проспект, повернул налево, на узкий проезд, пересекавший разделительную, усаженную деревьями полосу, и переехал на другую сторону проспекта, чтобы попасть на Беговую. Подобный маршрут не существует для транспорта, но за рулем грузовика сидел милиционер, а следовавший сзади «Москвич» благодаря своим волшебным знакам мог вообще двигаться в любом направлении.
Теперь они ехали по Беговой, приближаясь к перекрестку.
И тогда вдруг в затуманенном вином и яростью мозгу Николая возник безумный план, план, который мог прийти в голову только загнанному в угол, потерявшему чувство реальности преступнику.
Николай решил убить милиционера, выбросить его из кабины, свернуть влево, на максимальной скорости подъехать к ипподрому, ломая ограждение, выехать на него, пересечь огромное поле и где-нибудь там, в дальнем конце, где нет людей, куда не скоро доберутся, бросить машину и скрыться. Он не подумал о том, что его удостоверение и путевка у Никитина в кармане и что вообще потребуется пять минут для установления личности шофера брошенной машины, что машина не сумеет преодолеть ограду ипподрома, проехать по пересеченному различными препятствиями полю. Он не думал о том, что в намеченной им авантюре могут погибнут! люди, что грузовик его сомнет другие машины (чего ему бояться — у него трехтонка!). И уж меньше всего он думал о том, что произойдет с оглушенным, выброшенным на полном ходу из кабины человеком.
Задыхаясь от ярости, Николай быстрым движением достал из-под сиденья тяжелый гаечный ключ и изо всей силы ударил Никитина в висок…
Рванув дверцу, он торопливо сдвинул милиционера к краю сиденья, взял управление на себя и попытался выбросить безжизненное тело из машины.
Машина шла на малой скорости, и скорей всего Никитин остался бы жив.
Но тут произошло неожиданное. Чудовищным усилием воли стараясь сохранить ускользавшее сознание, почти ничего не видя и не слыша, Никитин вцепился в Николая, не давая ему вести машину. Билась последняя угасавшая мысль: «Задержать, задержать подольше».
Не сделай этого, Никитин, вероятно, остался бы жив. А преступник, круша и давя все на пути, умчался бы, осуществляя свой жестокий и бессмысленный план. И сколько других людей погибло бы под колесами его грузовика, трудно и предположить.
Николай изо всей силы пытался вытолкнуть инспектора. Грузовик, вихляя, еле двигался по улице, вызывая недоумение у следовавших сзади водителей.
Наконец, почувствовав, что ничего не может сделать, Николай вновь схватил гаечный ключ и остервенело начал бить и бить лейтенанта.
Но сдавившие его пальцы так и не разжались… С пронзительным визгом тормозов подлетел к кабине грузовика серый «Москвич», и капитан Юнков, вскочив на подножку, скрутил убийцу.
Была предотвращена гибель многих людей. Но спасти жизнь Никитина врачи были не в силах.
Он погиб на посту. Такая у него была служба, и с самого начала он знал, что ежедневно рискует жизнью, хоть и работает не в уголовном розыске, а спокойно прогуливается с жезлом в руке по широкой, окаймленной зеленью асфальтовой магистрали.
Не было войны, над городом светлело мирное небо, но он, Никитин, был на фронте, а на фронте нельзя без жертв. Его и наградили боевой наградой — медалью «За отвагу». Только последним словом в Указе было слово «посмертно».
Тот номер газеты с Указом Лена бережет вместе с самыми дорогими, немногими своими реликвиями.
Не дождавшись тогда своего Валентина, хмурая и злая, Лена возвратилась домой.
Делилась с подругами мрачными мыслями, во всех деталях рассказывая о неудавшемся свидании (о том, что было на улице Горького, она рассказать забыла)… Обсуждали коллективно, строя всевозможные догадки.
Обсуждали, пока не узнали правду…
Прошло время, и Лена снова стала смеяться и кокетничать, флиртовать и веселиться. Она была полна все той же неуемной, жадной любви к жизни. Так же любила вечеринки и танцы, красиво одеваться…
И так же забывала порой брать билеты в автобусе, перебегала улицу в неположенном месте.
Но иногда, если случайно заходил разговор о каких-нибудь дорожных происшествиях или авариях, она вдруг, зло сверкая глазами, требовала для всех этих лихачей, шоферов-пьяниц, нарушителей, из-за которых гибнут замечательные люди, расстрела, а еще лучше виселицы.
И в голосе ее звучала такая ненависть, что собеседнику становилось не по себе и он спешил переменить тему разговора…
1971 г.

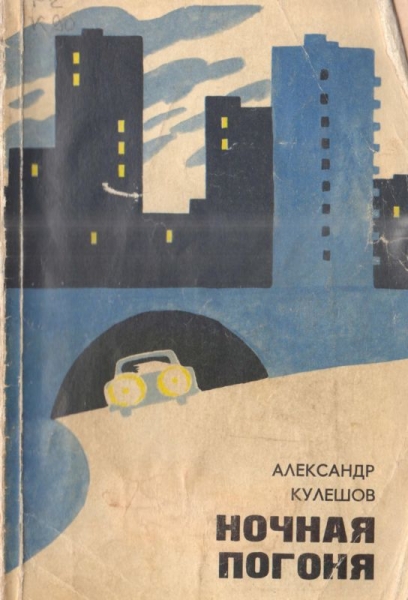







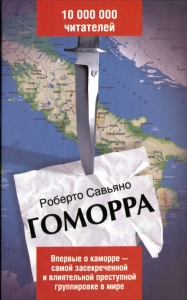

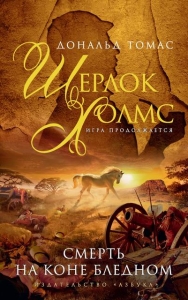

Комментарии к книге «Ночная погоня», Александр Петрович Кулешов
Всего 0 комментариев