Элис Фини Иногда я лгу
Посвящается моему Даниэлю. И ей
Alice Feeney
SOMETIMES I LIE
Серия «Двойное дно: все не так, как кажется»
Печатается с разрешения агентств Curtis Brown Group Limited и The Van Lear Agency
Перевод с английского Виктора Липки
Под редакцией Валентины Люсиной
Оформление обложки Яны Паламарчук
© Alice Feeney, 2017
© Липка В., перевод, 2017
© ООО «Издательство АСТ», 2018
Меня зовут Эмбер Рейнольдс. Обо мне вам следует знать три вещи:
1. Я лежу в коме.
2. Мой муж меня больше не любит.
3. Иногда я лгу.
Сейчас
День рождественских подарков, 26 декабря 2016 года
Меня всегда восхищало особое состояние невесомости в промежутке между сном и явью. Эти драгоценные полубессознательные мгновения, перед тем как ты открываешь глаза, когда ты еще продолжаешь верить, что твои сны могут быть реальностью. Момент острого наслаждения или острой боли, пока чувства не перезагрузятся и не сообщат тебе, кто ты и что ты. Короткий миг, на какую-то секунду дольше обычного, я наслаждаюсь целительной иллюзией, представляя, что могу оказаться кем угодно и где угодно, что меня можно любить.
Сквозь закрытые веки пытается пробиться свет, мое внимание привлекает платиновое кольцо на пальце. Сегодня оно будто тяжелее, чем обычно, и как-то даже тянет меня к земле. Тело накрыто простыней, она пахнет непривычно, и в голову приходит мысль, что я, вероятно, в отеле. Воспоминания о сновидениях бесследно испарились. Я пытаюсь оттянуть момент окончательного пробуждения, пытаюсь остаться кем-то другим и задержаться там, где меня больше нет, – но напрасно. Ничего не изменилось: я это я, и нахожусь там – теперь это уже понятно, – где мне совсем не хочется. Все тело болит, меня одолевает такая усталость, что даже нет желания открывать глаза. И вдруг я вспоминаю, что даже если захочу, у меня это все равно не получится.
По телу порывом ледяного ветра проносится паника. Память ничего не говорит о том, что это за место и как меня сюда занесло, но зато мне известно, кто я: Меня зовут Эмбер Рейнольдс; мне тридцать пять лет; у меня есть муж Пол. Эти три факта крутятся в голове, будто пытаясь меня спасти, хотя мне и ясно, что в этой истории недостает нескольких глав, что из нее вырвали пару последних страниц. Собрав воспоминания в кучу, насколько это вообще возможно, я хороню их до тех пор, пока они не успокаиваются в голове, пока ко мне не возвращается способность думать, чувствовать и предавать осмыслению все, что произошло. Один отголосок прошлого отказывается уходить, упорно пробиваясь на поверхность, но у меня нет желания ему верить.
В сознание врывается мерный рокот какого-то аппарата, лишая последней надежды, оставляя меня наедине с пустотой, которую заполняет единственно понимание, что я лежу на больничной койке. От стерильной вони палаты меня тошнит. Ненавижу больницы. Они – обители смерти и сожалений, теперь совершенно неуместных, и совсем не то место, где мне когда-нибудь хотелось бы побывать, тем более в качестве пациента.
Недавно – вспомнила! – здесь были какие-то люди, совершенно мне незнакомые. Произнесли слово, которое мне совсем не хотелось слышать. Все суетились, говорили на повышенных тонах, в воздухе висел страх, и не только мой. Я стараюсь откопать в памяти что-нибудь еще, но разум отказывается мне служить. Случилось что-то очень плохое, но что и когда – я вспомнить не могу.
Почему здесь нет его?
Задавать вопрос, заранее зная на него ответ, может быть опасно.
Он меня не любит.
Эту мысль я откладываю на потом.
До слуха доносится звук открываемой двери. Шаги, потом вновь наступает тишина, но какая-то испорченная, которую уже нельзя назвать непорочной. В нос бьет стойкий, прогорклый запах табака, справа раздается скрип бегающей по бумаге ручки. Слева кто-то кашляет, и я понимаю, что их двое. Чужаки, скрывающиеся во тьме. Становится холоднее, чем раньше, я кажусь себе ужасно маленькой. Такого ужаса, как сейчас, раньше я никогда не знала.
Хочется, чтобы кто-нибудь что-то сказал.
– Кто она? – спрашивает женский голос.
– Понятия не имею. Бедняжка, какой ужас! – отвечает ей другой, тоже женский.
Уж лучше бы молчали. Я кричу:
Меня зовут Эмбер Рейнольдс! Я радиоведущая! Почему вы не знаете, кто я?
Я повторяю одно и то же снова и снова, но на меня никто не обращает внимания, потому что снаружи я молчу. Во внешнем мире я никто, у меня даже нет имени. Я хочу, чтобы они посмотрели на меня. Хочу сесть, протянуть руку и прикоснуться к ним. Хочу опять что-нибудь ощутить. Что угодно. Кого угодно. Хочу засыпать их вопросами. Думаю, у меня есть право получить на них ответы. Они повторили то же слово, что говорили и другие, слово, которое я не хочу слышать.
Медсестры закрыли за собой дверь, но слово с собой не забрали – теперь мы остались с ним один на один, и у меня больше нет возможности его игнорировать. Я не могу открыть глаза. Не могу двигаться. Не могу говорить. Слово пузырем всплывает на поверхность, обрушивается на меня, и теперь я знаю – это правда.
Кома.
Недавно
Неделей раньше – понедельник, 19 декабря 2016 года
Я на цыпочках спускаюсь вниз в предрассветной тьме, стараясь его не разбудить. Все, казалось бы, на своих местах, но в душе зреет уверенность – чего-то не хватает. Я надеваю тяжелое зимнее пальто, чтобы защититься от холода, и приступаю к повседневному ритуалу. Для начала несколько раз дергаю ручку задней двери, чтобы убедиться, что она закрыта.
Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз.
Потом встаю перед большой длинной плитой и сгибаю в локтях руки, будто собираясь дирижировать внушительным оркестром газовых горелок. Пальцы обеих рук складываются в привычную фигуру: указательный и средний смыкаются с большим. Я тихо шепчу и внимательно осматриваю конфорки, проверяя, все ли выключено. Повторяю процедуру три раза, пальцы при этом отстукивают азбуку Морзе, расшифровать которую, кроме меня, не дано никому. Удовлетворенно констатировав, что все в полном порядке, я выхожу из кухни, но в коридоре задерживаюсь, задаваясь вопросом, не стоит ли сегодня вернуться и проверить все еще раз. Похоже, что нет.
По скрипучим половицам я прокрадываюсь в холл, беру сумку и проверяю ее содержимое. Телефон. Кошелек. Ключи. Закрываю ее, но тут же открываю снова и проверяю опять. Телефон. Кошелек. Ключи. Потом, уже по пути к выходу, повторяю еще раз. На мгновение замираю и потрясенно смотрю на незнакомку, взирающую на меня из зеркала. У меня лицо женщины, которая когда-то, пожалуй, была красива, хотя теперь я ее совершенно не узнаю. Пестрая палитра светлого и темного. Большие зеленые глаза, прячущиеся под густыми карими бровями, обрамлены длинными черными ресницами; под ними залегли унылые тени. Кожа бледным полотном обтягивает скулы. Темно-каштановые, почти черные волосы рассыпаны по плечам – ничего лучше я придумать не могу. Я причесываю их пальцами и стягиваю в хвост, закрепляя его снятой с запястья резинкой. Теперь на меня смотрит лицо, будто специально созданное для радио.
Потом спохватываюсь, что времени уже много, и напоминаю себе, что поезд ждать не будет. Я не сказала «до свидания», но не думаю, что это важно. Выключаю свет, выхожу из дома, трижды проверяю, заперла ли входную дверь, и шагаю через сад по утопающей в лунном свете тропинке.
Хотя еще рано, я уже опаздываю. Мадлен к этому времени уже явится в офис, прочтет все газеты и выудит из них все интересное. Продюсеры станут копаться в бренных бумажных останках, потом она разорется и станет их стращать, чтобы они подыскивали для ее шоу только тех, с кем можно сделать замечательное интервью. Такси будут подбирать и извергать чересчур воодушевленных и плохо подготовленных гостей эфира. Каждое утро происходит что-то новое, но все равно все время одно и то же. Полгода назад я влилась в коллектив передачи «Кофейное утро», и пока все идет совсем не так, как я планировала. Многим может показаться, что у меня сказочная работа, но ведь сказки бывают очень страшными.
Я останавливаюсь в вестибюле, чтобы купить кофе себе и коллеге, а потом поднимаюсь по каменным ступеням на пятый этаж. Лифты я не люблю. Перед тем как перешагнуть порог, надеваю улыбку, напоминая себе, что лучше всего у меня получается мимикрировать под окружение. Я могу изобразить «Эмбер-подругу», «Эмбер-жену», но сейчас время воплотить другой образ – Эмбер из передачи «Кофейное утро». Мне по плечу сыграть любую роль, которую предложит жизнь, потому что за долгие годы репетиций я выучила назубок каждую реплику.
Солнце едва поднялось над горизонтом, но наш небольшой, преимущественно женский коллектив уже в сборе. Три моложавых продюсерши, подгоняемые кофеином и честолюбием, склонились над своими столами. Окружив себя кипами книг, старых сценариев и пустых чашек, они с таким увлечением барабанят по клавиатурам, будто от этого зависит жизнь их любимых кошек. В дальнем углу, в личном кабинете Мадлен, горит лампа. Я сажусь за стол, включаю компьютер, попутно отвечая на дружеские улыбки и теплые приветствия коллег. Люди – не зеркала, они видят тебя совсем не такой, какой видишь себя ты.
В этом году у Мадлен сменились три личных помощницы. Ни одна не смогла продержаться долго – всех она быстро увольняла. Лично мне не нужен ни отдельный кабинет, ни ассистенты; мне нравится сидеть вместе со всеми. За столом рядом со мной никого нет. Странно, что Джо до сих пор не пришла, как бы с ней чего-нибудь не приключилось. Я бросаю взгляд на остывающий кофе, потом говорю себе, что его лучше отнести Мадлен. Будем считать, что я ее так задабриваю.
Дверь распахнута, я замираю в проеме, словно вампир, ожидающий, когда хозяин пригласит его войти. Ее кабинетик смехотворно мал и в самом прямом смысле слова представляет собой кладовку. А все потому, что она отказывается сидеть вместе с остальными членами нашей команды. На хлипких стенах висят в рамочках фотографии самой Мадлен в компании разнообразных знаменитостей, позади стола красуется небольшая полка с призами и наградами. Она не поднимает головы. Я гляжу на ее уродливые короткие волосы, седые корешки которых нагло выглядывают из-под черных прядей. Подбородки, как положено, громоздятся друг на друга, в то время как остальная колышущаяся плоть, к счастью, скрывается в складках мешковатого черного костюма. Настольная лампа освещает клавиатуру, над которой порхают унизанные перстнями пальцы. Я знаю, что она меня видит.
– Мне показалось, вы не откажетесь от кофе, – произношу я, несколько разочарованная своей фразой, которая получилась очень незамысловатой, хотя мне понадобилось немало времени, чтобы ее придумать.
– Поставь на стол, – отвечает она, не отрывая от экрана глаз.
Не стоит благодарности.
В углу тихо воркует небольшой калорифер, и исходящее от него тепло, немного отдающее гарью, медленно обволакивает мои ноги и не дает уйти. Я вдруг понимаю, что мой взгляд прикован к бородавке на ее щеке. Глаза порой проделывают со мной такую шутку: сосредотачиваются на недостатках человека, на мгновение забывая, что это может быть заметно и что люди предпочли бы, чтобы я не разглядывала их изъяны.
– Как ваши выходные? – отваживаюсь спросить я.
– Мне сейчас не до разговоров, – отвечает она.
Ну что же, пусть готовится.
Вернувшись на свое место и усевшись за стол, я просматриваю накопившуюся с пятницы почту: пару жуткого вида романов, которые мне никогда не прочесть, несколько писем от фанатов и приглашение на благотворительный концерт, которое привлекает мое внимание. Потягивая кофе, я представляю, что бы я надела и кого бы с собой взяла, если бы решила туда пойти. По правде говоря, мне нужно больше заниматься благотворительностью, но для этого у меня, по-видимому, не хватает времени. А вот Мадлен у нас не только голос «Кофейного утра», но и лицо благотворительной организации «Дети кризиса». Лично мне ее тесная связь с крупнейшим в стране детским благотворительным фондом всегда казалась странной, если учесть, что она просто ненавидит детей и никогда не заводила семью. В этой жизни она совсем одинока, хотя ничуть от этого не страдает.
Разобрав почту, я пробегаю глазами информационные материалы сегодняшней утренней программы – перед шоу всегда полезно составить о нем общее представление. Не в состоянии отыскать свою красную ручку, я направляюсь к шкафчику с канцелярскими принадлежностями.
Их запасы недавно пополнились.
Я бросаю взгляд через плечо, потом опять смотрю на аккуратные полки. Хватаю несколько пачек стикеров, горсть красных ручек и распихиваю все это по карманам. Выгребаю из коробки все до единой. Ручки других цветов оставляю без внимания. Когда я возвращаюсь, никто не поднимает на меня глаз. И когда вынимаю свое богатство из карманов, перекладываю в ящичек стола и запираю его, никто этого не замечает.
Я начинаю было волноваться оттого, что до сих пор не пришла моя единственная подруга Джо, но тут она с улыбкой на лице переступает порог офиса. Одета как всегда – голубые джинсы и белая футболка, будто ей никак не удается распрощаться с девяностыми. Каблуки ненавистных ей сапог стерты, белокурые волосы мокрые от дождя. Она садится за стол рядом со мной, напротив остальных продюсеров.
– Извини, я опоздала, – шепчет она.
Кроме меня, этого никто не замечает.
Последним заявляется Мэтью, редактор программы. Странно, обычно он приходит раньше. Пояс его облегающих чиносов, чуть ли не трещащих по швам, слегка приспущен, чтобы над ним было удобнее расположиться выступающему брюшку. Для его долговязой фигуры они немного коротковаты – из-под них выглядывают ноги в цветастых носках и коричневых, начищенных до блеска туфлях. Ни с кем не поздоровавшись, он направляется прямо к своему столу у окна. То обстоятельство, что дамским коллективом, делающим передачу для женщин, руководит мужчина, выходит за рамки моего понимания. Но именно Мэтью решил рискнуть и взял меня на эту работу, когда моя предшественница неожиданно ушла, так что, по идее, я должна быть ему благодарна.
– Мэтью, раз уж ты пришел, зайди ко мне в кабинет! – кричит Мадлен через весь офис.
– В этот момент он подумал, что утро началось хуже некуда, – шепчет мне Джо. – Ну так что, мы пойдем сегодня выпивать?
Я киваю, испытывая облегчение оттого, что она не собирается вновь ускользнуть сразу после эфира.
Мэтью хватает свои заметки и бросается в кабинет Мадлен, полы его роскошного пальто развеваются и хлопают его по бокам, будто намереваясь поднять в воздух и отправить в полет. Но уже через несколько мгновений вылетает обратно – весь красный и какой-то растерянный.
– Пора двигать в студию, – говорит Джо, прерывая мои мысли.
Неплохая идея, если учесть, что до эфира осталось десять минут.
– Пойду посмотрю, готова ли Ее Величество, – отвечаю я и с радостью вижу, что Джо улыбается.
Но тут же замечаю взгляд Мэтью, который поднимает в мою сторону выгнувшуюся аккуратной дугой бровь. Не надо было говорить этого вслух.
По мере того как часы отсчитывают последние минуты, все занимают свои места. Мы с Мадлен идем в студию и садимся на затемненном возвышении в центре. На нас, будто на двух совершенно непохожих животных, по ошибке оказавшихся в одном вольере, через огромное окно устремлены взгляды Джо и других продюсеров, расположившихся на галерее. У них там шумно и светло, на пульте полно разноцветных кнопочек, которые выглядят на удивление замысловато, если учесть, что мы, по сути, делаем очень простую вещь: разговариваем с людьми и усиленно делаем вид, что нам это доставляет удовольствие.
В студии, напротив, темно и царит тягостная тишина. Все ее убранство составляют стол, несколько стульев да пара микрофонов. Мы с Мадлен сидим в полумраке, молчаливо игнорируя друг друга, и ждем, когда зажжется красная лампочка, возвещая о начале прямого эфира, и начнется первый акт.
– Здравствуйте, сегодня у нас понедельник, добро пожаловать на очередной выпуск программы «Кофейное утро». Я – Мадлен Фрост. Чуть позже к нам в студии присоединится автор бестселлеров, писательница Э. Б. Найт, но сперва мы обсудим рост числа женщин – кормилиц семьи. Что же касается вопросов в прямом эфире, то мы приглашаем к разговору всех, кто готов поделиться своими мыслями на тему воображаемых друзей. Был ли у вас такой друг в детстве? Или, может быть, и сейчас есть?
Привычный звук ее эфирного голоса приносит успокоение, и я переключаюсь на автопилот, дожидаясь своей очереди что-нибудь сказать. Интересно, Пол уже проснулся? В последнее время он сам не свой: засиживается допоздна в своей хибаре, ложится незадолго до того, как я встаю, если, конечно, ложится вообще. Ему нравится называть хибару хижиной. Мне нравится называть вещи своими именами.
Как-то раз, когда первый роман Пола обернулся неожиданным успехом, нам посчастливилось провести с Э. Б. Найт вечер. Это случилось около пяти лет назад, вскоре после нашей первой встречи. В те времена я работала на телевидении корреспондентом. Ничего сногсшибательного, местные новости, не более того. Но в отличие от радио, без конца видя себя на экране, ты волей-неволей прилагаешь усилия, чтобы соответствующим образом выглядеть. Тогда я была стройненькая и совершенно не умела готовить – до Пола было некому, а стараться для самой себя было лень. К тому же у меня была очень напряженная работа. Обычно я рассказывала о рытвинах на дорогах или краже свинцовых полос с церковных крыш, но в один прекрасный день в мою жизнь решила вмешаться удача. Репортер из отдела шоу-бизнеса заболела, и меня вместо нее послали взять интервью у какого-то модного нового писателя. Я даже не читала его книгу. Меня мучило похмелье, мне до смерти не хотелось делать чужую работу, однако когда он вошел в комнату, все изменилось.
Для этого интервью издатель Пола снял апартаменты в отеле «Риц». Они были похожи на сцену, а я на актрису, напрочь позабывшую свои реплики. Помню, я чувствовала себя не в своей тарелке, опасаясь не справиться с возложенной на меня задачей, но когда он сел на стул напротив, вдруг поняла, что он нервничает куда больше меня. Для него это было первое телевизионное интервью, и мне каким-то образом удалось его успокоить. Когда он потом попросил у меня визитку, я ничего такого не подумала, но вот мой оператор, пока мы шли к машине, с превеликим удовольствием описывал, как мы с ним «вошли в контакт». Вечером раздался звонок, я подняла трубку и, услышав его голос, почувствовала себя как школьница. Говорить с ним было совсем не трудно, мы будто давно знали друг друга. Он сказал, что через неделю ему надо быть на церемонии награждения, добавил, что идти туда ему не с кем, и спросил, не смогу ли я в тот вечер составить ему компанию. Я согласилась. На церемонии мы сидели за тем же столиком, что и Э. Б. Найт, и это одновременно был ужин с легендой и незабываемое первое свидание. Она была очаровательна, умна и искрометна. Поэтому, узнав, что ее пригласили на программу, я с нетерпением ждала новой встречи.
– Рада вас видеть, – говорю я, когда продюсер проводит ее в студию.
– Взаимно, – отвечает она, занимая отведенное ей место.
Проблеска узнавания в ее глазах я не вижу: как же легко меня забыть. Маленькое изящное лицо восьмидесятилетней женщины обрамляет ее фирменная прическа – боб на седых волосах. Она безупречна, даже морщинки – и те будто образуют элегантный узор. Годы, конечно же, давно взяли свое, но ум ее остался быстрым. Щеки подрумянены, внимательный, проницательный взгляд голубых глаз быстро окидывает студию и тут же находит свою цель. Писательница тепло улыбается Мадлен, будто встретила какого-нибудь героя. С гостями такое бывает, но меня это абсолютно не задевает.
После шоу мы все тащимся в переговорку на разбор полетов. Сидим и ждем Мадлен. Когда она наконец входит, становится тихо. Мэтью принимается комментировать фрагменты передачи – что получилось удачно, а что нет. На лице Мадлен не видно ни малейших признаков счастья, она кривит губы, которые принимают такой вид, будто ей в этот момент вдруг взбрело в голову разворачивать задницей ириски. Все остальные хранят молчание, и я опять даю волю мыслям.
Звездочка, сияй в ночи[1],Мадлен недовольно хмурится.
Расскажи мне, не молчи,Мадлен цокает языком и закатывает глаза.
Почему с небес на насКогда Мадлен уже не знает, как еще показать свое недовольство, все встают и направляются к выходу.
Светишь ярко, как алмаз?– Эмбер, на два слова… – говорит Мэтью, вырывая меня из мира грез.
Он закрывает дверь переговорки, я сажусь и вглядываюсь в его лицо, пытаясь понять, что меня ждет. Что-то на нем прочесть, конечно же, невозможно – даже если сегодня умрет его мать, он даже виду не подаст. Потом Мэтью берет с тарелки печенье, предназначенное для гостей, и жестом приглашает меня последовать его примеру. Я качаю головой. Желая что-нибудь сообщить, Мэтью вечно устраивает целый спектакль. Поначалу он пытается мне улыбаться, но потом усилия его утомляют, и он вместо этого откусывает кусочек печенья. Несколько крошек уютно устраиваются на его тонких губах, которые, когда он пытается подобрать нужные слова, быстро открываются и закрываются, будто у золотой рыбки.
– Знаете, я могу с вами поболтать о том о сем, спросить, как у вас дела, сделать вид, что мне это небезразлично, и все такое прочее, а могу сразу взять быка за рога, – произносит он.
Внутри у меня все сжимается от страха.
– Так, продолжайте, – говорю я, хотя этого и не хочу.
– Какие у вас сейчас отношения с Мадлен? – спрашивает он, откусывая еще кусочек.
– Те же, что и всегда: она меня ненавидит, – отвечаю я, вероятно, слишком поспешно.
Теперь уже моя очередь нацепить на лицо фальшивую улыбку. Этикетку я с нее не снимала, так что, когда закончу, смогу ее вернуть в магазин.
– Да, действительно, и в этом вся проблема, – говорит Мэтью.
Ничего неожиданного он не сказал, и все же я удивлена.
– Мне хорошо известно, что когда вы только к нам пришли, она устроила вам веселую жизнь. Но, согласитесь, ей тоже было трудно привыкнуть к тому, что вы теперь рядом. И напряжение между вами, похоже, не спадает. Может показаться, что на это никто не обращает внимания, но это не так. Хороший эмоциональный контакт между вами необходим для шоу и для всей команды.
Он смотрит на меня, ожидая ответа, но я понятия не имею, что ему сказать.
– Как вы думаете, вам под силу наладить с ней нормальные отношения?
– Э-э-э… попробовать можно…
– Вот и хорошо. До сегодняшнего дня я не понимал всю серьезность ситуации. Мадлен предъявила мне что-то вроде ультиматума, – он умолкает, откашливается и продолжает: – Требует, чтобы я вас заменил.
Я жду, что Мэтью скажет что-то еще, но он больше не произносит ни слова. Его слова повисают в воздухе, и я пытаюсь их осмыслить.
– Вы меня увольняете?
– Нет! – горячо протестует он, хотя на его лице, когда он задумывается, что сказать дальше, отражается совсем другой ответ.
Он подносит руки к груди, сдвигает ладони и соединяет кончики пальцев, будто изображая колокольню или готовясь к лицемерной молитве.
– Пока нет. Чтобы исправить ситуацию, даю вам срок до Нового года. И прошу прощения, Эмбер, что вынужден донимать вас этой проблемой накануне Рождества.
Он вытягивает ноги и откидывается на стуле, насколько это возможно, чтобы оказаться подальше от меня. В ожидании моего ответа его рот кривится в гримасе, будто ему только что пришлось попробовать на вкус что-то отвратительное. Я не знаю, что ему сказать. Мне кажется, порой вообще лучше ничего не отвечать, хотя бы потому, что молчание нельзя исказить.
– Вы замечательный человек, мы вас очень любим, но поймите и вы нас: без Мадлен, которая ведет «Кофейное утро» вот уже двадцать лет, этой передачи просто не будет. Мне очень жаль, но если мне придется делать между вами и ею выбор, боюсь, у меня будут связаны руки.
Сейчас
День рождественских подарков, 26 декабря 2016 года
Я пытаюсь представить, что меня окружает. Это не обычная палата, для этого здесь слишком тихо и спокойно. Но и не морг – я чувствую, что дышу, а прилагая усилия, чтобы набрать в легкие кислорода, каждый раз ощущаю в груди слабую боль. Единственное, что мне слышно, – это приглушенный звук какого-то аппарата, бесстрастно гудящего рядом. Каким-то непостижимым образом он приносит успокоение – мой единственный спутник в невидимой вселенной. Я начинаю считать его гудки и мысленно собираю их в голове, страшась, что они вот-вот умолкнут, и понятия не имея, что это может означать.
Я прихожу к выводу, что это отдельная палата. Представляю, что надежно заперта в этой больничной камере: время неспешно стекает с четырех ее стен и образует лужи грязной, медленно поднимающейся тины, которая вскоре меня поглотит. Но это будет потом, пока же я существую в бесконечном пространстве, где иллюзия неотделима от реальности. Вот чем я сейчас занимаюсь: существую и жду, хотя и не знаю, чего. Я обнулила настройки и из человека действия вновь превратилась в человека бытия. За невидимыми мне стенами бурлит жизнь, в то время как мне не остается ничего другого, кроме как лежать – молча и недвижно.
Настоящая физическая боль упорно заявляет о себе. Интересно, у меня серьезные повреждения? Череп покоится в специальном зажиме, похожем на тиски. В висках пульсирует в такт биению сердца. Я приступаю к мысленному обследованию собственного организма, тщетно пытаясь поставить диагноз, который хоть что-то бы мне объяснил. Рот открыт, губы ощущают какой-то посторонний предмет, засунутый меж зубов, – скользя мимо языка, он скрывается где-то в горле. Мое странно-незнакомое тело будто принадлежит другому человеку, хотя все вроде бы на месте, вплоть до ступней и полного комплекта пальцев на ногах. Они ощущаются явственно, что приносит небывалое облегчение. Интересно, на кого я сейчас похожа? Меня причесывают, умывают? Хотя тщеславием я не болею и предпочитаю, чтобы меня скорее слышали, а не видели, а еще лучше не замечали совсем.
Во мне нет ничего особенного, я совсем не такая, как она, и, откровенно говоря, теперь больше похожа на тень. Маленькое грязное пятно.
Хотя я и напугана, какой-то первородный инстинкт подсказывает, что мне удастся выбраться из этой передряги. Со мной все будет хорошо, должно быть. Я всегда умела преодолевать трудности.
Дверь открывается, и до моего слуха доносится звук приближающихся к кровати шагов. Затуманенный взор фиксирует колыхание теней. Их две. Я вдыхаю запах дешевых духов и лака для волос. Они о чем-то говорят, но смысла их слов я пока уловить не могу. На данный момент их голоса для меня лишь шум, что-то вроде фильма на иностранном языке без субтитров. Одна из них вытаскивает из-под простыни мою руку. Странное ощущение – будто все конечности самовольно болтаются, как у младенца. Почувствовав кожей кончики ее пальцев, я мысленно вздрагиваю. Не люблю, когда ко мне прикасаются незнакомые люди, когда ко мне прикасается кто-нибудь, даже он. Она закрепляет что-то чуть повыше локтя на левой руке, и по тому, как предмет стягивает мою плоть, я прихожу к выводу, что это жгут. Потом мягко кладет руку обратно, встает и заходит с другой стороны кровати. Ее коллега – они, надо полагать, медсестры – стоит в ногах. Я слышу, как ее пытливые пальцы листают страницы, и представляю, что она читает либо роман, либо мою историю болезни.
Звуки без каких-либо усилий с моей стороны становятся отчетливее.
– Это последняя, закончим с ней, и можешь идти. Как она здесь оказалась? – спрашивает та, что ближе ко мне.
– Ее привезли поздно вечером, какой-то несчастный случай, – отвечает другая и куда-то направляется, – давай расшторим окно и впустим немного дневного света, может, так будет веселее.
Я слышу недовольный ропот неохотно разъезжающихся в стороны гардин, окутывающее меня сияние становится ярче. Потом, без предупреждения, в руку возле локтя вонзается что-то острое. Ощущение совершенно новое, боль вновь заставляет меня погрузиться в себя. Под кожей разливается что-то прохладное и змеей ползет по телу, пока не становится частью моего естества. Голоса возвращают меня к действительности.
– Родственникам сообщили? – спрашивает та, что постарше.
– У нее есть муж. С ним несколько раз пытались связаться, но неизменно попадали на голосовую почту. Вообще-то, когда все отмечают Рождество, а твоей жены нет, это трудно не заметить.
Рождество.
Я сканирую библиотеку своих воспоминаний, но обнаруживаю, что в ней теперь слишком много пустых полок. Вспомнить что-либо о Рождестве не представляется возможным. Обычно мы отмечаем его в кругу семьи.
Почему рядом со мной никого нет?
Вдруг до меня доходит, что во рту страшно пересохло и ощущается привкус запекшейся крови. За стакан воды я не пожалела бы ничего на свете. Как бы привлечь их внимание? Я сосредотачиваю все усилия на губах, пытаюсь придать им определенную форму и издать в этой оглушительной тишине хоть самый слабый звук, но у меня все равно ничего не получается. Призрак, оказавшийся в ловушке собственного тела.
– Ну что, если ты не против, я пошла домой?
– До скорого, передавай привет Джеффу.
Дверь распахивается, я слышу отдаленные звуки радио. В уши врывается знакомый голос.
– Кстати, она работает на передаче «Кофейное утро», – говорит та, что собралась уходить. – Когда ее привезли, в сумочке нашли пропуск.
– Да ты что? Ни разу о ней не слышала.
Зато я вас прекрасно слышу!
Дверь захлопывается, вновь становится тихо, я опять уплываю. Меня здесь больше нет. Я безмолвно кричу в поглотившем меня мраке.
Что со мной произошло?
Несмотря на внутреннее смятение, внешне я совершенно неподвижна и нема. В реальной жизни мне приходится работать на радио, получая деньги за болтовню, но теперь злой рок обрек меня на молчание и тем самым превратил в ничто. Тьма кружит мысли до тех пор, пока их не останавливает звук – кто-то опять открывает дверь. Скорее всего, вторая медсестра… Она, вероятно, тоже уходит, и мне хочется закричать, попросить ее остаться, объяснить, что я всего лишь заблудилась в кроличьей норе и мне просто нужно помочь выбраться обратно. Но это не она. В комнату только что вошел кто-то еще. Я вдыхаю его запах, слышу, как он плачет, и чувствую ужас, охватывающий его, когда он смотрит на меня.
– Прости, Эмбер. Вот я и пришел.
Он берет меня за руку и сжимает ее, немного сильнее, чем надо. Я заблудилась, он потерял меня много лет назад и уже не найдет. Вторая медсестра уходит, чтобы мы побыли одни, а может, просто чувствует, что ситуация слишком неприятная, что здесь что-то не так. Я хочу, чтобы она меня не бросала наедине с ним, но вот почему – мне неведомо.
– Ты слышишь меня? Прошу тебя, очнись… Пожалуйста… – повторяет он снова и снова.
От звука его голоса мозг приходит в ужас. Зажим сдавливает череп с новой силой, в виски будто стучит сразу тысяча пальцев. Я не могу вспомнить, что со мной случилось, но непоколебимо уверена, что этот человек, мой муж, к этому каким-то образом причастен.
Недавно
Понедельник, 19 декабря 2016 года, после полудня
Когда Мэтью сказал, что отпускает меня на весь день, сначала я испытала чувство благодарности. Коллеги уже разбрелись на обед, что помогло мне избавиться от их вопросов и притворного участия. И только теперь, шагая по Оксфорд-стрит, будто рыба, плывущая против плотного потока туристов и покупателей, я вдруг понимаю, что он сделал это ради себя: ни одному мужчине не понравится сидеть и смотреть на зареванное, изуродованное потеками туши лицо женщины, зная, что виноват в этом только он и больше никто.
Хотя на улице декабрь, небо над головой в этот полдень ярко-голубое. Солнце пробирается по небосклону среди редких зачаточных облачков, создавая иллюзию хорошего дня на фоне дымки сомнений. Мне просто надо постоять и подумать, что я, собственно, и делаю. Прямо на людной улице, к вящей досаде прохожих.
– Эмбер?
Я поднимаю глаза и вижу прямо перед собой улыбающееся лицо высокого мужчины. Поначалу ничего не происходит, потом в голове вспыхивает проблеск узнавания, а за ним накатывает волна воспоминаний: Эдвард.
– Привет, как дела? – с усилием выдавливаю из себя я.
– Все отлично. Ты даже не представляешь, как я рад тебя видеть.
Он целует меня в щеку. Вообще-то я не должна бы беспокоиться по поводу своей внешности, но все-таки я обхватываю себя руками, будто пытаясь спрятаться. Он практически не изменился и даже почти не постарел, хотя в последний раз мы виделись с ним лет десять назад. Загорел, будто только что вернулся из теплых краев; в каштановых волосах мелькают более светлые прядки, но на седину нет даже намека. В обертке из задубевшей на солнце кожи он пышет здоровьем, выглядит удивительно ухоженным и цветущим. Новая, дорогая одежда, и, подозреваю, костюм под его длинным шерстяным пальто сшит на заказ. Я всегда знала, что его ждет большое будущее.
– У тебя все в порядке? – спрашивает он.
Тут я вспоминаю, что недавно плакала. Да, видок у меня, вероятно, еще тот.
– Да. Хотя нет. Просто сегодня мне сообщили не самые приятные новости.
– Да, досадно.
Я киваю, он ждет от меня каких-то слов, но меня будто охватывает оцепенение, не давая начать. Единственное, что я помню, – это какие я ему принесла страдания. По правде говоря, он так и не услышал от меня объяснений, почему мы с ним перестали общаться. Просто как-то утром я ушла из его квартиры, перестала отвечать на звонки и вообще с ним порвала. Тогда мы были студентами и учились в Лондоне. В то время я еще жила с родителями, но старалась оставаться у него как можно чаще, потом у нас все закончилось и мы больше не виделись.
В меня врезается женщина, на ходу строчащая смску, и качает головой, словно это я виновата, что она не смотрит, куда идет. Столкновение с ней вытряхивает несколько слов из моего тайничка, в котором они привыкли прятаться.
– Рождество будешь отмечать в Лондоне? – спрашиваю я.
– Ага. Недавно я со своей девушкой переехал сюда с севера, буду теперь работать в этом муравейнике.
На смену моему чувству облегчения вскоре приходит что-то еще. Ну конечно, он давно обо всем забыл. Я говорю себе, что рада за него, заставляю себя кисло улыбнуться и как-то по-дурацки кивнуть.
– Надо полагать, тебе сейчас не до меня, – говорит он, – но вот тебе моя визитка. Давай как-нибудь встретимся и поболтаем. Я опаздываю на встречу, Эмбер, но все равно очень рад тебя видеть.
Я беру карточку и снова пытаюсь изобразить улыбку. Он легонько касается моего плеча и исчезает в толпе. Ему явно хотелось поскорее распрощаться.
Я собираю в кучу те жалкие крохи, которые от меня остались, и переключаюсь на автопилот. Ноги сами несут меня в небольшой бар в двух шагах от Оксфорд-стрит. Раньше, когда мы с Полом только-только начали встречаться, мне приходилось часто здесь бывать. Теперь нет, я даже не помню, когда в последний раз мы вечером куда-нибудь ходили. Надежда на то, что в знакомой обстановке мне станет уютнее, не оправдывается. Заказав большой бокал красного вина, я направляюсь к единственному свободному столику у камина без решетки. Хотя мне хочется согреться, отодвигаю стул подальше от огня.
Я вглядываюсь в бокал «Мальбека», успешно отгораживаясь от предпраздничной суетливой толпы. Мне необходимо завоевать симпатию женщины, которая ненавидит весь мир. Надеюсь, если достаточно долго пялиться на вино, решение придет само собой. На данный момент у меня его нет.
Делаю глоток, совсем маленький. Вкус отменный. Потом закрываю глаза, выпиваю еще, а когда напиток обволакивает горло, наслаждаюсь этим ощущением. Какая же я все-таки дура – все так хорошо складывалось, а теперь я рискую все потерять. Нужно было прилагать больше усилий, чтобы поладить с Мадлен, строго придерживаясь разработанного плана. Я не могу лишиться этой работы. Может быть потом, но только не сейчас. Должно же быть какое-то решение, просто в душе нет уверенности, что мне удастся найти его самой. Мне нужна она. Я тут же сожалею об этой мысли и решаю выпить еще.
Прикончив бокал, заказываю еще один и, ожидая, когда его принесут, достаю телефон. Набираю номер Пола. Надо было ему сразу позвонить, не знаю, почему я этого не сделала. Когда он не отвечает, предпринимаю еще одну попытку. Опять без ответа, если не считать таковым голосовую почту. Сообщения я ему не оставляю. Когда приносят заказ, делаю глоток, необходимый, чтобы меня оглушить, хотя у меня стойкое ощущение, что надо бы сбавить темп. Мозг должен работать четко, если я собираюсь исправить ситуацию, и я ее действительно исправлю – это необходимо. Надо бы справиться с этой проблемой самостоятельно, но у меня для этого нет сил.
– Вижу, ты уже начала без меня, – говорит Джо, разматывает до нелепости длинный шарф, снимает его и устраивается на стуле напротив.
Когда она внимательнее всматривается в мое лицо, улыбка на ее губах блекнет.
– Что случилось? Видок у тебя – краше в гроб кладут.
– Значит, ты ничего не знаешь?
– О чем?
– Я говорила с Мэтью.
– Так вот почему ты такая унылая, – говорит она, изучая винную карту.
– Думаю, меня скоро выпрут с работы.
Джо пристально смотрит на меня, будто пытаясь что-то найти на моем лице.
– Что за бред ты несешь?
– Мадлен выдвинула ему ультиматум. Либо я, либо она.
– И он указал тебе на дверь, да?
– Не совсем. Дал мне срок до Нового года ее переубедить.
– Так переубеждай!
– Как?
– Не знаю… Но они не могут с тобой так поступить.
– Мой контракт заканчивается в январе, поэтому если не решить проблему, его не продлят, только и всего. Мне не за что будет зацепиться. Более того, за рождественские каникулы начальство наверняка подыщет мне замену.
Джо обдумывает мои слова и, судя по ее виду, приходит к тому же выводу, к которому несколько часов назад пришла я.
– Что ни говори, а горести преследуют тебя по пятам.
– Я все похерила, да?
– Пока еще нет, – говорит она. – Мы обязательно что-нибудь придумаем. Но сначала давай все же выпьем вина.
– Вы не могли бы повторить? – прошу я проходящего мимо официанта, показывая на свой бокал и поворачиваюсь обратно к Джо. – Я не могу потерять эту работу.
– Ты ее и не потеряешь.
– У меня не хватило времени сделать все что нужно.
Официант все еще топчется неподалеку, озабоченно глядя на меня. Я улыбаюсь. Он вежливо кивает и идет за вином. Я смотрю по сторонам, изучающе скольжу взглядом по глазам посетителей и убеждаюсь, что говорю слишком громко. Такое со мной бывает, особенно под влиянием усталости или спиртного. Я напоминаю себе, что нужно вести себя потише.
Когда приносят вино, Джо велит мне вытащить из сумки ручку и блокнот. Потом приказывает написать наверху чистой страницы большими красными буквами два слова: ПРОЕКТ МАДЛЕН. Я так и делаю, да еще на всякий случай их подчеркиваю. Джо принадлежит к тому типу девушек, которые обожают все записывать. Но если не соблюдать осторожность, с таким подходом можно огрести кучу проблем. Она неподвижно смотрит в блокнот, я выпиваю еще вина, наслаждаясь чувством опускающегося вниз по телу тепла. Я улыбаюсь, Джо ухмыляется в ответ – нам, как это часто бывает, приходит в голову одна и та же мысль. Она диктует, и я лихорадочно записываю каждое слово, стараясь не упустить ничего из услышанного. Идея отличная.
– Наша примадонна полагает, что они никогда от нее не избавятся, потому что «Кофейное утро» и есть Мадлен Фрост.
Я замечаю, что к своему бокалу она даже не прикоснулась.
– Точно то же самое сказал и Мэтью. Нужно сделать с этой строчкой новую рекламную песенку, – говорю я, надеясь, что она улыбнется.
Однако Джо сохраняет серьезность.
– Но Ее Величество не знает, о чем Мэтью с тобой говорил. Поэтому нам надо убедить Мадлен, что она достала начальство своими вспышками гнева и что избавиться собираются не от тебя, а от нее! – говорит она.
– Они никогда на это не пойдут!
– Наверняка она этого знать не может. Незаменимых, как известно, нет, и мне начинает казаться, что если мы бросим достаточно семян, подобная мысль в ее голове обязательно прорастет. Потеряв работу, она останется у разбитого корыта. Это ее жизнь, кроме нее у Мадлен больше ничего нет.
– Согласна. Но как? Тем более что времени у нас в обрез.
Я опять начинаю плакать, не в состоянии с собой справиться.
– Все в порядке. Если надо, поплачь, не держи эмоции в себе. К счастью, это у тебя получается хорошо.
– У меня вообще ничего не получается хорошо.
– Это еще почему? Ты красивая. Правда, тебе надо прилагать больше усилий, чтобы…
– Спасибо.
– Извини, но это правда. Отказ от косметики делает женщину не загадочно-бледной, а просто скучной и тусклой. У тебя отличная фигура, но у меня такое ощущение, что ты постоянно пытаешься спрятать ее за одними и теми же старыми шмотками.
– Я и правда стараюсь ее прятать.
– Тогда исправляйся.
Она права. Я себя запустила. Мысли возвращаются к Эдварду, который, наверное, сейчас думает, что еще легко отделался, не связав со мной свою судьбу.
– Только что на Оксфорд-стрит я столкнулась с бывшим парнем, – говорю я, глядя на нее и пытаясь определить ее реакцию.
– Это с которым же?
– Не говори так, у меня их было совсем не много.
– Но больше, чем у меня. Так кто он?
– Неважно. Просто я почувствовала себя чучелом и неудачницей. Мне просто не хотелось бы, чтобы он видел меня в таком виде.
– Плевать! Сейчас тебе надо сосредоточиться на том, что действительно важно. Иди и купи себе новых шмоток: пару платьев, новую обувь, обязательно на каблуке, и не забудь про косметику. Завтра ты должна казаться уверенной в себе и счастливой, просто положись в этом деле на свою кредитную карту. Мадлен в курсе, что сегодня Мэтью собирался с тобой поговорить. Думает, что завтра ты будешь расстроена, если вообще выйдешь на работу, а ты тут как тут. Запустим какую-нибудь сплетню в социальных сетях. Ты не хуже меня знаешь, как это делается.
– Что есть, то есть.
– Тогда вперед по магазинам, а потом домой. Ложись спать пораньше, и чтобы завтра выглядела как фея, будто в этой жизни у тебя нет ровным счетом никаких проблем.
Я повинуюсь, опустошаю бокал и расплачиваюсь. Раньше, когда я наполняла красками свою жизнь, я всегда оставалась внутри предначертанных контуров, но теперь настало время немного выйти за границы. Перед тем как покинуть бар, я вырываю из блокнота листок со словами «ПРОЕКТ МАДЛЕН», комкаю его, бросаю в камин и смотрю, как белая бумага коричневеет и окутывается пламенем.
Сейчас
День рождественских подарков, 26 декабря 2016 года, вечер
Впервые низвергнувшись вниз, я даже забываю испугаться – все внимание поглощено толкнувшей меня рукой, очень похожей на мою собственную. Но как только под ногами разверзается тьма, вдогонку за мной устремляются все мои самые ужасные страхи. Хочется крикнуть, но такой возможности нет: до боли знакомая рука теперь плотно закрывает мне рот. Я не в состоянии издать ни звука и едва могу дышать. Когда ужас вырывает меня из объятий этого бесконечного кошмара, я просыпаюсь, чтобы оказаться в другом. Память по-прежнему отказывается подсказать, что со мной случилось, как ни пытайся, как ни упорствуй это узнать.
В палату постоянно кто-то заходит, меня окружает какофония шепота, странных звуков и запахов. Надо мной нависают смутные тени, меня будто с головой накрыла огромная волна собственных ошибок. Порой возникает чувство, что я лежу на дне тинистого пруда, что на меня давит столб мутной воды, пропитывает меня тайнами и грязью. Время от времени хочется утонуть, чтобы испытать облегчение, оттого что все это закончилось. Там, на этом дне, меня никто не видит, но ведь я и так всегда была незаметной. Новый мир медленно вращается вокруг, за пределами моей досягаемости, я же продолжаю неподвижно лежать во тьме.
Иногда, как сейчас, удается вынырнуть и продержаться на поверхности достаточно долго, чтобы сосредоточиться на звуках и ускорить их темп, чтобы они вновь обрели для меня смысл. Я слышу, как рядом переворачивается страница, – вероятней всего, какого-нибудь глупого детектива, от которых он просто без ума. Другие приходят и уходят, но он всегда рядом и больше никогда не оставляет меня одну. Я удивляюсь, почему он не откладывает книгу, почему не бросается ко мне, ведь я пришла в себя! Потом до меня доходит, что для него ничего не изменилось, что я до сих пор не очнулась. Время совершенно не ощущается, сейчас может быть как день, так и ночь. Я превратилась в безмолвный полуживой труп. Дверь открывается, и в палату кто-то входит.
– Здравствуйте, мистер Рэйнольдс. Вообще-то вам не положено находиться здесь в столь поздний час, но на этот раз, полагаю, мы вполне можем сделать исключение. Я дежурил прошлым вечером, когда привезли вашу жену.
Прошлым вечером?
У меня такое ощущение, что я здесь уже не один день. Голос кажется знакомым, но если так, значит, это мой лечащий врач. Я пытаюсь представить себе, как он выглядит. Рисую в воображении серьезного мужчину с усталыми глазами, кустистыми бровями и лбом, изрезанным морщинами после всего, что ему довелось увидеть. В моем представлении на нем белый халат, но потом я вспоминаю, что медперсонал в таких больше не ходит, решаю, что он, вероятно, ничем не отличается от остальных, и выдуманный мной человек тут же блекнет.
Я слышу, что Пол роняет книгу и шарит вокруг себя, будто дурачок; профессионалы от медицины его всегда пугали. Готова спорить, он сейчас встает, чтобы пожать доктору руку. Мне даже видеть его не надо, я и так знаю, как он себя ведет, и могу предсказать каждый его шаг.
– Если хотите, я могу попросить кого-нибудь посмотреть вашу руку, – предлагает врач.
И что у него с рукой?
– Нет-нет, с ней все в порядке, – отвечает Пол.
– Вы уверены? Она же у вас вся синяя! Это меня совсем не затруднит.
– Она выглядит хуже, чем есть на самом деле, но все равно спасибо. Не знаете, Эмбер долго будет оставаться в таком состоянии? А то мне никто не может ответить на этот вопрос.
Голос Пола кажется мне странным, сдавленным и тихим.
– На этой стадии сказать очень трудно. В результате аварии ваша супруга получила весьма серьезные травмы…
В этот момент его слова несколько раз отдаются у меня в голове, и я опять погружаюсь в свои мысли. Но как ни пытаюсь, не могу ничего вспомнить ни о какой аварии. У меня и машины-то нет.
– Вы сказали, что дежурили, когда ее привезли… Больше к вам никого не доставили? Я хочу сказать, кроме нее, никто не пострадал? – спрашивает Пол.
– Насколько я знаю, нет.
– Значит, она была одна?
– Только ее машина была разбита. Мне трудно вас об этом спрашивать, но на теле вашей супруги обнаружены следы насилия. Вы не знаете, откуда они могли взяться?
Какие еще следы?
– Похоже, это результат несчастного случая, – отвечает Пол, – раньше я их не видел…
– Понятно. Ваша жена когда-нибудь пыталась причинить себе вред?
– Разумеется, нет! Она не такой человек.
А какой я человек, Пол?
Если бы он обращал на меня побольше внимания, то наверняка бы знал.
– По вашим словам, вчера она вернулась домой чем-то огорченная… Вы не в курсе, что ее так расстроило? – спрашивает доктор.
– Да ерунда какая-то. Неприятности на работе.
– И дома все было в порядке?
Мы все втроем молчим, в палате повисает неловкая пауза, которую нарушает голос Пола:
– Придя в себя, она останется собой? Ничего не забудет? Память у нее сохранится?
Я так напряженно стараюсь разгадать, что же мне, по его убеждению, необходимо забыть, что чуть не пропускаю ответ.
– Повреждения настолько серьезны, что говорить о том, восстановится она или нет, еще слишком рано. Ваша супруга даже не пристегнулась ремнем безопасности…
Я всегда пристегиваюсь.
– …она ехала на такой скорости, что при столкновении вылетела в ветровое стекло и сильно ударилась головой. Так что ей еще повезло.
Повезло.
– Нам не остается ничего другого, как ждать, – говорит врач.
– Но ведь она придет в себя, правда?
– Я очень сожалею о случившемся. Если хотите, мы можем позвонить кому-нибудь, кто приехал бы сюда и побыл с вами. Родственнику или другу…
– Нет, – отвечает Пол. – Кроме нее у меня больше никого нет.
Услышав эти слова, я немного смягчаюсь. Раньше все было по-другому. Когда мы только познакомились, он был на пике популярности и все вокруг мечтали с ним сблизиться. Первый роман Пола принес ему мгновенный успех. Он терпеть не может, когда я так говорю, возражая, что добиваться этого «мгновенного успеха» ему пришлось десять лет. Но так продолжалось недолго. Сначала стало даже еще лучше, но потом все покатилось под откос. Он утратил способность писать – просто не мог найти слов. Успех сломил его, а неудача сломила нас.
Дверь закрывается, и я спрашиваю себя, осталась ли одна. Потом слышу тихое щелканье кнопок и понимаю, что Пол набирает смску. В этом образе кроется какой-то диссонанс, и я вдруг вспоминаю, что раньше он при мне никогда не посылал никому текстовых сообщений. В его жизни остались только два человека: мать, которая сводит все общение к редким звонкам, когда ей что-то надо, да его литературный агент, который предпочитает писать электронные письма – им теперь особенно нечего обсуждать. Мы с Полом, конечно же, перебрасываемся смсками, но только когда меня нет рядом.
Мои мысли звучат так громко, что даже он их слышит.
– Я сообщил им, где ты, – со вздохом говорит он и подсаживается чуть ближе к кровати.
Скорее всего, речь идет о родственниках. Друзей у меня совсем не много. Когда нас вновь окутывает тишина, вдоль позвоночника прокатывается волна какого-то необъяснимого озноба. Мысль о родителях отзывается приступом боли. Я не сомневаюсь, что Пол пытался с ними связаться, но они много путешествуют, и найти их на Рождество может быть непросто. Мы нередко не общаемся целыми неделями, хотя это далеко не всегда связано с их зарубежными поездками. Сначала в голове всплывает вопрос, когда они приедут, но потом я несколько подправляю его и думаю, приедут ли они вообще. Для них я не любимый ребенок, а лишь дочь, которая была у них всегда.
– Сука, – произносит Пол каким-то незнакомым мне голосом.
Я слышу, как ножки его стула со скрипом едут по полу. Тень над моими веками сгущается, и до меня доходит, что он склонился надо мной. Опять хочется крикнуть, я воплю изо всех сил… Но ничего не происходит.
Его лицо теперь так близко ко мне, что я даже чувствую на шее его горячее дыхание, когда он шепчет мне на ухо:
– Держись.
Мне не понять, что означают его слова, но дверь распахивается, и вот я уже в безопасности.
– О господи, Эмбер.
Это пришла моя сестра Клэр.
– Тебе не надо было сюда приезжать, – говорит Пол.
– Конечно надо. А ты мог бы позвонить и пораньше.
– Зря я вообще позвонил.
Суть конфликта между двумя нависшими надо мной тенями ускользает от моего понимания. Клэр и Пол всегда прекрасно ладили друг с другом.
– Как бы там ни было, я здесь. Что случилось? – спрашивает она, подходя поближе.
– Ее нашли в нескольких милях от дома. От машины осталась груда металлолома.
– Кому какое дело до твоей гребаной колымаги.
Я никогда не вожу машину Пола. Я вообще никогда не езжу за рулем.
– Все будет хорошо, Эмбер, – произносит Клэр и берет меня за руку, – теперь рядом с тобой буду я.
Ее холодные пальцы касаются моих, возвращая меня во времена нашей юности. Она всегда любила держаться за руки. А я нет.
– Эмбер не слышит тебя, она в коме, – говорит Пол, и в голосе его явственно чувствуется какое-то странное удовлетворение.
– В коме?
– Гордишься собой?
– Я понимаю, ты расстроен, но ведь это не моя вина.
– Да что ты? У тебя, конечно же, есть право все знать, но здесь тебе не рады.
Мысли устремляются вперед бешеным галопом, но из всего сказанного я не могу понять ровным счетом ничего. Ощущение такое, будто меня выбросило в параллельную вселенную, где кроме меня все лишено смысла.
– Что у тебя с рукой? – спрашивает Клэр.
Так что же у него с рукой?
– Ничего.
– Тебе надо показать ее врачу.
– Все в порядке.
Комната, которую мне не дано видеть, начинает кружиться. Я пытаюсь удержаться на поверхности, однако вокруг, как и внутри, бурлит вода, затягивая меня обратно во мрак.
– Пол, пожалуйста. Она моя сестра.
– Эмбер предупреждала меня, что тебе нельзя доверять.
– Что за чушь ты несешь?
– Чушь, говоришь? – В комнате становится совсем тихо. – Убирайся.
– Пол!
– Убирайся, я тебе говорю!
Места колебаниям больше нет. Я слышу, как ноги на высоких каблуках выносят сестру из палаты. Дверь открывается и через мгновение закрывается. Я опять остаюсь наедине с мужчиной, который говорит, как мой муж, но ведет себя, как совершенно незнакомый человек.
Недавно
Понедельник, 19 декабря 2016 года, вечер
Я схожу с поезда и по тихим пригородным улочкам иду домой, к Полу. Я по-прежнему сомневаюсь, что смогу удержаться на работе, но, может быть, я хотя бы сумею оттянуть время и сделать то, что нужно. Я ничего ему не скажу. По крайней мере сейчас. А потом, может, и не придется.
С тех пор как мы познакомились, терять работу мне уже не впервой. Моя карьера тележурналистки внезапно оборвалась два года назад, когда редактор слишком часто и назойливо стал проявлять ко мне свое дружеское расположение. Он работал не покладая рук и однажды одну из этих рук засунул мне под юбку. На следующий день кто-то процарапал глубокие борозды на его «БМВ». Он решил, что это я, и выходить в эфир мне больше не довелось. Его домогательства на этом тоже закончились. Я ушла, не дожидаясь, когда он найдет предлог меня уволить, и если честно, испытала огромное облегчение, потому что ненавидела телевидение всеми фибрами души. Но вот Пола это убило. Та версия жены ему нравилась. Он ее любил. Теперь же, дома, я вечно путалась у него под ногами. И стала совсем не той женщиной, на которой он женился. Потеряла работу, совсем по-другому одевалась и больше не рассказывала интересных историй. В прошлом году на чьей-то свадьбе сидевшая рядом с нами чета спросила, чем я занимаюсь. Не успела я ответить, как вмешался Пол: «Ничем». Из человека, которого он любил, я превратилась в ненавистное ему ничтожество.
Пол говорил, что я, без конца сидя дома, мешаю ему писать. В глубине сада у него был выстроен домик, где он мог уединяться, делая вид, что меня вовсе нет. Полгода назад Клэр увидела объявление о вакансии на передаче «Кофейное утро», скинула мне ссылку и предложила послать им резюме. Я не думала, что получу эту работу, но она досталась именно мне.
Я неуверенно шагаю по садовой дорожке и нащупываю в сумочке ключи. Доносящиеся из дома музыка и смех меня озадачивают. Пол не один. Помнится, после обеда я несколько раз пыталась с ним связаться, но он ни разу не ответил и не потрудился мне перезвонить. Слегка дрожащими руками открываю дверь.
Они сидят на диване и хохочут, Пол на своем обычном месте, Клэр на моем. На столе перед ними застыли в банальном натюрморте два бокала и опустошенная почти до дна бутылка вина.
А ведь она не любит красное.
Они несколько смущены моим появлением, я же чувствую себя грабителем в своем собственном доме.
– Привет, сестренка. Как жизнь? – спрашивает Клэр, вставая, чтобы расцеловать меня в обе щеки.
Ее обтягивающие джинсы от модного дизайнера выглядят так, будто их нанесли на тело методом напыления, из-под них выглядывают изящные стопы с элегантным педикюром. Когда она поднимается, ее облегающий белый топ демонстрирует чуть больше, чем надо. Раньше я его не видела, наверное, он новый. Она одевается так, будто мы все еще молоды, будто мужчины пялятся на нас так же, как и раньше. Оно, может, и так, хотя я что-то не замечала. Ее длинные светлые волосы старательно отутюжены и заложены за уши, словно подвязанные невидимой лентой. Она вся чистая и ухоженная, сразу видно, что тщательно следит за своей внешностью. Двух более разных людей, чем мы с ней, даже представить трудно. Она стоит совсем близко от меня, ожидая с моей стороны каких-то слов. Аромат ее духов проникает в ноздри и пробирается к горлу, я чувствую языком их вкус. Знакомый, но опасный. Приторно-сладкий.
– Я думал, вы сегодня после работы отправитесь куда-нибудь развлечься, – говорит Пол, не вставая с дивана.
При виде пакетов с покупками, в которых аккуратно сложены и завернуты в несколько слоев бумаги мои новые наряды, он слегка прищуривает глаза. Я молча жду, когда он посмеет на это что-то сказать. Это мои деньги, я их сама заработала и буду тратить как хочу. Ставлю сумки на пол и замечаю, что от их пластиковых ручек на пальцах остались глубокие красные борозды.
– Планы изменились, – говорю я Полу и поворачиваюсь к Клэр: – Не знала, что ты сегодня собралась к нам. У тебя все хорошо?
Мне не нужно объяснять, что здесь происходит.
– Да, все отлично. Дэвид сегодня опять работает допоздна, вот я и собралась повидаться с тобой и немного посплетничать, но забыла, что у тебя, в отличие от меня, бурная светская жизнь.
Клэр слишком усердствует, улыбка на ее лице будто причиняет ей боль.
– А где дети? – спрашиваю я.
Улыбка тут же блекнет.
– С ними сидит соседка, они в полном порядке. Я никогда бы не оставила их с человеком, на которого нельзя положиться.
Сестра поворачивается к Полу, но упорно смотрит в пол и не поднимает головы. От вина ее губы немного заалели, а щеки покрылись легким румянцем. Она никогда не умела пить. И вот тогда я вижу в ее взгляде тот самый проблеск опасности, так хорошо мне знакомый. Она знает, что я его заметила и что я помню его значение.
– Ну, мне пора, я не думала, что уже так поздно, – говорит она.
– Я бы с удовольствием попросила тебя остаться, но мне нужно поговорить с мужем. – Сначала мне хотелось сказать «с Полом», но подсознание посчитало нужным на ходу переписать сценарий.
– Хорошо-хорошо, без проблем. Скоро увидимся. Надеюсь, на работе у тебя все в порядке, – говорит она, берет пальто, сумочку и уходит, оставив на столе недопитый бокал вина.
Не успевает за ней закрыться дверь, как я тут же обо всем сожалею. Знаю, что должна была пойти за ней, извиниться, сказать, что по-прежнему ее люблю и что наши отношения ничто не омрачает. Но остаюсь на месте.
– Неловко вышло, – говорит Пол.
Я не отвечаю и даже на него не смотрю. Вместо этого бездумно запираю на два замка входную дверь, беру бокал Клэр и направляюсь на кухню. Он идет за мной, а когда я выливаю рубиновую жидкость в раковину, останавливается в дверном проеме. Фарфор мойки покрывается темно-красными пятнами, и я открываю кран, чтобы их смыть.
– Да, мне было несколько странно вернуться домой и увидеть, что мои муж и сестра вовсю развлекаются, устроив себе премилый вечерок.
От выпитого мной самой вина язык немного заплетается. По выражению лица Пола становится ясно: он считает, что я либо просто веду себя глупо, либо ревную, либо то и другое вместе. Но дело не в этом. Меня пугают ее скрытые мотивы. Можно не сомневаться: Клэр знала, что я сегодня вернусь позже, и раз сплавила детей, значит, спланировала все заранее. Ему этого объяснить нельзя, он мне просто не поверит, потому что не знает ее так, как я, и не понимает, на что она способна.
– Не валяй дурака. Я просто хотел сказать, что тебе не следовало так бесцеремонно выставлять ее за дверь. Она зашла повидаться, а ты ее обидела.
– Если бы она действительно хотела повидаться, могла бы сначала и позвонить.
– Так ведь она и звонила, несколько раз. Но ты не брала трубку и не перезвонила.
Я вспоминаю, что сестра действительно пыталась сегодня со мной связаться, причем дважды. Первый раз во время моего разговора с Мэтью, будто знала, что у меня что-то пошло не так. Я поворачиваюсь к Полу, но не могу подобрать нужных слов. В этот момент меня в нем все бесит. Как мужчина он все еще привлекателен, но от невзгод, с которыми ему пришлось столкнуться на жизненном пути, выглядит затрапезным и потрепанным, будто когда-то сверкавший, но со временем потускневший кусок серебра. Слишком худ, кожа его будто сто лет не видела солнца, волосы для его возраста слишком длинны, хотя откровенно говоря, он так толком и не повзрослел. По тому, как Пол стиснул зубы, я вижу, что он на меня злится, и по какой-то причине меня это заводит. Секса у нас не было несколько месяцев, с годовщины нашей свадьбы. Может, теперь оно так и будет – удовольствие раз в год.
Я поворачиваюсь к плите, пальцы складываются в знакомую фигуру. Раньше я при нем никогда так не делала, но теперь мне плевать.
– У тебя неприятности на работе? – спрашивает муж.
Я не отвечаю.
– Не понимаю, почему ты оттуда не уходишь.
– Надо, вот и не ухожу.
– Но почему? В деньгах мы не нуждаемся. Ты могла бы попытаться вновь найти работу на телевидении.
Разговор между нами окутывается пеленой молчания, заглушающей слова, которые мы произносим только мысленно, но никогда вслух. Радио погубило его телезвезду. Я упорно смотрю на плиту и начинаю шепотом считать.
– Может хватит, а? – говорит он. – Это же бред.
Я не обращаю на него внимания и продолжаю свой ритуал. Я чувствую, что он не сводит с меня глаз.
Колесики автобуса все крутятся и крутятся…[2]В последнее время мы только и делаем, что ссоримся.
Все крутятся и крутятся…Чем больше я стараюсь удержать от краха наш брак, тем быстрее он распадается.
Все крутятся и крутятся…Я не из тех, кто плачет, у меня свои способы выразить тоску.
Колесики автобуса все крутятся и крутятся…Как же мне хотелось бы сказать ему правду.
Весь день с утра до ночи.В голове само по себе всплывает детское воспоминание. Лучше бы не всплывало.
– С тобой все в порядке? – спрашивает Пол, наконец отходя от двери.
– Нет, – шепчу я, позволяя ему меня обнять.
Это правда, хотя и не вся.
Давно
Понедельник, 16 сентября 1991 года
Дорогой Дневник,
Сегодня был очень интересный день, я пошла в новую школу. Само по себе это не очень интересно, такое со мной происходит часто, но сегодня все было как-то по-особенному, как будто в этот раз наконец-то все получится. Классная руководительница вроде хорошая. Уверена, мама про нее скажет: «Миссис Макдональд любит покушать, да?» Мама так часто говорит, она так дает понять, что человек слишком полный. Мама говорит, что нужно всегда выглядеть как можно лучше, потому что хоть и говорят, что книгу по обложке не выбирают, обычно люди так и делают. Миссис Макдональд старше мамы, но моложе нашей покойной Буси. Она меня просто представила классу, без всяких песен и плясок, не то что другие учителя, а потом сказала сесть. Было всего одно свободное место в самом конце, так что я там и села. Как обычно бывает в новой школе, этот день прошел нормально. Мама говорит, что здесь-то мы уж точно задержимся надолго, но она так и раньше уже говорила.
Они сейчас читают дневник девочки по имени Анна Франк, но начали совсем недавно, так что я пропустила совсем чуть-чуть. Соседка по парте поделилась со мной своей книжкой. Она сказала, чтобы я звала ее Тэйлор, это ее фамилия, а не имя, но, в общем, какая разница. Я заметила на ее пиджаке следы от мела и теперь понимаю, что она из таких, которых остальные ребята не любят.
На домашку нам задали писать в дневник каждый день в течение недели, примерно как Анна Франк, только она вела дневник намного дольше. Самое классное – нам не надо его сдавать, потому что миссис Макдональд говорит, что дневники – это очень личное. Сначала мне вообще не хотелось ничего делать – все равно ведь никто не узнает, но мама с папой внизу опять ругаются, поэтому я передумала и решила все же попытаться.
Не думаю, что мой дневник будет такой же занимательный, как у Анны Франк. Я не очень интересный человек. Миссис Макдональд говорит, что если не знаешь, что писать, нужно просто вспомнить какие-нибудь три правдивые вещи о себе. Она говорит, что каждый может найти эти три вещи, и что быть честным с собой гораздо важнее, чем быть честным с другими. Так что вот эти три вещи, которыми я хочу с тобой поделиться (все три – абсолютная правда):
1. Мне почти десять лет.
2. У меня нет друзей.
3. Родители меня не любят.
Проблема с честностью в том, что от нее хреново.
Моя Буся умерла от рака. Когда она заболела, мы переехали к ней, но лучше ей все равно не стало. Ей было шестьдесят два, кажется, что она была очень старой, но вот мама говорит, что в таком возрасте умирать рано. Раньше я проводила с Бусей много времени, она меня брала во всякие крутые места и всегда внимательно слушала. У нее никогда не было много денег, но на прошлое Рождество она подарила мне этот дневник. Она считала, что если я буду записывать, что думаю и чувствую, мне будет проще справляться с проблемами. Уже почти год прошел, я тогда ее не послушалась и теперь об этом жалею. Эх, надо было записывать все, что она говорила, потому что теперь я уже начинаю забывать ее слова.
Думаю, что раньше папа с мамой меня любили, но я так часто их расстраивала, что их любовь постепенно исчезла. Они даже друг друга не любят, все время ссорятся и орут. Они ругаются по самым разным поводам, но в основном из-за денег, которых нам постоянно не хватает. А еще из-за меня. Один раз они даже устроили такой крик, что наш бывший сосед вызвал полицию. Мама сказала, что это позор, так что когда полицейские уехали, они стали ругаться еще сильнее. Теперь мы больше там не живем, и мама говорит, что все это ерунда и что окружающим не стоит совать свой нос в чужие дела. После переезда она сказала, что мы «начнем все с нуля», а потом добавила:
– Тебе же будет приятно найти себе новых друзей?
Она даже не заметила, что у меня и старых-то нет.
Раньше, оказываясь на новом месте, я каждый раз заводила друзей, но мне всегда было ужасно грустно, когда потом с ними приходилось расставаться. Теперь я больше не рыпаюсь. Никакие друзья мне не нужны. Когда кто-то приглашает меня на день рождения, я вежливо отказываюсь, объясняя, что меня все равно не пустят. И даже не показываю маме приглашения, сразу выбрасываю. Проблема в том, что если ты идешь к кому-то в гости, то рано или поздно тебе придется принимать гостей и у себя. Буся всегда говорила, что лучше дружить с книгами, чем с людьми. Книги, говорила она, унесут тебя куда угодно, если ты им позволишь. Думаю, она была права.
После смерти Буси мама обещала сделать в доме ремонт, но все осталось как прежде. Я сплю в Бусиной комнате на той самой кровати, где она однажды уснула и уже не проснулась. Мама предложила купить мне новую, но я не хочу, по крайней мере пока. Порой мне кажется, что я до сих пор вдыхаю Бусин запах, хотя это глупо, потому что постельное белье стирали миллион раз, да и вообще это другое белье. В моей комнате две кровати. На второй когда-то спал дедушка, но он умер не здесь, а в чужом доме.
Пока что не похоже, чтобы они там закончили ругаться. Потом папа откроет бутылку красного вина и нальет себе большой бокал. Мама тем временем вынет из морозилки что-нибудь для ужина и приготовит себе напиток, похожий на воду (но это будет не вода). Когда я вырасту, никогда не буду пить спиртного, мне не нравится, как оно действует на людей. Мы сядем есть разогретую в микроволновке лазанью, потом кто-то из них вспомнит, что я сегодня пошла в новую школу, и спросит, как прошел первый день. Я скажу им, что все было хорошо, расскажу немного об одноклассниках и учителях, а они будут делать вид, что внимательно меня слушают. Поев, папа возьмет оставшееся вино и пойдет в свой кабинет, то есть в комнату, где Буся раньше любила шить. Он ее переименовал, но он там не работает, а смотрит маленький телевизор. Мама будет мыть посуду, я в одиночку посижу в гостиной и перед сном посмотрю большой телевизор. Потом, в девять часов, мама скажет мне подниматься наверх и ложиться спать. Чтобы не забыть об этом, она даже ставит будильник. Как только я улягусь и им покажется, что я уснула, они опять начнут ругаться. В детстве Буся пела мне колыбельную, чтобы я быстрее уснула. «Колесики автобуса все крутятся и крутятся». Тогда она мне не особо нравилась, но теперь я порой мурлычу ее себе под нос, чтобы не слышать, как папа кричит, а мама плачет. Вот в основном и вся моя жизнь. Я ведь говорила, что она далеко не такая интересная, как у Анны Франк.
Сейчас
Вторник, 27 декабря 2016 года
Я слышу за окном проливной дождь, по стеклу будто беспрестанно барабанит армия крохотных ноготков, пытаясь пробудить меня от этого бездонного сна. Когда очередная сердитая капля оказывается бессильна разрушить заклятие, я представляю, что она превращается в слезинку и горестно стекает вниз. На дворе, вероятно, ночь, вокруг тихо. Я воображаю, что вновь обретаю способность встать, подойти к окну, вытянуть наружу руку, почувствовать на ладони дождь и поднять глаза на ночное небо. В страстной тоске по свободе я задаюсь вопросом: а суждено ли мне вообще когда-либо вновь увидеть звезды? Все мы сотканы из плоти и звезд, но в конечном итоге неизменно превращаемся в тлен. Так что лучше сиять, пока еще есть возможность.
Хотя я одна, в голове до сих пор звучит голос Пола. Держись. Я пытаюсь, но смысл происходящего по-прежнему от меня ускользает. Не понимаю, почему он ссорился с Клэр, ведь они всегда так хорошо ладили. Она хоть и младшая сестра, но всегда опережает меня на шаг. Мне часто говорят, что мы похожи, но она красивая блондинка, в то время как я лишь темноволосая подражательница, от которой одни только разочарования. Ее можно с полным основанием назвать новой, улучшенной версией дочери, которую папе с мамой так хотелось всегда иметь. Они всегда считали ее совершенством. Я сначала тоже так думала, но когда она стала жить с нами, обо мне все забыли. Родители никогда не знали ее так, как я, и не видели того, что было доступно моему взору.
Меня опять засасывает пучина забытья. Я борюсь сколько могу, и когда уже вот-вот готова сдаться, открывается дверь.
Я знаю, это она.
Клэр всегда пользовалась теми же духами, что и мама; она верна своим привычкам. И она всегда перебарщивает. Она медленно движется ко мне, и я ощущаю едва уловимый запах кондиционера для белья. Думаю, на ней сейчас что-нибудь облегающее и женственное, но слишком тесное – мне в такое не влезть. Я слышу, как ее тонкие, невысокие каблучки цокают по полу. Интересно, на что она сейчас смотрит? Клэр не торопится. Она пришла одна.
Она берет стул, придвигает его к кровати и садится, теперь наступает ее очередь мне что-нибудь молча почитать. Время от времени я слышу, как сестра переворачивает страницы – к посещению она приготовилась заранее. Воображение рисует, как ее руки с наманикюренными ногтями держат на коленях книжку. Я представляю, как палата превращается в стерильную библиотеку, а я сама в призрачную библиотекаршу, приговаривающую к тишине каждого посетителя: «Тссс!» Вообще-то Клэр читает очень быстро, поэтому слыша, что страницы переворачиваются не слишком часто, я понимаю, что она по привычке играет на публику. В этом деле она настоящий мастер.
– Как бы мне хотелось, чтобы здесь сейчас оказались папа и мама, – говорит она.
А вот я только рада, что их нет.
Ей хочется, чтобы они пришли ради нее, но никак не ради меня. По всей видимости, родители, как всегда, решат, что я сама во всем виновата. Я слышу, что Клэр откладывает книгу, которую до этого напоказ читала, встает и подходит ближе. Мысли в моей голове звучат все громче и громче, принуждая меня к ним прислушиваться, но так быстро носятся во все стороны и сталкиваются друг с другом, что мне не удается задержаться ни на одной из них, чтобы постичь ее смысл. Лицо Клэр теперь так близко ко мне, что я могу ощутить в ее дыхании аромат кофе.
– У тебя в волосах до сих пор осколки стекла, – шепчет она.
Как только ее слова достигают моих ушей, я чувствую, что какая-то сила быстро тащит меня назад, будто по длинному, погруженному во мрак тоннелю. Я сижу на высокой ветке засохшего дерева, опускаю глаза и обнаруживаю, что на мне по-прежнему больничная сорочка. Улица внизу мне знакома, я живу неподалеку, поэтому можно считать, что здесь я почти дома. Вдали громыхает буря, в воздухе висит запах гари, но мне не страшно. Я протягиваю руку, чтобы ощутить капли начавшегося дождя, но она остается сухой. Перед глазами лишь самый темный оттенок черного да крохотный проблеск света вдали. Я так рада его видеть… Но только пока не понимаю, что это не звезда, а свет фары. Вот их уже две. В ушах свистит ветер, я вижу, что в мою сторону на огромной скорости несется автомобиль. Опускаю глаза на улицу внизу и вижу посреди дороги маленькую девочку в пушистом розовом халате. Она поет:
Звездочка, сияй в ночи,Потом поднимает на меня глаза.
Расскажи мне, не молчи.Тут она начинает путать слова.
Отчего ты так грустна?Машина теперь совсем близко. Я кричу ей быстрее сойти с дороги.
Ты давно сошла с ума.И только в этот момент замечаю, что у нее нет лица.
Я вижу, что машина дергается вбок, чтобы не сбить ее, идет юзом и врезается в мое дерево. От удара я чуть не падаю с ветки вниз, но чей-то далекий голос велит мне держаться. Время у моих ног замедляется. Девчушка безудержно смеется, и я в ужасе наблюдаю, как через ветровое стекло из автомобиля вылетает женщина. Будто в замедленной съемке она парит в воздухе в облаке осколков стекла. Потом ее тело тяжело шлепается на землю прямо подо мной. Я перевожу взгляд обратно на девочку. Она больше не смеется, а лишь подносит палец к тому месту, где должны быть губы: «Тссс!» Я опускаю глаза на тело женщины. Я знаю, что это я, но не хочу больше ничего видеть и закрываю глаза. Вокруг тихо, только радио продолжает наигрывать рождественские песенки в искореженном кузове. Музыка вдруг обрывается, и сквозь треск эфира доносится голос Мадлен. Сидя на ветке, я зажимаю уши, но все равно слышу, как она повторяет одни и те же слова:
Здравствуйте, это программа «Кофейное утро».
Случайностей в жизни не бывает.
Я кричу, однако голос Мадлен нарастает, становясь все громче. В этот момент дверь палаты открывается, и я падаю с ветки прямо на больничную кровать.
– Вот и я, – говорит Пол.
– Вижу, – отвечает Клэр.
– Я это к тому, что ты можешь идти. Мы договаривались, что когда я здесь, тебя рядом быть не должно.
– Не мы, а ты… – возражает она. – Я никуда не пойду.
Клэр берет в ногах кровати отложенную книгу и вновь садится на стул. На несколько мгновений становится тихо, потом я слышу, как Пол устраивается в противоположном углу палаты. По ощущениям, в такой диспозиции мы пребываем довольно долго. Я не знаю, бодрствовала ли все это время или порой засыпала, и не могу сказать с уверенностью, что ничего не пропустила. У меня крадут часы, вырезают отрывки жизненного повествования, прежде чем я успеваю их посмотреть.
Снова раздаются голоса, на этот раз новые и незнакомые. Все как будто говорят одновременно, перебивая друг друга, поэтому слова на пути к моим ушам путаются и сливаются. Мне приходится прилагать массу усилий, чтобы превратить их в членораздельную речь.
– Мистер Рейнольдс? Я старший инспектор полиции Джим Нендли, а это констебль Хили. Можно вас на минутку? Мы хотели бы с вами поговорить, – доносится от двери мужской голос.
– Конечно, – отвечает Пол, – вы по поводу аварии?
– Нам лучше поговорить наедине, – произносит инспектор.
– Поняла, ухожу, – говорит Клэр.
Когда она выходит из палаты, внутри у меня все сжимается. Я слышу щелчок замка, потом кто-то откашливается.
– Позапрошлым вечером ваша супруга была за рулем вашей машины? – спрашивает детектив.
– Да, – отвечает Пол.
– Вам известно, куда она направлялась?
– Нет.
– Но вы видели, как она уехала?
– Да.
Я слышу долгий, протяжный вздох.
– Вскоре после того, как «скорая» привезла вашу жену в больницу, двое наших коллег приехали к вам домой. Но вас там не застали.
– Я отправился ее искать.
– Пешком?
– Ну да. А утром, когда они явились опять, я был дома.
– Значит, вы знали, что накануне вечером к вам приезжали полицейские?
– Э-э-э… на тот момент еще нет, но вы ведь сами только что сказали, что…
– Сотрудников, с которыми вы говорили вчера утром, послали сообщить, что ваша супруга в больнице. А вот первый наряд поехал к вам после того, как к нам позвонили и сказали, что вы с ней прямо на улице устроили жуткий скандал.
Пол ничего не говорит.
– Если вы не знали, куда поехала жена, то где собирались ее искать?
– Я выпил, в конце концов, было Рождество. Не в состоянии рассуждать логично, немного побродил вокруг…
– Вижу, у вас перевязана рука. Что случилось?
– Я не помню.
Он лжет, я это точно знаю, только вот почему?
– Мы говорили с персоналом, дежурившим вечером, когда вашу жену сюда привезли. Врачи утверждают, что некоторые повреждения она получила еще до аварии. Вы не в курсе, откуда они могли у нее взяться?
Какие еще повреждения?
– Нет, – отвечает Пол.
– Вы не видели ни отметин у нее на шее, ни синяков на лице? – спрашивает женщина-полицейский.
– Нет, – повторяет он.
– Ну что ж, я вижу, нам лучше поговорить в более интимной обстановке, мистер Рейнольдс, – произносит детектив, – вам придется проехать с нами в участок.
В палате воцаряется тишина.
Недавно
Четверг, 20 декабря 2016 года, утро
– В общем, мне удалось заказать вам столик в «Лэнхеме», знакомые помогли.
– Здорово. А зачем? – спрашивает Мэтью, не отрываясь от монитора компьютера.
До эфира осталось меньше десяти минут, и практически все, в том числе и Мадлен, уже в студии.
– Для бранча, – отвечаю я.
– С кем?
Он поднимает глаза и наполовину переключает на меня свое внимание. Я вижу, как меняется выражение его лица, когда он видит мое новое платье, макияж и волосы, приобретшие форму благодаря фену и массажной щетке. Он немного выпрямляется на стуле, и его левая бровь оценивающе приподнимается, выгибаясь дугой. Интересно, не ошиблась ли я, полагая, что он гей?
– С сегодняшними нашими гостями – дамами за пятьдесят. Мы говорили об этом на прошлой неделе, – отвечаю я.
– В самом деле?
– Ну да. После эфира вы собирались их куда-нибудь сводить и поговорить о планах на будущее.
– О планах на будущее?
– Сказали, что мы должны встряхнуться и взять на вооружение более передовой подход.
– Не помню, чтобы я что-то подобное говорил.
Так оно и есть. Когда Мэтью охватывают сомнения, я накрываю его новой лавиной тщательно отрепетированных слов:
– Они полагают, что вы встретитесь с ними сразу по окончании выпуска, но если хотите, я могу принести им извинения и все отменить.
– Нет-нет. Теперь я действительно припоминаю. Мадлен тоже с нами поедет?
– Нет, только вы и наши гости. – Мэтью хмурится. – Чтобы они могли откровенно рассказать, что получается хорошо, а что не очень.
Эту часть своей речи я не репетировала, но слова срываются с губ сами собой и делают свое дело.
– Ну хорошо, думаю, в этом действительно есть смысл. В три часа у меня сеанс физиотерапии, поэтому сразу после обеда мне придется пулей мчаться домой.
– Разумеется, босс.
– И сейчас к нам в студии «Кофейного утра» присоединяется Джейн Уильямс, редактор самого популярного британского журнала «Савуар-Фер», а также писательница и телеведущая Луиза Форд. Мы будем говорить о женщинах за пятьдесят, работающих в средствах массовой информации, – говорит Мадлен и делает глоток воды.
В кои-то веки ей в студии так же неуютно, как и мне. Чтобы успокоиться, не вскочить и не выбежать из крохотного темного помещения, я что есть сил вонзаю под столом ногти в коленки.
Вчера вечером я завела в «Твиттере» фейковый аккаунт, на это ушло всего пять минут, пока Пол принимал перед сном душ. Выложила несколько фотографий кошек, найденных в Интернете, а когда проснулась, у меня уже было больше сотни фолловеров. Ненавижу кошек. И не понимаю, что хорошего в соцсетях. Точнее, понимаю, но все же для меня остается загадкой, почему такое количество людей тратит на них столько времени. Это же не настоящая жизнь. Просто белый шум. Но я все же рада, что они есть. Мой твит, гласящий «Неужели Мадлен Фрост покидает “Кофейное утро”?» за двадцать минут набрал восемьдесят семь ретвитов, а хештег #ФростВЖопе приобрел огромную популярность. Его придумала Джо.
От непривычного макияжа кожа на лице как-то отяжелела. Красная помада прекрасно подходит к моему новому платью, в этих доспехах, выбранных с особым тщанием, я чувствую себя в полной безопасности. Маска притворства на лице скрывает шрамы и смягчает угрызения совести, ведь все мои нынешние действия нужны только чтобы выжить. Заметив, что я вышла из образа, опускаю глаза и смотрю на свои красные пальцы. Поначалу мне видится на них кровь, но потом до меня доходит, что я просто испачкала их алой губной помадой.
Я прячу под себя руки, чтобы больше их не видеть. Надо сохранять спокойствие, иначе мне ни в жизнь с этим не справиться. До меня вдруг доходит, что я закусила нижнюю губу, что зубы впились в ту же плоть, которую незадолго до этого теребили пальцы. Я разжимаю их и сосредоточиваю все внимание на полупустом стакане Мадлен. Шипение и бульканье газированной воды, которую она держит в руке, будто становится громче, когда глаза преобразуют образ в звук. Я перенастраиваю слух обратно на ее голос и вновь старательно пытаюсь сосредоточиться.
Потом улыбаюсь каждой гостье, сидящей с нами за столом. Как мило с их стороны так быстро откликнуться на нашу просьбу. Пока они упорно и нахально пытаются друг друга переговорить, стараясь сделать себе рекламу, я изучаю их лица. Каждый из нас пришел сегодня сюда со своей особенной целью. Если докопаться до истинных, первородных намерений человека, то наименьший общий знаменатель в обязательном порядке будет сводиться к потребности быть услышанным, к желанию перекричать грохот современной жизни. На этот раз я не хочу никому задавать вопросов; пусть бы сегодня кто-нибудь выслушал меня саму и сказал, не грешит ли против истины моя собственная версия правды. Порой верный поступок оказывается совсем не правильным, но на то она и жизнь.
Растянутая на моем лице улыбка причиняет боль. Потуги изображать из себя счастливого человека небезуспешны, но при этом отнимают столько сил, что я помимо своей воли то и дело поглядываю на стену студии, где у нас висят часы. Время передачи подходит к концу, однако здесь, в этом помещении, оно будто застыло, поймав меня в ловушку неприступных минут. Утомившись вглядываться в сценарий, глаза каждый раз поднимаются на циферблат и смотрят на них до тех пор, пока я не замираю неподвижно, взирая, как минутная стрелка прокладывает себе курс к забвению. Тиканье, обычно совершенно незаметное, становится все громче – до такой степени, что вскоре мне трудно расслышать за ним, что говорят гости. Я вижу лица членов нашей команды на галерее, такое ощущение, что они все смотрят на меня. Ищу глазами Джо, но ее нигде не видно. Потом опять пощипываю губы, резко отдергиваю руку, злюсь на себя, что опять утратила над собой контроль, и вытираю пальцы о ткань платья. Красное на красном. Оказывается, чтобы перестать быть собой, требуется больше усилий.
Когда эфир наконец благополучно завершается, я с удовольствием смотрю вслед направляющейся в офис Мадлен, точно зная, что ее там ждет. Благодарю гостей – кому-то же ведь надо! – и оставляю их на попечение Мэтью, который уже стоит в пальто, готовый идти с ними в ресторан. Потом направляюсь в туалетную комнату, чтобы проверить, по-прежнему ли на месте маска притворства. Там стоит личная помощница Мадлен и смотрится в зеркало. Выглядит измотанной, в уголках глаз залегла тоска, при виде которой ее так и хочется защитить. Я улыбаюсь ей, она робко улыбается в ответ. В ее многочисленные обязанности входит утренний просмотр почты Мадлен, которая слишком занята для того, чтобы делать это самостоятельно. Причем разгребать всегда приходится приличную кучу: пресс-релизы, приглашения, предложения всякой халявы, в общем, как обычно. Ей приходит больше писем, чем нам всем вместе взятым, включая меня. Плюс корреспонденция от фанатов. После шоу она должна быть у нее на столе. По окончании эфира Мадлен любит сама читать личные послания и помечать небольшим красным стикером те, которые, по ее мнению, заслуживают ответа. Письма она никогда не хранит. Вдыхать восхищение и выдыхать надменность – вот к чему сводится ее персональный, выполненный на заказ фотосинтез. В ответ на помеченные красным стикером письма она посылает фотографии со своим автографом. Ответы не пишет и даже подписи ставит не сама: это тоже обязанность ее личной помощницы. Я смотрю, как она накладывает новый макияж. Интересно, а как чувствует себя человек, которому каждый день приходится выдавать себя за кого-то другого?
Я направляюсь в переговорку и вместе с остальными жду разбора полетов. Когда сажусь, Джо мне незаметно кивает – «Проект Мадлен» пока идет по плану. Коллеги тихонько переговариваются, обсуждая циркулирующие в Интернете слухи об уходе Мадлен, и я рада, что молва подхватила их и понесла дальше. Ложь, если ее достаточно часто повторять, в конечном итоге имеет все шансы стать правдой. Горячее обсуждение тут же прекращается, как только она входит в комнату. Мадлен с грохотом захлопывает за собой стеклянную дверь и садится за стол. Полагаю, она тоже видела, что творится в «Твиттере». Она понятия не имеет, как распечатать собственный сценарий, но писать твиты умеет. Мне хорошо известно, что после каждого эфира она проверяет свой аккаунт, желая убедиться, что пятьдесят тысяч фолловеров ее по-прежнему обожают. Конечно, ей не очень-то весело было обнаружить, что ее обсуждают по такому неприятному поводу.
– Где мой кофе? – рявкает она, не обращаясь ни к кому в особенности.
Лицо ее личной помощницы заливается краской.
– Да вот же он… Мадлен… – отвечает она, указывая на дымящийся напиток на столе.
– Это не моя чашка. Сколько раз я должна тебе повторять?
– Но она в посудомоечной машине.
– Так помой ее! Ручками, ручками! Где Мэтью?
Я внимательно смотрю на эту успешную, грозную даму и никак не могу понять, откуда в ней столько злости. Мне многое о ней известно, даже то, о чем я предпочла бы никогда не знать и что сама Мадлен наверняка предпочла бы сохранить в тайне, особенно от меня, но это все равно никоим образом не объясняет ее ненависти. Я откашливаюсь и сжимаю под столом кулаки. Пришло время произнести свои реплики.
– Мэтью поехал в ресторан с Луизой и Джейн, – отвечаю я.
– Что? Почему? – спрашивает Мадлен.
– Не знаю. Сказал, что сегодня в офис не вернется.
Несколько мгновений Мадлен молчит. Все ждут. Она не поднимает глаз от стола, ее лицо, уже значительно покрытое морщинами, хмурится.
– Ну хорошо, может, кто-нибудь объяснит мне, кому в голову пришла мысль пригласить этих «дам за пятьдесят»? Лично я впервые услышала о них только сегодня утром.
Я предоставляю объяснения остальным, а сама откидываюсь на стуле и изучаю своего врага. Поверх очков в темной оправе, сползших на кончик вздернутого носа, она шныряет по комнате взглядом своих мертвых глаз.
Эй, барашек, бе-бе-бе, Сколько шерсти на тебе?[3]Ее пальцы с длинными, как у ведьмы, ногтями нетерпеливо барабанят по блокноту, между белых страниц которого виднеется самый кончик красного конверта. Стало быть, она только что все прочла. Я внутренне улыбаюсь.
Первый шаг пройден.
Давно
Четверг, 24 октября 1991 года
Дорогой Дневник,
В общем, Тэйлор, с которой я сижу за одной партой, хочет со мной дружить. Она этого не говорила, но я и без того вижу. Это проблема. Она хорошая девочка, хотя, кажется, не очень популярная, но меня это не беспокоит. Быть популярным совсем не так классно, как принято считать, потому что в этом случае окружающие ожидают от тебя слишком многого. Намного лучше смешаться с толпой, если ты в этом случае как-то отличишься, на тебя сразу обратят внимание.
Сегодня перед хоккейным матчем одна крутая девочка обидела Тэйлор. Ее зовут Келли О'Нил, она всегда загорелая, потому что постоянно ездит с родителями отдыхать, и она противная. Она сказала, что Тэйлор плоская, но это идиотизм, мы все плоские, нам же десять лет. Все засмеялись, но не потому что было смешно, а потому что боятся Келли, и это тоже идиотизм. Она всего лишь избалованная дура. Тэйлор очень покраснела, но она молодец, не разревелась. Буся часто говорила, что если сдерживать слезы, они превратятся в яд. Мама говорит, что только маленькие дети могут плакать и что это признак слабости. Лично я считаю, что все зависит от того, какие это слезы, потому что я постоянно вижу ее саму плачущей.
Я могу назвать три причины, по которым недавно плакала, когда никто не видел:
1. Буси больше нет.
2. Из моей ручки вылились чернила на книжку «Маленькие женщины».
3. Я легла спать без ужина, и у меня так болел живот, что я не могла уснуть.
Матч был нудный и скучный. Не успели мы доиграть до середины, как пошел дождь, но учительница физкультуры все равно велела нам продолжать, потому что дождик, по ее словам, еще никому не навредил. Мне показалось, что ей самой хотелось немного поразмяться. Она сказала, что от чрезмерного использования и недостаточного ухода трава на хоккейной площадке местами облысела, поэтому я старалась обходить такие места, надеясь, что это поможет. Потом в какой-то момент бросилась за мячом и поскользнулась. Я вытянула вперед руки, чтобы смягчить падение, выпустив из них клюшку. И только когда встала, увидела, что натворила. Моя клюшка полетела вперед и ударила Келли О'Нил прямо в лицо. У нее из носа пошла кровь и все такое. Это получилось случайно, так что я себя особо не виню. Правда, Буся всегда говорила, что просто так ничего не бывает и что все на свете имеет причину. Честно говоря, я не знаю, как к этому относиться. Иногда что-то просто происходит, хотя ты ничего такого и не собирался делать, и даже если тебе никто не верит, это не значит, что ты это сделал нарочно.
Я только что услышала, что внизу разбилась тарелка. Подошла к лестнице и на несколько секунд прислушалась. Папа орал, что она чуть не попала ему в голову. Поскольку тарелки не склонны сами собой летать по воздуху, я полагаю, что ее зашвырнула мама. В стране под названием Греция их бьют просто для веселья. Я слышала, как Келли О'Нил рассказывала об этом в раздевалке перед хоккеем. Она туда ездила отдыхать. Два раза. А вот я никогда не была за границей, зато ездила в Брайтон. Мы с мамой и папой как-то провели там выходные. Думаю, тогда они были счастливы. Но теперь точно нет. Я уже не помню, как выглядит папа, когда улыбается. Мама все время кажется грустной, и сейчас она гораздо толще, чем раньше. Вместо джинсов теперь носит лосины на резинке. Может быть, поэтому папа все время злится. Он как-то ей сказал, что она себя запустила, это значит, что теперь мама выглядит хуже, чем раньше, и потеряла всю свою привлекательность.
Я закрылась в своей комнате, но их голоса доносятся даже через дверь. Взяла с собой в постель дверную подпорку, которой пользовалась Буся. Она теперь не нужна, я хочу, чтобы моя дверь всегда была закрыта. Мне нравится ее трогать, она сделана в виде малиновки из коричневого металла. Бабушка очень любила эту вещь, и теперь она моя. Для птицы вся прелесть заключается в том, что у нее всегда есть возможность улететь. Но эта малиновка не может, ей придется остаться со мной, в нашей с ней комнате. Ей не дано ни летать, ни петь, ни свить гнездо где-нибудь в других краях. Хотя готова спорить, что если бы она могла, она бы улетела.
Я еще как следует обдумаю, буду ли я дружить с Тэйлор. Буся всегда говорила, что на своих проблемах надо поспать. Это значит, что если думать о чем-то трудном, когда идешь спать, тебе оно потом приснится, и если повезет, ты проснешься с готовым решением. Я обычно забываю свои сны сразу же, как проснусь, так что они никогда не могли мне хоть как-то помочь.
Недавно
Вторник, 20 декабря 2016 года, после полудня
Я возвращаюсь с работы рано, в надежде поговорить с Полом, но дома его не застаю. Видимо, он пошел проветриться. Он часто так делает, объясняя, что прогулки помогают, когда у него нет вдохновения. В последнее время слова не идут к нему, и я думаю, в его мире чудовищно тихо. В доме тоже тихо, и я не знаю, чем себя занять. Открываю холодильник и тупо гляжу внутрь – намного дольше, чем нужно, если учесть, что там почти ничего нет. В конце концов беру банку колы, сажусь за кухонный стол и смотрю через окно в сад. Сверху безоблачное небо, снизу зеленая трава, и только голые деревья да холодный воздух разоблачают иллюзию, будто стоит летний день. На минувшей неделе картина была совсем другой. Пол тогда уехал собирать материал, а я осталась дома одна, уверенная, что во тьме кто-то прячется, вынашивая план забраться в дом. Могу поклясться, что я отчетливо слышала, как кто-то крадется и пытается открыть заднюю дверь. Пол думает, это мне приснилось. Надо постараться об этом не думать.
Когда я открываю ногтем банку, она издает приглушенный свист, будто хочет подозвать меня поближе и рассказать какой-то секрет. Делаю глоток. Какая холодная, аж зубы сводит, но это ощущение мне нравится, и я продолжаю жадно пить. Потом опять выглядываю в сад и вижу на заборе малиновку. Смотрю на нее, а она, кажется, смотрит на меня. Потом все происходит на удивление быстро. Комочек перьев на полной скорости решительно устремляется ко мне, но на его пути возникает стеклянная дверь. От удара я вскакиваю и опрокидываю банку. Крохотное тельце малиновки падает, будто в замедленной съемке и опускается на газон. Я бросаюсь к двери, но открывать ее не решаюсь. Лишь стою и смотрю на крохотную птичку, которая лежит на спинке, закрыв глаза, и взмахивает крылышками, будто все еще летит. Не знаю, надолго ли мы вот так замираем – она пытаясь сделать вдох, я не в состоянии выдохнуть, – но время в конечном итоге возвращается к привычному ритму.
Малиновка затихает, раскинув крылья.
Красная грудка опадает и больше уже не поднимается.
Крошечные лапки опускаются на мокрую траву.
Я чувствую, что должна выйти, но не могу. Мне нужно оставаться под защитой стеклянного барьера. Я опускаюсь на колени и подаюсь вперед, как будто могу разглядеть, как через клювик из птицы уходит жизнь. Одна подруга как-то сказала мне, что малиновки – это души умерших, которые пришли к нам с вестью с того света. Интересно, что же это за весть? Я замечаю, что руки покрылись мурашками.
Неожиданный стук по стеклу заставляет меня вздрогнуть. Я поднимаю глаза и вижу Клэр. Она не замечает малиновку, хотя стоит совсем близко. Я встаю, открываю дверь, и она, не дожидаясь приглашения, переступает порог с таким видом, будто заходит к себе домой. Найти этот дом нам помогла она: увидела в Интернете объявление и быстренько договорилась с агентом о встрече. Я возражать не стала, тут действительно хорошо, но выбирать – это одно, а купить – совсем другое.
– Чем занимаешься? – спрашивает она, снимая пальто. Сестра, как обычно, выглядит просто великолепно, одежда на ней сияет чистотой, ни один волосок не выбивается из прически. А ведь у нее двое маленьких детей. Ее привычка идти в обход и пользоваться задней дверью, чтобы увидеть, дома ли я, меня бесит. Любой другой на ее месте позвонил бы в парадную дверь и уловил бы намек, если бы ему никто не ответил. Но только не Клэр. Она уже давно просит у меня ключ. Я всегда отвечаю, что как-нибудь закажу дубликат – как-нибудь потом.
– Ничего особенного… Просто показалось.
– Ты сегодня рано.
– Так Рождество же, на работе затишье.
– Пол дома? – спрашивает она, по-хозяйски вешая пальто на спинку кухонного стула.
– Не похоже.
Я сожалею об этих словах, едва успев их произнести. Мой тон, как всегда, не ускользнул от ее внимания.
– Ну что же, хорошо, что я застала тебя одну, – говорит она.
Я киваю, чувствуя себя прижатой к стенке.
– Выпьешь что-нибудь?
– Нет, спасибо, я ненадолго, мне еще надо забрать близняшек, – говорит Клэр, усаживаясь за кухонный стол.
Я беру полотенце, вытираю разлитую колу и устраиваюсь напротив; сиденье все еще хранит тепло моего тела. Помимо своей воли смотрю через ее плечо на мертвую птичку.
– Ну что? – спрашиваю я.
Голос звучит резче, чем мне хотелось бы. С Клэр я общаюсь совсем не так, как с другими. Это как включить радио и вдруг услышать песню, которая уже крутится у тебя в голове. Ты не мог знать, что именно поставят, но каким-то образом тебе удалось догадаться. Вот так выглядят и мои разговоры с Клэр.
– Видишь ли… Я за тебя переживаю… Мне показалось, нам надо поговорить, – отвечает она.
– Я в порядке.
– В порядке? Что-то не похоже. Ты не отвечаешь на мои звонки.
– Времени не было. Как-никак, а я работаю полный день.
Несколько секунд я внимательно вглядываюсь в ее лицо, стараясь выиграть время, пока уста отвергают любые предложенные мозгом слова. Она выглядит настолько моложе меня, что порой мне кажется, будто ее лицо в последние пару лет забывает стареть.
– Я просто немного устала.
Мне очень хотелось бы сказать ей правду, поделиться парой маленьких секретов, как и подобает сестрам, но я не знаю, с чего начать. У нас с ней столько общего, но в то же время мы абсолютно разные, и в нашем родном языке нет подходящих для подобных бесед слов.
– Помнишь парня, с которым я встречалась на последнем курсе университета? – спрашиваю я.
Клэр отрицательно качает головой. Ложь. Я уже жалею, что завела этот разговор.
– Как его звали?
– Эдвард. Ты еще его невзлюбила. Хотя вряд ли это подстегнет твою память, тебе никто из моих парней не нравился.
– Ну почему, – возражает она, – мне нравился Пол.
Я игнорирую тот факт, что она использовала прошедшее время.
– Мы с ним столкнулись вчера на Оксфорд-стрит. Поистине сумасшедшее совпадение.
– Что-то такое припоминаю. Высокий, привлекательный и очень самоуверенный, да?
– Не думаю, что ты его когда-либо видела.
– К чему ты клонишь? Ты что, решила завести интрижку на стороне?
– Да нет, не нужны мне никакие интрижки. Просто пытаюсь поддержать разговор.
Я несколько мгновений упорно смотрю в стол, желая, чтобы Клэр ушла, но она даже и не думает.
– А с Полом как?
– Тебе лучше знать, ведь с некоторых пор ты проводишь с ним больше времени, чем я.
В моих словах слышится вызов, хоть я этого и не хотела. Мы ступаем на неизведанную территорию. Я заговорила на языке, который ей непонятен, – возможно, в первый раз в жизни нам с ней понадобится переводчик. Клэр встает, собираясь уйти, и снимает со спинки стула пальто. Остановить ее я не пытаюсь.
– Я явно пришла не вовремя. Оставлю тебя наедине со своими мыслями.
Клэр открывает заднюю дверь, но перед уходом поворачивается и говорит:
– Не забывай – я всегда рядом.
Звучит как угроза. Я слышу, как она идет вдоль дома, хруст гравия постепенно утихает, наконец за ней с грохотом захлопывается калитка.
Мои мысли возвращаются к малиновке. На мгновение мне кажется, что она могла ожить, я бросаюсь вперед, но, подбежав к стеклянной двери, вижу, что ее коричневое тельце лежит на зеленом ковре без признаков жизни. Оставить ее здесь, растерзанную и одинокую, я не могу. Я открываю заднюю дверь и, перед тем как выйти, выжидаю пару секунд, чтобы не потревожить ту, кто сама меня тревожит. У меня не сразу получается собраться с духом, чтобы наклониться и поднять птичку. Она легче, чем мне казалось, будто соткана из одного лишь воздуха и перьев. Глухой стук ее крохотного тельца о дно мусорного бака перекликается со звуком удара о стекло, и мне никак не удается избавиться от нахлынувшего чувства вины. Я возвращаюсь обратно в дом и трижды мою руки, каждый раз обильно намыливая и до боли оттирая кожу. Потом вытираю их, но тут же опять включаю кран и мою опять и опять – до тех пор, пока не заканчивается мыло. После чего засовываю руки в карманы, на этот раз мокрыми, и стараюсь больше о них не думать. От того, что жизнь можно выбросить на помойку, будто мусор, меня охватывает странное чувство. Сейчас ты жив, а через минуту уже нет, и все из-за одной-единственной ошибки, одного неверного поворота.
Сейчас
Среда, 28 декабря 2016 года, утро
Мне становится труднее отделять сны от яви, я боюсь и того, и другого. Даже вспомнив где, я больше не знаю когда. Наступило утро, но ни дня, ни вечера за ним не предвидится. Я сбежала и спряталась от времени, и мне очень хотелось бы, чтобы оно снова меня нашло. У него, у времени, есть свой собственный запах. Будто у знакомой комнаты. Когда оно тебе больше не принадлежит, ты жаждешь его и томишься, понимая, что готов сделать что угодно, лишь бы вернуть его обратно. Когда же оно к тебе возвращается, опять воруешь украденные у тебя секунды, бездумно швыряешь минуты направо и налево, составляешь их вместе и куешь хрупкую цепь заимствованного времени, надеясь, что она сможет растянуться. Что времени хватит до следующей страницы. Если, конечно, эта следующая страница существует.
Я чувствую запах потерянного мной времени. И чего-то еще. Рядом со мной давно никого нет. Пол не вернулся, и с тех пор, как я начала отсчет секунд, в комнату так никто и не вошел. Я досчитала до семи тысяч, это означает, что мне пришлось пролежать в собственном дерьме больше двух часов.
До меня нередко доносятся голоса, пробуждая от этого сна во сне. Постепенно я начинаю к ним привыкать. Ко мне в палату приходят одни и те же медсестры, чтобы убедиться, что я все еще дышу и сплю, а потом вновь оставляют наедине с моими мыслями и страхами. Хотя нет, вру, они делают намного больше. Например, переворачивают меня, хотя и непонятно почему. В данный момент я лежу на левом боку, на котором как раз любила спать, когда у меня был выбор. Ведь раньше у меня всегда был выбор.
Большая часть дерьма прилипла к внутренней поверхности левого бедра. Я чувствую его прикосновение и запах. Вынужденно открытый рот почти даже ощущает его вкус, от этой мысли мне хочется прикрыть его рукой, но мне не дано сделать даже этого. Скрывающаяся в горле трубка до такой степени стала частицей моего естества, что я ее больше почти не замечаю. Воображение рисует меня в виде какого-то нового монстра из «Доктора Кто»: кожа и кости в переплетении трубочек и проводов. Я хочу, чтобы до прихода Пола меня помыли. Если, конечно же, он вообще придет. Дверь открывается, мне кажется, что это он, но запах белого мускуса убеждает меня в обратном.
– Доброе утро, Эмбер. Ну, как вы себя сегодня чувствуете?
Дайте подумать… чувствую себя дерьмово, лежу в дерьме и воняю тоже дерьмом. Почему они все продолжают со мной говорить? Ведь им известно, что ответить я не могу, и они не верят, что я способна их услышать.
– Ой-ой-ой… ну ничего, не волнуйтесь, сейчас мы здесь все уберем.
Спасибо.
Двое медсестер принимаются меня обмывать. Они мне не представились, поэтому их имен я не знаю, но я придумала им прозвища. «Северянка» говорит с йоркширским акцентом. У нее есть привычка что-то бормотать себе под нос за работой, и даже тогда она, на мой взгляд, слишком растягивает гласные. Грубоватые на ощупь руки торопятся поскорее взяться за работу. Она с силой трет мою кожу, будто я не человек, а грязная сковородка, напрочь отказывающаяся расставаться с пятнами жира, в голосе ее неизменно звучит усталость. Сегодня вместе с ней пришла «Прокуренная» – прозвище говорит само за себя. Сиплый, низкий голос звучит так, будто она зла на весь белый свет. Когда эта женщина стоит рядом, я чувствую запах никотина, которым пропитаны ее пальцы, ее легкие, ее сиплое дыхание. Пока они вдвоем меня моют, я слышу шорох их пластиковых фартуков, плеск воды в тазу, чувствую запах мыла и прикосновение к коже облаченных в перчатки рук.
Закончив, медсестры переворачивают меня на правый бок. Я не люблю так лежать, для меня это неестественно. Одна из них расчесывает мне волосы, зажав в пучок, чтобы не рвать щеткой. Не хочет причинять мне дополнительные мучения. Я вспоминаю, как в детстве меня причесывала бабушка. «Северянка» протирает мне ротовую полость неким подобием небольшой губки и намазывает растрескавшиеся, сухие губы вазелином, запах которого обманывает мозг, наводя на мысль, что его можно попробовать на вкус. Иногда она объясняет мне, что делает, иногда забывает. На самом деле мне страшно хочется пить, но она не дает. Не знаю, как давно я здесь нахожусь, но я уже начинаю привыкать к новым ритуалам. Просто удивительно, насколько быстро человек адаптируется к любым обстоятельствам. В голове вспыхивает воспоминание, и я думаю о бабушке, когда она лежала при смерти. Интересно, ее тоже мучила жажда? Колесики автобуса все крутятся и крутятся.
Он приходит позже, хотя я и не знаю насколько. Его голос разбивается о стену, которую я возвела вокруг себя.
– Пока что они меня отпустили, но они думают, что я тебя покалечил, Эмбер, – произносит он. – Тебе обязательно надо очнуться.
Ничего себе! Не успел поздороваться и уже предъявляет требования. Но тут до меня доходит, что я просто не заметила, как он вошел, что он мог находиться в палате уже какое-то время и что-то мне говорить, а я его просто не слышала. Его голос звучит так, будто он неловко пародирует сам себя. Я не могу понять, что за этим скрывается – что странно, ведь я его жена. По идее, я должна уметь различать, звучит ли в его голосе гнев или страх. Может быть, дело именно в этом, может быть, это одно и то же.
Я помню, что он ушел с полицейскими. Пол не будет об этом говорить, как бы сильно я этого ни хотела. Вместо этого читает мне газету, объясняя, что, по словам доктора, это может помочь. Все новости какие-то печальные, и у меня возникает вопрос, чем это можно объяснить: то ли он преднамеренно опускает радостные, то ли таковых в мире вообще больше не осталось. Потом он умолкает, и я досадую на невысказанные слова. Я хочу, чтобы он рассказал обо всем, что с ним происходило, пока я лежала тут. Мне необходимо это знать. Время бросило меня, ушло вперед, и я никак не могу его догнать. Полиция его не арестовала, раз он здесь, но в этой истории явно что-то не так. Муж по-прежнему сидит в моей палате, но больше не издает ни звука. Я представляю, как он смотрит на меня, и с беспокойством пытаюсь понять, как сейчас выгляжу в его глазах. Что бы я в этой жизни ни делала, ему от меня одни только разочарования.
Когда не за что ухватиться, меня уносит течение. Голоса в голове перекрывают тишину, воцарившуюся в палате. Самый пронзительный – мой собственный, он без конца напоминает мне обо всем, что я сказала и сделала, чего не сказала и не сделала, а также о том, что должна была сделать и сказать. Я чувствую, как на меня надвигается волна, в ее ожидании по воде пробегает рябь. Я уже научилась просто подчиняться ее воле, когда она рядом, ей проще просто поддаться. Боюсь, что в один прекрасный день темная вода поглотит меня навсегда и я уже никогда не смогу подняться на поверхность. Подвес маятника всегда либо справа, либо слева. Люди всегда или наверху, или внизу. Когда я внизу, мне очень трудно подняться наверх, а на этот раз меня затянуло глубже, чем когда-либо. Даже если мне удастся вспомнить дорогу к нормальной жизни, я не думаю, что узнаю себя в конце пути.
– Как бы мне хотелось знать, слышишь ты меня или нет, – говорит Пол.
У меня кружится голова, и как только я пытаюсь настроиться на его слова, их тут же заглушает треск и помехи. Его голос принимает какую-то злобную форму, а когда он встает, ножки стула угрожающе скрежещут по полу, будто о чем-то меня предупреждая. Он низко наклоняется надо мной и всматривается мне в лицо, будто подозревая, что я притворяюсь.
А потом на горле я чувствую его широкие ладони.
Ощущение длится всего секунду, я тут же понимаю, что все это лишь игра воображения, что ничего такого просто не могло быть. Смутный отголосок давно забытого воспоминания, но даже и оно лишено смысла, потому что Пол просто не смог бы так поступить. Я пытаюсь осмыслить то, что сейчас испытала, но мне больше не удается отделить фантазию от реальности. Пол ходит взад-вперед по палате, и мне хочется, чтобы он остановился. Усилия, направленные на то, чтобы слушать звук его шагов, меня утомляют. Я не хочу бояться собственного мужа, но он теперь какой-то не такой, а с его новой версией я не знакома.
Приходит Клэр, а вместе с ней краткое облегчение, которое тут же смывает волна замешательства. Мне кажется, они сейчас опять начнут ссориться, однако оказываюсь не права. Я думаю, что он сейчас уйдет, но ошибаюсь.
Идут солдатики наверх[4].Они будто переключили между собой скорость.
И вниз они идут.Судя по звукам, они обнимаются. Я мысленно себя одергиваю, надеясь, что Клэр спросит, о чем с ним говорили в полицейском участке, но по их разговору понимаю, что она и так уже все знает.
А иногда, когда стоят,Интрига набирает обороты и продолжается уже без меня за пределами палаты.
Они ни там, ни тут.Я завидую осведомленности Клэр. Я завидую всему на свете.
Появившись у нас дома, она только то и делала, что плакала. Ей нужно было все их внимание, она вела себя так, что вся наша жизнь стала вращаться вокруг нее. После этого родители перестали слышать по ночам мои слезы, они совсем перестали меня замечать. Я стала дочерью-невидимкой. Крики Клэр будили всех нас, но только мама вставала, чтобы с ней побыть. Именно мама хотела, чтобы у нас была Клэр. Меня ей было недостаточно, теперь я хорошо это понимаю. Наша семья выросла с трех до четырех человек, хотя на самом деле мы не могли себе этого позволить: любви на всех попросту не хватало.
Недавно
Вторник, 20 декабря 2016 года, вечер
Я сходила в магазин, на этот раз за едой. Вернувшись домой, первым делом распаковываю замороженные продукты, затем охлажденные, потом остальные и раскладываю все по местам. Больше всего усилий требует буфет. Я достаю каждую банку и бутылку. Протираю полки и начинаю все сначала, аккуратно расставляя их по размеру этикетками вперед. Когда все готово, на улице уже совсем темно. В домике в дальнем углу сада горит свет, значит, Пол еще работает. Может, сейчас как раз вышел из очередного сюжетного затруднения. Я ставлю в холодильник бутылку кавы – сегодня на работе я одержала победу, маленькую, но отпраздновать все равно стоит. «Проект Мадлен» явно стартовал великолепно. На дверце холодильника стоит опорожненная наполовину бутылка белого вина. Что-то я не помню, чтобы видела ее там раньше. Я белого не пью, Пол тоже. Вероятно, муж использовал его в готовке. Я вытаскиваю проблемную бутылку, наливаю себе бокал и встаю у плиты. На вкус как кошачья моча, но жажда заставляет меня выпить все до дна.
Когда ужин почти готов, я накрываю на стол в столовой, где мы почти никогда не едим, включаю музыку и зажигаю свечи. Теперь не хватает только супруга. Он не любит, когда ему мешают писать, но уже девятый час, и мне хочется провести остаток вечера вместе. Он не станет возражать, когда узнает, что у нас сегодня его любимая баранина. Я выхожу в сад, щеки обжигает холодом. Лужайка местами скользкая, я почти не вижу, куда иду, дорогу освещают лишь тусклые проблески лампочки в хижине.
– Добрый вечер, господин писатель, – говорю я дурацким низким голосом и открываю дверь.
Но когда вижу, что в домике никого нет, улыбка тут же меркнет. Я на несколько секунд замираю на пороге и оглядываюсь по сторонам, словно он где-то спрятался. Потом выхожу на улицу и всматриваюсь во мрак, будто он, притаившись за кустом, сейчас выскочит и закричит: «Ага!»
– Пол?
Не знаю, зачем я его зову, хотя глаза мне недвусмысленно сообщили, что его здесь нет. В груди нарастает ужас и хватает меня за горло. В доме его тоже не видно, я вернулась два часа назад, и за это время он наверняка бы себя как-то проявил. Муж, который практически никогда никуда не отлучается, ушел, а я была настолько поглощена своими мыслями, что даже этого не заметила. Только не надо паниковать. У меня всегда было слишком живое воображение, в любой ситуации я опасаюсь худшего. Уверена, отсутствию Пола есть самое что ни на есть простое объяснение, но голоса в моей голове настроены не так оптимистично. Я бегу обратно в дом, поскальзываясь на грязной траве.
Переступив порог, опять зову Пола. Ответа нет. Набираю номер его мобильного и слышу наверху негромкий звонок.
Я осознаю, что он доносится из нашей спальни, и меня накрывает волна облегчения – может, он лег вздремнуть или плохо себя почувствовал. Я взмываю вверх по лестнице и распахиваю дверь, посмеиваясь над собственным нелепым беспокойством. Кровать застелена, Пола нигде не видно. Он никогда не заправляет постель. Я на мгновение застываю в замешательстве и еще раз набираю его номер. Звучит знакомый звонок – значит с помещением я не ошиблась – но почему-то из закрытого шкафа. Моя слегка дрожащая рука тянется к ручке. Я мысленно обзываю себя дурой; можно не сомневаться, что всему этому есть вполне логичное объяснение – Пол не сидит в под вешалками, детей, которые играли бы в прятки, у нас нет, и это не фильм ужасов, где в каждом шкафу тебя поджидает труп. Пальцы поворачивают ручку и открывают дверцу. Ничего. Я звоню еще раз и вижу мерцание, приглушенное карманом его любимого пиджака. Тайна пропавшего телефона разгадана, чего нельзя сказать о тайне исчезнувшего мужа. Тут я обнаруживаю дорогой на вид розовый подарочный пакет, спрятанный под рядом джинсов и хлопковых футболок, которые Пол называет «униформой писателя». Я вытаскиваю его, заглядываю внутрь и осторожно разворачиваю оберточную бумагу. Черный атлас с кружевами отзывается в пальцах давно забытым ощущением – что-то подобное я когда-то действительно носила. Вероятно, это он мне подарит на Рождество. Обычно он ничего такого не покупает. Бюстгальтер, похоже, немного маловат, и я смотрю на ярлык. Размер не мой, надеюсь, Пол сохранил чек.
В каком-то тумане я спускаюсь вниз и проверяю, выключена ли плита. Я еще не закончила свой ритуал, когда в глаза опять бросилась бутылка белого вина, теперь уже пустая, и в голове вспыхнуло озарение. Такое очень любит Клэр. Она была здесь. Я ошалело ахаю, прикрываю рукой рот, бросаюсь на кухню и извергаю в раковину содержимое желудка. Когда выходить больше нечему, сплевываю, открываю кран и вытираю лицо кухонным полотенцем. Трижды проверяю плиту, хватаю сумочку и быстро оцениваю ее содержимое. «Телефон. Кошелек. Ключи». – Я говорю это вслух, убедившись в их наличии, как будто слова делают предметы реальными. Я направляюсь к выходу, но в коридоре останавливаюсь и опять заглядываю в сумочку. «Телефон… Кошелек… Ключи…» На этот раз произношу медленнее, задерживаясь взглядом на каждом предмете, чтобы поверить, что все и правда на месте. Однако даже после этого проверяю их опять, перед тем как закрыть за собой дверь.
Клэр живет рядом, всего в километре от нас. И хотя идти туда недалеко, я жалею, что не накинула пальто – на улице холодно. Я обхватываю себя руками и шагаю вперед, не поднимая от тротуара глаз. Проходя мимо вереницы совершенно одинаковых домов, чувствую слабый запах газа, который вползает в ноздри, добирается до горла и проваливается вниз. Меня опять охватывает тошнота, я прибавляю шагу. На этой улице Клэр живет уже давно, дом теперь принадлежит им, как и расположенный по соседству гараж Дэвида. Квартал мне до такой степени знаком, что их дверь я могла бы найти даже с закрытыми глазами. Но нет, мои глаза открыты, и первым делом я вижу машину Пола. Ее нельзя не заметить. Подержанная зеленая «М-Джи Миджет» 1978 года выпуска, любовно восстановленная и вновь сияющая во всей своей былой красе, на мой взгляд весьма сомнительной. Муж купил этот автомобиль на аванс за свой первый роман и теперь любит его почти так же, как я ненавижу.
Когда я ступаю на подъездную дорожку, внутри все сжимается, будто еще немного – и станет нечем дышать. В сумочке ключ от дома Клэр, но просто воспользоваться им и войти мне кажется неудобным. Она вручила мне его в надежде на взаимный обмен, который так и не состоялся.
Я несколько раз звоню в дверь, желая как можно быстрее покончить с этой историей, в чем бы она ни заключалась. Холод пощипывает руки, изо рта вырываются облачка пара. Внутри начинает жалобно плакать маленький ребенок, через матовое стекло я вижу расплывчатую фигуру, которая растет по мере приближения. Муж Клэр распахивает дверь и приветствует меня с выражением на лице, которое я обычно приберегаю для разъездных торговых агентов, вечно пытающихся что-то всучить прямо на пороге дома. Не знаю почему, но мы с ним не ладим. Причина совсем не в том, что у нас нет ничего общего, – нас объединяет Клэр. Скорее, наоборот.
– Привет, Эмбер, спасибо, что разбудила близняшек, – произносит он без малейшего намека на улыбку.
И даже не думает пригласить внутрь. Мой зять – крупный мужчина, у которого никогда нет ни времени, ни терпения. Он даже не успел еще снять рабочий комбинезон.
– Прости, Дэвид, я не подумала. Мой вопрос может показаться тебе странным, но… Пол у вас?
– Нет, – отвечает он, – а с чего ему у нас быть?
Вид у него уставший, под глазами залегли черные круги. Брак с моей сестрой его заметно состарил. Она величает его Дэвидом, мы в итоге тоже, хотя все остальные зовут его просто Дэйвом.
– Он оставил здесь машину, – говорю я.
Дэвид бросает через мое плечо взгляд на припаркованный перед гаражом автомобиль.
– Ну да.
Развивать свою мысль он не собирается, я молчу, и его брови хмурятся еще сильнее, как будто вот-вот расколют лицо надвое. Потом опускает глаза, и я следую за направлением его взгляда. На мне домашние тапочки. Снизу на меня взирают два потрепанных плюшевых мопса, их пристроченные глазки выражают одновременно удивление и жалость. В супермаркете они продавалась в отделе детских товаров, но мне подошли, и я решила их взять.
– С тобой все в порядке? – спрашивает он.
Я обдумываю его вопрос и отвечаю максимально честно:
– Не думаю. Если честно, то нет. Мне надо поговорить с Клэр. Она дома?
Он слегка выпрямляет спину, явно удивленный, в чертах его лица проступает что-то уродливое.
– Клэр сегодня нет целый день. Я думал, она у вас.
Давно
Вторник, 13 ноября 1991 года
Дорогой Дневник,
Мне вот уже месяц как десять лет, но мне не кажется, что двузначные числа чем-то отличаются от однозначных, хотя мама и говорит, что должны. Мне по-прежнему кучу всего нельзя, я все такая же маленькая и все так же каждый день скучаю по Бусе. Мама меня просто бесит, много почему, но особенно из-за того, что она сделала сегодня на родительском собрании. Поскольку папа задержался допоздна на работе, ей пришлось пойти туда одной. Она сказала, что он, вероятно, опять там переночует, ему в последнее время приходится очень много работать. Поскольку папы рядом не было, в школе мама завела разговор с родителями других ребят. Она вернулась домой в восторге, но не из-за моих отличных отметок, как любой нормальный человек, а из-за того, что познакомилась с мамой Тэйлор и теперь радуется, что у меня «такая приличная подруга». Она все говорила и говорила об этом, спрашивала, почему я никогда о ней не упоминала. Я ответила, что мне не хотелось о ней говорить, и потом мы сидели молча.
Как только маме стало ясно, что у меня нет настроения разговаривать, она встала из-за стола и сделала себе мохито. Не знаю, что туда входит, но она называет его «напитком счастья». Мне она приготовила лимонад, положила много льда, а сверху – листик мяты, чтобы он стал похож на ее коктейль. Когда мама отвернулась, я быстро вынула мяту. Потом она вытащила из морозилки курицу в панировке и рифленую картошку фри – мое самое любимое блюдо из всех, что она делает. Потом достала из шкафчика кетчуп, перевернула его вверх дном и накрыла стол на двоих, взяв лучшие Бусины тарелки. Поскольку папы дома не было, мама принесла из его кабинета маленький телевизор, и мы, вместо того, чтобы думать, что друг другу сказать, стали просто смотреть сериал «Улица Коронации». В общем, было довольно неплохо, но потом, после третьего коктейля (я считала просто потому, что думала, может, она толстеет из-за мохито) она все испортила.
– Знаешь, поскольку у тебя все так хорошо складывается в новой школе, я приготовила тебе сюрприз, – сказала она.
Ее глаза были немного прикрыты, как всегда бывает, когда она пьет. Из-за этого даже посреди дня иногда кажется, что ей хочется спать. Я спросила, не о десерте ли она говорит, но она просто на меня посмотрела, вся такая серьезная, и стала спрашивать, не забыла ли я о том, что сказал зубной врач по поводу сладкого и моих зубов. Я не забыла, но мне было все равно. Буся всегда готовила что-нибудь на десерт, причем не из полуфабрикатов, а своими руками. Шоколадный торт, британский бисквит, карамельный пудинг, яблочный пирог с заварным кремом. Все они были жутко вкусные. Сейчас я припоминаю, что у Буси совсем не было зубов, у нее были искусственные зубы, которые она на ночь клала в стакан с водой и ставила его на тумбочку рядом с кроватью. Все равно я с удовольствием поела бы торта, пусть даже от этого мои зубы выпадут, как у нее. Мама спросила, слушаю ли я ее, как каждый раз, когда я так сильно думаю, что перестаю слышать, что мне говорят. Я кивнула, но вслух ничего не ответила, потому что я все еще злилась, что на десерт ничего нет. Тогда она, все так же прикрыв глаза, улыбнулась и сказала:
– Я попросила маму Тэйлор отпустить вечером на той неделе их дочку к нам поиграть. И она согласилась. Здорово, правда?
Она допила коктейль, поставила стакан на стол и посмотрела на меня с этой ее широкой, глупой улыбкой на жирном лице.
– Пригласим ее, когда папа уйдет на работу, чтобы были одни девочки. Вот увидишь, мы здорово повеселимся.
Ее слова страшно меня взбесили, и я даже не смогла придумать, что ей сказать. Просто молча встала из-за стола, побежала к себе наверх, подняла подпорку и захлопнула дверь. Даже оставила внизу недоеденную картошку. Я думала, что заплачу, но нет.
Тэйлор нельзя сюда приходить. Я даже еще не решила, будем ли мы настоящими подругами. Как же мама меня разозлила. Я очень многое в ней ненавижу, но вот три главные вещи:
1. Она слишком много пьет.
2. Она без конца врет, к примеру, утверждая, что мы больше не переедем.
3. Ей очень хочется, чтобы я была такая же, как другие дети.
Я не такая, как остальные. Мама все испортила. Опять.
Сейчас
Среда, 28 декабря 2016 года
Родители наконец приехали в больницу – их голоса я слышу задолго до того, как они входят в палату. На их долю выпал редкий брак из числа тех, когда любовь длится дольше тридцати лет. Но от этой любви, основывающейся на зависимости и привычке, я ощущаю в душе лишь печаль и пустоту; она какая-то ненастоящая. Дверь открывается, и я ощущаю запах маминых духов – слишком настойчивых, слишком цветочных. Папа откашливается, и этот звук, как всегда, меня раздражает. Они останавливаются в ногах моей кровати, как всегда на расстоянии.
– Вид у нее неважный, – говорит отец.
– Может быть, это обманчивое впечатление, – отвечает мать.
В последний раз мы с ними общались около года назад, и в их голосах нет ни намека на тепло.
– По всей видимости, она нас не слышит, – добавляет она.
– Давай немного побудем здесь, просто так, на всякий случай, – говорит папа и садится у кровати.
Вот за это я его и люблю.
– Все будет хорошо, Орешек, – произносит он, беря меня за руку.
Я представляю, как по его щеке катится слеза, на какое-то время замирает на кончике подбородка, а потом падает на белую больничную простыню. Мне не приходилось видеть, чтобы папа плакал. Прикосновение его пальцев к моим пробуждает воспоминание о том, как мы с ним шли, взявшись за руки, когда мне было лет пять-шесть. Тогда Клэр еще не вошла в наш мир. Мы торопились в банк. Папа часто спешил, ему вечно не хватало времени. Его длинные ноги шагали размашистым шагом, и мне, чтобы не отстать от него, приходилось бежать. Когда до банка оставалось совсем ничего, я споткнулась и упала. На коленке образовалась большая ссадина, по ноге заскользили вниз струйки крови, потом объединили свои силы и окрасили в красный мой белый носок. Было больно, однако я не плакала. На папином лице явственно читалась жалость, но он не наклонился и не поцеловал меня, чтобы утешить. У меня в ушах до сих пор стоит его голос:
Все будет хорошо, Орешек.
И без лишних слов мы дальше пошли в банк, хоть и немного медленнее, чем раньше.
Когда появилась Клэр, о ней они заботились куда больше. Она напоминала сияющую новенькую куклу, в то время как я уже истрепалась и поломалась. Меня Папа называл Орешком, а вот Клэр – Принцессой. Нет-нет, я не питаю ненависти к родителям, мне ненавистно лишь то, что они перестали меня любить.
Воздух в палате сгущается от тишины, сожалений и раскаяния. Потом дверь опять открывается, и все меняется.
– Как ты? – спрашивает моя сестра.
Пол что-то отвечает, и в этот момент я понимаю, что все это время он был рядом. Ситуация, оказывается, еще хуже, чем я думала, – Пол всегда был не в ладах с моими родителями. Папа не считает писательство настоящим делом, а мужчину без дела – настоящим мужчиной.
– Есть новости? – спрашивает Клэр.
– Врачи говорят, ее состояние сейчас стабилизировалось, но делать какие-то прогнозы пока еще рано, – отвечает Пол.
– Нам просто надо надеяться на лучшее, – добавляет она.
Легко ей говорить.
Мне хочется задать так много вопросов. Если мое состояние стабильно, то я, надо полагать, не умру. По крайней мере сейчас, ведь смерть рано или поздно ждет каждого из нас. Я на собственном опыте убедилась, что жизнь страшнее смерти, поэтому бояться вещей столь неизбежных нет никакого смысла. С тех пор как меня сюда привезли, больше всего я боюсь только одного – никогда не выйти из комы. Мысль навсегда остаться запертой в этом теле приводит меня в ужас. Пытаясь успокоить сознание, я сосредотачиваюсь на голосах. Порой слова долетают до меня, порой теряются по пути, или же я просто не могу перевести их в что-нибудь понятное и удобоваримое.
Мы так долго не собирались вместе всей семьей, как странно, что теперь все они оказались у моей постели. Было время, когда мы все вместе каждый год отмечали Рождество, но все осталось в прошлом. Теперь я – центр притяжения для родных, но при этом я по-прежнему невидима. Теперь никто уже не держит меня за руку. Никто не плачет. Никто не ведет себя как полагается, будто меня и вовсе здесь нет.
– Пора передохнуть, – говорит Клэр, заботливая доченька, – может, пойдем куда-нибудь поедим?
Все молчат. Потом папин голос снимает с нас заклятье:
– Держись, больше от тебя сейчас ничего не требуется.
Почему все так настойчиво советуют мне держаться? И если держаться, то за что? Мне нужно не держаться, а очнуться.
Пол целует меня в лоб. Я не думаю, что ему захочется пойти с ними, но вдруг слышу, что он подходит к двери и переступает порог. Не знаю почему, но меня удивляет тот факт, что меня опять все бросили. Ведь так было всегда. Клэр каждый раз отнимает у меня все, что я люблю.
Я слышу, как по невидимому окну моей воображаемой комнаты барабанят тяжелые капли проливного дождя. Колыбельная водной стихии помогает отвлечь разум от гнева, но ее явно недостаточно, чтобы его заглушить.
Я больше не позволю ей никого у меня отнять.
В мозгу вирусом разливается тихая ярость. В голове, громко и отчетливо, звучит голос, очень похожий на мой собственный, отдавая мне приказ:
Ты обязана встать с этой постели, ты обязана прийти в себя.
Что я и делаю.
По-прежнему жужжат аппараты, которые дышат за меня, кормят меня и пичкают лекарствами, чтобы я не чувствовала того, что мне чувствовать не положено, но никаких проводов больше нет, и трубочка из горла тоже не торчит. Я открываю глаза и сажусь. Нужно кого-нибудь позвать. Встаю с кровати, подбегаю к двери, открываю ее, но спотыкаюсь и с грохотом падаю на пол. И тут замечаю, что мне очень холодно, что на меня льет дождь. Мне страшно открыть глаза, но когда это все же удается, я вижу перед собой девочку в розовом халате, которая лежит посреди дороги, рядом со мной. Тело не слушается и не желает сдвинуться с места, вокруг все застыло, будто на живописном холсте.
Я вижу разбитую машину и искореженное дерево, толстые корни которого на моих глазах оживают и, извиваясь, ползут в нашу сторону. Они опутывают наши руки и ноги, прижимают нас друг к другу, пригвождают к асфальту в том месте, где я упала, скрывая нас под собой и отгораживая от мира. Я чувствую, что девочке страшно, прошу ее набраться смелости и предлагаю что-нибудь спеть. Она не хочет. По крайней мере пока. Дождь набирает силу; полотно, узницей которого я оказалась, покрывается дымкой и расплывается. Ливень будто старается нас смыть, заставить исчезнуть, будто нас никогда не было на свете. Вода низвергается с такой силой, что даже отскакивает от асфальта, заливая нос и рот. Я чувствую, что начинаю тонуть в этой грязной акварели, но тут дождь заканчивается так же внезапно, как и начался.
«Звезды могут сиять лишь в темноте», – шепчет девочка.
Тело по-прежнему обездвижено корнями дерева, но я все равно поворачиваю голову и устремляю взор в ночное небо. У меня на глазах они становятся больше, ярче и реальнее, чем когда-либо. Девочка принимается петь.
Светит звездочка в ночи, Расскажи мне, не молчи. Если здесь ты, под дождем, Кто остался за рулем?Корни отпускают меня, по руке ползет армия мурашек, я смотрю туда, куда теперь показывает девочка. Внутри машины явно маячит какая-то тень. Дверь с водительской стороны открывается, из-за нее появляется черная фигура, которая тут же удаляется. Кругом тишина. Мир застыл в неподвижности.
Щелчок замка возвращает мое сознание в тело, лежащее на кровати в больничной палате. Все, что я видела и чувствовала, в одночасье исчезает. Кошмар позади, но мне все еще страшно. Я уверена: в машине в ту ночь был кто-то еще. И еще кто-то сейчас находится в этой комнате. И так не должно быть.
– Ты меня слышишь? – спрашивает какой-то мужчина.
Голос мне не знаком.
Когда он подходит к кровати, по телу катится озноб ужаса.
– Я спрашиваю – ты меня слышишь? – повторяет он.
А когда оказывается совсем рядом, задает тот же вопрос в третий раз.
Потом вздыхает и отступает на шаг назад. Потом что-то открывает, и до меня доносится звук включаемого телефона. Моего собственного. Пальцы вводят пин-код, который я никогда не меняю. Кем бы ни был этот незнакомец, он слушает голосовую почту. Всего там три сообщения, совсем тихие, но все же различимые. Первый голос принадлежит Клэр. По ее словам, она звонит только чтобы узнать, все ли у меня в порядке, но говорит таким тоном, будто уже знает, что нет. За ним следует гневное послание от Пола: он желает знать, где я. Потом незнакомец в палате воспроизводит третье сообщение, и из телефона льется его собственный голос.
«Прости, что так вышло, все только потому, что я тебя люблю».
Ощущение такое, будто все тело превращается в ледышку. До моего слуха доносится короткий звуковой сигнал.
«Сообщение удалено. У вас нет новых сообщений».
Этого мужчину я не знаю. Зато он знает меня. Я до такой степени напугана, что даже если была бы в состоянии кричать, все равно бы, думаю, не смогла.
– Надеюсь, Эмбер, ты не думаешь, что ты вся такая несчастная, – произносит он.
Потом прикасается к моему лицу, и мне хочется вжаться в подушку, чтобы в ней раствориться. После чего несколько раз слегка стучит по моему лбу пальцем.
– Если ты вдруг не очень поняла, о чем здесь говорили, знай – это не был несчастный случай. – Палец скользит по моему лицу и замирает на губах. – Ты это сделала сама.
Недавно
Вторник, 21 декабря 2016 года, утро
Пальцы выключают будильник. Он мне не понадобится. Я практически не сомкнула глаз, и пытаться опять уснуть нет никакого смысла. Видимо, у меня бессонница из-за беспокойства о муже, но все это время я, уставившись в потолок, думаю совсем о другом. Перед мысленным взором стоит мертвая малиновка и ее крохотное безжизненное тельце. Всю ночь мне представлялось, что она хлопает крылышками в мусорном баке, будто все еще жива. Меня пугает мысль, что птичка просто потеряла сознание, а я выбросила ее, когда она всего лишь лежала без чувств.
Я долго смотрю на пустую половину кровати. От него по-прежнему нет никаких вестей. На полу валяется пустая бутылка из-под красного вина: я надеялась напиться и уснуть, но ничего не вышло. Я так часто выписывала себе это лекарство, что у меня выработалась к нему резистентность. Я размышляю, не заявить ли в полицию о пропаже Пола, но опять чувствую себя полной дурой. Не знаю, как рассказать о своих страхах, чтобы не показаться сумасшедшей. Теперь я уже большая девочка и знаю, что мужья не всегда возвращаются вечером домой. Мозг переключается с Пола на Клэр. Когда она наконец перезвонила, то была в страшном раздражении – мол, как я могла подозревать, будто ей известно, где мой муж. Сказала, что ужинала с подругой, а я испортила ей вечер. И повесила трубку. Она прекрасно знает, чего я боюсь. Я люблю их обоих, но при этом чувствую: все, что мне до сегодняшнего дня удавалось оберегать, теперь пошло прахом. Стоит один раз дернуть за ниточку – и они полетят в бездонную дыру. Возможно, уже слишком поздно.
На улице все еще темно, поэтому я включаю свет и осматриваю комнату в поисках какой-нибудь подсказки, способной пролить свет на происходящее. Вспоминаю о подарочном пакете с женским нижним бельем в шкафу Пола, вытаскиваю его опять, вынимаю бюстгальтер и трусики – тонкие полосы черного, отороченного кружевами атласа. Мне они явно малы. Я сбрасываю пижамные брюки, переступаю через них и стягиваю через голову футболку. Оставляю эту кучу хлопка пастельных тонов лежать на полу, а сама влезаю в белье. Бирки на нем еще не оторваны, и мне в кожу впивается острый угол картонки. Впихиваю грудь в слишком маленькие чашечки и встаю перед большим, в полный рост, зеркалом. Давненько я на себя так не смотрела. Тело в отражении выглядит не так плохо, как мне казалось. Снаружи я вовсе не так ужасна, как чувствую себя внутри, но все равно совсем себе не нравлюсь. Живот несколько округлился и теперь уже не такой, как раньше, но ведь сейчас я ем все подряд. Это тело я ненавижу почти так же, как себя. Оно не делало, что требовалось. Оно не удовлетворяло Пола. Не желая больше на себя смотреть, я выключаю свет, но все равно продолжаю видеть призрак своего отражения. Хватаю халат и прячусь в нем. Новое белье кусается и щиплет. Мысль о том, что Пол, возможно, купил его не для меня, слишком громко звенит в голове, чтобы ее игнорировать, поэтому я снимаю эти кусочки шелка, засовываю обратно в шкаф и начинаю новый день.
Рассвет даже еще не брезжит, но я знаю этот дом и без труда ориентируюсь в темноте. Если Пол находит уединение в своем домике, то я могу скрыться в крошечном кабинетике в глубине дома. Это мое личное пространство, куда помещаются лишь небольшой стол да стул. Я сажусь и включаю лампу. Стол приобретен с рук и хранит множество тайн – некоторые из них мне известны, другие нет. В нем четыре маленьких ящичка и один большой, расплывшийся в проницательной деревянной улыбке. Я тихонько его открываю, отыскиваю белые нитяные перчатки и натягиваю их. Потом беру лист бумаги, ручку и сажусь писать.
Когда я заканчиваю, когда убеждаюсь, что написала нужные слова и хочу, чтобы их прочитали, складываю лист вчетверо и засовываю его в красный конверт. Потом принимаю душ, смываю с себя любые следы тревоги и вины и собираюсь на работу.
Сегодня я раньше обычного. В офисе еще никого нет, но в кабинетике Мадлен уже горит свет. Я снимаю пальто, небрежно швыряю на стол сумку и пытаюсь стряхнуть пелену окутавшей меня усталости. Нужно быть начеку и сосредоточиться на предстоящих задачах. Не успеваю я сесть, как с тихим скрипом открывается дверь.
– Это ты, Эмбер? Можно тебя на два слова?
Я закатываю глаза, уверенная, что в этот момент меня никто не видит. Сейчас мне это ни к чему, но я все же придаю лицу соответствующее выражение и направляюсь в небольшой кабинетик в углу, сжимая в карманах кулаки и готовясь отразить любое нападение.
Перед тем как распахнуть слегка приоткрытую дверь, негромко стучу. А вот и Мадлен, как всегда облаченная во все черное. Ссутулилась над столом и чуть ли не прилипла перекошенным от злости лицом к экрану, чтобы лучше видеть, что там написано. Мельница слухов в «Твиттере» по-прежнему работает во всю мощь, выдавая сплошным потоком дальнейшие предположения и догадки касательно ее скорого увольнения. Интересно, она читала новые комментарии с хештегом #МадленФрост, которых теперь пруд пруди?
– Погоди минутку, мне надо додумать до конца одну мысль.
Она всегда так делает – ценит только свое время и недвусмысленно дает мне это понять. Мадлен что-то печатает, но что конкретно, я увидеть не могу.
– Хорошо, что ты сегодня пораньше, – говорит она, – я как раз хотела с тобой поговорить, пока мы одни.
Я стараюсь никак не реагировать, прилагая все усилия для того, чтобы ни одна мышца лица не шевельнулась. Мадлен снимает очки, и они повисают на розовой бисерной веревочке вокруг ее могучей шеи. Я представляю, как стягиваю ее концы, и тут же изгоняю этот образ из головы.
– Хочешь присесть? – произносит Мадлен, показывая на лиловый кожаный пуф, привезенный ею из Марокко пару месяцев назад.
– Спасибо, я постою, – звучит мой ответ.
– Садись, – настаивает она, подкрепляя свою просьбу двухрядным оскалом безукоризненных зубных протезов.
Я в ответ тоже улыбаюсь и повинуюсь. Именно этим и вынуждены заниматься каждый день продюсеры – входить в эту убогую комнатенку, садиться на пуф и ждать, когда Мадлен примется их мурыжить по поводу сюжетов предстоящего эфира. Я опускаюсь на пуф, слишком низкий и совсем не удобный, и направляю все силы на сохранение равновесия. Как всегда, все дело в контроле над ситуацией, и в данный момент он явно не в моих руках.
– Ты знала о вчерашней встрече Мэтью с нашими гостями? – спрашивает она.
– Да, – отвечаю я, выдерживая ее пристальный взгляд.
Она кивает и оглядывает меня с головы до ног, будто пытаясь оценить мой наряд. Я сегодня надела еще одно новое платье, но оно явно не произвело на нее впечатления.
– Мне хочется попросить тебя об одной услуге, – наконец продолжает она, – если ты услышишь что-нибудь такое, что я, на твой взгляд, должна знать, обязательно мне сообщи.
Похоже, она забыла, что добивалась моего увольнения, или же просто считает, что мне об этом ничего не известно.
– Обязательно, – отвечаю я.
Если бы сейчас ее шею обвила ядовитая змея, я бы ей точно ничего не сказала.
– Нам надо держаться вместе, Эмбер. Они избавятся не только от меня, но и от всех, приведя на наше место совершенно новую команду, это обычная практика. Тебе тоже подыщут замену, так что не думай, что тебя это не коснется. Помни об этом, и если в следующий раз что-нибудь услышишь, приходи и все мне расскажи, договорились?
С этими словами Мадлен опять нацепляет на нос очки и принимается стучать по клавиатуре, давая понять, что аудиенция окончена. Я с трудом встаю с пуфа, выхожу из кабинета и закрываю за собой дверь.
– Все в порядке? – шепчет мне Джо, которая как раз только что пришла.
Я вновь сажусь за свой стол и, зная, что Мадлен смотрит через стеклянную дверь, отвечаю:
– Да, все хорошо.
– По твоему виду не скажешь, – возражает Джо.
– Просто я не знаю, где сейчас Пол. Он не ночевал дома.
Как только эта фраза срывается с моих губ, я тут же о ней сожалею.
– Опять Клэр? – спрашивает она.
Ее слова хлещут мне прямо в лицо, снедающий меня страх сменяется гневом, но в чертах Джо проглядывает неподдельная тревога. Не ее вина, что она так много знает о моем прошлом, я ведь сама ей обо всем рассказала.
Мне это неизвестно, и я отвечаю, надеясь, что говорю правду:
– Не думаю.
– Может, выпьем кофе?
– Нет, спасибо, не волнуйся, я в порядке.
Я поворачиваюсь к компьютеру, включаю его и неподвижно вглядываюсь в экран.
– Поступай как знаешь, – говорит она и уходит, не сказав больше ни слова.
Оставшись одна, я открываю электронную почту. Ящик забит выражениями признательности и всевозможными предложениями. В подавляющем большинстве это спам – скидки на товары, в которых я не нуждаюсь и не собираюсь покупать. Но одно сообщение тут же бросается в глаза. Курсор мышки замирает на знакомом имени, глаза неподвижно смотрят на одно-единственное слово в строке заголовка письма, будто оно трудно поддается переводу:
Привет.
Я пощипываю ногтями нижнюю губу. Сообщение нужно удалить – поступить следует именно так, на этот счет у меня нет ни малейших сомнений. Я незаметно оглядываюсь по сторонам. В офисе по-прежнему никого. Отрываю с верхней губы еще один крохотный кусочек кожи и кладу его на стол. От выпитого накануне вина он приобрел лиловый цвет. Я помню, как вечером, не в состоянии уснуть, я вытащила визитку из кошелька и провела пальцем по тисненой надписи. Помню, как внесла его имя в список контактов электронной почты на телефоне, застыла в нерешительности, не зная, как озаглавить свое послание, потом набрала несколько ничего не значащих слов, подумала, засомневалась, опасаясь, что ему покажется странным получить от меня сообщение в столь поздний час, но все равно нажала на кнопку «Отправить». Поскольку вспомнить, что конкретно там было написано, теперь не удается, щеки заливаются краской стыда.
Я открываю письмо и читаю его. Потом перечитываю, на этот раз уже медленнее, внимательно вдумываясь в смысл каждого слова.
В память о старых добрых временах.
Вглядываясь в слова, я пробую их на вкус, чтобы понять, насколько они подходят для данного случая. А когда закрываю глаза, по-прежнему представляю их автора.
Радостные воспоминания.
Радостные, да не всегда.
Может, сходим куда-нибудь и посидим, чтобы нагнать упущенное?
Я отрываю от губы еще один кусочек кожи и смотрю, как эта крохотная частичка меня высыхает и твердеет на кончике ногтя. Потом кладу ее в одну кучу с остальными.
Нагнать. Догнать. Поймать. Лови. Поймала.
Пол пропал. Мой брак висит на волоске.
Что я делаю? Мысль исчезает, не успев оформиться.
– Эй, Эмбер, вернись на грешную землю! – говорит Джо и машет руками у меня перед лицом.
Я закрываю почтовую программу, смахиваю со стола крохотные кусочки кожи и чувствую, что щеки покрываются лихорадочным румянцем.
– Ты что, нелегальный мигрант? – спрашиваю я, совершенно не подумав.
– Что? Нет, с чего бы? – с улыбкой говорит Джо.
– Нарушаешь мои границы.
Улыбка на ее устах тут же блекнет.
– Прости. Просто при мне кто-то так однажды пошутил, в тот момент было смешно. Я совсем не хотела тебя обидеть, просто с головой погрузилась в свой собственный мир.
– Вижу. Не переживай. Я на все сто процентов уверена, что с ним все в полном порядке.
– С кем? – спрашиваю я, задаваясь вопросом, не видела ли она письма от Эдварда.
– Как с кем? С Полом, твоим мужем, – отвечает она, слегка нахмурившись.
– А… ну да… Прости, что-то я сегодня не в форме.
Мадлен из своей каморки громогласно призывает помощницу. Мы умолкаем. Примадонна грозно нависает над ней в дверном проеме, протягивая банковскую карту и перечень распоряжений. Нужно забрать одежду из химчистки, она сообщает ПИН-код и другие необходимые сведения. Ее манера разговаривать с людьми выводит меня из себя.
На утренней планерке я опять думаю о письме Эдварда. Думаю о нем и в студии, во время интервью и разговоров со слушателями. Я едва замечаю, что говорят вокруг. По идее, мне должно быть стыдно, но нет. Пол месяцами ко мне не прикасается, к тому же я не делаю ничего плохого. Мы с Эдвардом просто приятели, вот и все. Нас объединяют общие воспоминания из другого места и времени. А воспоминания не могут причинить кому-либо вред, если, конечно, они принадлежат только тебе.
Давно
Суббота, 7 декабря 1991 года
Дорогой Дневник,
Вчера вечером Тэйлор пришла к нам. Я боялась этого момента. Папа опять должен был работать допоздна, поэтому опозорить меня могла только мама. Она забрала нас из школы в нашем потасканном «Форде», который больше всего похож на консервную банку на колесах. У родителей Тэйлор есть «Вольво» и «Рено-5». Мама старательно пристегнула меня и пристегнулась сама – обычно ей плевать – и дала каждой из нас пакетик черносмородинового сока. Этого она тоже обычно не делает. Путь из школы домой занимает не больше пяти минут, за это время мы вряд ли умерли бы от жажды. Я подумала, что машина никогда не тронется с места, но после третьей попытки двигатель все-таки прокашлялся и завелся, и мама, как всегда, пошутила на этот счет. Какой позор.
В машине мы не особенно разговаривали. Мама без конца смотрела на меня в зеркало заднего обзора и дурацким певучим голосом задавала нам с Тэйлор глупые вопросы типа «Как прошел день?». Я как обычно в ответ сказала, что хорошо, но вот Тэйлор решила углубиться в подробности и рассказала ей о портретах, которые мы рисуем на уроках живописи. Чем меня здорово разозлила, потому что я рисую Бусю и хотела сделать сюрприз.
Оказавшись дома, я внимательно наблюдала за лицом Тэйлор, пытаясь определить ее реакцию. Первым делом в Бусином доме в глаза бросается краска. Она очень любила голубой, поэтому у нас голубая парадная дверь, голубые окна и голубой гараж. Причем все страшно облупленное, как мой нос, когда обгорит. Иногда я и сама ее понемногу отколупываю – мне нравится, как краска забивается под ногти. На окнах у нас занавески из тюля, когда-то бывшие белыми, а к дому ведет бетонная дорожка с большим пятном бензина посередине. Лицо Тэйлор совершенно не изменилось, даже когда ей пришлось вылезти с моей стороны, потому что противоположная дверца сломана и порой заедает.
Когда мы наконец зашли в дом, мама велела показать Тэйлор мою комнату, что я и сделала. Это заняло совсем немного времени, смотреть у меня особо нечего. Я сказала Тэйлор, что это Бусина спальня и что она здесь умерла. Думала, она испугается, но ошиблась. Ее лицо ничуть не изменилось. Ремонт мы не делали, так что у меня в комнате по-прежнему полосатые голубые обои в белый цветочек и голубой ковер, совершенно плоский и оттоптанный за все эти годы. Еще у меня две одинаковые кровати, шкаф и туалетный столик из одного гарнитура – темно-коричневого дерева, пахнущие полиролем. Я как будто живу в музее, только мне можно все трогать. Тэйлор сказала, что комната ей понравилась, хотя я думаю, это она просто старается быть вежливой. Она во всем такая. Она сказала, что в ее комнате ковер розовый, и мы сошлись на том, что это даже хуже голубого.
Она подошла к моим книжным полкам, и мне стало очень неловко. Я предложила спуститься вниз и посмотреть, какими вкусностями из микроволновки нас решила сегодня отравить мама, но она даже не двинулась с места, будто совсем меня не услышала. Вообще-то я не люблю, когда трогают мои вещи, но старалась сохранять спокойствие. Оказывается, Тэйлор тоже постоянно читает, прям как я. Она читала многие из моих книг и еще рассказала мне о разных других книжках, про которые я даже не слышала, но которые, судя по ее рассказам, должны быть очень классными. Когда мама позвала нас ужинать, я расстроилась, но мы продолжали говорить про книжки, и когда спускались по лестнице, и когда ели рыбные палочки с картошкой фри. Мы не остановились, даже когда мама дала нам по вазочке мороженого. Оно было полито волшебным шоколадным сиропом, который вытекает из бутылки, как самая обычная жидкость, но потом застывает, будто кровь.
После ужина мама разрешила нам посмотреть большой телевизор, но вместо этого мы поднялись ко мне и стали болтать. Когда она пришла и сообщила, что Тэйлор пора домой, мне стало грустно и я спросила, нельзя ли ей побыть у нас еще немного. Мама подняла свои невидимые брови, как же глупо это выглядело. У мамы нет таких бровей, как у меня, она выщипала их в молодости, и теперь ей приходится рисовать их карандашом, после чего она становится похожей на клоуна. Она спросила у Тэйлор, хочется ли ей остаться у нас на ночь, и та сказала что да, прежде чем я успела вставить хоть слово. Так что моя мама позвонила маме Тэйлор, и она тоже согласилась, потому что это была пятница.
У нас в доме всего три спальни, и все они заняты. В старом доме мама с папой жили вместе, но теперь у каждого из них своя комната. Мама говорит, это из-за того, что папа храпит, но я знаю – они просто друг друга больше не любят. Тэйлор спала в моей комнате на кровати дедушки – не думаю, что он был бы против.
Как только мы улеглись, вошла мама и велела нам через десять минут погасить ночники. Потом поставила на прикроватные тумбочки по пластиковому стаканчику воды, чего тоже раньше никогда не делала. Кажется, ее вдруг стало очень волновать, не чувствую ли я жажды. А перед тем как уйти, встала в дверях, улыбнулась нам и сказала очень странную вещь:
– Какие вы чудесные, прямо две горошинки в стручке.
Потом выключила верхний свет, стала закрывать дверь, но я запаниковала и попросила ее этого не делать. Тогда мама поставила под дверь Бусину подпорку в виде малиновки. Как только она спустилась вниз, я извинилась перед Тэйлор за ее странное поведение и добавила, что не знаю, почему она назвала нас «двумя горошинками в стручке». Тэйлор засмеялась и ответила, что слышала это выражение и раньше. Сказала, оно означает, что мы очень похожи. Я видела горошинки только в пластиковых пакетах в морозилке.
Через десять минут мы действительно погасили ночники, но потом еще долго болтали. Тэйлор разговаривала, закрыв глаза, а потом незаметно уснула. Мне кажется, совсем не от скуки. Хотя мы и потушили весь свет, комнату заливало лунное сияние, пробивавшееся сквозь полупрозрачные занавески, которого было вполне достаточно, чтобы видеть ее лицо, когда она спала. Не знаю, что мама имела в виду, ведь я ниже Тэйлор, к тому же она очень худая, но мы, полагаю, все же немного похожи. И у нее, и у меня длинные каштановые волосы.
О Тэйлор я узнала три вещи, которые теперь мне очень нравятся:
1. С ней интересно.
2. Она любит книги так же сильно, как я.
3. Мы с ней родились в один и тот же день.
Мы появились на свет в одной и той же больнице, в один и тот же день, с разницей всего в несколько часов. Если бы я родилась в семье Тэйлор, моя жизнь была бы куда лучше. Начнем с того, что из школы меня забирали бы на «Вольво», к тому же бабушки и дедушки Тэйлор все еще живы. Но тогда моя собственная Буся не была бы моей, а это уже очень печально. Я смотрела на спящую Тэйлор почти целый час. Я как будто видела другую версию себя.
Теперь у меня есть подруга. Я старалась ни к кому не привязываться, но на этот раз, может, все будет хорошо, ведь мы как две горошинки в стручке.
Сейчас
Четверг, 29 декабря 2016 года
В моей палате кто-то был. Прослушал сообщения на моем телефоне, удалил их и сказал, что я попала в больницу по собственной вине. Это был не сон, теперь я не могу спать, мне слишком страшно. Страшно от того, что я знаю, и от того, что нет. Не могу с точностью сказать, сколько времени прошло с момента его визита, но он, по меньшей мере, не вернулся. Время растянулось и превратилось в субстанцию, которой я уже не могу подобрать названия. Мне хочется, чтобы кто-то заполнил пробелы, которых так много, будто я оказалась в теле человека, прожившего свою жизнь, но не оставившего о ней никаких воспоминаний.
– А вот весьма любопытное завершение нашего утреннего обхода. Кто может прокомментировать мне этот случай?
Я слышу, что они собрались в ногах кровати. Хор докторов в моих ушах сливается в один-единственный голос. Как хочется выгнать их всех отсюда.
Либо почините меня, либо убирайтесь.
Я вынуждена слушать, как они обсуждают меня, будто я не лежу прямо перед ними. Они говорят по очереди и каждый раз сообщают, что им ничего не понятно и когда я очнусь, они не знают. Я говорю сама себе «когда», потому что не хочу даже думать о «если». Исчерпав все неверные ответы, они удаляются.
Я, вероятно, спала – сейчас замечаю, что родители опять в палате. Сидят по обе стороны кровати и не издают ни звука, будто здесь и вовсе никого нет. Мне хочется, чтобы они сказали хоть что-нибудь, но вместо этого они, наоборот, стараются вести себя как можно тише, словно боятся меня разбудить. Мама сидит так близко к кровати, что я чувствую запах ее крема, который пробуждает в памяти воспоминания о нашей поездке в Озерный край.
Клэр купила путевку, желая устроить что-то вроде девичника на троих, но когда пришло время ехать, у нее, беременной близнецами, уже здорово округлился живот. Ее тело теперь было совсем не такое, как у меня, она стала какой-то огромной, вечно утомлялась и редко выходила из своей комнаты, поэтому нам с мамой пришлось ехать вдвоем. В последний день на отдыхе, когда дождь наконец прекратился и где-то за тучами село за горизонт солнце – которого, к слову, мы так ни разу и не увидели, мы с мамой отправились ужинать в ресторан.
Мы устроились за небольшим столиком, перед нами раскинулось озеро Уиндермир. Помню, я все смотрела на первые звезды, загорающиеся высоко в небе над покрытой рябью водой, и думала, как же это красиво. Потом сказала маме тоже посмотреть, потому что освещение действительно было изумительным. Она повернулась, бросила через плечо мимолетный взгляд и вновь уткнулась в винную карту, не сказав ни слова. За долгие годы Клэр стала для нас чем-то вроде связующего звена, и в ее отсутствие мы просто распадались в разные стороны. Мама сказала, ей все равно, что пить, лишь бы это было спиртное, и протянула карту мне. Я заказала первую попавшуюся на глаза бутылку красного, чувствуя, что мне и самой надо выпить.
Когда принесли закуски, мы уже успели ее опустошить наполовину. Мама подливала себе еще и еще, я старалась от нее не отставать, все равно больше делать было нечего. Темы для разговоров у нас иссякли еще в день приезда, и теперь родник слов пересох. Но после вина все изменилось.
– Ты не переживаешь из-за Клэр и ее детей?
Мамина фраза будто наткнулась на невидимое препятствие и совершила жесткую посадку. Да, она пыталась показать, что переживает за меня, но ощущение было такое, что мне нанесли удар под дых. Ей хотелось внуков, и это ни для кого не было тайной. А я для нее в который раз стала лишь источником разочарований.
Когда мы с Полом только познакомились, Клэр и Дэвид уже прошли через ЭКО[5]. Просто удивительно, что эти три буквы могут сделать с семейной парой. И тем более с отдельным человеком. Клэр, не способную реализовать свое самое заветное желание, они совершенно изменили.
Пол тоже отчаянно хотел детей, и все это знали, но я не собиралась отказываться от противозачаточных таблеток до тех пор, пока у Клэр не будет полноценной семьи. Просто не могла с ней так поступить. Сестра хоть и моложе, но всегда опережала меня на шаг – первая завела парня, первая вышла замуж, первая забеременела, словом, обыгрывала меня по всем статьям в этой необъявленной гонке. Просто мы с ней такие и такими всегда были.
ЭКО сработало с третьего раза. Клэр забеременела, я перестала пить таблетки, считая, что теперь мы с Полом можем попробовать, никого не расстраивая. Мне никогда даже в голову не приходило, что у нас тоже могут возникнуть проблемы. Нас обследовали, провели целую кучу тестов, но так ничего и не нашли. Один из врачей предположил, что дело в генетике, но мне доподлинно известно, что это не так. Во мне есть какой-то изъян – наказание за то, что случилось давным-давно.
Месяц за месяцем мы не прекращали попыток. Секс превратился в записную рутину. Пол хотел давно обещанного мной ребенка, но не меня саму – теперь это было совершенно ясно. Мы больше не занимались любовью. Мы вообще ничем не занимались. Я утратила к этому интерес, в то время как Пол утратил интерес ко мне. Он продолжал жить по сценарию, говорил, что пока мы есть друг у друга, нам больше ничего не надо. Проблема лишь в том, что друг у друга нас больше не было. Пол думал, что мне надо было раньше отказаться от противозачаточных средств, что мы просто опоздали. Он никогда мне ничего такого не говорил, но я точно знаю, что в его глазах во всем виновата я. Он хотел иметь полноценную семью больше любого другого мужчины в моей жизни, а мне судьба предназначила сидеть на скамейке запасных, глядя, как его тоска превращается в обиду и раздражение.
Мама об этом ничего не знала. Ей казалось, что я отложила детей на потом, потому что зациклилась на карьере. Помню, в тот вечер она смотрела на меня, ожидая ответа, который я никак не могла придумать.
– Все хорошо, я рада за нее, – наконец произнесла я.
Для столь тщательно подобранных слов они звучали фальшиво. Одно притворство и пустота. Думаю, все потому, что меня застали врасплох. К серьезным разговорам я предпочитаю готовиться заранее. Прокручивать предварительно их в голове, обдумывать возможные реплики, репетировать свои ответы до тех пор, пока не отполирую их и не выучу наизусть. Совершенства я, может быть, и не достигаю, но мне легче внушить людям доверие, если я сама верю в себя.
Мы стали говорить о Клэр. Мама долго распространялась о том, как хорошо она справляется и какой замечательной будет матерью. Каждая похвала сестре была оскорблением для меня, но я не возражала, зная, что Клэр, всегда безумно стремившаяся взять под свое крыло всех, кто ей дорог, просто создана для материнства. С каждым глотком вина слова, слетавшие с маминых уст, приобретали все более опасный характер. Перед любой аварией неизменно наступает момент, когда ты прекрасно понимаешь, что с тобой вот-вот случится беда, но ничего не можешь сделать, чтобы себя защитить. Можно поднять руку и закрыть локтем лицо, можно зажмуриться, можно закричать, но ты знаешь, что от этого ровным счетом ничего не изменится. Тем вечером я понимала, что меня ждет, но не предприняла ни малейшей попытки ударить по тормозам. И если уж на то пошло, я стала повышать скорость.
– Ты когда-нибудь задавалась вопросом, почему у меня нет детей? – спросила я.
Фраза сорвалась с моих губ и повисла в воздухе. Она пришла в этот мир только потому, что рядом не было сестры, которая могла бы ее услышать.
– Не каждой женщине дано быть матерью, – ответила она, на мой взгляд, слишком поспешно.
Мама глотнула еще вина, я сделала глубокий вдох, но она заговорила еще до того, как мне удалось выстроить пришедшие в голову слова в нужном порядке.
– Видишь ли, чтобы стать хорошей матерью, надо всегда ставить потребности детей во главу угла. Ты, Эмбер, всегда, даже в детстве, была большая эгоистка. Я сомневаюсь, что материнство твоя стихия, поэтому народная мудрость, вероятно, не врет.
Ее ответ меня задел и будто на мгновение вышиб из груди весь воздух, чтобы освободить место для мыслей, сражающихся в моей душе за жизненное пространство.
Мне бы в этот момент отступить и попытаться защититься от следующего удара, но вместо этого я сама пригласила ее обрушиться на меня опять.
– И в чем же не врет народная мудрость?
– Что в этой жизни ничего не происходит случайно.
Она допила бокал и налила еще. Помню, сердце у меня в груди колотилось так гулко, что я испугалась, как бы его не услышал весь ресторан. Ее слова все крутились и крутились в моей голове, я перевела взгляд на озеро и изо всех сил старалась не заплакать. Последовавшая за ее тирадой тишина оказалась столь тягостной, что мама решила заполнить ее парой других предложений, которые бы ей лучше было не произносить.
– Дело в том, что мы с тобой похожи намного больше, чем тебе может показаться. Я тоже никогда не хотела иметь детей.
Вот здесь она ошибалась. С этой самой минуты мне захотелось завести ребенка почти так же остро, как Полу, – просто чтобы доказать, что она не права.
– Ты не хотела, чтобы у тебя была я? – прозвучал мой вопрос.
Ну все, сейчас она наверняка бросится объяснять, что совсем не это имела в виду.
– Дело не в тебе, просто у меня всегда был слабо развит материнский инстинкт. Если честно, то ты стала результатом случайности – как-то ночью мы с твоим отцом слишком увлеклись, и я забеременела. Как видишь, все предельно просто. У меня не было ни малейшего желания ни вынашивать ребенка, ни рожать его.
– Но когда я родилась, ты ведь все-таки меня полюбила? – спросила я.
– Полюбила? – засмеялась она. – Да я тебя терпеть не могла! Мне казалось, что ты все испортила и жизнь закончилась. И все только потому, что мы выпили лишку и позабыли о благоразумии! Первые несколько недель за тобой ухаживала моя мама, мне даже смотреть на тебя не хотелось, и все опасались, что… Нет-нет, ты не подумай, я никогда бы тебя не обидела.
Как же часто она меня обижала, сама того не замечая.
– Однако когда ты стала старше, все понемногу наладилось. Ты росла на удивление быстро и уже тогда выглядела взрослее, чем на самом деле. Ходить и говорить стала раньше своих сверстников. Со временем твое пребывание рядом стало нормой, будто так было всегда.
– А Клэр?
– Ну, с Клэр, конечно, все было по-другому.
Конечно.
В этот самый момент, как нарочно, я слышу голос Клэр и возвращаюсь в настоящее, в никуда, на больничную койку. Ирония происходящего от меня отнюдь не ускользнула – мы с мамой опять сидим в ожидании Клэр, которая все исправит, научит нас ладить друг с другом и не позволит поссориться.
– Вот и я, – говорит сестра.
Я представляю, как они обнимаются, как мамино лицо озаряется при виде любимого ребенка, вплывающего в палату наверняка в красивой одежде и с развевающимися, длинными белокурыми волосами. Клэр садится и берет меня за руку.
– Руки у нее точно такие же, как у мамы, только без веснушек.
Воображение рисует, как они обмениваются теплыми улыбками, глядя друг на друга поверх кровати. Я действительно похожа на маму, что есть, то есть. У меня такие же как у нее руки, ноги, волосы и глаза.
– На тот случай, если ты меня слышишь, – говорит Клэр, – я должна тебе кое-что сказать. Я надеялась, что все обойдется, но… Словом, ты должна знать, что если бы Пол мог прийти, то давно был бы здесь.
Мне кажется, я затаиваю дыхание, хотя аппарат продолжает нагнетать мне в легкие кислород.
– Он так и думал, что полиция не оставит его в покое, и оказался прав. Они говорят, что в машине обнаружены только его отпечатки пальцев, и выражают уверенность в том, что за рулем сидела не ты. Потом еще эти синяки и отметины у тебя на шее. Сосед утверждает, что слышал, как вы ругались друг с другом посреди улицы. Я знаю, Пол ничего тебе не сделал, поэтому сейчас как никогда важно, чтобы ты пришла в себя.
Она сжимает мою ладонь до такой степени, что та начинает болеть. Я чувствую, как на шею, подбородок, на лицо опускается пелена мрака. Мне хочется спать, сил сражаться больше нет, но при этом мне все велят держаться. Последние слова Клэр доносятся будто издалека и в искаженном виде, но я все равно их слышу:
– Пол арестован.
Недавно
Среда, 21 декабря 2016 года, после полудня
Я иду по нашей улице, очарованная небольшими облачками пара, вырывающимися у меня изо рта, и вдруг осознаю, что улыбаюсь. Вообще-то сейчас улыбаться особо нечему, так что я быстро меняю выражение лица. Небо над головой медленно умирает, уличные фонари возвращаются к жизни, освещая мне путь домой. Одной рукой я закрываю калитку, озябшие пальцы другой переходят на автопилот и принимаются искать в сумочке ключи. Когда они наконец согреваются в достаточной степени, чтобы нащупать нужный предмет, я вхожу в дом. До меня доносится какой-то звук. Не закрывая дверь, я неуверенно иду через крохотную прихожую в гостиную и вижу Пола, который лежит на диване и смотрит телевизор. Блудный муж вернулся. Он на мгновение поднимает на меня глаза и тут же переводит взгляд обратно на экран.
– Ты сегодня рано, – говорит он.
И больше ничего. Он пропал, целые сутки не подавал никаких вестей и вот теперь небрежно бросил три слова и умолк. Я непроизвольно складываю на груди руки, как и подобает рассерженной жене, в которую он меня, собственно, и превратил.
– Где ты был? – Мой голос дрожит, и если честно, я не уверена до конца, что хочу знать ответ.
Я в ярости, но в то же время испытываю огромное облегчение оттого, что он в порядке.
– У мамы. Но тебе ведь плевать.
– О чем ты? Я себе места не находила. Мог хотя бы позвонить.
– Я телефон забыл, да и потом, у мамы дома все равно сигнал никудышный. Ты бы и сама об этом знала, если бы хотя бы раз потрудилась к ней со мной съездить. Я оставил тебе записку, звонил на стационарный телефон. Думал, что на этот раз, с учетом обстоятельств, ты ко мне все же присоединишься.
– Ты не звонил. И записки не оставлял, – настаиваю я.
– Как это не оставлял! На кухне! – отвечает Пол, глядя мне в глаза.
Я иду на кухню и, конечно же, действительно вижу на стойке клочок бумаги. Хватаю ее и подношу к глазам достаточно близко, чтобы прочесть:
Мама неудачно упала. Поеду посмотрю, все ли с ней в порядке. Вполне возможно, придется вызывать «Скорую».
П.Ценой значительных усилий в памяти всплывают события вчерашнего вечера. Я готовила для нас ужин, убиралась в кладовке. Провела на кухне уйму времени, но никакой записки не видела. Пол стоит в дверном проеме.
– Здесь ничего не было. Ты только что ее сюда положил! – говорю я.
– Что за бред ты несешь?
– В твоей хибаре горел свет. Я думала, ты там работаешь. Приготовила нам ужин.
– Вижу, – отвечает он.
Вслед за ним я оглядываю кухню. Все точно на тех же местах, что и вчера, – на плите по-прежнему стоят кастрюли и сковородки с едой. Пустая бутылка из-под белого вина. Кругом беспорядок. Поверить не могу, что я могла оставить дом в таком состоянии.
– Ты даже не спросила, как она сейчас, – говорит Пол, все так же стоя в дверном проеме.
Я взираю на окружающий меня хаос. На деревянной разделочной доске красуется горка картофельных очисток – довольно увесистых и толстых, так как я пользовалась ножом. Видеть в таком состоянии кухню мне невыносимо, поэтому я тут же берусь за уборку. Он тем временем продолжает говорить:
– Пожалуйста, давай не будем ссориться, мне и без тебя досталось.
У меня тоже нет ни малейшего желания скандалить. Из его рта непрерывным потоком льются какие-то слова, но я не верю ни одному из них. Ненавижу ложь и грязь, пусть бы это все поскорее закончилось. Не помню, когда все стало так плохо. Но то, что стало, – это точно.
– Она сломала бедро, Эмбер. Позвонила мне, лежа на кухне на полу. Мне пришлось все бросить и уехать.
Я открываю духовку и вижу приготовленные вчера бараньи ножки, высохшие чуть ли не до кости.
– Если бы это была твоя мать, ты бы поступила так же.
Не поступила бы, потому что в подобной ситуации она позвонила бы не мне, а моей сестре.
– Тогда почему твоя машина стояла у дома Клэр? – спрашиваю я, выбрасывая кости с присохшими к ним прожилками мяса в мусорный бак и поворачиваюсь к нему.
– Что? А, ну потому что мне нужно заново пройти техосмотр. Иначе страховку не продлят. Дэйв пообещал сделать все, что нужно, – без колебаний заявляет Пол.
Не Дэйв, а Дэвид, она этого не любит.
У него на все есть готовый ответ, и предложенные им фрагменты головоломки, похоже, складываются в правдоподобную картину. Я чувствую себя полной дурой и тут же смягчаюсь.
– Прости, – шепчу я, хотя и не уверена, что должна извиняться.
– И ты меня тоже.
– С мамой все в порядке?
Мы уходим с грязной кухни, садимся и начинаем беседу. Я изображаю из себя заботливую жену, которой ему так хочется меня видеть, он же рассказывает мне, каким он был хорошим сыном, правда, на этом фоне выглядит крайне скверным мужем. Репетировать реплики времени у меня нет, поэтому приходится импровизировать. «Оскар» за такую игру я вряд ли получу, но для одного-единственного зрителя сойдет. Я никогда не была в восторге от матери Пола. Она живет в старом, продуваемом всеми ветрами доме на берегу моря в Норфолке. Эти края я ненавижу и была у нее всего пару раз. Мне всегда казалось, что она видит меня насквозь, причем мое содержимое ей совсем не нравится.
Пол рассказывает, как провел ночь в больнице, я пытаюсь его на чем-то подловить, но не могу. Смотрю на его рот, выговаривающий слова, и мечтаю, чтобы они зазвучали громче, чем сопроводительные комментарии в моей голове. Мне действительно очень хочется ему верить. Мой телефон лежит на журнальном столике, и теперь я вижу, что и в самом деле не ответила на какой-то звонок… может, Пол звонил мне сказать, куда уехал, а я просто ничего не заметила.
– Как насчет бокала вина? – спрашиваю я.
Он согласно кивает. Я беру телефон, иду на кухню, слушаю сообщение, но голос принадлежит совсем не мужу.
Давно
Суббота, 14 декабря 1991 года
Дорогой Дневник,
Вчера вечером я была в гостях у Тэйлор и совсем не хотела уходить. Она живет в самом замечательном доме с самыми замечательными родителями. Тэйлор здесь родилась, а ее семья, в отличие от нас, никогда никуда не переезжала. На двери кладовки я увидела пометки, которыми родители каждый год отмечали ее рост. Кладовка у них огромная, и там хранится только еда. Она им действительно нужна, потому что у них полно продуктов и нет ничего замороженного. Когда я вырасту, то тоже буду жить в доме с кладовкой.
Тэйлор сказала, что ее родители такие же странные, как мои, но это оказалось не так. Мама Тэйлор очень по-доброму со мной разговаривала, а ее папе не пришлось задерживаться на работе. Когда он пришел, мы сидели за ужином и ели лазанью, которую мама Тэйлор приготовила сама, не из полуфабрикатов в микроволновке, а в плите и из настоящих продуктов. Ее родители ни разу ни о чем не поспорили, а папа оказался очень веселым и все время травил анекдоты. Тэйлор закатывала глаза – вероятно, слышала их раньше, – но мне было смешно.
После ужина они сказали, что мы можем пойти в комнату Тэйлор или посмотреть с ними какой-нибудь фильм. У них самый большой телевизор из всех, какие мне только доводилось видеть. Мне кажется, Тэйлор хотела, чтобы мы пошли к ней, но я сказала, что была бы рада посмотреть фильм. Ее мама принесла попкорн, папа выключил свет, так что мы могли видеть только огоньки на елке и экран телевизора. Я как будто оказалась в кино. Родители сели на диване, а мы с Тэйлор устроились на огромном пуфе. Мы все были как будто одна настоящая дружная семья. По правде говоря, я не столько смотрела фильм, сколько глядела по сторонам. Все было просто идеально, как бы я хотела жить так же.
Под конец фильма Тэйлор уснула, и я тоже решила притвориться спящей. Мама подняла ее, папа подхватил на руки меня, отчего мне поначалу стало страшно, но потом они отнесли нас наверх, будто младенцев, и уложили в постель. В спальне Тэйлор оказалась лишь одна кровать, поэтому нам пришлось там спать вдвоем. От постельного белья чудесно пахло свежей травой. Тэйлор и в самом деле спала, а я не могла, это была лучшая в моей жизни ночь, и мне не хотелось, чтобы она закончилась. Я лежала, смотрела в потолок и видела на нем тысячи звезд. Я знала, что это лишь светящиеся во тьме наклейки, но все равно было очень красиво. Если я, протянув руку, прищуривала глаза, то казалось, что я могу их коснуться.
Даже после того, как родители Тэйлор легли спать, мне все равно не удавалось уснуть – в голове никак не могли улечься мысли. Я встала, пошла в ванную и увидела там в стаканчике три зубные щетки. Еще днем Тэйлор мне объяснила, что она пользуется зеленой, папа голубой, а мама желтой. Сказала, что эти цвета никогда не меняются. А потом добавила, что мне, пожалуй, надо будет купить зеленую, чтобы я стала членом их банды. Но зеленую мне не хотелось. Я предпочла бы красную.
Я прокралась обратно в спальню, где Тэйлор все так же спала. И тогда я совершила скверный поступок. Не специально, просто так получилось. Подошла к туалетному столику и взяла в руки шкатулку с драгоценностями. Она меня попросила не трогать шкатулку, и из-за этого мне ужасно захотелось это сделать. Я аккуратно ее открыла и увидела, что внутри кружится крохотная балерина. По идее, должна была играть какая-то музыка, но, видимо, она сломалась. Я смотрела, как вращается в полной тишине миниатюрная куколка с нарисованной на лице клубничного цвета улыбкой. В шкатулке лежал золотой браслет. Я поднесла его к глазам как можно ближе и увидела, что на нем выгравирована дата рождения Тэйлор. Он вполне мог бы быть и моим, ведь мы с ней родились в один день. На другой стороне было написано «моей обожаемой девочке», маленькими, соединенными друг с другом буковками. Я не собиралась его забирать. Мне просто хотелось узнать, каково это – носить такой браслет. Я его верну.
Потом я забралась в кровать и улеглась так, что лицо моей подружки было прямо рядом с моим, а наши носы почти касались друг друга. Мне казалось, что она улыбается даже во сне, вероятно потому, что ей так повезло в жизни. Могу поспорить, что у Тэйлор даже сны – и те лучше моих.
У нее есть три вещи, которых нет у меня:
1. Классные родители.
2. Отличный дом.
3. Собственные звезды.
Я рада, что мы с Тэйлор теперь подруги. А браслет я отдам, обещаю. И очень надеюсь, что мы больше никогда не переедем, потому что я буду очень скучать. Как же я хотела бы жить в доме, где пахнет попкорном, а на потолке сияют звезды.
Сейчас
Четверг, 29 декабря 2016 года
Моя семья не похожа на другие. Думаю, я знала это еще ребенком. Мне всегда хотелось, чтобы папа с мамой любили меня так же, как любят своих детей другие родители. Безоговорочно. Дела у нас шли не ахти и до появления Клэр. Но после этого стало еще хуже. Я никому не была нужна тогда и никому не нужна сейчас.
Пол так и не вернулся. Когда дверь открывается, я каждый раз думаю, что это он, но сейчас после утреннего обхода меня навещают только люди, которые получают за это деньги. Они разговаривают со мной, но не сообщают того, что мне необходимо знать. Полагаю, очень трудно давать ответы, когда не знаешь вопросов. Если Пола действительно арестовали, то мне как никогда раньше необходимо прийти в себя. Я просто обязана вспомнить, что случилось.
По вечерам обход теперь длится недолго, я утратила статус главной достопримечательности. Я вышла из моды. Теперь тут появился кто-то, кому еще хуже, чем мне. Даже хорошие люди устают чинить то, что починке не подлежит.
Незадолго до этого Прокуренная говорила с одной из коллег об отпуске. Она собирается в Рим вместе с мужчиной, с которым познакомилась в Интернете. И кажется от этого счастливее обычного, мягче, добрее. Интересно, а как ее на самом деле зовут? Может, Карла? Судя по манере разговора, ей подошло бы это имя. Не могу назвать ее своей любимицей, но когда она уедет, мне ее будет не хватать: она теперь часть моего ритуала, а перемены я не люблю.
В моем новом мире я всецело завишу от совершенно незнакомых людей: они моют меня, меняют белье и кормят через трубочку, вводя пищу прямо в желудок. Собирают в пластиковый пакет мочу и вытирают от дерьма задницу. Они все это делают, ухаживают за мной, но я все равно хочу есть и пить, мне холодно и страшно. В коридоре отделения витает запах ужина. Во рту собирается слюна, но пища туда так и не попадет. Она сразу проскользнет внутрь по трубке, засунутой мне в горло, в то время как аппарат, дышащий за меня, будет надсадно пыхтеть, словно ему давно все надоело. Я не пожалела бы ничего на свете, чтобы ощутить вкус еды на языке, пожевать ее, проглотить и почувствовать, как в желудке разливается приятное тепло. Я стараюсь не думать о том, чего мне не хватает, – чего я не могу съесть, выпить, сделать. Я стараюсь вообще не думать.
В палату кто-то входит – мужчина, думаю я, ориентируясь единственно по едва уловимому запаху тела. Кто бы это ни оказался, он ничего не говорит. Что делает, мне тоже не известно. Вдруг я чувствую, что к моему лицу без предупреждения прикасаются пальцы, открывают правый глаз и чем-то в него светят. Яркий луч ослепляет до тех пор, пока мне опять не закрывают веко. Не успеваю я успокоиться, как ту же процедуру повторяют с левым глазом, что выбивает меня из колеи еще больше, чем раньше. Кем бы ни был этот посетитель, вскоре он уходит, и это меня радует.
Никогда бы не подумала, что валяться в постели так тягостно. Я пролежала на правом боку шесть тысяч секунд, после чего потеряла им счет. Скоро меня должны будут перевернуть. Когда они оставляли меня лежать на правом боку, ничего хорошего из этого никогда не выходило Это несчастливый бок.
Я чувствую на лице каплю чего-то холодного. Потом еще. На кожу падают крохотные брызги воды. Похоже на дождь, но этого не может быть. Я инстинктивно открываю глаза и вижу над собой ночное небо. Будто кто-то снял с дома крышу и прямо в комнате сыплется мелкая морось. Мне удается открыть глаза, но не пошевелиться. Я опускаю глаза и вижу, что моя больничная постель превратилась в лодку, мягко покачивающуюся на волнах. Приказываю себе не бояться, потому что это всего лишь очередной сон. Дождь сильнее барабанит по простыням, прикрывающим мои недвижные члены, они намокают, становится холодно. Тело, которое кажется чужим, бросает в дрожь. Под простыней что-то шевелится, но это не я. Из-под одеяла в изножье кровати вылезает девочка в розовом халате и усаживается так, что мы становимся как бы зеркальными отражениями друг друга. С ее волос стекает вода, и у нее по-прежнему нет лица. Девочка не может говорить, но ей и не надо, молчание – это язык, которым владеем мы обе. Она выбрала его, и я смирилась с этим выбором. Ее рука показывает на черное небо, и моему взору предстают мириады звезд – так близко, что до них можно было бы дотянуться, если бы я могла двигаться. Но они не настоящие. Это светящиеся во тьме наклейки, которые отваливаются и падают на кровать. Острые пластмассовые кончики-лучи загибаются внутрь. Теперь в небе зияют дыры в форме звезд. Девчушка начинает петь, хотя лучше бы она молчала:
Лодка медленно скользит, Слышен весел звон[6].Она вытаскивает из-под простыни руки, и на ее запястье вспыхивает золото.
Радостно, радостно, радостно нам…Девочка хватается за борта лодки, в которую превратилась кровать, и начинает раскачивать ее из стороны в сторону.
Я пытаюсь ей запретить, но не могу произнести ни звука.
Жизнь – всего лишь сон.Я закрываю глаза, и тут ей удается опрокинуть лодку. В воде холодно и темно. Не в состоянии пошевелиться, я не могу плыть и просто беспомощно иду ко дну, опускаясь все глубже в черноту, будто телесного цвета камень. До меня доносится ее искаженный толщей воды голос:
Жизнь – всего лишь сон.Что-то громко пищит, шумит вода, но я уже не под водой. Звучат знакомые голоса, надо мной склоняются незнакомые лица.
Мои глаза открыты.
Я вижу, что вокруг меня суетятся врачи и медсестры. Не во сне, а наяву.
Потом голоса умолкают, за исключением одного.
– У нее фибрилляция[7], нам нужен разряд.
Фибрилляция? Это что-то новенькое.
– Отойдите!
Лица исчезают, и в поле зрения остается только потолок.
Вокруг все белое.
Я закрываю глаза, опасаясь того, что они могут увидеть.
Потом до меня доносится голос отца:
– Держись, Орешек.
Со мной словно говорит призрак.
Опять открываю глаза, он мне улыбается, и в этот момент понимаю, что я его действительно вижу. Папа кажется мне совсем старым, измученным, каким-то хрупким. Мы с ним только вдвоем, все остальное тонет в белизне. Я чувствую, как по щеке катятся слезы.
– Я очень сожалею обо всем, – говорит он.
Мне хочется успокоить его и сказать, что все нормально, но я по-прежнему не могу говорить. Хочу взять его за руку, но не могу шевельнуться.
– Если бы я только мог представить, что мы говорим с тобой в последний раз, то никогда бы не произнес тех слов. Они не были искренними. Я люблю тебя… как и мама. Мы всегда тебя любили. Жизнь – всего лишь сон.
Он поворачивается, чтобы уйти, и даже не оглядывается. Я опять становлюсь ею, той маленькой девочкой, которой очень хочется не отстать от папы. Теперь он ходит не так быстро, как раньше, но мне его все равно не догнать.
Недавно
Четверг, 22 декабря 2016 года, утро
– Это передача «Кофейное утро», приветствую всех, кто только что к нам присоединился, – говорит Мадлен. – Итак, сегодня у нас состоится честный и открытый разговор об адюльтере. Мы попытаемся разобраться, почему одни женщины никогда не закрывают глаза на измену партнеров, в то время как другие предпочитают все прощать и забывать. Кроме того, мы поговорим с женщинами, которые сами изменяют. Рядом со мной Эмбер, которая всегда говорит, что до конца узнать человека, в том числе и себя самого, нельзя. Эмбер, ты не могла бы развить свою мысль? – спрашивает Мадлен, закатывает глаза и смотрит, что там дальше по сценарию. – Ну? Что ты можешь сказать в свое оправдание?
С каждым словом ее голос все слабеет, будто садятся батарейки. Потом ее тошнит прямо на стол в студии. Мадлен поднимает голову, вытирает рот и продолжает.
– Эмбер? – Теперь она почему-то говорит голосом Пола. – Эмбер?
Я резко сажусь на кровати.
– Тебе приснился кошмар, – говорит Пол.
Моргая, я вглядываюсь в темноту. Кожа покрыта испариной, меня охватывает дурнота.
– Все уже хорошо, – добавляет он.
Нет, не хорошо. Я откидываю одеяло и бегу в туалет. Одной рукой хватаюсь за унитаз, другой придерживаю рукой волосы. Рвет меня недолго. Услышав, что Пол встал с постели, я закрываю дверь.
– Ты в порядке? – спрашивает он, стоя по ту сторону сосновой перегородки.
– Не волнуйся, мне уже лучше. Холодно, иди ложись, я сейчас приду.
Я лгу. Вскоре он молча уходит.
Я спускаю воду, умываюсь и принимаюсь чистить зубы, глядя на себя в зеркало. На меня таращится какая-то сумасшедшая, и я отвожу глаза и смотрю в пол. Сплевываю пасту, к белизне которой местами примешиваются красные пятнышки, и вытираю рот. Большой и указательный пальцы касаются друг друга, я подношу к лицу руки, по очереди вырываю из каждой брови по волоску и бросаю их в раковину. Останавливаюсь только когда этих крошечных черных частичек моего естества становится десять. Это число всегда должно оставаться неизменным. Подождав достаточно времени, я открываю кран с холодной водой и умываюсь.
Потом тихонько заглядываю в спальню и смотрю, как там Пол. Он опять уснул, и из его рта теперь вырывается тихое поcапывание. Я снимаю халат с вешалки на обратной стороне двери и крадусь в свой миниатюрный кабинетик. Там чисто и аккуратно – с момента моего последнего пребывания здесь ничего не изменилось. Натягиваю белые перчатки, беру ручку и неподвижно смотрю на лист белой бумаги. Меня слишком одолевает усталость, чтобы думать, о чем писать, но тут в памяти всплывает миссис Макдональд из школы и ее Правило Трех Вещей. Я тут же нахожу слова и внутренне улыбаюсь:
Дорогая Мадлен,
Надеюсь, до этого времени мои послания доставляли вам истинное наслаждение. Я знаю, как вы любите читать письма ваших поклонников.
Но я не поклонница.
Обо мне вам следует знать три вещи:
1. Мне известно, что вы совсем не та, за кого себя выдаете.
2. Мне известно, что вы сделали и чего не делали.
3. Если вы не сделаете того, о чем я вас прошу, все узнают, кто вы на самом деле.
Я буду писать до тех пор, пока вы не поймете. Чернила в ручке когда-нибудь закончатся, так что, надеюсь, нам еще недолго придется обмениваться посланиями. Если же все-таки мне станет нечем писать, я буду вынуждена изыскать другой способ донести до вас свою мысль.
– Что ты делаешь? Почему не ложишься обратно в постель? И зачем тебе карнавальные перчатки?
Пол выглядывает из-за двери кабинетика – в одной футболке и трусах. Меня застукали.
– Я не могла уснуть, решила подписать несколько поздравительных открыток – лучше позже, чем никогда, – но у меня замерзли руки, – невнятно бормочу я.
Он окидывает меня странным взглядом.
– Хорошо. Мама только что прислала смску, пишет, что врачи пытаются ее убить. Я еду к ней.
Не знала, что она умеет писать сообщения.
– Прямо сейчас?
– Да, прямо сейчас. Я ей нужен.
– Может, мне поехать с тобой? – предлагаю я.
– Нет, не стоит. Мне известно, как ты сейчас беспокоишься насчет работы. Не волнуйся, я ненадолго.
Пол отходит от двери, не давая мне времени ответить. Слышно, как он включает душ и как от этого возвращается к жизни водонагреватель. Значит, особо не торопится. Я складываю письмо, кладу его в красный конверт, а белые перчатки прячу обратно в ящик стола. Проходя мимо ванной, замечаю, что дверь немного приоткрыта, а внутри клубится пар, норовя вырваться наружу. Сквозь его мглистую пелену вижу под душем обнаженную фигуру мужа. Поскольку в таком виде мне не доводилось видеть его уже давно, меня охватывает странное чувство: смесь облегчения и отторжения. Я быстро направляюсь в спальню и беру с прикроватной тумбочки его телефон: 6:55 – я понятия не имела, что уже так поздно, мне все кажется, что сейчас еще глубокая ночь. Вбиваю в телефон пароль Пола. Помню, как несколько месяцев назад пыталась его угадать – вбивала дату нашей свадьбы, дату моего рождения и, наконец, дату его рождения. Подошел, конечно же, последний. Открываю его смски. Последнюю, от меня, он получил больше суток назад. Сообщений от его мамы нет и в помине. Услышав, что он выключил в душе воду, кладу телефон, ложусь в постель и отворачиваюсь к стене. Слушаю, как муж вытирается, одевается, опрыскивает себя дезодорантом, застегивает пояс и кладет в карманы джинсов мелочь.
– Как ты поедешь? На поезде? – спрашиваю я.
– Нет, на машине будет быстрее.
– Ты же говорил, что должен пройти техосмотр?
– Дэйв сказал, что все уже сделал. Как раз заберу ее из гаража. У меня есть запасной ключ.
– Он тоже прислал тебе смс?
– Нет, звонил вчера вечером. А почему ты спрашиваешь?
– Просто так.
У него на все есть готовый ответ.
На прощание он меня целует и говорит, что любит. Я отвечаю, что тоже его люблю. Затасканные, выхолощенные слова, давно потерявшие всякое значение. Я лежу совершенно неподвижно, слушая, как мой муж от меня удаляется. Когда за ним хлопает входная дверь, я встаю, подхожу к окну и через занавеску смотрю ему вслед. Потом, по его стопам, спускаюсь на кухню и включаю свет. В горле у меня пересохло, я наливаю себе стакан воды. Встаю перед плитой, двенадцать раз проверяю, что она выключена, щелкая пальцами свободной левой руки. В этот момент в глаза бросается красный огонек автоответчика на длинном столике в прихожей. Номером нашего стационарного телефона пользовались исключительно мои родители, но даже они в последнее время по нему больше не звонят. Указательный палец неуверенно зависает над кнопкой воспроизведения, боясь выслушать сообщение, будто оно может обжечь. Я разом заглатываю полстакана воды, дожидаюсь, пока она смоет страх, и нажимаю на кнопку. Послание оставил Пол два дня назад. Значит, он действительно звонил мне сообщить, что уехал к матери. Не понимаю, как я могла не обратить внимание на мигающий огонек аппарата, то и дело проходя мимо него. Я удаляю сообщение и на несколько секунд замираю, перед тем как нажать кнопку «Воспроизвести все». Зачем мне снова слушать его голос? Странная потребность. Когда в уши, а потом и в сердце проникает голос отца, я закрываю глаза. Привет, это я, папа. Орешек, перезвони мне, когда прослушаешь это сообщение. Он уже очень давно так меня не называл.
Слезы, которые мне до этого момента удавалось сдерживать, ручьем льются из глаз. Они оставляют на щеках бороздки, на подбородке повисают, держатся, сколько могут, а потом падают на ночную рубашку, образуя скорбные влажные пятна. Сообщение я храню уже очень давно. Пол считает это нездоровым поведением, говорит, что этого не понимает. Повинуясь порыву какого-то инстинктивного любопытства, я снимаю трубку и нажимаю кнопку последнего вызываемого номера. Через несколько мгновений раздается щелчок, и в моих ушах звучит надиктованный на автоответчик голос. Я швыряю трубку и смотрю на нее с таким видом, будто виновата во всем она. Я никогда не звонила Клэр с этого телефона.
Недавно
Четверг, 22 декабря 2016 года, утро
Я опоздала на несколько минут. Мадлен уже на месте, но сегодня это не имеет значения. Я все еще какая-то потерянная, как будто мне снится сон, что я сплю. Когда Пол ушел, я еще раз проверила его шкаф. Красивый розовый подарочный пакет с черным кружевным содержимым исчез – он увез его с собой. Сомневаюсь, что он собирается дарить его своей маме.
Я тихо сижу за столом и наблюдаю, как коллеги заходят в офис. Когда они со мной здороваются, киваю им в ответ головой. Такое ощущение, что мне включили заезженную пластинку. У меня сегодня нет настроения для светских бесед, да и вообще это утро довольно паршивое. Когда мне кажется, что в мою сторону никто не смотрит, я изучаю женские лица. Все они выглядят зашоренными, слегка уставшими и страшно растерянными. Собрание людей, бессмысленно толкущих воду в ступе в отчаянной попытке не пойти ко дну посреди непредсказуемого моря жизни. По правде говоря, они мне не друзья, мы с превеликим удовольствием друг друга утопили бы, если бы наверняка знали, что не утонем сами. Я прихожу к выводу, что беспокоиться не о чем – они толком не видят не только меня, но даже себя.
Мадлен переступает порог своего кабинетика, и я чувствую на себе ее взгляд. Она говорит с ними, но смотрит на меня, и на какое-то время у меня появляется уверенность в том, что ей все известно. Во рту ощущается отвратительный вкус, от которого никак не удается избавиться. К горлу подступает тошнота, я направляюсь в туалет и по пути изо всех сил стараюсь сохранять спокойствие. Переступив порог, тут же бросаюсь в кабинку, сливаю воду и в самый последний момент склоняюсь над унитазом, надеясь, что меня никто не слышит. Одна лишь желчь, ведь я ничего не ела. Что это, нервы или чувство вины? А может, и то, и другое? Как бы там ни было, мне надо привести себя в порядок, и как можно быстрее. На такие вещи времени у меня нет. Из-за двери меня зовет Джо. По ее мнению, перед эфиром мне надо сходить в аптеку. Одна из них от нас совсем недалеко. Думаю, она права. Я решаю немного подождать, желая убедиться, что все уже позади, потом открываю дверь и мою руки, испытывая облегчение от того, что меня опять оставили в покое.
После эфира мне становится намного лучше. Но вот Мадлен, похоже, совсем нехорошо. Вся в поту, она целое утро бегает в туалет. Списывает все на пищевое отравление. Подозреваю, что, скорее, дело в слабительном, которое я незаметно подсыпала ей в кофе. Мадлен любит кофе, пьет его в больших количествах и никогда от него не отказывается, при том, однако, условии, чтобы он был черным. А еще ей нравится ездить на работу на машине. Общественный транспорт она называет «грязным рассадником посредственностей». Сегодня она не в состоянии сесть за руль, поэтому я предлагаю ее отвезти – к ее немалому удивлению и к явному одобрению Мэттью. Поначалу мне кажется, что она не согласится, но после очередного внепланового похода в туалет Мадлен меняет свое решение, немало меня порадовав.
Мы выходим из офиса. Я несу ее сумку, потому что она «слишком слаба», а на стоянке делаю вид, что не знаю ее машины. Она снимает с сигнализации черный «Фольксфаген-Гольф», передает мне ключи и скрючивается на заднем сиденье, будто ее автомобиль в одночасье превратился в такси. Потом лающим голосом сообщает мне свой почтовый индекс, который я вбиваю в навигатор, приказывает ехать «как можно осторожнее» и в пути «остерегаться иностранцев».
Пока я веду машину, Мадлен засыпает, и я прихожу к выводу, что такая она нравится мне гораздо больше. Молчаливая Мадлен. Пока она спит, ее яд не может выплеснуться наружу, а обычно он непрерывным потоком льется с ее губ.
Ненавижу ездить по Лондону, слишком оживленному и шумному. На улицах слишком много народу, все куда-то спешат, хотя очень немногим из них действительно надо торопиться. Когда мы выезжаем из центра, положение вроде бы улучшается – дороги будто становятся шире, а автомобилей меньше.
Когда навигатор сообщает, что до пункта назначения осталось от силы десять минут, звучит предупреждающий сигнал, а на приборной доске сердито загорается красная лампочка.
– У вас на исходе бензин, – говорю я и вижу в зеркале заднего обзора сузившиеся глаза проснувшейся пассажирки.
– Не может быть, – говорит она.
– Не волнуйтесь, добраться до дома хватит.
– А кто тебе сказал, что я волнуюсь?
Мы опять встречаемся глазами в зеркале заднего обзора. Я выдерживаю ее взгляд – в пределах разумного, когда едешь со скоростью сорок миль в час, – потом вновь смотрю на дорогу.
После этого мы молчим до тех пор, пока автомобиль не поворачивает на ее улицу. Она опять заливается лаем, объясняя мне, где и как припарковаться, однако я, честно говоря, ее уже не слышу. Все мое внимание поглощено домом, в котором она живет, хотя как трактовать увиденное, у меня нет никакого понятия. Место мне знакомо. Я здесь уже бывала.
Давно
Пасхальное воскресенье, 1992 год
Дорогой Дневник,
Тэйлор вместе с родителями уехала на пасхальные каникулы, и я чувствую себя совсем несчастной. Мы виделись с ней в последний день занятий и теперь встретимся только во вторник, когда опять пойдем в школу. Она прислала мне открытку. Пару часов назад мама ввалилась ко мне в комнату, по-идиотски улыбаясь, и вручила эту открытку. Она думала, что это меня обрадует. Но ошиблась. Тэйлор, похоже, вовсю там развлекается и совсем по мне не скучает.
Я в этом году на каникулы никуда не поеду, даже в Англии, мама говорит, что мы не можем себе этого позволить. Когда я заметила, что папа очень много работает и поэтому у нас должна быть куча денег, она просто расплакалась. В последнее время мама все время плачет, и она больше не толстая. Может быть, это от переживаний? Как-то на прошлой неделе ей было так грустно, что она даже не смогла приготовить обед и ужин. Мне не позволяют трогать плиту, так что я ела только чипсы и печенье. Когда я спросила маму, переживает ли она из-за Буси, она ответила, что переживает из-за всего.
А потом добавила, что на следующей неделе свозит меня в Брайтон, если я буду хорошей девочкой. Я спросила, куда она меня отвезет, если я буду плохой, но она не рассмеялась. Тогда я напомнила ей, что мне уже десять с половиной лет, я уже слишком взрослая для детских аттракционов, но мне нравится гулять вдоль пирса и слушать шум моря. Теперь, когда я подросла, мама стала искать себе работу с частичной занятостью, как мама Тэйлор. Пока что не нашла, хотя обращалась много куда. Каждый раз, когда ее приглашают на собеседование, она надевает свой черный костюм, которому уже лет сто, слишком сильно красится, а потом возвращается домой и до самого вечера пьет. Я бы тоже не взяла ее на работу, она слишком грустная и ленивая. Перед каникулами мне пришлось три дня подряд ходить в школу в одной и той же юбке. Она сказала, что это неважно, что никто ничего не заметит, и побрызгала меня какими-то отвратительными духами, которыми я потом воняла целый день.
Ланчи, которые родители мне дают с собой, тоже претерпели любопытные изменения. Папа у себя на работе должен в числе прочего заполнять торговые автоматы. У этой работы есть приятный бонус – он приносит домой халявные чипсы и шоколад. На минувшей неделе, к примеру, он притащил упаковку из сорока батончиков «Кит-Кат». Перед последним днем занятий у нас закончился хлеб, и вместо сэндвичей с маслом и чипсов мама дала мне с собой два «Кит-Ката», против чего я совсем не возражала. Но потом воспитательница, которая следит за нашим питанием, во время обеда увидела их и решила, что я просто забыла ланч дома, хотя я и сказала, что это он и есть. Так что она отправила меня к ребятам, которые едят горячие блюда, и это было отлично, потому что в их число входит Тэйлор.
Она, как обычно, сидела одна, так что я подсела к ней. Потом все всполошились, потому что оказалось, что мама не заплатила за мой последний горячий ланч. В конце концов миссис Макдональд, по-видимому, меня пожалела, потому что она сама за меня заплатила, сказав ни о чем не беспокоиться. К тому времени, как я получила свою порцию рыбы с картошкой фри, все остальные уже ушли играть. Поедая ланч, я видела во дворе практически всю нашу школу. Там была и группа девочек из моего класса, среди которых стояла Тэйлор. Они со всех сторон толкали ее, будто тряпичную куклу, и не похоже, чтобы ей это нравилось. Каждый раз, когда моя подружка пыталась вырваться из их круга, они смыкали руки, не пускали ее и вновь выталкивали в центр. Я оставила картошку на столе и отказалась от десерта, хотя еще не наелась. Потом побежала во двор, но не нашла там ни Тэйлор, ни других девочек. Заглянула в другой, четырехугольный, на ступеньках которого она тоже иногда сидела одна, но там ее тоже не оказалось.
Потом вернулась в кабинет, хотя перемена еще не закончилась, но в нем не было ни души. Вдруг мне в глаза бросилось кое-что необычное. Я подошла к нашему классному аквариуму и увидела плававшую на поверхности зеленоватой воды дохлую золотую рыбку. Пару недель назад мы с Тэйлор помогали его чистить. Миссис Макдональд объяснила нам, что слить из него воду можно, если взять гибкую трубочку, засунуть один ее конец в емкость, а другой зажать губами и втянуть в себя немного жидкости. Если все сделать как надо, вода сама собой потечет в ведро. Это все гравитация. То же самое, что луна и звезды. В первый раз я набрала полный рот воды из аквариума, и Тэйлор подняла меня на смех. Не думаю, что с тех пор его кто-то чистил.
Я знала, что рыбка мертва, но не понимала, как к этому относиться. В детстве у меня тоже была такая и тоже потом умерла. Буся спустила ее в унитаз, и мне стало очень грустно. Но та рыбка была моя, она принадлежала мне. Эта не была моя, однако, пока я пыталась определиться со своими чувствами, руки сами собой открыли крышку аквариума. Не знаю почему, но мне захотелось взять ее в руки. Она была скользкой, мокрой и холодной. В этот момент в кабинет вошла Тэйлор, посмотрела сначала на рыбку, потом на меня. Взяла ее, положила обратно в аквариум и закрыла крышку. Затем вытащила из рукава носовой платок, как фокусник, который достает из шляпы кролика, и вытерла руки – сначала мои, а потом и свои. Я была рада узнать, что она в порядке.
В прошлом году мне на Пасху подарили два яйца. Одно мама с папой, другое Буся. Ее оказалось лучше, потому что в нем под слоем шоколада обнаружились конфетки. Я их посчитала, их было тринадцать – это я хорошо помню, потому что это число одновременно счастливое и несчастливое. В этом году я получила только одно яйцо, но это ничего, потому что оно от Тэйлор. Я ей ничего не дарила, но обязательно что-нибудь придумаю. Можно подарить несколько «Кит-Катов», которых у нас теперь море.
Сейчас
Четверг, 29 декабря 2016 года
Мои родители умерли. Не знаю, как о таком можно забыть, но я забыла. Они приходили ко мне в больничную палату, они были такие же настоящие, как и все остальные, и все-таки на самом деле их там не было. И не могло быть, потому что их уже больше года нет в живых. Мозг – очень мощный инструмент, ему под силу создавать целые миры, не говоря уже о банальных иллюзиях, способствующих его самосохранению. К моменту их смерти мы с ними даже не общались. Я помню последние слова папы, обращенные ко мне, они и сейчас закольцованным воспоминанием крутятся у меня в голове:
«Послушай меня, Эмбер. Все проблемы в наших отношениях ты создала сама. Еще подростком ты вечно погружалась в свой собственный мирок. Не хотела видеть нас рядом, и мы не могли тебя найти, хотя и пытались. Я точно это знаю, потому что мы действительно пытались. Годами. Мир не вращается вокруг тебя. Если бы у тебя были дети, ты и сама бы это понимала».
Больше они мне не звонили, как и я им. О том, что их не стало, мне сообщила Клэр. Их туристический автобус в Италии попал в аварию. Я видела репортаж по телевизору, но когда диктор сказал, что несчастный случай унес жизни нескольких британских граждан, даже не догадывалась, что голос с экрана обращается непосредственно ко мне. Мы так никогда и не узнали, что именно там случилось. Поговаривали, что водитель уснул за рулем. День или два об инциденте говорили в новостях, но потом о папе с мамой опять забыли – все, кроме нас. Где-то у кого-то еще случилось несчастье, эта новость затмила предыдущие, и только мы вдвоем продолжали смотреть старый репортаж. В графу «Ближайшие родственники» в паспортах папа с мамой внесли Клэр, но не меня. Даже мертвые, они отдавали ей предпочтение.
Сестра взяла на себя все: перевезла их тела домой, организовала похороны, решила все юридические формальности. Я разобрала дом и избавилась от вещей, раздав частички их жизни другим людям, живущим в других местах. Клэр сказала, что ей это делать было бы невыносимо.
Я до сих пор потрясена тем, какими настоящими они казались мне в этой больничной палате. Должно быть, мне до такой степени хотелось разделить с кем-нибудь одиночество, что мозг просто был вынужден вернуть мне родителей в виде живых воспоминаний. Когда мы в них нуждаемся, наши покойные близкие совсем рядом – по ту сторону невидимой стены. Но что-либо разделить с ними нельзя, поэтому тоска, как и чувство вины, это твой удел.
Когда их не стало, Клэр была убита горем. Несколько недель она оплакивала их видимыми всем слезами – а мои невидимые слезы не иссякли никогда. Теперь я пытаюсь подвергать критической оценке все, что преподносит мне разум, и стараюсь отличить видения от реальности.
Дверь открывается, и кто-то ввозит в палату каталку. Потом берет меня за руку, и я по манере ее держать понимаю, что это Пол. По большей части, его руки мягкие и изнеженные, исключение составляет лишь бугорок на среднем пальце в том месте, где он слишком сильно сжимает ручку, когда пишет. Он вернулся. Полицейские, по-видимому, его отпустили. Мы долго молчим. Я чувствую, что он смотрит на меня. Ничего не говорит, лишь держит за руку. Когда приходят санитарки, чтобы перевернуть меня и сменить белье, по их просьбе ждет в коридоре. А когда они уходят, возвращается. Мне очень хочется спросить, что с ним случилось, спросить, что сказали в полиции и в чем его подозревают.
Входит медсестра и говорит ему, что время посещения больных подошло к концу. Он ничего не отвечает, но выражение его лица, вероятно, красноречивее любых слов, потому что она разрешает ему оставаться сколько угодно. В чем бы Пола ни обвиняла полиция, медперсонал явно считает его хорошим мужем. Мы еще какое-то время молчим – он не может найти нужных слов, а я лишена дара речи.
– Прости, – говорит он.
Я задаюсь вопросом, что он имеет в виду, и вдруг чувствую, как он склоняется к изголовью, и меня охватывает привычная паника. Сначала мне непонятно, чего я боюсь, но потом в голове вспыхивает воспоминание мужских рук на моем горле. У меня будто перехватывает дыхание, хотя аппарат по-прежнему исправно нагнетает в легкие кислород. Пол кладет руки мне на лицо, а не на горло, но что он делает, я не знаю. Потом сует что-то в уши, и мне хочется закричать. Саундтрек к окружающему меня миру становится тише, и мне это совсем не нравится: слух – это все, что у меня осталось.
– Что ты делаешь? – спрашивает Клэр.
Ее голос повергает меня в шок. Я не знаю, сколько она пробыла здесь. Я вообще не знала, что она здесь.
– Доктор говорит, это может помочь, – отвечает Пол и опять берет меня за руку.
– Тебя отпустили?
– Похоже, что да.
– Ты в порядке? – спрашивает Клэр.
– А ты как думаешь?
– Я думаю, ты выглядишь как дерьмо, а судя по запаху, тебе не мешает принять душ.
– Спасибо. Я приехал сюда прямо из участка.
– Ну, теперь все уже позади.
– Не позади, они по-прежнему думают, что я…
Но для меня на этом все заканчивается, потому что я их больше не слышу. Уши заполняет музыка, пульсируя и стекая вниз по телу, заглушая все другие ощущения. В конечном итоге кроме нее больше ничего не остается. Все остальное, все остальные исчезают. Последовательность нот складывается в воспоминание и уносит меня прочь. Под эту песню в день нашей свадьбы мы с Полом шли к алтарю. Лирический герой песни хочет починить, исправить свою возлюбленную, и эти слова уносят меня в прошлое. Пол пытался починить меня, даже когда я не знала, что во мне что-то надломилось. Он пытается и сейчас.
По краям воспоминание немного размыто, но это не мешает ему быть реальным, поэтому я замедляю его и удерживаю в голове. В самом уголке вижу Пола, надевающего мне на палец кольцо. Он улыбается, мы счастливы. Да, тогда мы действительно были счастливы, сейчас я вспоминаю, что мы были очень, очень счастливы. Если мы только могли стать такими, как тогда. Но теперь уже слишком поздно.
Церемония была скромной, у меня никогда не было много друзей. Дело в том, что многие люди мне просто не нравятся. Любой, с кем ты знакомишься, таит в себе какой-то изъян. Когда я узнаю человека достаточно для того, чтобы увидеть все его дефекты и пороки, мне больше не хочется проводить с ним время. Я избегаю испорченных людей не оттого, что считаю себя лучше их, а потому что не люблю смотреть на собственное отражение. К тому же я причиняю страдания всем, с кем схожусь близко, так что я больше не пытаюсь найти себе новых друзей. Мне давно пришлось убедиться: лучше довольствоваться тем, что у тебя есть.
Музыка заканчивается, я возвращаюсь назад. Теперь снова слышен ритмичный гул, исходящий от аппарата искусственной вентиляции легких, к его звуку примешивается какой-то прерывистый писк. К нам пришла медсестра. Это я определяю по шуршанию ее фартука, пока она дефилирует мимо кровати. В палате стоит тишина. Теперь я окрашиваю свою жизнь не красками, а звуками, мои натруженные уши с трудом удерживают кисть. Пиканье останавливается. Когда медсестра уходит, Пол и Клэр возобновляют прерванный разговор, и я, помимо своей воли, начинаю гадать, что я пропустила.
– Перестань себя казнить, Пол. Это был несчастный случай.
– Я не должен был ее отпускать.
– Держись, тебе нельзя распускаться. Она в тебе так нуждается, а ты превратился в развалину. Вымойся, отдохни и соберись с мыслями.
– Полицейские по-прежнему думают, что это я сидел за рулем, что я из тех, кто напивается и бьет своих жен, а потом ничего не помнит. Но я ведь не такой.
– Я знаю.
– Они меня ненавидят. Вот увидишь, они еще вернутся, ни за что от меня не отвяжутся. Я не хочу оставлять ее одну. Ты, если хочешь, можешь идти.
Когда мне больше всего хочется, чтобы Пол и Клэр говорили, они умолкают. Я уверена, что машину вел кто-то еще. Но не Пол. Я чувствую облегчение от того, что Клэр тоже ему верит.
– Если ты не против, я еще немного здесь побуду, – говорит она.
– Делай как знаешь.
Какое-то время они сидят молча. Пол включает еще одно воспоминание – песню, в которую мы с ним влюбились, когда в последний раз ездили в отпуск. Потом еще несколько композиций, вызывающих новые ассоциации, после чего музыка смолкает и в палате воцаряется тишина, которая кажется мне гораздо громче любых звуков.
– Не хочешь поговорить о ребенке? – спрашивает Клэр.
О каком еще ребенке?
– Нет, – отвечает Пол.
– Ты знал?
Что он должен был знать?
– Я же сказал, не хочу об этом говорить.
А вот я хочу!
Но Пол с Клэр молчат. Аппарат искусственной вентиляции пыхтит, разнося по палате флюиды разочарования.
– Ну ладно, – говорит Клэр, – уже поздно, я, пожалуй, пойду. Если хочешь, могу тебя подвезти. Или привезти тебе сюда чистую одежду и туалетные принадлежности? Только для этого мне понадобятся ключи.
Не давай ей ключей.
– Я съезжу домой, но через пару часов вернусь обратно.
– Тебе надо отдохнуть.
– Мне надо быть рядом с Эмбер.
– Как хочешь.
Клэр целует меня в щеку, ноздри щекочет запах ее мятного шампуня. Интересно, как теперь выглядят мои волосы, которые я уже давным-давно не мыла? Пол тоже меня целует и вытаскивает из ушей миниатюрные наушники. Мне не хочется, чтобы он уходил, но вот за ним закрывается дверь, я остаюсь наедине с тишиной и медицинской аппаратурой, на меня наваливается хандра. Вдруг створка опять открывается, я решаю, что Пол передумал и вернулся, однако это не он.
– Привет, Эмбер, – произносит мужской голос.
Я слышу, как щелкает замок, и знаю, что это он – тот самый мужчина, который уже приходил сюда и удалил из моей голосовой почты сообщения.
– Я только что столкнулся с твоим мужем. Довольно неряшливый тип, и что ты в нем нашла? Коллеги говорили, мы тебя чуть не потеряли. Но поскольку ты все же нашла дорогу назад, ничего страшного не произошло.
Коллеги.
Он что, здесь работает?
– Тебе известно, что наши препараты для искусственной комы используют в Америке для смертной казни? Так что я страшно удивлен, что ты все еще тут лежишь – такая доза определенно должна была тебя убить. Неправильно рассчитал, как видишь.
Такого просто не может быть, все это происходит не со мной. Очнись. ОЧНИСЬ!
– Все мы совершаем ошибки, важно лишь уметь извлекать из них уроки. С этого момента я буду присматривать за тобой лучше.
Это не сон.
– Пожалуйста. Я знаю – будь у тебя такая возможность, ты бы меня поблагодарила.
Я знаю этого человека.
Он гладит меня по лицу.
Теперь я его вспомнила.
Он склоняется ко мне, целует и проводит языком по щеке, будто пробуя кожу на вкус. У меня внутри все сжимается. Он отводит в сторону дыхательную трубку, целует меня в губы, засовывает в рот язык, от прикосновения к моим зубам его собственные издают тихий скрежещущий звук. Его руки скользят по моему телу и сжимают под больничной сорочкой грудь. Потом он отстраняется от меня и кладет в той же позе, в какой я лежала, когда он пришел.
– Да, ты права, не будем торопиться, – говорит он и выходит из палаты.
Недавно
Четверг, 22 декабря 2016 года, вечер
Я иду туда не потому, что Пол вечером опять не вернулся домой. И не потому, что из его шкафа пропал пакет с черным кружевным бельем – этому вполне можно найти логичное объяснение. Я иду туда, потому что так хочу и потому что в этом нет ничего такого. Очень многие поддерживают со своими бывшими дружеские отношения, это совсем ничего не значит, и я не делаю ничего плохого. Я прокручиваю эти слова в голове до тех пор, пока сама не начинаю в них верить. Каждый шаг словно ведет меня куда-то не туда, но я все равно продолжаю двигаться по избранному пути.
На Саут-Бэнк царит оживление, лица светятся чужеродными улыбками. В лунном свете вальсирует Темза, змеясь вдоль берегов, вдали величественно возвышаются небоскребы. Мне нравится смотреть на этот город ночью, в темноте не видны ни его грязь, ни скорбь.
Войдя в бар, я сразу же замечаю его, каким-то странным образом после всех этих лет его фигура кажется привычной. Он сидит ко мне спиной, но я вижу, что его рука уже сжимает стакан. Еще не поздно. Я все еще могу просто развернуться и уйти, забыв обо всем, что так и не произошло.
Это же всего лишь дружеские посиделки.
Ноги на каблуках будто прирастают к полу, к горлу подступает тошнота, призывая меня бежать. Увидев неоновую вывеску туалета, я, опасаясь не успеть, расталкиваю любителей выпить после работы. Но стоит мне оказаться в кабинке, дурнота тут же проходит, скорее всего, это просто нервы. Я мою руки. Не знаю почему, ведь они чистые. Беру бумажное полотенце и насухо их вытираю, сосредоточенно глядя на обручальное кольцо на левой руке. Делаю глубокий вдох, выдыхаю и смотрю на себя в зеркало, радуясь, что меня сейчас никто не видит. Глаза в отражении кажутся уставшими и далекими, но в целом впечатление ничего. Мое новое маленькое черное платье сидит отлично, выгодно подчеркивая тело, давно забывшее, что такое уход, а каблуки, хоть и неудобные, добавляют уверенности. Я укротила непослушную копну каштановых волос, накрасила лицо и ногти. Не знаю, почему это для меня так много значит, но мне хочется предстать перед ним во всей красе.
Чтобы подбодрить собственное отражение в зеркале, я улыбаюсь, но оно отвечает мне без особого энтузиазма. Мое лицо принимает повседневное выражение. В этот момент дверь распахивается, покой и тишина, обволакивавшие меня и вносившие в душу успокоение, разлетаются вдребезги. Пространство вокруг заполняет хаос бара, высасывая из небольшого помещения весь воздух. Стараясь мысленно отгородиться от грохота, я хватаюсь за раковину, побелевшие костяшки указывают в сторону выхода. Внутрь вваливаются две женщины, явно навеселе, хохоча над какой-то неведомой мне шуткой. Выглядят моложе меня, хотя я подозреваю, что мы с ними примерно одного возраста. Короткие юбки, алые губы и бумажные колпаки на головах напоминают мне, что скоро Рождество, хотя это для меня больше ничего не значит. Они болтают достаточно громко, чтобы заглушить голоса в голове, призывающие меня уйти, поэтому я делаю глубокий вдох и направляюсь к стойке.
Останавливаюсь рядом с ним и вдыхаю его запах, такой знакомый и запретный. Он будто совсем меня не видит.
– Бокал «Мальбека», пожалуйста, – говорю я бармену.
Боковым зрением вижу, что голова Эдварда поворачивается, а его глаза по привычке словно вбирают меня всю, с головы до ног.
– Привет, Эдвард, – говорю я и поворачиваюсь к нему, усиленно стараясь не выдать охватившего меня волнения ни голосом, ни выражением лица.
Он в ответ тоже мне улыбается. Если меня время изменило, то его пощадило. За эти десять лет он будто даже стал лучше. Помимо своей воли я любуюсь его загорелой кожей, белыми зубами и озорными карими глазами, которые при виде меня словно приплясывают от восторга.
– Мне то же самое, и еще одну пинту эля «Эмбер» – не могу пройти мимо такого названия.
Он вынимает из кожаного бумажника новенькую, хрустящую двадцатифунтовую банкноту и кладет ее на стойку. Белая хлопковая рубашка, изо всех сил пытающаяся скрыть и удержать выпирающие из-под нее мышцы, кажется слишком тесной. Когда мы были студентами, он вечно пропадал в спортзале и явно не забыл туда дорогу и сейчас.
– Стало быть, ты пришла, – говорит он.
– Да, – отвечаю я.
Он смотрит на меня слишком пристально, и мне приходится сделать над собой усилие, чтобы не отвести взор.
– Я рад тебя видеть.
Под его взглядом я внутренне сжимаюсь. Бармен приносит долгожданное вино.
– Этим вечером у меня была пара свободных часов, и мне подумалось, что было бы здорово поболтать о жизни, – говорю я.
– Пара часов? Это все, что у меня есть? – отвечает он, передавая мне бокал.
– Нет, я могу уделить тебе лишь десять минут, потом у меня еще одно свидание с очень классными ребятами.
Он улыбается, на долю секунды позже, чем надо, и переспрашивает:
– Еще одно свидание? – Я заливаюсь краской смущения. – Понятно. Тогда мне нужно извлечь максимальную пользу из того времени, что ты мне выделила. Твое здоровье!
Он поднимает бокал, чокается и пьет, не сводя с меня глаз. Я первая отвожу взгляд и выпиваю явно больше вина, чем следовало.
Мы быстро настраиваемся на общую волну. Алкоголь обильно смазывает шестеренки разговора, и то, и другое теперь льется совершенно свободно. Несмотря на все эти годы, в его компании я чувствую себя естественно и легко. За три дня до Рождества в баре не протолкнуться, что по идее должно вызывать дискомфорт, но я этого даже не замечаю. Толпа незнакомцев вокруг нас то и дело обновляется, мягко ограждая меня от болезненных воспоминаний о нашем прошлом. Я отвечаю на улыбки, комплименты и легкие прикосновения Эдварда, прекрасно понимая: чтобы распороть ткань моей нынешней жизни, достаточно одной маленькой прорехи. После второго бокала в голове явно шумит больше, чем допускают пределы благоразумия. Сегодня мне так и не удалось толком поесть.
– Не знаю как ты, а я умираю от голода, – говорит он, будто читая мои мысли, – может, быстренько где-нибудь перекусим?
Я обдумываю его предложение. Мне весело и хочется есть. Я не делаю ничего плохого. Ищу повод отказаться – надо сказать, совсем недолго, – но так и не нахожу.
– Если недалеко, – отвечаю я.
– Отлично, – говорит он, встает и помогает мне надеть пальто.
Когда мы, пробившись сквозь плотный строй посетителей бара, подходим к двери, он открывает ее и придерживает передо мной.
– Только после вас.
Я давно забыла, что означает проводить время с настоящим джентльменом. Такое ощущение, что ко мне вернулся кто-то из моего собственного прошлого.
Воздух отрезвляюще холоден, но Эдвард говорит, что знает неподалеку неплохое местечко. Я давно разучилась расхаживать на каблуках по мощенным булыжником улицам. Когда я спотыкаюсь во второй раз, он берет меня под руку, не встречая с моей стороны ни малейшего сопротивления. Мы, конечно же, выглядим как пара влюбленных, ну и ладно. Он подводит меня к дому, по виду напоминающему жилой таунхаус, выпускает мой локоть и стучит в пугающе черную дверь.
– Что ты делаешь? – шепчу я, чувствуя себя как школьница.
– Ищу нам что-нибудь поесть. Или ты уже не голодна?
Не успеваю я ничего ответить, как большая стеклянная дверь распахивается, и на пороге вырастает средних лет господин в черном костюме. Непропорционально высокий, будто вытянутый чьей-то могучей рукой вверх, с лицом человека, которому в своей жизни довелось услышать много грустных новостей.
– У вас столика на двоих случайно не найдется? – спрашивает Эдвард.
К моему изумлению, господин согласно кивает:
– Разумеется, сэр, сюда, пожалуйста.
Следуя за привратником по мраморному полу длинного коридора, я чувствую себя будто Алиса в Стране чудес. Затем бросаю через плечо взгляд, желая убедиться, что Эдвард никуда не делся. Он, похоже, очень доволен собой, и я начинаю подозревать, что все это – часть его плана на сегодняшний вечер. Я не против, он же не насильно меня сюда притащил. Мы поворачиваем направо и через небольшую дверь попадаем в просторный, освещенный свечами зал, где нас подводят к единственному свободному столику. За другими сидят четыре пары, не удостаивающие нас даже взглядом.
– Я принесу винную карту, сэр, – говорит господин в костюме, унося нашу верхнюю одежду и скрываясь в прикрытом пологом дверном проеме.
– Впечатляет…
Это все, что я могу сказать.
– Спасибо. Мне здесь нравится. Только для постоянных членов.
Своими загорелыми руками он берет со стола белую льняную салфетку, аккуратно ее разворачивает, будто Туринскую плащаницу, и кладет на колени. То же самое делаю и я, после чего спрашиваю себя, что же нам никак не несут винную карту. Я волнуюсь, что без вина мы уже исчерпали все интересные темы для разговора.
– Как твоя новая работа? – спрашиваю я.
– Отлично. Можно даже сказать – замечательно. Предполагалось, что это будет временный проект, но потом мне предложили постоянный контракт, и я решил остаться.
– Поздравляю, а что за больница?
– Короля Альфреда.
– Недалеко от моего дома, – говорю я.
Он улыбается.
– А твоя девушка, она тоже работает в Лондоне?
– Да, но только в центре. С моими дежурствами и ее графиком мы видимся далеко не так часто, как хотелось бы. Меню как такового, боюсь, здесь не предлагают, дают что есть, но кормят всегда вкусно.
– А если мне не понравится то, что дадут?
– Уверен, что понравится.
Я слушаю рассказ Эдварда о его работе. Он всегда хотел стать врачом, и вот теперь его мечта сбылась. Думаю, это была одна из тех сторон, которые привлекли меня в нем, когда мы познакомились. Эдвард жаждал помогать людям и спасать их. Теперь он из скромности говорит об этом коротко, то и дело давая мне самой возможность рассказать о себе. По сравнению с ним моя жизнь выглядит поверхностной и пустой. Я никого не спасаю, а дело свое делаю, чтобы помочь не кому-то, а себе.
Блюда, подобного тому, которое нам принесли, мне не приходилось есть уже очень давно, но как только мой бокал опять наполняется вином, я, не в состоянии удержаться, вновь пытаюсь испортить этот восхитительный вечер.
– Твоя девушка знает, что ты сегодня выпиваешь с бывшей? – спрашиваю я.
– Конечно! А что, твой муж нет?
Я молчу, Эдвард смеется. Мне это совсем не нравится.
– С тех пор утекло много воды, каждый из нас проделал в жизни большой путь и вырос, – добавляет он.
Я чувствую себя старой дурой с истекшим сроком годности.
Увидев, что он отказался от десерта, следую его примеру. Пока он говорит, я, помимо своей воли, вспоминаю времена, когда мы были вместе. Тогда ему трудно было держать руки при себе, находясь рядом со мной, но ведь с тех пор прошло десять лет. Он, может, и не изменился, а вот я да. В новой одежде и с макияжем я все равно старая, не та девушка, которую он помнит.
– Я провожу тебя до Ватерлоо, – говорит он.
– В этом нет необходимости, я прекрасно доберусь сама.
– Ты – да, но я живу здесь недавно, могу заблудиться, поэтому твоя компания будет мне очень кстати.
Выйдя из ресторана, он подставляет мне локоть, и я не вижу ничего плохого в том, чтобы взять его под руку. Ладонь через пальто ощущает его тепло, и по дороге до станции я то и дело вижу, как женщины бросают на него заинтересованные взгляды. Проходя через главный вестибюль вокзала, я утомленными глазами оглядываю табло с информацией об отходящих поездах, опасаясь не успеть на последний и не уехать домой.
– Мне на тринадцатую платформу. Спасибо за приятный вечер.
Я целую его в щеку.
– Как-нибудь надо будет повторить.
– С удовольствием, – отвечаю я, не уверенная до конца, что действительно буду этому рада.
Он берет меня за руку, и на долю секунды меня охватывает чувство неловкости.
– Мне надо идти, – говорю я, пытаясь высвободить пальцы.
– Не надо. Пойдем еще куда-нибудь выпьем по последнему бокалу. Ты же можешь уехать и на следующем поезде…
– Я правда не могу, этот, кажется, последний.
– Тогда оставайся со мной. Мы можем снять номер в одном из лучших отелей Лондона.
Он еще сильнее сжимает мою ладонь, и в его взгляде мелькает отблеск, давно вычеркнутый мной из воспоминаний. Я вырываю руку.
– Эдвард, я замужем.
– Ты несчастна. Иначе ты не была бы здесь.
– Неправда!
– Неужели? Я тебя хорошо знаю.
– Та версия Эмбер, которую ты знал, устарела много лет назад.
– Не думаю. Мы оба тогда все испортили, но теперь можем начать все сначала. Тогда я не понимал и не ценил того, что у меня было, зато понимаю теперь и очень хочу все вернуть. Ты, вероятно, тоже. Поэтому ты и пришла.
– Прости, если ввела тебя в заблуждение. Мне пора.
Я ухожу. Мне не надо оборачиваться, чтобы убедиться, что он по-прежнему стоит и смотрит мне вслед и что я только что совершила большую ошибку.
Давно
Среда, 14 октября 1992 года
Дорогой Дневник,
Вчера мне исполнилось одиннадцать лет. У Тэйлор тоже был день рождения, но мы провели его по отдельности. Это был стопудово самый худший день рождения в моей жизни. Все пошло наперекосяк, и я ничего не могу исправить. Очень быстро все стало ужасно, а потом постоянно становилось еще хуже. Но я не виновата, правда не виновата.
Накануне я легла спать в браслете Тэйлор, том самом, золотом, на котором выгравирована дата нашего рождения. Глупо, конечно, но таким образом она как бы была со мной рядом, и это делало меня счастливее. Утром я так волновалась от радостного нетерпения, что забыла его снять перед тем, как спуститься вниз. Какая глупость с моей стороны.
Мама велела мне сначала поесть и только потом смотреть подарки. Она только и думает, что о еде, и опять растолстела – до такой степени, что даже сделала кухонными ножницами несколько надрезов на талии лосин, потому что они стали ей слишком узки. Она увидела браслет, когда я потянулась за хлопьями, и сначала просто спокойно спросила, что это и откуда он у меня. Посмотрела на надпись и прочла ее вслух: «Моей обожаемой девочке». В день своего рождения мне совсем не хотелось неприятностей, поэтому я просто сказала, что это подарок мамы Тэйлор.
Это была такая мелкая и безобидная ложь, к тому же я пообещала Богу, что если он существует и сделает так, что мама обо всем забудет, то я на следующий же день верну браслет. Но Бога либо нет, либо в тот момент он меня не слушал. Мама будто с цепи сорвалась. Даже папа, взявший больничный и оставшийся дома, сказал, что она приняла все слишком близко к сердцу, но сделал только хуже. Мама приказала мне его снять, и я сделала вид, что вожусь с застежкой. Потом она отошла от меня, и я уже было решила, что все позади, но она вдруг направилась в противоположный угол кухни и сняла трубку висевшего на стене телефона.
Папа насыпал мне в тарелку хлопьев, но я не могла их есть, зная, что мама звонит Тэйлорам, и понимая, что все закончится очень плохо. Хлопья хрустели, а мама шипела в трубку. Иногда сложно понять разговор, если слышно только одного собеседника, а иногда у тебя получается додумать ответы и ты как будто бы слышишь все, без пропусков. Она сказала маме Тэйлор, что мы вернем ее подарок. Что мама Тэйлор не должна тратить на меня больше денег, чем наша семья может себе позволить, и что только родители должны решать, носить их ребенку драгоценности или нет.
Я не ребенок.
Потом мама замолчала. Разговор как будто бы был закончен, но она все еще прижимала к уху трубку, туго намотав на пальцы красный провод. Потом подняла на меня глаза, и по ее взгляду я поняла: она знает, что я солгала. Безобидная это ложь или нет, теперь не имело никакого значения. Ее рот открылся, будто она целую вечность безмолвно пыталась произнести букву «О». Потом она сказала «до свидания» и «извините», и я поняла, что все плохо. Мама положила трубку и очень спокойным голосом велела мне не врать. Потом спросила, украла ли я этот браслет у Тэйлор.
Я сказала «нет».
Иногда я лгу. Все иногда лгут.
Мама велела мне его снять. Я покачала головой, она направилась в мою сторону, я вскочила и побежала. На трезвую голову мама бегает очень быстро, хотя она себя и запустила. В дни спортивных состязаний она уже дважды занимала первое место в забеге среди родителей, но догнать меня ей удалось только на верхней ступеньке лестницы. Брызгая слюной, она заорала, чтоб я прекратила врать, а потом еще раз спросила, украла ли я браслет. Когда я снова попыталась сказать «нет», она очень сильно ударила меня по щеке. Мама кричала на меня, папа стоял внизу и кричал на маму. Потом она схватила меня за запястье и сорвала с руки браслет.
Сделанный из тонкой золотой пластины, он хрустнул и упал на пол.
Сломать его оказалось проще простого.
Я не собиралась делать того, что сделала потом. Я просто хотела, чтобы она отстала и перестала портить мне жизнь, поэтому я ее толкнула.
Я не хотела, чтобы она свалилась с лестницы, это вышло случайно.
Время будто замедлилось, а когда мама упала на спину, ее маленькие, злые глаза широко распахнулись. Она упала у нижней ступеньки и больше не двигалась. В доме стало тихо. Сначала я подумала, что она умерла. Я не знала, что теперь делать, и видела, что папа тоже не знал – он просто стоял и стоял, глядя перед собой, и казалось, что это длится очень долго. Потом она застонала, и это было чудовищно. Это был совершенно не мамин голос, хотя звук явно исходил от нее. Папа казался очень перепуганным и сказал, что вызовет «Скорую», но мама сказала, что быстрее будет доехать до больницы на машине. Я подумала, что она может и не завестись, но надеялась, что все же заведется. Папа помог маме подняться, она все стонала и что-то бормотала о ребенке.
Я не ребенок, мне одиннадцать лет.
Они ничего мне не сказали, не попрощались и даже не оглянулись. Просто вышли, сели в машину и уехали.
Я подняла сломанный браслет и спустилась на первый этаж.
На ковре, в том месте, где мама упала, расплылось ярко-красное пятно крови. Судя по всему, она здорово поранилась. Я прошла на кухню, сняла трубку телефона и нажала кнопку вызова последнего набранного номера. Хотела поздравить Тэйлор с днем рождения, но мне никто не ответил. На плите стояло блюдо с моим праздничным тортом. Буся испекла бы что-нибудь сама, но мама просто купила торт в супермаркете. Он был розовый, сверху стояла глазурная фигурка танцовщицы, которая напомнила о шкатулке Тэйлор, и мне захотелось плакать. Я прислонилась к плите и случайно нажала какую-то кнопку. Увидев сноп искр, я в испуге отпрянула. Мне же запрещено трогать плиту! Хотя это тупость, потому что без спичек все равно ничего зажечь нельзя, Буся при мне сто раз так делала. Я снова и снова нажимала кнопку поджигания – просто потому, что никто не мог меня остановить.
Наступило время обеда, а я еще даже не завтракала. К этому моменту хлопья в тарелке совсем размякли, но есть хотелось, так что я открыла верхний ящик и взяла из него самый большой нож, какой только смогла найти. Потом отрезала себе огромный кусок торта и съела его за кухонным столом, измазав все пальцы. Предварительно я подула на него, хотя никакой свечи в нем не было, и загадала желание. Его обязательно надо хранить в тайне, иначе оно ни за что не сбудется.
Покончив с тортом, я взглянула на небольшую горку подарков и решила, что если распечатать их в отсутствие родителей, мама рассердится на меня еще больше. Я посмотрела только одну открытку, потому что на конверте был почерк Тэйлор. Там было всего несколько слов:
С Днем рождения!
Любящая тебя Тэйлор
Под ее именем были нарисованы два зеленых кружочка с улыбающимися рожицами. В этот момент я действительно расплакалась, по щекам покатились крупные слезы, которые никак нельзя было сдержать. Не думаю, что нам и дальше позволят оставаться двумя горошинами в стручке.
Сейчас
Пятница, 30 декабря 2016 года
– Ты уже здесь? – спрашивает Пол.
– Мне так и не удалось уснуть, – отвечает Клэр.
– Как и мне.
Мне тоже, эта бессонница, похоже, заразительна.
– Я, пожалуй, пойду, чтобы вы немного побыли вместе.
– Нет, останься. Если, конечно, хочешь. Я не против.
Проходит час за часом, а они сидят, не говоря ни слова. В палату заглядывают медсестры, ворочают меня с боку на бок, но картина остается неизменной. Мне хочется рассказать им о мужчине, который во сне берет меня в заложницы. Не уверена, что они мне поверили бы, даже если бы у меня была такая возможность. Теперь я вспомнила, кто он, но до сих пор не знаю, почему он со мной так поступает, я ведь всего лишь сказала «нет».
Муж и сестра сидят по обе стороны больничной койки, мое истерзанное тело проводит между ними границу. Бесконечные минуты и часы, жертвами которых мы втроем стали, подернуты молчаливой пеленой невысказанных слов. Я чувствую, как они образуют собой высокие стены, каждая новая буква, каждый слог громоздится на предыдущие, выстраивая шаткий дом из вопросов, на которые нет ответа. Их скрепляет раствор вязкой лжи. Если бы вокруг не было столько лжи, стены давно бы обрушились. Но мы сами выстроили вокруг себя тюрьму.
Сегодня Пол не берет меня за руку и не включает музыку. Переворачиваются страницы, безостановочно летит время, каждый момент которого отмечен усилиями аппарата вентиляции, теперь дышащего за меня. Наконец тишина в палате сгущается до такой степени, что кому-то из нас просто необходимо ее разогнать. Я этого сделать не могу, Клэр не хочет, поэтому эта роль достается Полу.
– Это была девочка.
Эти три слова бьют меня под дых, прошибая дыру в безмолвном существовании, к которому мы так привыкли.
Это была девочка.
Я была беременна.
Это была девочка.
В прошедшем времени.
Это была девочка.
Я уже не беременна.
Теперь, когда ко мне вернулись воспоминания, они мне не нужны. Пусть уходят.
Во мне жил и рос ребенок, но я убила его своими ошибками, а теперь даже не могу вспомнить, в чем они заключались. Зато хорошо знаю, что в итоге потеряла.
– Вы всегда можете попытаться еще, – говорит Клэр.
По правде говоря, мы и не пытались. Мы давно сдались.
Этот ребенок появился случайно.
Он был прекрасной, чудесной случайностью, которую мы бездарно просрали.
Я представляю, как Клэр обнимает Пола и прижимается к нему, чтобы утешить. Даже мое горе о потерянном ребенке больше мне не принадлежит, она и его у меня отняла. Эта мысль поднимает во мне волну ревности и гонит ее по всему неподвижному телу. Мои страдания тянут меня вниз, внутрь моего худшего «я».
Я бы ее сохранила.
И мы бы все ее любили.
Но теперь потеряла. Как и всех остальных.
В палату, распространяя запах чая, входит Северянка. Она даже не догадывается, что оборвала разговор, в котором мне практически ничего не дано понять. Я чувствую, что вся моя ненависть сосредотачивается на ней, но она ничего не замечает и хлопочет, как будто конец света не наступил.
Убирайся и оставь меня в покое!
Я проваливаюсь в пустоту, контакт с реальностью слабеет. Меня пичкают какой-то дрянью, которая змеится под кожей, парализует мозг и выдавливает из меня жизнь. В какой-то момент в голову приходит мысль, что сейчас было бы неплохо умереть, просто уснуть навсегда и больше никогда не просыпаться. Если я уйду, никто не станет по мне тосковать, возможно, наоборот, все почувствуют облегчение. Мне кажется, из моих глаз катятся слезы, но сестра все так же протирает мое лицо, ничего не замечая. Она не так деликатна, как остальные. Может, прекрасно видит всю грязь, которая скрывается у меня под кожей. Влажная ткань шлепает меня по лицу, и я открываю глаза.
Они стоят надо мной – все в черном. Я лежу не на больничной койке, а в открытом гробу. Здесь собрались все: Пол, Клэр, Джо и даже он. Он бросает на меня лопатой землю, и я совершенно не понимаю, почему ему никто не помешает. Земля падает мне на волосы, набивается в рот, попадает в глаза.
Я кричу им его остановить, но они не обращают внимания, не в состоянии меня услышать.
Я не умерла.
Он улыбается, потом склоняется над гробом и шепчет мне на ухо:
– Нет, умерла! Но не переживай, ты будешь не одна.
Потом берет на руки девочку в розовом халате и кладет рядом со мной. Она обнимает меня ручками за талию. Гроб зарывается все глубже в землю, и вокруг становится темно. Я начинаю плакать, она начинает петь.
Тихая ночь, дивная ночь, мирно и ясно кругом[8].Она показывает на беззвездное небо, и я долго смотрю на луну.
Мать и дитя, Мария и ХристосДевочка прижимается ко мне сильнее.
Дремлют, объятые сном.Она поворачивается ко мне и подносит палец к тому месту, где должны быть губы. «Тссс».
Спи вечным радостным сном. Спи вечным радостным сном.Девочка протягивает руку, дергает за невидимую веревочку, с таким же звуком, как в моей ванной комнате, щелкает выключатель, луна гаснет, и мы погружаемся в неумолимый мрак. Потом на нас еще быстрее начинают сыпаться комья земли. Я опять кричу, чтобы они прекратили, но они, даже если и слышат, не слушают. Яма слишком глубока, чтобы из нее выбраться, но мне все равно надо что-то предпринять. Я царапаю земляные стены, пытаясь хоть за что-то зацепиться, впиваюсь ногтями в грязь. Начинается дождь, вода вперемешку с землей заливает меня сплошным потоком грязи до тех пор, пока я не сдаюсь и не сворачиваюсь калачиком. Я прячусь в собственном страхе и превращаю его в свой дом. У ног падает монета, будто я оказалась на дне колодца, у которого люди загадывают желания. Обе стороны монеты гладкие, без изображении.
– Если хочешь отсюда выбраться, просто укажи на выход, – говорит девочка.
Теперь она стоит надо мной, в ее спутанных волосах виднеются комья грязи. Проследив за ее взглядом, я вдруг вижу в грязной жиже у ног светящуюся зеленую вывеску аварийный выход.
– Когда захочешь наружу, просто покажи, и все, больше от тебя ничего не требуется.
Я опускаю глаза на вывеску, наполовину уже покрытую грязью, и пытаюсь на нее показать, но не могу пошевелить рукой. Вспыхивает боль, я опять кричу и плачу. Потом появляется кровь. Она капает на вывеску аварийного выхода, на мою больничную сорочку, на руки. Я зажимаю их между ногами, пытаясь остановить извергающуюся из меня жизнь. Закрываю от боли глаза, а когда открываю их и смотрю вверх, вижу перед собой лишь лицо Клэр. Девочка берет меня за руку и помогает ткнуть пальцем в знак у моих ног. Это отнимает у меня последние капли сил.
– Ты видел? – доносится издалека голос Клэр.
– Что? – спрашивает Пол.
– Смотри! Ее рука… она показывает куда-то пальцем.
– Эмбер, ты слышишь меня?
– И что это значит?
– Это значит, что она все еще с нами.
Недавно
Пятница, 23 декабря 2016 года, утро
Я сливаю воду и вытираю рот тонкой полоской грубой туалетной бумаги. Тру губы больше, чем надо, проводя по коже жесткими, шероховатыми краями. Даю себе время немного отдышаться, радуясь, что никто из коллег не видит меня в таком неприглядном виде. Это последний перед рождественскими каникулами эфир, еще один день – и все. Несколько часов я еще вполне могу пережить. Достаю из сумочки мятную жвачку и сую ее в рот. Я отлично умею маскировать похмелье, но у меня не оно.
Утром в поезде я проверила свой календарик. Тринадцать недель, а я даже ничего не заметила. Мы занимаемся этим не особенно часто, поэтому я думала, что уже ничего никогда не получится. Подумать только, столько времени мы бились, а теперь, когда я махнула на все рукой, – теперь я беременна. Это совершенно невероятно, и все же я убеждена, что так и есть. Купить после работы тест на беременность – вот что надо будет сегодня сделать. Я убеждена, что уже все знаю, но все-таки необходимо удостовериться.
До меня не доносится ни звука, поэтому я опять спускаю воду и открываю дверь кабинки. Думаю, что в туалетной комнате кроме меня никого нет, но это не так.
– Вот ты где. С тобой все в порядке? – спрашивает Мадлен.
Щеки заливаются румянцем. Я никогда раньше не видела ее в туалете, здесь она как-то не к месту. Я всегда представляла, что у нее под столом стоит стульчак или что-то в этом роде.
– Что у тебя с головой? – спрашивает она, глядя на мой лоб.
Я смотрю в зеркало и приглаживаю пальцами прядь волос, пытаясь скрыть синяк.
– Ничего страшного. Вчера вечером вернулась домой поздно и обо что-то ударилась в темноте в прихожей.
Хотя я сказала чистую правду, от этих слов во рту все равно остается неприятный привкус.
– Вернулась поздно, говоришь? Топила в вине тоску?
Я открываю кран, мою руки и ничего не отвечаю.
– Ну что же, это все же лучше, чем такое вот недомогание по утрам. Если женщине что-то и может испортить карьеру, так это беременность!
Я никак не реагирую, лишь снова и снова мою руки. Она выглядит как-то иначе, будто только что порвала в клочья привычный сценарий и стала импровизировать. У меня не получается ей подыгрывать – отрепетированные реплики теперь теряют всякий смысл. Я закрываю кран, беру бумажное полотенце и поворачиваюсь к ней. Иногда молчание полностью тебя выдает, но заговорить я просто не в состоянии.
– Я рада, что застала тебя здесь.
Мне хочется бежать. Сердце колотится с такой силой, что можно не сомневаться: она его слышит.
– Я должна быть уверена, что этот разговор останется между нами, – продолжает Мадлен, будто мы с ней старые друзья, замышляющие против кого-то козни, и мне можно доверять.
Я по-прежнему не могу выдавить из себя ни слова и просто киваю. Она лезет в сумочку и вынимает из нее несколько красных конвертов.
– Я хочу знать, что тебе об этом известно.
Я опускаю на них взгляд. Потом смотрю ей в глаза.
– Что это? Рождественские открытки?
– Нет. Тебе, должно быть, известно, что кто-то распространяет обо мне в Интернете слухи. Кроме того, на этой неделе мне прислали несколько писем с угрозами – и на работу, и домой. Я уверена, что это все как-то связано, поэтому я хочу знать, не заметила ли ты чего-то необычного. Или, может, чье-нибудь поведение показалось тебе странным.
– Нет, думаю, что нет.
– А ты сама ничего такого не получала?
– Нет, – улыбаюсь я. Себе я ничего отправлять и не собиралась.
– Мне не до шуток, это очень серьезно. По моему убеждению, человек, который стоит за этими письмами, работает здесь.
В этот момент до меня доходит, что же в ней так изменилось. Вот так Мадлен выглядит, когда напугана, просто раньше мне не приходилось видеть ее в таком состоянии.
Она берет верхний конверт и добавляет:
– Вот это письмо я получила последним, его положили мне на стол до того, как я пришла в офис.
– Что в нем?
– Неважно.
Между нами повисают невысказанные слова.
– Вы рассказали об этих письмах Мэтью? – спрашиваю я.
– Пока нет.
– Думаю, он должен быть в курсе.
Она оглядывает меня с головы до ног, поворачивается, чтобы уйти, и говорит:
– Увидимся в студии.
Я еще немного задерживаюсь в туалетной комнате и опять мою руки.
Во время эфира я внимательнее присматриваюсь к Мадлен. Я ненавижу ее, но работу свою она делает просто замечательно, даже если и не заслуживает здесь находиться. Изучаю ее лицо, снова пытаюсь и не могу отыскать в ее лице знакомые черты. Когда я, извинившись, прошу разрешения отойти, она согласно кивает, будто понимая, как я себя чувствую, будто ей до этого есть какое-то дело. Я выбегаю, оставив в студии мобильник. Вслед за мной в туалетную комнату приходит Джо, посмотреть, все ли со мной в порядке. Брызгает мне в лицо водой, от чего мне становится немного легче.
– Тебе надо продержаться до конца передачи, осталось совсем немного. Ты у нас молодчина, так что все будет хорошо, – говорит она.
Мне очень хотелось бы ей верить. Хотелось бы, чтобы эти слова были настоящими. Она возвращается в студию без меня, давая время перевести дух. На обратном пути я ненадолго задерживаюсь у стола Мэтью. Когда мы выходим в эфир, в офисе не остается никого, и свой телефон он оставляет на рабочем месте. На него вряд ли кто позарится – модель настолько древняя, что даже не требует пароль. Мне требуется не больше тридцати секунд, чтобы отправить смску и удалить ее из списка исходящих сообщений.
Когда я возвращаюсь, в эфире, примерно на половине, звучит записанный заранее рождественский репортаж. Микрофоны выключены, так что пара минут у меня есть.
– Вид у тебя совсем неважный. Если хочешь, иди, я закончу без тебя, – говорит Мадлен.
– Нет-нет, я в порядке, спасибо, – отвечаю я и занимаю свое место.
На экране моего телефона горит иконка непрочитанного СМС-сообщения, которое я только что сама отправила с аппарата Мэтью.
На следующей неделе ужинаем с новой ведущей, столик зарезервирован. М.
Один-единственный взгляд на Мадлен говорит, что оно не ускользнуло от ее внимания. Я с виноватым видом улыбаюсь и вижу, что ее шея и грудь багровеют, будто опаленные волной гнева.
Радиослушатели, дозвонившиеся в студию, рассказывают, как их семьи намерены отметить Рождество. Я терпеливо выслушиваю Кейт из Кардиффа, которой не хочется ехать к свекрови, и Энн из Эссекса, которая целый год не общалась с братом и не знает, что ему дарить. Какая же это все… У них нет никаких реальных проблем. Жалкие создания. Когда Мадлен пускается в рассуждения о том, как важно уметь прощать, к горлу опять подкатывает тошнота.
– Рождество надо праздновать с близкими, какими бы они ни были, – вещает примадонна, и я прилагаю все усилия, чтобы не выплеснуть содержимое желудка прямо на стол студии.
Ей-то откуда знать? У нее нет никаких родных.
Когда шоу наконец подходит к концу, я чувствую себя вконец измочаленной, но при этом понимаю, что сегодня мне еще предстоит много работы. Это мой последний шанс, и я только приступила.
Мадлен не особенно любит смотреть телевизор, но единственная вещь, которая доставляет ей больше удовольствия, чем звук ее голоса по радио, это ее изображение на экране. В качестве представителя благотворительной организации «Дети кризиса» она обязана периодически давать интервью, и сегодня у нас как раз такой случай. Та самая новостная телепередача, где я когда-то работала репортером, решила побеседовать с Мадлен о том, как дети из необеспеченных семей проводят Рождество.
Для этого потребовалось совсем не много: один-единственный телефонный звонок, якобы от той самой благотворительной организации, с предложением поговорить с их прославленной представительницей, да мобильный номер ее личной помощницы – на тот случай, если канал проявит к этому интерес. Потом все получилось само собой.
Внизу на улице уже ждет огромный фургон со спутниковыми тарелками. Выглянув в окно, я вижу, что возле здания, рядом с наряженной елкой, уже стоит камера на штативе. По окончании разбора полетов мы спускаемся вниз.
– Сколько времени это займет? – гавкает Мадлен одному из инженеров.
– Немного, всего лишь поймать спутник да включить микрофон, – отвечает Джон, один из моих бывших сослуживцев.
Потом поворачивается, видит за ее спиной меня, и его лицо озаряется широкой улыбкой.
– Эмбер Рейнольдс! Как ты? Я слышал, ты теперь работаешь здесь.
Он меня обнимает, удивляя столь теплым проявлением чувств. Я тоже улыбаюсь, стараясь не выказывать охватившего меня смущения. Обнимать его в ответ желания нет, все, что мне хочется, это чтобы он меня быстрее отпустил.
– Спасибо, у меня все хорошо. Как у тебя? – отвечаю я, когда он наконец ослабляет хватку.
Что-то на это ответить Джон не успевает.
– А ты почему здесь? У тебя брать интервью никто не собирается! – произносит Мадлен, глядя в мою сторону.
– Мэтью попросил сходить с вами.
– Ну конечно.
Улыбка Джона блекнет. Он работает на телевидении больше тридцати лет и повидал не одну такую Мадлен. Знаменитости перестают впечатлять, когда у тебя на глазах ведут себя по-хамски.
– Я сейчас… надо только…
Джон возится с микрофоном, но в складках ее черного костюма не так-то просто найти, где его прикрепить, да к тому же еще спрятать батарейный блок.
– Уберите руки! – рявкает Мадлен. – Дайте вон ей, она все сделает, не зря же раньше работала на телевидении. Сегодня кому угодно позволено величать себя журналистом.
Джон кивает, закатывает глаза, стоит ей отвернуться, и протягивает мне микрофон.
– Я почти не слышу студию, – заявляет Мадлен, прилаживая наушник, когда я заканчиваю.
– Я выкрутила звук до максимума, – обращаюсь я к Джону.
– Пойду посмотрю в фургоне, может, там сбились настройки, – отвечает он, снимает наушники и отходит от камеры. А потом поворачивается ко мне и добавляет: – Ты не против?
Я вижу, он рад воспользоваться предлогом и улизнуть.
– Давай… глядишь, и с меня будет какая-то польза.
Я беру у него наушники, надеваю, слышу на другом конце голос продюсера, а когда Мадлен пора выходить в эфир, подаю ей знак. Она ничуть не смущается, и когда полагает, что на нее смотрит зритель, тут же переключается в режим заботливого посла доброй воли. Ответы без усилий слетают с ее губ – одна ложь за другой.
– Похоже, это все, – говорю я, снимая наушники.
– Ты уверена? Что-то слишком быстро.
– Думаю, да, они уже разговаривают с другим гостем.
Фальшивая улыбка тут же сползает с ее лица.
– Прошу прощения за ту смску, – говорю я.
– Ерунда.
Мадлен выглядит взволнованной и без конца поглядывает на часы.
– Если вы действительно покинете нашу передачу, у вас, по крайней мере, будет больше времени на благотворительность.
– Я никуда не собираюсь, у меня контракт, а благотворительность начинается с дома. Неужели тебя этому никто не учил? Этот придурок еще вернется, или я могу идти?
– Мне надо еще раз проверить, что вы больше не понадобитесь, – говорю я, опять надевая наушники.
Программа в ушах теперь звучит отчетливо и ясно.
– Я полагаю, привлекать внимание к проблемам несчастных детей – благодарный труд?
Этот вопрос мы с ней обсуждали уже не раз, и мне прекрасно известны все ее мысли по этому поводу.
– Тоже нашла несчастных! Да большинство из них – маленькие говнюки, хотя виню я не их, а родителей. Давно пора ввести что-то вроде теста на интеллект, чтобы выявлять тех, кто слишком туп для воспроизведения потомства, и каждого, кому не удастся его пройти, в принудительном порядке стерилизовать. В значительной части проблемы этой страны обусловлены как раз дурачьем, заселившим ее территорию своими умственно отсталыми отпрысками.
В этот момент я вижу, как из грузовичка со спутниковой тарелкой выкатывается Джон и бешено машет руками, будто пытается в срочном порядке посадить самолет.
– Думаю, теперь вы действительно можете идти, – говорю я.
– Вот и хорошо, давно пора, – отвечает Мадлен.
Не могу с этим не согласиться. Она поворачивается на каблуках и направляется к входу в здание. Я иду за ней, не в состоянии отвести взгляд от батарейного блока, все еще прикрепленного сзади на ее необъятной пашмине. Она нажимает кнопку вызова лифта, потом поворачивается ко мне и улыбается.
– А еще есть все эти шлюхи, которые залетают случайно, причем совсем не от тех, от кого надо. Вот почему Бог придумал аборты. Но, к сожалению, слишком много этих тупых сучек отказываются их делать.
Двери лифта разъезжаются в стороны.
– Ты идешь или как? – я качаю головой. – Ах да, я забыла, ты же боишься лифтов.
Мадлен закатывает глаза и цокает языком. Зайдя в кабину, она несколько раз нажимает на кнопку, чтобы двери закрылись как можно быстрее и никто больше не успел зайти. Когда я по каменным ступенькам забираюсь на пятый этаж, я чувствую себя так, будто пропустила выпуск любимого сериала. Все взгляды устремлены на крохотный кабинетик Мадлен. У нее Мэтью, они оба орут как ненормальные, поэтому каждое слово их якобы личного разговора слышно абсолютно всем, несмотря на плотно закрытую дверь.
– Что происходит? – спрашиваю я, не обращаясь ни к кому конкретно.
– Мадлен забыла выключить микрофон. В студии новостей уже было начали разговор с другим гостем, но потом переключились обратно на нее. И все ее слова услышали в прямом эфире зрители общенационального телеканала.
Я изо всех сил изображаю на лице удивление.
Давно
Пятница, 30 октября 1992 года
Дорогой Дневник,
Сегодня маму выписали из больницы, что очень кстати, если учесть, что завтра Хэллоуин, а она у нас ведьма. Пока ее не было, все было лучше. Я думала, что мама Тэйлор будет на меня сердиться за браслет, но она, напротив, стала относиться ко мне даже лучше, чем раньше, все две недели возила в школу и забирала обратно, потому что папа работал.
Я попыталась вернуть Тэйлор браслет и попросила прощения, что случайно одолжила его и так долго не отдавала, но она ответила, что не в обиде на меня, и сказала оставить его себе. Она даже его починила, соединив сломанные звенья крохотной английской булавкой. В итоге, как мне кажется, он стал выглядеть даже круче, чем раньше. Я думаю, она просто была благодарна мне за тот случай в школе на прошлой неделе и решила меня таким образом поблагодарить.
По правде говоря, я не понимаю, что в Тэйлор так отталкивает других девочек. Она красивая, добрая и умная, и это все не повод ее третировать. Я рада, что застала ее в тот день в туалете. Там же были Келли О'Нил и Оливия Грин. Они стояли на унитазах, смотрели сверху на Тэйлор через невысокие деревянные перегородки, сжимали в руках по комку мокрой туалетной бумаги и хохотали. Я слышала, как она плачет за дверью средней кабинки. Келли сказала ей встать и покрутиться. Ее подружка присвистнула и добавила:
– Если ты нам покажешь, мы уйдем.
Потом они опять засмеялись.
– Ну же, не стесняйся, покажи.
У меня где-то внутри начала подниматься злоба, я принялась пинать двери их кабинок. Келли посмотрела на меня, потом опять перевела взгляд на Тэйлор и воскликнула:
– А вот и твоя подружка, она ревнует. Так что лучше надевай свои штанишки.
В этот момент дверь распахнулась, вошла миссис Макдональд и велела нам всем уйти. Проходя мимо меня, девчонки ухмыльнулись. Я сказала, что мне надо в туалет, и пообещала долго не задерживаться. Когда все ушли, я постучала в дверь средней кабинки, но Тэйлор не выходила. Тогда я встала на унитаз в соседней кабинке, точно так же, как до этого Келли, и посмотрела вниз. Она сидела на унитазе со спущенными штанами. На ней были комки мокрой туалетной бумаги. Не думаю, что бумага упала на нее случайно. Я попросила Тэйлор открыть дверь, и на этот раз она послушалась.
Я спустилась вниз и осторожно приоткрыла дверь. Тэйлор стояла передо мной. Глаза ее были мокрые от слез, щеки горели, штаны по-прежнему были спущены, поэтому я нагнулась и подтянула их. О том дне мы больше не вспоминаем. Я даже сомневаюсь, стоит ли об этом писать. Теперь мы все время держимся вместе, и другие девочки обходят нас стороной, что меня вполне устраивает.
Пока мама не вернулась домой, все было просто идеально. Я была так счастлива, когда выходила из «Вольво» у нашего дома, что шла по подъездной дорожке, пританцовывая. Мама Тэйлор каждый день готовила нам с папой обед, который мы разогревали в духовке, – собственноручно приготовленные ею блюда, с потрясающим вкусом и запахом. Папа пил не так много, как бывало раньше, и мне постоянно разрешали ночевать у Тэйлоров, когда он работал допоздна или ездил в больницу. Меня мама видеть не хотела. Мне никто об этом не говорил, я просто знала, и все. Но я все равно не хотела туда ехать, больницы всегда напоминают мне о смерти Буси. Папа объяснил, что мама так долго не возвращается, потому что ей на животике сделали небольшую операцию. Он сказал, что ей очень плохо. И что я ни в чем не виновата.
Я знала, что она должна была сегодня вернуться, но, видимо, забыла. Поэтому когда я, вернувшись из школы, увидела ее на лестнице, я перепугалась и аж подпрыгнула. Сначала мама ничего не сказала, просто смотрела на меня сверху, стоя там в своей просторной белой ночнушке, как привидение. Круги у нее под глазами стали еще темнее, чем раньше, и она очень похудела, будто в больнице забывала поесть.
Я не знала, что сказать, поэтому прошла в гостиную посмотреть большой телевизор. Пульт у нас больше не работает, поэтому приходится нажимать кнопку под экраном и ждать, пока он не оживет какой-нибудь картинкой. Включился мультик, который я не люблю, но я уже успела сесть на диван, так что я его посмотрела. Я по-прежнему была в шапке и в перчатках, потому что у нас перестали работать батареи и в доме теперь постоянно холодно. У нас есть камин, который мы топим по воскресеньям, но мне никогда не позволяют подходить к нему слишком близко, к тому же сегодня не воскресенье.
Я услышала, что она спускается по ступенькам – медленно, как дедушка после того, как подвернул ногу. Какая-то часть меня хотела убежать, но было некуда. Я попыталась погрызть ногти, но мешали перчатки, поэтому я просто сунула ладони под попу и стала болтать ногами, как будто сидела не на диване, а на качелях.
Она встала в двери и спросила меня, не хочу ли я ей что-нибудь сказать. Я покачала головой и вновь уставилась в телевизор. Кот на экране гонялся за мышкой, но умненькая мышка опять сумела вовремя спрятаться. Я засмеялась, хотя было не особенно смешно.
– Все то же самое, да? – спросила она.
Мышка взяла спички и стала засовывать их коту между пальцами на задних лапах, но тот ничего даже не заметил, он смотрел в другую сторону. Потом мышка подожгла спички и убежала. Кот учуял запах дыма, но огонь увидел, когда уже было слишком поздно. Я опять засмеялась, громким неестественным смехом, надеясь, что она просто уйдет и оставит меня в покое.
– Я говорю, опять все то же самое, да? – повторила она сердитым голосом, всегда означавшим для меня большие неприятности.
Я пожала плечами, встала и пошла на кухню. Взялась за раскраски, лежавшие там же, где и вчера. Мама пришла вслед за мной и села на стул напротив. Я не подняла на нее глаз. Мои карандаши затупились, все до одного. Я посмотрела на нее и спросила, не может ли она их поточить. Мне этого делать нельзя. Наши глаза разговаривали, но наши губы не шевелились. Она помотала головой в стороны, сказав таким образом «нет». После этого мне еще больше захотелось порисовать красным карандашом, однако он настолько затупился, что почти не оставлял на бумаге отметин. Я надавила сильнее, пропоров на бумаге отчетливый, рваный след. Мама попыталась взять меня за руку и остановить меня, но я вырвалась. Она сказала, что нам надо поговорить, но мне было нечего ей сказать, так что я просто продолжала притворяться, что ее там нет, и взяла черный карандаш, которым еще можно было рисовать. В перчатках было трудно закрашивать только внутри контуров, и черный карандаш все черкал раскраску, пока не покрыл полностью узор, так, что его вообще стало не видно.
Мама велела мне на нее посмотреть. Я не послушалась. Она повторила еще раз, но разделила слова, так что каждое как бы стояло отдельно:
Посмотри. На. Меня.
Я опять не подняла глаз, но кое-что прошептала, очень тихо. Она переспросила, что я сказала, и я прошептала снова. Мама поднялась так быстро, что ее стул упал назад, а я подскочила. Потом она перегнулась через стол, взяла меня за подбородок и подняла его, заставив посмотреть ей в глаза. После чего, брызгая слюной, приказала повторить еще раз. Мне было больно, поэтому я ответила:
Я. Тебя. Ненавижу.
Это был уже совсем не шепот.
Она меня отпустила, я выбежала из кухни и бросилась в свою комнату. Закрыла дверь, зажала уши, но по-прежнему слышала на лестнице ее вопли:
– Ты больше не будешь видеться с Тэйлор! Я не хочу, чтобы она приходила в этот дом!
Она не может помешать мне видеть Тэйлор, мы ходим в одну школу.
Я попробовала почитать, но не могла сосредоточиться и все перечитывала и перечитывала одно и то же предложение. Я бросила книгу на пол, достала спрятанный в прикроватной тумбочке браслет, расстегнула английскую булавку и попыталась его надеть, но кончик цепочки упрямо соскальзывал с запястья. Завтра Хэллоуин, я хотела вечером пойти с другими ребятами «клянчить сладости и делать гадости», но я знаю, что нет смысла даже пытаться отпроситься у родителей, раз она вернулась. Я по-прежнему слышу, как она бродит на первом этаже, выскребает из кастрюль в мусорный бак приготовленные мамой Тэйлор блюда и разрушает мою жизнь.
Сейчас
Пятница, 30 декабря 2016 года
Я лечу вперед ногами и только спустя какое-то время вспоминаю, что лежу в больнице. Ни двинуться с места, ни открыть глаза по-прежнему не получается, но можно заметить, как над головой, будто в длинном тоннеле, едва уловимо меняется свет.
От яркого к темному, а потом наоборот.
До меня доходит, что меня куда-то везут прямо на кровати. Не знаю, что это означает, и хочу, чтобы мне кто-нибудь объяснил. Мысленно задаю вопросы, но на них никто не отвечает:
Меня переводят в обычную палату?
Мне лучше?
Я умерла?
Избавиться от последней мысли не удается. Вполне возможно, покойник так и должен себя чувствовать.
Не знаю, куда меня везут, но здесь явно тише. Кровать останавливается.
– Ну вот мы и на месте. Мое дежурство подошло к концу, но совсем скоро вами займется сменщик, – звучит чей-то незнакомый голос.
Он разговаривает со мной, будто с ребенком. Но я не против. Раз он со мной говорит, значит, я жива.
Спасибо.
Он выходит, вокруг становится тихо. Слишком тихо, будто чего-то не хватает.
Вентилятора легких!
Меня от него отключили, трубки в горле теперь тоже нет. Меня охватывает паника, но тут же я осознаю, что я могу дышать и без него. Рот закрыт, однако легкие регулярно пополняются кислородом. Я дышу сама. Я иду на поправку.
Звучат шаги, меня касаются чьи-то руки, вновь становится страшно. Затем поднимают с кровати, я боюсь, что меня уронят. Потом кладут на что-то прохладное. Поверхность холодит кожу сквозь сорочку. Я неподвижно лежу на спине, вытянув вдоль тела руки и глядя в никуда, не способная выйти взором за рамки собственного тела. Меня оставляют в покое, вокруг тихо как никогда. Но так продолжается недолго.
Штуковина, на которой я лежу, приходит в движение, меня опять катят, только на этот раз головой вперед. Тишину пронзает неприятный звук, напоминающий приглушенный механический крик. Я не понимаю, что происходит. Как бы там ни было, очень хочется, чтобы это прекратилось. Громкое, непонятное жужжание будто становится ближе. Наконец все заканчивается.
Я едва замечаю, как тело вновь окутывает чуть более яркое сияние. Механические звуки сами по себе превращаются в детский плач, что намного хуже. Кожа ощущает влагу, и я вдруг понимаю, что обмочилась. Пакета, в котором собирался мой жидкий стыд, теперь нет, меня душит запах мочи, я опять отключаюсь.
Из непроглядной черноты в смутный полумрак меня возвращает свист. Ненавижу, когда свистят. Я опять лежу на кровати, кто-то толкает меня ногами вперед по нескончаемой веренице длинных коридоров. Над головой вновь мелькают тени, будто наверху работает конвейер из электрических лампочек. Кровать останавливается и поворачивает. Так повторяется еще несколько раз. Вперед-назад, вперед-назад – я будто превращаюсь в пылесос, пытающийся вобрать в себя собственную грязь. Мы резко останавливаемся. В то же мгновение прекращается и свист.
– Прошу прощения за беспокойство, но вы не могли бы напомнить мне, где выход, – говорит пожилая женщина, – вечно я здесь блуждаю.
– Не переживайте, в этом лабиринте со мной такое тоже бывает. Возвращайтесь обратно, потом поверните направо. Там увидите выход на парковку для посетителей, – произносит голос, который у меня нет никакого желания слышать. Я говорю себе, что это не он, что у меня просто разыгралось воображение.
– Благодарю вас.
– Всегда пожалуйста.
Это он. Я уверена – это тот самый мужчина, который пичкает меня снотворными. Он опять начинает свистеть, и это пробуждает к жизни давно забытое воспоминание. Когда мы были студентами, он тоже любил насвистывать. Но если тогда это меня раздражало, то теперь пугает. Я говорила себе, что ошиблась или что-то перепутала, но теперь последние сомнения, питавшие надежду, развеялись как дым. Человек, который меня здесь держит, – Эдвард. Теперь я знаю это точно. Только не знаю, зачем.
Кровать опять приходит в движение, меня охватывает паника. Куда он меня везет? Его наверняка должен кто-нибудь остановить, но тут я вдруг вспоминаю, что он здесь работает. Вряд ли кому в голову взбредет задавать вопросы врачу, который везет куда-то пациента. Принято считать, что доктора помогают людям, а не причиняют им вред.
Зачем ты со мной так поступаешь?
Наконец каталка останавливается, и на смену свисту приходит кое-что похуже. Я слышу звук закрываемой двери.
– Ну вот, мы опять вместе. Вдвоем – только ты и я.
Недавно
Пятница, 23 декабря 2016 года, после полудня
Предполагалось, что отмечать в ресторане Рождество перед каникулами наша команда отправится в полном составе, однако сейчас в наших рядах не хватает двоих: Мадлен и Мэтью. Учитывая разбушевавшийся в социальных сетях шторм, меня это совсем не удивляет, тем более что к этой истории проявили интерес и другие вещательные компании. Интервью целиком выложили на «Ютубе», и хештег #ФростВЖопе в «Твиттере» побил все рекорды популярности, хотя и по несколько иным причинам, чем раньше. Интересно, у нее было время прочесть последнее письмо с угрозами в свой адрес, которое я сунула ей в сумочку? Ну да ничего, причин для беспокойства нет, это подождет.
Мадлен и Мэтью сейчас на седьмом этаже, обсуждают с хозяевами радиостанции антикризисные меры. Даже не представляю, как эта история для кого-то из них может обернуться счастливым концом. Мэтью сказал нам отправляться на обед без него. Он заказал нам столики в итальянском ресторане, ведь над фрикадельками в томате всегда витает дух Рождества, ага.
Хозяин ресторана пугающе рад нашему приходу. Нас ждет один длинный стол, накрытый будто для средневекового пиршества. Сервировку дополняют салфетки, хлопушки и бумажные короны. Все решают оставить Мэтью место во главе стола, надо полагать, как начальнику нашего разладившегося коллектива. Я устраиваюсь в самом конце, поближе к выходу, и на мгновение испытываю облегчение, когда рядом со мной на свободное место опускается Джо. Слава богу, она здесь.
– Вино россо? – спрашивает подруга и тянется к стоящей на столе откупоренной бутылке здешнего домашнего вина.
– Спасибо, но мне что-то не хочется. – Она недовольно кривится, но я даже Джо не могу сказать правду, не убедившись во всем окончательно. – Со мной все в порядке, просто вчера вечером я немного перебрала.
– С Полом?
– Нет, с одним старым другом.
– У тебя есть друзья, кроме меня?
– Да, есть, – говорю я и тут же понимаю: это уже не так. В нынешнем году мы получили даже меньше рождественских поздравлений, чем я написала сама.
Чтобы привлечь мое внимание, одна из продюсеров протягивает мне хлопушку. Я улыбаюсь ей, хватаю край сверкающей золотой бумажки и с силой тяну. Но ничего не происходит, и мы обе хохочем. Я дергаю сильнее, на этот раз хлопушка выстреливает, заставляя меня подпрыгнуть на месте, хотя это совсем не стало для меня неожиданностью. Выигрыш за мной. Я надеваю на голову бумажную корону и читаю шутку, написанную на вывалившейся из хлопушки бумажке:
– «Что растет в лесу и все время дергается?»
Я поднимаю глаза и вижу обращенные на меня застывшие в ожидании лица. Сомневаюсь, что еще когда-нибудь их увижу.
– Нервный тик.
Некоторые улыбаются, кто-то неопределенно фыркает, но никто не смеется. Кто-то зачитывает более удачную шутку.
Джо показывает на небольшую пластмассовую рыбку, выпавшую из хлопушки. Я поднимаю ее и кладу на ладонь. Они запомнились мне с тех пор, как мы с Клэр были детьми. «Золотая рыбка, Прорицательница» – написано на упаковке. Воспоминания вызывают на моем лице улыбку. Головка рыбки в руке съеживается. Я уже не помню, что это означает, поэтому в поисках толкования просто читаю крохотный белый листочек, испещренный толкованиями: «крутит головой = ревность».
Я отбрасываю рыбку и больше не улыбаюсь. Да, ревность. Имею право.
Дверь ресторана распахивается, и внутрь врывается порыв холодного воздуха, сбрасывая с некоторых голов бумажные колпаки. Мэтью пришел. Мадлен – нет. Он снимает пальто и садится за стол, превращая это простое действие в настоящее представление. Потом стучит ножом по своему бокалу с просекко, в чем вообще-то нет необходимости, потому как кроме нас в ресторане больше никого нет, а все темы вежливых разговоров на трезвую голову коллеги уже исчерпали, хотя сегодня нам и есть о чем посплетничать.
– Я хочу, чтобы сегодня вы все с радостью отметили Рождество и насладились давно заслуженным отдыхом… – говорит он и для пущего драматизма на несколько секунд умолкает.
Мне хочется запустить ему в голову тарелкой, но вместо этого я беру салфетку и кладу ее на колени.
– …но сначала позвольте сообщить вам печальную новость.
Вот теперь он меня заинтересовал.
– …Знаю, вы все в курсе злосчастного инцидента с микрофоном, имевшего место сегодня днем, когда Мадлен давала интервью.
Я потягиваю лимонад со льдом, в котором льда намного больше, чем жидкости, – от него сводит зубы.
– Но то, что я вам сейчас скажу, не имеет к этому никакого отношения.
Лжец. Я ставлю стакан на стол, опускаю руки и молитвенно складываю их под столом, изо всех сил стараясь не трогать губы в присутствии посторонних.
– К сожалению, я вынужден вам сообщить, что Мадлен решила оставить нашу программу по причинам личного свойства и отныне больше не будет вести «Кофейное утро».
Все, в том числе и я, ахают.
– Я говорю об этом сейчас, потому что завтра новость разнесут все паршивые газетенки, а мне хотелось бы успокоить вас, заверив, что передача продолжит выходить и вы можете спокойно работать дальше. На новогодние праздники мы пригласим ведущих со стороны – Эмбер, я надеюсь, вы по мере возможностей им поможете – а потом примем решение уже на постоянной основе.
Я в ответ киваю. Таким образом он дает понять, что мне теперь ничего не угрожает.
Все тут же бросаются усиленно обсуждать произошедшее. Теперь, когда нам сообщили эту новость, она становится главной и единственной темой разговора. Мэтью утверждает, что Мадлен покидает программу по причинам личного свойства – пожалуй, за этим столом лишь я знаю, насколько они в действительности личные.
Приносят рождественский чесночный хлеб – пересушенный и неаппетитный. Я уже подумываю, как бы улизнуть, но в этот момент слышу стук в окно за моей спиной. Повернувшись, вижу перед собой расплывчатый силуэт, но из-за искусственных снежинок узнать улыбающееся лицо не могу.
– Ты его знаешь? – спрашивает Джо.
Сначала я лишаюсь дара речи, усиленно пытаясь понять, как он меня нашел и что сейчас здесь делает. Эдвард стоит, улыбаясь нам обеим.
– Простите, мне надо на минутку отлучиться, – говорю я, не обращаясь ни к кому конкретно, и встаю из-за стола.
Когда я выхожу на улицу, холодный ветер тут же напоминает, что следовало бы надеть пальто.
– Привет, – говорит он, как будто его поведение можно назвать приемлемым.
– Чем это ты занимаешься? Ты что, следил за мной?
– Ну-ну-ну! Извини, но нет. Может, это так выглядит со стороны, но я тебя не преследую, честное слово. Ты же сама мне вчера сказала, что сегодня будешь отмечать в этом ресторане Рождество.
Сказала?
– Недалеко отсюда, на этой же улице, у меня была встреча. Увидев тебя в окне, я захотел поздороваться.
Я ему не верю.
Я замечаю, что он небрит, на загорелом подбородке темной тенью залегла щетина, на нем та же одежда, что и вчера, из-под длинного шерстяного пальто выглядывает уже знакомая белая рубашка. Он ждет, что я скажу что-нибудь в ответ, но поскольку я молчу, вновь пускается в объяснения:
– Ладно, вру. Прости, не надо было мне этого делать. Ты, как всегда, видишь людей насквозь. Никакой встречи у меня не было. Я просто вспомнил, что ты сегодня будешь здесь, и… мне обязательно нужно было найти повод вновь тебя увидеть…
– Эдвард, послушай…
– …и извиниться. Проснувшись утром и вспомнив вчерашний вечер, я пришел в ужас. Мне просто был нужен шанс попросить у тебя прощения, не более того. Не знаю, зачем я вчера столько тебе всего наговорил, думаю, это от вина. То есть я все равно думаю, что ты классная, просто… все это уже в прошлом. Я не буду мешать тебе праздновать, прости, прости, мне просто хотелось прояснить ситуацию и уверить тебя, что я не псих.
– Угу.
– На улице холодно, так что возвращайся к друзьям. Боюсь, что я окончательно все испортил. Больше, Эмбер, я тебя беспокоить не буду. Правда, мне очень жаль, что я так себя повел.
Он, похоже, в самом деле очень сожалеет, до такой степени, что мне и самой становится его жаль: что ни говори, а очень трудно жить в городе, где тебя никто не знает. Я поворачиваю голову и вижу в окне ресторана Джо. Она машет мне рукой, подзывая обратно. Похоже, сейчас надо бы что-то сказать, но нужные слова никак не идут. Мне холодно и неловко, поэтому за неимением лучшего я произношу банальную, никому не нужную фразу:
– С Рождеством тебя, Эдвард, как-нибудь увидимся.
Потом поворачиваюсь и подхожу к двери ресторана, оставляя его стоять на холоде.
Давно
Пятница, 11 декабря 1992 года
Дорогой Дневник,
Вот опять. Мне на время запретили посещать школу, но я правда не виновата. Я плохо себя чувствовала и не хотела идти на занятия, и если бы мама разрешила мне остаться дома и полежать, ничего бы этого не произошло. Так что на самом деле это она виновата, как и во всем остальном, но, подозреваю, она этого не поймет, когда обо всем узнает. Буся всегда говорила: «Слова не палки – не покалечат», – но если бы я ничего не сделала, Тэйлор наверняка осталась бы покалеченной.
У нас был урок природоведения, на котором мы впервые увидели, как пользоваться бунзеновскими горелками. Они меня всегда интриговали, но до сегодняшнего дня нам запрещали к ним прикасаться. Запах газа, когда мы их включили, мне понравился, он напоминал о старой Бусиной плите. Мистер Скиннер показал нам, что нужно делать. Важный момент: в каждой бунзеновской горелке есть отверстие. Когда оно закрыто, она горит желтым огнем, но стоит его открыть, как он становится жарче и приобретает голубой цвет. В общем, так работает процесс горения. Газ может быть опасен, как, разумеется, и пламя, поэтому, когда я вернулась из туалета и увидела, что Келли слишком близко поднесла горелку к волосам Тэйлор, я была вынуждена действовать.
Говорят, на этот раз у нее сломан нос. Если честно, я даже не помню, чтобы что-то такое делала, мне лишь хотелось оттолкнуть ее от Тэйлор. Мистер Скиннер оттащил меня от нее и спросил, что произошло, а я ответила, что не знаю. Он закричал, что все видел и чтобы я не смела врать, но я не врала. Я помню только, что лицо Келли было слишком близко к лицу Тэйлор. Внутри будто что-то щелкнуло. Я люблю Тэйлор и никому не позволю ее обижать. У меня попросту не было выбора.
Мистер Скиннер схватил меня за пиджак и потащил в кабинет директрисы. У нее я еще не была ни разу, но мне не было страшно. Они все одинаковые и ничего не могут мне сделать. Все было очень напряженно и эмоционально, не хуже, чем в кино. Только в кино я была бы героиней, а в реальной жизни оказалась главным злодеем, которого усадили в коридоре дожидаться, пока не вызовут маму.
Тэйлор сопровождала медсестра – когда я оттолкнула ее, чтобы спасти, она ударилась головой. Вид у нее был несчастный, лицо опухло и покраснело от слез, но благодаря мне с ней все было в порядке. Медсестра сказала ей, что скоро приедет ее мама и заберет ее домой. Мне она ничего не сказала, и Тэйлор тоже. Раньше у нас всегда было о чем поговорить, и мне стало грустно. Я спросила ее, как она, но она просто смотрела в пол. Я хотела спросить еще раз, но тут она заговорила сама:
– Зря ты это сделала.
И это вместо благодарности.
– Почему это? – спросила я.
– Потому что человек должен пользоваться вот этим, – Тэйлор показала пальцем на свою голову, – а не этим, – она подняла вверх руки. – Ты понимаешь, что они со мной сделают, когда тебя не будет рядом? Ты все испортила.
Ее слова меня одновременно расстроили и разозлили. Я видела, что она недовольна, так что я подавила свою злость. Внутри у меня столько всего накипело, что даже заболел живот.
Приехала мама Тэйлор и крепко ее обняла. Я боялась, что она мной тоже недовольна, но меня она тоже обняла, и я поняла, что она по-прежнему меня любит. Думаю, действительно любит. Не так глубоко, как Тэйлор, но все же довольно сильно. Она спросила меня, приедет ли за мной мама, и я ответила, что не знаю. После случая с браслетом наши мамы больше не разговаривают.
Мама Тэйлор прошла в кабинет директрисы, чтобы с ней поговорить. Через стеклянную перегородку мы слышали каждое их слово, поэтому табличка «Посторонним вход воспрещен» показалась мне совершенно глупой и ненужной. Поскольку с моими родителями связаться так и не смогли, маме Тэйлор в конечном итоге разрешили отвезти меня домой.
Тейлор ничего мне не сказала, пока мы выходили из школы, садились в «Вольво» и даже когда подъехали к моему дому. Ее мама посмотрела на меня с таким видом, будто не понимала, что я до сих пор делаю на заднем сиденье ее машины, но тогда я спросила, не может ли она пойти со мной и объяснить моей маме, что произошло, потому что мне страшно. Тогда ее лицо изменилось, оно как бы стало мягким, а ее большие зеленые глаза казались одновременно добрыми и грустными. Она сказала Тэйлор остаться в машине, хотя та и так даже не отстегнула ремень, просто сидела и смотрела в окно. И она даже не попрощалась.
Мы с мамой Тэйлор прошли по подъездной дорожке и остановились перед дверью. Поскольку звонок с некоторых пор не работал, она стала в нее стучать. Когда никто не ответил, я подняла на нее глаза, и она улыбнулась. Она такая добрая и красивая, и все, что она надевает, так хорошо смотрится вместе, как будто так сразу и было задумано. Она снова постучала. Когда к нам опять никто не вышел, она спросила, есть ли у меня ключи. Я ответила, что да, но тут же добавила, что мне по-прежнему страшно, и я даже не врала, потому что я и правда немного побаивалась. Я знала, что мама с папой жутко рассердятся. Кроме того, когда-то давно я пообещала Бусе, что ничего подобного со мной больше не случится. Теперь ее нет в живых, и я никак не могу решить, нарушила своим поступком это обещание или нет.
Когда мы вошли, я позвала маму, но никто не ответил. Потом я увидела ее. Сначала торчавшие из-за дивана ноги, будто она решила спрятаться, но ей это до конца не удалось. Подойдя поближе, я поняла, что она даже не думала прятаться. Мама лежала неподвижно с закрытыми глазами, уткнувшись лицом в большую лужу рвоты на ковре. Я пронзительно закричала, стала звать маму Тэйлор, потому что я была страшно напугана. Мама выглядела так, будто она правда умерла, прям как тогда, когда лежала вся разбитая у подножия лестницы. От нее страшно воняло. Ее подбородок и одежда все были измазаны рвотой. Мама Тэйлор сказала, чтобы я не переживала, что ей сейчас плохо, но она поправится. Мне пришлось помочь ей отнести маму наверх, после чего она попросила меня позвать Тэйлор. Я видела, что Тэйлор не хочется идти, но она подчинилась. Правда, она по-прежнему со мной не разговаривала.
Мы сели на диван, мама Тэйлор сказала нам включить телевизор и не подниматься наверх. Я так и сделала, но посмотреть его толком нам так и не удалось – слишком маленькая громкость не могла заглушить доносившиеся сверху крики. Мама Тэйлор повела мою в ванную, чтобы привести в порядок. Мама очень громко вопила, а потом начала кричать всякое плохое.
Из всего, что она выкрикивала, мне больше всего запомнились три вещи:
1. Да пошла ты в жопу! (Это она повторяла много раз.)
2. Убирайся из моего дома, сука! (Это не ее дом, а Бусин.)
3. Не нужна мне твоя гребаная помощь.
Последнее было самым глупым, потому что помощь ей очевидно была нужна.
Раньше я никогда не слышала, чтобы мама разговаривала так с кем-нибудь, кроме папы. А еще она обзывала маму Тэйлор снобом. Сноб – это человек, который считает себя лучше других. Не думаю, что мама Тэйлор так думает, хотя она намного лучше моей и вообще самая лучшая мама на свете. В общем, это был ужасный день, но в глубине души я этому только радовалась, потому что все забыли, что меня на время отстранили от занятий в школе.
Тэйлор с мамой оставались у нас до тех пор, пока не вернулся папа. Он без конца говорил «простите» и «спасибо», как будто не знал, что еще сказать. А когда они ушли, спросил, буду ли я на ужин куриные палочки. Мы ели перед большим телевизором, он все еще был включен, но его никто не смотрел. Папа забыл кетчуп, но я не стала ему ничего говорить. Маме он ужин готовить не стал, и мне кажется, я знаю, почему. Когда мы сидели рядом, не глядя в телевизор и поглощая куриные палочки без кетчупа, я впервые поняла, что папа, наверное, так же сильно, как и я, хочет, чтобы мама умерла.
Сейчас
Пятница, 30 декабря 2016 года
– Ну, Эмбер, как наши дела? Жив еще боевой дух, я вижу? Мне такое нравится.
В моей больничной палате будто стало немного темнее. Когда Эдвард прикасается к моему лицу, из груди наружу рвется крик. Я хочу исчезнуть, чтобы он меня больше никогда не нашел.
– Ты опять можешь самостоятельно дышать. Это такая замечательная новость. Так держать.
Его пальцы скользят к моему правому глазу и поднимают веко. Я различаю лишь размытый силуэт склонившегося надо мной человека, потом он светит мне в глаз мощным фонариком, совершенно ослепляя. Теперь перед моим взором стоит только яркая белизна, испещренная роем движущихся точек. То же самое Эдвард проделывает и с другим глазом, после чего мой мир опять погружается в черноту.
– На мой взгляд, ты поправляешься слишком быстро. Этот процесс, пожалуй, надо немного притормозить.
Слышится какая-то возня, но понять, что он делает, я не в состоянии. Когда в душе тает последняя надежда и я смиряюсь с судьбой, до моего слуха доносится звук открываемой двери.
– Как она? – спрашивает Пол.
Не понимаю, почему он сохраняет такое спокойствие, видя в моей палате этого человека. Потом вспоминаю: в его представлении это всего лишь сотрудник клиники.
– Боюсь, что этот вопрос вам лучше задать кому-то другому, – отвечает Эдвард.
– Простите… в последнее время я разговаривал с очень многими и всех просто не запомнил… Мы с вами раньше не виделись?
– Не думаю. Я всего лишь ночной санитар.
Санитар? Ничего не понимаю.
– …сейчас как раз начинается ночная смена, поэтому вам, думаю, лучше уйти.
– А вам? – спрашивает Пол.
На несколько мгновений становится тихо. Я со страхом жду развития событий.
– Я просто привез вашу супругу с томографии. Это моя работа.
Ты не говорил ему, что я твоя жена. Думай, Пол, думай.
– Простите, с моей стороны это была грубость. Примите мои извинения, я просто устал. Хотя вы, работая по ночам в таком месте, вероятно, и не такое видали, – говорит Пол.
– Вы бы очень удивились, узнав, что здесь происходит, когда становится темно, – отвечает Эдвард. – Лично я не против, чтобы вы на прощание еще ненамного задержались. Только недолго, надеюсь, вы понимаете, больничные правила и все такое. Но не переживайте, в ваше отсутствие мы обеспечим ей прекрасный уход.
Эдвард уходит, и мы с Полом остаемся одни. Он придвигает к моей кровати стул и садится. Мне обязательно нужно придумать способ сообщить ему, что меня здесь держит тот самый человек, с которым он только что говорил. Не понимаю, почему Эдвард выдал себя за ночного санитара и почему Пол ему поверил. В комнату входит Клэр, и на этот раз ее появление меня только радует. Она умная, она все поймет.
– Кто это был?
– Какой-то санитар, сказал, что нам пора идти.
– Что ж, вероятно он прав, время уже позднее, – говорит она, садясь рядом с Полом, а не с другой стороны кровати.
– Она шевельнула пальцем, ты сама это видела. На что-то показывала, я точно знаю.
Вспомнила! Я действительно показывала на вывеску аварийного выхода. Думала, это сон, а они, оказывается, все видели!
– Да, видела, но ты ведь сам слышал, что перед этим сказал врач. Некоторые пациенты в коме двигают руками, открывают глаза и даже разговаривают, но они все равно остаются в коме. И ее движения – это как если бы человек дергался во сне, увидев кошмар.
Это не просто кошмар.
– Думаю, нам надо надеяться на лучшее, посмотрим, что скажут доктора, когда получат окончательные результаты обследования…
– А я считаю, что лучше быть реалистами, – перебивает его Клэр.
Несколько мгновений они молчат.
– Как бы то ни было, им я тоже не верю, – наконец говорит она.
– Думаешь, врачи нам врут?
– Не то чтобы врут, но ничего не слушают. У меня действительно складывается впечатление, что Эмбер пытается с нами общаться, ведь они не знают ее так, как мы.
– Почему же она тогда не повторяет своих попыток?
– А ты ее об этом просил? Что, если она лежит сейчас перед нами и слышит каждое слово?
Клэр берет меня за руку. Пальцы у нее холодные как лед.
– Эмбер, если ты меня слышишь, сожми мою руку.
– Глупость какая-то.
– Может, для нее это слишком трудно.
Она выпускает мою руку и кладет ее обратно на кровать.
– Ну хорошо, Эмбер, мы сейчас смотрим на твою правую руку. Если ты меня слышишь, пошевели пальцем, хотя бы чуть-чуть, самую малость.
Я пытаюсь изо всех сил, но он со мной что-то сделал. Наверняка сделал. Все мои усилия сосредотачиваются на правой руке, мне кажется, что от усилий перехватывает дыхание, но ничего не происходит.
– Жаль, – вздыхает Клэр.
– Перестань, – говорит Пол, – я знаю, ты хочешь помочь, но тебе тоже нужен отдых, поэтому мы скоро пойдем.
Пожалуйста, останьтесь!
– Еще пять минут, и все.
Некоторое время мы все храним молчание. Я хочу, чтобы они поговорили, чувствую, что опять отключаюсь и яростно пытаюсь за что-то зацепиться. Первой тишину нарушает Клэр:
– Если это затянется надолго, нам понадобится помощь.
– Не затянется.
– Надеюсь. В противном случае одним нам не справиться.
– Почему это? Будем дежурить по очереди.
– Несколько дней еще куда ни шло, а как быть потом? Дэвид и так уже бесится, что ему приходится без конца сидеть с близнецами, а моих родителей, которые могли бы помочь, больше нет. У нее есть друзья, которым можно было бы позвонить?
Пол оставляет ее вопрос без ответа.
– У нее же ведь есть друзья? – настаивает Клэр.
– У нее есть коллега Джо, они иногда куда-нибудь ходят по вечерам.
Их разговор замирает, ко мне подступает дурнота.
К Клэр, раньше чем мне, возвращается хладнокровие:
– Джо?
– Да, какая-то женщина.
Я почти слышу, как в ее голове проносятся мысли.
– А ты когда-нибудь ее видел? – говорит она.
– Нет, а что?
– Да так… Ну что же, возможно, она действительно сможет нам помочь.
– У меня нет ее телефона.
– Может, он обнаружится в смартфоне Эмбер?
Я слышу, как Пол что-то открывает, и представляю, как он копается в моей сумочке. Палата начинает вращаться в одну сторону, моя кровать в другую. Вдали опять раздается пение девочки в розовом, но мне необходимо остаться здесь, необходимо их остановить. Полу нельзя копаться в моем смартфоне, там есть вещи, о которых ему лучше не знать. Я вспоминаю кое-что нехорошее. Кое-что, способное разозлить любого мужа. Воспоминание обретает черты реальности и тут же дополняется еще одним. На моей шее снова смыкаются сильные руки, я судорожно пытаюсь сделать вдох и в этот момент впервые вспоминаю, почему. Страхи возводят в моей голове непробиваемую стену, перекрывая все входы и выходы.
– Аккумулятор сел, – говорит он.
Комната замедляет вращение, но окончательно все же не останавливается.
– Возьму его домой и вечером поставлю заряжать.
Недавно
Пятница, 23 декабря 2016 года, ближе к вечеру
– Даже не верится, что у меня хватило решимости, – говорю я.
– Мне тоже, но я ужасно рад, – отвечает Эдвард.
– Теперь все будут перемывать мне кости – мол, ушла с каким-то незнакомцем в самый разгар корпоратива.
– Да я не то чтобы совсем незнакомец.
Мы заходим в бар и устраиваемся за тем же столиком, за которым несколько дней назад я сидела с Джо. Мне здесь нравится, все кажется таким знакомым, я чувствую себя в безопасности, будто со мной в принципе не может случиться ничего плохого.
– В последнее время у меня на работе были проблемы, поэтому мне приятнее пропустить по стаканчику со старым другом, чем водить светские разговоры за бокалом отвратительно теплого просекко. – Я на несколько мгновений умолкаю, понимая, что должна сказать больше. – Вот, собственно, и все, так что мы с тобой просто старые друзья, встретившиеся, чтобы положить конец возможным недоразумениям.
– Понятно, – отвечает Эдвард, – что тебе заказать?
– Нет-нет, сегодня все за мой счет, – настаиваю я, вытаскиваю из сумки кошелек и оставляю ее на стуле.
Сумка тяжелая, в ней лежат вещи, которые я решила не оставлять в офисе, вещи, которые могут еще понадобиться.
– Тогда возьми мне пинту любого разливного светлого пива.
– Пинту так пинту. Скоро вернусь.
В баре полно народу, и в ожидании очереди я разглядываю висящие на стене черно-белые фотографии. На ближайшей из них глаза обнаруживают дату: 1926 год. Сейчас это место выглядит точно так же. Мир все так же бежит по кругу, снова и снова воспроизводя сам себя, и так до тех пор, пока в нем что-нибудь не изменится. Но он не может поменяться, потому что не можем мы. Я мысленно произвожу расчеты, понимаю, что на меня с фотографии глядят мертвецы, и отвожу глаза. Когда меня, наконец, обслуживают, мои ноги будто прирастают к ковру с уродливым узором, не давая сдвинуться с места. Я прокладываю в толпе путь к нашему столику – с пинтой пива в одной руке, пинтой лимонада в другой и двумя пакетиками чипсов с луком и сыром в зубах. Когда сажусь, выражение лица Эдварда немного меняется. Не в состоянии прочесть его взгляд, я его просто игнорирую.
– Будем здоровы! – говорю я, поднимая стакан.
– Будем здоровы!
– Что собираешься делать на Рождество?
– К сожалению, работать. Мне не повезло, получил все ночные дежурства с Рождества до Нового года.
– Бедняга.
– Ничего страшного. Не спать по ночам совсем не так страшно, как принято считать.
Вдохновленное его словами, в памяти всплывает воспоминание.
– Помнишь вечеринку выпускников? – спрашиваю я и наблюдаю, как он усиленно пытается скрыть улыбку.
На короткое время мне становится легко и почти уютно. Мы рассказываем, куда мы ездили отдыхать, где побывали за те годы, что не общались друг с другом, из соображений безопасности избегая общих воспоминаний. Немного дистанции, чтобы восстановить порядок. Я полагаю, что на этом пути нам ничего не угрожает, и понемногу начинаю расслабляться.
– Ты счастлива? – спрашивает он.
Его ладонь ложится на стол в опасной близости от моей. Я убираю руки, кладу их на колени и сжимаю в кулаки.
– Я люблю своего мужа.
– Я спрашиваю не об этом.
– Эдвард…
Мы с ним больше не увидимся, это наше последнее «прощай». Он тоже об этом знает, но все равно упорствует, повторяя свой вопрос:
– Ну так как? Счастлива или нет?
Я решаю ответить ему, допить лимонад, встать и пойти домой.
– Нет, на данный момент я не особо «счастлива». Но брак здесь ни при чем.
– А что тогда «при чем»?
– Жизнь, надо полагать. Это трудно объяснить.
– Попытайся.
– Я наделала ошибок, и теперь мне приходится за них расплачиваться.
Недавно
Пятница, 23 декабря 2016 года, с наступлением вечера
Придя в себя, я чувствую в голове пульсирующую боль и не могу понять, ни где оказалась, ни что со мной произошло. Последнее, что врезалось в память, это наш с Эдвардом разговор в пабе. Я сажусь. От резкого движения комната начинает раскачиваться, будто я сижу в лодке посреди бурного моря. Но я не в лодке, а на кровати. В комнате темно, шторы на окнах задернуты. Тусклое освещение, окружающие меня запахи пота и несвежего белья совершенно не знакомы. Я все еще не знаю, где нахожусь, но вдруг понимаю, что сижу совершенно голая.
Время на миг замирает, когда я опускаю глаза и смотрю на свое бледное, белое тело. Каждая его частичка, обычно прикрытая и спрятанная от чужих глаз, теперь на виду.
В одночасье в голове с громовым хлопком взрывается сноп мыслей. Это не моя спальня. Я смотрю на незнакомые темно-синие простыни, слышу вдали журчание воды в душе и никак не могу определить странный привкус во рту. Оглядываюсь по сторонам в поисках одежды и вижу ее на полу. Но я же ведь даже не пила, только лимонад. И ничего не делала, я бы не стала этого делать.
Я ничего не помню.
Тело пытается сдвинуться с места и оторвать себя от кровати. Предпринимая попытки встать, я чувствую себя как в замедленной съемке. Комната опять раскачивается и пускается в пляс. Я словно шарик ртути в игрушечном лабиринте. Невзирая на все усилия, двигаться в нужном направлении не удается. Я тянусь вперед, стараясь заставить организм реагировать на команды мозга, но чем ниже наклоняюсь, тем больше боюсь упасть. В отдалении насвистывает мужчина, хотя этот звук заглушают тугие струи воды, вырывающиеся из душа. Меня тошнит. Этого не может быть. Я не из тех, кто позволяет себе что-то подобное.
Когда тело по моему приказу все же встает, между ног вспыхивает боль. Не могу с точностью сказать, что это – реальность или плод моего воображения. Пытаясь отогнать от себя все мысли и ощущения, делаю шаг в сторону кучки одежды, которая, кажется, принадлежит мне. Комната опять приходит в движение, грозя сбить меня с ног. Опускаю глаза на голые ноги и вижу, что колени покрыты татуировками синяков. Со мной случилось что-то очень и очень плохое.
Я должна попытаться вспомнить.
Мозг бегло пролистывает папку последних воспоминаний, но файлы в ней заканчиваются на встрече в пабе. Я уверена, что пила только лимонад. Отошла в туалет, вернулась и собралась было уходить. Но потом… пустота.
Глаза опять оглядывают комнату. Я вижу фотографию в рамке на стене рядом с кроватью, и у меня перехватывает дыхание. На меня смотрит мое собственное молодое лицо и хохочет над моей непроходимой тупостью. Молодой Эдвард обнимает меня за плечи, слишком близко прижимая к себе, хотя я, похоже, совсем не возражаю. Я помню, как нас фотографировали. Это вечеринка выпускников. А незадолго до этого я с ним порвала. Не хотела, но пришлось. Он все это время хранил этот снимок. Парень с фотографии повзрослел и превратился в мужчину, которого я совсем не знаю. В мужчину, которого я теперь очень боюсь. И каким-то образом я оказалась в его квартире, а моя одежда валяется на полу.
Я не хочу ничего вспоминать.
Так нельзя. Я должна отсюда уйти, хотя даже не знаю, где оказалась. Какая же я дура. Я на мгновение преодолеваю отвращение к себе и оглядываюсь по сторонам. Повсюду грязь и запущенность. На полу разбросаны газеты, нераспечатанное письмо, давно не стиранная одежда, грязные тарелки, на ковре – открытая коробка с недоеденной пиццей. Воздух затхл и душен, все покрыто толстым слоем пыли. В углу громоздится какой-то аппарат. Сначала я не могу понять, что это, но потом узнаю очертания старомодного солярия. Бред какой-то.
Я снова нахожу взглядом свои вещи, валяющиеся на грязном ковре. Все тело ломит и настойчиво протестует, когда я натягиваю на себя одежду, которую мне удается найти. Обойдусь без остального. Увидев свою сумочку, хватаю ее и ищу телефон, но его там нет. Вместо него нахожу нераспечатанный тест на беременность, и к горлу снова подкатывает тошнота. Я вновь окидываю взором комнату, всматриваясь в развалины совершенно незнакомой мне жизни, и в этот момент замечаю на столе свой телефон. Проверяю время и дату – все еще пятница. Журчание душа стихает, у меня внутри все холодеет. Ноги переключаются в режим автопилота, приходят в движение и неуверенно несут меня к единственной в комнате двери.
Я поворачиваю ручку, тяну створку на себя и вижу длинный, узкий коридор. На противоположном его конца виднеется еще одна дверь, из-за которой доносится его свист. Грязный коричневый ковер почти не виден под слоем старых газет, в нос бьет затхлый запах. Я вижу на стене две большие пробковые доски и тут же их узнаю – они висели в его комнате, когда он учился в университете. Тогда их сплошь покрывали наши совместные фотографии. Они и сейчас там висят, но только теперь к ним добавились новые, на которых запечатлена только я. Вот я выхожу с работы, вот читаю в метро газету, вот неделю назад пью кофе в кафе недалеко от дома – я узнаю свое совсем недавно купленное пальто. Снимков больше сотни, и с каждого на меня смотрит мое собственное лицо. Я заставляю себя отвести взгляд. Надо уходить. Срочно.
Между дверью комнаты, где пришлось оказаться мне, и другой, за которой находится он, располагается еще одна, по виду входная. Понимая, что мое время на исходе, я бреду к ней вдоль стены, лавируя между кучами мусора. Чтобы унять дрожь в руках, снять цепочку и выйти в еще более непроглядный мрак, требуются титанические усилия. Вот я уже за порогом, но все еще под воздействием дурмана. Передо мной аллейка большого многоквартирного дома. Быстро бросаю взгляд через плечо, чтобы запомнить номер на темно-синей двери, и поспешно ухожу, даже не задержавшись, чтобы ее закрыть. Я с наслаждением приветствую резкий болезненный удар холодного воздуха, я чувствую, как он заползает мне в рукава, под блузку и юбку. Я смахиваю непрошеные слезы. Я не заслуживаю жалости, даже своей собственной.
Давно
Вторник, 15 декабря 1992 года
Дорогой Дневник,
Сегодня мы все дома, мама, папа и я. Меня все еще не допускают к занятиям в школе, но всем плевать. Папа больше не ходит на работу. Он говорит, что ему надо ухаживать за мамой, потому что она нездорова, хотя на самом деле он целыми днями сидит внизу и смотрит телевизор, в то время как она почти не выходит из своей комнаты на втором этаже. Он говорит, что я уже достаточно большая, чтобы знать правду: мама была беременна, но когда упала с лестницы, ребенок погиб. Вот почему она так сильно напилась и так разоралась на маму Тэйлор. Раньше мне казалось, что всякие непристойности люди выкрикивают, только когда злятся, но папа говорит, что некоторые так делают, когда им грустно.
Я не знала, что мама ждала ребенка, но рада, что теперь все уже позади, потому что это отвратительно. Я спросила папу, собирается ли она снова забеременеть, но он сказал, что нет, потому что в больнице ей из животика пришлось что-то там вырезать. Мне это понравилось. Они и за мной-то не могут толком смотреть, так что нет никакого смысла рожать еще ребенка. Я немного опасаюсь, что они могут взять поддельного брата или сестру, чтобы мама опять была счастлива. Этого мне тоже не нужно.
Папа то и дело отлучается из дома, чтобы принести то одно, то другое, но иногда возвращается с пустыми руками. Похоже, ему нужно составлять списки, чтобы ничего не забыть, как всегда делала Буся. Как-то раз он попросил меня приглядеть за мамой, пока он пойдет купить хлеба, молока и мгновенный лотерейный билет. Это было непросто, потому что я совершенно не хотела ухаживать за мамой. Дверь спальни была приоткрыта, поэтому я решила время от времени в нее заглядывать одним глазком, как и просил папа. Мне показалось, что если спеть, маме это может понравиться, особенно если учесть, что в нынешнем году ей пришлось пропустить рождественский концерт. Поэтому я придумала веселую песенку и спела ее на площадке лестницы:
Что нам делать с пьяной мамой? Что нам делать с пьяной мамой? Что нам делать с пьяной мамой? С утреца пораньше?[9]Я даже придумала короткий танец, делая вид, что пью сразу из нескольких бутылок. Но она не засмеялась, наверное, все еще спала. Она теперь много спит. Папа говорит, что тоска высасывает из нее все силы.
Вернувшись домой, папа сказал, что нам надо немного поговорить. Купить молока он опять забыл, но я ничего не сказала, потому что он явно был чем-то очень озабочен. Мы сели за кухонный стол, и сначала мне показалось, что папа забыл, что именно собирался со мной обсудить. Но потом он скривился и сообщил, что нам опять придется переехать. Я ответила, что не хочу, а он сказал, что так надо. Я спросила, не по моей ли вине и не потому ли, что меня отстранили от занятий, но он сказал, что нет. Он принялся что-то объяснять, но его слова на пути к моим ушам путались и спотыкались, потому что я против своей воли расплакалась.
Он говорил про какое-то вещание или, может быть, замещание. Перед смертью Буся хотела с ним что-то такое сделать, но потом забыла, и вот теперь нам надо опять устраиваться на новом месте только потому, что люди никогда ничего не помнят. Папа сказал, что мамина сестра очень сердита на Бусю за все это. Я даже не знала, что у мамы есть сестра. Он объяснил, что я ее видела несколько раз, когда была совсем маленькой, но я ее вот вообще не помню. Папа говорит, что мамина сестра много лет не общалась с мамой и Бусей, но когда та умерла, решила, что ей хочется получить половину ее дома. Я спросила, не может ли она поселиться во второй половине, но папа ответил, что нет, что так не делается. Я спросила, не сможем ли мы остаться, если лотерейный билет окажется счастливым. Он ответил, что уже соскреб защитный слой и цифры на билете не совпали.
От всего этого мне стало очень грустно, и я спросила, можно ли мне подняться к себе и немного почитать. Он сказал, что да, если только я буду вести себя тихо и не мешать маме. А потом добавил, что нам надо очень хорошо о ней заботиться, потому что эта история расстроила ее даже больше, чем нас. Я не понимаю, с чего я должна о ней заботиться. Она должна была ухаживать за Бусей, но ничего толком не сделала, и ту убил рак. В последнее время я все время думаю, что если бы за ней, когда она заболела, ухаживал кто-то другой, например мама Тэйлор, то ей стало бы лучше и она до сих пор была бы жива. И тогда сейчас у нас все было бы хорошо и никуда не надо было бы ехать. Это мама во всем виновата, даже если папа по глупости этого не замечает. Это она все разрушила и всех погубила, я никогда ей этого не прощу.
Сейчас
31 декабря 2016 года
Меня будит знакомый звук, я такой уже слышала. Кровать медленно начинает опрокидываться назад, ноги смотрят в потолок, к голове приливает кровь. Кровать приподнимают еще выше, я боюсь, что упаду и меня никто не поймает, но тут кожа ощущает тепло воды и прикосновение нежных пальцев.
Сегодня мне приводят в порядок волосы, причем для этого даже не пришлось записываться к парикмахеру! Я чувствую запах шампуня, представляю, как он пенится, потом напрягаю все свое воображение и на несколько секунд убеждаю себя, что жизнь вернулась в нормальное русло, что это салон красоты, а надо мной хлопочет мастер-стилист. Потом изо всех сил стараюсь получить от этого удовольствие, расслабиться и вспомнить, как это бывает.
Сейчас, потеряв время, я много о нем думаю. Часы будто слипаются вместе, и отделить их друг от друга очень трудно. Обычно говорят, что время идет, но здесь, в этой палате, оно движется по-другому. Оно тянется, ползет, растекается по стенкам твоего разума навозными пятнами воспоминаний, в итоге ты не в состоянии увидеть ничего ни перед собой, ни позади. Оно изводит каждого, кого жизнь выбрасывает на его берега, и мне теперь надо плыть дальше, чтобы настигнуть себя саму ниже по течению.
– Так-то лучше, засохшую кровь мы смыли, – произносит чей-то добрый голос и обматывает мне голову полотенцем.
Я представляю, как на белой раковине расплываются пятна крови, как бледнеющие красные круги стекают вниз, унося с собой часть моего тела.
– Давайте я, у вас и без того дел полно, – говорит Клэр, – мне нетрудно.
Она так тихо сидела в сторонке, что я даже не догадывалась о ее присутствии. Я могу безошибочно определить, что медсестрам она нравится. Людям вообще обычно нравится та версия Клэр, которую она им показывает. Кровать возвращают в исходное положение, и мы с сестрой вновь остаемся одни. Клэр сушит мои волосы и заплетает их в косички – мы делали так, когда были маленькие. Она не произносит ни слова.
– Ты сегодня рано, – говорит Пол, входя в палату, едва она заканчивает.
– Не могу спать нормально, – отвечает Клэр.
Со стороны может показаться, что я все время сплю, однако это не так. Но даже когда я правда сплю, кто-то все равно без конца заходит в палату, переворачивает меня, моет, пичкает лекарствами. Эдварда какое-то время не было, память, по крайней мере, не сохранила воспоминаний о том, что он приходил. Я говорю себе, что он, вероятно, оставил меня в покое и вскоре мне удастся очнуться.
– Вчера произошла странная вещь, – говорит Пол.
– Какая? – спрашивает Клэр.
Когда у них действовало правило «он пришел – она ушла», было намного лучше. Теперь они проводят вместе слишком много времени, и ничего хорошего из этого получиться не может.
– Я зарядил телефон Эмбер, но в списке контактов не нашел никого с именем Джо.
– Действительно странно.
– Тогда я позвонил ее начальнику, полагая, что он может дать мне номер этой девушки. Сначала он выразил готовность помочь, но потом как-то разволновался и сказал, что не может дать мне номер, потому что не знает никого по имени Джо.
– Ничего не понимаю, – говорит Клэр.
Еще как понимаешь.
– Среди сотрудников «Кофейного утра» нет никого по имени Джо. Тогда я предположил, что это прозвище или что-то в этом роде, и сказал, что Эмбер совершенно точно с ней работала и дружила. Тогда он смутился и попытался вежливо дать мне понять, что у Эмбер на работе не было друзей.
Пожалуйста, хватит.
– Удивительно.
– Теперь мне понятно, почему она оттуда ушла, тот мужик, кажется, та еще скотина.
Пожалуйста, замолчи.
– Она ушла с работы? – спрашивает Клэр.
Больше ни слова.
– Прости, я совершенно забыл, что она просила ничего тебе не говорить.
– Но почему?
– Просто там ей стало плохо.
– Я не о том, почему она просила не говорить ничего мне?
– Этого я не знаю.
Недавно
Пятница, 23 декабря 2016 года, вечер
Когда машина останавливается у моего дома, я не могу смотреть таксисту в глаза. Я видела, что всю дорогу он поглядывал на меня в зеркало заднего обзора, но не могу сказать, что было написано на его лице – отвращение или озабоченность. Может, и то и другое. Я протягиваю ему деньги, бормочу слова благодарности, выхожу из машины, не дожидаясь сдачи, и захлопываю дверцу. Когда такси уезжает, первым делом в глаза бросается автомобиль Пола. Он не говорил, что вечером собирается возвращаться. В последнее время с ним вообще трудно связаться.
Я лезу в сумочку за мятной жвачкой и обрызгиваю себя духами. Потом достаю небольшое зеркальце и в свете уличного фонаря рассматриваю свое лицо. Мне приходится впервые смотреть себе в глаза, после того как я очнулась в чужой постели. Макияж по большей части стерся, но на щеках до сих пор виднеются подтеки туши. Неудивительно, что таксист на меня так поглядывал. Я слюнявлю пальцы, тру кожу под глазами и опять смотрю на свое отражение. Внешне все такая же, как раньше, хотя на самом деле это уже не я.
Я захожу на наш участок, пересекая невидимый рубеж, и закрываю за собой калитку, тем самым закрепляя свое решение двигаться вперед. Стоит такой холод, что промерзшая деревянная дверца упирается, не хочет закрываться и протестующее обжигает пальцы. Я заставляю себя направиться к дому, оставляя на улице правду, которой не могу ни с кем поделиться. Ковыляя по гравиевой дорожке, поглядываю на фасад дома. Он выглядит запущенным, нелюбимым, тоскующим по вниманию. Белая краска кое-где облупилась, будто обгоревшая на солнце кожа. В саду все мертво или вот-вот умрет. Толстый стебель глицинии тянется вверх и паутиной коричневых вен расползается по стене, будто не собираясь больше никогда цвести. Я пытаюсь убедить себя, что, возможно, не сделала ничего плохого, но чувство вины из-за того, что я не могу или не хочу вспомнить, наваливается на меня, замедляет мои шаги. История с Мадлен закончена, но теперь, боюсь, мне предстоит кое-что похуже.
Я ищу в сумочке ключи, но не нахожу и звоню в дверь. Некоторое время жду, но холод вскоре подстегивает мое нетерпение, заставляя еще раз нажать на кнопку. Щелкает замок, Пол мне открывает, но ничего не говорит, и мы просто стоим с таким видом, будто я жду от него приглашения войти в собственный дом. Замерзнув, переступаю порог и протискиваюсь мимо него в прихожую.
– Ты сегодня поздно, – говорит он, запирая за мной дверь.
– Да, рождественский корпоратив. Как твоя мама? – спрашиваю я.
– Мама? Она в порядке. Послушай, нам с тобой надо поговорить.
Он знает.
– Хорошо. Говори.
Я заставляю себя поднять глаза и посмотреть ему в лицо.
– Мне нужно тебе кое-что сказать. Думаю, нам лучше сесть.
Он ничего не знает, но это уже не имеет значения. Я опоздала.
– Давай я сначала что-нибудь выпью, тебе налить? – звучит мой вопрос.
Он качает головой, и я удаляюсь на кухню. Беру первую попавшуюся под руку бутылку красного. Тянусь за бокалом, замираю в нерешительности, но все же преодолеваю страх – один мне точно не повредит. Какая теперь разница. Он собирается сказать, что между нами все кончено, и мне не остается ничего другого, кроме как выслушать его. Теперь даже неважно, что я сделала и чего не сделала, – он уже все решил за нас двоих. Я нахожу штопор, подношу его к пробке, ввинчиваю и с силой тяну на себя. Мое запястье крутится, винт змеится вверх по руке, тянется через плечо к горлу, хватает его и душит, не позволяя мне сделать вдох или произнести хоть слово. В голове снова и снова пронзительным криком раздается ее имя. Мне нужна Клэр. Я в ней остро нуждаюсь, но в то же время ненавижу. Я думала, что сегодня победила, но теперь кажется, что меня просто вынудили сыграть совсем не в ту игру. Хлопок извлеченной из бутылки пробки приносит гораздо меньше удовлетворения, чем обычно. Несколько секунд я держу ее в руке, под определенным углом она по-прежнему выглядит идеально, так что даже нельзя догадаться, что внутри у нее дырка.
Пол сидит на диване, обычно предназначенном для гостей. Немного помедлив, я сажусь напротив, на свое обычное место. Я чувствую себя грязной и испорченной, но он, похоже, ничего не замечает.
– Даже не знаю, с чего начать, – говорит муж, при этом нервничая как мальчишка.
Раньше меня это умиляло, но теперь хочется только одного – чтобы он повзрослел, перешел, наконец, к делу и выложил все как есть. Я ничего не говорю: не собираюсь облегчать ему задачу, хотя и сама только что неизвестно откуда вернулась и непонятно чем там занималась.
– Я тебе врал, – говорит он, все еще не поднимая на меня глаз и пристально вглядываясь в какое-то пятно на полу.
– В чем?
– Я был не у мамы. К ней мне пришлось поехать накануне, она действительно упала, но вчера у меня была встреча не с ней.
Я делаю глоток вина. Примерно такое же ощущение охватывает, когда ты смотришь не в ту сторону, перед тем как перейти оживленную улицу. Терпение мое на исходе, и мне хочется, чтобы это представление быстрее подошло к концу.
– Кто она?
Он смотрит на меня и спрашивает:
– О ком ты?
– О твоей любовнице.
Мои руки все еще дрожат, поэтому я ставлю бокал на стол.
Пол качает головой и смеется.
– О господи… У меня нет никаких любовниц, я встречался со своим агентом.
Чтобы переварить неожиданную информацию, мне требуется некоторое время.
– С агентом?
– Ну да. Я не хотел тебе ничего говорить, пока не буду уверен на все сто процентов, чтобы не подавать ложных надежд.
– Ты о чем?
– Я написал новую книгу. Я не думал, что она хорошая, я вообще не думал, что в моей жизни будет еще что-нибудь хорошее. Но ее удалось продать куче издателей по всему миру. Оказывается, они даже решили устроить аукцион. В тот момент я был в Норфолке, и моя голова была настолько забита тем, что случилось с мамой, что мне самому верилось в это с большим трудом. Но это чистая правда, и теперь издатели ведут разговоры о больших деньгах. Мой роман нравится, Эмбер, в Штатах тоже все будто посходили с ума, за него разгорелась настоящая драка, в которой на сегодняшний день принимают участие тринадцать издательств. Но что еще важнее, поговаривают о его экранизации. Мы еще не подписали контракты, но выглядит многообещающе.
Он улыбается своей самой настоящей улыбкой, и я вдруг осознаю, что давно не видела его таким счастливым. Я отвечаю ему тем же – Пол будто заразил меня своим оптимизмом, удержаться невозможно. Но потом в голове всплывает воспоминание, отделаться от которого просто так не удастся.
– В твоем шкафу лежало нижнее белье. Теперь его нет.
– Что?
– Ты купил кому-то кружевное белье. Я его нашла. Оно не моего размера.
Несколько секунд я не могу понять, рассердили его мои слова или развеселили.
– Это белье я купил тебе. Но поскольку действительно промахнулся с размером, отнес обратно в магазин. И если ты сейчас поднимешься наверх, то обнаружишь точно такой же пакет с подходящим тебе подарком, спрятанный в том же месте. Во всяком случае, он должен был быть спрятан – до Рождества. Ты же не думала в самом деле, что у меня роман на стороне?
Я начинаю плакать. Ничего не могу с собой поделать.
– Прости меня, милая, прости, – говорит он, обнимая меня, и я не сопротивляюсь, – знаю, в последнее время дела у меня шли не блестяще, но я люблю тебя. Только тебя. Я знаю, что в последние несколько месяцев с головой ушел в роман и отдалился от тебя, прости меня. Мы с тобой через многое прошли, меня, конечно же, подкосила история с ребенком, но ты единственный человек, с которым мне хотелось бы разделить жизнь, и так будет всегда. Понимаешь?
Я могла бы прямо сейчас сказать ему, что скорее всего беременна. Но прогоняю эту мысль с той же скоростью, с какой она пришла мне в голову. Я еще не сделала тест и ничего не буду говорить, пока сама окончательно во всем не уверюсь. Не хочу подавать надежду, которой, возможно, не суждено сбыться. Какая же я была дура.
Пол целует меня. Впервые за долгое время по-настоящему. Я не хочу его останавливать, но он сам от меня отстраняется. Открываю глаза и вижу, что он опять мне улыбается. Я улыбаюсь в ответ. Меня охватывает ощущение неподдельного счастья.
– Правда, есть одна проблема, – продолжает он.
Зеркальная улыбка на моем лице блекнет.
– Какая?
– Мне надо будет ненадолго слетать в Америку. Договор предусматривает мое непосредственное участие в рекламных акциях, а если роман будет решено экранизировать, придется некоторое время пожить в Лос-Анджелесе. Не спорю, сначала этот вопрос надо было обсудить с тобой, однако… В общем, я уже дал свое согласие.
– И это все? Ты об этом так боялся мне рассказать?
– Я не знаю, сколько времени мне придется там пробыть, может, даже пару месяцев, а в последнее время у нас все было не так гладко. Мне это действительно нужно. Да, ты всегда говорила, что не можешь уезжать далеко от семьи, не можешь просто так взять и отказаться от работы, но ты ведь можешь меня навещать, а я прилечу обратно, как только смогу. Уверен, нам с тобой это под силу, стоит только захотеть.
Я лишь киваю и некоторое время молчу, переваривая полученные сведения.
– Да, мне известно, что когда меня нет рядом, тебе бывает страшно, – поднимаю на него глаза. – Ну хорошо, не страшно, просто ты начинаешь волноваться, как на прошлой неделе, когда тебе ночью показалось, что в саду за домом кто-то есть. Об этом я тоже позаботился, потому что хочу, чтобы ты в мое отсутствие чувствовала себя в безопасности. Сейчас можно купить миниатюрные камеры видеонаблюдения. Ни проводов, ни хлопот по установке. Я собираюсь заказать парочку и повесить на задах дома. Изображение с них будет передаваться на твой телефон, чтобы ты могла его просмотреть и убедиться, что там никого нет.
– Я сегодня уволилась.
– Как это?
– Подала заявление об уходе. Под конец рождественского корпоратива поставила в известность Мэтью.
– Но почему?
– У меня на работе выдалась ужасная неделя. Это долгая история. Просто пришла пора уходить. Поэтому если ты действительно хочешь взять меня с собой, я поеду.
– Ну конечно хочу, я люблю тебя!
Пол действительно говорит, что думает, его слова настоящие – как и слезы, которые катятся из моих глаз. Мы ничего сейчас не изображаем, мы – это просто мы, и мне становится необыкновенно легко. Его лицо расплывается в улыбке настолько широкой, что она будто грозит его поглотить. Мне тоже хочется в ответ улыбнуться, но в мозгу упорно пробивает себе дорогу мысль, которая тут же все портит. Я вспоминаю, где сегодня проснулась. Тупая боль между ног и нераспечатанный до сих пор тест на беременность в сумочке. Я думаю о Клэр. У меня так много новостей, которыми я не могу и не стану ни с кем делиться. Мне нужно принять душ. Нужно смыть с себя все, что случилось.
– Что с тобой? Ты в порядке? – спрашивает Пол, глядя на изменившиеся черты моего лица.
– Мы никому об этом не станем говорить, по крайней мере пока.
– Кому-то все же придется.
– Позже – да, но пока никому, даже близким.
– Но почему?
– Просто пообещай мне, и все.
– Ну хорошо, обещаю.
Давно
Пятница, 18 декабря 1992 года
Дорогой Дневник,
Мы с Тэйлор не виделись уже целую неделю, а мне нужно так много ей сказать. Я многое написала в рождественской открытке для нее, но уместить все не смогла, хотя почерк был совсем мелкий. Я точно знаю, что она ее получила, я сама ее отнесла, потому что папа забыл купить марки. Я постучала к ним в дверь, но никто не открыл, так что я бросила ее в их почтовый ящик. Надеюсь, она потом позвонит, потому что мне действительно необходимо с ней поговорить.
В последнее время к нам домой приходят какие-то незнакомые люди, и мне это совсем не нравится. Высокий худой человек без волос на голове пришел поговорить с мамой и папой. Он сказал, что его зовут Роджер, и при этом улыбался белозубой искусственной улыбкой. Роджер – риелтор, он ходит в блестящих костюмах. Сказал, что когда будет показывать людям дом, нам лучше всего куда-нибудь уйти. Ничего при этом не объяснил, но я полагаю, это все из-за мамы, которая сейчас в таком раздрае, что напугает кого угодно.
Папа сказал, что вряд ли кто-нибудь захочет купить Бусин дом накануне Рождества, но ошибся. Сегодня с самого утра какие-то люди пришли на «просмотр», как называет это Роджер, я еще даже не успела одеться. Сам он то стучит в дверь, то заходит без приглашения, потому что у него есть свои ключи. Он говорит о Бусином доме так, будто в нем поселился, но он никогда здесь не жил, и он ничего не понимает.
Я совсем не собиралась выходить из себя. После обеда папе назначили собеседование, потому что он опять решил устроиться на работу. Мама вышла в магазин на углу купить банку консервированных бобов, поэтому когда пришел Роджер, кроме меня в доме больше никого не было. Выйдя на цыпочках из комнаты, я увидела сквозь балясины перил его сверкающую макушку. Он говорил очень громко, будто актер на сцене в спектакле, на которые когда-то водила меня Буся. Актеры так делают, чтобы их могли слышать зрители, которые сидят на самых дешевых местах в глубине зала. Роджер выкрикивал что-то для толстых супругов, хотя они стояли прямо перед ним. Может, они слабослышащие, как мой покойный дедушка? Они расхаживали по прихожей вразвалочку, как перекормленные черствым хлебом утки, и совсем мне не понравились.
Роджер орал так громко, что я продолжала слышать его крики, даже когда убрала подпорку в виде железной малиновки и закрыла дверь. Попыталась было почитать, но не смогла сосредоточиться, зная, что они шляются внизу, все вынюхивают и повсюду суют свой нос. Они поднялись по лестнице, которая под их ногами скрипела даже больше обычного, и целую вечность разглядывали ванную. Она у нас не особенно большая, но все, что положено, в ней есть, и я понятия не имею, на что там так долго можно смотреть. Мне казалось, что по дому расхаживают грабители, с той лишь разницей, что мама с папой их сами к нам пригласили.
Потом они прошли в бывшую спальню мамы с папой. Они были прямо за стенкой, так что я услышала, как этот толстяк сказал, что к нашему дому «надо приложить руки». Интересно, что это значит? В той комнате теперь спит только мама, я ее ненавижу, но мне все равно не понравилось, что они там ходят и все трогают. Тут заговорила толстая женщина, которая раньше молчала. И вот как раз она, а не Роджер или толстяк, меня страшно разозлила.
Потому что сказала три вещи, которые довели меня до белого каления:
1. «Ни один человек в здравом уме не станет здесь жить».
2. «По правде говоря, его вообще лучше снести».
3. «Маленький, уродливый домишко».
Мое дыхание участилось, в голове зашумело, как часто бывает, когда я чем-то очень расстроена. Никогда бы не поверила, что можно быть такой грубой дурой. Я не знала, что буду делать, у меня не было никакого плана, но как-то действовать было необходимо. Я не хотела, чтобы эти жуткие толстые люди купили Бусин дом. Я не хотела делать ничего плохого, наверное, я просто хотела, чтобы они ушли.
Все произошло очень быстро. Я услышала, что они выходят из маминой комнаты на лестничную площадку. Потом Роджер открыл дверь в мою комнату, и тогда я просто изо всех закричала и не замолкала очень долго. Толстая женщина, казалось, была в ужасе, и Роджер тоже немного испугался, а у толстого мужчины лицо и так уже было ярко-красное оттого, что он поднимался по лестнице, и я подумала, что у него может быть сердечный приступ.
– Успокойся, малышка, – сказал Роджер.
Его слова разозлили меня еще больше. Я ему не малышка! Потом он добавил, что они не хотели меня напугать, и это был полный бред. Они меня совсем не напугали, а вот я их – да. После этого мне очень захотелось, чтобы они ушли, и я повторила то, что моя мама сказала маме Тэйлор, когда решила ее прогнать: «Убирайся из моего дома, вонючая сука!» Я очень громко выкрикивала это много раз подряд. Даже видя, что они спустились по лестнице, я продолжала стоять на площадке и вопить во всю глотку. Потом швырнула железную дверную подпорку Роджеру в голову, но промахнулась – она ударилась о стену и упала на ковер. Я была рада, когда они ушли. Сначала я испугалась, что сломала мою малиновку, однако с ней ничего не случилось, на ней не осталось ни малейшей царапинки, в отличие от стены, зиявшей теперь зазубренной вмятиной в виде клюва. Интересно, что такая маленькая вещь может причинить такой ущерб, но сама при этом совершенно не пострадать.
Когда мама вернулась с банкой бобов, я не стала ей ничего рассказывать. Зазвонил телефон, она ответила, но поскольку в этот момент находилась на кухне, я не слышала, ни с кем она говорит, ни о чем. Чуть позже она позвала меня вниз и сказала, что звонил Роджер. Сказала сесть на диван, и я решила, что у меня проблемы. Но потом она села рядом со мной, и я, подняв глаза, увидела, что лицо у нее не сердитое, а печальное. Мама сказала, что какие-то люди, смотревшие утром дом, покупают его и нам скоро придется съехать. Я заплакала, не в состоянии ничего с собой поделать, и она тоже немного со мной поплакала. Потом попыталась меня обнять, но я оттолкнула ее и побежала наверх в свою комнату.
Чуть позже она поднялась наверх. Она постучала в дверь, но я ничего не ответила. Я знала, что после того случая мама ни за что не войдет без моего разрешения. Она, казалось, простояла там целую вечность, а потом прошептала, будто призрак:
– Спокойной ночи.
Потом она ушла.
Я ответила слишком поздно, не думаю, что она слышала. Это был стишок, которому мама меня научила:
Спокойной ночи, сладких снов, Не пускай в кровать клопов. А если клопик заползет, Раздави его без жалости[10].Я свернулась калачиком, подложила под голову подушку, задержала дыхание, насколько смогла, но потом все же выдохнула ртом воздух и не умерла.
Сейчас
31 декабря 2016 года
– Как ты?
Я открываю глаза и вижу Джо, которая сидит в ногах моей больничной койки. Мне ужасно приятно ее видеть, даже если она пришла не одна.
– Знаешь, если тебе не хотелось выходить после Рождества на работу, так бы сразу и сказала, для этого совсем не нужно было врезаться в дерево и впадать в кому.
Джо улыбается и берет меня за руку. Она выглядит совсем молодой. Как бы мне хотелось, чтобы время пощадило меня так же, как ее. Я могу видеть палату, светлую и яркую, она намного уютнее, чем я представляла. Широко распахнутое окно обрамляет безоблачное голубое небо, где-то на заднем плане поют птицы.
– Ты уже вспомнила, что произошло? – спрашивает она.
Я качаю головой.
– Но ты ведь знаешь, что Пол ни при чем, правда? Он бы никогда не причинил тебе вреда. Во всяком случае, таким способом.
Я киваю, теперь доподлинно зная, что она права. Пока я здесь лежала, правда немного перекрутилась и смешалась, но теперь кончики этого клубка начинают потихоньку распутываться.
– Авария со мной произошла не случайно, да? – спрашиваю я.
Странно вновь слышать звук собственного голоса, произносящего вслух слова.
– Да.
Я опять киваю. Все элементы головоломки теперь отчетливо видны, хотя складываться в общую картину пока не желают.
– Зачем ты это сделала? – спрашивает Джо.
Теперь она говорит не об аварии.
Как же хорошо ее видеть, она единственный человек, с которым я могу быть до конца откровенной, ни в чем не лгать и ничего не таить. Меня охватывает желание просеять правду сквозь решето воспоминаний.
– Ты знаешь зачем, – отвечаю я.
– Я не знаю, зачем ты уволилась, необходимости в этом не было.
– На эту работу я устроилась, только чтобы добраться до Мадлен, и тебе это прекрасно известно.
– Еще мне известно, что тебе полезно было иметь работу, какое-то собственное занятие.
– Это была отстойная работа.
– Вести передачу, занимающую первые строчки рейтингов, наслаждаться вниманием миллионов слушателей – это не отстой.
– Но я ведь на самом деле не была ведущей, правда же? – говорю я. – Мы с тобой это выдумали, чтобы было веселее.
– Правда, что ли? – хмурится Джо.
– Да. Я была всего лишь личной помощницей Мадлен.
– Личной помощницей?
– Да-да, Джо, и ты это прекрасно знаешь.
– Может и знаю. Видимо, забыла. У меня в голове порой бывает такая каша.
– Да нет, это не у тебя, а у меня в голове каша, – возражаю я, и она отпускает мою руку.
В этот момент вдруг резко темнеет, за окном начинается дождь. На смену щебету птиц приходит неистовый вой ветра, озлобленно разметавшего по палате шторы и простыни. Цвета в комнате блекнут, как будто я смотрю раскрашенную версию черно-белого фильма, и я понимаю: что-то не так. Окружение утрачивает черты реальности, напоминая, что я потерялась. Я сажусь на кровати и тяну к Джо руку.
– Прошу тебя, найди меня, я хочу, чтобы меня нашли.
Но в этот момент к Джо подходит девочка в розовом халате, берет ее за руку, не давая мне к ней дотянуться, и тащит к двери. Палата разваливается на части, и ее отдельные фрагменты с острыми углами проваливаются во мрак. Мне надо держаться. Я так хочу сплести воедино частички моей жизни, но не понимаю, как.
– Тебе пора? – звучит мой вопрос.
– Думаю, да, – отвечает Джо. Они вместе выходят из комнаты и закрывают за собой дверь.
Недавно
Канун Рождества 2016 года, утро
Терять любимого человека всегда больно, но если он умирает под Рождество, это ужасно. Наши родители погибли как раз на Рождество, и после этого оно уже никогда не было таким, как раньше. Нас всегда будет объединять эта трагедия, как бы далеко мы ни разошлись. Провести вместе Рождественский сочельник предложила не я, а Клэр, но я не смогла ей отказать, потому что для нас это стало чем-то вроде болезненной традиции. Она сказала, что мы будем думать о том, что у нас есть, а не о том, что мы потеряли. Я пытаюсь. Я знаю, что она видит во мне их черты. Порой у меня складывается впечатление, что Клэр, только лишь глядя на меня, пытается извлечь из моей ДНК последние частички наших родителей. У меня такие же глаза, как у мамы. Иногда, глядя на себя в зеркало, я тоже ее вижу – она всегда недовольна дочерью, которая стоит по эту сторону зеркала.
Свой выбор я остановила на Кингстон Хай-стрит – на ней всегда людно. Близнецы, эта ужасная парочка, прекрасно отвлекут меня от мыслей о предстоящем дне. Клэр прикатила их в двойной коляске, самой большой из всех, которые мне когда-либо приходилось видеть. Каждый из них сжимает в кулачках свою собственную игрушку – им никогда не приходится делиться. Мальчик и девочка, теперь у нее есть своя маленькая семья, этого ей должно быть достаточно. Близнецов Клэр любит больше, чем меня, больше, чем любила кого-либо в семье, и так и должно быть. Сегодня, когда придет время, она все узнает. А может, не все, а лишь то, что ей положено знать.
– Глупышка, оно же им мало, – говорит Клэр.
– Знаю, зато как красиво.
С этими словами я вешаю обратно платьице для девочки до полугода. Утром, пока Пол спал, я сделала тест на беременность, который дал положительный результат. Думаю, я и без него все знала. Даже не представляю, как мне удалось забеременеть после такого множества бесплодных попыток. Вероятно, это знак судьбы, иначе и быть не может. Пришло время идти дальше и наладить жизнь с Полом. С ним и больше ни с кем. Создать собственную семью, которую у нас никто не сможет отнять. Перед тем как говорить кому-то еще, я хочу сообщить эту новость ему. Проигрываю сцену в голове, как же он будет счастлив. Я скажу сегодня вечером.
Я покупаю близнецам немного выбранной Клэр одежды. Пусть носят то, что нравится ей, они не запомнят даже Рождество, а уж тем более свои наряды. Интересно, они будут хоть что-нибудь обо мне помнить, если я вскоре исчезну из их жизни? Недавно я посмотрела значение термина «крестная мать»: «женщина, назначаемая официальным опекуном ребенка в случае преждевременной кончины родителей». Преждевременная кончина — мне никак не удается выбросить эту фразу из головы. Моя роль тетки и крестной матери пока что не особенно много значила, но потом все изменится. Когда ребята подрастут, я буду делать для них неизмеримо больше. Что случилось в это Рождество, они не запомнят, в их жизни оно не сыграет никакой роли.
В потоке покупателей, бегающих в поисках подарков в последние часы перед праздником, почти невозможно переходить от магазина к магазину. Мне кажется странным, что отягощенные пакетами и долгами люди, мимо которых мы проходим, выглядят такими счастливыми. Иногда у меня возникает чувство, что все вокруг счастливее меня, потому что посвящены в некую неведомую мне тайну. Широкие улыбки на их лицах слишком навязчивы. Я чувствую, что ненавижу их, ненавижу все вокруг. Рождественские огни, песни, искусственный снег – все то, что раньше нравилось, теперь не находит в душе никакого отклика. Клэр тоже не получает удовольствия. Мы похожи с ней куда больше, чем я осмеливаюсь признать, и буквально на моих глазах ее охватывает подавленное настроение, если не хуже. С учетом этого мою новость лучше сообщить пораньше, пока она не погрузилась в совершенно мрачное расположение духа и не увлекла меня за собой.
Я веду нашу небольшую процессию на рождественскую ярмарку. Клэр такое любит. Сестра останавливается у прилавка с ароматическими свечами. По очереди берет их в руки, подносит к лицу и вдыхает запах. У каждой из них свое название. Любовь. Радость. Надежда. Интересно, а как она пахнет, эта надежда?
– Этот твой друг из университета, с которым ты на днях столкнулась… – произносит она, все так же не отрывая взгляда от свечей.
Мои ноги будто прирастают к асфальту, и оживленная рождественская ярмарка в одночасье погружается в молчание.
– Не друг, а бывший парень, – с трудом выдавливаю я из себя.
– Неважно.
Клэр берет в руки ароматический диффузор с палочками, торчащими во все стороны, словно у ощетинившегося ежа.
– Вчера вечером я вспомнила, кто он такой.
Вчера вечером, когда я проснулась в его постели.
Эти слова прозвучали только у меня в голове, но я все равно боюсь, что ей как-то удалось их услышать. Клэр продолжает, не глядя на меня, чему я только рада – не уверена, что лицо меня не выдаст.
– Он учился на медицинском, так ведь? – спрашивает она.
– Да.
– Помнишь, когда ты его бросила, он никак не мог от тебя отстать?
– Помню. Мой поступок его расстроил. Он не понял, почему мы с ним расстались. Я же не могла объяснить ему, что меня заставила ты.
– Я тебя не заставляла. Просто он тебе не подходил. Симпатичный малый, но тут у него что-то было не так.
С этими словами Клэр стучит себя указательным пальцем по виску.
– Помнишь, как он бесконечно тебе названивал? А как по ночам караулил тебя у квартиры?
– Я же ведь уже говорила, он очень расстроился.
– А ты никогда не задавалась вопросом, почему он в конце концов перестал тебя преследовать?
Клэр поворачивается ко мне, смотрит сияющими от восторга глазами, но уже в следующее мгновение ее внимание вновь поглощают товары на прилавках.
Мозг переходит в форсированный режим. Фрагменты пазла, о существовании которого я даже не подозревала, встают на свои места.
– Что ты сделала? – спрашиваю я.
– Ничего такого. Всего лишь написала пару писем. Какая жалость, что люди перестали писать письма, правда же?
Она не поднимает глаз, лишь небрежно идет вдоль прилавка, берет в руки пастельного цвета восковые лампы, подносит к лицу и вдыхает аромат.
– Я должна знать, что ты тогда сделала.
Наконец она поворачивается ко мне.
– Написала несколько жалоб на твоего бывшего руководству медицинского факультета. От имени разных женщин, на разной бумаге и каждый раз другим почерком. По правде говоря, придумано было просто здорово, – Клэр улыбается. – А потом позвонила ему из автомата и сказала, что письма не закончатся до тех пор, пока он не оставит тебя в покое.
Улыбка на ее лице сменяется взрывом хохота.
– Это не смешно, Клэр. Ты могла поставить крест на всей его карьере.
– Чем он сейчас занимается?
– Стал врачом.
– Значит, ничего страшного с ним не случилось. Ты, как всегда, переживаешь из-за ерунды. Я говорю тебе это на тот случай, если ты вдруг «столкнешься» с ним опять. Но послушай моего совета – держись от него подальше.
– Почему? – спрашиваю я, хотя, боюсь, и так знаю ответ.
– Потому что я, кажется, сказала ему, что те письма писала ты.
Недавно
Рождественский сочельник 2016 года, после полудня
Ярмарка начинает кружиться, и мне необходимо как-то восстановить равновесие. Над запахами свечей, пряностей и людей парит аромат глинтвейна. Нужно успокоиться и сосредоточиться на том, что я должна сказать. Я заталкиваю Эдварда в самый дальний и темный уголок разума, запихиваю в коробку и запираю на замок. Мне и раньше доводилось прятать воспоминания в коробки. Иногда это единственный способ с ними справиться.
– Может, выпьем что-нибудь? – предлагаю я.
– Давай, – отвечает Клэр.
Я встаю в очередь у стойки, она отправляется искать свободный столик. По дороге дает близнецам немного чипсов, чтобы они вели себя смирно. Им не следовало бы есть такую гадость, но я ничего не говорю. Я слышу за спиной щелчок фотокамеры и резко поворачиваюсь, мозг тут же воспроизводит в голове последние мои снимки, висящие у Эдварда в коридоре. Не удивлюсь, если сейчас увижу, как он в толпе опять меня фотографирует. Надо перестать без конца о нем думать, проблемы надо решать по очереди, но перед мысленным взором упорно стоит мое собственное лицо – в те мгновения, когда на него никто не смотрит. Такие снимки показывают, как мы выглядим, когда пытаемся удержаться, а жизнь тянет нас вниз. Бумажный прямоугольник, обнажающий наши скрытые стороны.
Я ставлю чашки с глинтвейном на стол и грею руки, обхватывая пальцами горячее стекло. Оно немного обжигает, но ничего, пусть мне будет больно. Клэр отпивает бархатистой жидкости. По мере того как сама она согревается, ее нервы успокаиваются. Внутренний термостат сестры возвращает ее в более устойчивое состояние, но мы все еще не можем преодолеть возникшую неловкость. Это опасно.
– Не сердись, это было сто лет назад, – говорит она, опять отпивая из чашки.
– Я не сержусь.
– Тогда в чем дело?
Вопрос застигает меня врасплох, и я чувствую, что могу упасть со стула.
– Ни в чем.
– Хватит тебе, давай выкладывай. Не забывай, что я знаю тебя как свои пять пальцев.
Она улыбается, по-прежнему полагая, что контролирует ситуацию.
– Если ты собираешься мне что-то сказать – говори, не тяни.
Я смотрю по сторонам. Вокруг полно народу.
– Я сделала, как ты просила.
Она ставит чашку на стол.
– Ты о Мадлен?
– Да.
Сестра опять улыбается. Я не удивляюсь, что она еще ничего не знает, она всю жизнь проводит в собственном пузыре. Не проявляет интереса к социальным сетям, не пользуется даже электронной почтой, а Интернет использует только для покупок. Теперь, когда я больше не мелькаю на экране, не смотрит новостей, предпочитая им бесконечные мыльные оперы и реалити-шоу.
– Весь вопрос во времени. Не понимаю, почему ты со всем этим так долго возилась. Давай рассказывай.
В ее глазах читается предвкушение, как у ребенка рождественским утром.
– Важно лишь одно – ее больше нет. Она ушла.
– Отлично. Желаю ей провести пенсионные годы в тоске и унынии.
С Клэр у нас никогда нет недомолвок, со мной она никогда никого из себя не корчит. Ей известно, что я о ней знаю, но это ее совершенно не беспокоит. Кэти на своем высоком стульчике начинает хныкать. Клэр не удостаивает ее даже взглядом.
– Как она выглядела?
– В каком смысле?
– Когда ты ей сказала.
Кэти плачет громче. Окружающие в раздражении поглядывают на нас, но Клэр не реагирует и лишь смотрит на меня. Ее лицо до боли знакомо, но что-нибудь прочесть на нем невозможно.
– Если честно, я не хочу об этом говорить.
– Зато я хочу.
– Я сделала все по-своему. Но сделала же, это главное.
Близнецы теперь плачут навзрыд, однако мы их будто не слышим.
– Спасибо, – говорит она.
Разговор получается какой-то фальшивый.
– Выбора у меня особенно не было. А теперь, когда я сделала, как ты просила, оставь Пола в покое.
После этой фразы она смотрит на меня, во взгляде ее сквозит предупреждение. Через пару столиков от нас на каменный пол падает чашка, и у меня возникает ощущение, что в наших с ней отношениях тоже что-то разбилось. Я знаю, что больше не должна ничего говорить, но у меня в голове как будто открыли какой-то ящик, и давно залежавшиеся, аккуратно сложенные слова рвутся наружу.
– Клэр, я серьезно. Оставь Пола в покое, в противном случае я исчезну и ты меня больше никогда не увидишь.
– Что-то случилось? – спрашивает она и немного выпрямляет спину.
– Нет.
– Я тебе не верю. Ты сама не своя. Тебя… будто выбили из колеи. Он тебя обидел?
– Нет!
Клэр вглядывается в мое лицо, и я отвожу глаза. Слишком поздно. Она уже успела в них что-то такое заметить.
– Тебя обидел кто-то еще?
– Нет! – опять отвечаю я, правда, недостаточно быстро.
На несколько секунд меня охватывает желание во всем ей признаться. Сказать, что она, как всегда, права. Но я ведь так и не вспомнила, как оказалась у Эдварда в постели. Когда в памяти всплывает мое обнаженное тело на темно-синих простынях, я начинаю подозревать, что во всем виновата только я.
– Ну хорошо. Когда созреешь, скажешь. Ты всегда мне все говоришь. А Пол тебе больше не подходит. Он сбился с жизненного пути, ты можешь найти себе кого-нибудь получше. Мама с папой с самого начала это знали.
– Оставь его в покое.
– Не глупи.
– Если с ним что-нибудь случится, я себя убью.
Уголки ее рта ползут вверх.
– Не убьешь, – отвечает она сквозь улыбку.
Беги, кролик, беги. Беги! Беги! Беги!
Близнецы вопят, я тоже начинаю плакать. Спокойствие за нашим столиком сохраняет одна лишь Клэр.
– У нас с тобой был договор, – говорю я. – Если бы кто-то узнал, что ты…
Клэр тянется через стол и берет меня за руку. А потом с такой силой ее сжимает, что мне становится больно.
– Просто будь осторожна, Эмбер.
Давно
Суббота, 19 декабря 1992 года
Дорогой Дневник,
Узнав, что нам опять надо переезжать, я перестала разговаривать с мамой и папой, хотя они, похоже, этого даже не заметили. Утром я сказала папе, что хочу погулять в парке, и он мне разрешил. Потом, когда родители устроили на втором этаже очередной скандал, я позвонила Тэйлор. Ее мама позвала ее к телефону, подружка не изъявила особого желания со мной говорить, но я попросила ее, если может, туда прийти. Парк находится ровно на полпути между нашими домами. Я вышла в 12:47, потому что назначила встречу на час и знала, что туда идти тринадцать минут. Часов у меня нет, но, по-видимому, я добралась до места очень быстро, потому что мне долго пришлось сидеть на качелях и ждать.
Когда я уже отчаялась, я увидела «Вольво» на улице возле парка. Мама Тэйлор помахала мне и улыбнулась. Я в ответ тоже помахала, но не улыбнулась, потому что хотела, чтобы она видела, что мне грустно. Я подумала, что это странно, что Тэйлор не пошла пешком, ведь здесь совсем недалеко. Она страшно долго выбиралась из машины, а когда выбралась, оказалось, что она выглядит совсем по-другому. Тэйлор сделала стрижку боб, так что теперь мы уже не похожи друг на друга.
Площадка, на которой мы встретились, предназначена для маленьких детей, она огорожена по периметру, чтобы они оставались внутри, чтобы они оставались в безопасности. Тэйлор подошла и остановилась по другую сторону, будто я сидела в тюрьме, а она меня навещала. Поначалу все было странно, не так легко и приятно, как раньше. Я сказала, что переезжаю, она ответила, что знает, и странно пожала плечами. Потом добавила, что слышала от родителей, будто моего папу уволили за воровство. Я возразила, что это неправда, и объяснила, что папа ушел, чтобы ухаживать за мамой. Не думаю, что она мне поверила. Потом я предложила поговорить, сидя на качелях, а не через загородку, она обогнула ее и вошла на площадку.
Я спросила, как дела в школе, Тэйлор ответила, что поскольку сейчас конец четверти, я пропустила совсем немного. Говорить с ней было тяжело, она, похоже, даже не догадывалась, как мне плохо от того, что нам опять надо переезжать, поэтому я нарочно немного поплакала. После этого она подобрела и как будто даже стала прежней Тэйлор, хотя и выглядела иначе. Я спросила, все ли у нее в порядке в школе, когда рядом нет меня, и она покачала головой. Потом она сняла пальто и закатала рукав свитера. У нее на руке были два круглых, красных шрама. Я спросила, кто это сделал, но она не ответила. Я спросила, можно ли их потрогать, и она кивнула. Я очень осторожно к ним прикоснулась, погладила кожу и обвела пальцем воспалившиеся красные бугорки, начертив вокруг них восьмерку. Я сказала, что мне жаль, что меня там не было, чтобы уберечь ее. Когда я убрала палец, она опустила рукав и надела пальто. Я знала, что она так дает понять, что больше не хочет об этом говорить.
Она встала, сделала несколько шагов, я испугалась, что расстроила ее и что она сейчас уйдет. Но Тэйлор подошла к карусели и улеглась на нее. Ее дурацкий вид меня рассмешил. Я подбежала к ней, схватилась за железный поручень, побежала, раскручивая что есть сил, а когда карусель разогналась до предела, запрыгнула и улеглась напротив Тэйлор. Мы обе хохотали, я потянулась к ней и взяла за руку. Вот так, держась друг за дружку и хохоча, мы наворачивали круги до тех пор, пока у меня не закружилась голова, хотя мне на это было наплевать. Мне хотелось бы, чтобы мы там остались навсегда.
Потом карусель остановилась, но мы продолжали на ней лежать, и Тэйлор рассказала мне смешную историю о своей подруге Джо, которая очень любила посещать новые места, знакомиться с новыми людьми, умела слушать и хранить чужие секреты. Я сначала немного приревновала к Джо, мне казалось, что если мы с Тэйлор лучшие подруги, то ей больше никто не нужен. Если честно, мне вообще ничего не хотелось о ней слышать, до тех пор пока Тэйлор не объяснила, что она ненастоящая, это ее воображаемый друг. Я очень смеялась. Она сказала, что если я хочу, то после переезда могу одолжить у нее Джо, которая составит мне компанию, когда мне будет страшно или одиноко. Так у меня будет подруга, где бы я ни оказалась. Я ответила, что пока у меня есть Тэйлор, мне больше никто не нужен, но она как будто бы меня не слышала. Она сказала, что Джо может сегодня пойти со мной домой, чтобы посмотреть, сможем ли мы с ней дружить. Благодарить ее я не стала. Тут Тэйлор как будто немножко двинулась и сказала, что Джо сейчас сидит на качелях и чтобы я ее не обижала. Я взглянула на качели. Там никого не было. Я подумала, что Тэйлор просто больная, но когда пора было возвращаться домой, я все-таки согласилась взять с собой Джо, просто чтобы сделать ей приятное. Сейчас Джо сидит со мной в комнате и смотрит, как я пишу в дневнике. Она блондинка, одета в синие джинсы, и у нас с ней одинаковые вкусы во всем. Она без конца шепчет мне всякое на ухо. Не знаю, будем мы дружить или нет, но пока пусть остается.
Сейчас
31 декабря 2016 года
Пол выходит из палаты, и я жду, что Клэр что-нибудь скажет. Я знаю, что она не удержится, даже зная, что мне ее не услышать.
– Тебе тридцать пять лет, а ты все еще выдумываешь истории про воображаемых подруг? Я думала, это шутка, – она смеется недобрым смехом. – На мой взгляд, здесь важно только одно: с кем ты на самом деле была, когда говорила Полу, что встречаешься с Джо?
Дверь открывается, и я испытываю благодарность за то, что ее прервали.
– Простите, – говорит Эдвард, – я не хотел вас напугать.
Чувство облегчения мгновенно испаряется.
– Видя, что я сижу и разговариваю с собой, вы, вероятно, решили, что перед вами сумасшедшая, – произносит Клэр.
– Вы, может, и сумасшедшая, но разговариваете не с собой, а с сестрой. С пациентами нужно общаться, это идет на пользу как им, так и вам.
– Мы, кажется, незнакомы. Откуда вы узнали, что я ее сестра? – спрашивает Клэр.
Вот он и попался, она любого видит насквозь.
– Вы похожи, – отвечает Эдвард, – я пришел лишь, чтобы…
– Разумеется, доктор?..
– Кларк.
Мне казалось, что Полу он представился санитаром.
Несколько мгновений я прислушиваюсь к вежливому разговору между моим поработителем и сестрой. Судя по ее голосу, он ей не нравится. Я стараюсь хвататься за форму слов, какими бы поверхностными они ни были. Голоса становятся тише, будто кто-то в моем мире убавил звук почти до минимума. Не знаю, как это назвать, но оно вновь приближается. Когда-то давно я первой выбрала тишину, и теперь она неизменно в ответ выбирает меня.
Время замедляется. Я все еще слышу вдали голос Клэр, но лишь самую малость. Глаза и рот закрыты, в уши заползает покой, наконец я полностью глохну, слепну и цепенею. А когда больше не могу слышать ее голос, открываю глаза и вижу Клэр прямо передо мной. Мы стоим в прихожей ее дома, она замерла, как живая статуя, будто остановившись на полуслове. Преломляемый блеском глаз, на лице сестры застыл ужас. Проследив за ее взглядом, я опускаю глаза и вижу, что по моим ногам струится кровь, но тут же исчезает, будто сон. Мне совершенно ясно, что смотреть больше не стоит, но теперь, когда мои глаза открыты, мне не удается их закрыть. Я хочу нажать на стоп, но мой мозг продолжает перемотку назад. Клэр кричит на меня, но я ее не слышу, звук выключен. Я задом наперед выхожу из ее дома и пячусь к дороге. Когда я втискиваюсь в машину, она закрывает дверь. Значит, она там стояла и ждала меня. Прежде чем я успеваю сообразить, что это значит, я завожу машину Пола и еду задним ходом по знакомым улицам, пока не оказываюсь возле нашего дома. Пока я подъезжаю и останавливаюсь, Пол что-то кричит. Прежде чем выйти, я дважды открываю дверцу автомобиля; мои холодные влажные пальцы так сильно стискивают ключи, что больно руке. События разворачиваются в обратном порядке. Я стою напротив Пола, мы кричим друг на друга, льет дождь. Я не слышу, что мы говорим, но вижу, как двигаются его губы. Он машет руками – я не сразу понимаю, что это значит. На его лице читается не гнев, а страх. Ливень лупит со всех сил, все снова замедляется и в конце концов замирает.
Все это я вижу настолько отчетливо, что окружающий мир в моих глазах приобретает черты реальности. Потому что это и есть реальность. Я уверена – это не сон, а воспоминание. Я опускаю глаза и вижу, что мое новое кремовое платье промокло и прилипло к телу, но крови не видно, значит, мой ребенок еще там, живет и растет у меня в утробе. Руки прикрывают живот. Интересно, а почему на мне нет пальто? Видимо, выбежала в спешке. Пол трясет головой и пятится к дому. Я остаюсь стоять одна под дождем. В этой части определенно что-то не так. Вот так я не стояла, но сейчас, видимо, важно застыть во времени и пространстве до тех пор, пока не вернутся воспоминания, пока происходящее не обретет смысл. Тугие струи ливня больно хлещут в лицо. Взор затуманивается, и я вдруг понимаю, что течет не только сверху, но и у меня из глаз. Я слышу, как с ночного неба на меня вместе с дождем низвергается голос Пола:
– Она плачет.
Черные небеса стекают на дом и выплескиваются на крышу машины. Воспоминание затушевывается, но мне нельзя его отпускать, я должна вспомнить, что случилось. Ее присутствие я ощущаю еще до того, как вижу перед собой. Рядом стоит девочка в розовом халате и просовывает свою маленькую руку в мою. Теперь у нее есть лицо, я знаю, кто она.
– Посмотрите, она плачет, – опять говорит Пол из-за дерева, и до меня доходит, что это правда.
Девочка тоже начинает плакать, я крепче прижимаю ее к себе, понимая, что никогда не должна ее от себя отпускать. Она не смогла бы ничего предотвратить, но это не ее вина. Образ темнеет, исчезает из памяти, и вскоре от него остается лишь чернота. Но только в этот момент все становится ясно. Она выбрала для себя молчание, и теперь я должна его терпеть. Девочка крепко держится за меня, больше двух десятков лет исчезают, и я смотрю на ту, которой когда-то была. Она преодолела четверть века сквозь время и пространство, чтобы напомнить мне, какой я была тогда и какой должна быть сейчас.
Некоторые становятся призраками еще при жизни.
Недавно
Рождественский сочельник 2016 года, после полудня
По возвращении домой мне все не удается унять дрожь в руках. Клэр я оставила на рождественской ярмарке, просто ушла, не оглядываясь. Небо отяжелело от набухших дождем туч, и мне хочется только одного – оказаться дома, навеки отгородиться от мира, от своих заблуждений и ошибок.
Я вытаскиваю из сумочки ключи и понимаю, что вместо своих случайно прихватила связку Пола. Такая небрежность совсем не в моем духе. Нужно успокоиться, взять себя в руки, собраться с мыслями. Переступив порог, я тут же испытываю облегчение. Прислоняюсь спиной к двери, усилием воли замедляю бег мыслей и стараюсь унять учащенное дыхание. На мгновение закрываю глаза, желая обрести ясность мышления, но когда открываю их, в голове по-прежнему остаются вопросы. Очень трудно увидеть то, чего нет.
Оказавшись в прихожей, сдираю пальто, вешаю его на плечики и наклоняюсь, чтобы снять ботинки.
– Я дома, – безрадостно сообщаю я.
Без ответа.
Развязываю шнурки на втором ботинке.
– Пол?
Тишина.
Я никогда не любила чужих прикосновений. Я приучила себя не уворачиваться и не отстраняться, но все-таки всегда считала, что бессмысленно держаться за человека, которого тебе рано или поздно придется отпустить. Однако сейчас мне бы хотелось, чтобы меня кто-нибудь обнял. Мне бы хотелось схватиться за кого-нибудь и дать ему схватиться за меня.
Язык обожжен глинтвейном, мне хочется пить, поэтому я направляюсь на кухню и наливаю стакан воды из-под крана. Опрокидываю в себя холодную жидкость, оглядываюсь по сторонам и тут же замечаю неладное. Ставлю стакан на стол и смотрю на плиту. Крайняя левая ручка сейчас в неправильном положении. Я с опаской поворачиваю ее до конца, будто она сама собой может выкрутиться обратно прямо у меня на глазах. Смотрю по сторонам в поисках объяснения и чувствую прилив злости на Пола, именно сегодня проявившего такую беспечность. Слышу в соседней комнате скрип половицы и выпускаю бурлящий внутри гнев наружу.
– Ты не выключил плиту! – ору я в пустоту и бегу вглубь дома в поисках кого-нибудь, на ком можно сорвать раздражение.
Однако Пола нигде нет. Я замираю как вкопанная в гостиной – совершенно пустой, если не считать огромной нарядной елки в углу. Утром ее не было, в этом году мы договорились не заморачиваться с украшениями, но вот она здесь, высокая, вся усеянная крохотными белыми мигающими огоньками. Почти на каждой ее ветке висят игрушки, которые мы с Полом покупали все эти годы: миниатюрная коричневая сумочка из Нью-Йорка, крохотный нефритовый ангелочек из Новой Зеландии, кружевной снеговичок из Германии. Раньше мы так много путешествовали и теперь – теперь мы снова так будем делать, раз у Пола новая книга. Я не могу сдвинуться с места, завороженная свисающими с веток воспоминаниями, и вдруг понимаю, что улыбаюсь, хотя на меня никто не смотрит, улыбаюсь просто потому, что мне радостно. Гирлянду надо выключить – я читала, что если она слишком долго горит, это может стать причиной пожара, дома не раз выгорали дотла.
Со второго этажа доносится скрип половицы, и пока ноги несут меня вверх по ступенькам в поисках Пола, я пытаюсь стряхнуть с себя последние остатки раздражения. Он сделал хорошее дело, поэтому плохое ему надо простить. Я возвращаюсь обратно в нашу спальню и в этот момент замечаю, что в ней что-то неуловимо изменилось. Пристально оглядываю комнату и обнаруживаю, что дверцы шкафа, от которого у нас всегда одни проблемы, немного приоткрыты, хотя им всегда полагается быть плотно закрытыми. Дыхание учащается, руки покрываются мурашками, призывая к бдительности, но я убеждаю себя, что это просто глупость. Подхожу, чтобы закрыть их, и вдруг вижу, что мои вещи кто-то трогал – они висят совсем не так, как им положено. Я всегда вешаю их на плечики по размерам и цвету, для этого у меня есть своя система, и сейчас она нарушена.
Что-то не так, теперь в этом нет никаких сомнений.
Я не выдумываю.
Я замираю на месте и прислушиваюсь к малейшим звукам. Ничего. Крадусь по лестничной площадке и заглядываю в двери, страшась того, что могу там увидеть. Даже собственное дыхание кажется мне чересчур громким. Я останавливаюсь у двери в ванную. Теперь, когда я смотрю внимательно, я замечаю, что аптечка чуть приоткрыта, а полотенца не образуют ровную линию, которую я предпочитаю им придавать. Пол никогда бы так не сделал, зная, что меня это привело бы в ярость. Здесь был кто-то еще.
Клэр.
Она вполне могла на это пойти, чтобы наказать меня и преподать урок. Не понимаю, как она успела добраться сюда раньше меня и как попала в дом без ключей. Я задерживаю дыхание до тех пор, пока мысли не начинают задыхаться, пока не приходит уверенность, что их никто не услышит.
Надо найти Пола. Я должна убедиться, что с ним ничего не случилось. В этот момент я слышу его шаги внизу, вероятнее всего, он был в саду и теперь вернулся в дом. Чувство облегчения так сильно, что я оставляю второй этаж в непозволительном беспорядке и устремляюсь вниз по лестнице. Мне так нужно увидеть его. На кухне, где я ожидала его найти, никого нет. Возвращаюсь обратно по коридору в гостиную, изображаю на лице улыбку и распахиваю дверь, которую, если мне не изменяет память, за собой не закрывала.
На елке опять горят огни, но, войдя в комнату, я замечаю совсем другое. Первым делом я замечаю Эдварда. Он сидит на диване и смотрит на меня с таким видом, будто я назначила ему свидание и он меня ждет, будто человеку из далекого прошлого вполне нормально сидеть в моей гостиной. Мне хочется пронзительно закричать, и еще сильнее – убежать прочь. Эдвард улыбается
– Привет, Эмбер. У тебя усталый вид, почему бы тебе не присесть?
Давно
Понедельник, 21 декабря 1992 года
Дорогой Дневник,
Сегодня папа поставил елку. Она не настоящая, сделана из пластмассы и даже не наша, а Бусина и дедусина, хотя я не думаю, что они стали бы возражать. У нее какой-то странный зеленый цвет, будто она потускнела и теперь хочет стать серой. Мне разрешили ее нарядить. Гирлянда не горит, подарков под елкой нет, но она все равно мне нравится. Когда я закончила, Джо сказала, что смотрится хорошо. Мне нравится, что она все делает со мной за компанию.
Папа устроился на новую работу, что могло бы стать хорошей новостью, но все же не стало. Его новая работа находится в Уэльсе, и это совсем не близко. У них там даже другой язык, слова в котором будто произносятся задом наперед, папа дал мне послушать кассету. Тэйлор сказала, что они как-то ездили в Уэльс на каникулы и что там говорят и по-английски тоже, но у меня все равно нет ни малейшего желания там жить.
Есть три чрезвычайно важные причины, по которым нам не надо переезжать в Уэльс:
1. Мне опять придется идти в новую школу.
2. Мне будет очень не хватать Тэйлор.
3. Там не будет Буси.
Здесь ее тоже нет, но поскольку меня окружают ее вещи, мне легко представить, что она все еще с нами.
Папа долго собирал всю нашу жизнь в коробки. Маленькие кусочки нашей семейной истории громоздятся по всему дому лабиринтом старых, забытых вещей, которые нам не нужно будет аккуратно заворачивать и упаковывать, будто бесценные реликвии. У нас на чердаке все еще лежат коробки с прошлого переезда, разбирая их, папа и нашел елку. Он попросил маму помочь ему со сборами, но она в последнее время не очень хорошо себя чувствует, поэтому ему приходится все делать самому. Мама теперь даже не одевается и бродит по дому в пижаме. Врач выписал ей снотворное, что довольно странно, если учесть, что она и так целые дни лежит в кровати.
Папа говорит, что я уже достаточно взрослая, чтобы самостоятельно упаковать свои вещи. Он взял две коробки, дал мне моток коричневого скотча и велел заполнить их до ужина. В одном из кухонных ящичков обнаружилось десять фунтов, и он сказал, что мы с ним можем заказать рыбы с картошкой. Только мы вдвоем. Хорошо, что он нашел какие-то деньги, а то они, похоже, у нас почти закончились. Вчера в дверь кто-то постучал, а когда папа открыл, ему сказали, что мы не оплатили счет за воду. Я проверила краны на кухне и в ванной и убедилась, что они по-прежнему работают. Папа сказал, что если придет кто-то еще, мы сделаем вид, что нас нет дома, присядем и спрячемся под окнами, чтобы нас не было видно, если кому-нибудь придет в голову в них заглянуть.
Я пошла в свою комнату и попыталась упаковать вещи, но это оказалось гораздо труднее, чем я думала. Я собрала в одну из них свои книжки, но они ложились как-то не так, в итоге мне пришлось вынуть их и поставить обратно на полку. Вероятно, им не хочется отсюда уезжать, это их дом и им надо разрешить оставаться здесь сколько захочется. Вместо них я сложила в коробку одежду. Много ее мне в любом случае не требуется, я вот уже два дня хожу в одном и том же, и ничего. Кроме того, я перестала принимать душ, чтобы экономить воду, за которую мы не заплатили, но этого, по-видимому, даже никто не заметил. Я запечатала коробку скотчем, оставив моток болтаться на ней, потому что держать в комнате ножницы мне не разрешают.
Рыба с картошкой была самой вкусной на свете! Я ела ее с солью, уксусом и кетчупом, страшно объелась, но все прикончила. Папе, кажется, тоже понравилось. Нам вдвоем было так здорово, но потом он выпил красного вина из коробки и тут же помрачнел. Я спросила его, почему вино не в бутылке, как обычно, а в картонной упаковке, на что он ответил, что я задаю слишком много вопросов, и велел замолчать. Похоже, папе не стоит много пить, от спиртного он становится не самым приятным человеком. Он делает вид, что он хороший, со всеми этими елками и вкусной едой, но на самом деле он меня не любит. После ужина, пока он смотрел большой телевизор, я его разглядывала. В бороде у него застряли крошки, на губах у него кусочки сухой кожи, которые от вина стали лиловыми. Мне не кажется, что я на него похожа, иногда я даже сомневаюсь, что он мой папа. Когда он много пьет, я его ненавижу. НЕНАВИЖУ.
Выйдя на кухню, чтобы налить себе воды, я увидела ножницы. Я знаю, что мне нельзя их трогать, но ведь мне уже одиннадцать. Я решила обрезать моток скотча, которым были заклеены коробки. Но когда я поднялась наверх, произошло что-то странное. Мои ноги сами собой свернули и понесли меня в ванную. Я включила свет и в испуге увидела, что там стоит Джо. Она попросила меня закрыть дверь. Потом я встала и подошла к зеркалу, чтобы все видеть.
Когда все закончилось, пол в ванной был усеян моими волосами. Это Джо придумала, что мне нужно сделать стрижку боб. Если я искоса смотрела на себя в зеркало, я могла представить, что там стоит Тэйлор, и это меня очень радовало. Я улыбалась, и она улыбалась мне в ответ. Я спросила Джо, что она думает, и она сказала, что я поступила очень умно, потому что теперь, если, конечно, в Уэльсе есть зеркала, я смогу взять Тэйлор с собой.
Сейчас
31 декабря 2016 года
Меня будит звук хлопнувшей вдали пробки от шампанского. Кто-то где-то что-то празднует. В голове вспыхивает отголосок забытого воспоминания – шампанское на Рождество, звон бокалов, крик близнецов на втором этаже. Я пытаюсь восстановить в памяти что-то еще, но в файле больше ничего нет. Не думаю, что я была пьяна, но наверняка я вспомнить не могу, и эта неуверенность подпитывает стыд, давно растущий во мне. Наши родители иногда выпивали, и алкоголь менял их сущность. Мне никогда не хотелось быть похожими на них, но история умеет повторяться, хотим мы того или нет. Где-то в коридоре раздается смех. Интересно, над чем можно смеяться в подобном месте?
Пол берет меня за руку. Он здесь, все еще от меня не отрекся.
– С Новым годом, – говорит он и нежно целует в лоб.
Новый год.
Значит, я здесь уже неделю. Время здесь напоминает меха аккордеона: то спрессовывается, то растягивается, и тогда возникает ощущение, что в этом скукоженном состоянии я буду пребывать вечно, болтаясь в складках полотна жизни – то ли матерчатых, то ли картонных, немного озадаченная и совершенно растерянная.
Я думаю о том, как мне приходилось отмечать этот праздник в прошлом. Не могу вспомнить ни одного по-настоящему хорошего празднования, но, полагаю, они все же были получше этого.
– Если ты меня слышишь, просто шевельни пальцем, – говорит Пол, – ну пожалуйста.
Я представляю, как он пристально смотрит на мою руку в отчаянной попытке увидеть хоть малейшее движение. Как бы мне хотелось сделать для него хотя бы такую мелочь.
– Ну ничего, я знаю, что ты пошевелилась, если бы могла. Мне разрешили остаться до полуночи, при условии, что кроме меня здесь больше никого не будет, но сейчас уже двенадцать ноль три, так что…
Я слышу, как он застегивает молнию куртки, и впадаю в панику.
Пожалуйста, не уходи!
– Не волнуйся, я все равно буду за тобой присматривать. Между нами говоря, я поставил у тебя в палате небольшую камеру видеонаблюдения, которую сначала собирался установить на задах нашего дома. Вот здесь, где ее никто не увидит. Она приводится в действие датчиком движения, поэтому если ты ночью вдруг очнешься и пустишься в пляс, я увижу это на мониторе ноутбука. Эмбер, я знаю, что ты там, внутри себя, еще существуешь. Они мне не верят, но я знаю наверняка. Ты, главное, держись; я найду способ вытащить тебя наружу.
Пол опять меня целует, выключает свет и тихо закрывает за собой дверь, как отец, уложивший спать ребенка. Я остаюсь одна. Опять.
Значит, на дворе уже 2017 год. Звучит как какая-то научная фантастика. В детстве мы думали, что к этому времени у нас будут летающие автомобили, а в отпуск люди будут отправляться на Луну. С тех пор многое изменилось, хотя и не настолько, как нам хотелось бы, но мир все равно стал другим. Быстрее, громче, сиротливее. В отличие от окружающего мира мы совсем не изменились. История – это зеркало, и с течением времени мы превращаемся лишь в постаревшие версии самих себя, в детей, переодетых взрослыми.
Недавно
Рождественский сочельник 2016 года
– Что ты здесь делаешь? Как тебе удалось попасть в дом?
Эдвард спокойно сидит на диване и с улыбкой смотрит на меня. Как будто все это нормально, как будто в этом есть какой-то смысл.
Он еще смуглее обычного, и память тут же воскрешает допотопный солярий у него в квартире.
– Успокойся, Эмбер. Все хорошо, почему бы тебе не выпить бокал вина? Расслабься, расскажи лучше, как прошел твой день, – говорит он.
Я вижу на журнальном столике бутылку красного вина и два бокала. Наши – мой и Пола. Наше вино.
– Я звоню в полицию, – говорю я.
– Ну нет. Иначе твой муж узнает, что ты встречаешься с другим мужчиной. Ты ведь этого не хочешь?
Эдвард берет два бокала и наполняет их. Я изо всех сил стараюсь сохранять самообладание, думать и пытаться понять, что происходит.
– Ты сама хотела, чтобы я сюда пришел, и поэтому оставила у меня дома ключи.
Он кладет связку на журнальный столик, и на короткий миг я испытываю облегчение. Эти ключи мне нужны, тем более что не все из них мои. И тут до меня доходит.
– Ты сам вчера вечером вытащил их из моей сумки…
– Почему же тогда решил сейчас их вернуть? Кстати, с твоей стороны было очень невежливо уйти, даже не попрощавшись.
– Ты… подсыпал мне что-то в лимонад… – заикаясь, произношу я.
– Что ты такое говоришь? – восклицает он.
К его загорелому лицу будто приросла безупречная, но бесцветная улыбка.
– Точно подсыпал, иначе концы с концами не сходятся.
Его улыбка блекнет.
– Не шути так, Эмбер, для этого мы с тобой уже слишком стары. Ты захотела прийти ко мне. Захотела, чтобы я тебя раздел. Ты хотела этого всего.
Я чувствую, что рассыпаюсь на мелкие кусочки.
– Нет!
Все эти слова будто говорю не я, а кто-то другой – маленький и бесконечно отсюда далекий. Эдвард встает, и я инстинктивно отступаю от него на шаг назад. Его губы опять растягиваются в улыбке, но взгляд мрачнеет.
– Ты позволишь?
Не дожидаясь ответа, он протягивает руку, берет с журнального столика телефон, снимает блокировку, не спрашивая у меня пароля, и подносит к моим глазам, чтобы я могла увидеть то же, на что смотрит он.
– Ну что, похоже, что я тебя к чему-то принуждал?
Мир вокруг меня замирает. Я хочу отвести глаза, но не могу.
Он показывает мне несколько фотографий женщины, очень похожей на меня, хотя в таком виде я себя раньше никогда не видела. Обнаженное тело. Открытый рот. Выражение чистой страсти на лице. Я закрываю глаза.
– Ты хотела дойти до конца, но я для этого слишком джентльмен. Нам надо набраться терпения и подождать, всему свое время. Для начала я хочу, чтобы ты рассталась с мужем – я не намерен тебя с ним делить. Да, в разлуке мы потеряли слишком много времени, зато теперь нам есть к чему стремиться.
Он делает шаг вперед, я – назад.
– Ты спятил.
Он швыряет телефон на журнальный столик, и я тут же жалею о своих словах.
– Не волнуйся, в моем смартфоне снимков намного больше. Среди них есть даже мой любимый. Мне в голову пришла мысль отправить его Полу. Господи, как жалко звучит это имя – Пол. Бедняжка Пол, оно ему подходит. Адрес электронной почты можно найти на его авторском сайте. Но потом я все же решил – нет, это ты должна ему все рассказать. Тебе не кажется, что с моей стороны это в высшей степени тактично?
Я смотрю на него в упор, моя злость даже чуть сильнее моего страха.
– Тебе придется сказать Полу правду и попросить его уехать из этого дома. Потом я к тебе переселюсь, и мы начнем все сначала.
– Начнем сначала? Да ты долбанулся! Ты точно мне что-то подсыпал, иначе быть не может!
Его лицо кривится.
– Ты же сама умоляла меня затопить каждую твою вонючую дырочку, – говорит он, вставая прямо передо мной.
Нужно выбираться отсюда, нужно найти Пола.
Я бросаюсь к двери, но Эдвард меня опережает, захлопывает ее одной рукой, а второй наотмашь бьет меня по лицу.
Потом наносит еще один удар, и я падаю на пол.
– Ну почему ты все всегда портишь? Я простил тебя за то, что ты сотворила со мной много лет назад, но больше делать из себя дурака не позволю.
Я вспоминаю жалобы на него, которые Клэр, по ее словам, написала, когда мы были студентами. Пытаюсь что-то объяснить, однако он опять замахивается и бьет, вышибает из меня дух, и я не могу издать ни звука. А когда хватает меня за горло и начинает душить, уже не могу разобрать его слов. Эдвард отрывает меня от пола, и дышать становится невозможно. Я сжимаю кулаки, пытаюсь врезать ему побольнее, но он даже не чувствует моих ударов, они только раздражают его, как назойливая муха.
Надо что-то предпринять, хоть что-то, иначе он меня просто убьет…
– Я беременна, – каким-то чудом выдавливаю я из себя.
Эти два слова танцуют в воздухе над нами. Он был совсем не тот человек, которому мне хотелось бы раньше всех сообщить эту новость. Не думаю, что он меня слышит. Я не могу ни думать, ни дышать. Зрение на периферии постепенно заполняет мрак, чернота начинает расползаться, как пролитые чернила.
Слышно, как кто-то открывает заднюю дверь.
От внимания Эдварда это тоже не ускользает, он отпускает меня, я падаю на пол и лежу неподвижно, страшась того, что сейчас произойдет. Он делает шаг назад и, похоже, собирается ударить меня ногой в живот. Я закрываюсь руками и закрываю глаза. Однако в этом нет необходимости, Эдвард спокойно выходит через парадную дверь и тихо закрывает ее за собой. Я слышу, как Пол на кухне наливает в чайник воду, и понимаю, что угроза миновала. Пока. Он не должен видеть меня в таком состоянии. Я встаю на трясущихся ногах, запираю парадную дверь на два замка, хватаю с журнального столика телефон, бегу наверх и запираюсь в ванной комнате. Через какое-то время Пол тоже поднимается на второй этаж.
– Это ты? – спрашивает он.
– Да, – с трудом произношу я, пытаясь вспомнить, как обычно звучит мой голос, и изо всех сил стараясь его воспроизвести.
– Как там Клэр?
Обед с сестрой теперь кажется таким далеким, что поначалу я даже не понимаю, о чем он.
– Все хорошо. Я недолго, быстренько приму ванну и приду к тебе, ладно?
Прислоняюсь к двери. Мне до боли хочется ее распахнуть и оказаться в его объятиях. За все извиниться и сказать, как я его люблю. Как я хочу рассказать правду, но я знаю, что он никогда меня не простит и не примет настоящую меня. Опускаю глаза на телефон в руке и вижу собственное обнаженное тело, застывшее на экране. Меня тошнит. Палец нажимает кнопку, удаляя снимок, но его место тут же занимает другой.
– Я нарядил елку, – говорит Пол.
– Я видела, очень красиво. Здорово, что ты ее купил.
– На чердаке, где лежали гирлянды, мне на глаза попалось кое-что еще.
Я протягиваю ладонь к двери, рисуя в воображении его руку с другой стороны, страстно желая взять ее в свою.
– Еще одно осиное гнездо?
– На этот раз нет. Кучу старых тетрадей.
У меня перехватывает дыхание.
– Они похожи на дневники.
Каждый из нас – лишь призрак своих былых надежд и поддельная копия несбывшихся устремлений.
– Надеюсь, ты их не читал, – говорю я.
В этот момент мне страшно хочется видеть его глаза, узнать, о чем он сейчас думает, и понять, ответит ли он честно.
– Конечно, нет. Точнее, я их отложил, когда понял, что держу в руках. Но надпись «1992 год» меня, естественно, заинтриговала. Сколько тебе тогда было? Десять?
– Одиннадцать, – отвечаю я.
Потом закрываю глаза, опускаюсь на пол, прислоняюсь затылком к стене и добавляю:
– Никогда не читай чужих дневников, это сугубо личное.
Давно
Рождественский сочельник 1992 года
Дорогой Дневник,
Я еще никогда не ложилась спать так поздно. Сейчас час ночи, и когда завтра взойдет солнце, наступит Рождественский сочельник. Вечером к нам пришла Тэйлор, и она все еще здесь, спит наверху в моей комнате. Мама с папой сказали, что она может остаться в последний раз перед нашим отъездом. Я пригрозила еще короче подстричь волосы, если они откажут. Мы уезжаем 27 декабря, чтобы уже на следующий день папа мог выйти на работу. В январе я опять пойду в новую школу, да еще и в совершенно новом месте. Им настолько на меня наплевать, что они еще даже не определили, в какую именно. Мама говорит, что как только мы устроимся в Уэльсе, Тэйлор сможет нас навещать. Мама говорит, что теперь все будет по-другому. Но мама у нас ЛГУНЬЯ.
За ужином Тэйлор говорила очень мало и почти не прикоснулась к пицце. Это мамина вина, ведь она купила гавайскую, и Тэйлор пришлось снимать с нее кусочки ананаса, прежде чем она смогла ее съесть. Мама Тэйлор такой ошибки никогда бы не допустила, она знает, что каждой из нас нравится. Теперь у нас совсем не осталось денег, нет даже монеток в Бусином специальном кувшинчике.
Папа был в пабе. Он там все время выпивает в долг, но говорит, что его можно и не возвращать до переезда. Мама почему-то на это очень рассердилась и оплатила пиццу папиной кредитной картой, которой мы пользуемся исключительно в чрезвычайных ситуациях, и сказала ничего ему не говорить. Потом мне все время казалось, что мы едим чрезвычайную пиццу.
Мама сказала, что вконец вымоталась, и рано легла спать. В последнее время она все время уставшая. Не знаю, зачем ей каждый вечер принимать снотворное, но я рада, что она оставила нас в покое. Мы с Тэйлор смотрели фильм. Я его уже видела, так что я смотрела, как Тэйлор смотрит большой телевизор. Я выключила весь свет, как делали ее родители, поэтому ее лицо освещало лишь мерцание экрана, в котором она казалась ангелом. Некоторые смешные моменты ее не рассмешили, она только бросила на меня печальный взгляд и стала смотреть дальше. В какой-то момент мне захотелось взять ее за руку. Она мне позволила. Я трижды ее сжала, и немного спустя она тоже пожала мою руку три раза, по-прежнему не глядя на меня.
Когда фильм закончился, мы поднялись в мою комнату. Немного поговорили, хотя и меньше обычного, в основном потому, что Тэйлор без конца рассказывала о событиях, в которых я не принимала никакого участия. В последнее время она общалась с девочкой по имени Николь, они вместе занимаются балетом в школе при церкви. Я не хожу на балет, мы такое не можем себе позволить. Николь, по всей видимости, очень классная и без конца шутит. Тэйлор говорит, что я по-прежнему ее лучшая подруга, я специально уточнила. Не понимаю, зачем ей нужны еще друзья, у меня, к примеру, больше никого нет, но мне нормально.
Тэйлор сказала, что с большим нетерпением ждет Рождества. У них дома соберется вся семья, и ее мама купила самую большую в мире индейку, размером со страуса. Ее Буся, которую она называет бабушкой, останется у них на несколько дней. Это меня расстроило, потому что я загрустила о моей Бусе, и некоторое время ничего не говорила, а только слушала. Я умею слушать, окружающие, если их не перебивать, могут много чего рассказать. И вот тогда Тэйлор сказала, что не хочет, чтобы я уезжала в Уэльс, и я ужасно обрадовалась, что она так переживает из-за моего отъезда. Тогда я пообещала, что никуда не уеду, и я говорила всерьез. Свои обещания я держу.
Папа пришел домой пьяный и, поднимаясь по лестнице, наделал много шума. Мне было стыдно, но я и радовалась тоже. После паба он всегда спит крепко, а мамины таблетки отлично действуют, и разбудить ее невозможно. Тэйлор тоже спит на втором этаже. Они все спят.
Пользоваться спичками мне не разрешают. Они входят в тот же запретный список, что и ножницы, но у меня есть целый коробок. Они у меня уже давно – я их позаимствовала в школе, когда нас учили пользоваться бунзеновскими горелками. Я в тот день много чего узнала. Перед тем как спуститься, я зажгла спичку. Отчасти мне хотелось разбудить Тэйлор, чтобы сделать это вместе, но она даже не пошевелилась, я решила ее не тревожить, пусть себе спит. Запах спички мне настолько понравился, что я не тушила ее, даже когда пламя стало обжигать пальцы, желая, чтобы оно погасло само.
В школьный рюкзак я упаковала лишь самое главное.
Важнее всего для меня оказались три вещи:
1. Мои любимые книги («Матильда», «Алиса в Стране чудес» и «Лев, колдунья и платяной шкаф»).
2. Мои дневники.
3. Моя лучшая подруга Тэйлор. Я никогда ее не брошу, ведь мы как две горошинки в стручке.
Недавно
Рождественский сочельник 2016 года
Я лежу в ванне, мечтая, чтобы горячая вода закипела и обожгла тело. Но я не хочу причинить вред ребенку, набирающему силу в моей утробе. Я воображаю, как все будет выглядеть через несколько недель: выступающий из воды телесного цвета холм, новая территория, которая только и ждет, чтобы на нее кто-то предъявил притязания. Осторожно кладу правую руку на живот, будто она принадлежит кому-то другому и может меня ударить. Но ничего не чувствую. Вероятно, еще слишком рано.
Когда вода становится невыносимо холодной, выхожу из ванны и вытираюсь. Пар уже улетучился, и я прихожу в ужас, глядя на свое отражение в зеркале: на белой шее отчетливо видны красные отпечатки пальцев. Синяки на внутренней поверхности бедер не такие свежие, но их все равно можно без труда заметить, если знать, куда смотреть.
Открыв дверь ванной я слышу, что Пол возится внизу. Вдыхаю ноздрями запах камина и чуть от него не задыхаюсь. Я осторожно ступаю по ковру, сотканному из тайн и обманов, стараясь их не потревожить. В спальне надеваю джемпер под горло и удобные спортивные штаны, после чего бросаюсь вниз в гостиную.
– Ну наконец-то, – говорит Пол, – выпьешь что-нибудь?
– Это не опасно?
– Выпивать?
– Да нет, камин. Может, перед тем как разжигать, его надо было прочистить?
– Все в порядке. Я подумал, так будет уютно, сегодня ведь сочельник.
Комнату освещают только языки пламени и елочная гирлянда. Пол старается сделать мне приятное, но очень неумело. Мне не надо ему ничего говорить, у меня и так все написано на лице.
– Вот черт, прости, я, видимо, напомнил тебе о… Прости, я идиот.
– Да нет, все в порядке, просто мне надо немного времени, чтобы привыкнуть, только и всего.
Он берет откупоренную Эдвардом бутылку красного вина и наполняет доверху бокалы. Я не хочу ни пить, ни даже к ним прикасаться, но заставляю себя ему подыграть. Мне так много надо ему сказать, но мне невероятно трудно произвести на свет хоть какие-нибудь слова.
– За тебя и за твою новую книгу, поздравляю, – наконец говорю я и чокаюсь с ним.
– За нас с тобой, – отвечает он и целует меня в щеку.
Я делаю крохотный глоток и смотрю, как он опорожняет добрую половину бокала. Некоторое время мы сидим в полном молчании и смотрим на огонь. Как странно, что для двух людей одно и то же событие может иметь совершенно разный смысл. Как бы мне хотелось, чтобы он узнал о ребенке. Он посчитает это чудом. Полагаю, в определенном смысле так оно и есть. Сегодня я рассказать не могу, слишком много всего случилось. Мне хочется создать безупречное воспоминание. Я тяну к нему руку – в тот момент, когда сам он тянется к ноутбуку.
– Лаура прислала по электронной почте предварительный план нашей поездки. Будет очень здорово. Нью-Йорк, Лондон, разумеется, Париж, Берлин. Слава богу, нас только двое, нам никогда не удалось бы так поехать, если бы нас тут держали семейные обязанности.
Придуманное мной будущее лопается, будто мыльный пузырь на ветру, осторожно парящий в воздухе в первую минуту, но неизменно исчезающий уже на вторую. Слова застревают в горле, и я просто улыбаюсь. Пол закрывает крышку ноутбука, ставит его на стол и выпивает еще вина. Я смотрю на пляшущие в камине языки пламени. Они кажутся дикими и непослушными, мне хочется выбежать из комнаты.
– А ты сейчас продолжаешь вести дневник? – спрашивает Пол.
– Что-что? Нет.
Он засовывает руку за диван, его лицо озаряется озорной улыбкой.
– Может, что-нибудь прочтем, просто из интереса?
В его руках я вижу дневник, на обложке – знакомые завитки цифр 1992. Несмотря на жар камина, я внутренне холодею.
– Ты же сказал, что положишь их на место.
Он по ошибке считает мой тон игривым, он думает, это все шутки.
– Ну ладно тебе, всего одну запись.
– Я сказала нет!
Голос звучит громче и резче, чем мне хотелось бы, я вдруг понимаю, что стою на ногах. Выражение его лица меняется, и он протягивает дневник мне. Я хватаю его, словно ребенок, прижимаю к груди и только после этого сажусь обратно. Пол смотрит на меня в упор, однако я не могу отвести взор от огня, страшась того, к чему это может привести.
– Зачем ты их хранишь, если тебя они так расстраивают? – спрашивает он.
Я испортила вечер и теперь себя за это ненавижу. Я всегда все порчу. В лицо бросается жар, пламя почему-то кажется больше и ярче, как будто вырваться наружу и спалить все, что еще у меня осталось, для него всего лишь вопрос времени.
– Я их не хранила. Просто нашла на чердаке в родительском доме, когда в прошлом году разбирала вещи.
Пол ставит пустой бокал на журнальный столик рядом с моим, едва надпитым. Я закрываю глаза, чтобы не видеть языков пламени, но продолжаю слышать их крик.
– Я думал, между нами нет секретов, – говорит он.
– Так оно и есть. Это не мои секреты. Дневники принадлежат Клэр.
Сейчас
31 декабря 2016 года
Сестра не всегда была мне сестрой, когда-то давно мы были лучшими подругами. В те времена она называла меня Тэйлор – меня почти все называли по фамилии, потому что мне самой так больше нравилось. Эмбер ведь значит «янтарный», и это имя мне казалось таким же второсортным, как и янтарно-желтый свет на светофоре. Красный предписывает остановиться, зеленый – ехать, а желтый никакого особенного смысла не несет, он незначительный, как и я сама. Я была убеждена, что из-за этого имени меня не любили в школе – они всегда называли меня не Эмбер, а всякими другими словами. Сначала родители были вне себя, они пытались убедить меня, что янтарь – драгоценный камень, но я знала, что я никакой ценности не имею. Я неделями не откликалась ни на что, кроме Тэйлор, так что в итоге они тоже стали меня так звать. Все изменилось лишь после замужества. Тэйлор канула в Лету, и ей на смену пришла Рейнольдс. Меня опять стали звать Эмбер, и я почувствовала себя новым человеком.
Помню тот день, когда мама положила трубку и сказала, что Клэр в последний раз перед отъездом приглашает меня в гости. Мне не хотелось идти, я злилась, что она уезжает. Но мама возразила, что я должна пойти, что так будет правильно. Она ошибалась. Это была величайшая в моей жизни ошибка, за которую мне приходится расплачиваться по сей день.
В тот вечер мама Клэр заказала нам на ужин пиццу – готовить она особенно не умела. Я до сих пор помню, как Клэр орала, что мне не нравятся ананасы. В такие минуты, полностью потеряв над собой контроль, она меня пугала. Я никогда не разговаривала с родителями подобным образом и всегда удивлялась, почему ей сходило это с рук. Ее папа дома бывал редко, предпочитая просаживать за игрой те небольшие деньги, которые у них имелись, и без конца менял работы. Мама часто выпивала и ходила по дому с таким печальным и утомленным видом, будто жизнь ее сломила. Она махнула рукой и на Клэр, и на всю свою жизнь. Глядя на нее, я поняла, что бездействие бывает не менее опасным, чем некоторые поступки.
В те времена Клэр не пользовалась популярностью в школе, она была агрессивным ребенком. Злилась на весь мир и почти на каждого в отдельности. Они то и дело переезжали, и у нее были проблемы едва ли не в каждой новой школе. Она была очень умная, даже чересчур. Она будто бы утомлялась, едва познакомившись с новым человеком, потому что сразу же видела его насквозь – и оттого постоянно была разочарована. Она предпочитала чтение реальной жизни, и некоторые ее друзья жили на страницах книг. Я была единственным ее настоящим другом. Она начинала ревновать, едва я заговаривала о ком-нибудь еще, так что со временем я перестала так делать.
Я по-прежнему каждый день вспоминаю о том, что тогда случилось. Я все спрашиваю себя, я ли во всем виновата и нельзя ли было это как-то предотвратить. Она была всего лишь маленькой девочкой – но и я тоже. А девочки отличаются от мальчиков: они сделаны из сахара и пряностей, а шрамы у них остаются на всю жизнь. Мои шрамы тоже со мной – они внутри, но это не значит, что их нет.
Той ночью я слышала, как она встала и прокралась к двери. Я лежала к ней спиной, но мои глаза были открыты. Она чиркнула спичкой, и я почувствовала ее горелый запах. Я подумала, что она зажигает свечу или что-то в этом роде, потому что у них в доме часто отключали свет: ее родители всегда с трудом платили по счетам. Потом она прошла в прихожую. Я немного подождала, но когда Клэр не вернулась, встала посмотреть, где она. У них всегда было очень холодно, поэтому мама дала мне с собой мой новый розовый халат. Я в него плотно закуталась и завязала пояс.
Потом тихонько вышла из комнаты, прокралась на цыпочках мимо спальни мамы Клэр и остановилась наверху лестницы. Все двери были закрыты, кроме ванной, но там никого не было. Услышав внизу шум, я спустилась на пару ступенек вниз, стараясь ступать как можно тише. И вот тогда я ее увидела, и это было странное зрелище. Я села на корточки и стала сквозь перила смотреть, как Клэр расхаживает по кухне.
На плечах Клэр был школьный рюкзак, надетый прямо на пижаму. Я смотрела, как она неподвижно стоит перед старой белой плитой. Затем она повернула ручку одной конфорки и уставилась на нее с таким видом, будто ждала, что случится дальше. Повернула еще одну. Какое-то время я не двигалась с места, будто окаменевшая. Потом Клэр очень медленно повернула голову в мою сторону, и я подумала, что она меня видит. Ощущение было такое, будто она смотрит прямо на меня, ее глаза в темноте сверкали, как у кошки. Помню, меня охватило неистовое желание закричать. Если бы я только могла. Она отвела взгляд, вновь встала перед плитой и повернула ручку еще одной конфорки.
Я как можно тише поднялась и на цыпочках вернулась на второй этаж, не понимая толком, что происходит, но зная, что это ужасно. Подергала ручку спальни мамы Клэр, но она оказалась закрыта. Мне надо было постучать, предпринять хоть что-нибудь, но я лишь вернулась в комнату Клэр и, не снимая розового халата, легла в постель. Видимо, я надеялась, что это всего лишь страшный сон.
Вскоре даже в нашей комнате запахло газом, будто по дому само собой распространилось невидимое облако, заполнив каждый свободный кусочек пространства, каждый, даже самый темный, уголок. Я натянула на голову одеяло, надеясь, что так можно спастись, но кто-то его откинул. Я открыла глаза и увидела Клэр, которая стояла надо мной со своим рюкзаком на спине. Она потрясла меня, будто пытаясь разбудить, хотя я и не думала спать, и улыбнулась. Слова, которые она потом произнесла, навеки врезались мне в память:
«Я всегда буду за тобой присматривать, Эмбер Тэйлор. Возьми меня за руку».
Я всегда ее слушалась – и сейчас продолжаю. В дверном проеме она остановилась, будто увидев перед собой привидение. Потом нагнулась, взяла с пола Бусин упор для двери и положила в рюкзак. Это была малиновка, небольшая статуэтка птицы, которой не суждено когда-либо взлететь. Она вывела меня на площадку лестницы, опять остановилась, повернулась ко мне и поднесла к губам палец.
«Тссс».
Затем крепко взяла меня за руку и потащила вниз по лестнице. С каждым шагом запах газа становился все гуще. Спустившись, она повернула не налево, к кухне, а направо, к гостиной. Усадила меня в кресло, а сама склонилась к камину. Ее мама всегда складывала там аккуратной кучкой дрова, которые оставалось лишь поджечь. Но они топили камин только по воскресеньям. Клэр чиркнула спичкой, и небольшая кучка хвороста тут же окуталась пламенем. Затем швырнула на нее сверху коробок, схватила меня за руку, потащила к двери и закрыла ее за собой, как только мы оказались снаружи. Тапочек на мне не было, и я помню, как вгрызался в мои ноги ледяной гравий, пока она тащила меня вперед. Она так крепко держала меня за руку, будто стоило ей меня отпустить, как я тут же сбежала бы. Потом велела мне не плакать. Я даже не заметила, что плачу.
Мы устроились на ограждении у дома через дорогу. Стылый камень ощущался даже через халат. Мы сидели там, как мне показалось, очень долго. Клэр не говорила ни слова, лишь сжимала мою руку и с улыбкой смотрела на дом. Боясь поднять на нее глаза, я больше смотрела на свои маленькие ступни, посиневшие от холода. И не подняла головы, даже когда она запела.
Звезды светят в вышине, И завидуют луне. Полыхает желтый шар, Словно огненный пожар.Клэр любила колыбельные. Говорила, что они напоминают ей о Бусе, но при этом всегда перевирала слова. Клэр из тех людей, кто видит то, что хочет видеть, а не то, что есть на самом деле.
Нельзя сказать, что дом взорвался по-настоящему. Только где-то на задах что-то медленно ухнуло. Раздался хлопок, но не настолько громкий, как показывают в кино, будто из-под кирпичей вырвалась на свободу тишина. Со стороны фасада дом поначалу выглядел как обычно, но вскоре я увидела, как за окнами заплясало пламя. Рев сирены мы услышали гораздо раньше, чем прибыла пожарная машина. В этот момент Клэр умолкла, с ее лица исчезла улыбка, а из глаз покатились слезы. Потом она много часов оплакивала родителей, словно кто-то открыл кран и никак не мог его закрыть. Я же оплакиваю их до сих пор.
С той ночи дым стал неотъемлемой частью моей сущности, сколько бы я ни мыла волосы и ни терла кожу, меня все равно преследовал его запах. Он окутал мою ДНК и изменил меня. Она сказала, что убила их ради меня. Она думала, что я этого хотела, чтобы нас никто не мог разлучить, чтобы она могла меня защищать. Я провела всю жизнь, мучаясь вопросом: что может толкнуть человека на подобный поступок? Она сказала, что они ее не любили. Я не знаю, правда это или нет. Существуют разные виды любви, и одним словом ее не описать. Некоторые ощутить и заметить легче, некоторые более опасны. Говорят, ничто не может сравниться с материнской любовью. Но если ее нет, то ничто не может сравниться с ненавистью ребенка.
Внезапно взвывшая на улице сирена кареты «Скорой помощи» пугает меня и выметает из головы воспоминания. Я смотрю на квадратик на потолке больничной палаты, немного отличающийся от остальных, но мне требуется несколько секунд, чтобы понять – мои глаза открыты. Кажется, это не сон, кажется, это по-настоящему. Кажется, веки просто решили подняться сами собой. Вокруг темно, у меня не получается повернуть голову, но я могу смотреть – я уверена в этом. Я моргаю, снова моргаю. Каждый раз, опуская веки, я боюсь, что они не поднимутся, но они поднимаются. Глаза медленно привыкают к темноте, из которой постепенно проступают очертания комнаты. Окно в точности там, где я и предполагала, хотя и меньше, чем мне казалось. Рядом с кроватью стоит стол, на нем открытки с пожеланиями скорейшего выздоровления, всего несколько штук. Сразу за бесполезным вытянутым передо мной телом виднеется дверь. Я слышу, что за ней кто-то есть, и вижу, как поворачивается ручка двери. Инстинкт велит закрыть глаза, поэтому я вновь погружаюсь во мрак и возвращаюсь в мир, где меня можно видеть, но нельзя услышать.
Сейчас
31 декабря 2016 года
В коридоре стоят какие-то люди. Я не могу понять, кто они, так что держу глаза закрытыми. Вслушиваюсь в слова, в эти рваные потоки звука, струящиеся в щель между деревянной створкой и стеной. Дверь приоткрывается еще чуть-чуть, и стремительная речь становится достаточно четкой, чтобы я поняла: у меня нет никакого желания слышать эти голоса.
– Да, конечно я справлюсь. Идите домой, поспите несколько часов. Зачем нам всем встречать Новый год так по-уродски. Увидимся утром.
Это Эдвард.
Я все так же не открываю глаз и стараюсь сохранять спокойствие. Он закрывает дверь, и я слышу, как поворачивается замок. Свет он не включает, медленно подходит к кровати.
– Ну, приветствую вас, миссис Рейнольдс, как вы себя чувствуете этим вечером? Как вижу, без перемен. Какая жалость…
Он подходит к окну, и я слышу шелест задвигаемых штор. Теперь, когда мне удалось ее увидеть, палата предстает перед мысленным взором со всей ясностью. Отныне это уже не сон, а явь, которую я словно пытаюсь рассмотреть через повязку на глазах.
– Сегодня Новый год. Ты знала об этом? Я такие надежды возлагал на две тысячи семнадцатый. Думал провести его с девушкой, которую когда-то хорошо знал, но: Она. Все. Нахрен. Испортила. Поэтому я, чтобы побыть с ней, добровольно вызвался сегодня выйти в ночную смену. И вот теперь здесь только мы с тобой – как и должно было быть всегда.
Я слышу, что он возится рядом с кроватью, но что конкретно делает, сказать не могу.
– Последние несколько дней я много думал о твоем муже. Должен сказать, он совсем не оправдал моих ожиданий. Кстати, полиция по-прежнему считает, что все это с тобой сотворил он, хотя после всего, что я им наговорил, это неудивительно. Как они его еще в больницу пускают? Я сказал, что работаю здесь врачом, и они мне поверили. Но ведь ты тоже поверила, правда?
Эдвард подходит вплотную ко мне и принимается гладить меня по голове. Я непроизвольно задерживаю дыхание. Потом он заводит прядки волос мне за уши, и я слышу, как в них раздаются гулкие удары сердца, пытаясь подать сигнал тревоги.
– Нет, твой муж, Бедолага Пол, не урод, но при этом какой-то неухоженный, вид у него так себе, если честно. Ты из-за этого вернулась ко мне? Чтобы быть рядом с настоящим мужчиной, а не костлявым заморышем?
Он проводит пальцем по моему лицу, гладит щеку, а потом прикрывает ладонью рот.
– Если не хочешь отвечать, ничего страшного, я все понимаю. К тому же мне на собственном горьком опыте пришлось убедиться, что из этого рта вылетает только ложь.
Эдвард склоняется надо мной и шепчет мне прямо в правое ухо:
– Тебе надо перестать врать, Эмбер. А не то придется расплачиваться дорогой ценой.
Я не могу дышать и готова вот-вот его отпихнуть, но вдруг вспоминаю, что не могу. Он убирает с моего лица ладонь.
– Надо отдать ему должное, он действительно тебя любит. Но ведь тебе этого мало, правда?
Я стараюсь не волноваться, контролирую дыхание, пытаюсь сосредоточиться. Мне не дает покоя вопрос о том, поцелует ли он меня вновь. От мысли о его языке у меня во рту к горлу подкатывает тошнота.
– Он что, тебя плохо трахал? Вся проблема в этом, да? Я помню, ты, Эмбер, это дело ой как любишь. Если подумать, то тебе, наверное, трудно все время вот так лежать здесь, когда никто не заботится о твоих потребностях. Как член персонала этого медицинского учреждения, призванного сделать твое пребывание в нем максимально комфортным, я готов взять на себя за это ответственность.
Его рука гладит меня по правому бедру и забирается под простыни. Он засовывает ладонь между ног и без труда их раздвигает. Когда его пальцы настойчиво пробивают путь в меня, в голове раздается безмолвный крик.
– Ну как, уже лучше? – спрашивает он. – Громче, я тебя не слышу.
Его пальцы все наглее рвутся вперед.
– Судя по твоему молчанию, не лучше. Досадно. Но знаешь, когда ты не врач, очень трудно назначить правильное лечение. А стать врачом, когда какая-то сучка рассылает повсюду никчемные письма с угрозами и тем самым ставит крест на твоей карьере, тоже очень и очень трудно.
С шепота он постепенно переходит на крик. Его кто-то наверняка может услышать. Почему они не идут? Почему меня никто не спасет?
– Ты разбила мне сердце, разрушила мою карьеру и думала, что тебе это все сойдет с рук?
Он выплевывает мне в лицо эти слова, брызгая слюной.
– Из-за тебя я теперь работаю жалким ночным санитаром, но это ничего. У меня есть ключи от всей больницы, я могу запереть любую дверь и открыть любой шкафчик с лекарствами. И я много чего умею. Годы учебы не пропали даром. Поэтому знаю, как держать тебя здесь так, чтобы никто ничего не заподозрил.
Его дыхание учащается. Я заставляю себя не двигаться и не издавать ни звука.
– Что ты скажешь в свое оправдание?
Он дышит часто, как собака.
– А ведь я тебя простил, следил за тобой, ждал, когда ты осознаешь свою ошибку и все исправишь. Мне даже теперь кажется, что у нас еще есть шанс. Но, понимаешь, такие женщины, как ты, никогда и ничему не учатся, поэтому я сам должен преподать тебе урок.
Он на мгновение останавливается, я в какой-то момент надеюсь, что все уже позади, но это не так.
– Я видел тебя здесь два года назад, когда сюда привезли рожать эту сучку, твою сестру. Ты прошла мимо меня. Два раза. Будто я пустое место, словно я для тебя никто. В тот день мне удалось проследить за тобой до самого дома. Я двадцать лет тебя люблю, а ты меня даже не узнала. Ну ничего, теперь, надеюсь, ты меня запомнишь как следует.
Я слышу, как он расстегивает ремень. Затем молнию. Потом включает лампу над головой, грубо стаскивает с меня простыню и задирает сорочку.
– Посмотри на эти гнусные волосы, – говорит он и несколько раз щелкает пальцем у меня между ног, – когда мы были студентами, ты делала восковую эпиляцию, прилагала усилия. А теперь? Посмотри, в кого ты превратилась? Так что если по правде, то я оказываю тебе услугу, за которую ты должна быть мне благодарна.
Он забирается на меня, кровать содрогается, его кожа касается моей, тяжесть его тела придавливает меня к земле, он дышит мне прямо в лицо. Он вламывается в меня, я пытаюсь закрыться. Все будто бы происходит не со мной, я просто вынуждена наблюдать за происходящим с закрытыми глазами. Больничная койка с грохотом ударяется о стену, в моей голове ритмично пульсирует метроном отвращения. Мне нельзя сопротивляться, он слишком силен, он победит.
– И как ты оцениваешь эту боль по десятибалльной шкале?
Он причиняет мне боль и ловит от этого кайф. Я должна оставаться немой и неподвижной. В противном случае он наверняка меня убьет. Чтобы жить, я должна прикинуться мертвой.
Закончив, он тут же с меня слезает. Становится тихо, мне уже кажется, что он собрался уходить, но он никуда не торопится и склоняется надо мной. Я слышу его сбивчивое дыхание. Ощущаю его запах. Судя по звукам, он что-то делает с моей капельницей. Неожиданно он вновь втыкает в меня свои пальцы, вытаскивает их, вытирает о мое лицо, засовывает в рот, проводит по зубам, деснам, языку.
– Чувствуешь? Это наш вкус, твой и мой. Было не так здорово, как я думал, но на самом деле трахать тебя всегда было все равно что трахать труп.
Я слышу, что он застегивает ремень. Потом накрывает меня простыней.
– До свидания, Эмбер, сладких снов.
Эдвард выключает свет и уходит.
Такое ощущение, что меня высадили на конечной остановке, за которой больше ничего нет. Я боюсь, что не смогу открыть глаза, и боюсь увидеть что-то ужасное, если у меня это все же получится. Не в состоянии ничего почувствовать, принимаюсь считать. Дойдя до тысячи двухсот секунд, пытаюсь внушить себе, что угроза миновала. Двадцать минут слились в одно целое, образовав между ним и мной стену. Этого еще недостаточно, однако, открыв глаза, я, по меньшей мере, вижу, что физически его рядом нет. И только в этот момент осознаю, что мои пальцы двигаются, помогая мне считать. Я могу пошевелить рукой. Меня по-прежнему окружает мрак, и глаза все еще пытаются к нему привыкнуть. За пределами моей кровати я различаю только сумрачную серую боль. Если я могу двигать пальцами, то что еще я могу? Я поднимаю правую руку, медленно, будто страшась ее сломать. Она очень тяжелая, удерживать ее в равновесии так же трудно, как перегруженный поднос. Увидев с тыльной стороны ладони тоненькую трубочку, я вырываю ее, вскрикивая от боли. Мне нужно спешить, нужно позвать на помощь, но все вокруг такое медленное, такое трудное.
Остальные части тела по-прежнему неподвижны. Я оглядываюсь по сторонам, насколько это возможно, и вижу красный шнурок. Он выглядит как штука, за которую полагается дернуть, чтобы позвать на помощь, а помощь мне необходима. Я протягиваю дрожащую руку, но по пути она наталкивается на преграду в виде капельницы. Замираю, неподвижно смотрю на полупустую емкость, тихо покачивающуюся на подставке, и понимаю, что именно через нее Эдвард пичкает меня какой-то гадостью. Я сдергиваю ее и роняю на прикроватную тумбочку, в надежде, что кто-нибудь, увидев ее, поймет, что нужно делать. Со мной явно что-то не так, глаза настойчиво стремятся закрыться. Я опять тянусь к красному шнурку, сжимаю его пальцами и тяну. Потом вижу, что над кроватью вспыхивает красная лампочка, роняю руку и с такой силой сжимаю простыню, что ногти пальцев вонзаются в ладони. Сон тянет меня вниз. Не в состоянии бороться, я позволяю глазам закрыться и чувствую, что проваливаюсь в черноту.
Возможно, я умираю, но я так устала жить, что, может быть, оно и к лучшему. Я разрешаю мозгу отключиться. Где-то высоко-высоко надо мной, над холодными, черными волнами, раздаются чьи-то голоса, но слова не раскрывают своего смысла. Только три из них мягко опускаются на дно и находят меня.
– Она отдает концы.
Я отдаю концы.
Недавно
Рождество, 25 декабря 2016 года
Рождество – это такое время, когда надо терпеть родственников, которых ты не выбирал.
– Какой чудесный шарф, – говорит Клэр, встречая нас в коридоре.
Вслед за ней мы с Полом входим в дом. Ничто не напоминает о нашей вчерашней размолвке – мы с сестрой всегда отлично умели притворяться. В то же время мне что-то не верится, что она была бы так спокойна, если бы узнала, что Пол обнаружил ее детские дневники. Она даже не знает, что их видела я. Вообще-то, когда читаешь свою собственную историю глазами другого человека, возникает странное ощущение. Твоя собственная версия истины приобретает несколько иную форму, потому что больше тебе не принадлежит.
Мы попадаем в недавно отремонтированную кухню-столовую с открытой планировкой. Не считая разбросанных повсюду игрушек, она выглядит безупречно. После смерти родителей в доме была проделана огромная работа, и теперь его почти не узнать; впечатляет, особенно если учесть, что я жила здесь с самого рождения. Клэр в нем все полностью переделала, заклеив обоями трещины в нашей семейной истории. Я до сих пор повторяю себе, что у мамы с папой были причины оставить дом Дэвиду и Клэр. Им он нужен больше, чем нам, к тому же рядом находится его гараж, благодаря которому они познакомились.
– Дэвид сейчас спустится, он наверху, переодевает близнецов. Вам что-нибудь налить?
Клэр убрала со своего безупречного лица длинные белокурые волосы и теперь выглядит просто ослепительно. Они, естественно, не всегда были светлые, но после многолетнего умелого использования перекиси водорода этого не скажешь. На ней новое облегающее черное платье. По сравнению с ней я чувствую себя чучелом; не знала, что на семейную вечеринку положено так наряжаться. Я, конечно, старшая, но она выглядит куда моложе меня, если учесть, что мы родились в один день с разницей всего в несколько часов.
– Нет, мне не надо, – говорю я.
– Да не дури ты, это же Рождество! – восклицает Клэр. – Для начала я открою шампанское…
– Звучит недурно, – говорит Пол.
– Ну хорошо, но только один бокал, не больше, – отвечаю я, не сводя глаз с деревянного кухонного шкафа.
На внутренней стороне его дверцы родители каждый год, пока я не стала подростком, отмечали мой рост. Но Клэр все эти пометки закрасила.
Мы садимся на угловой диван, и у меня возникает ощущение, будто я аксессуар на фотографии в одном из интерьерных журналов Клэр. Кухня выглядит так, будто в ней никто ничего никогда не готовил, хотя по ней и разносятся поразительные запахи. Сестра отличная хозяйка, но выглядит так, будто даже не подходит к плите. По лестнице с малышами на руках спускается Дэвид. Он слишком высок и поэтому при ходьбе всегда немного сутулится, будто постоянно страшась удариться обо что-нибудь головой. Линия роста его волос с каждым днем все больше отступает назад, подчеркивая десятилетнюю разницу в возрасте между ним и женой. Когда нам было по шестнадцать лет, он починил папину машину, взял с него, как положено, деньги, а заодно лишил Клэр девственности. Тогда я была потрясена, мне было так противно. Она думала, что я ревную, но ошибалась. От одной мысли о том, что он с ней что-то такое делал, я брезгливо кривилась. Помню, как она стала украдкой бегать к нему на свидания. Нередко я выходила из дома вместе с ней, а потом ждала в одиночестве, стараясь ничего не слышать, пока они там занимались непонятно чем. В один такой вечер мы с Клэр устроились в парке, чтобы немного выпить. Вдвоем, только я и она. Дэвид давно отправился в паб, но нас, несовершеннолетних, туда бы не пустили. Когда пара бутылок сидра, которые он нам оставил, опустели, мы шаткой походкой вышли из тени деревьев, служившей нам убежищем. Время было позднее, железные ворота парка уже стянули толстой цепью и закрыли на висячий замок.
Нас это ничуть не обеспокоило, ведь наши юные тела могли спокойно перелезть через ограду, однако Клэр заявила, что сначала ей хочется отдохнуть, и улеглась на асфальтовую дорожку. Я устроилась рядом с ней, она тут же взяла меня за руку и три раза несильно ее сжала. Моя ладонь ответила ей тем же. Мы лежали в лунном свете, пьяно хохотали – надо всем и ни над чем, но потом она повернулась, подперла голову рукой, устремила взор на меня и перешла на шепот, будто трава и деревья могли нас подслушать. Я не спрашивала, чем они с Дэвидом занимаются, пока я ее жду, но она сама мне все рассказала. Она сказала, что это было приятно. Я была смущена, меня немного тошнило, и при этом я чувствовала себя преданной. Я считала, что она совершает огромную ошибку. Их брак, двое детей и без малого двадцать лет совместной жизни позволяют предположить, что неправа тогда была я, а не она. Ни с одним другим мужчиной Клэр никогда не спала. Не проявляла к ним интереса. Если сестра кого-то полюбит, то это на всю жизнь.
– Вот вы где, – рокочет Дэвид.
У него есть привычка говорить громче, чем надо.
– Если вас не затруднит, сделайте доброе дело, займитесь этой сладкой парочкой.
С этими словами он вручает каждому из нас по ребенку, направляется к холодильнику, а по дороге хватает Клэр за выточенную йогой задницу. Она, похоже, не возражает или просто не замечает.
У меня на руках Кэти, у Пола – Джеймс. Они хоть и родные, но все равно кажутся чужими. Вот Пол умеет обращаться с детьми, вероятно, именно поэтому ему всегда хотелось иметь своих собственных. В разговоре с ними он всегда находит правильный тон и настрой. Мне приходится прилагать больше усилий, и все равно не всегда получается удачно. Я пытаюсь обратиться к Кэти нежным голосом и спрашиваю, приезжал ли уже Санта-Клаус. Клэр в этом году переборщила с подарками и украшениями, говорит, что все это ради малышей, как будто они могут что-то запомнить. Кэти хватает мой шарф и тянет на себя. Я аккуратно пытаюсь вытащить ткань из ее крохотного кулачка – она должна оставаться на месте, скрывая синий отпечаток пальцев на моей шее. Девочке это совсем не нравится, и она начинает плакать. Поскольку я с ней сладить не могу, Пол предлагает отдать Кэти ему, а мне взять Джеймса. Я беру мальчика на руки, а девочка, оказавшись у него, тут же перестает плакать. Неотрывно смотрит на меня, словно в чем-то меня подозревает и знает больше, чем ей положено. Я поправляю шарф, желая убедиться, что он по-прежнему на месте.
Пол будет замечательным отцом. Сегодня вечером я ему все скажу. Это будет мой подарок ему, ведь я не могу дать ему ничего другого, чего у него бы еще не было. Я рада, что ничего еще не сказала, он не удержался бы и обязательно растрезвонил обо всем Клэр, а мне пока не хочется, чтобы она что-то знала. Эти слова он услышит от меня дома, когда мы с ним останемся наедине.
Время тянется бесконечно – выпивка, слишком много еды, бессмысленная болтовня, истории из жизни, которые давно всем надоели. Я представляю себе точно такую же сцену в тысячах домов по всей стране. Я много часов подряд играю многочисленные отведенные мне роли: заботливой сестры, любящей жены и обожающей племянников тети. Я пью вино крохотными глотками, чтобы мне не подливали. Когда Клэр встает и отправляется на кухню, я пользуюсь долгожданной возможностью и предлагаю ей помочь. Пол бросает на меня убийственный взгляд, потому что очень не любит оставаться наедине с Дэвидом, утверждая, что у них нет точек пересечения. И их действительно нет.
– У нас тут кое-что произошло, – шепчу я, как только мы уединяемся на кухне.
– Что? – спрашивает Клэр, не глядя на меня.
– Кое-что нехорошее.
– Что ты имеешь в виду? – спрашивает она, складывая тарелки в посудомоечную машину.
Моя смелость дает сбой.
– Нет, ничего. Ерунда, я сама во всем разберусь.
Закончив, она поворачивается ко мне.
– Эмбер, с тобой все в порядке?
Это мой шанс. Если рассказать ей про Эдварда, она обязательно поможет. Я вглядываюсь в ее лицо. Я очень хочу рассказать хоть кому-нибудь, как мне страшно, но не могу найти нужных слов. Сейчас далеко не самый подходящий момент, к тому же я вспоминаю, что Клэр я тоже боюсь. Она может заставить меня заявить в полицию. Может рассказать Полу. Может сделать что-нибудь еще хуже.
– Да все нормально, – теперь уже ее очередь ко мне присмотреться, ведь она прекрасно знает, что я лгу. Надо добавить что-нибудь еще. – Я просто устала, мне надо немного отдохнуть, только и всего.
– Мне тоже так кажется. Ты слишком переживаешь из-за пустяков.
Остаток вечера проходит как в тумане. Близнецы едят, спят, играют, плачут – и так по кругу. Взрослые втайне жалеют, что не могут делать то же самое. Мама с папой всегда заставляли нас ждать до вечера, чтобы получить подарки, и мы, по всей видимости, стали продолжателями этой скверной традиции.
Мы наблюдаем, как близнецы разворачивают красивые упаковки – разумеется, обертка их интересует гораздо больше, чем содержимое. Затем уже взрослые обмениваются подарками в красивых коробочках. Я открываю подарок Пола и не сразу понимаю, с чего вдруг он мне это дарит. Потом благодарю его и тут же собираюсь перейти к следующему.
– Погоди-ка, а это что такое? – спрашивает Клэр.
Ей очень нравится рассматривать подарки по очереди, чтобы каждый мог увидеть, что кому подарили.
– Дневник, – отвечаю я.
– Дневник? Ты что, Анна Франк? – хохочет Дэвид.
Я вижу, что Пол смущен.
– Мне подумалось, Эмбер он понравится. Особенно после того как…
– Мне и правда нравится, – отвечаю я, не давая ему закончить фразу, и целую его в щеку.
– В свое время я тоже вела дневник, – говорит Клэр, – это своего рода лекарство. Я читала, что если описывать все свои переживания, это помогает справиться с тревогой. Так что тебе, Эмбер, надо обязательно попробовать.
Когда нам до смерти надоедает изображать из себя счастливую семью, я помогаю Дэвиду уложить близнецов спать. Потом читаю им сказку, которую они уже слышали от меня раньше, и восхищаюсь оттого, что они почти сразу уснули. Выходя из комнаты, вижу железку в виде малиновки, удерживающую дверь в приоткрытом положении. Когда-то он принадлежал Бусе, бабушке Клэр. Она даже сейчас его хранит – единственную старую вещь в обновленном ею доме. Спускаясь вниз, я вижу, что Пол и Клэр спокойно беседуют на кухне, но, увидев меня, тут же умолкают. Потом муж мне улыбается – на секунду позже, чем надо.
Недавно
Рождество, 25 декабря 2016 года, ближе к вечеру
Мы с Полом молча идем домой. Он шагает быстро, я с трудом за ним поспеваю. В холодном воздухе висит мелкая морось, но это не страшно, мне было приятно уйти из дома Клэр и оказаться на улице. Да, теперь этот дом принадлежит только ей. В его стенах больше не осталось ничего моего, даже воспоминаний. Эту жизнь мне давно надо было оставить в прошлом, но что-то неизменно мешало мне двигаться дальше. Неизвестного человек всегда боится больше, чем знакомого.
На улицах никого нет. Их тихая неподвижность мне нравится. В пригороде царит полный покой. Все заперлись в домах с родственниками, с которыми в течение года общаться не требуется. Набивают рты индейкой, смотрят по телевизору всякую чушь и разворачивают подарки – нежеланные и ненужные. Слишком много пьют. Чересчур много говорят. Но почти совсем не думают.
Когда мы проходим мимо автозаправки, морось сменяется дождем. Она, как и все остальное, сегодня закрыта. Внутри я была только дважды. Первый раз несколько недель назад, зашла задать вопрос. Ничего страшного, люди постоянно задают какие-то вопросы. Когда я умолкла, кассир внимательнее всмотрелся в мое лицо, но тут же пришел к выводу, что я не собираюсь его грабить – вид у меня был не тот. Он объяснил, что записи камер видеонаблюдения хранятся в течение недели, после чего автоматически удаляются. Я его поблагодарила, потом немного помедлила на тот случай, если ему вдруг захочется узнать, зачем мне это надо. Но когда он ничего не спросил, я ушла. По всей видимости, он забыл обо мне еще до того, как я закрыла за собой дверь.
Во второй раз мне пришлось там побывать немного позже.
Мадлен не то чтобы была мне особенно благодарна, когда я везла ее, больную, домой. Сев в машину, она швырнула мне банковскую карту и велела залить полный бак на заправке за углом. Топливо практически закончилось, и она сообщила, что на следующий день перед работой у нее не будет времени заправиться. Она предполагала, что ее просьба меня расстроит, поэтому я постаралась, чтобы выражение моего лица всецело соответствовало ее ожиданиям, хотя на самом деле была очень собой довольна. Значит, не зря я утром хлебнула бензина, который мне пришлось высосать из ее бака. Хотя я сразу его выплюнула, привкус нефти во рту преследовал меня целый день. Этому трюку я научилась еще в детстве, когда чистила школьный аквариум.
– Перед другими можешь корчить из себя Флоренс Найтингейл[11] сколько угодно, но передо мной не надо, – проворчала она, медленно поднимаясь по лестнице и преодолевая ступеньку за ступенькой.
На середине остановилась и посмотрела на меня. Ее жирное круглое лицо озарилось улыбкой. Мадлен всегда прекрасно умела говорить, но те слова, которые она произнесла в мой адрес в тот день, еще долго стояли у меня в ушах.
– Не забывай, Эмбер, я вижу тебя насквозь. Ты ленивая тупица, как и все ваше поколение. И в силу этого не способна чего-либо добиться.
После этого она отвернулась, продолжила свое восхождение по лестнице, когда-то мне хорошо знакомой. За двадцать пять лет дом изменился до неузнаваемости – да и как иначе? – однако новая лестница располагалась в том же самом месте, и стоило мне повернуть вправо голову, как перед мысленным взором тут же вставала Клэр, поворачивающая конфорки газовой плиты. После смерти родителей его должна была унаследовать она, Буся наверняка хотела бы именно этого, но в дело вмешалась ее крестная мать, Мадлен Фрост, и в итоге Клэр не получила ни пенни.
Я думала о словах Мадлен, когда заправляла машину. И когда дополнительно купила две канистры, также их наполнила и поставила в багажник. Я думала о словах Мадлен, когда расплачивалась ее кредиткой, а потом протирала салфеткой руль и все, к чему могла прикасаться в ее автомобиле.
Когда мы с Полом проходим мимо улицы, на которой живет Мадлен, я поворачиваюсь и быстрым взглядом окидываю ее дом. И только в этот момент впервые понимаю, что он ничем не отличается от других. Какая-нибудь семья могла бы отмечать сейчас в нем Рождество: играть в игры, дергать за веревочки хлопушки, совместно творя общие воспоминания. Там могли собраться дети, внуки, собаки или кошки, могли царить веселье и шум. Все это могло быть, но я знала точно, что сейчас там все по-другому. Там находился один-единственный человек. Мрачный, одинокий, жалкий и глубоко испорченный человек. И любили его только совершенно незнакомые люди, верившие в персонажа, вещавшего для них по радио. В этом доме сидит женщина, по которой никто не будет скучать.
Давно
Четверг, 7 января 1993 года
Дорогой Дневник,
Сегодня были похороны. Они были какие-то странные, потому что народу пришло мало, и было совсем не похоже на похороны, которые показывают по телевизору. Тетю Мадлен тоже позвали, но она не пришла. Кроме нее, у меня больше не осталось родственников, но я даже не знаю, как она выглядит. Ну и ладно. Теперь у меня новая семья. Я заплакала, когда увидела гробы, потому что я знаю, что так нужно, но я не скучаю по маме с папой. Хорошо, что их больше нет, без них всем только лучше. После пожара я поселилась в доме Тэйлор, и все было просто отлично. Как будто вся моя прошлая жизнь была одной сплошной ошибкой, как будто я на самом деле должна была родиться в этой семье. Единственное, из-за чего я плачу искренне, это из-за того, что я никогда больше не смогу вернуться в Бусин дом. Я не могу сидеть в ее любимом кресле и спать в ее постели. Все, что у меня от нее осталось, находилось в том доме. Говорят, все, что уцелело в пожаре, досталось тете Мадлен.
В доме Тэйлор у меня сейчас много новой одежды, книг, есть даже собственная комната. Сначала мы с ней жили в одной, но она без конца вскакивала по ночам. Ей все время снится пожар, она кричит и просыпается. Иногда она вообще не может спать. Это меня страшно достало. Я пою ей песенку, которую мне пела Буся, когда я не могла уснуть: «Колесики автобуса все крутятся и крутятся». Не уверена, что это ей помогает.
После той ночи Тэйлор ведет себя как долбанутая. Не знаю, почему, ведь она никак не пострадала и никто из ее близких не умер. Она сказала, что донесет на меня, но она этого не сделает. Я ей объяснила, что будет, если она так поступит. Несмотря на это, она делает всякие странные вещи, к примеру, стоит перед плитой и просто таращится на нее. А еще она стала кусать губы, иногда так сильно, что они начинают кровить. Это отвратительно. Мама Тэйлор сказала, что разные люди по-разному справляются с трудностями и что ей просто надо дать время. Она повезла ее показать какому-то врачу, полагая, что это может помочь, хотя я в этом не уверена.
После пожара мне пришлось говорить с кучей разных людей. С докторами в больнице, с полицейскими и дважды в неделю с женщиной по имени Бет. Она социальный работник, это означает, что она помогает людям. У нее большие печальные глаза, которые почти не моргают, и лохматый пес по кличке Цыган. Сама я его никогда не видела, но на ее одежде всегда полно шерстинок, которые она во время наших разговоров постоянно снимает и бросает на пол. Говорит она очень медленно и спокойно, словно я могу ее не понять, и всегда хочет выяснить, все ли у меня в порядке, но никогда меня об этом не спрашивает напрямик.
Именно Бет рассказала мне о тете Мадлен. Я думаю, тетя больна, раз не смогла приехать на похороны и не в состоянии собственной рукой писать письма. Вместо нее это делает адвокат, Бет как-то прочла мне из них несколько отрывков. Иногда ее большие глаза продолжают бегать по строчкам, но рот умолкает, и я начинаю гадать, что там такое написано, что она не хочет мне зачитывать. Пока она не сказала, что тетя Мадлен моя крестная, я даже не знала, что это такое. Бет отвела взгляд, уставилась в пол и объяснила, что в общем случае это женщина, которая должна присмотреть за ребенком, если его родители по каким-то причинам больше этого делать не могут. Я ничего не сказала. Я не хочу, чтобы за мной присматривал кто-то, кроме мамы Тэйлор. После этого Бет сказала, что Мадлен меня очень любит, но при этом полагает, что не сможет надлежащим образом обо мне позаботиться. При этом Бэт продолжала сидеть с этим своим супергрустным лицом, но я почувствовала облегчение, правда, только пока она не сообщила, что мне придется пожить в детском доме, пока не освободится место в приемной семье. Дедушка, переехав жить в чужой дом, вскорости умер. Я не хочу умирать. Мне очень не нравится тетя Мадлен, раз она не хочет за мной присматривать. Ей плевать, буду я жить или умру, но я не знаю, какая она, так что моя злость растет внутри меня, не может выйти наружу и делает мне больно.
Бет оставила меня в комнате одну, показала на игрушки и предложила поиграть. Я не хотела играть, ведь я уже не ребенок, но она сказала, что так нужно, а потом ушла. Я знала, что она смотрит на меня, стоя по ту сторону зеркала – видела такое в кино, – поэтому встала и подошла к коробке с игрушками. Внутри оказалась кукла, по виду довольно дорогая, не какая-нибудь пластмассовая ерунда. Я усадила ее себе на колени и стала рассказывать, как тоскую без мамы и папы и как признательна родителям Тэйлор за то, что они ко мне так добры. Потом произнесла короткую молитву и даже сказала под конец «Аминь», уверенная, что Бет относится к числу тех, кому это обязательно понравится. Так оно и вышло. Она вернулась и сказала, что я могу идти, и даже позволила взять с собой куклу, «в награду за храбрость». Я решила отдать ее Тэйлор. Скажу, что кукла будет присматривать за ней в мое отсутствие. Эта мысль мне так понравилась, что я стала улыбаться, и Бет тоже стала улыбаться, потому что думала, что осчастливила меня.
Я не дура и хорошо знала, что нужно делать. В ту ночь я расплакалась в комнате, не очень громко, но вполне достаточно для того, чтобы меня услышала мама Тэйлор. Она открыла дверь, даже не постучав, но я не возражала, ведь это совсем другая дверь, другой дом и другая мама. Она подоткнула мое одеяло, как когда-то Буся, села рядом и погладила по голове. На ней было белое платье, косметику она смыла, но все равно оставалась красивой и пахла своим любимым розовым гелем для душа. Когда я вырасту, стану в точности как она. Я сказала, что мне страшно жить с совершенно незнакомыми людьми, и еще немного поплакала. Она попросила меня не переживать, поцеловала в лоб, выключила свет и ушла. После этого я слышала, как они с мужем несколько часов подряд разговаривали в спальне. Не кричали друг на друга, как мои папа и мама, а совершенно спокойно говорили, как и полагается мужу и жене. На следующий день я увидела на кухонном столе бумаги на удочерение, так что все получилось как нельзя лучше.
Сейчас
Понедельник, 2 января 2017 года
Я все еще жива.
Это первая мысль, которая возникает у меня в голове. Не знаю, как так вышло, но я не умерла и вернулась обратно, хотя и не понимаю, где я была. Чтобы решить, радоваться мне или нет и что это означает, требуется некоторое время. Эдвард определенно пытался меня убить, но не смог. Вероятно, очень трудно отправить на тот свет того, кто и так мертв.
С учетом моей стойкой неприязни к больницам, в этой я провела немало времени. Мы приходили сюда с Полом, когда пытались зачать ребенка, здесь рожала моя сестра, в одной из этих палат умерла бабушка. В отличие от Буси Клэр, она скончалась не от рака, а от старости, в ее случае принявшей форму пневмонии. Тогда нам было по тридцать. Умирала она долго, и ее смерть тяжело ударила по нашей разобщенной семье. Всепоглощающая тоска и отчаяние на какое-то время нас объединили, но потом в душе Клэр щелкнул какой-то тумблер, и выключить его обратно было невозможно. К ней вернулась злость, которую она ребенком испытала после смерти своей Буси. Эта ярость, в полный голос заявившая о себе сейчас, зрела уже давно. Ненависть искала выхода. Клэр по-прежнему надо было во всем кого-то обвинить. И тогда она отыскала Мадлен. Представьте наше удивление, когда выяснилось, кто такая ее крестная и где она до сих пор живет. Погубить ее стало навязчивой идеей сначала для Клэр, а потом и для меня. У нее опять проявилась старая склонность к переменам настроения, теперь еще умноженная на полное недоверие к окружающим. Ее перепады настроения вызывали во мне потребность еще тщательнее соблюдать мои ритуалы, чтобы быть уверенной, что я нахожусь в абсолютной безопасности, когда Клэр чем-то недовольна.
Это называется ОКР, обсессивно-компульсивное расстройство. Ничего особенно страшного, но с возрастом ситуация стала усугубляться. Подростком мне приходилось раз в неделю приезжать в эту самую больницу. Со мной проводил сеансы человек невысокого роста, который слишком много говорил и слишком мало слушал. На нем всегда были одни и те же кожаные ботинки, серые с лиловыми шнурками, и я провела много часов, неподвижно на них глядя. После четырех месяцев еженедельных сеансов он сообщил, что меня преследуют навязчивые идеи и что я проявляю все признаки компульсивного поведения, чтобы справиться с необъяснимо высоким уровнем тревоги. Я ответила, что у него плохо пахнет изо рта. Вскоре после этого наши сеансы прекратились. Мои родители отказались от дальнейших попыток меня лечить. Вместо этого сосредоточили все свое внимание на Клэр, первоклассном заменителе настоящей дочери, напрочь позабыв о дефектном оригинале, который они так и не смогли починить, – обо мне.
Я стараюсь вытащить себя из прошлого в настоящее, хотя на самом деле не хочу находиться ни там, ни здесь. И в этот момент слышу ее плач. Перевести эти слезы на более понятный язык и определиться во времени и пространстве удается не сразу.
– Прости, Эмбер, прости меня за все, – доносится откуда-то издали голос Клэр.
Слова будто отскакивают от поверхности воды надо мной. Звук ее голоса вытаскивает меня наверх, и я будто пробуждаюсь от глубокого сна. Вокруг что-то изменилось. Свет и тени сместились. От этого становится как-то тревожно, будто кто-то без моего ведома сделал в мозгу перестановку.
– Ты пыталась рассказать мне о нем, да? А я тебя не слышала. Прости меня, – говорит Клэр.
Теперь ее голос звучит ближе, будто я могу протянуть руку и прикоснуться к ней. Понять, что она имеет в виду, получается не сразу, но мозг, перебрав все возможные варианты, приходит к выводу, что «он» – это Эдвард.
Я снова куда-то уплываю. Обработать так много слов за один раз не удается.
Слово «Эдвард» как будто бы затемняет края окружающего меня мира. Что-то случилось, что-то страшное, даже хуже тех событий, которые мне удается вспомнить. Как бы там ни было, Клэр обо всем знает, так что сейчас, по-видимому, все уже хорошо. В прошлом она никогда не позволяла меня никому обижать.
– Без изменений? – слышу я голос Пола.
– Да. Его поймали? – спрашивает Клэр.
– Нет, они были у него в квартире, но его там нет.
Я пытаюсь сосредоточиться и просеять их слова через фильтр реальности, который соорудила в своей голове, но это срабатывает далеко не всегда. Мне очень хотелось бы стереть неприятные, тоскливые воспоминания, всплывающие на поверхность, однако в моей голове будто замкнулась какая-то цепь, предоставив возможность все вспомнить. Даже то, что лучше было бы забыть.
Я помню, как Эдвард пришел в эту палату.
Помню, что он со мной сделал.
Но не понимаю, откуда об этом узнали они.
Потом до меня доходит – Пол говорил, что установил здесь камеру. Значит, он должен был все увидеть. От этой мысли мне становится тошно.
Мне по-прежнему кажется, что я нахожусь под водой, но мутная жидкость становится немного прозрачнее, и я все время всплываю ближе к поверхности. По мере этого воспоминаний становится все больше.
Я вспоминаю о той ночи, когда произошла беда. Вспоминаю все.
Теперь мне известно – за рулем машины на Рождество сидела не я, и это вовсе не был несчастный случай. Какое-то время меня не было. Не знаю, как долго, но теперь я вернулась – и я помню все.
Недавно
Рождество, 25 декабря 2016 года, ближе к вечеру
– Как ты? – спрашиваю я, когда Пол плюхается на диван и берет в руки пульт от телевизора.
– Что? А, нормально.
– Выпьешь чего-нибудь?
– Если можно, виски.
Я на мгновение замираю в нерешительности. Пол уже давно не пьет виски. Одно время он вообще ничего другого не пил, но эта янтарная жидкость изменила его, а его пристрастие к ней изменило нас. Она стала его неотъемлемой частью, причем частью ужасной. Он думал, что спиртное поможет ему писать, и запирался на всю ночь в своем писательской хибаре, прихватив с собой лишь ноутбук и бутылку. Еженощная литературная троица, провальный и заезженный сюжетный ход. Мы с ним превратились в два автономных государства, разделенных золотистым алкогольным потоком. Я злилась, страдала от одиночества, всего боялась. Что-то он действительно писал, но слова получались все время не те: они не подходили друг другу. Когда выяснилось, что у нас не будет детей, все стало еще хуже. Виски для него стало излюбленным средством заглушить боль, и он вливал его в себя, ничем не разбавляя. Чистый скотч. Но вел он себя при этом довольно грязно. Мне казалось, что я наблюдаю за медленным самоубийством с первого ряда партера. Потом, когда смотреть стало невыносимо, я пригрозила, что уйду. Он сказал, что бросит пить, но слово свое не сдержал. Просто стал травить себя тайком. Я уехала на десять дней. Тогда он действительно бросил. Это случилось больше года назад, и возврата к прошлому я не допущу.
– Дорогой, мне кажется, у нас его нет…
– Мне мама подарила, в шкафчике возьми, – отвечает он, не поднимая на меня глаз и продолжая щелкать пультом, не в состоянии выбрать канал.
Я выхожу на кухню и открываю холодильник. Игнорирую его просьбу и вытаскиваю заранее охлажденную бутылку шампанского. Сейчас я скажу ему о ребенке, у него сразу поднимется настроение, и это Рождество запомнится нам на всю жизнь. Правда, я сегодня и так уже выпила лишнего, но от небольшого бокала хуже не будет.
– Ты, наверное, рада, что у нас нет детей? – спрашивает Пол из гостиной.
– Что?
– Я имею в виду весь этот бардак. Целый день с ними возишься, без конца на них отвлекаешься, нельзя даже спокойно поговорить.
– Но ведь сегодня все было не так уж плохо, – отвечаю я, возвращаясь в гостиную.
Из моего левого глаза катится слеза, которую я не успела остановить.
– Да нет, с малышами мне нормально. Просто Клэр мне испортила настроение. Я устал от ее наставлений, как нам с тобой жить, она вечно вмешивается, а ты никогда ей даже ничего не скажешь… Это по какому поводу? – спрашивает он, показывая на шампанское.
– Мне кажется, нам нужно отпраздновать…
– За новую книгу мы уже выпивали. Ты что, плачешь?
– Нет-нет, что ты.
– Это из-за того, что Клэр отговаривает меня брать тебя в Америку? Плевал я на ее советы. Несколько недель без тебя она как-нибудь проживет.
– Ты сказал Клэр о книге? Когда?
– Да оно как-то само собой вырвалось, пока ты наверху читала близнецам на ночь сказку.
Понятно, почему она так смотрела на меня, когда мы уходили. В ее взгляде явственно проглядывало предупреждение. Пол продолжает, даже не понимая, что натворил:
– И почему мы не можем об этом рассказать? Ладно, ты права, у нас действительно есть повод для праздника.
Он берет со стола бутылку и открывает ее.
– Что конкретно ты ей сказал? – дрожащим голосом спрашиваю я.
– Пожалуйста, давай уже поговорим о чем-нибудь другом, а не о твоей сестре, ее занудном муже и их кошмарных близнецах.
– Пол, что конкретно ты ей сказал? Это очень важно.
– Да что ты все с ума сходишь? Она тоже смотрела на меня как чокнутая.
– Ее расстроила новость о моем отъезде. Я так и знала. Я же просила ничего ей не говорить.
– Нет, дело не в этом, а в ее идиотских дневниках. Она спросила, почему я сделал тебе такой подарок, и я ответил, что нашел ее дневники на чердаке. И она сразу как будто рехнулась, прямо у меня на глазах.
Его слова гулким эхом отдаются у меня в голове.
– Я же просила тебя не читать эти дневники и не говорить о них Клэр.
– Я их и не читал. Только одну строчку, про две горошинки в стручке. Я ее и процитировал, думал, это звучит смешно, но она, похоже, со мной не согласна.
Две горошинки в стручке.
– Она тебя убьет.
Пол хохочет. Он не понимает, что это не шутка. Клэр никому не позволит меня у нее отнять. Так было всегда. Все эти годы она творила с окружающими самые ужасные вещи. С моими друзьями, коллегами, любовниками – ей казалось, что они для меня недостаточно хороши. Считала, что обязана меня от каждого из них защищать. Когда у нее родились близнецы и появилась собственная семья, я решила, что все изменится, но все осталось по-прежнему, она даже как будто стала еще настойчивее. Вероятно, она даже отчасти радовалась, что я не могла забеременеть, опасаясь, что любовь к собственному ребенку затмит мою любовь к ней. С Полом, знаменитым писателем, все было иначе. Клэр решила, что он мне подходит, и пришла в восторг, когда он с радостью поселился буквально в миле от нее. Он прошел этот тест, потому что не попытался меня у нее отнять. Но теперь он совершил ошибку.
К горлу подступает тошнота. Я знаю, на что она способна. Нужно выйти из комнаты, найти телефон, дозвониться Клэр.
Но она не берет трубку.
Я предпринимаю еще одну попытку, однако опять попадаю на автоответчик.
– Он их не читал. Прошу тебя, ничего не делай, необходимости в этом нет, – произношу я как можно спокойнее.
– Вы что, все спятили? – говорит Пол, выходя вслед за мной в коридор. – Это же ведь обыкновенные детские дневники. Может быть, и правда нужно было их прочитать?
– Если она позвонит или заявится сюда, скажи, что я их уже сожгла. Дверь не открывай и в дом ее не пускай. Где ключи от машины?
– Что ты такое говоришь?
Я подбегаю к комоду и выдвигаю ящик за ящиком – все они набиты всяким хламом.
– Что бы она ни говорила, не верь ни единому ее слову, ты меня понял?
Я нахожу запасной комплект ключей, хватаю сумочку и, даже не проверив ее, бегу к выходу.
– Эмбер, подожди…
Слишком поздно, я уже мчусь по подъездной дорожке, пытаясь сквозь темень и дождь нащупать на брелоке кнопку сигнализации. Пальто на мне нет, и одежда моментально промокает насквозь. Пол появляется на крыльце в своих новых рождественских тапочках и подносит к уху телефон.
– Это я… Твоя сестра очень нервничает. Похоже, это каким-то образом связано с тобой. Позвони мне, пожалуйста, чтобы мы могли это как-то ула…
Я поворачиваюсь и выбиваю у него из рук телефон, который шлепается на подъездную дорожку.
Он смотрит на него, разинув рот, потом поднимает глаза на меня.
– Ты что, охренела?
– Держись от Клэр подальше!
– Ты сама себя слышишь? У тебя крыша поехала! Ты же даже ездить не умеешь. Если перебрала, сиди лучше…
– Я в порядке!
Рядом вспыхивает свет, я вижу, что на порог выходит сосед, и только в этот момент понимаю, что мы орем на всю улицу. Я поворачиваюсь, чтобы сесть в машину, но в этот момент роняю ключи, наклоняюсь и пытаюсь их найти, шаря в темноте: у меня дрожат руки. Когда мои пальцы наконец нащупывают свою добычу, Пол пытается меня удержать. Я отталкиваю его, сажусь, пытаюсь захлопнуть дверцу, и она с силой ударяет его по руке. Он вопит от боли, отдергивает руку, и я наконец закрываю дверь. Потом вставляю ключ в замок зажигания и уезжаю.
Сейчас
Вторник, 3 января 2017 года
– Я ненадолго съезжу домой, проверю, не убил ли Дэвид близнецов или они его, – говорит Клэр.
– Ну конечно, – отвечает Пол.
– Черт, прости. Не надо мне было говорить про близнецов, а уж тем более…
– Ничего страшного.
– Уверен, что мне не надо тебя сменить?
– Не надо. Я не брошу ее снова.
Скрипит отворяемая дверь.
– Клэр!
– Что?
– Ты ни в чем не виновата.
Он очень добр к ней, но в этом и заключается его ошибка. Во всем виновата как раз Клэр. Она неизменно стоит за всем, что есть плохого в моей жизни. Я слышу, что она уходит, и от этого меня охватывает радость.
Моя рука лежит в руке Пола – сильной, теплой, надежной.
– Прости, я опять тебя подвел, – шепчет он, – мне надо было остаться здесь.
Я представляю, как Пол смотрит, что со мной творит Эдвард. Вот он сидит дома, далеко-далеко отсюда, и видит, что какой-то незнакомец забирается рукой мне под простыню. Если я стала пленницей кошмара, то он – рабом обстоятельств, навязавших ему роль свидетеля. В итоге ему хотелось оказаться в этой палате в той же степени, в какой мне – убежать отсюда как можно дальше.
– Как же я тебя люблю, – говорит он и целует меня в лоб.
Пока я спала в одном круге ада, он преодолевал другой, свой собственный. Как же мне хочется просить прощения за то, что он из-за меня погрузился в эту пучину боли, и сказать, что я его тоже люблю. Эти слова крутятся в голове снова и снова, пока не обретают вес, а вместе с ним и черты реальности.
– Я тебя люблю.
– О боже! – восклицает Пол и выпускает мою руку.
Инстинктивно желая узнать, в чем дело, я пытаюсь открыть глаза. Меня ослепляет свет – настолько яркий, что в затылке от него вспыхивает боль.
– Пол, – услышав этот голос, я понимаю, что он принадлежит мне.
– Я здесь, – говорит он, и я его действительно перед собой вижу.
Он плачет, я тоже плачу. Он целует меня, я вижу каждое его движение. Все по-настоящему. Мои глаза действительно открылись. Я пришла в себя.
Недавно
Рождество, 25 декабря 2016 года, вечер
Я поворачиваю на подъездную дорожку к дому Клэр и вижу, что она стоит на крыльце. Она знала, что я приеду. Я выбираюсь из машины и, даже не закрыв дверцу, направляюсь к ней сквозь дождь. Намокшее платье липнет к ногам. Ткань словно пытается меня удержать, пытается помешать мне войти в этот дом.
– Привет, Эмбер, – говорит она.
Руки на груди. Лицо спокойное. Тело совершенно неподвижно.
– Нам надо поговорить.
– Думаю, сначала тебе нужно успокоиться.
– Он ничего не видел. И ничего не знает.
– Я не понимаю, о чем ты.
– Если ты причинишь ему зло, если с ним что-нибудь случится…
– То что? – спрашивает она, делая шаг вперед. – Что ты тогда сделаешь?
Мне хочется ее ударить. Как же мне хочется ее ударить. Но это невозможно. Я до сих пор люблю ее сильнее, чем ненавижу. Вести подобные разговоры здесь нельзя. Мало ли кто может услышать.
– Можно я войду?
Она несколько мгновений пристально смотрит на меня, словно оценивая возможный риск. Ее руки опускаются будто сами по себе, еще до того, как глаза принимают решение. Она кивает и отступает в прихожую, позволяя мне войти.
– Ты совсем промокла, сними туфли.
Я тихо закрываю за собой дверь и делаю как велено. Стою босиком на ее новом кремовом ковре и в страхе думаю о том, что сейчас произойдет. Мы очутились на территории, где раньше еще никогда не бывали. Я задаюсь вопросом, где Дэвид и может ли он нас услышать.
– Он на втором этаже. Отключился вскоре после того, как вы с мужем ушли, – отвечает она, будто читая мои мысли.
Уже не «с Полом», а «с мужем». Мысленно она уже отгородилась от человека, в котором узрела проблему. Ее глаза мрачны и холодны. Вижу, она уже добралась до самых темных уголков своей души, которые меня всегда так пугают.
– Верни их обратно, – говорит она.
Мне не надо спрашивать, что она имеет в виду.
– Я их сожгла.
– Я тебе не верю.
– Он их не читал.
– Как они вообще у тебя оказались?
– Валялись на чердаке. Я нашла их после смерти родителей. Они сохранили все твои вещи. Ничего моего на том чердаке не было.
– То есть ты их украла?
– Нет. Мне просто хотелось оставить хоть что-нибудь себе. Они ведь все оставили тебе. Я как будто для них не существовала.
– Тебе не надо было их брать и тем более позволять Полу их читать. Или ты хотела, чтобы с ним что-то случилось?
– Нет! Он их не читал. Не трожь его!
– Тебе нужно успокоиться.
– Тебе нужно пойти нахер.
Я ее толкаю. Это я зря. Она отшатывается, в ее глазах мелькает знакомый огонек. Потом подходит ко мне так близко, что я ощущаю на лице ее дыхание.
– Он их прочел, и теперь с этим надо что-то делать, – спокойно говорит она.
– Он ничего не знает.
– Он их прочел.
– Нет! – с мольбой в голосе кричу я, хотя знаю, что ее уши уже закрыты для истины.
– Две. Горошины. В стручке. Вот что он сказал. Он их прочел.
Она выплевывает в меня слова, каждое из которых усиливает боль в животе. От невыносимой боли возникает мысль, что она ударила меня ножом. Тут я вижу кровь. Я смотрю на ее руки, но они пусты, ножа нет. Теперь она тоже смотрит вниз на красную струйку, стекающую по моей правой ноге. Руки сами тянутся к животу, я скрючиваюсь от невыносимых мучений.
– О боже… – едва шепчу я.
Мои колени подгибаются, я проваливаюсь в пучину страдания.
– В чем дело? – спрашивает Клэр.
– О боже, нет.
– Ты что, беременна?
Она смотрит на меня сверху вниз со смешанным выражением страха и отвращения на лице. Мой ответ ей совсем не нужен.
– Почему ты ничего мне не сказала? Раньше мы говорили друг другу обо всем.
Я вижу, что ее мозг приходит в движение, с трудом перерабатывая новую информацию. Строит новую линию поведения.
– Прости, – говорю я со стоном, просто потому, что по ее убеждению должна это сделать.
Выражение ее лица не меняется.
– Это всего лишь небольшое кровотечение. Не переживай, все будет хорошо. Дай мне ключи от машины.
Я качаю головой:
– Позвони Полу.
– Давай ключи. До больницы отсюда пятнадцать минут, это быстрее, чем вызывать «неотложку». Мы свяжемся с ним по пути.
И я, как всегда, делаю, как она просит.
Сейчас
Вторник, 3 января 2017 года
– Проголодалась? – спрашивает Пол.
Я спала, но от этого сна можно было пробудиться. Я сажусь на больничной кровати, Пол поправляет у меня за спиной подушки. Дверь открыта, сразу за ней стоит каталка.
– Кормить ее надо не торопясь, по чуть-чуть, – обращается к Полу Северянка, протягивая поднос с едой. Я узнаю ее голос. В реальной жизни она выглядит совсем не так, как в моей голове. Моложе, стройнее, не такая уставшая. Я не представляла себе ее улыбку, а она улыбается постоянно. Некоторые снаружи выглядят совершенно счастливыми, и понять, что у них в душе надрыв, может только тот, кто умеет не только смотреть, но и слушать.
Пол берет у нее из рук поднос и ставит его передо мной. Курица с картофельным пюре и зеленой фасолью. Пакетик сока и десерт, по виду напоминающий клубничное желе. Я страшно голодна, но, когда вижу, что мне принесли, немного теряю аппетит. Пол подцепляет вилкой пюре, помогая себе ножом.
– Давай я сама, – звучит мой голос.
– Прости.
Я беру у него вилку.
– Спасибо.
Съедаю почти все. Тщательно пережевываю и глотаю небольшими порциями: горло все еще побаливает от зонда. Выглядело оно не очень, но по ощущениям я как будто съела лучший обед в своей жизни. Курица была жесткой, в пюре попадались комки, но способность самостоятельно жевать, глотать, ощущать вкус делает каждый кусочек просто божественным. Потому что это значит, что я жива.
– Больше ничего не вспомнила? – спрашивает Пол.
– Честно говоря, нет, – качаю я головой и отвожу в сторону взгляд.
Он, по всей видимости, испытывает облегчение. Говорит о будущем с таким видом, словно оно у нас есть, и я опять осознаю, что все происходит в действительности. Даже не представляю себе, что творится у Пола в душе после того, как он увидел издевательства надо мной другого мужчины. Но для него, похоже, от этого ничего не изменилось, по крайней мере пока. Мысли у меня в голове начинают путаться, его слова разглаживают складки сознания, в результате чего они становятся плоскими. Так продолжается до тех пор, пока даже самые последние из них не приобретают девственную чистоту, будто новый, никогда не пользованный, только что из магазина брендовый товар.
На прикроватной тумбочке жужжит телефон Пола. Он протягивает руку, читает текст и смотрит на меня.
– В чем дело? – спрашиваю я.
– К тебе пришли.
Внутри меня что-то медленно угасает.
– Кто?
– Клэр.
Он несколько секунд ждет от меня какого-то ответа, но я молчу.
– Ты против? Если не хочешь, можешь с ней не говорить. Ты вообще не обязана с кем-либо встречаться. Но что бы между вами ни произошло, я знаю, что она очень сожалеет.
– Ничего, все нормально.
– Вот и хорошо. Она на стоянке и будет здесь через пару минут. Я скажу ей подняться.
Когда он начинает писать сестре смску, я отвожу взгляд. Полу неведомо, что ко мне вернулись воспоминания о событиях того вечера. Я еще не решила, как поступить, что действительно вспомнить и что для виду забыть.
– Может, хочешь чего-то еще? – спрашивает Пол.
– Я бы не отказалась от вина, – отвечаю я.
Он смеется, и слышать это просто здорово.
– Знаю я тебя, ты и в самом деле могла бы сейчас выпить, но для виноградного напитка, боюсь, еще рановато. Всему свое время.
Он берет поднос и ставит его на пол сразу за дверью, будто это гостиница, а мы заказали в номер обед. Когда все это закончится, я бы хотела куда-нибудь уехать и на какое-то время скрыться от реальности. Подойдет любое место, где днем можно ощущать на коже лучи солнца, а по ночам смотреть на звезды.
Хотя дверь открыта, Клэр все равно стучит.
– Привет, – произносит она в ожидании, когда ее пригласят подойти ближе.
– Заходи, – говорит Пол.
– Как ты? – Она ни на кого из нас не смотрит, но обращается ко мне.
– Нормально, – отвечаю я.
– Так, я пойду немного прогуляюсь, а вы тут пока поболтайте, – добавляет он, вставая со стула.
Я киваю, давая ему понять, что поводов для беспокойства нет. Мы с Клэр пристально смотрим друг на друга, наши глаза уже ведут молчаливый диалог. Она садится на стул, с которого только что встал Пол, и ждет, когда он отойдет достаточно далеко, чтобы нас не слышать.
– Прости меня, – наконец произносит она.
– За что?
– За все.
Давно
Суббота, 14 февраля 1993 года
Дорогой Дневник,
Сегодня День святого Валентина. Я не получила ни одной открытки, но мне все равно. Теперь у меня есть семья, настоящая семья, и больше мне ничего не надо. Мне даже дали новое имя. Клэр Тэйлор. Звучит мило. Маму Тэйлор я зову «мамой», папу «папой», и им, похоже, это нравится. Как и мне. Всем все нравится, за исключением Тэйлор. Сегодня она все утро дулась и играла с подаренной мной куклой, будто маленькая девочка. Называет ее Эмили и разговаривает с ней, когда думает, что ее никто не слышит.
После ланча мама разрешила мне пойти в мою комнату. Я сказала, что хочу почитать новую книгу, и она поверила. Поскольку сегодня воскресенье, на обед у нас было жаркое. На этот раз мама приготовила целую курицу с жареной картошкой, йоркширский пудинг и очень много подливы. Я съела все, что было на тарелке, Тэйлор – почти ничего. Можно было бы доесть и за ней, но я так объелась, что могла лопнуть. Поднимаясь по лестнице, я слышала, как мама спрашивает Тэйлор, что случилось. Они постоянно это спрашивают, и меня это жутко бесит. Ничего не случилось. Пусть радуется, как я, и прекратит все портить.
Проходя мимо комнаты Тэйлор, я увидела Эмили, которая сидела на кровати и смотрела на меня своими стеклянными глазами. Это ведь я ее выбрала, когда ходила к социальному работнику, так что на самом деле она моя и я могу ее забрать, если захочу. Я никогда раньше не видела подобных кукол, таких настоящих. У нее шелковистые черные волосы, розовые щечки, симпатичное голубое платьице и туфельки в тон. Она казалась великолепной. Идеальной. Мне она не нравилась. Я не помню, как взяла ее и отнесла к себе в комнату. Помню только, как опустила глаза, увидела в руке циркуль из моего пенала, а на коленях Эмили – с выколотыми глазами.
Не зная, что делать дальше, я взяла ее за руку и вышла на лужайку перед домом. Я слишком взрослая для кукол, так что я положила ее на землю. Прямо на дорогу. Ее маленькие ножки уперлись в бордюр. Я все еще чувствовала себя объевшейся, поэтому я села на лужайку и стала выщипывать пучки травы. В голубом небе ярко сияло солнце, но было холодно. Мне это не мешало. Мне хотелось сидеть на улице, мне хотелось наблюдать.
В какой-то момент мне показалось, что на меня кто-то смотрит. Я повернулась и посмотрела на дом. Из окна своей спальни на втором этаже на нас смотрела Тэйлор. Она взглянула сначала на меня, потом на куклу, потом опять на меня. После чего отвернулась. Интересно, опять будет плакать? В последнее время она ревет постоянно.
Первый автомобиль объехал Эмили, даже не задев ее. Меня это рассердило, ведь у нас очень редко кто-то ездит. Тэйлор вышла в сад как раз вовремя, чтобы увидеть второй, так что получилось хорошо. Этот не промахнулся. Его левое переднее колесо раздавило лицо Эмили и намотало ее волосы. Я смотрела, как она несколько раз кувыркнулась в воздухе и упала. Потом по ней прокатилось заднее, но уже не увлекло за собой, а оставило лежать плашмя на асфальте. Тэйлор стояла рядом, не сводя глаз с куклы, но и не пытаясь к ней подойти. Выражение ее лица не изменилось, тело сохраняло полную неподвижность, она просто стояла и молчала. Я все так же щипала траву и катала ее в пальцах. Потом, сама того не желая, стала мурлыкать под нос песенку:
Колесики автобуса все крутятся и крутятся, весь день с утра до ночи.
– Ты кому-нибудь говорила? – спросила я.
Она не спросила, о чем, просто покачала головой и опустила глаза.
– Это хорошо, – добавила я, – когда ты рассказываешь всякие небылицы, происходят ужасные вещи.
Тогда она посмотрела на меня. Ее лицо в тот момент показалось мне каким-то бесцветным, оно не было ни грустным, ни веселым. Я похлопала по траве рядом с собой, и Тэйлор в конце концов села. На ней не было пальто, и я знала, что ей холодно, поэтому я взяла ее за руку. Она не сопротивлялась. Я трижды несильно ее сжала, Тэйлор ответила мне тем же. Я знала, что с нами все будет хорошо, что в действительности ровным счетом ничего не изменилось. Она ненадолго заблудилась, но мне удалось ее найти. Может, мы теперь и сестры, но мы всегда останемся двумя горошинками в стручке.
Недавно
Рождество, 25 декабря 2016 года, ночь
Клэр подныривает под мою руку, принимая на себя почти всю тяжесть моего тела, и ведет к машине. Я ей подчиняюсь, не уверенная, что могу стоять на ногах. Мокрый гравий подъездной дорожки больно вонзается в пальцы босых ног. Она опускает меня на пассажирское сиденье, и в этот момент я замечаю на ней красные кожаные перчатки, которых никогда раньше не видела. Мои ноги свисают сбоку, я слышу в машине чей-то стон и только через несколько секунд понимаю, что он исходит от меня. Клэр садится за руль, пристегивает ремень и захлопывает дверцу.
– Где мои дневники, Эмбер?
– Говорю же тебе, я их сожгла.
– Лжешь.
– Ради бога, просто отвези меня в больницу.
Раньше она никогда не водила машину Пола, но подает назад так уверенно, будто это ее собственная. Одна красная перчатка на рулевом колесе, другая все время на рычаге переключения передач. Словно гонщица, словно хозяйка положения. Я закрываю глаза и подношу руки к животу, словно пытаясь удержать ее внутри. Уверена – это девочка.
Пока Клэр выезжает на дорогу, мы с ней не говорим. Единственные голоса, которые различает мой слух, доносятся из радиоприемника, да и те не живые, а записанные заранее. Время от времени я открываю глаза, чтобы выглянуть в окно и убедиться, что она везет меня куда надо, но вижу одну только черноту. Когда мы на углу поворачиваем, мне, чтобы не упасть, приходится схватиться рукой за приборную доску.
– Я думала, ты не можешь забеременеть, – говорит она, включая вторую скорость.
Похоже, мы выехали на автомагистраль, так что ждать уже недолго.
– Я тоже.
Третья скорость.
– Пол знает?
– Нет.
Четвертая.
– Почему ты мне ничего не сказала?
– Ты всегда говорила, что нам больше никто не нужен.
Пятая.
Я открываю глаза и осознаю, что судороги в животе прекратились. Только вот не понимаю, что это означает.
– Все, отпустило, – говорю я, пытаясь сесть немного прямее, – похоже, со мной все в порядке.
По моему телу тонкими струйками разбегается облегчение. Я смотрю на Клэр и вижу, что ее лицо совсем не изменилось, будто она меня не услышала.
– У тебя, когда ты носила близнецов, как-то ведь тоже было кровотечение, да? – спрашиваю я.
– Тебе все равно надо показаться врачу, в таких случаях всегда лучше перестраховаться.
– Ты права. Но теперь можно ехать и помедленнее.
Она ничего не отвечает, лишь смотрит прямо перед собой.
– Клэр, я сказала тебе не гнать, со мной все в порядке.
Мои руки опять инстинктивно тянутся к животу.
– Ты должна была мне сказать, – произносит она так тихо, что я ее бы даже не услышала, если бы не следила за движением губ.
Ее лицо уродливо исказилось.
– Мы всегда все друг другу рассказывали. Если бы ты меня слушалась и прекратила врать, ничего этого не случилось бы. И если ребенок умрет, винить в этом тебе придется только себя.
– Он жив, – отвечаю я.
Слезы обжигают мне веки и катятся по щекам. Я на сто процентов уверена в своих словах и могу поклясться, что слышу биение сердца моего неродившегося ребенка так же отчетливо, как своего собственного. Клэр кивает. Она верит, что он жив. Я закрываю глаза и немного сильнее хватаюсь за край сиденья. Надо держаться, до больницы уже недалеко. Мы едем очень быстро, и она, должно быть, уже совсем рядом.
– Эмбер.
Облаченной в перчатку рукой Клэр сжимает мою ладонь. Меня обжигает холодом, я открываю глаза и вижу, что она смотрит не на дорогу, а на меня. Она улыбается, и меня сковывает ужас.
– Я люблю тебя, – говорит она, отворачивается и устремляет взор обратно на дорогу, обеими руками сжимая руль.
Я слышу визг тормозов, потом время будто замедляется. Мое тело отрывается от сиденья, я лечу вперед руками и пробиваю ветровое стекло, будто ныряя в стеклянный бассейн. Тысячи мелких осколков вонзаются в тело. Но я ничего не чувствую, боль полностью исчезла. Я лечу высоко в ночном небе. Вижу звезды, они так близко, что я почти могу до них дотронуться, но потом голова ударяется об асфальт, а за ней плечо и грудь, и я скольжу вперед, обдирая кожу. Потом все замирает. Полет закончился.
Боль возвращается, с той лишь разницей, что теперь она повсюду и намного сильнее. Я сломана снаружи и внутри, мне страшно. Я не плачу – не могу – но чувствую, как по лицу алыми слезами течет кровь. Слышу, как хлопает дверца машины, издали, из автомобильного радио, доносится едва слышная рождественская песенка. Агония нарастает, вокруг становится черным-черно. А потом я уже не могу чувствовать боль, не могу чувствовать что-либо. Я могу только спать.
Сейчас
Вторник, 3 января 2017 года
– Ты меня бросила.
– Я выпила, мне нельзя было вести машину. Я страшно перепугалась.
– Ты перепугалась? Ты хотя бы помощь вызвала?
Она отводит взгляд.
– Я подумала, ты умерла.
– Ты надеялась, что я умерла.
– Неправда, не говори так, я люблю тебя.
– Нет, не любишь, просто я тебе нужна, а это разные вещи.
– Ты знаешь, что было бы, если бы выяснилось, кто вел машину? У меня двое маленьких детей! Я нужна им!
– Я была беременна. А теперь уже нет.
– Знаю. Прости меня. Я никогда бы не причинила тебе вред намеренно, ты же знаешь.
– Ты говорила Полу?
– О чем?
– Что была за рулем.
– Нет, а ты?
– Думаешь, он пустил бы тебя, если б я ему сказала?
Из нее сочится гнев.
– Это был несчастный случай, Эмбер. Я пыталась тебе помочь. Пыталась отвезти тебя в больницу. Ты что, не помнишь?
– Я помню, что ты пристегнулась, набрала скорость, а потом ударила по тормозам. Я помню, как я взлетела на воздух.
– Я должна была остановиться.
– Нет, не должна была.
– Мы ехали, ты плакала от боли, а потом сказала что-то о маленькой девочке в розовом халате. Я подумала, что на дорогу выбежал ребенок. Ты сама крикнула тормозить.
Она вливает слова мне в уши, и они наконец меня находят. Я больше не могу отличить действительность от вымысла. Я не знаю, какую версию принять. Верить сестре или себе? В наступившей тишине пространство вокруг пытается залечить мои раны, но Клэр тут же рвет стежки, вновь их обнажая.
– Когда я вышла из машины, никакой девочки не было. Она либо убежала, либо ты ее просто придумала, – говорит она.
И то, и другое.
Я отворачиваюсь, не в состоянии на нее больше смотреть. Чтобы так ее ненавидеть, нужно очень много любви.
– Знаю, тебя нельзя было там оставлять. Но ты обязана была сказать мне о ребенке. Как и о том парне. Вот что происходит, когда мы друг другу врем.
– Я не лгала.
– Но и правду ты тоже не сказала. Я навела о нем справки, об этом Эдварде Кларке. Вскоре после того, как вы с ним расстались, его вышибли с медицинского факультета.
– Из-за тех писем, которые ты писала.
– Может быть. В любом случае, я оказалась права, я знала – с ним что-то неладно. Перед тем как устроиться в эту больницу, он перебивался случайными заработками. Похоже, выбрал ее специально, чтобы быть ближе к тебе, понимаешь? Видимо, он следил за тобой много лет, и я сомневаюсь, что теперь прекратит. Где он живет?
– Не помню.
– Все ты помнишь. Давай говори, я больше не позволю ему тебя обидеть. Я никому не дам тебя обидеть.
– Мне хочется спать, – говорю я и закрываю глаза.
– Это тебе, – звучит ее ответ, и я слышу, как она кладет что-то на прикроватную тумбочку.
Я приоткрываю глаза, чтобы увидеть, о чем идет речь, но на нее не смотрю.
– Я подумала, он тебе напомнит, кем мы когда-то были и кем еще можем стать, – добавляет она.
Я молчу. Оказывается, этот золотой браслет такой маленький; я запомнила его совсем другим. Даже удивительно, что я по-прежнему могу надеть его на запястье. Тот самый, который она у меня украла, когда мы были детьми. На золоте высечена дата моего рождения. Моего и ее. Опасные двойняшки. И та же самая английская булавка, с помощью которой я его починила. Какой он хрупкий. Невероятно, что она его сохранила. Я хочу к нему прикоснуться, но сдерживаю себя. Закрываю глаза и поворачиваюсь к ней спиной. Я призываю тишину, которая снова поглотит меня и ввергнет во тьму, я не хочу больше ничего слышать. Мое желание исполняется. Дверь закрывается, я остаюсь одна. Вместе с сестрой исчезает и браслет.
Потом
Шесть недель спустя 15 февраля 2017 года
Я стою в ногах нашей кровати и смотрю на его лицо. Рот Пола слегка приоткрыт, глаза под веками шевелятся даже во сне. За последние месяцы он постарел, морщины его стали глубже, а круги под глазами темнее. Я смотрю на совершенно взрослого мужчину, но вижу перед собой само воплощение уязвимости. Меня окружает величественная тишина, принести которую может единственно ночь. Я тщательно размышляю, пытаясь понять, правильный ли сделала выбор, и прихожу к выводу, что да. Я не позволю прошлому управлять будущим.
Я вернулась домой чуть больше месяца назад. Я так долго пребывала в молчаливой тьме, что сразу после выписки меня оглушил поток чувственных впечатлений. Мир показался невероятно стремительным, кричащим, осязаемым. Возможно, таким он был всегда, а я просто этого не замечала. Чтобы приспособиться и привыкнуть к нему, потребовалось некоторое время. Я съездила на место аварии: больничный психолог решил, что это пойдет мне на пользу. Рядом с деревом валялся букет засохших цветов. Какой-то добрый человек, видимо, решил, что в ту ночь меня не стало. В каком-то смысле так оно и есть.
Я пытаюсь жить дальше. Простила Клэр и настолько примирилась с ней, что даже предложила заняться близнецами, когда вчера они с Дэвидом решили устроить себе романтический ужин. Я решила, что они имеют право побыть друг с другом наедине. В довершение всего я взяла на себя готовку.
Приятно было посидеть с близнецами у нас дома. После обеда они уснули в нашей запасной комнате. Раньше они никогда у нас не спали, и я без конца забегала к ним, желая убедиться, что с ними все в порядке. Вставала в дверях, смотрела на их розовые щечки и буйные вихры. Они лежали в кровати, как две горошинки в стручке. Я приклеила на потолке несколько светящихся звездочек, которые им, кажется, понравились. Несколько раз включила и выключила свет, чтобы показать, что они могут мерцать только в темноте. Поскольку Пол знал, как их развеселить, они сегодня плакали меньше обычного. Говорил с правильными интонациями, делал лучше все вокруг. Теперь в доме опять тихо. Я смотрю на часы: 03:02.
Даже несколько недель спустя по-прежнему дают о себе знать побочные эффекты комы. Ночью мне снятся ужасные, назойливые кошмары, я в страхе просыпаюсь и потом не могу уснуть. Украдкой спускаюсь вниз, где меня встречает Дигби. Теперь у нас есть щенок, черный лабрадор. Завести его предложил Пол. Я иду на кухню и перед тем, как приступить к моему ритуалу, бросаю взгляд на часы: 03:07. Для начала несколько раз дергаю ручку задней двери, чтобы убедиться, что та закрыта.
Вверх-вниз. Вверх-вниз. Вверх-вниз.
Потом встаю перед большой, длинной плитой и сгибаю в локтях руки. Пальцы складываются в привычную фигуру: на каждой руке указательный и средний смыкаются с большим. Я тихо шепчу и внимательно осматриваю конфорки, проверяя, все ли выключено, и щелкая пальцами. Повторяю процедуру. Повторяю снова.
Дигби смотрит на меня, стоя на пороге кухни и склонив набок голову. Уже собравшись уходить, я на несколько секунд задерживаюсь, раздумывая, не стоит ли проверить все в последний раз. Смотрю на часы: 03:15. Времени больше нет. Я надеваю пальто, хватаю сумочку и проверяю ее содержимое. Телефон. Кошелек. Ключи. И еще несколько мелочей. Проверяю еще дважды, пристегиваю к ошейнику Дигби поводок и заставляю себя выйти из дома. Запираю входную дверь, трижды ее проверяю и шагаю по залитой лунным светом тропинке.
Я обнаружила, что пешие прогулки действуют на меня благотворно, а щенок их просто обожает, что днем, что ночью. Пара кварталов, немного холодного воздуха – и вот я уже опять могу уснуть. Больше ничего не помогает. Я иду вдоль дороги, в домах нет ни огонька, будто все люди исчезли и кроме меня в мире никого не осталось.
Вперед по улицам, уснувшим под черным покровом ночного неба, на котором, будто блестки, сияют звезды. Двадцать лет назад я смотрела на те же самые звезды, я сама с тех пор непоправимо изменилась. Луны нет, поэтому, когда я поворачиваю на подъездную дорожку к жилищу Клэр, меня со всех сторон окутывает мрак. Я пристально смотрю на возвышающийся передо мной дом, будто впервые вижу его по-настоящему. Он должен был принадлежать мне, ведь я здесь родилась. Я привязываю Дигби к фонарному столбу, вытаскиваю ключи и переступаю порог.
Первым делом проверяю Клэр и Дэвида. Они безмятежно спят, отвернувшись друг от друга. Ни один из них даже не шевельнется.
Колесики автобуса все крутятся и крутятся.То, что они вот так лежат, наверняка что-то означает, но что именно, я уже не помню, к тому же сейчас это уже неважно.
Все крутятся и крутятся.Проверяю у Дэвида пульс. Не прощупывается, он уже холодный. Захожу с другой стороны кровати, чтобы проверить Клэр. Ее сердце еще бьется, хотя и слабо. Скорее всего, из приготовленного мной блюда ему досталось больше. Пакетик из больницы, похоже, сработал. У меня, конечно же, были сомнения, но если ночной санитар смог с этим справиться, то и для меня, особенно если под рукой Интернет, это тоже посильная задача.
Все крутятся и крутятся.Захожу в детскую, потом возвращаюсь к Клэр.
Колесики автобуса все крутятся и крутятся.Тишину в клочья разрывает детский плач. Я склоняюсь ниже над ее кроватью, в надежде, что она все слышит.
Весь день с утра до ночи.– Две горошинки в стручке, – шепчу я ей на ухо.
Она открывает глаза, и я отшатываюсь от кровати. Ее взор обращен в ту сторону, откуда доносятся крики детей. Я понимаю, что она может двигать только глазами, и расслабляюсь. Увидев меня, они широко распахиваются, в них мелькает какой-то дикий отблеск. Ничего подобного в ее взгляде я раньше не видела. Страх. Я беру канистру с бензином и поднимаю ее, чтобы она оказалась в поле зрения Клэр. Она смотрит на нее, потом переводит взор обратно на меня. Я в последний раз вглядываюсь в лицо сестры, беру ее за руку, три раза сжимаю и отпускаю.
– Никогда не любила газ, – говорю я и выхожу из комнаты.
Потом
Вторник, 15 февраля 2017 года, 4 часа утра
Домой я возвращаюсь другой дорогой, делая небольшой крюк, Дигби тащит меня за собой. На улице холодно, и я прибавляю шагу, услышав вой пожарных сирен. Я думаю об Эдварде, вероятно, из-за этих гудков. Полиция его так и не нашла. В памяти всплывает тот день, когда детектив Хэндли пришел к нам домой и сообщил, что им удалось обнаружить. Он присел на диван с такой благородной предупредительностью, будто боялся потревожить в комнате воздух или сделать вмятину на подушке. Когда я предложила ему чаю, вежливо покачал головой, потом долго молчал, явно подбирая нужные слова и обдумывая порядок, в котором их следует произнести. Его бледное лицо побледнело еще сильнее, когда он принялся описывать следы крови и фрагменты обгорелой кожи, обнаруженные в квартире Эдварда в его домашнем солярии. На ту ночь, когда соседи слышали доносившиеся оттуда крики, алиби у Клэр не было – как и у меня. Но это не имело никакого значения, нас никто ни о чем не спрашивал. Детектив предположил несчастный случай, по его мнению, что-то там замкнуло и загорелось. Помню, я тогда кивнула. Что-то – а может быть, кто-то – действительно загорелось. Тела не нашли. Однозначных выводов сделать было нельзя. Чтобы прояснить ситуацию, порой ее полезно запутать.
Когда я повернула на углу и вышла на шоссе, мысли переключились на Мадлен. Я часто о ней вспоминаю с тех пор, как очнулась. Я иду мимо автозаправки, на которой два месяца назад покупала бензин. Записи камер видеонаблюдения уже удалены, а проверка без труда установит, что он был оплачен банковской картой Мадлен Фрост. Она всегда давала мне ее, чтобы я купила ей ланч или заплатила за химчистку, но я использовала ее и в других целях – в частности, оплатила запасную связку ключей, когда она попросила меня сделать дубликат для новой уборщицы. Как раз ради таких случаев я и устроилась на эту явно недостойную меня работу. А самое главное – я была прекрасно знакома с расписанием Мадлен, потому что как личный помощник сама его и составляла. Зная на две недели вперед, где она будет в любую минуту дня и ночи, я без проблем выбрала время, когда у нее не будет алиби.
Последнее компрометирующее письмо Мадлен получила перед рождественским корпоративом, и оно было подписано именем Клэр. Так что никаких сомнений в том, кто несет за это ответственность, быть не должно. После эпического провала в дневных новостях, которые удались гораздо лучше, чем планировалось, и превзошли все мои ожидания, с Мадлен было покончено. Лицо «Детей кризиса» наговорило в прямом телеэфире столько ужасов, что брошенную на произвол судьбы крестницу и украденное у нее наследство по сравнению с ними можно было считать сущим пустяком. Однако я с ней еще до конца не разобралась. Шантаж всегда казался мне чем-то уродливым, но в данном случае все выглядело иначе, даже можно сказать – красиво. Это было правосудие. Люди думают, что добро и зло – это противоположности, но они ошибаются. На самом деле это просто взаимные отражения в разбитом зеркале.
Мой рассказ для полиции был тщательно отрепетирован. Я написала рукой Мадлен письмо, где угрожала Клэр устроить ей то же самое, что когда-то случилось с ее родителями. Мне не раз приходилось писать за нее письма, опыт в этом отношении у меня был богатый, поэтому в подлинности почерка наверняка никто не усомнится. Клэр, конечно же, его не прочла, но когда придет время, я объясню, что она отдала мне его на ответственное хранение, на тот случай, если с ней случится непоправимое. Все считали, что Мадлен чокнется, если потеряет работу, так как кроме работы у нее больше ничего нет. А когда полиция найдет пустые канистры из-под бензина, надежно запертые у нее в гараже, решат, что были правы. На дубовом столе в ее гостиной будет лежать ручка, которой было написано письмо Клэр. Одним словом, полиция найдет все что нужно.
Я возвращаюсь домой, тихонько переступаю порог и снимаю пальто. 4:36. Моя вылазка отняла меньше времени, чем предполагалось, однако вновь уснуть уже не получится, не тот случай. Я чувствую себя грязной, зараженной неведомой болезнью, поэтому я поднимаюсь наверх принять душ. Закрываю дверь ванной и смотрю на себя в зеркало. Мне совсем не нравится то, что я вижу, так что я закрываю глаза. Я расстегиваю молнию на теле, в котором жила, и выбираюсь из него наружу. Я словно новорожденная матрешка – чуть меньше, чем раньше. Интересно, сколько еще моих версий и ипостасей спрятано внутри? Я включаю душ, но встаю под него слишком поспешно. Вода страшно холодная, но я не отступаю, просто стою и жду, пока струя постепенно нагревается, и когда она становится обжигающе горячей, я почти этого не ощущаю.
Я не знаю, не помню, сколько я так стояла. Не помню, как вытиралась и закутывалась в халат. Не помню, как вышла из ванной и спустилась по лестнице вниз. Я просто осознаю, что теперь сижу в гостиной и смотрюсь в висящее над камином зеркало. Взирающая из него женщина мне нравится. Я беру на руки Дигби, сажаю его на колени и глажу в темноте нежную черную шерстку. Теперь остается только ждать.
Кто-то из близнецов плачет. Я опускаю щенка на ковер и бегу наверх, чтобы их утешить. Вечером, когда я пыталась записать на диктофон их плач, они только радостно улыбались, но в конце концов я своего добилась. В их комнате теперь светло. Я отдергиваю шторы и смотрю, как над домами и улицами внизу занимается рассвет нового дня. Пол все еще спит, поэтому я беру близнецов, спускаюсь вниз и готовлю им завтрак. Сажаю их на высокие стульчики, опасаясь, что в нашем старом доме им слишком холодно. В голову приходит еще одна мысль, очень и очень неплохая, не знаю, почему я не подумала об этом раньше.
В камине пляшет огонь, заливая комнату светом и теплом. Близнецы смотрят на него, как завороженные, будто раньше никогда не видели пламени. Может быть, и правда не видели. Я беру в руки тетрадь за тетрадью, просматриваю несколько страниц и бросаю в огонь. На последней немного задерживаюсь, провожу пальцем по надписи «1992» на обложке, потом пробегаю глазами последние строчки. Сначала мне не удается прочесть застревающие в горле слова, но потом я все же заставляю себя это сделать. В последний раз глаза постигают рассказ Клэр о той ночи, ночи, которая все изменила.
«Так поступить мне велела Тэйлор».
Я вырываю страницу, сминаю ее в комок и бросаю в камин. У меня на глазах она превращается в ничто, и тогда я швыряю вслед за ней последний дневник Клэр. Потом мы с близнецами сидим и смотрим, как все написанное их матерью превращается в пепел и дым.
Позже
Весна 2017 года
Меня всегда восхищало особое состояние невесомости в промежутке между сном и явью. Эти драгоценные полубессознательные мгновения, перед тем как ты открываешь глаза, когда ты еще продолжаешь верить, что твои сны могут быть реальностью. Короткий миг, на какую-то секунду дольше обычного, я наслаждаюсь целительной иллюзией, представляя, что могу оказаться кем угодно и где угодно, что меня можно любить.
Я чувствую, как на глаза падает тень, и веки тут же поднимаются. Свет так ярок, что поначалу я даже не могу вспомнить, где нахожусь. Какую-то долю секунды я воображаю, что опять оказалась в больничной палате, но потом до меня доносится шум моря – тихий шелест волн, набегающих на песчаный берег где-то невдалеке. Подношу ладонь к глазам, прикрывая их от солнца. А потом обнаруживаю, что смотрю на линии руки и кончики пальцев, отпечатки которых кожа помнила все эти годы. Да, моя кожа, как бы неудобно мне ни было ее носить, точно знает, кто я.
Я сажусь на кровати, услышав голоса детей. Их заразительный смех звучит в моих ушах до тех пор, пока лицо не расплывается в улыбке. Совершенно не важно, кто их родил, теперь они мои, к тому же мне известно, что голос крови можно заглушить. Я немного себя ругаю за то, что уснула, хотя должна была не спускать с них глаз, но потом смотрю на пляж и успокаиваюсь. Если не считать нескольких пальм, мы здесь безраздельные хозяева. Вокруг ни одной живой души. Бояться некого. Я пытаюсь расслабиться, откидываюсь на стуле и сплетаю на коленях пальцы. Опуская глаза вниз, вижу мамины руки. Потом перевожу взгляд на племянников и принимаю решение до конца жизни любить этих детей, что бы они ни делали, как бы ни изменились и кем бы ни стали, когда вырастут.
Жаркое солнце согревает кожу и озаряет своим светом новую жизнь. Наш персональный уголок рая на пару недель, остановка в пути перед отъездом в Америку. Я оборачиваюсь и бросаю взгляд на отель, размышляя, куда подевался Пол. Мы поселились в номере на первом этаже, прямо на пляже, поэтому, чтобы выйти днем на солнце или поглядеть ночью на звезды, нам достаточно сделать всего один шаг. Номер просто огромен, напоминает больше не комнату, а апартаменты, и мы почти никого здесь не видим. Из-за сезона дождей постояльцев почти нет, хотя после нашего приезда с неба еще не упало ни капли.
Все жалюзи на окнах открыты, и я различаю внутри силуэт Пола, сидящего на кровати. Он говорит по телефону. Уже в который раз. Муж привык к новому положению вещей не так быстро, как я надеялась, но он любит детей, как родных. Я наконец-то создала для него семью, о которой он всегда мечтал, и теперь ее уже никому у нас не отнять. Я опять смотрю на малышей. Они в порядке. Затем отрываюсь от шезлонга и направляюсь к Полу, напоминая себе, что за ним тоже нужно присматривать.
Как только я вхожу в комнату, Пол кладет трубку на прикроватную тумбочку. В мою сторону не смотрит, и у меня возникает ощущение, что я ему помешала.
– С кем ты разговаривал? – звучит мой вопрос.
– Ни с кем, – отвечает он, по-прежнему не глядя мне в глаза.
Кровать завалена листами белой бумаги формата А4, покрытыми черным машинописным текстом и испещренными красными чернилами. Опять эта нескончаемая редакторская правка.
– С кем-то ты все же общался.
Я стараюсь скрыть раздражение в голосе, все-таки у нас вроде как отпуск. Возможность провести время с семьей, а не прятаться в номере, пялиться на строки романа и перезваниваться с агентом. Я поворачиваюсь, смотрю на детей, вижу, что с ними все в порядке, и вновь перевожу взгляд на Пола. Теперь он смотрит на меня, уголки его рта медленно ползут вверх.
– Вообще-то я хотел сделать тебе сюрприз, – говорит он, встает и подходит меня поцеловать. – У тебя совсем обгорели плечи, намазать тебя?
– Какой еще сюрприз?
– Сейчас нам в номер кое-что принесут.
Я ему все еще не верю.
– Как это? Почему? До ужина осталось всего пара часов.
– Ты права, но на нашу годовщину мы обычно пьем шампанское.
– Сегодня же не день нашей свадьбы…
– А разве я говорил о свадьбе? – с улыбкой спрашивает он.
До меня доходит, о какой годовщине идет речь, и я тоже улыбаюсь.
– Я уж было подумала, что ты опять общаешься со своим агентом.
– На этот раз я перед тобой чист, – отвечает он, поднимая вверх руки, – впрочем, ты мне кое о чем напомнила. Пока не принесли бутылку, я должен связаться с ним по скайпу. Пять минут, потом я полностью в твоем распоряжении. – Я закатываю глаза. – Неужели ты мне этого не простишь?
– Ну хорошо, но только пять минут, – отвечаю я и чмокаю его в щеку.
Мне хочется привести себя в порядок, но сначала я нахожу глазами близнецов. В последнее время они стали частью моего ритуала, проверять их надо три раза подряд. Малыши точно там, где я их оставила, строят из песка замки, рушат их и начинают опять. Им полностью хватает общества друг друга. Интересно, а это вообще нормально? И будет ли так оставаться всегда?
– Взгляни, – говорит Пол.
Он уже перебрался за небольшой стол в углу номера и теперь вглядывается в экран ноутбука. Я вижу, что у него из-под воротничка футболки торчит этикетка, подхожу ближе и тяну руку, чтобы заправить ее, но потом меняю свое решение. Сама не знаю почему. Вместо этого я устремляю взгляд на монитор поверх его плеча.
– Это прислала собачья сиделка. Похоже, что Дигби тоже отлично отдыхает.
Увидев снимок, я улыбаюсь. Песик часто дышит, но при этом будто улыбается на камеру.
– Знаю, ты по нему очень соскучился, – говорю я, – ну ничего, скоро увидимся.
Пол любит эту собаку и терпеть не может с ней расставаться. Каждому из нас необходимо кого-то или что-то любить, в противном случае заключенная в нас любовь просто не найдет выхода.
– Не присмотришь за ними? Мне хочется принять душ, – говорю я, кивая на близнецов.
– Ну конечно.
По пути в ванную я вижу, что Пол опять оставил включенным телевизор. Звука нет, но взгляд цепляется за знакомую картинку, и я останавливаюсь, не в состоянии отвести взор. На экране перед зданием суда стоит корреспондентка новостного канала, с которой мы когда-то были знакомы. Рядом с ней толкаются телевизионщики и прочие журналисты, пытаясь протиснуться вперед. Вслед за этим на экране появляется полицейский фургон, заезжающий во внутренний двор. Потом дом Клэр, дом, в котором мы выросли, обгоревший дочерна. Внизу экрана строкой бегут начертанные заглавными буквами слова, обращаясь ко мне в безмолвном крике:
МАДЛЕН ФРОСТ ПРЕДСТАЛА ПЕРЕД СУДОМ ЗА УБИЙСТВО
Даже с выключенным звуком телевизор производит слишком много шума. Не знаю, почему Пол так настойчиво все время держит его включенным, используя в качестве фона. Прямо мания какая-то. Я выключаю его и поворачиваюсь, чтобы что-то сказать, но он уже звонит по скайпу. Сигнал соединения, в последнее время ставший таким знакомым, обрывается, он склоняется над ноутбуком и начинает говорить, до того как я успеваю произнести хоть слово. Я предоставляю ему заниматься своими делами и направляюсь в ванную. По дороге вижу свое отражение в зеркале. Выгляжу хорошо. Такая, какая и должна быть, живу жизнью, которой мне и положено. Той самой жизнью, которую у меня украли.
Я закрываю дверь и включаю душ. Много времени у меня это не займет. Смыть крем и песок, вымыть голову и переодеться. Снимаю купальник и захожу в кабинку, в лицо хлещут струи холодной воды. Слышу, что в дверь номера стучат, и проклинаю их пунктуальность. «Войдите», – отвечает Пол. Он еще не закончил разговор с Лондоном, но все равно я рада, что он сам разбирается с официантом. Теперь даже пять минут, которые можно потратить на себя, стали для меня редкой роскошью, которую я научилась ценить. «Отлично, спасибо, поставьте вон там», – добавляет он. Шум льющейся воды приглушает его слова, но они звучат рассеянно, даже почти грубо. Надеюсь, он не забудет дать на чай.
Я быстро одеваюсь, провожу расческой по спутанным волосам, потом наношу на лицо и плечи немного крема после загара. Пол уже расположился на дощатом настиле перед отелем и смотрит на бирюзовое море. Он перенес близнецов ближе, и теперь они сидят на полотенце в тени. Я обожаю его за то, что он любит близнецов именно так, как мне и хотелось.
– А вот и ты, я уж было решил, что ты утонула, – говорит он, когда я выхожу на улицу и присоединяюсь к ним.
Потом достает из серебряного ведерка, стоящего на подносе на столе, бутылку шампанского и спрашивает:
– Мадам, желаете вина?
– Да, с удовольствием.
Я сажусь рядом с ним и чувствую через юбку тепло деревянного кресла. Услышав меня, Кэти поворачивается ко мне и улыбается.
– Мама, – говорит она и возвращается к своим играм.
Раньше она никогда меня так не называла, и меня охватывает неподдельный восторг. В конце концов, я их крестная мать, и что плохого, если мне захотелось стать чем-то большим? Ногтем большого пальца Пол соскабливает с горлышка бутылки золотистую фольгу. Потом его пальцы несколько раз поворачивают металлическую проволочную уздечку и со знанием дела ее открывают. Ни хлопка, ни брызг, все безупречно. Он наполняет бокалы, и я понимаю, что счастлива. Наши отношения наладились, теперь они такие же, как много лет назад. Большего мне и не хотелось. Я в раю со своей семьей, это для меня и есть подлинное счастье. Не думаю, что мне доводилось испытывать его раньше.
Он ставит бутылку обратно на круглый поднос, и в этот момент мое внимание привлекает какой-то отблеск.
– Что это? – спрашиваю я, не сводя глаз с сияния золота на серебре.
– Что ты имеешь в виду? – спрашивает Пол, следуя за направлением моего взгляда.
Я улыбаюсь, полагая, что это еще один его сюрприз, что он затеял эту игру, чтобы сделать мне подарок.
Но это не так.
Какое-то время слова никак не могут обрести форму.
– Ты видел, кто принес поднос?
– Нет, я говорил по скайпу, кто-то просто вошел и оставил его на столе. А что? Что-то не так?
Я ничего не отвечаю. Лишь неотрывно смотрю на золотой браслет, лежащий на подносе. Маленький, для детского запястья. Скрепленный старой, слегка поржавевшей английской булавкой. На золотой поверхности высечена дата моего рождения.
Меня зовут Эмбер Тэйлор Рейнольдс. Обо мне вам необходимо знать три вещи:
1. Я лежала в коме.
2. Моя сестра стала жертвой трагического несчастного случая.
3. Иногда я лгу.
Выражения признательности
Мне хотелось бы сказать слова благодарности многим тем, кто способствовал выходу этой книги в свет. В первую очередь хочу сказать спасибо моему потрясающему агенту Джонни Геллеру, который поставил на меня и дал мне шанс. Также мне хочется поблагодарить Кэтрин Чоу, Кейт Купер и всю удивительную команду литературного агентства Curtis Brown. Кэри Стюарт из ICM Partners давно стала легендой, и ей я тоже буду обязана до конца жизни.
Мне невероятно повезло, что роман «Иногда я лгу» в Великобритании обрел дом в издательстве HQ/HarperCollins, а в США в Flatiron/Macmillan. Я всегда буду в долгу перед двумя моими редакторами: Салли Уильямсон в Соединенном Королевстве, которая страстно поверила в мою книгу и обладает поистине очаровательным смехом, и Эйми Айнхорн в Соединенных Штатах, которая стремительна, как ураган, а со словами обращается как настоящая волшебница.
Далее, мне хотелось бы сказать пару слов о Ричарде Скиннере, самом замечательном учителе из всех, которые у меня когда-либо были. Он преподал мне слишком много уроков, чтобы их здесь перечислять, но в первую очередь научил верить в себя и идти дальше. Мне никогда не рассчитаться за оказанную им помощь.
Также мне хотелось бы поблагодарить выпускников Фаберовской литературной академии, окончивших ее весной 2016 года: вы все были вехами на моем литературном пути, а многие стали друзьями на всю жизнь. В особенности хочу выразить признательность Келли Аллену, Дэну Далтону, Джайлзу Фрейзеру, Элисон Марлоу, Трайше Секлече и Элет Треворроу, которые не только стали моими первыми читателями, но и помогли своими бесценными советами.
Отдельное спасибо персоналу университетской клиники «Милтон Кейнз», благодаря которому я смогла углубиться в мир медицины и получить ответы на многие и многие вопросы. В первую очередь это касается Морин Пескетт, Джози Уорнер и Аманды Уилсон. Кроме того, хочу поблагодарить Уэйна Мулдса за его рекомендации и помощь в моих поисках.
Выражаю признательность моим родителям, с ранних лет привившим мне любовь к чтению, ведь писателем может стать только тот, кто обожает читать. Как и остальным родственникам и друзьям за их всемерную любовь и поддержку. Отдельное спасибо Шарлотте Эссекс, моей старейшей литературной подруге, которая много лет назад толкала меня в филейную часть, когда мы взбирались на гору в Боливии, и теперь тоже заставляет делать вещи, которые страшат меня и по сей день. Благодарю Джасмин Уильямс за то, что поверила в меня, а также моих дорогих друзей Энн МакДональд и Алекса Ванотти, которые постоянно меня веселят, обеспечивают душевный покой и всегда оказываются рядом, когда я в них нуждаюсь.
Наконец, хочу поблагодарить моего мужа Дэниэла, собрата-писателя, прекрасно знающего, каким долгим оказался этот путь. Ни с кем другим я бы его проделать не смогла. Мой первый читатель, лучший друг, мое все – без тебя меня просто бы не было. Спасибо, что терпишь меня и отвечаешь мне на любовь любовью.
Примечания
1
Слова детской песенки «Twinkle, twinkle, Little Star».
(обратно)2
Слова английской детской песенки «The Wheels on the Bus».
(обратно)3
Слова детской песенки «Baa, baa, black sheep».
(обратно)4
Слова колыбельной «The Grand Old Duke of York».
(обратно)5
Экстракорпоральное оплодотворение – вспомогательная репродуктивная технология, чаще всего используемая в случае бесплодия.
(обратно)6
Слова детской песенки «Row, row, row your boat».
(обратно)7
Фибрилляция – состояние, при котором волокна сердца сокращаются нескоординированно, вследствие чего прекращается кровоснабжение организма.
(обратно)8
Знаменитая рождественская песня «Oh Holy Night»
(обратно)9
Переиначенная песенка «What shall We Do with the Drunken Sailor?».
(обратно)10
Переиначенный детский стишок «Good night, sleep tight».
(обратно)11
Флоренс Найтингейл (1820–1910) – британская сестра милосердия и общественный деятель.
(обратно)








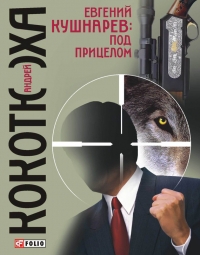
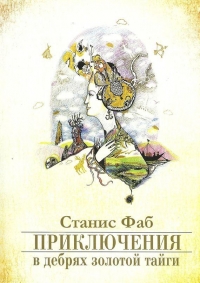
Комментарии к книге «Иногда я лгу», Элис Фини
Всего 0 комментариев