Жорж Сименон Люди, живущие по соседству Часовщик из Эвертона
ЛЮДИ, ЖИВУЩИЕ ПО СОСЕДСТВУ
Я никогда не пишу предисловий, потому что считаю себя простым рабочим, а ведь изделие, как и роман, либо получилось, либо нет.
Увы! Мы все стареем, и с возрастом приходит опыт, так что сегодня, увидев, что некоторые из моих персонажей восстают против меня и тащат меня в исправительный суд, я хочу принять определенные меры предосторожности, прежде чем выпустить в свет новых героев.
«Люди, живущие по соседству» обитают в Батуми, в русском нефтяном порту. Я не так давно оттуда вернулся, и после нескольких недель советского гнета до сих пор испытываю некоторую стесненность; так, например, прежде чем приступить к обильной трапезе, стараюсь убедиться, что за мной не наблюдает никто посторонний.
«Люди, живущие по соседству» существуют; все, без исключения, так как я никогда не был способен выдумать ни того или иного героя, ни декорации, ни даже само приключение.
Квартира Адил-бея существует, как существуют комната Сони и особняк Пенделли, пляжи, огороженные колючей проволокой, бронзовый Ленин и клубы.
Джон существует… Неджла тоже…
Как и тысячи персонажей, которых я оставил позади, сам не знаю в каком количестве книг. Если честно, как я, не будучи Богом-Отцом, смог бы создать столько людей?
Следует лишь заметить, что они не совсем такие, как в моих историях, живут не в тех местах, куда я их помещаю, имеют не ту профессию, не ту национальность и даже не те нос или шляпу.
В моем романе Адил-бей — турок, Амар — перс, Пенделли — итальянец. Я обожаю турок, у которых не так давно прожил несколько недель, я не имею ничего против персов, а мои лучшие друзья обитают в Италии.
Но в Стамбуле меня спросили: «Почему вы остановили свой выбор на турке?»
Почему? Да потому! Ну, прежде всего потому, что он должен быть консулом какой-то страны. А еще потому, что в другом месте, на севере России, я встретил именно такого консула, или почти такого же. А еще потому…
Потому что, прежде всего, это так и есть. Вы меня понимаете? Никто не спорит с самим собой. Никто не спрашивает самого себя: «Он будет турком, или греком, или румыном?»
Он рождается турком в вашей голове, с определенным именем, лицом, гражданством, как турок рождается в Анкаре. К несчастью, десять Адил-беев узнают в нем себя, все те, у кого вы позаимствовали ту или иную черточку, и даже все те, кого вы никогда не видели.
Я написал роман. Батуми настоящий. Люди настоящие, История настоящая.
Или лучше скажем так: каждая отдельная деталь правдива, но вот, их совокупность ложна…
Нет! Совокупность правдива, а каждая деталь ложна…
И вообще, я не это хочу сказать. Это роман, вот так! Разве этого слова недостаточно?
А что касается меня, то я предпочитаю писать романы, а не объяснять их.
Жорж Сименон[1]
1
— Не может быть! У вас есть белый хлеб!
В гостиную вошли двое персов, консул и его жена, и именно эта дама принялась бурно восторгаться, оказавшись перед столом, на котором красовались ровные ряды изысканных сэндвичей.
А всего лишь минуту назад Адил-бей услышал:
— В Батуми всего три консульства: ваше, персидское и наше. Но персы не внушают доверия.
Это сказала госпожа Пенделли, жена консула Италии, который, устроившись в кресле, курил тонкую сигарету с розовым кончиком. Обе женщины, сияя улыбками, встретились в центре гостиной точно в ту секунду, когда звуки, до этого бывшие всего лишь неясным шумом солнечного города, усилились и внезапно взорвались мелодией духового оркестра где-то на углу улицы.
Все высыпали на веранду, чтобы взглянуть на процессию.
Новым человеком среди присутствующих был лишь Адил-бей, совсем новым — в Батуми он приехал сегодня утром. В консульстве Турции мужчина обнаружил служащего, прибывшего из Тбилиси и временно исполняющего обязанности главы ведомства.
Именно этот служащий, который уезжал обратно в Тбилиси сегодня вечером, и привел Адил-бея к итальянцам, для того чтобы представить нового консула двум его коллегам.
Музыка звучала все громче и громче. Уже было видно, как блестят на солнце медные инструменты. Возможно, мелодия не была веселой, бравурной, но все же она казалась бодрой и заставляла дрожать все вокруг: воздух, дома, город.
Адил-бей заметил, что консул Персии подошел к служащему из Тбилиси и они принялись тихо беседовать.
Затем все внимание турка сосредоточилось на процессии, потому что за духовым оркестром показался гроб, выкрашенный в ярко-красный цвет. Этот гроб несли на плечах шестеро мужчин.
— Это что, похороны? — наивно поинтересовался мужчина, оборачиваясь к госпоже Пенделли.
И она сжала губы, чтобы не рассмеяться, настолько был ошеломлен ее собеседник.
Это были похороны, первые похороны, которые Адил-бей увидел в СССР. Музыканты духового оркестра были одеты как члены гимнастического общества: все в белом, белые холщовые туфли на ногах и массивные красные эмблемы на сердце. Гроб выглядел плохо сколоченным, плохо покрашенным, но при этом ослепительно-красным. Что касается людей, шедших сзади, то они походили на любых других людей, следующих за оркестром. На ком-то были рубашки, на ком-то свитера, женщины облачились в белые хлопковые платья, позволяющие увидеть голые ноги, и лишь двое мужчин были в пиджаках и галстуках, без сомнения, какие-то руководители; виднелось множество бритых черепов, а в последнем ряду выделялся молодой человек, взгромоздившийся на великолепный новенький велосипед. Чтобы не потерять равновесие, юноша выписывал зигзаги и время от времени опирался рукой на плечо девушки.
Проходя мимо здания консульства, каждый из участников процессии поднимал голову и смотрел на иностранцев, расположившихся на веранде.
— О чем они думают? — прошептал Адил-бей.
Персиянка, услышавшая его вопрос, цинично заметила:
— О том, что сейчас мы будем есть белый хлеб!
Она рассмеялась. Люди, шедшие по улице, видели, как она смеется. Выражения их лиц не изменились. Они шли мимо, следуя за музыкой и за красным гробом. Никто не смог бы сказать, какими они были: веселыми или печальными, и смущенный Адил-бей поспешил укрыться в гостиной.
— Вы уже осмотрели город?
Персиянка последовала за мужчиной.
— Пока я еще ничего не видел.
— Настоящая дыра!
Она смотрела на собеседника в упор, и взгляд ее черных глаз показался турку самым наглым в мире. Еще никогда на него не смотрели вот так, как на предмет, который хотят купить, но еще колеблются. И самое ужасное, что она даже не пыталась скрыть своих чувств, позволяя читать мысли, отражающиеся на лице. Любой мог понять, о чем она думает: «Он ни плох, ни хорош, возможно, немного глуповат».
Наконец она произнесла вслух:
— Вы знаете, что мы обречены на совместное существование в течение долгих месяцев или даже лет. Нас всего шестеро, и это если считать Джона из «Стандарта», но он всегда пьян. Кстати, дорогая, Джон не придет?
Когда хвост процессии исчез за углом, все вернулись в комнату. Воздух все еще дрожал. Царила удушающая жара.
— Вы уже уезжаете? — удивилась госпожа Пенделли.
Служащий из Тбилиси прощался.
— У меня через час поезд.
— Ну а вы? — продолжила итальянка, обращаясь к консулу Персии.
— Прошу простить меня. Я намереваюсь вернуться. Мне требуется кое-что с ним обсудить…
Адил-бей действительно был новичком, а потому не мог принять хоть какое-то участие в происходящем. Он вновь оказался сидящим в кресле между итальянкой и персиянкой, с чашкой чая в руке, а напротив него расположился Пенделли, который тихо, но тяжело дышал — консул страдал от ожирения, и жара докучала ему.
Гостиная была большой, ее пол устилали ковры, на стенах висели картины, а мебель ничем не отличалась от мебели других роскошных гостиных. На подносе лежали бутерброды, пирожные, стояла бутылка водки. Окна зала выходили на террасу, залитую солнцем, оттуда в комнату залетали порывы жгучего ветра, а также просачивались всевозможные запахи, атмосфера пустынной улицы.
Чашка госпожи Пенделли звякнула, коснувшись блюдца, и Пенделли со вздохом пробормотал:
— Вы говорите по-русски?
Казалось, итальянец не обращается ни к кому конкретному, потому что консул созерцал бутерброды, но Адил-бей ответил:
— Я не знаю ни единого слова.
— Тем лучше.
— И что же в этом хорошего?
— Потому что они предпочитают консулов, которые не понимают русского языка. Это всегда выгодно.
В голосе Пенделли слышались снисходительные нотки, так говорит человек, который считает себя очень хорошим, ведь он проявляет столько заботы о ближнем. Персиянка продолжала изучать Адил-бея. На губах госпожи Пенделли блуждала рассеянная улыбка гостеприимной хозяйки дома.
— Муку вам, естественно, доставляют ваши корабли?
Адил-бею показалось, что музыка приближается вновь, но теперь она раздавалась откуда-то из-за дома. Персиянка вновь заговорила, тем же ровным тоном она произнесла обдуманную колкость:
— Увы, не все могут быть консулом Италии и раз в неделю встречать прибывшее в порт грузовое судно! А что уж говорить о таких развлечениях, как ужин на борту корабля, встреча с офицерами…
— Все это так утомляет, — сообщила госпожа Пенделли, наливая чай Адил-бею.
И тут последний имел несчастье спросить:
— А турецкие суда сюда никогда не заходят?
Пенделли пошевелился в кресле. Он шевелился без определенной цели, почти незаметно, но все поняли, что консул намеревается что-то сказать.
— А разве существуют турецкие суда?
Он не смеялся. Губы чуть приоткрыты, веки опущены.
Адил-бей еще не знал, что произойдет, но его глаза уже заблестели, жаркая кровь прилила к щекам.
— Что вы хотите этим сказать?
Госпожа Пенделли положила в чашку два кусочка сахара. Пенделли, как прилежный ребенок, набрал ртом воздух.
— Не сердитесь. Но сама идея, что судном управляет турок…
— Без сомнения, на ваш взгляд, мы дикари?
И тут началось. Адил-бей вскочил. Он больше не различал ни предметы, ни лица, все расплывалось.
— Да нет же! Сядьте. Вот уже десять лет, как вы не рубите головы…
Госпожа Пенделли снисходительно улыбалась.
— Ваш чай, Адил-бей.
— Спасибо, мадам.
— Мой муж шутит, я вас уверяю.
— Возможно, он и шутит, а я вот не шучу. Мы — молодая республика, и я это не отрицаю. Конечно, мы до сих пор в чем-то не слишком умелые, но…
— Но вы хотите, чтобы вас считали самой великой нацией мира!
Уже никто не смог бы сказать, как все это началось. Бесшумно вернулся консул Персии.
— Идите сюда, Амар! Наш новый друг не понимает шуток, но он забавен, как любой другой человек, который сердится. Ближе к делу. Адил-бей, вы играете в бридж?
— Нет. — И он резко добавил: — Эта игра слишком изысканная для турка!
Госпожа Пенделли попыталась успокоить гостя.
— Я вам клянусь, что мой муж…
— Ваш муж полагает, что во всем мире не существует ничего, кроме Италии! Представляя себе Турцию, он видит гаремы, евнухов, ятаганы и красные фески.
— Сколько вам лет? — улыбаясь, поинтересовалась персиянка.
И Адил-бей, не прекращая злиться, ответил:
— Тридцать два года. Я сражался за мою страну в Дарданеллах, затем воевал за Республику в Малой Азии. И я никогда не позволю, чтобы в моем присутствии…
— Где вы родились? — спросил Пенделли, прикуривая новую сигарету.
— В Салониках.
— Сейчас это больше не территория Турции. Кажется, греки превратили Салоники в красивый город…
Адил-бей задыхался. Он даже забыл, с какой стороны расположена входная дверь, и устремился прямо к стенному шкафу. Госпожа Амар не смогла сдержать приступ смеха, и турок бросил на нее столь яростный взгляд, что женщина была вынуждена промокнуть глаза носовым платком.
Адил-бей почти не помнил, как оказался на улице. Он не обратил никакого внимания на госпожу Пенделли, которая следовала за ним по пятам, а очутившись в коридоре, положила руку гостю на плечо и сказала с легкой гримасой:
— Не следует принимать всерьез все то, что говорит мой муж. Он любит подтрунивать над людьми.
Турок схватил шляпу и вынырнул на солнце. Улица была раскаленной, словно печь. Добрую четверть часа мужчина двигался совершенно машинально, ничего не замечая, переваривая горькую обиду. Затем он попыталась восстановить в памяти последовательность спора.
Тщетно. Он не мог вспомнить ни единой фразы, перед его внутренним взором всплывали лишь разрозненные картины, и прежде всего Пенделли, толстый, лоснящийся, развалившийся в кресле и курящий нелепые дамские сигареты. Разве он не был воплощением гордыни? У консула имелся прекрасный дом с террасой, гостиной и даже роялем, на котором, должно быть, играла его жена. Он подавал гостям изысканные закуски, как в Европе. У него был белый хлеб.
— И он еще считает персов особами, не внушающими доверия, — тихо пробормотал Адил-бей.
Хотя в глубине души турок думал то же самое. Персы ему не понравились. Госпожа Амар раздражала своей наглой манерой разглядывать человека с головы до ног. Что касается консула, то турку пока нечего было сказать на его счет. Перс был худым, невзрачным; маленькие коричневые усики, плохо скроенный костюм и лакированные ботинки.
— Они намеренно встретили меня подобным образом!
Тот день был выходным, в России он следовал за пятью рабочими днями. По мере того как Адил-бей приближался к порту, он стал встречать все больше людей, прогуливающихся по улицам. Понемногу, невзирая на все еще бурлящий гнев, новый турецкий консул принялся смотреть по сторонам.
Но главным образом смотрели на него. Стоило мужчине пройти мимо, и каждый прохожий оборачивался и еще долго следил глазами за иностранцем. Что в нем такого необычного?
Небо порозовело, тени стали более глубокими, голубыми. Должно быть, уже пробило восемь часов вечера. Толпа двигалась в ту же сторону, что и Адил-бей, и, следуя за отдыхающими, мужчина вышел к порту. Казалось, на набережной собрался весь город, и ощущение пустоты, которое появлялось на улицах Батуми, сменилось захватывающим чувством, рожденным жизнью, бьющей ключом. Где-то играла музыка. Прибыл корабль из Одессы. Сотни людей высаживались на берег, а еще сотни с интересом наблюдали за происходящим.
Небо и море окрасились пурпуром. Черные росчерки матч. Тихо покачивающиеся лодки.
Мужчины, женщины постоянно толкали Адил-бея и беззастенчиво пялились на него. Некоторые мальчишки даже бежали за турком, чтобы получше разглядеть незнакомца.
Временами Адил-бей забывал о консуле Италии и пытался осознать, где он находится.
Справа и слева от бухты возвышались горы, закрывающие горизонт, а между ними тянулась эта длинная набережная, по которой слонялись толпы народу. В самой бухте на тихих водах дремало семь или восемь кораблей.
Что касается города, раскинувшегося за портом, то он состоял из бесконечной путаницы узких улочек, плохо или совсем не замощенных, окаймленных обветшалыми домами.
Адил-бей хотел пить. Прямо на берегу, у воды, он увидел нечто вроде кабачка и присел за стол. Сновавший взад-вперед официант разносил пиво и лимонад. Посетители расплачивались бумажными рублями, и Адил-бей сообразил, что у него еще нет русских денег. Мужчина поднялся и ушел.
Зажигались газовые фонари, замерцали зеленые и красные огоньки судов, стоявших на якоре. В компании женщин в стоптанных туфлях мимо прошли итальянские матросы. Какой-то молодой человек медленно ехал на велосипеде, на раме его машины устроилась юная девушка. Прокладывая себе путь в плотной толпе, он постоянно поворачивал и выписывал сложные фигуры.
Воздух посвежел. У подножия гор клубился легкий туман.
Музыка стала громче, как во время продвижения похоронной процессии по улице, только на сей раз это были не похороны.
Адил-бей увидел большой новый дом, испещренный многочисленными оконными проемами. Его двери и окна были открыты. На подоконниках сидели юноши и девушки, а внутри здания можно было заметить бумажные гирлянды, портреты Ленина и Сталина, агитационные плакаты.
Музыка заставляла дом содрогаться, вибрировать, а в одной из комнат первого этажа со стенами, покрытыми графическими рисунками, какие-то люди без пиджаков слушали доклад товарища, стучавшего кулаком по столу.
Но не только музыка напомнила турку о похоронах. Было нечто общее в поведении людей, следовавших за гробом, и в поведении людей, сидевших на окнах или слушавших оратора, нечто, что заставляло Адил-бея думать, будто он никогда не сможет их понять.
Так что же их объединяло? Ведь, в конечном итоге, это было не только поведение, навязанное обществом или руководством. Большинство мужчин одеты в белое, воротник рубашки расстегнут. Много выбритых черепов. Женщины носили не чулки, а коротенькие носочки, скатавшиеся на щиколотках, платья из светлого хлопка.
Почему они казались ему такими чужими, абсолютно все, даже те, кто прогуливался по улицам, вокруг постамента статуи Ленина, низенького коренастого бронзового Ленина, наряженного в широкие брюки, Ленина, попирающего ногами шар, призванный символизировать этот мир.
Разительный контраст: маленький черный мужчина и высоченные молодые парни, девушки в светлых платьях; они проходили мимо и разглядывали Адил-бея, время от времени заливаясь хохотом.
«С чего же все-таки начался спор?» — вновь задался вопросом турок.
Теперь ему стало грустно. Он чувствовал себя таким одиноким. Фикрет, служащий, временно исполняющий его обязанности, вернулся в Тбилиси, впрочем, он не показался Адил-бею симпатичным. Хорошо, что соотечественник хотя бы встретил консула.
— Вы найдете все дела в том же состоянии, в котором я их обнаружил месяц тому назад, сразу же после смерти вашего предшественника, — сказал он.
— От чего он умер?
Служащий явно не хотел говорить на эту тему.
— Секретарша придет завтра утром. Она в курсе. Разумеется, она русская.
— Мне следует относиться к ней с недоверием?
Собеседник пожал плечами. Разве Фикрет не должен был дать ему несколько советов, разъяснить ситуацию, разве не так поступают граждане одной страны? Вероятно, ему следовало помочь Адил-бею наладить повседневную жизнь?
Внезапно турок осознал, что он даже не знает, где здесь можно поесть! Прибыв в консульство, он заметил на кухне какую-то женщину, вероятно кухарку, и также мужчину, об обязанностях которого Адил-бей ничего не знал. Может, это были его слуги?
И к кому же ему теперь обращаться? С итальянцами он поссорился, не исключено, что испортил отношения и с персами.
Консул продолжал двигаться вместе с толпой, от статуи Ленина к нефтеперерабатывающему заводу. Близ рыбацкой гавани возвышались новые дома, окруженные пустырями, и здесь на земле сидели и лежали мужчины, женщины, дети. Эти люди нисколько не походили на людей с похорон, на людей из большого дома, ни даже на людей непрестанно двигающейся толпы. Они были грязными и хмурыми. Адил-бей услышал турецкий язык и понял, что на нем говорят самые жалкие бедняки, одетые в лохмотья, перепачканные в пыли, как последние бродяги.
Сначала Адил-бей прошел мимо, но потом развернулся и, подойдя к нищим, спросил:
— Вы турки?
Они медленно подняли головы, подняли безразличные глаза. Они смотрели на него снизу вверх. Затем с той же медлительностью головы вновь опустились. Однако эти люди говорили на его родном языке!
Должно быть, он выглядел очень глупо, стоя посреди этой толпы бродяг, и тогда Адил-бей ощутил одновременно и стыд, и гнев.
Он по меньшей мере шесть или семь раз прошелся по всей длине набережной. Толпа постепенно редела. Было около десяти часов вечера. На углу стояло несколько женщин, и одна из них сделала два шага, чтобы оказаться у Адил-бея на пути, затем незнакомка вновь вернулась к своим спутницам.
«Госпожа Пенделли должна быть умнее своего мужа», — подумал Адил-бей.
Но какое это имеет значение? Она больше не может оказать ему никакой помощи. Он вновь увидел окна, заполненные фигурами юношей и девушек. В течение нескольких минут он шел, окутанный облаком музыки. Турок задавался вопросом, от чего скончался его предшественник. Каким он был? Сколько ему было лет?
Два раза Адил-бей, намереваясь вернуться в консульство, сбивался с пути. Улицы походили друг на друга: щербатые мостовые, размытые дождями и сточными водами, кучи забытых камней, открытые двери темных подъездов.
Наконец мужчина узнал дом, один этаж которого он занимал. Лестница оказалась неосвещенной. Адил-бей наткнулся на обнимающуюся парочку и пробормотал извинения.
У него был ключ. Сделав всего пару шагов, турок понял, что квартира совершенно пуста, и ему стало не по себе. Там, в итальянском консульстве, неспешно беседовали в ярко освещенной гостиной, расположившись вокруг стола с бутербродами и стаканами водки. Духов госпожи Амар было достаточно, чтобы напоить обстановку особой женственностью.
— Есть тут кто-нибудь? — крикнул Адил-бей в темноту, ища электрический выключатель.
Лампочка без абажура залила пространство унылым светом, и он оглядел прихожую с двумя скамейками, стенами, украшенными официальными уведомлениями, прихожую, пропитавшуюся запахом бедности.
Следующая комната оказалась его кабинетом. Далее, слева, находилось нечто вроде столовой. Внимание Адил-бея привлек журнальный столик, но мужчина сам не мог понять почему. Наконец он вспомнил. Утром новоиспеченный консул заметил на нем патефон и пластинки. Патефон исчез. Исчез также турецкий ковер, покрывавший тахту!
— Что, никого нет? — повторил мужчина неуверенным голосом.
Никого, ни в спальне, ни на кухне, где над грязной раковиной нависал водопроводный кран.
Все было грязным: стены, потолок, мебель, документы — подобная безрадостная грязь встречается в казармах и в некоторых государственных конторах. В буфете не нашлось ничего съестного, тарелки, оставшиеся после обеда, были грязными.
— Почему же он так упорно демонстрировал свое презрение к Турции? — проворчал мужчина в поисках места, где бы присесть.
Он вновь увидел как наяву красивую руку госпожи Пенделли, щипцы для сахара, застывшие над чашкой. А она была хороша, эта госпожа Пенделли. Голубое шелковое платье выгодно подчеркивало плавные линии округлой фигуры, ведь итальянка отличалась полнотой. Полными были и ее губы, за которыми прятались очень белые зубы. И она передвигалась по комнате с непринужденной грацией светской дамы.
— Да уж, это вам не чернявая персиянка!
Наглая пигалица с телом твердым, как зеленая маслина; она должна была бросаться на шею любого мужчины!
Адил-бей даже не знал, где находится его кровать. Ему не дали времени разобрать чемоданы. Турок выпил воды из-под крана и нашел, что у нее какой-то неприятный аптечный привкус.
Этажом выше кто-то расхаживал по комнате. Адил-бей бросил взгляд в окно и увидел в доме напротив двух незнакомых людей, облокотившихся на подоконник и наслаждавшихся вечерней свежестью в полной темноте и тишине.
Штор в консульстве не было, и потому они видели все, что делал Адил-бей. А утром шторы еще висели? Этого турок вспомнить не смог. Он решал, где бы устроиться, когда в одночасье погасли все лампы, причем не только те, что находились в квартире, но и на улице.
Пара в доме напротив по-прежнему стояла у окна, ведь консул не заметил никакого движения. В конечном итоге Адил-бей смог разглядеть белизну мужской рубашки, а затем и молочные пятна лиц.
Лампы все не зажигались. Это была не авария, просто каждый раз в полночь в городе выключали электричество. На соседней улице раздались шаги. Взвизгнуло какое-то животное, не то кошка, не то собака.
Консульство Италии тоже осталось без электричества? По крайней мере, они должны были подготовить керосиновые лампы! Адил-бей не курил, и у него даже спичек не нашлось!
Окончательно расстроенный мужчина осмотрелся вокруг: тусклый свет, лившийся с неба, затянутого белыми облаками, немного разогнал ночной мрак.
Адил-бею ничего не оставалось, как лечь спать. Прямо в одежде он устроился на тахте, но вскочил, когда свет луны робко коснулся его лица. Неужели он задремал? Этого турок не знал. Он подбежал к окну. Поискал глазами окно напротив и сначала нашел ярко светящуюся точку — огонек сигареты, затем рукав рубашки, согнутую в локте руку, голову мужчины, а рядом силуэт женщины с волосами, рассыпавшимися по плечам.
Яркий лунный свет пронзил темноту и позволил Адил-бею увидеть в глубине комнаты, прямо за парой, светлый прямоугольник постели.
«Они меня видят, — думал консул. — Они не могут меня не видеть!»
И, словно бросая вызов, Адил-бей прижал лицо к стеклу, даже не задаваясь вопросом, как он выглядит с расплющенным о стеклянную поверхность носом — угрожающе или комично.
2
Адил-бей проснулся, разбуженный солнечным водопадом; влажная кожа, горящие веки. Не вставая с тахты, даже не поднимая головы, он тут же принялся смотреть на дом, стоящий напротив, на дом, купающийся в тени.
Наконец он поднялся, недовольный, раздраженный, и первым делом пригладил растрепанные волосы. Окно на другой стороне улицы оказалось широко распахнутым. Женщина наводила порядок в комнате, и то, как она посмотрела на Адил-бея, свидетельствовало о том, что соседка делает это не в первый раз.
По крайней мере, в кухне она не сможет за ним наблюдать. И Адил-бей отправился на кухню. За неимением полотенца мужчина смочил носовой платок и протер им лицо, затем сделал глоток воды, привел в порядок галстук, после чего вернулся к окну, хмурый и преисполненный подозрений. В его груди поселилась пустота, а во рту — горечь: так бывает на следующий день после попойки.
Женщина склонилась над широкой кроватью, перестилая простыни. Адил-бей заметил на постели две подушки, а справа еще одну кровать, более узкую.
И снова соседка повернулась к нему, но, встретив взгляд турка, отвела глаза. Эта женщина грузинского типа была молодой, дородной. За неимением пеньюара и, без сомнения, любой другой домашней одежды она накинула прямо на голое тело трикотажное платье из искусственного шелка. И это платье, пронзительного желтого цвета, которое при каждом движении липло к коже, внезапно показалось Адил-бею каким-то неожиданно знакомым.
Все жилье людей напротив состояло из одной только комнаты, потому что в ней находились и стеллажи с книгами, и стол, заставленный чашками и тарелками, и спиртовка, на которой сейчас что-то варилось. Вдоль стены была развешена всевозможная одежда, но с какого-то момента Адил-бей видел лишь зеленоватый круг — форменную фуражку, которая вдруг стала центральным предметом декораций: ведь это была фуражка сотрудника ГПУ.
До этого времени консул не обращал никакого внимания на неясный шум, доносившийся с улицы, и вот теперь мужчина опустил голову. Весь узкий тротуар занимала длинная очередь, состоящая по меньшей мере из двухсот человек; кто-то стоял, кто-то сидел прямо на земле, а начиналась очередь перед дверью здания напротив. Должно быть, в нем находился кооперативный магазин. Адил-бей не мог прочитать, что написано мелом на стеклах витрины.
Он посмотрел на второй этаж. Женщина в желтом платье закрыла окно, украшенное шторами, и распустила волосы.
Почему он чувствовал себя таким уставшим? Не зная зачем, турок толкнул дверь своего кабинета и, пораженный, застыл на пороге. В комнате толпилось около двадцати человек, некоторые сидели на стульях, на диване, на подоконнике открытого окна, и нетрудно было догадаться, что в приемной ожидало примерно столько же посетителей. Все эти люди взирали на него совершенно спокойно, никто из них даже не поздоровался, но какой-то крестьянин в одеянии горца, который, по всей вероятности, пришел первым, положил на письменный стол консула открытый паспорт.
Лишь молоденькая особа, одетая в черное блондинка, до появления Адил-бея сидевшая за маленьким столиком, поднялась со своего места, проявляя определенное уважение.
Адил-бей больше не мог стоять в дверях. Под пристальными взглядами двадцати пар глаз он подошел к потертому креслу и уселся, напустив на себя самый важный вид. Горец не преминул этим воспользоваться и тут же подтолкнул паспорт к ладони турка.
Самым впечатляющим, самым странным оставался тот факт, что все присутствующие молчали. Нет, это не было проявлением уважения, ведь некоторые посетители курили, а грязный паркет украшали пятна плевков! Сколько же они ждут? Чего хотят?
— Мадемуазель? — начал Адил-бей на французском.
— Соня, — ответила девушка в черном и заняла место с другой стороны стола.
— Я полагаю, вы мой секретарь?
— Да, я секретарь консульства.
— Вы говорите на турецком?
— Немного.
Она казалась совсем юной, но такой уверенной в себе. В руках Соня уже держала авторучку и смотрела на паспорт так, как будто намеревалась приняться за работу.
Адил-бей тоже посмотрел на паспорт, но при этом ничего не понял, потому что это был советский паспорт. Мужчина медлил. Притворялся, что читает. Тем временем консул украдкой огляделся вокруг себя. Заметил на своем письменном столе телефонный аппарат. Обратил внимание на то, что все посетители были людьми бедными, одетыми в самую разномастную одежду. Какая-то женщина, сидевшая неподалеку, кормила грудью младенца, а примостившийся рядом с ней старик мог похвастаться каракулевой шапкой и босыми ногами.
— Мадемуазель Соня…
Она ограничилась тем, что чуть приподняла голову.
— Прошу вас, пройдемте со мной на минуту.
И Адил-бей направился к своей комнате. Окно в доме напротив было по-прежнему закрыто. Войдя, девушка сразу же заметила, что постель не разобрана.
— Мадемуазель Соня, сегодня у меня нет времени заниматься всеми этими людьми. Как долго они ждут?
— Некоторые с шести часов утра. Некоторые — с десяти.
— Но, тем не менее, пожалуйста, скажите им…
— Что консульство будет работать завтра?
— Завтра, да, завтра! — поспешно ответил мужчина.
Этой Соне едва исполнилось восемнадцать лет. Невысокая хрупкая фигурка, маленькое бледное личико, ясные глаза, светлые волосы. Однако девушка излучала спокойную уверенность, странную внутреннюю силу, ошеломившую консула. Дверь в кабинет осталась приоткрытой, и консул сделал два шага, чтобы видеть, как секретарша выпроваживает толпу просителей.
Необыкновенно прямая, она стояла посреди кабинета с авторучкой в руке и говорила на русском, не повышая голоса, жестами подчеркивая сказанное. Заметив, что женщина, кормившая грудью, осталась сидеть в своем углу, Соня подошла к ней, отняла ребенка от груди матери и сама застегнула крестьянке кофту.
Дружные шаги уходящих напоминали шум, который производит бредущее стадо. Посетители задерживались, в надежде оглядывались, как будто верили, что в последнюю секунду что-то изменится. Когда входная дверь наконец закрылась, в кабинете по-прежнему стоял стойкий запах нищеты и грязи.
Соня вернулась и обнаружила Адил-бея на его рабочем месте. Мужчина положил локти на письменный стол и обескураженно смотрел в пространство.
— Вы пили чай? — поинтересовалась девушка.
— Какой чай? — И, не желая больше сдерживаться, выкрикнул: — Где вы видели чай в этом доме? Где слуги? Где патефон? Где…
Было так глупо спрашивать о патефоне, но турок рассматривал его исчезновение как злобный выпад в свой адрес.
— Это правда, слуги ушли, — сказала секретарша.
— Почему?
— Потому что господин Фикрет рассчитал их.
— Рассчитал слуг? Но по какому праву? И по какой причине?
Соня не улыбалась. Она оставалась бесстрастной и очень серьезной.
— Должно быть, у него были на то свои резоны. Возможно, вы найдете другую служанку.
— Что значит «возможно»? Вы хотите сказать, что я рискую остаться без слуг?
— Нет, я надеюсь, что смогу их разыскать.
— А что мне делать в данный момент?
— Трудно сказать. Вы могли бы питаться в кооперативной столовой, но…
Адил-бей слушал так, как будто от одной этой девушки зависело все его будущее.
— У вас есть валюта? — спросила она.
— Что?
— Валюта, то есть иностранные деньги. Если есть, то я могу пойти в Торгсин и купить все, что вы пожелаете. Торгсин — это магазин для иностранцев, где следует расплачиваться деньгами других стран. Там продается все, что продается в магазинах Европы. В каждом городе всего лишь один такой магазин.
Консул уже открыл портфель и достал из него турецкие лиры, на которые девушка смотрела, хмуря брови.
— Не знаю, примут ли их в магазине. Но я попробую.
— Почему? Ведь…
Адил-бей замолчал. Не следовало повторять историю, происшедшую в итальянском консульстве. Однако от одной только мысли, что в магазине, где принимают иностранные деньги, могут не взять турецкие лиры, у мужчины запылали уши!
— Что бы вы хотели, чтобы я купила?
— На ваше усмотрение. Я не хочу есть.
И это было правдой. Он не хотел есть. Он не хотел ничего. Вернее так: он хотел получить объяснения, но от какого-нибудь ответственного лица. Он хотел знать, почему Фикрет забрал патефон и почему он рассчитал прислугу, почему консул Персии провожал турка на вокзал, почему итальянцы вели себя столь агрессивно по отношению к нему, почему люди напротив торчали в своем окне до двух часов ночи и почему…
Он хотел знать все! Вплоть до того, почему могут отказаться принимать турецкие лиры!
— Я вернусь через час, — сказала Соня, поправляя маленькую черную шляпку и пряча банковские билеты в сумочку.
Он не счел нужным отвечать. Уже через несколько секунд Адил-бей подошел к окну и нагнулся, заглядывая вниз. Именно в этот самый момент из кооперативного магазина вышла женщина в белом фартуке и прикрепила на дверь какую-то табличку с надписью. Турок не мог ее прочесть. Что касается людей, стоявших в очереди, то они прочли объявление и на мгновение застыли, как будто задаваясь вопросом: а правда ли это? Они напоминали посетителей, которым Адил-бей отказал в приеме сегодня утром. Затем толпа начала постепенно редеть, мрачные покупатели понуро побрели вдоль домов.
Чего они лишились: хлеба или картошки? Не обращая внимания на табличку, Соня вошла в магазин, в это же самое время окно на втором этаже открылось. На сей раз молодая женщина в желтом оказалась полностью одетой. Да, на ней по-прежнему было все то же желтое платье, но теперь чувствовалось, что она не забыла о нижнем белье. Помимо этого соседка причесалась, накрасила губы красной помадой и подвела глаза. Устроившись поближе к свету, она заканчивала полировать ногти, когда внезапно повернулась к входной двери и посмотрела на кого-то, кто остался вне поля зрения Адил-бея.
Женщина что-то сказала. Турок видел, как шевелятся ее губы. Он слышал шум передвигаемых предметов. Внезапно консул заметил в глубине комнаты Соню, прошмыгнувшую к выходу.
И все. Минутой позже Соня, затянутая в черное платье, — прямые плечи, узкие бедра — уже торопливо шла по улице.
Чем же еще мог заняться Адил-бей? Мужчина неловко открыл чемоданы и принялся искать место для белья и для всего того, что он привез с собой в страну. В конечном итоге все его мысли вновь сосредоточились на консуле Италии, которого турок возненавидел всей душой и которого мог представить лишь развалившимся в кресле, — символ благосостояния и душевного покоя, — периодически вяло шевелящимся, трясущимся и готовящимся процедить очередную ядовитую фразу.
Но госпожа Амар, была ли она лучше итальянца?
Стоило Адил-бею задуматься о жене персидского консула, как в кабинете раздались легкие шаги. С грудой рубашек в руках мужчина открыл дверь.
Перед ним стояла персиянка, она улыбалась, как улыбаются женщины, задумавшие какой-то необыкновенный сюрприз. Шаловливым жестом посетительница протянула руку хозяину дома. Затем произнесла:
— Эй вы, здравствуйте!
Адил-бей положил рубашки на стул и с трудом сделал шаг вперед.
— Вы знаете, Адил-бей, что вы просто потрясающий тип? В первый раз в жизни кто-то осмелился сказать правду этим людям и сделал это с невероятным мастерством!
— Присядьте, пожалуйста.
Он не знал, что говорить. А она не желала садиться. Казалось, она была на грани срыва, но при этом не переставала двигаться, расхаживала по комнате, брала какой-то предмет, чтобы тут же положить его на место.
— А какая она несносная, со своими замашками знатной дамы! И это вы еще не видели их дочь; в свои десять лет она уже точная копия матери.
Внезапно персиянка сделала вид, будто только что заметила, насколько пусто в помещении.
— Вы закрыли консульство? Если задуматься о том, что в нем происходит, то лучше вообще закрывать его каждый день. Это то, о чем я безостановочно твержу Амару. Вы с ног сбиваетесь, например, для того, чтобы получить визу для какого-нибудь гражданина. Вы полагаете, что довели дело до конца, и вдруг в последний момент выясняется, что недостает подписи из Москвы или чего-то в том же роде, и приходится начинать все заново.
Ее взгляд упал на окно напротив, и женщина воскликнула:
— Надо же, а вот и Надя, наводит красоту!
— Вы ее знаете?
— Это жена начальника отдела местного ГПУ, почти моя соотечественница, она тоже родилась по ту сторону границы, и ее мать была персиянкой. Когда мы только познакомились, я пригласила ее на чашечку чая. Она приняла приглашение. Но затем позвонила, чтобы перенести визит. Она позвонила еще раз, затем еще. Теперь, когда она встречает меня на улице, то ограничивается легким кивком. Вы меня понимаете?
— Нет.
— Мы иностранцы. Общение с нами может ее скомпрометировать. Сразу видно, что вы новичок. Скоро вы все поймете!..
Она ни секунды не оставалась на месте, подчеркивала все свои слова гримасами и улыбками.
— Отныне у вас нет никого, кроме нас, с кем бы вы могли поговорить. А так как вы отважно захлопнули дверь итальянцев… Вы жалеете об этом?
— Ничуть.
Однако он боялся ее. Она слишком быстро перемещалась. Слишком много суетилась, слишком много говорила. И, прежде всего, ему не нравилась ее наглая манера смотреть на него!
— А вы знаете, почему я пришла к вам в столь ранний час?
— Нет.
— Вы просто очаровательно грубите. Ну что же! Я пришла помочь вам обустроиться. Я знаю, что такое холостяк. И вот доказательство — эти рубашки на стуле в кабинете…
Властным жестом она подхватила рубашки и направилась в комнату, служившую спальней.
— Не слишком-то похоже на хоромы Пенделли, не правда ли? Они приказали оборудовать две ванные комнаты. Почему бы не три?
Персиянка сняла шляпу и, так как она носила платье без рукавов, когда женщина поднимала руки, можно было увидеть ее подмышки.
— Поверьте мне на слово, первое, что вам следует сделать, — это повесить шторы. Особенно если учесть, кто живет в доме напротив!
Адил-бей повернулся к окну. Молодая женщина в желтом по-прежнему занималась маникюром. Госпожа Амар помахала ей рукой, на что соседка ответила легким, почти незаметным кивком; складывалось впечатление, что она сделала это весьма неохотно.
Через несколько мгновений, когда Адил-бей вновь повернулся, окно напротив уже было закрыто.
— У вас очень красивые рубашки. Они из Стамбула?
— Я купил их в Вене.
В соседней комнате раздались шаги. Адил-бей открыл дверь и увидел Соню, нагруженную пакетами.
— Я купила спирта для горелки, — сообщила секретарша.
В ту же секунду она ощутила аромат духов персиянки, огляделась вокруг и нахмурила брови, а консул покраснел.
Чтобы попасть на кухню, расположенную в глубине квартиры, Соне было необходимо пересечь комнату. Девушка не могла не увидеть госпожу Амар, склонившуюся над открытыми чемоданами. Вскоре с кухни послышался лязг передвигаемой утвари и звон тарелок.
— Я смотрю, вы успели с ней близко познакомиться?
— Слуги покинули дом, и она предложила мне…
Госпожа Амар схватила турка за рукав и, не говоря ни слова, потащила его в кабинет, а когда они там оказались, женщина плотно закрыла дверь.
— Вы знаете, кто она? — прошептала гостья на ухо собеседнику. И, указав на дом напротив, продолжила: — Это сестра Колина, начальника приморского отдела ГПУ А еще, вам известно, отчего умер ваш предшественник? Этого не знает никто. Он скончался всего за несколько часов, однако, следует заметить, что консул ничем не болел.
Должно быть, Адил-бей стал необыкновенно бледным, потому что женщина рассмеялась, а затем дружеским жестом положила ему на плечи обе руки.
— Вы привыкнете, вот увидите! Но надо внимательно следить за всем, что вы делаете, о чем говорите.
В квартире раздался пронзительный звонок, и этот звук был незнаком Адил-бею. Открылась дверь. Соня спешила к телефонному аппарату.
— Возьмите трубку, — велела консулу госпожа Амар.
Мужчина снял телефонную трубку, с трудом пытаясь понять, чего от него хотят. Обе женщины застыли рядом.
— Они говорят по-русски, — вздохнул он, вытягивая руку с трубкой. Госпожа Амар оказалась проворнее. Она сказала несколько слов на русском, а Соня отступила на шаг.
— Сейчас вас соединят с консульством в Тбилиси. Вот, держите! Теперь с вами будут говорить на турецком…
Адил-бей схватил приемное устройство и с детской радостью закричал на родном языке:
— Алло!.. Я слушаю… Это консул Турции?..
Слышимость была отвратительной. Далекий голос прерывался невероятным треском. Наконец Адил-бей уловил:
— Алло… Мы сочли необходимым на всякий случай уведомить вас, что по прибытии в Тбилиси Фикрет-эфенди был арестован…
— Алло!.. Что вы говорите?.. Я хочу знать…
Но на том конце уже повесили трубку, аппарат вновь вещал на русском языке.
Адил-бей неуверенно повернулся к обеим женщинам. Соня смотрела на него с полнейшим равнодушием, как примерный секретарь, ожидающий распоряжений. Персиянка сверлила консула взглядом, как будто хотела сказать: «Помните, о чем я вам говорила, выставите ее из комнаты!»
— Вы можете идти, — вздохнул Адил-бей. — Ничего особенного.
— Вы будете яичницу?
— Если вас не затруднит.
Они подождали, пока дверь на кухню снова закроется.
— Я ничего не понимаю, — вздохнул мужчина. — Из Тбилиси мне сообщили, что Фикрет арестован.
Персиянка с хрустом сжала пальцы.
— Я хотел разузнать детали, но на том конце провода уже отключились. Что я могу сделать?
Госпожа Амар выглядела более взволнованной, чем ее собеседник. Сначала она схватила телефонную трубку, затем передумала и положила ее на место.
— Вы не думаете, что официальное обращение к властям…
— Не надо никаких обращений к властям, — сухо бросила персиянка.
Она больше не смотрела на своего нового знакомого. Женщина лихорадочно размышляла, и черты ее лица ожесточились, отчего оно стало почти некрасивым.
— А вы не знаете, они захватили его багаж?
— Они мне ничего не сказали. Они даже меня не слушали.
— Черт возьми!
— Почему «черт возьми»?
— Да так. Когда я думаю о том, что мы доверили ему три великолепных серебряных самовара!..
Адил-бей понимал все меньше и меньше.
— Да не смотрите вы так на меня! — Женщина потеряла терпение. — Да, три самовара! Иногда их еще удается найти, спрятанные у крестьян, их можно обменять на краюху хлеба, вы должны понимать — мука сейчас на вес золота. А этот чертов Фикрет взялся переправить самовары в Персию. Мне необходимо предупредить мужа.
Она принялась искать шляпку, затем вспомнила, что оставила ее в комнате, а там заметила чемоданы, которые начала разбирать. И тотчас ее настроение изменилось, казалось, персиянка забыла о своих заботах, она протянула обе руки и взяла в свои ладони пальцы Адил-бея.
— Вы на меня не сердитесь?
— За что?
— За то, что я оставляю вас таким вот образом. Я уверена, что мы станем друзьями, очень добрыми друзьями…
Ее нервные руки продолжали сжимать ладони мужчины, и это пожатие становилось все более настойчивым.
— Вы хотите, чтобы мы стали друзьями?
Он ответил «да», потому что не мог сказать ничего другого, и в этот момент губы персиянки коснулись его губ.
— Тише!.. Не провожайте меня…
С низко опущенной головой Адил-бей вышел на кухню, где раздавалось шипение яиц на сковороде. Соня уже надела шляпку, сумка в руке.
— Все необходимое вы найдете в шкафу. Я хочу лишь отметить, что в доме не осталось ни скатертей, ни полотенец, ни простыней.
— А прежде они были?
— Разумеется.
— И кому они принадлежали?
— Я не знаю. Но вы сможете купить все это в Торгсине. Я же собираюсь пойти пообедать. В котором часу я должна вернуться?
Откуда он мог знать?
— А в котором часу вы возвращаетесь обычно?
— В три часа дня.
Он старался не смотреть ей в глаза, но бросал косые взгляды на девушку.
— Сколько вам лет?
— Двадцать.
— Вы местная?
— Я приехала из Москвы.
— А где вы выучили турецкий язык?
Она ответила с подкупающей простотой:
— До революции мой отец служил привратником в посольстве Турции. Ваша яичница сейчас сгорит. Мне пора идти.
Этот обед напомнил ему о войне, хотя в доме царила совсем не военная атмосфера. Он сидел в полном одиночестве за маленьким столиком из светлого дерева, ел яичницу прямо со сковороды, открыл банку тунца и выпил бутылку пива.
Он не хотел есть. Он ел просто потому, что это было необходимо, и так как его взгляд бесцельно блуждал по комнате, время от времени он задерживался на окне напротив, которое так и осталось закрытым. За муслиновыми шторами можно было различить лишь смутную тень, возможно, две.
Улица вновь стала пустынной. Наступило самое жаркое время дня. Адил-бею хотелось бы уснуть или сделать хоть что-то, неважно что, но он даже не стал убирать со стола, а так и остался сидеть, облокотившись на стол и положив голову на руки.
3
Адил-бей и Соня пробрались мимо десятков людей, которые толпились вдоль лестницы, пересекли несколько комнат, так же набитых народом, и, не обращая внимания на эту безликую толпу, толкнули дверь в конце коридора.
Они уже третий раз приходили вместе в управление по делам иностранцев. Как и раньше, консул нес черный кожаный портфель, который его секретарша забирала во время работы.
У Адил-бея уже выработались свои привычки. Он протянул руку мужчине с бритым черепом, в русской рубахе, который сидел за столом, заваленным документами, затем отвесил поклон женщине, занимавшей другой стол.
Здесь было очень светло и жарко. Вдоль беленых стен тянулись ряды сосновых стеллажей. Соня садилась на краю стола и открывала лежащий перед ней портфель.
Обстановка казалась простой и сердечной. Адил-бей располагался на соломенном стуле у окна.
— Вначале спросите его об армянине, чьи документы я передал во время нашего первого визита.
Глава отдела по работе с иностранцами не говорил ни на турецком, ни на французском языках. Ему было приблизительно лет сорок; лысый череп и рубашка-толстовка делали внешность чиновника аскетической, а мягкая приятная улыбка и спокойный взгляд голубых глаз располагали к общению. Когда Адил-бей говорил, мужчина улыбался и одобрительно кивал, хотя не понимал ни единого слова.
Соня повторила фразу на русском. Чиновник отпил глоток чая, полный стакан которого всегда стоял у него под рукой, затем произнес четыре или пять слов.
— Они ждут распоряжений из Москвы, — перевела Соня.
— Эти распоряжения должны были прийти по телеграфу две недели назад!
Соня ничего не сказала, лишь скорчила гримаску, давая понять, что от нее ничто не зависит, чего, впрочем, и следовало ожидать.
— А женщина, у которой конфисковали мебель?
Пока фразы лились не на русском языке, чиновник смотрел то на Адил-бея, то на документы, протянутые секретаршей, и его лицо выражало бесконечное терпение, беспредельную добрую волю.
— Было бы лучше, если бы сначала вы вручили ему новые дела, — посоветовала Соня.
— Хорошо! Тогда спросите у него, почему позавчера был арестован тот несчастный мужчина, выходивший из консульства.
И Адил-бей посмотрел на свою помощницу внимательнее, чем обычно, как будто он мог понять, правильно ли она перевела его слова.
— Что он ответил?
— Что никогда об этом не слышал.
— Возможно, об этом слышали другие сотрудники ведомства. Пусть он узнает.
Адил-бей начинал раздражаться. Целые дни напролет консул просиживал в своем кабинете напротив Сони, которая вела записи, а он разглядывал посетителей, слушая их однообразные жалобы.
Это были те же люди, что копошились в пыли возле рыбного порта. Или те, что приплыли на корабле из Одессы, они спали прямо на палубе, положив головы на узелки с жалкими пожитками, или те, кто дни и ночи проводил на перронах вокзала, ожидая свободных мест в поезде.
— Кулаки, — с холодным равнодушием замечала Соня.
Крестьяне! Они прибыли издалека, некоторые из Туркестана, потому что им сказали, что в Батуми у них будут работа и хлеб. В течение нескольких дней они бродили по улицам, затем какой-нибудь другой кулак сообщал, что помощь можно найти в консульстве Турции.
— Вы — турецкий подданный?
— Не знаю.
До войны многие из них были турками, затем, без их ведома, этих бедняг превратили в русских.
— Чего ты хочешь?
— Не знаю. Нам не дают ни работы, ни хлеба.
— А ты хотел бы вернуться в Турцию?
— А там есть еда?
Некоторые в дороге потеряли одного или двух детей и теперь просили консула попытаться разыскать любимых отпрысков. Или еще один случай: на вокзале служащий отобрал все имущество переселенцев, а их самих посадил на несколько дней в тюрьму.
Они не знали, почему с ними так обошлись. И даже не спрашивали. С завидным упрямством они требовали вернуть их пожитки.
На тех, кто действительно принадлежал к турецкой нации, Адил-бей заводил специальное досье, которое он вместе с Соней относил в управление по делам иностранцев, где их всегда принимал улыбчивый чиновник в расшитой рубахе.
— Что он сказал?
Мужчина говорил солидно, не спеша, разглядывая руки с грязными ногтями.
Двумя днями ранее супружеская чета крестьян вышла из консульства, и вдруг, спустя несколько мгновений, в кабинет ворвалась обезумевшая женщина и сбивчиво объяснила, что стоило им дойти до угла, как военные в зеленых фуражках схватили ее мужа. Когда несчастная попыталась вмешаться и последовать за супругом, ее жестоко избили.
— Он говорит, — переводила Соня, — что сделает все возможное, чтобы дать ответ во время вашего следующего визита.
— Но у этой женщины нет ни единого рубля! Все их сбережения хранились в кармане ее мужа.
— Как им удалось скопить такое состояние?
— Речь идет о совсем небольшой сумме. Но женщина осталась без средств к существованию.
— Пусть идет работать!
— Никто не желает брать ее на работу. Она ночует на тротуаре.
Служащий сделал какой-то непонятный жест и произнес несколько слов.
— Что он ответил?
И по-прежнему совершенно безразличная ко всему Соня перевела:
— Что это не входит в круг его обязанностей. Что он составит бумагу.
— Он может позвонить в ГПУ.
Телефонный аппарат стоял тут же, на письменном столе.
— Телефон не работает.
Мужчина вновь хлебнул чая.
Адил-бей чуть было не встал и не ушел. Солнце напекло ему спину. Все в кабинете застыло, стало неподвижным, и эта добровольная неподвижность тяжким грузом давила на плечи.
Это длилось уже три недели. Консул принес в управление по меньшей мере пятьдесят анкет, но если бы он их сжег, результат был приблизительно тем же. Его принимали с улыбкой. И через несколько дней отвечали:
— Мы ожидаем распоряжений Москвы.
Кто-то вошел в кабинет, и чиновник, откинувшись на спинку стула, затеял долгий и неспешный разговор. Соня терпеливо ждала. Она повсюду оставалась одинаковой, что здесь, что в консульстве: неизменное черное платье, маленькая шляпка, светлые волосы, собранная, сдержанная, строгая.
За другим столом какая-то служащая щелкала костяшками счетов, она также время от времени прерывалась, чтобы сделать глоток чая.
Посетитель ушел. Соня протягивала один документ за другим, сопровождая каждую бумагу определенной фразой.
— Вы не забыли сказать, что это срочно? — вздохнул Адил-бей, в его голосе звучала безнадежность.
— Я сказала. Товарищ заведующий заверяет, что все будет сделано как можно скорее.
— Он еще не подыскал мне прислугу?
Адил-бей так и не нанял женщину, которая бы вела его домашнее хозяйство.
— Что он говорит?
— Что он по-прежнему ищет.
— В конце концов, я постоянно встречаю на улице сотни людей, которые просят милостыню!
— Дело в том, что они не хотят работать.
— А если им сказать, что я готов хорошо заплатить?
— Должно быть, им это говорили.
— И все-таки переведите…
Она нехотя подчинилась, а мужчина пожал плечами, демонстрируя полнейшее бессилие.
— Это уму непостижимо, в городе тридцать тысяч жителей, а они не могут найти хоть кого-нибудь, кто бы согласился следить за моим домашним хозяйством!
— Разумеется, они найдут.
— Также спросите его, почему патефон, который я заказал в Стамбуле, прибыл, но без пластинок.
Должно быть, заведующий понял слово «патефон», потому что он произнес три или четыре слова, не дожидаясь перевода.
— Что он говорит?
— Что их пришлось отослать в Москву, ведь это были испанские пластинки.
— И что такого?
— Никто в учреждениях Батуми не говорит на этом языке.
Адил-бей поднялся, крепко стиснув зубы. Ему пришлось сделать усилие, чтобы пожать руку собеседнику.
— Пойдемте! — бросил он своей секретарше.
Для того чтобы пройти по коридору, следовало перешагнуть через спящих людей, которые таким образом ждали своей очереди в один из многочисленных кабинетов управления. Казалось, на полу валяются груды грязной ветоши: просители не шевелились и не издавали ни звука, даже когда их случайно задевали ногой.
Они шли бок о бок по улице, но на сей раз Адил-бей забыл про свой портфель. Самое тяжелое время суток. Жара застыла между склонами гор, с Черного моря не долетало ни дуновения ветерка.
Перед консульством Италии стояла великолепная машина, принадлежащая консулу, она неизменно привлекала взгляды прохожих — еще бы, в городе имелось всего три автомобиля. На втором этаже в тени террасы госпожа Пенделли, облаченная в утренний пеньюар, исполняла роль учительницы для собственной дочери. Даже снизу можно было заметить стол из ротанговой пальмы, на котором лежали белые тетради, стояли чернильница и стаканы с ледяным лимонадом.
— Как вы полагаете, итальянцы получают больше меня? — спросил Адил-бей, в его голосе явственно звучало подозрение.
— На то нет никаких резонов.
Всегда одно и то же: ее ответы поражали безупречной логикой, только они ничего не проясняли!
На улицах почти не было прохожих, никаких лавочек, магазинов, полное отсутствие движения, торговли, которые превращают город в город.
Не так давно эти улицы кишели, как муравейник, как и улицы Стамбула, Самсуна или Трапезунда[2], как улицы любого восточного города. И здесь еще можно было увидеть небольшие магазинчики, но они стояли пустые, с закрытыми ставнями или разбитыми стеклами витрин. Можно было разобрать полустершиеся вывески не только на русском, но и на армянском, турецком, грузинском языках и на иврите.
Куда подевались поскрипывающие вертела с жирными баранами, стоявшие у дверей харчевен и ресторанов? А наковальни кузнецов, а прилавки рыночных менял?
В конце концов, куда делись сами люди, наряженные в самые разнообразные костюмы, люди, останавливающие прохожих и расхваливающие свой товар?
Остались лишь молчаливые тени, вылинявшие на солнце, неясные фигуры, прячущиеся в тени подворотен.
Батуми стал заурядным портом для всего лишь нескольких иностранных кораблей, сгрудившихся вокруг нефтепровода, несущего через горы по территориям Кавказа бакинскую нефть. И неизменная статуя Ленина, который хоть и был изображен в натуральную величину, казался совсем крохотным человечком. А еще большой Дом профсоюзов и клубы.
Соня шла, не произнося ни слова, не глядя по сторонам. Она осталась отстраненно-спокойной, когда Адил-бей остановился рядом с пожилой женщиной, которая, сидя на краю тротуара, рылась в мусорном баке и ела то, что находила. У старухи были раздутые ноги, толстые белые обвисшие щеки.
— У нее нет еды? — раздраженно спросил консул, который все больше и больше злился на секретаршу.
— Каждый работающий человек может нормально питаться.
— В таком случае, как вы объясните…
— У нас для всех найдется работа, — бесстрастно продолжила девушка.
— А если она не способна работать?
— Существуют специальные приюты.
Все эти фразы Соня произносила ровным бесцветным голосом. Ее голос никогда не менялся. Каждый раз, когда Адил-бей задавал вопрос, он тут же получал готовый ответ, но все эти ответы были такими пустыми, что турку казалось, будто он блуждает в мире, лишенном предметов.
— Что вы хотите на обед, Адил-бей?
Они почти добрались до консульства. За неимением прислуги у Сони вошло в привычку каждый день покупать еду для консула.
— На ваше усмотрение. А еще скажите доктору, чтобы он зашел ко мне.
— Вы больны?
Мужчине захотелось ответить так же, как это делала его собеседница.
— Если я зову врача, вероятно, я нездоров.
Адил-бей нырнул в подъезд. Возможно, он не был болен. Но при этом турок не чувствовал себя здоровым. Стоило ему толкнуть дверь собственной квартиры, как мужчину охватывало невероятное отвращение. Прихожая и кабинет воняли. Целых два раза рано утром консул лично пытался вымыть паркет, не жалея воды, но когда он захотел наполнить третье ведро и вышел на лестничную клетку к общему крану, соседи помешали ему это сделать, что-то объясняя на русском.
У этого крана всегда толпился народ. Жильцы почему-то не желали мыться в своих квартирах, а делали это прямо здесь, в коридоре. В доме было невероятное количество людей. В некоторых комнатах проживало по десять человек.
Адил-бей вошел в свою комнату и тут же по привычке посмотрел на дом напротив. Окно было открыто. Колин, который недавно вернулся с работы, бросил на кровать зеленую фуражку и сейчас трапезничал, сидя рядом с женой. На столе лежали ломти черного хлеба, яблоки, сахар, дымился чай.
«Хорошо бы, если бы это оказался тот же самый врач», — подумал Адил-бей.
Он хотел видеть врача, лечившего его предшественника. Консул давно потерял аппетит. Консервы, которые он глотал, сидя в одиночестве на кухне, вызывали изжогу. Если еду готовила Соня, она никогда не мыла чашки и тарелки, и, конечно же, она никогда не убирала в спальне.
Секретарша уже вернулась, неся в руках множество маленьких свертков. Она должна была видеть брата и невестку, которые обедали черным хлебом, тремя яблоками и чаем. Соня открыла банку с лангустами, вывалила на тарелку копченую селедку, разложила на блюдце кусочки сыра.
Какие чувства она испытывала? Завидовала ли она Адил-бею, который в полном одиночестве намеревался усесться за стол, уставленный всеми этими яствами? А ведь он даже не был голоден! Консул смотрел, как девушка ходит по кухне. Он уже задавался вопросом, не заглядывает ли секретарша в буфет в его отсутствие. Впрочем, ему было все равно. Но нет! Она скорее даст продуктам испортиться. И еда портилась, гнила, и ее выбрасывали в помойку, откуда ее доставали старухи и жадно пожирали.
— Как скоро придет доктор?
— Через несколько минут.
Что она думала о нем? Время от времени Адил-бей чувствовал на себе ее взгляд, но это был все тот же равнодушный, безразличный взгляд, которым она смотрела на окружающие ее вещи.
— Вы можете идти обедать.
Турок знал, что через несколько мгновений он увидит, как его секретарша войдет в комнату на другой стороне улицы, снимет свою шляпку и сядет спиной к окну. Именно там было ее место.
Говорила ли она о своем начальнике? Рассказывала, что он сказал, что сделал? В любом случае, оба ее сотрапезника не выглядели людьми, увлеченными беседой. Они ели медленно, один кусочек за другим. Прежде чем сделать глоток обжигающего чая, Колин клал в рот колотый сахар. Затем целых четверть часа он провел у окна, облокотившись о подоконник, и рукава его рубашки яркими пятнами белели на солнце, которое к часу дня заливало все дома квартала.
Были ли у него другие развлечения? Иногда по вечерам Колин выходил из дома вместе с женой, которая всегда носила одно и то же желтое платье, как Соня носила платье черное. В любом случае, ровно в полночь они появлялись у окна, наслаждаясь вечерней прохладой. Они никогда не зажигали свет, чтобы раздеться.
Возможно, они поступали так, потому что девушка-секретарша уже спала? Но и она сама тоже укладывалась спать в полнейшей темноте. Утром, когда соседи открывали окна, Соня всегда уже была готова, шляпка на голове, постель убрана. А вот ее невестка могла долго бродить по комнате неодетой, иногда она даже вновь ложилась в постель, где, читая, проводила большую часть утра.
— Войдите!
Пришел доктор. Он положил свой чемоданчик и фуражку на стол и с вопрошающим видом повернулся к Адил-бею.
— Вы говорите на французском?
— Немного.
— Я себя не слишком хорошо чувствую. Полное отсутствие аппетита, порой тошнота, бессонница.
Все это Адил-бей произнес весьма угрюмым тоном, как будто винил в своих несчастьях врача.
— Раздевайтесь.
Неудачное начало. Адил-бей надеялся поболтать, успокоиться, получить хоть какие-нибудь сведения, и вот, без всякой причины, они разговаривают друг с другом как заклятые враги.
Стараясь спрятаться от всевидящих окон, турок удалился в самую темную часть комнаты и снял пиджак.
— И рубашку тоже.
Доктор равнодушно смотрел на обнаженную плоть, на торс, уже начавший заплывать жирком, на покатые плечи.
— А раньше вы никогда не болели?
— Никогда.
— Дышите… Покашляйте… Дышите…
Адил-бей по-прежнему видел спину Сони, профиль ее брата, тяжелые черные волосы грузинки.
— Присядьте.
Это было необходимо, чтобы проверить рефлексы коленей. Затем доктор измерил артериальное давление пациента, и Адил-бей почувствовал, как аппарат сжимает его руку.
— От чего умер мой коллега? — спросил консул, стараясь, чтобы его голос звучал как можно естественнее.
— Я забыл. Мне необходимо взглянуть в мои карточки.
Доктор посмотрел на пациента, как будто спрашивая себя о том, что еще он может исследовать.
— Ложитесь.
Он прощупал селезенку, печень. Вот и все. Мужчина навел порядок в чемоданчике.
— Итак?
— Вы излишне нервны, подавлены. Я бы посоветовал вам принимать перед сном немного брома.
— Где я могу его приобрести?
— Следует написать в Москву. Вам необходима только легкая пища.
— Что-то не так?
— Ничего… И все понемногу…
И он ушел, потеряв всякий интерес к Адил-бею, который последовал за врачом с голым торсом и лямками, спущенными на бедра.
— Вы полагаете, это серьезно?
— Никогда нельзя сказать заранее. Что касается брома, вы — иностранец, и весьма вероятно, вам доставят его кораблем весьма скоро. У нас же медикаменты трудно раздобыть.
Адил-бей хотел поинтересоваться у доктора, нет ли у него какой-нибудь болезни сердца, но было слишком поздно. Медик уже вышел на лестничную площадку. В комнате раздалась телефонная трель, и консулу показалось, что по спине Сони, там, на другой стороне улицы, пробежала легкая дрожь.
— Алло, да, это я!
Это была госпожа Амар, которая звонила почти каждый день, но которую Адил-бей встретил только один раз, на пляже, когда она направлялась к купальне для дам.
Еще до своего приезда в Россию турок узнал, что в этой стране принято купаться обнаженными, и он уже представлял себе сумятицу загорелых тел, согретых солнцем и обласканных волнами.
В реальности огромный галечный пляж был разделен на две зоны, огороженные колючей проволокой, что заставляло думать о концентрационных лагерях. Вход на пляж стоил двадцать пять копеек, и мужчины купались с одной стороны, а женщины с другой.
— А вот я вас и поймала бродящим по пляжу! — воскликнула Неджла Амар слишком звонким голосом.
По правде говоря, чуть позже он еще раз прошелся вдоль колючей проволоки, напустив на себя фальшивоозабоченный вид, втайне надеясь встретить персиянку. И вот теперь она кокетливо мурлыкала в трубку телефона:
— Угадайте, какую прекрасную новость я вам сейчас сообщу?
— Я не знаю.
— Ну, угадайте!
— Мое правительство решило отозвать меня в Анкару?
— Злюка! Сегодня утром Амар уехал в Тегеран, он вернется не раньше чем через десять дней.
— А!
— И это все, что вы можете сказать?
— Я не знаю, что сказать.
Адил-бей по-прежнему стоял с обнаженным торсом.
— Ну, если так, то я не приду к вам пить чай, как намеревалась это сделать.
— Нет, приходите!
— Вы этого хотите? А вот я не уверена, что должна это делать. Особенно если я рискую столкнуться с вашим ангелом-хранителем!
В трубке послышался неприятный шум, который должен был означать поцелуй. Колин все еще стоял у окна напротив, и дым от его сигареты поднимался вверх в неподвижный воздух.
Когда к одиннадцати часам вечера начальник приморского отдела ГПУ, вернувшись из клуба, открыл окно своей комнаты, окно консульства также было открыто, а в нем маячил размытый светлый силуэт.
Колин вновь на какое-то мгновение нырнул в темноту комнаты, чтобы снять уличную обувь и надеть домашние тапочки, а также захватить из пиджака пачку сигарет.
Адил-бей, стоявший напротив, не двигался. Его окружала темнота, а сквозь тонкую ткань рубашки мужчина ощущал холодок камня на своих локтях.
На улочке, лежавшей перед домом, не было ни единого человека, но где-то вдалеке, через несколько улиц, раздавались шаги. Можно было даже расслышать — ведь ветер дул с северо-запада — музыку, звучащую в баре на набережной. Этот бар предназначался для иностранных моряков.
Колин зажег сигарету, и взгляд Адил-бея остановился на танцующем пламени. Чуть позже грузинка также облокотилась на подоконник рядом с мужем, и в течение нескольких минут они переговаривались едва слышным шепотом.
Интересно, Соня уже спала на железной кровати, которую Адил-бей не видел, но о которой знал, что она стоит справа у стены?
Воздух казался нежным и сладким, без сомнения, он впитал в себя ароматы тропической растительности гор. Женщина прижималась к Колину, и любой мог догадаться, что ее тело тоже было нежным, сладким и еще хранило тепло кровати, в которой она поджидала мужа.
Адил-бей повернулся на шум, раздавшийся позади него. Неджла Амар со вздохом откинула одеяло и изменила позу.
Воздух комнаты настолько пропитался ее духами, что Адил-бей время от времени задавался вопросом, а не ощущают ли люди напротив этот запах. Персиянка выбрала тяжелые, резкие духи, призванные оттенить пряный животный аромат ее тела.
— Иди ложись, — вздохнула почти заснувшая женщина.
Они ее слышат? Ведь они совсем рядом. А улица такая узенькая… Колин положил руку на талию жены.
Адил-бей спать не хотел, он вообще не хотел ложиться рядом с обжигающим телом Неджлы. Он даже не о ней думал. Турок спрашивал себя, спит ли Соня где-то там, за спинами семейной пары напротив, и остается ли ее лицо таким же бесстрастным и во сне. Сумела ли она понять правду, когда во второй половине дня Адил-бей сообщил секретарше, что она может быть свободна? Вскоре девушка вышла из дома с купальным халатом в руках, но на углу улицы столкнулась с подоспевшей госпожой Амар.
— Адил, иди сюда!
— Тише!
Он не хотел закрывать окно, потому что задыхался. С тех пор как ему измерили давление, консул чувствовал, как пульсирует кровь в его артериях, и этот непрерывный ритмичный стук пугал мужчину.
Он так ничего и не съел. Он был болен. Именно об этом турок сообщил Неджле, как только она пришла, и в течение пяти минут женщина разыгрывала добрую самаритянку.
Если бы только она согласилась вернуться к себе! Неужели прислуга не расскажет все ее мужу после возвращения Амара?
— Он ревнив?
— Как тигр! — смеясь, ответила персиянка.
Она непрерывно смеялась, нервным неестественным смехом, и было совершенно не понятно, почему она смеется: от радости или нервозности, или просто провоцируя собеседника.
Почему она осталась? И вообще, почему она пришла? Два раза она щелкала выключателем, чтобы зажечь свет, и Адил-бей был вынужден бороться с любовницей, чтобы погасить его. Бороться в полном смысле этого слова! Он дошел до того, что выкрутил ей руки!
— Ты боишься этой маленькой шпионки! — насмешливо протянула Неджла. — Ты скотина, но ты мне нравишься!
Адил-бей испытывал сильнейшее отвращение к табаку, но, глядя на красный огонек сигареты в окне напротив, он почти хотел курить, потому что сигарета стала символом сладостного мира. Он не сомневался: скоро разразится гроза, возможно, даже до конца ночи, но именно угроза бури наделяла особой привлекательностью этот миг мечтаний у окна.
Адил-бей больше не слышал ровного дыхания Неджлы. Он больше не думал. Мужчина растворился в мечте. Слился с ночью. Он не смотрел ни на что конкретное.
Внезапно что-то обвило его шею, растеклось по всему телу.
Консул вздрогнул, три или четыре раза моргнул, и лишь затем обрел обычное хладнокровие. Персиянка потеснее прижалась к турку, как прижималась к своему мужчине женщина в окне напротив, и тихо выдохнула, зажав в зубах сигарету:
— Дай мне огня.
У него не было спичек. Он даже не знал, хочет ли искать для нее огонь. Колины не двигались. Темнота мешала разглядеть их глаза, но они должны были смотреть перед собой и, вероятно, заметить полуобнаженную грудь Неджлы! На самом деле у нее была очень темная кожа цвета лесного ореха! А ее плоть такая крепкая, что когда женщина опиралась о подоконник, ее грудь почти не деформировалась.
— Дай мне огня!
Он пошел и взял со стола спички. Крошечный огонек затанцевал, как он танцевал на другой стороне улицы. Они стояли, облокотившись на подоконник, как та, другая пара.
Шло время. Стихла музыка в баре. Замерли все шаги в городе.
Возможно, они стояли так около часа, когда крупные капли дождя рухнули с неба и разбились о землю. Колины отпрянули. Их окно закрылось. Капля воды упала на руку Неджлы, и та вздохнула:
— Неужели тебя не забавляет тот факт, что они из ГПУ?
Сейчас напротив можно было рассмотреть лишь темное окно с бледной филигранью штор.
4
Когда, следуя за беспечным течением толпы, он заметил ее в первый раз, Соня шла под руку с двумя подругами: одна — в белом, другая — в светло-голубом, голые ноги, распущенные волосы. Вероятно, Соня предупредила своих спутниц невидимым пожатием руки, потому что, оказавшись в десяти метрах от турка, девушки принялись изучать его с серьезным любопытством, но не смеясь, как это часто делали другие.
Адил-бей прошел мимо и не осмелился обернуться. Дождь прекратился лишь к заходу солнца, которое позолотило лужи. Все жители города, как обычно, высыпали на улицу и теперь прогуливались взад-вперед по набережной, так что навстречу все время попадались уже ставшие знакомыми лица. Юноша на велосипеде все так же лавировал между группами гуляющих, а на раме его машины сидела все та же девушка.
Вновь увидев вдали Соню и ее спутниц, Адил-бей задумался над тем, обсуждают ли они его. Консул еще не добрался до подруг, когда к ним приблизился молодой человек в рубашке с расстегнутым воротником и пожал всем руки.
Таким образом, четверка стала своеобразным островком, мимо которого двигалась неспешная толпа. Адил-бей не мог остановиться. Он прошел мимо. Через некоторое время издалека он снова заметил этот островок, который теперь переместился на площадь. Молодой человек смеялся. Он обращался скорее к Соне, чем к двум ее приятельницам.
Накануне Адил-бей, возможно, не обратил бы никакого внимания на свою секретаршу, но этим утром произошел один незначительный инцидент, который, однако, оставил неприятный след в душе турка.
Когда в восемь часов утра Неджла Амар открыла глаза и увидела окно, залитое дождем, она лишь вздохнула:
— Приготовь мне кофе.
Еле сдерживая нетерпение, Адил-бей сварил кофе. Поглядывая на наручные часы, он до последней секунды не терял надежды.
Тщетно! В девять часов пришла Соня, а персиянка все еще находилась в его спальне, явно намереваясь снова заснуть. Секретарша, как обычно, раздобыла всевозможные продукты и хотела отнести их на кухню.
Адил-бею пришлось, отводя глаза, преградить ей путь.
— Давайте сюда! Я сам все отнесу.
Итак, утро прошло под знаком натянутости и неловкости. Рассеянно кивая посетителям, Адил-бей в основном слушал звуки, доносившиеся из спальни, куда он время от времени выходил, изобретя очередной пустяковый предлог.
— У тебя есть что-нибудь почитать?
Неджла нежилась в постели, теплая и ленивая. Она даже не заикалась об уходе. В кабинете консула странный грязный бородатый человечек, весь покрытый шрамами, терпеливо излагал историю своей жизни, за которой внимательно следила одна лишь Соня.
Посетитель оказался настоящим турком, родившимся в Скутари. Во время войны русские взяли его в плен и отправили в Сибирь, где он, как и многие другие ссыльные, прижился среди крестьян и начал трудиться в степи. Там же, в Сибири, он женился. Сейчас его дочери исполнилось семнадцать лет. Шли годы, и вдруг, совершенно неожиданно, не взяв ни денег, ни документов, мужчина отправился в путь. Теперь он сидел напротив Адил-бея и упрямо повторял:
— Я хочу вернуться на родину. Я хочу повидать мою первую жену и старших детей.
Он не желал отступать. Он разозлился, когда ему сообщили, что это займет очень много времени, а быть может, и вовсе окажется невозможным. Все та же Соня, потеряв терпение, выпроводила настырного посетителя за дверь.
Ливень не прекращался. Тропические дожди обычное дело для Батуми: город затягивало непроглядной завесой дождя, улицы становились непроходимыми.
— Вам следует уйти, — тем не менее твердил Неджле Адил-бей.
Эта идея стала навязчивой. От одной только мысли, что персиянка находится в его постели, турка охватывала необъяснимая тревога.
— Послушайте! Я отошлю мою секретаршу в город, а в это время…
Наступил полдень, и консул сказал Соне:
— Отнесите это письмо на почту.
Девушка посмотрела на начальника, не говоря ни слова, поднялась со своего места, надела шляпку и убрала письмо в сумку. Через четверть часа, когда она вернулась, Адил-бей как раз выходил из спальни и сразу же увидел, как промокла его помощница: платье липло, к телу, влажные жесткие волосы напоминали птичьи перья.
Она снова посмотрела на турка, и в ее глазах не было злобы. Именно в эту секунду, до того как Адил-бей смог подыскать нужные слова, открылась дверь и на пороге появилась госпожа Амар с распущенными волосами:
— Где расческа, Адил?
Сделала ли она это нарочно? Соня даже не улыбнулась! Секретарша уселась на свой стул и возобновила работу.
Вот и все. Теперь, обогнув статую Ленина, попирающего земной шар, Адил-бей искал глазами группу девушек. Но их не оказалось на прежнем месте. Чуть дальше, через площадь, консул увидел Сониных подруг, прогуливающихся с молодыми людьми.
Закатное солнце тонуло в дождевых лужах и в огромной луже моря. В баре для иностранцев, куда Адил-бей так ни разу и не зашел, раздались первые звуки джаза.
— А там интересно? — спросил он как-то у своей секретарши, и Соня ответила презрительной гримасой.
Турок уже в третий раз прошел вдоль всей набережной, но так и не встретил Соню. Совершенно случайно он повернул голову к большому зданию Дома профсоюзов и клуба и в окне второго этажа заметил секретаршу, сидящую напротив молодого человека.
Находясь там, наверху, пара как будто парила над толпой и над бухтой. Взгляд светлых глаз Сони скользил в пространстве, не задерживаясь ни на чем конкретном. Юноша что-то говорил, склонившись к спутнице, которая, без сомнения, его слушала, но слушала, не видя и, возможно, даже не слыша слов. На ее лице застыло хрупкое выражение радости.
Грузовые суда, стоящие на рейде, покачивались, как темно-красные вытянутые пятна сурика. Прибывший предыдущей ночью греческий парусник хвалился тремя высокими мачтами, чернеющими на фоне зелени горы.
Вокруг Адил-бея раздавался монотонный шум шагов: толпа катилась по набережной двумя встречными потоками. Консул искоса, мельком взглянул на прохожих, как если бы они пугали его.
Весь остальной город оставался пустым. От порта разбегались кривые улочки, грязные и черные, как сточные канавы. Ветерок, дувший со стороны перерабатывающих заводов, пропитался запахом нефти. Все эти молодые люди, эти девушки, эти бритые черепа, эти расстегнутые рубашки — все это принадлежало миру нефти. Рабочие, спорящие в зале на первом этаже, следили за указкой оратора, скользящей по диаграмме голубых и красных цветов: диаграмме производства нефти!
Чтобы купить велосипед, высокий парень, катающий свою подружку, должен был быть специалистом.
Адил-бей попытался поесть в их столовой, куда его отправила Соня, снабдив запиской на русском языке. Стены, покрытые известковой побелкой, напоминали стены госучреждений. Столы из светлого дерева. Здесь ели даже руками, положив локти на столешницу, ели молча, сосредоточенно, как будто работали: суп, немного рубленого мяса, перемешанного с вареным зерном, ломти черного хлеба. Одна девушка на лету пересчитывала подаваемые блюда. Другая нанизывала на железный стержень зеленые талоны, которые ей мимоходом вручали официанты. Должно быть, в кухне находились другие девушки.
Адил-бей не понимал их, как не понимал гуляющих горожан. Турок обрел бы душевное равновесие, если бы увидел людей, играющих в триктрак во дворе своего дома, или хотя бы стариков, курящих наргиле[3].
Но в Батуми почти не было стариков. А если и были, то они походили на посетителей консульства. И когда такие старики встречались в толпе, сразу бросалось в глаза, что они утратили с ней всякую связь. Они скользили мимо, как привидения, которых, казалось, даже никто не видит; если же они сидели на земле, то их огибали, как груду тряпья.
Консул прошел всю набережную из конца в конец два… три раза, и наступила ночь. В Доме профсоюзов горела большая часть окон. Кто-то играл гаммы на саксофоне.
Соня не шевелилась. Она по-прежнему сидела в тени, а молодой человек ей что-то тихо говорил.
Теперь Адил-бей знал: во всем городе, во всех домах, в каждой комнате ютились одна или две семьи, и это не считая кулаков и детей кулаков, которые спали под открытым небом. По утрам эти люди выстраивались в очереди у дверей кооперативов и стояли до тех пор, пока не появлялась табличка, гласившая, что картофель, или мука, или крахмал закончились.
И вот внезапно, как в любом другом городе мира, взорвалась огнями, засияла огромная, почти метровая вывеска «Bar». Стоило толкнуть дверь, и к посетителю устремился швейцар в ливрее, готовый принять шляпу, а за приоткрытыми портьерами можно было разглядеть фигуры танцующих.
Адил-бей сел за первый свободный столик и огляделся. На то время, пока звучало танго, все лампы погасли, и сейчас свет лился лишь из большого барабана, снабженного электрическими лампочками. Этот барабан напоминал огромную рыжую луну, на фоне которой скользили пары. Адил-бей слышал это танго в Вене и Стамбуле, там также приглушали свет, и музыканты играли, окутанные мантией полумрака.
В Стамбуле тоже были иностранные моряки и женщины в плохо скроенных шелковых платьях, и смех, и шепот, и запах спиртного мешался с ароматом духов, и официанты в белых куртках сновали от стола к столу.
— Что вы будете заказывать?
К нему обратились на французском, протянули карту вин, открытую на странице шампанских. В ту же минуту кто-то, сидящий за соседним столиком, помахал турку рукой. Это был самый шумный столик заведения. Вокруг бутылок с шампанским и виски сгрудилось не менее полудюжины человек. Мужчина, одетый в белый костюм и расстегнутую рубашку, не вставая со стула, который чуть не опрокидывался под ним, громко звал Адил-бея, подкрепляя слова жестами.
— Идите к нам, дружище!
Адил-бей, еще сомневаясь, поднялся. К нему протянулась мощная рука, сжала ладонь.
— Джон, из «Стандарта». А вы новый консул. Мне рассказывали о вас у Пенделли. Гарсон, еще один стакан!
И он указал на офицеров, сидящих за столом:
— Это товарищи! Тут все товарищи. Виски? Шампанское?
Он был пьян. Он был пьян всегда и всегда носил белый костюм, расстегнутую рубашку, открывающую мощную шею. Он также всегда с предельной скоростью гнал по улицам города свой автомобиль, притормаживая лишь на поворотах, и резко останавливался, едва не сбивая ребенка или старуху.
— Ну как там эта шельма Неджла? — поинтересовался Джон, опустошив стакан.
Несмотря на опьянение, он скользнул цепким взглядом по Адил-бею. Грубые черты его лица оплывали, под глазами набухли мешки. Большую часть времени лихорадочно блестящие зрачки его глаз блуждали, не задерживаясь ни на чем конкретном, но когда они останавливались на каком-нибудь объекте, рот американца становился тверже, а на лице появлялось высокомерное выражение.
— Уже подсуетился? — спросил он.
И пожал плечами, видя, как смутился собеседник, подыскивая ответ.
— Ну и дурак!
— Что?
Но нет! Джон даже не оставил ему времени для обиды. Он произнес слово «дурак» не так, как все остальные.
— Неужели вы полагаете, что мы все не прошли через это? Бармен, положите на лед еще одну бутылку.
Пары по-прежнему кружили в ореоле приглушенного света.
— Надеюсь, вы хотя бы не сказали ей ничего компрометирующего?
— Я не понимаю вас.
Фламандец, выходивший из-за стола, вернулся вместе с женщиной, которую усадил рядом с собой. Он не мог разговаривать с ней, и потому весь остаток вечера довольствовался тем, что, улыбаясь, смотрел на спутницу и поглаживал ее по руке.
— Вы здесь уже давно? — спросил Адил-бей у американца.
— Четыре года.
— И вам здесь нравится?
Джон рассмеялся или, вернее, выпустил из легких излишек воздуха, а также сдул с губ крошки табака. Но его это не беспокоило. Он не желал быть ни вежливым, ни воспитанным.
— Ваше здоровье! И пусть оно будет, пока не сдохнем!
Он пил виски из пивной кружки, и никто не мог понять, насколько он пьян. За этим столом не вели долгих и связных бесед.
Время от времени офицеры перекидывались парой слов, затем кто-нибудь поднимался, чтобы потанцевать. Джон периодически останавливал взгляд на консуле, взгляд то мутный, то острый, внимательный.
— Уже хандрите?
— Нет. Но я несколько сбит с толку.
— Если однажды у вас возникнут неприятности, приходите ко мне. Вы знаете куда? На окраину города, туда, где проходит нефтепровод.
— Вы позволите задать вам несколько вопросов? Вы только что говорили о госпоже Амар. Вы полагаете, она работает на ГПУ?
На сей раз Джон испустил тяжкий вздох.
— Хотите добрый совет? Никогда, ни с кем не говорите о подобных вещах. Оглянитесь! Официант, который нас обслуживает, работает там. Все женщины, которых вы здесь видите, тоже. И швейцар! И вся прислуга!
Американец говорил все это, не понижая голоса. Музыканты, расположившиеся за Джоном, не моргая, наблюдали за ним.
— Лучше вообще не задавать вопросов, понимаете? Ваши посылки прибывают наполовину пустыми — молчите! Вас обворовывают — молчите! На вас напали ночью и отобрали портфель, кошелек — спокойно идите домой! Если кто-то умер в вашем кабинете, просто ждите, когда приедут и заберут труп! И если ваш телефон не работает, не уставайте повторять про себя, что именно так и должно быть.
— Служащего, который временно замещал меня здесь, арестовали сразу же по прибытии в Тбилиси.
— Каким образом это вас касается?
— А если вспомнить предыдущего консула, мне сказали…
Джон заставил турка замолчать, всунув ему в руку стакан.
— Пейте! Пускай проходят часы, дни, недели, месяцы. Возможно, однажды ваше правительство вспомнит о вас и пришлет вам замену.
Все это американец излагал сварливым голосом клоуна.
— Не приходите сюда слишком часто. Как можно меньше общайтесь с иностранными офицерами.
— Но вы сами?
— Что касается меня, дружище, то я из «Стандарта»!
В сущности, когда он произносил это слово, в его голосе звучала та же гордость, которая звучала в речах Пенделли, когда тот говорил об Италии.
— Еще одну бутылку, гарсон!
И Джон обратился на английском к капитану, дремавшему рядом с ним.
Адил-бей выпил три больших стакана спиртного. Окружающие предметы начали понемножку расплываться. Консул с досадой смотрел на американца, который больше не желал обращать на него внимание, а турку так хотелось поговорить по душам.
Он еще точно не знал, что намеревается сказать, но он бы завел разговор о своей секретарше, которую Джон, возможно, знал. Адил-бей злился. Он задавался вопросом, неужели девушка по-прежнему сидит там, на подоконнике Дома профсоюзов. Теперь он понимал, почему она состроила презрительную гримасу, когда он завел речь о баре, переполненном женщинами с неотесанными чертами крестьянок или работниц, этими женщинами с размалеванными лицами, которые танцевали, неловко двигаясь и смеясь.
Время от времени пары исчезали. А за шторой, отделявшей укромный уголок от нескромных взглядов, начиналась громкая возня.
— Вы часто сюда заходите? — поинтересовался Адил-бей у своего соседа, бельгийского капитана.
— Одна ходка сюда, одна — в Техас.
— Нефть?
— Нефть.
— Наверняка в Америке веселее?
— Да везде одно и то же, быть может, там даже скучнее. Труба расположена далеко от города, на загрузку уходит около шести часов. Времени только и остается, что в кино сходить!
— Вы делаете остановки в каких-нибудь портах?
— Никогда.
Сидевший напротив старший инженер-механик пытался рассказать своей спутнице анекдот, для чего использовал немецкие и английские слова, но главным образом жесты. Женщина смеялась, ничего не понимая. Он смеялся еще громче.
Совсем молодой офицер танцевал с довольно красивой девицей в зеленом платье, которая оказалась на голову выше своего кавалера. Мужчина вздрогнул, когда Джон, проходя мимо, дернул его за китель.
— Только не эта! — сказал он приятелю на итальянском.
— Почему?
— Я тебе говорю, эту не бери!
И Джон уже смотрел куда-то в другую сторону, когда Адил-бей робко пробормотал:
— Вы позволите мне угостить вас?
— А ты отправляйся спать! И помни о том, что я тебе сказал: я живу рядом с нефтепроводом. Доброй ночи!
Адил-бей чувствовал, как он далек от здания клуба, от набережной, от людей, кружащих у статуи Ленина. Он не решался расстаться с приглушенным светом, с музыкой, а главное, с шелестом разговоров, ведущихся на трех или четырех языках и сопровождавшихся звяканьем тарелок и бокалов.
Однако даже здесь, в этой атмосфере, схожей с атмосферой всех кабачков мира, чувство тревоги и дискомфорта не покидало турка. Он косился на присутствующих, на иностранных офицеров и официантов, на музыкантов и самого Джона. Он смотрел на людей, подобных ему, украдкой, и это смущало консула.
Была ли это его вина?
Снаружи стояло несколько женщин. Какую-то секунду Адил-бей колебался. Музыка, тепло кабачка не оставляли его, липли к коже, и мужчина рассеянно смотрел на черную набережную, на мерцающие блики на глади воды, на просмоленные лодки.
Красноватая вспышка озарила пространство. Адил-бей застыл в недоумении. Кто-то пробежал мимо. Раздался резкий грохот, и женщины сделали два или три шага вперед.
И застыли на месте. Турок пытался осознать сцену, свидетелем которой он стал и оставался, ибо эта сцена была такой короткой, что не имела ни прошлого, ни настоящего.
Мужчина бежал. Другой мужчина, в зеленой фуражке, стрелял в бегущего. Первый сделал еще несколько шагов, стал заваливаться вперед и наконец с глухим звуком упал на землю.
Шаги стрелка по-прежнему звучали в переулке. Женщина предостерегающе подняла руку, помешав Адил-бею подойти поближе.
Однако все и так происходило в каких-то пятидесяти метрах. Агент ГПУ склонился к лежащему. Откуда-то возникли две тени и, не говоря ни слова, не делая лишних движений, подняли раненого или мертвого, подхватили его под руки и потащили, не обращая внимания на его волочащиеся ноги.
— Что случилось?
Женщины не понимали. Адил-бей, не отдавая себе отчета, заговорил на турецком. А они уже начали улыбаться консулу.
Когда Адил-бей двинулся с места, он почувствовал, как дрожат его колени, как будто он был пьян. Дом профсоюзов, расположенный неподалеку, уже закрылся. Вне светового ореола бара улицы оказались пустынными и темными. Турок шлепал по лужам. Два раза он вздрогнул, потому что ему показалось, будто он видит какие-то силуэты, прижавшиеся к стене.
Последние метры, отделяющие его от дома, консул почти бежал, и когда он вставлял ключ в замок, его руки тряслись.
Электричество давно выключили. Должно быть, бар имел особое подключение к сети или работал от собственной подстанции. Он не имел ничего общего с жизнью города. Люди входили в кабачок и выходили из него, но это были моряки, прибывшие накануне или этим утром, а на следующий день они вновь уплывут, и уже сейчас их тяжелые шаги терялись где-то у кораблей.
«Все женщины работают на ГПУ», — сказал Джон.
И те, что находились внутри бара, и те, что оставались снаружи! Те, кто внутри, одевались получше. Куда уходили пары? Не их ли случайно задел Адил-бей, проходя слишком близко от стен?
Стало значительно жарче, и все из-за испарений, поднимавшихся от земли, пропитанной дождем. Адил-бей открыл окна спальни, снял пиджак и тут же ощутил томительное чувство пустоты.
Пустой была не только его комната, пустым был весь город, и в нем пульсировала лишь одна теплая и светящаяся точка бара.
Неужели все спали? Неужели среди всех этих людей, еще недавно прогуливающихся по набережной, не нашлось хотя бы одной шепчущейся пары, мужчины, читающего перед сном, женщины, хлопочущей при свете лампы у постели больного ребенка, кого угодно, кто подал бы робкий признак жизни, напомнил о сердцебиении города?
Запах Неджлы, по-прежнему витающий в спальне, напомнил Адил-бею о Джоне, затем о первом вечере у итальянцев и, прежде всего, о тонких усиках и лакированных ботинках Амара, который, облокотившись о камин, тихо беседовал с Фикретом, а затем поехал провожать его на вокзал.
Окна напротив оказались распахнутыми настежь, и этой ночью его соседи впервые открыли оба окна. Светила луна. Постепенно глаза консула привыкли к ее рассеянному свету, который наделял все белые пятна удивительной рельефностью.
Адил-бей отлично видел подушку госпожи Колиной и водопад рассыпавшихся темных волос. Светлые полосы на маленьком прикроватном коврике.
Ему было достаточно чуть повернуть голову и слегка наклониться вперед, чтобы увидеть железную кровать Сони — белый, совершенно белый прямоугольник, без единого пятнышка, без неровностей.
Постель оказалась неразобранной! Соня так и не вернулась! Госпожа Колина повернулась в своей кровати, повернулась так близко, что Адил-бей услышал жалобный скрип пружин.
Так, значит, все-таки кто-то не спал в бескрайней тьме города, в какой-то точке горизонта, в одном из многочисленных, таких похожих кирпичных домишек. И это была Соня с ее серьезным и бледным лицом!
5
Почему, например, ему отключили воду? Ведь, в конце концов, там, на кухне, имелась раковина, предназначавшаяся для него одного. И несколько дней из ее крана текла вода, а затем разом поток иссяк.
— Возможно, подачу воду прекратили из-за ремонта, — первое время повторяла Соня. — Надо набраться терпения и ждать.
Затем она нашла другое объяснение.
— По всей вероятности, сломался сам механизм. Я попрошу зайти сантехника.
Естественно, сантехник не пришел. Он должен был вот-вот подойти, но никогда, никогда не приходил!
— Он плохо понял, куда идти, — предполагала Соня. Или: — Сегодня — выходной, он придет завтра.
А пока, вставая, Адил-бей тут же натягивал брюки и брал кувшин. У крана на лестничной площадке всегда собиралось не менее шести человек. Особенно долго приходилось ждать, пока мыли волосы женщины. Турок неподвижно стоял чуть позади всей остальной очереди. С ним никто не разговаривал. На него даже не смотрели. Но он знал, что именно эти люди входили в состав домкома и именно они перекрыли ему воду!
Когда он возвращался с наполненным кувшином, перед дверью консульства уже толпился народ. А у него растрепаны волосы и на ногах старые стоптанные башмаки. Но что это могло изменить?
Он больше не заваривал чай по утрам. Слишком долго. Мужчина просто проделывал две дырки в банке со сгущенным молоком и пил его, не разбавляя.
Сейчас он донашивал последнюю рубашку, выстиранную еще в Турции. Все остальные были грязными, и консул не знал, согласится ли кто-нибудь постирать его вещи. Окна напротив были закрыты. Солнце, окутанное легкой дымкой, потеряло свой обычный блеск, и это предвещало невероятно душный день и, возможно, как и накануне, грозу.
Адил-бей, прежде чем войти в кабинет, откуда уже доносился гул голосов, смочил голову одеколоном, причесался и надел пиджак.
Начинался новый день, день, похожий на все предыдущие и, без сомнения, на все последующие дни! Соня уже сидела на своем месте: спокойная, с гладко зачесанными волосами, с бодрым выражением на лице. Она, как обычно, поздоровалась с консулом:
— Добрый день, Адил-бей.
Солнце добиралось до угла кабинета, прыгало по документам и, наконец, показывалось в левом окне.
— Зовите!
Консул уже страдал от головной боли. Помещение тут же наполнялось такими грязными, такими убогими, такими озлобленными людьми, что невольно хотелось задаться вопросом: откуда они берутся в таких количествах, да еще и каждый день. Даже теперь Адил-бей все еще ошибался, пытаясь определить их национальность, а некоторые из просителей говорили на столь чудовищных диалектах, что никто не мог их понять. И порой после долгих минут тщетных попыток объясниться они уходили совершенно обескураженные.
Эти люди спускались с гор, со стороны Армении и Персии или, бог знает почему, отправлялись в путь от пограничья Туркестана и даже из просторов Сибири.
И все они рассказывали нескончаемые истории, поражающие своей сложностью!
— Так чего же ты, в конце концов, хочешь? — взрывался Адил-бей.
— Я хочу, чтобы мне дали денег на нового осла.
Следует заметить, что осел был единственной вещью, ни разу не упомянутой мужчиной в его рассказе.
Сегодня Адил-бей их даже не слушал. Его тошнило от происходящего. К чему вся эта комедия, если в конечном итоге даже в самых серьезных случаях он никогда ничего не добивался от властей? Консул с удивлением понял, что окна напротив по-прежнему закрыты. И вот, прямо посреди стенаний очередного горца, турок спросил Соню:
— Ваша невестка заболела?
Девушка в свою очередь взглянула на улицу и, догадавшись, о чем думает консул, ответила, не выпуская карандаша:
— Нет. Она работает.
Их беседа не помешала горцу продолжать свои излияния, он лишь немного повысил голос.
— Первый рабочий день?
— Да. Она сегодня приступила к работе, вышла бухгалтером на государственный нефтеперерабатывающий завод.
Обыкновенный, ничего не значащий разговор, звучащий контрапунктом к жалобам крестьянина, чьи черные глаза неотрывно следили за Адил-беем, однако последний почувствовал, что нервничает.
— Сегодня ночью было очень жарко.
Соня, согласившись, кивнула, она не выглядела смущенной.
— Оба окна вашей комнаты были открыты.
— Меня там не было.
— Я знаю.
Крестьянин сорвался на фальцет, достойный дьякона, на темном, как глина, лице читалось уныние.
— Я тебя слушаю, — вздохнул Адил-бей, чтобы подбодрить посетителя.
Потому что в тишине мужчина не нашел бы в себе мужества задать те же вопросы.
— Вы провели ночь под звездами?
— Нет, у друга.
— У того молодого человека, которого я видел?
— Да.
Честно и категорично, настолько категорично, что консул спросил себя, а было ли хоть что-нибудь между ней и тем парнем.
— Вы его любите? Это ваш жених?
— Нет. Он мой друг.
Адил-бей повернулся к горцу и велел ему явиться в другой день. К столу подошла старая женщина, которая хотела развестись, но не была способна объяснить почему. Оставалось еще около пятнадцати или двадцати просителей! Адил-бей позволил им выговориться, хотя смотрел то на руку Сони, не прекращающую писать, то на ее светлые волосы, то на черное платье, то на худенькие плечи девушки.
Становилось все жарче. Лохмотья посетителей источали запах гнили, а одеколон Адил-бея делал его еще отвратительнее.
Меж тем это было самое лучшее или, вернее, не самое плохое время дня. Проходили минуты. Можно было подсчитать, что, когда наступит очередь последнего посетителя, пробьет час дня.
Но потом? Что он будет делать потом? Растянется на постели и не станет спать, ведь он и так слишком много спит ночью. Во второй половине дня улицы превращаются в настоящую парильню, местами тенистую, местами раскаленную от солнца, и он не сможет шагать в бесконечность в полном одиночестве, прячась у стен домов.
Все, что ему остается, — это ждать, час за часом ждать того момента, когда он выйдет на прогулку на набережную и присоединится к толпе, которая больше не разглядывала его. Затем он вернется домой, ляжет спать, а на следующее утро сделает две дырки в банке с молоком и встанет в очередь на лестничной площадке!
— Ваша невестка довольна тем, что вышла на работу?
— Почему бы ей быть недовольной?
— Она хотела именно этого?
Соня притворилась, что не услышала вопроса, и принялась писать еще быстрее. Именно в эту минуту Адил-бей безо всякой причины поднялся и осмотрелся вокруг мрачным взглядом.
— Консульство закрыто! — заявил он. — Желающие могут вернуться завтра.
Соня подняла голову, она колебалась, возможно, готовилась запротестовать. Но консул, ничего не слушая, вышел в спальню и посмотрел в зеркало над умывальником.
Мешки под глазами, тусклый цвет кожи — в целом он производил печальное и даже гнетущее впечатление.
Турок услышал шум где-то за дверью. По коридору прошуршали шаги. Еще дальше раздались голоса, но они становились все тише.
Адил-бей снова открыл дверь в кабинет и вошел в комнату, двигаясь наудачу, не понимая, куда направляется, не глядя на Соню, которая по-прежнему сидела на месте.
— Вы себя плохо чувствуете? — ровным голосом спросила девушка.
— Я себя отвратительно чувствую!
— Пригласить доктора?
— Я не хочу, чтобы меня отравили.
Ему почудилось, что она улыбается, и мужчина резко развернулся к собеседнице, но она оставалась бесстрастной.
— Сколько лет прожил в этом городе мой предшественник?
— Я полагаю, два года. Я познакомилась с ним лишь на втором году его пребывания в стране.
Адил-бей сел, встал, оттолкнул документы.
— Кто же теперь будет заниматься домашним хозяйством вашего брата?
— Каждый понемножку.
— Признайтесь, они настояли на том, чтобы его жена работала? У себя дома, в этом интерьере она чересчур походила на представительницу буржуазии.
— Но разве это не естественно — работать?
— А если у нее появится ребенок?
— Тогда она получит право на трехмесячный оплачиваемый отпуск, затем три свободных получаса в день, чтобы кормить грудью.
— А если ребенок появится у вас?
Он ожидал, что его секретарша вздрогнет, но этого не произошло.
— В моем случае будет то же самое.
— Хотя вы не замужем?
— А какая разница?
О чем он говорил с ней? Какая необходимость говорить о подобных вещах? Однако турок продолжал. Это оказалось сильнее его. Остановившись у окна, он позвал Соню.
— Идите взгляните.
И он указал девушке на людей, стоящих перед кооперативом на тротуаре напротив, на самом солнцепеке. Только что разгрузили машину с сухарями, сквозь щели ящиков на мостовую выпали едва заметные кусочки сухого хлеба. И пять или шесть женщин встали на колени прямо на землю, чтобы подобрать эти крошки.
— Ну и что? — спросила Соня.
— Вы осмелитесь утверждать, что эти люди не умирают с голоду?
— Они не умирают с голоду, потому что живы. Разве в вашей стране нет бедных? Разве в Америке, в Германии и других странах не миллионы безработных?
Он снова, как наяву, видел ее в окне клуба, рядом с молодым человеком; Адил-бей снова видел рабочих, слушающих доклад. Он слышал саксофониста, играющего гаммы, в то время как он сам в полном одиночестве бродил по улицам города.
— Что вы можете купить на те четыреста рублей, которые получаете?
— О чем вы толкуете? Я покупаю все, что мне необходимо.
— Об этом вы мне уже говорили. Но теперь я знаю местные цены. Пара ботинок, как ваша, стоит триста пятьдесят рублей. Ваше платье обошлось вам по меньшей мере в триста. Кусок мяса…
— Я не ем мяса.
— Ваш брат тоже?
— Только в том случае, если ужинает в кооперативном ресторане.
— Сколько он зарабатывает?
— Тоже четыреста рублей. Члены партии не соглашаются на зарплаты, превышающие зарплаты обычных граждан. — Неожиданно ее голос дрогнул, но затем девушка твердо добавила: — Мы не несчастны.
— Даже если вам придется стоять в очередях, как этим людям?
— Что ж, встану в очередь.
Адил-бей пытался докопаться до чего-то иного. Мысли скакали в его голове, вызывая легкое головокружение, и он ляпнул первое попавшееся:
— Признайте, что вы принадлежите ГПУ!
— Я принадлежу партии.
Когда консул отсылал посетителей, у него не было никаких конкретных идей, и уж он точно не планировал этот нелепый разговор. Но ему было жизненно необходимо увидеть лицо Сони без этой вечной маски уверенности.
— Сколько вам лет?
— Двадцать, вы знаете.
— Почему вчера вы пошли с этим мужчиной?
— А почему бы мне было с ним не пойти?
— Вы его любите?
— А вы любите госпожу…
Соня не назвала имени, но ее взгляд красноречиво остановился на двери спальни.
— Это разные вещи.
Турок был смешон, отвратителен, и он страдал от этого, страдал до такой степени, что каждая пора у него на лбу сочилась потом. Сведенные брови, бегающие глаза. Мужчина стоял позади Сони, и он чуть было не обнял ее, чуть было изо всех сил не прижал к груди, не начал бормотать неизвестно что.
Но он не осмелился. Это было невозможно, и Адил-бей с ненавистью посмотрел на оба закрытых окна в доме напротив, на раскаленную улицу, на клочок пронзительного синего неба и на свой кабинет — пустой и мертвый.
Тогда он решил сменить тон и небрежно бросил:
— Вы отказались от мысли найти мне приходящую домработницу?
— Я по-прежнему ищу.
— Но вы отлично знаете, что не сможете ее найти.
— Это очень сложно.
— Потому что я иностранец, не так ли? А на любого русского, работающего у иностранца, станут косо смотреть! Он даже рискует навлечь на себя подозрения и заинтересовать ГПУ!
Соня улыбнулась.
— Осмельтесь сказать, что это неправда!
Она отреагировала совершенно не так, как он хотел. Адил-бей надеялся увидеть, как она плачет.
— Послушайте, Соня…
— Я слушаю.
Разве она не должна была ему помочь? Для этого секретарше не требовалось ни говорить, ни совершать каких-либо движений. Достаточно, если бы она потеряла хоть капельку своего спокойствия, стала чуть менее уверенной в себе, не такой, как обычно. Быть может, именно для того, чтобы не поддаться слабости, избежать опасности, Соня вновь заняла свое место в кабинете?
— Вы меня ненавидите!
— Нет, — ответила девушка. — За что мне вас ненавидеть?
— Что вы обо мне думаете?
— Я думаю, что вам было бы лучше вернуться на родину.
Консул задохнулся.
— Вы хотите сказать, что я не способен жить здесь, что я позволил всем этим вашим организациям выбить меня из колеи, что я испугался тайны, которой они себя окружили? Я знаю, что вы думаете! Но я много испытал в этой жизни, поверьте мне! Я полагаю, вы слышали о Дарданеллах? Я провел там целых три года, сидя в плохо вырытых окопах, в которых мы порой передвигались по нескольким слоям трупов! Там не было ни прислуги, ни даже сгущенного молока…
Соня смотрела на консула со своей несокрушимой серьезностью. Она могла бы улыбнуться бахвальству турка, которое прорвалось столь внезапно. Но нет! Она наблюдала за своим собеседником с вежливым любопытством.
— У меня в основании черепа застряла пуля, и ее невозможно извлечь, А знаете ли вы, каким образом во время революции я присоединился к Мустафе Кемалю[4], находившемуся в Малой Азии? Мы влезли втроем в шестиметровый каик и в течение долгих недель болтались по Черному морю. И все это случилось в разгар зимы.
Ему было просто необходимо рассказать Соне обо всем этом, потому что он знал; сегодня у него серая кожа, опущенные плечи. Но порыв прошел, и консул больше не находил слов.
Почему она все время молчит?
Он гордо застыл у окна, чтобы восстановить дыхание и позволить успокоиться крови, бурлящей в венах. Когда Адил-бей повернулся, секретарша разбирала свои утренние записи.
— Соня!
— Да.
— Сегодня ночью мне было очень грустно.
— Почему?
— Потому что ваша постель пустовала. А я не понял.
— Чего вы не поняли?
— Что вы пошли с этим мужчиной. Сколько раз вы поступали подобным образом?
— Я не знаю.
— А с каких пор?
— Приблизительно уже два года.
Он смотрел на ее профиль и думал о самых разных вещах: о четырехстах рублях, которые она зарабатывала, о трапезе, состоящей из черного хлеба и чая, о железной кровати в комнате ее брата, о ее невестке и о воде, за которой она каждое утро, как и сам Адил-бей, выходила на лестничную клетку…
И между тем ее платье было отлично сшито, а выражение ее лица оставалось уверенным и спокойным!
Все как на прошлой неделе: в ближайшие часы следовало ждать грозу. У неба больше не было цвета. Теплый туман окутывал город, и легкие вдыхали слишком густой воздух.
— Что с вами, Адил-бей?
Мужчина сорвал пристегивающийся воротничок и галстук и теперь стоял, такой нелепый, прямо посреди кабинета.
— Вам необходимо сесть.
А вот этого он делать точно не хотел, потому что турок до сих пор не отказался от идеи обнять ее. Время от времени он решительно приближался к секретарше, но затем отступал.
Зазвонил телефон. Соня послушала, а затем просто протянула трубку Адил-бею.
— Нет… Нет… — бурчал консул в аппарат. — Это невозможно… Я плохо себя чувствую… Нет, я не могу никого видеть!.. Я вам говорю: нет, я хочу остаться один, забиться в угол, как больной пес… До свидания…
Это была Неджла!
— Вы действительно плохо себя чувствуете? — бесстрастно поинтересовалась Соня.
— Я уже ничего не знаю.
Он явно не чувствовал себя хорошо. Он страдал от жары. Он не хотел есть, однако у него в желудке начались рези.
— Знаете, что вам следует сделать? Пойти на пляж и искупаться. А затем неспешно прогуляться до ботанического сада, которого вы еще не видели и который, по словам иностранцев, является одним из самых красивых парков мира. Даже если вы пойдете кратчайшим путем, вам придется преодолеть не менее шести километров.
— И что потом?
— После этого вы сильно устанете и будете крепко спать.
— Вы сами, вы уже следовали этой программе?
— Да.
— И вы гуляли совсем одна?
— Почему бы и нет?
Он бы дал ей пощечину. Сама идея — пройти в одиночестве двенадцать километров по палящему солнцу, и все для того, чтобы посетить ботанический сад!..
— Разумеется, вы откажетесь меня сопровождать?
— Да, я буду обязана отказаться.
— Потому что это грозило бы вам неприятностями?
— Это не совсем так.
— В конечном итоге мы возвращаемся к тому, с чего начали! Все из-за того, что я иностранец! Вы бы вызвали подозрение! О! Я начинаю понимать! Там, в баре, я видел женщин, которые могли себе позволить уйти вместе с моряками. Но я также знаю, что они работают на ГПУ Признайте очевидное!
— А почему бы и нет? Иногда им приходится отвечать на вопросы милиции.
— И вам тоже?
— Я этого не говорила.
— Но вы не осмелитесь утверждать обратное! Этой ночью убили человека, всего в пятидесяти метрах от меня.
Соня с любопытством посмотрела на собеседника.
— Тот, кто стрелял, носил зеленую фуражку.
— А что, у вас полиция никогда не стреляет?
— Может быть, и стреляет. Но существует огромная разница: у нас очевидцы происшествия реагируют, пытаются выяснить, что произошло. Вчера же присутствующие даже с места не сдвинулись.
— Их это нисколько не интересовало.
На лице девушки промелькнула тень улыбки, быть может, только в ее ясных глазах, но она появилась. И, по крайней мере, это немного смягчило обезоруживающую простоту ответа.
— Соня…
— Вы сегодня уже в третий раз произносите мое имя, но не продолжаете фразу.
— Вы хотели бы, чтобы я продолжил?
— Нет.
И он тоже улыбнулся. Впервые напряжение несколько ослабло. Вдруг у Адил-бея появилось ощущение, что они не так далеки, как ему это казалось.
Раздался шум закрываемых ставней. Запасы кооператива были исчерпаны, и Адил-бей увидел, как приблизительно сорок человек побрели прочь с пустыми сетками. Так случалось каждый день.
— Я забыла поговорить с вами о стирке вашего белья, — произнесла девушка, вставая.
Окно напротив открылось. Колин пришел домой первым, его зеленая фуражка уже устроилась на вешалке. Он зажег сигарету, вернулся в полумрак комнаты, разобрал пакеты с едой, которые разложил на столе. Он даже взгляда не бросил в сторону окон консульства.
— Этим утром вы его видели? — спросил Адил-бей.
— Конечно.
— И он вам ничего не сказал?
— А что он должен был сказать? По поводу белья: вам просто надо отдать его мне, и я отнесу его в прачечную вместе с нашим. Сегодня как раз день стирки. Где оно?
Дверь между комнатой и спальней осталась открытой. Постель была разобрана, а пижама Адил-бея валялась на полу. Секретарша подобрала ее.
— В этом шкафу?
— Да… Соня… Я хотел бы задать вам один вопрос…
— Опять по поводу этой ночи? Я вас не понимаю. Вы придаете значение вещам, которые того не стоят, это просто нелепо.
— Это не касается того молодого человека.
— Тогда кого это касается?
— Меня… Если я попрошу вас…
Он говорил очень тихо, потому что все окна были открыты, и консулу казалось, что их могут услышать в доме напротив. Соня держала в руке охапку белья. Он стоял у нее на пути, загораживая проход. Адил-бей слышал, как вернулась госпожа Колина, как зазвенели тарелки.
— Поспешите, мои родственники уже садятся обедать.
Это был конец. Она уходила. Еще несколько секунд, и будет чересчур поздно.
— Если я попрошу вас, однажды вечером…
Она не позволила ему закончить.
— Это было бы слишком сложно! — вздохнула секретарша и направились к двери.
Она не сказала «нет». Не рассердилась. Не начала смеяться. Между окнами спальни и первым окном кабинета тянулся отрезок глухой стены. Соня догадалась, почему Адил-бей все время оставался именно в этой точке пространства, там, где она должна была пройти, и там, где их не могли увидеть из дома напротив. Но она не отступила.
— Соня!
Он обнял девушку, настолько взволнованный, что даже не решился ее сразу же поцеловать. Он обнимал ее за плечи. Они казались такими худенькими. Ее тело не отличалось плотностью. Он наклонился к ее шее, потерся щекой о нежную кожу, приподнял тонкие светлые волосы и удивился, почувствовав, как она поддается его напору.
— Соня…
Он коснулся ее губ. Затем прижался сильнее и чуть было не потерял равновесие, так сильно Соня откинулась назад. Когда она отпрянула, смущенный мужчина остался стоять неподвижно. Она так и не выпустила из рук тюк с бельем. Девушка как-то странно улыбнулась, пригладила волосы ладонью.
— Почему вы душитесь? — спросила она.
— Это одеколон. Вам не нравится?
— Не знаю. Я купила для вас копченую рыбу и овечий сыр.
Она больше не находилась под защитой стены. Через окно Соня посмотрела на брата и невестку, которые уже приступили к обеду.
— До скорого свидания.
Оставшись в одиночестве, Адил-бей не ощутил себя ни счастливым, ни даже веселым. Он открыл пакеты, которые его секретарша положила на стол, но вид еды не вызвал у него никакого аппетита.
Он услышал шаги Сони, пересекающей улицу, но даже не наклонился, чтобы взглянуть на девушку.
Колин намазывал маслом черный хлеб, шумно прихлебывал чай, а его жена оживленно болтала, без сомнения, подробно рассказывая о том, как прошло ее первое рабочее утро.
Соня вошла в комнату, положила белье в угол, бросила на кровать черную шляпку и села на свое обычное место, спиной к окну.
Должно быть, разговор коснулся Адил-бея, потому что Колин несколько раз повернул голову в сторону консульства, но при этом на его лице нельзя было прочесть ни малейшей заинтересованности.
Почему госпожа Колина смеялась? Она не улыбалась. Она смеялась! Над чем? Над тем, что произошло утром?
И почему ее муж, вместо того чтобы есть, начал что-то писать в своем блокноте?
Они были там, все трое, в прохладе комнаты, рассевшиеся вокруг стола. Все с аппетитом уплетали свой скудный обед, прямо рядом с двумя кроватями и умывальником, который соседствовал с книжными полками. У Колина была странная привычка: между двумя бутербродами он пару раз затягивался папиросой, лежащей на подоконнике.
Неужели Соня ни разу не обернется? Адил-бей следил за ней. Он ждал. Он затаился в глубине комнаты, и легкий трепет девичьей шеи, который он ощутил, несмотря на разделявшее их расстояние, подсказал консулу, что секретарша намерена совершить какое-то движение.
Она действительно обернулась с полным ртом, несколько секунд смотрела, не видя его, потом ее взгляд уперся в стол с нетронутой едой, и глаза Сони стали такими изумленными, как будто она спрашивала: «Почему вы ничего не едите?»
Это длилось всего две секунды, затем в сторону консульства взглянул ее брат, а невестка опять залилась смехом, и Адил-бей, наконец-то выбравшийся из своей норы, подошел и закрыл окно.
Он чувствовал себя униженным. Он чувствовал себя полным ничтожеством. Недоверчиво, словно боясь увидеть чье-то чужое лицо, консул заглянул в зеркало, и у него создалось впечатление, что он действительно болен.
Внезапно турок сел за стол и написал письмо в Стамбул, заказывая небольшое количество брома.
6
Впоследствии Адил-бей часто думал о тех минутах, о Соне, которая повернулась, чтобы найти его взглядом, а затем продолжить трапезу, о ее брате и невестке, которые, в свою очередь, тоже смотрели на него, он — бесстрастно, она — едва сдерживая смех.
Это были минуты, ознаменовавшие конец целой эпохи и начало другой, но тогда консул еще не знал этого и сердито ворчал, потому что гроза никак не начиналась.
Ему не хотелось работать. Когда Соня вернулась, турок остался за закрытыми дверями в спальне: он сидел на краю кровати и надеялся, что секретарша поинтересуется, что с ним случилось. Но ничего не происходило, и вот в четыре часа он провел расческой по волосам и вошел в кабинет.
— Вы спали? — спросила Соня.
— Нет.
В первую же секунду консул почувствовал что-то необычное, но он не понял, что именно. Когда Адил-бей уселся за письменный стол, он посмотрел на свою помощницу, которая усердно работала, и задумался о том, почему он напускает на себя такой хмурый вид.
Потому что Соня была веселой, очень веселой. Это не сразу бросалось в глаза. Девушка писала, как обычно, состроив мину прилежного ребенка. Но ее глаза смеялись, и, когда она подняла голову, Адил-бей увидел в них золотые искры.
Он ни разу не замечал в ней подобной веселости, радости, идущей из самой глубины души. Соня не насмехалась над чем-то или над кем-то: она просто улыбалась людям, в том числе и Адил-бею, который вернулся в спальню, чтобы изменить выражение своего лица.
Три… четыре раза он возвращался в кабинет и снова уходил, мимоходом глядя то на тонкую и белую шею Сони, выраставшую из прорези черного платья, то на ее руки, то снова пытаясь разглядеть искры в глубине ее глаз.
В пять часов она встала, чтобы привести в порядок документы, и к этому времени они не обменялись даже тремя фразами. Как обычно, в половине шестого девушка взяла свою шляпку, но перед тем как выйти за дверь, решительно повернулась к Адил-бею.
Она отлично знала, что увидит. Консул сделал шаг вперед, смущенный, решительный, несчастный. Он хотел обнять ее за плечи и увлечь в ту же часть комнаты, где они стояли утром.
— Послушайте, Соня…
Она стояла очень прямо, обе руки сомкнуты на ручке сумки, и сейчас она особенно походила на ребенка.
— Вам это действительно нужно? — Затем, тем же тоном, протягивая правую ладонь к дверной ручке, добавила: — Ждите меня этим вечером. Свет не включайте.
После чего турок увидел, как она вернулась с пляжа и села ужинать вместе с братом и невесткой. Они зажгли лампы и закрыли окна.
Адил-бей в полной темноте мерил шагами консульство, иногда садился, но почти тут же снова вскакивал. И Соня пришла. Он сразу узнал ее шаги. Она открыла дверь, а перед тем как закрыть ее, наклонилась, чтобы осмотреть коридор. Он видел лишь пятна ее лица и шеи, а также абрис рук. В доме напротив по-прежнему горел свет. Получившие долгожданную свободу, с неба упали первые капли дождя.
Адил-бей ничего не говорил, не двигался, а Соня положила сумку на письменный стол, сняла шляпку и, наконец приблизившись к мужчине, сообщила:
— А вот и я!
Сколько раз она появлялась за те две недели? Быть может, десять? У Адил-бея появилась привычка подстерегать любовницу, когда та уходила с работы вечером. Соня с неизменной улыбкой кивала головой в знак согласия или же говорила:
— Нет.
И, когда она говорила «нет», она уже не слушала никакие мольбы. Нет — значит, нет!
Она приходила, когда становилось совсем темно. Уходила, когда ее брат покидал место у окна, где он каждую ночь курил перед сном.
В тот первый вечер кто-то постучал во входную дверь, и они оба застыли в темноте, слушая, как удаляются шаги непрошеного гостя. Чуть позже зазвонил телефон, и Соня помешала мужчине ответить.
Несмотря на дождь, окна напротив были открыты, а когда госпожа Колина легла, Колин остался дышать прохладным воздухом в одиночестве.
Они все находились почти на расстоянии вытянутой руки. Соня была спокойна, настолько спокойна, что Адил-бей спрашивал себя, почему она пришла.
Сам он дрожал, обнимая ее, снимая черное платье, дрожал, увидев это еще совершенно не сформировавшееся тело, которое ему демонстрировали без малейшего кокетства или страсти.
— Почему вы так взволнованы?
Он видел ее глаза всего в нескольких сантиметрах от своего лица, и эти глаза смотрели на него с любопытством, в них отражалась напряженная работа мысли.
— Странный вы человек!
Она сказала это много позднее, завязывая шнурки ботинок, в то время, когда Адил-бей почувствовал настоятельную потребность прижаться лбом к холодному стеклу.
Сейчас, по прошествии трех недель, он знал о ней больше? Он стал счастливее или несчастнее? Он часто наблюдал за ней в течение рабочего дня, а она оставалась спокойной и собранной, и Адил-бей не чувствовал между ними никакой связи.
Он также наблюдал за ней, когда Соня усаживалась за стол там, на другой стороне улицы; он наблюдал за Колиным и его женой, и они беспокоили консула все больше и больше. Неужели они ничего не знали? А если знали, то почему Колин продолжал рассматривать консульство с таким равнодушием?
Он пытался перейти с Соней на «ты», но это оказалось невозможным. Часто, сжимая девушку в объятиях, он испытывал внезапную тревогу, и она отражалась у него на лице.
— Что с вами? — спрашивала Соня, улыбаясь.
Что с ним? Он страдал оттого, что она находилась здесь, рядом с ним, но при этом они не были по-настоящему близки!
— Вы меня не любите, Соня.
— Это зависит от того, что вы называете любовью.
А ведь она бывала нежной, порой необыкновенно ласковой! Турок почти перестал выходить на улицу. Зато однажды в десять часов утра в консульстве появилась Неджла Амар и воскликнула:
— Это так-то вы меня навещаете?
В кабинете толпился народ. Растерявшийся Адил-бей посмотрел на Соню, которая, продолжая делать карандашные пометки в документах, указала глазами сначала на посетительницу, затем на дверь спальни.
— Вы знаете, что мой муж возвращается уже на следующей неделе?
— Разве не вы должны были мне позвонить?
— Нет. Согласитесь, я была вправе рассчитывать услышать ваш голос!
Кто звонил тогда, в тот первый вечер? Кто приходил и стучал в дверь?
— Я не знаю, что с вами происходит, Адил, но мне кажется, что вы изменились.
Она сняла шляпу, перчатки, посмотрела на себя в зеркало.
— Чем вы занимались все эти дни?
— Ничем особенным.
— Вы меня даже не поцелуете?
По ту сторону двери Соня выслушивала посетителей. Персиянка ушла лишь через два часа, весьма недовольная. Они почти поссорились.
— Признайтесь, вам наговорили обо мне кучу гадостей! — выкрикнула она в какой-то момент.
— Я клянусь вам…
— Кого вы видели?
— Никого.
— А меж тем вас заметили в «Баре»!
— Я был там всего лишь раз.
Когда Неджла пересекла кабинет, Соня даже не посмотрела в ее сторону. Адил-бей вернулся на свое место. Секретарша указала консулу на мужчину с внешностью пирата, примостившегося в углу комнаты.
— Он хочет говорить с вами лично.
— Подойди! — велел консул.
— Когда вы закончите с другими посетителями.
Соня, как обычно, делала какие-то пометки.
— Сейчас твоя очередь.
Мужчина окинул девушку многозначительным взглядом и проворчал на турецком:
— Вы думаете, мы можем говорить при ней?
Соня поняла. Она ждала распоряжения, уже намереваясь подняться.
— Останьтесь. Ты можешь говорить.
Наконец мужчина протянул Адил-бею невероятно грязные документы, которые он хранил под рубашкой.
— Это твой паспорт?
— Нет. Это паспорт человека, который умер. Он мне сказал, если с ним случится несчастье, я должен буду принести документы сюда, чтобы вы сообщили его сестре, проживающей в Смирне.
Соня поняла, что ей не стоит ничего записывать, и, воспользовавшись паузой, начала сортировать бумаги.
— Объясни.
Мужчина подошел к двери и приоткрыл ее, дабы удостовериться, что их никто не подслушивает.
— Я переправлял в Анатолию шестерых, мы шли горными тропами. В ту секунду, когда мы почти достигли цели, раздались выстрелы, и один из шести остался там.
— И многих ты переправил этим путем?
Горец не ответил, подхватил меховую шапку и вышел, пробурчав:
— Вы позаботитесь о документах?
Утро закончилось. Кабинет был пустым и грязным. Соня нацепила свою шляпку.
— Вы не сердитесь? — спросил Адил-бей.
— С какой стати?
— Из-за этой женщины.
— Вы не могли поступить иначе. Я прошу у вас разрешения не приходить во второй половине дня, сегодня в порт прибывает эскадра.
— Хорошо.
Разве он мог поцеловать ее или сказать что-нибудь нежное, когда она стояла перед ним такая прямая, такая отстраненная? Впрочем, турок думал о мужчине, покинувшем консульство, а также о Неджле, чьи духи так портили ему настроение.
— До завтра, Адил-бей.
— До завтра.
Всю вторую половину дня его буквально швыряли с одной улицы на другую, как некий инородный предмет. Адил-бей ничего не знал о празднике, разворачивающемся вокруг него. Стоило консулу выйти на перекресток, расположенный около его дома, как ему преградила дорогу конная милиция.
Тогда турок двинулся другим путем. Вдоль тротуаров по всей длине главной улицы выстроился двойной кордон зевак, из всех окон свисали красные флаги. Между домами протянулись красочные транспаранты с надписями. Где-то на высоте крыш реяло многометровое полотнище с чудовищно увеличенным портретом Сталина.
В тот момент, когда стало возможным различить нечто, напоминающее передовые колонны шествия, очередные конные милиционеры с хлыстами в руках принялись, не произнося ни слова, оттеснять зрителей от дороги. Так Адил-бей оказался зажатым у входа в какой-то подъезд.
Он не видел почти ничего: мимо проплывали ряды людей с флагами, с многочисленными транспарантами, с изображениями Ленина. Продефилировал оркестр, за ним двинулись моряки, все в белом, с синими воротниками и длинными лентами на бескозырках.
Никто не кричал. Никто ничего не говорил. Лишь музыка нарушала гробовую тишину улицы.
Когда процессия прошла, толпа всколыхнулась. Самые любопытные устремились в том же направлении. Издалека Адил-бей заметил эстраду, обтянутую красным бархатом, но его вновь оттеснили, и турок оказался на берегу моря.
Среди иностранных сухогрузов на рейде красовались пять военных кораблей. На блестящей глади воды жужжали сторожевые катера. Молодые люди заканчивали украшать фасад Дома профсоюзов и клуба электрическими лампочками, складывающимися в гигантские буквы.
Адил-бей подскочил, услышав в метре от себя резкий звук клаксона.
Он даже отпрыгнул в сторону, в то время как Джон, сидящий за рулем только что остановившегося автомобиля, заметив испуг консула, разразился идиотским смехом.
— Как дела?
Американец был небрежно одет, его лицо раскраснелось.
— Вы идете в эту сторону? Садитесь…
Он уже открыл дверь, и Адил-бей не осмелился отказаться.
— Вы не приглашены на банкет? Этим вечером они дают праздничный ужин с балом, и все в честь офицеров флота.
Никогда нельзя было понять, шутит ли Джон или говорит серьезно.
— Для начала они одного расстреляли!
— Кого одного?
— Одного типа! Все это происходит прямо рядом с моим домом, во дворе казармы ГПУ Его привезли около двух часов. Он казался совершенно обалдевшим. Его поставили к стене и всадили в тело несколько пуль. Кажется, он был горцем, помогавшим незаконно пересекать границу всем желающим…
Они подъехали к нефтеперерабатывающему заводу.
— Где вы хотите, чтобы я вас высадил?
— Здесь.
Адил-бей стал мертвенно-бледным. На мгновение он в нерешительности застыл у подножки машины.
— У него были усы? — с трудом выдавил из себя консул.
— Великолепные черные усы, какие носят все крестьяне.
— Благодарю вас.
— Как там Неджла?
Но Адил-бей больше не слушал собеседника. Он шел быстрым шагом по самому солнцепеку, а в голове у него шумело, как будто вокруг кружилось целое облако мух. Его вновь остановил заградительный патруль, но, немного попетляв, Адил-бей оказался перед зданием, где он обычно встречался с главой управления по делам иностранцев. Входная дверь оказалась открытой. Все внутренние двери тоже. Меж тем он тщетно бродил по коридорам, звал, заглянул в десять или двенадцать кабинетов: консул никого не нашел.
Когда он вновь очутился на улице, торжественная часть праздника уже закончилась, толпа хлынула в разные стороны, и на этот раз в ее ряды влились сотни моряков, разгуливающих по трое или четверо; все с бритыми затылками, румяные, эти молодые парни производили впечатление хорошо питающихся людей.
Все они были светловолосыми, высокими, с широкими плечами, немного полноватыми. Парни с Севера, с берегов Балтийского моря, и они улыбались городу, солнцу, красным знаменам и транспарантам.
Это был настоящий праздник! Некоторые из моряков уже прогуливались с девушками в белых платьях и туфлях. Эти барышни работали в порту и на нефтеперерабатывающем заводе.
Адил-бей искал Соню. Он вернулся в консульство, чтобы убедиться, что ее нет дома, но окна Колиных оказались закрытыми.
Тут мужчина принял весьма неожиданное решение и несколькими минутами спустя уже звонил в дверь консульства Италии.
— Передайте, пожалуйста, мою визитную карточку господину Пенделли.
Все собрались на террасе. Слуга попросил гостя подняться, и госпожа Пенделли встретила его лично — сама доброта и сердечность, как будто между ними никогда и не возникало никакого недоразумения. Пенделли по такому случаю даже вылез из кресла, где он сидел, развалившись, облаченный в костюм из кремовой ткани. Сзади раздался жеманный голос:
— А я? Со мной вы не будете здороваться?
Это была Неджла, грызущая печенье.
— Вы слишком долго на нас дулись, — пробормотал Пенделли, но в его голосе не чувствовалось явной иронии.
Терраса была очень светлой. Как и в первый раз, итальянцы подавали чай. Адил-бей заметил, что на балконе рядом с советским стягом соседствует флаг Италии.
— Вы вывешиваете флаги? — удивился турецкий консул.
— Это вынужденная мера. С тех пор, как наше правительство признало Советы! А вы?
— Я не знал. Я пришел, чтобы спросить вас…
— Чашечку чая? Оранжад? — предложила госпожа Пенделли, чьи плечи потемнели от солнечных лучей.
— Спасибо. Кажется, расстреляли одного человека. Он подданный моей страны. А сегодня утром он приходил ко мне в кабинет.
Пенделли прикурил тонкую сигарету и с самым безразличным видом выпустил дым прямо перед носом Адил-бея.
— Что вы хотите знать?
— Прежде всего, правда ли это. Затем…
Пенделли нажал на кнопку звонка. Вошел служащий в роговых очках, и консул заговорил с ним на итальянском языке. Служащий бросил быстрый взгляд на Адил-бея и утвердительно качнул головой.
— Это правда, — сказал консул. — Его арестовали на перроне вокзала, где он ожидал поезд на Тбилиси.
— Присядьте, пожалуйста, — настаивала госпожа Пенделли.
Адил-бей машинально сел. Но он не мог оставаться на одном месте. Ему было необходимо успокоиться. После того как служащий вышел, турок признался, затравленно оглядевшись:
— Этим утром он рассказал мне, что переправляет через границу тех, кто хочет попасть в Турцию.
— Ну и что?
— Он доверил эту тайну только мне, в моем кабинете.
— Вы были одни?
— Да, один. Разумеется, со мной была еще секретарша…
Неджла расхохоталась.
— Сестра начальника приморского отдела ГПУ! — бросила она.
Пенделли пожал плечами.
— Что вы хотите, чтобы я вам сказал?
— За этим человеком могли следить уже давно, вы так не думаете?
— Нет.
— Почему?
— Потому что ему бы никогда не позволили попасть к вам.
— Вы не хотите попробовать пирожное, Адил-бей?
— Нет, мадам. Извините меня. Я впервые…
— Слышите о расстрелянных, — вздохнул Пенделли. — Увы, мой бедный друг, но здесь каждый месяц исчезает по нескольку человек. И вы полагаете, что это кого-нибудь беспокоит? Вот еще! Отец, который видит, как арестовывают сына, и то не позволяет себе спросить: «За что?»
— И что бы вы сделали на моем месте?
— Ничего. Этот человек уже умер, не так ли? Будьте полюбезнее со своей секретаршей и никогда не говорите с ней об этой истории.
Вот уже несколько минут Неджла внимательно наблюдала за Адил-беем.
— Возможно, наш друг и так слишком любезен с ней, — процедила она с недоброй улыбкой.
— Что вы хотите этим сказать?
— Что она довольно миленькая и что я впервые вижу, как русская машинистка занимается домашним хозяйством своего патрона.
Пенделли улыбнулся своей сигарете.
— Не стоит дразнить Адил-бея, — сказала его жена. — Вы же отлично знаете, что он не любит шутки.
— В любом случае, — закончила Неджла, — если это не шутка, он еще со всем этим не разобрался!
— Знаете, что вам следует сделать прежде всего?
На сей раз в голосе Пенделли не было иронии. Чувствовалось, что он говорит серьезно.
— Поспешите к себе домой и поднимите красное знамя.
— Я благодарю вас. Извините за вторжение…
— Да что вы! Да что вы! Этот дом всегда открыт для вас.
И неважно, что, оказавшись на улице, Адил-бей услышал взрыв смеха Неджлы, которому вторил приглушенный голос консула:
— Тише! Он может вас услышать.
— А мне-то какое дело? — возразила персиянка.
Конная милиция возвращалась с демонстрации. Лошади шли рысью по узким улочкам, содрогающимся от цокота копыт. Матросы с синими воротниками, девушки в белых платьях — целая толпа устремилась к порту, купающемуся в лучах солнца, и Адил-бей должен был прорваться сквозь эту толпу, чтобы вернуться в консульство и поднять советский флаг.
В этот раз окно напротив оказалось открытым. Соня стояла перед зеркалом, примеряя новое платье, а ее невестка опустилась на колени и, зажав во рту булавки, делала последние стежки. Платье было сшито из черного атласа и отделано жесткими воланами.
Услышав шум поднимаемого флага, Соня повернула голову и улыбнулась. Но ее улыбка была мимолетной, едва заметной, потаенной, почти сразу же она сошла с губ девушки, и Соня что-то сказала своей невестке, которая поднялась и закрыла окно.
На улице по-прежнему гремел духовой оркестр, и Адил-бей едва не пропустил телефонный звонок. Когда он поднял трубку, на том конце провода молчали.
7
Он не шелохнулся, на его лице не появилось даже слабой улыбки, когда госпожа Пенделли, убиравшая карты в шкатулку, сказала:
— А знаете ли вы, Адил-бей, что становитесь очень сильным игроком в бридж?
Пенделли отодвинул кресло, откинулся на спинку и зажег сигарету с розовым кончиком. Именно в это время он обычно прикрывал глаза, зевал, вздыхал, и так продолжалось до тех пор, пока кто-нибудь первым не откланивался, подавая сигнал всем остальным. Но на сей раз итальянец сам предложил Джону, как обычно, щеголявшему расстегнутой рубашкой:
— Налейте себе еще виски.
В огромной фаянсовой печи горел огонь. За окном слышался шепот дождя, а иногда раздавался резкий всплеск — это опустошался водосток. Гостиная была освещена керосиновыми лампами, так как электричество в этот час обычно отключали.
— Нашего персидского друга отправили утренним поездом? — спросил Джон, наливая себе выпить.
— В купе с еще двумя попутчиками, — ответил Пенделли с безмятежной улыбкой. — Знаете ли вы, сколько драгоценных ковров он сумел переправить по ту сторону границы менее чем за год? Сто восемьдесят! И я не говорю о самоварах, иконах и прочих предметах искусства.
Он повернулся к Адил-бею.
— Именно помогая этому пройдохе, попался ваш служащий Фикрет. Они обсуждали очередное дельце прямо в этой гостиной, облокотившись о камин. Вы помните? А уже на следующий день Фикрет сгинул безо всякого шума, и больше о нем никто ничего не слышал. Что касается Амара, то Советы попросили персидское правительство срочно отозвать их представителя, так что сегодня утром он уехал. С почетным эскортом.
— А это правда, что его жена осталась? — осведомилась госпожа Пенделли.
— Да, она и не жена ему вовсе, а так, некое создание, которое он подобрал в Москве, когда работал секретарем в дипломатической миссии. Именно поэтому она не смогла последовать за ним в Персию.
Воздух в комнате был теплым и приятным. В нем клубилась сонная дымка, а два карамельно-розовых абажура создавали атмосферу особого уюта. Пенделли вытянул ноги, сладко потягиваясь.
— Еще один день! — воскликнул он.
— Вы проведете Рождество в Италии?
— «Авентино» прибывает в Геную двадцать второго числа, а двадцать третьего мы уже будем в Риме.
Именно Генуе, Риму, родному дому предназначалась его улыбка.
Итальянский консул на два месяца уезжал в отпуск, и этого оказалось достаточно, чтобы прогнать его обычную сонливость и заставить равнодушно поразглагольствовать о положении дел в России. Более того, Пенделли испытывал потребность в таком разговоре, ведь он подчеркивал всю прелесть скорого отъезда.
— Вы вернулись из Новороссийска, Джон? Это правда, что на прошлой неделе там съели каких-то детей?
— Если быть точным, — начал Джон, — то в милицию поступил донос. Стражи порядка отправились по указанному адресу и обнаружили мужчину, сидящего в погребе, а рядом с ним находились кадки для засолки мяса, в которых хранились останки его жены и дочери. Он яростно отбивался, защищая то, что почитал своим добром, и его пришлось застрелить. Бедняга сошел с ума.
— Что вы скажете об этом, Адил-бей?
— Ничего не скажу.
— Наш друг Адил сильно изменился за эти три месяца, — восхитилась госпожа Пенделли. — В первые дни я полагала, что он не выдержит. Однако он адаптировался. И мне кажется, он даже немного поправился.
И это было правдой. Турок растолстел. Но эту полноту трудно было назвать признаком здоровья. Его тело стало неповоротливым и рыхлым, как будто он постарел, а его взгляд — тяжелым и мутным.
— Короче говоря, вы остаетесь единственным представителем консульского корпуса!
Адил-бей изобразил вежливую улыбку. С тех пор как он стал каждую неделю приходить к итальянцам на вечернюю партию в бридж, госпожа Пенделли была чрезвычайно мила с ним. Казалось, она взяла турка под свою защиту и запретила мужу его дразнить.
— Мы намереваемся вас покинуть, — сообщил Джон, опустошая свой стакан. — Я полагаю, что мы еще увидимся до вашего отъезда? Впрочем, я буду на корабле. А вы придете, Адил?
Американец, как обычно, выглядел полупьяным. Они надели плащи и калоши, а затем побрели по грязи, поливаемые непрекращающимся ливнем. С начала осени дождь шел каждый день, и ни единого просвета, ни одного лучика солнца — некоторые улицы превратились в горные реки.
— А скажите-ка мне, Адил…
Время от времени фигуры в блестящих плащах сталкивались, потому что оба мужчины пытались одновременно обойти огромную лужу или потому что один из них поскальзывался.
— Я вас слушаю.
— Вы пьете, не так ли?
— Нет! А почему вы спросили об этом?
— Просто так. Зайдем ненадолго в бар?
Но Адил-бей хорошо знал, о чем думает Джон. Как сказала госпожа Пенделли, консул сильно изменился, и американец полагал, что во всем виновато спиртное.
Ничего подобного. Адил и сам не мог точно сказать, что происходит. Все началось со дня смерти турка, переправлявшего беженцев через границу. Сначала Адил-бей постоянно нервничал, затем внезапно стал совершенно спокойным, как будто в нем сломался какой-то механизм.
На следующий день он ничего не сказал Соне. Он вообще не разговаривал с ней на протяжении всего дня. В течение двух недель он ни разу не попросил ее прийти.
И вот в этом абсолютном одиночестве его лицо мало-помалу начало приобретать ту вялую невозмутимость, которую Джон и принимал за легкое опьянение.
Но это было нечто иное, и даже не равнодушие или предубеждение.
Сразу после приезда в Батуми Адил-бей направился к Пенделли, искренне надеясь стать частью их замкнутого мирка, но столкнулся с откровенной враждебностью. Затем он бродил по улицам, смешиваясь с толпой, но толпа отторгала иностранца, пропускала его сквозь себя, избегая любого контакта. Тогда он стал цепляться за Соню, цепляться безнадежно, яростно. Но именно с тех пор, как секретарша стала его любовницей, консул почувствовал, насколько она далека от него.
Быть может, все потому, что он был турком, а они — русскими или итальянцами?
Что касается персов, то к ним Адил-бей относился с особым недоверием!
А может, просто потому, что он был Адил-беем?
Так или иначе, но каждый раз, когда мужчина пытался жить так, как он жил всегда, как считал правильным, его жестоко отпихивали к стене.
В конце концов, сам того не желая, он стал вялым, безразличным, возможно, даже в большей степени чем те, кто его окружали. Все оказалось так просто! И он сам догадался об этом. Отныне Адил-бей носил свое одиночество повсюду, даже когда находился среди людей, когда посещал Пенделли или управление по делам иностранцев.
Одиночество стало дымовой завесой, в которой идешь, скрывая лицо.
Как же он сразу не понял, что в этом городе каждый прячется как может, запирает душу на замок? Джон прикрывался выпивкой. Пенделли забаррикадировались за высокими стенами буржуазного комфорта, который они смогли бы обустроить даже в пустыне.
И Соня! И Колин! Интересно, Колин, возвращаясь домой, хоть когда-нибудь откровенничает с женой?
В кооперативном ресторане каждый ел в своем углу, спрятав мысли за нахмуренными лбами. А толпа? Если только это стадо, кружащее у маленького человечка с его глобусом, можно было назвать толпой…
Он просто стал таким же, как все! Теперь и у него была своя норка, откуда он смотрел на людей с недоверчивостью зверя-одиночки.
Они по-прежнему шлепали по лужам, он и Джон, окутанные мокрой ночью, а когда подошли к бару, увидели трех девушек, съежившихся на пороге. Американец фамильярно махнул им рукой.
— Вы их знаете?
Они могли разговаривать, даже играть в бридж, но не доверяя партнерам, каждый за себя.
Отличные декорации, чрезвычайно мрачные, именно такие с некоторых пор начали нравиться Адил-бею: яркая вывеска, озарявшая небольшую часть грязной улицы, струи дождя, три девицы в резиновых сапогах, с потекшей от дождя косметикой, а дальше — черный порт, редкие огоньки судов и Джон, остановившийся на пороге и с иронией взирающий на Адил-бея.
Должно быть, они тоже отлично выглядели, что один, что другой: насквозь промокшие, осунувшиеся лица, больная от тоски плоть, и где-то в глубине души затаившееся предчувствие медленного, но неизбежного крушения! Они следили друг за другом. Они презирали друг друга. Джон посмотрел на девиц, затем на Адил-бея.
— Я знаю их всех, — заявил он.
У него был такой вид, будто он хотел пронзить взглядом все стены города и разом заглянуть во все его невидимые комнаты.
— Их сотни, Адил-бей! Посчитайте! Из расчета одна в день, и так на протяжении четырех лет…
Американец толкнул дверь и позволил швейцару забрать мокрый плащ. Адил-бей никогда не думал об этом. Он внимательно взглянул на своего спутника. И попытался представить Джона, растворяющегося в темноте улицы под руку с девицей.
— Вы расплачиваетесь с ними рублями?
— Они предпочитают доллары, потому что с долларами можно пойти в Торгсин, где не принимают советские деньги, но где есть хлеб и все остальное.
— Сотни! — повторил Адил-бей, который видел лишь нескольких девиц в баре и маленькую группку женщин на улице.
Мужчины так и остались стоять на фоне красных обоев, безразличные к остальному залу, в котором развлекались несколько моряков.
Почему Джон, как и Пенделли, разговаривал с Адил-беем с таким снисходительным видом?
— А еще есть сотни, которых я не знаю, прорва маленьких миленьких дамочек, типа вашей секретарши, с трудом зарабатывающих на жизнь, но всегда наносящих помаду на губы. Во времена вашего предшественника мы с ним частенько вместе шлялись по ночам. Иногда встречались, каждый в компании своей подруги, порой на одной улице, порой — в одном доме, порой — в одном коридоре. Я бы сильно удивился, если бы узнал, что эта малышка не прошла через его постель!
И снова зал был освещен желтым диском барабана. Яркими пятнами выделялись лишь белые скатерти на столах, и в этом полумраке скользили призрачные фигуры женщин в голубых или красных платьях, и когда они попадали в узкий круг света, ткань их одеяний напоминала разноцветные витражи.
— Виски?
— На ваше усмотрение.
Джон взглянул на спутника с ироническим удовлетворением, но Адил-бей даже не нахмурился, а целиком погрузился в созерцание желтого светящегося круга.
Мог ли он волочиться за женщинами, как американец? Или обустроить комфортабельную квартиру, как Пенделли? Он легко мог позволить себе и то, и другое. Так почему же он не делал этого?
Рядом раздался знакомый голос!
— Здравствуй, мой милый Адил!
Это оказалась Неджла, рассмеявшаяся при виде его удивления. Персиянка протянула руку.
— Я присяду, вы не против? Смотрю, вы в загуле, дрянной мальчишка? Официант, бенедиктину! А знаете, Адил-бей, что у меня к вам дело, причем официальное, как к представителю Турции!
Джон кровожадно улыбнулся, и Неджла призвала его в свидетели с непринужденностью старой приятельницы или даже сообщницы.
— Вы уже все ему рассказали?.. Так вот, Адил. Вы полагали, что я персиянка, но в действительности, несмотря на то что я родилась в России, я турчанка. Мой дедушка родом из Анкары, и звали его Ахмед. Надо, чтобы вы помогли мне собрать все необходимые документы для получения паспорта…
— Посмотрим, — ответил Адил-бей, опустошая стакан.
Турок лениво взглянул на Джона и Неджлу и задумался над тем, а смог бы он, например, набраться мужества и пойти танцевать. Еще год назад в Вене, там, где звучала такая же музыка и играл такой же светящийся джазовый оркестр, ему случалось танцевать всю ночь напролет.
А сейчас он больше ничего не хотел. Ни Неджлы, которую он мог увести в любую минуту! Ни других женщин, которых здесь крутилось предостаточно, и по меньшей мере две из них казались даже красивыми.
Возможно, все дело в том, что он просто невероятно устал?
— Когда я могу к вам прийти?
— Когда захотите.
— А ваша маленькая белая мышка по-прежнему при вас?
Консул не понял и с удивлением посмотрел на собеседницу.
— Ваша молоденькая русская секретарша! — уточнила Неджла, снова выразительно посмотрев на Джона.
— Да.
— Вы довольны?
— Чем?
— Ею!
Адил-бей равнодушно пожал плечами, не уступая самому Джону. Все это не имело смысла. Она говорила, просто чтобы говорить, а у него даже не было желания общаться. Он оцепенел от спиртного и музыки. Он мог сидеть так часами, но, увы, официанты уже убирали столики.
Они поднялись. Неджла хотела взять консула под руку, но он неторопливо освободился.
— Вы меня не проводите?
— Нет.
— А вы, Джон? Вы на машине?
— Нет.
Теперь им оставалось только уйти — каждому в свою сторону. На тротуаре у бара уже не было ни одной женщины. Вывеска погасла.
Адил-бей позволил дождю струиться по его лицу. Мужчина не смотрел под ноги, и его брюки промокли и перепачкались до самых коленей. Где-то справа от него шумело море, но его не было видно: ни единого отблеска на воде.
Он уже отлично знал улицы города и даже все подворотни, где ночью спали бездомные бродяги, прижавшись друг к другу, дрожа на холодном камне.
Он знал даже этих бродяг. Он знал все! Он заходил в кооперативы, в лавочки, в кабинеты чиновников.
Все это его не касалось. Он являлся консулом Турции и был обязан заботиться лишь о благе своих соотечественников.
Однако это стало страстью, потребностью. В глазах турка город представал живым существом, наделенным индивидуальностью, и вот это существо отказывалось принимать его, Адил-бея, или, скорее, оно просто не замечало мужчину, позволяя бродить в одиночестве, как паршивому псу.
Он возненавидел Этот город, как ненавидят женщину, которая поманила, а затем бросила. Он стремился выявить все его изъяны, разоблачить пороки. Печальная страсть, не приносящая ни капельки радости.
— Каждый имеет право на труд. Каждый может питаться досыта, — говорила Соня.
Но сама Соня была воплощением этого города! Холодная и скрытная, как и он! Она принимала его ласки, как по вечерам толпа горожан принимала его в свои объятия, позволяя прогуливаться от статуи Ленина до нефтеперерабатывающего завода.
Тогда, преисполненный подозрений, Адил-бей начал ходить на рынок. Там он смотрел на старуху в отрепьях, которая, стоя под дождем, на протяжении долгих часов предлагала прохожим три маленькие, наполовину сгнившие рыбины. Но она не отчаивалась. Быть может, у нее вообще никогда не было надежды?
— Сколько? — спрашивал Адил-бей.
Ведь он обзавелся учебником русского языка и словарем, которые турок не без умысла, с вызовом выложил посреди своего письменного стола. Он выучил несколько русских слов.
— Пять рублей, товарищ.
Сорокалетний мужичонка в течение целого дня пытался продать по одной двадцать папирос из раскрытой коробки.
На лице Адил-бея появлялась сардоническая улыбка, потому что он думал о раскормленных моряках, о Сонином клубе, о ее черном атласном платье, сшитом для бала, устроенного в честь военного флота, о ее уверенных ответах, о расстрелянном проводнике. И тогда он спешил вернуться в консульство. Он говорил, даже не оборачиваясь к девушке:
— Черное море богато рыбой, не так ли? В таком случае я могу предположить, что рыба в городе дешевая.
— Да, очень дешевая.
— И сколько она стоит?
— Рубль или два за килограмм.
— Забавно! Я только что видел, как на рынке трех несчастных рыбин продавали за пять рублей.
Он знал, что Соня бросила на него обеспокоенный взгляд. Слышал, как она мнет документы.
— Потому что это свободный рынок, но мы хотим отменить торговлю, — начинала девушка. — А вот в кооперативе…
— В кооперативе нет рыбы! Я туда заходил.
— Она там часто бывает.
— Ни разу за две недели.
— Все зависит от улова.
В первый раз он надеялся, что она заплачет. Это бы его утешило, хотя Адил-бей не понимал почему. Консул рискнул и попросил ее прийти вечером, и Соня пришла, покорная и спокойная.
Почему она пришла? Чтобы разузнать о людях, которых можно расстрелять? А быть может, для того, чтобы раскопать нечто, что позволило бы расстрелять его самого?
Какая ей разница — объятия одного мужчины или другого? Она не любила никого! Она шла только вперед, несгибаемая и надменная, шла, не сбиваясь с шага, и ее ясные глаза невинной или в высшей степени извращенной девочки смотрели на людей и предметы, не выражая ничего, кроме любопытства.
Во время бесконечных блужданий по городу он сделал множество открытий. Прогулки его утомляли, тем более что в Батуми не было ни кафе, ни дома, где бы его приняли с радостью. Некоторые люди, которым он задавал вопросы, в страхе бежали. Другие отвечали очень быстро и тоже поспешно уходили. Маленький мальчик, которому консул дал рубль, отойдя чуть дальше, получил оплеуху от видевшего все прохожего, который выбросил этот рубль в ручей.
Иногда, как в этом случае, Адил-бей испытывал страх; но чаще он чувствовал себя человеком, пытающимся утолить позорную страсть.
Почему ему лгали?
Раздраженный турок возвращался с новым трофеем.
— Вот уже три недели, как в Батуми никто не видел картофеля. А в это время в гостинице «Ленин», где останавливаются чиновники самого высшего ранга, подают свежую икру, французское шампанское, шашлыки.
— Это для иностранцев.
— Там бывает не больше двух иностранцев в год!
— А ваши министры, в вашей стране, они питаются так же, как разносчики воды?
Адил-бей тщетно пытался понять, когда все началось. В любом случае, точкой отсчета стал расстрел в ГПУ Драма зародилась еще в консульстве. Ведь тот мужчина колебался, не решался говорить при Соне! И именно он, Адил-бей, помешал русской выйти!
Возможно, после этого случая секретаршу следовало выставить за дверь. Но что бы это изменило?
С тех пор он вертелся вокруг нее, нервный, злой, обескураженный, порой испытывая болезненную панику. Ведь в конечном итоге она возненавидит его! И именно эту ненависть он искал в ее глазах, именно эту ненависть он, несмотря ни на что, пытался спровоцировать.
Джон полагал, что он пьет! Госпожа Пенделли поздравляла его с отменным здоровьем и успехами в бридже!
Адил-бей толкнул дверь и зажег свечу, а затем совершил ряд действий, которые повторял изо дня в день в одной и той же последовательности. Быть может, именно эта упорядоченность создавала некую иллюзию личной жизни, а быть может, стала загадочным магическим обрядом?
Сначала он сел в кресло и снял калоши и ботинки. После чего несколько минут мужчина сидел в носках, глядя на подвижные тени, пляшущие по комнате, на пламя свечи, на фасад напротив.
Соня спала. Ее брат спал. И ее невестка тоже.
Завтра он заговорит с ней о том человеке из Новороссийска, и его секретарша с вытянувшимся лицом попытается опровергнуть очевидное. Что сказала госпожа Пенделли этим вечером, незадолго до приезда Джона?
Ах да! Она рассуждала об отпуске в Италии и заметила:
— Джон здесь уже четыре года и ни разу не покидал Россию. Вы не находите это странным? — И затем, глядя куда-то вдаль, добавила: — Он много лучше нас информирован о том, что происходит в городе, и никогда ни о чем не беспокоится.
А может быть, Джон один из них? Почему бы и нет? Неджла ведь оказалась не женой Амара, а какой-то девицей из Москвы!
В таком случае, что же ему делать? Достаточно вести себя, как и все остальные, как люди на улицах, как люди в учреждениях, как Колин и его жена — молчать! Обустроить норку. Обзавестись привычками. Научиться не думать, а лишь перебирать в голове обрывки мыслей, туманные и расплывчатые, как мечты.
И почему две недели назад, когда Адил-бей пришел в управление по работе с иностранцами, ему внезапно сообщили:
— Мы нашли вам домработницу!
Он понял прежде, чем Соня перевела. И не моргнул глазом.
— Спасибо. — Вот и все, что он ответил.
Что касается домработницы, то с ней Адил-бей не перемолвился еще ни одним словом. Она приходила утром, делала вид, что моет кабинет, а затем наполняла водой кувшин. До обеда женщина оставалась либо в спальне, либо на кухне, которые по-прежнему не отличались чистотой.
Когда во второй половине дня консул неожиданно возвращался домой, он почти всегда заставал свою служанку с какими-то женщинами или даже с мужчиной, притворяющимся, что он не замечает иностранца.
Они сочли, что для слежки за ним недостаточно Сони?
Не вылезая из кресла, Адил-бей снял галстук и пристегивающийся воротничок и подсчитал, что уже ровно три недели не просил Соню приходить к нему вечером.
Отличная новость! В первый раз он продержался всего две недели. Но, когда она пришла с робкой улыбкой надежды, он нисколько не умилился. Он взял ее быстро и грубо, после чего заявил:
— Мне необходимо уйти!
Каждую неделю он отправлялся к Пенделли учиться играть в бридж. Госпожа Пенделли к нему благоволила. Она с удовольствием повторяла:
— Вы, турки, совсем другие, вы такие загадочные.
Если бы у него был бром, то консул спал бы всю ночь напролет. Бром ему из Стамбула прислали. Адил-бея пригласили в его собственный кабинет и продемонстрировали стограммовый пакетик, на котором стояла отметка большой аптеки, рядом с которой Адил прожил два года.
— Что вы намерены с этим делать?
— У меня бессонница. Именно ваш доктор посоветовал мне принимать бром.
— А вы не пробовали заниматься гимнастикой, совершать долгие прогулки перед сном?
— Я вам повторяю, это предписание врача.
— Но он не советовал вам принимать сто грамм брома.
— Да, все верно, я заказал лекарство с запасом.
— В таком случае, мы вручим этот пакет врачу, который будет выдавать вам небольшие дозы, соответствующие вашим потребностям.
Он не протестовал. Тем не менее, когда доктор принес пакетики, содержащие немного белого порошка, турок бросил их в печь. Из осторожности!
Избавившись от медикаментов, консул просиживал в кресле до двух или трех часов ночи. Он ждал, пока свеча догорит ровно до половины. После чего ложился в постель и задувал пламя. Утром он выплескивал в раковину чай, приготовленный домработницей, и, как повелось с самого начала, открывал банку сгущенного молока.
Каждый день он несколько часов гулял по городу, шел, куда глаза глядят. Турок наблюдал за тем, как разгружают суда, а когда никто не видел, задавал по-русски вопрос одной из женщин, занятой на этой работе.
— Сколько получает грузчица? — спрашивал Адил-бей у Сони, вернувшись домой.
— По меньшей мере десять рублей в день.
— На это можно прожить?
— Конечно. Особенно если не тратить деньги на наряды.
— А на три рубля?
Она колебалась, не зная, что ответить.
— Много труднее, не правда ли? Даже если носить только хлопковое платье и трусы, как поступают эти девушки! А они получают именно три рубля!
— Кто вам это сказал?
Он замолкал, кружил по кабинету. Иногда украдкой смотрел на Соню, на ее бледное личико, узкие плечи. Разве он не знал, что у нее дряблое тело, и все потому, что она тоже плохо питалась?
Однажды секретарша неуверенно обратилась к консулу:
— Адил-бей, позвольте мне дать вам один совет. Вы каждый день открываете банки с консервами. Вы съедаете одну сардину, немного тунца, а иногда и вовсе не прикасаетесь к пище. Все это производит плохое впечатление.
— А если я не хочу есть?
— Спрячьте банки. А потом сами выбросьте их куда-нибудь.
На этот раз девушка отвернулась, и турок чуть было не позволил себе размякнуть.
— Так вот что они делят между собой, когда меня не бывает в консульстве? — тем не менее проворчал он.
— Кто?
— Люди, которых я обнаруживаю в квартире, когда возвращаюсь без предупреждения.
— Да нет же! Без сомнения, это родственники домработницы. Я знаю, что у нее взрослый сын.
— Взрослый сын, который роется в моих документах!
— Откуда вы знаете?
— Я видел.
У нее на все имелся один ответ.
— А у вас в стране не бывает любопытных слуг?
Соня и так была бледной от природы, но Адил-бей не сомневался, что она побледнела еще сильнее. В последний раз, после того, как он час кружил вокруг секретарши, но так и не смог справиться с собой, мужчина попросил любовницу прийти к нему вечером. В ответ Соня пробормотала:
— Вы уверены, что действительно хотите этого?
Он ответил: «Нет». С тех пор прошло три недели. Свеча наполовину сгорела, Адил-бей поднялся без единого вздоха, пересек комнату и начал раздеваться. Он так и не удосужился повесить занавески. Он видел, как мутные капли катились по черноте стекла. Посреди улицы мчался настоящий ручей, он даже журчал, как ручеек в лесу. Окно в доме напротив было всего лишь приоткрыто.
Адил-бей лег и погасил свет. Но при этом остался лежать с открытыми глазами, как лежал каждую ночь. Он снова видел Пенделли, сочащегося радостью и даже забывшего зевнуть, чтобы дать сигнал к окончанию вечера, сочащегося радостью, потому что на следующий день он отплывал на борту «Авентино».
Затем лицо Пенделли исчезло, и консул увидел свирепое лицо мужчины из Новороссийска, сидящего рядом с кадками для засола мяса и готового защищать от чужаков свое «добро».
Он должен не забыть на следующий день рассказать эту историю Соне, хотя турок не сомневался: она найдет что ответить. Что именно? Что люди голодают и в других местах земного шара? В таком случае он покажет ей фотографии базаров Стамбула, тысячи прилавков, ломящихся под весом всевозможной снеди… Видела ли она когда-нибудь целых барашков, жарящихся на вертеле? Всего за несколько курушей можно купить целую тарелку ароматного мяса!
Сколько раз в месяц она ела мясо? А ведь она находится в том возрасте, когда тело женщины еще формируется! Ее маленькие груди уже немного обвисли. А тело было неестественно белым.
Почему она всегда столь категорична?
Почему вечно бросает ему вызов? Ведь так просто стать добрыми друзьями, разговаривать открыто, с чистым сердцем!
И, скажите, почему, когда он сжимает ее в своих объятиях, она смотрит на него с любопытством, а порой даже с затаенной жалостью?
Иногда от одной только мысли, что они лежат рядом, так тесно прижавшись друг к другу, глаза Адил-бея увлажнялись от переполнявших его эмоций, и тогда она равнодушно интересовалась:
— Что с вами, Адил-бей?
Тем хуже для нее! Это не будет длиться вечно!
Ведь и сама Соня уже не была прежней. Темные круги вокруг глаз. Теперь, внезапно заслышав его шаги за спиной, она вздрагивала. Зимой она ходила все в том же черном платье, носила ту же шляпку, местами потертое тонкое шевиотовое пальто. Два или три раза Адил-бей замечал, как, сидя на своем месте в консульстве, она вяжет шерстяные перчатки.
Женщины из бара питались много лучше. Но разве Джон не говорил ему, что после двух или трех месяцев службы их отправляют в Москву, чтобы помешать девицам завести друзей?
А одну даже убили — застрелили, — все это тоже рассказывал Джон, — потому что она разоткровенничалась с бельгийским морским офицером. Адил-бей забыл рассказать об этом Соне. Хотя она наверняка знала. Она знала все.
Но он хотел, чтобы она слышала все эти откровения именно из его уст!
В некоторые моменты, буквально на одну-две секунды, дождь усиливался и обрушивался на землю, как водопад. В тот же миг усиливался шум ручья. Это длилось несколько минут, четверть часа, не более, а затем за окном вновь начинал шуршать мелкий монотонный дождь.
Дом напротив выделялся светлым пятном с черной дырой приоткрытого окна, которое Адил-бей видел прямо из постели.
И где-то там, в этой дыре, находилась Соня. Джон говорил о ней. Неджла тоже. Все говорили ему о ней, как будто в городе проживала только одна эта бледная девушка.
А ведь их были сотни! Он это тоже теперь знал.
Что касается Сони, то ее силы на исходе, несомненно! Она сломается раньше, чем он.
Адил-бей перевернулся на другой бок именно в тот момент, когда ему стало казаться, что он скользит по крутому склону, после чего мужчина уснул. Однако его продолжал преследовать треск дождя, который периодически перерастал в треск пишущей машинки, и секретарша с глазами, обведенными синевой, заканчивала печатать фразу, а потом оборачивалась, ожидая продолжение диктовки.
Надо не забыть рассказать ей о мужчине из Новороссийска!
8
Но на следующий день Адил-бей не поведал Соне ничего из того, что намеревался ей сообщить, и даже не упомянул мужчину из Новороссийска.
Ночью турок сильно потел, хотя он почти сбросил с себя покрывало. Подобное стало происходить с консулом все чаще и чаще. Иногда он задавался вопросом, а потел ли он так когда-нибудь раньше. Он рылся в своей памяти. Но не мог припомнить, чтобы когда-то просыпался на совершенно мокрых простынях.
А еще консул не помнил, чтобы хоть когда-нибудь вставал значительно более уставшим, чем ложился. Теперь такое случалось ежедневно. Он долго лежал в кровати, тупо глядя в пространство, прежде чем находил в себе силы жить дальше. Он подурнел. Его рот был полон горечи, горечи, вкус которой казался ему незнакомым.
В то утро его лоб и виски покрылись испариной лишь оттого, что мужчина встал и направился к умывальнику. Дождь не прекращался. Воздух, сочащийся в оконную щель, пах сыростью. В доме напротив за закрытыми шторами можно было разглядеть смутный силуэт одевающейся госпожи Колиной.
Перед тем как взять кувшин и вылить воду в таз, Адил-бей долго созерцал себя в зеркале.
Он сделал странное открытие: его щетина начала расти быстрее, чем раньше. Затем консул сообщил себе, что такого просто не может быть, и, наконец, вспомнил, что у мертвецов борода растет с головокружительной скоростью.
Он высморкался и плюнул на платок. И в ту же секунду, без малейшего перехода, все изменилось: паника скрутила плоть, добравшись до позвоночника, куснула в живот, заставив сердце выпрыгнуть из груди.
Адил-бей больше не осмеливался смотреть на платок, окрасившийся розовым. Он смотрел в зеркало, на свое испуганное лицо. Он слышал, как в кабинете возится домработница. Вскоре пришла Соня, и обе женщины заговорили на русском, но он не смог их понять, потому что они говорили слишком быстро. Он представил себе сумочку, положенную на каминную полку, черную шляпку, повешенную на крючок, снятые сапоги.
Когда он вошел в кабинет, в мятой пижаме, с голыми ногами в старых шлепанцах, Соня подскочила, и турок это заметил, и ему доставила удовольствие сама мысль, что он внушает страх.
— Сию же минуту разыщите мне врача.
— Вы больны, Адил-бей?
— Я ничего не знаю.
Мужчина не стал бриться, одеваться, он даже не вымыл лицо, хотя каждый раз, проходя мимо умывальника, он украдкой смотрел в зеркало. Он храбрился, стараясь напустить на себя спокойный вид. Но стоило Адил-бею сделать десяток шагов, покачивая головой, заложив руки за спину, его взгляд падал на платок и паника вновь подступала к горлу, челюсти сжимались от нетерпения, и мужчина сверлил глазами дверь, как будто обладал способностью заставить врача появиться из пустоты.
— Но ведь это русский врач! — ворчал он.
Чуть позже он почти выкрикнул:
— Что ж, посмотрим!
Он продолжал и дальше беседовать сам с собой.
— Пускай сам скажет, чем я болен.
Доктор пришел вместе с Соней, которая встретила его в госпитале. Адил-бей пригласил врача в комнату, закрыл дверь на ключ и заявил:
— Осмотрите меня.
Произнося это, турок горько улыбнулся, как будто сыграл со своим собеседником злую шутку.
— Вы себя не очень хорошо чувствуете?
— Очень плохо.
— Где у вас болит?
— Везде.
— Покажите язык… Х-м-м!.. Разденьтесь до пояса…
Когда щека доктора прикоснулась к груди Адил-бея, он решил, что сейчас закричит от раздражения.
— Дышите… Покашляйте… Сильнее…
Лицо врача было серьезным, правда, не намного серьезнее, чем обычно.
— Вы уверены, что не злоупотребляете бромом?
Адил-бей усмехнулся, но не стал признаваться, что никогда не принимал это лекарство.
— Все органы нездоровы, словно…
— Словно что?
— Словно вы на протяжении долгого времени чем-то злоупотребляли, например наркотиками или алкоголем. Вы пьете?
— Никогда. Что еще это может быть?
— Я пока не понимаю. У вас есть какие-нибудь локальные боли?
Преисполненный презрения, Адил-бей продемонстрировал врачу свой платок.
— Вот что у меня есть! — бросил он.
Вопреки его ожиданию, врач посмотрел на платок почти без интереса.
— С вами такое впервые? Это любопытно, но не доказывает, что вы больны туберкулезом. Прослушивая вас, я не нашел никаких шумов в легких, но если вы хотите быть уверенным, то должны прийти в больницу, чтобы вам сделали рентгеновский снимок.
С чего это вдруг доктор взял стакан воды, стоящий на ночном столике? Он взглянул на него, понюхал, затем обернулся к Адил-бею, который так и не оделся, и пожал плечами.
— Что вы мне пропишете?
— Прежде всего отменю бром. Вы питаетесь дома? Если я не ошибаюсь, в кабинете я видел вашу домработницу?
Доктор заинтригованно и недовольно осмотрелся по сторонам. Теперь Адил-бей не спускал с него глаз. Он догадался. Он ожидал слово, которое так и не прозвучало.
— Вы думаете, недомогание как-то связано с пищей?
— Я этого не говорил. Нет никаких причин думать, что ваше самочувствие как-то связано с питанием.
— Тогда что?
— Приходите ко мне в больницу. Я обследую вас более серьезным образом.
— Вы не хотите сказать, о чем думаете?
— Я еще ни о чем не думаю.
Доктор лгал. И доказательством тому служил его поспешный уход, он так торопился, что не сразу нашел дверную ручку. Однако в кабинете он остановился, чтобы посмотреть на Соню и на домработницу.
— В больницу!.. — повторил медик Адил-бею, последовавшему за ним.
Посетители ждали. Соня подняла голову и спросила:
— Вы будете принимать сегодня?
— Да.
Консул произнес это «да» как угрозу. Он оделся, действуя нарочито спокойно, при этом Адил-бей не прекращал следить за собой в зеркале.
Чуть позже он сел за свой рабочий стол и бросил:
— Первый!
Никогда ранее он не был столь категоричным.
— Вы говорите, что ваша дочь исчезла, и полагаете, что похитил ее именно турок? Я ничем не могу вам помочь, мадам. Я нахожусь здесь не для того, чтобы искать девушек, которые позволяют себя похищать. Следующий!
В то же время консул постоянно прислушивался к тому, что делает в его спальне домработница, и не спускал глаз с Сони. Ничто не ускользнет от него. Все его чувства обострились до предела. Он рассматривал кожу своей секретарши, которая была такой же бледной, как и у него. Но это была совершенно другая бледность! Впрочем, ее кожа отличалась особой сухостью, в то время как кожа Адил-бея при малейшем движении, даже когда не ощущалось жары, становилась влажной.
Соня писала. Два или три раза она обращала к нему лицо, и каждый раз консул явственно чувствовал, что это движение не было естественным и давалось девушке с большим трудом.
Как же это ему удавалось — успевать думать, наблюдать и одновременно, несмотря ни на что, слышать то, о чем рассказывают люди? Он пресекал любые пространные излияния.
— В нескольких словах, прошу вас!
К одиннадцати часам кабинет должен опустеть.
— Что вы делали вчера вечером? — грубо спросил Адил-бей у Сони.
Несколько мгновений она колебалась, возможно, удивленная его тоном.
— Я пошла в клуб.
— А потом?
— Что вы хотите сказать?
— Где вы ночевали? Дома или у товарища, как вы это называете?
— У товарища.
Она посмотрела прямо ему в глаза, готовясь выдержать любой взгляд, но этот взгляд скользнул, как вода, и потерялся где-то в серой пелене за окном.
— Вы свободны.
— Еще не время.
— А я сказал вам, что вы свободны! — закричал турок. — И я не нуждаюсь в ваших услугах во второй половине дня.
Он вышел в спальню, но вернулся минуту спустя, когда девушка надевала шляпку.
— Вы еще не ушли?
Соня не ответила. Он видел, как она идет к двери — узкие плечи, абрис фигуры, изуродованный резиновыми сапогами.
— Если я вам понадоблюсь… — начала секретарша уже на пороге.
Но замолчала, видя, что в ее словах нет никакой необходимости.
Адил-бей разыскал в словаре слово «яд», затем слово «отравление», затем «интоксикация», и каждый раз, читая, он яростно повторял:
— Придурок!
Придурком был то ли словарь, то ли тот, кто его написал, потому что статьи о ядах и отравлениях ничего не объясняли. Он разыскал слово «стрихнин», «мышьяк», и с этой секунды пытался определить, какой именно привкус он постоянно ощущает во рту.
Была ли это именно та горечь, о которой говорилось в книге?
Нет никаких сомнений: его пытались отравить, и отравить медленно. Но как давно ему начали давать яд? Этого Адил-бей не знал. Возможно, с момента его приезда! А быть может, они отравили и его предшественника?
В памяти всплывали мельчайшие детали последних недель. Он вспомнил тошноту, которую списал на счет консервов. Но разве во время войны ему не доводилось питаться одними консервами, причем испорченными? И при этом он никогда не болел.
Сейчас же речь шла не о болезни! Хуже! Он постепенно терял жизненную энергию. Становился апатичным и слабым. Утром, смотрясь в зеркало, Адил-бей испытывал отвращение к самому себе.
Несомненно, это мышьяк! Или что-то еще, но яд! Доктор сразу же все понял, ведь он тут же заговорил о броме и понюхал стакан.
Адил-бей в свою очередь понюхал стакан, но ничего не ощутил или, скорее, не был уверен в своем обонянии. Потому что консулу казалось, что теперь он чувствует много больше запахов, чем обычно. Он чувствовал, как пахнет его кожа, и считал, что она источает горький затхлый запах.
— Вот! — проворчал турок. — Так-то лучше.
По крайней мере, теперь он знал! И намеревался действовать! Он шел по квартире, бормоча обрывки фраз. Время от времени мужчина с вызовом смотрел на окно напротив. Неожиданно его взгляд задержался на телефоне.
Но кому он может позвонить? Пенделли заняты, пакуют чемоданы, и через час их дом уже опустеет.
Джону? Американец выслушает его, глядя мутными глазами и прихлебывая виски. Почему, как верно заметила госпожа Пенделли, он сидит в Батуми целых четыре года и ни разу не взял отпуск, и даже не заговаривает об отъезде? Почему Советы предоставляют ему так много свободы, в то время как за всеми остальными иностранцами установлен неусыпный надзор?
— Алло! Соедините меня с госпиталем!
Он звонил доктору, просто так, чтобы убедить в верности своих догадок.
— Это вы, доктор? На проводе Адил-бей. Нет, мне не хуже. Скажите, а я упоминал сегодня утром об обильном потоотделении? Я не сразу об этом вспомнил. Это длится уже несколько недель. И еще что-то вроде постоянной тревоги, как будто сердце может с минуты на минуту остановиться. Позвольте мне закончить! Я знаю, о чем говорю. Мой предшественник умер от остановки сердца, не так ли? И вы осмелитесь утверждать, что это не было следствием медленного отравления мышьяком?
Турок не разобрал ответа. Должно быть, доктор нервничал. На том конце провода, где-то на заднем плане раздавались другие голоса.
Без сомнения, он советовал Адил-бею не беспокоиться, подождать результатов рентгена или что-нибудь в этом роде, но голос врача звучал не так, как обычно.
Довольный Адил-бей повесил трубку, ему показалось, что он обвел медика вокруг пальца. Теперь ему оставалось обвести всех остальных! Кого? Всех!
Прежде всего он должен сохранять спокойствие. Он спокоен! Консул даже подошел к зеркалу, чтобы полюбоваться своим спокойствием, затем он неторопливо открыл банку сгущенного молока, которая и составила весь его обед.
— Остается вывести яд!
Но турок весьма смутно представлял, как это сделать. Должны помочь свежий воздух и физические упражнения. Консул надел плащ, калоши и вышел из дома. Он гулял целых три часа. Он старательно шагал, выдерживая одну и ту же скорость, он шел и шел вперед, невзирая на усталость. А еще он потел. Его пульс участился. Время от времени Адил-бей останавливался прямо посреди улицы, чтобы восстановить дыхание, и люди смотрели на него с любопытством.
Но мужчину это не волновало! Пусть смотрят, сколько хотят. Он-то знает, что делает.
А дождь все шел. Грязная вода текла вдоль невымощенных улиц, изобилующих выбоинами, кучами земли или щебня, порой на пути попадались брошенная тачка, или пустая бочка, или старые доски.
Один раз Адил-бей был вынужден обогнуть мертвую лошадь, через блестящую шкуру которой проступала каждая кость скелета.
На набережной ему встретилось несколько прохожих, но здесь никто не работал, и корабли в окутывающем их тумане казались навсегда брошенными посудинами.
Издалека турок увидел Пенделли, поднимавшихся по трапу «Авентино», маленького судна черно-белого цвета. Капитан нес на руках дочь Пенделли, а сам консул замыкал шествие, и его жирная рука с усилием цеплялась за мокрый поручень.
Что касается моря, то оно не выглядело ни морем, ни чем-либо еще. Бескрайняя серая пелена, пустота, обдающая влажным дыханием. Ни волн, ни единого всплеска по всей бухте. Море походило на плоскую лужу с миллиардами маленьких кругов, нарисованных каплями дождя, миллиарды миллиардов, и так до самого горизонта, до Турции, а возможно, и дальше?
В плаще было жарко. Калоши на ногах казались пудовыми гирями. Вода из луж норовила затечь в обувь, и один носок промок насквозь.
Как обычно в это время, бар не работал. Окна Дома профсоюзов были распахнуты, но в них виднелись всего две-три фигуры, бродящие по пустым помещениям. Иногда навстречу Адил-бею попадалась одна из женщин, работающих на разгрузке кораблей, она проходила мимо, босая, с мешком на голове вместо шляпы.
Улицы оказались еще более пустынными. В городе насчитывалось около пятидесяти запутанных улиц, названий которых Адил-бей не знал. Это были узкие улочки, без мостовых, часто без тротуаров, окаймленные большими домами, производившими впечатление заброшенных — их давно не красили, окна лишились стекол, карнизы обветшали, а вода сбегала по сломанным водостокам.
Каждый дом щерился зияющим мокрым подъездом.
Можно было догадаться, что в каждой комнате такого дома находятся люди. Но что они делали? Да, что они делали во всех этих комнатах, среди кроватей и матрасов, брошенных прямо на пол? Женщины не готовили, потому что им не из чего было готовить. Они не шили или почти никогда не шили, потому что носили одни и те же платья.
Они ждали? Но чего? Пока пройдут бесконечные часы, как этого ждал Адил-бей, оставаясь в одиночестве спальни?
— Не следует пить воду.
Консул сказал это вслух, затем пожал плечами, так как читал, что мышьяк, даже в очень маленькой дозе, имеет горький привкус. Он не смог бы не заметить его в воде. А чай, который готовила домработница, он выливал и никогда не варил кофе.
Адил-бей вновь очутился возле мертвой лошади, на которую он посмотрел с неподдельным удивлением. Он не помнил, как проходил по этому кварталу.
Быть может, на сегодня достаточно? Он должен разумно распределять силы. А главное, не следует терять хладнокровие. Да, это главное! Хладнокровия у него предостаточно. И это ничего, что во время прогулки мужчину три раза охватывала паника. Это происходило непроизвольно. Просто реакция организма. Паника могла накатить, даже когда он думал о посторонних вещах, как боль, но, не будучи болью, она возникала где-то в глубине тела, в неопределенном месте, и мышцы тотчас отвечали на этот загадочный призыв и сокращались, в том числе и мышцы рук, ноздрей, пальцев ног.
— Вперед! — приказывал он себе.
И это проходило. Тогда Адил-бей продолжал беседовать сам с собой.
— Должно быть, Соня беспокоится…
Он отослал ее, ничего не объяснив. Он ничего не сказал ей после визита врача, не обмолвился и словом о состоянии своего здоровья. Интересно, это она отравила предыдущего консула?
— Надо бы узнать, в то время у него была та же домработница, что и у меня?
Вот так он спокойно размышлял, идя размеренным шагом. Госпожа Пенделли была совершенно права, когда утверждала, что консул Турции стал очень сильным игроком в бридж.
Однако он совсем один! Один дома! Один в городе! Один в пространстве! Консульство Италии опустело! Консульство Персии опустело!
Остался один он, Адил-бей, один посреди этого мокрого города, полного людей, съежившихся за ослепшими окнами, заклеенными бумагой вместо стекол.
— Вначале следует тщательно осмотреть всю квартиру и запомнить точное расположение каждого предмета, ведь надо с чего-то начинать…
У него нет заболевания сердца, как некоторое время полагал Адил-бей, состояние его организма подточено мышьяком. Но раз он не умер, то сумеет вывести мышьяк! Сейчас речь идет только о том, чтобы больше его не принимать.
Он, немного запыхавшись, поднялся по лестнице, заметив в коридоре возле общего крана домработницу и двух ее приятельниц. Все три женщины молча смотрели, как консул проходит мимо. Они не поприветствовали его, они вообще никак не отреагировали на него, как будто турок не был их соседом. Так себя ведут тупые животные! Нет, даже животные при встрече обнюхивают друг друга!
И так везде. Домработница не здоровается с ним утром и не прощается вечером, консул даже не знает, когда она заканчивает работу. А ведь она находится у него в доме. Она трудится на него, а турок ей платит. Но все это не имеет значения! Женщина приходит, делает в его квартире, что захочет, и уходит.
Соседи, которых он встречал сотни раз, равнодушно проходят мимо, задевают его, толкают, не выказывая ни малейших признаков интеллекта!
Каждый в своем углу, и он, Адил-бей, как и все остальные, сидит в своем углу, еще более одинокий, чем все остальные, и смотрит на то, как живут Колины, как смотрел бы на рыб в аквариуме!
Одно лишь отличие: в его углу кто-то коварно рассыпает мышьяк, некто, живущий в этом городе, кто ходит, дышит, проникает в дом и кто внезапно решил, что турецкий консул должен умереть в назначенное время.
Действительно, а какой срок ему отвели? Ведь этот срок должен быть определен! Особа с мышьяком знает о нем, Адил-бее, то, чего не знает он сам: самую загадочную вещь — дату его смерти!
И эта особа наблюдала, как он поправлялся, обрастая отвратительной вялой плотью. А ведь это госпожа Пенделли заметила, что он располнел. И ведь только у Пенделли он каждую неделю пил кофе по-турецки. Его готовили специально для консула.
Он не может подозревать госпожу Пенделли, но, если рассуждать здраво, ничто не мешало ей стать отравительницей.
…И она даже могла намеренно уехать в Италию, чтобы не присутствовать при его смерти!
И вообще, почему они вдруг взялись за консула Турции? Почему не отравили Пенделли? И почему не отравили Амара, который обворовывал русских?
Адил-бей вошел в свой кабинет и уставился на Соню, которая стояла с широко раскрытыми задумчивыми глазами, настолько задумчивыми, что мужчина тут же задался вопросом, а что же необычного во всей этой ситуации.
Черт возьми! Все дело в том, что он велел секретарше сегодня больше не возвращаться!
Она смущена! Она смотрит на него с таким беспокойством!
— Вы совсем промокли, — сказала Соня.
Девушка была в пальто, в блестящих резиновых сапогах. Она даже не сняла шляпку.
— Что вы здесь делаете?
Она колебалась, не отводя от собеседника взгляда ясных глаз.
— Я хотела узнать, не стало ли вам хуже.
— Правда?
Напряженность в ее взгляде смущала. Она никогда так на него не смотрела. Соня была настолько напряжена, что в какую-то секунду Адил-бей подумал, что сейчас она бросится ему в объятия.
— Ну что ж! Теперь вы можете уйти.
Она не двигалась. Ее ладони лежали на застежке сумки. Ее тонкая шея выделялась на фоне черной одежды.
Консул уже собрался пройти в спальню. Соня расслабилась. Она была готова двинуться к двери. Они оба начали движение. И вроде бы ничто не Могло им помешать, когда Адил-бей внезапно совершил резкий бросок и они оба застыли в оцепенении.
Адил-бей смотрел на сумочку Сони, зажатую в его толстых пальцах, на сумочку, которую он только что у нее вырвал. И девушка тоже на нее смотрела. Она ждала. И хотя мужчина по-прежнему не спускал взгляда с сумки, он видел ее грудь, судорожно трепетавшую под тканью платья. Мужчина почему-то вспомнил фазана, которого он подбил камнем в Албании, тот тоже трепетал в его руках: бешеное тиканье часов под разноцветными перьями.
Неловким движением он открыл сумку.
9
На потертой шелковой подкладке выделялись авторучка плохого качества, носовой платок, пуховка для пудры, два ключа и несколько бумажных рублей.
Пока Адил-бей перебирал все эти предметы, Соня стояла возле стула, а затем она села: ее движение было неуловимым, как будто девушка перетекла из одного положения в другое. Теперь консул разглядывал свою собственную фотографию, которую он только что обнаружил и о которой забыл. Снимок был сделан в Вене, около теннисного клуба. В костюме из серой фланели, с ракеткой в руке, он опирался на маленькую спортивную машину, которой управляла дочь ответственного работника Министерства иностранных дел. Они оба были веселыми и, задорно улыбаясь, смотрели в объектив.
На клумбе тюльпанов виднелась тень брата девушки, который держал в руках камеру. Красноречивая фотография — по этой тени, по этим улыбкам можно было догадаться, что сейчас прозвучат слова: «Не шевелитесь!» Затем щелчок, смех, отъезжающая машина, партия в теннис на красноватом гаревом покрытии корта.
Соня ждала. И Адил-бей молча бросил фотографию на стол и вытащил из сумки маленькую склянку, которую положил рядом со снимком.
Почему он машинально закрыл сумку и протянул ее девушке? Мужчина этого не знал. Он шумно, тяжело дышал. Два раза турок дошел до окна, прежде чем нависнуть над все еще сидящей Соней.
— Итак?
Она не спускала с него взгляда; сузившиеся зрачки, бледное лицо, заострившиеся черты.
Адил-бей не знал, что делать. Он сказал: «Итак?», но не надеялся на ответ. Консул взял склянку со стола. Ему не надо было нюхать ее содержимое, чтобы узнать, что там находится.
Что делать: рассердиться, кричать, стенать, угрожать? Она даже не шевелилась. Не плакала. Она сидела, покорная, возможно, безразличная, с бледной мордашкой и двумя крошечными темными точками зрачков.
Десять раз он собирался заговорить и десять раз отказался от этой мысли, потому что никак не мог подобрать слова, соответствующие обстоятельствам. Ему необходимо снять напряжение. Что-нибудь сделать. Действуя бессознательно, Адил-бей огляделся вокруг в поисках вдохновения, подсказки и начал с того, что швырнул на пол чернильницу.
— И сколько мне еще осталось жить? — наконец вытолкнул из себя консул.
Ничто, кроме этих слов, не могло так точно передать его эмоции, ведь эти слова напоминали о том, что он чуть не умер. Турок уставился на Соню, и в его взгляде читалось больше отчаяния, чем ненависти, он напоминал больного или тяжелораненого.
— Отвечайте!
Девушка не отвела взгляда от Адил-бея, но продолжала хранить суровую неподвижность.
— Ведь это вы отравили моего предшественника, сознайтесь! И я должен был умереть, точно так же, как и он, в ближайшие дни.
Адил-бей выдохнул воздух, сжал кулаки, он злился главным образом на то, что его секретарша оставалась такой бесстрастной.
— Отвечайте, скажите хоть что-нибудь, неважно что! Вы меня слышите? Я вам приказываю, отвечайте!
Мужчина был готов встряхнуть собеседницу, вероятно, даже ударить ее. Открылась дверь. Домработница пересекла кабинет, направляясь на кухню.
— Прикажите ей, чтобы уходила. Сегодня я не Желаю ее больше видеть.
И Соня заговорила. Развернувшись к домработнице, она по-русски, самым обычным голосом, повторила распоряжение консула.
Они должны были дождаться ухода прислуги. Соня снова застыла, как статуя. Адил-бей смотрел, как по оконным стеклам струится вода, и внезапно ощутил, что у него не осталось сил.
— Соня…
Она повернулась к нему. Это сводит с ума, когда на тебя так смотрят. Девушка никак не реагировала на происходящее, ни трепетом губ, ни дрожью рук, ни просто элементарным биением жизни, доказывающим, что она находится здесь, рядом с ним, что она его слышит, размышляет над тем, что он говорит. А она смотрела на него, как будто Адил-бей находился в каком-то ином мире или как будто она видела его невероятно большим или невероятно маленьким, но, в любом случае, совершенно не сопоставимым с ней самой.
— Почему вы меня так ненавидите?
Эти слова, вылетевшие помимо его воли, чуть не заставили мужчину разрыдаться, он отвернулся и стал медленно подталкивать к краю стола груду документов, затем сбросил ее на пол. Документы разлетелись по комнате.
— Послушайте, Соня! Мы должны принять решение.
Адил-бей внезапно повернулся, подумав, что секретарша вздрогнула. Но нет! Она не шевелилась.
— Я могу передать вас в руки милиции.
Консул замолчал. Он вновь очутился у окна. В доме напротив он заметил Колина, который только что вернулся с работы и точил карандаш. По улице, опираясь на две палки, полз какой-то старик, он двигался столь медленно, что трудно было представить, что он когда-нибудь доберется до своей цели.
Адил-бей заговорил о милиции? И что он скажет там, в милиции? Что его хотели отравить?
Консул отошел от окна, и его настроение в очередной раз изменилось. Встав перед Соней, он положил ей руку на плечо — контакт с ее телом вызвал у турка невероятное волнение — и грустно заглянул ей в глаза.
— Что вы наделали, моя милая Соня? Не верьте тому, что я говорю. Вы отлично знаете, что я не способен донести на вас. Но вы должны говорить, объяснить, почему…
Девушка так плотно сжала губы, что кожа вокруг них побледнела и натянулась, так что временами казалось, будто она сдерживает уже готовые сорваться смех или улыбку.
— Не хотите? Продолжаете молчать?
Адил-бей отпустил ее плечо. Голос поднялся на один… на два тона.
— Разумеется! Что вы можете мне сказать! Когда я думаю о том, что вы приходили ко мне вечером, что я сжимал вас в объятиях, называл моей любимой малышкой Соней… Потому что я любил вас, теперь я могу это сказать! И я хотел вовсе не плотской любви. Увы! Все остальное ускользнуло от меня, и теперь я тщетно пытаюсь понять почему, в то время как вы из недели в неделю, изо дня в день приближали мою смерть…
Он задыхался. Он нуждался в движении, во взрыве, и потому, проходя мимо стены, изо всех сил стукнул по ней кулаком.
— Вот что вы делали, пока вся моя жизнь вращалась только вокруг вашей особы!
Лишь сейчас Адил-бей понял, что это правда. Ранее он просто не отдавал себе в этом отчета. А ведь именно все так и было, вот она, неоспоримая истина!
Что он делал после приезда в Россию? Вертелся вокруг Сони, стремился понять Соню, хотел сблизиться с Соней.
Порой он ее ненавидел! Пытался заставить страдать! Но это была любовь! Он воспринимал это чувство именно таким образом! Когда он, раздраженный, ищущий, бродил по улицам, он делал это лишь для того, чтобы вернуться и сказать Соне:
— Я снова видел людей, поедавших отбросы прямо из ручья.
А разве сама Соня не заставляла его страдать, когда проводила вечера в Доме профсоюзов, где, как он знал, юноши и девушки запросто общаются и тем самым возбуждают друг друга? Даже когда она возвращалась ночевать домой, Адил-бей злился. И когда она ходила купаться обнаженной, как и ее подруги!
Консул горько усмехнулся:
— Часами я наблюдал за вами, пытаясь вас понять. Более того, как глупый подросток, я подглядывал в замочную скважину, чтобы увидеть вас такой, какая вы есть на самом деле! Ближе к делу, во что вы подмешивали мышьяк? Ведь это был мышьяк, я не ошибся?
Адил-бей взял склянку, открыл ее, снова закрыл, чуть было не бросил в печь, а Соня следила глазами за каждым его движением.
— Вы делали это, подчиняясь приказу? Ответьте! Вы не хотите говорить? Боитесь ваших коллег из ГПУ? О! Я отлично знаю, что вы донесли на того проводника, помогавшего пересекать границы! Я не стал вам ничего говорить, потому что в глубине души полагал, что это ваш долг…
Приливы усталости чередовались с приливами энергии, но постепенно усталость брала свое, невероятная усталость, клонившая к земле. Голос Адил-бея стал жалобным. Он все еще надеялся. Он говорил себе: «Сейчас она смягчится. Скоро она заговорит…»
Затем, разочарованный, турок принимался кричать, бегать по комнате, пинать ногами документы, устилавшие пол.
— Я строил планы… Я часто думал о том, что увезу вас в Турцию, я уже видел, как мы вдвоем прогуливаемся по берегам Босфора…
Веки щипало, но Адил-бей не желал плакать.
— Я даже думал, что смогу решиться на самую крайнюю меру… Если бы понадобилось, я бы остался здесь… Я даже сам не знаю, что бы я сделал…
Мужчина поднес кулак к носу Сони и взвыл:
— Дрянь! — И когда она чуть отшатнулась: — Надо же! Ты боишься побоев?
Положив лапы на плечи девушки, Адил-бей начал ее трясти, повторяя:
— Дрянь, самая распоследняя дрянь из всех дряней!
Соня не двигалась. Ее голова болталась то влево, то вправо, то взад, то вперед, подчиняясь порывистым движениям Адил-бея, но взгляд девушки оставался сосредоточенным, губы — сжатыми.
— Соня… Скажи что-нибудь!.. Или, мне кажется, все закончится тем, что я тебя убью… Слышишь?.. Я способен на это… Я на пределе…
Он говорил и плакал. Но можно ли назвать это слезами? Его грудь раздувалась, горло дрожало, губы двигались, складываясь в гримасу отвращения.
У него больше не было сил, чтобы трясти свою секретаршу. Адил-бей отпустил девушку. Отступил на шаг. И его глаза вылезли из орбит, когда турок увидел на щеке Сони блестящую дорожку. Он еще не верил. Он хотел убедиться. И он убедился, когда веко девушки вновь дрогнуло и на ее щеке появилась слеза, а затем, как будто помедлив, устремилась по проторенному пути.
— Соня!
Адил-бей был потрясен. Он хотел вновь схватить ее за плечи. Но, когда он приблизился, Соня вскочила с выражением ужаса в глазах.
— Оставьте меня!
Она искала выход. Устремилась к двери, сумела ее открыть, прежде чем Адил-бей догнал девушку.
— Соня!
Она уже мчалась по коридору. Он побежал быстрее, схватил Соню, когда она ступила на лестницу.
— Оставьте меня! — повторила Соня.
— Идемте… Я вас не отпущу…
Кто-то смотрел на них с верхней лестничной клетки, но Адил-бею было все равно. Он втолкнул девушку в кабинет и закрыл дверь на ключ.
— Почему вы плачете?
— Я не плачу.
И это казалось почти правдой. Соня вновь обрела спокойствие, хотя блестящая дорожка еще не исчезла.
— Вы плакали. Вы и сейчас почти плачете. Я хочу, чтобы вы мне сказали…
— Мне нечего вам сказать…
— Вот именно! Вы отравили моего предшественника. Вы пытались тем же способом убить и меня, при этом будучи моей любовницей! И когда я требую объяснений, вам нечего сказать! Восхитительно! Вот памятник неосторожности или цинизму! Это… это…
Должно быть, он казался смешным, нелепым, так суетясь, выкрикивая первое, что приходило ему в голову. Она улыбнулась. Уголки ее губ чуть поднялись вверх, а затем девушка бросилась в кресло, обхватила голову руками, и ее плечи затряслись.
Она смеялась? Плакала? Адил-бей недоверчиво смотрел на Соню, не осмеливаясь подойти.
— Соня! Встаньте! Я хочу видеть ваше лицо…
На город упала ночь, как будто кто-то рассыпал в воздухе сажу.
— Я знаю! Я глупец! Я всегда был глупцом, не так ли? Глупцом, потому что полюбил вас! Был глупцом, когда сжимал вас в объятиях и раскисал настолько, что на глаза наворачивались слезы! Я был глупцом, когда ревновал вас! Когда смотрел в зеркало, обеспокоенный тем, что в моем теле не осталось никаких жизненных сил…
— Замолчите! — взмолилась Соня, не разжимая сцепленных рук.
— Потому что я говорю правду? Я чуть не замолчал навеки, и я отлично представляю вас здесь, в этом кабинете, с моим преемником, а затем вечером с ним же в моей спальне.
Секретарша так резко подняла голову, что Адил-бей растерялся.
— Я вам говорю, замолчите!
Турок никогда не думал, что можно так побледнеть, он вообще не предполагал, что лицо может так сильно измениться всего за несколько секунд.
Перед ним сидела не Соня. Необычайно большие глаза, мокрые веки. Распухший нос с раздувающимися крыльями, и губы, такие натянутые, такие напряженные, что они стали напоминать красный, словно кровоточащий шнурок.
Сейчас ее трудно было назвать красивой, и Адил-бей, устыдившись, простонал:
— Соня…
— Нет. Позвольте мне уйти.
Она больше не находила в себе сил прятаться. Она едва дышала. Совершенно машинально девушка потянулась за сумкой, чтобы достать платок, и так же машинально Адил-бей дал ей свой.
— Спасибо.
— Мы просто поговорим, Соня. Но сначала вам следует успокоиться.
Однако секретарша не успокаивалась, напротив! У нее начался новый приступ рыданий. Она плакала, как ребенок, все мышцы ее лица сокращались, а губы тщетно ловили воздух. Она задыхалась. И на это было больно смотреть. Адил-бей попробовал взять ее за одну руку, затем за другую, погладить лоб.
Соня оттолкнула мужчину. Она бормотала перекошенным ртом:
— Оставьте меня!
В какой-то момент она так сильно сжала свои собственные ладони, что ее пальцы стали мертвенно-бледными.
— Я умоляю вас, Соня!
Консул боялся, что его собеседница заболела. Ее слезы нисколько не походили на его собственные, он вообще никогда не видел подобных слез. Самым страшным было то, что все ее тело содрогалось в конвульсиях, то вытягиваясь, то свертываясь в клубочек.
Соня не желала успокаиваться. Она отталкивала консула, и время от времени в ее глазах вспыхивала ненависть.
— Так нельзя, Соня! Вам необходимо прийти в себя. Вам станет легче, если вы выговоритесь.
Адил-бей дрожал от напряжения. В доме напротив госпожа Колина задернула занавески, без сомнения, потому, что собиралась зажечь лампу.
— Возможно, я наговорил много жестоких слов, Соня, слов несправедливых. Вы не пытались меня отравить, я не должен был так думать и сомневаться в вас…
И снова на ее заплаканном лице мелькнуло подобие улыбки. Соня немного успокоилась, но при этом смотрела на Адил-бея с очень странным выражением, в основном с жалостью.
— Это так? Я был не прав? Говорите! Я вам поверю! Я клянусь вам, что поверю любому вашему слову. Я вас слишком сильно люблю! Вы не понимаете… Вероятно, я производил впечатление человека, в одиночестве блуждающего в пустоте… Вы именно так и думали… На самом деле я кружил вокруг вас… Вы стали центром притяжения, ядром…
— Замолчите, — пробормотала Соня изменившимся голосом.
Она приходила в себя. Конечно, она была сломлена. Девушка говорила очень тихо, со спокойствием тяжело больного человека.
— Почему вы хотите, чтобы я замолчал? Я не прав?
— Да.
— Не прав, потому что люблю вас?
— Да.
Ее распухшие веки покраснели, красными, почти фиолетовыми, пятнами пошли и скулы.
Чтобы быть ближе к Соне, турок встал рядом с ней на колени, обхватил ее ноги. Таким образом, девушка смотрела на него как бы издалека, с высоты, можно сказать, из другого измерения.
— Вы этого не делали, Соня!
— Я это сделала, — совсем тихо произнесла секретарша.
— Но почему?
— Вы не сможете понять.
— Я уверяю вас, что пойму. Только не молчите больше. Позвольте мне задать вам несколько вопросов. Мой предшественник?..
Соня лишь моргнула в знак согласия, и на ее губах вновь заиграла слабая, однако не лишенная доли насмешки улыбка.
— А я? Вы сразу начали это делать? Нет? Когда стали моей любовницей? Но зачем вы согласились? Вы меня не любили?
Девушка тряхнула головой, сделала глубокий вдох и удрученно развела руками.
— Это ни к чему не приведет, — вздохнула она.
— Что?
— Наш разговор. Позвольте мне уйти. Думайте что хотите. Возвращайтесь на родину.
Тут Соня увидела, как глаза Адил-бея вновь стали внимательными и злыми. Она почувствовала, что сейчас ее собеседник опять взорвется, начнет кричать, крушить все подряд, и тогда Соня положила ладонь ему на лоб и взмолилась:
— Нет, оставайтесь спокойным!
— Я вас слушаю.
— Садитесь напротив. И не пытайтесь меня коснуться.
Несмотря на то что уже совсем стемнело, они видели друг друга, потому что комната освещалась слабым отблеском лампы, горящей в окне напротив. Было слышно, как сбегает вода по водостоку. Через равные промежутки времени самые крупные капли падали на цинковый навес.
— Так в чем же дело, Соня?
— Вы ничего не поняли?
Адил-бей чувствовал, что девушка по-прежнему на грани срыва, но она выпрямилась и заставила себя улыбнуться.
— Я полагаю, вы не раз проводили время с Джоном?
— Не вижу связи.
— Ваш предшественник коротал ночи практически так же, как и Джон. Сначала он выпивал в баре. Затем на улице или в другом месте он выбирал женщину, любую: работницу, служащую, подростка или мать семейства.
Адил-бей посмотрел на свою любимую с плохо скрываемым удивлением.
— Для нас это много: доллар, несколько лир, несколько франков! С ними можно пойти в Торгсин и купить продукты, которые там всегда в изобилии, даже когда кооперативы пусты!
Она переводила дыхание между слогами.
— Вы это говорили, вы часто повторяли: в этом городе есть люди, которые умирают от голода! Но послушайте, ведь есть и другие, которые верят или хотят верить во что-то…
Она повысила голос. Вытянув шею, Соня наклонилась к Адил-бею, и в ее голосе прозвучала горечь, смешанная с рыданиями.
— Вы еще не поняли? Вы знаете, сколько часов нужно работать русскому человеку, чтобы купить такую вот банку сардин, одну из тех, что вы ежедневно открываете и оставляете портиться в шкафу? Целый день! У вашего предшественника, как вы его называете, всегда было полно сардин, сахара, печенья. И всем этим он расплачивался. С женщинами, которые принимали его у себя дома, иногда даже с согласия мужа. Он тоже хотел меня. Когда он садился за стол, то говорил: «Положи это в сумку, малышка! Это пойдет тебе на пользу. В твоем возрасте силы просто необходимы!»
Адил-бей посмотрел на любовницу — бледное пятно во мраке, затем взглянул на два освещенных окна, находившихся там, на другой стороне улицы.
— Да, он уговаривал меня поесть. Не забывая добавлять, что для него это такие пустяки! У него в стране… У него в стране… Он постоянно твердил о своей стране!.. И вы тоже непрерывно о ней говорите… В вашей стране люди не умирают с голоду… В вашей стране столько хлеба, что хватает всем… В вашей стране… Так вот, я не хочу этого слышать!.. Не хочу!.. Мне уже за двадцать, и я не желаю выслушивать, что моя жизнь загублена… Моя мать умерла от нищеты… Да, вы прекрасно это знаете, здесь люди умирают прямо на улицах… Вы достаточно много рассказывали мне о нашей нищете…
— Я ревновал, — прошуршал из темноты голос Адил-бея.
Соня ответила новой вспышкой злого смеха.
— Не имело смысла, потому что к тому моменту было уже слишком поздно!
— Поздно для чего?
— Для меня! Вы хотели знать! Того, другого, я убила, если так можно сказать, истово веря. Каждый его вздох, каждая секунда его жизни ранили меня, причиняли боль. Когда он впервые сказал мне, чтобы я пришла сюда вечером…
Она услышала, как Адил-бей вздрогнул.
— Да, это тоже было вечером, — равнодушно подтвердила секретарша. — Здесь не так-то много возможностей встречаться. Он собственноручно приготовил ужин и так гордился изысканно накрытым столом. Он демонстрировал мне всевозможные блюда, приговаривая: «Я готов поспорить, что вы даже не знаете, что это такое». Он искренне удивился, увидев, что я не набрасываюсь на еду. Подумайте только, ведь он так на это рассчитывал! Не заставляйте меня вспоминать об этом. Ведь до тех пор я толком никогда не видела иностранцев. Не прочла ни одной нерусской газеты. У меня складывалось впечатление, что, устраняя этого человека, я практически спасаю Россию…
— А я? — раздался мрачный голос мужчины, сидящего напротив нее.
— Вы!
Капли дождя в том же темпе колотили по металлу. Окно напротив открылось, и Колин выглянул на улицу, посмотрел по сторонам, удивляясь, что не видит возвращающуюся сестру. Затем обе створки с шумом захлопнулись.
— Меня вы тоже ненавидите?
Соня молчала.
— Почему?
— Это так странно, что вы ничего не понимаете! Вы как малый ребенок. Вероятно, именно поэтому…
— Поэтому — что?
— Ничего! Позвольте мне уйти. Есть вещи, которые вы поймете позже. Вы хотите знать, почему я вас ненавидела, почему пыталась вас отравить, как того, другого, но не решилась закончить начатое? А ведь тот, другой, он мог бы жить! И только сейчас я начала это осознавать. Я ненавидела. Не хотела верить тому, что он говорил. А вот вы, вы все разрушили, все, что еще оставалось… И теперь…
— Теперь?
Адил-бей не осмеливался пошевелиться, он так боялся разорвать ту хрупкую нить, что протянулась меж ними.
— Давайте больше не будем говорить на эту тему. Мне надо идти. Вы видели, мой брат уже беспокоится.
— Вы бы убили меня?
— Не знаю. В первый раз я добавила мышьяк в масло рыбных консервов…
— Когда это было?
— Когда приходила она.
— Неджла?
В темноте она не могла видеть, как на лице турка расцветает счастливая улыбка.
— Нет, я не ревновала, — холодно заявила девушка. — Затем я решила отказаться от своего плана. Но вы прогуливались по набережной, когда я сидела на подоконнике клуба.
— Ну и что?
— Почему вам так необходимы подробности? Если бы вы были женщиной или просто русским, вы бы все поняли! Я уже не верила в клубы, в нашу болтовню, в наши споры, радости, в совместные чтения. Вы рассказывали мне о рынке, где продают гнилую рыбу. А я видела, как вы делаетесь все бледнее, все толще, именно так действует мышьяк, вы стали почти таким же бесформенным, как голодающие люди… — Она разом вскочила и хриплым голосом крикнула: — Позвольте мне уйти! Вы — трус, трус, трус! Вы заставили меня говорить, и теперь счастливы! Вы наслаждаетесь тем, что я говорю! Вы свели с ума бедную девушку, которая хотела просто жить и…
Резким движением Соня схватила сумку. Адил-бей догадался, что она вытирает лицо.
Он поднялся тихо, почти бесшумно. Она направлялась к двери. Девушка почувствовала, как консул вырастает у нее за спиной. Она сделала два или три более быстрых шага. Но действительно ли она хотела бежать?
Когда Соня коснулась дверной ручки, Адил-бей обхватил ее руками.
Но он не обнимал ее, нет. Он молчал и довольствовался тем, что стоит вот так, не шевелясь, прижимая Соню к себе. И постепенно пальцы, стискивавшие ручку, разжались.
В доме напротив Колин уже во второй раз открыл окно и склонился над пустой улицей, блестящей, как река.
10
— Даже если министр потребует моей отставки, я все равно смогу найти себе место, на котором буду зарабатывать не меньше ста турецких лир в месяц.
— А сколько это будет в рублях?
Адил-бей улыбнулся. Соня задавала вопрос так серьезно не потому, что это ее интересовало, а потому что она впервые могла беседовать на подобные темы.
И Адил-бей, получивший образование в «Школе христианских братьев», еще раз подумал, что он наконец понял удивительный смысл слова «благодать», до сих пор остающийся загадкой для мусульманина.
На него снизошла благодать! Он не смог бы объяснить, почему и как это случилось, но в душе был убежден в этом. Все стало простым, легким, ясным и чистым.
— Не сегодня! — прошептала Соня с усталой улыбкой, когда он повлек ее к спальне.
— Ш-ш-ш!
Адил-бей тоже улыбнулся. Он уложил секретаршу в кровать, как будто она была его сестрой.
Мужчина даже решил намочить угол полотенца, чтобы протереть Соне глаза.
— На лоб… Так будет лучше…
Затем взгляд девушки нашел окна противоположного дома, и в ее глазах промелькнуло беспокойство. Именно тогда Адил-бей взял с письменного стола несколько больших листов серой бумаги и прикрепил их к стеклам.
— Вот так! Теперь мы дома.
Они оба устали. Их глаза еще лихорадочно блестели. Они улыбались, как улыбаются люди, чудом избежавшие катастрофы.
Вот она — благодать! Адил-бей больше не подстерегал Соню, чтобы узнать, о чем она размышляет. Он вообще не задумывался об этом. Соня улыбалась — и этого было достаточно для счастья.
Она хотела спать. Закрывала глаза, но, когда консул замолкал, девушка знаком просила его продолжать.
— Перевод денег в рубли все равно ничего не объяснит. Со ста лирами мы сможем жить в прекрасной квартире в самом современном квартале Стамбула, есть все, что пожелаем, каждую неделю ходить в театр, а ты будешь носить красивые платья.
— А это правда, что вечерами там можно читать на улицах, так хорошо они освещены?
— Всю ночь. Вдоль берега Босфора тянутся кабачки, в которых играют турецкую музыку, пьют ракию и едят мезе[5].
— Мезе?
— Всего понемногу: мелкая рыба, оливки, огурцы, копчености — все, что можно жевать, слушая музыку и глядя, как скользят каики…
О чем еще они говорили в ту ночь? Соня заснула. Турок впервые видел, как спит его секретарша, и склонился, чтобы лучше ее рассмотреть. Когда девушка уснула, она вновь стала бледной и спокойной. Почему это маленькое личико так волнует его? И почему долгие месяцы они мучили друг друга, когда все оказалось так просто? Там, у двери, консул сказал ей:
— Мы уедем вдвоем, Соня!
И она ответила коротким пожатием руки. И какая разница, что на черной и мокрой улице шумит дождь? Очень скоро они больше не увидят этой улицы! Время от времени окно в доме напротив открывалось и закрывалось. Колин, который никак не мог заснуть, несколько минут смотрел в темноту, а затем ложился рядом со спящей женой.
Когда Соня первый раз открыла глаза, она несколько секунд собиралась с мыслями, а затем внимательно посмотрела на лицо Адил-бея.
— Вы не спали? — прошептала она.
— Я еще посплю.
— Это правда, что вы так сильно ревновали меня?
— Ревновал до такой степени, что ненавидел все, что вас окружает, и даже вашего брата, ненавидел его спокойствие, его манеру облокачиваться по вечерам на подоконник окна.
— Он много работает, — сказала девушка.
— А он верит в то, что делает?
— Он хочет верить. О таких вещах ни с кем и никогда не говорят, даже брат с сестрой или муж с женой, в таких вещах не признаются даже самому себе… — И, меняя тему, она спросила: — А в Стамбуле много трамваев?
— На самых главных улицах города их можно встретить каждые полминуты.
Девушка недоверчиво улыбнулась.
— У вас есть друзья?
— У меня были друзья, но я не хочу их больше видеть.
— Почему?
— Потому что тогда будете ревновать вы, как я ревновал к клубу и даже к портрету Сталина, висящему на стене.
Адил-бей не сомневался в своих словах. В его голове больше не осталось никаких черных мыслей. А дождь все шел и шел, и это было так чудесно — догадываться, что где-то там, за окном, холодно и сыро, а сам ты находишься в укрытии, вдалеке от всего внешнего мира.
Однако стоило им обоим задремать, как раздался настойчивый стук в дверь. Любовники одновременно подняли головы. Не отвечать. Не проронить ни звука. Неизвестный стукнул еще раз, попытался открыть дверь, но все напрасно.
А вдруг он выломает замок? Адил-бей прижал Соню к груди, а когда удаляющиеся шаги наконец стихли, взглянул на любимую и испустил тяжелый вздох.
— Я испугалась, — сказала она.
Ее тело было влажным. Адил-бей позволил себе робкую ласку. Он обнимал Соню в первый раз. Все остальные объятия не в счет. Он уже забыл о них.
— Давайте поспим!
Она очень забавно засыпала, сворачиваясь клубочком, втягивая голову в плечи.
А затем появился тусклый утренний свет, с трудом пробивавшийся сквозь бумагу на стеклах. Дом оживал. Кто-то мылся на лестничной клетке.
Адил-бей только-только проснулся, когда заметил, что глаза Сони уже широко открыты. Ее лицо, ее поза выдавали усталость девушки.
— Это было бы хорошо! — вздохнула она.
— Что?
— Жить в другом месте, в Стамбуле, да не важно где, просто чтобы жизнь была, как на фотографии!
Он не сразу понял, о чем она. Даже смущенно предположил, что Соня ревнует, и потому заверил:
— Это будет хорошо.
— Да. Будет! Как вы намереваетесь все устроить?
— Я еще не знаю, но найду средство.
Адил-бей чуть было простодушно не сказал: «Как это обидно, что расстреляли проводника». Нет, об этом говорить не стоит. Однако консул нисколько не сердился на Соню. Он находил ее поведение естественным.
— Позвольте мне одеться.
Раньше она делала это прямо у него на глазах, но сегодня попросила подождать в кабинете, куда турок и вышел в пижаме. Мужчина посмотрел на разбитую чернильницу, разбросанные по полу документы, удовлетворенно потянулся, зевнул и, продолжая улыбаться, перевел взор на госпожу Колину, которая за прозрачной занавеской расчесывала длинные волосы.
Адил-бей слышал, как ходит по комнате Соня. Он представлял каждый ее жест и растрогался больше обычного, заметив любимую в черном платье и даже в шляпке на фоне дверного проема.
— Как жаль, что нужно уходить, — с озабоченным видом сказала Соня.
— Тогда почему вы уходите?
— Так надо.
— А если мы начнем с того, что поженимся в России?
Эта идея лишь сейчас пришла Адил-бею в голову, и он ее тут же озвучил.
— Это ничего не изменит. Я останусь русской гражданкой, и мне откажут в выдаче паспорта.
— Что вы собираетесь делать?
— Попробую выйти отсюда незамеченной. Вернусь домой. Позавтракаю. А к девяти часам утра приду в консульство.
Про консульство турок совершенно забыл. Он вновь посмотрел на разбросанные документы и подумал, что они не имеют никакого значения.
— Я займусь отъездом. Вы правы, вероятно, будет лучше, если консульство останется открытым.
Адил-бей отдавал себе отчет, что пока еще ничего не улажено и они вообще не продумали материальную сторону вопроса.
— До встречи, Адил-бей.
Она уходила, как в любой другой день, но консул почему-то ощутил беспричинный страх и принялся бормотать, как делал это каждый раз, будучи сильно взволнованным:
— Соня…
— Что такое? Я вернусь к девяти часам.
— Да… Я знаю…
Он не отпускал ее ладонь. Никак не мог решиться позволить девушке уйти.
— А если вы останетесь?
— Это невозможно.
И она указала на дом напротив, высвободила руку. Уже на пороге Соня обернулась, чтобы послать мужчине короткую улыбку.
— В девять часов!
Адил-бей задумчиво брился, когда услышал шаги домработницы, о которой он совершенно забыл.
Когда консул, наконец одевшись, появился в кабинете, он увидел служанку, державшую в цепких руках Сонину сумку.
— Вот, секретарша забыла, — сообщила женщина.
— Спасибо. Она скоро придет.
Что касается его, то Адил-бей предпочел уйти до начала наплыва посетителей. В его голове зародился смутный план — во всяком случае, турок решил, куда следует направиться.
Воздух оказался прохладным. Дождь превратился в туман, и даже с набережной можно было с трудом различить гладь залива. У входа в порт гудело морское судно. Прохожие шагали очень быстро.
Адил-бей зашел в здание из красного кирпича, в котором располагались отделы «Стандарта». Здесь русские работали в атмосфере Америки.
— Могу я видеть месье Джона?
Ему указали на потолок, и Адил-бей поднялся на второй этаж. Здесь оказалось несколько дверей. Консул постучал в одну из них. Ему крикнули что-то невнятное, и турок вошел.
Джон еще не вставал, шторы в комнате были закрыты. Но и в полутьме американец узнал гостя, протер глаза и провел рукой по волосам.
— Я пришел, чтобы просить вас об услуге. Это очень важно и очень срочно, — на одном дыхании выпалил Адил-бей.
Американец опустошил большой стакан минеральной воды.
— Мне просто необходимо вывезти из России одну девушку. Разумеется, у нее нет паспорта.
— Малышку? — бесстрастно поинтересовался Джон.
— Какую малышку?
— Вашу маленькую мышку, секретаршу?
— Да. Я прошу вас хранить это в строжайшей тайне. Вы, как и я, знаете, какой опасности она подвергается.
— Получить пулю в живот! Послушайте! Мне необходимо переговорить с одним знакомым бельгийским капитаном. Встретимся вечером?
Джон свесил ноги с кровати. Он говорил вялым голосом, недовольно озираясь.
— Неужели нельзя связаться с этим вашим капитаном как-нибудь побыстрее?
— Скажите, Адил-бей, а вы совершенно уверены, что этот ребенок действительно хочет уехать? Поймите меня правильно, но если мне решительно наплевать на нее, то мне не наплевать на бельгийца, который может вляпаться в крупные неприятности!
— Я ручаюсь за Соню.
— Ну, разумеется!
— Почему разумеется?
— Потому что я заметил на вашем пиджаке светлые волосы. Где мои тапочки?
Джон открыл шторы, принял душ, оделся — по-прежнему спокойный и мрачный.
— Я вас предупреждал.
— О чем?
— Я вам сказал, что вы здесь надолго не задержитесь. То, что вы делаете, невероятно глупо, но это ваше дело. Вам стоило бы бежать в одиночку, уж если вы намереваетесь бежать…
Вместо завтрака американец влил в себя стакан виски, не глядя на покрасневшего гостя.
— Вы уже готовы наделать глупостей. Если я отпущу вас в город, я убежден, что вы найдете способ устроить так, чтобы вас арестовали. Где мой пиджак? Кстати, Пенделли просили меня передать вам привет. В настоящее время они проплывают мимо Самсуна, как раз мимо вашей страны. Вы идете?
После того как Джон бросил угрюмый взгляд в сторону многочисленных кабинетов «Стандарта», мужчины окунулись в промозглую сырость города. Вся эта часть порта пропахла нефтью. Через каждые пятьдесят метров навстречу попадались часовые в зеленых фуражках, которые приветствовали американца.
— Этот корабль?
— Нет, тот, что сзади. Погрузка закончится к вечеру, а ночью он, без сомнения, уже будет в море. На этом корабле всего одна пассажирская каюта. У вас есть пропуск?
— Какой пропуск?
— Позволяющий передвигаться по порту и подниматься на борт судов.
— Нет.
— Подождите!
Джон зашел в караульное помещение и заговорил с людьми в форме. Адил-бею показалось, что он видит, как американец раздает сигары.
— Пойдем! — вернувшись, позвал он. — Нам не следует оставаться на территории более получаса, затем охрана Сменится.
Они обнаружили капитана в его каюте, расположенной в палубной надстройке, он был без кителя и занимался тем, что писал письма. Джон сел, попутно представив:
— Консул Турции! Скажите ему прямо, поспособствуете ли вы его счастью или нет.
Туман окутал корабль, металлические перегородки покрылись капельками влаги. Капитан слушал. Поглаживая затылок, он время от времени бросал взгляды на консула.
— Он влюбился в русскую малышку и хочет вывезти ее из страны.
— Это возможно? — спросил Адил-бей.
— Все возможно, — вздохнул капитан. — Но это так хлопотно!
— Почему?
— А вы полагаете, что это так просто — провести кого-то тайком на борт, а затем прятать его во время досмотра?
— Так вы это уже делали?
— Черт возьми!
Капитан поднялся и открыл шкаф, в котором на вешалках висела форменная одежда, пальто, длинные прорезиненные плащи.
— Вот! Основная хитрость заключается в том, чтобы они не заметили ног.
— Как вы это делаете?
— Подвешиваем человека за руки, здесь, на высоте вешалок, а он изо всех сил сжимается. Обычно русские не трогают мою одежду. Они довольствуются тем, что смотрят на нее мельком.
— А если бы им вздумалось порыться в шкафу?
Капитан пожал плечами.
— И как долго это длится?
— Ожидание внутри шкафа? Иногда час, а порой и целый день. В последний раз они оставались на борту с самого полудня и до девяти часов вечера.
— А там достаточно воздуха?
Адил-бей знал, что докучает собеседникам своими вопросами, но разве он мог их не задать?
— Вышеупомянутая девица хотя бы способна не падать в обморок?
— Я ручаюсь за нее.
Джон, взявший в шкафу бутылку пива и сейчас наливавший его в стакан, посмотрел на турка с неподдельной жалостью.
— Так всегда говорят!
— Я вам клянусь. Эта девушка не похожа на других.
— Ну это очевидно! Стакан пива? Настоящий «Pilsen».
Адил-бею было решительно все равно. Он был переполнен энтузиазмом и нуждался в немедленном решении проблемы.
— Я полагаю, вы делаете остановку в Стамбуле?
— Обычно мы пересекаем Босфор. Час стоим на рейде, но никого не можем высадить на берег, потому что мы транзитное судно.
— А тогда где можно сойти?
— В Антверпене. Мы будем там через двадцать дней.
Ну и пусть! Адил-бей согласился бы плыть даже до Сан-Франциско!
— Вас это устроит? Что касается вас, если ваши документы в порядке, вы займете пассажирскую кабину. Соседнюю.
— А как провести на борт девушку?
— Это совсем другая история, и здесь многое зависит от нее. Она умеет плавать?
Адил-бей не был в этом уверен, но знал, что Соня часто ходила на пляж.
— Да, — твердо заявил он.
— В этом случае ей следует зайти в воду как можно дальше отсюда, а когда стемнеет — бесшумно плыть. Мы выбросим пеньковый трос за левый борт и, когда она привяжется, поднимем ее. Конечно, если ее заметят с берега или просто что-нибудь услышат, они без колебаний откроют огонь.
— Тогда договорились на сегодняшний вечер, — вставая, подвел итог разговору Адил-бей.
Капитан и Джон переглянулись. Адил-бей даже не подумал их поблагодарить, так он спешил сообщить эту новость Соне. Джон проводил приятеля до набережной.
— Вы полагаете, это очень опасно?
— Опасно.
— А сколько раз у вас уже получалось?
Адил-бей нуждался в уточнениях подобного рода, но Джон довольствовался тем, что смотрел куда-то вдаль.
— А вы будете на борту? — задал очередной вопрос Адил-бей.
— Не знаю.
Почему окружающие его люди такие равнодушные? Турку хотелось встряхнуть их и закричать: «Неужели вы не понимаете, как это важно, ведь речь идет о жизни моей жены и о моей собственной жизни?!»
Нет, они не понимали этого! Они думали только о своих делах! Они обращались с ним как с чересчур возбужденным больным!
— Я бы посоветовал вам нигде не показываться в таком состоянии, — сказал Джон перед тем, как они расстались у ворот нефтеперерабатывающего завода. — Кто-нибудь сразу же что-нибудь заподозрит. Если вдруг дело примет дурной оборот, то до вечера я буду у себя в офисе. После десяти — в баре.
Адил-бей шел, задыхаясь во влажном тумане, украсившем его плащ белыми жемчужинами. Консулу казалось, что набережной не будет конца, что он никогда не доберется до дома и что это самый долгий день в его жизни. Что же ему еще остается сделать? Попросить визу, которую ему обязаны сразу же выдать. Он заявит, что ему нужна срочная операция и потому он должен вернуться в Турцию.
Что касается Сони, ей не следует брать с собой никаких вещей. Лишние сложности! Главное — быстрота! Покончить со всем этим! А вот когда он услышит, как скрипит якорная цепь…
Он бегом поднялся по лестнице и на секунду остановился, не осмеливаясь переступить порог.
— Соня!
Пустой кабинет. На стульях — посетители, ожидающие приема. Первый из них поднялся с документами в руке.
Адил-бей бросился в спальню, где домработница стелила постель.
— Моя секретарша?
— Она не приходила.
Было одиннадцать часов. А она обещала, что придет в девять!
Адил-бей неподвижно стоял посреди комнаты, ища глазами окна напротив, закрытые окна с черными стеклами, на фоне которых выделялись кремовые цветы занавесок.
11
Проходили часы, но настроение неба нисколько не изменилось, в полдень на нем по-прежнему царил сине-зеленый гибельный рассвет, заставляющий думать о неком поезде, рухнувшем с насыпи, или о том, как утром в бедном квартале обнаружили страшное преступление.
Адил-бей вышел из дома напротив, располагая все теми же сведениями, с которыми он туда заходил. Он постучал в дверь на втором этаже, в равной степени опасаясь того, что ему откроют, и того, что квартира окажется пустой. Никто не ответил на стук консула, и он вернулся на улицу. Мужчина нервничал, пытался что-то судорожно сообразить, оглядывался, дабы убедиться, что за ним нет слежки.
— Будет лучше, если сначала я улажу вопросы с собственной визой, а затем уже попытаюсь выведать что-нибудь о Соне.
Большое здание, куда консул обычно приходил вместе с Соней, было переполнено мокрыми людьми, ожидающими своей очереди. Адил-бей, чувствуя себя почти своим в этих стенах, толкнул дверь кабинета. Чиновник с бритым черепом оказался на месте. Напротив него сидел посетитель. Что же делать, войти или выйти? Турку знаком велели подождать.
Такого еще никогда не случалось! В этом кабинете никогда не бывало посторонних! Он вынужден остаться на лестничной площадке, считая минуты, среди всех этих людей, сидящих прямо на полу!
Через четверть часа нервы консула совсем сдали и он уже собирался вновь толкнуть дверь, когда она открылась сама собой. Посетитель вышел. Чиновник, глядя на Адил-бея со своей будто бы нарисованной улыбкой, указал ему на освободившийся стул.
Ему не хватало Сони, которая обычно играла роль переводчицы. Консул положил на письменный стол паспорт и на плохом русском объяснил, что желает получить визу.
Он готовился к удивлению, к вопросам. Но его собеседник довольствовался тем, что глотнул чаю, изучил все страницы паспорта, а затем протянул руку к печати и приложил ее к последнему листу.
Это была гарантия отъезда, и Адил-бей поскорее затолкал паспорт в карман. Говорить о Соне оказалось еще труднее, настолько трудно, что турок покраснел и принялся путаться в словах, которые больше не желали складываться в предложения. Он извинялся. Он приносил извинения, но он бы хотел знать… Он не был уверен… Возможно, что…
— Sprechen Sie Deutsch?[6] — спросил чиновник, с любопытством глядя на собеседника.
— Jawohl![7]
Почему этот человек не сказал ему раньше, что владеет немецким? В течение нескольких месяцев Соня была вынуждена слово за словом переводить все их беседы, а оказывается, они знали один и тот же язык.
Адил-бей воодушевился, принялся торопливо излагать свою историю, объяснил, что его секретарша не пришла сегодня утром, что ему просто необходимо ее найти, что…
— Вы уезжаете или нет?
— Я уезжаю… То есть…
— Я поставлю вопрос иначе. Хотите ли вы, чтобы к завтрашнему утру я нашел вам другого секретаря?
— Мне необходимо узнать, что стало с моей секретаршей. Я — консул. И международные правила…
Он не осмелился настаивать дальше. На губах начальника отдела по работе с иностранцами плавала рассеянная улыбка, он развел руки жестом бессилия.
— Что вы хотите, чтобы я вам сказал? У вас исчезли документы? У вашей секретарши были веские причины покинуть свое место? Что касается меня, я занимаюсь только иностранцами…
— В таком случае проводите меня к человеку, который сможет предоставить мне необходимую информацию.
Русский поднялся и исчез за дверью. Он отсутствовал более четверти часа, во время которых Адил-бей начал грызть ногти от нетерпения и порой щупать паспорт, лежащий в кармане.
А что, если Соня уже вернулась? Быть может, его манера поведения излишне агрессивна? Служащая за его спиной щелкала счетами.
Наконец вернулся бритый чиновник, выражение его лица осталось таким же непроницаемым.
— Товарищ Рабинович примет вас через несколько минут. Вы позволите?
И, усевшись за стол, он принялся сверяться с документами, ставить подписи. Ему принесли новый стакан чая. Русский предложил чай Адил-бею, но тот отказался. В конце концов чиновник встал, несколько мгновений смотрел в окно, зажег сигарету.
— Пройдемте?
Почему именно в этот момент? Никто не звонил. Чиновник даже не посмотрел на часы. Получается, он заставил консула ждать просто ради самого ожидания!
В соседнем кабинете в полном одиночестве сидел маленький еврей. Стальная оправа очков, черная бородка и черные ногти.
— Вы предпочитаете говорить по-французски? — поинтересовался он.
И до сих пор они позволяли Адил-бею верить, что в этом городе никто не говорит на французском! Воистину, день открытий. Но у консула не было времени думать об этом. Он сказал:
— Я хочу знать, что стало с моей секретаршей, которая исчезла сегодня утром.
— А почему вы хотите это знать?
Очки безмерно увеличивали глаза вопрошавшего, которые смотрели на турка с фантастической, завораживающей наивностью.
— Потому что… это моя секретарша… и…
— Меня уведомили, что сегодня вечером или в крайнем случае завтра вы уезжаете.
— Я хотел, действительно…
— Вы больше не собираетесь уезжать?
Адил-бей почувствовал страх, а в это время огромные глаза продолжали следить за ним.
— Нет, я уезжаю!
— В таком случае вы не нуждаетесь в вашей секретарше. Если только вы не хотели увезти ее с собой, о чем следовало нас предупредить.
— Я вас уверяю… Даже речи не может быть о том, чтобы ее увезти…
— Таким образом, все отлично, не правда ли? Это все, чем я могу быть вам полезен?
Они что-то знали, это точно! Более того, начальник отдела по работе с иностранцами весь разговор оставался у двери и внимательно следил за ним, хотя беседа и велась на французском.
— Кстати, на какой корабль вы намереваетесь сесть?
— Я еще не знаю.
— Надеюсь, мы будем иметь удовольствие снова увидеть вас в Батуми?
Именно эта чудовищная наивность его глаз казалась особенно пугающей. Она заставляла вспоминать о глазах зверя.
Рабинович с одной стороны; бритый мужчина с другой. И, уже повернувшись, Адил-бей обнаружил, что при их разговоре присутствует еще один тип. В какой-то момент у консула возникла безумная идея, что сейчас русские окружат его и не позволят уйти.
— До свидания, господа.
— Приятного путешествия.
Они пропустили его, но провожать не пошли. Все остались в кабинете, чтобы поговорить о нем.
На лестнице Адил-бей растолкал людей, которые покорно позволили так с ними обращаться. Он почти бегом направился к выходу, чтобы вернуться домой и убедиться, что Сони там нет. Окна в доме напротив были закрыты. Он испытывал странное мучительное чувство, которое бывает во сне, когда безуспешно бежишь за поездом или спускаешься по лестнице, не касаясь ступеней.
Если бы он обнаружил Соню, хватило бы ему времени, чтобы подготовить отъезд? Ему самому необходимо уехать! Теперь нельзя оставаться в Батуми, особенно после визита к Рабиновичу. Адил-бей не сделал ничего плохого, однако он вел себя как преступник. Он должен принять решение. Ему еще долгие часы ждать отплытия судна, и он не мог провести их, ничего не предпринимая.
И вот он снова идет по улицам, шлепая по лужам, задыхаясь, спешит вдоль набережной, но не замедляет шаг. Так Адил-бей снова добрался до «Стандарта».
— Месье Джон у себя?
— Он наверху, обедает.
Адил-бей никогда не видел столовую Джона и потому удивился, обнаружив комфортабельную комнату, а в ней слугу в белой куртке и накрахмаленной манишке.
Джон в рубашке с закатанными рукавами рассеянно протянул руку визитеру.
— Как дела?
— Соня исчезла.
— Столовый прибор, — бросил Джон слуге.
— Я не хочу есть. Я спешу.
— Пустяки.
— Мне совершенно необходимо знать, что с ней случилось. Я могу сказать вам правду. Эту ночь она провела у меня. А утром ушла, но обещала вернуться к девяти часам. В управлении меня встретили странно, одновременно насмехались и угрожали.
Он говорил очень быстро, глотая слова, сбиваясь с дыхания, а тем временем Джон продолжал есть. Затем он поднялся с места прямо с набитым ртом и потащил Адил-бея к окну, чтобы продемонстрировать консулу невымощенный двор, покрытый черной землей и обнесенный высокой стеной с тремя рядами колючей проволоки.
— Что это?
Во дворе, к которому примыкали кирпичные здания, никого не было. Адил-бей сначала ничего не понял, затем неожиданно вспомнил о расстрелянном проводнике.
— Это тут?
Он был потрясен, но не настолько, насколько ожидал. В конечном итоге вся эта беготня, начавшаяся еще рано утром, была затеяна только ради Сони. Именно ради нее он так суетился! Однако сейчас, глядя на этот зловещий двор, мужчина пытался вспомнить ее лицо и понимал, что не может этого сделать. Ее лицо ускользало, черты расплывались, не обретали никакого выражения, как будто русская девушка находилась далеко, очень далеко от него.
— Но ее не могли расстрелять?
— Этим утром я не слышал выстрелов. Видите вот там, слева во дворе, здание, поменьше остальных? Там-то все и происходит.
В размытом свете эти декорации напоминали фотографии, которые можно увидеть в газетах, и Адил-бей вспомнил снимок, сделанный им на войне: заря, воронка от снаряда и крупным планом — сапоги убитого.
— Что мы будем делать?
— По-прежнему обедать.
Джон взял со стола ломоть холодного мяса и, жуя, направился к телефону. Он назвал номер, незнакомый Адил-бею, и долго говорил на русском, на очень чистом, беглом русском языке.
А ведь он никогда не упоминал, что знает русский. Американец долго рассыпался в любезностях в трубку аппарата. Улыбался. Должно быть, справлялся о здоровье собеседника. Слушая ответ, он налил себе полный стакан виски. Постепенно мужчина становился все серьезнее, иногда он качал головой, повторяя:
— Да!.. Да!..
Повесив трубку, он опустошил стакан с необычной медлительностью.
— Кому вы звонили?
— Начальнику из ГПУ, большому начальнику.
— Что он сказал?
— Почему вы не едите? Он посоветовал мне не лезть в это дело. Но я настаивал. Я просил сказать правду.
— И что тогда?
— Ничего. По его мнению, лучшее, что вы можете сделать, это сегодня вечером сесть на корабль.
— Значит, они все-таки убили ее!
— Не думаю. Сегодня утром я не видел никаких подозрительных передвижений во дворе.
— Скажите мне, Джон, как вы думаете, я могу что-нибудь сделать для Сони? Будьте искренним. Я готов ко всему…
Адил-бей весь покрылся испариной, в то время как его собеседник вместо ответа налил ему полный стакан спиртного.
— Выпейте.
— Я не могу ее оставить. Мне необходимо признаться вам, что все последние месяцы она была моей любовницей…
— Пейте!
Джон ел мармелад, положив локти на стол и созерцая узоры на скатерти.
— Это было бы трусостью — уехать без нее. Вы должны меня понять. Или я должен быть уверен…
Он десять раз на все лады повторил одно и то же, а затем, не отдавая себе отчета, принялся есть. Слушал ли его Джон? Адил-бей говорил, говорил, ведь он не смог выговориться в кабинетах русских. Порой он смотрел на часы, стрелки которых не спешили указывать на полночь.
— Мне необходимо знать, к кому я должен обратиться…
Джон закурил сигару, еще раз наполнил стакан своего собеседника и откинулся на стуле.
Когда вспотевший Адил-бей наконец закончил и перевел на американца умоляющий взгляд, Джон раздельно произнес:
— Вот что вы сейчас сделаете. Вы вернетесь к себе и сложите чемоданы. Затем вы доставите их на борт и займетесь таможней. Корабль отплывет не раньше полуночи. Около десяти часов вечера я буду в баре вместе с капитаном, и вы к нам присоединитесь. И тогда я сообщу вам, что нового я узнал.
— А вы уверены, что сможете что-то узнать?
— Я ни в чем не уверен. Но я сделаю все, что смогу.
— Но что? К кому вы обратитесь?
— Это не ваше дело.
И американец подтолкнул к Адил-бею коробку с сигарами.
Когда Адил-бей увидел сквозь туман яркий свет бара, услышал музыку, он наконец-то замедлил шаг: так замедляет свои движения пловец, приближающийся к спасительному буйку.
Консул был на пределе. Вот уже несколько часов он что-то лихорадочно делал, нервный, напряженный, такой одинокий в городе, в котором больше не чувствовал себя в безопасности. Таковы факты. Джон сам это признал. Адил-бею угрожали.
В квартире не только не оказалось Сони, но и куда-то, безо всяких причин, исчезла домработница; окна дома напротив так и не открылись.
Его окружали неестественная пустота и тишина. Например, консул отправился на улицу найти носильщика для багажа. Он долго бродил под моросящим дождем. И никого не встретил!
Адил-бей был вынужден самостоятельно вынести все свои свертки и чемоданы. Особенно трудным оказался спуск по лестнице. И никто из жильцов не поспешил ему на помощь. Они все куда-то запропастились.
А главное, что ему делать с этим багажом, стоящим на краю тротуара? Здесь не было ни такси, ни машин! Его отгородили стеной, окружили пустотой, они хотели, чтобы он задохнулся в пустоте!
Тогда мертвенно-бледный Адил-бей нашел на стройке тачку и сам протащил ее вдоль всей набережной!
Он не мог не пройти таможню. Он должен покинуть город любой ценой, и покинуть сегодня.
Именно с этой тачкой он прошел мимо бронзового Ленина, затем мимо Дома профсоюзов, в котором не оказалось ни единого человека. Он попытался представить Соню, сидящую на подоконнике, но ее образ вновь ускользнул от него. Ему надо было еще многое сделать и о многом подумать. Его отсылали от одного таможенника к другому. Никто не желал помогать Адил-бею. Больше всего на свете турок хотел бы остаться в порту, рядом с кораблем, а не возвращаться на все эти улицы, затопленные водой, окруженные темными домами, на улицы, по которым скользили непонятные тени или прохаживались чиновники с угрожающими улыбками.
Но теперь все его метания закончились. Он погружался в музыку. У него забрали шляпу, пальто, и вот он уже оказался возле светящегося диска джазового барабана. За столом его ждали три человека. С одной стороны устроился Джон, с другой — бельгийский капитан, а в центре, спиной к залу, сидела женщина. Это была Неджла!
— Виски? — спросил Джон.
И тут же продолжил, чтобы сразу покончить с нудными вопросами:
— Послушайте, я не узнал ничего нового!
Часы, висящие над головами музыкантов, показывали десять часов вечера. Неджла выглядела истерически веселой.
— Кажется, вы уезжаете, Адил-бей? — сказала она, оборачиваясь к консулу.
— Еще не знаю.
— Полноте! Ваш багаж уже на борту.
Она бросила быстрый взгляд на капитана, затем на Джона, который встал и направился к умывальнику, сделав турку знак следовать за ним.
— Вы полагаете, что больше ничего нельзя предпринять? — выдавил из себя консул, когда они остались наедине.
— Ничего.
— И позднее? Завтра или послезавтра?
— Ничего.
— Почему вы так уверены?
— Сегодня во второй половине дня приезжал грузовичок.
— Какой грузовичок?
Адил-бей не понимал, однако догадывался: за этим кроется нечто ужасное.
— Грузовичок с железным кузовом, в котором проделаны дыры, чтобы проветривалось внутри…
Турок видел его два или три раза. Едва заметив этот грузовик, каждый знал, что где-то надо забрать труп.
— Когда этот грузовик появляется в казарме и заезжает во двор… Держите себя в руках, старина!
Джон ласково похлопал его по спине. Адил-бей не двигался, не плакал, все, что он ощущал, — это холодок между лопатками.
— Вы уверены, что он приехал именно за ней?
Его голос не дрогнул, взгляд стал более твердым.
— Пойдем. Иначе возникнут вопросы, что мы здесь делаем.
Джон вновь занял свое место и продолжал наблюдать за Адил-беем, который прервал оживленную беседу капитана и Неджлы.
— Когда мы отплываем?
— Около часа. Мы должны быть на борту до полуночи.
Еще час ожидания. Джон видел, как рассеянный взгляд Адил-бея безостановочно скользит по залу, от одного человека к другому, зорко следит даже за шторой, отделяющей часть зала.
— Выпейте! Вам станет легче!
— Вы так думаете?
Неджла с беспокойством посмотрела на Адил-бея и, коснувшись ногой ноги капитана, прошептала:
— Вы ему сказали?
— Еще нет.
Каким он может быть долгим — один час! И если они расстреляли Соню, чей брат служил в ГПУ, есть основания предполагать, что…
— Кстати… — очень тихо прошептал несколько смущенный капитан, склоняясь к консулу.
Он выпил. Его щеки разрумянились. Адил-бей заметил, что бельгиец держит руку Неджлы.
— Так как всем известная особа не придет, а все уже готово…
Капитан убедился, что соседи их не слышат. Джон отбивал пальцами джазовый ритм.
— …Вместо нее я решил взять мадемуазель… Будет лучше, если мы поднимемся на борт… А через полчаса она присоединится к нам… Официант!..
Капитан хотел заплатить, но Джон остановил его руку и бросил официанту по-русски:
— Запишите на мой счет!
Дождь прекратился. Женщины, стоящие на пороге, как обычно, ждали клиентов, но они даже не улыбнулись трем мужчинам. Джон опирался на плечо Адил-бея. Утопая в вязкой грязи разгрузочных причалов, они почувствовали запах нефти.
Представители власти еще не прибыли. Адил-бей слышал, как кто-то говорил об этом. Он позволил себя вести. Так турок оказался в каюте капитана наедине с Джоном.
— Здесь вам будет спокойнее!
Адил-бей покорно согласился, выпил налитое ему пиво. Затем он спросил себя, а где же капитан, но почти сразу же стал думать о чем-то ином.
Чуть позже на мостике раздались шаги. Открылась дверь. Вошла совершенно мокрая Неджла, ее платье облепило фигуру, офицер снова закрыл дверь.
— Не хотите ли раздеться в ванной комнате?
Все это напоминало фильм без слов и музыки.
Адил-бей оказался полностью вне игры и, почувствовав на себе взгляд Джона, попытался улыбнуться приятелю, как будто желая успокоить его. Казалось, все закончилось, не заканчиваясь. Вернее, это была всего лишь иллюзия окончания действа, потому что пограничники еще не поднимались на борт.
Капитан с Неджлой вышли в соседнюю каюту. Оттуда она выпорхнула, наряженная лишь в легкий пеньюар, и устроилась в платяном шкафу.
Вошел второй офицер.
— Они внизу!
Почему он не может вспомнить выражение Сониного лица? Турок снова и снова видел темный силуэт, тонкую светлую шею, абрис шляпки и даже молочное пятно лица. И все! Почему?
В офицерской кают-компании за столом сидели трое мужчин в зеленых фуражках. Им тоже подали пиво. На столе возвышалась груда паспортов, а тридцать два человека экипажа выстроились вдоль противоположной стены.
Перекличка проходила, как в казарме. Паспорта листал не кто иной, как Колин, он смотрел на фотографию, а затем на вышедшего вперед человека.
— Петерс…
— Здесь!
Колин проводил перекличку медленно, добросовестно. Адил-бей, примостившийся в конце шеренги, уставился на черную ленточку шириной в два пальца, украшавшую петлицу гэпэушника наподобие орденской ленты.
— Ван Ромпен…
— Здесь!
Каждый получал свой паспорт.
— Нельсен…
— Здесь!
— Адил Зеки бей.
Мужчина ответил не сразу, и Колин поднял голову, взглянув на одутловатое лицо турка, который упрямо смотрел на петлю с траурным знаком и не шевелился, и даже не дышал.
— Капитан Ковелар…
— Здесь!
Формальности закончены. Ему вернули паспорт. Когда Адил-бей коснулся пальцев Колина, он вообще ничего не почувствовал! Пока шел досмотр судна, экипаж оставался в офицерской кают-компании. Колин вышел вместе со своими людьми, за ними последовал капитан. Моряки сели. Один из них допил бутылку пива.
— Ну что, старина?
Джон тяжело смотрел на Адил-бея.
— Ну что? Ничего!
На лице бывшего консула появилась жалкая улыбка.
— Вы видели черную ленточку?
— Да! А еще я видел глаза. Окажись я на его месте, я бы вас убил…
Но как Джон догадался? Окно напротив, Колин, смолящий папиросу в ночи… Серые листы бумаги, которые Адил-бей прикрепил к стеклам… И русский, который уже в десятый раз высовывается из окна, чтобы осмотреть улицу…
— Мне пора идти. Удачи!
— А вы надолго останетесь в Батуми?
Джон посмотрел на собеседника так, как умел он один — странное сочетание проницательности и отрешенного безразличия.
— Полагаю, что навсегда.
— Но почему?
Дверь каюты была открыта. Сквозь ее проем можно было увидеть мокрую набережную, свет бара, а дальше угадывалась путаница грязных улиц. Джон коротко ответил:
— Привычка… Прощайте!..
Колин и его люди спускались по трапу. Под мышкой Колин нес портфель. Проходя мимо, капитан мельком взглянул на Адил-бея.
Затем последовала долгая беготня, маневры, сопровождаемые грохотом команд, шумом кабестана[8] и плеском воды у якорной цепи.
Неужели Колин, вернувшись домой, облокотится о подоконник и примется смотреть на слепые окна дома напротив?
Адил-бей стоял на палубе, прислонившись к борту. Мир вокруг него двигался. Фонари сместились. Мимо турка пробежали матросы.
Время от времени раздавалось звяканье телеграфа, передающего команды в машинное отделение.
Шел дождь или просто сгустился туман? Кожа Адил-бея стала влажной, палуба — мокрой. Фырчание мотора усилилось.
Зажегся сначала зеленый, потом красный свет. Корабль издал три долгих гудка и начал набирать скорость.
Батуми? Его больше не было видно. Они обогнули мыс и оставили позади себя громаду черного неба, а впереди уже виднелись горы Малой Азии.
— Капитан просит вас присоединиться к нему в его каюте.
Стюард удалился. Адил-бей поднялся по лестнице и услышал громкие голоса.
— Войдите!
Его встретил яркий свет. Неджла в розовой пижаме хохотала, вставляя новую иглу в патефон. Капитан расстегнул китель. Стюард принес шампанское.
— Я подумал, что вы выпьете с нами стаканчик…
Под иглой зазвучало танго, именно это танго каждый вечер исполняли в баре. Неджла подпевала, изображала танцевальные па и созерцала обоих мужчин блестящими глазами.
Затем она уселась на ручку кресла капитана. Затем…
Принесли еще шампанского. Неджла все время хохотала. Танцевала. Она поцеловала капитана, а потом и Адил-бея. Она заставила его танцевать.
Время от времени она заговорщически подмигивала турку, особенно когда ластилась к бельгийцу. Иногда ее грудь выскальзывала из пижамы, и женщина не сразу это замечала.
Корабль размеренно вибрировал. Качка была очень слабой, но Адил-бей чувствовал недомогание.
Как ему вспомнить Соню? Перед его глазами вновь возникали лишь черное платье, сапоги, шляпка…
Капитан светился от счастья. Было уже очень поздно, когда он поднялся.
— Пора ложиться!
Он пожал влажную руку Адил-бея. Неджла так и не покинула каюту, а когда дверь закрылась, из-за нее вновь раздался задорный смех бывшей жены персидского консула.
Немного позднее они закрыли шторки иллюминатора. Адил-бей, по-прежнему испытывавший тошноту, добрался до борта, и у него началась сильнейшая рвота, настолько сильная, сотрясающая тело, что мужчине пришлось обхватить двумя руками живот.
Несмотря на моросящий дождь, палубные надстройки оставались белыми, как молоко. Все остальное было черным.
В чем его сможет упрекнуть министр? Любой врач обнаружит в его организме следы мышьяка! Джон, который отлично знал эту страну, категорически советовал ему уехать.
Ведь он сражался в Дарданеллах, затем за Мустафу Кемаля. Он, не задумываясь, поставил на место Пенделли.
В капитанской каюте по-прежнему смеялись. У себя в каюте Адил-бей щелкнул выключателем и машинально посмотрел на иллюминатор, как будто хотел убедиться, что напротив нет ни единого окна.
ЧАСОВЩИК ИЗ ЭВЕРТОНА
Глава первая
До полуночи, вернее, до часу ночи, этот вечер ничем не отличался от других вечеров, точнее, от других субботних вечеров, поскольку субботы не были похожи на прочие дни.
Провел бы он этот вечер по-иному, постарался бы еще больше насладиться им, если бы мог предположить, что тот станет его последним вечером как счастливого человека? Позднее он наверняка попытается ответить на этот и многие другие вопросы, например действительно ли он был когда-либо по-настоящему счастлив?
Но пока он еще ни о чем не знал и довольствовался тем, что просто жил, неторопливо, беззаботно. Он даже не осознавал до конца, как один за другим проходили часы, столь похожие друг на друга, что у него порой даже создавалось впечатление, будто он уже давно их прожил.
Он редко закрывал магазин ровно в шесть часов. Почти всегда он задерживался на несколько минут и только потом вставал из-за своего рабочего стола, перед которым на маленьких крючочках висели часы, принесенные в починку, снимал с правого глаза лупу в черной эбонитовой оправе, которую носил целый день, словно монокль. Возможно, по прошествии стольких лет у него по-прежнему сохранялось чувство, что он работал на хозяина, и он боялся показать, насколько дорожил своим временем?
Миссис Пинч, державшая рядом агентство по продаже и сдаче внаем недвижимости, закрывалась ровно в пять часов. А парикмахер, боявшийся опоздать, уже с половины шестого начинал отказывать клиентам. Закрывая витрину своего магазина, Гэллоуэй почти всегда видел, как тот садился в машину, собираясь ехать домой. У парикмахера был красивый дом в жилом квартале. Трое его детей ходили в школу.
В течение нескольких минут точными, немного медленными движениями, как человек, привыкший иметь дело с хрупкими и ценными предметами, Дейв Гэллоуэй собирал с полок часы и украшения, чтобы затем запереть их в сейфе, стоявшем в глубине магазина.
Самые дорогие часы стоили не больше сотни долларов. По правде говоря, у Гэллоуэя были только одни такие. Все остальные стоили намного дешевле. Все украшения были сделаны в технике плаке с имитацией драгоценных камней. Вначале он пытался продавать обручальные кольца, украшенные настоящим бриллиантом, бриллиантом примерно в полкарата, однако за подобными покупками жители Эвертона предпочитали ездить в Покипси и даже в Нью-Йорк, возможно, потому что им было неловко покупать обручальное кольцо в рассрочку у знакомого продавца.
Он положил в ящик сейфа выручку, снял халат из сурового полотна, который повесил на крючок дверцы стенного шкафа, надел пиджак и еще раз обвел магазин взглядом, дабы убедиться, что все в порядке.
На дворе был май. Солнце стояло еще высоко в нежно-голубом небе, и весь день воздух казался неподвижным.
Потянув за ручку двери и выйдя на улицу, он машинально посмотрел в сторону кинотеатра, «Колониального театра», на котором зажглась неоновая вывеска, хотя еще было очень светло. Так повторялось каждую субботу из-за семичасового сеанса. На лужайке перед кинотеатром росли несколько лип, листья которых едва колыхались.
Стоя на пороге, Гэллоуэй зажег сигарету, одну из пяти-шести сигарет, что он выкуривал за день, потом медленно обогнул большое здание, первый этаж которого занимали магазинчики.
Он жил на втором этаже, как раз над своим магазином, но прямо попасть из магазина в квартиру было невозможно. Миновав заведение парикмахера, он сворачивал налево и проходил вглубь, где располагался вход в жилые помещения.
Почти каждую субботу во второй половине дня к нему приходил сын, чтобы сообщить, что не вернется к ужину. Несомненно, сын перехватывал где-нибудь, скорее всего в «Макс Ленч», хот-дог или бутерброд.
Гэллоуэй поднялся по лестнице, повернул ключ в замочной скважине и сразу же распахнул в комнате окно, откуда открывался примерно тот же вид, что и из его магазина: те же самые деревья, та же самая вывеска кинотеатра, свет которой при еще ярком солнце казался нелепым и даже вызывал смутное беспокойство.
Он больше не отдавал себе отчета в том, что каждый день совершал одни и те же движения, в одном и том же порядке, и что это, вероятно, придавало ему спокойный, уверенный вид. На кухне, где он, прежде чем спуститься, всегда мыл посуду, оставшуюся от полдника, все всегда находилось на своих местах. Он знал, какое холодное мясо найдет в холодильнике, в каком именно месте. Предметы передвигались, словно по мановению волшебной палочки. Его прибор появлялся на столе вместе со стаканом воды, куском хлеба, маслом. В кипятильнике с фильтром начинал закипать кофе.
Когда он был один, он читал за едой, но это не мешало ему слышать, как пели птицы, сидевшие на деревьях, как урчала машина, которую заводили и которую он узнавал по шуму мотора. Со своего места он мог видеть ребятишек, направлявшихся в кинотеатр, но входивших внутрь лишь в последнюю минуту перед сеансом.
Он выпил кофе маленькими глотками, вымыл посуду, смел со стола хлебные крошки. В его движениях и жестах не было ничего необычного. Около семи часов он вышел на улицу, поздоровался с владельцем гаража, вместе с женой направлявшимся в кинотеатр.
Он издали заметил стайку молодых людей и девушек, но не увидел среди них Бена. Да он и не пытался с ним столкнуться, помня, что подросток не любил, чтобы за ним следили.
Впрочем, речь не шла о слежке, и Бен это знал. Если иногда отец устраивал так, чтобы встретиться с ним, то вовсе не потому, что контролировал сына. Ему просто хотелось общения, пусть даже на расстоянии. Шестнадцатилетний подросток не мог этого понять. Вполне естественно, Бен, находившийся в компании друзей и подружек, предпочитал, чтобы отец не замечал его. Они никогда не заговаривали на эту тему. Но Гэллоуэй это чувствовал и не настаивал.
Здание, в котором находились его магазин и квартира, стояло почти на углу Мейн-стрит. Он пошел по улице, миновал торговый центр, работавший до девяти часов вечера, затем почтовое отделение с белыми колоннами, ларек торговца газетами. По мостовой ездили машины. Одни из них притормаживали, другие вовсе не снижали скорость, словно водители не замечали, что проезжали деревню.
Пройдя мимо бензоколонки, находившейся в четверти мили от его дома, он свернул направо на улицу, обсаженную деревьями, где вокруг белых домиков раскинулись зеленые лужайки. Эта улица никуда не вела, и поэтому на ней стояли лишь машины ее жителей. Все окна были открыты. Дети играли на свежем воздухе, а мужчины, без пиджаков, в рубашках с засученными рукавами, толкали по газонам электрические косилки.
Каждый год приносил с собой похожие друг на друга вечера с почти удушающей теплотой и жужжанием газонокосилок, равно как каждая осень сопровождалась шумом граблей, собиравших опавшие листья, и запахом этих листьев, которые по вечерам сжигали перед домами, а позднее неизбежно раздавался стук лопат по твердому снегу.
Время от времени взмахом руки или словом он отвечал на приветствия.
По вторникам он тоже выходил из дома и направлялся в мэрию, на собрание школьного комитета, председателем которого был.
В другие дни, за исключением суббот, он предпочитал оставаться дома. Он читал или смотрел телевизор.
Суббота была днем Мьюсака, который, вероятно, сейчас уже поджидал его в кресле-качалке на веранде.
Деревянный дом Мьюсака, как и другие дома по соседству, был последним на этой улице. Он примыкал к холму, и поэтому второй этаж на одной стороне превращался в первый этаж на другой. Этот дом был покрыт не белой, а желтой штукатуркой. Менее чем в пятидесяти метрах от него раскинулся пустырь, куда жители по привычке свозили все, от чего хотели избавиться: складные металлические кровати, сломанные детские коляски, искореженные железные бочки.
Терраса возвышалась над общественным земельным участком, на котором летом каждый вечер тренировалась бейсбольная команда.
Мужчины не тратили времени на церемонии. Гэллоуэй не помнил, чтобы он хотя бы один раз пожал руку Мьюсаку, который при его приходе довольствовался тем, что ворчал нечто нечленораздельное и показывал рукой на второе кресло-качалку.
В тот вечер все происходило так, как и в другие субботние вечера. Они издали наблюдали за игроками в белой форме, бегавшими по зеленой траве участка, темнеющей в сумерках. Они слышали их крики, свистки тренера, очень толстого мужчины, который днем работал, стоя за прилавком скобяной лавки.
— Прекрасный вечер! — произнес Гэллоуэй, устроившись в кресле-качалке.
Чуть позже Мьюсак проворчал:
— Если они не решатся сменить своего чертова подающего, в конце сезона они вновь окажутся последними в списке.
Мьюсак всегда говорил ворчливым тоном и крайне редко улыбался. По правде говоря, Дейв Гэллоуэй не мог вспомнить, видел ли он когда-нибудь Мьюсака улыбающимся. Но иногда Мьюсаку случалось разражаться таким звонким смехом, что он внушал страх тем, кто его не знал.
Обитатели деревни больше не боялись Мьюсака, поскольку привыкли к нему. Впрочем, Мьюсак вполне мог сойти за одного из тех закоренелых преступников, сбежавших с каторги, фотографии которых в анфас и в профиль были развешены во всех почтовых отделениях и сопровождались надписью «Разыскивается ФБР».
Гэллоуэю, не знавшему возраста Мьюсака, никогда в голову не приходила мысль спросить его об этом. Точно так же он никогда не спрашивал, из какой европейской страны приехал Мьюсак, будучи еще ребенком. Он только знал, что Мьюсак пересек Атлантику на корабле, битком набитом иммигрантами, вместе с отцом, матерью и пятью или шестью братьями и сестрами, и что сначала тот жил в пригороде Филадельфии. Что стало с его братьями и сестрами? Они никогда не затрагивали эту тему и уж тем более не обсуждали, чем Мьюсак занимался до того, как совсем один поселился в Эвертоне лет двадцать назад.
Вероятно, он был женат, поскольку у него была дочь, жившая где-то в Калифорнии. Время от времени она писала ему и присылала фотографии своих детей. Она никогда не приезжала повидаться с отцом. И он тоже никогда не ездил к дочери.
Был ли Мьюсак разведен? Или он овдовел?
В какой-то период своей жизни он работал на фабрике, изготавливавшей пианино. Это все, что знал о нем Гэллоуэй. Когда Мьюсак приехал в Эвертон, у него было достаточно денег, чтобы купить себе дом.
Вполне вероятно, что ему было около шестидесяти лет, чуть меньше или больше. Некоторые утверждали, что Мьюсаку уже перевалило за семьдесят, что тоже было вполне возможно.
С утра до вечера Мьюсак работал в мастерской, расположенной за домом, с той стороны, где второй этаж переходил в первый. Таким образом, мастерская непосредственно сообщалась со спальней. Именно там они часто сидели зимой, когда не могли оставаться на веранде. Мьюсак доделывал какую-нибудь работу, всегда тонкую, а руки у него были столь крупные, что их можно было счесть неловкими. Посредине комнаты, загроможденной верстаком, клеем, нагревающимся на водяной бане, валявшимися повсюду стружками, стояла чугунная печка.
Мьюсак отдавал предпочтение работам, требовавшим чрезвычайного терпения. Он чинил старинную мебель, старые ящики для часов с боем или же изготавливал небольшие сложные предметы мебели, инкрустируя их красным деревом или экзотическими породами.
Они оба могли долго сидеть молча, уже довольные тем, что находились здесь и наблюдали за бегавшими игроками, в то время как солнце медленно опускалось за деревья, а воздух постепенно становился таким же голубым, как небо.
Для Дейва Гэллоуэя зимние вечера в мастерской были примечательны своим особым запахом, запахом стружек и столярного клея.
А летние вечера на террасе обладали другим запахом, столь же примечательным: запахом трубки, которую Мьюсак курил маленькими затяжками. Вероятно, он употреблял специфический табак с едким, но все же отнюдь не неприятным запахом. Этот запах доносился до Гэллоуэя волнами одновременно с запахом скошенной в окрестных палисадниках травы. Одежда Мьюсака пропиталась запахом табака. Можно было поклясться, что им пропиталось все его тело, да и столовая в доме.
Почему он, обладавший такой сноровкой, бывший столь скрупулезным в любой работе, постоянно чинил свою любимую трубку, обвязывая ее куском железной проволоки? При каждой затяжке из трещины вылетало немного воздуха. Это был странный звук, похожий на дыхание больных.
— С кем они играют завтра?
— С «Рэдли».
— Они потерпят сокрушительное поражение.
Каждое воскресенье проводился бейсбольный матч. Гэллоуэй занимал место на ступеньках, а старый Мьюсак следил за игрой, сидя на веранде. У него было удивительное зрение. Издалека он узнавал каждого игрока, а в воскресенье вечером мог бы перечислить всех жителей деревни, присутствовавших на игре.
На земельном участке движения замедлились, голоса стали менее пронзительными, свисток судьи раздавался все реже. В сумерках они уже с трудом могли различить мяч. На землю опускалась прохлада. Можно было сказать, что неподвижный до сих пор воздух с приближением ночи постепенно пробуждался.
Возможно, мужчины, и тот и другой, торопились войти в дом, чтобы предаться вечернему субботнему удовольствию, но, словно с общего согласия, они ждали финального свистка. Они не двигались до тех пор, пока силуэты в форме не собрались в углу площадки, чтобы выслушать замечания тренера.
В этот момент сумерки почти превратились в темноту; Звуки радио, доносившиеся из окрестных домов, стали более резкими, одно за другим зажигались окна. Но в домах, где смотрели телевизор, окна оставались темными.
И только тогда мужчины переглянулись, словно говоря: «Идем?»
Это была странная дружба. Ни Гэллоуэй, ни Мьюсак не могли бы сказать, как она установилась между ними. Казалось, они не замечали, что их разделяли добрых двадцать лет.
— Если я хорошо помню, я должен взять реванш.
Это был единственный недостаток столяра: он не любил проигрывать. Он не сердился, никогда не бил кулаком по столу. Чаще всего он ничего не говорил, но его физиономия становилась надутой, как у обиженного ребенка. Иногда, после субботнего вечера, проигравшись вчистую, он, встретив Гэллоуэя на улице, два-три дня делал вид, будто не замечает его.
Мьюсак включил свет, и они окунулись в еще более спокойную, еще более обволакивающую атмосферу, чем та, которую они покинули. Столовая была уютной, убранной столь же хорошо, как если бы ее убирала женщина. Красивая мебель всегда была тщательно протерта. Гэллоуэй ни разу не замечал в столовой хотя бы малейшего беспорядка.
Триктрак уже находился на низком столике, всегда стоявшем на одном и том же месте, между двух кресел. На столик падал свет от торшера. Они любили оставлять другую часть комнаты в полумраке, который прорезывали лишь слабые отблески.
Хозяин дома также заранее готовил бутылку ржаного виски и стаканы. Прежде чем начать партию, им оставалось только пройти на кухню, чтобы взять лед.
— Ваше здоровье.
— Ваше здоровье.
Гэллоуэй пил мало, не больше двух стаканов за вечер, а вот Мьюсак выпивал пять или шесть стаканов, но внешне спиртное не оказывало на него ни малейшего воздействия.
Они бросили кости.
— Шесть! Я начинаю.
В течение почти двух часов их жизнь протекала под стук бросаемых костей и шум передвигаемых желтых и черных шашек. Время от времени свистела трубка. Постепенно едкий запах окутывал Гэллоуэя. Иногда один из них невзначай бросал фразу типа:
— Джон Дункан купил новую машину.
Или же:
— Говорят, миссис Пинч продала «Медоуз-фарм» за пятьдесят тысяч долларов.
Эти фразы не требовали ответа. Они не вызывали ни вопросов, ни комментариев.
Они играли до половины двенадцатого. Они всегда заканчивали примерно в это время. Мьюсак проиграл первую партию и выиграл три следующих, что, учитывая предыдущую игру, составляло ничью.
— Я же говорил, что сделаю вас! Я проигрываю лишь в тех случаях, когда у меня не хватает смелости сосредоточиться. Последний стаканчик?
— Нет, спасибо.
Столяр налил себе. Последний стакан он всегда пил в одиночку. К концу партии его дыхание становилось более шумным, а нос начинал свистеть примерно так же, как трубка. По ночам он, вероятно, храпел, что никому не мешало, поскольку он жил один.
Мыл ли он стаканы перед тем, как лечь спать?
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
— Вы по-прежнему довольны сыном?
— По-прежнему доволен.
Каждый раз, когда Мьюсак спрашивал его о Бене, Гэллоуэй чувствовал себя неловко. Гэллоуэй был уверен, что его друг не был злым, тем более жестоким человеком, и не имел никаких причин ревновать. Впрочем, может, он придумывал? Можно было предположить, будто Мьюсака раздражало то, что Бен был спокойным мальчиком, жаловаться на которого у отца никогда не находилось повода.
Испытывал ли раньше Мьюсак трудности с дочерью? Или же жалел, что у него не было сына?
В его голосе и взгляде появлялось нечто особенное, когда он заговаривал на эту тему. Казалось, он говорил: «Прекрасно! Прекрасно! Посмотрим, как долго это продлится!»
Или же он полагал, что Гэллоуэй питал иллюзии в отношении своего сына?
— Он больше не играет в бейсбол?
— В этом году — нет.
В прошлом году Бен был одним из лучших игроков команды средней школы. Но в этом году он вдруг перестал играть. Он не объяснил причину своего решения. Отец не стал настаивать. Нечто подобное происходит со всеми детьми. В этом году они сходят с ума от того или иного вида спорта, а в следующем даже не вспоминают о нем. В течение нескольких месяцев они каждый день встречаются с одними и теми же приятелями, но в один прекрасный день расстаются с ними без всякой видимой причины и заводят себе других товарищей.
Разумеется, Гэллоуэй предпочел бы, чтобы все обстояло по-другому. У него было тяжело на сердце, когда Бен забросил бейсбол, поскольку он сам получал огромное удовольствие от присутствия на игре, даже когда команда играла в тридцати или сорока милях отсюда.
— Он, несомненно, славный мальчик, — сказал Мьюсак.
Почему он сказал это так, словно подводил итог спору, словно ставил точку в разговоре?
Возможно, Дейв Гэллоуэй слишком придирался, когда речь заходила о Бене? Но было вполне естественно, что люди спрашивали о нем:
— Как поживает ваш сын?
Или:
— Что-то я давно не видел Бена.
Но он настойчиво искал особый смысл в этих фразах. Чаще всего он отвечал:
— У меня нет никаких оснований жаловаться на него.
И это было правдой. Ему не на что было жаловаться. Бен никогда не доставлял ему беспокойства. Они никогда не ссорились. Гэллоуэй очень редко бранил сына, и когда такое случалось, он делал это спокойно, по-мужски.
— Спокойной ночи.
— Спокойной ночи.
— До субботы.
— Да.
На неделе они встречались раз десять, в частности на почте, куда каждый день приходили в определенное время, чтобы забрать свою корреспонденцию. У Гэллоуэя была табличка, которую он вешал на дверь всякий раз, когда был вынужден отлучиться или подняться домой: «Я скоро вернусь».
Они встречались также в гараже и у торговца газетами. Тем не менее, расставаясь в субботу вечером, они неизменно говорили: «До субботы».
Едкий запах табака преследовал Гэллоуэя еще метров десять. Когда он шел в направлении Мейн-стрит по улочке, где почти все окна были темными, он слышал гул одного и того же матча по боксу, доносившийся только из двух домов.
Тратил ли он шесть минут на возвращение домой? Едва ли. Оставалась открытой только таверна «Олд Барн» на краю деревни, сверкавшая красными и зелеными огнями, которые даже издали наводили на мысль о марках пива и виски.
Он обогнул свой дом и осознал, что в окнах его квартиры не было света, только тогда, когда уже сворачивал в проулок за заведением парикмахера.
Он не помнил, запрокидывал ли он голову, но был уверен, что так и сделал, поскольку он всегда это делал машинально, возвращаясь вечером. Он настолько привык видеть в окне свет, что больше не думал об этом.
Но теперь, направляясь к лестнице, он мог бы поклясться, что окно было темным. В тот вечер не было ни танцев, ни вечеринки, ничего такого, что могло бы задержать Бена.
Он стал подниматься по лестнице. Через несколько ступенек он совершенно безошибочно понял, что в квартире не было света, иначе он увидел бы светлую полоску под дверью.
Возможно, Бен пришел рано и лег спать? Кто знает? Возможно, Бен плохо себя чувствовал?
Он повернул ключ в замочной скважине и позвал, распахивая дверь:
— Бен!
Звук его собственного голоса, раздавшийся в комнатах, свидетельствовал, что в доме никого не было. Однако он не хотел с этим мириться. Он зажег свет в столовой и пошел в комнату сына, повторяя как можно более естественным тоном:
— Бен!
Дейв не должен был показывать тревогу, поскольку если бы Бен оказался дома и уже действительно лег спать, он посмотрел бы на него с неподдельным изумлением и спросил бы:
— Что случилось?
Разумеется, ничего не случилось. Ничего не могло случиться. Никогда нельзя показывать свой страх, особенно юноше, превращающемуся в мужчину.
— Ты дома?
Он пытался заранее улыбаться, словно на него смотрел сын.
Но Бена не было дома. Комната оказалась пустой, а кровать даже не разобрали.
Возможно, Бен оставил на столе записку, как это с ним случалось?
Нет, записки не было. Вывеска кинотеатра напротив погасла. Второй сеанс закончился более получаса назад, и последние машины уже уехали. Возвращаясь от Мьюсака, Дейв Гэллоуэй не встретил ни души.
Только дважды Бен возвращался после полуночи, не предупредив отца. И оба раза отец ждал его, сидя в кресле, не в состоянии читать или слушать радио. И только заслышав шаги сына на лестнице, он стремительно хватал иллюстрированный журнал.
— Я припозднился. Прости…
Он говорил непринужденно, не придавая ни малейшего значения случившемуся. Ожидал ли он упреков, скандала?
Дейв довольствовался тем, что говорил:
— Я беспокоился.
— Да что со мной могло случиться? Я ехал на машине с Крисом Джиллипси, и мы попали в аварию.
— Почему ты не позвонил?
— В окрестностях не было ни единого дома, и нам пришлось чинить машину самим.
Первый раз это произошло в начале зимы. Во второй раз, между Рождеством и Новым годом, Бен поднялся по лестнице более шумно, чем обычно, и, войдя в комнату, нарочито отводил взгляд и старался не подходить к отцу слишком близко.
— …Прости меня… Я задержался у приятеля… Почему ты не лег?.. Чего ты боишься?
Бен говорил не своим голосом. Впервые в нем что-то изменилось, появилось нечто агрессивное. Его поведение, жесты, движения были незнакомы Гэллоуэю, который, впрочем, сделал вид, будто ничего не заметил. Утром в воскресенье Бен проснулся поздно. Он спал тяжелым сном, а когда вышел на кухню, лицо у него было землистого цвета.
Отец дал сыну спокойно позавтракать, стараясь казаться как можно более равнодушным, и только под конец пробормотал:
— Ты пил, не так ли?
Такого никогда раньше не случалось. Дейв был довольно близок с сыном, чтобы не сомневаться в том, что прежде Бен никогда не дотрагивался до спиртного.
— Не надо упрекать меня, дэд. — Немного помолчав, Бен добавил глухим голосом: — Не бойся. У меня нет ни малейшего желания повторять. Я просто хотел делать так, как делали другие. У меня это вызывает ужас.
— Ты уверен?
Бен улыбнулся и, глядя на отца, ответил:
— Уверен.
С тех пор, то есть с декабря, он ни разу не возвращался позже одиннадцати часов. Обычно, вернувшись от Мьюсака, Гэллоуэй заставал его перед телевизором. Бен смотрел передачу о боксе, ту самую, звуки которой недавно доносились до Гэллоуэя, когда он шел по улочке. Иногда они вместе досматривали ее.
— Ты не голоден?
Отец шел на кухню, готовил бутерброды и возвращался с двумя стаканами холодного молока.
Открыв окно, чтобы как можно раньше услышать шаги Бена, он сел на то же самое место, на котором сидел, ожидая Бена, в прошлые разы. Врывавшийся в комнату воздух был холодным, но он не собирался закрывать окно. В какое-то мгновение он подумал, что неплохо бы надеть пальто, говоря себе, что Бен, застав его в таком виде, будет потрясен.
В первый раз Бен возвратился в полночь, во второй раз — около часа ночи.
Он выкурил одну сигарету, потом вторую, потом третью. Он нервно курил, не отдавая себе в этом отчета. В какой-то момент он включил телевизор, но на светящемся экране не было изображения. Все программы, которые можно было принимать в Эвертоне, давно закончились.
Несмотря на внутреннее напряжение, он не расхаживал по комнате. Он сидел неподвижно, пристально глядя на дверь, ни о чем конкретно не думая. Прошло почти три четверти часа, когда он, внешне спокойный, встал и вновь пошел в комнату сына.
Он не зажег свет. Даже не подумал об этом. И комната, освещаемая только лучами лампы, проникавшими из соседней комнаты, казалась немного призрачной, особенно матово-белая кровать, навевавшая трагические образы.
Можно было подумать, что Гэллоуэй знал, что искал, что хотел найти. На прикроватном коврике валялись грязные ботинки, а на спинку стула была небрежно брошена рубашка.
Иногда вечером Бен возвращался домой, чтобы переодеться. Его повседневный костюм лежал на полу в углу комнаты, туфли стояли чуть дальше.
Дейв медленно открыл платяной шкаф, и его сразу же ошеломило отсутствие чемодана. Чемодан всегда стоял в самом низу, под одеждой, висевшей на плечиках. Гэллоуэй купил его сыну два года назад, когда они вместе собирались поехать в Кейп-Код. С тех пор чемоданом не пользовались.
Гэллоуэй был уверен, что еще утром чемодан находился на месте, поскольку сам каждый день наводил порядок в квартире. Домработница приходила на несколько часов два раза в неделю, по вторникам и пятницам, чтобы сделать генеральную уборку.
Бен вернулся, чтобы надеть свой лучший костюм, и ушел, унеся с собой чемодан. Он не оставил записки.
Как это ни странно, в глазах Гэллоуэя не отразилось удивления, словно он уже давно, чуть ли не всегда жил в ожидании катастрофы.
Только, возможно, он никогда не предчувствовал ее. Медленно, гораздо медленнее, чем обычно, как человек, пытающийся отсрочить несчастье, он распахнул дверь ванной комнаты, которой они оба пользовались, и зажег свет.
На стеклянной полочке лежала только одна бритва. Электрическая бритва, которую он купил Бену на прошлое Рождество, исчезла. Не было также ни расчески, ни зубной щетки. Бен даже унес тюбик зубной пасты.
Из всегда открытого окошка ванной комнаты в квартиру врывался ветер, отчего занавески колыхались, а страницы газеты, лежавшей на телевизоре, тихо шелестели.
Гэллоуэй вернулся в столовую, закрыл окно и долго смотрел на улицу, прижавшись лбом к холодному стеклу.
Он чувствовал себя таким измученным, как если бы ему пришлось идти пешком несколько часов. Силы словно покинули его тело. У него возникло желание лечь ничком на кровать и поговорить с самим собой, поговорить с Беном, зарывшись головой в подушку. Но что это дало бы?
Ему оставалось узнать одну вещь, и он ее узнает немедленно. Дейв не торопился. У него не было ни малейшей причины торопиться. Он даже надел демисезонное пальто и кепку, поскольку продрог.
Взошла луна, почти полная, сверкающая, и небо стало похожим на бездонное море. Весь первый этаж этой стороны здания занимали гаражи. Гэллоуэй направился к своему гаражу, вытащил из кармана связку ключей и вставил один из них в замочную скважину.
Ему не пришлось поворачивать ключ. Деревянная дверь сразу же поддалась. Трещина свидетельствовала, что дверь открывали отверткой и еще каким-то инструментом.
Зачем было убеждаться, что гараж опустел? Да, гараж опустел. Машины в нем не было, и он об этом знал заранее. Он это понял сразу же, там, в квартире. Он не стал зажигать свет в гараже. Это было бесполезно.
Тем не менее он так же аккуратно, как и всегда, запер дверь. Что он собирался делать, стоя в полнейшем одиночестве во дворе, простиравшемся за домом, в котором горело одно-единственное окно, окно его квартиры?
У Гэллоуэя не было никаких оснований оставаться на улице. Ему там нечего было делать.
Но чем отныне он будет заниматься дома?
Однако все же он стал подниматься по лестнице, медленно, останавливаясь на каждой ступеньке, чтобы все обдумать. Он вошел в квартиру, запер дверь на ключ, снял пальто, кепку, положил их на место и направился к креслу.
И тогда, измученный и опустошенный, он принялся разглядывать окружавшую его пустоту.
Глава вторая
Иногда случается, что во сне человек переносится в странную и одновременно привычную обстановку, вызывающую тревожное беспокойство, словно пропасть. В ней ничто не напоминает предметы, знакомые в реальной жизни. И все же в памяти начинают всплывать какие-то образы, и человек почти проникается уверенностью, что был там, возможно, даже жил там в предыдущем сне или в прошлой жизни.
Дейв Гэллоуэй тоже однажды уже пережил час, похожий на тот, который переживал сейчас, проникаясь всем телом и душой тем же чувством полного краха и той же пустоты вокруг себя. В первый раз он точно так же бессильно упал в это зеленое кресло, стоявшее перед софой, которую они с женой некогда купили в кредит в магазине Хартфорда вместе с двумя низенькими столиками, двумя стульями и подставкой для радио, поскольку тогда у них еще не было телевизора.
Там комната была меньше, а дом, как и все другие дома в квартале, новым. Они первыми переехали в дом. По обеим сторонам недавно проложенной улицы деревья только начинали приниматься.
Это было в Уотербери, в штате Коннектикут. Он работал на часовой фабрике, производившей точные измерительные приборы. Он помнил все подробности этого вечера, его каждую минуту, как, вероятно, будет вспоминать вечер, проведенный им у Мьюсака. Дейв пошел к своему товарищу, работавшему в другом отделе, чтобы починить часы с боем, доставшиеся тому от прадеда.
У этих часов немецкого производства был резной оловянный циферблат, а колесики крепились вручную на тисках. Дейв встал на стул. Его голова почти касалась потолка. Он, словно наяву, видел, как крутил стрелки, налаживая бой, который должен был раздаваться через каждые четверть часа. Окна были открыты. Также была весна, немного ранняя в том году. На столе, рядом с бутылкой ржаного виски и стаканами, стояла миска с клубникой. Жену его товарища звали Патрисией. У нее, итальянки по происхождению, были темные волосы и очень тонкая кожа, усеянная маленькими родинками. Ей хотелось побыть с ними, и она принесла гладильную доску в столовую. Все то время, которое Дейв пробыл в их доме, она гладила пеленки. И только когда один из детей проснулся, она вышла, чтобы вновь убаюкать его. У них было трое детей. Одному исполнилось четыре года, второму — два с половиной, а третьему год. Она, спокойная и сияющая, как спелый фрукт, ждала четвертого ребенка.
— Твое здоровье!
— Твое здоровье!
В тот раз он тоже выпил два стакана ржаного виски. Приятель хотел налить ему третий стакан, но Патрисия мягко вернула мужа к действительности.
— Ты не боишься, что завтра утром у тебя будет болеть голова?
Они обрадовались, услышав, как пробили часы, не ходившие с тех пор, как они получили их в наследство. Гэллоуэй тоже был счастлив, что провел вечер с ними и держал в руках прекрасные механические изделия. Он помнил, что они пытались подсчитать, сколько бы стоили эти часы, если бы их изготовили сегодня.
— По последнему стаканчику?
Как Мьюсак!
— Нет, спасибо.
Он ушел пешком, поскольку жил всего в двух улицах от приятеля. Светила луна. На углу Гэллоуэй заметил, что в окнах его дома не горел свет. Вероятно, Рут легла, не дождавшись его. Это было странно, поскольку по вечерам она никогда не хотела ложиться и находила всевозможные предлоги, чтобы потянуть время. Может, он поступил неправильно, что засиделся допоздна?
Гэллоуэй ускорил шаг. Его сопровождал шум подошв по цементной дорожке. До дома оставалось метров двадцать, но он уже нащупал ключ в кармане. Едва дверь открылась, как он ощутил такое же чувство пустоты, как и сегодня вечером. Он не стал зажигать лампу. Лунный свет достаточно хорошо освещал комнаты, проникая в окна без жалюзи. Он направился к спальне. С его губ было готово сорваться имя:
— Рут!
Постель не была разобрана. В комнате никого не было. На прикроватном коврике валялась пара старых туфель. И тогда он открыл другую дверь и замер, вздрогнув от внезапно охватившего его страха. Рут не взяла с собой ребенка! Бен был там. Он лежал в колыбели, теплый, спокойный, распространяя вокруг себя запах горячего хлеба.
— Ты не находишь, что он пахнет горячим хлебом? — спросил он однажды жену.
Рут ответила беззлобно, и он был в этом уверен, поскольку так она мыслила:
— Он пахнет мочой, как все младенцы.
Гэллоуэй не взял сына из колыбели, чтобы сжать его в объятиях, как ему этого хотелось бы. Он только нагнулся и долго прислушивался к его дыханию, потом на цыпочках вернулся в спальню и зажег там свет. Она не закрыла шкаф. Ящик туалетного столика, в глубине которого валялись две шпильки с черными волосами, тоже не был задвинут. В спальне еще висел резкий вульгарный запах духов, которыми она пользовалась. Вероятно, перед уходом она подушилась.
Она взяла все свои вещи, кроме хлопчатобумажного домашнего платья в цветочек и двух пар рваных колготок.
Гэллоуэй не плакал, не сжимал кулаки. Он прошел в столовую и сел в кресло, стоявшее рядом с радиоприемником. Он сидел долго и только потом пошел на кухню, чтобы посмотреть, не оставила ли она на столе записку. Записки не было. Тем не менее он не совсем ошибся. В помойном ведре возле раковины он нашел несколько обрывков бумаги, которые терпеливо сложил, словно детали головоломки.
Рут хотела оставить ему записку, но не смогла написать ее. Она начинала писать несколько раз, корявым почерком, делая орфографические ошибки.
Мой дорогой Дейв!
Слово «дорогой» она зачеркнула и заменила на «бедный». На этом клочке бумаги было написано только начало фразы:
Когда ты будешь читать эту записку…
Она разорвала этот листок. Женщина воспользовалась пачкой бумаги, лежавшей на кухне. На этой бумаге они записывали заказы, которые делали бакалейщику, приходившему к ним каждое утро. Вероятно, она сидела за столом, за который присаживалась каждый день, когда чистила овощи.
Мой дорогой Дейв!
Я знаю, что причиню тебе боль, но я не могу больше терпеть. Будет лучше, если это случится сейчас, чем потом. Мне часто хотелось поговорить с тобой об этом, но…
Несомненно, она не сумела точно передать свою мысль, из-за чего разорвала и этот листок тоже. На третьем обрывке не было подписи:
Мы не созданы друг для друга, и я это поняла с первых же дней. Это было ошибкой. Я оставляю тебе малыша. Удачи.
Слово «удачи» было зачеркнуто и заменено на «будьте счастливы оба».
В последнюю минуту она вновь спохватилась, поскольку и это послание разорвала и бросила в помойное ведро. Она предпочла уйти, ничего не сказав. Да и зачем? Разве слова добавили бы что-нибудь? Не лучше ли, если он будет думать, что захочет?
Он вновь сел в кресло в уверенности, что так и не заснет. Плач Бена разбудил его в шесть часов утра, когда весь дом уже был залит солнцем. По утрам и вечерам он сам всегда кормил Бена из бутылочки. Вот уже несколько недель они добавляли в молоко злаковые, а в последние дни стали давать Бену овощные пюре. Дейв также умел пеленать. Это было первым, чему он захотел научиться, когда Рут с младенцем вернулась из больницы домой.
С тех пор прошло пятнадцать с половиной лет. Больше он никогда не видел Рут. Только один раз слышал о ней. Это было через три года после ее ухода. К нему пришел адвокат, попросивший его подписать бумаги, чтобы она могла получить развод.
Дейв не спал и широко открытыми глазами смотрел на софу, которую взял с собой со всеми другими вещами, когда покинул Уотербери.
Он один воспитывал Бена, поскольку доверял сына соседке, у которой было четверо детей, только в рабочие часы. Все свободные минуты, все ночи он проводил вместе с сыном. По вечерам он ни разу не вышел из дома, ни разу не сходил в кино.
Война помешала ему покинуть дом в Уотербери, когда он собирался это сделать. Его мастерская была мобилизована и работала на министерство национальной обороны. И только гораздо позднее он нашел место, где смог обустроиться так, чтобы никогда больше не покидать родного дома. Он специально, ради Бена, выбрал деревню, где текла спокойная, размеренная жизнь.
Вдруг у него зародилась бессмысленная надежда. За зданием, там, где в этот час никто не должен был ходить, раздались шаги. На мгновение Гэллоуэю в голову пришла мысль, что это возвращался его сын. Он забыл, что сын уехал на машине. Если бы Бен вернулся, он сначала бы услышал гул мотора, скрип тормозов, стук дверцы.
Шаги приближались. Но это оказались шаги не одного человека, а двух. У них был странный ритм. В нем чувствовался некий сумбур. Кто-то внизу поставил ногу на первую ступеньку лестницы, и тут же раздался женский голос. Тяжелые подошвы словно в нерешительности перешагнули на вторую ступеньку, затем на третью. Он направился к двери, открыл ее и, зажигая свет, спросил:
— Кто там?
Гэллоуэй, ничего не понимая, стоял в растерянности на лестничной площадке и смотрел на Билла Хавкинса, совершенно пьяного, с мокрыми усами, в грязной шляпе, который пялился на него одурманенными глазами.
Изабель Хавкинс была в домашнем платье, фартуке, без шляпы и пальто, словно ей пришлось срочно покинуть дом. Она пыталась обогнать мужа.
— Не обращайте на него внимания, мистер Гэллоуэй. Он опять напился в стельку.
Гэллоуэй знал их, как знал всех других обитателей Эвертона. Хавкинс работал пастухом на одной из окрестных ферм и примерно три раза в неделю напивался до такой степени, что его приходилось убирать с дороги, где на него могла бы наехать машина. Часто видели, как он шел нетвердой походкой, бормоча что-то неразборчивое в свои рыжеватые усы, постепенно становившиеся грязно-белыми.
Хавкинсы жили около железной дороги, совсем рядом с деревней. Кажется, у них было восемь или девять детей. Двое старших уже завели свои семьи и жили в Покипси. По меньшей мере одна дочь посещала среднюю школу. Но наибольшей известностью пользовались близнецы лет двенадцати. Рыжие, вечно взлохмаченные, необузданные, они наводили ужас на всю деревню.
Хавкинс, не в состоянии подняться выше, едва стоя на ногах, судорожно уцепившись обеими руками за перила, пытался что-то сказать, но не находил слов. Вероятно, всю дорогу жена убеждала его вернуться домой. Наверняка ей сейчас пришлось сказать ему:
— Оставайся здесь. Я поднимусь одна…
Несмотря на большую семью, она находила время заниматься уборкой у соседей и вот уже несколько месяцев работала в «Олд Барн».
— Простите, что вынуждена побеспокоить вас в такой поздний час, мистер Гэллоуэй. Билл, дай мне пройти. Прислонись к стене….
Мужчина упал. Она пыталась поставить его на ноги, в то время как наверху лестницы Гэллоуэй не шевелился. В этой сцене, освещенной желтоватым светом одной-единственной лампочки, было нечто гротескное, немного нереальное.
— Полагаю, вашего сына нет дома?
Гэллоуэй ничего не понимал. Он никак не мог уловить связь между этими людьми и исчезновением Бена.
— Подождите, я сейчас поднимусь, чтобы мне не приходилось кричать. Наверняка в доме есть люди, которые уже спят.
Это было правдой. Большинство торговцев, имевших магазинчики на первом этаже, обитали в жилом квартале. Но рядом с Гэллоуэем жила старая женщина, полька. На ее глазах за несколько минут были убиты муж, трое детей, зять и внучка, которой было всего несколько месяцев. Она до сих пор не понимала, почему ее пощадили, с трудом говорила по-английски и подрабатывала тем, что шила мелкие изделия и чинила одежду, поскольку ни за что не смогла бы раскроить платье. Ее волосы совсем поседели, но морщин на лице не было. Она внимательно смотрела на людей, говоривших с ней, и, понимая лишь отдельные слова, нежно улыбалась, словно извиняясь. В конце коридора жила супружеская пара, у которой были семейные взрослые дети, уехавшие в Нью-Йорк. Муж работал механиком в гараже напротив. Разбудили ли их Хавкинсы?
Билл Хавкинс по-прежнему пытался выразить свое негодование, однако ему это никак не удавалось, и он просто бурчал что-то невнятное. Жена Хавкинса поднялась по лестнице.
— Мне пришлось выбежать за ним в том виде, в каком я была, поскольку я не хотела, чтобы он пришел к вам один. Вам что-нибудь известно?
Гэллоуэй не решился пригласить ее войти из-за пьяницы, по-прежнему находившегося на лестнице. Они стояли на лестничной площадке, перед приоткрытой дверью.
Изабель Хавкинс увидела, что Гэллоуэй ничего не понимает. Она не сердилась.
— Известно о чем? — спросил Гэллоуэй.
— О Бене и моей дочери. Они уехали вместе.
У нее на глазах стояли слезы, но чувствовалось, что это были не настоящие слезы, а слезы ради приличия, поскольку она не испытывала особых страданий.
— Я знала, что он крутится возле нее. Каждый вечер он шатался около нашего дома. Я не раз заставала их обнимающимися в темноте. Но я не придавала этому ни малейшего значения. Я не думала, что это серьезно. А вы, вы знали об этом?
— Нет.
Она, глядя на него, фыркнула:
— А!
Затем она немного помолчала, словно ей требовалось привести мысли в порядок.
— Он не сообщил вам о своем отъезде?
— Он ни о чем мне не говорил.
— Когда вы это обнаружили?
— Недавно, когда вернулся домой…
Гэллоуэю было тяжело разговаривать о Бене с этой женщиной, которую он практически не знал.
— Он увез ее на машине, — сказала она, словно знала об этом.
— Да.
— Я слышала, как недалеко от нашего дома гудел мотор.
— В котором часу?
— Возможно, около десяти. Я не посмотрела на часы.
— Вы подумали, что это был он?
— Нет. Я только слышала шум отъезжавшей машины. Я была занята. В передней комнате чинила детские рубашки. Машина же стояла за домом.
— Вашей дочери не было дома?
— Думаю, не было. У нас никогда этого не знаешь. Все бродят по дому, уходят и приходят, никого не спрашивая.
Внизу лестницы ее муж широко взмахнул рукой, словно просил жену замолчать, и выкрикнул слово, похожее на «подонок».
— Замолчи, Билл. Мистер Гэллоуэй тут ни при чем. Я уверена, что он волнуется так же, как и мы. Не правда ли, мистер Гэллоуэй?
Он нехотя согласился и спросил:
— Вы уверены, что ваша дочь с ним?
— А с кем еще она могла уехать? Вот уже два месяца, как они бегают друг к другу на свидания. Она не встречается с другими парнями и даже больше не видится с подружками. До него у нее никогда не было любовников. Я немного волнуюсь, поскольку она не похожа на других девчонок.
— Почему вы уверены, что она уехала?
— В половине двенадцатого Стив, тот, которому семнадцать и который тоже ходит в среднюю школу, вернулся из кинотеатра. Я спросила, была ли с ним сестра. Он ответил, что не видел ее. Я сначала подумала, что ваш сын увел ее с собой и что они еще где-то прячутся в ночи. Я открыла дверь и позвала: «Лилиана! Лилиана!» Потом я замолчала, поскольку боялась разбудить ребятишек. Когда я вернулась, Стив сказал мне: «Ее нет в ее комнате». Он сходил посмотреть. «Ты уверен, что ее не было в кино?» — «Совершенно уверен». — «Ты и Бена не видел?» Стив и Бен дружат. Именно поэтому все и началось. Мальчики все время проводили вместе, а ваш сын часто приходил к нам съесть бутерброд. Я увидела, что Стив задумался. Он самый серьезный из моих детей и хорошо учится. Он спросил меня, приходил ли сегодня вечером Бен. «Я его не видела». И тогда он вновь бросился в комнату сестры. Я слышала, как он открывал все ящики. Вернувшись, он сказал: «Она уехала».
В ее голосе не чувствовалось надрыва; Она говорила монотонно, словно жаловалась. Время от времени она хмурила лоб, стараясь рассказать обо всем, ничего не забыть. Она продолжала следить за мужем, который в конце концов сел спиной к ним на одну из ступенек, продолжая бормотать внутренний монолог, качая головой.
— Я пошла в комнату, чтобы убедиться самой, и увидела, что Лилиана забрала свои лучшие вещи. Вернувшись на кухню, где отец, казалось, спал в кресле, я рассказала Стиву о машине, шум которой слышала. Стив сказал мне: «Ничего не понимаю». Я спросила, почему он не понимает, ведь Бен несколько месяцев встречался с его сестрой. «Потому что у него нет денег», — ответил он. «Откуда ты знаешь?» — «Еще вчера мальчишки ходили к “Маку” есть мороженое, а Бен отказался идти с ними, сказав, что у него нет денег». — «Возможно, это неправда». — «Я уверен, что это правда». Они знают друг друга лучше, чем мы, разве нет?
Гэллоуэй произнес:
— Не хотите войти?
— Мне не хочется оставлять его одного. Заметьте, он никогда никому не причинит зла. Я не знаю, когда он проснулся, что слышал. Такое всегда происходит по субботам. Мне пришла в голову одна мысль. Я решила заглянуть в коробку, где мы держим деньги. В половине седьмого я положила туда тридцать восемь долларов, которые принес мне муж на этой неделе.
Ее голос звучал нейтрально, не срываясь. Гэллоуэй спросил:
— Денег больше не было?
— Не было. Вероятно, она воспользовалась моментом, когда я вышла из кухни или повернулась к ней спиной. Не думайте, что я ее упрекаю. И я тем более не обвиняю вашего мальчика. Они, конечно, не понимали, что делают. Ни он, ни она.
— Что сказал ваш сын?
— Ничего. Он немного поел и лег спать.
— Он не любит свою сестру?
— Не знаю. Они никогда не ладили. Мой муж неожиданно вышел, не сказав ни слова. Я даже не успела его задержать. Я бросилась за ним вдогонку. Что вы собираетесь делать?
А что он мог поделать?
— Вы полагаете, они хотят пожениться? — спросила она. — Лилиане всего пятнадцать с половиной лет. Не то чтобы она очень рослая, но у нее серьезный вид, и поэтому ей дают больше ее возраста.
Лилиана несколько раз приходила в магазин, как все местные девушки, чтобы купить безделушки, браслет, дешевое ожерелье, кольцо, заколку. Гэллоуэй находил, что она была скорее брюнеткой, а не рыжей, как все Хавкинсы. Он пытался понять, посмотреть на нее глазами Бена. Лилиана немного горбилась и была худой, менее физически развитой, чем другие девушки ее возраста. Возможно, он помнил ее такой, какой она была несколько месяцев назад, но с тех пор она успела измениться? Он находил, что у нее всегда был недовольный, почти мрачный вид.
— Я читала, — продолжала Изабель Хавкинс, — что на Юге есть штаты, в которых разрешают жениться с двенадцати лет. Как вы думаете, может, они поехали туда, а потом напишут нам?
Гэллоуэй не знал. Он ничего не знал. Той, другой ночью, пятнадцать с половиной лет назад, он не потерял всего. Ему оставалось, за что зацепиться, у него был младенец, лежавший в колыбели, который в шесть часов утра требовал свою бутылочку.
На этот раз он впал в такое отчаяние, что был почти готов зацепиться за эту расплывшуюся женщину, которую едва знал.
— Ваша дочь говорила с вами о своих планах?
— Нет, никогда. По сути, я иногда спрашивала себя, не стыдится ли она немного своей семьи. Мы бедные люди. Ее отец далеко не всегда выглядит прилично. Я понимаю, что для молодой девушки это неприятно…
— А как мой сын вел себя у вас дома?
— Он всегда был очень любезным, очень вежливым. Однажды, когда я попыталась починить раму, которую выбило ветром, он взял у меня из рук молоток и прекрасно справился с работой. После того как он выпивал стакан молока, он непременно мыл стакан и ставил его на место. Но не стоит говорить обо всем этом сегодня ночью. Мне пора укладывать Билла в кровать. Да и вы тоже должны ложиться. Только вот я все думаю, надо ли сообщать в полицию.
— Если вы так считаете, вы имеете право так поступить.
— Это вовсе не то, что я хочу сказать. Я спрашиваю себя, обязаны ли мы так поступить. При сложившихся обстоятельствах полиция все же ничего не может сделать, не так ли?
Гэллоуэй ничего не ответил. Он думал о тридцати восьми долларах, о Бене, у которого действительно в кармане обычно лежало три-четыре доллара и который никогда не требовал денег. Каждую неделю отец давал ему пять долларов, и Бен, смущаясь, клал их в карман и говорил «спасибо».
Дейв также думал о грузовичке, который не в состоянии проделать большой путь. Этот подержанный грузовичок он купил шесть лет назад и ездил на нем только тогда, когда ему приходилось посещать клиентов на дому. Часто, как и его товарищ из Уотербери, люди просили его починить старинные часы. Он также следил за часами в мэрии, в школе, в епископальной и методистской церквах. Задняя часть машины была переоборудована в своеобразную мастерскую, где лежали инструменты, как в машинах технической электрической помощи.
Уже давно надо было поменять колеса. Кроме того, через несколько миль двигатель перегревался. Если Бен не будет часто наполнять радиатор, он не проедет и ста миль и попадет в серьезную аварию.
Вдруг он разозлился на себя, что не купил новую машину, что всегда откладывал эту покупку на потом.
— Надеюсь, они не станут останавливаться по дороге, — вздохнув, сказала Изабель Хавкинс. И добавила, направляясь к лестнице: — Ну, будем надеяться, что ничего плохого не случится. Детьми нельзя распоряжаться по-своему. Их заводят вовсе не для этого. Поднимайся, Хавкинс!
Она была достаточно сильной, чтобы приподнять мужа одной рукой и осторожно подталкивать его вперед, так нежно, что теперь он больше не думал сопротивляться. Подняв голову, она напоследок сказала:
— Если я узнаю что-нибудь новое, я сообщу вам. Но я буду удивлена, если первой напишет моя дочь!
Гэллоуэй слышал, как она говорила уже на улице:
— Смотри, куда идешь! Держись за меня! Не волочи ноги!
Луна исчезла. Вероятно, Хавкинсам потребуется полчаса, может, час, чтобы добраться до дома, останавливаясь через каждые десять метров на темной дороге.
Бен тоже находился в дороге, несомненно, с Лилианой, прижавшейся к нему. Должно быть, он пристально смотрел на свет фар, пронизывающий темноту. Фары светили слабо, особенно левая, которая то вдруг гасла, то вновь зажигалась после небольшой тряски, что напоминало работу некоторых радиоприемников. Помнил ли об этом Бен? Если полицейские остановят его для проверки документов, что часто случается ночью, сочтут ли они действительными его водительские права?
Гэллоуэй занимался этими, в сущности, незначительными проблемами, чтобы, вероятно, не думать о другом, более серьезном. Он вновь был один в квартире, где свет горел только в столовой. Как и пятнадцать с половиной лет назад, ему в голову даже не пришла мысль лечь спать или закурить сигарету. Он сидел в кресле и неподвижно смотрел прямо перед собой.
По закону водительские права были недействительными, во всяком случае, в штате Нью-Йорк, где минимальный возраст водителя составлял восемнадцать лет. Странно, что два месяца назад, в марте, Бен ездил в небольшой городок Коннектикута, расположенный в тридцати милях от Эвертона, чтобы сдать экзамен на права. Он не сказал об этом отцу, сообщив только, что собирается проехаться с приятелем, у которого была машина. И только через неделю, когда они были одни в квартире, он вытащил из кармана бумажник и достал небольшой лист бумаги.
— Что это такое? — спросил Дейв.
— Смотри.
— Водительские права? Ты же знаешь, что пока еще не имеешь права водить машину в штате Нью-Йорк.
— Знаю.
— И что?
— Ничего. Я сдал экзамен ради забавы.
Бен испытывал гордость, глядя на этот листок бумаги, где была напечатана его фамилия и который, как он считал, делал из него мужчину.
— Ты ответил на все вопросы?
— Легко. Я учился по учебнику.
— Ты назвал свой адрес?
— Я сказал, что живу в Уотербери. Они не потребовали доказательств. Я взял у дяди моего приятеля машину с номерами Коннектикута.
Бен научился управлять машиной года два назад, не меньше, но освоился с ней еще раньше. В десять лет он умел ставить машину в гараж и выводить ее оттуда. Позднее он часто тренировался за зданием.
Дейв, улыбаясь, вернул сыну права.
— Только не пользуйся ими!
По словам Изабель Хавкинс, Бен уже тогда встречался по вечерам с Лилианой. Как друг Стива, он заходил к ее родителям, съедал вместе с другими бутерброд, запивал его молоком и мыл свой стакан, как будто у себя дома.
Самым трудным оказалось представить, как Бен, который дома ничего не делал, который даже не научился аккуратно заправлять кровать и чистить обувь, взял из рук Изабель Хавкинс молоток и починил раму.
Дейв вдруг осознал, что ревнует, что испытал приступ ревности, заставивший кровь отхлынуть от его лица, когда женщина рассказывала свою историю.
Он никогда не был у Хавкинсов. Он только мимоходом видел их дом, большую деревянную развалюху, которую не красили вот уже много лет, мусор, валявшийся на пустыре. Вокруг веранды всегда бегали дети и гонялись друг за другом щенки. Он предпочитал огибать этот дом, поскольку боялся раздавить щенков, выбегавших на дорогу в самые неожиданные моменты.
Близнецы с медно-рыжими волосами постоянно разъезжали по деревне на велосипедах, не держась за руль. Они то и дело издавали пронзительные крики, похожие на клич индейцев.
В течение двух, возможно, трех месяцев Бен каждый день виделся с этими людьми, которых в конце концов, несомненно, стал считать в какой-то степени родными.
В своих разговорах с отцом он не произнес ни единого слова, которое могло бы заставить того догадаться о чем-либо. Бен никогда не испытывал потребности поговорить по душам. Совсем крошка, он уже избегал изливать свои чувства. Дейв помнил, как впервые привел его в детский сад, когда Бену было четыре года. Бен не плакал. Он просто бросил вслед уходящему отцу взгляд, полный упрека. Придя за ним, Дейв спросил с тревогой в голосе:
— Ты хорошо провел время?
Ребенок невозмутимо ответил, даже не улыбнувшись:
— Хорошо.
— Воспитательница была добра к тебе?
— Думаю, да.
— А твои приятели?
— Да.
— Что вы делали?
— Играли.
— А что еще?
— Ничего.
Все следующие месяцы, день за днем Дейв задавал похожие вопросы и получал похожие ответы.
— Ты любишь детский сад?
— Да.
— Тебе в нем нравится больше, чем дома?
— Не знаю.
Гораздо позднее, сопоставив вопросы и ответы, Дейв догадался, что в группе был более сильный старший мальчик, который сделал Бена козлом отпущения.
— Он тебя бьет?
— Иногда.
— Как?
— Кулаками, всем, чем угодно, или толкает, чтобы я упал в грязь.
— Ты защищаешься?
— Я побью его, когда стану таким же большим, как он!
— И воспитательница позволяет ему бить тебя?
— Она не видит.
В то время у Бена были короткие ноги, а голова казалась слишком большой для его туловища. Часто отец слышал, как его сын разговаривает вполголоса, когда Бен думал, что он один.
— Бен, что ты говоришь?
— Ничего.
— С кем ты разговариваешь?
— Сам с собой.
— И что ты рассказываешь самому себе?
— Истории.
Бен не уточнил, какие именно. Это была его заповедная территория. На протяжении долгого времени Дейв спрашивал себя, что он ответит ребенку, когда тот начнет задавать вопросы о матери. Из-за какого-то суеверного страха он не хотел отвечать, что она умерла. Как объяснить ребенку, что она уехала и что он, несомненно, никогда ее не увидит?
Но Бен так никогда и не задал этого вопроса. Ему исполнилось семь лет, когда они смогли наконец покинуть Уотербери. Может, маленькие приятели Бена по детскому саду, слышавшие разговоры своих родителей, открыли ему правду?
Если Бен знал, то никак не показывал этого. Он не был угрюмым ребенком. Тем более — скрытным. Как и у всех детей, у него случались вспышки шумной радости.
— Ты счастлив, Бен? — часто спрашивал сына отец, стараясь говорить непринужденно.
— Да.
— Ты уверен, что счастлив?
— Уверен.
— Тебе не хотелось бы поменяться местами с другим мальчиком?
— Нет.
Это был способ выведать правду. Однажды, когда Бену было тринадцать лет, они вместе прогуливались. Дейв тихо спросил:
— Знаешь ли ты, Бен, что я твой друг?
— Знаю.
— Мне хотелось бы, чтобы ты всегда считал меня своим другом, чтобы ты не боялся обо всем мне рассказывать.
Гэллоуэй не решился настаивать, поскольку ему показалось, что мальчик смутился. Бен всегда немного стыдился своих чувств.
— Если когда-нибудь тебе захочется задать мне вопросы, задавай. Обещаю тебе, что отвечу честно.
— Какие вопросы?
— Не знаю. Иногда спрашиваешь себя, почему люди делают то или другое, почему они ведут тот или иной образ жизни.
— У меня нет вопросов.
И Бен принялся бросать камешки в пруд.
Было семь часов утра, когда в магазине зазвонил телефон, отчего пол завибрировал. Дейв мгновенно сбросил с себя оцепенение, подумал, успеет ли он спуститься, обогнуть здание и войти в магазин прежде, чем телефонистка устанет ждать.
Такое уже случалось. Если это Бен, он перезвонит через несколько минут, поскольку он знал об этом.
Огибая здание, Дейв еще слышал звонки, но когда он открыл дверь, телефон замолчал.
Солнце светило так же ярко, как луна ночью. Улицы были безлюдными. По лужайке перед кинотеатром прыгали птицы.
У Гэллоуэя затекли все члены. Он остался в магазине и ждал, пристально глядя на телефонный аппарат. Через приоткрытую дверь внутрь врывался утренний свежий воздух.
Мимо проехали одна-две машины. Жители Нью-Йорка или окрестностей выбирались на природу. Он машинально поискал в карманах сигареты. Но, вероятно, он оставил их наверху.
Телефон молчал. На самом деле Гэллоуэй не верил, что звонил Бен, но не мог объяснить почему.
Прошло полчаса. Потом еще четверть часа. Ему хотелось выкурить сигарету, выпить чашку кофе, но он не решался подняться в квартиру, боясь пропустить новый звонок.
Бен, которому часто по вечерам хотелось позвонить своим приятелям, просил установить телефон в квартире. Почему Дейв все время откладывал?
Вероятно, было очень поздно, когда он уснул. Он спал тяжелым беспокойным сном и сейчас чувствовал себя более разбитым, чем вечером.
Он чуть не позвонил Мьюсаку. Но что он сказал бы? Поведал бы тому, что произошло? Они никогда не обсуждали свои личные дела. Дейв никогда ни с кем их не обсуждал.
Гэллоуэй облокотился на прилавок. В глазах щипало. Он по-прежнему стоял в этой позе, когда машина на высокой скорости спустилась по Мейн-стрит, повернула за угол и остановилась прямо перед магазинчиком.
Из машины вышли двое мужчин в форме полиции штата. У обоих были свежие, отдохнувшие, тщательно выбритые лица. Они подняли голову, чтобы прочитать фамилию, написанную над вывеской. Один из них достал из кармана блокнот и сверился с ним.
Не дожидаясь, пока они войдут, Гэллоуэй бросился им навстречу, понимая, что они ищут именно его.
Глава третья
Стоя на пороге, щуря глаза от яркого утреннего солнца, которое било прямо ему в лицо, он приоткрыл рот, чтобы спросить: «Мой сын попал в аварию?»
Он не мог бы объяснить, что его удержало, если это только была не интуиция или нечто неуловимое в поведении обоих полицейских. Казалось, они удивились, увидев его здесь, и обменялись взглядами, словно задавали друг другу немые вопросы. Поразили ли их его небритое лицо и помятая одежда? Ведь он провел несколько часов, сидя в кресле.
В Рэдли, почти напротив здания средней школы, находился пост полиции штата. Гэллоуэй знал, по крайней мере в лицо, шестерых полицейских, двое из которых останавливали свои машины перед его магазинчиком, когда им требовалось починить часы.
Но эти двое были не из Рэдли. Вероятно, они приехали из Покипси или откуда-нибудь подальше.
Он, разумеется, в конце концов задал бы вопрос, хотя бы ради приличия, если бы тот, который был ниже ростом, не произнес:
— Вас зовут Дейв Клиффорд Гэллоуэй?
— Да, это я.
Заглянув в блокнот, полицейский продолжал:
— Вы владелец грузовичка «форд» с номером 3 М-2437?
Гэллоуэй кивнул головой в знак согласия. Теперь он занял оборонительную позицию. Инстинкт подсказывал ему, что он должен защитить Бена. Он спросил нейтральным тоном, словно не придавая вопросу особого значения:
— Произошло столкновение?
Полицейские с изумлением посмотрели друг на друга, потом один из них сказал:
— Нет, столкновения не было.
Ему не следовало теперь говорить. Он будет только отвечать на вопросы. Поскольку они пытались заглянуть через его плечо в магазин, он посторонился, пропуская их внутрь.
— Вы работали в воскресенье в восемь часов утра?
Вопрос прозвучал иронично, поскольку витрина была пустой, а часы, сданные в ремонт, не висели на крючочках над прилавком.
— Я не работал. Я живу этажом выше. Примерно полчаса назад я услышал, что внизу зазвонил телефон, и спустился. Мне пришлось обогнуть здание, и, когда я вошел в магазин, звонки прекратились. Я остался здесь, думая, что мне перезвонят.
— Это мы вам звонили.
По их смущенным лицам Гэллоуэй понял, что они ожидали чего-то иного. Они не выглядели угрожающими, скорее, они попали в затруднительное положение.
— Вы пользовались машиной ночью?
— Нет.
— Она в вашем гараже?
— Ее там больше нет. Вчера вечером она исчезла.
— Когда вы это обнаружили?
— Между половиной двенадцатого и полуночью, когда вернулся от приятеля, у которого провел вечер.
— Можете ли вы назвать его имя?
— Фрэнк Мьюсак. Он живет на первой улице направо, за почтой.
Полицейский, державший блокнот, записал имя и адрес.
Гэллоуэй не утратил хладнокровия и не испытывал страха. Тем не менее тот факт, что ему задавали вопросы полицейские в форме, вызывал у него ощущение, что он перестал быть обычным гражданином, как другие. Порой мимо проходили люди, в основном девушки, дети в воскресных нарядах. Они направлялись в католическую церковь и бросали любопытные взгляды на открытый магазин и двух полицейских.
— Вы обнаружили, что ваша машина исчезла из гаража, когда вернулись домой?
— Совершенно верно.
— Вы выходили ночью?
— Нет.
Гэллоуэй не лгал, но все же обманывал полицейских и поэтому боялся покраснеть. Они вновь обменялись знаками, отошли в угол магазина и стали что-то обсуждать вполголоса. Гэллоуэй машинально встал за прилавок, словно принимал посетителя. Он не пытался подслушивать, о чем они разговаривали.
— Вы позволите воспользоваться вашим телефоном? Не бойтесь, мы позвоним за наш счет.
Мужчина вызвал телефонистку.
— Алло!.. Говорит полиция штата. Соедините меня с постом в Хортонвиле… Да… Благодарю вас…
Стояла прекрасная погода. Зазвонили колокола. Лужайка напротив, на которую деревья отбрасывали голубоватые тени, была усеяна желтыми цветами.
— Фред, это ты? Говорит Дэн. Можешь соединить меня с лейтенантом?
Ждать ему пришлось не больше минуты. Он говорил вполголоса, чуть ли не шепотом, прикрыв трубку ладонью.
— Мы приехали, лейтенант. Он здесь… Алло!.. Да… Мы нашли его в магазине… Нет… Похоже, он ничего не делал… Он живет на втором этаже и слышал, как звонил телефон… Мне трудно вам объяснить… Помещения расположены так, что он должен был выйти из квартиры и обогнуть здание, а оно довольно длинное… Да… да… Похоже, грузовичок исчез из гаража до половины двенадцатого вечера…
Был слышен голос лейтенанта, отчего фонографическая пластинка вибрировала, но разобрать слова было невозможно. Полицейский, державший слуховую трубку в руке, казался по-прежнему озадаченным.
— Да… да… Разумеется… Здесь есть нечто любопытное…
Во время разговора он рассматривал Гэллоуэя с любопытством, в котором не было ни капли антипатии.
— Да, так будет лучше… Примерно час езды… Чуть больше…
Он повесил трубку и закурил сигарету.
— Лейтенант хочет, чтобы вы поехали вместе со мной, чтобы формально опознать вашу машину.
— Я могу подняться наверх и запереть двери?
— Пожалуйста.
Дейв взялся за ручку. Они оба последовали за ним, огибая здание. Один из полицейских сразу же заметил свежую зазубрину на двери гаража.
— Это ваш гараж?
— Да.
Он открыл дверь, чтобы заглянуть внутрь. На бетонном полу, на том месте, где раньше стояла машина, теперь было только черное масляное пятно.
Дейв начал подниматься по лестнице. За ним следовал тот полицейский, что пониже, словно они вновь договорились знаками.
— Полагаю, я не успею приготовить себе чашку кофе?
— Получится быстрее, если мы остановимся по дороге и зайдем в ресторан.
Полицейский осмотрелся, по-прежнему удивленный, словно человек, который боится, что ошибся дверью. Пока Дейв причесывался и умывался, он заглянул в обе комнаты.
— Такое впечатление, что вы не ложились! — заметил полицейский.
Но поскольку Гэллоуэй искал ответ, он поспешил добавить:
— Это не мое дело. Вы не обязаны мне отвечать.
Чуть позже таким же отстраненным тоном он спросил, хотя это, скорее, был не вопрос, а реплика:
— Вы не женаты?
Дейв спросил себя, что в его квартире могло навести полицейского на такую мысль. Ради Бена он всегда старался, чтобы их квартира не была похожа на жилище одиноких мужчин. У Мьюсака, например, это всегда его поражало. Никто не мог обмануться на этот счет. Сам запах подсказывал, что в доме не было женщины.
— Когда-то я был женат, — ответил Дейв.
Он вел себя как некоторые больные, испытывающие такой страх перед возможным приступом, что живут в замедленном темпе, делают осторожные движения, говорят потухшим голосом.
По сути, приезд двух полицейских не удивил его. Он тем более не думал, что Бен попал в аварию. Впрочем, если бы речь шла об аварии, они сразу же рассказали бы обо всем.
С тех пор как он накануне вернулся в пустую квартиру, он знал, что все на самом деле очень серьезно. И сейчас он старался расправить плечи, чтобы не выглядеть человеком, покорившимся судьбе.
Неважно, что произошло. Ему непременно надо было защитить сына. Никогда прежде он не ощущал столь явственно, столь чувственно существовавшую между ними связь. Это вовсе не был другой человек, где-то — бог весть где — попавший в трудное положение, это была частичка его самого.
Он вел себя как честный гражданин, уважающий законы, немного боязливый, но которому не в чем себя упрекнуть.
— Полагаю, не имеет значения, что я не побрился?
Он был рыжим, но не таким, как Хавкинсы, а яркорыжим. Его тонкие волосы уже начали редеть. На лице играли золотистые отблески солнечных лучей. Почему он заглянул на кухню, хотя электрическая плитка не была зажжена? По привычке! Он запер дверь на ключ, спустился ко второму полицейскому, которому его товарищ что-то говорил.
— Вы идете?
Гэллоуэй хотел сесть на заднее сиденье, но ему знаками дали понять, чтобы он садился вперед. К его удивлению, только один полицейский, тот, что был ниже ростом, сел в машину, на водительское место. Второй же остался стоять на тротуаре и смотрел, как они отъезжали.
— В воскресенье утром всегда полно дел, — говорил полицейским тоном, которым он мог бы беседовать с кем-нибудь в баре. — По субботам, особенно вечером, люди не в состоянии вести себя спокойно.
И действительно, всю дорогу чувствовалось воскресенье. В каждой деревне можно было увидеть белые церкви с распахнутыми дверями, женщин в белых перчатках. Кое-где маленькие девочки шли, выстроившись в ряд, и каждая из них несла в руках букет.
— Не забудьте про мою чашку кофе, — сказал Дейв, с трудом выдавливая из себя улыбку.
— При выезде из Покипси есть прелестное местечко.
Они проехали город, не останавливаясь, миновали мост через Гудзон, сверкавший под яркими лучами солнца. Как раз в этот момент по заливу плыл экскурсионный пароходик.
Машина добралась до первых отрогов Кэтскилза. По извилистой дороге с крутыми подъемами и спусками въехала в темный прохладный лес и стала огибать озеро. Иногда на плато появлялись фермы и луга. На обочине дороги, перед небольшим рестораном для автомобилистов, украшенным рекламой различных марок лимонада, полицейский остановил машину и сделал заказ подбежавшей девушке в брюках.
— Два кофе.
— Черный?
— Мне черный, — сказал Дейв. — С двумя кусочками сахара.
— Мне то же самое.
Для большинства людей это было чудесное воскресенье. Чуть дальше они пересекли площадку для гольфа, на которой то тут, то там стояли небольшие группы людей с перекинутыми через плечо клубными рюкзаками. Почти все мужчины были в белых кепках. Многие женщины — в шортах и солнечных очках.
Судя по телефонному звонку и фразам, которые слышал Дейв, они направлялись в Хортонвиль. Он уже там был. Хортонвиль представлял собой небольшую деревню, расположенную на границе штатов Нью-Йорк и Пенсильвания. Ему казалось, что он помнил одноэтажное кирпичное здание полицейского поста на обочине дороги. От Эвертона до Хортонвиля было миль шестьдесят, и им понадобилось примерно час с четвертью, чтобы их преодолеть.
Гэллоуэй заставлял себя молчать, не задавать никаких вопросов. Его руки стали влажными, а над верхней губой выступил пот.
— Вы не курите?
— Я оставил сигареты дома.
Полицейский протянул ему пачку сигарет и жестом показал на электрический прикуриватель. Они только что проехали небольшой, еще сонный городок, наверняка Либерти, затем Гэллоуэй заметил довольно широкое озеро с многочисленными пароходиками, казавшимися неподвижными. Они вновь углубились в лес. Вдруг Дейв едва не остановил своего спутника и уже протянул руку, чтобы дотронуться до его плеча.
Ему показалось, что он узнал по правым шинам, видневшимся в траве, свой светло-коричневый грузовичок. Он даже успел различить в тени силуэт полицейского.
Жест Гэллоуэя не ускользнул от внимания его спутника.
— Это ваша машина? — спросил он, словно не придавал своему вопросу особого значения.
— Думаю… да…
— Сначала мы поедем к лейтенанту… Это в двух милях отсюда… А затем вернемся.
Здание поста было сложено из кирпичей нежно-розового цвета, и с каждой его стороны был разбит партер, в котором росли цветы. По контрасту с ярким уличным светом интерьер казался темным. Гэллоуэю стало холодно, возможно, из-за нервного напряжения. Когда же Гэллоуэя оставили одного в коридоре, его пробила дрожь.
— Пройдите сюда, пожалуйста.
Лейтенант оказался молодым человеком атлетического телосложения. Дейв удивился, когда тот протянул ему свою крепкую руку.
— Прошу прощения за беспокойство, мистер Гэллоуэй, но мне было бы затруднительно поступить иначе.
Что лейтенант рассказал полицейскому, который привез Гэллоуэя и с которым у него состоялся долгий разговор? Теперь полицейский смотрел на Гэллоуэя как-то иначе. Складывалось впечатление, что в его взгляде было больше симпатии, если не уважения.
— Вы заметили свой грузовичок по дороге?
— Мне кажется, я его узнал.
— Будет лучше, если мы начнем с этого. Это займет всего лишь несколько минут.
Лейтенант снял с крючка форменную фуражку, надел ее и направился к машине, знáком велев другому полицейскому следовать за ним.
— Кажется, вчера вам не повезло в триктрак?
Полицейские допросили Мьюсака и не пытались скрыть это от него, тем самым показывая, что они вели с ним честную игру.
— Не нужно на нас сердиться, мистер Гэллоуэй. Вы должны знать, что при нашей профессии мы обязаны все проверять.
Они подъехали достаточно близко, чтобы можно было разглядеть грузовичок. Первым делом Дейв бросил взгляд на шины: ни одна из них не лопнула. Теперь его ладони действительно стали мокрыми. Выйдя из машины, он на мгновение задумался, сможет ли идти дальше.
— Вы узнаете свой драндулет?
— Безусловно.
— Сзади вы храните свои инструменты для починки часов?
— Да.
— Я был заинтригован, поскольку никак не мог догадаться, какова ваша профессия. Не хотите ли взглянуть внутрь?
Они открыли дверцу. Гэллоуэй сразу же машинально посмотрел на сиденье, которое занимал Бен. Он даже быстро провел по нему рукой, словно молескин мог еще хранить тепло тела его мальчика. Возле педали сцепления валялся белый шифоновый кусок ткани. Это был женский носовой платок, пахнувший одеколоном.
— Один из наших патрульных обнаружил машину около двух часов ночи, но она простояла здесь некоторое время, поскольку мотор уже остыл. Фары были погашены.
Гэллоуэй не смог удержаться и спросил:
— Она на ходу?
— Именно это и заинтересовало моих людей. Двигатель работает. Следовательно, речь не идет о поломке.
Лейтенант подозвал ждавшего неподалеку человека и сказал:
— Можешь отвезти ее в Покипси.
Дейв чуть не запротестовал, чуть не спросил, почему ему не отдают его машину.
— Идемте, мистер Гэллоуэй.
Всю дорогу лейтенант, сидевший за рулем, молчал. Он не произнес ни слова до тех пор, пока они не вошли в его кабинет. Полицейский, приезжавший в Эвертон, последовал за ними.
— Дэн, закрой дверь.
У лейтенанта было серьезное выражение лица. Чувствовалось, что он находился в сложном положении.
— Сигарету?
— Нет, спасибо. Я не успел позавтракать и…
— Я знаю. Вам не пришлось долго спать ночью. Вы даже не ложились.
Делал ли Гэллоуэй все, что было в его силах? Делал ли он все, что было в его власти, чтобы защитить Бена? Он боялся, что окажется не на высоте положения, ведь он не привык хитрить.
Гэллоуэю казалось, что лейтенант читал его мысли по лицу. Почему он вел себя с ним столь предупредительно, с ним, обыкновенным деревенским часовщиком, человеком, не имевшим никакого влияния?
Его собеседник вдруг решил сесть. Он провел рукой по жестким, коротко постриженным волосам.
— С тех пор как вы уехали из Эвертона, мистер Гэллоуэй, мы получили новые сведения из различных источников. Я обязан ввести вас в курс дела. Например, мы узнали, что прошлой ночью к вам приходили Хавкинсы.
Гэллоуэй не вздрогнул, даже глазом не моргнул, но, казалось, его сердце перестало биться, поскольку теперь речь неизбежно зайдет о Бене.
— Один из сыновей Хавкинсов, проезжая этим утром на велосипеде мимо вашего магазина, увидел полицейских и поспешил рассказать об этом матери. Та прибежала, надеясь, что ей сообщат что-нибудь о ее дочери.
Вероятно, у лейтенанта тоже были влажные ладони, поскольку он вытащил из кармана платок и вытер руки.
— Вы хорошо знаете своего сына, мистер Гэллоуэй?
Это случилось. Дейв надеялся, что этот момент никогда не наступит. Он старался на это надеяться, вопреки всякой возможности, вопреки всякой логике. Его глаза засверкали, кадык судорожно задергался. Лейтенант деликатно отвернулся, словно для того, чтобы позволить ему более свободно проявлять свои чувства.
Был ли это голос Дейва? Он произнес:
— Думаю, что знаю его, да.
— Ваш сын не вернулся домой ночью. Дочь Хавкинсов…
Он взглянул на свои записи и уточнил:
— …Лилиана Хавкинс ушла из родительского дома вечером с вещами.
Полминуты лейтенант молчал.
— Вы знали, что они оба уехали на вашем грузовичке?
Зачем отрицать очевидное? Ведь обвиняли его, а не Бена.
— Я так и подумал после визита Хавкинсов.
— И вам не пришло в голову поставить полицию в известность?
Гэллоуэй честно признался:
— Нет.
— Сын когда-нибудь давал вам повод для беспокойства?
Выдержав взгляд лейтенанта, Гэллоуэй твердо ответил:
— Нет.
Это было не совсем правдой, но его беспокойство никогда не имело ничего общего с тем беспокойством, о котором говорил лейтенант. Даже обычный отец не мог бы этого понять.
— Он никогда не доставлял вам неприятностей?
— Он был послушным, прилежным мальчиком.
— Мне уже сообщили, что в прошлом году он был одним из трех лучших учеников в классе.
— Совершенно верно.
— Но в этом году его отметки изменились…
Гэллоуэй хотел объяснить, что с каждым годом дети меняются, что они интересуются то одним, то другим, что им необходимо пройти за несколько лет полный цикл. Но сочувствие, которое он прочитал в глазах лейтенанта, помешало ему сказать все это. И тогда, низко опустив голову, словно проиграв партию, он пробормотал:
— Что он сделал?
— Может, вы хотите сами прочитать рапорт?
Лейтенант положил на стол несколько листов бумаги большого формата. Дейв отрицательно покачал головой. Он не мог читать.
— В одной миле отсюда, по направлению к Пенсильвании, но по-прежнему в штате Нью-Йорк, сегодня утром один автомобилист обнаружил на обочине дороги человеческое тело. Это случилось в половине шестого, только начинало светать. Сначала мужчина продолжил путь, но затем, почувствовав угрызения совести, сказав себе, что, возможно, речь идет о раненом, вернулся на то место.
Лейтенант говорил медленно, монотонно, словно читал рапорт, однако лишь изредка бросал взгляд на бумаги, которые подвинул ближе к себе.
— Через несколько минут этот мужчина вошел сюда, чтобы сообщить, что обнаружил труп. Я только заступил на дежурство в Покипси, когда мне доложили о происшествии. Я приехал на место почти сразу после полицейских поста.
Что слышал Дейв? Он мог бы поклясться, что слова перестали быть словами, превратившись в образы, проплывавшие перед его глазами, словно цветной фильм. Он не смог бы повторить ни одну из произнесенных фраз, но, тем не менее, у него было чувство, будто он следовал за всеми названными действующими лицами.
В то время, когда это происходило, он дремал в зеленом кресле, сидя напротив окна, в которое было видно, как всходит солнце и как птицы прыгают на лужайке.
— Из документов, найденных у покойника, мы узнали, что речь идет о неком Чарльзе Рэльстоне из Лонг-Эдди, расположенного милях в десяти отсюда. Я позвонил ему домой, и его жена ответила, что вчера вечером он поехал на ужин к их замужней дочери, живущей в пригороде Покипси. Она не могла его сопровождать, поскольку вот уже несколько недель у нее ломит грудь. Легла спать она рано. Когда она проснулась ночью и не обнаружила мужа рядом с собой, она не забеспокоилась, поскольку подумала, что он решил заночевать у дочери, что иногда случалось, особенно если он много выпивал. Чарльз Рэльстон был региональным представителем крупной фирмы, производящей холодильники. Ему было пятьдесят четыре года.
Немного помолчав, лейтенант произнес:
— Он был убит выстрелом в затылок, в упор, вероятно тогда, когда сидел за рулем своей машины. Затем его оттащили на обочину, как это явствует из осмотра места. Из его бумажника пропали все деньги. По словам жены, он должен был иметь при себе долларов двенадцать-четырнадцать.
Наступила гнетущая тишина, которая иногда воцаряется в зале суда во время оглашения приговора. Первым задвигался Гэллоуэй: он снял затекшую ногу с колена.
— Я могу продолжать? — спросил лейтенант.
Гэллоуэй кивнул головой. Лучше, чтобы все поскорее закончилось.
— Пуля тридцать восьмого калибра была выпущена из автоматического пистолета. От дочери и зятя Рэльстон уехал на «олдсмобиле» типа седан, синего цвета, с номерами штата Нью-Йорк.
Лейтенант взглянул на ручные часы.
— Прошло три часа, и сообщение о розыске этой машины было передано по всем радиостанциям, в частности в Пенсильванию, куда машина, скорее всего, направилась. Незадолго до вашего приезда полиция Гаглетона связалась со мной и сообщила, что прошлой ночью, около двух часов, водитель и пассажир автомобиля, соответствующего описанию, остановились у бензоколонки, далеко за городом, разбудили владельца и попросили заправить горючим полный бак.
Во рту у Дейва пересохло, губы горели, слюна не выделялась. Кадык втянулся внутрь, и из-за этого ему казалось, что его душат.
— За рулем синего «олдсмобиля» сидел молодой человек среднего роста, светлокожий, одетый в бежевый плащ. Совсем юная девушка, находившаяся в машине, опустила стекло и попросила продать ей сигареты. Чтобы не открывать кассу, где у него стоял торговый автомат, владелец отдал ей свою начатую пачку. Молодой человек расплатился десятидолларовой купюрой, номер которой мы вскоре узнаем.
Вот и все. Что можно было еще сказать? Лейтенант ждал, не глядя на Гэллоуэя. Наконец он встал и подал знак полицейскому, ждавшему в коридоре. Дейв сидел неподвижно. Он потерял счет времени и дважды поймал себя на мысли, что видит, словно наяву, как ведет маленького мальчика в школу. Это были всего лишь две картинки, стремительно мелькнувшие перед глазами. Он ни о чем не думал. Зазвонил телефон, но он не обратил на него ни малейшего внимания. Если бы он прислушался, он мог бы узнать, о чем говорили по телефону, стоявшему на другом письменном столе.
Гэллоуэй не плакал. Теперь было совершенно ясно, что он не будет плакать, что он исчерпал весь запас отпущенных ему слез.
Когда гораздо позже Гэллоуэй поднял глаза, он с удивлением обнаружил, что был один в кабинете. Это смущало его. Он хотел было позвать кого-нибудь, не решаясь выйти в коридор.
Возможно, за ним наблюдали? Возможно, они услышали, как он задвигался? Так или иначе, в дверном проеме появился лейтенант.
— Полагаю, вы хотите вернуться домой?
Гэллоуэй кивнул головой, удивляясь, что его не арестовали. Он был бы не против. Это даже показалось бы ему вполне естественным.
— Я должен попросить вас подписать протокол. Вы можете его прочитать. Это простая формальность, что вы опознали свою машину.
Не было ли это предательством по отношению к Бену?
— Я действительно должен подписывать?
Лейтенант кивнул, и Гэллоуэй покорно подписал.
— Между нами: могу вам сказать, что за ночь они преодолели довольно большое расстояние и уже покинули пределы Пенсильвании. Последним местом, где их видели, было графство Джефферсон в Виргинии.
Неужели Бен, который вел машину со вчерашнего вечера, так и не остановился, чтобы немного поспать?
— Они предпочитают ехать не по автострадам, а окольными путями, выбирая маленькие и второстепенные дороги, что затрудняет их поиски.
Гэллоуэй встал. Лейтенант положил ему руку на плечо.
— Если бы я оказался на вашем месте — а я говорю это вам как человек, а не как полицейский, — я бы уже сейчас позаботился о хорошем адвокате для сына. Как вы знаете, он имеет право говорить только в его присутствии, и порой это совсем другое дело.
Он — это был Бен, каким бы невероятным это не выглядело, Бен, о котором вдруг заговорили как о взрослом человеке, несущем полную ответственность за свои поступки. Гэллоуэй чуть не запротестовал, настолько чудовищным ему казалось происходящее. Ему захотелось крикнуть: «Но он всего лишь ребенок!»
Гэллоуэй давал ему соску. В четыре года Бен еще мочился в кровать, а утром выглядел смущенным. Это мучило его больше года.
Сколько недель прошло с тех пор, как отец спрашивал его в последний раз:
— Ты счастлив, Бен?
И Бен без колебаний отвечал голосом, который только два года назад стал на удивление низким:
— Да, дэд.
Бен не любил слишком длинных фраз. Он не так легко раскрывал свою душу. Но разве Дейв, который наблюдал за сыном все шестнадцать лет его жизни, не знал своего мальчика лучше, чем кто-либо другой?
— Отвезешь мистера Гэллоуэя?
— Я заберу Дэна?
— Нет, он получил указания по телефону.
Лейтенант вновь протянул свою широкую мускулистую ладонь. Рукопожатие было более крепким, чем в первый раз.
— До свидания, мистер Гэллоуэй. Как только дело выйдет из моей компетенции, что вполне возможно, я поставлю вас в известность. — И добавил, бросив взгляд на письменный стол; — У меня есть номер вашего телефона… да…
Выйдя на улицу, Дейв был вынужден сразу же закрыть глаза, настолько ослепительным было солнце. Воздух вокруг него колыхался, жужжали мухи, летавшие среди цветов партера. Он пришел в себя в машине, услышав голос, говоривший:
— Возможно, будет лучше, если я открою все окна.
Перед Гэллоуэем возникли пальцы, поворачивавшие ручку, и он вздрогнул.
— Извините! Кстати, вы, несомненно, охотно выпили бы вторую чашку кофе? Кофе есть и на посту, но я как-то об этом не подумал.
Гэллоуэй машинально ответил:
— Ничего страшного.
— Лейтенант — славный малый. У него самого трое детей. Последний родился ровно неделю назад, когда он, как и сегодня, был на дежурстве.
Полицейский протянул руку, щелкнул каким-то переключателем, и, когда треск прекратился, стал слышен гнусавый голос, повторявший цифры — номера машины. И только тогда, когда его спутник быстро, словно осознав, что допустил бестактность, выключил звук, Гэллоуэй понял, что речь шла о синем «олдсмобиле».
Мужчина в форме два-три раза попытался завести разговор, искоса поглядывая на часовщика, но в конце концов смирился с молчанием. Мимо пролетали те же леса, то же поле для гольфа, те же деревни. Только на дорогах и у дверей ресторанов стало больше машин. По этой же дороге несколькими часами раньше проезжал Бен вместе с Лилианой, прижавшейся к нему. Разве теперь это помогло бы исправить положение, если бы Дейв крикнул во всю мощь своих легких, словно человеческий голос можно было услышать во всех штатах Америки, словно расстояния не существовало: «Бен!»
Гэллоуэй столь страстно этого хотел, что крепче сжал зубы и вонзил ногти в свою плоть. Он даже не узнал Покипси, не заметил, что они проехали город и пригороды.
Когда машина миновала щит, возвещавший о въезде в его родную деревню, он даже не почувствовал, что возвращался домой. Он смотрел на «Олд Барн», на государственный универмаг, на лужайку, на магазинчики, на свой магазинчик, на магазинчик миссис Пинч, на парикмахерскую, словно все это превратилось в пустую оболочку того, что раньше было его деревней.
Он не знал, который был час. Он утратил чувство времени. Время, как и пространство, перестали существовать. Разве он мог поверить, например, что сейчас Бен колесит по дорогам Виргинии, или даже Огайо, или Кентукки?
Дейв никогда не ездил дальше Кентукки, а Бен был всего лишь ребенком. Тем не менее десятки, сотни людей в самом расцвете лет, вовлеченные в эту своеобразную охоту и оснащенные современными средствами, преследовали его, гнались за ним по пятам.
Это было невозможно. Невозможно, чтобы сегодня вечером или завтра утром все американские газеты опубликовали на первой странице его фотографию, словно опасного преступника!
— Я высажу вас за зданием?
По воскресеньям в разгар дня на улицах никогда никого не было. Сразу после церковной службы улицы пустели, становились более гулкими. Они вновь оживали лишь тогда, когда наступал час игры в бейсбол.
Полицейский обогнул машину, чтобы открыть ему дверцу. Гэллоуэй протянул руку и вежливо сказал:
— Благодарю вас.
Дверь гаража была закрыта. К ней прикрепили изоляционную ленту, с каждой стороны которой стояла восковая печать. Трещину заделали липкой бумагой. Он поднялся по лестнице, никого не встретив. Ему показалось, что на третьей ступеньке он по-прежнему видел обезумевшего старого Хавкинса, который разговаривал сам с собой, качая головой.
Возможно, в этот момент все и случилось. Он был почти уверен в этом, но ему не хотелось думать о деталях. На лестничной площадке Изабель Хавкинс рассказывала ему о своей дочери и о тридцати восьми долларах, исчезнувших из коробки на кухне.
Гэллоуэй слышал за дверью шаги пожилой польской дамы, которая всегда носила домашние туфли из-за опухших ног. И поэтому звук был приглушенный, напоминавший странное скольжение, похожее на шаги невидимого животного, которое осторожно крадется по лесу.
Гэллоуэй открыл дверь. В это время солнце всегда освещало треть столовой, в том числе угол зеленой софы. По вечерам Бен любил лежать на софе, высоко держа в руках книгу.
— Ты находишь эту позу удобной?
Бен отвечал:
— Мне хорошо.
Гэллоуэй не знал, куда себя деть. Он даже не снял шляпу. И больше не думал о том, чтобы приготовить себе кофе, поесть. Дейв был готов, что с минуты на минуту раздадутся крики, предвещавшие начало игры в бейсбол. Из окошка ванной комнаты можно было видеть, встав на табурет, часть поля.
Зачем он пришел на кухню? Он и сам не знал. Ему там нечего было делать. Он вернулся в столовую, увидел сигареты на радиоприемнике, но даже не притронулся к ним. Ему не хотелось курить. Он чувствовал назойливую дрожь в коленях, но не стал садиться.
Окно было закрыто. В комнате было жарко. Вытирая лоб, он обнаружил, что у него на голове шляпа, и снял ее.
И вдруг, словно он вернулся в квартиру только ради этого, он вошел в комнату Бена и лег, вытянувшись во весь рост, ничком на кровать сына, схватив подушку обеими руками. Он долго лежал неподвижно.
Глава четвертая
Вначале он делал это не нарочно. Он ничего не осознавал. Если он и застыл неподвижно, то только из-за усталости, поскольку у него не хватало духа двигаться. Да и причин для этого не было. Постепенно все его члены, все его тело онемело, словно пораженное болезнью. Ему казалось, что его ум, притупляясь, начинал жить более интенсивной жизнью, но в ином плане. Это было похоже — но он никогда бы никому не рассказал о своих ощущениях из боязни, что над ним будут смеяться, — на вхождение в высшую действительность, в которой все обретало более отчетливое значение.
Такое часто происходило с ним в детстве. Он хорошо помнил один случай в Виргинии, когда ему было пять лет. Это продолжалось, возможно, целый час, возможно, несколько минут, поскольку это состояние напоминало сон, когда создается впечатление, будто он длится очень долго, именно потому, что время исчезает. Так или иначе, но это было его самым ярким воспоминанием, которого вполне достаточно, чтобы вкратце поведать о его детстве.
Тогда он тоже лежал, но не как сейчас в комнате на кровати Бена, на животе, а на открытом воздухе, на спине, скрестив руки на затылке. Подставив лицо солнцу, он лежал с закрытыми глазами, но красные и золотистые искорки все же проникали сквозь веки.
В то время у него начали выпадать молочные зубы, и он, в полусознании, дотрагивался кончиком языка до шатавшегося зуба. Это не было больно. Напротив, от этого он получал сладостное удовольствие, которое волнами, словно флюиды, разливалось по всему его естеству, и он не мог поверить, что это было грехом и что впоследствии ему будет стыдно.
С тех пор он больше никогда так явственно не ощущал, как его собственная жизнь смешивалась с жизнью вселенной, как его сердце билось в унисон с ритмом земли, окружавших его трав, деревьев, шелестевших над его головой. Его пульс становился пульсом мира, и он внимательно следил за всем, за прыгавшими кузнечиками, за свежестью земли, проникавшей ему в спину, за солнечными лучами, гревшими его кожу. Звуки, обычно смутные, тоже отличались друг от друга с чудесной четкостью: кудахтанье кур на птичьем дворе, урчание трактора на холме, голоса на веранде, голос его отца, который, попивая маленькими глотками бурбон, давал указания чернокожему управляющему.
Он не видел его, но все же был уверен, что образ отца, запечатлевшийся в его памяти, был образом того дня, когда отец, окруженный синеватой тенью, вытирал свои рыжеватые усы указательным пальцем после каждого глотка.
До него долетали отчетливые слова. Он не пытался понять их смысл, поскольку то, что обозначали эти слова, не имело никакого смысла. Значение имело лишь то, что спокойный и уверенный голос отца взлетал ввысь вместе с другими звуками земли, словно аккомпанирующими ему.
Порой негр оттенял фразу словами:
— Да, сэр.
И его голос, столь отличающийся от других голосов, которые он слышал раньше, исходил из самой груди, тяжелый, бархатистый, словно мякоть спелого плода.
— Да, сэр.
Из-за южного акцента негр так долго тянул слово «сэр», что на конце исчезал звук р и оно превращалось в заклинание.
Это происходило в доме, где родился его отец. Земля была темно-красной, деревья — более зелеными, чем в любом другом месте, а летнее солнце цветом и тягучестью напоминало мед.
Не в тот ли раз он произнес клятву быть похожим на отца? Когда мать везла его на грузовичке в школу, расположенную в соседнем небольшом городке, и там кто-нибудь говорил, что он похож на нее, он несколько дней разглядывал себя в зеркале и чувствовал себя несчастным.
В городе тоже пыль была красной, а деревянные домики покрашены в такой же приторный желтый цвет, как и дом Мьюсака. Возможно, раньше Мьюсак жил в Виргинии?
Эвертон приходил в себя после полуденного оцепенения, и Гэллоуэй это знал. Он знал, где он был. Он ничего не забыл. Однако он мог, совершенно не запутавшись, смешивать прошлое с настоящим, сделать из них целое, поскольку по сути это, вероятно, и было целым.
Внизу женский голос спросил:
— Ты думаешь, он у себя?
Когда муж ответил, он узнал его голос. Это был работник почты, мужчина, который 4 июля шел во главе процессии и нес знамя. Он пробормотал, несомненно, таща жену за руку:
— Кажется, его недавно привезли обратно. Идем!
Напрасно они говорили тихо. Он все слышал.
— Несчастный человек!
Они направились к бейсбольной площадке. Мимо шли люди. Все более многочисленные шаги шаркали по пыльным тротуарам. Не все останавливались, но, должно быть, все поднимали голову, чтобы взглянуть на его окна.
Они знали. Несомненно, об этом объявили по радио. Ранним утром тревожное сообщение было передано по ультракоротким волнам полицейских радиостанций, затем они решили рассказать о случившемся широкой аудитории в полуденных сводках новостей обычных радиостанций.
Рядом с ним на ночном столике стоял маленький приемник. Ему не требовалось смотреть в ту сторону, он и так знал. Это был радиоприемник Бена, который он подарил сыну на его двенадцатый день рождения, и в те времена Бен, застыв неподвижно, слушал программу о ковбоях.
Разве не любопытно, что в тот час Бен, вероятно, переносился в Виргинию, о которой Дейв так часто ему рассказывал, но где мальчик никогда не бывал?
— Там действительно красная земля? — недоверчиво спрашивал Бен еще несколько лет назад.
— Не такая красная, как кровь. Но она красная. Я не нахожу другого слова.
Смогли ли они остановиться, чтобы перекусить в ресторанчике или купить бутерброд на обочине дороги?
Кто-то, проходивший мимо, вероятно какой-нибудь мальчишка, два-три раза несильно ударил по витрине, где выставлялись украшения. Потом, словно театральный оркестр, на спортивной площадке раздались крики и свистки. Возникла обычная воскресная суматоха. Зрители вставали со ступенек и отчаянно жестикулировали.
Однажды, вскоре после того полудня, наполненного травой и солнцем, за ним в школу пришла не мать, а один из негров, работавших на ферме. Вернувшись домой, Дейв не нашел родителей. Заплаканные служанки с состраданием смотрели на мальчика.
Больше Дейв никогда не видел своего отца. Отец умер около часа дня в приемной банкира Кульпепера, к которому отправился в надежде получить новую ссуду. Мать известили по телефону. Тело сразу же отвезли в похоронную контору.
Отцу было сорок лет. С тех пор Дейв проникся убеждением, что тоже умрет в сорок лет, поскольку он был похож на отца. Эта мысль настолько овладела им, что теперь в сорок три года он иногда удивлялся, что еще жив.
Думал ли Бен, что тоже похож на отца? Что их жизнь шла по схожему пути? Дейв никогда не осмеливался спросить его об этом. Он не решался задавать прямые вопросы, часто наблюдал за сыном исподтишка, старался догадаться.
Владело ли его отцом такое же любопытство? Испытывал ли он те же опасения? Происходит ли то же самое со всеми отцами и всеми сыновьями? Очень часто он вел себя так или иначе только в память об отце. В семнадцать лет он даже отпустил усы и носил их несколько месяцев, чтобы сильнее походить на него.
Возможно, он хранил об отце столь восторженные воспоминания, потому что мать вновь вышла замуж через два года после его смерти. Впрочем, он в этом не был уверен. Он часто думал об этом, именно из-за Бена, когда начинал беспокоиться о сыне.
Спустя две недели после похорон они продали ферму в Виргинии и уехали в город, воспоминания о котором были ему ненавистны, в Ньюарк, штат Нью-Джерси. Он так никогда и не узнал, почему мать выбрала этот город.
— Мы были разорены, — сказала она позднее, однако не убедила его. — Я была вынуждена зарабатывать на жизнь, но не могла работать в краю, где все знали мою семью.
Мать происходила из семьи Труэсделей, а один из ее предков играл видную роль в Конфедерации. Но и фамилия Гэллоуэй, давшая стране губернатора и историка, была не менее известной.
В Ньюарке у них не было прислуги. Они жили на четвертом этаже в темном кирпичном доме с железной пожарной лестницей снаружи. Лестница проходила мимо их окна и заканчивалась на высоте второго этажа.
Его мать работала в бюро. По вечерам она часто уходила, и с Дейвом сидела молоденькая девушка, которой мать платила.
— Если ты будешь хорошо себя вести, мы вскоре переедем за город и будем жить в большом доме.
— В Виргинии?
— Нет. Недалеко от Нью-Йорка.
Речь шла об Уайт-Плэн, куда они действительно переехали, когда мать вышла замуж за Мьюсельмана.
Если он станет переключать радиоприемник, услышит ли он голос Бена? Два-три раза он пытался это сделать, но у него не хватало смелости скинуть с себя оцепенение, вновь вернуться к суровой действительности. Если он позволит себе пошевелиться — а он знал, что это неизбежно произойдет, — он встанет, начнет ходить по комнате, откроет окно, поскольку в комнате становилось жарко. Несомненно, он поест, поскольку у него уже сосало под ложечкой.
Но пусть это случится позднее. Пока он находился в подобном состоянии, ощущая себя маленьким мальчиком из Виргинии, ему казалось, что он был ближе к Бену.
Возможно, его сын не испытывал желания походить на отца? Однажды, когда Бен играл с другими детьми на тротуаре напротив магазина, он услышал, как один из них, сын владельца гаража, заявил:
— Мой отец сильнее твоего. Он мог бы свалить его на землю одним ударом кулака.
Это было правдой. Владелец гаража был настоящим великаном, а Дейв никогда не занимался спортом. Он застыл на месте, ожидая реакции сына. Но Бен ничего не сказал в ответ.
Это причинило ему боль. Это было абсурдным. Это ничего не значило. Тем не менее он почувствовал, как у него закололо в сердце. С тех пор прошло семь лет, но он все еще вспоминал о том случае.
Но больше всего Дейва смущало, когда Бен, полагая, что за ним никто не наблюдает, молча смотрел на него. В эти моменты лицо ребенка было серьезным, сосредоточенным. Казалось, он уносился очень далеко. Создавал ли он в эти минуты образ отца, как это некогда сделал Дейв?
Ему хотелось бы познакомиться с этим образом. Спросить: «Тебе не очень стыдно за меня?»
Сотни раз эти слова обжигали губы Гэллоуэя, но он всегда спрашивал, идя на попятную:
— Ты счастлив?
Мать Дейва никогда не задавала сыну этот вопрос. Если бы она это сделала, хватило бы ему мужества ответить: «Нет!»?
Ведь он и в самом деле не был счастлив. Одного вида Мьюсельмана, занимавшего довольно высокую должность в страховой компании, которому, однако, требовалось весь день напролет доказывать себе свою значимость, хватало, чтобы жизнь Дейва в доме в Уайт-Плэн стала невыносимой. Именно из-за Мьюсельмана, из-за своей матери он, окончив среднюю школу, выучился на часовщика, чтобы самостоятельно зарабатывать себе на жизнь и не жить с ними под одной крышей…
Накануне вечером Бен тоже уехал. В комнате, в стенном шкафу, большом, как туалетная комната, еще лежали его игрушки: механические машинки, тракторы, ферма с животными, ковбойские пояса и шляпы, шпоры и пистолеты. У Бена имелось не менее двадцати пистолетов всех моделей, но все они были сломаны.
Бен ничего не выбрасывал. Он сам прятал старые игрушки в стенной шкаф, а однажды, не так давно, отец с удивлением увидел, как Бен на полном серьезе пытался исполнить мелодию на флейте за десять центов, которую тот купил, когда ребенку было девять или десять лет.
Из громкоговорителя, высоко висевшего над спортивной площадкой, время от времени раздавались комментарии по поводу игры. Люди, сидевшие на ступеньках, вероятно, говорили о нем. Слушал ли Мьюсак радио? Или же ему кто-то рассказал о случившемся? Несомненно, он сидел на веранде, попыхивая своей чиненой трубкой, из которой вырывался свист.
Около магазинчика остановилась машина. Из нее вышли два человека, двое мужчин, судя по шагам. Они подошли к витрине и заглянули внутрь.
— Разве нет звонка? — спросил один из них.
— Что-то не вижу.
Они постучали в стеклянную дверь. Дейв не двигался. Затем один из мужчин отошел на середину улицы, чтобы взглянуть на окна второго этажа.
Вероятно, старая дама-полька высунулась из окна, поскольку снизу крикнули:
— Где живет мистер Гэллоуэй?
— Окно рядом.
— Он дома?
Говоря наполовину на английском, наполовину на своем родном языке, она пыталась объяснить им, что нужно обогнуть здание, войти в маленькую дверь между гаражами и подняться по лестнице. Вероятно, они поняли, поскольку шаги начали удаляться.
Дейв сознавал, что с минуты на минуту они постучат в дверь. Его даже не интересовало, кем они были.
Во всяком случае, пора было выходить из оцепенения. Оно уже спадало, и под конец ему приходилось удерживать его искусственно. Это был трюк, своеобразный способ напрячь мышцы, растянувшись на матрасе. Он не стал ждать, когда на лестнице раздадутся шаги. Дейв поднял голову и открыл глаза. Было странно видеть повседневную обстановку, четкие контуры предметов, светлый квадрат окна, уголок гостиной, который просматривался в приоткрытую дверь.
Во входную дверь постучали. Ничего не ответив, Гэллоуэй сел на краешке кровати. В голове было еще пусто. Он пока не полностью осознавал разыгравшуюся драму.
— Мистер Гэллоуэй!
В дверь постучали сильнее. Вышедшая на лестничную площадку соседка словоохотливо рассказывала:
— Я слышала, как он вернулся примерно час назад. Я уверена, что он не выходил. Самое любопытное, что с тех пор я не слышала в его квартире ни малейшего шума.
— Вы полагаете, что этот человек склонен к самоубийству? — спросил другой голос.
Изумленный Гэллоуэй нахмурил брови, поскольку такая мысль даже не приходила ему в голову.
— Мистер Гэллоуэй! Вы нас слышите?
Смирившись с неизбежным, он встал, направился к двери и повернул ключ в замочной скважине.
— Да? — спросил он.
Это были не полицейские. У одного из них на ремне через плечо висела кожаная сумка, а второй держал в руке большой фотоаппарат.
Более толстый произнес название нью-йоркской газеты, будто других объяснений не требовалось.
— Снимай, Джонни.
Словно извиняясь, он объяснил:
— В таком случае фотография успеет попасть в ночной выпуск.
Они не ждали разрешения. Вспыхнула вспышка, раздался щелчок.
— Одну минуточку! Где вы находились, когда мы пришли?
Гэллоуэй ответил не думая, поскольку не привык лгать:
— В комнате моего сына.
И сразу же пожалел о своих словах. Но было уже поздно.
— В этой? Вас не затруднит вновь войти туда? Вот так, да. Встаньте возле кровати. Смотрите на нее.
Перед домом остановилась вторая машина. Хлопнула дверца, на тротуаре раздались шаги.
— Быстрее! Готово? Езжай в редакцию. Обо мне не беспокойся. Я сумею добраться. Простите нас, мистер Гэллоуэй, но мы приехали первыми, и у нас нет никакой причины упускать преимущество.
Еще двое мужчин вошли в комнату, ведь дверь не была заперта на ключ. Все четверо знали друг друга, перекидывались отдельными фразами, разглядывая комнату.
— Судя по тому, что нам сообщили, полицейская машина увезла вас около часа назад и вы не успели позавтракать. Вы поели с тех пор?
Гэллоуэй сказал, что нет. Он чувствовал себя беспомощным перед их неудержимым напором. Они казались настолько сильнее его, настолько уверенными в себе!
— Вы не голодны?
Гэллоуэй не знал. Этот шум, эти хождения взад и вперед, этот ослепляющий свет, вспышки фотоаппарата ошарашили его.
— Вы сами готовили еду для сына и для себя?
Сейчас ему хотелось заплакать, но не от отчаяния, а от усталости.
— Не знаю, — ответил он. — Я даже не понимаю, о чем вы меня спрашиваете.
— У вас есть фотографии сына?
Он чуть не выдал себя, но ответил «нет», решив на этот раз защищаться. Он лгал. В его комнате в ящике лежал небольшой альбом с фотографиями Бена. Но ни в коем случае нельзя было допустить, чтобы они узнали об альбоме.
— Вы должны немного поесть.
— Возможно.
— Хотите, мы вам сделаем бутерброд?
Он предпочел сделать бутерброд сам, и они сфотографировали его перед открытым холодильником.
— До сих пор неизвестно, где он? — спросил в свою очередь Гэллоуэй, робко, готовый покориться.
— Вы не слушали радио?
Ему было стыдно в этом признаться, словно он не исполнил отцовского долга.
— Сейчас полиция сомневается в получаемой информации, поскольку ей сообщают одновременно о пяти-шести синих «олдсмобилях». Некоторые утверждают, что видели его час назад около Ларрисбурга, в Пенсильвании, а это означает, что они сделали крюк. А вот хозяин ресторана из Юнион-Бридж в Виргинии заявил, что подавал им завтрак до того, как услышал сообщение по радио. Он даже назвал меню, заказанное ими: креветки и жареная курица.
Гэллоуэй постарался сдержать свои эмоции. Это были любимые блюда Бена. Он всегда заказывал их, когда им доводилось есть в ресторанах.
— Полагаю, он взял ваш пистолет?
Гэллоуэй возразил, почувствовав облегчение от перемены темы:
— У меня никогда не было оружия.
— Вы знаете, что у него есть пистолет?
Они делали записи. Гэллоуэй стоя пытался съесть бутерброд, запивая его стаканом молока.
— Я видел у него только игрушечные пистолеты. Он был спокойным мальчиком.
Дейв все это терпел только ради Бена. Он не хотел допустить, чтобы газеты набросились на него, и вел себя с репортерами терпеливо, стараясь понравиться им.
— Он много играл с пистолетами?
— Не больше, чем другие мальчики.
— До какого возраста?
— Не знаю. Может, лет до двенадцати?
— А потом во что он играл?
Гэллоуэй не мог вот так, ни с того ни с сего вспомнить и чувствовал себя смущенным. Ему казалось, что он должен был помнить обо всем, что относилось к его сыну. Разве это произошло не в то время, когда Бен страстно увлекся футболом? Нет. Увлечение футболом возникло годом позже. Существовал переходный период.
— Животные! — воскликнул Гэллоуэй.
— Какие животные?
— Всякие. Все, которых он мог раздобыть. Он держал белых мышей, крольчат, которых вытаскивал в полях из нор, и они умирали через несколько дней…
Казалось, это их не интересовало.
— Его мать умерла, когда он был совсем маленьким?
— Я предпочел бы не обсуждать эту тему.
— Видите ли, мистер Гэллоуэй, если вы об этом не расскажете, это сделают другие. Через час-другой сюда наверняка приедут наши коллеги. И то, о чем вы им не расскажете, они узнают из других источников.
Это было правдой. Будет лучше, если он им поможет.
— Она не умерла.
— Вы развелись?
Он с сожалением пробормотал, словно немного приоткрывал перед ними свою тайную жизнь.
— Она ушла.
— Сколько лет было мальчику?
— Шесть месяцев. Но я бы предпочел…
— Не бойтесь, у нас хватит деликатности.
Они делали свою работу. Дейв это понимал и не сердился на них. Как и все, он читал в газетах отчеты подобного рода, но ему в голову никогда не приходило встать на место тех, о ком шла речь. Казалось, это был совершенно иной мир.
— Вы знали о его связи с Лилианой Хавкинс?
Он ответил «нет», поскольку это было правдой.
— Вы знаете ее?
— В лицо. Два или три раза она приходила в мой магазин.
— Полагаю, вы дружили со своим сыном?
Что он мог ответить? Он сказал «да». Он был убежден в этом. По крайней мере, он был в этом убежден до прошлой ночи и не собирался отступать. Один из его собеседников, высокий худой мужчина, напоминал скорее молодого профессора Гарварда, чем репортера. Дейв смущался, когда чувствовал на себе его пристальный взгляд. До сих пор этот репортер не задавал вопросов, а когда решил вступить в разговор, то спросил:
— Одним словом, вы были одновременно отцом и матерью вашему сыну?
— Я делал все, что было в моих силах.
— Вам никогда не приходила в голову мысль, что, женившись, вы создали бы сыну более нормальную жизнь?
Гэллоуэй покраснел. Он почувствовал, что покраснел, и стал от этого еще несчастнее. Ни минуты не думая, он пробормотал:
— Нет.
Словно следуя определенной логике, неумолимый журналист продолжал:
— Вы ревновали его?
— Ревновал? — переспросил он.
— Если бы он попросил у вас разрешения жениться на Лилиане Хавкинс, как бы вы отреагировали?
— Не знаю.
— Вы дали бы разрешение?
— Полагаю, да.
— От чистого сердца?
Другой, толстый журналист, приехавший первым, легонько толкнул своего коллегу локтем, и тот пошел на попятную.
— Простите меня за настойчивость, но, понимаете, меня интересует человеческая сторона.
Вероятно, команде Эвертона удалось получить очки на своем поле, поскольку рев на трибунах длился несколько минут.
— Как вы узнали о случившемся?
— От полиции. Сначала они пытались мне позвонить. Телефон установлен внизу, в магазине.
Ему хотелось рассказать им об этом как можно подробнее. Это снимало с него напряжение. Он, не жалея слов, говорил, что должен был обогнуть здание, чтобы попасть в магазин, как двое полицейских в форме вышли из машины, прочитали его фамилию на вывеске, а затем сверились со своими записями.
— Вы ничего не заподозрили?
Они беседовали вполголоса. Потом фотограф попросил:
— Вас не затруднит немного попозировать мне в магазине?
Гэллоуэй согласился, по-прежнему ради Бена. Ему было в какой-то степени стыдно за роль, которую его заставляли играть, но он был готов на все, только бы снискать их расположение.
Они спустились гуськом. Дейв забыл ключ от магазина, и ему пришлось вновь подняться. Квартира, где они все курили, пропахла запахом табака и утратила свою интимность.
И только в этот момент, когда Дейв искал глазами ключ на мебели, он понял, что определенный этап жизни навсегда закончился и что существование, которое он прежде вел здесь вместе с Беном, никогда не возобновится.
Он больше не был у себя дома, у них дома. Предметы мгновенно утратили свое своеобразие. Кровать Бена, на которой он, Дейв, еще совсем недавно лежал, вытянувшись всем телом, превратилась в обычную кровать, еще хранившую отпечаток тела.
Во дворе они разговаривали вполголоса. Должно быть, им было его жалко. Журналист, похожий на профессора, причинил ему, сам того не желая, боль своими вопросами, поскольку он произнес слова, которые отныне будут преследовать Дейва. Несомненно, сам он тоже так думал. Он об этом думал еще до того, как все это произошло, но по-другому. Сформулированная особым образом, правда начинала колоть глаза, смущать, как фотографии женщин в определенных позах, которые молодые люди передают друг другу тайком.
Снизу его спросили:
— Вы нашли ключ?
Он, держа ключ в руках, спустился, и они пошли все вместе.
— Это ваш гараж?
— Да.
— Дик, потом сними его. Вероятно, нам оставят две страницы в середине.
Две женщины, сидевшие на траве, разговаривали, следя за детьми, игравшими рядом с ними. Издали они видели, как группа мужчин вошла в магазин. Более молодая женщина была беременна.
— Для чего служат эти крючки?
— Днем я на них развешиваю часы, отданные в починку. Ремонт часов занимает порой несколько дней.
— Это стол, за которым вы работаете? А где часы?
— В сейфе.
Его попросили развесить часы, надеть белый халат и приставить к правому глазу лупу в черном ободке.
— Вы не могли бы взять в руки какой-нибудь инструмент?.. Да… Вот так… Не двигайтесь…
Гэллоуэй делал вид, что работал.
— Еще минутку! Другая фотография…
Гэллоуэй нуждался в человеке, который мог бы защитить его, и поэтому порой думал об отце. У него не хватало смелости сопротивляться журналистам, и он покорно делал все, что они говорили, причем до такой степени покорно, что их удивляла его готовность к сотрудничеству.
Имел ли он право запереться дома и никого не впускать в квартиру? Если бы он сейчас им не открыл, они, несомненно, отправились бы за слесарем или выломали бы дверь, испугавшись, что он повесился!
— Вы не находили фотографии девушки в вещах вашего сына?
— Я никогда не рылся в его вещах.
— Вы собираетесь это сделать?
— Разумеется, нет!
Он никогда не открывал бумажник Бена, за исключением одного случая, когда из кассы пропал доллар. Бену было тогда одиннадцать лет. И это случилось один-единственный раз, насколько он знал. Он мягко поговорил с сыном. Грустным голосом он произнес всего лишь две фразы.
Когда Дейв сам был ребенком, мать имела обыкновение рыться в его вещах и ящиках, чего он так и не сумел ей простить.
— Разве полиция не проводила обыск?
Он с испугом посмотрел на них.
— Вы полагаете, она его проведет?
— Это более чем вероятно. Меня удивляет, что она до сих пор этого не сделала.
Впрочем, какое это имело значение? После смерти отца Дейва часть мебели вынесли на веранду, окружавшую дом. Часть расставили на лужайке. Издалека приезжали люди, осматривали ее, заглядывали во все углы. В одну из суббот состоялся аукцион. Один раз его прервали, чтобы предложить лимонад и хот-доги присутствовавшим. Все было распродано, в том числе рамки, в которых еще оставались фотографии.
Дейву не позволили увидеть отца, лежащего в гробу, из опасения, что это зрелище произведет на него слишком сильное впечатление. Но никому не пришло в голову запретить ему присутствовать на этой резне.
По сути, сейчас происходило почти то же самое. Вся их личная жизнь была выставлена напоказ. Посторонние люди обсуждали их интимные отношения, прошлое, привычки, поведение.
Однако они не знали, что, пока ему задавали вопросы и заставляли позировать для снимков, он был скорее с Беном, чем с ними. Всю вторую половину дня он словно наяву видел красную землю Виргинии, более высокие, более величественные деревья с более темной листвой, чем здесь. Он думал о синей машине, которая колесила по окольным дорогам.
Им все равно придется остановиться. Осмелятся ли они провести ночь в мотеле или заедут куда-нибудь в лес, чтобы поспать в машине?
У них было не так уж много денег. Утром Дейв машинально подсчитал, когда лейтенант говорил ему о двенадцати или четырнадцати долларах, лежавших в бумажнике Чарльза Рэльстона. Вместе с тридцатью восьмью долларами, взятыми Лилианой на кухне ее родителей, это составляло долларов пятьдесят. Даже если Бен сэкономил долларов десять…
Они должны были покупать еду, несколько раз в день заправлять машину горючим.
Именно в этот момент журналист, смутивший Дейва своими вопросами, спросил:
— Скажите, мистер Гэллоуэй, думали ли вы о возможности передать им послание?
Гэллоуэй удивленно посмотрел на него, ничего не понимая.
— Я представляю Ассошиэйтед Пресс. По телетайпу ваше послание будет разослано во все газеты Соединенных Штатов. Я уверен, что его опубликуют все. Ведь вполне вероятно, что вашему сыну захочется купить по дороге газету, хотя бы для того, чтобы узнать, как продвигаются поиски.
Журналист понял, что Дейв колебался, и, возможно, принялся развивать эту мысль дальше, поскольку в противном случае он не спросил бы:
— Вы полагаете, что так будет лучше для него?
Гэллоуэй вспомнил о надписи, которую почти всегда можно было прочесть под портретами преступников, висевших на стенах почтового отделения:
«Внимание! Вооружен!»
Бен тоже был вооружен. Таким образом, полицейские, не желая подвергать себя риску, начнут стрелять первыми.
Это ли предлагал репортер? Хотел ли он, чтобы отец посоветовал Бену сдаться?
— Не желаете ли подняться в квартиру?
Это было желательно, поскольку игра в бейсбол только что закончилась и мимо них уже проезжали первые машины. Вскоре здесь появится целая толпа, стадо, как при выходе из церкви или кинотеатра. Дейв, поглощенный новой идеей, которую ему подсказали, чуть не забыл снять лупу.
Приехавший первым толстый репортер в нерешительности остановился на углу тупичка.
— Как отсюда пройти к Хавкинсам?
— За гаражом поверните налево, затем первый поворот направо.
Полагая, что он вытянул из Гэллоуэя все, что хотел вытянуть, репортер удалился, чтобы теперь расспросить Хавкинсов. Другой журналист, казалось, не интересовался Лилианой, сосредоточив все свое внимание на Бене и его отце. Он вел себя холодно и одновременно понимающе. Фотограф также покинул их. Он ждал, когда появится толпа, чтобы сфотографировать ее на фоне магазина.
В квартире представитель Ассошиэйтед Пресс сказал безразличным тоном:
— Полиция прекрасно знает, сколько денег у вашего сына. Легко подсчитать, во что им обходится дорога. Полагают, что к завтрашнему вечеру у них закончатся деньги.
— Это вам сказал лейтенант?
— Нет, не он, а ФБР. Теперь оно тоже участвует в поисках, поскольку беглецы пересекли границу одного или нескольких штатов на украденной машине. Прошу прощения…
— Ничего.
— Возможно, если ваш сын прочтет в газете, что вы просите его сдаться…
— Понимаю.
— Подумайте, прежде чем принять решение. Я не хочу, чтобы потом вы стали себя упрекать. Я предлагаю это вовсе не потому, что он в принципе может надеяться на то, что сумеет пересечь границу с другой страной. Но даже в этом случае ему не удастся избежать экстрадиции, будь то Канада или Мексика.
Журналист встал перед окном и начал разглядывать деревья напротив, детей, покинувших бейсбольную площадку и теперь бегавших по траве.
Полицейские откроют стрельбу первыми. Дейв был убежден в этом. Журналист не пытался подстроить ему ловушку. Он, несомненно, знал о планах ФБР гораздо больше, чем мог сказать о них.
Дейв был охвачен таким сильным искушением, что у него закружилась голова. Он хотел не только помешать полицейским убить его сына. Без всяких веских доводов, только интуитивно он не верил в эту возможность. Это было в теории. Это казалось логичным, почти неизбежным. И все же он мог бы поклясться, что все произойдет иначе.
Немыслимо, что он не увидит Бена живым.
Собеседник Дейва по-прежнему стоял к нему спиной, словно не хотел оказывать на него давление. Дейв вытащил из кармана носовой платок и вытер лоб и ладони. Прежде чем заговорить, он дважды открывал рот:
— Я сделаю это, — сказал он наконец.
Руки Дейва задрожали при мысли, что ему удастся установить своеобразный контакт с сыном.
Глава пятая
Затем пришли другие. Ему показалось, что их было пятеро. Каждого из них сопровождал фотограф, а один даже привез жену, которая ждала мужа на улице, сидя в открытой машине. По тем или иным причинам приехало более пяти машин. На кузове некоторых из них было написано название газеты. Машины беспорядочно выстроились перед домом. Люди постоянно поднимались и спускались по лестнице. Дверь почти все время оставалась открытой. Один из фотографов, которому в его работе мешал дым, открыл окно. От ворвавшегося ветра заколыхались шторы, зашелестели страницы блокнотов. Во всех углах разговаривали, жестикулировали, курили.
Все они задавали примерно одни и те же вопросы. Дейв отвечал машинально. Он даже не пытался обдумывать свои ответы. Ему казалось, что все это больше не имело ни малейшего значения. Его колени дрожали от усталости, но он не собирался садиться. Он стоял посреди комнаты, поворачиваясь то в одну, то в другую сторону.
На улице группы людей медленно шли по тротуару напротив, по краю лужайки: пары, державшие друг друга за руки, семьи с детьми, которые бежали впереди или которых тащили за руку. Все они поднимали головы, пытаясь разглядеть что-нибудь в окне. Некоторые даже останавливались. Что касается мальчиков и девочек, обычно стоявших напротив, то они разбили свою штаб-квартиру вокруг машин прессы.
Дважды Дейв вдалеке видел полицейского, приходившего к нему утром, одного из двоих в форме, того, кто не уехал из деревни. Полицейский казался очень занятым.
Не отдавая себе отчета, Дейв курил сигарету за сигаретой, поскольку те, кто задавал вопросы, протягивали ему пачку. Никто больше не искал глазами пепельницу. Все бросали окурки на пол и давили их каблуком.
В шесть часов небо затянули тучи. Погода стала такой пасмурной, словно вот-вот должна была разразиться буря. Иногда резкий порыв ветра трепал листву деревьев, росших напротив.
В конце концов они ушли друг за другом. В тот или иной момент они появлялись у Хавкинсов, где, вероятно, царил такой же беспорядок. Некоторые из журналистов направились в «Олд Барн», чтобы продиктовать свою статью по телефону.
Когда Гэллоуэй решил, что наконец остался один, и собирался рухнуть в кресло, в дверь снова постучали. Он открыл и увидел мужчину, державшего в руках с виду очень тяжелый чемодан.
— Они все ушли? — удивился мужчина.
Он поставил чемодан и вытер лоб.
— Я представляю самую крупную радиосеть. Только что нам передали для нашего выпуска новостей ваше обращение к сыну. Мое начальство и я подумали, что оно произведет на него большее впечатление, если он услышит ваш голос.
Предмет, который Дейв принял за чемодан, оказался звукозаписывающим прибором. Представитель радиостанции поставил его на один из столов и стал искать розетку.
— Вы позволите на минуту закрыть окно?
Гэллоуэй изрядно помучился, составляя послание. Как и Рут пятнадцать с половиной лет назад, он разорвал несколько черновиков. Он был в квартире один с журналистом, похожим на профессора. Все то время, пока он писал, журналист скромно держался в стороне, не сделав ни единой подсказки.
Ни одна из придуманных фраз не создавала у него впечатления, что он входит в контакт с сыном.
«Твой отец просит тебя…»
Нет, это никуда не годилось. Он чувствовал, что хотел сказать, но ему не хватало слов. Поскольку они никогда не расставались, Бен и он, им никогда не выпадало случая писать друг другу, не считая записок, которые один из них оставлял на кухонном столе. «Я вернусь через час. Поешь, в холодильнике есть холодное мясо».
Как ему хотелось, чтобы это оказалось таким же простым!
«Умоляю тебя, Бен», — написал он.
Неважно, что другие будут смеяться над ним или не поймут. Он обращался только к своему сыну.
«Умоляю тебя, Бен, сдайся».
Он чуть не протянул журналисту листок бумаги, ничего не добавив, но удержался и написал:
«Я не сержусь на тебя».
И поставил подпись: «Дэд».
Представитель Ассошиэйтед Пресс прочитал, поднял глаза на Гэллоуэя, который пристально наблюдал за ним, готовый услышать критические замечания.
— Я могу сказать это?
Ему казалось, что его заставят убрать последнюю часть послания. Однако его собеседник чуть ли не торжественно сложил листок и убрал его в бумажник.
— Разумеется, можете!
Его голос, произносивший эти слова, звучал странно. Уходя, журналист пожал ему руку.
Теперь Дейв спрашивал представителя радиостанции:
— Вы хотите, чтобы я произнес то же самое?
— То же самое или, если у вас появилось желание, что-нибудь другое.
Он включил прибор, сделал пробу и начал говорить со скоростью профессионального диктора:
— Сейчас, дамы и господа, мы на минуту прервемся, чтобы передать послание, с которым мистер Гэллоуэй из своей квартиры в Эвертоне хочет обратиться по радио к сыну. Нам остается только пожелать, чтобы Бен, как и все вы, сейчас слышал нас.
Он протянул микрофон и сделал знак Гэллоуэю.
— Это дэд, Бен…
Именно в этот момент его глаза наполнились слезами. Микрофон как будто растворился в тумане. Он смутно видел жест своего собеседника, призывавшего его продолжать.
— Будет лучше, если ты сдашься… Да… Я думаю, что так будет лучше… Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось…
Голос ему изменил, и он сумел только закончить:
— Я не сержусь на тебя…
Репортер выключил прибор.
— Очень хорошо, замечательно. Хотите послушать?
Дейв отрицательно покачал головой. В синем «олдсмобиле» было радио. Вполне вероятно, что Бен и Лилиана слушали каждый выпуск новостей.
— Когда это передадут? — осмелился он спросить, как только его посетитель направился к двери.
— Вероятно, в девятичасовой передаче.
Он спросил вовсе не для того, чтобы услышать собственный голос, а чтобы в этот час мысленно быть рядом с Беном.
Прежде чем сесть, он вновь открыл окно, не обращая внимания на людей, прохаживавшихся мимо его дома, на любопытство, которое он вызывал не только в деревне, но и в других местах.
В половине седьмого тучи стали такими темными и низкими, что ему пришлось зажечь свет. И тогда к нему пришел еще один визитер, агент ФБР в штатском, которому было не больше тридцати лет. Гэллоуэю показалось, что он его уже где-то видел.
— Прошу прощения, что беспокою в такой тяжелый для вас день, но поверьте, мистер Гэллоуэй, я не стал бы вам надоедать, если бы это не было столь необходимо.
Агент протянул ему официальный документ, на который Дейв взглянул лишь мельком.
— Я хотел бы осмотреть вещи вашего сына. Его комната та, что слева?
Дейв не стал спрашивать агента, что тот искал. Он понимал, что его посетителя интересовали главным образом бумаги Бена, письма, тетради.
— Я попрошу вас составить как можно более полный список друзей вашего сына, в том числе тех, кто мог уехать отсюда. Мистер Гэллоуэй, у вас есть родственники на Юге и на Западе?
— Тетки, в Виргинии… Если они еще живы. В последний раз я их видел, когда мне было шесть лет, и с тех пор никогда не получал от них известий.
— Вы когда-нибудь ездили с сыном на Средний Запад?
— Мы с ним вместе ездили только в Кейп-Код и Нью-Йорк.
— Видите ли, очень редко случается, когда кто-нибудь выбирает дорогу, как это сделал ваш сын, без определенной цели. Если мы узнаем цель, это, безусловно, поможет нам сузить район поисков.
Он говорил с ним так, словно был уверен, что Дейв на их стороне.
— На мысль отправиться в то или иное место могут навести различные источники, порой книга или фильм, или же разговор с другом.
У Бена было мало книг, если не считать школьных учебников. Довольно маленькая библиотека занимала всего две полки, а большинство книг были посвящены животным, которыми он интересовался четыре года назад.
Почему Дейв вдруг почувствовал необходимость сказать, словно его обвиняли или словно он хотел показать себя с хорошей стороны:
— Знаете, он взял оружие не дома. У меня никогда не было оружия.
Дейв уже говорил это утром и теперь снова повторял.
— Мы установили происхождение пистолета.
Перелистывая книги, агент объяснил:
— Полагаю, вы знаете доктора Ван Хорна?
— Очень хорошо знаю. Это наш врач. Его сын Джимми приходил играть в эту комнату на протяжении многих лет.
Главным образом незадолго до того, как Бен поступил в среднюю школу. В то время Джимми Ван Хорн был маленьким, худеньким, на удивление живым ребенком. Потом, два года назад, он вдруг начал расти и теперь был выше своих товарищей на полголовы. Казалось, он стеснялся своего роста и голоса, который слишком поздно начал ломаться.
— Вы видели его в последнее время?
— Он не приходил к нам, если вы это имеете в виду, но у меня есть все основания считать, что Бен часто встречался с ним.
— Доктор Ван Хорн купил автоматический пистолет лет десять назад, когда еще жил в Олбани и часто был вынужден выезжать на вызовы в предместье. Этот пистолет, который почти всеми забытый лежал в ящике, и продал Джимми вашему сыну за пять долларов. Сегодня Джимми признался в этом агенту полиции штата. Сделка состоялась две недели назад.
Дейв никак не прокомментировал эти слова. Ван Хорны считались богачами. Они владели самым красивым домом в Эвертоне, окруженным настоящим парком. У каждой из дочерей было по лошади. Мадам Ван Хорн была наследницей производителя химикатов, марка которых была известна от западного побережья до восточного.
— Вы купили эту брошюру?
Агент показал ему альманах. Дейв не помнил, чтобы он когда-нибудь видел его в доме. В разделе «Информация» были перечислены имена предыдущих президентов Соединенных Штатов, численность населения крупных городов, статистика, скорость, разрешенная на дорогах разных штатов.
На другой странице человек из ФБР нашел почти сразу, словно он их и искал, два крестика, сделанные карандашом.
В первой колонке этой страницы были напечатаны в алфавитном порядке названия штатов, а в трех следующих колонках — минимальный возраст вступления в брак, сначала для мужчин, потом для женщин, и, наконец, обязательный срок ожидания.
— Я вынужден забрать у вас эту брошюру.
— Вы позволите взглянуть?
Два штата, отмеченные крестиками, были Иллинойс и Миссисипи. В Иллинойсе минимальный возраст для мальчиков был восемнадцать лет, а для девочек — шестнадцать, в то время как в Миссисипи, соответственно, четырнадцать и двенадцать. Ни в одном из этих штатов не был установлен обязательный срок ожидания. Таким образом, достаточно прийти к любому мировому судье и вступить в брак за несколько минут. Бен выглядел на восемнадцать лет.
— Полагаю, мне больше не нужен список имен, который я попросил вас составить. Мне кажется, я нашел ответ на вопрос.
— Вы думаете, они направляются в один из этих штатов? Было бы так просто…
Дейв замолчал. Ему не пристало делать вид, будто он не понимает.
— Я уверен, — продолжил он, — что когда он нам объяснит…
Его собеседник с любопытством смотрел на Дейва, словно тот сказал нечто важное.
— Вам нужно отдохнуть, мистер Гэллоуэй. Завтра, несомненно, будет трудный день.
Он тоже протянул ему руку. Дейв чуть не попытался его удержать, вдруг испугавшись при мысли, что он останется один. Он теперь не знал, куда преклонить голову в квартире, в которой побывало столько людей и где теперь было так же уютно, как в зале ожидания вокзала. Казалось, даже лампы светили более тускло, чем обычно.
Следовало ли ему до полицейского обыска убедиться, что в комнате Бена не было ничего такого, что могло бы навести на след? Дейву казалось, что он предал сына, проявив недальновидность, и ему захотелось попросить у Бена прощения. Кто знает? Возможно, он напрасно составил послание, напрасно обратился к сыну по радио. Люди непременно подумают, будто он сделал это, стремясь встать на сторону закона.
О господи! Главное, чтобы такая же мысль не пришла в голову Бену! Об этом Дейв до сих пор как-то не думал. Эта мысль внезапно поразила его. Он почувствовал угрызения совести. Ему хотелось забрать послание, которое он написал и затем простодушно повторил перед записывающим прибором.
Это было неправдой! Он не пытался выставить себя в выгодном свете, он не пытался уйти от ответственности! Он был Беном, он был готов пойти под суд и понести наказание вместо сына.
Разве Бен поймет, когда услышит его слова: «Я на тебя не сержусь»?
В тот момент он не нашел других слов. Это были единственные слова, которые пришли ему на ум. И только сейчас он начал осознавать, что они звучали как обвинение.
Он не обвинял и тем более не объяснял. Он попытается объяснить гораздо позднее.
Бен был его сыном и не мог измениться за один день. Даже когда Дейв думал о Чарльзе Рэльстоне, лежавшем на обочине дороги, и о том, что произошло в машине, он не мог сердиться на сына. Он только ужасался, как это всегда происходит при катаклизмах.
Гэллоуэй устал думать. Ему очень хотелось бы остановить маленькие колесики своего мозга, как останавливают часовой механизм. На улице все чаще падали крупные капли дождя, но гром не гремел, и молний не было видно. Дейв кружил по комнате. Его мысли тоже шли кругом. Сейчас часы показывали всего лишь четверть девятого, а его послание будет передано по радио не раньше девяти часов.
Он уже собрался было выйти на улицу с непокрытой головой, чтобы его охладил холодный дождь. Но тут он услышал шаги на лестнице, и на этот раз вздохнул с облегчением.
Кто-то поднимался как можно тише, потом постоял под дверью, не стуча, ничего не говоря. А Дейв, с той стороны двери, застыл в нерешительности.
Прошло не менее минуты, прежде чем Дейв услышал легкое шуршание по полу. Кто-то подсовывал под дверь бумагу. Это было так неожиданно, что Дейв не сразу взял листок в руки.
На листке толстым карандашом, которым обычно пользуются столяры, было написано:
Если вы не хотите меня видеть, не открывайте. Я оставлю небольшой сверток на лестничной площадке.
Под текстом стояла подпись: «Фрэнк». Так звали Мьюсака, однако Гэллоуэй никогда не обращался к нему по имени. Мьюсак ждал. Дейв открыл дверь и в полутьме увидел Мьюсака, стоявшего на площадке со свертком в руках.
— Я подумал, что, возможно, вы не хотите никого видеть или спите.
— Мьюсак, входите.
За целый день Мьюсак был первым, кто вытер ноги о коврик. Он также впервые, насколько помнил Гэллоуэй, снял фуражку.
За все годы их знакомства, за все то время, когда они по субботам играли в триктрак, Мьюсак никогда не поднимался в квартиру своего приятеля. Когда тому требовалось что-то сказать ему, он всегда приходил в магазин.
— Вот что я принес, — произнес Мьюсак, снимая бумагу, в которую была завернута бутылка ржаного виски.
Он помнил слова, сказанные ему однажды Дейвом: из-за Бена тот не держал спиртного в доме, поскольку подавал сыну пример и одновременно не хотел искушать его.
— Скажите, если вам захочется, чтобы я ушел.
Мьюсак казался еще более широким и более грубым, чем у себя дома. Однако ходил он бесшумно, почти не колыхая воздуха, словно находился в комнате больного. Он нашел стаканы в кухонном шкафу, вытащил из холодильника кубики льда.
— Вы ели?
Дейв кивнул головой.
— Что?
— Бутерброд.
— Когда?
— Не знаю. Игра в бейсбол еще не закончилась.
Он помнил, что зрители кричали, когда он держал бутерброд в руке.
Мьюсак протянул ему один из двух стаканов, и Дейв не осмелился отказаться.
— Пришло время съесть что-нибудь более существенное. Садитесь. Позвольте, я все сделаю сам.
Он говорил своим ворчливым голосом, менее громко, чем обычно. Мьюсак вернулся на кухню, снова открыл холодильник и увидел два больших бифштекса.
Каждую субботу Дейв покупал два толстых бифштекса для воскресного обеда, для себя и Бена. Этой традиции было более десяти лет. И только увидев мясо на тарелке, Дейв вспомнил, что накануне была суббота, что около десяти часов утра он, как это бывало не раз, закрыл свой магазин и отправился за покупками в государственный универмаг.
На табличке, которую он повесил на дверь, было написано:
Я вернусь через четверть часа.
Во второй половине дня, около пяти часов, когда он чинил дамские часы, в магазин вошел Бен. Хотя Дейв сидел спиной, он сразу понял, что это был его сын, по манере открывать дверь.
— Ты не рассердишься, дэд, если я не приду ужинать?
Дейв не обернулся. Он продолжал сидеть, склонившись над колесиками часов, с лупой в правом глазу. Вероятно, он сказал:
— Не возвращайся слишком поздно.
Он всегда так говорил.
— Ты пойдешь к Мьюсаку? — спросил Бен.
Эти слова не показались Дейву странными. Возможно, Бен задавал этот вопрос и в другие субботы?
— Да. Я вернусь около половины двенадцатого.
— Доброго вечера, дэд.
Вдруг Гэллоуэй позвал:
— Мьюсак!
— Что?
— Я не могу есть.
Тем не менее бифштекс продолжал жариться.
— Они попросили меня обратиться к Бену по радио, чтобы он сдался.
Из кухни краснодеревщик с любопытством взглянул на Дейва, но довольствовался короткой репликой.
— Да.
— Я согласился, и они записали.
Мьюсак не стал делать никаких комментариев.
— Теперь я спрашиваю себя, правильно ли я поступил.
Шел мелкий дождь. Капли с шумом падали на крышу. Дейв закрыл окно, потому что на полу начала образовываться лужа.
— Я боюсь, что они его убьют.
— Садитесь сюда.
Мьюсак поставил прибор на салфетку, поскольку не знал, где хранились скатерти. Сев напротив Гэллоуэя, опершись двумя локтями о стол, он ждал. Это напоминало ситуацию, когда кормят ребенка.
— Я весь день слушал радио, — пробурчал он.
— Что они говорят?
— Каждый час они повторяют примерно одно и то же. Теперь они полагают, что машина движется в сторону Чикаго. Однако есть люди, утверждающие, что видели машину на дорогах Южной Каролины.
Сам того не замечая, Дейв принялся есть. Мьюсак налил себе второй стакан виски.
— Полицейский штата весь день опрашивал жителей деревни. Ко мне он тоже приходил.
— Чтобы убедиться, что вчерашний вечер мы провели вместе?
— Да. Здесь остались два журналиста. Они сняли комнаты в «Олд Барн».
Впервые за целый день Дейв расслабился. Присутствие Мьюсака действовало на него успокаивающе. Как хорошо было слышать его голос, видеть его знакомое полное лицо!
— Хотите яблочный пирог? Я видел его в холодильнике.
Яблочный пирог тоже всегда входил в воскресное меню.
— А вы не будете есть?
— Я поужинал.
Мьюсак раскурил трубку, ту самую, которую он починил с помощью куска железной проволоки. Из-за едкого запаха табака Дейв на минуту мысленно перенесся в желтый дом на краю улицы.
— Вы собираетесь слушать девятичасовой выпуск?
Гэллоуэй кивнул головой. Мьюсак взглянул на свои старые серебряные часы, которые никогда не нуждались в ремонте.
— У нас есть еще время. До передачи осталось двенадцать минут.
Гэллоуэй хотел отнести посуду на кухню, но Мьюсак помешал ему.
— Мы это сделаем позже.
Он показал рукой на кресло, словно знал привычки Дейва.
— Кофе?
Не дожидаясь ответа, Мьюсак, огромный, молчаливый, пошел готовить кофе. Не было даже слышно, как звенела посуда.
Дейв посмотрел на часы. Чем меньше минут оставалось до передачи, тем сильнее он нервничал. Без пяти минут девять он пошел в комнату Бена, взял радиоприемник, подсоединил его к одной из розеток в столовой и повернул ручку, чтобы тот нагрелся.
Мьюсак и себе сварил кофе. По радио звучал конец симфонии. Потом, после коммерческой информации, стали передавать новости дня.
Вначале говорили не о Бене, а о заявлении президента относительно таможенных пошлин и об инциденте, происшедшем на границе Ливана и Палестины.
Диктор говорил быстро, отрывисто, не делая пауз при переходе от одного сюжета к другому.
— Местные новости: полиция шести штатов совместно с ФБР по-прежнему ищут шестнадцатилетнего убийцу Бена Гэллоуэя. Вместе со своей подружкой Лилианой Хавкинс, которой только пятнадцать с половиной лет, он в субботу вечером уехал из Эвертона, штат Нью-Йорк, украв машину отца. Убив из автоматического пистолета мужчину по имени Чарльз Рэльстон, пятидесяти четырех лет, проживающего в Лонг-Эдди, на границе Пенсильвании, пара захватила синий «олдсмобиль» жертвы и направилась на юго-восток.
Сидевшие неподвижно мужчины избегали смотреть друг на друга. Вопреки своим ожиданиям Дейв скорее испытывал нетерпение, чем волнение, словно событие, изложенное таким образом, больше не касалось ни его самого, ни Бена.
— Машина с номерами 3 М-2437 была замечена в Пенсильвании, затем в Виргинии и, по последним сведениям, в Огайо. Тем не менее довольно трудно отследить маршрут беглецов из-за множества противоречивых сообщений, поступающих в полицию.
Из радиоприемника раздался другой голос.
— А теперь, дамы и господа, мы ненадолго прерываем наш выпуск, чтобы передать обращение мистера Дейва Гэллоуэя к своему сыну.
Это был голос недавно приходившего журналиста, но Гэллоуэю показалось, что текст все же был немного изменен.
Наступила тишина, затем раздался небольшой треск. Наконец, со странным резонансом, словно их произносили в пустом соборе, полились слова, знакомые Дейву, но вдруг заставившие его устыдиться.
— Это дэд, Бен… Будет лучше, если ты сдашься…
Тишина, возникавшая между фразами, казалась бесконечной.
— …Да, я искренне верю, что так будет лучше… Я всегда буду с тобой, что бы ни случилось…
Было слышно, как Дейв тяжело дышал, словно прежде чем закончить, спрашивал у кого-то разрешения продолжить:
— Я не сержусь на тебя…
— А теперь, дамы и господа, мы передаем последнюю сводку погоды…
Он протянул руку, чтобы выключить радиоприемник. Мьюсак молчал. У Гэллоуэя тем более не было желания разговаривать. Теперь ему очень хотелось, чтобы Бен не слышал этой передачи.
Но если Бен слышал, где-то по дороге, пристально глядя в луч фар, не выключил ли и он радио?
— Я думал… — начал Гэллоуэй.
Он думал, что поступает правильно. Он воображал, что установит мысленный контакт с Беном. Он всех принимал вежливо. Он отвечал на все их вопросы, брал их сигареты.
Но только теперь он отчетливо осознал, что предал сына. Ему хотелось извиниться, прийти ему на помощь.
Понимал ли Мьюсак, что он чувствовал? Мьюсак молча отпил немного виски и вытер усы. Раздался раскат грома, такой мощный, что можно было подумать, что молния ударила в одно из деревьев, росших напротив, или в колокольню католической церкви. Но других раскатов не последовало. За несколько минут дождь усилился, грохоча по крыше. Затем вдруг, словно по волшебству, стих. Наступила тишина.
Голова Дейва слегка склонилась на грудь. Но каким бы уставшим он ни был, он не спал, не дремал. Он продолжал упрекать себя. Он увидел, что Мьюсак встал, но не придал этому значения. Он также не обратил внимания на шум воды в кухонном кране.
Полиция шести штатов…
И двое детей в машине, которые с тревогой смотрели на обгонявшие или ехавшие им навстречу автомобили, пристально вглядывались в темноту, ожидая, что вот-вот наткнутся на полицейское заграждение.
Человек из ФБР унес альманах, в котором крестиком были отмечены Иллинойс и Миссисипи.
Преследовали ли они ту же цель, вслепую пробираясь между расставленными ловушками? Продолжали ли они эту безрассудную, бессмысленную поездку, чтобы, оставив некую границу позади, броситься к мировому судье и сказать: «Пожените нас»?
Если бы им не приходилось так часто пускаться в объезд, они могли бы добраться до Иллинойса этой же ночью. Но, возможно, они уже добрались до него. Точно так же было вполне вероятным, что в какой-нибудь забытой богом деревне они разбудили старого мирового судью, не слушавшего днем радио.
Пришлось ли им там, на равнинах Среднего Запада, ехать в грозу? Дейв упрекал себя, что днем не слушал метеорологические сводки. Он начал волноваться и мысленно молил Мьюсака снова сесть напротив, чтобы тот помешал ему думать. Дейв тоже находился в дороге под монотонный скрип дворников, которые, казалось, отсчитывали секунды.
Полиция шести штатов… И к тому же ФБР.
Дейв резко встал, чтобы налить себе виски, посмотрел на радиоприемник и сосчитал, что до десятичасового выпуска осталось тридцать пять минут ожидания. Ему казалось, что на этот раз он услышит новости.
— Мьюсак, вам не следовало мыть посуду.
Мьюсак пожал плечами, налил себе виски и уселся в кресло.
— Не забывайте, что я уйду, как только вы этого захотите.
Дейв отрицательно покачал головой. Ему не хотелось, чтобы Мьюсак уходил. Он даже не решался думать, каким бы стал этот вечер, если бы Мьюсак не пришел и, словно стесняясь, не подсунул бы под дверь листок бумаги.
— Люди не знают, они не могут знать, — сказал самому себе Гэллоуэй.
Мьюсак же прошептал, словно тоже говорил сам с собой:
— Когда моя дочь уехала, я полтора года не получал от нее известий.
Мьюсак впервые заговорил о своей личной жизни и сделал это, безусловно, чтобы поддержать друга.
— Наконец она мне написала из больницы Балтимора, куда попала совершенно без денег. Тогда она ждала ребенка.
— И что вы сделали?
— Я поехал туда, но она отказалась встретиться со мной. Я оставил деньги в секретариате и уехал.
Больше Мьюсак ничего не сказал. Дейв не осмелился его спросить, виделся ли он с дочерью потом, или была ли эта дочь той, которая время от времени писала из Калифорнии и посылала ему фотографии своих детей.
— Интересно, о чем они думают…
Дейв по-прежнему думал о паре в машине.
— Каждый думает по-своему, — вздохнул Мьюсак.
Через минуту, во время которой слышался свист трубки, он добавил:
— Каждый полагает, что прав.
Гэллоуэй посмотрел на часы. Ему не терпелось включить радиоприемник.
— Вам лучше сесть.
— Да, я знаю. Я простоял на ногах почти весь день. Но я не могу иначе.
Едва Дейв садился, как у него появлялась дрожь в ногах и нервная тревога охватывала все тело. Неожиданно он сказал:
— Доктор Ван Хорн, должно быть, очень расстроен.
Он не объяснил почему, хотя по выражению лица Мьюсака понял, что тот ничего не знал об истории с автоматическим пистолетом.
— Через минуту вы услышите наш последний выпуск новостей.
Сначала передали коммерческие новости.
— Только что нам стало известно, что Бен Гэллоуэй, шестнадцатилетний убийца, к которому обратился отец во время нашего предыдущего выпуска…
Мужчины затаили дыхание.
— …приехал со своей подружкой примерно за час до этого обращения в дом мирового судьи Браунстауна, что на границе Индианы и Иллинойса, и обратился к тому с просьбой немедленно поженить их. Судья, который незадолго до этого случайно слышал описание пары по радио, вышел из комнаты якобы за необходимыми документами и бросился к телефону.
Но еще до того, как судью соединили с шерифом, раздался шум мотора. Судья понял, что молодые люди, безусловно, разгадали его намерения и поспешили скрыться.
Как бы там ни было, это сужает круг поисков. Это также указывает на то, что синий «олдсмобиль» проехал за последние сутки гораздо большее расстояние, чем полиция предполагала, и что Бен Гэллоуэй практически все время сидел за рулем.
Полиция Иллинойса установила наблюдение на всех транспортных узлах. Похоже, следует ожидать неизбежного ареста.
Заметил ли это Мьюсак? В какой-то момент передачи Гэллоуэй не мог сдержать грустную, едва заметную улыбку. Его улыбка не была ни довольной, ни ироничной. Она вообще ничего конкретного не означала. Это была своего рода связь с Беном, находившимся там, далеко. Дейв закрыл глаза, чтобы вновь обрести это чувство, но оно, такое легкое, неуловимое, улетучилось, словно слабый порыв ветра.
Остались только двое мужчин, сидевших в креслах.
Глава шестая
Эта ночь была немного похожей на ночь в поезде, когда пассажир то дремлет, то спит беспокойным сном, сквозь который он, тем не менее, слышит ритмичный стук колес, свист вырывающегося пара при остановках на вокзалах, где человек с фонарем бьет молотком по осям, а незнакомые голоса перекликаются с разных платформ.
Когда, например, Мьюсак дотрагивался до плеча Дейва, он понимал, что сидит в кресле, а не лежит в постели, и что его будят для того, чтобы послушать ночной двенадцатичасовой выпуск новостей. Дейв спрашивал себя, дремал ли Мьюсак. Он не решился задать этот вопрос, протер глаза и увидел, что уровень виски в бутылке уменьшился. Лампы радиоприемника уже нагрелись, тишину прореживали голоса, постепенно становившиеся столь вибрирующими, что пришлось убавить звук.
Передавали какую-то драму. Женщина и мужчина решили худо-бедно наладить совместную жизнь. Дейв не заметил, как закончилась коммерческая сводка.
— Дамы и господа! Как мы сообщили четверть часа назад в нашем специальном выпуске…
Ни Мьюсак, ни Дейв даже не подумали, что может быть специальный выпуск. Они довольствовались тем, что слушали радио в обычные часы.
— …охота на шестнадцатилетнего убийцу, Бена Гэллоуэя, которая длилась почти сутки, наконец завершилась этим вечером, около одиннадцати часов, на ферме в Индиане, где беглецы хотели найти убежище под угрозой применения автоматического пистолета. Между полицейскими и беглецами завязалась перестрелка. Сержант был ранен в ногу. Бен Гэллоуэй и его подружка Лилиана Хавкинс, которой всего пятнадцать с половиной лет, оба невредимые, отправлены в Индианаполис. Более полную информацию вы найдете в утреннем выпуске вашей газеты.
Возможно, Мьюсака удивила реакция друга? С губ Гэллоуэя слетел вздох, похожий на вздох облегчения. Нервное напряжение мгновенно спало. Он встал, протер глаза, посмотрел вокруг себя с отвращением, словно ему была неприятна атмосфера, в которой он был вынужден прозябать с самого утра.
Все закончилось. Теперь ему не надо было ждать, сидеть дома, словно неприкаянному. Он тут же подумал, что перед отъездом он должен принять ванну и побриться, поскольку, как ему казалось, от него исходил неприятный запах.
— Я спущусь в магазин и позвоню в аэропорт, — сказал он.
Ему казалось это вполне естественным. Он увидит Бена и поговорит с ним. Бен все ему объяснит, скажет правду, ибо, насколько это было известно Дейву, сын никогда ему не врал.
Ему было неприятно, что Мьюсак спустился вместе с ним. Теперь он ни в ком не нуждался. Теперь все было просто: он сядет на первый самолет, летящий в Индианаполис, и увидит Бена.
В магазине Мьюсак первым снял трубку, сказав:
— Будет лучше, если позвоню я.
Дейв не понял почему. Затем, глядя на пустые крючки, он подумал, что во время его отсутствия, которое продлится несколько дней, клиенты, несомненно, придут за часами. Но он ничего не мог поделать. Они должны будут его понять.
— Какое время, мадемуазель?.. Шесть часов семнадцать минут?.. Будьте любезны, зарезервируйте одно место на фамилию Мьюсак… Фрэнк Мьюсак…
Теперь Дейв понял, почему его друг хотел позвонить сам: он стремился избавить его от нового нашествия журналистов и фотографов в аэропорту.
— Благодарю вас… Нет… Обратного не надо…
Мьюсак не стал спрашивать мнение Гэллоуэя. Чуть позже он вышел с ним на улицу. Взошла луна. Низкие облака, темные в середине и блестевшие по краям, плыли по небу, словно по водяной глади. Две-три минуты мужчины молча стояли на местами уже высохшем тротуаре и вслушивались в тишину.
— Мы могли бы взять мою машину.
Он и это понял. Полиция еще не вернула Дейву его грузовичок. Мьюсак хотел довезти Гэллоуэя до аэропорта «Да Гуардиа». Дейв не возражал, и они зашагали по безлюдной Мейн-стрит. Свет горел только в таверне «Олд Барн», в которой двое журналистов коротали время.
Свернув в проулок, они почувствовали, как приятно пахла трава после дождя.
— Я выведу машину, — сказал Мьюсак, направляясь к своему гаражу.
Вероятно, Бен тоже расслабился. Только бы ему дали поспать! Он всегда нуждался в хорошем сне. По утрам, когда отец будил его, он долго не мог стряхнуть с себя остатки сна. Иногда даже он, идя босой и в пижаме в ванную, натыкался на косяк, поскольку его глаза еще оставались закрытыми.
В этот час он всегда был недоволен. И только после умывания, но главное, после завтрака к нему возвращалось его обычное настроение.
Гэллоуэй впервые сел в машину Мьюсака. Он сразу же почувствовал тот же запах, что и в доме столяра.
— Мы доедем до аэропорта часа за два. Еще полчаса, чтобы вы успели собраться и немного поесть. То есть вы можете поспать около трех часов.
Гэллоуэй хотел возразить, но у него смыкались веки, а голова сама клонилась на грудь. Еще немного, и он заснул бы в машине.
Он спрашивал себя, собирался ли Мьюсак лечь на кровать Бена. Это шокировало бы его. Но в квартире Мьюсак, не раздеваясь, устроился на софе, чтобы провести там остаток ночи.
Дейв разделся. Ему было немного стыдно, что он вышел к Мьюсаку в пижаме.
— Разбудите меня через три часа с четвертью, не позже. Хорошо?
— Скажем, через три с половиной часа, — ответил Мьюсак, заводя на всякий случай будильник. — Идите спать.
Через пару минут Дейв погрузился в сон, но он мог бы поклясться, что все время ощущал присутствие друга, который взял книгу и курил, попивая ржаной виски. Он также ни на минуту не забывал, что должен сесть в «Ла Гуардии» на самолет, вылетавший в шесть часов семнадцать минут, и что билет был забронирован на имя Мьюсака. Два-три раза он переворачивался, чтобы еще глубже зарыться в матрас. Когда он почувствовал, как к его плечу прикоснулись, он мгновенно сел. Он не слышал, как звонил будильник. В квартире пахло свежим кофе.
— Идите умойтесь.
Гэллоуэй вставал так рано, только когда Бен болел, в частности, когда у него была ангина в тяжелой форме и он должен был принимать лекарство каждые два часа. В какой-то момент, далеко за полночь, Бен со страхом посмотрел на отца и воскликнул:
— Что тебе надо?
— Бен, пора принимать лекарство.
Слышал ли он? Понимал ли он? Сдвинув брови, нахмурив лоб, он смотрел на отца так, словно видел его впервые. И его взгляд был суровым.
— Неужели ты не можешь оставить меня в покое? — спросил Бен тягучим из-за высокой температуры голосом.
Дейву показалось, что в голосе сына он уловил враждебные нотки. Бен взял лекарство, запил его водой и снова уснул. Утром, когда отец заговорил с ним об этом инциденте, он, казалось, ничего не помнил. Тем не менее Гэллоуэй никогда не был до конца уверен, что в тот момент его сын не владел собой. Но он старался об этом не думать. Нечто подобное случалось в их жизни три-четыре раза, но он предпочитал обо всем забыть.
Гэллоуэй проявлял повышенное внимание к малейшим реакциям Бена. Все дети, равно как взрослые, порой впадают в плохое настроение, можно даже сказать, у них бывают приступы внезапной озлобленности.
В ванную комнату доносился запах бекона. Так пахло в квартире каждое утро. Гэллоуэй тщательно побрился, надел лучший костюм, словно это имело значение. Бен любил, когда отец был хорошо одет. В начале их жизни в Эвертоне, когда Дейв, приступая к работе, надел темносерый халат вместо халата из сурового полотна, которые он стал носить позднее, его сын сказал:
— Ты выглядишь как старый больной человек.
Возможно, именно эти слова он воспринял наиболее остро. Он никак не мог смириться с тем, что казался сыну старым. В присутствии Бена он был менее любезным с клиентами из страха показаться ему раболепным.
— Немного отдохнули?
— Я причиняю вам беспокойство, — заметил Гэллоуэй, глядя на накрытый стол, на яйца на большом блюде, на тосты в тостере.
Он знал, что все это доставляло Мьюсаку удовольствие, как для него самого было удовольствием делать все то, что он делал, ради сына.
Вокруг них во всей деревне царила абсолютная тишина. Когда машина тронулась с места, им стало почти стыдно за поднятый шум.
— Вы бывали когда-нибудь в Индианаполисе? — спросил Мьюсак, когда они выехали на автостраду.
— Никогда.
— А я бывал.
Больше он ничего не сказал, давая своему спутнику возможность подремать. Во рту он держал потухшую трубку, в которую машинально дул, и она издавала привычный свист. В аэропорту им пришлось подождать около получаса. В киосках лежали газеты с крупными заголовками: «Шестнадцатилетний убийца».
Было воскресенье, и газеты еще не успели сообщить о событиях, происшедших накануне вечером. Гэллоуэй нахмурил брови, заметив фотографию, на которой с трудом узнал своего сына. Он не помнил этот снимок. На нем Бен казался более юным, в глазах застыло любопытство, а уголки губ были немного поджаты. Он подошел ближе и только тогда понял, что голова Бена была вырезана из группового снимка, сделанного в средней школе. Несомненно, ее передал журналистам один из приятелей Бена.
Была опубликована и фотография Лилианы, на которой она выглядела не старше двенадцати лет.
Подзаголовок гласил:
Охота на человека, продолжавшаяся 24 часа, закончилась стрельбой на одной из ферм Индианы.
Гэллоуэй купил три разные газеты. Мьюсак с недовольным видом смотрел на него, но ничего не говорил. На одной из страниц в середине Дейв нашел свои фотографии. На первой он стоял перед кроватью Бена, которая попала в кадр лишь частично, а на второй делал вид, что чинит часы.
Все было серым и печальным. На скамейках спали люди. Те, у кого были открыты глаза, угрюмо смотрели перед собой. Какая-то парочка целовалась. Одна женщина плакала, цепляясь за своего спутника, словно они расставались навсегда.
Объявили его рейс. Он направился к терминалу, указанному голосом из громкоговорителя. Казалось, на него никто не обращал внимания. Служащий аэропорта называл фамилии пассажиров.
— Мьюсак, — пробормотал он.
Гэллоуэй пожал Мьюсаку руку и просто сказал:
— Спасибо. Теперь все будет хорошо.
Он был в этом уверен. Он принялся читать газеты лишь тогда, когда отстегнул ремни безопасности, сосредоточив свое внимание на последних абзацах, в которых говорилось о событиях, происшедших на ферме.
«В то время как полиция Иллинойса поджидала беглецов на всех перекрестках, они пустились в объезд и вновь въехали в Индиану. Были ли силы Бена Гэллоуэя на исходе, поскольку он провел за рулем 23 часа, или же он не осмелился заправить машину? Так или иначе, чуть позже машина остановилась перед одиноко стоящим домом, милях в двадцати от границы.
Было около десяти часов вечера. Фермер, Ганс Патман, которому около пятидесяти лет, еще не лег спать, равно как и его жена. Они оба находились в одной из комнат первого этажа.
Услышав два удара в дверь, Патман открыл и увидел Гэллоуэя, направившего на него автоматический пистолет. Гэллоуэй сказал девушке:
— Перережь телефонный провод.
Он выглядел измученным. Его руки дрожали от усталости.
— Накормите нас. И пусть никто не пытается выйти из дома.
В это время сын Патмана, находившийся на втором этаже, когда подъехала машина, уже выбежал на улицу через заднюю дверь и мчался на велосипеде к ближайшему дому. Таким образом, через десять минут шериф был поставлен в известность о случившемся. Вскоре к ферме подъехали три полицейские машины».
Пассажиры читали ту же статью и видели фотографии Гэллоуэя, но никто, похоже, не узнал его.
«Когда дом был окружен, шериф и один из его людей направились к двери. То, что произошло потом, представляется недостаточно ясным. Гэллоуэй и его спутница, несомненно, попытались бежать через двор. Следствием будет установлено, кто выстрелил первым. Завязалась перестрелка, и один из полицейских был ранен в ногу.
В конце концов молодой человек крикнул, сложив руки рупором:
— Не стреляйте! Я сдаюсь.
Его автоматический пистолет был пустым.
Во время пути в Джасонвиль, где его передали агентам ФБР для дальнейшего препровождения в Индианаполис, он не выразил ни малейшего сожаления о своих поступках.
— Без помощи мальчика моего возраста вы никогда меня не поймали бы! — заявил он, намекая на сына Патмана, которому действительно тоже шестнадцать лет.
Потом он заснул в машине, а его спутница не сомкнула глаз, словно охраняла его».
По всей видимости, это было не совсем правдой, поскольку невозможно поведать о поведении человека с предельной точностью. Тем не менее Бен, вероятно, выразился именно так: «без помощи мальчика моего возраста…»
Точно так же вполне вероятно, что Лилиана Хавкинс всю дорогу не сомкнула глаз, словно охраняла его. Эта подробность смутила Гэллоуэя, испортила ему настроение. Он не мог объяснить почему, но ему казалось, что из-за нее все окажется не таким простым, как он думал.
Гэллоуэй спал еще менее глубоким сном, чем в квартире, и три-четыре раза просыпался. Однажды он увидел женщину с ребенком на руках. Она напряженно смотрела на него. На соседнем сиденье лежала раскрытая газета. Должно быть, она его узнала. Он выдержал ее взгляд, но когда машинально взглянул на ребенка, она задрожала, словно провела одному богу известно какое сравнение, и крепче прижала ребенка к себе.
Когда они остались одни, Бен был не старше этого младенца. На самом деле Гэллоуэй не страдал из-за ухода жены. Можно даже сказать, что он всегда был к этому готов. Кто знает? После первого шока он, возможно, почувствовал даже облегчение, что она исчезла из их жизни.
Он не любил вспоминать ни о Рут, ни об этом периоде. До двадцати пяти лет он вообще не помышлял о женитьбе и посещал женщин лишь в случае необходимости. Ему уже исполнилось двадцать, когда он впервые вступил в половые отношения с одной из них.
В Уотербери Рут работала в той же мастерской, что и он. Он знал, что почти каждый вечер она гуляла с тем или другим из его приятелей и посещала таверны. Выпив два стакана виски, она становилась вульгарной и шумной.
Ей еще не было двадцати лет. А когда ей исполнилось шестнадцать, она сбежала с фермы своих родителей. Она жила в Нью-Йорке, Олбани, возможно, где-то еще, прежде чем осела, бог знает как, в Уотербери.
Она не заботилась ни о завтрашнем дне, ни о том, что о ней думали люди. В течение нескольких месяцев он наблюдал за ней, уверенный, что она питала к нему нечто похожее на презрение, поскольку он не развлекался так, как другие. Она притягивала его к себе и одновременно пугала. Рут была скорее самкой, чем женщиной, и одного движения ее бедер было достаточно, чтобы смутить его.
Однажды, когда он вышел из мастерской и направился на остановку автобуса, он увидел, что она неподвижно стояла неподалеку, на тротуаре.
Он так никогда и не узнал, его ли она ждала.
— Я внушаю вам страх? — спросила она, поскольку он смотрел на нее в замешательстве.
Он ответил, что нет. У нее был хриплый голос, и она подходила очень близко к мужчинам, с которыми разговаривала.
— Вы кого-нибудь ждете?
Она рассмеялась, словно он сказал нечто несуразное. Покраснев, он хотел было уйти. Даже сейчас он не знал, что его удержало.
— Что во мне такого забавного?
— Ваша манера смотреть на меня.
— Хотите, вместе поужинаем?
Он и в самом деле давно этого хотел, но до сих пор не верил, что такое возможно. Весь вечер ему было стыдно за ее поведение: сначала в ресторане, потом в двух-трех барах, в которые она его затащила и где она, уже под конец, пила неразбавленный виски.
Он мог бы провести с ней ночь. Она удивилась, когда он расстался с ней у двери ее квартиры. На следующий день в мастерской она наблюдала за ним весь день, словно хотела понять. Он вел себя с ней холодно.
В течение всей недели он почти не разговаривал с ней, но однажды вечером, после того как увидел, что она садилась в машину его приятеля, он не мог уснуть часа два. Наутро он спросил:
— Вы свободны сегодня вечером?
— Надо же! Вы хотите продолжить?
Он смотрел на нее так, что она расчувствовалась.
— Если хотите, подождите меня у выхода.
Они следовали той же программе, что и в первый раз. Он казался угрюмым и нарочно выпил больше обычного. Расставаясь с ней на пороге ее квартиры, он спросил, глядя на нее так же сурово, злобно, как и утром:
— Вы хотите выйти за меня замуж?
— Я?
Рут засмеялась, затем стала серьезной. Она смотрела на него с большим вниманием. На ее лице застыли удивление и одновременно некая тревога.
— Да что с вами? Виски?
— Вы же знаете, что нет.
Конечно, она знала.
— Мы поговорим об этом в другой раз, — прошептала она, поворачиваясь к двери.
Он схватил ее за руку.
— Нет. Сейчас.
Она не предложила ему войти. Она действительно боялась его.
— Пошли!
В течение почти двух часов они бесцельно бродили по тротуару, среди одних и тех же фонарей. Они не держали друг друга за руки, не останавливались, чтобы поцеловаться.
— Почему вы хотите на мне жениться?
Он, заупрямившись, ответил:
— Потому что!
— А если вы будете получать то, что хотите, другим способом?
— И все же я на вас женюсь!
— Вы не тот мужчина, который сможет жить с такой женщиной, как я.
Почему он в своем полусне сразу же подумал о ней, едва взглянув на ребенка на руках у матери? На протяжении многих лет он гнал от себя это воспоминание.
— Вы полагаете, что будете счастливы со мной?
Он ничего не ответил. О счастье не было и речи. Он не смог бы объяснить. Впрочем, все это было слишком смутным и не поддавалось словесному выражению. Важным было лишь то, что он принял решение и держался за него.
— Так это «да»?
— Я дам вам ответ завтра утром.
— Нет. Немедленно!
Через две недели он на ней женился. До этого он не вступал с ней в интимные отношения. Вскоре он запретил ей работать.
Это была мать Бена. Однажды вечером, двадцать месяцев спустя, она ушла, оставив ему ребенка. Он не сердился на нее. В первую ночь в пустом доме он почувствовал лишь досаду, словно потерпел поражение. Он знал, что это означало. Рано или поздно он должен был потерпеть поражение, поскольку корнями это уходило очень далеко, в события, которые он переживал, будучи еще ребенком.
Это никого не касалось. Он не должен был об этом думать. Бен остался с ним, и это главное.
Через много лет, когда Бен превратится в мужчину, они, возможно, смогут об этом поговорить. Дейв скажет сыну правду.
Мысль, что этих многих лет может не быть, что его сыну не дадут возможности превратиться в мужчину, даже не пришла ему в голову. В Индианаполисе он едва не бросился во Дворец правосудия с чемоданом. И только по дороге, в такси он вспомнил, что следовало бы оставить его в гостинице.
— Остановитесь сначала у какой-нибудь гостиницы.
— В центре города?
— Как можно ближе ко Дворцу правосудия.
Теперь, когда Гэллоуэй был почти рядом с сыном, его охватило нервное нетерпение. Он увидел огромную площадь, окруженную каменными зданиями, узнал то, что должно было быть Капитолием, затем, чуть дальше, здание почтового отделения с капителью, которую поддерживали белые колонны.
Шофер опустил флажок перед казавшейся роскошной гостиницей.
— Подождите меня, пожалуйста.
— Дворец правосудия — вон там! — ответил шофер, показывая на одно из зданий.
Он вошел через дверь-турникет вслед за шофером, донесшим его чемодан до стойки регистрации.
— Вы забронировали номер по телефону?
— Нет. Я хочу получить комнату.
Ему протянули несколько карточек. Он написал свое настоящее имя, которое служащий прочел вверх ногами. Возможно, служащий сразу же понял, зачем он приехал, поскольку не стал спрашивать, на сколько дней он хочет остаться.
— Проводи мистера Гэллоуэя в номер 662.
Он не собирался подниматься в комнату, но не осмелился возразить. Но раз уж поднялся, он вымыл руки, освежил лицо и причесался.
Гэллоуэй надеялся, что они не сразу примутся допрашивать Бена, что они дадут ему возможность поспать. Разрешили ли они ему умыться и переодеться?
Когда он шел через холл, несколько человек пристально следили за ним глазами.
Это не произвело на него ни малейшего впечатления. Он не чувствовал никакого смущения.
Было десять часов утра. Во Дворце правосудия адвокаты, судьи, судебные приставы деловито сновали от одной двери к другой, держа в руках папки. Гэллоуэй растерялся и бросился к служащему в форме, стоявшему около двери.
— Не знаете ли, здесь ли Бен Гэллоуэй? — спросил он.
— Кто?
— Бен Гэллоуэй. Тот, кто…
— А! Да.
Мужчина посмотрел на своего собеседника более внимательно. Вероятно, он видел его портрет в газете.
— Его здесь нет, — равнодушно ответил он. — Я знаю, что сегодня утром эти господа спорили в кабинете окружного прокурора. Журналисты уже приходили три или четыре раза. Если хотите знать мое мнение, у вас больше всего шансов найти его в ФБР.
— А где бюро ФБР?
— В федеральном здании, над почтовым отделением. Вы знаете, где находится почта?
— Я видел здание, когда подъезжал сюда.
Люди останавливались, чтобы посмотреть на него. Ему показалось, что один человек хотел подойти к нему, чтобы поговорить, но в последний момент передумал. Тот человек, вероятно, был официальным лицом, возможно, одним из помощников окружного прокурора или адвокатом, собиравшимся предложить ему свои услуги.
Ярко светило солнце. Было тепло. Женщины были одеты в светлые платья, а многие мужчины уже носили соломенные шляпы. Гэллоуэй шел быстро. Через несколько минут он все узнает, возможно, встретится с Беном.
Федеральное здание было светлым, с широкими коридорами, вымощенными мраморными плитками, с дверями из красного дерева. На каждой двери висела медная табличка с цифрами. Гэллоуэй постучал в ту, которую ему указали. Ему крикнули, что он может войти. Женщина среднего возраста с седыми волосами на мгновение перестала печатать на машинке.
— Что вам угодно?
— Я хочу видеть моего сына. Я Дейв Гэллоуэй, отец Бена.
Он произнес вовсе не ту фразу, которую приготовил. Он нашел более короткую и смотрел то налево, на приоткрытую дверь, то направо, на дверь, которая была закрыта.
— Присаживайтесь.
— Вы можете мне сказать, здесь ли мой сын?
Ничего не ответив, женщина сняла телефонную трубку и сказала:
— В приемной находится мистер Дейв Гэллоуэй.
Она выслушала ответ, разбивая фразы своего собеседника словами:
— Да… Да… Хорошо… Я поняла…
Он машинально послушался ее, когда она предложила ему сесть, но вскоре уже стоял на ногах.
— Я увижу сына? — спросил он.
— Сейчас инспектор занят. Он встретится с вами через несколько минут.
— Вы что, не имеете права сообщить мне, здесь ли мой сын? Да или нет?
Смутившись, она пробормотала, вновь принимаясь печатать на машинке:
— Я не получила указаний.
Опущенные венецианские шторы пропускали одинаковые солнечные полоски, которые отражались на стенах и на потолке. Почти бесшумно крутился вентилятор.
Смирившись с необходимостью ждать, он сел, положил шляпу на колени и стал следить за кареткой машинки, потом за секундными стрелками на электрических часах, вставленных в одну из перегородок.
Из левой двери вышел довольно молодой человек, державший в руках бумаги. Он взглянул на Гэллоуэя, нахмурил брови, вновь посмотрел на него, на этот раз более внимательно, одновременно выдвигая металлические ящики картотеки. После того как он нашел то, что искал, и сделал пометки на документе, он наклонился к секретарю и тихо заговорил с ней.
Речь шла о Гэллоуэе. Однако к нему они не обратились. Вскоре мужчина исчез за дверью, через которую вошел.
Дейв напряженно прислушивался. Но помимо стука машинки он слышал лишь шаги по широкому коридору и время от времени стук в дверь. Зазвонил телефон. Женщина ответила:
— Одну минуту, пожалуйста. Не кладите трубку.
Она нажала на несколько кнопок.
— На проводе Олбани.
Гэллоуэй чуть не встал. Олбани — это точно насчет Бена. Пока он, беспомощный, ждал в приемной, они обсуждали участь его сына!
Он этого не предвидел, эту невозможность не только сразу же после приезда увидеть Бена, но и поговорить с кем-нибудь, неважно с кем, с человеком, который мог бы сообщить ему какие-либо сведения.
Прошло полчаса, самые длинные, самые тягостные в его жизни. Телефон звонил еще два раза. Женщина соединяла с таинственным инспектором, который сидел в одном из кабинетов, укрывшись от посторонних взглядов. Один раз женщина просто сказала:
— Губернатор.
В принципе, Гэллоуэй понимал, что его не могли принять сразу же. Но, по крайней мере, ему могли сказать, здесь Бен или нет. Он был его отцом. Он имел право увидеть сына, поговорить с ним.
— Послушайте, мадам…
— Наберитесь терпения, мистер Гэллоуэй. Еще немного…
Она знала, что происходит! Он попытался о чем-нибудь догадаться по выражению ее лица, но она не обращала на него внимания и продолжала печатать на машинке с поразительной скоростью.
В какой-то момент в коридоре открылась дверь, совсем рядом, возможно соседняя. Если бы он послушался своего внутреннего голоса, он бы бросился в коридор, чтобы посмотреть. Но он не осмелился. Он был слишком взволнован и боялся, что дама с седыми волосами начнет упрекать его. Почти сразу же правая дверь, та, что оставалась до сих нор закрытой, распахнулась. В дверном проеме показался мужчина примерно того же возраста, что и он, и обернулся к Гэллоуэю:
— Прошу вас, мистер Гэллоуэй, входите.
На окнах висели такие же венецианские шторы, а на светлых стенах отражались такие же полоски. Мужчина указал ему на стул, сел за большой металлический письменный стол, на котором Дейв заметил обрамленную фотографию женщины с двумя детьми.
Гэллоуэй открыл рот, чтобы задать вопрос, на который он наконец получит ответ, но его собеседник заговорил первым. Он говорил спокойным, немного холодным голосом, тем не менее Гэллоуэю показалось, что он уловил симпатию или жалость.
— Полагаю, вы прилетели первым рейсом?
— Да. Я…
— Понимаете, вам не следовало уезжать, не получив от нас известий. К сожалению, вы приехали напрасно.
Гэллоуэй почувствовал, как его члены окаменели.
— Моего сына здесь нет?
— Сегодня его перевезут в Нью-Йорк, а оттуда в Либерти.
Дейв не понимал. Он смотрел на своего собеседника, делая над собой усилие.
— Первое покушение, совершенное в штате Нью-Йорк, — более тяжкое преступление, чем то, что произошло здесь. Вопрос стоял таким образом: подвергнется ли ваш сын судебному преследованию в Индиане за то, что он стрелял в полицейских и ранил одного из них, или будет сразу же отправлен в штат Нью-Йорк. Сегодня утром губернаторы обоих штатов связались друг с другом по телефону и пришли к согласию.
— Но его еще не увезли? — воскликнул Гэллоуэй.
Мужчина посмотрел на точно такие же часы, как и в приемной.
— Нет. Сейчас им, вероятно, разрешили поесть.
— Где мой сын?
— Мне очень жаль, но я не могу вам этого сообщить, мистер Гэллоуэй. Чтобы избежать бесполезной огласки и возможных инцидентов, мы сделали так, что даже журналисты не знают, что они провели ночь здесь. Журналисты ждали их у ворот тюрьмы.
— Бен был здесь?
Он пальцем обвел комнату, в которой они находились. Мужчина кивнул головой.
— Он еще был здесь, когда я пришел, не так ли?
Инспектор снова кивнул головой.
— И меня нарочно заставили ждать в приемной, чтобы не допустить встречи с ним? — закричал он, потеряв способность контролировать свои чувства.
— Успокойтесь, мистер Гэллоуэй. Это не я помешал вам встретиться с сыном.
— А кто?
— Он отказался встречаться с вами.
Глава седьмая
— Боюсь, мистер Гэллоуэй, что мы все плохо знаем своих детей.
Говоря эти слова, инспектор медленно и аккуратно набивал трубку. Словно чтобы показать, что и он сам не составляет исключения, он на мгновение остановил свой взгляд на стоявшей на столе фотографии.
Дейв не стал протестовать, поскольку всю свою жизнь инстинктивно питал почтение ко всему, что олицетворяло власть. Впрочем, слова инспектора были, возможно, верными в том, что касалось некоторых отцов, обычных отцов, но только не Дейва.
Зачем пытаться объяснить их жизнь, его жизнь и жизнь Бена, характер их отношений, которые были не только отношениями отца и сына?
— Я не знаю, — продолжал инспектор, слегка откинувшись назад, — какое будет принято решение. Мы выполнили свою задачу. Полагаю, что его адвокат, а может, сам окружной прокурор, попросит, чтобы его осмотрел один или даже несколько психиатров.
Гэллоуэй чуть не улыбнулся, настолько смешной ему показалась мысль, что Бен был не вполне в своем уме. Если он был ненормальным, значит, ненормальным был и его отец. Но Гэллоуэй не смог бы дожить до сорока трех лет, не заметив этого.
— Я наблюдал за ним с полуночи до самого недавнего времени и должен вам признаться, что не могу составить о нем определенного мнения.
— Бен нечасто проявляет свои чувства, — поспешил заметить его отец.
Казалось, инспектор удивился.
— Во всяком случае, — ответил он, — он ничуть не робел, если вы это имеете в виду. Мне редко доводилось видеть людей, которые в его возрасте вели бы себя столь же непринужденно в подобных условиях. Их вместе привели ко мне в кабинет, Бена и его маленькую подружку. Я мог бы поклясться, что они были счастливы оказаться здесь, словно вопреки всему добились своей цели. Когда с них сняли наручники, они подошли друг к другу и взялись за руки. И хотя они были грязными и уставшими, их глаза лучились счастьем. Они с удовольствием, даже с вожделением смотрели друг на друга, будто обменивались чудесной тайной. Я сказал им: «Вы можете сесть». Ваш сын развязно ответил: «Мы достаточно насиделись во время путешествия!» Он смотрел на меня, пытаясь уловить иронию. «А теперь вы нам присудите третью степень? — бросил он мне в лицо с улыбкой, все же, несмотря ни на что, немного нервной. — Если вам нужны признания, я признаю все: убийство старого типа на дороге, кражу машины, угрозы фермеру и его жене и перестрелку с полицией. Полагаю, ни в чем другом меня не обвиняют?» «Сейчас не идет речь о допросе, вы падаете от усталости», — ответил я. Это, похоже, сбило его с толку, поскольку я не соблюдал правил игры. «Я способен провести еще одну бессонную ночь, если надо. Что касается Лилианы, вы можете ее отпустить. Она ничего не знала о моих планах. Я ей просто сказал, что мы поедем в Иллинойс или Миссисипи и поженимся там. Она не знала, что я вооружен». Девчушка прервала его. «Это неправда!» — «Вы должны мне поверить, инспектор. Когда мы хотели бежать с фермы, она настаивала, чтобы я не стрелял». — «Он врет. То, что мы сделали, мы сделали вместе. В Иллинойсе мировой судья не поженил нас, но с этого вечера я все же его жена».
Гэллоуэй замкнулся. Ничто не выдавало его чувств.
— Я подумал, что они и дальше будут спорить, и отправил их спать. Ваш сын спал на походной кровати в соседнем кабинете, а Лилиана Хавкинс провела ночь в другом кабинете под наблюдением надзирательницы. Девушка спала беспокойно. Мальчик же, наоборот, так крепко, словно лежал в своей кровати. Нам с трудом удалось разбудить его.
— Он всегда крепко спит.
— У меня действительно не было намерений устраивать им настоящий допрос, поскольку это дело окружного прокурора Либерти, главного города графства, где было совершено преступление. Это милях в пятидесяти от вас, если я не ошибаюсь. У вас есть знакомые в Либерти, мистер Гэллоуэй?
— Нет, я никого там не знаю.
— Именно там будет проходить суд над вашим сыном и его подружкой, если психиатры решат, что они должны предстать перед судом. Утром я велел принести им кофе и хлебцы, и они с удовольствием поели. Пока я звонил по телефону, я наблюдал за ними. Они сидели там…
Инспектор показал на стоявший у стены темный кожаный диванчик.
— …они держались за руки, как и ночью, шептались, смотрели друг на друга восхищенными глазами. Если бы сюда вошел человек, которого не ввели в курс дела, он принял бы их за самую счастливую на земле пару. Когда мне сообщили о вашем приезде, я сказал Бену: «Ваш отец здесь». Я не хочу причинять вам боль, мистер Гэллоуэй, но считаю, что вы должны знать правду. Он, нахмурившись, повернулся к своей подружке и процедил сквозь зубы: «Черт возьми!» Я продолжал: «Я позволяю вам провести с ним несколько минут, если хотите, наедине». — «Но я совершенно не хочу его видеть! — воскликнул он. — Мне нечего ему сказать. Неужели вы обязаны его впустить сюда?» — «Я не могу принудить вас встретиться с ним». — «Тогда нет!» Остальным займутся другие. Признаюсь вам, что лично я предпочел бы не принимать никакого решения в отношении вашего сына.
— Он не сумасшедший, — твердо повторил Дейв.
— Тем не менее для него это единственный шанс на спасение. Я все время спрашиваю себя, отдаете ли вы себе в этом отчет? Теперь, если вы мне дадите слово не делать ничего, что могло бы спровоцировать какой-либо инцидент, если вы считаете, что способны сдержаться и не броситься навстречу сыну, увидеть, как он пройдет рядом…
— Даю вам слово.
— Тогда я сообщу вам сведения, которые пока еще конфиденциальны. В двенадцать часов сорок пять минут ваш сын и Лилиана Хавкинс приедут в аэропорт в сопровождении полицейского и надзирательницы, чтобы сесть на самолет, отправляющийся в Нью-Йорк. Они просто пройдут через зал, где, несомненно, их будут поджидать несколько журналистов и один-два фотографа. Если вы окажетесь на их пути…
— Они полетят обычным рейсом?
Инспектор кивнул головой в знак согласия.
— У меня есть право лететь тем же рейсом?
— Если остались места.
У Гэллоуэя в запасе было полтора часа, но он так боялся опоздать, что поспешно покинул федеральное здание и бросился в гостиницу.
— Я должен улетать в двенадцать часов сорок пять минут, — сказал он. — Я пришел за чемоданом. Сколько я вам должен?
— Нисколько, мистер Гэллоуэй, поскольку вы не пользовались номером.
В такси он ехал той же дорогой, что и утром. В аэропорту он сразу же подбежал к окошечку билетной кассы.
— Остались места на самолет, отправляющийся в двенадцать сорок пять в Нью-Йорк?
— Сколько человек?
— Один.
— Минуточку.
Было жарко. Над верхней губой девушки блестели капельки пота, под ее руками образовались влажные круги. Запах, исходивший от нее, напоминал запах Рут. Она звонила в другую службу.
— Ваша фамилия? — наконец спросила она, приготовившись заполнить билет.
— Гэллоуэй.
Она удивленно посмотрела на него и заколебалась.
— Вы знаете, что в этом же самолете…
— Да, мой сын будет там.
Он пообедал в ресторане аэропорта. То, что рассказал инспектор ФБР, пока еще не вызывало у него беспокойства, возможно, потому, что он по-прежнему жил в каком-то возбуждении. И только тогда, когда речь зашла о Лилиане, о том, что она с гордостью поведала о своих отношениях с Беном, у него защемило сердце.
Бен наверняка отказался встретиться с отцом только потому, что смутился бы в его присутствии. Бен тоже был на нервах. Ему необходимо время, чтобы прийти в себя.
В четверть первого Гэллоуэй уже стоял в дверях аэропорта, внимательно следя за подъезжавшими машинами. Он спросил у двух служащих, уверены ли они, что другого входа нет. Он увидел, как приехали фотографы со своими аппаратами. Трое следовавших за ними мужчин были, несомненно, журналистами. Они все вместе встали в центре зала. Один из них заметил Гэллоуэя, нахмурил лоб, что-то сказал остальным и направился к окошечку. Он задал девушке какой-то вопрос, и та утвердительно кивнула головой.
Журналисты узнали Гэллоуэя, но ему было все равно. Они подошли к нему.
— Мистер Гэллоуэй?
Он ответил «да».
— Вы видели сына сегодня утром?
Гэллоуэй чуть не солгал, так ему трудно было признаться, что он совершил бесполезное путешествие.
— Я не смог его увидеть.
— Вам не дали разрешения?
Ему так и хотелось снова сказать «да», но ответ наверняка будет напечатан в газетах, и тогда инспектор ФБР сможет опровергнуть его слова.
— Мой сын не захотел меня видеть, — признался он, стараясь улыбаться, словно речь шла об обыкновенном ребячестве. — Вы должны понять его реакцию…
— Вы полетите вместе с ним?
— В том же самолете, да.
— Суд состоится в Либерти?
— Именно так мне сказали час назад.
— Вы уже выбрали адвоката?
— Нет. Я выберу лучшего. У меня есть деньги.
Внезапно ему стало стыдно за себя. Он понял, что вел себя глупо.
— Вы позволите? — спросили его. — Пройдите немного вперед. Спасибо!
Его фотографировали. Именно тогда он увидел, как его сын выходит из машины. Запястье Бена было пристегнуто наручником к запястью полицейского в штатском. Полицейский был совсем молодым и казался его старшим братом. Бен шел с непокрытой головой, в своем бежевом плаще. За ним следовала Лилиана Хавкинс в сопровождении дородной женщины. Ее темный пиджак был перетянут ремнем и напоминал форму.
Два широких застекленных проема были открыты. Узнал ли Бен под вспышками фотоаппаратов своего отца? Фотографы бросились к двери, журналисты тоже. Пассажиры, которые давно поняли, что происходит, образовали в зале плотную толпу, как по прибытии официального лица.
Дейв расталкивал всех локтями, пробиваясь в первый ряд. Когда его сын оказался в нескольких метрах от двери, их взгляды встретились. Бен нахмурился. Пройдя несколько шагов, он обернулся, но не для того, чтобы снова посмотреть на отца, а чтобы сказать несколько слов Лилиане.
Лилиана была немного бледнее Бена, несомненно, от усталости. Рядом с надзирательницей она, в своем дешевом пальто, надетом на хлопчатобумажное платье в цветочек, казалась маленькой болезненной девочкой.
Бен не сделал ни малейшего движения в сторону отца. И теперь Дейв начинал понимать, что хотел сказать ему инспектор. Гэллоуэй чувствовал себя так, словно шестнадцать лет совместной жизни и повседневной близости канули в небытие. В глазах его сына не вспыхнуло ни одной искорки, на лице не отразилось никаких эмоций. Он только нахмурился, словно заметив, что на его пути появилось нечто неприятное.
— Мой отец! — вероятно, сказал он, обернувшись к девушке.
Они уже вышли на поле. Их посадили в самолет прежде, чем впустили других пассажиров.
— Он вас видел? — спросил Гэллоуэя один из репортеров.
— Думаю, да. — И добавил: — Но я не уверен.
Гэллоуэй пошел за толпой, одним из последних поднялся в самолет. Стюардесса указала ему место в хвосте самолета. Бен и Лилиана сидели впереди. Бен вместе с полицейским слева, а Лилиана и женщина, сопровождавшая ее, справа. Их разделял только проход.
Приподнявшись, Дейв мог их видеть. Правда, он видел только их затылки, да и то, когда они не откидывались назад. Однако этого было достаточно для того, чтобы он понял: они все время поворачивались друг к другу. Иногда они наклонялись вперед и обменивались репликами. Их сопровождающие не запрещали этого делать. Чуть позже стюардесса предложила им, как и другим пассажирам, чай и бутерброды, но они отказались.
Было ли возможно, что они оба не отдавали себе отчета, в какое положение попали? Можно было подумать, что они на каникулах, что им нравится путешествовать на самолете. Дейв видел, что их поведение удивляло и других пассажиров.
Примерно через полчаса голова Лилианы склонилась набок. Вероятно, она проспала оставшуюся часть пути. Что касается Бена, то он, поговорив какое-то время с полицейским, принялся читать газету, которую тот ему дал.
Гэллоуэй был уверен, что все это было обыкновенным недоразумением. Поступки других людей всегда кажутся нам странными, поскольку мы не знаем их истинных причин. Когда он женился на Рут, все в мастерской смотрели на него с удивлением, к которому примешивалась частичка сострадания. А на его лице застыло примерно такое же выражение, какое было у Бена, когда он шел сквозь толпу.
Он знал, что делал, женившись на Рут. Только он один и знал.
Его жалели. Все думали, что он позволил себя окрутить, что он уступил мимолетной страсти. Они даже не подозревали, что только такие женщины могли вызвать у него желание жениться. Кто знает? Возможно, некоторые полагали, что у него временно помутился рассудок?
На публике он тоже держал жену за руку, с вызовом глядя на окружавших их людей. Когда она была беременной, он с гордостью прогуливался вместе с ней по центру города.
Большинство его приятелей переспали с ней. Несмотря на это, он запретил себе прикасаться к ней до свадьбы. Как ни странно, это настолько ее поразило, что она плакала и благодарила его. Правда, в этот вечер они пили. Они пили каждый вечер.
Все предсказывали, что он будет несчастен с ней. Но ничего подобного. Он счел своим долгом поселиться в одном из новых домов квартала, как большинство молодых семей, купить ту же мебель, те же безделушки. Его мать не присутствовала на свадьбе, поскольку он сообщил ей об этом только через месяц, вскользь, в конце письма, словно это была совсем незначительная новость. Следующей весной она неожиданно приехала к ним вместе с Мьюсельманом. Он был уверен, что никогда прежде она не испытывала столь неподдельного удивления. Он не знал, что она ожидала увидеть, но только, разумеется, не Рут, не их маленькое хозяйство.
— Ты счастлив? — спросила она, когда они на минуту остались одни в комнате.
Он ограничился улыбкой, но она не поверила в эту улыбку. Она в него никогда не верила. Она тем более никогда не верила в его отца. Верила ли она в Мьюсельмана?
— Ну что ж, дети мои! Нам пора уезжать.
Она не согласилась пообедать у них.
— Удачи! — бросила она, выйдя на улицу.
Она желала, чтобы на молодую пару обрушились всевозможные катастрофы. И поэтому он не написал ей, когда ушла Рут. Почти два года он не отвечал на ее письма, которых, впрочем, было немного.
Это ли пытался ему растолковать инспектор сегодня утром? Но разница заключалась в том, что он доверял Бену. Они были одной крови. Бен был его сыном. Сегодня вечером или завтра они поговорят, и все встанет на свои места. Бен должен знать, что отец заранее понимал его. Это следовало из его послания.
Я буду с тобой, что бы ни случилось.
Он добавил, чтобы было еще яснее:
Я не сержусь на тебя, Бен!
Он употребил это слово в самом широком смысле. Вероятно, Бен не слышал его послание по радио, поскольку в тот час, когда его передавали, он находился у мирового судьи в одной из деревень Иллинойса.
Сам ли Бен остановил машину в ночи, несмотря на то что за ними гналась по пятам полиция, и предложил Лилиане соединить свои судьбы? Принадлежала ли эта идея Лилиане? Он предпочитал не думать об этом, не старался догадаться, о чем они теперь говорили, когда девушка проснулась.
Они пролетали над Нью-Йорком. Был виден небоскреб, сверкавший позолотой под лучами солнца. Самолет постепенно снижался. Пассажиры погасили сигареты, пристегнули ремни. Дейв дал себе слово оставаться на месте до тех пор, пока его сын не покинет самолет. Таким образом, он пройдет мимо и, возможно, даже заденет отца. Но стюардесса настойчиво попросила всех без исключения пассажиров выйти из салона.
Дейв буквально заставил себя последовать примеру других пассажиров. Войдя в зал ожидания, он обернулся и увидел, что Бена и Лилиану увели на другую часть поля.
— Куда они направляются? — спросил он у служащего.
Служащий посмотрел, куда показывал Дейв.
— Несомненно, к другому самолету, — равнодушно ответил он.
— Какой линии?
— Сиракузы.
— Самолет делает посадку в Либерти?
— Вполне возможно.
Дейв напрасно попытался купить билет. Когда он нашел нужное ему окошечко, самолет уже взлетел.
— Через час вылетает другой самолет, который делает посадку в Либерти. Это все равно будет быстрее, чем поездом.
Гэллоуэй больше не сгорал от нетерпения. Он начал привыкать, что все происходило не так, как ему хотелось бы. Но он не отчаивался, уверенный, что последнее слово все равно останется за ним.
Было пять часов, когда он прилетел в главный город графства, через которое иногда проезжал на машине, не останавливаясь. Последний раз — накануне, в полицейской машине. В воскресный день все было закрыто. Гэллоуэй отнес чемодан в гостиницу. Однако он не стал подниматься в номер, а сразу же бросился во Дворец правосудия, находившийся недалеко.
Он опоздал на несколько минут. Перед каменными ступенями толпились зеваки. Стоял там и фотограф.
— Бен Гэллоуэй там? — спросил он.
— Его только что увезли.
— Куда?
— В тюрьму графства.
— Он встречался с окружным прокурором?
— Их обоих отвели в его кабинет, но там они пробыли всего несколько минут.
Его не узнали. Он попытался толкнуть застекленную дверь, но она не поддалась. Находившийся внутри однорукий служащий в форменной фуражке сделал ему знак, чтобы он прекратил попытки.
— Он вам не откроет, — сказал старый господин. — Ровно в пять часов он закрывает двери и никого не пускает.
— Окружной прокурор еще не ушел?
— Вполне возможно. Я не видел, как он выходил. Но он тем более не примет вас после положенного времени.
Старик с шатавшейся вставной челюстью смотрел на него, лукаво улыбаясь.
— Вы его отец, не так ли?
Гэллоуэй кивнул головой. И тогда старик добавил писклявым голосом:
— Ну и славный же у вас сынок! Есть чем гордиться!
Дейв впервые почувствовал, что к нему из-за Бена питают беспричинную злобу. Старик ушел, усмехаясь. А он, растерявшийся, ничего не понимавший, следил глазами за ним.
Все с самого начала пошло плохо. Он должен был последовать совету лейтенанта и сразу же нанять хорошего адвоката. Разве он знал, какие формальности необходимо выполнить, чтобы добиться встречи с заключенным? У него, безусловно, были права, но он не знал какие. Во что бы то ни стало надо защитить Бена. Нельзя допустить, чтобы Бен продолжал говорить и вести себя как ребенок.
Он вернулся в гостиницу, поскольку не знал, куда идти.
— Могу ли я видеть управляющего?
Его не заставили ждать, а сразу ввели в небольшой кабинет рядом со стойкой регистрации. Управляющий был без пиджака, в рубашке с засученными рукавами.
— Сид Николсон, — представился управляющий.
— Дейв Гэллоуэй. Полагаю, вы знаете, почему я приехал сюда.
— Да, мистер Гэллоуэй, я знаю.
— Я пришел к вам, чтобы спросить, не могли бы вы мне рекомендовать лучшего адвоката графства. — И добавил с совершенно излишним бахвальством: — У меня деньги есть. Неважно, что он возьмет дорого. Мне есть чем ему заплатить.
— Вам следует попытаться договориться с Уилбуром Лейном.
— Он лучший?
— Да, и не только в Либерти. Почти каждую неделю он выступает в суде в Нью-Йорке и Олбани. К тому же он друг губернатора. Вы хотите с ним встретиться сегодня вечером?
— Если это возможно.
— В таком случае я позвоню ему немедленно, поскольку, покинув контору, он отправится играть в гольф. И тогда у вас не будет ни малейшего шанса встретиться с ним.
— Пожалуйста, прошу вас.
— Джейн, соедини меня с Уилбуром Лейном.
На том конце провода трубку взяла секретарь, которую управляющий тоже назвал по имени.
— Патрон еще не ушел? Говорит Сид Николсон. Я хотел бы сказать ему пару слов. Это срочно… Алло! Уилбур? Прости, что пришлось тебя побеспокоить. Ты собирался уходить?.. У меня здесь человек, который нуждается в твоих услугах… Не догадываешься?.. Да, это он… Он в моем кабинете… Ты можешь его принять?.. Я пошлю его к тебе… Доброго вечера…
— Где он находится? — спросил Гэллоуэй, который все слышал.
— Вы пойдете вниз по улице до тех пор, пока не увидите справа небольшую методистскую церковь. Прямо напротив стоит большой белый дом в колониальном стиле. На нем висит доска, на которой написано «Лейн, Пеппер и Даркин». Джед Пеппер занимается только делами, связанными с налогами и наследством. Что касается Даркина, он умер полгода назад.
Бюро были закрыты с пяти часов, но, по всей видимости, секретарь поджидала его, стоя у окна, поскольку она сразу открыла дверь, едва он начал подниматься по ступеням.
— Мистер Лейн ждет вас. Сюда, пожалуйста.
Мужчина, у которого были седые волосы, но еще молодое лицо, более крупная, чем у Гэллоуэя, голова и широкие плечи, как у игрока в регби, встал и пожал Гэллоуэю руку.
— Не стану утверждать, что я вас ждал. Это было бы хвастовством. Но звонок моего друга Сида не удивил меня. Присаживайтесь, мистер Гэллоуэй. В вечерней газете я прочитал, что вы напрасно съездили в Индианаполис.
— Мой сын здесь.
— Я знаю. Я буквально минуту назад связался с Джорджем Темплем, окружным прокурором и к тому же моим старинным приятелем. Он тоже сразу же понял, о чем идет речь.
— Я очень прошу вас взять на себя защиту моего сына. Я не богат, но у меня есть примерно семь тысяч долларов сбережений и…
— Мы обсудим это позже. С кем вы говорили в Индианаполисе?
— С человеком, который там, судя по всему, возглавляет местное отделение ФБР. Мне не назвали его фамилию.
— Что вы ему сказали?
— Что я уверен: все прояснится после того, как я поговорю с Беном.
— Но ваш сын отказался встречаться с вами. — Увидев, что Гэллоуэй удивился, он объяснил: — Об этом напечатали в газете. Видите ли, очень важно, чтобы с этой минуты вы перестали говорить о деле с кем бы то ни было, особенно с журналистами. Даже если вам зададут с виду безобидные вопросы относительно вашего сына, не отвечайте. Темпль не пожелал воспользоваться ситуацией и учинить им допрос, едва они сошли с самолета. Они провели в его кабинете лишь несколько минут, чтобы выполнить необходимые формальности. Потом он сразу же отправил их в тюрьму. Поскольку вы хотите, чтобы я защищал вашего сына, я завтра буду присутствовать при его первом допросе. Вероятно, мне даже удастся поговорить с ним до допроса.
Он спросил в упор, вставляя сигару в мундштук с золотым ободком:
— Какой он?
Дейв покраснел, поскольку не понял точного смысла вопроса и боялся ошибиться в очередной раз.
— Он всегда был спокойным разумным ребенком, — ответил он. — За шестнадцать лет он ни разу не доставил мне неприятностей.
— Каким он был, когда вы увидели его в Индианаполисе? В газете написано, что вы столкнулись лицом к лицу в зале аэропорта.
— Не совсем лицом к лицу. Я стоял в толпе.
— Он вас видел?
— Да.
— Он выглядел смущенным?
— Нет. Это трудно объяснить. Я полагаю, ему было неприятно видеть меня там.
— Его мать жива?
— Думаю, да.
— Вы не знаете, где она сейчас?
— Она рассталась со мной пятнадцать с половиной лет назад. Уходя, она оставила мне шестимесячного ребенка. Три года спустя какой-то человек пришел и попросил меня подписать бумаги, чтобы она могла получить развод.
— Изъяны с той стороны?
— Что вы этим хотите сказать?
— Я спрашиваю, были ли по материнской линии какие-нибудь заболевания, которые могли бы объяснить случившееся.
— Насколько я знаю, она никогда не болела.
— А вы?
Гэллоуэй не ожидал подобных вопросов и окончательно был сбит с толку, заметив, что адвокат записывал его ответы. У адвоката были ухоженные руки, аккуратно подстриженные ногти. Он был одет в безукоризненно сшитый саржевый синий костюм. Вот уже несколько минут Дейв спрашивал себя, кого он ему напоминал.
— У меня тоже никогда не было серьезных заболеваний.
— Ваш отец?
— Он умер в сорок лет от сердечного приступа.
— Ваша мать?
— Она снова вышла замуж и прекрасно себя чувствует.
— Есть ли тетки, дядья, кузены, кузины, которых в настоящий момент следовало бы поместить в лечебницу?
Гэллоуэй понял, куда клонил его собеседник, и запротестовал:
— Бен не сумасшедший!
— Не стоит кричать об этом на каждом углу, поскольку это, вполне вероятно, наш последний шанс спасти его шкуру. Видите ли, когда я прочитал все, что пишут газеты о поведении вашего сына, я сначала подумал, что он делает все, что в его власти, чтобы отправиться на электрический стул. Извините, что я говорю вам это без обиняков. Но нужно смотреть действительности в лицо. Однако, немного поразмыслив, я спросил себя, да и до сих пор спрашиваю, не хитрее ли он на самом деле, чем мы все думаем, и не выбрал ли он лучшую тактику самозащиты.
— Я вас не понимаю.
— Он не плачет, не просит прощения, не раскисает и тем более не упорствует в молчании. Напротив, он говорит и действует, словно пребывает в восторге от того, что убил человека, причем хладнокровно, украл машину, а позднее открыл огонь и стрелял до тех пор, пока в его автоматическом пистолете не закончились патроны. Видите ли, сэр, представить себе смышленого мальчика, достигшего шестнадцати лет и выросшего в нормальных условиях в среде среднего класса… Повторяю, очень трудно представить, чтобы такой мальчик вел себя подобным образом, находясь в здравом уме. Слово «сумасшествие» внушает вам, как и другим, страх, но оно не совсем верное. Психиатры будут использовать более точные термины, чтобы определить сначала степень умственного расстройства вашего сына, а затем его способность реагировать на положительные и отрицательные импульсы. Завтра я сразу же попрошу окружного прокурора провести психиатрическую экспертизу и, вполне возможно, приглашу специалиста из Нью-Йорка.
Стоило ли Дейву упорствовать и повторять, что его сын не был сумасшедшим? Дейва не слушали. Ему дали понять, что это дело его больше не касалось, что он больше не имел никакого отношения к защите Бена.
— Полагаю, вы намерены остаться в Либерти до конца судебного следствия? Суд присяжных соберется через два-три дня, если только экспертиза, о которой я вам говорил, не займет больше времени, чем я предполагаю. Я не хочу отговаривать вас остаться, но было бы лучше, если бы вы как можно реже появлялись на людях и, главное, избегали вступать в разговоры. Во всех номерах гостиницы есть телефон. Обещаю держать вас в курсе событий. Если я сочту желательным, чтобы вы встретились с сыном, я добьюсь разрешения от окружного прокурора. Пока же вы можете мне помочь, попытавшись вспомнить все более или менее странные поступки вашего сына. Только не говорите мне, что таких не было. Вы сами удивитесь тому, что обнаружите.
Адвокат посмотрел на часы и встал. Возможно, он подумал, что еще успеет сыграть партию в гольф? Пожимая адвокату руку, Дейв понял, кого он ему напоминал.
Мьюсельмана, второго мужа матери.
Было слишком поздно что-либо менять. Впрочем, Мьюсельман был настоящим знатоком своего дела. Адвокат, несомненно, тоже.
Его отстраняли, его просили молчать, почти прятаться! И только адвокат будет решать, желательна или нет встреча отца с сыном!
Когда Гэллоуэй шел по улице, прохожие оборачивались ему вслед. Толкнув дверь-турникет гостиницы, в углу холла он увидел Изабель Хавкинс в платье и шляпе, которые она надевала только по праздникам. Она с кем-то разговаривала, но он не сразу понял с кем, поскольку человек стоял к нему спиной.
Это был Иван Кавано, адвокат из Эвертона. Вероятно, они приехали вместе незадолго до того, как он вошел в гостиницу. Дейв ни разу не подумал о Хавкинсах. Ему даже не пришло в голову, что Лилиана тоже нуждалась в адвокате. И эта встреча произвела на него странное впечатление.
Изабель Хавкинс заметила Гэллоуэя. Они обменялись взглядами. Вместо того чтобы поприветствовать Дейва, дать понять, что узнала его, она поджала губы. Ее маленькие глаза смотрели на него с неприязнью.
Дейв почти с удовольствием констатировал, что они стали врагами.
Глава восьмая
Около одиннадцати часов Гэллоуэй из окна увидел, как из гостиницы вышли Изабель Хавкинс и Кавано и направились во Дворец правосудия. Он невольно позавидовал ей, поскольку его адвокат еще не звонил. Ожидая звонка, Дейв ни на минуту не отлучался из номера.
Он по-прежнему стоял у окна, по-прежнему ничего не знал, когда Изабель, на этот раз одна, вернулась в гостиницу, проведя во Дворце правосудия примерно три четверти часа. Виделась ли она за это время с дочерью? Но не успела Изабель войти, как тут же вышла с маленьким чемоданом в руке и зашагала в сторону автобусной станции.
Она возвращалась в Эвертон. Возможно, ему следовало позвонить Мьюсаку, который от всего сердца помогал ему в ту ночь и даже отвез в «Ла Гуардию» на своей машине.
Но что он мог ему сказать? Гэллоуэю казалось, что с тех пор прошла целая вечность. Он даже спрашивал себя, вернется ли он когда-нибудь в Эвертон.
Через несколько минут позвонил Уилбур Лейн. Действительно ли сегодня Лейн держался более холодно, чем накануне, или такое впечатление создавалось потому, что он говорил по телефону? Так или иначе, адвокат не тратил времени на ненужные фразы, не спрашивал Гэллоуэя, как тот себя чувствовал.
— Я добился для вас свидания с сыном в кабинете окружного прокурора, сегодня в три часа. Приходите в зал ожидания за несколько минут. Я вас провожу.
Лейн повесил трубку, не дав Дейву возможности задать вопрос. Мьюсельман был такой же. Даже когда у него было много свободного времени, он притворялся очень занятым. Гэллоуэй спустился в ресторан, поел, пришел во Дворец правосудия задолго до назначенного времени. Немного походя по залу, он принялся читать административные распоряжения, вывешенные на досках объявлений.
Адвокат появился за две минуты до трех часов и, не останавливаясь, подал Гэллоуэю знак следовать за ним по длинному коридору.
— Свидание состоится в присутствии окружного прокурора, — сообщил Лейн на ходу.
— Это он потребовал?
— Нет, ваш сын.
— Вы говорили с ним?
— В течение получаса сегодня рано утром, затем я присутствовал при его допросе.
Его, несомненно, не интересовало, о чем там говорилось, как вел себя Бен, поскольку он об этом не обмолвился ни словом.
Лейн постучал в дверь, открыл ее, не дожидаясь ответа, и слегка дотронулся до своей светло-серой шляпы, пересекая комнату, в которой работали два секретаря.
— Они там? — спросил он тоном человека, хорошо знакомого с обстановкой.
Он открыл вторую дверь. Бен был там. Он сидел посредине комнаты на стуле, положив ногу на ногу, и курил сигарету. Окружной прокурор расположился напротив Бена, по другую сторону стола. Это был мужчина лет сорока, вероятно, не очень здоровый, немного обеспокоенный, одним словом, совестливый человек.
— Входите, мистер Гэллоуэй, — сказал он, вставая.
Бен, обернувшись, бросил:
— Привет, дэд!
Он сказал это вежливо, но без воодушевления, так, как всегда говорил, возвращаясь из школы. Они не подошли друг к другу. Дейв, которого смущало присутствие двух мужчин, делавших вид, будто они беседовали, сидя в углу, не находил слов. Возможно, он был бы таким же скованным, если бы оказался наедине с сыном?
В конце концов он пробормотал:
— Ты слышал мое послание?
Дейву редко доводилось видеть Бена столь непринужденным. Казалось, что за два дня Бен избавился от робости и стеснительности, свойственных переходному возрасту. Сейчас он вел себя совершенно раскованно.
— Должен тебе признаться, что нам и в голову не приходило слушать радио. Но вчера в самолете я прочитал твое послание в газете.
Бен не стал комментировать слова отца. Все полагали, что беглецы напряженно вслушивались в сводки новостей в надежде разрушить планы полиции. Но как простодушно сказал Бен, им это даже не пришло в голову. Довольно улыбаясь, Бен добавил:
— Это относится и к дорогам, по которым мы ехали. Нас искали на объездных дорогах, а мы спокойно катили по скоростным автострадам, не считая тех двух раз, когда мы просто заблудились.
Бен замолчал. Дейв тоже хранил молчание, жадно всматриваясь в сына. Тот отвернулся, и теперь отец видел его профиль. Дейв заметил, что Бен побрился и был одет в чистую рубашку.
— Знаешь, дэд, тебе лучше вернуться в Эвертон. Нельзя предугадать, когда мы предстанем перед судом присяжных. Это зависит от психиатров, которые должны завтра приехать из Нью-Йорка.
Бен говорил о суде присяжных и психиатрах без тени беспокойства.
— Если увидишь Джимми Ван Хорна, скажи ему, что мне очень жаль его. Но ведь не я продал эту штуковину.
— Бен, неужели тебе нечего мне сказать?
Дейв говорил почти умоляющим голосом. Его сын ответил:
— А что ты хочешь, чтобы я тебе сказал? Все, что я мог бы тебе сказать, причинит тебе боль. Возвращайся в Эвертон и не беспокойся обо мне. Я ни о чем не жалею. Если бы можно было начать сначала, я поступил бы точно так же.
Бен повернулся к окружному прокурору.
— Этого достаточно? — спросил он, словно согласился повидаться с отцом только по настоянию магистрата.
Окружной прокурор чувствовал себя не в своей тарелке. Он наверняка предпочел бы, чтобы делом, о котором писали все газеты Соединенных Штатов, занимался кто-нибудь другой.
— Похоже, мистер Гэллоуэй, ему и правда больше нечего вам сказать.
Немного погодя он добавил, словно не хотел делать вид, что слишком резко выставляет Дейва за дверь:
— Действительно, мы можем назначить дату заседания большого жюри только после проведения психиатрической экспертизы.
Бен нагнулся вперед, чтобы раздавить окурок о дно пепельницы.
— До свидания, дэд, — прошептал он, чтобы побудить отца уйти.
— До свидания, сын.
Лейн тоже вышел. Дейв не помнил, попрощался ли он с окружным прокурором, и чуть не вернулся назад.
— Сегодня утром и на допросе он вел себя со мной точно так же, как сейчас с вами.
Адвокат говорил с горечью, словно возлагал всю ответственность за это на Дейва.
— В принципе, у нас был шанс опротестовать обвинение в предумышленном убийстве, заявив, что мысль напасть на автомобилиста пришла ему по дороге.
Казалось, Дейв не слушал. Его окружала пустота, словно защитная оболочка.
— Он же, напротив, упорно твердил окружному прокурору, что детально разработал план нападения тремя неделями раньше. Он нарочно выбрал субботу, потому что в этот день вы всегда навещаете соседа. На самом деле отъезд, назначенный на предыдущую субботу, пришлось отложить, поскольку вы простудились и не выходили из квартиры. Это верно?
— Да, верно.
— Адвокату Лилианы Хавкинс повезло не больше, чем мне. Ваш сын еще раз попытался взять всю вину на себя. Но если послушать ее, то она не только вместе с ним разработала все планы, но еще была и инициатором. В «олдсмобиле» она якобы подала Бену знак, что пора стрелять.
Адвокат пребывал в плохом настроении.
— Я не понимаю только одного, как вы могли прожить шестнадцать лет с таким мальчиком, как он, и ничего не заметить?
Дейву почти хотелось попросить у адвоката прощения. Что он мог поделать? Тем лучше, если его станут упрекать, если все станут его упрекать. Было бы справедливо возложить вину на него.
— Вы намерены последовать его совету?
— Какому совету?
— Вернуться в Эвертон.
Дейв отрицательно покачал головой. Он останется с Беном до конца, даже если ему придется видеть сына издалека и довольно редко.
— Как хотите. Для проведения психиатрической экспертизы я выбрал доктора Хасберджера. Он приедет завтра утром, равно как и эксперт, назначенный окружным прокурором. Предупреждаю вас, что с этого момента чудес ждать не стоит.
Гэллоуэй видел, как адвокат стоял в полутемном коридоре, в синем костюме, видел его шелковистые седые волосы. Напоследок Лейн дружески положил ему руку на плечо:
— Вам надо отдохнуть. Оставайтесь в комнате на тот случай, если вы мне понадобитесь.
В комнате стояли две одинаковые кровати. На стенах были обои с широкими вертикальными полосами, темно-зелеными на светло-зеленом фоне, а одна из пружин кресла немного выпирала. До наступления темноты Дейв стоял у окна, наблюдая за суматохой перед Дворцом правосудия. Но то ли Бена уже давно увезли, то ли его вводили и выводили через заднюю дверь. Около пяти часов он увидел, как из Дворца правосудия вышел Уилбур Лейн в сопровождении одной из секретарш, находившихся в приемной окружного прокурора.
После ужина он захотел позвонить Мьюсаку, но не решился. Он спрашивал себя, почему на него сердится Лейн. Что касается окружного прокурора, в его присутствии Дейв совсем растерялся.
В конце концов Дейв заснул. Проснувшись, он с удивлением обнаружил, что уже восемь часов утра. До десяти часов он ждал новостей от адвоката. Потеряв терпение, он сам позвонил в контору. Лейн долго не подходил к телефону. Дейву показалось, что, разговаривая с ним, адвокат продолжал слушать посетителя, находившегося в его кабинете.
— Я обещал позвонить вам, если у меня будут новости. Но в настоящий момент я ничего не могу сообщить вам… Нет… Доктор Хасберджер приехал в восемь часов и с тех пор осматривает вашего сына в тюрьме… Да, так… Я вам позвоню.
Наступил полдень, но телефон молчал. Звонок раздался только в час дня:
— Заседание большого жюри состоится в четверг в десять часов утра, — почти грубо бросил Лейн.
— Что это означает?
— Это означает, что доктор Хасберджер нашел вашего сына физически и умственно здоровым и способным вполне осознанно отвечать за свои поступки. Если уж наш эксперт придерживается такого мнения, то от эксперта обвинения нам не приходится ожидать ничего хорошего. Вполне вероятно, что я вызову вас как свидетеля. В таком случае, я должен буду с вами побеседовать, возможно, сегодня вечером.
Адвокат долго не подавал признаков жизни. Дейв оставался в неведении почти весь следующий день. Около половины пятого он решил сходить в контору адвоката. Но это ничего не дало. Секретарь сказала, что Лейн был на совещании и не может его принять.
Гэллоуэя удивляло, что он не только больше не страдал, но и стал равнодушным к таким маленьким неприятностям, как эта. С тех пор как ему нечего стало делать, время потеряло значение. Он проводил часы напролет в комнате, сидя в кресле или стоя у окна. Горничной приходилось убирать комнату в то время, когда он спускался в ресторан.
В какой-то момент в дверь постучали. Незнакомец, выглядевший как полицейский в штатском, вручил ему повестку, в соответствии с которой Дейв должен был завтра выступать в качестве свидетеля перед большим жюри.
Дейв пришел во Дворец правосудия за полчаса до начала заседания. Ему показалось, что Уилбур Лейн, разговаривавший с какими-то людьми, сделал вид, что не заметил его.
Не более тридцати человек, в основном женщины, уже сидели на светлых скамьях зала судебных заседаний. Другие же бродили по коридору или разговаривали в углах, куря сигареты.
Дейв заметил доктора Ван Хорна с Джимми, но Ван Хорн повернулся к нему спиной и направился к адвокату, с которым держался довольно фамильярно, словно давно был с ним знаком. Изабель Хавкинс тоже была здесь, на этот раз вместе со своим сыном Стивом, но ни она, ни он не поздоровались с Гэллоуэем.
Молодой журналист спросил почти весело:
— Волнуетесь?
В ответ Дейв лишь вымученно улыбнулся. Он надеялся увидеть сына, не зная, что тот уже полчаса находился в кабинете окружного прокурора.
За несколько минут до того, как в коридоре прозвенел колокольчик судебного пристава, Лейн, похоже, заметил Дейва.
— Я вас вызвал на всякий случай. Я задам вам два-три безобидных вопроса. Вполне возможно, что я вовсе не стану вас вызывать. Как бы там ни было, не волнуйтесь.
— Я не буду присутствовать в зале?
— Нет, до тех пор, пока не дадите свидетельские показания…
Не вызвал ли его Лейн нарочно, чтобы избавиться от его присутствия в зале во время прений? Свидетелей позвали и ввели в комнату, вдоль стен которой стояли скамьи со спинками. В комнате также были медные плевательницы, графин с водой и картонные стаканчики. Среди свидетелей находился и лейтенант, допрашивавший его в воскресенье утром. Он был свежевыбрит. Лейтенант крепко пожал Гэллоуэю руку в знак приветствия. Изабель Хавкинс села на одну из скамей рядом со своим сыном Стивом, который вполголоса разговаривал с Джимми Ван Хорном.
В комнате были и другие, незнакомые Дейву люди, в частности женщина лет тридцати, одетая во все черное. Он часто чувствовал на себе ее пристальный взгляд.
Первым вызвали не лейтенанта, а другого полицейского в форме, несомненно, того, кто обнаружил грузовичок на обочине дороги. Невозможно было расслышать, о чем он рассказывал в соседней комнате, поскольку их разделяла и вторая, обитая дверь. Однако до них иногда доносился его приглушенный голос и, более четко, стук молотка судьи по столу.
Пришла очередь второго полицейского покинуть комнату свидетелей. Наконец вызвали лейтенанта, который оставался в зале заседаний дольше двух первых полицейских. Дав свидетельские показания, они больше не возвращались в комнату. Возможно, они оставались в зале. Или покидали Дворец правосудия? Дейв не знал, как это происходило, поскольку никогда прежде не присутствовал на заседании большого жюри. Совсем недавно, еще в коридоре, он слышал, как кто-то с важным видом говорил, что все закончится очень быстро, что в принципе это было простой формальностью, поскольку молодые люди ничего не отрицали.
Четвертый свидетель был похож на врача, вероятно, на того, кто осматривал тело Чарльза Рэльстона.
Если Гэллоуэй правильно понимал, сейчас суд, вызывая свидетелей, устанавливал факты. Затем вызвали женщину в трауре, после чего в судебном заседании наступил перерыв. Было слышно, как в коридоре, куда все бросились курить, раздался топот ног. Свидетели же не имели права покидать комнату. Около двери сидел констебль, готовый помешать им выйти.
Когда в дверях появился судебный пристав, Изабель Хавкинс хотела было встать, полагая, что наступила ее очередь, однако тот подал знак Гэллоуэю.
В зале было гораздо светлее, чем в маленькой комнате, которую Дейв только что покинул. Из-за жары были открыты настежь два больших окна, выходивших в парк, и поэтому в зал доносился уличный шум. На скамьях сидели человек сто или даже сто пятьдесят. Гэллоуэй узнал владельца гаража, парикмахера и старую миссис Пинч. Но только владелец гаража приветствовал его, взмахнув рукой.
Обернувшись, Дейв увидел судью. Судья один сидел за столом, напоминавшим трибуну, у подножия которой за одним и тем же столом вместе с журналистами расположились окружной прокурор и его помощники.
Бен сидел на скамье слева, напротив присяжных, вместе с Лилианой. Они, внимательно следя за всем, что происходило в зале, иногда, увидев новое лицо, наклонялись друг к другу, чтобы обменяться впечатлениями.
Гэллоуэй поднял руку и повторил:
— Клянусь!
После этого его пригласили сесть лицом к присяжным и зрителям. К Дейву подошел Лейн.
— Сначала мне бы хотелось, чтобы свидетель сказал нам, сколько лет было его сыну, когда миссис Гэллоуэй покинула семейный очаг. Отвечайте.
— Шесть месяцев.
— С тех пор вы не расставались с сыном?
— Никогда.
— Вы когда-нибудь думали жениться во второй раз?
— Нет.
— У вас есть сестра или какая-нибудь родственница, близкая или дальняя, жившая в вашем доме или регулярно навещавшая вас?
Дейву почудилось, что он увидел на губах Бена ухмылку, словно тот предугадывал, куда клонит адвокат.
— У вас тем более не было няни?
Дейв покачал головой.
— Друзья приходили к вам с женами?
На все вопросы Дейв мог отвечать лишь отрицательно. Теперь улыбался не только один Бен. Зрителей, сидевших в зале, забавляло его замешательство.
— Если я правильно понимаю, в детстве и частично в отрочестве ваш сын не видел в доме ни одной женщины?
Это открытие поразило самого Дейва.
— Совершенно верно. За исключением домработницы, приходившей два раза в неделю.
Дейв решил продолжить.
— Вот еще что! Я вдруг подумал, что Бен был в школе, когда она приходила.
В зале раздался смех, судье пришлось стукнуть молотком. Судья был невзрачным мужчиной среднего возраста.
— У меня все, мистер Гэллоуэй, — сказал Лейн.
Лейн повернулся к окружному прокурору.
— Если вы хотите провести перекрестный допрос…
Темпль заколебался и о чем-то спросил молодого человека, сидевшего по его левую руку.
— Один вопрос. Правда ли, что в субботу 7 мая, то есть на предыдущей неделе, свидетель не смог из-за простуды пойти к своему другу, как он это обычно делал каждую субботу?
— Совершенно верно.
— У меня все, — тихо сказал окружной прокурор, делая какие-то записи.
Дейв не знал, что делать, спрашивал себя, следует ли ему уйти, но, увидев пустое место на первой скамье, решил сесть.
Гэллоуэй сидел напротив своего сына, менее чем в пяти метрах от него. Бен, делая это не нарочно, ни разу не повернулся в сторону отца. Их взгляды встретились только однажды.
Для Бена сейчас был важен не отец, а Лилиана, которой он время от времени улыбался, и, возможно, толпа, наблюдавшая за ним.
В течение всего судебного заседания Дейв напрасно пытался привлечь к себе внимание сына. Он даже кашлянул так громко, что судья с упреком посмотрел на него.
Было очень важно, чтобы Бен взглянул на отца, чтобы он осознал, какие перемены произошли в нем. Дейв расслабился, его лицо было безмятежным. На его губах играла легкая улыбка, походившая на улыбку сына. Это было своего рода посланием, которое Бен упорно продолжал не замечать.
Гэллоуэй покинул свидетельское место. На стул села Изабель Хавкинс, положив сумку на колени. Кавано подошел ближе, чтобы задать ей вопросы. Он держался намного проще, чем Лейн.
— Как долго ваша дочь регулярно встречалась с Беном Гэллоуэем?
Изабель Хавкинс тихо ответила:
— Насколько я знаю, в течение трех месяцев.
— Громче! — раздался голос в зале.
Она повторила громче:
— Насколько я знаю, в течение трех месяцев.
— Он регулярно приходил к вам?
— Он приходил к нам и раньше, к моему сыну Стиву, но тогда он еще не обращал внимания на мою дочь.
— Что произошло в прошлую субботу?
— Вы прекрасно об этом знаете. Она уехала с ним.
— Вы видели, как она уезжала?
— Если бы я это увидела, я помешала бы ей.
— Предприняли ли вы какие-либо меры потом?
— Я пошла к мистеру Гэллоуэю, поскольку испугалась, что мой муж наделает глупостей, если я отпущу его одного.
— Мистер Гэллоуэй знал, что его сын уехал с Лилианой?
— Он знал, что его сын уехал, но не знал с кем.
— Он удивился?
— Я не могу ответить на этот вопрос.
Вероятно, были заданы и другие вопросы, но Дейв не обращал на них внимания. Его лицо по-прежнему выражало своеобразное послание, которое он тщетно пытался передать сыну.
На перекрестном допросе окружной прокурор спросил:
— После того как вы поняли, что ваша дочь уехала, вы сделали новое открытие?
— Недельная зарплата моего мужа исчезла из коробки.
Затем наступила очередь Джимми Ван Хорна. Он все время искал глазами сидевшего в зале отца и неизменно повторял:
— Да, ваша честь… Нет, ваша честь… Да, ваша честь…
Однажды, когда Бен пришел к нему, он показал ему автоматический пистолет доктора, и Бен попросил его продать оружие.
— Он заплатил вам пять долларов?
— Да, ваша честь.
— Он отдал их вам?
— Нет, ваша честь, только три доллара. Еще два доллара он должен был мне отдать на следующей неделе.
В зале снова послышался смех. Большинство присяжных, среди которых были две женщины, сидели неподвижно, напряженно застыв, как на семейной фотографии.
Гэллоуэй не сразу понял, почему судья встал и надел шапочку, нечленораздельно пробормотав какие-то слова. Это означало, что судебное заседание вновь прерывалось, на сей раз на час, чтобы все смогли пообедать. Только присяжные и еще не выступавшие свидетели не имели права уйти.
— Полагаю, — сказал Дейву адвокат, — вас бесполезно просить не присутствовать на вечернем заседании?
Дейв просто кивнул головой. Почему он не должен был присутствовать, если ему выпадал шанс увидеть Бена и находиться рядом с ним?
— Будут выступать два психиатра. Если они не станут говорить слишком долго, есть вероятность, что окружной прокурор произнесет обвинительную речь сегодня. Так же вполне возможно, что я тоже выступлю. В таком случае все закончится сегодня вечером.
Дейв никак не отреагировал. Он смотрел на происходившее вокруг него так, словно это непосредственно не касалось его. Поскольку его сына увели, Дейв отправился перекусить в ресторан, напоминавший «Макс Ленч». Почти все были там, но на него никто не обращал внимания. Один только владелец гаража из Эвертона подошел и пожал Дейву руку, говоря:
— Как же на улице жарко!
Один из психиатров был пожилым мужчиной, говорившим с иностранным акцентом. Другой же был среднего возраста. Уилбур Лейн из кожи вон лез, употребляя в своих вопросах те же термины, которыми пользовались и они. Впрочем, судя по всему, эти термины были хорошо ему знакомы.
Несколько раз Дейв чувствовал, как судья смотрел на него. Возможно, это получилось случайно. Судья был вынужден сидеть напротив толпы в течение нескольких часов. Должен же был он на кого-то смотреть!
Было принято решение объявить последний перерыв, всего на несколько минут. Бен и Лилиана оставались в зале. Изабель Хавкинс воспользовалась этим, чтобы поговорить с дочерью. Констебль не стал ей мешать. А Дейв не осмелился подойти к сыну, опасаясь, что это не понравится Бену. Как бы ему хотелось, чтобы Бен посмотрел на него и понял, что его отец преодолел длинный путь!
Окружной прокурор говорил в течение двадцати минут монотонным голосом. Затем наступила очередь Кавано, который был еще более краток, и, наконец, Уилбура Лейна.
Присяжные отсутствовали не более получаса. Незадолго до их возвращения в зал привели Бена и Лилиану, которые по-прежнему вели себя раскованно. Лилиана даже помахала рукой кому-то из своих знакомых, сидевших в зале.
Не прошло и пяти минут, как все закончилось. Большое жюри единодушно решило обвинить Бена Гэллоуэя в убийстве первой степени, а Лилиану Хавкинс — в пособничестве, и отправить дела их обоих на рассмотрение Верховного суда графства.
Во время чтения приговора Дейв так напряженно всматривался в лицо сына, что у него заболели глаза. Он был почти уверен, что заметил, как у того немного дрожали губы и раздувались ноздри. Но Бен почти сразу сумел улыбнуться и повернулся к Лилиане, улыбнувшейся ему в ответ.
Бен не смотрел на отца. В возникшей суматохе Дейв напрасно старался попасться сыну на глаза, а вскоре и вовсе потерял его из вида. Он услышал озлобленный голос Лейна:
— Я сделал все, что было в человеческих силах. Он сам этого захотел.
Гэллоуэй не держал на адвоката зла. Дейв не любил его, как не любил Мьюсельмана, но против Лейна он не имел ничего конкретного.
— Благодарю вас, — вежливо сказал он адвокату.
Лейн, удивившись такой смиренности, продолжал:
— Верховный суд соберется не раньше чем через месяц. Возможно, за этот срок я найду новые аргументы.
Дейв не осознавал, что, пожимая руку адвокату, он улыбался ему той же самой улыбкой, которая играла на губах его сына весь день.
Улицы были залиты солнцем. Владелец гаража увозил в своей машине парикмахера и старую миссис Пинч.
Глава девятая
На следующий день Гэллоуэй открыл свой магазин в обычное время, а в субботу отправился к Мьюсаку. Он ни о чем не говорил, издали смотрел на игроков в бейсбол, бегавших под лучами заходящего солнца, а затем сыграл партию в триктрак со столяром, который курил свою починенную трубку.
Вероятно, вначале вдовец испытывал те же чувства, что и он, когда ему случалось оборачиваться, чтобы поговорить с Беном, или когда он с нетерпением смотрел на часы, думая, что его сын опаздывал. По крайней мере один раз, утром, он с удивлением заметил, что на сковороде жарились яйца на двоих.
Тем не менее это прошло быстро. Присутствие Бена всегда ощущалось не только в квартире, но и в магазине, на улицах, по которым тот ходил. Гэллоуэй нуждался в физическом присутствии сына гораздо сильнее, чем раньше.
Возможно, происходившая в нем работа началась еще до заседания большого жюри или в субботу вечером, например когда Дейв сидел в зеленом кресле и ждал сына, не надеясь на его возвращение, или же еще раньше?
Он всю жизнь наблюдал за сыном и не понял его до того момента, когда увидел Бена в суде, беззаботного, с улыбкой на губах.
Однажды утром на неделе Дейв повесил табличку на застекленную дверь магазина и направился к Мьюсаку, работавшему в своей мастерской. Краснея, словно боялся выдать самую интимную тайну, он вытащил из конверта три фотографии.
— Я хотел бы, чтобы вы сделали одну рамку для этих фотографий, — сказал он, кладя на верстак фотографии в определенном порядке. — Простую рамку, багет из натурального дерева.
На первой фотографии был запечатлен его отец, в возрасте примерно тридцати восьми лет, именно такой, каким Дейв помнил его, с усами, подчеркивавшими немного насмешливое выражение лица. Вторая была его собственным портретом, сделанным, когда он, в двадцать два года, поступил на работу в мастерскую Уотербери. Казалось, что тогда его шея была более длинной и худой. Голова была немного повернута в сторону, а уголки губ слегка приподняты.
На последней фотографии был Бен. Ее сделал один из приятелей Бена месяц назад. У него тоже была длинная шея. Бен впервые сфотографировался с сигаретой.
Мьюсак принес рамку в тот же день, ближе к вечеру, и Дейв сразу же повесил ее на стену. Ему казалось, что эти три портрета служили объяснением всему тому, что произошло. Однако он отдавал себе отчет, что только он один мог понять и что на него будут смотреть с изумлением, если он попытается поделиться своими чувствами с другими, например с Уилбуром Лейном.
Разве взгляд трех мужчин не передавал ту же самую тайную жизнь, вернее, жизнь, которой пришлось замкнуться в себе? Взгляд робких, почти смирившихся людей, в то время как одинаково вздернутый уголок губ свидетельствовал о постоянной готовности к бунту.
Все трое они принадлежали к одинаковой породе, отличной от породы Лейнов, Мьюсельманов или его матери. Дейву казалось, что во всем мире существует только два типа людей: те, кто склоняет голову, и все остальные. Будучи ребенком, он уже думал об этом в более образных выражениях: те, кому задают порку, и те, кто задает порку.
Его отец склонил голову, всю свою жизнь вымаливая ссуды у банкиров. Он и умер в приемной банкира. Но эта ирония судьбы, не заставила ли она его улыбнуться в последний момент?
Однажды отец совершил поступок, который можно было расценить как бунт. Но затем его каждый день заставляли дорого платить за содеянное. Многие годы спустя мать Дейва по-прежнему вспоминала об этом инциденте. Она старалась очернить память отца, говоря сыну:
— Ты всегда будешь всего лишь Гэллоуэем!
Это случилось еще до рождения Дейва. Никто, кроме его отца, не знал в точности, что именно произошло. Вечером 4 июня отец просто не вернулся домой. Мать позвонила в его клуб, нескольким друзьям, но так ничего и не узнала. Отец пришел на следующее утро в восемь часов. Напрасно он попытался пройти в свою комнату незамеченным и точно так же напрасно хотел стереть следы помады на воротнике рубашки.
За эту выходку отца упрекали всю его жизнь, и каждый раз он склонял голову. Тем не менее Дейв был уверен, что отец гордился своим поступком. Иногда, когда мать Дейва слишком резко говорила с ним, отец подмигивал сыну, словно ребенок мог понять его.
Не по этой ли причине он каждый день выпивал определенное количество стаканчиков бурбона, никогда слишком много, чтобы опьянеть, но достаточно, чтобы немного отрешиться от действительности?
Дейв никогда не пил. Он строил свою жизнь по хорошо ему знакомому образу, однако и он однажды поднял бунт, более необузданный, чем бунт отца. Женившись на Рут, он бросил вызов, хотя в точности не знал, чему и кому, всему миру, всем Мьюсельманам, всем Лейнам на земле.
Он нарочно выбрал ее — такую, какой она была. Если бы он нашел на улице другую, он, несомненно, отдал ей предпочтение.
Он мог бы когда-нибудь рассказать Бену о бунте его отца в Виргинии, но, к сожалению, он не мог рассказать о своем бунте. Кто знает? Возможно, его сын когда-нибудь поймет это сам.
Что искал Дейв во взгляде сына, когда тот был еще ребенком? Может быть, след, знак подобного бунта. В то время это внушало ему страх. Он чуть ли не желал, чтобы его сын принадлежал к другой породе.
Но у Бена был их взгляд, взгляд его отца и его самого, всех других, которые походили на них. Некоторые в течение всей своей жизни прилагали усилия, чтобы их бунт не вырвался наружу. Другие же бунтовали.
Два психиатра обсуждали поведение Бена, не зная, что один раз в своей жизни его дед не пришел ночевать домой и что его отец женился на самке, переспавшей со всеми его приятелями. Бен же в свои шестнадцать лет почувствовал необходимость покончить с этим.
У Дейва была причина поместить три фотографии в одной рамке. Трое мужчин были солидарны. Каждый из них был в своем роде этапом одной и той же эволюции.
Еще прежде редко случалось, чтобы в какой-нибудь день Дейв не думал об отце. Теперь его отец присутствовал в доме почти так же явно, как Бен.
Мать Дейва не написала ему, не приехала его навестить. Она, должно быть, сказала Мьюсельману:
— Я всегда предсказывала, что это плохо кончится!
Это было правдой. Уилбур Лейн тоже сразу же предсказал, что Бену вынесут обвинительный приговор и он предстанет перед Верховным судом. Такие люди всегда правы.
Отныне все происходило так, словно завершился очередной цикл. Дейв работал, как обычно, открывал и закрывал магазин, делая такие же размеренные движения. Он убирал на ночь с витрины часы и украшения в сейф, делал покупки в государственном универмаге и поднимался в квартиру, чтобы приготовить себе обед.
Обитатели деревни уже перестали смотреть на него с любопытством. Теперь он удивлял их, возможно, даже шокировал, говоря с ними о Бене так, словно ничего не случилось. Весь день, куда бы Дейв ни шел, Бен был с ним, в нем.
Целый месяц не было дождя. Мужчины выходили на улицу без пиджаков. Полицейские вернули Дейву грузовичок, которым он пользовался в случае необходимости.
Уилбур Лейн провел целый день в Эвертоне, расспрашивая учителей, приятелей Бена, торговцев, но с Дейвом встретился лишь на минуту.
— Заседание назначено на следующий вторник.
— Как Бен?
Лицо адвоката помрачнело.
— К сожалению, все такой же.
На этот раз все было гораздо серьезнее. Слушания продолжались три дня. Дейв жил в гостинице, в той же комнате, обклеенной обоями со светло-зелеными полосами на темно-зеленом фоне. Гостиница была переполнена. Многочисленные журналисты приехали из Нью-Йорка и других мест, причем не только с фотографами, но и теле- и кинооператорами. На первом же заседании судья постановил, что в зал не будет допущен ни один человек с аппаратурой, и они бродили всюду, по залу ожидания, коридорам и даже по холлу гостиницы, где остановилось большинство свидетелей.
Бен не похудел и даже стал не таким угловатым. Как и в первый раз, его отец провел некоторое время в комнате свидетелей. Он дал себе слово, что при первой же возможности попытается объяснить, хотя бы одному Бену, что ему удалось открыть. Не обязательно все, только главное. Он нарочно не стал ничего сообщать Лейну.
Вероятно, адвокат не доверял ему, поскольку задал лишь несколько безобидных вопросов, прерывал, едва Дейв пытался развить свою мысль.
Когда Дейв покидал свидетельское место, ему удалось быстро сказать:
— Я солидарен со своим сыном.
Никто не смог его понять. У Дейва возникло ощущение, что его слова вызвали замешательство, словно он нарушил правила приличия.
Когда чуть позднее Дейв взглянул на сына, он проникся уверенностью, что тот тоже его не понял. Несколько раз во время судебного заседания Бен бросал на него любопытные взгляды. Теперь он не сидел рядом с Лилианой. Их разделяли надзиратель и надзирательница. Судебные прения происходили в более просторном зале, более торжественно. Тем не менее во время перерывов зрители точно так же устремлялись в коридор, чтобы покурить или выпить кока-колу.
В последней день Дейв заметил в зале более тридцати человек, приехавших из Эвертона на автобусе. Дверь была открыта, чтобы зрители, толпившиеся в коридоре, могли все слышать.
Дейву оставили прежнее место, во втором ряду, между молодым адвокатом из Покипси и женой одного из магистратов. Уилбур Лейн говорил в течение двух с половиной часов. Около пяти часов вечера присяжные удалились в совещательную комнату.
Почти все вышли из зала. В шесть часов, в семь часов на каменной лестнице, у подножия белых колонн Дворца правосудия еще толпились люди. От мужчин, возвращавшихся из ближайшего бара, пахло спиртным.
Некоторые, проходя мимо Дейва, приветствовали его взмахом руки. Другие, вероятно, удивлялись его спокойствию. Он знал, что они не осмелятся убить его сына. Позднее, поскольку Дейв имел на это право, он будет ходить к нему на свидания в тюрьму. Постепенно, не пытаясь забежать вперед, он объяснит Бену, что они составляли единое целое. Разве ему самому не потребовались годы, чтобы это понять?
В сумерках одновременно зажглись все фонари. С двух сторон Мейн-стрит вспыхнули неоновые вывески, вокруг голов закружилась мошкара. Сведущие люди, которым порой удавалось узнать новости, говорили остальным:
— Они все еще не могут прийти к согласию, особенно в отношении девушки. Они попросили, чтобы пришел председатель суда.
В половине одиннадцатого толпа наконец зашевелилась. Все бросились в зал заседаний. При искусственном освещении зал напоминал скорее методистскую церковь или конференц-зал.
Почти четверть часа места Бена и Лилианы пустовали. Когда их привели, Дейв заметил, что черты лица Бена как-то исказились, возможно, из-за освещения.
Вошел суд, затем присяжные. Председатель суда встал в полнейшей тишине, держа в руке бумагу. Он начал читать:
— Вышеназванные Бен Гэллоуэй, шестнадцати лет, и Лилиана Хавкинс, пятнадцати с половиной лет, оба жители Эвертона, штата Нью-Йорк, были признаны виновными в убийстве первой степени и приговорены к смертной казни. Тем не менее, учитывая их возраст, присяжные рекомендовали заменить смертную казнь пожизненным заключением.
В зале кто-то зарыдал, но рыдание походило скорее на крик. Это была Изабель Хавкинс, которую сопровождал муж, трезвый, одетый, словно на свадьбу.
Искал ли Бен отца глазами, когда его собирались уводить? Во всяком случае, их взгляды встретились. Губы Бена задрожали, немного приподнялись с одной стороны, как на всех трех фотографиях.
Дейв постарался вложить в свой взгляд все, что хотел выразить, раствориться в своем сыне, который вскоре исчез за небольшой лакированной дверью.
У Дейва не было времени посмотреть на Лилиану.
Через несколько дней газеты и радио сообщили, что Бен Гэллоуэй был переведен в Синг-Синг, а девушку отвезли в женскую тюрьму.
Затем Дейв получил письмо от Уилбура Лейна, в котором тот сообщал о сумме своего гонорара и понесенных расходах. Он также сообщил, что Дейв имеет право писать письма сыну два раза в месяц и, если тот будет себя примерно вести, навещать его раз в месяц.
Это было совсем рядом, в двадцати трех милях, на берегу Гудзона. Дейв заплатил Лейну, и у него не осталось почти никаких сбережений. Но это больше не имело значения. Это было даже лучше. Что он стал бы делать с деньгами?
Первое посещение оказалось самым трудным, поскольку Бен еще не смягчился, продолжая считать отца чужаком, словно они не принадлежали к одной и той же породе.
Дейв даст ему необходимое время, чтобы он понял, что в жизни всех троих был бунт, каждый из них нес ответственность и вне стен тюрьмы он платил ту же цену, что и его сын.
Разве они, все трое, не думали, что, взбунтовавшись, добьются освобождения?
— Ты хорошо питаешься? — спрашивал Дейв.
— Неплохо.
— Еда не слишком противная?
Это были не те слова, которые имели значение. Они, как «да, сэр», которые произносил негр в солнечной Виргинии, были своего рода заклинаниями.
— Работа тяжелая?
Бена определили в переплетную мастерскую, и все его пальцы были исколоты. Некоторые ранки, похоже, начинали гноиться.
Почти через два месяца газеты вновь неожиданно заговорили о деле. Они сообщали, что Лилиана Хавкинс была беременна и что в надлежащий срок ее переведут в другое исправительное учреждение, где она сможет оставить ребенка при себе.
Когда Дейв снова увидел своего сына, тот не заговорил с ним об этом. Однако отныне взгляд Бена стал таким же смиренным и меланхоличным, как у всех Гэллоуэев.
Кто знает? Теперь, когда судьба была предрешена, возможно, начинался другой цикл.
Часто в квартире, в магазине и даже на улице Дейв вполголоса разговаривал с отцом и сыном, повсюду сопровождавшими его. Вскоре он будет говорить со своим внуком и раскроет ему их секрет.
Шэдоу Рок Фарм, Лейквиль, Коннектикут,
24 марта 1954 года
Жорж Сименон — один из самых известных в мире детективных авторов. Его произведения переведены на большинство языков мира и экранизированы. Кроме цикла о комиссаре Мегрэ Сименон написал еще множество детективов, с восторгом принятых критикой и читателями. Он нашел свой собственный путь в детективном жанре. Его романы и новеллы не леденят душу жестокими и бессмысленными убийствами, его персонажи — не маньяки, проливающие реки крови. Они — обычные люди, живущие среди нас…
Что ждет нового консула молодой Турецкой Республики в Батуми? Любовь! Но разве в стране, где процветают доносы и произвол ГПУ, а голод и нищета прикрываются громкими лозунгами, этому чувству дадут расправить крылья?
(«Люди, живущие по соседству»)
Дейв Гэллоуэй — отец, один воспитывающий сына; шестнадцатилетний Бен — тихий и послушный мальчик… который однажды угнал отцовский грузовичок и скрылся в неизвестном направлении. А еще юноша купил пистолет, и выстрелы не заставят себя долго ждать…
(«Часовщик из Эвертона»)
Ревность и месть, алчность и корысть, раздражительность и жестокость, непримиримость и равнодушие — вот первопричины преступлений и жизненных тупиков, куда попадают герои детективно-психологических драм Сименона.
Внимание!
Текст предназначен только для предварительного ознакомительного чтения.
После ознакомления с содержанием данной книги Вам следует незамедлительно ее удалить. Сохраняя данный текст Вы несете ответственность в соответствии с законодательством. Любое коммерческое и иное использование кроме предварительного ознакомления запрещено. Публикация данных материалов не преследует за собой никакой коммерческой выгоды. Эта книга способствует профессиональному росту читателей и является рекламой бумажных изданий.
Все права на исходные материалы принадлежат соответствующим организациям и частным лицам.
Примечания
1
Предисловие написано для журнала «Les Annales», в котором с 1 сентября по 13 октября 1933 года состоялась предварительная публикация романа. (Здесь и далее примеч. пер.)
(обратно)2
Города Турции, расположенные на Черном море.
(обратно)3
У восточных народов курительный прибор, сходный с кальяном, но имеющий, в отличие от последнего, вместо трубки длинный рукав.
(обратно)4
Мустафа Кемаль Ататюрк (1881–1938) — видный турецкий политик, первый президент Турецкой республики.
(обратно)5
От турецкого «mezeler» — «всего понемногу», набор всевозможных закусок, подаваемых на маленьких тарелочках.
(обратно)6
Вы говорите по-немецки? (нем.).
(обратно)7
Конечно (нем.).
(обратно)8
Кабестан — шпиль, лебедка с барабаном, насаженным на вертикальный вал, для подтягивания речных судов у причалов, выбирания судовых якорей и т. п.
(обратно)


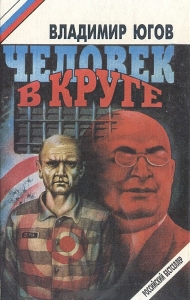
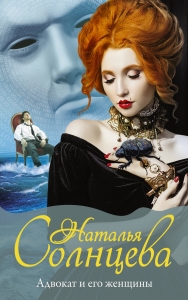


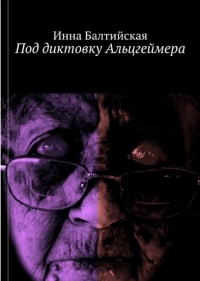


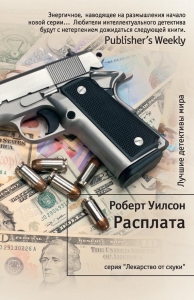



Комментарии к книге «Люди, живущие по соседству. Часовщик из Эвертона», Жорж Сименон
Всего 0 комментариев