Либба Брэй Логово снов Роман
Посвящается Альвине и Крейгу.
Настоящая любовь – вот лучшее, что есть на свете. Конечно, кроме леденцов от кашля – это все знают.
Уильям Голдман «Принцесса-невеста»А еще – Алексу Хиллиану, 1970–2013.
Сладких снов, Сенатор
Не может быть такого, чтобы я не спал, – все выглядит не так, как раньше. Или это я наконец проснулся, а все, что прежде, было скверным сном.
Уолт УитменВерить в сны – значит всю свою жизнь провести во сне.
Китайская пословица* * *
Libba Bray
The Lair Of Dreams
Печатается с разрешения автора и литературных агентств Baror International, Inc. и Nova Littera SIA
Text copyright © Martha E. Bray, 2014
© А. Осипов, перевод на русский язык
© ООО «Издательство АСТ», 2017
Часть первая
День первый
Город под городом
Нью-Йорк, 1927 год
Всякий город – призрак.
Новые здания вздымаются на костях старых, так что каждая сияющая стальная балка, каждая кирпичная башня хранит в себе воспоминания прошлого – стаю эдаких архитектурных привидений. Иногда эти прошлые воплощения города вдруг мелькнут перед глазами в странном повороте улицы или в филигранных воротах; в древней дубовой двери, глядящей с современного фасада; в табличке, напоминающей, что здесь когда-то было поле битвы, которое потом превратилось в бар, а потом, представьте себе, в парк.
И под землей – все то же самое.
Город растет и ниже улиц. Рельсы вгрызаются в Бруклин, в Квинс, в Бронкс. Тоннели сокращают расстояние между возможным и невозможным – слишком уж много народу нужно доставить из пункта А в пункт Б, так что амбиции города не заканчиваются на уровне земли. Вой отбойных молотков и лязг мотыг серенадами славят работяг, без устали долбящих камень для нового рукава подземки. Пот намертво приштукатуривает к людям каменную пыль, слой за слоем, – так что и не скажешь, где заканчивается человек и начинается мрак. Молот то откусывает породу по кусочку – тяжкая это работа, монотонная, – то вдруг слишком быстро проламывается сквозь скалу.
– Глядите! Скорее глядите!
Целая земляная стена рушится на глазах; рабочие кашляют и кашляют, задыхаясь в спертом воздухе. Один, ирландец по имени Патрик, из иммигрантов, вытирает взмокший лоб грязным рукавом и таращится в громадную дыру, оставленную буром. На другой стороне высятся ворота из кованого железа, насквозь проржавевшие – один из призраков минувших времен. Патрик светит сквозь прутья ручным фонариком, и ржа вдруг вспыхивает цветом, будто высохшая кровь из старой раны.
– Я – туда, – говорит он и ухмыляется остальным. – Может, там есть чем поживиться.
Он хватается за створку и тянет, и ворота с визгом открываются, и вот в забитую пылью нору, в забытый кусок городского прошлого уже набивается целая толпа. Ирландец аж присвистывает, когда луч фонаря принимается скакать по залу, похожему на склеп, высвечивая то деревянные панели, посеревшие от паутины, то мозаику изразцов, почти неразличимую под наслоениями сажи, то люстру, опасно болтающуюся на оборвавшейся цепи. Наполовину погребенный под кучей земли, рядом стоит вагон. Колеса, ясное дело, неподвижны, но выглядит он в темноте так, что кажется, будто слышишь слабый вой металла, трущегося о металл, словно до сих пор висящий в здешнем законсервированном воздухе. В луче света поблескивают рельсы, убегающие назад, в мертвый тоннель. Люди подтягиваются ближе и вглядываются во мглу – это как глядеть в отверстую пасть ада, где рельсы вместо языка. Тоннель уходит в бесконечность, но тьма своих тайн выдавать не расположена.
– И что у нас там такое? – спрашивает вполголоса Патрик.
– Подпольный бар с бухлом, – говорит другой рабочий, Майкл, хихикая.
– Шикарно. Я бы, пожалуй, уговорил стаканчик, – балагурит Патрик, пробираясь внутрь и все еще надеясь на какой-нибудь забытый клад.
Остальные тянутся за ним. Все они – незримые труженики города, его зодчие, сами подобные призракам – чего им бояться тьмы?
Один только Сунь Ю мнется на пороге. Темноту он на самом деле ненавидит… но работа ему нужна, а когда ты китаец, работа на дороге не валяется. Он и так-то сюда попал только потому, что делил конуру без горячей воды с Патриком и еще несколькими парнями у себя, в Чайнатауне, и ирландец замолвил за него словечко боссу. Не стоит лишний раз привлекать к себе внимание… так что он тоже лезет в дыру. Пробираясь через кучи осыпавшейся земли и кирпича на путях, он вдруг обо что-то спотыкается. Патрик рыщет по рельсам фонариком и высвечивает прехорошенькую музыкальную шкатулку с заводной ручкой сверху. Он поднимает игрушку и невольно любуется работой – таких уже больше не делают. Он поворачивает рычажок на цилиндре, и изнутри тренькает нота за нотой. Патрик это уже явно слышал, песенка из старых, да вот только никак не вспомнить…
Он подумывает взять шкатулку с собой, но почему-то кладет назад.
– Давайте-ка глянем, что тут еще за сокровища спрятаны.
Патрик рыщет лучом во все стороны – и тот вскоре натыкается на костяную ногу. Под закругленной стеной лежит высохшее тело, почти сожранное гнилью, крысами и временем. Разговоры тут же стихают. Все молча таращатся на клочья волос, истончившихся до подобия сахарной ваты, на рот, раззявленный, словно в последнем крике. Несколько рабочих крестятся. Конечно, они многое оставили позади, чтобы приехать в эту страну, но за любимые суеверия обычно держишься до последнего.
Сунь Ю очень не по себе, да только в его английском слов не хватает, чтобы выразить такие чувства. Эта женщина явно плохо кончила, очень плохо. Дома, в Китае, он бы непременно прочитал над ней молитвы, устроил бы правильные похороны – всем известно, что без этого дух не упокоить. Но тут-то Америка – у них все по-другому.
– Плохая примета, – говорит он наконец, и никто с ним не спорит.
– Точняк. Пошли отсюда, парни, – заключает Патрик с тяжким вздохом.
Все лезут обратно через дыру. Закрывая ворота, Патрик с сожалением окидывает взором раскопанную станцию. Скоро от нее ничего не останется, снесут до основания, чтобы дать дорогу новым артериям подземки, – городу ведь нужно расти. Прогресс, видишь ли, не остановить.
– Безобразие, – бросает он в сердцах.
А секунду спустя тонкое зудение бурильных молотков снова вплетается в неумолкающий грохот поездов: песнь города эхом разносится по тоннелям. Внезапно рабочее освещение меркнет. Все замирают. По тоннелю проносится порыв ветра, почти ласково касаясь их взмокших лиц. Он несет затихающий плач… и вот уже нет его. Свет снова вспыхивает. Рабочие пожимают плечами: ну, да, одна из тех странностей, которыми так богат город под городом, – и снова принимаются за работу. Машины выворачивают землю, хороня за собой историю.
Потом, позже, изможденные рабочие возвращаются к себе в Чайнатаун, взбираются по лестнице в общую комнату и валятся на кровати как были, c запекшейся под ногтями грязью бессонного города. Они слишком устали, чтобы мыться, но, увы, недостаточно – чтобы видеть сны. Потому что сны – это тоже призраки, желания, на которые охотишься всю ночь, а поутру – раз, и пропали. Сонные желания влекут к себе мертвых, и уж чего-чего, а снов в этом городе предостаточно.
Парням снится музыкальная шкатулка и ее песенка – привет из давно ушедших времен.
«Милый мечтатель, узри же меня; звезды и росы заждались тебя…»[1]
Песня проникает в кровь и утаскивает за собой в самые лучшие сны, какие им только доводилось видеть: в этих снах они над землей, в верхнем мире, богаты и знамениты – владетели самых заманчивых благ в стране, благоволящей к владению. Майклу снится, что он управляет собственной строительной компанией. Патрику – ферма далеко за городом, полная лошадей. Сунь Ю видит, как возвращается в родную деревню состоятельным человеком; видит гордость на лицах родителей, которых он везет в прекрасную Америку, а с ними и жену для себя. Ну, да, жену – чтобы было с кем делить горести и радости здешней жизни. Вот она улыбается ему… какое милое лицо! А вон там, рядом с ней, – не его ли дети? Да! О, да! Счастливые сыновья и дочки встречают его вечером на пороге, тащат тапочки и трубку, кричат: «Баба!»[2] – просят сказку.
Сунь Ю тянется к самому младшему, и тут сон рассыпается золой. Перед ним только тоннельная тьма, совсем как сегодня днем. Сунь Ю зовет детей и слышит в ответ тихий плач – мочи нет слушать, так сердце и рвет.
– Не плачь, – утешает он.
Что-то вспыхивает во мгле. На мгновение вожделенная семейная жизнь вновь оживает, словно Сунь Ю подглядывает за своим счастьем в замочную скважину. Кто-то из детей манит его пальчиком, улыбается…
– Помечтай со мной, – шепчет он.
Да. Я готов, думает Сунь Ю. И, отворив дверь, переступает порог.
Внутри холодно, так холодно, что Сунь Ю чувствует это даже во сне. Печка не горит – какой непорядок. Он идет к ней и видит, что это вовсе даже не печка. Она дрожит и идет рябью, а за ней проступают старые кирпичи, гнилые и выщербленные. На краю поля зрения мелькает крыса… останавливается на бегу, нюхает кучу костей.
В ужасе Сунь Ю поворачивается к своей семье – дети больше не улыбаются. Они стоят в ряд и смотрят на него немигающим взглядом.
– Списмотрисонсмотрисонтыдолженспатьспать… – гудит детский хор, а у жены зубы такие острые и глаза горят, как уголья.
Его сердце решает зажить самостоятельно и бросается вскачь. Драться или спасаться… Даже во сне это работает. Сунь Ю хочет проснуться, но сон его не пускает и гневается, что жертва пытается ускользнуть. Когда человек добегает до двери, та с грохотом захлопывается ему в лицо.
– Ты обещал, – рычит сон, голосом густым и низким, как целый хор демонов.
А шкатулочная песенка все играет. Последние хлопья штукатурки облетают с хорошенького фасада, и на смену вдвигается тьма.
Один за другим сновидцы начинают чувствовать спрятавшуюся за красивой маской опасность. Эти видения – ловушка! Пальцы у них деревенеют во сне, словно они пытаются дать сдачи затопляющему разум ужасу – ибо сну ведомы не только их желания, но и страхи. Он может заставить их видеть что угодно. Невыразимые кошмары теперь обступают парней – они бы закричали, если б смогли, да только поздно. Сон забрал их и хватки своей не отпустит. Никогда.
А тем временем на койках Мотт-стрит тела их безвольно обмякают. Но глаза за закрытыми веками продолжают панически метаться, пока людей затягивает в кошмар, от которого им уже не пробудиться – одного за другим, глубже и глубже…
День шестой
Разговор с мертвыми
Зимний ветер трепал разноцветные бумажные фонарики на карнизе «Чайного дома», что на Дойер-стрит. Лишь несколько человек задержались за трапезой в ресторане: тарелки давно чисты, тепло чашек с чаем не дает разомкнуть руки. Повара и официанты хлопотали кругом в надежде закончить наконец смену и предаться заслуженному отдыху за сигарой и несколькими партиями в маджонг.
В задней комнате ресторана семнадцатилетняя Лин Чань сквозь тиковую ширму сверлила взглядом засидевшихся клиентов, как будто могла одной только силой воли заставить мужчин расплатиться и убраться отсюда подобру-поздорову.
– Эта ночь никогда не кончится, – рядом внезапно возник Джордж Хуань – разумеется, c еще одним чайником с кухни.
Лет ему столько же, сколько и Лин, а стáтью он – что твоя борзая, такой же тощий.
– Можно же запереть дверь, – проворчала Лин.
– Чтобы твой папаша меня за это вышвырнул? – Джордж покачал головой и налил ей чаю.
– Спасибо.
Джордж пожал плечами и улыбнулся половиной лица.
– Не трать понапрасну силы, они тебе еще понадобятся.
Дверь отворилась, впуская в «Чайный дом» трех девиц; дыхание их стыло в воздухе белыми шлейфами.
– Это часом не Ли Фань Линь? – Джордж уставился на самую хорошенькую, c алыми губами и короткой, завитой на щипцы стрижкой.
Он машинально опустил чайник и пригладил рукой шевелюру.
– Джордж, не надо… – начала Лин, но он уже махал Ли Фань.
Лин тихонько выругалась, но та уже оставила подруг и плыла к ним мимо лакированных столиков и банок с папоротниками: подол ее расшитого стеклярусом платья так и мёл туда-сюда. Ли Фань гуляла с теми, кого мама Лин называла «прожигами», флаппершами[3] – ясное дело, без особого восхищения.
– Привет, Джорджи, привет, Лин. – Ли Фань села к ним.
Джордж цапнул с подноса чашку.
– Не желаешь ли чаю, Ли Фань?
– О, Джорджи, – расхохоталась она. – Давай ты будешь звать меня Лулу, ладно?
Имя она выбрала, конечно, в честь актрисы, Луизы Брукс – по мнению Лин, ужасный пафос; хуже только те, кто взял моду обниматься при встрече. Сама Лин принципиально не обнималась. Джордж уже наливал гостье чай, украдкой кидая на нее взгляды. Лин доподлинно знала, что в «красавчиках» у Ли Фань недостатка нет, и уж кто-кто, а нескладный, усердный Джордж Хуань – не из тех, на кого она обычно кладет глаз. Эти мальчишки временами такие идиоты, и Джордж, увы, не исключение.
– Что ты сейчас читаешь? – Ли Фань притворилась, что ее живо интересует стопка библиотечных книг под рукой у Лин.
– О способах отравления, так чтобы тебя не поймали, – пробурчала та.
Ли одну за другой изучила обложки: «Физика для студентов», «Азбука атомов», «Атомы и излучение».
– О-о-о, Джейк Марлоу, «Великий американец», – вцепилась она в последнюю.
– Он у Лин герой. Она мечтает когда-нибудь на него работать, – вместо непринужденного смеха у Джорджа вышло какое-то хрюканье.
Лин бы с удовольствием заметила, что хрюканьем девичье сердце не завоевать.
– Чего тебе надо, Ли Фань? – в лоб спросила она.
– Мне нужна твоя помощь, – девушка доверительно наклонилась к ней. – Мое синее платье куда-то делось.
Лин подняла бровь и подождала немного – вдруг та еще что-нибудь скажет.
– Тетя с дядей заказали мне его в Шанхае. Это мое самое лучшее платье, – сообщила Ли Фань.
Лин сделала очень терпеливое лицо.
– Ты хочешь сказать, что потеряла его во сне?
– Конечно, нет! – огрызнулась Ли Фань, бросая взгляд за спину, на стайку девиц, только что во фрунт не вытянувшихся, будто верная свита. – Но тут на днях Грейси была у меня, заходила послушать пластинки с джазом – а ты же знаешь, она вечно просит у меня что-нибудь поносить. И вот сидит она и ест глазами мое синее платье, а ведь оно ей все равно мало – c такими-то огромными плечами, как у нее. В общем, когда я вечером пошла его проверить, платья не было.
Ли Фань поправила шарфик, будто ничто на свете не волновало ее сейчас сильнее, чем беспорядок в туалете.
– Разумеется, Грейси утверждает, что его у нее нет, но я уверена, это она стибрила платье.
Широкоплечая Грейси Лэнь с непроницаемым видом разглядывала свои ногти.
– А от меня-то ты чего хочешь? – вздохнула Лин.
– Чтобы ты перемолвилась словечком с моей бабулей, когда пойдешь опять гулять по снам. Я должна знать правду.
– То есть я должна добраться до твоей бабули, чтобы найти платье? – медленно проговорила Лин.
– Оно очень дорогое, – гнула свое Ли Фань.
– Очень хорошо, – ответила Лин, изо всех сил стараясь не закатить глаза. – Но тебе следует знать, что мертвые далеко не всегда рады поболтать. Я могу лишь попытаться. И, кроме того, они все равно не знают всего на свете, и ответы могут давать уклончивые. Тебя устроят такие условия?
– Да, конечно, все отлично, – отмахнулась от ее предупреждений Ли Фань.
– Тогда с тебя пять долларов.
Алый рот округлился от ужаса.
– Да это же грабеж!
Разумеется, это он и был, но Лин для начала всегда называла цену повыше – и даже еще выше, если запрос был уж очень дурацкий. Например, как этот. Лин снова с сомнением пожала плечами.
– Ты спокойно тратишь столько за вечер в «Падшем ангеле».
– В «Падшем ангеле» я, по крайней мере, знаю, за что плачу, – отрезала Ли Фань.
Лин неторопливо загладила ногтем длинную складку на салфетке.
– Поступай как знаешь.
– Мертвые задешево не работают, – встрял Джордж, решив пошутить.
Ли Фань наградила Лин свирепым взглядом.
– Ты все это выдумываешь, только чтобы привлечь к себе внимание!
– Если ты в это веришь, все так и будет. Если нет, то нет, – просто ответила Лин.
Ли Фань толкнула через стол бумажный доллар. Лин молча проводила его взглядом.
– Мне приходится покрывать затраты. Читать необходимые молитвы. Я никогда себе не прощу, если навлеку на тебя несчастье, Ли Фань, – она даже выдавила четвертушку улыбки, надеясь, что она сойдет за искреннюю.
Ли Фань отстегнула еще банкноту.
– Два доллара – последняя цена.
Лин спокойно прикарманила деньги.
– Мне нужна какая-нибудь вещь твоей бабушки, чтобы найти ее в мире видений.
– Это еще зачем?
– Примерно как собака идет по следу. Она поможет мне отыскать бабушкин дух.
Ли Фань с вымученным вздохом стащила с пальца золотое кольцо и отправила его вслед за деньгами.
– Только смотри не потеряй.
– Это не я у нас тут вещи теряю, – невинно обронила Лин.
Ли Фань встала, посмотрела на свое пальто, потом на Джорджа, который тут же вскочил и кинулся ей его подавать.
– Ты только будь осторожен, Джорджи, – прошептала она громким шепотом, кивая в сторону Лин. – Она тебя, чего доброго, проклянет. Или нашлет сонную болезнь.
Улыбка Джорджа сразу же куда-то испарилась.
– Не шути с этим!
– А почему нет?
– Это к несчастью!
– Все это предрассудки! Мы теперь американцы.
И Ли Фань продефилировала через ресторан, нарочито неторопливо, чтобы все ее как следует разглядели.
Через ажурную ширму Лин смотрела, как вместе со свитой та беззаботно выпорхнула в зимнюю ночь. Ах, если бы им можно было сказать правду: мертвые-то как раз не прочь с ней поболтать – это живых Лин не жаловала.
Холодный ветер на всем скаку вырвался из-за угла Дойер-стрит, и зубы у Лин так и заклацали. Они с Джорджем шли домой, в сторону Малберри-стрит. Прачечные, ювелирные, бакалейные лавки и магазины импортных товаров уже позакрывались, зато всякие увеселительные заведения стояли открытыми – их пропитанные сигаретным чадом залы были заполнены деловыми людьми, старичьем, совсем зелеными новичками, буйными молодыми холостяками: все резались в домино и фан-тан; байки, шутки, деньги и городские амбиции так и кипели на поверхности пеной. Возвышаясь над крышами, молчаливым судией на них взирала колокольня церкви Преображения Господня, торчавшей на краю квартала. Троица туристов, слегка подшофе, вывалилась из дверей ресторана, громко обсуждая, что неплохо бы двинуть на Боуэри, вкусить всяких неправедных наслаждений, так и кишащих там, в тенях, под надземкой на Третьей авеню.
Рядом с Лин вприпрыжку скакал Джордж, вверх-вниз, вверх-вниз, будто бегун с препятствиями, каковым он, кстати сказать, и был. Для такого худышки он был на диво силен, этот Джордж. Лин не раз видела, как он таскает тяжеленные подносы, будто пушинку, да и бегать он мог без устали, милями; тут она ему даже завидовала.
– Ты слишком много денег берешь, вот в чем твоя проблема, – поделился, пыхтя, Джордж. – Другие пророки берут меньше.
– Так пусть Ли Фань к одному из них и идет. Пусть отправляется к этой идиотке с радио, к Провидице-Душечке, – бросила Лин.
Ли Фань могла сколько угодно болтаться по загородным клубам, но гадать-то она никуда за пределами квартала не пойдет, в этом Лин была совершенно уверена.
– Ты на что деньги-то копишь? – спросил Джордж.
– На колледж.
– А зачем тебе колледж?
– А зачем ты позволяешь Ли Фань помыкать тобой, словно собакой? – огрызнулась Лин, окончательно потеряв терпение.
– Ничего она мной не помыкает, – тут же надулся Джордж.
Лин ответила гортанным звуком, недвусмысленно выражавшим разочарование. Когда-то, давным-давно, Лин и Джордж дружили; она его вроде как защищала. Когда итальянские мальчишки с Малберри-стрит взяли моду подстерегать Джорджа по дороге в школу, она подстерегла их и заявила, что она, дескать, стрега-ведьма и проклянет их всех, если они не оставят китайчонка в покое. Поверили они ей или нет, неизвестно, но Джорджа гонять с тех пор перестали. Тот отблагодарил ее маковыми гоменташи[4] из «Пекарни Герти», что на Ладлоу (они потом еще долго хохотали вдвоем, выковыривая из зубов крошечные зернышки). Но весь последний год Джордж становился все мрачнее, все беспокойнее – то и дело замахивался на то, что ему не по зубам. Связался вот с компанией Ли Фань, бегал с ними в кино на Стренд, послушно торчал на пикниках местной церкви, а то упихивался, как селедка в бочку, на заднее сиденье авто Тома Ки и катал с ними где-то по воскресеньям. Одной ногой в Чайнатауне, а другой – снаружи, за его границами; все какой-то лучшей жизни искал. Такой, где Лин места не было.
– Она тебя изменила, – сказала Лин.
– Ничего не изменила! – воскликнул он. – Это ты изменилась! Такая веселая была раньше…
Джордж замолчал, но Лин смогла бы и сама закончить фразу. Она отвела взгляд.
– Прости, – спохватился Джордж. – Я не то хотел сказать.
– Знаю.
– Я просто устал. Плохо спал прошлой ночью.
Лин чуть не ахнула.
– Да нет у меня сонной болезни, нет! – поспешно договорил Джордж и вытянул руки. – Гляди: ни ожогов, ни пузырей.
– Тогда в чем же дело?
– Мне сон приснился, такой странный…
– Это, наверное, потому, что ты сам странный.
– Ты хочешь про него послушать или нет?
– Давай.
– Удивительный сон! – голос Джорджа обещал чудеса. – Я был в одном доме, ну, знаешь, как у миллионеров на Лонг-Айленде, – вот только это был мой дом и моя вечеринка. Я был богатый и важный, и все вокруг смотрели на меня с уважением, Лин, представляешь? Не то что здесь. И Ли Фань там тоже была, – закончил он застенчиво.
– Прости, не сразу поняла, что это кошмар, – съязвила вполголоса Лин.
Джордж эту колкость проигнорировал.
– Все было такое настоящее – только руку протяни и возьми.
Лин рассматривала неровные края кирпичей, из которых были сложены стены.
– Мало ли что выглядит во сне настоящим. А потом ты просто просыпаешься.
– Но не так же! Может быть, это про новый год? Может, сон предвещает удачу?
– А мне-то откуда знать?
– Но ты же разбираешься в снах! – воскликнул Джордж, подскакивая перед ней, как мячик. – Ты умеешь в них гулять! Ну, давай! Он же должен хоть что-нибудь значить, а?
Еще немного, и он примется умолять ее сказать, что да, значит… В это мгновение она чуть-чуть ненавидела Джорджа – за наивность, за веру в то, что приятный сон может означать что-то другое, кроме бегства от реального мира, пусть всего на одну ночь, пока не забрезжит утро. А еще – в то, что если чего-то так отчаянно хотеть, то все непременно сбудется.
– Хорошо, я тебе скажу, что значит этот сон: он значит, что ты дурак, если думаешь, будто Ли Фань на тебя хоть посмотрит, когда Том Ки вернется из Чикаго. Можешь и дальше стелиться ей под ноги – она все равно никогда тебя не выберет, Джордж. Никогда.
Он стоял перед ней, совсем неподвижно – глубокая боль на лице ясно говорила о том, как хорошо умеют ранить слова. А ведь она даже не собиралась быть жестокой – только честной.
Глаза у него стали злыми.
– Жалко мне того беднягу, который по глупости возьмет тебя в жены, Лин. Никому не понравится полная кровать мертвецов каждую ночь.
И он зашагал прочь, бросив ее в двух шагах от дома.
Лин попыталась не пустить его слова внутрь, да поздно – они уже заползли в самую душу. Вот почему нельзя было просто оставить Джорджа в покое, а? Целое мгновение она хотела позвать его назад, попросить прощения – но он ушел слишком злой и все равно бы не услышал. Ладно, завтра она извинится. А сегодня у нее в кармане деньги Ли Фань и работа. Лин медленно двинулась к дому; каждая колдобина, каждый булыжник отдавались в спине. Высоко над головой теплые желтые окошки мерцали на фасадах, составляя странные городские созвездия. Другие окна зияли темнотой: за этими окнами люди спали. Спали и видели сны в надежде, что благополучно проснутся наутро.
Она на тебя, чего доброго, сонную болезнь нашлет…
А началось все с землекопов, снимавших в складчину одну комнатушку на Мотт-стрит. Несколько дней трое парней лежали себе в кроватях и спали. Доктора их и по щекам били, и холодной водой поливали, и по пяткам лупили – ничего не помогало. Не просыпались они, и все. Зато тело у них шло пузырями и мокнущими красными пятнами, словно что-то пожирало их изнутри. Ну, а потом ребята просто умерли. Врачи только руками развели – и перепугались не на шутку. C тех пор «сонная болезнь» забрала еще пятерых в Чайнатауне, а сегодня утром дошли слухи, что она перекинулась на итальянский участок Малберри-стрит и в еврейский квартал между Орчард и Ладлоу.
Компания золотой молодежи шла под ручку, перегородив всю проезжую часть – беззаботная, хохочущая… В памяти Лин всплыла сонная дорога, которой она ходила несколько месяцев назад. Там она вдруг оказалась нос к носу с блондинкой-флаппершей. Девица спала, но совершенно точно о присутствии Лин каким-то образом знала. Лин она сразу и понравилась, и напугала, будто они были давно потерявшие друг друга родственницы, которые взяли да и столкнулись внезапно посреди улицы.
– Тебя тут не должно быть! Просыпайся! – заорала на нее Лин, а потом вдруг закувыркалась сквозь ткань сна, все вниз и вниз, пока не очутилась в лесу, где меж деревьев мерцали призраки солдат. На рукавах у них был странный символ: золотое солнце-глаз, источающий одну-единственную, зубчатую, как молния, слезу. Лин частенько толковала с мертвыми во сне… но эти люди на привычных ей мертвецов были совсем не похожи.
– Что вам нужно? – спросила она, поеживаясь от страха.
– Помоги нам, – сказали они, и тут небо у них над головой взорвалось светом.
С тех пор Лин несколько раз встречала во сне этот символ, но что он означал, так и не выяснила. Зато узнала, кто была та блондинка, – все в Нью-Йорке теперь это знали: Провидица-Душечка.
Чувствуя привычную смесь из зависти и отвращения, Лин проводила хихикающих тусовщиц взглядом, потом вздохнула и зашла в дом. Проскользнув к себе в комнату, Лин положила аванс в фонд колледжа (помещавшийся в сигарной коробке, спрятанной в ящике комода под бельем). Два доллара составили приятную компанию уже обитавшим в фонде ста двадцати пяти.
В гостиной дядя Эдди дремал в своем любимом кресле. Китайская опера на фонографе уже доиграла; Лин подняла иголку и укрыла дядю пледом. Мама еще не пришла из церкви, где шила стеганые одеяла с другими женщинами, а папа еще час как не вернется из ресторана – это означало, что радио наконец-то в полной власти Лин. Вскоре убаюкивающее жужжание прогнало все ее тревоги. Голос диктора бормотал в динамиках, постепенно крепчая.
– Добрый вечер, леди и джентльмены, приветствуем вас у наших радиоприемников. Сейчас ровно девять – самое время для Пирса и его Мыльного Часа, c участием нашей изумительной Флапперши Фортуны, Провидицы-Душечки – мисс Эви О’Нил!
Провидица-Душечка
– …мисс Эви О’Нил!
Диктор, высокий мужчина с тонкими усиками, опустил листик с текстом. За стеклом кабины инженер ткнул пальцем в мужской квартет, сгрудившийся в студии вокруг микрофона:
Она зеница ока Большого Яблока-а-а, Она красотка-гадалка – почему, скажи-ка-а-а! Провидица-Душечка-а-а!– О-о-о, да, одаренная массой талантов из мира иного! – замурлыкал поверх ласкового гудения бэнда диктор. – Она называет себя провидицей, подобно ворожеям прошлого, но она – современная девушка от прически до маникюра. Кто бы мог подумать, что такие дарования обитают прямо у нас, в самом сердце Манхэттена – и в ангельском обличье такой очаровательной феи-крошки!
О-о-о, Эви, нам открой секрее-е-ет! Что нам припасла судьба, что не-е-ет! Часики, шляпка и ленточка-а-а, Все наши тайны у тебя в ручка-а-ах. С неба тайну нам достань, открой, Провидица-душечка-а-а!Оркестр смолк. Эви шагнула к микрофону со сценарием в руках и защебетала:
– Привет всем! С вами Эви О’Нил, Провидица-Душечка, готовая погрузиться в великое непознанное и раскрыть самые ваши заветные тайны. Так что надеюсь, мальчики и девочки, у вас есть для меня сегодня что-нибудь о-че-лют-но скандальное!
– Зачем оно вам, мисс О’Нил? – залопотал диктор.
Аудитория захихикала, маскируя шелест сценарных страниц в руках обоих ведущих.
– Не гоните коней, мистер Форман, – самым жизнерадостным тоном отбрила Эви. – Если что и способно как следует отмыть грязь скандала, так это наше патентованное мыло Пирса. Ни одно мыло на свете не справится с пятнами на вашей репутации лучше «Пирса»!
– С этим, мисс О’Нил, мы охотно согласимся. Если вам дорога ваша внешность, никакого другого мыла, кроме «Пирса», вам в жизни не понадобится. Это са…
– Эй, мистер Форман, вы так и будете сами всю ночь языком трепать? Или все-таки разрешите мне попрорицать немного для нашей изысканной публики? – закокетничала Эви.
Аудитория снова захихикала – все, как прописано в сценарии.
– Очень хорошо, мисс О’Нил. Итак, наш первый гость? Миссис Чарльз Рузерфорд, я так понимаю, вам есть чем поделиться?
– Еще бы! – Миссис Рузерфорд встала и двинулась к Эви, на ходу разглаживая юбку – хотя любоваться ею, кроме статистов в крошечной студии, было решительно некому. – Я принесла вот этот зажим для банкнот.
– Добро пожаловать к нам, миссис Рузерфорд. Спасибо, что сочли возможным прийти на Мыльный Час Пирса с нашей Провидицей-Душечкой, – «Пирс», мыло истинной чистоты. А теперь, миссис Рузерфорд, прошу, не рассказывайте мисс О’Нил ничего о вашем деле. Она сама извлечет ваши тайны из-за завесы непознанного, пользуясь исключительно своим сверхъестественным даром.
– Так что если вы ему еще не все выложили, миссис Рузерфорд, у вас есть шанс сделать это сейчас, – пошутила Эви.
Это, конечно, была подковырка, но мелкие пакости вообще хорошо удерживают внимание слушателей, разве нет?
– Ах, боже мой, – прыснула гостья.
– И кому же принадлежит этот зажим для банкнот? – c места в карьер ринулась Эви.
Миссис Рузерфорд зарделась.
– Это… моего… моего мужа.
Чтобы догадаться об этом, пророчицей быть не надо. Замужних дам почти всегда интересует исключительно, не гуляет ли их муженек налево.
– Итак, миссис Рузерфорд, как девочка девочке: что у вас там стряслось?
– Ну, видите ли, Чарльз в последнее время был ужасно занят. Все ночи проводил в конторе – только он и секретарша, больше никого, и я боюсь…
Эви сочувственно покивала.
– Не надо бояться, миссис Рузерфорд. Скоро мы докопаемся до правды. Не могли бы вы положить объект мне в правую руку, пожалуйста. Благодарю вас.
С видом заправского фокусника Эви накрыла правую ладонь левой и сжала руки, давая зажиму для банкнот время «расколоться».
– Ах ты, господи, – проворковала она, выныривая из легкого транса.
– Что там такое? Что вы видите? – засуетилась дама.
– Даже не знаю, стоит ли говорить, миссис Рузерфорд, – протянула Эви, специально нагнетая напряжение для радиопублики.
– Прошу вас, мисс О’Нил… если там что-то, что мне стоит знать…
– Ну, что ж, – начала Эви самым серьезным тоном, – вам хорошо известно, что предметы никогда не лгут.
По аудитории прошелестел ропот предвкушения. Ну, вот они и мои, подумала Эви и даже голову понурила, будто доктор, собирающийся сообщить пациенту плохие новости.
– У вашего мужа с секретаршей действительно сговор…
Не подымая головы, Эви считала про себя – …два, три… – а затем вскинулась с триумфальной улыбкой:
– …они планируют вечеринку по случаю вашего дня рождения!
Аудитория разразилась облегченным хохотом и бурей аплодисментов.
– Боюсь, теперь сюрприза у них уже не получится, – сокрушенно продолжала Эви. – Вам придется строить из себя глухую и немую. И, между прочим, к вам, мальчики и девочки, слушающие нас сейчас по радио, это тоже относится!
– Спасибо! Ах, огромное вам спасибо, мисс О’Нил!!
Миссис Рузерфорд повели обратно на ее место, и к микрофону снова выступил диктор.
– Давайте самым теплым образом поприветствуем отважную миссис Рузерфорд, леди и джентльмены!
Когда овации стихли, Эви вызвала следующего гостя. Покончив с ним (и рассказав, где в доме его дедушка спрятал клад старых военных облигаций), Эви подождала, пока «Четыре Пророка» споют очередной мыльный джингл, и снова шагнула к микрофону; отражения софитов загадочно сверкали у нее в глазах. Понятное дело, что радиослушатели тебя не видят, но из ежедневных занятий по технике речи она твердо усвоила, что улыбка передается даже по проводам, – и полыхнула ею во все тридцать два!
– Леди и джентльмены, после радиошоу ничто не доставит мне большего наслаждения, чем славная горячая ванна. И, разумеется, в ванне я не одна.
– Да неужто, мисс О’Нил! – выпалил диктор, подпустив в голос приличной случаю скандальности.
– О, нет! И у меня отличная компания!
– Ах, мисс О’Нил!!
– Как вам не стыдно, мистер Форман! Конечно, это мыло Пирса! «Пирс» хранит гладкость и прелесть девичьего личика, даже когда зимние ветра завывают, что твой джаз-бэнд. Чистота такая, что даже я ничего в ней не вижу!
– Истинно так, мисс О’Нил! Выбирайте мыло Пирса – самый современный вариант для вас и ваших любимых! А теперь, сударыня, прежде чем попрощаться с почтеннейшей публикой, не сообщите ли нашим радиослушателям, что вы видите?
– Буду рада, мистер Форман.
Эви затуманила голос, чтобы он доносился как будто издалека.
– Да… я вижу будущее, господа, и предрекаю… – она завесила паузу на счет раз… два… три, – что сегодня здесь, на Даблъю-Джи-Ай, будет шикарный вечер, так что даже не думайте переключаться на другую волну! С вами была Эви О’Нил, Провидица-Душечка всего американского континента, и я говорю вам спасибо и желаю доброй ночи. Храните только приятные тайны!
Пока Эви шествовала через оформленный в стиле ар-деко холл радиостанции, публика закидывала ее поздравлениями:
– Шикарное шоу, Эви!
– Прям закачаешься!
– Ты лучшая, детка!
Эви смаковала похвалу, словно коктейль с шампанским. Она даже остановилась на минутку в фойе огромного офиса со стенами сплошь в деревянных панелях и сверкающими черно-золотыми мраморными полами. Секретарша помахала ей из-за своего бастиона.
– Отличный эфир, Эви!
– Спасибо, Кей! – самодовольно бросила та.
В отношении шоу у нее было всего два правила, зато непреложных: во-первых, она никогда не вкапывалась глубоко – так хотя бы головную боль потом можно вытерпеть. И, во-вторых, никаких скверных новостей. Эви всегда говорила хозяину предмета только то, что он сам хотел услышать. А люди… люди хотели развлекаться – но больше всего они хотели надежды: скажи, что он все еще меня любит… что я не неудачник… скажи, это ничего, что я никогда не навещала маму, даже когда она звала меня перед самым концом… что у меня все будет хорошо.
– Здорово ты обыграла с этим зажимом для банкнот, – поделилась секретарша. – Я прямо нервничала за эту миссис Рузерфорд.
Эви попыталась заглянуть в офис у нее за спиной, но зеркальные золотые двери оказались закрыты.
– А… а мистеру Филипсу все понравилось?
Секретарша сочувственно улыбнулась.
– Да ну, милочка, ты же знаешь Большого Сыра: он выставляется только перед настоящими шишками. Ой! – она поспешно прикусила язычок. – Эви, я не то хотела сказать. У тебя очень популярное шоу.
Но не настолько популярное, чтобы удостоиться внимания самого хозяина Даблъю-Джи-Ай… Эви быстренько выкинула этот факт из головы, подхватила свое новое енотовое манто и серый фетровый клош[5] из рук гардеробщицы и устремилась вон, где на январской мороси ее ждала небольшая, но исполненная энтузиазма толпа. Стоило Эви распахнуть дверь, и люди хлынули к ней – черные зонтики колыхались сверху, будто мясистые, глянцевые лепестки какого-то исполинского цветка.
– Мисс О’Нил! Мисс О’Нил!
Блокноты и отдельные клочки бумаги затрепетали на ветру; она цветисто подписала каждый и порхнула по переулку к ожидающему ее кэбу.
– Куда, мисс? – вопросил таксист.
– В «Грант-отель», пожалуйста.
На них обрушился дождь. Подчиняясь какому-то затейливому метроному, дворники разгоняли воду с запотевающего ветрового стекла. Эви глазела в окно на этюд в тонах смога, тумана, снега и неона, который являл собою Театральный квартал Манхэттена в сей поздний час. На окаймленной лампочками афише фрачник в тюрбане простирал руки жестом факира, а пригожие хористочки танцевали под их мановения. На слогане выше значилось:
СКОРО НА СЦЕНЕ: КРАСАВИЦЫ ЗИГФЕЛЬДА
В ШОУ «ПРОРОЧЕСКИЙ РАЖ»!
МАГИЧЕСКОЕ МУЗЫКАЛЬНОЕ РЕВЮ!
Пророки сейчас были на подъеме и, можно сказать, непрерывно шли в гору, но никто из них еще не поднялся выше Эви О’Нил. Ах, если бы Джеймс увидел ее сейчас! Эви тронула рукой пустоту на шее, где еще совсем недавно висела братнина полудолларовая монетка – чистой воды рефлекс.
Билборд «Марлоу Индастриз» возносился над толкавшимися на перекрестке в ожидании светофора машинами. На нем красовался силуэт великого человека собственной персоной, рукой указующего в некое туманное будущее, обозначенное лишь лучами рассветного солнца. «Марлоу Индастриз»: Будущее Америки.
– Он скоро будет в городе, знаете? – заявил внезапно шофер.
Эви потерла виски, пытаясь унять боль.
– Кто?
– Мистер Марлоу, конечно.
– Да ну вас!
– Да я вам говорю! Он открывает в Квинсе эту, как ее там… короче, большую выставку, которую давно замыслил. На дорогах в тот день будет смертоубийство, помяните мое слово. Уж сколько он нам хорошего в жизни сделал – автомобили, аэропланы, медицина, хрен знает что еще… Вот это, я понимаю, великий американец!
Тут он несмело откашлялся и поинтересовался:
– А вы, случаем, не эта, как ее – Провидица-Душечка?
Эви аж выпрямилась на сиденье – приятно, черт возьми, когда тебя узнают!
– Признаю себя виновной.
– Я так и думал! Моя жена обожает ваше шоу! Вот я ей как расскажу, что возил вас на своей колымаге – она с восторгу котят народит!
– С ума сойти – надеюсь, что нет! Сигары-то у меня и кончились![6]
Загорелся зеленый, авто свернуло налево с главной Бродвейской артерии и покатило по узкому притоку Сорок Седьмой улицы на восток, в сторону Бикман-плейс и «Гранта».
– Значит, вы – та дамочка, что помогла копам словить Пентаклевого Душегуба, – таксист аж присвистнул. – Мясник тот еще был… И бедной девочке глаза вынул! А еще задушил парня на кладбище Святой Троицы и язык ему вырезал! И ту хористку освежевал…
– Спасибо, я помню, – оборвала его Эви, надеясь, что намеки он понимает.
– Это что же за человек будет такое творить? Куда катится мир! – шофер горестно покачал головой. – Это все иностранцы! Лезут к нам, мутят воду. Одни проблемы с них. И болезни! Небось слыхали про эту, сонную болезнь, а? Уже по десятку человек с ней валится, кажный божий день. Она ведь в Чайнатауне спервоначалу завелась, а потом перекинулась на евреев и итальяшек, – он снова покачал головой. – Иностранцы. Взять бы их всех да повыкинуть отсель, ежели вы моего мнения желаете слушать.
Еще чего не хватало, подумала Эви.
– А еще поговаривают, что убийца – ентот Джон Хоббс – даже не человек был. А типа какое-то привидение.
Таксист на мгновение встретился с ней глазами в зеркале заднего вида, ища то ли подтверждения, то ли опровержения.
Интересно, что бы словоохотливый таксист сказал, открой она ему правду – что Джон Хоббс определенно был не из этого мира и похуже любого демона. Она, можно сказать, тогда едва ноги унесла.
Эви отвела взгляд.
– Мало ли что люди говорят. О, глядите-ка – вот мы и на месте!
Шофер подрулил к сплошной глыбе великолепия, которую являл собой «Грант-отель». Через окно Эви углядела на ступенях толкучку репортеров: они курили и травили байки. Не успела она ступить на тротуар, как пишущая братия побросала сигареты, а с ними и сплетни du jour[7], или что там могло хоть ненадолго удержать их переменчивый интерес, и хлынула ей навстречу, перекрикивая один другого:
– Мисс О’Нил! Мисс О’Нил! Эви, будь душечкой, посмотри на меня!
Эви оказала им любезность и некоторое время попозировала, сияя улыбкой.
– Как ваш эфир сегодня, мисс О’Нил?
– Это ты мне расскажи, папочка!
– Раскопали что-нибудь интересное?
– О, кучу всего. Но леди всегда держит рот на замке – если только не на радио за деньги! – изрекла Эви, вызвав бурю восторгов.
Один из репортеров, ухмыляясь, прислонился к стене отеля.
– А что вы думаете про этих пророков, что полезли изо всех щелей, как только вы выпустили кота из мешка – чисто на собственном даровании?
Эви выстрелила в него натянутой улыбкой.
– Я думаю, что это просто офигенно пухло, мистер Вудхауз!
Тот приподнял бровь.
– Да ну?
Эви пригвоздила его взглядом.
– А то! Может быть, мы даже собственный ночной клуб организуем, со степом и фокусами. Будете хорошо себя вести, может, и вас пустим.
– Вы еще собственный профсоюз заведите, – пошутил другой журналист.
– Кое-кто поговаривает, что пророки ничем не лучше трюкачей из цирка. Что они опасны. И что они чужды Америке, – поднажал мистер Вудхауз.
– Я – не менее американский продукт, чем яблочный пирог и взятки, – промурлыкала Эви, вызвав еще одну волну хохота.
– Люблю эту девицу! – проворчал второй репортер, кидаясь записывать. – С ней у нас не работа, а малина.
Вудхауз, однако, сдаваться не собирался.
– Сара Сноу, которая делит с вами одну радиостанцию, назвала пророков «симптомом нации, отвратившейся от Бога и истинных американских ценностей». Что вы на это скажете, мисс О’Нил?
Ах, Сара Сноу… Эта мелкая консерваторская заноза, что всегда посматривает свысока на пророков в целом и на нее, Эви О’Нил, в частности. Вот бы этой грошовой библейской врушке пинка отвесить с заднего фасаду! Но такая реклама Эви была не нужна. И бесплатный повод для начала войны она Саре Сноу давать тоже не собиралась.
– О, так у Сары Сноу тоже есть своя радиопередача? А я и не заметила, – сказала Эви, хлопая ресницами. – Хотя, если подумать, у кого их только нет.
Эви двинулась вверх по ступеням, и рядом с нею тут же нарисовался Вудхауз.
– Что-то вы на меня уж очень сегодня насели, Вуди, – шмыгнула носом она.
– Подогреваю интерес, красавица, только и всего, – отозвался он. – Ну, и заодно отвожу подозрения, что у нас сговор. И, кстати сказать, мой бумажник в последнее время ощущает подозрительную легкость, если ты понимаешь, о чем я.
Осторожно оглянувшись на остальных репортеров, Эви потихоньку сунула Вудхаузу доллар. Тот бдительно поднес его к свету.
– Только убедиться, что ты собственные не начала печатать, – пояснил он и, вполне довольный, опустил купюру в карман и притронулся к шляпе.
– Одно удовольствие иметь с вами дело, Провидица-Душечка.
– Будь хорошим мальчиком, Вуд, и напечатай обо мне что-нибудь шикарное, ладно?
И изящно взмахнув ручкой, она порхнула дальше, прямо в распахнутые портье золоченые двери, пока толпа позади продолжала выкрикивать ее имя.
Самая верхушка мира
Холл «Грант-отеля» кипел праздничным хаосом. Тусовщики всех сортов – флапперши, степисты, золотокопатели, мальчики с Уолл-стрит, амбициозные кинозвездочки – обсели каждый свободный дюйм мебели, а изумленные постояльцы глазели на них, гадая, не угодили ли они по ошибке в бродячий цирк. В дальнем конце фойе разгневанный управляющий размахивал в воздухе растопыренной пятерней, чтобы привлечь внимание Эви.
– Конячьи перья! – прошипела Эви, решительно сворачивая в другую сторону и просачиваясь сквозь живую стену гуляк в Верхний Зал, где в углу заприметила Тэту и Генри.
В ритме шимми она зазмеилась сквозь толпу зевак, мимо печальноокого аккордеониста, певшего что-то жалостное на итальянском. Люди оборачивались на нее, глазели, напирали.
– Надо бы мне с тобой перекинуться словечком, душечка, – проворковал симпатичный паренек в ковбойской шляпе. – Есть у меня кое-какой интерес в нефтяных акциях Оклахомы – надобно знать, окупится или нет…
– Будущего я не вижу, только прошлое, – возразила Эви, пропихиваясь дальше.
– Эви, ДОРОГА-А-А-Я! – протянула манерно какая-то рыжая девица в длинном серебряном плаще, окаймленном павлиньими перьями (Эви ее никогда раньше не видела). – Нам просто НЕОБХОДИМО поговорить! Дело НЕ ТЕРПИТ ОТЛАГАТЕЛЬСТВ, голубка моя!
– О, тогда пойду надену мои «спешу и падаю» туфли, – на ходу отбрила Эви и тут же врезалась в кого-то на полном скаку. – Ох, простите, я… Сэм Ллойд!!
Глаза ее опасно сузились.
– Приве-ет, Бэби-Вамп! – воскликнул тот, автоматически расплываясь в профессиональной улыбке. – Никак скучала по мне?
Эви уперла руки в боки.
– И какое же преступление я совершила, раз имею счастье лицезреть тебя у себя на пороге?
– Тебе просто повезло, – ответствовал он, цапнув канапе у официанта с подноса и отправляя его в рот. – Боже! Икра! Обожаю икру! – закатил он в экстазе глаза.
Эви попыталась его обогнуть, но он ловко заступил ей дорогу.
– Ты не отойдешь? – светски осведомилась она.
– Ну, ку-у-уколка! Все еще дуешься, что я сказал «Дейли ньюс», будто это благодаря мне ты смогла поймать Пентаклевого Душегуба и будто ты носа не кажешь в Жуткие Страшилки, потому что без ума от меня и должна держаться подальше?
– Да, Сэм, я этим недовольна.
Тот развел руками, делая вид, что извиняется.
– Дорогая, это был акт милосердия!
Эви выгнула бровь.
– Музею нужна реклама, а эта историйка их хоть немного расшевелила. И к тому же принесла прибыль в виде свидания с одной хористочкой. Блондинка, кстати. Зовут Сильвией. Ты мне не поверишь, что эта девочка вытворяет своей…
– Пока, Сэм.
Эви попробовала двинуться сквозь толпу дальше, но, к несчастью, застряла. Сэм следовал за ней по пятам.
– Ну, ладно тебе, куколка. Давай уже оставим прошлое в прошлом. Разве я разозлился на тебя, когда ты сказала журналюгам, что я… как ты тогда выразилась?
– Врун, жулик и грязь подзаборная, от которой даже другая грязь – и та стремится отползти подальше!
– Точняк, именно так ты и сказала! – Сэм сделал очень большие глаза. – Рад видеть тебя снова, красотка. Может, найдем тут уголок поукромнее и наверстаем упущенное за бокалом сливовой наливки с шипучкой?
– Зашибись! Это же сам Бастер Китон! – вытаращив глаза, Эви ткнула пальцем через комнату.
– Где? – взвился Сэм.
Эви стремительным нырком бросилась в толчею.
– Ага, очень смешно! – донеслось ей вслед.
Наконец она плюхнулась в кресло подле Тэты, игравшей длиннющим мундштуком из черного дерева и пускавшей томные облака.
– Уж не сама ли это Провидица-Душечка к нам пожаловала, – протянула Тэта. – А там что, Сэм?
– Он. Всякий раз, как я на него налетаю, приходится напоминать себе, что за убийство у нас сажают.
– Ну, не знаю, не знаю, Эвил[8]. Он вообще-то хорошенький, – поддразнил Генри.
– Он настоящая зараза, – Эви бросила на него неласковый взгляд. – И все еще должен мне двадцатку.
– А скажи мне, – сменил тему Генри, – как та вечеринка в зале «Египетский дворец», куда ты ходила на прошлой неделе? На уровне? То есть там правда живые морские котики плавают в фонтане?
– Время от времени. Когда постояльцы не крадут их для собственных ванных. Ах, да-а-а-арагие, когда там опять будет вечеринка, вы просто обязаны прийти!
– Да-а-а-арагие, вы обя-я-я-я-заны прийти! – передразнила Тэта. – После этих уроков сценической речи ты станешь настоящей принцессой, Эвил.
– Ну не могу же я выступать на радио, разговаривая, как деревенщина из Огайо, – рассвирепела Эви.
– Не кипятись, Эвил. Ты мне все равно нравишься, звучи ты хоть как мешок стеклянных шариков. Просто не забывай, кто твои друзья.
Эви накрыла руку Тэты своей.
– Никогда.
Раздался ужасный грохот – мартышка, волоча за собой поводок, своротила со стола вазу, вскочила на лысину чрезвычайно удивленного гостя, оттуда на драпри, и теперь болталась там, скалясь и визжа. Девушка в пушистом боа из перьев о чем-то упрашивала обезьяну, но та не поддавалась и качалась высоко, стрекоча и шипя на толпу.
– Откуда они только берутся? – сказал Генри.
Эви завела очи горé, пытаясь припомнить.
– Кажется, эта приехала с цирком из Будапешта. Я их встретила на Таймс-сквер и пригласила сюда. Кстати, ты слыхал, что Сара Сноу сказала о пророках?
– Кто такая Сара Сноу? – Тэта выдохнула струю дыма.
– Вот и я о том же, – просияла Эви. – В общем, она сказала, что пророки – это не по-американски.
– Я бы на твоем месте выкинул это из головы, милая, – заметил Генри. – У тебя есть проблемы и поважнее.
– Это какие же?
Генри показал куда-то подбородком: сердитый управляющий на всех парах несся к их столику.
Эви быстро сунула фляжку за подвязку.
– А, ерунда. Вот и мистер Умрирадость, собственной персоной.
– Мисс О’Нил! – загремел он. – Что тут творится?
– Неужто вы не любите вечеринки? – Она одарила его ослепительной улыбкой; он в ответ лишь поджал губы.
– Мисс О’Нил, как управляющий «Грант-отеля» я был бы вам признателен… – нет, я прямо-таки требую! – чтобы этот ежевечерний бедлам прекратился. Вы выставляете уважаемое нью-йоркское заведение на посмешище, мисс О’Нил. Репортеры осаждают подъезд каждую ночь в ожидании, какое еще безумство случится на сей раз…
– Так разве же это не здоо-о-о-рово? – протянула Эви. – Вы только представьте себе, сколько рекламы в итоге получает отель – и совершенно бесплатно!
– Такая слава «Гранту» не нужна, мисс О’Нил. Подобное поведение недопустимо. Вечеринка в Верхнем Зале, равно как и та, что в настоящий момент оккупировала холл, на этом закончены. Я ясно выразился?
Озабоченно сдвинув бровки, Эви кивнула:
– Абсолютно.
Сунув два пальца между зубами, она пронзительно свистнула.
– Куколки мои, в лобби стало совсем отвратно. Боюсь, мы больше не можем тут оставаться.
Управляющий поблагодарил ее сдержанным кивком.
– …а потому айда все наверх, ко мне в номер! – завопила Эви.
И стал исход. Венгерская девица в махровом боа сунула обезьяний поводок в руки злополучному менеджеру, который стоял как парализованный, созерцая волну бражников, штурмующих лифты и лестницы.
– А ты, я смотрю, снова напрашиваешься на выселение, Эвил? – заметила Тэта, восходя вместе с нею по сверкающей деревянной лестнице. – Это который отель по счету – второй?
– Третий, но кто станет считать? Тем более меня не выселят. Они меня тут любят.
Тэта многозначительно обернулась: в опустевшем холле управляющий орал на швейцара, который пытался согнать визжащую тварь со шторы шваброй, пока телефонистка лихорадочно тыкала кабелями в панель в поисках кого-нибудь… да хоть кого угодно, способного эвакуировать бешеную обезьяну из «Грант-отеля».
Тэта покачала головой.
– Такой взгляд я уже видела раньше, милая. И, поверь мне, не любовь в нем светит.
Комната Эви была так набита народом, что толпы поневоле выплескивались в элегантные, обитые дамастом коридоры третьего этажа. Эви, Тэта и Генри нашли приют в водруженной на когтистые чугунные лапы ванне, удобно откинувшись на один борт и перекинув ноги через другой. В комнате аккордеонист в третий раз затянул все тот же страдальческий опус.
– О, только не это! – взревела Эви и хорошенько хлебнула из фляжки. – Надо его заставить сыграть одну из твоих песенок, Генри. Тебе вообще хорошо бы писать для аккордеона – представляешь: целое ревю и все на одних аккордеонах. Это будет настоящая сенсация!
– И чего я раньше об этом не подумал? Аккордеон-кабаре Анри Дюбуа, «Все хитрости любви». – Он вздохнул. – Звучит достаточно скверно, чтобы оказаться песней Герберта Аллена.
– Герберт Аллен! Я слышала его по радио! – подхватила Эви. – Мне вот эта нравится:
«Люблю твои волосы /и нос люблю, /люблю тебя всю сверху донизу, /моя дорога-а-а-ая малышка!» И вот эта тоже: «Мила-а-а-ая, ты лучший банан, /ты мой персик со сливками, /стань моим шербетом, апельсинчик…»
– Ради всего святого, заткнись, а? – простонал Генри, падая лицом в руки.
Тэта плеснула остаток своего напитка ему в бокал.
– Герберт все время обставляет Генри на радио, просто потому что публикуется, – объяснила она. – А песня у него всего одна – одна и та же долбаная песня, на все случаи жизни.
– Вообще, если подумать, они и правда все на одно лицо, – глубокомысленно заметила Эви. – Теперь, когда ты об этом сказала.
– Всякий раз как я что-нибудь играю для Уолли, чертов Герберт занимается вредительством – как-то находит способ, – пожаловался Генри, снова берясь за бокал. – Говорю тебе, если Герби Аллен завтра откинет копыта, лично я плакать не буду.
– Значит, решено: ненавидим Герби Аллена, – подытожила Эви. – Уверна, все, что ты пишешь, – сущий рай, Ген. И скоро все мы будем петь твои песенки в дýше.
Тэта окинула ее прохладно-оценивающим взглядом сквозь табачную завесу.
– Кстати, тебя Джерико искал.
– Да ну? И как там наш милый, старый Джерико? – Эви постаралась сказать это ровным голосом, хотя сердце у нее припустило ощутимо быстрее.
– Длинный. Белобрысый. Серьезный, – Тэта пожала плечами. – Если бы я не знала наверняка, то решила бы, что этот телок к тебе неровно дышит. А ты – к нему.
– Ни на какое наверняка ты не знаешь, – пробормотала Эви. – Ты вообще ничего не знаешь.
– Ты не сможешь всегда шарахаться от Беннингтона, Эвил.
– Еще как смогу! Разреши тебе напомнить: дядя Уилл требовал, чтобы я держала свой дар в строгом секрете! И послушай я его, всего вот этого у меня бы не было! – воскликнула она, широко разведя руки и едва не выбив у бедняги Генри его напиток.
– Мы вообще-то в ванне, Эвил, – кротко заметила Тэта.
– Да, и в чертовски хорошей! – Эви опрокинула еще джина.
Теплое пойло начало наконец брать верх над мигренью после сеанса ясновидения, и ее это вполне устраивало.
– Я решительно отказываюсь впадать в уныние. У меня вечеринка, в конце концов! Быстро расскажите мне что-нибудь веселое.
– Фло на следующей неделе дает пресс-конференцию: будет рекламировать нашу новую пьесу. Мне можно будет дать первое интервью под именем «Тэта Санкт-Петербургская»: верные слуги тайком вывезли меня сюда после революции, – сообщила Тэта с карикатурным русским акцентом и презрительно усмехнулась. – Какая чушь, ей-богу. А мне это еще продавать таблоидным шавкам.
– Ну, обратного-то никто не докажет. Из тебя вполне выйдет недурная русская аристократка. Скажи, Генри!
– Скажу, – отозвался Генри, глядя в глубины стакана.
Эви прищурилась на него: такая серьезность совсем не в духе Генри.
– Ты какой-то слишком тихий сегодня, – она придвинулась буквально нос к носу. – Это все твои художественные замашки? Все артисты такие? Сидят по ванным, печальные и тихие?
– В ваннах мы, как правило, принимаем ванну.
– Но ты и правда какой-то грустный. Все из-за этого Герберта-Шмерберта?
Генри выдавил улыбку:
– Проехали.
Тут в ванную ввалилась какая-то молодая особа со своим хахалем.
– Когда это помещение изволит освободиться? – несколько невнятно осведомилась она. Джентльмен помог ей сохранить вертикальное положение. – Я бы желала зуре… зару… зарезервировать!
– Боюсь, эта ванна была арендована на неопределенный срок, – сообщил им Генри с вежливым поклоном.
– Ч-чего? – девица уставилась на него смутным взором.
– Вон! – рявкнула Тэта.
Гостья поправила бретельку платья с максимальным доступным ей в настоящий момент достоинством.
– Я буду жаловаться администрации! – заявила она и хлопнула за собой дверью.
– Ну, думаю, и мне пора, – c этими словами Генри выдрался из ванны. – Спасибо за шикарную вечеринку, Эви!
– О, Генри! Ты же не хочешь уйти прямо сейчас!
– Прости, любимая. У меня неотложная встреча – c кроватью.
– Генри, – в голосе Тэты послышалась тень угрозы. – Только смотри, не слишком долго.
– Не волнуйся.
– Не волнуйся о чем? – вмешалась Эви, переводя пытливый взгляд с одного на другую и обратно.
– Ни о чем, – резюмировал Генри, отвешивая им изысканный поклон. – Леди, встретимся в моих снах.
– Это он про что? – накинулась она на Тэту, как только за ним закрылась дверь.
– Ни про что, – отмахнула та.
– Ой-ой, знаю я это лицо. И оно называется отнюдь не «Тэта счастлива».
Эви выпрямилась так резко, что выплеснула содержимое фляжки прямо себе на платье. Тэта отобрала у нее посуду.
– Это нечестно! – возроптала Эви. – Я тебя сдам копам, скажу, что ты преступила закон – сперла мой джин!
– Получишь назад через минуту. Мне нужно с тобой поговорить.
Эви послушно перекатила голову по бортику налево, в сторону Тэты.
– Ладно, давай.
– А поговорить мне нужно о том, что с нами случилось. О Пентаклевом Душегубе.
Эви надула губки.
– Это уж точно о-че-лют-но последнее, что я хочу обсуждать.
– Ты это говоришь всякий раз, стоит мне только поднять тему. Я знаю, что ты сказала газетчикам, будто Джон Хоббс был спятивший маньяк. Но мы-то с тобой знаем, что это неправда. Той ночью, когда мы с Хоббсом оказались заперты в театре, я почувствовала такое, c чем еще никогда не сталкивалась.
– Это что же?
Тэта набрала воздуху, потом выдохнула.
– Зло.
– Чего тебе?
– Да я не про тебя. Я ощутила присутствие зла.
– Ну, теперь-то все позади, – Эви понадеялась, что такой намек Тэта поймет.
– Правда?
– Ну да. Его больше нет, – сказала Эви немного запальчиво. – Отныне у нас все будет хорошо. Сплошное синее небо над головой. Прямо как в песне.
– Не знаю, не знаю, – Тэта откинула голову назад, на прохладный кафель. – Тебе все еще снится тот глаз?
– Нет. Не снится. И сны у меня о-че-лют-но пухлые, – заявила Эви, но на Тэту она при этом почему-то не глядела.
– Как будто что-то где-то начинает выкипать… Что-то очень скверное.
Эви обвила плечи подруги рукой.
– Дорогая моя Тэта. Беспокоиться совершенно не о чем, – задушевно сказала она, ловко изымая у той фляжку. – А знаешь, из такси по дороге сюда я видела билборд «Марлоу Индастриз». На нем было написано «Будущее Америки». Так вот, будущее – уже сейчас, и мы с тобой сидим на самой что ни на есть верхушечной верхушке мира. Самое лучшее в жизни поджидает нас за ближайшим углом – только руку протяни. Забудь ты про свои кошмары – это просто сны. Давай лучше выпьем за будущее Америки. За наше будущее. Долгих лет царствования нам обеим.
Она чокнулась фляжкой со стаканом Тэты. Ванная кругом слегка размазалась и приятно, тепло замерцала. В таком виде она нравилась Эви гораздо больше.
– Мне нужно еще кое о чем тебя спросить, – тихо сказала Тэта. – Это про вас, пророков, и все такое…
– Большинство из них – просто фокусники, – предостерегающе подняла пальчик Эви.
– Я хочу знать, слышала ли ты когда-нибудь о ком-то, чья сила была бы опасной?
– Ч-чего? Ты о чем? – не поняла Эви. – В чем опасной?
Однако договорить им не дали. Беседу прервал решительный стук в дверь номера, за которым последовал неприветливый голос, возвестивший:
– Откройте! Полиция!
– Конячьи перья! – Эви одним прыжком вылетела из ванны, опорожнила фляжку в ополаскиватель для рта и одурело заметалась по комнате, призывая всех срочно прятать бухло. По дороге ей мимоходом попался на глаза Сэм, целовавший в углу венгерскую циркачку.
– Вот никакого шика в человеке! – проворчала она.
Добравшись через человеческие завалы до двери, она ее распахнула: на пороге двое полицейских обрамляли разъяренного управляющего. Несмотря на жуткую головную боль, Эви изобразила радушную улыбку.
– О, привет! Вы лед принесли? У нас, кажется, весь вышел.
Менеджер протолкался вперед.
– Вечеринка окончена, мисс О’Нил, – процедил он, едва сдерживая праведный гнев. – Все вон отсюда! Быстро! А не то засажу всю компанию!
Алкогольное дуновение сорвалось с губ Эви, приподняв тут же капризно упавший назад локон.
– Все слышали папочку? Лучше выматывайтесь, подобру-поздорову.
Нетрезвые гости сгребли утратившие весь форс шляпы, непарные туфли, чулки и галстуки-бабочки и вслед за полицией просеялись через двери. Сэм удалился с венгерской циркачкой на хвосте.
– Она для тебя слишком высокая, – прошипела вслед Эви.
– Уверен, она и нагибаться умеет, – парировал с ухмылкой Сэм.
Эви отвесила ему пинок пониже спины.
Управляющий подал ей сложенный листок.
– И что это? – осведомилась она.
– Распоряжение о выселении, мисс О’Нил. До одиннадцати часов завтрашнего утра вам надлежит освободить это помещение – навсегда.
– До одиннадцати. Черт! Это ведь до полудня!
– Скорблю вместе с вами, – менеджер развернулся и пошел прочь. – Сладких снов, мисс О’Нил.
Тэта подцепила палантин и направилась к двери.
– Не дрейфь, малыш, если уж она начала заливать за воротник, ее так просто не остановишь, – покачала она головой.
На пороге Эви ухватила ее за руку.
– Тэта, что такое ты мне говорила, когда ввалились копы?
На мгновение в Тэтиных большущих карих глазах промелькнула тревога, но она тут же приладила покосившуюся было маску крутой девчонки на место.
– Забей, Эвил. Так, сотрясение воздуха. Поспи лучше. Я скажу Джерико, что ты передавала привет.
Когда последний гость вымелся вон, Эви проковыляла к окну и распахнула ставни, вдохнув полной грудью холодный ночной воздух. Она устремила взгляд на аккуратные квадратики света внизу и задумалась о спрятанных за ними жизнях – сотнях жизней.
Зачем Тэте понадобилось упоминать Джерико?
Эви терлась с кучами мальчиков – ей нравилась такая жизнь: она вертелась, мелькала, как колесо рулетки. Мальчики – это весело; мальчики – это игра. Мальчики хорошо отвлекают… А Джерико – он не мальчик.
Сейчас, когда комната опустела, лишившись последнего гуляки, и впереди замаячила перспектива долгой, зияющей пустотой ночи, Эви почувствовала, что ей отчаянно не хватает другого человеческого существа рядом. Не будет вреда просто с ним поговорить, правда же? – уговаривала она себя, извлекая из гнездышка отельный телефон.
– Добрый ве-е-е-чер, – прочирикала она в воронку телефонистке; от алкоголя язык внезапно заплелся, так что пришлось с усилием вытрезвить речь. – Я бы хоте-е-ела набрать Брэдфорд… во-о-осемь – но-о-оль – пять – де-е-евять, пожалста…
Пока девушка соединяла, Эви успела намотать шнур на палец. Возможно, Джерико там спит… а возможно, его и дома-то нет – гуляет с какой-нибудь девицей и шикар-р-рно проводит время, вовсе даже о ней не думая. А вдруг на звонок ответит дядя Уилл?
Да о чем она вообще думает!
– А ну его, оператор. Отмените звонок, пожалуйста, – пролепетала она в трубку и быстро повесила ее на рычаг.
Кровать покрывали пустые и початые бутылки нелегального пойла, пролитые чашки и изрыгающие содержимое пепельницы. Наводить порядок Эви не собиралась – она для этого слишком устала. Вместо этого она стянула с кушетки шелковое покрывало и свернулась прямо на полу, как дитя. Она соврала Тэте про сны: они все еще снились ей, запутанные, в липких пятнах ужаса. Солдаты… Взрывы… Странный глаз… А в самые худшие ночи ей виделось, что она все еще заперта в том кошмарном доме с Джоном Хоббсом… и чертова песенка спускается впереди него по лестнице, а сквозь стены сочатся призраки Братства.
– Призраки… ненавижу призраков. Ужасные… ужасные люди, – сонно пролепетала Эви.
Ее покоящаяся на ковре голова кружилась. Рука на мгновение порхнула к шее в поисках утешения, которого больше там не было, – а потом упала.
Дурные сны
Покинув «Грант», Генри отправился в маленький клуб, где бренчал на пианино до первых часов пополуночи. Стрелка уже ползла к трем, когда он наконец добрался до крошечной квартирки в «Беннингтон Апартментс», которую делил с Тэтой. Заглянув в неплотно прикрытую дверь спальни, он убедился, что девушка крепко спит, надвинув на глаза шелковую маску от городских огней, чье марево упорно ползло внутрь, даже невзирая на шторы. Прихлопнув дверь, Генри уселся за карточный столик, утонувший в отпечатанных на папиросной бумаге нотах, испещренных его пометками (больше клякс, чем нот) и незаконченными текстами к песням. Посреди всего этого хаоса высилась старая банка из-под кофе с гордой надписью «Пианофонд Генри». Уже больше года Тэта совала туда каждый лишний доллар, каждую сэкономленную сдачу, чтобы отплатить Генри, который позаботился о ней в ту пору, когда она больше всего в этом нуждалась.
Некоторое время он тупо созерцал песню, на приведение которой в порядок убил большую часть недели, а потом рухнул в кресло.
– Плачевно, – проворчал он, смял страницу и швырнул ее на пол, уже усеянный плодами предыдущих трудов.
А ведь тогда, давно, в Новом Орлеане, на речных круизах, стоило кому-то взять не ту ноту, Луи тут же ухмылялся и ласково спрашивал:
– Что эта киса тебе сделала, что ты заставляешь ее так орать?
Луи…
Генри разгреб музыку и водрузил в центре стола метроном, потом завел будильник и поставил на подоконник, в опасной близости к краю, потом отпустил маятник метронома и умостил свой долговязый остов в потертое кресло подле шипящего радиатора. На голову он удобства ради нацепил соломенное канотье. Привязчивый стук метронома стал громче, заглушая отдаленное блеянье нью-йоркских улиц, убаюкивая, увлекая Генри в гипнотическое оцепенение. Веки его встрепенулись – раз, другой…
– Пожалуйста, – тихо промолвил он, – и провалился…
Генри пришел в себя в мире снов – как всегда, судорожно хватая ртом воздух, будто слишком долго держал дыхание под водой. Первые несколько секунд затопило паникой, пока сбитый с толку разум спешно восстанавливал контроль над происходящим. Сердце постепенно вернуло нормальный ритм, дыхание успокоилось. Генри поморгал, давая глазам привыкнуть к местному освещению. Свет в мире снов был резкий, беспощадный: самые обычные вещи – копну сена, фургон, лицо – он делал смертельно прекрасными, а временами и слегка дьявольскими.
Прямо сейчас эта непривычная яркость выхватывала физиономии целого стада бизонов, бесстрастно уставившихся на Генри своими глубокими темными глазами.
– Привет, – сказал он величавым тварям.
Бизоны раскрыли рты, и из них, словно из радиоприемника, полилась музыка. Генри расплылся в улыбке.
– Потанцуем? Нет? Хорошо, в следующий раз.
Позади вздымались высокие, укрытые снегом холмы, прятавшие верхушки в облачном одеяле. Неподалеку на камне сидела Тэта, глядя на раскинувшуюся внизу деревню, где ленты дыма вывивались из ряда плывущих в воздухе бездомных труб.
– Здравствуй, милая, – молвил Генри, вставая рядом.
От резкого света скулы ее были острее обрыва, как у немецкой кинозвезды[9]. Тэта казалась взволнованной.
– Что, плохой сон?
– Да, – отвечала она призрачно-плоским голосом. – Мне не нравятся вон те красные цветы.
Генри посмотрел туда же, куда она. Где были бизоны, теперь стелилось поле маков. Прямо у него на глазах цветы затрепетали языками пламени и тут же расплавились в густые багряные лужи. Дыхание Тэты участилось – она погружалась в кошмар.
Голос Генри успокаивал.
– Слушай, Тэта, почему бы нам не посмотреть другой сон? Может, про цирк? Ты же любишь цирк, правда?
– Точно, – отозвалась она, и на губах ее расцвела слабая улыбка.
Когда Генри повернулся к полю, огонь уже превратился в забавного маленького жонглера, который специально все ронял и ронял булавы.
– Я пойду поищу Луи, Тэта.
– Давай, Генри, – сказала она и пропала.
Царственные сосны выстрелили из земли. Их серые тени решительно побежали по белому лесному ковру. На древесном пне игла старой виктролы снова и снова прыгала в царапину малость погнутой пластинки, коверкая песню:
– Су-у-нь свои горести в ста-а-арый рюкза-а-ак – улыбни-и-сь, улыбни-и-ись, улыбни-и-ись…
Рядом с виктролой солдатик изображал слова песенки, слегонца приплясывая софт-шу[10]. Улыбка его действовала на нервы. Неподалеку еще группка солдат сидела за столиком и резалась в карты. На всех картах красовался один и тот же намалеванный человек макабрического вида, в длинном темном пальто и цилиндре. Черные его глаза словно не имели дна.
– Мы уже почти начинаем, старик. Ты бы шел в укрытие, – сказал один из солдат и нырнул в противогаз, меченный сбоку знаком глаза и молнии.
Тот же символ мерцал призрачной татуировкой на каждом лбу.
– Время! Пора! – пролаял сержант.
Солдаты быстро позанимали позиции.
– Су-у-нь свои го-о-орести… го-о-орести… го-о-орести… – окончательно застряла игла.
Пляшущий солдатик, все так же улыбаясь, посмотрел на Генри – только на сей раз половина его лица, как оказалось, сгнила. В распадающейся плоти вдоль челюсти кишели мухи.
Генри, охнув, отшатнулся и ринулся вверх по холму, в лес, подальше от лагеря. Снег у него под ногами весь разом куда-то делся, словно скатерть, сдернутая со стола ловкими руками опытного фокусника. Теперь Генри стоял на битой непогодой дороге, протянувшейся за горизонт такой острой линией, будто ее нарисовали. По обе стороны от нее лежали пшеничные поля. Небо свернулось штормовыми тучами.
Посреди продуваемой насквозь прерии его мать сидела в огромном кресле из красного бархата. Ветер бросал ей в лицо пряди посеребренных сединой волос. Генри не ощущал его порывов, не чуял пыли – во сне это было ему недоступно, так же как трогать людей и предметы, – но на уровне идей воспринимал то и другое. За спиной жены стоял его отец, держа руку у нее на плече, словно чтобы не дать ей улететь. Лицо его было сурово, неодобрительно.
– Святой Варнава сказал мне всю правду, – произнесла мать, глядя вперед широко распахнутыми глазами. – Это все витамины. Витамины сделали это с тобой, мне нельзя было их принимать.
Она принялась плакать.
– Ах, отчего ты меня оставил, Птенчик!
– Пожалуйста, не плачьте, маман, – взмолился Генри; сердце у него так и упало.
Даже во сне приходится глядеть в оба.
– Что это за дрянь? – прогрохотал отец.
В руке у него объявилось письмо и выросло таким огромным, что заслонило солнце. Сердце у Генри в груди бросилось о ребра.
– Это все витамины, – снова повторила мать и протянула руки, запястья ее были в крови. – Прости. Прости меня.
– Прекрати, прошу, – простонал Генри.
Он зажмурил глаза и попытался взять распоясавшийся сон под контроль. Ну, почему ему так легко менять сны для других, а для себя – никогда?
– Луи! Луи, где же ты?
Ветер взметнул пыль на дороге, и там, в клубах, Генри различил фигуры, прозрачные, словно ирландское кружево на пронизанном солнцем оконном стекле. Вел их человек, которого он видел в колоде Таро: худой мужчина в высоченной черной шляпе. Генри устремился к ним, но перед ним тучей перьев взлетела ворона, будто гоня его прочь, впереди пыльного облака и того, что шло в нем.
И Генри помчался за птицей, углубляясь в пшеничное поле…
Веки Лин вздрогнули и отворились во сне навстречу обнявшему ее вихрю бело-розовых лепестков. Она села и обнаружила, что оказалась в вишневом саду в пору цветения. Пейзаж был Лин незнаком, не имел для нее никакого значения – значит, скорее всего, имел для бабушки Ли Фань. Когда пророчица вызывала мертвых, они часто возвращались в те места, что любили при жизни. Или в те, что хранили память о бедах, – чтобы беды эти наконец упокоить.
Перед сном Лин помолилась и сделала приношение китайскими монетами в знак уважения к мертвым. Кольцо миссис Линь она надела на указательный палец правой руки. Со всем возможным уважением воззвав к ней, Лин принялась ждать. Откуда у нее дар проявлять во сне духов мертвых, Лин не знала. Мертвые никогда не приходили надолго: времени хватало лишь ответить на заданный вопрос, и они тут же исчезали.
Другой бы наверняка расценил способность гулять во сне и разговаривать с мертвецами как особый духовный дар, но Лин подобная сентиментальность была чужда. Ей она представлялась своего рода научной загадкой, которую еще только предстояло изучить и измерить. Означала ли встреча с мертвым, что время – всего лишь иллюзия? Может быть, мертвый возвращался лишь благодаря тому, что Лин обращала на него внимание, как если бы ему требовался ее разум, чтобы суметь обрести форму? Откуда мертвые приходили? Куда их энергия отправлялась потом? Что это вообще за энергия? И если призраки существуют, может, вселенная не одна, и сны – это начало пути к другим мирам? В каждый свой визит на ту сторону Лин упорно высматривала ответы.
Вскоре появилась бабушка Ли Фань; облик ее по краям размывала едва уловимая мерцающая аура. Лин всегда так видела мертвых. Уставившись на золотое облако, она стала машинально ставить мысленные галочки: насколько сильная у миссис Линь аура? Насколько яркая? Колышется ли она, содержит ли другие цвета? Выглядит плотной или, скорее, волнообразной? Что предшествовало явлению духа?
– Ты зачем потревожила мой покой? – требовательно вопросила миссис Линь.
Резинка схлопнулась, Лин вспомнила, что у нее вообще-то другие задачи.
– Тетушка, я пришла с просьбой от твоей внучки, Ли Фань. Она никак не может найти синее платье, что ей сшили в Шанхае, и спрашивает, не могла бы ты ей помочь? Она боится обидеть свою тетю с дядей и…
– Никого она обидеть не боится, – сварливо прервала ее пожилая дама. – Передай моей внучке, чтоб не смела меня беспокоить по таким пустячным поводам. И если уж она сама не в состоянии углядеть за своими вещами, понятия не имею, c какой стати этим должна заниматься я из-за гроба.
Лин спрятала улыбку.
– Хорошо, тетушка, я ей так и скажу.
– Она глупая девчонка, у которой… – Миссис Линь внезапно умолкла, на лице ее раздражение сменилось страхом.
– Здесь опасно, – прошептала она, и пульс у Лин так и скакнул.
– О чем ты говоришь, тетушка?
Но связь с бабушкой Ли Фань таяла на глазах, а вместе с нею и призрак.
Незримая машинерия царства снов пришла в движение, и Лин ощутила, что падает. Приземлилась она на земляную дорогу, протянувшуюся в бесконечность. По левую руку поле спелой пшеницы расстилалось морем червонного золота под небом ясного дня. Справа простерся сумрачный город в пелене тумана и смога.
– Эй! Ты, там!
Мальчишка в старом канотье на соломенных волосах махал ей с обочины пшеничного поля. От удивления Лин потеряла дар речи: он явно был не из сна.
Он ее видел.
Он не спал и… ходил, как сама Лин. Все ее научное любопытство разом куда-то делось, и в первый раз за всю историю своих путешествий Лин испугалась.
– Эй! – мальчишка кричал и шел к ней, а в голове у Лин так и бились последние слова покойной бабули Фань – здесь опасно!
И тогда она повернулась и припустила к городу со всех ног.
– Погоди! – кричал Генри, но девушка оказалась на редкость быстроногой и вмиг растворилась в городском тумане.
Еще один сновидец! Генри еще ни разу не встречал способных делать то же, что и он. Надо догнать незнакомку, поговорить с ней! Вдруг она как-то поможет ему отыскать Луи?
Здания проявлялись пред ним, как чернильные отпечатки ладони на загрунтованном холсте, – дома, магазины, рестораны… Дальние аркады надземной железной дороги. Ветер трепал флаги, испещренные китайскими буквами. Генри знал это место – он оказался в Чайнатауне.
Тут же ему на глаза попалась беглянка: девушка стояла перед бистро с навесным балкончиком, напомнившим ему слегка дома на Бурбон-стрит. Поперек фасада подмигивала неоновая вывеска – «Чайный дом».
– Подожди! Пожалуйста! – но она снова пустилась бежать и скрылась в утонувшем в тумане проулке.
На другом конце улицы туман заметно редел. Генри завертелся, пытаясь понять, где он, но разглядеть смог только гряду ветхих домов, прячущихся во мгле. Ни второй сновидицы, ни Луи…
Он так расстроился, что с удовольствием пнул бы сейчас что-нибудь.
– Луи! – заорал Генри во все горло. – Где же ты?
– Да что ты тут вытворяешь?
Теперь кричали уже на него – и это была она. Девушка стояла достаточно близко, чтобы он даже цвет глаз разглядел – зеленые, – и выглядела одновременно сердитой и перепуганной.
– Убирайся вон из моего сна! Ты мне тут не нужен!
– Из твоего сна? Ну-ка погоди минутку… – Генри шагнул к ней, и она отшатнулась.
Инстинктивно Генри выбросил руку вперед и схватил ее, чтобы не дать упасть, – и, к своему потрясению, ощутил контакт. Электрические искры заплясали по их коже. Взвизгнув, Генри отнял руку и замахал ею, пытаясь их стряхнуть. В воздухе сильно потянуло озоном.
Хлоп-хлоп-хлоп!
На окрестных крышах завзрывались фейерверки: бледные наброски светом по тени. Звуки покатились по брусчатке улиц: звонкий цок лошадиных копыт… скрип деревянных колес… недовольные вопли, хриплый смех… ропот толпы… Призрачные фигуры задвигались в тумане… Словно сон и сам спал, а теперь вздумал вдруг пробудиться. А потом – тихонько, издалека – Генри услыхал скрипку. Мелодия была так знакома, что тело узнало ее раньше разума – «Rivière Rouge»[11], старая франко-индейская песня, любимая у Луи. И кто бы ее сейчас ни играл, он делал это в точности как Луи – в приджазованной дельте.
– Луи, – прошептал Генри и завертелся в поисках источника.
Казалось, музыка лилась из дряхлого песчаникового дома с надписью через весь фасад: «Девлин, готовое платье».
– Луи! – закричал Генри, кидаясь к дому.
– Подожди! – закричала девушка, вне себя от изумления.
Женский вопль проткнул сон насквозь:
– Убийство! Убийство! О, убийство!
Что-то шевелилось в тумане, придвигаясь ближе.
Ударил церковный колокол и стал расти: громче, громче… Внезапно дальние крыши Чайнатауна, улочки старого города, словно написанные импрессионистом, известняковый дом – все покоробилось и стало сворачиваться, будто ткань сна швырнули в огонь.
– Нет! Погодите! Только не сейчас! – завопил Генри, но было уже слишком поздно.
Последнее, что осталось в памяти, были ярко-зеленые глаза той девушки-сновидицы – а потом он проснулся. Будильник соскочил с подоконника и с лязгом приземлился на пол. Метроном все еще щелкал на столе. Часы на руке показывали без одной минуты четыре – значит, он оставался внутри пятьдесят девять минут.
– Конячьи перья, Генри! – Тэта ворвалась в комнату – маска ее была сдвинута вверх, на короткие черные кудряшки – и вырубила будильник.
– П-п-прости, Тэта.
Вздохнув, она остановила метроном.
– Ты опять ходил на поиски?
– Да, Тэта, и, думаю, я его нашел.
– Правда? О, Генри!
Она набросила на дрожащего парня одеяло и придвинула стул.
– Давай, выкладывай.
Он рассказал, как услышал музыку Луи.
– Может, и он тоже пытается меня найти.
– Шикарные новости, Генри, – прокомментировала Тэта; голос ее, однако, звучал обеспокоенно. – Ты шевелиться-то можешь?
Минут, по меньшей мере, пять после хождения в сны Генри оставался парализован, как будто тело его застревало там, в другом мире. C усилием он поднял руку – совсем чуть-чуть – и сморщился, вгоняя силу обратно в мышцы.
– Видала? Совсем как новенькая!
– Я боюсь, когда ты так делаешь, сам знаешь. А что, если в один прекрасный день ты не вернешь себе способность двигаться? Что, если ты вообще не вернешься?
– Не волнуйся, милая. Я знаю меру.
– Только раз в неделю, – напомнила она. – И не больше чем на час.
– Да, мэм, – проворчал Генри. – А ведь я тебе еще самое странное не рассказал: я там не один сегодня шлялся.
– То есть там был кто-то еще, такой же, как ты?
– Ага! Девушка. Когда она показалась, я и услышал музыку. Вдруг она знает что-то про Луи? Вдруг она поможет мне его найти, а, Тэта?
– Но ты хоть что-нибудь о ней узнал? Имя?
– Нет, – скорбно ответствовал Генри. – Но это первый проблеск удачи за все время.
– Нам обоим хорошо бы поспать, а то будем завтра на репетиции как две сонные тетери.
Генри выкатил глаза.
– Флоренц Зигфельд представляет: «Фокус-покус телку!» – абсолютно новое пророческое ревю, мистицизм и магия в песнях и плясках!
– Ну, да, шоу паршивое, зато мы можем сделать из него конфетку. И оно вознесет нас на вершину, детка.
– Тебя вознесет на вершину, хочешь ты сказать? Это из тебя Фло звезду выращивает.
– Мы – команда. Берешь одного, бери и другого.
– А кто-о моя самая хорошая девочка? – промурлыкал Генри.
– Я. И не забывай об этом.
Тэта испустила долгий вздох и прижалась к лучшему другу, умостив голову у него на груди. Ее блестящие черные волосы все еще пахли сигаретным дымом.
– Может, мы все с ума сходим…
– Может, и так, – Генри поцеловал ее в макушку, она в ответ обняла его.
– Генри?
– Да, милая?
– Можно я посплю в твоей кровати? С тобой?
– Ну, если поможешь мне до нее дойти…
Тэта поставила Генри на ноги и довела до комнаты, где оба уснули рядышком, переплетясь руками, словно две половинки одного нераздельного целого.
Алое платье
А Джордж Хуань у себя во сне стоял под укутанным в легкую дымку солнцем: день клонился к вечеру, вечеринка была в самом разгаре. Он щеголял в сливочного цвета костюме и полосатой шелковой рубашке с модными французскими манжетами – он на такие только в витринах магазинов таращился, куда публику вроде него на порог не пускали. Сочный, стремительный джаз эхом гремел по всему сну. Вверху, на холме раскинулся вальяжный белый дом, кидая острые лезвия теней на летнюю зелень лужайки.
Джордж восторженно улыбнулся – опять его любимый сон! Когда-нибудь он заставит его сбыться.
Гости важно кивали, когда он шел мимо. Он тут был лицо значительное, уважаемое. Фотографы снимали его для газет. Джордж улыбался, позировал и любовался приятной картиной: по ту сторону высокого штакетного забора собралась целая толпа, глазея, завидуя, – мальчишки, травившие его в школе; клиенты, помыкавшие им, будто он и не человек вовсе…
Джордж отсалютовал им бокалом. И как я вам теперь нравлюсь? – подумал он.
– Джорджи! Эй! Сюда! – Стайка прелестных девушек помахала ему, стянула чулки и попрыгала в фонтан с шампанским, хихикая и плескаясь.
Джордж расхохотался, закидывая голову. Вот он, самый лучший сон на свете! Вот бы больше не просыпаться!
На краю лужайки возникла Ли Фань в алом чонсаме. Ветер кидал черные волосы ей на нарумяненные щеки.
– Давай посмотрим этот сон вместе… – прошептала она, повернулась и пошла в высокий белый дом.
Шепот этот разжег в Джордже новое пламя. Никогда еще он ничего и никого так не хотел. Предки мерцали по краям веселой толпы, словно фигуры на выцветающей от времени фотографии. Кто-то из них тянул к нему руки, будто хотел схватить, удержать, сказать ему что-то важное, но Джордж не желал покидать свой сон, не желал терять мечту из виду. И он помчался вперед, забыв про них, оставив все сомнения позади. Он миновал фонтан, из которого мокрые девушки жадно пожирали его глазами. Голоса их свились в шелестящий соблазном хор:
– Посмотри этот сон с нами, посмотри сон, c нами, c нами, c нами, сон хочет, хочет, хочет, чтобы ты смотрел его, сон, сон, смотрел сон с нами…
Ли Фань ждала в затененном дверном проеме; алое платье мерцало в полумраке. Она взмахнула рукой, и тьма позади нее озарилась, словно киноэкран – и на нем показывали фильм, где они танцевали вдвоем, приникнув друг к другу, и оркестр играл, и девушка напевала: «Милый мечтатель, узри же меня. Звезды и росы заждались тебя…»
Ли Фань на экране склонила личико к Джорджу для поцелуя, и сердце у него отчаянно затрепетало. Но не успели губы сомкнуться, как свет погас, будто автоматическая пианола отрубилась на самом интересном месте, чтобы в нее продолжали кидать медяки. Ли Фань на пороге поманила его пальчиком за собой, отступая во мрак, давая сомкнуться теням. Все, чего Джордж в жизни хотел, ждало его там – ну, он и вошел.
Потолок над ним мягко фосфоресцентно мерцал. Зато как холодно в этой комнате оказалось – вот уж неприятный сюрприз! А еще там были звуки: негромкое ворчание, скреб когтей… Джордж так и встал. Он оглянулся назад, туда, где сквозь открытую дверь сиял ломтик солнца, а потом решительно шагнул во мглу.
– Ли Фань? – позвал он.
Ответа не было.
По рукам его пробежали тени, и он поднял глаза к мерцающему потолку.
Нет, не мерцающему.
Шевелящемуся.
Тихое ворчание слилось в хор, от которого кровь застыла в жилах; лишь одна членораздельная мысль еще билась у Джорджа в голове: просыпайся! ПРОСЫПАЙСЯ СЕЙЧАС ЖЕ! И он кинулся назад, к туманному солнечному кругу, туда, где все было так хорошо. Но чем ближе он подбегал к свету, тем дальше тот оказывался.
Наконец, Джордж вырвался, вывалился на лужайку. Летняя травка успела высохнуть, сделаться ломкой и зачервиветь змеями. Фонтан с шампанским теперь бил красным – кровью! Полуодетые девицы пригоршнями черпали жидкость, раскрывали гнилые рты, сверкали бритвенно-острыми зубами.
– Еще! – кричали они. – Еще!
– Обещай мне… – требовал сон.
Проснись, проснись, проснись же, шептал сам себе Джордж. Он даже глаза зажмурил, но это ничуть не помогло: сон вторгался все дальше, все глубже в его разум, пока всю его голову не заполонили совершенно жуткие образы: демоны пожирали его внутренности, рвали горло зубами. Каждое мгновение могло оказаться последним.
– Я обещаю! – крикнул он, снова открывая глаза.
Остро уколола боль, и что-то холодное разлилось по всему телу. Где-то далеко ему махала Ли Фань, но дотянуться до нее он не мог – он никогда не мог до нее дотянуться…
Губы его разомкнулись, исторгая последний вопль о помощи.
Но помощь так и не пришла.
День седьмой
Утреннее солнце
Глухое, серое утро отвесило более чем скромную порцию солнца иммигрантским кварталам манхэттенского Нижнего Ист-Сайда. Торговцы закатывали жалюзи: начинался еще один деловой день. Портные, ускользнувшие от погромов в Пейле, налаживали швейные машинки на Ладлоу и Хестер-стрит; из подвальных решеток китайских прачечных вдоль Пэлл и Байярд уже валил пар. Итальянские пекарни на Малберри-стрит набивали витрины свежими золотыми буханками; запах дрожжей окрашивал зимний воздух, мешаясь с острыми ароматами китайской еды, c едким рассолом из бочек с соленостями, c коричной сладостью рогаликов – настоящая плавильня народов, только для обоняния. Ветер обметал синагоги, церкви и храмы, громыхал зигзагами железных пожарных лестниц – но с грохотом и визгом надземки Третьей авеню, высоко взлетевшей над Боуэри, этой демаркационной линии между Нижним Ист-Сайдом и всем остальным Нью-Йорком, – в сравнение не шло ничего.
Лин глядела со своей кровати на серые шерстяные облака, грозившие лишить Чайнатаун даже этого грошового солнца. Возмущенный ропот сам собой рождался где-то в горле, словно зимнее небо оскорбило ее лично. Острые спазмы закололи нервные окончания в ногах; не успела Лин как следует вступить в битву с болью, как по ту сторону двери послышался мамин голос:
– Лин, проснись и пой!
Мама просунула свое веснушчатое личико в дверь и нахмурилась.
– Да ты еще не одета, моя девочка! В чем дело? Ты хорошо себя чувствуешь?
– Со мной все в порядке, мама, – сумела выдавить Лин.
– Ну-ка, дай я тебе помогу…
– Мама, я сама в состоянии встать, – проворчала Лин, стараясь скрыть сразу и боль, и раздражение.
Та задержалась в дверях.
– Я тебе с вечера выложила комбинацию и платье. И шерстяные чулки – на улице жуткий холод.
Лин скосила глаза на изножье кровати. Конечно, мама выбрала персиковое платье – Лин его ненавидела и выглядела в нем ни дать ни взять как фруктовый салат, только очень грустный.
– Спасибо, мама.
– Не копайся тут, – сказала та напоследок. – Завтрак остынет, и чтоб никаких потом протестов.
Только когда дверь за ней затворилась, Лин издала, наконец, мычание, которое изо всех сил давила, пока судорога постепенно отпускала ее ноги. Она еще секундочку полежала в постели, вспоминая странное ночное путешествие. В своих прогулках по снам она ни разу не встречала никого, способного проделывать то же, что и она, – и ее это вполне устраивало. Путешествия были ее личным, частным делом. Можно сказать, священным. Но эти искры…
Лин села. Она со вздохом потянулась за металлическими скобами, прислоненными к прикроватному столику, и обняла ими бесполезные мускулы голеней, затянув пряжки на кожаных ремнях над и под коленками. Обеими руками она перекинула свои запертые в клетки ноги через край кровати, схватила костыли и неуклюже поковыляла к шкафу. В темно-синем платье она, по крайней мере, не чувствовала себя блюдом на летнем пикнике. Она завязала шнурки черных ортопедических ботинок и бросила последний взгляд в зеркало. Увидела, конечно, металл, пряжки и страшные черные ботинки, что же еще.
– Лин! – снова подала голос мама.
– Иду!
Она щурилась на свое отражение, пока от него не осталось размытой синей кляксы.
В столовой радио играло воскресные псалмы, а мама разливала чай в тонкий китайский фарфор. Лин молча заняла место за столом подле отца и изучила раскинувшуюся перед ней экспозицию: яичница, бекон, лапша со свиным салом, клецки с креветками, овсянка, тосты. Яйца, ясное дело, будут полусырые – настоящий повар у них в семье папа, не мама… Овсянка даже не обсуждается… хорошо, остановимся на тосте.
– Надеюсь, этим ты не ограничишься, – неодобрительно хмыкнула мама.
Отец хитро сманеврировал ей на тарелку клецку. Лин хмуро посмотрела на него.
– Тебе нужно поддерживать силы, девочка моя, – высказалась мама.
– Твоя мать права, – автоматически отозвался отец.
Лин повернулась к двоюродному дедушке: он был самый старший, его мнение значило больше всех.
– Если ребенок захочет есть, он поест, – дедушка улыбнулся ей.
Лин готова была его обнять.
Если бы, конечно, она была из тех, кто обнимается.
– По крайней мере, чаю выпей, – мама водрузила ей на тарелку дымящуюся чашку.
Она налила чаю и папе и утешительным жестом положила ему на плечо руку. Мистер Чань ответил улыбкой. Двадцать лет назад, когда оба они только-только эмигрировали – папа из Китая, а мама из Ирландии, – родители познакомились на собрании в церкви. Шесть месяцев спустя они поженились, но до сих пор иногда смотрели друг на друга, как стеснительные и смертельно влюбленные дети на первых танцульках. Лин находила это отвратительным и неудобным, так что поскорее отвела от них взгляд – который тут же упал на газету, прислоненную к папиной тарелке. На странице выделялся заголовок:
ДЖЕК МАРЛОУ ПРИГЛАШАЕТ НА ВЫСТАВКУ «БУДУЩЕЕ АМЕРИКИ».
– Вот так читать будет проще, – сказал отец, протягивая ей газету.
– Спасибо, Баба.
– Читай и ешь, – взмолилась мама, – а не то мы к мессе опоздаем.
Проглядывая статью по диагонали, Лин задумчиво кусала уголок тоста.
На днях Джек Марлоу открывает в нью-йоркском Квинсе свою легендарную выставку «Будущее Америки». «Исключительный американец и его новый век» соберет под крыло всех умнейших и лучших, прославляя наши достижения в науках, сельском хозяйстве, математике, евгенике, робототехнике, авиации и медицине.
– Наверняка ты захочешь сходить, – сказал папа, чуть ли не подмигивая.
Лин-то знала, что такое крайне маловероятно. Ресторан отнимал все время. Вывезти ее в Квинс на открытие какой-то там выставки, значит выбросить на ветер драгоценное время. И деньги.
– А можно, Баба?
– Ну, посмотрим, что тут можно сделать.
Лин выдала полуулыбку.
Тут другой заголовок, поменьше, привлек ее внимание, и улыбка растаяла, зато нахмурился лоб.
ТАИНСТВЕННАЯ СОННАЯ БОЛЕЗНЬ СТАВИТ ВЛАСТИ В ТУПИК
Сонная болезнь, терзавшая жителей Чайнатауна, перекинулась и на другие нью-йоркские общины. Из Нижнего Ист-Сайда сообщили о четырех новых случаях, и еще один был зарегистрирован далеко на севере – на Четырнадцатой улице. Служба здравоохранения, слишком хорошо помнящая опустошения, произведенные пандемией испанского гриппа в 1918 году, заверяет читателей, что она ведет активные исследования и готова обеспечить безопасность ньюйоркцев.
– Я слышал, что на Малберри был новый случай, итальянская девочка заболела. И, возможно, еще одна, на Хестер-стрит, – вставил дядюшка Эдди. – И, знаешь, они называют ее китайской сонной болезнью.
Папа Лин продолжал как ни в чем не бывало цедить свой кофе, но по желваку на челюсти она убедилась, что название болезни услышали и приняли к сведению.
– Но эта сонная болезнь, она же не только тут, в Чайнатауне, – возмутилась миссис Чань, вытирая розовые веснушчатые руки о фартук.
– Достаточно сказать, что началась она здесь и винить нужно нас. Я слышал, городские власти могут даже отменить наши новогодние празднества, – сказал дедушка.
– Баба, неужели правда? – воскликнула Лин.
До Года Кролика оставалось всего несколько недель.
– Не волнуйся. Ассоциация позаботится, чтобы праздник прошел, как запланировано, – заверил ее отец.
– Если они не остановят болезнь как можно скорее, то нет, – вздохнул дедушка. – Бизнес и так не ахти. C каждым днем туристов все меньше.
– Все будет хорошо, – заявил мистер Чань.
Дед покачал головой и повернулся к Лин.
– Твой папа всегда был оптимистом.
– И что не так? – досадливо поинтересовалась миссис Чань.
– Если веришь во что-то, так оно и будет, – сказал мистер Чань. – Ну, а если нет…
– …то и нет, – закончила Лин.
Еще одна судорога схватила ее за левую ногу.
– Лин! Ты в порядке?
– Да, мама, – кое-как сумела выдавить она.
– Может, тебе не ходить на мессу сегодня?
– Со мной все хорошо!
Не то чтобы ей так уж хотелось в церковь, но из дома выбраться не помешает. Если мать решит, что судороги не проходят, ее заставят проваляться весь день в постели. Лин и так уже чувствовала себя достаточно виноватой, что не потащилась с утра в ресторан, а ведь воскресенье в «Чайном доме» – самый загруженный день.
– Ну ладно, упрямица ты моя, – вздохнула мать. – Не могу же я с тобой из-за всего препираться. Давай надевай пальто.
Колокола вызванивали воскресный гимн. Лин с родителями шли мимо лоточников, зеленщиков, рыбников, готовящихся к новому дню. Редкий автомобиль то и дело проталкивался через узкие улицы, сердито бибикая, среди пешеходов, одетых кто в лучшее воскресное платье, а кто для работы. Мама Лин на ходу кивала, улыбалась, перекидывалась словечком-двумя с соседями, упорно отводившими глаза от железных скобок Лин, словно ниже пояса у нее ничего не было… словно они могли заразиться неудачей от ее болезни, даже вприглядку. Лин вымучивала улыбку, притворялась, что слушает разговоры, а сама думала – ох, если бы только я сейчас спала, если бы только ушла в сон.
И, уж конечно, все смолкали, минуя многоквартирный дом с желтым знаком поперек парадных дверей:
ДЕПАРТАМЕНТ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА. ЭТО ЗДАНИЕ НАХОДИТСЯ НА КАРАНТИНЕ. СОННАЯ БОЛЕЗНЬ. ВХОД ВОСПРЕЩЕН.
Весь Чайнатаун словно копил статическое электричество; в воздухе висел железный запах, как перед грозой.
Двери карантинного дома отворились. Люди из Китайской Благотворительной Ассоциации – все в масках – выносили зараженное постельное белье на улицу, где их уже ждали другие с полными ведрами воды. Простыни подожгли. Прохожие останавливались поглядеть. Ветер кинул сажу пополам с песком прямо в глаза Лин – она поскорее отвернула лицо от огня и мусора и на мгновение на краю толпы увидала Джорджа, бледного, как мел, без пальто. Он стоял за пределами толпы, на краю Коламбус-парка. Лин принялась тереть заслезившиеся глаза, а когда она их открыла, никакого Джорджа, разумеется, и в помине не было.
– Ужас, правда? – рядом нарисовалась Ли Фань.
Некоторое время они молча смотрели, как люди в масках заливают огонь из ведер.
– Да, – отозвалась наконец Лин, стараясь не раскашляться от дыма.
Ли Фань улыбнулась ее маме.
– Я провожу Лин до церкви, миссис Чань. Нам с ней нужно о многом поговорить.
– Ах, это так ужасно мило с твоей стороны, Ли Фань. Вот же добрая душа!
Ты бы меня лучше с дьяволом наедине оставила, хотела крикнуть ей в спину Лин, но, конечно, не крикнула.
Подождав, пока миссис Чань уйдет немного вперед, Ли Фань оглянулась и убедилась, что их никто не подслушивает.
– Ну, что, ты говорила с моей бабушкой?
Она могла сколько угодно называться Лулу и носить флапперские шмотки, но Лин знала, что глубоко внутри у Ли Фань жили все те же суеверия, тот же страх оскорбить предков, что и у всех в округе. Эта нитка долга была воткана в подол здесь у каждого – и связывала всех воедино.
Лин кивнула, и физиономия Ли Фань просветлела.
– И что же она сказала? Ей известно, что сталось с моим платьем? А может, у нее есть для меня что-нибудь поважнее? Она упоминала Тома Ки? Дату свадьбы? Она передавала какой-нибудь совет для меня?
– Да, – спокойно сказала Лин.
Настало время Лулу заплатить за все.
– Ну? Какой? – требовательно вопросила Ли Фань.
Лин могла сказать ей сейчас что угодно – обрей голову и уйди в монастырь, отдай синее платье мне, каждое утро на заре оставляй три очищенных грецких ореха на льняной салфетке для белок в Коламбус– парке…
– Она сказала, что ты глупая девочка и чтобы ты прекратила тревожить ее покой.
На долю секунды потрясение помешало Ли Фань высказаться по этому поводу, но сейчас же ее алый от помады рот сжался в ниточку.
– Ты врешь! – выплюнула она. – Моя бабушка никогда бы такого не сказала. Наверняка ты вообще не умеешь ходить по снам и разговаривать с мертвыми. Ты просто жалкая дурочка, которая пытается привлечь к себе внимание, вот и все. Давай обратно мои два доллара!
– Мы заключили сделку. Ты хочешь взять свое слово назад?
– Откуда мне знать, что ты вообще разговаривала с моей бабушкой? Где доказательства? Ты даже не полностью китайской крови! – Ли Фань презрительно усмехнулась. – С какой стати нашим предкам говорить с тобой?
Кое-кто из ее компании уже подтянулся поглазеть на спектакль. Еще несколько дней будут шептаться, это уж как пить дать. Щеки Лин вспыхнули.
– И, подумать только, я еще тебя жалела, когда все это случилось! – Ли Фань бросила быстрый взгляд на ее ножные скобы.
Все девчонки уже таращились на них, ухмылялись, шептались. Больше всего на свете Лин сейчас хотелось развернуться и поковылять домой, забраться в постель, уснуть и видеть сны, где она могла делать все, что пожелает, – где могла даже убежать, далеко-далеко.
Мимо, завывая сиреной, промчалась «скорая помощь». Улица нервно загудела. Грейси Лэнь уже спешила к ним, громко зовя Ли Фань.
– Ну, что еще? Что случилось? – недовольно вопросила Ли Фань.
Грейси едва переводила дух, в глазах у нее блестели слезы.
– Ты слышала? Ты уже слышала?
– Да что слышала-то? – Ли Фань всегда быстро теряла терпение.
– О-о-о, это слишком ужасно! – промяукала Грейси.
– Вот честно, Грейси Лэнь, если ты сей же час не объяснишь мне, в чем…
– Джордж Хуань!
Грейси, кажется, впервые заметила Лин.
– Мама пришла будить его сегодня утром – и не смогла добудиться. Уж как она пыталась, что только не делала, доктора Шу позвала… – Тут Грейси набрала воздуху. – Они думают, что у Джорджа сонная болезнь!
Гул улицы вырос до крещендо. Новость полетела из уст в уста бациллой сплетни.
В животе у Лин словно воронка открылась. Но я же его только что видела!
– Лин! Лин! – рядом вдруг очутилась мама, обняла за плечи, словно могла защитить от всего и навеки.
Впервые Лин не захотелось немедленно оттолкнуть ее. Пока мама крепко обнимала ее, взгляд Лин лихорадочно обшаривал Пэлл-стрит. Да, солнце было очень сильное, да, в глаза нанесло песку, но она все равно могла поклясться, что несколько секунд назад видела Джорджа собственной персоной – толпа вокруг, зимнее небо сверху, немного мерцает по краям, совсем как мертвые, рот открывается и закрывается в безмолвном крике…
Мы сами хозяева своей удачи
Доктор Уильям Фицджеральд вошел под своды Музея Американского Фольклора, Суеверий и Оккультизма и направил свои стопы прямиком в музейную библиотеку. Несущегося через экспозицию доктора окликнул его ассистент, Джерико Джонс, но тот не сбавил шага, вынудив молодого человека пуститься вдогонку.
– Лонг-айлендский клуб «Духовно-божественные» просит вас выступить у них через две недели. Дамский вечерний клуб «Призрачные воскресенья» также был бы признателен…
– Нет и нет. Обоим, – бросил Уилл.
– Еще поступило приглашение организовать шоу на дне рождения юного Тедди Сандерсона в Бруклине. Ему исполняется десять.
Уилл встал как вкопанный, на всем скаку; глаза его сузились за стеклами пенсне.
– Детский день рождения? Ради бога, я же музейный куратор, а не массовик-затейник. И не цирковой клоун.
Джерико пожал плечами.
– Они обещают пять долларов.
– Ответь «нет».
– Разумеется. Ах да, еще звонила мисс Уокер. Сказала, что придет завтра ровно в два и чтобы вы и не думали опаздывать. Еще она сказала, я цитирую: «Передай доктору Фицджеральду, что мы поедем на моей машине, потому что я в жизни не сяду в эту его антикварную мышеловку, которую он выдает за „форд“». Конец цитаты.
На лице Уилла не отразилось ровным счетом ничего.
– Благодарю. Это все?
Джерико вздрогнул.
– Лекционная группа ожидает вас в библиотеке. Мистические Медиумы за Мирное Урегулирование Между Живыми и Мертвыми.
Уилл поник плечами и испустил долгий вздох.
– Да чего уж там. Я – точно официальный клоун. Из цирка.
С Джерико в фарватере Уилл ворвался в библиотеку, где аккуратным рядочком сидели десять Мистических Медиумов; одинаковые головные повязки щеголяли эмблемой третьего глаза по центру.
Уилл неопределенно показал на украшение:
– А это вот… м-м-м… зачем?
Дама в расшитом стеклярусом тюрбане понимающе улыбнулась.
– Они усиливают наш контакт с духовным планом!
Уилл метнул испепеляющий взгляд в Джерико, который взмахнул растопыренной пятерней – пять долларов, пять! – и благоразумно удалился на второй этаж, спрятавшись за рядами книжных стеллажей.
– Добрый день, – поплыл вверх голос Уилла. – Я – доктор Уильям Фицджеральд, куратор этого музея. Давайте начнем? История пророков самым тесным образом связана с историей нашей страны, начиная с аборигенного населения…
Наверху, на галерее, Джерико прошептал Сэму:
– Он не может больше читать эти лекции…
– Еще как может, если хочет отапливать музей, – отозвался Сэм. – Ты уже спрашивал его сам-знаешь-про-что?
– Пока нет.
– Ну же, Фредди! Это вообще-то твоя работа!
– Он все равно откажется.
– Тогда нам придется его убедить, – заключил Сэм.
А внизу как раз в этот самый момент кто-то из Мистических Медиумов решил прервать профессора:
– Доктор Фицджеральд, а что со всеми этими сообщениями о пророках, которых сейчас стало так много? Вы согласны, что это доказательство избранности Америки Богом как места присутствия божественности? Ее абсолютной исключительности, как говорит Джек Марлоу.
– Полагаю, это зависит от вашего определения исключительности.
– Ну, я имею в виду исключительность, сэр! Исключительная страна, построенная на идеалах мира и честности и на обещании всеобщего процветания.
Уилл поднял взгляд вверх: на потолочных фресках раскинулись прекрасные холмы, железные дороги исчертили зеленый пейзаж, по которому серебрились реки с давно забытыми именами.
– Я бы сказал, что всякая страна строится на мечтах и насилии. То и другое оставляет шрамы. И Америка, безусловно, не исключение.
– По мне, так это звучит недостаточно патриотично, – поделилась женщина со своим соседом.
– Доктор Фицджеральд, а что вы думаете по поводу радиошоу вашей племянницы? – спросил кто-то еще, и все тут же жадно зашептались. – Вы всегда знали, что она пророчица? Как именно ее таланты помогли изловить Пентаклевого Душегуба?
– Да-да, расскажите нам о Пентаклевом Душегубе! – заволновались Мистические Медиумы.
– Боюсь, на сегодня все, – отрывисто ответил Уилл и вышел из зала.
– Ох-ох, – прокомментировал Сэм на антресолях. – Только не это!
– Вперед! – прошипел Джерико, практически выпихивая его вперед себя на винтовую лестницу.
– Я думал, лекция будет длиться час, – запротестовал твидовый джентльмен. – Мы заплатили за час!
– Потише, дядя, – сказал ему Сэм. – Мы же не хотим, чтобы ваши третьи глазки плакали. А вот что вы, ребята, скажете про эксклюзивную возможность увидать личный дневник Либерти Энн Ратбоун, прославленной сестры-пророчицы самого великого Корнелия Ратбоуна, а? Соблаговолите проследовать за мной в экспозицию. Сюда, леди и джентльмены.
Пока Сэм увлекал экскурсантов прочь, Джерико просочился в Уиллов кабинет. Босс стоял у высокого окна, вперив неподвижный взор в заиндевелую улицу. Джерико кашлянул.
– Уилл, они заплатили авансом.
– Я в курсе, – тот ущипнул себя за переносицу. – Устройте для них бесплатную экскурсию или еще чего.
– Сэм как раз этим и занимается.
– Я вам обоим очень обязан, – Уилл повернулся к нему. – Ты подготовил статьи, которые я просил?
Джерико постучал пальцем по папке у него на столе.
– Все материалы о сверхъестественных происшествиях за прошлую неделю, плюс сегодняшние газеты. – Он как следует набрал воздуху. – И вот это пришло на ваше имя.
Он подал Уиллу конверт официального вида. Тот глянул на обратный адрес: Налоговое Управление Нью-Йорка, c крупным красным штемпелем «ПОСЛЕДНЕЕ ПРЕДУПРЕЖДЕНИЕ» – и отложил его.
– Спасибо, Джерико. Ну-с, посмотрим, что у нас тут сегодня…
Уилл уселся за стол, тщательно протер очки, снова зацепил их за уши и решительно нырнул в кипу газетных вырезок. Из нее он вытащил четыре, сразу же притянувшие взгляд, потом бегло просмотрел сегодняшние заголовки, пролистал страницы – и наткнулся на мордочку Эви, улыбающуюся из-под полей модной шляпки.
ПРОВИДИЦА-ДУШЕЧКА УСТРАИВАЕТ ДИКУЮ ВЕЧЕРИНКУ В «ГРАНТ-ОТЕЛЕ»
Что может быть Душевнее и Пророчнее, чем ночь с Эви О’Нил?
Материал Т. С. Вудхауза
– Милая картинка, – сказал Джерико из-за спины Уилла.
Тот поднял на него неодобрительный взгляд.
– Тебе никто не говорил, что невоспитанно читать через плечо?
– А вам никто не говорил, что невоспитанно быть таким невоспитанным? – Физиономия Джерико осталась абсолютно бесстрастной.
– Прости, – опомнился Уилл. – Мне очень жаль, Джерико.
– Все в порядке. – Молодой человек показал на отложенные Уиллом вырезки: – Почему эти?
– Они все за городом и в пределах сотни миль друг от друга.
– Братство не так уж далеко оттуда, – заметил Джерико.
– М-м-м.
– В ту ночь, когда вы… когда меня подстрелили и вам пришлось дать мне слишком много сыворотки сразу… мое поведение… я хочу сказать…
Боже, да что с ним такое? Двух слов связать не может.
– В ту ночь я напугал Эви?
– Прости?
– Эви. Она испугалась, увидев меня вот так, со всеми этими трубками и механизмами внутри… узнав, что я такое?
– Это не единственное необычное происшествие, c которым ей пришлось столкнуться за последние месяцы. И в целом ей хоть бы хны.
Джерико кивнул и медленно выпустил воздух. Возможно, надежда еще есть…
– Кому хоть бы хны? – осведомился Сэм, входя в кабинет.
– Никому, – отозвался, хмурясь, Джерико. – Куда ты девал Мистических Медиумов?
– Третьеглазников-то? Оставил баловаться с картами Таро.
– Ты… что?
– Расслабься, Фредди. Я им сказал, что читать карты могут только особые люди, обладающие особыми силами. Так они, натурально, думают, что это они и есть. Доверься мне: они там счастливы, как устрицы.
– Какая нелепая аналогия. Как будто кто-то измерял степень счастья моллюсков, – проворчал Уилл, роясь на захламленном столе в поисках сигарет.
Что его мучает? – одними губами спросил Сэм у Джерико. Джерико показал глазами на угрюмое письмо из налоговой, и Сэм коротко кивнул.
Пока в городе орудовал Пентаклевый Душегуб, Музей Американского Фольклора, Суеверий и Оккультизма внезапно обрел популярность, привлекая немаленькие толпы любопытствующих. Всякий желал поглядеть на профессора сверхъестественных наук, помогающего полиции загнать в угол жуткого, эзотерически озабоченного преступника. Но потом убийства прекратились, прихотливое внимание Манхэттена переключилось на другие интриги и скандалы, и теперь музей снова стоял тихий и забытый – всеми, кроме налоговиков.
Сэм прочистил горло.
– Профессор, если вы дадите мне вставить свои два цента…
– Практически наверняка не дам, – отозвался Уилл, не отрываясь от бумаг.
Джерико метнул в него красноречивый взгляд – оставь-его-в-покое – но Сэма было уже не остановить.
– Мы тут едва сводим концы с концами. Одна-две лекции, одна-две группы доморощенных мистиков… Пара любопытствующих туристов. Для аукциона этого недостаточно.
– Нам всегда как-то удавалось прорваться.
– Только не в этот раз, профессор. Это последнее предупреждение. Нам нужен стопроцентно выигрышный ход. Какая самая большая сенсация в городе с тех пор, как Зоб Полнорех стал жарить арахис?
– Зоб… чего? – Уилл озадаченно уставился на него.
– Пророки! Разверните газету, включите радио, выньте рекламку из пачки жвачки – везде будет пророческий бум. Сдается мне, мы с вами проворонили откровенную золотую жилу.
– Прости, Сэм, я что-то не догоняю.
– Мы закатим экспозицию про пророков. Наживемся на буме, пока все бум-бум. Какого черта – у нас тут и так половина фондов от пророков или про пророков. Добавим каких-нибудь соплей-воплей, что-нибудь попошлее, как публика любит, и ба-бах – мы в деле!
– Вообще-то это хорошая идея, – вставил Джерико.
– Видите! Даже нигилист согласен, а ему никогда ничего не нравится, – Сэм состроил рожу Джерико, закатившему было глаза. – И… мы могли бы взять крупное имя, чтобы привлечь побольше народу. Кого-нибудь, за кого публика станет радостно платить.
– И кто бы это мог быть, умоляю, не таи?
Сэм сделал паузу.
– Эви.
Челюсть Уилла напряглась.
– Нет.
– Да ну вас, профессор. Не можете же вы двое всю жизнь просидеть в разных комнатах. Когда-нибудь придется разбить лед. Я вот ее вчера видел и…
– Так, стоп. Ты видел Эви?
– Ну, да, я так и сказал. Профессор, да говорю вам, одно слово, брякнутое ею на радио, и наше дело в шляпе. А уж если она согласится…
– Где ты ее видел? – взвился Джерико.
– В «Грант-отеле». Так вот, если она согласится…
– Но как это слу…
– Просто заткнись, Фредди, – сурово сказал Сэм. – Как я уже сказал, если она согласится стать у нас специальной гостьей на вечеринке по случаю открытия пророческой экспозиции, у нас все будет чики-пики.
– Уверен, мы сумеем раздобыть нужную сумму, не предавая идеалов этого заведения, – резко сказал Уилл.
– То есть мириться с ней вы не согласны? Даже ради спасения музея? – подвел итог Сэм. – Времени у нас только до марта, профессор, а потом здание заберет мэрия.
Уилл сунул письмо из налоговой под стопку газетных вырезок.
– Мы решим этот вопрос. Итак, о происшествиях. В последнюю пару месяцев они участились – со времени Джона Хоббса, если быть точным. Вы это заметили?
Так идея с пророческой выставкой, c вечеринкой и Эви оказалась похоронена. Уилл выстукивал неспешный ритм вечным пером по столу.
– Что-то в этом есть, – задумчиво сказал он. – Сдается мне, тут все взаимосвязано.
– Как? – устало промолвил Джерико.
Уилл вскочил и принялся мерить шагами кабинет.
– Не знаю – пока. И вряд ли сумею выяснить, если буду торчать здесь.
Остановившись возле высокого поставца с глобусом, он хорошенько пришпорил планету, ведя пальцем по ее изгибам.
– Именно поэтому я думаю заняться полевой работой – как в те древние времена, когда сам был исследователем. Как думаете, вы двое справитесь с музеем, пока я съезжу поглядеть хотя бы на несколько из этих случаев? Я, надеюсь, ненадолго. Дней десять. Может быть, пара недель.
Джерико покачал головой.
– Уилл, я в самом деле не думаю…
Сэм наступил ему на ногу, прервав мысль на взлете.
– Разумеется, справимся. Великан и я – превосходная команда!
– Отлично, тогда так тому и быть. Уеду завтра около двух.
Внезапно таинственное телефонное послание мисс Уокер стало для Джерико яснее ясного. Уилл решил уехать задолго до того, как высказал эту идею. Их нынешний разговор был не более чем формальностью.
– Итак, прекрасно, – окончательным тоном сказал Уилл. – Я, пожалуй, пойду пройдусь, если вы не возражаете.
Сэм увязался за ним в холл.
– Вы только ни о чем не беспокойтесь, профессор. У меня тут все будет под контролем.
– Вот именно это-то меня и беспокоит, – ответил Уилл, распахивая входные двери.
Прелестное утреннее солнышко сменилось первой предупреждающей капелью, в самом скором будущем обещавшей превратиться в отвратную морось. Доктор встряхнул зонтик.
– Вы только тут его не открывайте, док, – предостерег его Сэм.
– Это еще почему?
– Плохая примета, – пожал плечами тот. – Это всем известно.
– Мы сами создаем свою удачу, – отрезал Уилл, раскрыл черную паукообразную сень и под углом кое-как протащил ее, будто щит, сквозь дверной проем.
Проводив Мистических Медиумов восвояси, Сэм вернулся в библиотеку, где Джерико, как обычно, читал, сгорбившись над длинным столом.
– Ну, вот и я. Скучал по мне? – осведомился Сэм, плюхаясь в Уиллово кресло.
Джерико даже не поднял глаз от книги.
– Как по тифу. Что касается вечеринки, я тебе, между прочим, так и говорил. И, между прочим, это кресло Уилла.
– Да, довольно удобное. Понятия не имел, что тут так мягко.
– Вон.
– Ну, Фредди. Папочки все равно нету дома.
– Вон!
Сэм со вздохом передислоцировался на честерфилд[12]. Ноги он водрузил на стол рядом с книгой Джерико – просто чтобы его позлить.
– Парень, мы с тобой должны устроить эту пророческую выставку. Нельзя дать Уиллу профукать музей.
Джерико с сомнением поглядел на него над переворачиваемой страницей.
– И c каких это пор тебя так волнуют дела музея?
– Я вообще по натуре заботливый. Неужели человек не может искренне хотеть помочь другому человеку?
– Тут что, где-то золото в стенах замуровано?
– Слушай, я у вас вообще-то хорошо устроился. Если музей пойдет ко дну, так и я вместе с ним.
– Вот где собака зарыта.
– Да не во мне одном дело. У тебя тоже честный контракт. Ну-ка, сколько в округе рабочих мест для ребят, читающих Ницше и каталогизирующих мешочки гри-гри? Если мы с тобой хотим сохранить рабочие места, нам нужен план. Эта пророческая выставка – наш билет в будущее. Пока профессор катается по своим делам, у нас есть целиковые две недели, чтобы все обстряпать – и чтоб никто при этом не лез под руку.
– Ему это не понравится.
– Его тут не будет, чтобы нас остановить, а когда мы запустим всю махину, что он сможет сделать? Придется пойти на риск, Джерико.
Тот откинулся на спинку кресла, не сводя глаз с Сэма.
– И как же ты собираешься заманить Эви быть хозяйкой вечеринки? Они с Уиллом не разговаривали с тех самых пор, как она объявила всему Нью-Йорку, что она пророк.
– О, уверен, Эви я убедить смогу, – небрежно заявил Сэм, сцепляя руки за головой.
Джерико вернулся к книге.
– Да? Вы это обсуждали прошлым вечером в «Гранте»?
– Тебя это так сильно расстроило?
– Этого я не говорил, – Джерико перелистнул страницу. – Как она там, кстати? Выглядит счастливой?
Сэм пожал плечами.
– А то! Это ж было на вечеринке. Сам знаешь, как оно там, на них. Или нет, откуда тебе.
Эту его подковырку Джерико проигнорировал.
– Так вы часто видитесь?
Сэм, конечно, мог сказать Джерико правду – что Эви практически вышибла его с вечеринки, но куда забавней, если он будет думать по-другому.
– Ну-у-у… как джентльмен, я, пожалуй, не скажу больше ни слова.
– Отлично. И не говори, – Джерико поглядел на часы. – Почти пора. Иди открывайся.
– Я? Куда же это я пойду? Да ну тебя, Фредди! Там такая холодрыга. Если я заболею, половина девушек Нью-Йорка повыплачет все глаза.
– Зато вторая половина выстроится в очередь копать тебе могилу.
– Ау-у-у, Фредди, ты надрываешь мне сердце.
– Сердца у тебя нет. Сегодня твоя очередь. Пошел!
– Но…
Не подымая головы, Джерико указал пальцем на дверь.
– Изыди! Изгоняю тебя.
– Хорошо! Отлично! – проворчал Сэм. – Пойду повешу табличку «открыто». Как будто это кому-то надо.
– И кто тут еще нигилист?
Джерико подождал, пока Сэм уйдет, потом вытащил газету из-под книги и открыл на статье про Эви. За последние пару месяцев он послал ей два письма и написал еще две дюжины, которые посылать не стал. Письма были все одинаковые:
Дорогая Эви, надеюсь, у тебя все хорошо. Мне очень понравилось твое радиошоу. C тех пор, как ты уехала, Беннигтон уже совсем не такой интересный…
Впрочем, он был совершенно уверен в ее способности читать между строк:
Дорогая Эви, я ужасно по тебе скучаю. Думаешь ли ты обо мне хоть иногда?
Вместе они прожили свою собственную маленькую войну длиною в ночь – и остались в живых. Никто больше не понял – не смог понять! – c каким чистым злом они столкнулись тогда в доме Джона Хоббса. Несколько дней спустя, когда рассветные сумерки крались по городу, он впервые поцеловал ее. О, как часто он с тех пор вспоминал это мгновение: вкус ее губ, ощущение ее тела, утешение ее рук, обвивающих ему спину. То были самые лучшие часы во всей его жизни. А потом все кончилось. Эви пришла ночью к нему в комнату… Он хотел только целовать ее, целовать снова и снова. Но она сказала: «Я не могу» – и оттолкнула его руки. Так нельзя, сказала она. Это все Мэйбл, понимаешь. Она тебя обожает. И она – самая моя лучшая подруга на всем белом свете. Я не могу, Джерико, прости. Она ушла, оставила его сидеть одного в темноте. Но его мыслей она больше не покидала.
Джерико аккуратно вырезал фотографию из газеты и сунул в карман, хотя не раз уже обещал себе больше так не делать.
– Вот чурбан, – приложил он себя (эту фразочку он тоже, кстати сказать, подцепил от Эви), захлопнул книгу и углубился в пустые лабиринты музея – работать.
Сэм высунул голову из музейных дверей. Никого. Ни единой живой души.
С тяжким вздохом он побрел по ступенькам вниз, под сеющим дождиком, и открыл деревянную двустворчатую панель с надписью «ЗАКРЫТО», являя спрятанное под нею «ОТКРЫТО».
Конечно, он не мог вот так же запросто открыть Джерико подлинную причину желания удержать музей на плаву. Два месяца назад он запросил у своего информатора входные данные по проекту «Бизон» – надо же с чего-то начинать. Контакт написал на клочке бумаги имя – Уильям Фицджеральд. Тогда это показалось ему шуткой. Что профессор глупейшего в мире музея мог знать о секретном правительственном проекте военного времени, стоившего Сэму разлуки с матерью? Но это была единственная ниточка за очень долгое время. Да, он чувствовал себя совершенно неблагодарной скотиной, зато эта скотина заполучила шанс обшарить каждый ящик, каждый шкаф, каждую щелочку и уголок в поисках ключа – ключа, который в конечном счете смог бы когда-нибудь вывести его к истине. Покамест поиски эти ни к чему не привели, но Сэм не мог допустить, чтобы музей ушел с молотка, пока он не нашел того, что искал, – или не убедился, что контакт наврал и что Уилл чист. Временами он уже не был уверен, который из двух вариантов устроил бы его больше.
Сэм завертел шеей, высматривая хоть намек на потенциального посетителя. Вон мамаша толкает коляску. Мойщик окон собирает свои манатки. Двое джентльменов в черных костюмах пережидают непогоду, сидя у себя в седане. Да какой-то чувак в свитере с гарвардской эмблемой рассекает по Шестьдесят Восьмой улице.
Сэм плотоядно улыбнулся и, пробормотав про себя: «Прекрасненько!» – ринулся вниз по ступенькам, улыбаясь во всю пасть и размахивая руками.
– Баквальд? Бак Мэйси? Это ты, паршивец?
– Прошу прощения? Вы меня, наверное, c кем-то спутали…
– Да неужто? – Сэм молниеносно выбросил руку вперед. – Ты меня не видишь!
Глаза студента остекленели.
Сэм сунулся к нему в куртку, нашел бумажник, выудил пять долларов и вернул кошелек на место – все это за шесть секунд.
– Девять, десять, одиннадцать, двенадцать… – досчитал он.
На пятнадцати парень вынырнул из гипнотического транса, растерянный и моргающий. Неплохо, сам себя одобрил Сэм. Пятнадцать секунд был его личный рекорд длительности наведенного транса.
– Эй, c тобой все в порядке? – поинтересовался он, сама забота и участие. – Ты что-то слегка одуревший с виду.
– Это все, небось, вчерашняя вечеринка в Гарвард-Клаб, – пролепетал студентик, все еще слегка ку-ку.
– Наверняка, – согласился Сэм. – Ты уж прости, я тебя правда с кем-то перепутал. C йельцем, – прошептал он, многозначительно понизив голос.
– Ой, да все в порядке… Я вроде уже о’кей, – пролепетал парень. – Спасибо за заботу, старик.
– Ты заходи, если что, – радушно спопугайничал Сэм и наставил все еще слегка шаткого юношу на его прежний путь, потом поцеловал у него за спиной спертую пятерку и опустил ее бережно в карман.
– Музей Жути и Страшилок сердечно признателен вам за щедрое пожертвование, сэр, – сказал он сам себе, взбегая обратно по ступенькам.
– Вы это видели, мистер Адамс? – осведомился шофер седана, нарушая давно царящее в машине молчание.
Джентльмен на пассажирском сиденье выудил фисташку из замасленного пакетика и отправил ее себе в рот, звучно крякнув скорлупу коренными зубами; на протяжении всей манипуляции он не сводил глаз с музея.
– О, да, мистер Джефферсон, видел, – отозвался он наконец.
Чертов бизнес
По Сто Двадцать Пятой улице изредка проносились трамваи. Ветер, подметавший за ними мостовую, был такой злой, что Мемфису Кэмпбеллу приходилось дуть на руки, чтобы хоть как-то согреться. Высокая приставная лестница постукивала о стену коричневого кирпичного дома, где двое работников в четыре руки натягивали над окнами второго этажа баннер:
МИСС КАЛЕДОНИЯ: ЧТЕНИЕ ПО ПРЕДМЕТУ, ИСЦЕЛЕНИЕ НЕДУГОВ, ИСКЛЮЧИТЕЛЬНЫЕ ПРОРОЧЕСТВА.
Мемфис неодобрительно покачал головой. Кажется, люди повсюду стремились нажиться на пророческом буме.
Идучи по улице в компании младшего брата, Исайи, и старого Слепого Билла Джонсона, он прилежно считал вывешенные на дверях или в окнах объявления, которыми теперь пестрели улицы Гарлема: ПАПА ФОРТУН ИЗБАВИТ ОТ СГЛАЗА… МИСТИК МУХАММЕД РАСКРОЕТ ВАМ ПОТУСТОРОННИЕ ИСТИНЫ… ОБЕА: ЧИТАЕМ ПО РУКЕ, ПРЕДСКАЗЫВАЕМ БУДУЩЕЕ, СНИМАЕМ ПРОКЛЯТИЯ. Большинство из них не отличат хрустальный шар от шара для боулинга, а предсказать сумеют только сумму денег, которая вот-вот перекочует к ним в карман от легковерного клиента.
Ни у кого нет и половины талантов Исайи – Мемфис знал, маленький братик очень мучается, что на него никто не обращает внимания. C тех самых пор, как Исайя занедужил, тетя Октавия не спускает с него глаз и все ворчит об опасностях «чертова бизнеса».
– Ты помнишь, что тогда случилось? Как ты три дня в постели валялся? – говорила она, будто высекая каждое слово в камне, на века. – Иисус исцелил тебя, не смей разбрасываться его благодеяниями! Наша семья отродясь не имела никаких дел с обеа, мамбо, хунганами и картогадателями! И с мисс Маргарет Уокер мы тоже никаких дел иметь не будем. Никогда.
Да вот только Исайю исцелил никакой не Иисус, а Мемфис собственной персоной.
Он никогда не говорил тете, что был тогда у постели брата, когда Исайя плавал во сне между жизнью и смертью. Он возложил руки на брата, и сила, которая, он думал, покинула его навсегда в ту ночь, когда он пытался вылечить умирающую мать, снова понеслась по его жилам – совсем как в те времена, когда он был Гарлемским Целителем и помогал недужным в церкви, а мама надзирала за происходящим и славила Господа. Кажется, Мемфису с его даром действительно дали второй шанс – почему, он не знал. Зато знал, что на сей раз все сделает на своих условиях, и никому об этом знать не надо – пока он не будет готов. Никому, кроме Тэты.
– Ты что-то там тихушничаешь, а, Исайя? – Слепой Билл пинком выбросил Мемфиса из грез.
– Ненавижу этот галстук, он глупый, – проворчал Исайя, оттягивая воротник, но Мемфис-то знал, что дело не в галстуке.
Он положил Исайе руку на плечо, но тот ее живо стряхнул.
– У меня силы больше, чем у этих уродских пророков, которые тут зашибают деньгу. У меня тоже могло быть свое радиошоу! – сердито сказал мальчик и наддал ни в чем не повинному камушку, который заскакал вдоль по улице.
– Нет, не могло. Ты слишком мелкий, до микрофона не дотянешься, – Мемфис попробовал выдразнить его из этого пакостного настроения.
В последнее время подначить его труда не составляло. Не давать мальчишке пользоваться ясновидением – это как запереть его дома, когда за окнами – погожий, солнечный денек. Он даже опять во сне разговаривать начал. И снились ему сплошь одни кошмары.
– Мне нравилось ходить в гости к Сестре Уокер. Она хорошая леди, и была ко мне добра, – пробухтел недовольно Исайя.
– Ну-ну-ну. Не надо дуться, малыш. А то у тебя морда вот так и застрянет, – сообщил ему блюзмен.
Когда на Исайю находило, успокоить его мог один только Билл. Весь прошлый месяц он насельничал у Октавии в доме.
– Не могу же я отпустить человека, спасшего моего племянника, жить в какую-нибудь блохастую ночлежку, – заявила тетя и разгребла маленькую комнатку возле гостиной, в которую помещалась койка и больше ничего – но Билл заявил, что большего ему все равно и не надо.
– Енто для меня истинно королевская спальня, мисс Октавия, вот что я вам скажу, – заявил он, похлопывая по одеялу заскорузлой, в старых шрамах рукой.
Не успели они оглянуться, а Билл уже стал почти членом семьи – сидел за общим столом, ходил с ними в церковь, травил байки о хлопковых полях Луизианы, показывал Исайе, как гнуть пальцы под гитарные аккорды. Иногда они даже радовались, что Билл рядом. У Мемфиса сразу прибавилось времени писать… да и на вечерние прогулки с Тэтой тоже.
– Идем-ка, молодой человек, – продолжал тем временем Билл. – Давай раздобудем тебе что-нибудь симпатишное попить.
Блюзмен протянул свободную от палки руку, и Исайя тут же пристроился рядом и взял ее – легко, словно они были не разлей вода.
После церкви толпа потихоньку рассосалась; кое-кто завернул к фонтану с содовой при «Аптеке Леннокса» – освежиться и насладиться воскресными сплетнями.
Билл куда-то на мгновение смылся. Мемфис с Исайей заняли пару табуретов за стойкой, в глубине магазина, и заказали два рутбира[13]. Братья тянули шипучку, а Исайя параллельно еще и обсуждал бейсбол с мистером Реджи.
– Если вы меня спросите, так я вам скажу: «Хоумстид Грейз» – вот кого фиг побьешь. «Джаентсам» конец, – сказал мистер Реджи, вытирая прилавок.
Исайя всерьез обиделся за своих любимых «Нью-Йорк Линкольн Джаентс».
– Сай Симмонс будет в этом году питчером у «Джаентсов» и всем накостыляет!
– Ну, это мы еще посмотрим, – поддразнил Реджи.
Мемфис вытащил блокнот и принялся править стихотворение, над которым корпел большую часть недели. Слова до сих пор складывались неидеально, словно он пытался писать с чужого языка. Интересно, когда же ему удастся наконец написать так, чтобы осталось ощущение собственной сокровенной правды – а не так, будто он обманом стянул у кого-то карандаш?
– Привет, Исайя, Мемфис. Как поживаете, мальчики?
При звуке этого голоса оба брата вздернули голову. Если Сестра Уокер и обижалась, что Октавия запретила им с нею видеться, она ничем этого не выдала и одарила мальчишек самой теплой улыбкой.
– Отлично, мэм, – пробормотал Исайя почти застенчиво.
– Сдается мне, ты подрос, по меньшей мере, на фут, c тех пор как я видела тебя последний раз, – одобрительно сказала Сестра Уокер.
– Я буду такой же высокий, как Мемфис. Даже выше! – заухмылялся Исайя.
– Ага, мелочь, мечтать не вредно, – отозвался Мемфис.
Исайя отвесил ему плюху в плечо, старший брат едва ее почувствовал, но тут же притворился, что получил смертельную рану. Младший остался жутко доволен собой.
– А как ты себя чувствуешь, Исайя?
Улыбка у того немедленно увяла.
– Спасибо, мэм, хорошо.
– Моя конфетница просила передать, что она по тебе скучает.
– А уж я-то как по ней скучаю! У вас до сих пор есть «Медок»?
– Просто завались. Я буду рада видеть тебя в гостях когда угодно – хочу, чтобы ты это знал, – Сестра Уокер понизила голос до шепота. – Мемфис, мне нужно кое о чем с тобой поговорить. Это важно.
– Наверное, я не должен, мисс Уокер. Моя тетя Октавия…
– Обещаю, надолго я тебя не займу. Мне тут ненадолго нужно уехать из города, но прежде чем это случится, очень важно, чтобы мы…
– Ну-ну-ну, кажись, братья Кэмпбеллы тут балакают с какой-то хорошенькой девочкой? – воззвал Билл, тростью простукивая себе дорогу через зал к ним.
Мемфис всех всем представил, Билл согнулся в поклоне, весь такой невозможно обаятельный, и завел светский разговор о погоде и мудрости преподобного, чью проповедь они только что имели счастье прослушать.
– Я вас знаю? Что-то вы мне кажетесь знакомым, – вдруг ни с того ни с сего сказала Сестра Уокер.
Биллова пасть умело сложилась в улыбку.
– Я всегда на кого-то похож. Знакомая физиономия, а кто, ума не приложу, так еще мама говорила.
– У вас часом нет родных в Балтиморе?
– Да чтоб я знал!
– А откуда пошло ваше семейство? – не унималась Сестра Уокер.
– Из Джорджии, – сказал Билл, и мускулы вокруг рта у него напряглись на этом слове.
– А я думал, ты из Луизианы! – невинно встрял Исайя.
Билл положил ладони ему на плечи и легонько нажал.
– Да я отовсюду! Где только в этой стране я не был!
– Мемфис!! Исайя!! – Гневный вопль возвестил о прибытии тети Октавии.
Гренадерским шагом она проследовала через весь магазин прямиком к Сестре Уокер, чем-то неуловимо напоминая пращу, c которой вот-вот сорвется снаряд.
– День добрый, Октавия, – заметила Сестра Уокер.
– И не надо мне денькать, Маргарет Уокер! Я знаю, что ты вытворяла с моим племянником у меня за спиной! Я тебе уже говорила и скажу еще раз, последний: мы – богобоязненная семья. Ясно?
Все головы в аптеке уже повернулись в их сторону, все разговоры смолкли.
– Октавия, у Исайи редчайший дар. Очень важно, чтобы мы продолжали работу…
– Не смей мне указывать, как воспитывать детей моей сестры! – Октавия чуть ли не уткнулась носом ей в нос. – Благодаря тебе этот мальчик оказался при смерти. Ты больше на шаг не подойдешь к моей семье, ты меня слышишь?
И она стремительно развернулась к мальчикам.
– Исайя, Мемфис – мы уходим!
Словно перепуганный заяц, Исайя сполз с высокой барной табуретки, кинул назад затравленный взгляд, сказал «до свидания» Сестре Уокер, взял Слепого Билла за руку и повел его прочь из магазина. Прихожане немедленно притворились, что гонять еду по тарелке – самое важное дело в жизни, но все равно краем глаза поглядывали, не покажут ли им еще чего-то интересное. Жаль, проповедям преподобного до такого огня и убедительности еще расти и расти.
Когда Мемфис проходил мимо, Сестра Уокер незаметно коснулась его руки.
– Прошу тебя. Это действительно важно.
– Мемфис Джон Кэмпбелл! – взъярилась от двери тетя Октавия.
– Мне надо идти, – сказал он.
– Мемфис, ты же не веришь, что я способна причинить вред Исайе, правда?
– Честно сказать, Сестра… Мисс Уокер, я сам не знаю, во что верю, – прошептал Мемфис и кинулся догонять семью.
Пока Октавия шерудила на кухне, готовя воскресный семейный ужин, Мемфис сидел на крыльце и в последний раз перечитывал любовное послание Тэте, прежде чем его отправить. Мысли его, однако, блуждали, постоянно возвращаясь к сегодняшней встрече с Сестрой Уокер. Что за важное дело было у нее к нему, стоившее срочного разговора? И если все было так уж серьезно, почему она не пришла с ним раньше? Тетя Октавия сказала, что Сестра Уокер успела отсидеть в тюрьме – за что, никто точно не знал, хотя вокруг церкви клубились слухи, что будто бы за антиправительственные действия во время войны.
– Из того, что эта женщина говорит, ни единому слову верить нельзя, – объявила тетя Октавия.
Хотел бы Мемфис быть так уверен…
– Мемфис? Ты тут? – Биллова трость прощупала дорогу на крыльцо.
– Я здесь, мистер Джонсон, – воскликнул Мемфис, вскакивая и провожая старика до ступеньки.
– Чем это таким интересным ты тут занят на холоде? – поинтересовался Билл.
Мемфис поспешно сунул письмо в карман.
– Да ничем.
– Хм-м. А по мне, так звучит похоже на женщину, – сказал Билл и расхохотался.
– Ну, может быть, – заухмылялся Мемфис.
– Я бы даже сказал, на хорошенькую женщину.
– И такое может быть, – сказал Мемфис, совсем смутившись.
– Эй, парень, я совершенно не собираюсь лезть в твои дела. По большей части мне интересно, не расстроила ли тебя эта дамочка Уокер сегодня?
– Нет, сэр, – соврал Мемфис.
Билл пошарил в кармане, выудил две палочки жвачки и протянул одну Мемфису.
– Что она вообще от тебя хотела?
– Просто поговорить, – отозвался Мемфис, обдирая со жвачки бумажку.
Жвачка оказалась крошащаяся и старая, так что вместо рта он сунул ее потихоньку в карман.
– И ты?..
– Нет, сэр.
Билл кивнул.
– Ты поступил совершенно правильно, мальчик, – сказал он – ни дать ни взять старый, умудренный годами дядюшка. – Ты прав, что так заботишься о благе своего брата.
Мемфис ощетинился. Он совсем не был уверен, что не давать Исайе пользоваться его талантами так уж правильно.
– Юноша хоть раз говорил с тобой, что с ним случилось в тот день, когда он заболел? – спросил Билл, неторопливо пережевывая жвачку.
– Нет. Он ничего не помнит.
– Да, – кивнул Билл, – и я подозреваю, что это к лучшему. Не стоит к нему с этим приставать, он только расстроится. И все-таки, – он со свистом всосал воздух, – это прямо чудо, что он вот так выкарабкался. Да, сэр, настоящее чудо.
– Ты говоришь прямо как Октавия, – проворчал Мемфис.
– Так, значит, это не ты его исцелил? – осведомился Билл, понизив голос.
– Я уже говорил, я такого больше не могу, – голос Мемфиса остался совершенно ровным.
– А то как же. Говорил, было дело. – Смех у Билла был такой, будто кошка негромко фыркает. – Я так смекаю, будь у тебя все еще какая-никакая целительная сила, ты бы тут же, не сходя с места, возложил руки на старого Билли Джонсона и исцелил его глаза, а, парень?
У Мемфиса все сжалось в животе. О том, чтобы вылечить Билла, он никогда даже и не думал – это какое-то совсем уж большое чудо, можно даже не пытаться. Вообще-то с самого выздоровления Исайи Мемфис так и не набрался храбрости попробовать еще на ком-то. Что, если во второй раз у него ничего не выйдет? Что, если у силы есть пределы… ну, как у джинна из бутылки: три желания и больше ни-ни? Что, если дар его скиснет, как это получилось с мамой… и он причинит кому-нибудь вред? Мемфису надо бы работать тайно, по чуть-чуть. Царапина тут, больное горло там – это не привлечет внимания. Но вернуть слепцу зрение? Такое незамеченным не пройдет.
– Ведь ты бы помог старому Биллу, правда? – спросил тот снова.
Вся игривость из его голоса враз куда-то подевалась.
– Исайя, Мемфис, руки мыть и кушать, быстро! – закричала изнутри Октавия.
– Да, мэм! – крикнул в ответ Мемфис, мысленно благодаря тетю за вмешательство. – Вы идете, мистер Джонсон?
– Давай, жми вперед. Я догоню.
Когда за мальчиком хлопнула дверь, Билл еще немного посидел на крыльце, задрав голову к небу, которое видел исключительно как некий темный и зернистый фон.
Если все сложится правильно, это скоро изменится…
Несколько недель назад кто-то исцелил Исайю Кэмпбелла, а ведь мальчик лежал там, в задней комнате дома Октавии, труп трупом. Кто-то очень могущественный. Когда Билл возложил руки ребенку на голову, пытаясь разглядеть в его пророческом мозгу еще один счастливый номер (карточные долги – дело нелегкое!), он тут же ощутил в мальчишеском теле волны энергии. Она хлынула у него по рукам вверх, и ее оказалось так много, что ему пришлось срочно выпустить парня. Вот тогда-то он и заметил изменения в зрении. Они, конечно, были совсем небольшие: там, где раньше царила абсолютная тьма, теперь двигались смутные тени – словно смотришь через несколько слоев серой марли. Но и этого оказалось достаточно, чтобы понять: исцеление возможно. Он снова будет видеть! А если старый Билл прозреет – он отомстит, и в первую очередь тем, кто отнял у него зрение.
Пророки нынче повсюду, но среди них есть только один, способный на такое целительство, в этом Билл был совершенно уверен – только один, достаточно отчаянный, чтобы дерзнуть. Братская любовь сильна, а у братьев Кэмпбелл – посильнее, чем у многих. Ясно, что ради Исайи Мемфис пойдет на что угодно, даже солжет Биллу о своих способностях. Ну, и отлично. Если Мемфис Кэмпбелл хочет поиграть в кролика и поотсиживаться в норе, Билл поиграет в лису и переждет его. В свое время кролик все равно вылезет, а Билл будет тут как тут.
Ну, а если нет, кролика можно еще и выкурить…
Если у ребенка был один припадок, может случиться и второй.
Такое бывает сплошь и рядом.
Рядом заорала ворона, да так, что Билл аж подпрыгнул.
– Лети отседова, птица! Кыш! Кыш!
Та каркнула еще и пронеслась так близко от Билла, что тот охнул, когда перья хлестнули его по лицу, будто пощечина.
Улица Громыхающих Жестянок[14]
Тэта ждала Генри на углу Бродвея и Сорок второй Западной и уже начинала терять терпение. Наконец он показался вдали – неторопливо рассекал по улице в своем потрепанном канотье.
– Ну, вот, наконец, и ты! Наддай, малыш, а не то опоздаешь.
Она продела свою руку в его, и они помчались сквозь бродвейскую толкотню, мимо приютивших гроздья музыкальных издательств переулков – по улице Громыхающих Жестянок, – пока не нашли нужный адрес. Генри воззрился на четырехэтажный дом в сплошном ряду застройки.
– «Бертрам Дж. Хаффстадлер и компания, Музыкальное издательство», – выдохнул он, слегка подрагивая голосом.
– Не трусь, Генри. Они тебя полюбят.
– Ты это же говорила о Миллзе. И о Лео Фейсте. И о «Уитмарк и сыновья».
– «Уитмарк и сыновья» – кучка идиотов.
– Ага, и одна из самых крупных издательских контор в бизнесе.
– Но тебя-то они не опубликовали – значит, идиоты.
– Ты мое чудо, – улыбнулся Генри.
– Надо же кому-то играть и эту роль. Погоди, дай я тебе галстук поправлю, – сказала Тэта, и вправду подтягивая узел. – Вот так. А теперь послушаем твою жалостливую историю.
Со слегка обалделой улыбкой Генри сунул кому-то в пустоте руку и затараторил:
– Привет, как поживаете, я Генри Бартоломью Дюбуа Четвертый, и я ваша следующая сенсация.
Тут он уронил руку и улыбку вместе с ней и нервно заметался перед крыльцом.
– Нет, не могу я такого сказать.
– Но ты действительно следующая сенсация!
– Никакой сенсацией я себя не чувствую, ни следующей, ни…
– А вот тут-то на сцену выходит актерское мастерство. Заставь их тебе поверить. Помни про наш план. Так, еще раз. Кто им нужен?
– Я, – промямлил Генри.
– Очень убедительно, – c каменной физиономией оценила Тэта. – Ты им что продавать пришел, свои песенки или похоронный ритуал?
– Я ваша следующая сенсация! – объявил Генри уже с несколько большим чувством.
– Иди, малыш, и сделай их. Десять минут?
– Десять минут.
Он поднялся по лестнице на второй этаж. В узкий коридор выходили десятки крошечных комнатушек. Музыка была здесь повсюду, песни перекрикивали друг друга, пока не сливались в такую кашу, что уже казались элементами одной затейливой оркестровки. Он миновал открытую дверь – внутри два композитора бегали по кабинету кругами, напряженно перекидываясь рифмами: «Луна, волна, она, полна, луна».
– Ты опять сказал «луна»!
– Ну, подай на меня в суд.
– Не могу. Это как на себя самого подавать…
В следующей комнате парень играл музыкальную фразочку девице, свернувшейся в кресле и устало закрывшей рукой глаза. Туфли ее валялись на полу.
– Ну, какие эмоции оно в тебе будит? – допытывался парень.
– Желание покончить с собой, – отвечала девушка.
– О’кей, но, может, сначала пойти повеселиться? – не терял оптимизма тот.
Генри изо всех сил старался не захохотать.
Все эти люди торговали мечтами в ритмах и рифмах, и Генри до ужаса хотелось стать одним из них. Нет – ему до ужаса хотелось стать первым среди них! Амбиции жгли его изнутри, как раскаленный уголь. Ох, только бы сегодня был его счастливый день! Если этот паразит, Герби Аллен, может продавать свои ужасные опусы, то почему не может он, Генри?
Коридор изрыгнул его в куда более просторный общий холл. Долговязый темноволосый парень согнулся над пишущей машинкой и даже не поднял на него глаз. Звуки паточно-липучей, но совершенно не запоминающейся любовной песенки безуспешно соперничали с клацаньем клавиш. Из них двоих Генри определенно бы выбрал машинку – она была честнее.
– Ну, что думаешь?
До Генри не сразу дошло, что обращаются вообще-то к нему, и обращается машинист, который прекратил терзать свой агрегат, откинулся на спинку стула, скрестил на груди руки и вперил в него испытующий взор.
– О чем? – Генри неопределенно махнул рукой в сторону комнаты, порождавшей гадостную мелодию.
Машинист утвердительно кивнул. Что ответить, Генри не знал. Что, если это тест, проверка? Что, если этот парень с теми композиторами лучшие друзья? А вдруг перед ним сам мистер Хаффстадлер инкогнито? Хотя молод он для издателя, конечно. Не слишком на самом деле старше самого Генри.
– Ну… довольно пронзительная.
Тот широко улыбнулся.
– Вот в том-то и дело с Саймоном и Паркером. Сплошной визг, и больше ничего.
Генри наконец расхохотался и протянул ему руку.
– Генри Дюбуа. Четвертый.
– Дэвид Кон. Единственный. На самом деле один из примерно миллиона. Дэвид Кон – это примерно как Джон Смит, только на еврейский манер. Тебе босс нужен?
– Точно так.
– А ты хорош?
Голос Тэты у него в голове что-то ободряюще замурлыкал, да вот только повторить эти слова он никак не мог.
– Наверное, это мы сейчас выясним.
– Тогда давай, дуй внутрь, – разрешил Дэвид Кон, тыкая пальцем в дверь со стеклянной панелью, на которой коренастыми черно-золотыми буквами было выведено «Бертрам Дж. Хаффстадлер».
– А! И не давай Поразительному Ринальдо тебя вышвырнуть.
– К-кому?
– Сам скоро увидишь, – Дэвид Кон с улыбкой отвернулся к машинке. – Удачи тебе, мистер Дюбуа Четвертый.
Мистер Хаффстадлер оказался низеньким дородным джентльменом, на щекастой физиономии которого застыло пожизненное выражение глубочайшего разочарования. Он сунул сигару в косую щель рта и бросил на Генри уничтожающий взгляд.
– Садитесь. Что привело вас сегодня в «Хаффстадлер Компани»?
– Я – ваша следующая большая сенсация.
– Ну, видите ли, сэр, я бы очень хотел предложить мои песни для публикации великому Бертраму Дж. Хаффстадлеру…
– Как и куча другого народу. C какой стати мне публиковать именно вас?
– Ну, сэр…
Генри ударился в хорошо отрепетированный монолог о своей любви к музыке и страсти к сочинительству, но тут мистер Хаффстадлер вскочил, проследовал к двери и высунул голову в холл.
– Где Ринальдо? – заорал он во внешний мир.
Мгновение спустя вошел еще один джентльмен в полосатом костюме и похожих на крылья летучей мыши суконных гетрах. Его лосьона после бритья хватило бы, чтобы целый автобус, битком набитый пассажирами, скончался от удушья.
– Где вас носило? – возмутился мистер Хаффстадлер, видимо, считая, что делает это шепотом. – Я вас целый день ищу!
– Музу надо еще и кормить, сэр. Я нуждаюсь в подкреплении сил, – ответствовал тот с хорошим актерским апломбом.
– Я вам не за то плачу, чтобы вы тут ели. Я вам плачу, чтобы вы мне хиты ловили, – мистер Хаффстадлер, фыркая, возвратился за свой стол. – Это Поразительный Ринальдо, – сообщил он Генри. – Он пророк. Назовите мне еще хоть одного издателя, на которого работает свой пророк. Вот то-то и оно, не можете. Это потому, что я – единственный. Этот джентльмен у нас умеет сообщаться с миром духов и выяснять у них, какая песня завтра же протухнет, а какая станет хитом.
Генри поглядел на Поразительного Ринальдо. Ясно, как день, что талант у него один – отличить потенциальную несушку с золотыми яйцами от дырки в бюджете.
– Рад с вами познакомиться, сэр, – выдавил он.
Тот потряс ему руку и прищурился.
– Духи говорят мне, что ты с юга.
Это мой акцент говорит тебе, что я с юга, чертов факир.
– Ого! Поразительно!
Хаффстадлер заухмылялся сквозь свою сигару.
– А! Говорил я вам или не говорил я вам? О’кей, малыш. Покажи теперь пророку и мне, что у тебя там припрятано.
Он махнул на пианино вишневого дерева в углу – Генри о таком только мечтал. Юноша сел и наиграл кусочек первой песенки, кидая украдкой взгляды на мистера Хаффстадлера, физиономия которого сохраняла полную непроницаемость.
– Ринальдо? – молвил он небрежно, когда Генри закончил.
Пророк возвел очи горе, нахмурился, потом опустил их на Генри.
– Могу я говорить откровенно, мистер Дюбуа?
– О, мне бы так этого хотелось, мистер Ринальдо, – поспешно сказал Генри, которому этого ну совсем не хотелось.
– Боюсь, ваша песня недотягивает до стандартов нашей компании. Она слишком джазовая, слишком… сложная. Духи находят ее странной и неприятной.
– На меня очень повлиял музыкальный стиль Нового Орлеана, где я вырос.
– Ну, так у нас здесь не Новый Орлеан, малыш. Это большой столичный город. Ты замахнулся на славу Джорджа и Айры Гершвинов, Ирвина Берлина, Герберта Аллена и еще тысячи других композиторов, кропающих песенки, которые публику хлебом не корми, дай пораспевать в дансинге на ближайшем углу, – мистер Хаффстадлер распростер пухлые ручки с таким видом, словно один этот жест уже объяснял все и самым исчерпывающим образом. – Нам нужны песни, которые сможет петь кто угодно и где угодно. Популярные песни. Песни, которые приносят деньги.
– Духи согласны с вами, – заметил Поразительный Ринальдо, нахмуренно разглядывая свои ногти, словно это их судьба, а вовсе не будущее Генри в музыкальном бизнесе, висела сейчас на волоске. Он даже подарил Генри извиняющуюся улыбку, такую же бесчестную, как и его пророчества.
– Увы, молодой человек, это явно не Ирвин Берлин.
Мистер Хаффстадлер в подтверждение этих слов ткнул в воздух сигарой.
– Ирвин Берлин! Без гроша за душой. Даже по-английски не говорил, помилуй меня боже. Карьеру начинал на улицах Нижнего Ист-Сайда. А теперь? Крупнейший автор песен в Америке – и миллионер, разумеется. Что тебе действительно надо, дружок, так это чтобы твоя музыка звучала, как у Ирвина Берлина.
Генри вымучил что-то вроде улыбки.
– Ну, у нас уже есть один мистер Берлин, сэр. Второй такой же будет лишним.
– Парень, если бы мне предложили сотню Ирвинов Берлинов, я бы взял. Я – бизнесмен. Если ты мне напишешь песню про вскрытие трупов и извлечение внутренних органов и она вдруг продастся, давай, я в деле.
– За-а-а-апо-о-о-ор…
– Это еще что такое?
– Ничего особенного, – быстро сказал Генри.
Словно по заказу, на пороге возникла Тэта.
– Ах, простите! Мне так жаль, я помешала… – пролепетала она, хлопая ресницами и усиленно строя из себя заблудившуюся крошку – один из ее коронных номеров.
– Ничуть, ничуть, мисс?.. – Мистер Хаффстадлер окинул ее профессиональным взором с головы до ног.
– Найт, Тэта Найт, – та мгновенно повзрослела, набралась наглости и пленительно улыбнулась ему, широко распахнув очи. – А вы, должно быть, единственный и неповторимый Бертран Дж. Хаффстадлер? – промурлыкала она.
– А я – Поразительный Ринальдо, провидец Будущего, Чтец Мыслей, Пророк и Советник великих мира сего, – сообщил, целуя ей руку, обладатель всех этих титулов.
Низкопробные музыкальные издатели, прошу любить и жаловать, – подумал про себя Генри.
Мистер Хаффстадлер тем временем кокетливо зализал назад свои редеющие волосы.
– Итак, чем могу помочь вам, моя юная леди?
– О, да, мистер Хаффстадлер, я очень надеюсь на вашу помощь. Я просто места себе не нахожу, – молвила Тэта, закидывая крючок. – Понимаете ли, я работаю в ревю у мистера Зигфельда…
– В ревю? – жадно ляпнул Ринальдо, не успев себя сдержать. – Точно, я так и почувствовал!
– Шутите? Неужели правда? О, боже! – заворковала Тэта, неистово трепеща ресницами.
Генри пришлось зажать себе рот рукой, чтобы не засмеяться в голос. Свои коронные роли Тэта играла не на сцене.
– Так вот, Фло – я хочу сказать, мистер Зигфельд – как раз ищет себе новую песню, а я тут была в одном ночном клубе и услыхала совершенно умопомрачительную вещицу – но я не знаю, кто ее написал, представляете! И вот я вроде как надеялась, что вдруг вы знаете или – раз уж вы такая большая шишка в бизнесе – даже сами ее опубликовали?
– Ну, если мы этого еще не сделали, то непременно сделаем! – мистер Хаффстадлер игриво ей подмигнул.
– Как эта умопомрачительная вещица называлась, милочка?
– Вот дьявол, я не знаю!
– Ринальдо? – мистер Хаффстадлер обратил взор на пророка, который заметно побледнел.
– Э-э-э… духи не считают нужным помогать мне на сей раз.
– Ну, может, вы нам хоть напоете чуточку, а, мисс? – попробовал издатель.
– Конечно! Там было примерно так… – и Тэта затянула припев песенки Генри, намеренно опуская слова там и сям и подмурлыкивая, как если бы и правда слышала ее только раз в жизни.
Генри вытаращил глаза в притворном изумлении.
– Но, мисс, это же моя песня!
– Ваша? Да вы шутите!
– Нет, правда, моя.
Генри подхватил припев, вставив все пропущенные ею слова. Тэта смотрела на него так, будто сейчас упадет в обморок, а в конце разразилась бурными аплодисментами.
– О, боже, это прекрасно! Скорее идемте со мной – вы должны сыграть это мистеру Зигфельду!
– Сложно поверить в такую удачу, – заулыбался Генри.
– Это уж точно! – заухмылялся у себя за столом мистер Хаффстадлер. – Вы, детки, что, думаете, я из грузовика с репой выпал? Песня у вас хреновая, мистер Дюбуа, а этот фарс и того хуже. Пошли оба вон, пока я вас отсюда не вышвырнул!
– Да ну? – Тэта выкинула за ненадобностью и улыбку, и сладкий голосок вместе с ней. – Да вы не узнаете действительно хорошую вещь, даже если она встанет перед вами и долбанет хорошенько по я…
– Аскот! – быстро сказал Генри. – Могу я сопроводить вас, мисс Найт?
– Сделайте милость, мистер Дюбуа, – сказала та и доверительно наклонилась к Поразительному Ринальдо. – А если бы вы и правда умели читать мысли, вы бы сейчас стояли красный, как помидор, прочитав мои, наглый вы жулик.
И она хорошенько грохнула за собою дверью.
Дэвид Кон широко улыбнулся им из-за пишущей машинки.
– Хорошая была попытка.
– И почти сработала, – Генри приветливо коснулся полей шляпы. – Счастлив был с вами познакомиться.
– Аналогично, – Дэвид закопался в бумаги, застенчиво поглядывая на него. – Надеюсь, мы еще встретимся. Эй, кстати…
– Да? – Генри обернулся на пороге.
– Это всего лишь мое мнение, но мне ваша песня показалась чертовски хорошей.
– Просто хорошей или прямо-таки чертовски?
– Ну, в ней нет ничего такого, что не сумели бы поправить прорва тяжелой работы и еще немного чувства.
– Вы, никак, тоже пророк? – пошутил Генри.
– Нет, – улыбнулся Дэвид Кон. – Просто честный человек. Но за это у нас сейчас не платят.
Смотри мои сны
Попрощавшись с Тэтой, Генри запрыгнул в надземку до Чатам-сквер и поплелся через выстуженный Чайнатаун. Он нырял в лавочки, выныривал, потом снова нырял, притворяясь, что ищет то керамическую чашку, то ткань на новый костюм, а сам высматривал девушку – ту самую, что встретил до сих пор лишь раз, и то во сне.
На улице начиналась какая-то буча. Полиция обшаривала ресторанчик, из которого только что вышел инспектор Департамента здравоохранения; владелец ресторана, которому мешали делать бизнес, горячо протестовал.
– Здесь все чисто! Никакой болезнь!
– А документы у вас есть? – докапывался полисмен до одного из официантов, который упорно его не понимал. – Вид на жительство?
Переводчик что-то быстро залопотал перепуганному парню и повернулся к полиции.
– Он оставил его дома, сейчас пойдет и принесет.
– Никто никуда не идет. Документов нет, значит, мы тебя забираем, парень.
Полицейский свистнул напарнику, и они вдвоем затолкали белого от ужаса официанта в фургон.
– А почему ему нельзя пойти домой и принести документы? – невинно поинтересовался Генри.
Коп смерил его изучающим взглядом.
– Мы просто делаем свою работу, – устало сказал он.
Генри живо припомнил, как давно, еще в Новом Орлеане, во время полицейского налета в «Селесту», когда вязали всех танцующих в обнимку мальчиков, они с Луи спрятались под барной стойкой. Одного из копов, парня по имени Красавчик, самого неоднократно видели отплясывающим у «Селесты»…
– Я просто делаю свою работу, – тоже сказал он тогда хозяевам, как будто это было достаточное извинение.
Генри помнил жуткое чувство беспомощности в ту ночь… – такое же, как сейчас. Он ничем не мог помочь этому официантику. Он даже девушку из своего сна найти не мог. Бросай-ка ты это дело да вали домой, сказал он сам себе и, завернув на Дойер-стрит, встал как вкопанный. Рядом с ювелирной лавкой притулился ресторан «Чайный дом» – точь-в-точь такой, как во сне.
Не такой уж он, видимо, и бессильный.
Генри просочился внутрь. Голодным он вроде бы и не был, но пахло тут так вкусно, что он сел и заказал себе лапши, а пока ждал, усиленно озирался вокруг, ища зеленоглазую девушку.
– Тут лучший чоу-мейн в городе, – поделился пожилой джентльмен за соседним столиком; акцент у него был восточноевропейский. – Сонная болезнь, – он кивнул на полицию за окном.
– Да, – отозвался Генри, едва слушая.
Троица девушек продефилировала перед витриной «Чайного дома», но ни одна из них не была таинственной беглянкой из сна.
– На моей улице, Ладлоу, девушка спит уже второй день, а ведь ей всего двадцать, – продолжал сосед. – Мать не может ее добудиться, отец не может. Даже рабби не смог. Как они все заражаются? Через еду, через воду? Может быть, через воздух? Никто не знает.
Где-то в глубине ресторана послышался знакомый голос, и в следующее мгновение Генри увидел ее: девушка сидела за столиком в глубине помещения, полускрытая деревянной ширмой.
– Извините меня, – Генри вскочил и устремился прочь.
Обогнув ширму, он встал у столика, так что тень упала на страницы ее книги.
– Итак, вы, стало быть, существуете.
Читавшая подняла глаза. Они оказались орехово-зеленые, а на свету еще зеленее. Сложения она была худенького, но странным образом в ней читалось что-то от боксера, успел подумать Генри: кулаки такая пустит в ход – не успеешь оглянуться.
Девушка округлила рот в изумленное «О», но тут же мгновенно взяла себя в руки.
– Боюсь, вы меня с кем-то перепутали, – сказала она подчеркнуто вежливо.
– Уверен, что это не так. Я видел вас во сне.
Девушка удостоила его надменным взглядом.
– Забавная шутка.
– Я правда видел вас прошлой ночью во сне. Я никогда…
– Тс-с-с! – прошипела она, оглядываясь, не подслушивает ли их кто. – Садитесь. Если кто-нибудь спросит, мы знакомы со школы. Ясно?
Генри кивнул и понизил голос:
– Простите мое удивление. Я просто никогда не встречал других путешественников по снам. А вы?
– Нет.
– А ведь они должны быть – теперь, когда все эти пророки вдруг повылезали из… разных предметов мебели. Боже. Простите мои скверные манеры. Я Генри Дюбуа Четвертый. Счастлив встретить вас, мисс?..
– Лин Чань.
– Очарован, мисс Чань.
– Я не особенно очаровательна, – пробурчала мисс Чань без улыбки.
– У меня есть пунктик: никогда не спорить с дамой.
Прибыл официант с лапшой, и Лин мгновенно разболталась.
– Так я же и говорю, самое удивительное на выставке мистера Марлоу – это, конечно, научный павильон. Я слышала, у них в экспозиции будет даже модель атома…
Поставив миску Генри на стол, официант бросил на нее любопытствующий взгляд.
– Твой приятель, Лин?
– Да, Счастливчик, – ответила Лин и глазом не моргнув. – Мы вместе ходили в научный клуб в школе. Вот, зашел поболтать о «Будущем Америки» Джека Марлоу.
– Лин у нас очень умная, – сказал Счастливчик. – Прямо как любой из мальчишек.
– Да она вообще самая умная! – подыграл Генри.
– Я лучше пойду, – сказал со вздохом Счастливчик, – без Джорджа у нас дел невпроворот.
Он ушел, а Генри заметил, что при этом имени лицо у Лин сразу же потухло.
– Все хорошо? – забеспокоился он.
– Отлично, – отрезала она.
Отлично оно явно не было, но эту тему Генри решил не развивать.
– Научный клуб? – вопросил он вместо этого, подняв бровь. – Наверное, сейчас не самое время рассказывать, как я почти взорвал химическую лабораторию у нас в пансионе. Весьма забавная история…
– Зачем вы здесь? Вряд ли ради овощей в кляре.
Непринужденный шарм Генри тут же испарился, а вместе с ним и улыбка.
– Я ищу человека, которого потерял.
– Потеряли? Как это вы его потеряли? В телефонном справочнике смотрели?
– Да у него даже телефона нет, – огрызнулся Генри.
Чтобы она поняла, надо было рассказать про письмо, про отца, про побег из дома… Про то, что для него значил Луи. Но как об этом расскажешь? Уж не чужому человеку точно. А она была чужая. Встреча во сне еще не делала их друзьями.
– Я думал, если я смогу найти его сон, то спрошу, где он сейчас… или как-то дам понять, где найти меня. Вы такое когда-нибудь делали? Находили кого-то?
– Только с мертвыми.
Генри не донес вилку до рта.
– Вы видите мертвых?
– Во сне – да. Иногда людям бывает нужно поговорить с кем-то из покойных родственников. Если взять какую-то их вещь, мне иногда удается их найти.
– И как долго вы уже это умеете?
– Начала год назад.
– А я – почти три, – сказал Генри. – Но в последние несколько месяцев все стало как-то сильнее.
– И у меня то же самое.
– Я научился ставить будильник, чтобы вовремя просыпаться. Выяснил, что если хожу дольше часа, то потом заболеваю. А вы?
Лин пожала плечами.
– Я могу дольше часа, – сказала она, и Генри уловил нотку гордости в этих словах.
Судя по всему, Лин Чань не любила ни в чем быть второй.
– Вы все еще не сказали, зачем пришли.
Генри повозил лапшу по тарелке.
– Прошлой ночью я впервые приблизился к тому, чтобы действительно найти во сне моего друга, Луи – как раз когда мы стояли перед тем старым домом. Я услыхал его скрипку ровно после того, как схватил вас за руку. Это была его любимая песенка – и сыгранная именно так, как он ее играл, – Генри наклонился к ней через стол. – Я хочу снова пойти туда сегодня ночью и поглядеть, сработает ли оно еще раз. Давайте попробуем встретиться в мире снов.
Лин усмехнулась.
– Вы же знаете, как работают сны. Они неустойчивы, их нельзя контролировать – мы там всего лишь зрители. Пассажиры.
– Да, так всегда было, но что, если это можно изменить? – спросил Генри. – Вы, по крайней мере, не против попытаться? Вы сказали, что можете отыскивать людей. Может, если я дам вам что-нибудь мое, вы сумеете меня найти в мире снов. Если это сработает, мы попытаемся вернуться в то место, где я услышал скрипку Луи.
– А я, возможно, стану королевой Румынии, – подхватила Лин. – Нет никаких гарантий, что мы найдем друг друга или что сможем вернуться в тот самый сон. Сны – как река, вечно текут и меняются.
– Прошу вас! – взмолился Генри. – Неужели вы мне не поможете?
Лин смотрела на него мучительно долго. Ей совсем не хотелось связываться с этим сновидцем. Но чего греха таить, она была любопытна… когда их энергии вчера соединились, там и правда проскочило что-то интересное. А вдруг они смогут сделать еще больше – вместе?
– Ну, хорошо. Но не бесплатно. Я беру деньги за свои услуги.
– Отлично. Какова ваша цена?
– Десять долларов, – ляпнула Лин.
Ни слова не говоря, Генри выудил из бумажника хрустящую десятку и положил между ними на стол. Лин постаралась ничем не выказать изумления. Этот сновидец оказался первым, кто не стал препираться из-за денег… но говорить ему об этом она, конечно, не обязана. Кто бы там ни был этот его потерянный друг – наверняка он важная птица.
– Мне понадобится какая-то ваша вещь, – сказала она, быстро убирая деньги в карман. – Чтобы найти вас во сне.
Генри протянул Лин свою шляпу.
– Это подойдет?
Она кивнула.
– Во сколько ночью?
– Придется поздно. В полночь я играю для «Ревю на крыше», это над Зиглером.
Лин видела рекламу «Ревю на крыше» в газете. Девушки там не слишком обременяли себя одеждой.
– Все надеюсь привлечь к своим песням какое-никакое внимание, – пояснил Генри пугливо. – Я, видите ли, композитор.
– Я знаю какие-нибудь ваши вещи? – в лоб спросила Лин.
– «Горлица моя, ку-ку»? «Сентябрьская луна»?
– Никогда о них не слыхала.
Генри почувствовал себя смутно оскорбленным.
– Вот такой у нас суровый бизнес…
– Может, не в бизнесе дело. Может, это песни у вас недостаточно хорошие.
Генри встал.
– К трем я, надеюсь, буду дома, – холодно сказал он, кладя на стол деньги по счету. – Итак, мы договорились?
– Да, в три – отлично.
– Тогда мы в деле, – он протянул ей руку.
Лин руку не взяла, зато поглядела ему прямо в глаза.
– Это очень смело с вашей стороны вот так прийти сюда. Большинство боится подцепить сонную болезнь.
– Я не большинство, – сказал он, но руку не убрал.
Лин коротко пожала ее – никаких искр на сей раз не случилось.
– Увидимся во сне, Лин Чань.
– Надеюсь, песни у вас не такие тупые, как шутки, – ответила она.
Генри устремился обратно, в холодный город, думая про себя, что Лин Чань, возможно, самая вредная особа, какую он в жизни встречал. Но она собиралась помочь ему найти Луи – первая ниточка надежды за очень долгое время… Эта надежда подогревала ему настроение, пока он петлял по узким, извилистым улочкам Чайнатауна. Над головой белье танцевало на натянутых между окон веревках, будто флаги на «Стадионе Янки», где по весне король бейсбола, Бэби Рут, надеялся застолбить себе местечко в книге рекордов. Вскоре он вышел к широким тротуарам и ободранным зимою деревьям Коламбус-парка, где какой-то человек толкал речь со ступенек павильона под остроконечной крышей.
– Китаец въезжает к нам со всеми своими китайскими привычками – c азартными играми, войнами тонгов и опиумными курильнями. Он скрытный, он себе на уме. Он не может круглые сутки быть американцем. И вот теперь он подарил нам свою болезнь. Я говорю вам: сохраним Америку для американцев! Выгоним китайца обратно в Китай! Отошлем его домой на следующем же корабле!
– Чертов фанатик, – проворчал Генри и двинулся дальше.
Но по дороге через парк ему вдруг безо всякой внятной причины стало холодно, нахлынул непонятный страх.
– С тобой все в порядке, сынок? – спросил его человек в твидовом костюме, смахивающий не то на судью, не то на священника.
– Аг-га… То есть да. Все отлично, спасибо, – ответил Генри, но холод никуда не делся.
– Вот, возьми-ка это, – сказал тот, суя ему в руки листовку: АМЕРИКА ДЛЯ БЕЛЫХ – ЭТО БЕЗОПАСНАЯ АМЕРИКА. РЫЦАРЯМ КУ-КЛУКС-КЛАНА НУЖЕН ТЫ!
Генри швырнул листок в урну, даже не дочитав, и вытер руки о пальто.
Генри стоял на платформе станции «Сити-холл» и ждал поезда, все еще пытаясь стряхнуть странный, липкий ужас, напавший на него в Коламбус-парке. В голове вертелись десятки мыслей – все то, что он хотел сказать Луи, когда видел его в последний раз. Какой-то молодой человек почти скатился по ступенькам: костюм его был в беспорядке, кругом плавал крепкий аромат спиртного. Он что-то бормотал себе под нос, словно вел приватную беседу со слышными только ему голосами; ждавшая поезда публика бросала на него озабоченные взгляды.
– Где этот ваш чертов поезд? – требовательно осведомился новоприбывший. – Мне нужен поезд!
– Скоро подойдет, – осадил его какой-то бизнесмен. – Охолони там!
Молодой человек заметался по платформе; люди отодвигались от него на безопасное расстояние.
– Там было так красиво! Мне нужно обратно! Но я не могу найти… Не могу найти…
Генри глянул в тоннель и с облегчением увидал приближающиеся огни состава. Несчастный пьяница меж тем качался в опасной близости от края платформы.
– Берегись! – Генри прыгнул вперед и сдернул его назад ровно в тот миг, как поезд с визгом ворвался на станцию.
Юноша рухнул наземь, всхлипывая и закрывая лицо руками.
– Я просто хочу спать! Мне нужно туда, назад! Я хочу назад…
Толпа разомкнулась, пропуская полицию. Офицер поставил, кажется, совсем уже обезумевшего парня на ноги.
– А ну-ка, давай, малыш. Мы тебе сейчас найдем хорошенькую кроватку, хоть всю ее выспи.
– Смотри мои сны! – почти зарыдал в ответ тот.
И пока полицейские уводили его, он все бормотал и бормотал эту фразу.
Достань кролика из шляпы
Эви с лучшей подругой, Мэйбл Роуз, сидели в викторианской столовой «Беннингтона» под неисправной и оттого мигающей люстрой и потягивали горячий шоколад, стараясь прогнать зимнюю стужу. Уже два месяца нога Эви не ступала под своды ее бывшего дома, но Мэйбл настаивала и на удивление мастерски взяла ее измором. Теперь, оказавшись тут, Эви не могла не заметить, каким унылым, каким обшарпанным было это место – особенно в сравнении с фешенебельными отелями, где она обитала в последнее время. На мгновение ей показалось, что она видит Джерико, и сердце пропустило один удар… но нет, это был не он, и Эви испытала прилив облегчения пополам с разочарованием.
Мэйбл побарабанила пальчиками по гимбельсовской коробке, перевязанной голубой лентой.
– Поверить не могу, что ты купила мне платье. Это же ужасно дорого, – снова сказала она. – Рабочие-забастовщики могли бы неделю питаться на эти деньги.
Эви вздохнула.
– Ох, Мордочка, я тебя умоляю. Меня что, ждет еще одна трагическая речь об опасностях капитализма? Должна тебе сказать, из капитализма получаются недурные платьица. К тому же это мои деньги, а не твои.
– Оно правда такое милое, – согласилась Мэйбл.
– Совсем как ты, – кидая через ее плечо взгляд в сторону крутящихся дверей «Беннингтона».
– Ты чего там выглядываешь? Только этим и занимаешься с тех самых пор, как мы вышли из «Гимбельса».
– Ну, я просто хочу убедиться, что в округе не рыщет дядя Уилл, – соврала Эви. – Не хотелось бы внезапно на него наткнуться. Ну, ты понимаешь.
Мэйбл кивнула и заулыбалась.
– Да уж, это было шикарно. Мы с тобой вдвоем, совсем как в прежние времена.
Они и правда вволю накатались на коньках в Центральном парке, потом завалились на шопинг в «Гимбельс». Мэйбл чуть не лопнула со смеху, когда Эви принялась играть лифтера, вопя:
– Четвертый этаж: дамские чепчики и клистирные кружки. Леди, спешите: «Гимбельс» отделает вас с головы до ног!
Но все это было так быстро, так мимолетно… Мэйбл смертельно скучала по Эви – они не виделись уже целую вечность – и боялась, что новые шикарные друзья затмят, а там, глядишь, и совсем вытеснят ее. Мэйбл сама не пила и, честно говоря, нашла ту единственную вечеринку, где оказалась на пару с Эви, скучной и бессмысленной, набитой мелкими, пустыми людьми, ни во что не ставящими весь остальной мир. Впрочем, это не мешало ей сокрушаться, что ее не приглашают.
– Слу-ушай, у меня просто потрясающая идея! Почему бы тебе не остаться на ночь? – воскликнула Мэйбл. – Уверена, мама возражать не станет.
Эви подняла бровь.
– Да твоя мама считает меня сущим дьяволом!
– Вот и неправда! Ну, почти неправда. Забудь ты о моей маме. Мы будем танцевать под пластинки Пола Уайтмана, поиграем в «Педжити» и нажремся пирожных так, что живот заболит.
– Прости, Мордочка, я сегодня занята. У нас вечеринка в «Ого-го-клубе». Я обещала выскочить из торта в полночь.
– А. Понятно, – сдулась Мэйбл.
Конечно, у нее каждый день по вечеринке.
– Ну, Мордочка, прости.
– А завтра?
– Ур-рок сцени-ической речи, – манерно протянула Эви. – А потом на Даблъю-Джи-Ай приедет «Радиозвезда» – фотографировать меня. Ну, то есть всех фотографировать, но и меня тоже.
– Звучит… гламурно. – Сама Мэйбл очень надеялась, что не прозвучала жалко и завистливо, потому что именно так она себя и чувствовала. – Хотела бы я быть более гламурной вместо того, чтобы… быть просто мной.
Эви грохнула по столу кулаком.
– Вот еще вздор! Не желаю слышать ни единого дурного слова в адрес мисс Мэйбл Роуз. Она просто отличная. Лучше всех на самом деле.
– Ну, гип-гип, ура! – Роуз закатила глаза.
– Ты особенная. Ты – единственная Мэйбл Роуз на свете, другой такой нет, – твердо сказала Эви.
– О, так вот почему парни штабелями ложатся мне под ноги! Не иначе как дивный характер делает меня такой привлекательной, – возрыдала Мэйбл. – Не будь я такой заурядной, операция «Джерико», возможно, не провалилась бы.
Эви яростно заболтала ложкой в какао, надеясь, что Мэйбл в пучине отчаяния не обратила внимания на ее зардевшиеся щеки.
– Может быть, Джерико запал на какую-нибудь другую девушку, – осторожно предположила она. – Какая-нибудь старая пассия. И ему надо избавиться от призраков прошлого, прежде чем приударить за тобой.
Мэйбл оживилась.
– Ты правда так думаешь?
Эви сумела изобразить улыбку.
– Готова прозакласть мои новые чулки, что так оно и есть. А знаешь что? Может, не стоит тебе ждать, пока Джерико раскачается, а? Надо быть смелой! Отправляйся в музей, предложи помощь. Скажи, что у тебя послание из мира духов: мол, вам двоим сегодня суждено каталогизировать всякую призрачную дрянь, а потом пойти вместе на танцы.
– Эви! – Мэйбл смущенно захихикала.
– Ну, или заставь его ревновать, – Эви коварно поиграла бровями. – Помнишь того, другого, парня – ну, он тебе еще карточку дал? Артур Как-Его-Там?
– Артур Браун, – кивнула Мэйбл. – Я его с октября не видела. К тому же родителям он не нравится.
– Это еще почему? Он что, за Кулиджа голосовал?
Мэйбл снова захихикала.
– Да нет, просто Артур для них слишком радикальный.
Эви схватилась за голову.
– Стоп-машина! Кто-то слишком радикальный для твоих родителей – ты мне это хочешь сказать?
– Они говорят, он не за профсоюзы, а за анархию. Вроде бы он влип в какие-то неприятности на митинге за оправдание Сакко и Ванцетти, там еще взрывы были, помнишь? Папа сказал, ему пришлось улепетывать из города с федералами на хвосте.
– Вот ведь черт! Настоящий живой анархист либо парень, который день-деньской торчит в музее привидений, – потрясающая альтернатива! Где ты их только берешь, Мэйбси, таких пухлых, а?
И девушки снова расхохотались. Насмеявшись, Мэйбл вытерла глаза. Внутри у нее теперь было тепло и умиротворенно. Она даже чувствовала себя смелой. Просто поразительно, как день с лучшей подругой может починить девушке голову.
– Ох, я так по тебе скучала, Эви. Пожалуйста, пожалуйста, давай скорее повторим!
– Обязательно повторим, Мордочка, – сказала Эви, крепко пожимая ей руку, прежде чем встать. – Терпеть не могу портить веселье, но мне пора шевелить копытами. У меня свидание с тортом, не забыла? Но пока я не ушла, ты должна показать мне свое новое платье – на себе.
– Сейчас?
– Нет, на следующий День Независимости. Сейчас, конечно! И никаких отказов!
– Ну, ладно, пошли наверх.
Эви решительно покачала головой.
– Не пойдет. Я хочу обслуживание по полной программе. Отправляйся наверх, напяливай тряпки, а потом, – тут Эви понизила голос до обольстительного мурлыканья. – Я хочу, чтобы ты явилась из лифта во всей красе и вот так встала у стены, как Клара Боу.
Вся врожденная мэйблская тривиальность под ручку с посредственностью тут же радостно просунули в дверь свои отталкивающие лица.
– Ну, какая из меня Клара Боу, – промямлила она.
– Ради бога, Мэйбси! Немножко загадочности, немножко игры, а? Смотри, я жду здесь – и ждать целый день я не намерена! Помаду, кстати, не забудь – и с этими словами Эви безапелляционно пихнула Мэйбл в сторону лифта.
– Вернусь к тебе новой женщиной! – объявила та, уставив пальчик в небо.
Лифтер захлопнул за нею решетку.
– Тик-так, поняла? Вечеринка-торт! – напомнила ей Эви и уселась в кресло в холле – ждать.
Отодвинув тяжелую бархатную штору, она поглядела на улицу. Пока что ни тени этого бездельника, Т.С. Вудхауза. Прежде чем уезжать из «Гембельса», Эви ускользнула в телефонную будку и скинула ему информацию, что «мисс Эви О’Нил в первый раз со времени ее отъезда в ноябре видели входящей в „Беннингтон Апартментс“ в сопровождении лучшей подруги – на тот случай, если заинтересованной стороне нужен свежачок для газет». Да, возможно, Эви платила Вудхаузу сущий мизер, чтобы ее имя не сходило с первых полос – но вообще-то это были трудом и потом заработанные деньги, и лучше бы ему не шляться по подпольным барам, вместо того чтобы делать из них обоих знаменитостей.
Кто-то толкнул крутящуюся дверь. Ну, наконец-то, подумала Эви. Она вскочила и приняла завлекательную позу под золоченым канделябром, повернувшись самым лучшим ракурсом ко входу – на тот случай, если Вудхаузу хватило мозгов притащить фотографа. Дверь прокрутилась полный раунд и вынесла в холл никакого не Вудхауза, а вовсе даже Джерико. Он стоял, разматывая шарф и очевидным образом не замечая Эви. Желудок ее исполнил ярмарочное сальто, а где-то чуть выше запузырились чувства, которые она так старалась забыть. Она вспомнила ту ночь в отельной комнате, когда Джерико подстрелили… они тогда вдруг оказались наедине, вместе – такие открытые, такие честные. Эви никогда и ни с кем еще не чувствовала себя такой… голой – даже с Мэйбл. Словно она может сказать что угодно и ее все равно поймут. Это было так безрассудно… и так опасно. Девушке в современном мире нужна хорошая броня, а Джерико вдруг удалось с такой легкостью избавить ее от доспехов…
Глаза его расширились, а потом губы сложились в самую милую на свете улыбку.
– Эви! – вскричал он и пошел ей навстречу, и ее решимость оставить его в покое начала ветшать на глазах.
– Привет, Джерико! – тихо сказала она.
Они еще постояли молча посреди фойе. Мимо шли какие-то люди, но Эви едва сознавала их присутствие. Она уже и забыла, как красив – по-своему, конечно – Джерико: острые скулы, пронзительная синева глаз. Длинная прядь белокурых волос жила своей жизнью, спадала на щеку. Он попробовал было заправить ее назад, но она упорно упала на прежнее место. Эви ужасно захотелось охватить ладонями его шею – так легко было бы сейчас взять и дотронуться до него…
– Как ты по… – произнесла Эви в тот самый момент, когда он заговорил.
Они нервно рассмеялись.
– Ты первый, давай, – сказала Эви.
– Я слушал все твои радиошоу. Они очень хороши. Ты прирожденная артистка.
– Эм-м. Спасибо, – сказала Эви, порозовев от комплимента.
На них снизошло неуклюжее молчание. Джерико кашлянул и махнул рукой в сторону столовой.
– Ты ела? Может, выпьем чаю в гостиной? Как в прежние времена.
Эви украдкой кинула взгляд на двери лифта.
– Оу. Я, в общем-то, как раз уходила. Вот только дождусь Мэйбл.
Джерико шагнул к ней. От него пахло чистотой и деревом – совсем как в то утро на крыше, когда они поцеловались.
– Я так скучал по тебе, – сказал он своим глубоким, тихим голосом.
Дыхание запнулось у нее в груди, больно раздвигая изнутри ребра. Как легко справляться с чувствами к Джерико, когда он всего лишь воспоминание. Как просто отодвинуть их подальше, в уголок сердца, когда тебя кружит вихрь вечеринок и радиошоу, и, чего греха таить, рук других парней – попроще, которые не прочь приятно провести время. Но когда он стоит тут сам, во плоти, это совсем другое дело. Эви подняла взгляд, погрузилась в его глаза.
– Я…
– Уж не Провидица ли это Душечка?
– Точно! Это она!
Взволнованное бормотание заполнило холл – кто-то из беннигтонских жителей узнал Эви. Она ахнула и отступила от него на шаг.
– Мне… мне пора. А не то опоздаю в торт… на вечеринку то есть опоздаю. На вечеринку с тортом, – пролепетала Эви; голос у нее звучал ровно так, как она себя чувствовала, – ошеломленно. – Передай Мэйбл мои «пока-пока».
– Подожди! Не уходи.
Джерико протянул руку и поймал ее пальцы в тот самый момент, когда двери лифта разъехались, и наружу выступила Мэйбл в своем новом желтом платье, словно одна из девушек Айседоры Дункан.
– Дор-рога-а-ая! Перед тобой Мэйбл БараСвенсонНайтБоу собственной пер… Ой.
Эви моментально отдернула руку с траектории захвата Джерико и устремилась навстречу подруге.
– Мэйбси! Ты просто видение в этом платье!
– Видение чего? – пошутила Мэйбл, бегая глазами с Эви на Джерико и обратно.
– Ну не забавно, а? Смотри, на кого я наткнулась случайно в фойе, – сообщила Эви немного, пожалуй, чересчур празднично. – Наш старый добрый Джерико.
Она чувствовала на себе его взгляд – и не дерзала с ним встретиться.
– Вот черт. C виду у вас был какой-то серьезный разговор. Надеюсь, я ничему не помешала, – сказала не очень уверенно Мэйбл.
– Да так, убивали время, тебя ждали, – прощебетала Эви в нарастающей панике.
Джерико в любое мгновение мог что-нибудь сказать… о том, что между ними случилось. Разбить Мэйбл сердце, оставить от их многолетней дружбы лишь рожки да ножки.
Крутящаяся дверь снова пришла в движение, и в фойе ввалился Сэм, продолжая начатый раньше разговор с Джерико – разумеется, через весь холл.
– …так вот, проблема с Ницше – помимо того, конечно, что он нудный нытик – состоит в том, что он мыслит как испорченный семилетка в песочнице, который не хочет делиться формочками…
– Сэм! Сэм, сюда! – крикнула Эви.
Ухмыляющийся Сэм вальяжно продефилировал к ним, руки в карманах.
– Уж не наша ли это Царица Савская? Именно ты-то нам и нужна. Фредди уже рассказал тебе про нашу пророческую выставку? Я тут как раз подумал…
Эви обняла его за шею.
– Сэм, вот и ты наконец! Ты опоздал! Ах, неважно – ты у меня такой красивый сегодня!
Сэм наморщил лоб.
– Прощенья просим, мисс. Я было подумал, что вы Эви О’Нил. Ясное дело, обознамшись.
Эви засмеялась – немного чересчур громко.
– Ах ты! Все бы тебе комедию ломать!
Она продела свою руку в его, слегка попутно ущипнув.
– А теперь я опаздываю в «Ого-го-клуб», и мне надо, чтобы ты меня проводил – ты ведь не откажешься? Пока-пока, Мэйбси, дорогая! Давай скоро повторим! Счастлива была увидеть тебя, Джерико!
Увлекая Сэма прочь, Эви умудрилась глянуть украдкой назад: Джерико провожал ее взглядом, мученическим и стоическим. Ну, это все-таки надо было сделать, хоть и чувствуешь себя потом отвратно.
За дверями «Беннингтона» она тут же выпустила Сэмову руку.
– Однако, если хорошенько подумать, гулять нынче холодновато, и да, дождь собирается. Я лучше поймаю такси прямо здесь.
Сэм самодовольно улыбнулся.
– Как! И прервать на этом наше воссоединение? А все так уютненько начиналось…
– Да, и у меня тоже сердце разрывается. Но, думаю, я как-нибудь справлюсь, – она махнула рукой швейцару.
– Помнишь день, когда мы впервые встретились на вокзале?
– Это когда ты стырил мою двадцатку? О, как я могу забыть!
– Ты мне тогда сказала, что ты не актриса, – Сэм наклонил голову набок и прищурился. – Выходит, безбожно врала.
– Понятия не имею, о чем ты толкуешь, Сэм Ллойд, – Эви с надеждой поглядела на швейцара, возвышавшегося на обочине с поднятой рукой.
– Еще как имеешь. Да не трусь ты так, я тебя не выдам. Но мне от тебя понадобится что-то взамен.
– А ты променял мелкую кражу на шантаж, я смотрю?
– Это не для меня, а для твоего дяди. Он вот-вот потеряет музей, если мы срочно не вынем ему кролика из шляпы.
– Не вижу, как это меня касается.
– Ты нам нужна для выставки по пророкам. Если ты замолвишь о ней словечко у себя на передаче и засветишься в качестве почетной гостьи, нам гарантировано громкое открытие – возможно, мы даже сумеем оплатить налоговый счет, прежде чем здание выставят на аукцион.
Глаза Эви загорелись.
– И c какой же стати мне помогать Уиллу? Я жизнью рисковала, чтобы раскрыть Пентаклевого Душегуба, а он за это чуть не сбагрил меня обратно в Огайо. Это все, что я получила вместо спасибо. Может, хватит уже таскать кроликов из шляп каждый месяц, Сэм? Может, Уиллу уже пора бросить этот паноптикум?
– Это труд всей его жизни, Шеба.
– Ну, раз это так много для него значит, он найдет способ спасти дело.
Сэм покачал головой.
– Ты и правда жестокосердна, Эви О’Нил.
Эви хотела было ответить, что в этом случае ее сердце бы так не болело… Она поступила правильно, оттолкнув от себя Джерико… к Мэйбл. Правда же, да?
К ней подкатил джентльмен в темном костюме.
– Не могли бы вы подписать, мисс О’Нил? Я ваш огромный поклонник.
– Ну, конечно. Для кого подписываем? – просияла Эви, запуская в него одну за другой все свои отточенные сценической речью гласные.
– Простого автографа будет вполне достаточно, если это вас не затруднит.
– Совершенно не затруднит, – отвечала Эви, артикулируя каждую согласную и наслаждаясь звуком собственного голоса.
Она пририсовала к подписи последнюю завитушку:
– Вот, прошу.
– Вы не представляете, сколько это для меня значит, – рассыпался тот, принимая автограф, но Эви его уже не слушала.
Что ни говори, вовремя, подумала она, созерцая фланирующего по направлению к ним через улицу Т.С. Вудхауза.
– Черт меня побери, если это не Провидица-Душечка! – воскликнул он, насколько позволял набитый жвачкой рот, и выдул преогромный пузырь.
Эви стоило огромного труда не лопнуть его.
– Как чудесно наконец встретить вас, мистер Вудхауз.
Тот зевнул.
– Я спасал стайку монахинь из горящей церкви.
– Не иначе как сами и подожгли, ради красного сюжета, – отпарировала Эви.
Вудхауз подбородком показал на еще одну стайку – на этот раз школьниц, – которая уже мчалась к ним через проезжую часть, взволнованно перешептываясь:
– Интересно, кто это успел им сдать, что вы ошиваетесь тут, в «Беннингтоне»?
Даже подмигнуть не постеснялся.
Фанаты – средство безотказное.
– Мисс О’Нил? – защебетала одна из девочек. – Я так обожаю ваше шоу!
– О, это ужасно мило с вашей стороны, – сказала Эви своим радиоголосом, и девчонки восторженно распищались.
Эви любила, когда ее узнавали. Всякий раз как такое случалось, она, будь ее воля, делала бы снимок и отправляла его Гарольду Броуди, Норме Уоллингфорд и всем этим провинциальным «синим носам», что так ее недооценили. И внизу непременно приписать: «У нас тут все пухло. Хорошо, что вы не с нами».
Сэм приобнял ее за плечи.
– А какой у нее почерк – загляденье!
– Смотрю, вы двое хорошо тут устроились. Славно смотритесь вместе. Читателям «Дейли ньюс» стоит о чем-то узнать? Пару месяцев назад ходили слухи, что вы типа как пара.
– Нет, – твердо ответила Эви. – Мы – не она.
– Нет, хорошенькое дело! Разве так говорят о своем нареченном, Котлетка?
– О нареченном? – Брови Вудхауза профессионально полезли на лоб.
Девчонки снова распищались. К ним начал подтягиваться народ, крошечная толпа на глазах набирала солидности. Математика славы – она такая.
– Бесстыдно шутит, – пояснила Эви всем и каждому.
Сэм подарил ее лучшим взглядом страдальца от безнадежной страсти, какой только отыскался у него в арсенале.
– Да я с ума схожу по этой крошке с самой нашей первой встречи на Пэнн-Стейшн!
– Сэм! – предупредила она его сквозь натянутую улыбку.
– А кто бы не сошел? Вы на личико ее посмотрите!
Он ущипнул ее за щечку. Она в ответ как следует наступила ему на ногу.
– Ах, это так романтично! – со вздохом сказала одна из фанаток.
Из толпы послышались аплодисменты.
– Так у Провидицы-Душечки завелся свой душечка? – прокомментировал кто-то.
– И вовсе он не мой…
– Ну, цветочек! Давай больше не будем прятать нашу любовь. Довольно тайн!
– Я сейчас свой кулак спрячу у тебя в поддыхе! – пообещала ему на ухо Эви.
– Так вы пытаетесь утаить роман, мисс О’Нил? И от кого – от меня? – поднажал Вудхауз, почуяв сенсацию.
– Мисс! Ваше такси! – крикнул швейцар, придерживая для нее дверь.
Первые редкие плевки дождя ударились о тротуар. Сэм практически впихнул Эви на заднее сиденье гостеприимного автомобиля.
– Беги, душечка! Нельзя, чтобы моя радиозвездочка подхватила простуду!
– Завтра они будут прочесывать реку в поисках твоего трупа, Сэм Ллойд, – прошипела Эви, приспустив чуть-чуть заднее стекло.
Такси нырнуло в поток.
– Она правда только что сказала, что завтра ваш труп будут искать в реке? – осведомился Т.С. Вудхауз; его остро отточенный карандаш парил над страницей блокнота, готовый спикировать вниз.
Сэм вздохнул, как по уши влюбленный человек.
– Сказала, злючка моя. А как еще бедной беззащитной девочке защищаться от связавшего нас звериного притяжения любви? Кстати, можете меня процитировать.
– Звериного… притяжения… любви…
Вудхауз все еще строчил у себя в блокноте, когда небеса вдруг разверзлись, выпуская шквальный ливень.
А дальше по улице худощавый мужчина в темном костюме пригнул под хлещущими струями голову, скользя сквозь безликие нью-йоркские полчища, будто вовсе не имел тени. Наконец он плюхнулся на пассажирское сиденье ничем не примечательного седана и протянул автограф шоферу.
– Вот вам. И не говорите потом, что я вам ничего не даю.
Тот мельком взглянул на росчерк Эви и сунул его в нагрудный карман.
– Племянница Фицджеральда? Любопытно.
– Мир – вообще любопытное и опасное место, мистер Джефферсон. Призраки, пророки… люди, утверждающие, что видели высокого человека в цилиндре. Угроза изнутри и снаружи. Безопасность – вот краеугольный камень нашей свободы. И нам доверено эту безопасность беречь.
– От моря и до моря, мистер Адамс, – шофер завел машину. – Думаете, она – настоящая?
– Трудно сказать, – отозвался пассажир, открывая пакетик фисташек. – Думаю, нам придется устроить ей небольшую проверку.
Глупейшая ошибка
Генри сидел в кресле и ждал, пока часы пробьют три… – и вспоминал тот самый первый раз, когда он положил глаз на Луи Рене Бернара.
Стоял май 1924-го. Генри стукнуло пятнадцать, и он как раз приехал домой на каникулы из своего нью-гемпширского пансиона. Недавно с ним случилась насмерть всех перепугавшая корь, и родители разрешили провести лето дома, чтобы как следует восстановить силы. У отца был бизнес в Атланте, неделями кряду державший его вдали от дома. Слабенькая мама целые дни проводила на семейном кладбище, вознося молитвы каменным святым с расписными лицами, похожими на пемзу из-за неотвратимой нью-орлеанской сырости. В первый раз в жизни Генри был свободен творить что душа пожелает.
Вот он и решил отправиться в однодневный круиз на пароходике, месившем миссисипские грязи между Новым Орлеаном и Сент-Полем. Большинство народу на них приходило танцевать – он приходил слушать. Лучшие джаз-бэнды города оттачивали мастерство на пароходах, это был настоящий плавучий мастер-класс по диксиленду.
Бэнд на «Элизиуме» оказался изумительный – почти такой же шикарный, как у Фэйта Марабла. Сладостное нытье кларнета вспархивало и вновь падало на фоне гипнотической песни трубы, пока пассажиры, томно горя глазами, колыхались на исполинском корабельном танцполе под потолочными вентиляторами, неспособными побороть ни зной, ни москитов Дельты. Однако все внимание Генри приковал скрипач. Он в жизни не видал настолько красивого парня: густые, почти черные волосы отброшены назад с лица, украшенного мощным лбом, темно-карими глазами и квадратной челюстью. Улыбка превращала эти самые глаза в полумесяцы, а клыки были чуть длиннее передних зубов и к тому же изогнуты. И имя у него было как фортепианное арпеджио в страйд-технике: Луи Рене Бернар. К концу третьей песни Генри уже был по уши влюблен.
Луи тоже, кажется, его заметил. Когда вечером «Элизиум» пристал в Новом Орлеане, он примчался за Генри по трапу на берег.
– Простите, это не вы, сударь, потеряли шляпу? – Луи ткнул пальцем в соломенное канотье, взгромоздившееся ему на шевелюру.
– Боюсь, не я, – отвечал Генри.
– И не я точно – смотрится на мне ужасно.
– А вот и нет! Не могу с вами согласиться. Она очень… – Разумеется, до Генри слишком поздно дошло, что Луи вообще-то прав: шляпа ему была слишком мала; пришлось срочно подыскивать слово, чтобы вывернуться. – …пароходная.
Луи расхохотался, а Генри подумал, что этот смех, наверное, самый красивый звук, который он в жизни слышал. Красивее даже, чем джаз.
– А вы бенье[15] любите? – застенчиво спросил Луи.
– Кто же их не любит!
И они пошли в «Кафе дю Монд», где обильно оросили сахарную жареную плоть пончиков чашками крепкого кофе из цикория. Потом они гуляли по речному берегу, слушая вопли чаек и дальнюю перекличку пароходов. А потом – после того, как они некоторое время постояли рядышком, ожидая, пока другие гуляющие уйдут подальше и оставят их одних… после нескольких конфузливых взглядов – Луи наклонился к нему и легонько поцеловал в губы. У Генри это был не первый поцелуй – эта честь досталась Синклеру Мэддингтону, однокашнику по «Филипс Экзетер». Тот поцелуй был неловкий, неумелый и немного отчаявшийся… а после они несколько недель обходили друг друга по широкой дуге, подогреваемые взаимным стыдом. Зато в поцелуе Луи никакого стыда не было – одна лишь сладость, от которой в животе у Генри что-то запорхало, а голова закружилась, как от шампанского. Вот бы он никогда не кончался…
Луи нахлобучил шляпу Генри на голову.
– На тебе смотрится куда лучше.
– Ты думаешь?
– Я знаю. Отныне, друг мой, это будет твоя счастливая шляпа.
С тех пор Генри ее никогда не снимал.
– Что это у вас на голове? – осведомилась Флосси, кухарка.
Генри как раз выметался из дома через кухню; канотье было заломлено под лихим углом.
– Это моя счастливая шляпа!
Она покачала головой, не отрываясь от курицы, которую обваливала в муке.
– Ну, раз вы так говорите…
Это было лето Генри-и-Луи.
Генри узнал, что Луи семнадцать и что он – часть реки, такая же неотъемлемая, как рыба или одетые мхом камни. Прежде чем умереть – слишком, безвременно рано, – его французский отец передал парню любовь к музыке и дар обращаться со скрипкой. А мать научила ценить самостоятельность, оставив сначала у дальних родственников, а потом, когда ему еще и семи не исполнилось, в католическом приюте в Новом Орлеане. Едва ему стукнуло двенадцать, Луи оттуда убежал, предпочтя жизнь на улицах, в рыбачьих поселках и на пароходах. Тонзиллит подарил ему хриплый голос, из-за которого все, что бы он ни говорил – от «рыба клюет» до «dit moi la vérité»[16], – звучало как попытка флирта. Он просаживал деньги в Буре и нежнейше играл на скрипке во Французском Квартале, никогда нигде не оставался надолго, а сейчас обретался на умопомрачительно жарком чердаке над бакалейной лавкой на улице Дофэн. Еще он души не чаял в своем щенке, Гаспаре, которого кто-то бросил у реки.
– Совсем как меня, – говорил он и чесал роняющему слюни псу мохнатые уши.
Гаспара они везде таскали с собой. Никто в Квартале и не думал возражать, а бывало, что ему и миска объедков доставалась.
Генри признался Луи в том, чего не говорил ни единой живой душе: со времени болезни он приобрел странную привычку к осознанным снам. Как-то ночью, валяясь с корью, он вдруг проснулся, задыхаясь, жадно хватая воздух, словно чуть не утонул, – кошмарное ощущение. А успокоившись, понял, что вовсе не проснулся. Вместо этого он оказался в полном сознании внутри сна.
– И как, ты испугался? – спросил Луи.
– Да, – сказал Генри, нежась в кольце рук возлюбленного.
– А ты мог делать, что захочешь?
– Нет, – сказал Генри.
– Если бы я мог приснить себе что угодно, я бы приснил хижину на болоте, – сказал тогда Луи. – Маленькую хижину над водой… и рыбачью лодку… и полный кулек раков, такой, из газеты.
– А я бы там был? – тихонько спросил Генри.
– Ну, какой же хороший сон без тебя, сам подумай.
Вот так Генри узнал, что это такое – быть влюбленным в кого-то.
Той ночью он пришел к Луи в сон. Там была простая хижина на пронизанной солнцем реке, где дубы, древние, но все еще живые, полоскали лохмы испанского мха в кофейного цвета воде. На веранде скрипело кресло-качалка из пеканового дерева, а рядом тихо ежилась на волнах маленькая лодка. Это был совсем краткий эпизод: сон утек дальше, и Генри, как ни старался, не сумел остаться в этом чарующем месте. Но даже так, за эти несколько минут, оно успело сделать Генри счастливым.
В июне они подписались играть на круизном пароходике – за еду. Во время ночевок в сонных приречных южных городках Луи и Генри бегали на берег, покупать еду для черных музыкантов, которых в белые отели и рестораны не пускали.
– Как-то это нечестно, – сказал Генри другу.
– Это потому, что оно и вправду нечестно.
– И такого добра тут навалом.
Генри ужасно хотелось подержать Луи за руку, но на публике, где всякий мог их увидеть, он не осмеливался. Вместо этого они дожидались, пока скорый на суд мир отвалит на покой, и убегали, и прятались, и целовались, пока губы, и так уже истерзанные южным солнцем, не начинали просить пощады.
Настал июль и принес жаркие дни, полные купанья и рыбалки. Ночами они шатались по ночным клубам и подпольным питейным Французского Квартала, от бакалеи Джо Касио, где пила и плясала вся богема, до «Селесты», где Альфонс, хозяин, ставил им нелегальное пиво в чайных чашках. Иногда они брали у итальянской вдовы, унаследовавшей алкогольный бизнес от покойного супруга, кувшин самогона, истошно пахнущего можжевеловыми ягодами, и ехали на трамвае по Канал-стрит подальше, на кладбища – пить, болтать и мечтать. Окруженный каменными ангелами и увековеченными в мраморе мольбами о божьем милосердии, Генри строил колоссальные планы за них обоих.
– Мы с тобой можем поехать в Сент-Луис или в Чикаго – или даже в Нью-Йорк!
– И что мы станем там делать?
– Музыку играть!
– Так мы ее и тут играем.
– Но там нас никто не будет знать. Мы сможем быть кем угодно. Мы сможем быть свободными.
– Ты всегда свободен – ровно настолько, насколько думаешь.
– Тебе легко говорить, – насупился Генри. – Ты же не Дюбуа.
Дюбуа – это вам не какое-нибудь гордое фамильное наследие, это, господа, петля. Они были из первых семейств новоорлеанского света и в ознаменование этого обитали в громадном довоенном особняке по имени Боншанс[17]. Со своими белыми колоннами, c двумя ровными рядами величавых дубов, Боншанс увидела свет еще при пра-пра-прадедушке Генри, мистере Ксавье Дюбуа, сделавшем себе состояние на сахаре – разумеется, выколачивая его из спин рабов. Его наследник, Анри Дюбуа I, нахапал земли у племени чокто по закону о переселении индейцев, а дедуля Генри, служивший полковником конфедератской армии, получил патент на протекторат надо всей этой краденой землей и заодно прилагавшимися к ней крадеными людьми. Генри частенько думал, интересно, а был ли в истории хоть один Дюбуа, который совершил бы за всю свою жизнь хоть один благородный поступок.
Отца Генри интересовала только одна война – c сыном. Это была бескровная битва. Полная уверенность в своей непогрешимости сообщала папá некую спокойную уверенность: никогда, ни при каких обстоятельствах мысль о том, что его эдиктам кто-то может отказать в повиновении, не могла проникнуть в эту благородную голову – так что и голос повышать незачем. Крики – они для тех, кто рангом пониже.
– Ты не станешь расстраивать маму, Хэл…[18]
– Разумеется, Хэл будет поступать в Университет Миссисипи…
– Ты будешь делать карьеру в юриспруденции, Хэл. Вероятно, станешь судьей. Музыка – это неблагородное занятие…
– Весь этот джаз и пароходная сволочь совершенно не годятся для юноши твоего происхождения и положения в обществе, Хэл. Не забывай, что ты Дюбуа и обязан поддерживать безупречную репутацию семьи. Веди себя соответственно…
Хрупкую, неуравновешенную маму повелительная манера отца давно уже задавила. Когда с ней случился первый нервный срыв, тот отказался посылать ее в клинику из страха, что пойдут сплетни. Вместо этого семейный доктор прописал ей какие-то пилюли, и теперь мама вяло порхала по бесконечным холлам и анфиладам Боншанса, будто заблудившаяся птичка, неспособная нигде усидеть надолго, пока наконец не свила себе гнездо на фамильном кладбище. Там она и сидела все время, на побитой непогодой скамье, и неотрывно глядела в сад – только пальцы бегали по бусинам четок.
– Это все витамины, – говорила она Генри ломким, нервным голосом. – Не надо мне было их принимать. Я так боялась, что потеряю еще одного ребенка. Так много деток, и всех больше нет… А доктор сказал, что витамины помогут.
– И они помогли. Вот же он, я, маман, – отвечал ей на это Генри.
– Она написала мне письмо, сказала, что надо спрятать птичку, – продолжала она, теребя черные бусины в беспокойных пальцах.
Потом приходила Флосси и уводила маму обратно в большой белый дом.
– Идемте-ка, мисс Катрин. Святые не будут против, если вы пообедаете.
А Генри снова бежал к Луи, и они вдвоем гнали «Копченую Мэри» на западный край озера Поншартрен и ловили там рыбу с пирса в Бактауне, устраивали пикник у старого испанского форта или играли музыку в пансионах и летних лагерях Милнбурга.
Луи его никогда не называл Хэлом – для него он всегда был Анри, да еще в томно растянутой, знойной, как воздух над Кварталом, манере:
– Ну что, по ракам, А-анри-и?
– Ты слышал, как он сыграл эту фразу, Анри?
– Анри, не тормози, нас уже все заждались у «Селесты».
И любимая у Генри:
– Moi, je t’aime, Henri[19].
Он хотел, чтобы лето никогда не кончалось.
А потом ужасным безветренным августовским днем Гаспар помер. Не успел Луи его остановить, как щен кинулся за уличной кошкой и попал под фургон мороженщика, выворачивающий из-за угла. Был скрип колес и один жуткий взвизг. Они с Луи протолкались через толпу, и тот, испустив собственный вой, осел на колени и принялся баюкать свою мертвую собаку. Шофер, добродушный, толстолицый дяденька, снял колпак и похлопал Луи по плечу, будто отец.
– Он выскочил на дорогу, откуда ни возьмись, сынок, – сокрушенно сказал он. – Остановиться совсем не было времени. Мне ужасно жаль – у самого три собаки.
Луи был безутешен. Генри купил бутылку у итальянской вдовы, и они уединились у себя в мансарде. Тело Гаспара, завернутое в простыню, лежало на кровати. Луи рыдал, а Генри крепко его обнимал и по глотку вспаивал самогоном, пока глаза у него не остекленели. Потом Генри позаимствовал автомобиль у одного из патронов в «Селесте», и они похоронили Гаспара за городом, на болотах, под кружевной ивой, и положили в головах печеную косточку, украденную у Флосси с кухни.
– Она меня убьет, если узнает, что я спер ее лучшую суповую кость, – сказал Генри, стаскивая промокшую от пота рубашку.
– Он был хороший пес, – сказал Луи.
Глаза у него были красные и опухшие.
– Самый лучший на свете.
– Почему все, что я так люблю, меня покидает? – прошептал Луи.
– Я тебя не покину, – пообещал Генри.
– Как ты заставишь отца разрешить тебе остаться?
Генри прикусил губу, глядя на свежевскопанный холмик.
– Я что-нибудь придумаю.
– Клянешься?
– Клянусь.
Но он и правда не знал, как.
Поздний август расположился над городом, принеся с собой пелену мутных облаков, обещавших, но так и не проливших дождя. После целого дня удушающего зноя Генри с Луи сидели на одеяле под водопадами пурпурной ипомеи. Настроение у обоих было как перетянутая струна. Им принесли телеграмму: отец Генри на следующий день возвращался из Атланты. Школа начиналась в сентябре, через неделю после Дня Труда. Скоро между ними лягут многие мили…
– Почему ты просто не скажешь отцу, что не хочешь ехать?
Генри горько рассмеялся.
– Никто не говорит «нет» моему отцу.
Он сорвал фиолетовый цветок с вьюнка и раздавил в пальцах.
– Эй, что тебе сделало это растение?
Но Генри не так-то легко было вышутить из этого отчаяния. В пансионе он снова утонет по уши в бесцветной, разлинованной жизни: часовня по утрам, латынь, хулиганы-старшеклассники, постоянные издевательства над тем, как он, Генри, ходит, смотрит, говорит… Никакого тебе джаза, никаких вареных раков и рыбалки с пирса. Никаких забавных, эксцентричных персонажей, которых они встречали во время своих набегов в Квартал и которые – и мужчины, и женщины – присматривали за ними, будто за родными племянниками. И никакого Луи… Генри было от этого физически больно.
Луи нацарапал на земле сердце. А внутри – «Л + А». Анри… Генри потянулся стереть, пока никто не увидел. Луи остановил его руку.
– Нет.
– Но…
– Нет.
Той ночью они лежали вдвоем на узенькой кровати, слушая, как волны озера Поншартрен бьются о сваи под хижиной. Щетина Луи исцарапала Генри все щеки, но он ни за что на свете не прекратил бы его целовать. Их руки, их губы, их языки знали свое дело. Пот поиска и наслаждения покрывал тела. А после, так же, не расплетаясь, Генри уснул, убаюканный теплым дыханием Луи у себя на плече. Внизу, ни улицах Уэст-Энда бушевала нескончаемая вечеринка.
Отец Генри вернулся в августовскую пятницу, под самый закат лета. Из своего кресла в библиотеке он милостиво одобрил забронзовевшего и осыпанного веснушками сына.
– Судя по всему, ты вполне восстановил здоровье, Хэл.
– Да, отец, – сказал Генри.
– В школе будут очень рады об этом узнать.
Сердце у Генри заколотилось так сильно, что отец, наверное, смог бы его расслышать с того края персидского ковра.
– Я тут подумал… Пожалуй, я мог бы закончить школу тут, в Новом Орлеане.
Отец выглянул из-за раскрытой газеты.
– Зачем?
– Я мог бы помочь с мамой, – соврал Генри.
– Для этого у нас есть слуги и доктор, – подъемный мост газеты поднялся, только что не лязгнув.
– Я бы хотел остаться, – попробовал Генри еще раз, приказав себе не плакать. – Пожалуйста.
– Я уже отправил им чек за твое обучение.
– Я верну тебе эти деньги.
– Не будь смешным.
– Буду! Я буду работать… как смогу. Я…
– Все уже решено, и дело закрыто.
Отец внезапно бросил на него последний, любопытствующий взгляд.
– Где ты пропадаешь по вечерам?
– Хожу на длинные прогулки. Так сказал доктор Блэк. Для поправки здоровья.
Отец щурился на него всего мгновение.
– Отлично, – резюмировал он, возвращаясь к газете. – Полагаю, доктор Блэк свое дело знает.
И, конечно, все пошло прахом из-за глупой ошибки. Глупейшей!
Луи написал Генри письмо, очень красивое. Генри почти мог декламировать послание наизусть – столько раз он его прочел. Разлучаться с ним было юноше невыносимо, и он перекладывал бумагу из кармана в карман и всегда держал при себе, чтобы можно было в любой момент достать и перечесть. Конечно, в один прекрасный вечер он слишком устал и забыл его в пиджаке, а прачка нашла и отнесла – отцу, кому же еще.
У Генри до сих пор начинало тянуть в животе, когда он вспоминал, как Джозеф, дворецкий, пригласил его в гостиную и закрыл двери. Единственный раз за всю его жизнь ледяное отцовское спокойствие угрожало превратиться во что-то еще… во что-то жестокое.
– Тебе знакомо это? – Отец двумя пальцами поднял оскорбительную любовную эпистолу. – Что это за дрянь?
Генри было так страшно, что ответа у него не нашлось.
– Этот… – рот не без борьбы исторг нужное слово, – мальчик… тебя каким-то образом скомпрометировал?
Луи смешил его. Целовал. Любил… Ни в чем из этого ничего компрометирующего не было.
– Ты подумал о том, что он может шантажировать нашу семью, запятнать наше доброе имя – и все ради денег? – продолжал отец. – Или ты полагаешь, что только домашние девочки падают жертвой охотников за удачей?
Генри хотел сказать отцу, что Луи хороший и добрый, что он очень романтичный и нежный. Что случившееся между ними было настоящим, неподдельным… но сказать ему это было решительно невозможно. Родительское осуждение оглушало его, парализовало, топило в жарком стыде.
Никогда еще он не чувствовал себя таким трусом.
– В Экзетер ты больше не вернешься, – следующим ходом объявил отец.
– Что? – Новая надежда пробилась даже сквозь страх.
Ему разрешат остаться здесь. C Луи.
– Если для тебя защита семейной репутации ничего не значит, я вынужден буду позаботиться о ней вместо тебя. Я уже сделал несколько звонков. Завтра в девять утра отходит поезд на Чарльстон и Цитадель. На этом поезде поедешь ты. Возможно, они сумеют сделать из тебя мужчину там, где я потерпел неудачу. И больше ни слова об этом мальчике.
Генри смотрел, как отец рвет его ненаглядное письмо, как поджигает клочки спичкой и кидает в пустой камин, где они вспыхнули и свернулись, и поседели золой.
Потом его изгнали в спальню, где он обнаружил уже собранный чемодан. Военная школа… Если в Экзетере все было плохо, то в Цитадели будет хуже некуда. Он там просто не выживет. Можно, конечно, спасти себя, соврать. Я не имею никакого отношения к этому мальчику, это какое-то недоразумение. А потом сделать, как велит отец, бросить все что любишь, Луи, музыку, вернуться в Экзетер, стать адвокатом, а там и судьей. Жениться на правильной девушке, родить Генри Бартоломью Дюбуа Пятого и всю оставшуюся жизнь встречаться с одними и теми же людьми на одних и тех же балах и ужинах, все равно прекрасно зная, что ты сущее разочарование для отца и что он никогда не забудет, ничего никогда не забудет – только сделает вид, что этого не было. Или можно взбунтоваться, воспрянуть, взять жизнь в свои руки. Не этого ли вечно хотел от него отец?
Тем вечером в доме был прием для отцовских деловых партнеров. Генри слушал, как они смеются на первом этаже за портвейном и сигарами. Ну, если это и называется «быть мужчиной», увольте, он в такие игры играть не намерен! Отец и слуги заняты. Пора. Генри напихал что мог в заплечный мешок, вылез из окна спальни, соскользнул по древесному стволу и запетлял по кладбищу, хоронясь за надгробиями, – и замер на месте, едва не налетев на мать, сидевшую с четками перед статуей святого Михаила-Архангела. Несколько долгих мгновений она разглядывала Генри, переводя взгляд с него на рюкзак и снова на лицо, – будто пыталась запомнить его навсегда.
– Лети, лети, милая птичка, – прошептала она и вновь вернулась к своим святым, отпуская сына ускользнуть навеки из тюрьмы по имени «Добрая Удача».
Генри кинулся в Квартал, в их мансарду, но Луи там не оказалось. Он сунулся было в «Селесту», но его не было и там.
– Вроде я слышал, что он сегодня играет на «Элизиуме», – сообщил ему Альфонс.
Но когда Генри добрался до доков, «Элизиум» уже усвистал далеко вверх по реке. Генри чуть не расплакался. Можно, конечно, подождать Луи здесь, но кто знает, когда он вернется… а ждать Генри себе позволить не мог. Отец скоро хватится его и начнет искать. Вот устроится в своей новой, сегодня начавшейся жизни, и тогда можно будет послать весточку Луи.
Удача таки повернулась к нему добрым лицом. Пароход как раз отходил вверх по Миссисипи, и Генри уболтал команду, чтобы его взяли на борт, пообещав всю дорогу играть им на пианино в обмен на проезд до Сент-Луиса. Из Сент-Луиса он отправил письмо в «Селесту» – Луи до востребования, вместе с адресом в «Вестерн-Юнион».
Но телеграмма не пришла.
И в Мемфис тоже, и в Ричмонд, и в Нью-Йорк.
Генри вспомнил тот день, когда они похоронили Гаспара. Луи ведь взял с него обещание, что он, Генри, его не покинет, – а он что вместо этого сделал? Убежал. Вдруг Луи ненавидит его за это? За то, что ушел, даже не попрощавшись? Вдруг считает его трусом? О, если бы только найти Луи, объяснить ему, что на самом деле произошло…
Нет, Генри и не думал сдаваться. Он написал нескольким сессионным музыкантам с «Элизиума» – ответил только один, корнетист по имени Джимми. Он сообщил, что вроде бы слышал от какого-то родственника какого-то друга, что Луи, возможно, покинул Новый Орлеан и нашел работу в каком-то перелетном ансамбле, но названия проекта, конечно, не запомнил. Услыхав это, Генри зарычал: такие территориальные команды путешествовали по всей стране. Луи мог быть где угодно.
Тогда-то он и вспомнил, как ходил к Луи в сон. Если теперь это единственный способ выйти на связь, так тому и быть. Одно простое внушение: поговори с Генри… он ждет тебя в Нью-Йорке, в «Беннингтон Апартментс»… запомни: «Беннингтон Апартментс».
Но сначала Луи еще надо было найти.
И Генри занимался этим каждую неделю, весь прошлый год. По краям знакомым и странным странствовал он, а временами и по откровенно пугающим, разыскивая ключ, один-единственный ключ, что привел бы его к парню, которого он был не в силах забыть, которого любил и оставил. К парню, который, возможно, сумеет его простить…
Генри глянул на часы.
Без пяти минут три.
Он поставил будильник и запустил метроном.
– Пожалуйста, – сказал он и закрыл глаза.
Логово снов
Не успели веки Лин встрепенуться по ту сторону сна, как кто-то постучал ее по плечу, так что она даже взвизгнула. Она развернулась и увидала рядом пораженного Генри, тут же вскинувшего руку, извиняясь.
– Не… не смей, – Лин испустила дрожащий вздох, – так больше делать. Никогда.
– Прости, – сказал Генри, но довольной ухмылки сдержать не смог. – Шляпа сработала! Ты меня нашла.
– Да, нашла, – подтвердила Лин.
Колесики у нее в голове уже закрутились, пытаясь вычислить, как так вышло: она только что нашла во сне живого человека. В первый раз в жизни.
– Где мы? Чей это сон?
Словно по мановению волшебной палочки, проснулись звуки: цокот копыт, дальнее тарахтенье надземки, крики разносчиков всякой всячины, тонкий писк фабричного свистка… Покрывало тумана истончилось, приоткрыв все тот же клубок потрепанных городских улиц, что и в прошлом путешествии, только на сей раз к декорациям добавилось действие: двое мужчин вывалились, тузя друг друга, из створчатых дверей кабака. Их тут же обступила толпа. C полдюжины мальчишек гоняли палкой обруч.
– Энтони Оранжевый Крест…
Радостные мальчишеские вопли повисели в воздухе еще немного, даже когда вопившие уже растворились струйками дыма. Призрачный трамвай, запряженный лошадьми, рысью проплыл мимо.
– Внимание, внимание – Райская площадь! Плакальщица грядет! – выкрикнул кучер как раз перед тем, как провалиться в туман.
Хлоп-хлоп-хлоп! Фейерверки завзрывались над схематично набросанными крышами, и фантасмагорический человек в старомодном жилете и пальто возник из мглы, словно проекция киноаппарата.
– Леди и джентльмены! – воззвало привидение. – Все сюда! Приглашаю вас на прогулку на пневматическом поезде Альфреда Бича. Узрите чудо собственными глазами и удивитесь! Перед вами будущее пассажирского транспорта – прямо у вас под ногами, под этими самыми улицами!
Оно ткнуло куда-то вправо, и там тут же нарисовалось здание из коричневого песчаника.
– «Девлинс»! Именно тут я слышал прошлой ночью скрипку Луи!
Генри ринулся вперед, слушая во все уши, но сегодня старые кирпичные стены угрюмо молчали.
– Вчера я слышал ее так ясно!
– Я же говорила: нет никаких гарантий! – проворчала Лин. – Это все еще сон, не забыл?
– Но я знаю звук его инструмента – не хуже, чем собственного. Это точно был он. Луи! Луи! – Генри готов был заплакать.
Подобраться так близко и испытать новое разочарование. Со стоном он развернулся и врезал рукой по стене – и кулак действительно встретился с ней, причем с весьма ощутимым шмяком!
– Ой! – закричал Генри, тряся кистью.
Челюсть у Лин отвалилась от потрясения.
– Ты… ты только что дотронулся до стены! Это невозможно!
Она и сама осторожно вытянула руку и пробежала пальцами по выступам кирпичей и канавкам между ними.
– Невозможно, – снова пробормотала она. – Ты когда-нибудь до чего-нибудь дотрагивался, когда ходил по снам раньше?
– Ты имеешь в виду, до вчерашнего дня, когда я схватил тебя за руку? Нет.
– И я тоже.
Зазвенел пронзительный крик, от которого у них обоих мурашки побежали по спинам:
– Убийство! Убийство! О, убийство!
Еще одна призрачная фигура вынырнула из тумана и устремилась прямиком к Генри и Лин: женщина под вуалью, в старомодном длинном платье с высоким воротом. Она бежала так, будто была смертельно напугана – будто за нею гнались. Когда она приблизилась, оба заметили, что перед ее платья весь красен от крови. Беглянка проскочила между ними, волоча за собой шлейф холода, – а затем прямо сквозь фасад здания из известняка, словно сама была сделана из тумана.
Мерцающая дыра осталась за нею в стене.
– Что это такое было? – спросила Лин, но Генри ей не ответил.
Он уже стоял на краю проема, сияющего скрытым за ним озером энергии и нерешительно подрагивающего, как будто раздумывая, не пора ли захлопнуться.
– Там ступеньки, ведут вниз, – воскликнул Генри, показывая внутрь. – Скорее! Нам надо торопиться!
– Ты совсем спятил?
– Пожалуйста! Я вряд ли смогу найти его без тебя, Лин, – взмолился Генри. – Это же просто сон, дорогая. Если случится что-то плохое, нам достаточно будет просто проснуться.
– Надо было запросить вдвое больше, – пробурчала Лин.
И c этими словами они кинулись внутрь и вниз по ступенькам. Портал за ними, разумеется, тут же закрылся.
– Лин? – позвал в темноте Генри.
– Здесь я, – недовольно отозвалась Лин. – Где бы это самое здесь ни было.
Впереди в черноте расплылись смутные желтые кляксы, словно кто-то щелкнул выключателем, осветив длинный кирпичный коридор, все равно терявшийся во мраке далеко впереди. Над головой тянулись какие-то трубы. Больше ничего в глаза не бросалось – во всяком случае, ничего такого, что помогло бы определить, куда они угодили.
Мимо пронесся порыв холодного ветра.
– Это оттуда, сверху. Так что, видимо, нам туда.
Некоторое время они молча шли, и тишина с каждым шагом становилась все неуютнее, соперничая с пугающей странностью этого путешествия.
– На что это похоже – разговаривать с мертвыми? – заговорил наконец Генри. – Это страшно?
– Меня они не пугают. Они просто хотят, чтобы их услышали. Иногда у них бывают послания для живых.
– Это как?
– «Выходи замуж в следующем году в восьмой день восьмого месяца». «Сейчас не время искушать удачу – подожди один месяц». «Скажи ему, я знаю, что он сделал», – процитировала Лин, припоминая, что ее в последнее время просили передать.
– Да ты просто «Вестерн Юнион» для привидений! – пошутил Генри.
Лин досадливо пожала плечами. Она была не в настроении ничего ему объяснять, тем более о себе. Впервые за весь этот день ей наконец-то удалось на что-то отвлечься, перестать думать о Джордже.
– Ты беспокоишься из-за этой сонной болезни, когда ходишь по снам?
Генри удивленно приподнял бровь.
– А ты? То есть я хочу сказать: тебя бы это остановило?
Лин покачала головой.
– Я не про то. Думаешь, мы бы поняли, если бы попали в сон к больному человеку?
Генри раньше доводилось бывать во всевозможных снах. У пьяных сны медленные и смутные; если у человека температура – наоборот, слишком яркие и… странные, а еще там обязательно кто-нибудь жалуется на жару. Однажды Генри даже занесло в сон к человеку на смертном одре. Они были пассажирами на корабле. Умирающий безмятежно любовался тихим морем и далеким горизонтом.
– Я плыву вон туда, – сказал он Генри с улыбкой. – Но, боюсь, тебе со мной нельзя…
– Думаю, мы бы знали, – коротко заверил он Лин.
– Так как ты потерял этого своего друга – Луи?
Генри помрачнел.
– Мой отец не одобрил нашей… дружбы. Он думал, что Луи плохо на меня влияет.
– А он плохо на тебя влиял?
– Нет, никогда, – твердо сказал Генри.
Интересно, насколько стоит с ней откровенничать?
– А что бы ты стала делать, если бы родители запретили тебе видеться с самым твоим дорогим другом?
– А какой у меня был бы выбор? – вздохнула Лин. – Они же мои родители. Я им всем обязана.
– Ты вовсе не всем им обязана, – чуть-чуть запальчиво начал Генри.
– Нет, всем. Они мои родители, – отрезала Лин, словно закрывая тему. – К тому же вопрос чисто умозрительный. У меня нет самого дорогого друга.
– Что, ни одного?
Самым дорогим у нее был, наверное, Джордж… но они уже некоторое время как начали расходиться.
– Не всем вообще-то нужны друзья.
– Нет, друзья нужны всем.
– Мне нет, – сказала Лин.
– Это самая о-че-лют-но печальная вещь, что я слышал в жизни. И как джентльмен я настаиваю, чтобы на этой неделе ты как-нибудь пообедала со мной и моими друзьями. Устроим вечеринку.
Лин очень живо представила физиономии Генри и его модных приятелей при виде нее, ковыляющей к ним на своих костылях. Вот у них открываются рты, вот они побыстрее натягивают сочувственные улыбки, под которыми тут же начинает скапливаться досада. Никогда этому не бывать!
– О-че-лют-но – это не настоящее слово!
– Совершенно о-че-лют-но настоящее! Оно даже в словаре есть – как раз после воз-мо-лют-но!
– Ты просто хочешь меня позлить.
– Со-вер-тель-но нет! – Улыбка у Генри была сама невинность.
– Ты лучше слушай скрипку твоего приятеля, – рявкнула Лин и пошла вперед.
Во время первой своей встречи с мертвыми она брела во сне по дождливой улице среди каких-то людей, выглядевших просто как размытые кляксы на фоне серого дня. Она увидела красивые двери, расписанные грозными ликами богов, отгоняющими злых духов. Неожиданно двери отворились, и за ними под бумажным зонтиком стояла ее двоюродная бабушка, Хуэй-Ин, которую Лин знала только по фотографиям из Китая. Дождь падал вверх, не касаясь ее. Очерк фигуры слегка мерцал – как она потом узнала, это и отличало живых от мертвых в мире снов.
– Дочка, – сказала бабуля, – скажи, чтобы сломали мой любимый гребень, тот, который из слоновой кости, и похоронили меня с половинкой. Он в расписном шкафу, второй ящик сверху, в тайнике сзади, за фальшивой перегородкой.
На следующий день родители получили телеграмму, что бабушка Хуэй-Ин умерла, и как раз в ту ночь, когда Лин ее видела.
– Он в расписном шкафу, второй ящик сверху, в тайнике сзади, за фальшивой перегородкой, – бездумно повторила Лин бабушкины слова.
Потом, позже, папа взял ее с собой на ферму на Лонг-Айленде. Они работали рядышком, под жарким солнцем, собирая бобы. Папа был тихий человек, мысли свои в основном хранивший про себя, – в чем-то они были похожи.
– Лин, – сказал он, отрываясь от сигареты (она в это время ела персик, наслаждаясь сладостью сока на языке), – откуда ты узнала про бабушкин гребень?
Лин боялась сказать ему правду – вдруг она навлекла на дом какое-нибудь несчастье? До Лин у них с мамой уже был ребенок – драгоценный сын, но он умер при рождении: пуповина обвилась вокруг шеи. Два года спустя родилась Лин, и после нее детей больше не было – конечно, родители сдували с нее пылинки. Она была для них всем и очень живо ощущала это бремя – воплощать родительские мечты и надежды, нести всю эту любовь и ответственность на своих плечах в одиночку.
– Что бы это ни было, ты можешь все мне рассказать, – пообещал папа.
Ну, Лин ему все и рассказала. Он слушал молча и скурил за это время сигарету до самых губ.
– Ты думаешь, что я проклята, Баба? – спросила Лин, договорив. – Я сделала что-то не так?
Улыбка у него была очень нежной.
– Тебе достался дар, милая. Связь между старым и новым, между живыми и мертвыми. Но, как и любой другой дар, принимать его надо со смирением, Лин.
Она поняла, что он хотел сказать: не навлекай на себя несчастье гордыней, девочка. Снаружи Лин вела себя очень смиренно, но внутри тайно наслаждалась, что может ходить по снам и говорить с мертвыми. От этого она чувствовала себя особенной, сильной – почти непобедимой.
За неделю до того как заболеть, Лин отправилась на лонг-айлендский пикник, организованный Китайской Благотворительной Ассоциацией для учеников китайской школы. Стоял один их тех теплых октябрьских дней, когда лето шлет прощальный поцелуй осени. Лин с подружками сняли чулки и залезли в ледяную Атлантику, ежась от восторга, зарываясь в прохладный жирный ил пальцами ног, которым теперь не увидеть солнца до самого июня. Такой изумительный тогда вышел день.
Вечером умер их сосед, старый мистер Сюй, и Лин увидела его во сне: бледный и золотой, он сидел за своим любимым столиком в их семейном ресторане.
– Еще одну последнюю чашку чаю, и я пойду, – сказал он.
На пороге, распахнув дверь в звездный простор, он обернулся и поглядел на нее с совершенно непередаваемым выражением лица.
– Наше бремя творит нас, Лин Чань.
А несколько дней спустя она проснулась утром разбитая, c температурой и жуткой головной болью. Мама велела ей оставаться в постели, но лихорадка и мигрень только усилились. Мышцы в икрах так свело, что невозможно было двинуть ногами без боли – а потом и вообще никак, совсем. Детский полиомиелит, сказали врачи. Слишком много гордыни, услышала Лин.
В больнице доктор обездвижил ей ноги тяжеленными гипсовыми отливками, так что сестрам пришлось уложить ее на койку.
– Ты должна быть храброй и лежать совсем неподвижно, Лин, – пожурил ее он, когда она закричала, чувствуя, как огонь инфекции пожирает ее нервные окончания.
Лежать совсем неподвижно было хуже всего на свете.
– Ей надо научиться быть сильной, – сказал доктор.
– Ей не надо учиться страдать, – парировала мама, и больше он рта не раскрывал.
Целый месяц Лин терпела эту гипсовую тюрьму, неспособная дотронуться до горевшей и саднившей кожи или размять зверские спазмы в умирающих мускулах. Когда отливки наконец сняли, лучше ей не стало – ни вот на столечко.
– Теперь тебе придется носить вот это, – сказала сестра, показывая безобразные металлические скобы.
Они обняли ее сморщенные голени и вгрызлись в нежную кожу повыше и пониже колен, так что там навечно остались шрамы.
Но хуже всего были муки родителей. Лин слышала, как прямо за дверью они все спрашивали и спрашивали врачей и сестер, есть ли хоть какая-то надежда на выздоровление или хотя бы на улучшение, и все никак не могли услышать ответ.
Прекратите уже надеяться, хотела сказать она им, – так будет легче.
А про себя думала: я это заслужила. Я сама это на себя навлекла. И сколько бы Лин ни верила в науку и в разум, спасения из тенет суеверий, веры в удачу, хорошую или дурную, не было никакого. Какой тут разум, когда она на досуге болтает с призраками! В глубине души она все равно думала, что причиной болезни стала проклятая гордость.
Где-то перед Рождеством Лин настояла, что снова будет работать с родителями в ресторане. Когда в икры снова вцеплялись судороги, она изо всех сил это прятала – сколько можно жалости, она так от нее устала! – и каждую ночь сбегала в мир снов, где целый блаженный долгий час могла ходить, могла бегать, куда душе угодно. И каждое утро ей не хотелось возвращаться.
Откуда-то сверху, издалека, до Лин и Генри доносились приглушенный стук копыт и тарахтенье омнибусов, бороздивших незримые улицы. Звуки то возникали, то утихали, будто кто-то давным-давно отправил им открытки с шумами и они только теперь добрались до адресатов.
– А вот это уже интересно, – сказал Генри.
Они стояли перед железными воротами; прутья украшали кованые розы. Легкое бледное сияние сочилось сквозь них, теплое и золотое.
– Ты это видишь? – прошептал Генри. – Я никогда раньше не видел такого света во время прогулок по снам. Он тут всегда…
– …серый, – закончила за него Лин.
– Да.
Генри улыбнулся. Быть тут с Лин – это все равно как путешествовать по чужой стране и вдруг встретить кого-то, говорящего на твоем родном языке.
Лин потрогала прутья.
– Ворота… они холодные, – сказала она более удивленно, чем испуганно.
– Ну, что, пойдем внутрь? – спросил Генри.
Лин кивнула, он поднял щеколду и толкнул створки.
Генри уже навидался всяких странных вещей, странствуя по снам, – чего стоили одни те придворные с совиными головами над взбитыми кружевными жабо… или деревья, сделанные целиком из светляков… пароходы, прикорнувшие на горных вершинах. Но еще ни разу он не встречал ничего столь реалистичного и красивого, как эта чудесная старая станция, где очутились они с Лин. Не какая-нибудь тебе тривиальная подземка со скрипучими деревянными турникетами и толпами ньюйоркцев, вечно толкающихся, вечно несущихся куда-то. Как будто они без спросу залезли в личное подземное логово какого-нибудь богатого, эксцентричного аристократа.
Высоко над головой сливочного цвета кирпичи, уложенные елочкой, облицовывали холмистый ландшафт достойных собора арок. Белоснежный газ мигал внутри исполинских шаров морозного стекла на четырех бронзовых канделябрах. Свет дробился в гладком зеркале фонтана, словно замерзшего в одном бесконечном мгновении. Зал ожидания похвалялся бархатным диваном, тремя лампами на изогнутой, как лебединая шея, опоре, многоцветным персидским ковром и россыпью превосходных кожаных кресел, куда более подходящих библиотеке, чем железнодорожной станции. Тут был даже колоссальных размеров рояль со стеклянным шаром с золотой рыбкой внутри, водруженным на его обширную черную спину. Вся зала сияла теплым янтарным светом – кроме жерла тоннеля, глухого и мрачного, как погребальный креп.
– Где это мы? – спросила Лин.
Она постучала по аквариуму и была вознаграждена крошечным всплеском дивного оранжевого цвета.
– Понятия не имею. Но тут прекрасно! – отозвался с широкой улыбкою Генри, усаживаясь за рояль. – Какие будут пожелания?
– Ты, должно быть, шутишь, – Лин презрительно усмехнулась.
– Такой мелодии я не знаю, но если ты напоешь пару нот… – Генри запорхал по клавишам. – Вот это, я понимаю, слонячьи брови. Если будешь искать, слонячьи брови – из того же словаря, что и о-че-лют-но.
Лин спустилась по шелковисто-мерцающим полированным деревянным ступенькам на пассажирскую платформу и подошла к устью тоннеля. Арка давно уснувших газовых ламп окаймляла кирпичный проем.
– «Пневматическая транспортная компания Бича», – прошептала она, читая надпись на стенной табличке.
– Вряд ли тут сыщутся мертвые, чтобы сказать, где мне теперь искать Луи, – заметил Генри от рояля.
– Вряд ли, – согласилась Лин; голос отозвался слабым эхом. – Эй! – крикнула она чуть посильнее.
– Эй… эй… эй! – заскакало по стенам эхо.
Прядка ветра, лаская, коснулась ее щеки. Раздалось тихое шипение, потом хлопок голубого пламени, и тут же, все как одна, газовые лампочки полыхнули ослепительно-белым. Призрак звука пришел из тоннеля – вой металла о металл.
– Что это такое? – Генри отпрыгнул от инструмента и в мгновение ока очутился рядом с ней на платформе.
Ярчайший свет проткнул тьму, вой сделался громче. Маленький деревянный вагончик грохотал к ним по пыльным рельсам; его головной фонарь сиял, как полуденное солнце. Ворвавшись на станцию, он с визгом остановился, распахнулись двери. Генри сунул голову внутрь, потом с широченной улыбкой обернулся к Лин.
– Эй, тебе обязательно надо это увидеть!
Она тоже заглянула и подивилась панелям красного дерева, двум плюшевым креслам и изящным керосиновым лампам на столиках.
– Давай сюда! – сказал Генри, забираясь в вагон.
– Эй, что ты делаешь? – испуганно вскинулась Лин.
– А что, если он привезет нас к таинственному сновидцу? Вдруг все это – сумасшедший сон Луи? – Бледное веснушчатое лицо Генри было смертельно серьезно. – Лин, я уже все перепробовал. Я должен знать. Прошу тебя! Мы в любой момент можем проснуться.
– Ну, хорошо, – согласилась она после минутной паузы. – Мы всегда можем проснуться.
Стоило им взойти на борт, как двери захлопнулись и поезд покатился по рельсам с рывком, опрокинувшим их обоих в кресла. Лин зажмурила глаза и безмолвно напомнила себе: это сон, это всего лишь сон. Вскоре поезд мягко остановился. Двери распахнулись в затянутую туманом чащу скелетоподобных дерев. Детальности нью-йоркских улиц и прелестной станции тут как-то явно недоставало.
Генри втянул воздух.
– Чуешь? Это гардении. Совсем как в Новом Орлеане.
– Я ничего не чую, – сварливо возразила Лин.
На лице Генри любопытство сменилось почти вожделением.
– Вот! Я его слышу! Это скрипка Луи. Он здесь! Мы его нашли!
Он соскочил с поезда и устремился в мглистую путаницу едва намеченных стволов, клонящихся, обступающих, принимающих его в объятия.
– Погоди! – Лин побрела следом. – Генри? Генри! – закричала она, чувствуя, как внутри подымается паника.
Она звала и звала, но его уже нигде не было. Будто сон открыл пасть и проглотил его целиком.
«Алая река»
– Лин? Где ты? Лин! – звал Генри, и голос его тонул в тумане.
Он-то думал, что она прямо позади, но потом обернулся, а кругом только безликие деревья – все одинаковые, и непонятно, откуда ты пришел.
Теплый ветерок принес своевольный запах гардении, а с ним и другие – мох и речную воду, запахи дома. Где-то далеко, совсем слабо, смычок упорно пиликал «Алую реку».
– Луи? – позвал Генри; в горле его набух ком.
Впереди древесные тени слегка расступились, открывая бегущую сквозь чащобу едва освещенную тропку. Скрипка ударила сильнее.
– Лин! – попробовал Генри еще один, последний раз.
Он совсем не хотел ее здесь бросать, но боялся оборвать эту ниточку к Луи, важную, как сама жизнь. Быть может, где бы она сейчас ни была, Лин тоже услышала музыку и пошла на звук. Надеясь, что так оно и есть, Генри устремился за скрипкой в глубину леса.
Солнце засияло ярче, туман истончился. Плоские, как бумага, деревья округлились, нарастили кору, превратились в громадные вековые дубы в колышащихся бородах испанского мха. Стрекозы чертили мимо его лица и ныряли к зеркалу пронизанной солнцем реки, где синяя лодочка покачивалась у берега – совсем такая же, как та, на которой они рыбачили с Луи. На самом берегу на деревянных сваях возносилась грубо сколоченная хижина; из горбатой трубы вился дым. Музыка неслась изнутри. Ноги у Генри превратились в желе. Вдруг это еще одна жестокая шутка, что так любят шутить сны? Кулак налился свинцом, но Генри набрал побольше воздуха, c усилием поднял руку и постучал. Мелодия оборвалась. Генри оплел руками живот, чтобы унять дрожь… дверь, скрипя, отворилась.
На пороге стоял Луи, прекрасный, как всегда. Он заморгал – сперва на влажный, туманный свет, потом на Генри.
– Анри?
Тот сумел лишь кивнуть. Интересно, во сне можно упасть в обморок? Еще секунда, и он, кажется, это узнает. Мгновение растянулось в вечность… А потом на лице Луи расцвела широкая улыбка.
– Mon cher![20] Где же ты был?
Лин шла через серый лес, зовя Генри по имени, не получая ответа и постепенно перетапливая ужас в ярость. У них была совершенно четкая договоренность: Лин должна помочь ему отыскать в мире снов Луи. В сделку не входило лазить в странные здания, бродить по старым станциям и плутать в жутких, нарисованных кое-как лесах. Никогда не надо помогать людям не из Чайнатауна, хоть за десять долларов, хоть за сколько!
– Генри! – сердито позвала она.
– Ты что, заблудилась? – ответил нежный девчоночий голос.
Лин обернулась.
– К-кто тут?
– Ты ходишь по снам, но сама не спишь.
Лин резко повернулась в другую сторону, но снова не увидела говорившей.
– Если будешь так вертеться, у тебя закружится голова, – сказал голос и хихикнул.
– А ну, покажись! – приказала Лин.
Из-за дерева выступила девушка в длинной юбке и тунике с широкими рукавами. Возраста примерно такого же, что и Лин, невысокая, но крепкая, c широким, открытым лицом и очень прямыми бровями. Заплетенные в косу волосы держали на затылке две скрещенные шпильки.
– Я тоже умею ходить по снам. Как и ты.
Сначала Генри, потом еще эта девица? Да тут скоро светофоров придется понатыкать – шляется кто попало по миру снов! Лин рассердилась. Злость – это хорошо, Лин однозначно предпочитала ее страху.
– Кто ты такая? – сурово вопросила она.
– Я – Вай-Мэй, – отвечала девушка с легким поклоном. – А как тебя зовут?
– Лин, – сказала Лин.
Просто поразительно, что в мире снов никогда не бывает никаких языковых барьеров, будто во сне все говорят на одном языке.
Вай-Мэй нахмурилась.
– Просто Лин и все? Забавное какое имя.
– Где мы? Что это за место? – все так же требовательно осведомилась Лин.
– Красиво, правда? Совсем не похоже на обычные сны!
– Но что это такое? – Лин разговаривала скорее с собой, чем с этой девчонкой. – Как ты сюда попала? Тоже приехала на поезде?
– На поезде? – От глаз Вай-Мэй разбежались веселые морщинки. – Ах да! Поезд! Ты тоже приехала на нем?
– Да. Но я приехала с мальчиком – он еще один сновидец, его зовут Генри.
– С еще одним? – в восторге ахнула Вай-Мэй. – Но где же он?
– Я не знаю, в том-то и проблема, – ровным голосом сказала Лин.
Кажется, эта Вай-Мэй не особо блещет умом.
– Когда мы сошли с поезда, он убежал в лес и я его потеряла.
– Ты потеряла другого сновидца? – Вай-Мэй покачала головой. – Это очень безрассудно, Лин.
Лин метнула в нее свирепый взгляд, но Вай-Мэй подобное молчаливое презрение как-то не впечатлило.
– Ты могла бы, по крайней мере, помочь мне его найти?
Та округлила глаза.
– Так этот другой сновидец – твой муж?
– Мой – кто? Нет! Нет. Никакой он не муж, – возмущенно затараторила Лин. – Он… а, ладно, забудь.
– Не уверена, что это правильно – вот так гулять по снам в сопровождении мальчика, который тебе не муж, Лин, – Вай-Мэй с сомнением поцокала языком. – Ну да ладно. Я тебе помогу. Но тебе и правда стоит быть поосторожнее с друзьями в будущем, Маленький Воин. Идем. Нам сюда.
Лин гадала, кого ей больше хочется убить за испорченную ночь: Генри или эту возмутительную девицу. Она открыла рот, чтобы что-нибудь сказать на эту тему, потом передумала и с тяжким вздохом ограничилась тем, что пошла за Вай-Мэй через лес.
Дайте ей только отыскать Генри, уж ей найдется, что ему сказать.
От голоса Луи – живого, теплого и совсем не воображаемого – эмоции у Генри сорвались с привязи. Он хотел кинуться любимому на шею, но испугался, что если сделает это, тот растает и оставит по себе лишь струйку дыма.
– Луи, это правда ты?
– А ты знаешь еще одного Луи, похожего на меня? – сказал он так, словно они стояли себе как ни в чем не бывало на палубе «Элизиума» и пароход шел по реке знойным летним днем… словно не прошла с тех пор целая вечность.
– Где мы? Что это за место? Похоже на наши болота, да только не совсем.
– Это сон. Мы с тобой внутри сна, – объяснил Генри, вытирая глаза тыльной стороной руки.
Он как-то умудрялся смеяться и плакать одновременно.
Луи даже присвистнул.
– Ну, что ж, отлично. Видать, это мой лучший сон за всю жизнь.
Генри не мог ждать более ни секунды: ему нужно было поцеловать Луи, сжать в объятиях. Никогда раньше он не мог такого проделывать во сне – но никогда раньше он и не бывал в таких снах. Он осторожно протянул руку, чтобы коснуться рукава – и сердце у него упало: контакта не вышло. Словно бы тонкое стекло отделяло их друг от друга. Как же так… он чувствовал запах гардении, ощущал шершавость древесины, а возлюбленного потрогать не мог! Воистину непознаваема и жестока логика снов.
От реки раздался лай, а через мгновение пестрый пес вынырнул из травы, обнюхал Генри, яростно замахал хвостом.
– Гаспар? – изумленно вскричал Генри.
Собака заложила два круга и кинулась за горлицей.
– Тут все так реально, – проговорил Генри; восторг уже неотвратимо теснила тревога. – Луи, где же ты был?
– Какое еще «где ты был»? За исключением нескольких вояжей по реке, я был где всегда. Это ты сбежал, а не я, – сказал он, и Генри расслышал у него в голосе упрек.
– Я был вынужден. Это все из-за отца, – начал оправдываться он и рассказал, что случилось в тот проклятый день, когда у него нашли письмо. – Я пытался с тобой связаться, поверь. Я везде тебя искал, даже в снах!
– А я думал, что ты бросил меня и забыл, – слова прозвучали легкомысленно, но слишком хорошо Генри его знал.
Луи был уязвлен. Возможно, даже разгневан.
– Никогда! Я бы никогда тебя не забыл, Луи! – воскликнул Генри, мечтая только о том, чтобы это вдруг стал не сон, чтобы Луи можно было обнять.
– Я ходил к твоему дому, искал тебя. Думал, может, Флосси что-то знает.
У Генри заколотилось сердце.
– И что случилось?
– Нашел твою маман – она сидела на кладбище и болтала с ангелами. Ничего, конечно же, не знала. Тут как раз вышел твой папа и застал нас вместе. Он, конечно, тут же понял, кто я. Сказал, чтобы духу моего тут больше не было, а не то он меня пристрелит за незаконное вторжение. Не то чтобы меня это удержало… – улыбка Луи расцвела слишком ненадолго. – Еще он сказал, что ты уехал из города и больше не желаешь иметь со мной ничего общего – даже попрощаться не захотел. Он сказал, что ты меня ненавидишь.
Голос его вспорхнул и задохнулся.
– Вот сволочь, – Генри почти выплюнул это слово. – Но я же послал тебе кучу писем! И две телеграммы – одну, когда добрался до Сент-Луиса, и вторую из Нью-Йорка! Когда ты не ответил, я решил…
Луи покачал головой.
– Не было никаких писем. И телеграмм тоже.
– Опять отец…
Генри не хотелось думать, что кто угодно в «Селесте» мог их продать со всеми потрохами, но деньги есть деньги, а их у отца было предостаточно. Очень в его духе – заплатить кому-нибудь за перехват писем… чтобы их уничтожали, даже не доставив. Но если так, значит, у отца есть нью-йоркский обратный адрес Генри – и он до сих пор ничего не сделал, чтобы его отыскать. Какое облегчение знать, что за ним не придут и не поволокут силой в военную школу… но и боль. Выходит, отцу проще совсем стереть сына из памяти, чем вынести разочарование от того, кем он оказался.
– Но теперь-то ты здесь, cher,[21] – сказал Луи. – Теперь мы здесь.
Он поднял ладонь, Генри повторил жест, и их пальцы… почти соприкоснулись.
Всю дорогу через лес Вай-Мэй трещала не переставая.
– Ты ведь знаешь историю Му Гуйин? Она у меня самая любимая из всех Дао Ма Дань. Ну, когда она сражается с Яном Цзунбао и влюбляется в него, и спасает ему жизнь? Это самая потрясающая история любви на свете, – щебетала она, взволнованным щенком подпрыгивая рядом с Лин.
Генри до сих пор нигде не было видно.
– Вообще эта история у меня самая любимая. Ну, за исключением той, что про куртизанку Юй Тан Чунь. Или еще о Пьяной Красавице. Или Роман Трех Царств.
– Генри! – закричала уже более отчаянно Лин. – Ге-е-енри-и-и-и!
– Прости, Лин, дядюшка говорит, что я слишком много болтаю и что я глупая девушка с головой, набитой романтическими историями, вот от этого-то и глупая, – радостно сообщила Вай-Мэй. – А хочешь, я тебе секрет расскажу?
– Да как-то не особенно…
– Я скоро выхожу замуж! – объявила Вай-Мэй. – Мы с моим нареченным никогда не встречались, но я слышала, что он очень красивый, у него добрые глаза и высокий лоб. Он богатый купец из Америки, из города Нью-Йорк, и когда я туда приеду, я буду очень богатая, c кучей слуг и кучей денег, чтобы посылать родным, в Китай. Я сейчас плыву в Сан-Франциско на «Госпоже Свободе». Терпеть не могу этот корабль, я себя на нем так скверно чувствую, – добавила она, прикладывая ладошку к желудку.
– Китайским женщинам очень трудно иммигрировать в Америку. Как тебе это удалось? – спросила Лин.
– Дядя все устроил через брачную контору, «О’Баннион и Ли». Мистер О’Баннион встретит меня на иммиграционном посту в Сан-Франциско и отвезет к мужу в Нью-Йорк. Мой будущий супруг там очень уважаемый и успешный человек. Но я слышала, на улицах нужно вести себя осторожно, – тараторила Вай-Мэй, едва останавливаясь, чтобы перевести дух. – Там царят порок, продажность и убийство – сплошные опиумные притоны и дома терпимости на каждом шагу! – и леди нужно глядеть в оба, а не то ужасные опасности будут поджидать ее в Воровском Логове и на Улице Убийц, и на Бандитском Насесте, и на Загибе Малберри, и…
– На улице Малберри, – поправила ее Лин.
– Нет, на Загибе, – c нажимом повторила Вай-Мэй. – Мне все о них рассказали, Лин.
Ну, да, а я всего лишь прожила там всю жизнь, – подумала Лин.
– Нет, у меня, конечно, будет муж, чтобы меня защищать, но…
Рот у Вай-Мэй, видимо, не закрывался никогда. Лин шла вперед под ее нескончаемый монолог и думала одну-единственную мысль: вот найду Генри и убью.
– …но больше всего я люблю истории про любовь, которые со счастливым концом. Если бы я могла, я бы прямо жила в опере…
Хотя нет. Генри ей понадобится живым. Сначала капитальный разнос – я ему все скажу! – а потом уже убийство.
– …я знаю, что женщинам на сцену нельзя, но если бы было можно, я бы играла все самые лучшие романтические роли, царских любовниц, и движения у меня были бы такие отточенные и изящные. А ты была бы отважный Дань. Я тебе уже говорила, что в тебе виден воинский дух?
– Ты не могла бы помолчать немного, а? Я думать пытаюсь, – оборвала ее Лин.
– Я весьма сожалею. – Вай-Мэй смущенно поклонилась; у Лин было такое чувство, будто она только что пнула котенка. – Я просто на корабле уже так долго, а все остальные женщины тут сильно старше и не из моей деревни. Они со мной не хотят разговаривать. Так здорово поболтать с кем-то еще. C кем-то молодым… У кого все зубы на месте.
– Тебе сколько лет? – поинтересовалась Лин.
– Семнадцать. А тебе?
– Столько же.
– Вот видишь! Мы уже прямо как сестры! – Вай-Мэй в надежде прикусила нижнюю губу. – А оперу ты любишь?
– Опера – для стариков, – отрезала Лин.
Ротик Вай-Мэй округлился от изумления и ужаса.
– О, Лин! Как ты можешь такое говорить! Опера же такая чудесная! Эти красивые истории, они как сны…
– Терпеть не могу сказки. Я люблю факты. Науку.
Вай-Мэй скорчила рожицу.
– Звучит ужасно скучно.
– Ну, если ты так любишь оперу, считай, что тебе повезло. Мой дядя работает в оперном театре, – созналась Лин. – В Нью-Йорке. Потому что я там живу.
Вай-Мэй издала такой писк, что у Лин ушло несколько секунд на осознание того научного факта, что это восторг, а не ужас.
– Ты самая счастливая девочка на земле, раз у тебя такой дядя! Ты все время ходишь в оперу? Сидишь на балконе и грызешь тыквенные семечки и воображаешь, что все эти чудные истории происходят с тобой? Когда я приеду в Нью-Йорк, мы пойдем с тобой в оперу вместе, и ты увидишь, какая она прекрасная! Это судьба свела нас! Мы точно станем лучшими на свете подругами. А тем временем, пока я на корабле, мы можем каждую ночь встречаться тут, в этом прекрасном мире снов!
Деревья внезапно кончились.
Впереди были только какие-то серые и коричневые квадраты – набросок, все еще ждущий деталей.
– Судя по всему, дальше мы не пройдем, – сказала Лин.
– А ты хочешь дальше?
– Дальше все равно не выйдет, – раздраженно повторила та.
Мысль о том, что Вай-Мэй слабоумная, быстро обретала весомость факта.
– Тогда мы это поменяем и сделаем, как нам надо. И пойдем, куда захотим.
– Сон нельзя изменить.
– Конечно же, можно.
– Я уже достаточно давно хожу по снам, – начала Лин тоном школьной училки, объясняющей тему первокласснику, – и оно так просто не работает. Можно войти в дом, можно подняться по лестнице, которая и так уже существует. Но нельзя по собственной воле превратить этот дом в школу или, скажем, в автомобиль.
– А что такое автомобиль? – озадаченно спросила Вай-Мэй.
Лин закрыла глаза и глубоко вздохнула.
– Ладно, забудь.
И c этими словами она пошла обратно, к лесу, крича:
– Генри! Генри!
– Но мы здесь можем менять все по своему желанию, – сообщила, снова поравнявшись с нею, Вай-Мэй. – Это не как в других снах. Смотри, я тебе покажу.
Лин остановилась и демонстративно сложила руки на груди.
– Придумай что-нибудь, чего тебе очень хочется, – распорядилась Вай-Мэй. – Что-нибудь маленькое.
Я хочу назад мои ноги, подумала Лин. Хочу ходить без этих чертовых скоб и чтобы люди на меня не глазели с жалостью или страхом. И хочу просыпаться без боли.
Она проглотила ком в горле.
– Отлично. Туфли. Хочу пару красивых туфель.
– Очень хорошо, – сказала довольная Вай-Мэй.
Она наклонилась и подобрала камень… и рука ее с ним опустилась, как будто камень был и вправду тяжелый.
– Но как…
– Тс-с-с. Смотри.
Девочка закрыла глаза, губы сжались в линию от сосредоточенности. Она повела над камнем руками, уверенно, будто фокусник, делающий давно отработанный трюк, и на глазах у пораженной Лин камень поплыл, потек, уже больше не твердый, но словно раздумывающий, чем ему стать дальше – и каким… У Вай-Мэй контуры тоже размылись, будто они с камнем сейчас объединились, стали одним целым в этой алхимии. Камень подернулся рябью, подождал еще мгновение, а потом пропал. Там, где только что был он, стояла пара изящных, расшитых китайских туфелек без пяток.
Лин провела пальцем по швам на острых носках и почувствовала словно бы остаточный заряд, совсем чуть-чуть статического электричества.
– Как… как ты это сделала?
Вай-Мэй вытерла пот со лба.
– Этот мир так устроен. Энергия сновидца – она тут как магия.
– Только не магия, – пробормотала Лин; в голове у нее неистово закрутились колесики.
Она знала, что мир снов – это вам не реальный мир, но каким бы фантастическим он ни был, ей никогда не удавалось что-нибудь в нем изменить, не говоря уже о том, чтобы создать. Происходящее представлялось ей совершенно невероятным, будто Вай-Мэй каким-то образом умудрилась изменить саму атомную структуру сонного ландшафта.
– В этом месте все, что ты сновидишь, становится явью. Правда, от этого очень устаешь, – Вай-Мэй мелко дрожала и дышала тяжело; в первый раз со времени знакомства ее болтовня немного сбавила обороты. – Приходи опять завтра ночью, и я покажу тебе, как это делается.
– Но как я сюда вернусь?
– На поезде, со старой станции, конечно. В точности как сегодня, – улыбаясь, заверила ее Вай-Мэй. – Мы с тобой станем подругами. А ты взамен… – она задумалась, поглядела на деревья, – ты будешь рассказывать мне про Нью-Йорк, чтобы я все там узнала, когда приеду. И не чувствовала себя чужой.
Лин не могла оторвать взгляд от туфелек.
– Хорошо. Завтра ночью, – сказала она.
Первый звонок будильника прогремел над миром снов. Тело у Лин сразу отяжелело – сигнал, что она уже начала восхождение обратно, в неспящий мир.
– До завтра, Маленький Воин! – воскликнула Вай-Мэй.
До завтра, подумала Лин, и будто встрепенувшиеся крылья голубки, ночь вздрогнула, и побелела, и размылась в бескрайнее ватное ничто.
Когда зазвонил будильник, Гаспар неистово разлаялся.
– Нет! Слишком рано! – закричал Генри.
Он протянул к Луи руку, словно мог схватить своего любимого, не дать ему исчезнуть – но тщетно. Генри рывком вынырнул на поверхность, хватая ртом воздух, у себя в кресле, за крошечным столиком, в Беннингтоне. Будильник надрывался и трясся на полу, куда свалился с подоконника.
Юноша лежал в кресле парализованный, не в силах вытереть слезы. Из другой комнаты донесся возмущенный вопль Тэты. Через секунду она ворвется и наорет на него, но это Генри было уже все равно: он видел Луи, он говорил с ним.
Но вспомнит ли Луи их встречу? Люди далеко не всегда запоминают сны, и даже если у него получится, если сон зацепится, надолго его не хватит. Подробности быстро стираются, и сон улетучивается из головы, вытесненный дневными делами. И телефона у Луи нет, а если отец Генри как-то умудряется перехватывать все письма, нет смысла связываться с ним через «Селесту».
Однако он сумел найти Луи во сне, а, значит, это можно будет сделать еще раз. Надо будет только вернуться к Луи и внушить ему – как тогда, c Тэтой, когда у нее случился кошмар. Да! Через мир снов он, Генри, сумеет заманить Луи к себе. Но это значит, что ему еще раз понадобится помощь Лин. Все работает, когда они вместе! Надо будет завтра попросить Лин пойти с ним еще раз, и плевать, чего это будет стоить.
– Генри Бартоломью Дюбуа чертов Четвертый!!! – Тэта ворвалась в комнату в сдвинутой на лоб маске для сна, похожая из-за этого на пьяного пирата.
Она прихлопнула будильник и, разъяренная, повернулась к Генри.
– Мы о чем договаривались, Ген?
– Тэта, я…
– Никаких «Тэта, я»! О чем мы с тобой договаривались?
– Не больше, чем…
– …раз в неделю, – докончила она за него.
– Тэта…
– Уже вторую ночь кряду! И это после того, как ты мне сегодня обещал…
– Тэта…
– Если ты думаешь, что я пожертвую ранним сном, чтобы ты…
– Тэта! – Генри каркнул ее имя, вложив в него все остатки сил.
Тэта запнулась на полуслове и упала на колени рядом с креслом.
– Что такое, Ген? Дьявол, ты вообще жив?
Генри улыбнулся, все еще клацая зубами.
– С-со мной вс-се пухло, Тэта. Я н-нашел его. Я н-нашел Луи, – только и сумел выдавить он, прежде чем провалился, вконец изможденный, в лишенный видений сон.
Прочь, мертвые, прочь!
Аделаида Проктор выудила из коробочки таблетку нитроглицерина, положила под язык и стала ждать, пока стихнет боль. Спазм вызвали кошмары – что-то там про старую, ручной работы музыкальную шкатулку… она играла популярную мелодийку тех времен, когда Аделаида была молода. Красота песенки разбередила в ней тоску, она обещала все, о чем Аделаида когда-либо мечтала – только идем, идем за мной глубже и глубже в ткань сна. Она чувствовала, что шкатулка зовет и других, будто радиопередача с дальней станции поздней ночью. Но тут сон сдвинулся, песенка затерялась, и она увидела Элайджу: он молча стоял на краю кукурузного поля; лицо его затопили полночные тени.
– Адди, – прошептал он, маня, и ее сердце пустилось диким галопом, словно скинувший всадника конь, и выбросило ее из сна.
Таблетка сработала быстро, тугой узел в груди распустился. Когда сердечный ритм хоть немного восстановился, Аделаида вытащила себя из постели и заковыляла к собственной музыкальной шкатулке, стоявшей в самом верху маленького дубового шкафчика, втиснутого в угол комнаты. Она подняла крышку, и крошечная плясунья из «Мулен-Руж» тут же рывком ожила. Двумя пальцами Аделаида задушила песню в зародыше, пока та не разбудила ее сестру, Лилиан. В шкатулке лежал фланелевый мешочек для драгоценностей, а в нем – железный ларчик с инициалами «ЭЛДЖ». Она открыла его и уставилась внутрь – на локон темно-золотых волос, на зуб, на осколок пальцевой кости и на ферротипию молодого человека в серой униформе. Убедившись, что с ними все в полном порядке, она сунула ларчик обратно в мешочек, заперла шкатулку и убрала ее на место в шкафу.
Дальше она собрала неглубокую чашу, спички, свечу в латунном подсвечнике, моток бинта, связку шалфейных листьев и маленький кривой серебряный кинжальчик к себе в сумочку, опустошила солонку понемногу в каждый карман халата и, придавленная к земле весом соли, зашаркала через холл к лифту.
Лифтер, ни слова не говоря, доставил ее в самые недра «Беннингтона»; он работал тут всего две недели, но уже научился ни о чем не спрашивать сестер Проктор. Пока лифт тарахтел вниз, мисс Адди тихонько напевала себе под нос:
Широка земля, широка, ночь стара, Ни грядущего, ни прошлого нет, Вышит горестью плащ, на дыре дыра, Мертвых Царь Ворон подымает в рассвет.Решетка лифта, лязгнув, отворилась в беннингтонское подземное царство. Кнопочный отрок бросил несмелый взгляд во тьму.
– Вас подождать, мисс Проктор? – неуверенно вопросил он.
– Все в порядке, дорогой. Я вас вскоре вызову. Езжайте себе.
Скептически качая головой, тот закрыл двери, и лифт застонал вверх, оставив Адди одну в сумрачном подвале. Она тотчас же выхватила свечу, запалила фитиль и подождала, пока теплое сияние хоть немного рассеет мглу. Она подкормила огонь концом шалфеевой связки и замахала тлеющей травой в воздухе, описывая широкие круги. Потом засучила рукава халата и сорочки. Вдоль парковой стороны бежала череда узких, вровень с улицей, окон, и в их смутном свете бумажно-тонкая кожа запястий казалась светящейся и почти синей. Бормоча древние слова, она медленно огладила лезвие ножичка большим пальцем и зашипела, когда кровь закапала в чашу. Окровавленным пальцем Адди отметила восточный угол подвала, а потом и три остальных. Покончив с этим, перевязала его, выгребла соль из карманов и накропила тонкие, как изморозь, линии вдоль подоконников, где уборщик их, есть надежда, не найдет. Ночь изнывала снаружи окон, моля впустить. Адди загасила свечу, собрала пожитки, нажала кнопку вызова и стала глядеть, как золотая стрелка считает этажи вниз.
Двери открылись, лифтер помог ей войти.
– От вас пахнет дымом, мисс Проктор, – встревожился он.
– Это всего лишь шалфей, милый. Я, видишь ли, окуривала помещение.
– Простите, мисс Проктор?
– Запалила связку шалфея и окурила помещение.
Любопытство и подозрительность на пару живо окрутили мальчика.
– А зачем, позвольте спросить, вам пришло в голову пойти и сделать такую вещь?
– Для защиты, конечно, – просто ответила та.
– Защиты от чего, мэм?
– От дурных снов.
– Простите, мисс Проктор. Я не догоняю.
– Я охраняю наш дом от мертвых, милый. Насколько могу.
На сей раз лифтер предпочел оставить свои мысли при себе – а заодно поделиться ими с менеджером здания, когда закончится смена. Вряд ли ему понравится идея, что старушка может вот так, ничтоже сумняшеся, сжечь дом. Еще раз скептически покачав головой, он захлопнул решетку и повернулся к панели; золоченые двери отрезали их от тьмы подземелья.
День восьмой
Роман что надо
– Доброе утро! Доброе утро! – ручейком звенела Эви, порхая по коридорам Даблъю-Джи-Ай и маскируя широкой улыбкой жутчайшее похмелье после вчерашней тортовой вечеринки.
Как и было обещано, Эви в полночь выпрыгнула из торта. Как и предполагалось – на хмельную вечеринку, затянувшуюся далеко за полночь. И сейчас она бы охотно убила за еще несколько часов сна – если бы нашла, кого. В фойе сегодняшние податели больших надежд шумно требовали внимания: всем не терпелось поскорее попасть в эфир. Каждое утро тут выстраивалась очередь из свежих талантов, жаждущих сделать себе имя на радио.
– Я могу петь почище Карузо, – доказывал какой-то парень и тут же разразился арией, да так громко, что ее наверняка услышали и снаружи, на Квинсе.
– А я? А я? – разорялся другой. – Я могу имитировать посвист четырнадцати разных птиц!
– Ох, только не это! – проворчала Эви, растирая многострадальные виски.
Не успела она сдать пальто и клош на руки гардеробщице, как на нее вихрем налетела еще одна мистерфилипсовская секретарша – кажется, на сей раз Хелен.
– Мисс О’Нил! Я вас искала. Мистер Филипс желает с вами поговорить – немедленно!
Внутри у Эви что-то громогласно запротестовало, но Хелен уже втолкнула ее в кабинет начальника – огромную угловую комнату, всю сияющую панелями вишневого дерева, на десятом этаже и с видом на самую небоскребную часть Манхэттена. Всю стену занимал огромный, обрамленный в золото, ростовый холст: Гульельмо Маркони изобретает радио. Выражение живописного лица решительно отказывалось предрекать дальнейшую судьбу Эви.
– Подождите тут, он сейчас придет, – наказала Хелен и закрыла за собой дверь.
Интересно, Филипс собрался ее увольнять? Что она сделала не так? К тому времени, как патрицианский голос из приемной повелел секретарше не соединять никакие звонки, Эви уже только что по стенкам не бегала.
Мистер Филипс вступил в комнату с тем величавым спокойствием, что сделало ему состояние на фондовом рынке. Костюмы его шились вручную в Лондоне, а еще у него были апартаменты в городе и загородный дом на Лонг-Айленде, где он, по слухам, закатывал грандиозные вечеринки – сплошь из кино– и радиозвезд. Но главной его страстью было радио, а компания Даблъю-Джи-Ай – ненаглядным дитятей. Не угодившие мистеру Филипсу таланты увольнялись прямо посреди передачи: ведущего или актера выводили из студии во время музыкальной паузы и немедленно заменяли другим.
– Доброе утро, мисс О’Нил! – поприветствовал он, усаживаясь в кресло напротив нее; солнце заиграло на его серебряных волосах. – Кажется, вы сегодня угодили на первые полосы.
Он толкнул к ней по столу стопку газет. «Дэйли ньюс», «Гералд», «Стар» – каждая несла крупный завлекательный снимок Эви с компании кричащих заголовков:
ДУШЕЧКА И ЕЕ ЖЕНИХ!
ЮНАЯ ПРОРОЧИЦА НАПРОРОЧИЛА СЕБЕ ЛЮБОВЬ!
ТАЙНЫЙ РОМАН РОКОВОЙ ФЛАППЕРШИ!
– Почему вы ничего мне об этом не сказали? – осведомился босс.
– Я… я не могу объяснить, мистер Филипс, – промямлила Эви.
Туфелька ее под столом выстукивала чечетку, какой позавидовал бы и Зигфельд. Он сейчас ее уволит, возьмет и отправит собирать вещи, и все, чем она наслаждалась последние несколько месяцев, разом закончится. Ну, если Сэм Ллойд ей еще раз попадется, пусть Тэта держит ее за руки, а не то она изничтожит проклятого мальчишку всеми способами, какие только подскажет ей воображение, – уж чего-чего, а воображения у нее предостаточно!
Эви набрала побольше воздуху. Работай гласными, сказала она себе. Что угодно прозвучит лучше с правильным произношением.
– О, видите ли, это не совсем то, чем кажется…
– Неужели? А вот я всей душой надеюсь, это именно то, чем кажется, милая моя девочка, – отвечал мистер Филипс, сияя очами. – Это же просто восхитительно!
– Д-да-а? – проблеяла Эви.
– Ну еще бы! В Даблъю-Джи-Ай с утра разрывается телефон. У телефонисток уже все пальцы поотваливались. Люди с ума сходят: надо же, Провидица-Душечка обручена! Они жаждут новостей! Они хотят знать об этом всё! Это самая крутая сенсация Нью-Йорка с тех пор… в общем, c тех пор, как ты объявила себя пророком. Та-Самая-Девушка наконец нашла Того-Самого-Юношу!
У Эви запершило в горле.
– Ну, я… типа… я бы не сказала, что Сэм вот прямо Тот-Самый-Юноша…
Царственным мановением руки мистер Филипс отмел все возражения в сторону, не успели они родиться.
– Штука в том, моя милая девочка, что ты и твой везунчик сделали всю семью Даблъю-Джи-Ай очень-очень счастливой. Наконец-то мы переплюнули Эн-би-си! Ты и твой красавчик вознесли нас на самую вершину – рекламодатели уже телефоны обрывают: они хотят поддерживать станцию, пригревшую Провидицу-Душечку и ее нареченного, – он радушно улыбнулся. – А когда счастливы мои рекламодатели, счастлив и я. Ты вот-вот станешь очень знаменитой, моя дорогая.
– Д-да-а?
– Да. Что ты скажешь насчет эфира два раза в неделю? С небольшой прибавкой к жалованью, разумеется.
Дважды в неделю?! Да таким влиянием пользуются только уже совсем улетные звезды, вроде Уилла Роджерса и Фанни Брайс! Эви раздумывала, куда бы засунуть широченную улыбку, но та предательски расползалась по физиономии.
– Это было бы совершенно пухло, мистер Филипс!
– Ну, так считай, что мы договорились. И, конечно, мы устроим пресс-конференцию для счастливой пары.
– Ой. Ну, я… я не знаю. Это все как-то быстро…, – пролепетала Эви.
Голос ее скакнул вверх, будто ей дали эфиру.
– Вздор, – мистер Филипс полыхнул мрачным огнем; его кустистые брови сошлись посреди лба в устрашающую свирепую «V». – Мы все устроим. Аппетиты публики нужно удовлетворять. Ты с твоим парнем, – тут он кинул беглый взгляд в газету, – Сэмом, будете появляться на людях как можно чаще. По возможности, каждый вечер. Теперь, когда Скотт и Зельда Фицджеральд в Европе, Америке нужна юная, современная пара, способная занять их место.
Он опустил палец, как шлагбаум, и тот уперся в нее.
– Так вот, это вы.
Тут на Эви напал неконтролируемый нервный хохот.
– Что такое, мисс О’Нил?
– Со мной все пухло, сэр, – слегка придушенно сообщила Эви. – Можно я от вас позвоню?
В уединении офиса Эви ждала Сэмова ответа, глядя в окно десятого этажа, как зимний туман обнимает небоскребы. Прохожие внизу, на Пятой авеню, казались отсюда совсем маленькими. Эви нравилось смотреть на них настолько свысока: чувствуешь себя и вправду могущественной. Вот бы остаться тут, за облаками, подольше… Она наугад подцепила газету и уставилась на собственное имя, набранное жирным шрифтом. Да, и это ей тоже нравилось. Дело оставалось за малым: взнуздать Сэма.
– Я готова вас соединить, мисс О’Нил, – нарушила молчание телефонистка.
В трубке что-то треснуло и раздался голос Сэма, исполненный невыразимого самодовольства.
– Никак это будущая миссис Ллойд?
– Дорого-о-ой! – защебетала она. – Я так по тебе скучала.
Последовала недолгая пауза, потом на том конце провода присвистнули.
Сквозь чуть приоткрытую дверь Эви могла любоваться мистером Филипсом и с ним всем секретарским отделом Даблъю-Джи-Ай, впивающим каждое ее слово. Она присела на сверкающий край лакированного стола и рассмеялась каскадом серебряных трелей, как их учили на занятиях по сценической речи – на грудном регистре, откинув голову, будто ловя ветер в тенета кудрей. Предполагалось, что это чарующий, шикарный, беззаботный смех настоящей леди – аристократической бездельницы.
– Ха-ха-ха-ха! Ах, ты… Милый, я просто должна тебя увидеть. Пообедаем в полдень? В «Алгонкине»?
Еще одна пауза.
– Шеба-красотка, c тобой там все в порядке?
– Не опаздывай, милый. Нам так много надо обсудить, а ты же знаешь: каждое мгновение вдали от тебя – это сущая пытка. Адьё!
Эви успела повесить трубку, прежде чем Сэм вставил еще хоть слово.
По дороге со студии Эви оказалась в одном лифте с Сарой Сноу и сразу же приметила ее чулки: серая елочка – самый писк! Для евангелистки она очень модная – в этом львиная доля ее очарования. Флапперша Божья, как ее кое-кто называл. Она даже Иисуса сумела сделать чуть-чуть шикарным. Миссионерская дочка, чьих родителей укокошили в Китае, когда ей было всего тринадцать, она «услыхала зов» в нежнейшем возрасте пятнадцати. А к двадцати уже дважды пересекла всю страну, собирая толпы в передвижном шатре и вовсю проповедуя об ужасах винопития, танцев и социализма. В двадцать один она вышла замуж и еще до двадцати трех успела овдоветь – мужа унесла чахотка. Сейчас, в двадцать пять, она окормляла свою паству беспроволочным способом – что твой Моисей на радиоволнах. Ее призывы вернуться во времена, когда жизнь была проста и благочестива, находили живейший отклик в сердцах тех американцев, которым было трудно устоять на ногах в нынешнем, предательски ускорившем вращение мире. То, c какой страстью Сара ораторствовала, привлекало на ее религиозные бдения сущие толпы. То, что она была красотка, тоже каши не портило.
Но ничего даже близкого к Эви в смысле аудитории у нее, конечно, не было. На самом деле по станции ходили сплетни, что шоу Сары до сих пор не закрыли только по той причине, что не нашлось ничего лучше вставить в этот час… ну, и как-то негоже вышвыривать за порог Иисусова солдатика.
– Поздравляю с помолвкой, Эви, – изрекла евангелистка, даря ее одной из своих праведных (сомкнутые губы подковкой) улыбок; практикуйся Эви хоть целый год перед церковным зерцалом, и то бы у нее так не вышло.
– Спасибо, Сара.
– Он же богобоязненный юноша, правда?
Эви задушила в зародыше громкое: «Ха!»
– Ну, он определенно знает, как заставить девушку воззвать к Господу.
– Желаю вам всяческого счастья. Я слышала, они теперь ставят тебя на два вечера в неделю. Это… это правда?
Еще одна закрытая улыбочка. Но Эви успела разглядеть за ней тревогу. Очи Сары Сноу, может, и устремлены горе (вернее, на распятие), зато сердце полно амбиций. Еще чуть-чуть, и она бы понравилась Эви за это. Совсем чуть-чуть… но нет, не вышло.
– Да, это правда, – сияя, сообщила Эви.
Сара снова устремила добродетельный взор вперед, на золотую стрелку, считавшую этажи.
– Всем нравятся яркие романы.
Улыбка Эви дрогнула.
– Еще бы.
Эви ворвалась в «Алгонкин» и принялась стряхивать дождь со своего модного клоша.
Метрдотель провел ее через отделанную дубовыми панелями и заполненную народом залу. Когда Сэм встал ей навстречу, все головы как одна повернулись в их сторону.
– Котлетка! – он пожал ей руки и слегка вздохнул.
– Звучит так, будто на ужин у нас я, – прошипела Эви сквозь стиснутые зубы.
– Неужели моя дичь по-милосски?
Эви наградила его свирепым взором.
– Наслаждаешься, да?
– Больше, чем ты можешь себе представить, – интимно прошептал ей на ушко Сэм.
– Могу я предложить вам вальдорфский салат, мисс О’Нил?
– Да, благодарю вас. И кофе, пожалуйста.
– Мистер Ллойд?
Сэм снова легонько вздохнул.
– Обычно мне хватает нашей любви, но раз леди что-то заказывает, я буду рувима. C добавочным хреном. И яичный крем[22].
– Как пожелаете сэр, – сказал официант. – Наверняка вы двое очень счастливы.
– Просто до небес. Кому бы пришло в голову, что простой лопух вроде меня вдруг захапает вот эту сидящую здесь куколку, – ответил Сэм, восхищенно пялясь на нее.
Эви пришлось сцепить руки на коленке, чтобы не двинуть Сэму как следует под столом. Как только официант удалился, она нежно наклонилась к нему и понизила голос.
– Ты часом палку не перегнул, дружок?
Сэм пожал плечами.
– Я слышал, у нас роман. Решил подыграть, только и всего. Но если ты против, я сейчас же позову газетчиков и скажу им всю правду.
– И думать не смей, Сэм Ллойд! Это ты нас во все это втравил. Теперь мы по уши в…
– Неужто? И что мне, скажи на милость, помешает перемолвиться словечком с новостными парнями?
– Да ты хоть представляешь, сколько народу обрывало сегодня телефон в редакции по поводу нас? Тысяча!
– Т-тысяча?
– Диктую: один-ноль-ноль-ноль – да, братишка. И они продолжают звонить! Мистер Филипс хочет поставить меня на два вечера в неделю. Да я стану знаменитой! То есть еще более знаменитой. И ты тоже, – зыркнула она на Сэма.
Тот поскреб подбородок, довольно ухмыляясь.
– Бьюсь об заклад, быть знаменитым – мое призвание.
– С ума сойти, как нам с тобой повезло, – огрызнулась Эви. – Штука в том, что если ты им теперь разболтаешь, что это всего лишь шутка, я сама буду выглядеть как форменная шутка. А шутку никто никуда продвигать не станет – люди, знаешь ли, от этого портятся. Так что, боюсь, выход у нас с тобой только один. Придется некоторое время разыгрывать эту карту.
Официант приплыл с тарелкой булочек, и Эви накинулась на них – от нервов у нее всегда просыпался аппетит. А теперь в нее и целый десяток бы влез! Сэм сплел пальцы, водрузил локти на стол и многозначительно придвинул лицо к Эви.
– Да? А что мне за это будет, Бэби-Вамп?
– Я, так уж и быть, не стану тебя убивать, – пробурчала Эви с полным ртом хлеба и красноречиво поиграла с хлебным ножом.
– Подумать только, какие щедрые условия, – оценил Сэм. – Но у меня есть вдобавок два собственных.
Эви разом проглотила все, что у нее было во рту, и сузила глаза в опасные щелочки.
– Я c тобой нюхаться не буду. Это можешь сразу вычеркнуть из списка.
Сэм просиял и салфеткой заботливо вытер пятнышко масла с ее щеки.
– Милая, я никогда не включаю интимное общение в контракт. Все девушки, прошедшие через заднее сиденье моего автомобиля, были просто счастливы там оказаться. Нет, у меня другое на уме.
Эви не знала, оскорбиться ей или вздохнуть с облегчением.
– Ну, чего тебе? – спросила она наконец утомленно.
Улыбка испарилась с его физиономии.
– Проект «Бизон», конечно.
А, ну да. Проект «Бизон». Сэмова идея фикс. Ему поверить, так это была какая-то тайная правительственная операция во время войны, и его мать, Мириам, была к ней неким образом причастна. Она ушла из дому, когда Сэму стукнуло восемь, и больше никогда не вернулась. Официальные документы утверждали, что она умерла от инфлюэнцы, да вот только пару лет назад Сэм вдруг получил по почте открытку (без обратного адреса), на которой было по-русски написано: «Найди меня, Лисеночек» – и почерк был безошибочно мамин! И тогда Сэм убежал из дому и забил себе в голову найти ее.
– Сэм, – сказала Эви насколько могла мягко. – Ты не думаешь, что пора уже отпустить всю эту историю? Ты говорил, в призраков ты не веришь: так вот, этот твой проект «Бизон» – просто призрак. И ты даешь ему мучить себя.
– Эви, проект «Бизон» лишил меня матери. И я не успокоюсь, пока не выясню, что с ней случилось.
На лице у него застыла мрачная решимость, но под нею Эви чувствовала боль. Уж она-то знала, что это такое – потерять того, кого очень любишь. Если есть хоть какая-то надежда, что Джеймс все еще жив, Эви бы до края света дошла, чтобы его найти.
– Ну, что ж, это честно, – сказала она. – Эй, что с тобой такое? У тебя такая рожа, будто кто-то подсыпал тебе красного перцу в крем для бритья.
Сэм побарабанил пальцами по столу.
– Эви, скажи-ка, твой дядюшка когда-нибудь упоминал при тебе проект «Бизон»?
– Нет. C чего ты взял, что Уилл может хоть что-то об этом знать?
– Да так, есть одна наводочка.
– Наводочку оставляй таксистам и маклерам на бегах, – съязвила Эви.
– Да погоди ты, не кипятись. Мне нужно тебе кое-что показать.
Сэм выудил из кармана бумажник, а из него – сложенную салфетку.
– Есть один парень, раньше работал на правительство. Знает все их секреты, а давеча раздобыл кое-что для меня. Я его натурально спрашивал про мать и про проект «Бизон» – так он сказал, проект до сих пор в работе. И сдал имя человека, который, по его словам, все об этом знает.
Сэм сунул ей салфетку. Эви посмотрела на нацарапанное там имя – «Уилл Фицджеральд».
Она прикусила губу.
– Когда, говоришь, тот мерзавец тебе это дал?
– Никакой он не мерзавец…
– Ладно, твой «тайный осведомитель».
– Да месяца два назад.
– Значит, два месяца назад… – задумчиво повторила Эви.
– Ну, да. Два месяца назад. Ты чего такое лицо делаешь?
– Сэм, Сэм, Сэм, – покачала она головой. – Вот уж не думала, что ты такой легковерный.
– Я много какой, сестричка, но вот легковерным меня еще никто не называл. А ты сама давно ли заделалась экспертом по осведомителям?
– Об осведомителях я не знаю ни шиша, – молвила Эви, наливая себе в кофе молока. – Зато натуру человеческую представляю себе очень неплохо. Пораскинь мозгами, Сэм. Два месяца назад… Пентаклевый Душегуб…
– Да помню я, помню.
– Имя дяди Уилла было тогда во всех газетах! А ты работал в музее. Думаешь, трудно сложить два и два? – терпеливо объяснила Эви. – Сэм, посмотри правде в глаза: тебя обвели вокруг пальца. Жаль, если ты этого сам не видишь. На всякого хитреца найдется кто-то похитрее…
Червь сомнения заворочался у Сэма под ложечкой. Такой ход ему в голову явно не приходил.
– Сэм, милый, – нежно сказал Эви. – Скажи, ты никогда не думал, что та открытка, возможно, была совсем не от мамы?
– Там был ее почерк, я его знаю, Эви. И я ее найду! Клянусь, что найду!
Официант принес Сэму рувима и вальдорфский салат для Эви. Эви искоса наблюдала, как люди кругом глазеют на них и сплетничают за раскрытыми веерами меню. За знаменитым круглым столом восседала сама Дороти Паркер, попивая мартини с Робертом Бенчли и Джорджем С. Кауфманом[23] – так на них вообще никто внимания не обращал! Эви с Сэмом безраздельно завладели вниманием всего «Алгонкина». Сэму, в свою очередь, не было никакого дела до них: он забыл обо всем и с головой ушел в сэндвич, которым уже практически дышал.
– Ты там не подавись только, ты мне нужен живой. Пока, по крайней мере, – сказала Эви. – Значит, так: если я тебе помогаю с проектом «Бизон», чем ты хочешь, чтобы я занималась?
– Проверяла все, что я нарою. Вдруг найдешь какой-то след.
– Опять психометрия, – вздохнула Эви. – Мне эти два вечера в неделю на радио и так уже дорогого стоят, надо быть осторожнее. Что со вторым условием?
– Будешь хозяйкой вечеринки по случаю открытия выставки по пророкам в музее. В конце этого месяца.
– О, Сэ-э-э-эм! – простонала Эви, роняя голову на стол с драматизмом, сделавшим бы честь Айседоре Дункан[24]. – Нет. Уиллу я не помогаю. Это же работа на врага! Ненавижу музей и Уилла тоже ненавижу!
– Ты помогаешь вовсе не Уиллу. Ты помогаешь мне. Если музей пойдет ко дну, я вылечу на улицу. И, кстати, на нас смотрят.
Сэм повел глазами в сторону стола, обсиженного флаппершами, которые таращились на них и возбужденно шептались.
– Только без шуток, – Эви подозрительно поглядела на него. – Я не вчера с дуба рухнула, знаешь ли.
– Надо же нам хоть как-то подкормить их воображение.
– И как же? – еще подозрительнее вопросила Эви.
Сэм навалился на стол, взял обе руки Эви в свои и уставился ей в глаза с таким выражением, словно она была последней представительницей женского пола на планете. Желудок Эви отпустил на это какой-то неразборчивый комментарий.
– Помоги мне с проектом «Бизон» и пророческой выставкой, и я тебе такой роман сыграю, что Валентино[25] утрется!
Уголком глаза Эви видела, что на них уже смотрит весь ресторан. Кругом гудело столько энергии, что через нее саму будто пропустили электрический ток. Она всегда любила это ощущение – о, очень любила! Проверить несколько предметов и поработать хозяйкой вечеринки (пусть даже в музее) в обмен на первые полосы всех газет и статус крупнейшей нью-йоркской радиозвезды? Достаточно честный обмен.
– Считай, что мы договорились, Сэм. Но с одним последним условием.
– На гольф и народные танцы я не согласен, – быстро сказал он.
Эви сузила глаза.
– Временной лимит. Четыре недели самого шикарного, самого умопомрачительного романа, какой только видел Нью-Йорк. А потом капут. Все кончено и всех вон, микрофоны выключены.
– Бог мой, когда ты так об этом говоришь, мне кажется, что наша любовь – не взаправду, Котлетка.
– И у нас будет трагическое расставание. Наша любовь горела слишком ярко, чтобы выжить, – Эви оперла лоб о ладонь, как обреченная оперная героиня, потом вспорхнула пальцами в прощальном жесте. – Пока-пока, Куколка!
– Четыре недели, говоришь? – Сэм задумчиво склонил голову набок.
– Четыре недели.
Сэм украдкой глянул на пожиравших их глазами флапперш. А ведь среди них есть и хорошенькие, и одна из них наверняка будет рада его утешить. Так зачем же ему заключать эту сделку с дьяволом… то есть с Эви? Почему от перспективы притворного романа у него все внутри вскипает шампанским – прям как от воровства?
– Лады, – сказал он, подтвердив договор страстным взором и волчьей улыбкой. – Уж они нам поверят. Прогулки при луне, тонуть в очах друг друга, коктейль с одной соломинкой на двоих. Кошмарные любовные прозвища.
– Только не Котлетка, – запротестовала Эви. – Гадость какая!
– Отлично, пусть будет Отбивнушечка.
– Я задушу тебя во сне.
– Это значит, что мы и спать рядом будем? – заухмылялся Сэм.
– Не в этой жизни, Ллойд, – обольстительно улыбнулась Эви. – Игра хороша только под вспышки камер.
– Ну, значит, примемся за дело сейчас, – и Сэм запечатлел поцелуй на тыльной стороне ее руки.
Флапперский стол простонал коллективное:
– О-о-о-оххх!
Поцелуй пробежал вверх по руке, и внутри у Эви что-то нежно зажужжало. А ну прекрати мне это, твердо сказала она себе. О’кей, разговор с организмом будет после, еще посмотрим, кто тут хозяин.
Рядом со столом снова нарисовался официант.
– Ваша трапеза за счет заведения, мисс О’Нил, мистер Ллойд. Спасибо, что выбрали для сегодняшнего ужина «Алгонкин». Надеемся, вы заглянете к нам еще.
Сэмовы брови взлетели вверх.
– А ведь к такому недолго и привыкнуть, – и он нахлобучил свою рыбацкую кепчонку на голову.
– Мистер Филипс устроил нам сегодня интервью на Даблъю-Джи-Ай. В четыре. Не опаздывай.
– Ни за что. Пойду сопру что-нибудь шикарное надеть. Как думаешь – панталоны подойдут?
Потешается, зараза. Вот имей потом дело с парнями вроде Сэма Ллойда.
– Сэм, милый, не заставляй убивать тебя на полный желудок, у меня спазмы будут.
– И c тобой тоже приятно иметь дело, Бэби-Вамп, – улыбнулся он.
Эви влюбленно похлопала ресницами.
– Вон отсюда, пока я не передумала!
– Уйти порознь и разочаровать наших зрителей? – Сэм махнул головой на ресторан, жадно замерший за столами.
Волчья ухмылка вернулась – а вот чистый восторг за нею был уже чем-то новым. Сэм подхватил Эви под ручку и сопроводил ее через весь зал «Алгонкина» к выходу. Наклонившись, он прошептал ей в самое ушко, так что в животе снова что-то предательски встрепенулось:
– Отныне тебе меня не стряхнуть, красотка.
Все было так ново, так полно надежд…
Тэта и Генри рысцой неслись по запруженному народом тротуару Сорок Второй улицы, опаздывая, как обычно, на репетицию. По пути пришлось просочиться мимо проповедника со стайкой прихожан, несущих молитвенную вахту.
– Эта сонная болезнь есть кара Господня! Покайтесь! – громыхала духовная особа, высоко воздевая Библию. – Отвратите лице свое от разврата, от гнезд порока, от логовищ опьянения, от диавольской музыки, от джаза бегите, от зол несказанных подпольных и крепких напитков!
– Да ежели я от всего этого отвращусь, у меня никаких хобби не останется! – проворчал на бегу Генри.
– А если мы не поднажмем, у нас не останется никакой работы, – заметила Тэта.
Мальчишка-газетчик на углу помахал Тэте утренним выпуском.
– Газету, мисс?
– Прости, малыш.
Он пожал плечами и продолжил выкрикивать актуальные заголовки:
– Срочно! Сонная болезнь распространяется, врачи опасаются новой эпидемии! Бомбист-анархист взрывает целую фабрику! Провидица-Душечка обручена! Срочно!
– Что-о-о?! – Тэта встала на полном скаку. – Эй, мальчик, сюда!
Она кинула ему пятицентовик и чуть ли не вырвала газету из рук.
– Чтоб меня!
– Это что, шутка такая? – осведомился Генри, читая передовицу у нее через плечо. – Почему она нам-то об этом не сказала?
– Понятия не имею, в какую такую игру задумала играть Эви, но, клянусь, я это узнаю, – пообещала Тэта, засовывая скомканную газету в сумочку. – И если она действительно собирается замуж за Сэма Ллойда, я съем свою шляпу!
– А вот это уже никуда не годится, – строго сказал Генри, открывая театральную дверь. – Шляпа-то хорошая!
Внутри громкий грохот степовых туфель соперничал с восходящими и нисходящими руладами хористок, распевающих гаммы: репетиция в Новом Амстердаме, судя по всему, была уже в полном разгаре. Уолли, многострадальный помреж шоу, наградил Тэту и Генри, дефилирующих по центральному проходу зала рука об руку, свирепым взглядом.
– Так, так, так. Двойняшки-опоздашки собственной персоной. Мои поздравления, сегодня вы всего лишь… – он демонстративно проверил часы – на десять минут позже времени.
Тэта похлопала его по щеке и мило поджала губки.
– Береги свою язву, Уолли. У Генри для тебя новая песня. А ну, всем тихо!
– Эй, это вообще-то мои слова! – возмутился Уолли и, оставив за собой последнее слово, гавкнул: – А ну, тихо все!
– Давай, Ген! – распорядилась Тэта.
Генри забрался за пианино и набрал побольше воздуху в грудь.
– Оно немного сырое, имейте в виду… Но в целом звучит как-то так…
И он заиграл довольно живенькую мелодию, подпевая параллельно своим скрипучим фальцетом:
Лишь во сне мы вместе, я и ты, Как роса поутру твоя красота, Сердце поет, прощай, маета, — Но только здесь, в Стране Мечты. Наутро луна клонится к закату, Зачем мы вообще распрощались когда-то? Увидимся мы вновь, Моя любовь, — Но только здесь, в Стране Мечты. Говорят, сбываются мечты, Если верить в их чары, Если сбудутся мои мечты, Мы будем вечно с тобой парой. Песочник в глаза мне насыплет песка, Луна голубая уже высока, Как время бежит, как ночь глубока — Когда я с тобой в Стране Мечты, Останемся навек мы в Стране Мечты.Закончив, Генри повернулся к Уолли.
– Ну, – осведомился он нервно. – Что думаешь?
Еще мгновение назад Уолли держался руками за голову и выглядел так, будто утратил всякую волю к жизни, но вдруг…
– А знаешь, малыш, совсем не дурно.
– Я бы сказал, чересчур медленно, а? – прогудел голос откуда-то сзади.
Генри не заметил, когда Герберт Аллен успел проникнуть в зал, но в любом случае явление это ничего хорошего не предвещало.
– Меланхолия какая-то… маловато бодрости, куража. Можешь сделать ее поживее, а, старик? – вещал Герби, шествуя через зал в новом, c иголочки, клетчатом костюме – купленном, без сомнения, на недавно полученные роялти.
– Вообще-то герой никак не может вернуть себе то, что потерял, – объяснил Генри, последним усилием сумев не прибавить к тираде «ты, лишенный вкуса идиот». – Он томится…
– М-м-м… – протянул Герби, наморщив нос. – Ну, я не знаю, Уолли. По-моему, как-то мрачно для ревю.
– А мне нравится, – заявил вдруг Уолли, к удивлению Генри. – Сделаем такой мечтательный номер.
Генри с удовольствием полюбовался, как тает маслянистая улыбка Герби.
– Ну, полагаю, окончательное решение все-таки за Фло? – процедил он.
– Да-да, – отмахнулся Уолли. – Сделай еще один подход, Генри. Поработай еще над проигрышем и вот этим последним припевом, а дальше мы покажем ее Фло. Если он скажет да, ты в деле, малыш.
– Спасибо, Уолли!
– Аллилуйя! – подытожила Тэта, подпрыгивая и кидаясь на шею Генри.
– Так, а теперь быстро все встали на позиции для «Фокуса-покуса». Где мои девочки-пророчицы?
Пока Уолли лаял приказы актрисам, Генри у себя за роялем погрузился в мечтания. Все теперь казалось ему новым и полным надежд – это из-за Луи, в нем-то все и дело. Как бы так дождаться ночи, чтобы встретиться с ним снова! А когда они встретятся, он ему внушит, чтобы тот позвонил на нью-йоркскую квартиру. Надо будет убедить Лин снова отправиться с ним в сон – и прямо сегодня. Как только закончится репетиция, он бегом побежит в Чайнатаун и обо всем с ней договорится. У них точно все получится!
Ну, а недовольная физиономия Герберта Аллена – это прямо вишенка на торте, самый смак!
Не успела репетиция закончиться, как Тэта уже позвонила Мэйбл, и они обе заявились в ванную комнату в отеле «Уинтроп», где Эви отмокала по самые уши в пене.
– Эй, я же в неприличном виде! – запротестовала Эви.
– Если бы нам был нужен твой приличный вид, пришлось бы ждать годы! – заявила Тэта, усаживаясь на комод и помахивая газетой. – Эвил, ты что, остатков и без того траченного разума лишилась?
– Поверить не могу: ты мне вчера ничего не сказала! – посетовала Мэйбл, угнездившаяся на краю ванны.
– Из всех твоих идиотских выходок приз забирает эта. И какой приз – свадебный торт, не иначе!
– Я же твоя лучшая подруга, – уязвленно ввернула Мэйбл.
Эви и рада была бы во всем им сознаться, но не могла рисковать: они с Сэмом договорились держать свой маленький пакт в секрете даже от ближайших друзей. Если даже свои поверят в их любовь, больше шансов, что публика купится – и меньше, что их обман разоблачат.
Эви съехала пониже в ванну, под защиту пенного ландшафта.
– Ну… оно все случилось так внезапно. Я собиралась вам сказать. Честно.
– Сдается мне, ты всегда ненавидела Сэма Ллойда, – подозрительно прищурилась Тэта.
– Я его… и вправду немножко ненавидела. А потом до меня дошло, какой он на самом деле до ужаса романтичный. Какой авантюрный. И… и милый, – сказала Эви, импровизируя на ходу. – Слушайте, ну нельзя, что ли, девушке внезапно передумать насчет парня?
– Девушке – можно, – Тэта внушительно скрестила руки на груди. – Значит, мы сядем тут и подождем, пока ты передумаешь обратно. Эви, Сэм Ллойд – мошенник. Да он даже змей из Ирландии сумел бы выманить! Нет, парень он, конечно, симпатичный…
– Ты правда так думаешь? – Мэйбл скорчила гримасу. – Ну, то есть я хочу сказать, он не то чтобы совсем НЕ симпатичный…
– Откуда тебе знать, что этот аптечный ковбой не хочет просто тобой воспользоваться – теперь-то, когда ты стала зашибать недурные деньги?
– Могли бы хотя бы поздравить, – пробурчала сварливо Эви.
Никакого права обижаться у нее вообще-то не было – но она почему-то все равно обиделась.
– Поздравляю! – выдавила Мэйбл.
Тэта завела глаза к потолку.
– Поздравляю, на свадьбу я подарю тебе комплект из здравости и смысла. Хотя не уверена, что ты станешь им пользоваться.
– Сделаю вид, что я этого не слышала, – шмыгнула носом Эви.
– Тут что-то капитально не так, это я знаю наверняка, – заявила Тэта.
В соседней комнате зазвонил телефон.
– О, нет! Может, кто-нибудь из вас будет такой ми-и-и-илой и возьмет трубку? – простонала Эви.
– Обожа-а-а-ю быть ми-и-и-илой! – передразнила Тэта и с Мэйбл в фарватере решительно двинулась к стоявшему на прикроватном столике телефону.
– Резиденция Провидицы-Душечки. Нет, к сожалению, в настоящий момент Провидица-Душечка вся мокрая, – сообщила она в трубку.
Мэйбл захихикала.
– Тэта! – взвыла Эви в ванне.
Та пинком захлопнула дверь.
– Угу… угу… да, хорошо. Я передам ее радиовысочеству. Пока.
Тэта повесила трубку.
– Что там такое? – Эви, завязывая халат на ходу, вырвалась наконец из ванной.
– Спешу проинформировать мисс О’Нил, – Тэта напустила подчеркнуто снобский акцент, – что ее шофер прибыл.
– Какой еще шофер? – округлила глаза Эви.
Девушки кинулись к окну. Внизу, на улице, возле сверкающего зеленого «крайслера» действительно ждал шофер.
Мэйбл даже рот раскрыла.
– Вот ведь черт! Как будто ты Глория Свенсон или вроде того. Прямо как к кинозвезде!
– К звезде! – тихонько повторила Эви, непроизвольно сияя.
– Мои поздравления, Эвил. Вот ты и на своем месте. Думаю, нам пора покинуть сцену, Мэйбл. Выход там.
– Если вы меня минуточку подождете, поедем вместе на радиошоу. Прибудем все вместе, как настоящие шикарные, пухлые…
– Прости, Эвил. Мне надо на репетицию.
– Мэйбси?
Последние два месяца Мэйбл героически старалась не замечать происходящих с Эви перемен. Того, как она теперь говорит «Айседора» вместо «Изадора»… как приветствует едва знакомых людей манерно растянутым «дорогу-у-у-уша»… как у нее всегда находится время для свиданий и вечеринок и ее новых гламурных друзей – и никогда для Мэйбл. Но вот это, сегодняшнее, – это уже слишком. Разве они с Эви не лучшие подруги? Разве девушка не обязана первым делом поделиться новостью о помолвке с лучшей подругой?
Совесть честно сказала ей, что хорошо бы пойти и порадоваться вместе с Эви… но Мэйбл была зла и уязвлена и совсем не уверена, что выдержит сейчас снова оказаться одной из безликой толпы.
– Прости, я сегодня занята, – сказала она, отворачиваясь. – Я – к лифту, Тэта.
– Сейчас догоню, детка, вот только нос попудрю.
Тэта подождала, пока Мэйбл выйдет в коридор, и решительно приперла Эви к стенке.
– Эвил, ты что, правда выходишь за Сэма Ллойда?
– Ну, это же во всех газетах! – сказала Эви, и это, строго говоря, не было ложью.
Целую долгую неудобную секунду глаза Тэты буравили ее.
– Ты собираешься сообщить весть о твоей помолвке Джерико?
– С какой это стати? – Эви на нее не глядела.
– Да так, ни с какой. Не думаю, что он хорошо это воспримет.
– Понятия не имею, о чем это ты.
– Продолжай себя в этом убеждать, – Тэта похлопала ее по щеке.
Наше самое главное дело
Когда Джерико развернул дневную газету, ему пришлось раза четыре прочитать заголовок, прежде чем до него наконец дошло: Эви выходит за Сэма Ллойда. За Сэма-По-Девушке-в-Каждом-Порту-Ллойда. За этого чертова прохиндея, на которого нельзя полагаться, потому что он всегда преследует только свои интересы. Она предпочла этого паразита ему. Когда… когда это успело случиться? Так вот почему она избегала его, не отвечала на письма? Вот почему дала от ворот поворот вчера в Беннигтоне? Сэм Ллойд. Что, девушки всегда западают вот на таких вот парней? Плохие мальчики действительно кажутся им настолько привлекательнее?
Или им просто нужно знать, что парень нормальный, что он человек… а не машина?
Несколько месяцев назад Джерико застрелили. Боль взорвалась в груди, как горячий и острый пузырь. Но читать сейчас эту статью про Эви и Сэма с их романом было еще больнее. Хорошо, что Уилл с сестрой Уокер уже уехали – можно хотя бы пережить все это в одиночестве.
Холл огласился громогласным пением (все мимо нот), возвестившим прибытие Сэма. Джерико проклял свою судьбу.
– Сладость моя, готовь тапки и набивай мне трубку – я дома! – Сэм ворвался в библиотеку и уронил себя в потертый честерфилд, обтянутый коричневой кожей, – весь такой румяный и сияющий. – Фредди, ты не поверишь, что за денек у меня выдался. Русские горки, ни дать ни взять. Зато есть хорошие новости: Эви в деле и будет принимать у нас вечеринку в честь открытия пророческой выставки.
– Мои поздравления. И как же тебе удалось этого добиться? – очень ровным голосом сказал Джерико.
Сэм раскинул руки по спинке дивана и загадочно улыбнулся.
– Ну, я показал себя с наилучшей стороны. А моя наилучшая сторона практически неотразима. Кого нам лучше нанять, как ты думаешь: джаз-бэнд или оркестр? Я думаю, джаз-бэнд. Но профессор, сдается мне, больше по оркестрам: всякие там скрипки и французские рожки. Эдакая музыка с кружевными манжетами. А еще надо найти, кто будет заниматься закусками…
Джерико кинул ему на колени газету.
– И когда вы оба собирались мне сказать?
– Э-э-э, Фредди… – негромко сказал Сэм, спихивая ее на диван. – Вот об этом я тереть точно не хочу.
– А выглядит так, будто как раз очень хочешь. И прекрати звать меня Фредди.
Джерико устремился к камину и шерудил в нем кочергой, пока уголья не запылали.
– А тебе никогда не приходило в голову, что ты, может быть, неправильно все понял? – осведомился Сэм.
– Я совершенно уверен, что понял тебя как раз предельно верно, – Джерико продолжал смотреть в огонь. – Ты вор. Ты крадешь вещи. И людей.
Сэм всегда был рад дружески посостязаться за симпатии Эви, но вот именно сейчас почему-то чувствовал себя последней сволочью. Что именно произошло тогда между Эви и Джерико, он не знал. Может, они целовались. Может быть, даже больше. Но что бы их тогда ни связывало, то был просто случайный роман – это он знал наверняка. Должен же Джерико понимать, что для Эви он не годится: он все ночи напролет читает или, еще того хуже, раскрашивает солдатиков Гражданской войны. А Эви – женщина-огонь, душа вечеринок. Да она его живьем сожрет! Чем дольше Сэм об этом думал, тем больше уверялся в том, что так всем будет только лучше. Он в свое время залез к Джерико в комнату – искал ключи к проекту «Бизон» – и нашел кучу писем, которые Джерико писал Эви, да так и не отослал. Как сказал бы его старик, это, господа мои, форменная тряпка. Этот их поддельный роман даст Джерико шанс зализать последние раны и двинуться уже наконец дальше. Через четыре недели он сам себя не узнает. Эви? А кто такая Эви? И Сэм ему в этом поможет – слишком он задолжал нашему великану. Тем более что на самом деле оказывает парню большую услугу – вообще-то говоря.
– Слушай, друг, мне реально очень паршиво, что ты вот так узнал о нас с Эви. Давай я все популярно объясню. Почему бы нам с тобой на пару не отправиться куда-нибудь в город, а?
– Нам с тобой, – прищурился Джерико.
– Ну, на бои сходим или вот еще лучше в «Кентукки-клаб», послушать Дюка Эллингтона. Я бы тебя представил девочкам. Шикарно проведем время!
Он одарил Джерико самой убедительной улыбкой, какую только смог выдать.
Тот ее, однако, не вернул.
– Эту сентенцию я не удостою ответом, тем более что у нас есть более важные заботы. Нам надо спасать музей и собирать выставку, если ты не забыл.
Сэм счел, что лучше всего будет оставить великана с его гордостью в покое и сменить тему. По крайней мере, в том, что касается музея, они все еще союзники.
– Итак, что у нас есть?
Сэм проследовал за Джерико к столу, заваленному кучей всякой всячины.
– Давай-ка посмотрим. Мешочек гри-гри. Дневник Либерти Энн. Весьма усохший мандрагоровый корень… – Сэм поднес к свету нечто сильно поседевшее, – ну, или самая волосатая в мире картошка, одно из двух. И нечто, напоминающее куриные кости…
Джерико быстро смел последнюю единицу хранения в мусорную корзину.
– Это мой вчерашний ужин.
Сэм взял фотографию с чем-то размыто-белым на заднем плане.
– Это снимок призрака или пятно от майонеза?
Джерико поспешно выхватил у него злосчастную ферротипию.
– Это призрак.
Сэм еще немного порылся в более чем скромной коллекции. А счастье было так возможно…
– И это все, что ты набрал? Чем оно, по-твоему, отличается от текущей экспозиции?
– Сэм, весь наш музей – одна большая сплошная пророческая экспозиция. Ума не приложу, как до тебя это все еще не дошло.
– Тогда у нас вместо выставки трехногая псина получится, – проворчал Сэм. – Пара жутеньких безделушек и фальшивых привидений. Никто не станет стоять в очереди, чтобы поглазеть на этот мусор!
– Позволь напомнить, это была твоя идея, – Джерико красноречиво развел руками. – Отлично. Почему бы тебе самому не курировать эту выставку? Посмотрим, что ты сумеешь предложить.
Джерико решительно устремился в фонды, Сэм, стеная, потащился за ним.
– Дай мне хоть что-то, c чем можно нормально работать. Какую-нибудь проклятую штуку. Окровавленный жилет убиенного аристократа. Какую-никакую медиумшу, на худой конец, которая чувствовала в себе духа, если ты понимаешь, о чем я – ай! – Тут он запнулся о ковер и въехал боком в стеллаж.
– Осторожнее там, – рявкнул Джерико, ловя шатающуюся мебель. – Между прочим, это весьма ценные артефакты.
– Спасибо за заботу, со мной все в порядке, – проворчал Сэм.
Он наклонился поправить завернувшийся ковер и уставился на рубцеватый очерк люка с металлическим кольцом.
– Вот преступник, ваша честь, – сообщил он, берясь за кольцо. – А там у нас что?
– Подвал.
– Кроме шуток. Что в подвале?
Джерико пожал плечами.
– Так, погоди. Ты хочешь сказать, что никогда не спускался в местные подвалы?
– Нет. Зачем бы это?
– Фредди, да там же могут быть золотые копи!
Сэм снова потянул кольцо, но оно высокомерно отказалось идти на сговор.
– Надо расшатать тут доски вокруг. Передай-ка мне вон тот меч!
– Ты имеешь в виду этот антикварный экспонат, который стоит больше, чем весь ты, вместе взятый? – Джерико медленно покачал головой.
– Ну и ладно!
Сэм раскрыл свой швейцарский армейский нож и прорисовал лезвием весь силуэт люка, чтобы выковырять слежавшуюся, липкую от времени пыль. На дверь это не произвело никакого впечатления.
Джерико вздохнул.
– А ну, подвинься.
Он взялся за кольцо одной рукой и несильно потянул. Люк со скрипом отворился.
– Святые небеса, Геракл ты наш! Чем они тебя только кормят?
Вверх взвились основательные облака пыли, и Джерико закашлялся.
– Я и сам мог ее открыть, – заметил Сэм.
– Нет, не мог.
– Мне уже чуть-чуть осталось.
– Врешь.
Джерико отмахнулся от последних пылевых мотыльков, еще круживших в воздухе над черной пастью люка. Во мрак уходила крайне предательского вида деревянная лестница, обильно увитая паутиной.
– Думаешь, на эту лестницу еще можно положиться?
– Есть только один способ проверить, – отозвался Сэм. – Давай-ка запасемся фонарями.
Дерево громко запротестовало под двойным весом Сэма и Джерико, загромыхавших по древним ступеням вниз, в черноту дыры; лучи фонариков запрыгали по эфемерной архитектуре паутины. Наконец эти двое соскочили на грязный пол большой комнаты, из которой выбегал длинный узкий коридор.
Сэм аж присвистнул.
– Да бутлегеры за такое бы душу продали!
Они с Джерико двинулись по коридору, сплошь исчерканному именами:
Джеймс Бирдон
Мозес Джонсон
Мейзи Лафайет с детьми
Меня звать Осэем…
Местами вместо имен красовались «Х» – а дальше простиралась обширная фреска, бледная и выцветшая, едва помнящая свои прежние краски. На ней семейство рабов вступало в Землю обетованную, где блистало солнце и росли зеленые деревья. Над лучистым солнцем кто-то нацарапал слово «свобода». За всю свою историю фреску явно подновляли разные руки, и каждый из художников добавлял что-то от себя, но смысл всегда оставался тем же.
– Выходит, Корнелий Ратбоун построил не только Трансконтинентальную железную дорогу, – молвил Джерико, обшаривая лучом фонаря подобное пещере пространство.
Сэмова мама когда-то говаривала, что в каждом человеке спрятан шанс изменить мир. Он сидит где-то там, внутри, словно семечко, готовое устремиться к свету и вырасти во что-то великое. У профессора тоже могли быть свои призраки. Обычные люди подчас способны на совершенно необычайную храбрость. Вот единственная магия, которую знал Сэм и в которую он верил.
– Чего мы тут ищем? – поинтересовался Джерико.
– Понятия не имею, – отозвался Сэм; луч его фонаря как раз упал на закрытую дверь в нише. – Но, полагаю, нам надо с чего-то начинать, и это место вполне подойдет.
Он подергал ручку.
– Заперта, конечно.
Он снова выудил из кармана швейцарский нож и сунул конец лезвия в замочную скважину.
– Эй, погоди. Ты что, хочешь ее взломать?
– Ну, типа того, – просто сказал Сэм, совершая запястьем затейливые плавно-поступательные движения.
– Нет, все-таки ты – это что-то с чем-то, – Джерико покачал головой и прислонился к стене.
– Да ну тебя, Фредди, – сказал Сэм, все еще пытаясь договориться с замком. – У тебя что, кнопка любопытства сломалась?
– Нет. И кнопка этики тоже пока работает. Попроси Санту, пусть подарит тебе хоть одну из них на Рождество.
– А что, если в этой комнате спрятано нечто, способное спасти нашу пророческую выставку, – ты об этом подумал?
Джерико поразмыслил с минуту, потом тяжело вздохнул.
– Отлично.
От отлепился от стены, взялся за ручку и бесцеремонно ее повернул. Дверь покорно открылась.
– Она даже заперта не была. Чуть-чуть силы приложить, – пробурчал он, сгибаясь пополам, чтобы пролезть в низкий проем.
– Я и сам мог это сделать, – упрямо повторил Сэм, следуя за ним.
Лучи фонариков забегали по сырой, тесной, холодной комнате, забитой всевозможными диковинами – масляными полотнами, ломаной мебелью, портновским манекеном и даже саркофагом, чья крышка висела на сломанной петле. Два штабеля ящиков возвышались в углу, прислоненные к стене с большой фреской, старой и местами траченной сыростью. Исполненной надежды ее, в отличие от других настенных росписей в музее, никто бы не назвал: на самом деле это был сущий живописный кошмар. В темном облетевшем лесу, из тех, что встречаются в сказках, торчал тощий серый субъект навроде ярмарочного зазывалы, в цилиндре и плаще из черных перьев. На его протянутой к зрителю ладони пламенел символ: глаз с зубчатым молнийным зигзагом под ним. За серым субъектом протянулась длинная вереница призраков весьма пугающего вида. Все они, казалось, надвигались на юного чернокожего отрока. В покрытом тучами небе вверху виднелась цифра 144.
– А тут что написано? – пробормотал Джерико: внизу, под фреской, кто-то намалевал слова.
Джерико наклонился и сощурился, чтобы лучше их разглядеть.
– Берегись… Вороньего… Короля.
– Жизнерадостно, однако, – сострил Сэм, хотя вообще-то у него от этой мрачной картины мурашки побежали по спине; пожалуй, это самая жуткая штука во всем Музее Жутких Страшилок. – Давай-ка глянем, что тут у нас есть.
Повернувшись к ней спиной, он поднял с ящика закопченную и крайне ржавую железяку явно военного происхождения. Плечи у Сэма поникли.
– Так. Одно барахло. Чего-чего, а этого добра у нас навалом.
Все ящики были забиты гвоздями, кроме одного, частично сломанного. Джерико полез в него и извлек кипу пожелтевшей бумаги.
– А это еще что такое? – заинтересовался тут же оказавшийся рядом Сэм.
– Если позволишь угадать, я бы сказал что-нибудь типа: «Не твое дело», – сказал Джерико, не отрываясь от листа.
– О, это как раз мое самое любимое дело…
– «Последняя воля и завещание Корнелия Ратбоуна, записанная сего четвертого января в лето Господне тысяча девятьсот семнадцатое, – прочел Джерико вслух. – Я, Корнелий Фаддей Ратбоун, в твердом уме и трезвой памяти пребывая, сим завещаю мой дом и все мирское мое имущество Уильяму Джону Фицджеральду под тем условием, что он будет продолжать наше самое главное дело…»
– Так старик Ратбоун оставил эту хижину профессору? – недоверчиво сказал Сэм.
Джерико и сам таращился в документ. Много лет назад он спросил Уилла, как так вышло, что тот стал заправлять музеем, и выслушал историю о том, как руины музея выкупили, можно сказать, прямо из-под шарового тарана. Между тем последняя воля и завещание Корнелия Ратбоуна эту версию опровергали.
Но зачем Уиллу понадобилось лгать Джерико об этом?
Он быстро перелистнул страницу: там оказалось письмо.
– А тут что написано? – встрял вездесущий Сэм.
– Оно от Корнелия Уиллу, дата 31 января 1917 года. «Дорогой Уильям… – начал читать Джерико.
…боюсь, это письмо станет моим последним, ибо жду я на пороге Смерти, и вскоре Он уже пригласит меня вступить в чертог вечного покоя. Все эти долгие годы я никак не мог простить твои греховные амбиции и то, что ты покинул меня и ушел работать с теми „великими умами“ в нелепом Департаменте Паранормальных Исследований президента Рузвельта…»
– Погоди. Что, Тедди Рузвельта? – прервал его Сэм.
– Да, Сэм. Теодора Рузвельта. Большого такого человека с большими усами. Некоторое время работал у нас президентом. Можно я уже продолжу?
– Давай, – разрешил Сэм.
«…впрочем, самым нелепым там был Дж. Совершенно необходимо, чтобы мы отринули все наши разногласия и объединили усилия, пока на это еще есть время. Я показал тебе тогда не все пророчества Либерти Энн. Ближе к концу ее дней последовали куда более тревожные предупреждения и ужасающие предсказания относительно судеб нации. В то время я опасался, что жестокая лихорадка совершенно определенным образом повлияла на ее умственные способности, и по этой причине скрыл ее последнее пророчество. Теперь я понимаю, что поступил неправильно, решив утаить от тебя эту нечестивую информацию. Боюсь, мы с тобой недооценили силу человека в цилиндре.
Время мое утекает. Молю тебя, давай забудем наши эгоистические распри, пока еще не слишком поздно.
Все еще с надеждой,
Корнелий»– Ты же понимаешь, что это такое, правда? – выхватывая у Уилла письмо и размахивая им в воздухе, спросил Сэм. – Это же та самая золотая жила! Именная такая штука и была нам нужна, чтобы сделать из пророческой выставки настоящую сенсацию. «Познакомьтесь с впервые ставшими доступными публике прорицаниями Либерти Энн Ратбоун! Услышьте ее ужасные предсказания, адресованные гражданам Америки, пока еще не слишком поздно!» Остается только надеяться, что эти самые пророчества где-то здесь, в коробках.
– Есть только один способ выяснить это, – сказал Джерико. – Давай вытащим это наверх и тщательно все просмотрим.
Он без труда взвалил один из ящиков к себе на плечо и шагнул в дверной проем.
– Ну да. Я как раз и боялся, что ты это скажешь, – проскрипел Сэм, c кряхтением берясь за тяжеленный груз.
– Ну, вот и все. Это последний, – сказал Джерико, внося ящик в комнату.
Сэм, едва дыша, повалился на кушетку.
– Наверняка это было последнее, что я сделал руками в этой жизни, – простонал он.
– Девушки Нью-Йорка, без сомнения, вздохнули от облегчения, – прокомментировал Джерико, стараясь не думать о руках Сэма, обнимающих Эви. – Итак, что у нас есть?
Ящиков было шесть, и все накрепко заколочены гвоздями – кроме того, сломанного, в котором нашлось завещание Ратбоуна. В него-то Сэм первым делом и полез.
– Книги, – вздохнул он, вытаскивая заплесневелые тома вместе с новой порцией пыли и грязи. – Вот всегда с ними так.
За книгами последовала пачка писем от Уилла некоей Ротке Вассерман в «Гавани Надежды», штат Нью-Йорк. Сэм выудил одно из расползающегося конверта.
– «Дорогая Ротке… скучаю по тебе, как цветок скучает по солнцу…» – прочитал он вслух и присвистнул громко и длинно. – Ага, это уже что-то.
– Сэм, имей совесть! – рявкнул Джерико, выхватывая у него письмо.
Тот поднял руки вверх.
– Да хорошо-хорошо, сдаюсь. Не кипятись. Что это за Ротке такое? Сорт помидора?
– Сам ты помидор. Ротке была невестой Уилла. Она погибла во время войны, – сказал Уилл, засовывая письмо обратно в ящик. – Это все как-то неэтично.
– Этикой налоги не оплатишь, – философски заявил Сэм. – Ну, слушай, мы же всего-навсего смотрим. Если мы не найдем нечестивые писания Либерти Энн, то просто засунем все это барахло обратно в подвал и забудем о нем несолоно хлебавши. Лады?
– О’кей. Да. Хорошо.
– А вон для тех нам понадобится лом, – продолжал, чихая, Сэм. – Как думаешь, тут у нас такое есть?
– Где-то был, – сказал Джерико, вытирая руки о штаны. – Сейчас вернусь. Постарайся ничего не украсть за это время.
– Да кому придет в голову красть этот хлам? – возмутился Сэм, роясь в книгах.
Он открыл одну наугад и обнаружил имя Ротке, нацарапанное на форзаце. Между страницами обнаружились фотографии: Уилл, помоложе и поблондинистее, чем сейчас, вооруженный теннисной ракеткой; Уилл со старой негритянкой и сверху надпись: «Уилл и Мама Тибо, Новый Орлеан, 1906»; зернистое изображение какого-то причудливого дома. Сэм продолжал листать, пока не наткнулся на пожелтевшие газетные вырезки, Уилл как раз любил такие собирать: статейки о медиумах из маленьких городишек, о селянах, умеющих гнуть ложки одной только силой мысли; упоминание о какой-то индейской деревне, которая сгорела дотла вместе со всеми жителями – после того, как в одном доме взорвалась плита.
На пол выскользнула бумажка, и Сэм наклонился поднять ее. Это оказался старый конверт, вскрытый сверху и пустой. На обороте снова оказалось имя Ротке, на сей раз с обратным адресом. Он перевернул конверт – и уставился, оглушенный, на написанное:
Мириам Любович,
122 Хестер-стрит,
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
– Сэм! – оказывается, Джерико уже некоторое время как звал его, но он его в упор не слышал. – Тебя там что, съели?
– Ага. Большой страшный призрак пришел и сцапал меня. Почту отныне прошу переправлять в мир духов, – пустым голосом отозвался Сэм.
На штемпеле значился сентябрь 1914-го. Сэм лихорадочно пролистал книгу до конца в поисках содержимого конверта, но ничего не нашел. Он вывалил все из ящика, но письма не было и там. Он снова изучил конверт. Поперек лицевой части кто-то нацарапал: «Вернуть отправителю», – почерка Сэм не узнал. Во всяком случае, он был не мамин. Тогда чей? Кто бы это ни был, его надо найти.
Пришла пора Эви выполнять свою часть договора.
Джерико возник на площадке второго этажа.
– Сэм!
– Чего тебе?
– Я тебя звал. Ты что-нибудь нашел?
– Нет, просто связку пыльных книг, – соврал Сэм, поспешно пряча конверт в карман брюк.
– Ну, если в них нет привидений, выставке они никак не помогут. Что случилось? Ты как-то смешно выглядишь.
– О. Ну, я… типа, мне надо бы, наверное, пойти почиститься после всего этого, – сказал Сэм; сердце тяжело бухало у него в груди. – Ужасно бросать тебя вот так, Фредди, но у меня свидание на радио.
– Вот как. Тогда да, тебе лучше идти, – холодно промолвил Джерико.
– Слушай, Фредди, я бы мог заскочить опять чуть позднее…
– В этом нет никакой нужды. Я со всем справлюсь сам. Как обычно, – Джерико растворился среди стеллажей. – И прекрати уже звать меня Фредди.
Призраки
Ковыляя против жгучего ветра, хочешь не хочешь, а гримасничаешь. Лин направлялась в оперу и тащила в ранце корзину клецок для дядюшки Эдди. Пар поднимался из-под решетчатой бамбуковой крышки – и тепло, и тем паче запах жареной свинины были сейчас как нельзя более кстати.
Суетливые улицы Чайнатауна были сегодня тише обычного: страх перед сонной болезнью разогнал всю публику. Бизнес в ресторанах и лавках шел из рук вон плохо. Рабочий люд и женщины, раньше толпами валившие на китайское рагу с грибами и острым соусом в обеденный перерыв, теперь предпочитали столоваться в забегаловках подальше от Дойерс-, Пелл-, Мотт– и Малберри-стрит. Даже местный бич, белые экскурсоводы, автобусами возившие сюда праздных любителей побродить по бедняцким районам и кормившие их жуткими, бессовестно приукрашенными байками о войнах тонгов, опиумных притонах и девочках-рабынях, примечательным образом отсутствовали.
Департамент здравоохранения вовсю проверял продукты и воду, грязь с улиц, лошадиный навоз, помет крыс и насекомых – все что угодно, способное дать хотя бы зацепку, откуда взялся проклятый недуг и как он передается. Лин даже сама сходила в библиотеку, почитать о сонной болезни, – надеялась найти хоть что-то полезное… и теперь знала куда больше, чем хотела, о паразитах, мухе цеце и энцефалите. Ничего похожего на происходящее в Чайнатауне и Нижнем Ист-Сайде. Никаких тебе характерных симптомов типа температуры, болей и кашля.
Просто люди ложились спать, а потом не просыпались.
Мэр угрожал запретить праздник китайского Нового года, до которого оставалось всего ничего – три недели. Китайская Благотворительная Ассоциация зашла так далеко, что даже наняла репортера – снимать чайнатаунские очистные бригады: людей в масках и перчатках, отскребающих тротуары и кухни, свозящих белье в прачечные. Что угодно, лишь бы не дать нью-йоркским страхам перерасти в панику и сорвать празднование наступающего Года Кролика.
Впрочем, на ушах стояли не только туристы. Соседи, бывшие всегда так близки, вдруг сделались осторожными и подозрительными. Перед занятиями в китайской школе учителя заставляли всех детей мыть руки, а медсестры планово проверяли их уши, рты и кожу на предмет инфекции. Церкви и храмы были полны как никогда. Старики ежедневно ходили туда – жгли благовония, делали приношения, просили благословения предков. Возле всех дверей и окон красовались талисманы от всех напастей, отгонявшие злых духов. Ходили слухи – неизвестно, откуда взявшиеся, – что один из метропроходчиков, павших жертвой сонной болезни, будто бы говорил, что их команда нашла какие-то кости на заброшенной станции подземки, и боялся, уж не потревожили ли они ненароком духа.
– Призраки, – шептались старики в задних комнатах над дымящимися чашками с чаем.
– Призраки, – кивали друг другу женщины на зеленных рынках и на скамейках в Коламбус-парке.
Но в данный момент Лин занимали не призраки и не эпидемия. Сегодня ночью она стала свидетелем чуда. Просто подумай о том, что ты хочешь, сказала Вай-Мэй, как будто ее, Лин, состояние мыслей и было той самой недостающей силой, необходимой для материализации туфель. Так, значит, существует специальное силовое поле, сотворенное всеми мыслями и желаниями, текущими сквозь мир снов, и если да, то не концентрируется ли оно больше обычного именно в этой части сонного ландшафта? Значит, человеческое желание, или страх, или алчность каким-то образом способны гнуть и лепить саму ткань вселенной снов? И если да, то можно ли, интересно, сделать больше, чем просто превратить один предмет в другой?
Вдруг можно создать что-то, призвать в реальность силой своих эмоций?
И… стоит ли такое делать?
Дядюшка Эдди восседал на краю сцены в опере, наводя последний лоск на костюм.
– Как хорошо пахнет! – сказал он, завидя Лин. – Иди сюда, поешь со мной.
Он снял со спины племянницы ранец, открыл бамбуковую корзинку и протянул Лин клецку. Она вгрызлась в нее, наслаждаясь брызнувшей в рот струей горячего, острого сока и попутно разглядывая традиционный головной убор Дао Ма Дань, героини-воительницы. Спереди переплетались изысканные нити жемчужных бусин, а с боков рогами круглились длинные, полосатые, бело-коричневые фазаньи перья. Лин залюбовалась красотой наряда. На сцене виднелась компания красных стульев, расположение которых, Лин это знала, могло иметь почти бесконечное количество значений – от кровати до горы или даже гробницы. Все тут, в опере, было буквально пропитано традицией и символизмом. Снаружи, c улицы, донеслись девичьи голоса: кто-то напевал популярную на радио джазовую песенку – наверное, дети улучили момент устроить хоть крошечный пир во время чумы.
– Ах, эта современная молодежь, – сказал дядя Эдди. – Слушают джазовые пластинки и бегают где-то по полночи. Опера больше никого не интересует. Почему ты не там, c ними, Лин, терроризируешь улицы Чайнатауна?
Лин выудила из корзинки еще одну толстую клецку.
– У меня есть занятия и поважнее.
– Например, есть клецки со стариком. Да уж, куда как важно.
– Возможно, у меня появился новый друг, – поделилась Лин, надеясь только, что прозвучало это не настолько оборонительно, как казалось изнутри. – Ну, по переписке. Она едет сюда из Китая выходить замуж.
Дядя Эдди поднял бровь.
– Это очень трудно.
– Она говорит, все уже договорено, – сказала Лин, засовывая клецку в рот.
– Ну, что ж, тогда очень хорошо, что ты помогаешь ей освоиться. Когда я только оказался в этой стране, я ровным счетом ничего не знал. В том числе и ни слова по-английски.
Дядя полез в бумажник и нашел в нем выцветшую фотографию: на ней ему было восемнадцать – лицо очень серьезное, длинные волосы заплетены в традиционную косу.
– Я когда-нибудь показывал тебе ее?
Из уважения Лин покачала головой, хотя на самом деле видела картинку, мягко говоря, не однажды.
– Вот, – продолжал дядя Эдди, – мне тогда было как раз примерно столько, сколько сейчас тебе. Я собирался пробыть тут года два, не больше, только чтобы заработать денег для своей семьи дома, в Китае. Но потом они приняли новые законы и еще другие: если бы я покинул тогда Америку, я бы уже никогда не смог въехать назад. Так что я остался. Китайцев тут было мало, опера шла плохо. Много лет я работал на кузена у него в ресторане, – он вернул фотографию в бумажник. – А мать с отцом я так никогда больше и не увидел.
У Лин напрягся весь живот при мысли, что можно вот так взять и потерять родителей. Может быть, мама с папой ее и слишком опекают, но они – ее родители, и она не могла себе представить жизни без них. Рядом с фотографией в дядином бумажнике лежал вид на жительство, который всем китайцам полагалось носить с собой. Без этой бумажки тебя могли посадить в тюрьму или даже депортировать. Лин родилась здесь, в Чайнатауне, и считалась полноправной гражданкой страны. Но по закону о высылке у ее отца, например, такого статуса никогда не будет. А мама в тот миг, когда вышла замуж за «азиатского иностранца», сразу же потеряла все шансы на американское гражданство. Лин всегда жила в страхе, что какая-нибудь пустяковая ошибка может стоить им всего, что ее в любой момент могут лишить родителей, как дядя в свое время лишился своих.
– Когда твоя подруга приедет, ее станут допрашивать, – сказал дядя, берясь за следующую клецку. – На Ангельском острове. Мне, помнится, задали чуть ли не шесть сотен вопросов.
– Шесть… сотен?
– О, да. Они несколько дней пытались меня сломать. Кто живет в четвертом доме на твоей улице в деревне? Ты умеешь пользоваться утюгом? Ты рабочий? Ты куришь опиум? А еще медицинские освидетельствования.
Дядя вытер пальцы и покачал головой с выражением отвращения на лице.
– А зачем были нужны все эти вопросы, дядя?
– Они надеялись доказать, что я фальшивка и купил себе Америку с подложными документами. Хотели найти предлог не пускать меня в страну, – дядина улыбка была торжествующей и самую чуточку бунтарской. – Но вот он я, тут.
Лин выудила из корзинки еще клецку и как следует вдохнула пыльный, уютный запах оперы. По большей части театр сейчас работал в Боуэри, но по случаю Нового года они использовали и старое здание оперы на Дойерс-стрит. Дядя уже которую неделю таскал из подвала и чистил разнообразный реквизит. Плоские декорации для театра теней стояли прислоненные к вешалкам с костюмами и целым рядам масок.
– Какая опера у тебя будет на Новый год?
– «Царственная супруга Императора обретает вечное счастье в раю».
– Не знаю такой.
– Ее тут не ставили лет, ох, наверное, пятьдесят или около того. История о любви. И о призраках.
– Все, как ты любишь, – улыбнулась Лин.
В свое время дядя Эдди был одной из самых прославленных Дань в своем поколении. В женских ролях он почти ничем не уступал знаменитому на весь мир Мэй Ланьфань.
– Да, все, как мы любим. Если повезет, увидим ее снова на сцене. Нужно только немного удачи и чтобы мор кончился. Как там твой друг, Джордж?
– Все так же, – сказала Лин, отставляя клецки от себя подальше.
Сегодня она уже успела поставить свечку за Джорджа в церкви Преображения и в храм тоже зашла помолиться – подбила, так сказать, все хвосты.
– Он молод, – сказал дядя. – Врачи уже очень скоро выяснят причину этой проклятой болезни. А там, глядишь, и лекарство найдут, я уверен.
Лин кивнула, благодарная за слова ободрения.
– Дядя, – спросила она, – а может так случиться, что из-за сонной болезни мою подругу – ну, эту, которая по переписке – не пустят в Нью-Йорк?
– Может, конечно. Надеюсь, у нее есть друзья или родственники на самом верху и они ей помогут. Так ты говоришь, брачная контора?
– Да. О’Баннион и Ли.
– Эту фирму я не знаю. Но если тебе нужен кто-то из Ли, стоит спросить в «Золотой Жемчужине».
Лин была в курсе, что всякий по фамилии Ли получал китайскую почту до востребования через это заведение – магазин и заодно семейное почтовое отделение.
– Чань Ли должен его знать, он тут дольше меня, – дядя Эдди покачал головой. – Но твоей подруге стоит быть очень осторожной: некоторые из этих свах пользуются дурной славой. Девушки едут сюда, считая, что замуж в хорошую семью, а на самом деле попадают в служанки. Или еще того хуже.
– Ее дядя все это устроил, – сказала Лин, собирая корзинку и крышку обратно в ранец и берясь за костыли.
– Лин, – позвал дядя, когда она снова отворила дверь навстречу кусачему холодному ветру. – Мертвые ничего тебе не говорили об этой болезни?
В голове у нее тут же всплыло странное предостережение старой миссис Линь из сна: здесь опасно! Она-то думала, что это касается Генри… но, может, речь шла об эпидемии? Вдруг миссис Линь знала, что стало ее причиной? Может, вода или мясо от зараженных животных? Со снами всегда так – у них может быть сколько угодно значений.
– Нет, дядя, – ответила она.
Тот задумчиво покивал.
– Ну, хорошо. Надо думать, если бы им было что сказать, ты узнала бы об этом первой.
– Да уж, – отозвалась Лин, но, признаться, эти слова ее совсем не утешили.
Что, если мертвые ждут от нее каких-то действий? Надо попробовать поискать ответов в ночных путешествиях.
По дороге обратно, в ресторан, она завернула в «Золотую Жемчужину» на Мотт-стрит. Внук старого мистера Ли, Чарли, стоял за прилавком и раскладывал разные чаи и травы по ящичкам огромного деревянного серванта.
– Ты извини, Лин, но дедушка сейчас в Бостоне, навещает кузенов. Его тут две недели не будет. Вот потом и приходи.
Лин сказала спасибо и на всякий случай проверила китайскую газету на предмет прибывающих в порт кораблей. «Леди Либерти» в Сан-Франциско еще не пришла. Значит, время разузнать про этих «О’Банниона и Ли» еще есть – и убедиться, что Вай-Мэй ничего не грозит.
Вместо того чтобы двинуть прямиком в «Чайный дом», Лин прошлась вкругаля по Мотт и вниз по Малберри, выглядывая на вывесках хоть какие-то признаки «О’Банниона и Ли». На улицах царил странный коктейль из страха и оптимизма. Не теряющие надежды бизнесмены уже развешивали новогодние украшения. Бумажные фонарики и алые транспаранты с крупными каллиграфическими надписями протянулись над всей Дойер-стрит с балкона на балкон. А внизу сновали медсестры в белых чепцах, и чиновники из медицинского департамента с очень серьезными лицами торопливо шагали по тротуарам и стучали в двери. Желтый карантинный знак зиял на фасаде Джорджева дома, как опасная рана.
– Пожалуйста, Джордж, поправляйся скорее, – прошептала тихонько Лин.
Дверь внезапно отворилась, и две сестры вышли на крыльцо, невнятно о чем-то переговариваясь сквозь хирургические маски. При виде Лин они смолкли, обозрели ее ножные скобы, развернулись и устремились прочь, возобновив беседу с того же места. Лин, недолго думая, юркнула внутрь и как можно быстрее пробралась на зады дома, где располагалась квартира Джорджа.
На стук открыла его сестра, Минни.
– Ой, Лин, – прошептала она, опасливо глядя ей за спину. – Ты как сюда проникла?
– Сестры выходили. Меня никто не видел.
– Входи скорей, – сказала та, пропуская ее внутрь.
– Как Джордж?
– Все так же, – Минни опустила взгляд.
– Можно мне его увидеть?
Минни провела ее в комнату, и у Лин перехватило дыхание. Джордж лежал совсем бледный, а по шее ползли странные красные пятна, как от ожогов. Никогда еще она не видела его таким тихим… Но не совсем уж неподвижным: под тонкой кожей век глаза быстро рыскали из стороны в сторону. Джордж не просто спал – он смотрел сны.
– Минни, – сказала Лин во вспышке внезапной надежды, – можно я позаимствую что-то из его вещей?
Раскрашенное личико Минни просияло.
– Ты думаешь, что его можно найти там, во сне?
– Я, по крайней мере, попытаюсь.
– Большинство вещей они сожгли – на тот случай, если болезнь распространяется через них.
Об этом Лин не подумала. А вдруг путешествие в сон с вещью больного человека передаст болезнь и ей? Но это же Джордж… Нет, нельзя поддаваться страху.
– Погоди тут, – Минни исчезла куда-то в квартиру и через секунду вернулась, запыхавшаяся и с весьма таинственным видом.
– Вот что мне удалось спасти, – сказала она, разворачивая носовой платок.
В нем оказалась Джорджева медаль за бег – он был так счастлив, когда ее выиграл. Родители ужасно им гордились, и даже когда комментатор на соревнованиях объявил, что «он бежал поразительно хорошо для китайца», это не особенно испортило ему триумф.
Сквозь открытую дверь Лин слышала, как в соседней комнате тихо плачет его мама. Она быстро сунула медаль в карман.
– Тебе надо идти, доктор скоро вернется, – предупредила Минни. – Пожалуйста, отыщи его, Лин. Найди моего брата и скажи, чтобы он скорей возвращался домой, к нам.
К тому времени, когда Лин возвратилась в «Чайный дом», мама успела сойти с ума.
– Ты где была?!
– Вообще-то у меня болят ноги. Я не могу ходить быстро по такому холоду, – соврала Лин, получив даже некоторое удовольствие от того, как быстро эта простая ложь растворила мамин гнев.
– Я беспокоилась за тебя. У нас тут час от часу не легче, – сказала мама уже гораздо ласковей, бросая взгляд в ресторанное окно, на полицейских пополам со служащими департамента, вышагивающих по островкам грязного снега и стучащих в двери. – Куча клиентов хочет воспользоваться твоими услугами. Просят, чтобы ты поговорила с их покойными родственниками про эту сонную болезнь, чтобы они хоть понимали, что им делать. Я им сказала, что ты не станешь этим заниматься, пока не выяснится, как болезнь передается. Ты ведь сама до сих пор выздоравливаешь.
– Да все со мной в порядке, мама, – пробурчала Лин; медаль тяжело оттягивала ей карман.
Миссис Чань уперла руки в боки.
– Я, между прочим, твоя мать. И мне решать, готова ты или нет. О! – она внезапно заулыбалась. – Чуть не забыла. Заходил твой друг из научного клуба, вы с ним разминулись. Веснушчатый такой. Генри звать.
– Генри был тут?
– Ага. Даже записку тебе оставил, – мама пошарила в стопке рецептов. – Он ирландец? Выглядит совсем как ирландец. А, вот она.
Миссис Чань протянула ей сложенный листок бумаги, c которым (Лин в этом не сомневалась) явно уже успела ознакомиться. Остается только надеяться, что там нет ничего слишком уж откровенного. Кстати, записку сопровождала десятидолларовая банкнота.
Уважаемая мисс Чань,
Мои поздравления! Мне удалось засечь элементарную частицу «Луи», о которой мы с Вами говорили. В интересах науки умоляю, давайте повторим наш эксперимент. Если Вам это подходит, предлагаю провести еще один сегодня вечером в то же самое время и тем же образом, что и вчера. Если моя идея кажется Вам приемлемой (во имя науки), пожалуйста, позвоните мне в театр «Новый Амстердам», где я пытаюсь отвлечь падшие, порочные души от жизни во грехе. Приложенные деньги – не что иное, как пожертвование в пользу бедных, разумеется.
Искренне Ваш,Генри Б. Дюбуа IV,секретарь и музыкальный руководительНаучный КлубОтличная попытка, придурок, – улыбаясь, подумала Лин.
– Кто этот молодой человек? – поинтересовалась мама.
Выражение ее физиономии балансировало на тонкой грани между подозрительностью и надеждой.
– Форменная докука, – отрезала Лин, предотвращая все дальнейшие попытки дознания. – Я ему помогаю с домашней работой. Он немножко тупой. Можно я пойду ему позвоню?
– Лин! – миссис Чань вздохнула и мотнула головой в сторону кухни. – Давай, но говори по-быстрому. У нас много работы. И не забывай: немного доброты еще никому не мешало, девочка моя.
Лин проследовала к телефону, стоявшему в кабинете отца, дверь в дверь с клубящейся паром кухней, и сунула в ухо палец, чтобы как-то заглушить грохот кастрюль и шипение раскаленного масла на плите, не говоря уже о несмолкаемой трескотне поваров и официантов – весь этот сварливый, но такой милый домашний уют. В «Новом Амстердаме» ответил усталый голос, сообщивший, что мистера Дюбуа пока нет на месте.
– Понятно. Тогда вы могли бы передать ему кое-что? Скажите, что мисс Чань обдумала его предложение и ее ответ – о-че-лют-но.
Та самая парочка
– Это она! Это Провидица-Душечка! Эви, посмотри сюда! Эви! – загалдели фанаты, когда Эви восстала из «крайслера» с шофером и принялась махать им и посылать воздушные поцелуи.
Репортеры уже стояли с блокнотами наготове. Т.С. Вудхауз притронулся к полям шляпы. Выражение лица он имел аварийное. Эви встретила его любезной улыбкой.
– А вон Сэм! – завопил кто-то, и верно – по тротуару к ним придефилировал Сэм собственной персоной, пожимая руки и радушно махая толпе.
– Сэм! Сэм! – заорала публика, да так, что Эви пришлось срочно приклеить улыбку на положенное место, чтоб не сползла.
Делить свет софитов с Сэмом ей совсем не понравилось, но так уж и быть, месяц можно потерпеть.
– Котлетка! – Сэм ринулся к ней и запечатлел поцелуй на руке.
Улица зааплодировала.
– Ох, ну разве они не самая прекрасная пара на свете? – простонала какая-то женщина в первом ряду.
– Ты не перебарщиваешь? – шепнула Сэму на ухо Эви, продолжая улыбаться людям.
– Немного переборщить – оно же всегда только на пользу, Бэби-Вамп, – ответил он, придвигаясь поближе. – К тому же когда этот цирк закончится через несколько минут, ты мне окажешь большую услугу.
– Эй, погоди-ка. Я… – Эвину тираду прервал истошный электрический квак.
Это мистер Филипс выступил к микрофону, и динамики понесли его голос на Пятую авеню.
– Леди и джентльмены, Даблъю-Джи-Ай счастлива представить Нью-Йорку самую яркую пару со времен Скотта и Зельды! Их любовь взяла город штурмом! А сейчас все мы имеем потрясающую возможность слышать мисс О’Нил на наших волнах дважды в неделю в «Мыльный Час Пирса». Итак, без дальнейших околичностей разрешите представить вам Провидицу-Душечку, Эви О’Нил – и ее собственного душечку, Сэма Ллойда!
– Есть! – Вспышка в руках оператора полыхнула. – Спасибо!
Репортеры наперебой завопили, требуя их внимания, но Эви знала, к кому повернуться первому.
– Мистер Вудхауз?
– О, премного благодарен, мисс О’Нил, – промурлыкал тот. – Или мне лучше будет сказать – будущая миссис Сэм Ллойд?
Эви сверкнула на него глазами.
– Мисс О’Нил пока будет вполне достаточно.
Карандаш Вудхауза хищно нацелился на страницу в блокноте.
– Уверен, мы все умираем от желания узнать, как вы, голубки, познакомились друг с другом?
– Ну… – начала было Эви.
– Стояла лунная ночь, – встрял Сэм. – Полнолунная даже, насколько я припоминаю. Самая пленительная сентябрьская луна, какую вы только в состоянии представить. Я потерял собаку…
– Спарки.
– Ага. Вот бегаю я так и кричу: «Ко мне, малыш, ко мне, Спарки!»
– Самый душераздирающий крик, какой вы в жизни слышали, – подхватила Эви. – Я чуть не расплакалась от этих звуков. У меня до сих пор слезы в глазах всякий раз, как я слышу Сэмов голос.
Сэм только бровь поднял в ответ на эту колкость. Она улыбнулась ему – в улыбке был вызов.
– Давай, милый, – прощебетала она, хлопая ресницами. – Расскажи им остальное.
– Ну, хор-р-рошо. – Сэм спрятал дьявольскую ухмылку. – Так вот. Ночка выдалась та еще. Да, сэр, та еще ночка, я вам скажу. Видите эту шикарную девочку, что стоит тут сейчас перед вами? Не такой она была, совсем не такой, когда я впервые положил на нее глаз на вокзале Пэнн. Я даже спервоначалу подумал, это уборщица. Ты помнишь, как ты жутко тогда выглядела, мой Медовый Пирожок?
Сэм ласково похлопал Эви по руке. Ее застывшая улыбка доставила ему сущее наслаждение.
– Вся такая чумазая, в саже. В мамашином платье и эдаких толстенных шерстяных чулках, какие только бабули да военные сироты носят. И еще зуба одного не хватало! Ужас! Но я был сражен.
– О, Папочка, тебе самому скоро не иначе дантист понадобится! – расхохоталась Эви и сжала ему руку покрепче, так, чтобы больно стало. – Да уж. Путь из Огайо был неблизкий. Не то чтобы Сэма сильно волновало, как я выглядела, – он так обалдел, что с ним настоящая живая девушка разговаривает. Девушки же обычно не сильно охочи с тобой разговаривать, правда, милый? Бедному крошке никогда не везло с женским полом. Подумать только, наша сестра всю дорогу так и шарахалась от него, да, дорогой? Помнишь, ты мне говорил, они прямо отпрыгивали, когда ты к ним притрагивался?
– Но ты же разглядела доброту в глубине моего сердца, правда, Котлетка?
– Еще бы. Хотя мне пришлось для этого вооружиться увеличительным стеклом. Но да, там она и была, в глубине.
– А потерянная собака-то тут при чем? – прокричал кто-то в толпе.
– Ну, несмотря на всю свою грязь и благоухание, как в фойе Боуэри, Котлетка тут же, на месте, предложила мне прочесть Спаркин поводок – ну, этими ее сверхспособностями. Я, естественно, решил, что она рехнулась и сбежала из приюта для тех, кто совсем ку-ку. Ну, вы меня понимаете: грязь, запах и еще говорит, что у нее особые таланты. Того и гляди объявит себя Марией-Антуанеттой, так что придется полицию звать.
– Ха-ха-ха! Ах, ты… – Эви ущипнула его за щеку. Хорошенько так ущипнула. – Милый, милый мой сладкий крохотуля. Пять футов три дюйма чистой радости! Мой собственный лепрекон на удачу!
– Во мне пять и десять! – Сэм кинул на нее свирепый взгляд.
– Да ну? – поразилась Эви. – Давай-ка проверим. Во мне пять и два…
Она померила ладошкой от своей макушки до его. Толпа взревела.
– Пять и девять максимум.
Теперь уже улыбка Сэма стала приклеенной.
– Обожаю этих двоих. Пустите их на радио на пару. Они будут смешнее «Сэма и Генри», – сказал кто-то из репортеров.
– Ну-ну, только один из нас занимается радио, правда, любовь моя? – проворковала Эви, вонзая в Сэма предупреждающий взгляд.
– Точно, – отозвался он. – Только у одного из нас хватит пороху зажигать на радио две ночи в неделю.
Толпа снова захохотала в полном восторге. Мистер Филипс сбоку стоял, скрестив руки на груди, c видом таким довольным, будто хорошенько вложился в чистокровку, которая точно придет на бегах первой. Пресса проглотила наживку как миленькая; колеса завтрашней звездной машины обильно смазаны – полный вперед!
– А свадьба-то когда? – закричали из толпы.
– Да, когда у нас будет большой день? – поинтересовался Вудхауз, и Эви могла бы поклясться, что он о чем-то догадывается. – Хочу быть уверен, что успею погладить мой выходной костюм.
– Э-э-э… в июне? – попыталась вывернуться она.
– То есть вы, голубки, думаете, что сумеете прождать так долго?
– О, я уверена, что смогу ждать вечность, – отбрила Эви, – если ждать придется моего дорогого Сэма.
– Мистер Филипс, вы будете транслировать эту свадьбу по радио?
– Ну конечно, черт возьми! – рявкнул мистер Филипс.
– Сэм, Эви! Как насчет фото для завтрашних газет?
– Ах, разумеется! – Эви чуть выдвинулась вперед, заслоняя Сэма, чтобы фотографы точно запечатлели новое платье во всем его блеске.
Однако репортер отогнал ее назад:
– Эви, крошка, встань обратно, рядом с Сэмом. Вы нам нужны в кадре оба-два, детишки.
Сэм приветливо помахал ей бровями; эта его чертова довольная ухмылка так и прилипла к физиономии.
– Да уж, будущая миссис Ллойд. Мне тут так без тебя одиноко.
– Давайте, ребятки! Покажите нам немного этой вашей магии, – закричал фотограф.
Сэм послушно обвил плечи Эви рукой и придвинул ее к себе поближе.
– Отли-и-и-ично! Теперь большую улыбку, пожалуйста. Скажите: «Спаси-и-ибо!»
– Спаси-и-ибо! – сказал Сэм, все зубы наружу.
– Четыре недели, – эхом отозвалась Эви, угрожающе скрипнув своими.
– Это было мило, – подытожил мистер Филипс несколько минут спустя, пожимая Сэму руку, после того как они с Эви попозировали еще для нескольких снимков (так чтобы большие буквы Даблъю-Джи-Ай были четко видны у них над головой). – Весьма трогательно.
– Правда же? – поддакнул Сэм.
За спиной у мистера Филипса Эви оч-чень выразительно на него посмотрела.
– А теперь ступайте домой и как следует отдохните перед вашим сегодняшним эпохальным свиданием, – распорядился, уже покидая их, мистер Филипс. – И чтоб торчали в городе каждый вечер, пташки. Разумеется, вы будете упоминать Даблъю-Джи-Ай при каждом удобном случае.
– При каждом удобном случае, – пообещал Сэм. – И при неудобном тоже.
– Эви, мне нравится этот твой молодой хахаль! – сразил ее прощальным выстрелом босс.
Эви одарила его сияющей улыбкой, которая немедленно потухла, стоило ему выйти за порог.
– Значит, при каждом случае?
– Люди – они же как щенки, – пожал плечами Сэм. – Просто нужно знать, как чесать им животики. Кстати, о животиках…
– О моем сразу забудь, – Эви вонзила в Сэма свирепый взгляд.
– Да не дрейфь ты. Мои щекоталки надежно убраны. Мне нужно с тобой поговорить. Наедине.
– Ну, пошли, – сказала Эви с тяжким вздохом.
Сэм аж присвистнул, когда Эви повела его по вызолоченным холлам Даблъю-Джи-Ай.
– Ай да местечко тут у вас!
– Только не влюбляйся. У тебя тут ограниченный допуск, если не забыл.
Эви любезно улыбнулась гардеробщице.
– Милдред, милая, не разрешишь нам позаимствовать твою маленькую епархию на пару минут?
– Конечно, нет, – прощебетала Милдред, ускользая через заднюю дверь. – Для вас, пташки, все что угодно!
Эви вывесила с наружной стороны двери табличку «ВЕРНУСЬ ЧЕРЕЗ ПЯТЬ МИНУТ» и захлопнула обе половинки, и верхнюю, и нижнюю, после чего прислонилась к вешалке с пальто, внушительно скрестив на груди руки.
– У тебя ровно две минуты, Сэм.
– О, тогда временно выключаю обаяние.
– Так это было обаяние? Ха!
– Я принес тебе подарочек, моя будущая миссис Ллойд.
– Будущая миссис Ллойд! – скривилась Эви. – Тогда, надеюсь, это цианистый калий.
– А я слышал, это традиционный подарок на первую годовщину, – возразил Сэм и протянул Эви конверт. – Скажи-ка мне что-нибудь про это.
Она растерянно повертела его в руках.
– Он же пустой, Сэм.
– А ты догадлива! На самом деле я не шучу. Переверни его. Этот пустой конверт адресован моей матери. И послан покойной пассией Уилла.
Эви нахмурилась.
– Ты где его взял?
– А вот тут начинается самое интересное. Я его взял в пыльном старом ящике, вытащенном из подвала в музее твоего дядюшки.
– Ты серьезно, Сэм?
– Перед Богом клянусь.
– Но откуда он у дя… я хочу сказать, откуда он у Уилла?
– А это уже мой вопрос. Мне нужны твои способности, красавица.
– Ох, Сэм. Сейчас?
– Сделка есть сделка, Котлетка, – твердо сказал Сэм.
Эви закрыла глаза и сжала конверт между ладонями. Бумага была старая, и ее давно уже никто, кроме Сэма, не касался. Чтобы проникнуть в ее тайное прошлое, придется крупно потрудиться, а идея заработать на следующий час острую головную боль Эви почему-то совершенно не улыбалась.
– Прости, Сэм, ничего не приходит.
– Постарайся.
– Я стараюсь!
– Вот только не надо мне мозги пудрить. У тебя и капли пота на лоб не выкатилось.
– У тебя все объекты какие-то дефективные, Сэм. Это как в тот раз, когда я пыталась прочесть открытку у тебя в пиджаке… – Эви зажала себе рукой рот, да слишком поздно. Ну что ей стоило секундой раньше вспомнить, что она об этом Сэму никогда не рассказывала.
– Ты – что? – Сэм прищурился. – Сначала ты тыришь мой пиджак, потом читаешь мои открытки! Ах ты маленькая…
– Мне было любопытно!
– А это была моя частная собственность, сестренка!
– ТЫ ПЕРВЫЙ СПЕР МОЮ ДВАДЦАТКУ! – завопила вне себя Эви.
– У вас там все в порядке? – донесся с другой стороны двери озабоченный голос гардеробщицы.
– У нас все пухло! – проорал ей в ответ Сэм. – Так, значит, ты не смогла прочитать открытку моей матери? – это уже Эви.
– Я тебе только что так и сказала, забыл?
На его челюсти напрягся мускул.
– А теперь слушай сюда. Я так и быть, забуду всю эту историю с открыткой, но ты задолжала мне хорошую, качественную работу – c этим конвертом.
– Да, но, Сэм…
– У нас с тобой договор, Эви.
Эви сердито сузила глаза.
– Даже будь ты последним мужчиной на земле, я бы и то за тебя не вышла.
– Если бы я был последним мужчиной на земле, так только потому, что всех остальных бедняг ты безвременно свела в могилу. Работай!
Рыкнув на Сэма, Эви снова закрыла глаза, поглубже вдохнула и применила весь набор трюков, которым пользовалась последние два месяца на радио, когда предмет отказывался выдавать свою историю. Она прижала ладошку плашмя к тому месту, где был почерк Ротке – индивидуальный, как отпечаток пальца, – в надежде, что это заставит объект раскрыться. Но как бы она ни старалась, ничего не выходило, лишь мелькали обрывки воспоминаний, мимолетные, не желавшие задержаться – сплошное разочарование. Необескураженная, она сосредоточилась взамен на «Вернуть отправителю», водя по надписи большим пальцем, будто читая Брайль. Искра прошлого вспыхнула довольно многообещающе, но тут же начала тухнуть.
– О, нет, нет, только не это… – пробормотала Эви, впиваясь в бумагу кончиками пальцев.
Зыбкая картинка успокоилась, застыла: перед ней была витрина кошерной мясной лавки, увешанная толстыми отрубами мраморной говядины. Дверь отворилась, и наружу вышла какая-то незнакомая женщина. Видение явно решило задержаться на ней.
– Я кое-что нашла, – сказала Эви слегка отсутствующим голосом. – У твоей мамы волосы рыжеватые?
– Нет, темные, как у меня.
Эви нырнула поглубже, и пот выступил у нее на лбу. Рыжеволосая женщина двинулась вдоль по улице, уставленной лотками и телегами со всякой всячиной. Несколько особ в лентах через плечо с надписями «ПРАВО ГОЛОСА – ЖЕНЩИНАМ!» стояли на тротуаре, и Эви ощутила тень неодобрения – рыжей суфражетки[26] не нравились. Впрочем, глубже неодобрения лежало подспудное желание к ним присоединиться. Дальше Эвина подопечная миновала двух мужчин, огромными щипцами выгружавших дымящуюся глыбу льда из кузова грузовика.
– Н-никак не могу понять, что за место, – пробормотала Эви, водя пальцем по конверту. – О-Р-Ч… Орчард-стрит!
Мужчина в ермолке и мясницком фартуке побежал за женщиной, размахивая пачкой писем.
– Там мужчина. Он… он зовет ее Анна! «Анна, – говорит он, – ты забыла свою почту!»
– Анна… – повторил за ней Сэм, пытаясь куда-то приткнуть это имя.
Рыжая женщина остановилась пролистать письма. Некоторые из них были адресованы мистеру и миссис Ицхак Розенталь.
– Миссис Розенталь? – прошептала Эви из глубин транса.
– Я не знаю никакой миссис Розенталь, – отозвался Сэм.
Эви поднажала еще. Женщина посмотрела на последние два письма. Одно предназначалось некой Анне Полотник. Последнее было от Ротке к Мириам.
– Есть! – Эви вынырнула из транса. – Кто такая Анна… По-лот-ник?
– Анна… Анна… – Сэм защелкал пальцами, пытаясь ухватить мысль за хвост. – Ну конечно! Анна Полотник!
– Ну конечно! Старая добрая Анна! – передразнила его Эви.
– Наша соседка, когда я был совсем маленький, – объяснил Сэм. – Приплыла на том же корабле, что и мои родители. Славная леди. Когда она варила борщ, весь дом потом дни напролет благоухал капустой. Кстати, борщ был хороший. Теперь я припоминаю: она встречалась с парнем по имени Розенталь, Ицхак Розенталь. Должно быть, таки вышла за него замуж. А еще что-нибудь ты видела? Что-нибудь про маму?
– Нет. Но Анну это письмо явно не обрадовало, Сэм. Она выглядела не то расстроенной, не то сердитой, – сказала Эви.
Последствия погружения решили догнать ее; колени как-то вдруг сразу подогнулись, и Сэм усадил ее на стул Милдред.
– Ты в порядке, красотка? – Он вытащил из кармана платок и промокнул ей лоб.
– Ты мне весь макияж сотрешь, – поспешно отстранилась она. Головная боль, которой она так опасалась, уже сообщила о своем прибытии. – Я только не понимаю, откуда у Уилла это письмо. Он же говорил, что не знаком с твоей мамой.
– Может, и не знаком, – ответил Сэм. – Это было среди книг Ротке. Может, это она знала маму. Надеюсь, у Анны Полотник найдутся для меня хоть какие-то ответы. Когда я в свою очередь найду ее.
Сэм сунул письмо обратно в карман, вместе с платком.
– И еще одно. Теперь, когда у тебя два вечера в неделю на радио, будет просто шикарно ввернуть про нашу пророческую выставку.
– Даблъю-Джи-Ай и мыло Пирса платят мне не за то, чтобы я зазывала народ в Музей Жутиков, Сэм.
– А ты просто воткни это в текст: все призраки верят в чудодейственное мыло Пирса! Самые чистые призраки города собираются посетить выставку о пророках в Музее Американского Фольклора, Суеверий и Оккультизма!
– Ну вот как у тебя получается взять совершенно нормальный день и вывернуть его шиворот-навыворот, а, Сэм? – сварливо спросила Эви, потирая виски.
– У всех свои таланты, крошка, – сообщил Сэм, радостно скалясь и разводя руками.
Тут снова постучала Милдред.
– Мисс О’Нил, вы там еще долго?
– Это твой билет на выход, – Эви подтолкнула его к двери. – И не забудь, что сегодня вечером у нас свидание. Вечеринка в «Пьер-отеле», дает какой-то богатый техасец, сколотивший себе состояние на нефти. Он там прямо купается – в деньгах, не в нефти, конечно. Это хорошая пресса.
– Ну, раз это хорошая пресса… – Сэм подмигнул ей. – Увидимся вечером, куколка.
– Жду не дождусь, – пробурчала Эви, и Сэм целую секунду не мог разобрать, говорит она серьезно или язвит.
Сэм свернул на Пятьдесят Седьмую улицу в сторону линии надземки Второй авеню. На ходу он еще раз внимательно осмотрел загадочный конверт. Первый прорыв за такое долгое время. Будем надеяться, Анна Полотник действительно знает что-то, способное привести его к матери. Но сначала эту Анну еще нужно найти.
Открытая машина, задрапированная в рекламный транспарант «Мортоновского Чудодейственного Оздоровительного Эликсира», медленно подползала к нему; джентльмен стоял в ней, держась за ветровое стекло, и орал в мегафон прохожим на улице:
– Защититесь от чужеземного недуга с помощью Чудодейственного Оздоровительного Эликсира Мортона! В каждом флаконе – излучение чистого радия для поистине лучезарного здоровья! Не дайте вашим родным и близким пасть жертвой Китайской Сонной Болезни! Купите Чудодейственный Оздоровительный Эликсир Мортона прямо сегодня!
Сэм покачал головой. Ничто так не обогащает человека, как эксплуатация страхов другого человека. Целую долгую секунду он раздумывал, не пустить ли свои способности на благо общества и не подрезать ли бумажник горлопана, но в конце концов решил, что ну его. Сейчас ему фартит, а если его суеверная мамочка чему и научила сына, так это тому, что не надо лишний раз искушать удачу.
Так, весь во власти новой надежды, Сэм вскарабкался по ступенькам и стал ждать поезда.
Коричневый седан, кравшийся за ним несколько кварталов, он, конечно, так и не заметил.
Сыны свободы
В миссии Боуэри стояла тишина, лишь время от времени прерываемая случайным всхлипом: это на кровати номер восемнадцать Чонси Миллеру снилась война, которая для него так никогда и не закончилась. Пули визжали над головой, пока двое фельдшеров волокли его носилки через утопшее в грязи и дыму поле боя. Солдатик, c лицом хориста из собора, висел на колючей проволоке, уставя взор в безжалостное небо. Его детские руки были сомкнуты, как в молитве, поверх рваной раны на животе, откуда лились кишки.
– Не отключайся, будь со мной, ста… – Слова погасли на губах фельдшера: пуля свила себе гнездо у него в черепе, и он повалился, как вырванный бурей побег.
Повсюду кругом Чонси пулеметное трат-та-та эхом скакало меж изуродованных войной деревьев. C земли умирающие молили о помощи, о прощении, о смерти – кто о чем.
– Помогите! Пожалуйста, помогите! – крикнул во мглу Чонси.
Двигаться он не мог. Если сильно задрать голову, видно окровавленные ошметки кожи и костей там, где недавно были его ноги. Каждую ночь Чонси молился, чтобы проснуться с обеими ногами, у себя дома, в Поукипси, и обнаружить, что последние девять лет его жизни были просто дурным сном, который уже закончился. Вместо этого он просыпался от собственного крика, c лицом в поту и полными слез глазами.
Но не сегодня, нет. Сквозь нестройную симфонию для пулемета и криков Чонси слышалось что-то еще – грустная, скрипучая мелодия старой музыкальной шкатулки. Справа меж двух голых деревьев вдруг отворилась дверь миссии, и песенка высвободилась, полилась оттуда, смывая грязь и копоть войны.
Чонси сел и спустил с кровати ноги… Ноги! Не сдержав вскрик, он поскорее схватился руками за колени, повел вниз, по голеням – кожа, мускулы, кости… Он согнул ноги и возрадовался этой крошечной победе. Движение! Чонси поднялся и заковылял через двери дальше, во тьму коридора, мимо коек других потерянных душ, странствующих в своих собственных снах: кто-то гнал плуг по полям родной фермы, кто-то любил на сеновале оставшуюся далеко в прошлом девушку, кто-то нырял в пронизанный солнцем летний пруд. Он оглянулся на свою кровать, где покоилось во сне то, что осталось от его сломавшегося, испорченного тела. Вот что ждет его по пробуждении… Чонси двинулся дальше, в сон, и шел, пока не оказался на старой железнодорожной станции.
Там было красиво: все кругом купалось в янтарном сиянии, согревавшем причудливые медные светильники, и клеенчатые обои с цветочным орнаментом, и маслянисто мерцающие рельсы. Правда, стоило Чонси чуть-чуть повернуть голову – вот так… и картинка теряла надежность, словно эта милая, уютная сцена пыталась прямо сейчас писать себя по темному, гнилому холсту, который нет-нет да и проступал местами сквозь красочный слой. Чонси мог поклясться, что слышит какие-то звуки из темной глубины тоннеля: острый, холодный лязг и тягучий низкий рык некой кошмарной твари, которую он не знал и определенно знать не хотел. Он совсем уже было повернул назад, когда пришел голос, тихий нежный шепот – накатил волнами друг за дружкой, как прибой на песок…
– Посмотри этот сон со мной…
– Да, – сказал он. – Хорошо…
– Обещай.
– Обещаю.
Он ступил в тоннель и очутился рядом с трактиром «Le Bon Rêve»[27] в сельской Франции. Они с друзьями ходили туда выпить как-то в сентябре, перед тем как сгинуть в траншеях Западного фронта. В окнах таверны горел свет. Чонси прильнул лицом к окну, но ничего не разглядел. Сочный смех донесся сквозь закрытую дверь. А потом хор нетрезвых голосов затянул песню, популярную в военные годы. Чонси даже слова до сих пор помнил.
– Все сюда! Все сюда! – вступил сильный тенор.
Это же Клем Куц! Он бы где угодно узнал этот голос. Клем, его старый товарищ, тоже откуда-то тут взялся… Чонси толкнул дверь и вошел.
Кругом длинного дощатого деревенского стола сидели все, кого он за войну потерял. Ого, и Тедди Робертс тоже тут! Бедняга Тедди… его противогаз дал течь, и он задохнулся горчичным газом, чертовым ипритом… умер с выкатившимися из орбит глазами и жуткой противоестественной ухмылкой поперек тонкого лица. И Берти Сковрон, из Буффало – он получил полный живот шрапнели и истек кровью, одной рукой все еще держась за полевой радиотелефон. Фельдшер Роланд Кэрри – потешный старый Ролли, он еще, помнится, травил реально грязные шутки, проверяя десны на цингу или заливая едким спиртом паршивую рану. И вот этот самый Ролли сидел сейчас перед ним, несмотря на то, что его унесла инфлюэнца. А вон и Джо Вайнбергер! Он умудрился-таки добраться домой, в Поукипси, после войны – правда, совсем поехал крышей после всего, что ему довелось пережить. Протянул восемь месяцев, а потом пошел в сарай – свежее такое весеннее утро стояло, – перекинул через балку веревку да и повесился. Все его старые друзья были тут – живые, юные. Целые. Братья. Вся жизнь еще расстилалась перед ними, все мечты, взлелеянные до войны – стать мужьями, отцами, бизнесменами, героями благодарной нации, – нетронутые, ждущие: только возьми меня!
– Джонни, бери ружье, бери ружье, бери ружье; выведи ствол погулять, погулять, погулять… – пел Клем.
– Слышишь, как зовут нас с тобой, всех сынов свободы зовут… – подхватили остальные.
– Все сюда, все сюда… Флаг подымем, пусть летит, янки-дудль, победи иль умри, – затянул Чонси, перепутав куплет и припев и глотая счастливые слезы. – Вы здесь! Как так вышло: вы – здесь?
Друзья улыбались ему.
– Посмотри этот сон вместе с нами.
Чонси засмеялся.
– Да. Да!
И он сел за стол, где был накрыт потрясающий пир: крутые яйца, и ломти хлеба, и слитки масла на серебряных блюдах; целая печеная свинья, окруженная сияющими яблоками, пиво, торт. В те проклятые мерзлые ночи, когда солдаты теснились во французских траншеях, будто сельди в бочке, c бурчащими от голода животами и зудящими от вшей головами, они только и делали, что говорили, говорили – о том, кто что съест, когда вернется домой.
– За кого мы вообще воюем? – спросил Тедди как-то холодное, беззвездное небо, передавая соседу одинокую сигаретку – одну на всю часть. – Что мы с вами тут делаем?
– Защищаем демократию, – ответил ему тогда Чонси.
Следующий свой вопрос Тедди выдохнул вместе с дымом:
– Это чью же?
Как же давно это было… Все они умерли, все – жуткой смертью. Его друзья. Но неважно как, все они очутились сегодня здесь, c ним, здоровые, улыбающиеся, словно это война была сном, а вот это – явью. Чонси был как пьяный – только от благодарности и огромного облегчения. На прошлой неделе врачи сказали, что у него что-то не то с печенью, так что было бы лучше на всякий случай привести дела в порядок – как будто у него было что приводить в порядок! Ну, так вот они врали, эти врачи. Все у него отлично с печенью. Ему вон второй шанс пожить дали! Чонси уже видел, как женится – в той самой церкви, где женились его родители, как растит буйную ватагу ребятишек… они так любят ловить рыбу в ручье! А если кто-нибудь попросит его будущих сыновей пойти на войну, он скажет им, чтобы катились в ад со своими просьбами!
Клем похлопал его по руке и скорчил смешную рожу.
– Больно, – сказал он. – Не настоящее. Дурной сон.
– Клем, старина, – заулыбался Чонси, – это же лучший сон за всю мою жизнь!
Еда выглядела такой отменной, что Чонси был бы рад наброситься на нее прямо сейчас – какая разница, что последние недели у него совсем не было аппетита.
– Плохой сон, – сказал Ролли, и сон на мгновение вздрогнул – всего на мгновение.
– Ваше здоровье, парни! – воскликнул Чонси, ни о чем так не мечтая, как только бы этот сон продолжался.
Он живо отправил в рот полную ложку картошки и с той же скоростью выплюнул ее обратно. Картошка оказалась сухая и горькая – будто пригоршню опилок сожрал. Он пригляделся к еде на тарелке – еда шевелилась… Черви. Сплошные черви.
– Боже! – Чонси чуть не сблевал в салфетку и принялся с омерзением вытирать рот. – Это еще что за шутки, п-парни?
Но парням было все нипочем. Наплевав на приборы, они хватали руками еду и гребли ее, все быстрее и быстрее, себе в пасть, набивая себя под завязку, удушая, торопясь жевать и глотать. Вон Берти задохнулся, выблевал все, что только что съел, и принялся по новой.
– Эй, эй, Берти, охолони! – предупредил Чонси, но тот продолжал рьяно давиться.
Тедди улыбнулся ему. Что-то было такое в его улыбке… Будто смотришь на одну картинку, сквозь которую пытается проступить другая – и вот эта другая была картинка его смертного ипритового оскала.
Ужас кушаком сдавил Чонси живот.
Клем свесил голову набок, прислушиваясь. Пальцы у него были все в яйце и в слюнях.
– Еще голодны, – сообщил он сорванным, треснувшим голосом.
Вздернулись остальные головы. Ошметья еды свисали из мокрых ртов. У Чонси заколотилось сердце. Французская харчевня вокруг начала сдаваться, пропуская холодные темные кирпичи тоннеля.
– Голодны! – пропели они, обнажив ряды острых зубов в маслянистых пастях.
Мертвые глаза уставились с потрескавшихся, бледных лиц. Чонси отшатнулся. Это не его братья! Не Клем, не Ролли, не Джо, и уж конечно не милый Тедди. Что же они такое?
– Голодныпоснамснамснамиснамиголоденсон… – проскандировал хор.
Тоннель взорвался вспышками света, напомнившими Чонси пулеметный огонь. Там еще они, вон, прячутся в темноте! Боже милосердный… Вывиваются из нор, выбираются из дыр, ползут по кирпичу, когти лязгают во мраке: твари пробуждаются от дремоты. Голодные стоны и рыки так и отдаются под сводами черепа, да так, что сама кровь от них стынет.
Проснись, сказал он себе, проснись сейчас же, мальчик. Проснись!
Внезапно перед ним оказался поезд! Чонси кинулся на дверь.
– Откройте! Откройте! Ради милости Господа, открывайте!
Двери зашипели, отворяясь, и Чонси рухнул внутрь и захлопнул их за собой. Светящиеся привидения снаружи царапали когтями окно, разевали зубастые рты. Поезд понесся прочь, оставляя их злобный вой блуждать и биться о стены тоннеля. Чонси зажал руками уши. Вот бы проснуться прямо сейчас! Завтра он поговорит с директором миссии. Может, даже поедет домой, в Поукипси, найдет себе девушку с добрым сердцем. Бросит пить, и печень у него станет опять в порядке. Что угодно – что угодно, только не это!
Он не сразу осознал, что что-то едет на поезде вместе с ним. Зловещее спокойствие сгустилось вокруг. Совсем как на войне, когда выворачиваешь из-за угла траншеи, и на тебе – немецкий солдат. Таращитесь с ним друг на друга пару мгновений – никто, естественно, не знает, что делать. Чонси тогда накинулся на него с кулаками и молотил, молотил, пока вместо лица у него не осталась какая-то каша, как в уроненном о мостовую арбузе. Потом, конечно, обшарил все карманы – трясущимися пальцами. Нашел фотографию этого же мальчишки – c мамой и собакой с ужасно симпатичной мордой.
Проглотив страх, Чонси медленно повернулся в сторону фигуры. Это оказался совсем не немецкий солдат и даже не один из тех злосчастных голодных духов. Женщина. В платье с высоким воротом, какие носили когда-то давно, и под вуалью.
– П-пожалуйста… пожалуйста, помогите мне, – едва выдавил Чонси и с трудом признал голос за собственный.
– Этот мир разобьет тебе сердце. Останься со мной, тут, во сне.
Женщина встала с места, и Чонси разглядел пятна крови, цветущие по переду ее платья. Ее давно мумифицированные руки вцепились ему в лицо. Ногти были остры… Сквозь тонкую сетку вуали Чонси видел темные глаза в обтянутом кожей черепе. Рот обнажил двойной ряд треугольных зубов.
– Какой славный сон мы тут с тобой строим. Надо, чтобы сон продолжался. Жизни в тебе маловато, но все еще есть. Нам подойдет. Надо продолжать строить… Ты нужен сну.
Чонси кричал, но крик сдавило в слабый, дрожащий шепот.
– Пожалуйста… Пожалуйста, дайте мне проснуться.
– Ты обещал. Нарушать свое слово – бесчестно.
– Я не понимал…
– Тогда я покажу тебе мир во всем его ужасе.
Поезд исчез, распался. На смену ему вернулось поле битвы – разорванные на куски солдаты, грязь пополам с кровью летит во все стороны, c неба падают слезы убийственного света. Но на сей раз посреди всего этого лежал Чонси – на столе, без ног, без рук. А вокруг повсюду люди скакали в ночь с горящими крестами наперевес. И другие люди в ослеплении своем плескались в ваннах, до краев полных деньгами с Уолл-стрит, а еще другие долбили скованную морозом землю в поисках пропитания. И рабов продавали на аукционах, и голодающие племена уходили прочь от своих домов, и ведьмы падали под градом камней. А человек с серым лицом в оперенном пальто и цилиндре все хохотал и хохотал.
– Есть хотим!
Друзья-солдаты лезли ему в живот с вилками и ножами, а он кричал, кричал…
– Довольно! – кричал он.
Кошмар растворился. Чонси снова был на станции. Слепящие тени сгрудились в тоннеле, ждали, смотрели…
– Эта земля так полна снов. Я чувствую всю вашу тоску, все ваши желания. Так много желаний. Посмотри этот сон со мной… – сказала женщина.
– Д-да… – сумел выговорить Чонси.
Она подняла вуаль, и красота ее была сущий ужас, лик мстительного ангела. Ее смертельный рот воспарил над ним, просверкнул металл, боль вонзилась Чонси в грудь. Затем ее губы накрыли его, и ее сон хлынул в него, пробиваясь в вены, так что все тело принялось корчиться – вымывая из разума волю к борьбе. Она вдыхала свой сон ему в легкие, пока сны их не стали одним, и кроме него, он больше ничего не видел, не мог видеть, и так теперь будет всегда.
– Мало, – сказала женщина, когда вся станция озарилась. – Нужно еще.
С планшетом в руках ночная сестра совершала обход. Дойдя до койки Чонси Миллера, она замерла, потом придвинулась ближе, присмотрелась. На его мокром от пота лице застыло престранное выражение – где-то посередине между мукой и экстазом, а глаза так и метались под закрытыми веками. Из-за этого смотреть на него было неприятно и как-то тревожно.
– Мистер Миллер! Мистер Миллер!
Разбудить его она не смогла. И только тогда, отчаявшись, увидала свирепые алые пятна, вспузырившиеся на коже, словно радиационные ожоги. На соседней койке застонал старый пьяница по имени Джо Уилсон. Лоб у него блестел от пота, а веки дергались в лихорадочном сне.
– Мистер Уилсон?
– Сон… смотри… со мной… – выдохнул он.
– Мистер Уилсон! – Сестра потолкала его, потянула за руки, но тщетно.
Комнату внезапно заполнил шепот:
– Сон со мной… смотри со мной… смотри сон…
Сестра заметалась от койки к койке. Из двадцати человек в палате двенадцать не просыпались. Планшет полетел на пол, и сестра понеслась докладывать дежурному врачу, что нужно сейчас же, немедленно, вызывать инспектора из Департамента.
В миссию пришла сонная болезнь.
День девятый
Новая Америка
Мокрый ветер бил Мэйбл в лицо, пока она бежала по Западной аллее Центрального парка, пытаясь обогнать дождь. Одной рукой она придерживала шляпу на голове, а другой – нервничающий живот, параллельно репетируя, что она скажет, когда постучит в дверь музея.
Вечер добрый, Джерико! Я тут как раз проходила мимо…
О, Джерико, ты, кстати, не голоден? На Бродвее есть одна шикарная забегаловка…
Джерико! Какая удача встретить тебя тут.
Ага, в музее. Где ты вообще-то работаешь… Каждый день, так на минуточку…
Мэйбл застонала. Никогда она не умела играть в эти дурацкие игры. Вот бы можно было просто взять и сказать, что хочешь, прямым текстом…
– Поцелуй меня, идиот! – воскликнула она, воздевая руки к небу.
Шедший мимо почтальон тронул шляпу и одарил ее улыбкой: в улыбке была надежда. Перепуганная Мэйбл поскорее спрятала руки обратно в пальто и решительным шагом устремилась дальше, непрестанно бормоча себе под нос.
На подходе к музею она притормозила: у входа ошивался коричневый седан, в нем сидели двое. Жизнь на передовой рабочего движения научила Мэйбл подмечать всякие странности – и что-то в этих двоих определенно подпадало под эту категорию. Они, видите ли, просто сидели и пялились на музей. Что ж, не они одни знают, что такое слежка. Мэйбл подошла с водительской стороны и легонько постучала по стеклу.
Шофер опустил окно, на ходу меняя выражение физиономии с сердитого на улыбчивое.
– Да, мисс?
– Я очень прошу прощения, но не подскажете ли вы мне, который час? – просияла Мэйбл, постаравшись охватить обоих самым приветливым своим взглядом – всё, как учили родители.
Так, серые костюмы. Черные шляпы. Любопытные значки на лацканах – одинаковые, кстати: глаз и молния.
– Самое начало второго, мисс.
– О, я вам очень признательна, – прощебетала Мэйбл, перешла улицу и вступила под своды музея.
– Спокойно, Мэйбл, – прошептала она себе, прежде чем нацепить улыбку и ворваться в огромную библиотеку с веселым: – Привет! Эй, кто-нибудь дома? Джерико?
Пальто и шляпу она бросила на протянутые лапы гигантского медвежьего чучела.
Белокурая голова Джерико высунулась из-за штабеля каких-то пыльных ящиков, уставивших дальний конец библиотечного стола.
– Мэйбл. Что тебя сюда привело?
У нее тут же схватило горло. На баррикадах она кого только не встречала – штрейкбрехеров, людей с пушками… Почему же ей так страшно говорить с этим мальчишкой?
– О, я тут шла мимо, голодная… Не в том смысле, что я подумала, у тебя тут есть что поесть… – выпалила она, морщась от собственной промашки, и поскорее ткнула пальцем в стол. – Ух ты, тут будто кого-то вырвало бумагой.
Джерико поднял бровь.
– Очень образное выражение.
Два раза дура.
– Прости, – сказала она. – А правда, что это все такое?
– Записки Уилла, еще тех времен, когда он занимался паранормальными исследованиями. Мы их в подвале нашли. Я уже целый час в них копаюсь. Вот, например, ты знала, что пророки упоминаются на всем протяжении истории этой страны, c самого ее начала?
Джерико многозначительно умолк, и Мэйбл ужасно захотелось отпустить какой-нибудь умный комментарий. Увы, близость Джерико так ее взвинчивала, что она ограничилась умным «угу».
– У Джона Смита есть упоминание о целителе и мистике из племени поухатан, который приходил в Джеймстаун. Благодаря видению пророка, служившего у Джорджа Вашингтона, тому удалось избежать британского плена. И есть свидетельства, что некоторые из салемских ведьм были на самом деле пророками. Тут все становится уже совсем интересно…
Джерико выскочил из-за стола и выкатил из-за книжного шкафа большую грифельную доску. Мэйбл смутно различила бледные остатки записок Эви по расследованию дела Пентаклевого Душегуба. Одним движением тряпки Джерико стер последние свидетельства ее пребывания в музее и начертал взамен дату – сентябрь 1901.
– Хорошо, сдаюсь, – быстро сказала Мэйбл. – Что случилось в сентябре 1901-го?
– Вообще-то убили президента Маккинли, – Джерико добавил «Маккинли» к «1901».
Мэйбл покраснела.
– А. Ну да.
– Судя по всему, в августе 1901-го некий пророк, бывший раб по имени Моисей Фридман, пытался предупредить президента о возможном покушении на его жизнь, но ему никто не поверил. Вместо этого его арестовали по подозрению в том, что он анархист-агитатор, и допрашивали несколько месяцев, предшествовавших убийству. В тюрьме его продержали почти год, так и не предъявив обвинения.
– Но это незаконно! – запротестовала Мэйбл. – А habeas corpus[28] как же?
– Действие приостановлено на основании конституционной нормы, гласящей, что лицо может быть задержано без обвинения, если того требуют соображения общественной безопасности.
– Так недолго и до фашизма скатиться, – проворчала Мэйбл.
– Уверен, Моисей Фридман с тобой охотно согласился бы.
– Что с ним было дальше?
– В начале июля 1902-го, – Джерико добавил эту дату на доску, – у него было видение о возможном взрыве на шахте в Джонстауне, штат Пенсильвания, – еще одно предупреждение, которое осталось без внимания…
– Катастрофа на шахте прокатного завода. Одна из самых ужасных за всю историю горнодобывающей промышленности в США. Погибло больше ста человек, – выпалила Мэйбл, не подумав.
– Впечатляет, – Джерико приподнял бровь.
Мэйбл небрежно пожала плечами.
– Если бы твои родители были профсоюзными деятелями, ты бы тоже все это знал. Некоторых девочек растят на сказках о феях – а меня растили на шахтерских смертях.
– У тебя было очень интересное детство, – Джерико одарил ее мимолетной улыбкой, но она проникла Мэйбл в самое сердце.
– Так что там, – сказала она, прочистив горло, – прокатный завод, говоришь?
– Ага, прокатный завод. После этого президент Рузвельт затворился с Моисеем Фридманом и наконец пришел к выводу, что тот говорит правду. Это навело его на кое-какие мысли. В 1904 году, – Джерико снова нацарапал дату на доске, – президент создал Американский Департамент Паранормальных Исследований, чтобы изучить, так сказать, мир фантастики. Он поставил себе целью обнаружение и использование пророков в интересах национальной безопасности. В конце концов, если у тебя есть человек, чьи сверхъестественные способности дают ему возможность предвидеть грядущие опасности и катастрофы, почему не воспользоваться им?
– И какое отношение ко всему этому имеет доктор Фицджеральд?
Джерико вытер руки о штаны, оставив на них меловые полосы.
– Департамент рекрутировал и его. Он путешествовал по всей стране, выискивая пророков, проверял их, выслушивал их истории и регистрировал для правительства.
– Ого, – Мэйбл даже присвистнула. – Вот это, я понимаю, материал для пророческой выставки. Но доктор Фицджеральд разве не разозлится, что мы копаемся в его частной переписке и документах тех времен?
– В таком случае ему не следовало оставлять нас спасать музей, – c горечью сказал Джерико. – И потом, мы возьмем только те письма, которые касаются пророков.
– И за сколько дней, говоришь, тебе надо собрать экспозицию?
– За десять.
– Это будет нелегко, – Мэйбл покачала головой.
Даже лучше сказать, невозможно… если только…
– Тебе помощь нужна?
Джерико вытаращил глаза.
– Ты что, предлагаешь поволонтерствовать?
– Рядовой Роуз на службу прибыл!
Он еще раз почти улыбнулся ей.
– Это было бы шикарно. Спасибо.
– Ну, раз так, – сказала Мэйбл, впервые за день чувствуя себя на твердой земле, – давай приниматься за работу.
Она порылась в одной из папок и вытащила фотографию: пятеро человек на фоне буйно разросшейся лягерстремии.
– Это… это же доктор Фицджеральд?
Джерико кивнул.
– Выглядит таким молодым… То есть не то чтобы он сейчас выглядел старым! Просто… он тут не такой озабоченный, как мы привыкли.
Пригожий темноволосый мужчина с уверенной улыбкой стоял рядом с Уиллом, обнимая его одной рукой за плечи, словно они были братья.
Мэйбл раскрыла рот.
– Это действительно тот, кто я думаю?
– Джек Марлоу, да. Они с Уиллом были друзьями. Когда-то давно, – отозвался Джерико.
Мэйбл решила, что будет невежливо докапываться дальше, и оставила тему в покое. Джерико тем временем извлек из ящика странную пыльную штуковину. Это была небольшая деревянная коробочка, размером примерно с жестянку для печенья. Из правого бока торчала ручка завода, а по центру располагалась стеклянная трубочка с каким-то волоконцем, в карандаш толщиной и раздваивающимся на конце. Под волоконцем была шкала с делениями по десяткам от нуля до восьмидесяти.
Джерико поставил странное приспособление на стол, и они с Мэйбл в унисон склонились над ним. Она попробовала пошевелить ржавую ручку – та недовольно взвизгнула.
– Сдаюсь. Что это такое?
– Понятия не имею. Надеюсь, одно из этих писем что-то нам подскажет. Так, давай ты бери вот этот ящик, а я возьму вон тот. Откладывай все, что имеет отношение к пророкам.
Добрый час они вдвоем разбирали содержимое ящиков, складывая в стопки все хоть сколько-нибудь интересное. По большей части попадался откровенный мусор: сгнившие в кашу книги, траченные сыростью фотографии, списки покупок, открытки с какой-нибудь банальностью вроде: «А цветочки-то цветут. Что за прелесть!» Внимание Джерико привлекла небольшая пачка писем, засунутая в самую глубину его ящика. Каждое из них было адресовано Корнелию от Уилла – и ни одного от Корнелия Уиллу. Джерико вынул первое из конверта.
Гавань Надежды, Нью-Йорк
11 февраля 1906
Дорогой Корнелий,
Джейка чрезвычайно заинтриговало то наблюдение, что эти пророки, судя по всему, показывают гораздо более сильное излучение, чем обычный нормальный человек, похожее, скорее, на полученные нами данные по призракам, – а также что они искажают электромагнитные поля. Он полагает, что эти способности можно применять в самых разных областях, от медицины до тяжелой промышленности и национальной безопасности. Дорогой Корнелий, поверьте, что эти открытия преисполнили нашу веселую команду первооткрывателей не меньшим восторгом, чем зрелище этой зеленой земли – первых путешественников к ее обетованным берегам. Мы стоим на пороге нового мира, новой Америки, и я уверен, что именно пророки – ключ к этому необычайному будущему.
ВашУиллВнизу страницы Уилл набросал символ с глазом и молнией.
– Эй! Кажется, мы нашли имя нашей таинственной машинки, – воскликнула Мэйбл и помахала листком старой бумаги. – Она называется «метафизикометр».
– Так сразу и не выговоришь, – Уилл наклонился ей через плечо.
– Да. Оно… да. Гм. В общем, Уилл пишет об этом в письме.
Новый Орлеан, Луизиана
23 февраля 1906
Дорогой Корнелий,
сегодня вечером я присутствовал на ритуале Мамы Тибо (шестьдесят два года, родилась на Гаити, работает проживающей жрицей при лавке вуду на Дюмейн-стрит). Местные обращаются к ней за помощью по любому делу, от физических недугов до любовных зелий и снятия воображаемой порчи. Очень гостеприимная женщина, двенадцать внуков, все в ней души не чают; утверждает, что может говорить с мертвыми c двенадцати лет. «Мертвые меня не пугают. Бояться надо живых», – утверждает она.
Посоветовавшись с лоа и получив за свои услуги плату в размере пяти центов, она разрешила нам проверить Джейков метафизикометр во время ее ритуала. Когда она вошла в духовный транс, стрелка тут же прыгнула на отметку сорок, потом пятьдесят, то есть показала повышенную электромагнитную активность, которую мы привыкли связывать с присутствием призраков. Любопытно, что и у самой Мамы Тибо частота вибрации тоже несколько повысилась, что помешало работе большинства наших устройств. Джейка это открытие озадачило, но заинтриговало до чрезвычайности. Маргарет и Ротке уже собрали некоторое количество образцов.
Надеюсь, c Вами все в порядке. Уже скоро весна.
ВашУиллМэйбл тепло похлопала по странной коробочке с проводками, шестеренками и иголками.
– Ну, привет, метафизикометр! Рада встрече. Надо же, одно из ранних изобретений Джека Марлоу! Может оказаться очень ценным. Интересно, почему он никогда с ним не носится, как со всем остальным, не рекламирует?
– Он не любит говорить о своих неудачах, – сказал Джерико, пристально разглядывая машинку.
Мэйбл изобразила бровями крутую «V».
– Ты его не особенно любишь, я смотрю?
– Я восхищаюсь его достижениями. Уважаю его победы. Но он не из тех, кто задумывается о цене этих побед. – Джерико помолчал. – Так я, по крайней мере, слышал.
– Было бы ужасно здорово продемонстрировать на выставке работу этой прелести. Интересно, как она работает?
– В письме сказано, что прибор измеряет призрачное электромагнитное излучение. Так что, видимо, в отсутствие пророков или призраков машинка будет молчать.
– Видимо, так. Хотя после всех этих лет в подвале я не удивлюсь, если она вообще не станет работать, – сказала Мэйбл, постукивая по стеклу шкалы.
Игла и не подумала шевелиться.
– Кстати, я тут еще нашла несколько фотографий. Смотри, вот это как раз Мама Тибо. Давай-ка положим фотографию вместе с письмом. Может, и другие пары удастся организовать. А ты что-нибудь полезное обнаружил?
– Гм… разве что это. Может оказаться интересным, – Джерико извлек письмо из отложенной в сторону стопки.
Сент-Элоизиус, Луизиана
21 июня 1906
Дорогой Корнелий,
не знаю, существуют ли на самом деле адские топки, но с ответственностью заявляю, что если да, то хлопковые поля Луизианы жарким летним днем могут послужить недурной репетицией этих мук.
– Ха! – заметила Мэйбл. – А у профессора есть чувство юмора. Ну, или когда-то было. Гм, прости. Читай дальше.
Сегодня мы познакомились с молодым испольщиком по имени Гийом «Большой Билл» Джонсон, обладателем поразительной способности ускорять мирную кончину больных животных. У нас на глазах он засунул руку в гриву лошади со сломанной ногой.
– Ну, тихо, тихо Клара, – прошептал он ей очень нежно. – Не егози. Уходи поскорее.
Лошадь сильно дрожала секунды три, а потом умерла тихо и легко, будто ее сморил сон. Это усилие сказалось и на юном Гийоме. Ему едва исполнилось девятнадцать, но росту в нем больше шести футов и сила невероятная, но натура при этом очень мягкая. Он, кажется, очарован Маргарет и согласился на взятия образца.
Надеюсь, нью-йоркская жара не доставляет Вам слишком больших неудобств.
ВашУилл– Гийом Джонсон… Гм. Боюсь, фотографии мистера Джонсона у нас нет. Но я еще поищу. Что это за образцы, о которых он все время говорит? – спросила Мэйбл, откидываясь на спинку кресла у огня. – Они упоминаются в нескольких письмах доктора Фицджеральда.
– Я тоже заметил, – сказал Джерико, усаживаясь напротив нее. – Надеюсь, одно из писем нам раскроет и эту тайну.
Мэйбл кидала на него застенчивые взгляды. Он от этого нервничал, как будто ему полагалось что-то сделать, но он никак не мог взять в толк, что.
– Хорошо, – сказал он, вставая. – Вернемся к делу. Если понадоблюсь, я буду наверху.
И действительно подхватил свой ящик и унес его по спиральной лестнице на галерею второго этажа. Оттуда, из-за стеллажей, он наблюдал, как Мэйбл работает. Ее синее платье уже обильно забелила пыль, но ей, кажется, было наплевать. Ну, конечно, Мэйбл Ребекка Роуз для этого слишком цельная личность. Единственное ее преступление состоит в том, что она как-то слишком мила с ним, Джерико. Почему бы не отплатить ей той же монетой? Она определенно умна. Сколько девушек вообще в курсе, что такое рабочие забастовки и катастрофы на шахтах?
Самое ужасное в Мэйбл, что она, кажется, всегда делает то, что от нее ожидают. Просто-таки воплощение абсолютно приличной особы: честная, всегда готова помочь; нерушимо верит в эту свою выдуманную религию, что люди, дескать, в глубине сердца все хорошие. Джерико совсем не был уверен, что разделяет подобные сантименты.
С того самого вечера, когда Эви вдруг оборвала их и без того краткий роман, Джерико сопротивлялся натиску Мэйбл. Если бы не она, говорил он себе, у них с Эви был бы шанс. Но теперь он невольно задавался вопросом: а вдруг Мэйбл всю дорогу была просто удобным предлогом? Вдруг дело с самого начала было в Сэме?
Мэйбл почувствовала, что на нее смотрят, и автоматически пригладила волосы.
– Джерико? Тебе что-нибудь нужно?
– Нет, – быстро ответил он и воткнулся обратно в Уилловы письма: одно из них как раз его заинтересовало.
1 октября 1907
Гавань Надежды, Нью-Йорк
Дорогой Корнелий!
времечко у нас выдалось то еще. Раньше на этой неделе приходили члены Клуба Основателей, частного евгенического общества – по приглашению Джейка. Их весьма заинтересовали наши находки, и за ужином разгорелся нешуточный спор. Джентльмены из клуба утверждали, что, тщательно культивируя самые лучшие свойства породы, как это делают в сельском хозяйстве, можно создать более сильную, по-настоящему исключительную американскую расу. Они полагали, что пророки и есть эта самая высшая порода человека. Но, разумеется, только белые пророки. Никакие негры, итальянцы, сиу, ирландцы, китайцы и евреи в расчет не берутся. Гости были убеждены, что эти народы лишены нужных моральных, физических и умственных способностей, необходимых для прогресса нации и превращения ее в истинный град божий.
Никогда еще я не видел Маргарет в таком гневе.
– Мы – демократическая страна, сэр, и пророки – свидетельство этой демократии и доказательство того, что все мужчины и женщины сотворены равными. Ибо дар этот был дан в равной мере людям всех рас и верований, невзирая на пол, богатство или бедность, – заявила она ему в лицо.
В итоге дебаты выплеснулись далеко за рамки вежливой застольной беседы, и нам пришлось разойтись, не дожидаясь десерта, чтобы сохранить остатки сердечности и дружелюбия. В кабинете Ротке исчерпывающе прояснила мне свою позицию.
– Я не стану принимать в этом участия. Ни как ученый, ни как еврейка, ни как американка.
Я полностью согласился, что их позиция – полный бред. Маргарет была куда откровеннее в своей оценке. Я не стану повторять здесь ее слова. Решение было принято со всей определенностью: мы поблагодарим Клуб Основателей за их время и интерес к проекту и пожелаем счастливого пути. Все это время Джейк молчал. Потом он встал и прошелся по комнате – и даже этим простым действием, как всегда, приковал наше внимание.
– Вы что, не понимаете? Мы можем взять их деньги, не говоря, что на самом деле собираемся делать. А мы, разумеется, будем продолжать собственную программу исследований по пророкам. Можно будет время от времени подбрасывать этому старичью какие-нибудь пустяки – пусть возятся со своей евгеникой. Можно даже показать им пророка-другого. Все просто!
– Ты ошибаешься, Джейк. Кончится тем, что они купят нас со всеми потрохами, – сказала Маргарет. – Помяни мое слово.
Джейк потряс головой и издал раздраженный вздох, который, в свою очередь, отнюдь не порадовал Маргарет, могу Вас заверить.
– Ты слишком подозрительна, – сказал ей Джейк. – Никогда никому не доверяешь.
– Если бы ваш народ прибыл в эту страну в цепях, мистер Марлоу, вам бы тоже была свойственна некоторая недоверчивость, – ровным голосом ответила Маргарет, но ее взгляд – твердый, горящий – поведал подлинную историю кипящих внутри чувств.
Дальше Джейк обратился ко мне, как мужчина к мужчине. Он по-братски обнял меня за плечи и крепко сжал.
– Уильям, но ты-то на моей стороне?
– Ну… – начал я, но больше ничего не сказал.
Да, это было трусливо, но у меня очень смешанные чувства по этому поводу. Мне дела не было до Клуба Основателей и их фальшивой науки. Но я ни в коем случае не хотел прекращать исследования тех тайн, что лежат за пределами этого мира, – они стали всей моей жизнью.
Наконец, Джейк подошел к Ротке и положил ей руки на плечи.
– Дорогая, нам нужно их финансирование. Вашингтонских средств решительно недостаточно, и я исчерпал практически весь свой трастовый фонд.
– Даже при том, что эти деньги идут из дурного источника? – c вызовом спросила она.
– Да ты просто не обращай внимания, откуда они идут!
Он взял ее лицо в руки – в те самые руки, которые вылепят новую Америку из стали и атома и чего мы там еще успеем найти в сверхъестественном мире.
– Доверься мне, – прошептал он и привлек Ротке к себе, чтобы можно было коснуться губами ее лба.
Я последовал совету Джейка и просто больше не обращал внимания ни на что лишнее.
– Я все улажу с этими старыми дуралеями, а вы оставайтесь здесь – камин-то как хорошо горит! – молвил наш храбрый сын, наш золотой мальчик, и удалился на всех парусах с бутылкой лучшего фамильного бренди и коробкой сигар – обеспечивать наше совместное будущее.
Боюсь, однако, между ним и Маргарет теперь черная кошка пробежала, и друзьями они после этого уже никогда не будут.
Что до Ротке, то они с Джейком собираются обручиться, насколько я слышал. Более достойный, чем я, человек был бы счастлив за них. В конце концов, Джейк шесть лет был моим ближайшим другом. Но я не более достойный человек, и я за них не счастлив.
Сегодня во второй половине дня Ротке приходила ко мне. По глазам я увидел, что она плакала. Она попросила пройтись с ней немного. Мы углубились в лес за границами Гавани; я умолял Ротке сказать, что ее тревожит.
– Дело в Джейке, – сказала она, вытирая слезы. – Мы поссорились. Он не хочет, чтобы я говорила людям, что я еврейка. Ни его семье, ни, разумеется, этим евгеническим идиотам. «Дорогая, да никто же не знает, что ты еврейка, – сказал он мне. – Им и не надо знать. Ты совсем не выглядишь еврейкой».
Тогда я задал ей вопрос, действительно меня волновавший: правда ли ей так важно быть еврейкой, если она все равно не верит в бога? Как тебе хорошо известно, Корнелий, я никогда не понимал этой свойственной нам, американцам, одержимости тем, кто из нас откуда. Мы все отсюда, разве нет? Иногда мне кажется, что эта клановость, эта привязанность к прежней родине, к старым традициям, к кровным узам – просто страх, тот же самый страх, что заставляет молиться несуществующему богу. Помимо всего прочего я надеюсь, что наши исследования пророков и всего их непознанного сверхъестественного мира докажут: мы все одинаковые, c той же самой, одной для всех искрой внутри, которая не имеет ничего общего со странами и религиями, c добром и злом и прочими изобретенными человеком категориями. Мы сами творим свою историю – просто живя, на ходу.
Но Ротке все видит по-другому.
– Это для меня правда важно, Уильям, – сказала она. – Это часть того, кто я такая. Это память о моих родителях и дедах. Я не могу вот так просто взять и выкинуть их вместе со всей их борьбой. И если я выйду за Джейка, боюсь, я буду вычеркнута из этой книги.
Она снова принялась тихонько плакать. Я не знал, что мне делать. Я вообще-то не большой специалист по плачущим женщинам, особенно по тем, которых втайне люблю. Не успев опомниться, я уже ее целовал. Да, целовал невесту моего лучшего друга. Это было совсем не по-джентльменски, Корнелий, и знаю, что ты этого не одобришь. Хотелось бы мне сказать, что я очень сожалею о своем поведении… Да вот только это не так.
Ротке вырвалась из моих объятий, вся раскрасневшись – и совсем не от холода. Я, разумеется, рассыпался в извинениях, и через некоторое время она достаточно пришла в себя, чтобы сказать:
– Думаю, нам пора назад.
Ты предупреждал, что страсти рано или поздно возьмут надо мною верх, Корнелий.
Джейк весело поздоровался с нами по возвращении. Он был в приподнятом настроении, практически ребячился.
– Ну вот, – воскликнул он, хватая Ротке и кружа ее в вальсе по комнате. – Теперь у нас есть деньги.
Я отвел взгляд. Как только научишься куда-то не смотреть, c этим становится проще.
Джейк похлопал меня по спине.
– Это начало всего. Тебе не о чем беспокоиться, всеми делами буду заниматься я. Тебе совсем не придется общаться с этими Основателями. Я велел подать в гостиную шампанское. Давай найди Маргарет и встретимся там.
Джейк хочет денег для своих экспериментов и открытий, для строительства исключительной, несокрушимой Америки. Маргарет, жертва не самой блистательной стороны нашей истории, хочет доказать, что все люди были сотворены равными. Ротке хочет понять иной мир и свои собственные способности. Что же до меня, то мои амбиции поистине велики, но бесформенны. Я вообще не знаю, чего я хочу – кроме женщины, которую не могу получить.
У меня вышло очень нескромное письмо, Корнелий. У шампанского был превосходный винтаж, и я сильно пьян. Впрочем, какая разница. Ты все равно не ответишь на него, как не ответил ни на одно из моих поползновений. Скорее всего, ты их даже не читал.
От Лукреции, которая приезжала в город на прошлой неделе и которую Маргарет встретила на рынке, я узнал, что у Вас скверный кашель. Очень надеюсь, что здоровье Ваше скоро наладится.
Искренне Ваш,блудный сынУиллОшарашенный, Джерико опустил письмо. Почему они никогда ни о чем этом не говорили? После того как болезнь искалечила Джерико и родители предоставили заниматься им государству, на защиту встал именно Уилл. Он дал Джерико кров, и стол, и одежду, и научил всему, чему только мог, по части музея и пророков. За все это Джерико почитал себя перед ним в долгу. Но Уилл не открыл ему того, что было важнее всего, – себя. Никогда они вдвоем не бегали удить рыбу в холодном ручье погожим летним днем, никогда не болтали о любви, о жизни, глядя, как солнце гонит кудрявый утренний туман с воды. Никогда не рассуждали, как найти свое место в мире, или об отцах и сыновьях, или о том, что делает из сыновей мужчин. Нет. Все их разговоры ограничивались газетными статьями о призраках, наблюдением и фиксацией всяких сверхъестественных явлений, и да, Джерико поневоле чувствовал, что его обдурили – всучили так мало, тогда как ему было надо так много.
Почему люди вообще так много молчат?
– Джерико? – Голос Мэйбл вернул его в мир. – Я ужасно извиняюсь, но мне уже пора домой.
– Я сейчас спущусь. – Он оттолкнул письма прочь, и какой-то клочок полетел на пол: торопливая записка рукой Уилла.
Даты не было. В записке значилось:
Дорогой Корнелий,
Вы были правы. Я ошибался. Мне ужасно жаль.
Искренне,Уилл– Спасибо, что помогла мне сегодня, – Джерико помог Мэйбл надеть пальто. – Очень приятно для разнообразия. Я привык работать с Сэмом. Вернее, вокруг Сэма.
Мэйбл попереминалась с ноги на ногу.
– Я могла бы прийти и еще тебе помочь, – предложила она, вся такая услужливая до последнего. – Если ты, конечно, хочешь.
То, как она на него смотрела – со смесью любопытства, страсти и восхищения, – было довольно… мило. Наверное, было бы… мило побыть, наконец, предметом обожания.
– Все в порядке, я и сам справлюсь, – сказал он, помолчав.
– О. Да, конечно, – сказала Мэйбл, засовывая свое разочарование подальше. – Новости про Эви и Сэма ты, я так понимаю, уже слышал.
Они как раз шли по длинному коридору.
– Я и понятия не имела, что они обручены. Она мне ни словом не обмолвилась. А Сэм тебе?
– Нет, – проворчал Джерико.
Мэйбл и сама вообще-то соображала, что тему Эви поднимать не следовало, но это было как корочка на ссадине: и не захочешь, а поковыряешь.
– Ну, вообще-то нам надо за них радоваться.
– Это почему? – осведомился Джерико.
– Ну, потому что… – Остаток фразы завял на стебле, так и не распустившись.
Снаружи уже подмигивали уличные фонари, сражаясь с настойчивой серостью раннего вечера. На ветру плясали несколько робких снежинок. Стоя на верхней ступеньке, Мэйбл поежилась, раздумывая, что бы такого сказать, чтобы продлить мгновение. Мимо по улице продребезжала машина, и в голове тут же воскресла сегодняшняя странная встреча.
– О! Совсем забыла тебе сказать. По дороге сюда я заметила кое-что странное. Двое мужчин сидели в припаркованной коричневой машине и таращились на музей.
Джерико вытянул шею, обозрел улицу в обоих направлениях, пожал плечами.
– Ну, сейчас я, по крайней мере, никого не вижу, – он скрестил руки на груди, задумался. – Возможно, это были налоговики.
Мэйбл авторитетно покачала головой.
– Налоговики тихонько в машинах не сидят. Они лезут прямо в двери, и опомниться не успеешь, как уже выворачивают тебе карманы. Нет, эти мне напомнили, скорее, пинкертонов или Бюро Расследований, – она сунула руки в карманы пальто. – Ну, увидимся в «Беннингтоне».
– Да. Увидимся в «Беннингтоне», – согласился Джерико, глядя, как она идет по тротуару прочь своей ни на что не похожей, нерешительной и одновременно нарочитой походкой.
Да что он так цепляется за девушку, которой все равно не может получить? Эви уж точно не сидит у окна и не вздыхает по нему. Наоборот, каждый вечер где-то развлекается с Сэмом, шикарно проводит время. Давненько он не делал того же. Если он чего и вычитал из Уилловых писем сегодня, так это что где-то там лежит целый мир – только и ждет, чтобы его открыли, исследовали, а он… он так устал вечно быть осторожным.
– Мэйбл! – Джерико сбежал по ступенькам следом за ней. – Не хочешь сходить куда-нибудь поужинать или, может, в кино?
По лицу Мэйбл ртутью промелькнули сначала шок, потом едва сдерживаемое головокружение.
– Я c радостью. Когда?
– О. Гм. Завтра?
– Завтра – просто отлично, – заулыбалась она.
– Я зайду за тобой завтра в восемь. Если это удобно.
– Ужасно, ужасно удобно!
Возвратившись в тишину библиотеки, Джерико поздравил себя.
– Ну вот, у меня свидание, – сообщил он пустой комнате.
Свидание. Это же здорово, правда? Серьезный прогресс. Он отвесил метафизикометру легкий щелчок и принялся приводить в порядок валявшиеся рядом бумаги.
Стрелка под стеклом чуть подпрыгнула.
Снам не поймать тебя
Свежевыбритый и пахнущий мылом, Мемфис стоял перед маленьким зеркальцем, водруженным на комод в их общей с Исайей комнате, и пристегивал накрахмаленный воротничок к хрустящей белой рубашке. Исайя сидел в кровати и рисовал.
– Мемфис, а что значит «НЕВ-МА-ТИ-ЧЕС-КИЙ»?
Мемфис с минуту подумал.
– Ты хотел сказать, «пневматический»?
– Что хотел, то и сказал.
– Ты не сказал «п».
– И все еще не знаю, что это значит, – проворчал Исайя.
– На, возьми, – Мемфис кинул ему словарь, который подарили ему на десять лет родители, и уселся рядом на кровать, зашнуровывать свои лучшие оксфорды[29]. – Сам найди.
Исайя скорчил ему рожу.
– Вот нельзя было просто сказать, а? У тебя все эти слова уже есть в голове.
– Это точно. А знаешь, как они туда попали? Я их сам нашел в словаре. Где ты слышал это слово? В школе?
– Нет, во сне увидал. Ты куда идешь? – вопрос вышел совсем в духе Октавии: будто тебя обвиняют.
– Это мое дело.
– Идешь гулять с этой Тэтой, – проворчал Исайя. – Не нравится она мне.
– Ты ее даже не знаешь.
– Зачем тебе вообще гулять с девчонками, а?
– Потому что когда-нибудь я хочу жениться и завести дом, свой собственный. Вместе с женой. И чтобы никакие тупоголовые братцы кругом не шныряли.
Мемфис ждал, что Исайя опротестует «тупоголовых братцев» гневным «эй!» – а вот всхлипываний совсем не ждал, как и того, что, обернувшись на них, увидит дрожащие губы и бегущие по щекам слезы.
– Снеговик! Что случилось?
Исайя подобрал к груди коленки и обнял их руками. Он упорно молчал – потому что (Мемфис знал это) изо всех сил пытается не разреветься. Мемфис подождал, и где-то через минуту Исайя сказал тихим, придушенным голосом:
– Ты ведь тоже уйдешь и бросишь меня одного, да?
– Ну-у-у, Снегови-и-ик! – Мемфис быстро подошел к кровати и сгреб Исайю в объятия.
– Все меня всегда бросают…
– Ш-ш-ш-ш, тихо, тихо. Неправда это.
Исайя вскинул голову. В его залитых слезами глазах плескались пополам мольба и вызов.
– Обещай мне! Обещай, что мы всегда будем вместе. Как мама сказала.
У Мемфиса сжало сердце. Брата он любил, это даже не вопрос. Но Мемфису уже почти стукнуло восемнадцать, и мечты у него были свои собственные. Мечты, которые он всю дорогу рассовывал в своем внутреннем комоде по маленьким ящичкам с биркой «завтра». Наверняка, думал он, некоторым из них так и не суждено воплотиться: никогда ему не переступить порог шикарного дома Алелии Уокер вместе с типами вроде Лэнгстона Хьюза или Каунти Калена и Зоры Нил Херстон… никогда не увидеть том своих стихов в витрине книжного магазина… никогда не увидеть большой мир за пределами Гарлема. Как ему выбраться из всего этого, если какие-нибудь обязательства непременно сыщутся и утянут обратно?
– Мы всегда будем вместе, – сказал Мемфис.
Он сжал Исайю покрепче, словно мог своей любовью сломить его сопротивление.
– Уже поздно. Тебе спать пора.
– Я не устал.
– А глазенки твои говорят другое.
Исайя пропустил свои пальцы через его. Злость уже ушла, но на смену ей явился страх.
– Ну, что такое, Снеговик?
– Я вижу всякое во сне…
– Какое всякое?
– Чудовищ, – прошептал Исайя.
– Это же просто сны, малыш. Сны тебя не поймают. А вот я могу!
И Мемфис принялся его щекотать – хохочущего, ревущего, счастливого (прекрати! прекрати!), как любой десятилетка.
– Слушай-ка, Снеговик, – сказал Мемфис, подтыкая Исайе одеяло, – что ты помнишь из того вечера, накануне припадка?
Исайя поморгал на потолок, вспоминая.
– Мистер Джонсон вел меня домой. Он знал, где срезать угол, чтобы я не опоздал и Октавия на меня не вызверилась. – Он помолчал. – И еще помню, мне было грустно, что мама умерла и папа уехал в Чикаго.
Мемфису снова сдавило грудь. Он ненавидел знать, что Исайе грустно.
– Что еще ты помнишь? – спросил он уже более мягко.
– Мистер Джонсон сказал, что, если я хочу, он может вынуть эту печаль прямо у меня из головы.
– И как он собирался это сделать?
– Не знаю. Наверное, просто дразнил меня.
– А.
– А потом у меня случился припадок. Я как будто был под водой… Я видел…
Вот оно, там, на самой высокой полке его разума, никак не дотянуться. Ему привиделся странный человек. Но потом его лицо стало физиономией Билла Джонсона, а еще потом и вовсе пропало.
Исайя покачал головой.
– Больше я ничего не помню.
Мемфис набрал побольше воздуху, посмотрел на пол.
– А когда ты спал после припадка, ты знал, что я рядом, прямо у твоей кровати?
Мог ли Исайя запомнить исцеляющие руки Мемфиса?
– Угу.
– А когда ты проснулся, ты… c тобой все было уже хорошо, так?
– Ты чего хочешь сказать?
– Ты не чувствовал себя больным или вроде того? Просто чувствовал себя как нормальная креветка.
– Никакая я тебе не креветка! Я буду выше тебя! – возопил Исайя, притворно колотя Мемфиса кулаками. – Сестра Уокер сказала, что я еще выше папы вырасту.
– Ну, это мы еще посмотрим.
Веселья, увы, надолго не хватило.
– Мемфис… Я скучаю по тому, как мы ходили в гости к сестре Уокер.
– Я знаю.
– Я не думаю, что она правда плохая. Она слишком хорошая, чтобы быть плохой.
– Мало ли кто кажется хорошим, – пробормотал Мемфис, но на самом деле сестра и ему тоже всегда нравилась.
Нет никаких доказательств, что та работа, которой они занимались с Исайей – ну, развитие его способностей, – имела хоть какое-то отношение к припадку. А иначе почему их не было больше? Вот что не давало покоя Мемфису…
– Из-за нее я чувствовал себя особенным, – говорил Исайя. – Но вряд ли я правда какой-то особенный.
– Не говори так, – сказал Мемфис. – Потому что это неправда.
Он приблизил свое лицо к лицу брата – совсем как когда-то, в канун Рождества. Они все пытались не уснуть и дождаться Санта-Клауса и рассказывали друг другу, что наверняка он первым делом наведывается в Гарлем – ведь тут даже улица Святого Николая есть!
– Мемфис? А ты мне сказку расскажешь? А то я без сказки не усну.
– Ну, хорошо, – тихо сказал Мемфис. – Жили-были однажды два брата. И были они близки друг с другом, как только это возможно между людьми…
Исайя выпростал из-под одеяла руку и взялся за руку брата, а Мемфис баюкал его словами, заворачивая, закутывая в волшебство хорошо рассказанной сказки.
Но прежде чем уснуть, Исайя пробормотал ему на ухо:
– Я еще кое-что помню с тех пор, как болел… Там был человек. Человек в такой высокой шляпе.
И он, наконец, отплыл в сон.
Интересно, подумал Мемфис, эти кошмары – не плата ли за то, что мальчик не использует свои таланты? Вся эта сила копится внутри, кипит, закупоренная, а ведь ей надо куда-то деваться. Октавия может сколько угодно думать, что это все дьявольские проделки, а отнюдь не божьи, но если есть на свете хоть какой-то бог, рассуждал Мемфис, c его стороны было бы крайне жестоко наделять людей такими дарами, а потом ждать, что они совсем не будут ими пользоваться. Людям надо быть теми, кто они есть. А если это так… почему бы Мемфису не воспользоваться снова своей целительной силой? Почему он так боится собственных возможностей?
Мемфису на самом деле нравилось исцелять. Нравилось, каким ореолом это облекает его в глазах жителей Гарлема; нравилось, как женщины в церкви восхваляют его, «божьего ангела», и подсовывают самый лучший кусок пирога на ужине после службы. Он купался в молчаливом одобрении мужчин, они кивали и хлопали его по спине, и говорили, какой прекрасный пример он подает остальной молодежи, и приглашали произнести благословение на всяких собраниях. И когда девушки дрались за право сидеть рядом с ним на занятиях по Библии или хлопали ресницами и спрашивали застенчиво, не могут ли они принести ему стакан воды – да, ему это тоже нравилось. Иногда он даже упражнялся в ванной перед зеркалом – репетировал победоносную улыбку и говорил себе со всей искренностью, какую только мог осилить:
– О, спасибо, сестра. Да благословит тебя Господь!
Одной только Октавии удавалось заставить его усомниться – тем, c каким прищуром она смотрела на него, когда, бывало, приходила шить с матерью вечерами.
– Пытаешься запечатлеть лик Мемфиса в памяти, сестра? – журила ее мама.
Они сидели на крыльце в летней ночи, полной звезд, пока весь квартал плясал, пел и хохотал, и вечеринка купалась в таком теплом, многообещающем свете, лившемся из окон домов из коричневого песчаника, выстроившихся вдоль всей Сто Сорок Пятой улицы.
– Просто приглядываю за ним, – отзывалась Октавия.
– Он мой ангел, – мама улыбалась ему, будто он был единственным мальчиком на всем белом свете.
– Иногда и ангелы падают с небес, – многозначительно замечала Октавия.
Улыбка пропадала с лица мамы.
– Господь сделал моего сына особенным, Тави. Ты ставишь под сомнение промысел Божий?
Октавия медленно поворачивалась к ней.
– Это с Господом ты заключила сделку, Виола? Или с кем-то другим?
Мамины глаза становились злыми.
– Может, тебе своих детей завести, Тави, чтобы ты про моих перестала болтать? – парировала она и уходила в дом, c силой хлопая за собой дверью.
– Гордыня всегда идет первой, следом за ней – падение, – шептала Октавия, не отрывая глаз от карнавального уличного буйства и пряча боль от слов сестры.
Рану эту, Мемфис знал, не исцелить даже ему.
Да, Мемфис был ужасно горд. И его падение – когда оно случилось – было не менее живописным, чем у самого Светоносца. От Гарлемского Целителя до сборщика нелегальных ставок и букмекера. Он потерял маму, отца, дом, свои целительные силы и веру с ними заодно. А сейчас эта самая целительная сила вдруг решила вернуться, и причины этого были ему совершенно непонятны. Но прежних ошибок он точно повторять не желал.
– Так-так-так. Попахивает свиданием, – прокомментировал Слепой Билл Джонсон со своего насеста на кушетке в гостиной.
– Добрый вечер, мистер Джонсон.
Мемфис был бы правда рад, если б ему нравился Слепой Билл. Старик здорово помогал с Исайей, встречал его из школы почти каждый день. Но вот то, как он сейчас восседал на драгоценной кушетке Октавии – как будто она лично ему, Биллу, принадлежала, – заставило его промолчать. Глядя на Билла, Мемфис почти различал того могучего парня, которым тот когда-то был. Эти ссутуленные плечи когда-то были широки и обвиты толстенными мускулами, а оплетенные венами ручищи до сих пор наверняка могли раздавить апельсин в кашу. Лет Биллу было, наверное, пятьдесят пять, может быть, шестьдесят, и в последнее время он казался как-то сильнее, бодрее – уж не внимание ли это Октавии, думал Мемфис, придавало ему этот моложавый лоск.
Тем временем и сама Октавия вошла в комнату, неся мясную запеканку на подносе. Она уложила волосы, хоть Биллу и было этого никак не увидеть, и надушилась «Шалимаром», который носила обычно только в церковь. Мемфиса она наградила поджатыми губами и скептическим взглядом.
– Ну, и куда это ты собрался, так вырядившись?
А ты, по-твоему, для кого так вырядилась, чуть не огрызнулся на это Мемфис, но, конечно, не огрызнулся.
– В кино с Альмой, – соврал он.
– Гм. Эта Альма до добра тебя не доведет, – начала было Октавия, и Мемфис уже понурился под гнетом грядущей проповеди, когда…
– Пршу прстить, мисс Октавия, – встрял внезапно Билл Джонсон. – Никто в целом свете не сумел бы воспитать этих мальчиков лучше, чем вы. Но ежели вы простите старику, что он тут мнения высказывает, так я вам скажу: молодому – молодое. Как ни попишешь, а надо ему быть мужчиной в этом мире, – сказал он с достаточной долей скромности, чтобы умиротворить Октавию.
– Вы только не подумайте, никакого неуважения причинить не хотел, мэм, – закончил он, улыбаясь и даже чуть-чуть кланяясь. – Я мальцу все-таки не родич.
Октавия устремила на Мемфиса взор, в котором проступило уже немного больше доброты.
– Надо думать, вы правы, мистер Джонсон.
– Билл, если позволите.
– Билл, – повторила Октавия, распушая перышки. – Ну, иди, Мемфис. Билл, разрешите, я вам принесу к этой мясной запеканке немного молока.
Октавия поплыла было к кухне, но на пороге развернулась и выпустила в Мемфиса последнюю стрелу, уставив для верности в середину мишени обвиняющий перст.
– У подножия креста надо жить, Мемфис Джон, и дела творить праведные!
– Да, мэм, – сказал Мемфис.
«Да, мэм»-кать своей тете ему совсем не хотелось, но он умел распознать отсрочку в исполнении приговора, столкнувшись с нею нос к носу. Решение было однозначно мудрое.
– Спасибо, мистер Джонсон, – тихонько сказал он, когда Октавия выплыла из комнаты.
По губам Билла будто нехотя расползлась улыбка.
– Все в порядке, сынок. Старый Билл всегда рад сделать другу добро. Никогда не знаешь, когда тебе вдруг понадобится ответная услуга, – сказал он и ухмыльнулся уже на полную катушку.
Смотри на свет
– Мемфис, куда ты меня ведешь? – поинтересовалась Тэта, когда, слоняясь по Форт-Вашингтон-парку, они внезапно искупались в водопаде сорванной ветром листвы с какого-то припоздавшего раздеться дерева.
– Уже почти пришли, детка. Обещаю!
Они почти весь вечер проплясали в «То что надо!», но Мемфису очень хотелось остаться наедине, так что он умыкнул Тэту прочь, обещая, что отведет ее на самый-самый верх. Спиртное их слегка расслабило, и теперь они счастливо хохотали, пиная кучи сухой листвы и неуклюже галопируя мимо ошарашенных прохожих и ворчливого старичья, шамкавшего им вслед, что в их время молодежь так себя не вела. В конце концов они вышли почти на границу парка, где аллея упиралась в широкую серую полосу, именовавшуюся Гудзоном, и в маленький красный маяк, взгромоздившийся на самый носик Манхэттена.
– Это что, сюда? – дыхание облачком выпорхнуло из уст Тэты.
– Я же обещал отвести тебя на самый верх. Просто так уж вышло, что я знаю волшебное слово, отпирающее эти двери.
Подойдя к двери, он вытащил из кармана гаечный ключ и принялся колотить по замку, пока тот не открылся.
– Я же говорил, я знаю волшебное слово, – c улыбкой сообщил он ей.
Он повел Тэту по узкой железной лестнице вверх, все кругом и кругом – а потом они очутились в верхней комнате маяка, той, что с фонарем. Тэта так и ахнула, когда увидала, как волны бьются о неровные берега острова, как вдали подмигивает Нью-Джерси, а между ними лежит темная река, время от времени подметаемая длинным хвостом дальнобойного фонаря. Обычный маяк и вправду казался отсюда самой вершиной мира.
– Говорят, они собираются построить здесь огромный мост, от Манхэттена аж до самого Нью-Джерси, – сказал Мемфис. – Так что нужно радоваться виду, пока он вообще есть.
Он встал позади Тэты и обвил ее руками, прислонившись щекою к щеке.
– Посмотри, какой свет, – сказал он, и они даже дыхание задержали, глядя, как слепящий луч посылает привет миру, уверенно ведя корабли вверх по реке.
На мгновение им показалось, что это они сияют с башни судам, что свет исходит от них двоих, уже добравшихся в безопасную гавань и способных теперь указать дорогу другим.
Реки могучей лента вьется в свет; Привет пой соловью, певцу сладчайшей ночи; Привет пой башне, что струит свой свет; Привет звездáм и деве, что о свете плачет.– Ух ты, прелесть какая. Кто это написал?
– Кажется, я. Хотя у меня там слишком много «света».
– Я даже не заметила, – призналась Тэта.
– Я сегодня послал несколько своих стихотворений в «Кризис», – сказал Мемфис, протягивая Тэте фляжку.
Она глотнула, поморщилась, когда алкоголь обжег ей горло, и вернула сосуд Мемфису.
– Что такое «Кризис»?
– Самый крутой журнал в Гарлеме. Его издает сам мистер Дюбуа. Там куча народу публиковалась – Лэнгстон Хьюз, Каунти Кален, Зора Нил Херстон.
– Мемфис Кэмпбелл, – c улыбкой подхватила Тэта.
– Быть может, – мечтательно сказал Мемфис, – быть может…
– Ты разузнал что-нибудь новое об этом странном глазе с молнией? – спросила она.
– Пока ничего. Клянусь тебе, я перерыл все книги, какие только смог найти о символах и глазах. Не знаю, откуда он взялся, но должен же у него быть хоть какой-то источник. Все где-то берет начало, а где-то – оно повсюду. Все на свете взаимосвязано, говорила моя мама, – процитировал Мемфис, подражая мягким музыкальным волнам маминого карибского произношения. – Я тебя отвезу когда-нибудь ко мне на родину, там-то ты все и поймешь. Ты сам увидишь нить, что тянется через океаны.
– Она тебя отвезла? – спросила Тэта.
Улыбка сбежала с лица Мемфиса.
– Не-а. Но она рассказывала нам с Исайей всякие сказки из гаитянской истории, и африканский фольклор тоже: про нашу семью, и откуда мы взялись, и как сюда попали. Про то, кто мы такие. У мамы были сказки на все случаи жизни.
Тэта подтянула коленки к груди и обняла их.
– Ты по ней скучаешь?
– Да, – сказал Мемфис, упорно глядя в темные холмы.
Он отпил из фляжки.
– Очень скучаю.
– У тебя и у самого сказок достаточно, – нежно сказала Тэта. – У меня таких нет. Нет сказки о том, кто я такая. Только смутные воспоминания и один-единственный сон – он и сам как воспоминание, но я все никак не могу его рассмотреть, будто он не дается.
– Расскажи хотя бы то, что рассмотрела. – Мемфис протянул ей фляжку, но она покачала головой.
– Там все бело… словно мили и мили снега. А в снегу – такие забавные красные цветы, они повсюду. Я слышу крики и конское ржание, потом вижу дым, а потом ничего. Я просыпаюсь, – она пожала плечами. – Вот и все мои сказки.
– Мы можем придумать нашу собственную сказку, – сказал Мемфис. – Мы с тобой.
Он целую неделю репетировал эту речь перед зеркалом в ванной, но сейчас все слова вдруг куда-то подевались. Поэтому он просто взял руки Тэты в свои, глядя, как по комнате катится свет.
– Тэта… – Он откашлялся, потом начал снова: – Тэта, я люблю тебя.
Ее улыбка исчезла. Она не ответила.
– Это совсем не тот ответ, на который я надеялся, – пошутил Мемфис, но в животе у него было туго, как в струнной коробке рояля.
– Эх, Поэт… Я… я просто этого не ждала.
– Тэта, – сказал Мемфис, – я чувствую, мне надо тебя предупредить. Примерно через пять секунд я тебе скажу, что люблю тебя. Вот. Теперь ты знаешь, чего ждать.
Улыбка все еще не возвращалась.
– Последний парень, который мне это говорил… короче, все пошло не так.
– Ну, я же не какой-то там последний парень. Я тот самый парень.
Есть вещи, которых ты обо мне не знаешь, хотела сказать Тэта. Из-за которых твои чувства могут ох как измениться. Вряд ли она сумеет вынести такое разочарование. Она прикусила губу. Пробежала пальцами по тыльной стороне его руки. Вот, можно так:
– Когда ты исцеляешь людей…
– Раньше исцелял. После Исайи даже не пытался.
– Хорошо, но когда ты раньше исцелял людей в церкви, ты мог исцелить кого угодно?
– Большинство, я так думаю. Я не смог помочь маме, – сказал Мемфис, и Тэта мягко пожала ему руку.
– А мог ты убрать что-нибудь из человека своей силой? – Она заглянула ему в глаза.
– Ты о чем?
Вот как ему сказать, не сказав при этом всего?
– Что, если в человеке есть нечто… в целом не болезнь, а больше похоже на… – Тэта попробовала подыскать верное слово, – на дурную пророческую силу. На то, что противоположно исцелению. Что может причинять людям вред.
Мемфис расхохотался.
– В «Чудо-миссии» я таких отродясь не встречал.
– Еще бы. Конечно, нет.
– Тэта, о чем вообще речь?
Тэта вымучила улыбку. Внутри же ее отнесло лишь еще дальше от берега. Кто станет любить такую, как она?
– Просто любопытствую, Поэт. Вот и все.
Ей нужно его оставить. Это будет благородно. Пока она не причинила ему боль.
Мемфис поцеловал ее в висок, тепло и нежно, и Тэта поняла, что благородства в ней нет ни на грош, потому что не было, ну, не было у нее сил вот так взять и бросить его.
– Я люблю тебя, – снова сказал он.
– Я тоже тебя люблю, – прошептала она.
– Ты только что сделала меня самым счастливым человеком во всем Гарлеме, – расплылся в улыбке он. – Теперь у тебя больше одной сказки, Принцесса. Этот маяк и этот момент – думаю, вот она, сказка о том, кто мы такие.
– Выходит, что так, – и да, она надеялась, что все будет хорошо.
И тогда Мемфис поцеловал ее, и она ответила. Поцелуй был теплый, он отправился странствовать по всему ее телу, и ей захотелось еще. Они сползли на пол фонарной комнаты. Мемфис навалился на нее – совсем легонько; она чувствовала его животом, и от этого у нее все внутри сделалось жидким. Тут, без предупреждения, мысли ее метнулись назад, к Рою. Это Рой сейчас был сверху, пригвождая ее к кровати там, далеко, в Канзасе. Незваное воспоминание пронеслось сквозь нее, как скоропостижная лихорадка. Ладони налились жаром, он потек в пальцы – инстинктом испуганного зверя, как будто в этот момент тело ее не могло разобрать, где Мемфис, а где Рой, где любовь, где насилие.
Перепуганная Тэта оттолкнула Мемфиса и резко села, хрипло и тяжело дыша. Руки она спешно засунула под бедра, чувствуя, как тепло постепенно отступает.
– Я что-то делаю не так, Принцесса? – спросил Мемфис, смущенный и озабоченный.
Тэта хватала ртом воздух.
– Нет. Нет, я просто… я хочу притормозить, Поэт.
– Конечно. Да. Мы можем быть сколь угодно медленными.
От его предупредительности Тэта чуть не расплакалась.
– Можно… можно мы просто полежим тут, рядом?
– Да, если ты хочешь.
И они улеглись рядышком на полу маяка, и Тэта положила голову Мемфису на грудь – туда, где ей было слышно, как колотится его сердце. Больше всего на свете ей сейчас хотелось продолжить его целовать. Но у себя в голове она слышала вопли Роя, видела витки черного дыма у него под пальцами, вцепившимися в лицо, видела, как комната одевается огнем.
– Все хорошо, Принцесса? – спросил Мемфис.
Просто скажи ему. Он не убежит – скажи ему… Скажи ему…
– А то. Все просто пухло, – сумела выдавить она.
Они лежали и смотрели, как яркий свет чертит над ними взад и вперед, обещая безопасность.
Луна пролилась сквозь тонкие шторы к Исайе в комнату. Полупроснувшись, он медленно вылез из кровати и двинулся к Мемфисову столу. Глаза у него в глазницах опрокинулись в черноту, рот уже шептал старые, очень старые слова. Он сгреб со стола карандаш и принялся рисовать.
А в задней комнате прокуренного игорного дома Слепой Билл торговался с двумя парнями, которые очень плохо переваривали попытки торговаться.
– Скажите мистеру Шульцу, что я ему добуду деньги. Я обещаю, – сказал им Билл.
– Мистер Шульц ожидает процентов. Или возьмет проценты другим, если ты понимаешь, что я хочу сказать, – сообщил один из парней и пнул Биллову трость – просто чтобы окончательно прояснить смысл сказанного.
– Да, сэр. Спасибо, сэр, – выпалил Билл и по дороге на выход добавил шепотом еще пару проклятий.
Это были плохие люди, но Билл встречал и похуже. Из тех, что оч-ч-чень хорошо платят за информацию о по-настоящему одаренных людях, если уж на то пошло.
Джерико, зевая, читал давний отчет о проведенном Уиллом расследовании случаев, когда пророки ощущали приближение опасности и предупреждали людей (предупреждениям, разумеется, по большей части никто не верил). Он выглянул из окна в озаренную неоном ночь и подумал о том, где, интересно, сейчас Эви… и думает ли она о нем… и выругал себя за то, что сам подумал об этом.
Где-то еще в городе одни представители золотой молодежи отплясывали под лихорадочный джаз по кабакам, в то время как другие ее представители уже тащились по домам просыпать джин. Они валились в постель, мурлыкая песенки, написанные, они были в этом уверены, вот прямо лично для них – песенки, которые они собирались так же счастливо напевать до конца своих дней. А потом они спали и смотрели сны – красавчики и душечки в объятиях друг друга. Каменщики и мостовщики, обитавшие в тени возведенных ими монументов чужому величию. Пришлые новички, чьи языки все еще сражались с текстурой английских слов. Мальчики со Среднего Запада, явившиеся в большой город сколотить себе капитал. Девочки-подростки в тесных квартирках, жаждущие почувствовать себя прекрасными, обожаемыми – хоть кем-то замеченными. Все они уходили все глубже и глубже в коридоры сна, следуя за песенкой музыкальной шкатулки и ничего так не желая, как влиться в мечту, которая звала их. Великое паломничество к кем-то обещанной земле.
Они слышали голос.
Посмотри со мной этот сон…
Некоторые говорили «нет». Они уплывали в другие, не такие сладкие сны, от которых пробуждались утром с ощущением серьезной утраты. Как будто им предложили целую гору счастья, а они взяли и всю ее промотали.
Зато другие говорили «да». Они бросались в погоню за ускользающими желаниями и не обращали никакого внимания на жуткие звуки в темноте… пока не понимали свою ошибку – конечно же, слишком поздно. Пути назад уже не было. Они спали и спали, пока от них не оставались одни лишь фантомы неутолимых желаний. Голодные призраки, все еще спящие, смотрящие сны.
В подвальном кабаке на Западной Двадцать Четвертой улице две флапперши спали, сложивши домиком головки с марсельской завивкой, затерявшись во сне.
А в пекарне «Везувий», что на Принц-стрит, на двери болталась табличка «ЗАКРЫТО», но даже крепкий, давнишний запах дрожжей и муки не мог пробудить троих парней в пекарских фартуках, распростершихся в деревянных креслах, раззявивших рты, – один даже с метлой после вечерней уборки не расстался.
Рядом с Бруклинским мостом на заднем сиденье автомобиля с затканными изморозью стеклами юной паре не дали нормально дотискаться. Теперь только глаза их метались, будто в лихорадке, за закрытыми веками, а сами дети спали, и спали, и спали и никак не могли остановиться.
На верхнем этаже пятиэтажного дома без лифта, всего через улицу от притона-соперника, один из наемных громил Счастливчика Лучано спал в обнимку со своим автоматом, в то время как предполагаемая цель удалилась себе спокойненько восвояси. Счастливчик, конечно, будет в бешенстве от проваленной работы, да только убийце это уже все равно, потому как проснуться ему не светит.
Глубоко под городом длинные железные змеи поездов тарахтели по темным тоннелям, пока автомобиль сестры Уокер громыхал к не менее темному горизонту по изрытым глинистыми колеями дорогам Коннектикута. Они проехали уже немало миль, вынюхивая, выискивая следы. Серые полотнища созвездий распростерлись над спящими городами и тихими фермами, которые они проезжали.
– Вот они мы, совсем как в старые добрые времена, – пробормотала сестра Уокер.
Фары отразились в глазах кролика, проскочившего в зарослях зимней жухлой травы. Уилл не снимал рук с папки газетных вырезок у себя на коленях.
– Не то чтобы совсем, – сказал он после долгого молчания, не сводя глаз с убегающей вперед дороги.
Другая страна
Прежде чем лечь спать, Лин завела будильник, прочла молитвы, зажгла благовония и сунула себе под подушку Джорджеву беговую медаль – да еще руку на нее сверху положила в надежде, что так ей будет проще найти его в сонном мире. Глядя на мерно бегущую секундную стрелку часов, она соскользнула в гипнотический транс – и пробудилась мгновение спустя во сне, хватая ртом воздух. Генри уже был там, он согнулся пополам и тяжело дышал.
– Счастлив тебя видеть.
– С тобой все в порядке? – осведомилась Лин.
– Абсолютно. Просто дай мне минутку отдышаться. Я… не привык так часто ходить по снам. Сейчас меня перестанет мутить и…
– Ты что, не носишь с собой жад?
– Да я и так в полной зад…
– Идиот! – Лин закатила глаза. – Жад, нефрит – это камень такой. Найди и носи с собой. Мне помогает.
Пока Генри восстанавливал дыхание, Лин поискала кругом хоть какой-то намек на Джорджа, но его нигде не было видно.
– Джордж? – прошептала она. – Джордж Хуань? Ты тут?
– Ты чего делаешь? – спросил, подходя к ней поближе, Генри.
– Ничего, – Лин быстро повернулась к нему. – Показалось, я увидела друга. Но я ошиблась.
Туман сполз с улиц старого, скученного, перепутанного города снов, и знакомые сцены заиграли с механическим однообразием: дерущиеся гуляки вываливаются из дверей кабака; дети, вопя, гонятся за катящимся обручем; призрачный трамвай цокает мимо, и вожатый кричит: «Внимание, внимание, Райская площадь!»
– Ха. Картинка в точности та же, – прокомментировал Генри.
– И что с того?
– Ну, это же любопытно, разве нет? У меня бывали раньше повторяющиеся сны, но в них все равно каждый раз было что-то не то, что-то новое. У пугала на поле – другая шляпа, или в доме, которому полагается быть твоим, – вдруг незнакомые комнаты. А тут каждый раз одна и та же цепочка событий и в том же самом порядке. Если я прав, через секунду начнутся фейерверки… вон там!
Генри ткнул пальцем, и небо тут же услужливо расцвело вспышками света.
– Видишь? А теперь… – Генри взмахнул руками, как заправский фокусник, – человека в жилете, пожалуйста!
Словно бывалый актер водевиля, чтущий команду «Ваш выход!», искомый джентльмен явился, слегка нечеткий из-за тумана.
– Леди и джентльмены! Все сюда! Приглашаю вас на прогулку на пневматическом поезде Альфреда Бича. Узрите чудо собственными глазами и удивитесь! Перед вами будущее пассажирского транспорта – прямо у вас под ногами, под этими самыми улицами!
– Похоже, что тут у нас время застряло и ходит по кругу – по какой-то своей причине, – сказал Генри.
Пронзительный крик прозвенел сквозь туманный город, и сразу же вслед за ним…
– Убийство! Убийство! О, убийство!
Генри и Лин прижались друг к другу.
– А… вот… и… она, – возвестил Генри.
Точно по расписанию призрачная женщина под вуалью, в испачканном кровью платье вынырнула из пелены, промчалась мимо них и исчезла в стене магазина готового платья Девлина. Мерцающий портал открылся.
– Бежим! – крикнул Генри, и они с Лин устремились вниз по ступенькам в темное подземелье сна.
Пока они ждали на платформе, Генри рассказал, что с ним случилось после того, как они расстались в прошлый раз, как он нашел хижину и Луи.
– А c тобой-то что было? – спросил он, усаживаясь за старый «Чикеринг» и снова, как в первый раз, дивясь, что вот, надо же, он и во сне может играть на пианино.
– Я тогда встретила еще одну путешественницу по снам. Ее зовут Вай-Мэй, – сказала Лин. – Слишком много болтает. Даже больше тебя.
Генри улыбнулся в ответ на ее колкость.
– Так, значит, нас тут трое? Тесновато становится в этом нашем мире сновидений, а? Но скажи мне, мисс Чань, – из невнятного перебора начала вырисовываться мелодия, – чем ты занимаешься, когда не беседуешь с мертвыми и не провожаешь беспутных музыкантов на подземные станции, где останавливаются волшебные поезда?
– Помогаю родителям в ресторане, – сказала она, усаживаясь на бортик фонтана, чтобы полюбоваться на плещущихся в нем золотых рыбок. – Но я хочу поступить в колледж и заниматься наукой.
– Ага. Та стопка книг, что была у тебя с собой.
– Помню, как я в первый раз прочла об экспериментах Джека Марлоу с атомом. Я подумала, что это мечта.
– Еще бы, – равнодушно отозвался Генри.
Лин поболтала рукой в прохладной воде фонтана.
– Вот что такое эти дискретные частицы энергии, которые мы видим в снах? Или когда я разговариваю с мертвыми – откуда они приходят? И куда уходят потом? Можем ли мы менять свои сны? Я тут повсюду чувствую энергию ци. Если бы я могла понять эту силу, возможно, я бы сумела превратить ее в научное открытие там, в физическом мире.
– Иногда мне удается изменить то, что снится другим, – заметил Генри.
Лин стремительно повернулась к нему.
– Правда? Как? Каким образом?
– Ой, да не волнуйся ты так. Я не могу менять сон напрямую – только делать спящему что-то вроде внушения.
– А. И это все? – Лин сунула руку обратно в фонтан и улыбнулась, когда рыбка принялась пощипывать ее за кончики пальцев.
– Я, между прочим, оскорблен, – протянул Генри. – И, между прочим, это может быть полезно. Если человеку снится что-то скверное, я могу помочь ему выбраться – сказать что-нибудь типа, почему бы нам не посмотреть сон про что-нибудь поприятнее? Про щенят, или про воздушные шары, или про шляпу-цилиндр…
– Про цилиндр? Кто захочет смотреть сон про шляпу-цилиндр!
– Откуда тебе знать? Может, кому-то нравятся официальные сны, – сказал Генри, улыбаясь. – В общем, я просто предлагаю что-то другое, и подчас этого вполне достаточно, чтобы вытащить человека из кошмара.
Он заиграл снова, уже другую мелодию.
– Тебе было страшно, когда ты в первый раз вошла в сон?
– Немножко. Я не понимала, что со мной происходит. Подумала, что вдруг я умерла и теперь проснулась по ту сторону жизни.
– …и пожалела, что не надела цилиндр.
Эту остроту Лин проигнорировала.
– А у тебя как было в первый раз?
– Я решил, что сошел с ума. Как мама.
– Твоя мама сумасшедшая?
Генри пожал плечами.
– Ты хочешь мне сказать, что это не совсем нормально, когда твоя мама день-деньской сидит на фамильном кладбище и разговаривает со статуями святых? Да откуда вам знать, мисс Чань? Дюбуа – крайне респектабельная семья!
– Она всегда была сумасшедшая?
– Нет. Иногда просто на всех обиженная.
– Не смешно.
– Еще как смешно. Ужасно смешно, просто ужасно, – сказал Генри.
Он привык толкать эту историю пресыщенной клубной публике. Ей вечно надо, чтобы все было легко и весело, чтоб никакие лишние сантименты не заставляли их притворяться, что им не все равно. C годами Генри довел этот номер прямо-таки до совершенства.
– Мои родители? – вещал он с крутящейся табуретки у рояля. – Трагическая история, знаете ли, просто трагическая. Они были цирковыми артистами, и их съели собственные тигры – прямо после бесподобного номера под названием «Завали его!». Бедные маман и папá! Ушли с ревом и отрыжкой, даже куплет не допели.
Однако притворяться тут, c Лин, в глубине сна, где все, что ты прятал внутри, могло вдруг и без предупреждения объявиться снаружи, было уже как-то совсем глупо. Врать о своих чувствах, натягивать счастливую маску – на это уходило колоссальное количество сил.
– Мама пыталась убить себя, – пальцы его продолжали порхать по клавишам, пробуя то один аккорд, то другой. – Она отослала всех слуг в город, нашла папину бритву, залезла в ванну и перерезала себе вены на запястьях. Да только забыла, что я дома. Я нашел ее. Там повсюду была кровь; я поскользнулся и упал прямо в нее.
– Ужас какой, – сказала Лин, когда снова смогла говорить.
– Еще бы не ужас. Мне эти брюки очень нравились.
– Отец наверняка был очень благодарен, что ты ее нашел.
Генри насупился.
– Отец никогда не ставил мое имя и слово «спасибо» в одну фразу.
Он глянул на Лин, собираясь отпустить очередную уклончивую остроту. Она смотрела на него. Действительно смотрела. Ему от этого стало неудобно.
– У меня что, вторая голова в этом сне отросла? Только честно. Я смогу это вынести.
– У твой семьи есть собственное кладбище? Да вы, небось, важные шишки.
Генри расхохотался.
– О, да, дорогуша! Просто слов нет, какие важные, – он сыграл джазовую фразочку. – У нас даже склеп семейный есть! Со всякой бредовой латынью! Поколения и поколения буржуа с гордой фамилией Дюбуа поданы на стол червям!
Лин позволила себе улыбнуться, но тут же снова стала серьезной.
– Поколения… Выходит, твоя семья тут уже давно. Мои родители прорывались сюда с боями. А своих бабушек и дедушек я даже никогда не видела. Как ты набрался смелости уйти из дому?
Генри-то считал себя за это трусом. Так странно, когда Лин называет это храбростью.
– Отец ужасно разозлился на меня за дружбу с Луи.
– Почему?
– Он решил, что она… – Генри честно попробовал подыскать верное слово, – нездоровая.
Он так и чувствовал, что у Лин уже вертится на языке следующий вопрос, на который он пока был совсем не готов отвечать, и поэтому заторопился.
– И музыку мою он тоже не одобрял, и запретил мне делать то, что я больше всего хотел. Старик думал, что я должен стать юристом. Можешь представить меня юристом?
– Из тебя вышел бы крайне скверный юрист. Прямо-таки ужасный.
– Ну, спасибо тебе за веру в меня, – ухмыльнулся Генри.
– У-жас-ный! – c нажимом повторила Лин.
– Да, полагаю, этот вопрос уже получил исчерпывающее освещение. В общем, когда он решил отослать меня в военную школу, я собрал вещички да и был таков. Ты, наверное, думаешь, что я неблагодарный сын.
– Вовсе нет, – подумав, сказала Лин. – Но я сама никогда бы не смогла бросить родителей.
Генри попробовал себе представить дочерний долг, связывавший Лин. Своих родителей он в лучшем случае ощущал как крест, который хочешь не хочешь, а надо нести. Всякий раз, как при нем кто-то заводил речь о «семье» как о чем-то особенном, о чувстве принадлежности, глухой гнев закипал у него внутри, как будто его злонамеренно обманули, нарочно лишив этого утешения. Генри сам устроил себе семью – c Тэтой, c друзьями по барам и за кулисами ревю. Он воображал, как однажды услышит, что родители умерли, и ощутит лишь смутный, едва различимый укол утраты. Разве можно оплакивать тех, кого у тебя по-настоящему никогда не было?
– Да, – сказал он слегка тоскливо. – Должно быть, это здорово, когда тебя настолько любят.
– Надо думать, да, – отозвалась Лин, позволяя теме наконец сойти на нет.
К ее удивлению, Лин понравилось разговаривать с Генри, особенно про сны. Да, на ее вкус, он слишком много шутил, зато был легкий и расслабленный, словно небыстрая речка, которая мягко несла ее куда-то вперед.
На мгновение она даже подумала, не рассказать ли ему про свой план найти Джорджа, но потом решила, что лучше будет промолчать. В конце концов, это ее дело, а не его.
– Ты спросил, боялась ли я, когда первый раз вошла в сон, – негромко промолвила она. – Но на самом деле я больше всего боюсь, что не смогу этого сделать. Тут я совершенно свободна. Могу быть собой, могу делать все, что захочу.
– Я понимаю, о чем ты, – кивнул Генри. – Когда я тут, я могу одним словом помочь тому, кто видит что-то гадкое, дать ему сон получше. Я могу действительно что-то сделать. А в том, неспящем мире, не в состоянии даже опубликовать свои песни.
– Ты уверен, что сделал для этого все возможное?
Генри удивленно вздернул брови.
– Да ты, сдается мне, самая грубая особа, какую я в жизни встречал. Я, между прочим, в шоу-бизнесе работаю, это должно о чем-то говорить.
– Отлично. Я буду жюри. Сыграй мне какую-нибудь песню, – заявила Лин.
– Ну вот, помоги мне, боже, – вздохнул Генри.
Он сыграл Лин один номер, забавную песенку, под которую любили отплясывать хористки после репетиции.
– Ну, как? – спросил он. – Понравилось?
Лин пожала плечами.
– Нормально. Песенка как песенка.
– Ох, – сказал Генри.
– Ты сам спросил.
– Они, судя по всему, собираются взять одну мою песню в ревю.
– Тогда какое тебе дело, что думаю я?
– Такое, что… – начал Генри и замялся.
Дело было не в Лин. Просто в самой песне было что-то такое, что его категорически не устраивало… но он больше не мог уловить, что именно. Он так долго пытался сделать других счастливыми своей музыкой, что куда-то задевал свой внутренний компас.
– Ну, на тебе тогда другую. Специально для тебя, только что написал, – сказал Генри и разразился разухабистым регтаймом.
Хочу я погуля-я-ять с мисс Ча-а-а-ань…– Кошмар.
Еще кружок, еще, вокруг поля-я-я-яны, в полодиннадцатого…– Тупо и кошмарно.
Пока-пока! Увидимся! Если хочешь! Милая! Мисс! Ча-а-а-ань!Свет вдруг яростно подмигнул. Откуда-то пришел странный, булькающий, тонкий вой, словно от дальнего роя цикад. Генри аж из-за рояля выскочил.
– Говорила я тебе, это плохая песня, – проворчала Лин; сердце у нее ужасно заколотилось.
Но тут в тоннеле вспыхнула фара поезда, озарила платформу; состав остановился. Двери разъехались, и Генри с Лин поспешно забрались внутрь.
Мы все здесь сделаем прекрасным
Вай-Мэй уже ждала их в лесу. При виде Лин она широко улыбнулась.
– Ты вернулась! Я знала, что так и будет!
– Вай-Мэй, это Генри, другой сновидец, про которого я тебе говорила, – сказала Лин, кивая на него. – Генри, это Вай-Мэй.
Генри любезно поклонился.
– Счастлив познакомиться с вами, мисс Вай-Мэй.
– А он очень красивый, Лин. Из него получится хороший муж, – поделилась Вай-Мэй тем, что у нее, видимо, сходило за шепот, но на деле отнюдь им не было.
Лин почувствовала, как лицу стало очень горячо.
Генри поспешно откашлялся и сообщил с формальным поклоном:
– Если вы, леди, будете так добры извинить меня, мне пора вас покинуть. У меня назначена встреча с другом. Приятных вам сновидений!
И, развернувшись, он зашагал по тропинке прочь и вскоре скрылся в тумане.
– А у меня для тебя сюрприз, – объявила Вай-Мэй.
– Терпеть не могу сюрпризы, – сказала Лин.
– Этот тебе точно понравится!
– Все так говорят.
– Пошли, сестренка, – и Вай-Мэй взяла ее за ручку, совсем как те школьницы, что, болтая и смеясь, дефилировали мимо витрины «Чайного дома».
Лин одеревенела.
Она никогда не была любительницей похихикать или пообниматься. И вообще не по части всех этих девчачьих штучек.
– Ох, и неласковая же ты, девочка моя, – обычно говаривала мама с тусклой улыбкой, и Лин все не могла избавиться от ощущения, что расстраивает родительницу.
Ну да, атомы, молекулы и всякие странные идеи ей милей, чем обнимашки и ленты в косы. Маме наверняка бы понравилась Вай-Мэй.
…рот которой на всем протяжении пути не закрывался ни на минуту.
– …и ты можешь быть Му Гуйлин, которая взяла штурмом Небесные Врата. А я буду прекрасной и возлюбленной Лян Хунгуэй, идеальной женой Хань Шичжуна – это который генерал. Она помогала вести армию против чжурчжэней и была похоронена с величайшими почестями – самые достойные похороны, какие пристали благородной даме Ян…
Все ее истории, видите ли, были сугубо романтического толка. Так, значит, ты одна из них, думала Лин. Из девочек, для которых мир – одни сплошные сердечки и розочки да благородные самопожертвования.
Вай-Мэй меж тем вела ее все глубже в лес, болтая попутно об опере, и Лин не могла не заметить, что пейзаж сна стал… куда богаче, чем прошлой ночью. Грубые наброски деревьев обросли пышными деталями. Лин провела ладонью по бугристой коре: та оказалась на диво шершавой, и Лин не смогла отказать себе в том, чтобы потрогать ее еще и еще. Она улыбнулась. Пучок сосновых иголок заманчиво свисал с ветки: Лин потянула, и пригоршня хвои осталась у нее в руке. Она поднесла их к носу, понюхала, проверила пальцы. Так, – отметила она про себя, – ни смолы, ни запаха.
– Мы почти пришли, – прощебетала Вай-Мэй. – Закрой глаза, Маленький Воин!
Она так настаивала, что Лин пришлось подчиниться.
– Теперь открывай!
Лин ахнула. Золотой свет лился сквозь прорехи в гряде серых деревьев. Там и сям розовели цветы. Красные шляпки грибов мясисто выглядывали из-за поросших травой кочек, усеявших зеленый луг, пестреющий дикими цветами. Вдалеке покатые силуэты пурпурных гор, испещренных розовыми отблесками, возвышались над старомодной китайской деревней с изогнутыми, будто губы в улыбке, черепичными крышами. Бог ты мой, сколько красок! Ничего красивее Лин во сне не видала – пейзаж затмил даже станцию, откуда они сюда приехали.
– Где мы? Чей это сон? – спросила она.
– Ничей – кроме нас, – отвечала Вай-Мэй. – Это наш личный мир во сне. Наше царство.
– Но должен же он был откуда-то взяться.
– Да, – Вай-Мэй с улыбкой постучала себя по лбу. – Вот отсюда. Я сама сделала его. Совсем как те туфли.
– Вот все это? – ахнула Лин.
Та кивнула.
Лин даже представить себе не могла, сколько на это ушло времени и сил. Это ведь не какое-нибудь там превращение – это настоящее творение.
– В этом месте есть что-то волшебное. Мы с тобой сможем создавать новые сны. Мы все здесь сделаем прекрасным. – Вай-Мэй прикусила губу. – Ну, что, хочешь поучиться?
– Показывай, – сказала Лин. – Показывай все!
Вай-Мэй зашагала к тщедушному, полуофомленному деревцу на вершине холма.
– Вот. Смотри.
Она пропустила пальцы сквозь тонкую листву, взялась покрепче, закрыла глаза, сосредоточилась. Кора потекла, как расплавленный свечной воск, и ствол, застонав, прянул ввысь на несколько футов. Массивные ветки выстрелили во всех направлениях и немедленно покрылись бело-розовыми цветами.
Вай-Мэй отшатнулась, резко выдохнув.
– Ну вот, – сказала она, вытирая рукой взмокший лоб.
На девушек дождем заструились цветы. Один запутался в волосах Лин. Она вытащила его, потерла меж пальцев бархатистые лепестки, ощущая в сердцевине что-то древнее, изначальное, какую-то электрическую связь со всем сущим. Будь она настоящим ученым, она бы сейчас закричала что-нибудь типа «ага!», или «эврика!», или даже «вот ведь черт!», но только никакие слова на свете не могли выразить магию этого мгновения.
– Теперь твоя очередь. – Вай-Мэй скособочила рот, задумчиво прикусив щеку изнутри. – Нам понадобятся зрительские места для нашей оперы. Вот, попробуй для начала превратить этот камень в стул.
С тем же успехом она могла попросить Лин снять с неба луну и положить под стекло.
– Но как?
– Начни с того, что положи руки на камень.
Лин сделала, как ей сказали. Камень оказался холодный и безучастный, как глина, ждущая прикосновения скульпторских рук.
– Думай только про стул, не про камень. Увидь его у себя в голове. Как во сне. Получается?
– Ага.
– И на что он похож?
– Это красный с золотом трон, под стать жене императора.
– Мне не терпится на него сесть! – воскликнула Вай-Мэй. – Теперь смотри на стул и сосредоточься.
Лин стала изо всех сил думать о троне, но чем больше она старалась, тем больше подлая мебель расплывалась. Давай, думала она, превращайся, и даже просто в стул. Но камень упорно оставался камнем. В конце концов Лин повалилась на траву, изможденная и злая.
– Я не могу этого сделать.
– Нет, можешь.
– Да не могу же!
Она кое-как заставила себя встать и двинулась назад, к лесу.
Голос Вай-Мэй позади прозвучал с холодной стальной уверенностью.
– Маленький Воин, ты можешь это сделать. Я верю, что можешь.
– Только то, что ты веришь, еще не значит, что так оно и будет, – огрызнулась Лин, стыдясь своей вспышки, но уже не способная ее остановить.
Вай-Мэй подошла к ней и протянула поеденный гусеницами одуванчик.
– На. Давай попробуем что-нибудь поменьше. Преврати это в цикаду.
Лин посмотрела на одуванчик, потом посмотрела на огромное цветущее кизиловое дерево, которое сумела создать Вай-Мэй.
– Я безнадежна, – проворчала она, но одуванчик все равно взяла.
– Сосредоточься. Ты слишком напрягаешься. Слишком пытаешься все контролировать.
– Да не пытаюсь я!
– Еще как пытаешься. Дай ему стать чем-то другим. Ощути, как ци с легкостью течет сквозь тебя – как воздух, когда ты дышишь. Представь, как одуванчик меняется изнутри.
– Атомы… – пробормотала Лин.
Лин вдохнула поглубже и потом выдохнула. Потом еще раз и еще, и на третий раз ощутила легкий трепет в кончиках пальцев, сгустившийся в более крепкий гудящий поток, который побежал вверх по руке, в шею и дальше, до самой макушки.
Испугавшись, Лин уронила цветок. Тот у нее на глазах заметался между двумя состояниями, растения и насекомого, но потом успокоился обратно в растении.
– У меня почти получилось! – воскликнула пораженная Лин. – Он начал меняться!
– Вот видишь! – заулыбалась Вай-Мэй. – Мы прямо как Паньгу, творим небо и землю, но только лучше – потому что мы можем сделать их такими, как хотим. Мои силы прибывают каждую ночь, что я сюда прихожу. Возможно, если ты придешь завтра и будешь приходить потом еще и еще, твои силы тоже вырастут.
– А ты можешь приносить сюда предметы из физического мира? – ударилась в расспросы Лин. – А выносить отсюда что-нибудь наружу? Ты замечала что-нибудь интересное во время трансформации: ну, запах там или изменение температуры? Какие еще эксперименты ты делала?
– Разве тебе недостаточно, что этот мир вообще существует? Что здесь мы можем быть чем угодно, и даже тем, чем нельзя быть в дневном мире?
– Нет, – честно призналась Лин. – Я хочу знать, как оно все работает.
– А я хочу просто быть счастливой.
Три стремительных вспышки просверкнули через все небо. Еще одна, поменьше, чиркнула по верхушкам деревьев, почему-то лишив листья цвета. Лин услыхала все тот же тонкий вой, от которого у нее мурашки побежали по коже – совсем как тогда, на станции. Вой перешел в предсмертный стон, потом стих.
– Это еще что такое? – спросила Лин.
– Понятия не имею. Наверное, птицы, – предположила Вай-Мэй.
– На птиц не похоже. Идем. Я хочу выяснить. Откуда взялся этот звук.
– Погоди! Ты куда, Маленький Воин? – заныла Вай-Мэй, поспешая за мчащейся сквозь лес Лин, выглядывающей меж деревьев источник света и звука.
У жерла тоннеля Лин остановилась. Тьма в нем будто вся шла световыми трещинами.
– Оно идет оттуда.
Лин шагнула вперед. Вай-Мэй ухватила ее за руку. Глаза ее стали огромными от ужаса.
– Не ходи туда!
– Почему нет?
– Эта часть сна опасна!
– Ты о чем?
– Ты разве не чувствуешь? – Вай-Мэй сделала шаг назад, вся дрожа. – Призраки!
– Я говорила с десятками призраков во время своих путешествий. Ничего в них страшного нет.
– Нет, ты ошибаешься, – Вай-Мэй наставила палец на тьму в тоннеле, словно его туда тянуло. – Иногда я чувствую его… ее. Это она… и она плачет.
– Почему?
– Нарушенная клятва. Очень скверная смерть, – прошептала Вай-Мэй, не в силах отвести глаз от тьмы.
Наконец, она с дрожью отвернулась оттуда и охватила себя руками.
– Это злое место, я боюсь его. Если мы не тронем ее, она не тронет нас.
– Но вдруг я могу помочь?
Вай-Мэй яростно затрясла головой.
– Нам нужно держаться оттуда подальше. Обещай мне, Маленький Воин! Обещай, что ты туда не пойдешь! И Генри тоже предупреди.
Еще одна, последняя вспышка промелькнула, как умирающий светляк, и тоннель затих. Вай-Мэй потянула Лин за рукав, уводя ее прочь.
– Идем, Маленький Воин. Пусть призраки покоятся с миром.
Стоило им очутиться снова на лесной тропинке, и прежние страхи, кажется, оставили Вай-Мэй; девушка благополучно вернулась в свою обычную болтливую ипостась. Лин, однако, униматься и не думала.
– Вай-Мэй, – начала она, – ты на корабле слышала что-нибудь про сонную болезнь в Чайнатауне?
Та нахмурилась.
– Нет. Это серьезно?
Лин кивнула.
– Люди идут спать, а потом не могут проснуться. И умирают от этого.
Она набрала воздуху в грудь.
– Мой друг, Джордж Хуань, тоже заболел. Его сестра дала мне медаль за соревнования по бегу, которую он выиграл, – в надежде, что я смогу отыскать его сегодня в мире снов.
– Думаешь, это разумно? Он все-таки болен…
– Я должна была попытаться. К сожалению, мне не повезло. Что бы ему сейчас ни снилось, я туда проникнуть не могу. Ты в последнее время не сталкивалась с таким, что идешь ты себе по сну, идешь и понимаешь, что тот, кому сон принадлежит, чем-то болен?
– Нет. Мои сны все были красивые. Но я буду молиться за твоего друга, Джорджа Хуаня.
Вай-Мэй поглядела на Лин, застенчиво и искоса.
– Мы же с тобой теперь тоже уже почти подруги, правда?
Лин совсем не была уверена, что человека, c которым общаешься исключительно во сне, можно считать настоящим другом. Но Вай-Мэй как раз ехала в Нью-Йорк, и на мгновение Лин не без удовольствия представила себе, как будет здорово продефилировать мимо Ли Фань и Грейси под ручку с Вай-Мэй, зная, что у вас есть секрет, один на двоих и совершенно невероятный, такой, что этим ограниченным девицам ну никак не понять.
– Да, – сказала она, подумав, – видимо, да.
– Я так счастлива! – Вай-Мэй так и просияла. – Чем бы ты хотела заняться сейчас, подруга?
Лин полной грудью вдохнула широкие сверкающие деревенские улицы, и туманный лес, и пурпурные горы вдалеке за всем этим. Они ждали ее – только приди, только возьми! – как будто теперь можно все, как будто нет больше никаких пределов. Ей захотелось побыть свободной – хоть совсем ненадолго, пусть!
– Бежим! – сказала она.
Генри почуял гардению и дровяной дым, потом услышал, как лает Гаспар, – а потом побежал, и бежал со всех ног до самого конца тропинки. Щепки золотого летнего солнца там и сям протыкали пухлую белую плоть облаков над рекой и отсветами ложились на Луи, который махал ему с крыльца, балансируя на плече длинную удочку. У его ног вертел хвостом Гаспар.
– Анри! Скорее сюда! Рыба клюет!
Старая синяя лодочка покачивалась на волнах. Вторая удочка прислонилась к борту рядом с мятым ведром, повязанным толстой веревкой. Генри сел с одного конца, Луи с другого, напротив, и погреб вниз по течению. Они нашли тенистую заводь и забросили удочки.
– Совсем как в прежние времена, – сказал Генри.
Лодку тихонько покачивало течением, пока он рассказывал Луи про Тэту и про их жизнь в «Беннингтоне», про ревю Зигфельда, про песни, которые он пишет и пытается опубликовать, про ночные клубы и вечеринки.
– Наверняка ты нашел себе славного нью-йоркского парнишку, – сказал Луи, не отрывая глаз от удочки.
Конечно, другие мальчики у него были, куда же без них… Но никто из них не был Луи.
– Я хочу увидеть тебя наяву, – сказал Генри. – Приезжай в Нью-Йорк. Он тебе понравится! Я отведу тебя на ревю и в гарлемские джаз-клубы. И, Луи, там есть места для таких, как мы! Там нам можно быть вместе, держаться за руки, целоваться – не прячась! Это тебе не Луизиана!
– Всегда хотел посмотреть на большой город. Это правда, что у них аллигаторы в канализации живут?
– Пока ни одного не видел, – расхохотался Генри. – Но всякая шикарная публика на вечеринках носит сумочки из аллигаторской кожи.
– Я точно хочу на это посмотреть.
Улыбка Генри погасла.
– Но куда мне послать билет на поезд? Если мои письма не нашли тебя в «Селесте», где гарантия, что хоть кому-то можно доверять?
Луи поскреб подбородок, задумался.
– У меня есть кузен, Джонни Бабино, работает в почтовой конторе на Лафайет-Сквер. Пошли ему туда, до востребования.
– Куплю билет завтра же, первым делом! – Слезы кинулись Генри в глаза. – Я так боялся, что больше тебя никогда не увижу.
– Выходит, теперь тебе придется найти какой-нибудь новый страх, – сказал Луи.
Больше всего на свете Генри хотелось его обнять. Два года – это все-таки очень много. Даже минута врозь представлялась ему совершенно невыносимой. Он протянул руку к Луи… и на сей раз ничто не встало между ними. Пальцы Луи – как долго Генри не чувствовал их! – все еще были холодные и мокрые после реки. Борясь с набухшим в горле комом, Генри пробежал по его щеке, по носу и остановился на губах, о, таких полных…
– Поцелуй меня, cher! – прошептал Луи.
Генри наклонился и поцеловал. Губы были мягкие и теплые. Это не реально, это всего лишь сон, всю дорогу твердил себе Генри – но тут он твердить перестал. Все было очень реально. Что ж, если сны умеют быть такими, он не уверен, что так уж хочет проснуться. Генри снова поцеловал Луи, на сей раз сильнее, и тут небо над ними озарилось какой-то странной молнией. Верхушки деревьев зашептались, солнце мигнуло, будто лампочка во время перебоев с электричеством.
– Что это такое? – Генри мигом вынырнул на поверхность.
– Не знаю. Ты же у нас специалист по снам, – сказал Луи.
А в следующий миг он уже увлекал Генри вниз, на дно лодки, где они вытянулись в объятиях друг друга, убаюканные до совершенного довольства и неги солнцем, и ветерком, и ласковым лепетом волн.
– Я больше никогда тебя не покину, Луи, – сказал Генри.
Когда путешествие стало клониться к концу, Генри едва сумел встать, чтобы как-то оторваться от возлюбленного.
– Я буду приходить каждую ночь, пока не увижу тебя наяву в Нью-Йорке, – пообещал он.
Гаспар снова радостно разгавкался и кинулся к нему, отчаянно махая хвостом на манер мухобойки и тычась мокрым носом в ладонь. Генри потрепал его лопушистые уши – такие знакомо мягкие! Быстрый язык обслюнявил ему щеку.
– Тебя всякий хочет поцеловать! – расхохотался Луи, и у Генри снова перехватило горло.
Наверное, так чувствует себя Луи, когда ему снится погибший пес.
Гаспар наконец оторвался от него и умчался вперед по тропинке, чертя носом по самой земле. Возле целой стены цветущего вьюнка-ипомеи он сделал стойку, зарычал, залаял на пурпурные бутоны.
– Гаспар! Ко мне, мальчик! Отойди оттуда сейчас же! – резко приказал Леи.
– Что такое? В чем дело? – не понял Генри.
– Не хочу, чтобы он лез в те цветы, – сказал Луи. – Не нравятся они мне.
Генри подумал, уж не шутит ли, чего доброго, Луи, но одного взгляда на его лицо вполне хватило.
– Это же просто цветы.
– Гаспар, ко мне, малыш! – Луи свистнул, и пес бегом примчался к нему.
Луи рухнул на колени и зарылся носом ему в шерсть.
– Хороший мальчик! Хороший!
– Ты уверен, что с тобой все в порядке? – тревожно поинтересовался Генри.
Луи быстро сменил тень на свет.
– Ясен, как белый день! Поцелуй меня разок на удачу, cher. И дважды – на любовь. А трижды – чтобы мы встретились снова.
Генри целовал его, пока не сбился со счета.
А Лин у себя в кровати застонала от боли и усталости. Глаза никак не желали открываться – достаточно долго, чтобы успеть почувствовать, как невыносимо ноют кости. Она сунула руку под подушку и не успела коснуться холодного края Джорджевой медали, как уже провалилась в глубокий сон.
Она стояла в Коламбус-парке. Облака сердито ворочались над головой, предвкушая грозу. Сердце грохотало прямо в ушах, настойчиво, что твой барабан.
Каждый столб, каждое дерево в пределах видимости пестрело одним и тем же объявлением: РАЗЫСКИВАЕТСЯ, РАЗЫСКИВАЕТСЯ…
Джордж Хуань бился во мраке призрачным пульсом. Его бледная кожа вся пошла трещинами, как разбитая и склеенная обратно ваза; багровые пузыри только что не светились на шее. Он поднял истощенную руку: кости проступили под кожей, как на рентгене. Джордж раскинул руки, и картинка заскакала взад и вперед, словно кто-то очень быстро совал карточки в стереоскоп. Вот знакомые дорожки, деревья и павильон в парке, а вот парк уже куда-то провалился, и его место заняли какие-то зловещие домищи, хибары со сгнившими ставнями, грязные улицы, потонувшие в мусоре.
Сон поменялся. Лин была уже в Сити-Холл-парке. Джордж плавал в воздухе над металлической решеткой рядом с питьевым фонтанчиком. Он показал на гряду домов у нее за спиной. Она отвернулась от Джорджа, и он ливнем обрушился сквозь прутья решетки и пропал с глаз. Она ползала по решетке, искала его, а потом та провалилась, и Лин стала падать и падать, все вниз и вниз…
Теперь она очутилась на станции. Вывеска была прежняя: ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ БИЧА – но по стенам уже расползлась черная гниль, тление охватило зал, пожирая красоту сна. Свет дрожал, разбиваясь о бархатистую тьму тоннеля пригоршней петард в китайский Новый год, и в этих кратких вспышках Лин успела разглядеть бледные пятна теней. Глаза… Прожорливые, жадные рты… Острые зубы… Угрожающий, насекомообразный хор становится громче, растет.
Сияние Джорджа стало неверным, словно у рождественской свечки – того и гляди погаснет. Губы задвигались, словно силясь произнести слова – казалось, ему это стоило страшных усилий. C каждой попыткой все больше язв появлялось на теле. Тьма позади него треснула и заклубилась, занялась каким-то уродливым светом; грязная нора вспухла животными воплями, рыками, обрывками слов, поднялась нарастающим валом жутких звуков, закрутилась на конце гребнем чистого уничтожения.
Ноги под Лин затряслись, на все остальное напал паралич. Мгновенная вспышка высветила женщину под вуалью: она шла, а с платья капала кровь. Она шла к ним, наступала со спины, и Лин хотела крикнуть, предупредить Джорджа о том, что таится во тьме, и о женщине, но смогла лишь подавиться сухим ужасом. Джордж Хуань стоял перед ней, а раны на нем множились, ползли по груди, вверх по шее, прожигая кожу местами до кости. Он воевал с болью.
Но прежде чем ползучая, голодная волна накрыла его, Джордж наконец выдохнул слово:
– Лин Чань… про… снись!
Лин открыла глаза у себя в кровати и захлебнулась воздухом. По другую сторону оконного стекла висела зимняя луна, круглая и яркая. Единственный оставшийся звук был ее собственный пульс, глухо грохотавший между висками. Она спасена. C ней все в порядке. Это был просто кошмар.
Только умостившись обратно на подушке, Лин поняла, что сжимает в руке Джорджеву призовую медаль.
День десятый
Внимание! Внимание!
В переполненный автобус уже можно было втиснуться только стоймя. Он неторопливо полз по Пятой авеню, поверх дымящихся дыр канализационных люков, уворачиваясь от закутанных по самый нос от кусачего ветра ньюйоркцев. Несмотря на все это, Генри сиял от счастья. Он висел на ременной петле и насвистывал «Алую реку». Две девчушки на сиденье под ним весьма этому радовались – в отличие от шофера, гавкнувшего, что у него можно либо свистеть, либо ехать, выбор, мол, за Генри.
– Если свистеть нельзя, я и мурлыкать могу, – любезно отозвался Генри.
– Вон! – кратко подытожил шофер, останавливая автобус в десятке кварталов от нужной Генри остановки.
– Когда я стану знаменитым, вы об этом пожалеете, – пообещал Генри, помахал все еще хихикающим девчонкам в окне и пошел себе пешком.
Ничто не могло испортить ему настроения – даже долгое ожидание кассира на вокзале Гранд-Сентрал. Созерцая суету вокруг, Генри пробовал представить себе выражение физиономии Луи, который вот так встанет первый раз под светящимся диском часов, а кругом будут сновать люди – больше людей, чем он в жизни видел на своих речных круизах. Луи наконец-то приедет в Нью-Йорк! Они смогут быть вместе. От этой мысли у него внутри шипели пузырьки, как от шампанского.
– Дайте один билет из Нового Орлеана, штат Луизиана, до вокзала Гранд-Сентрал, пожалуйста, – сказал он в окошко кассы.
– Это тебе Нью-Йоркско-Новоорлеанская транспортная компания нужна, – ответили оттуда.
– «Нью-ново компани», вези мою любовь скорей, ему… то есть ей не терпится со мною очутиться… – промурлыкал тихонько Генри, на ходу выдумывая слова.
– Так тебе билет нужен или импресарио, малыш? – приветливо спросило окошко.
Генри сунул туда пригоршню мятых купюр, выуженных из Тэтиного пианофонда в кофейной банке. Вот она разозлится, когда обнаружит, что он туда залез. Но он обещал Луи билет, да и потом, Тэта же хочет, чтобы он был счастлив? Она поймет. Пианофонд можно восполнить за несколько месяцев, и тогда все будет прощено и забыто.
– Обратный билет понадобится? – спросил кассир.
– Если мне повезет, то нет, – улыбнулся Генри.
На почте он заклеил в конверт билет, письмо и свою фотографию в самом лучшем костюме об руку с Тэтой на фоне театра «Новый Амстердам». В животе у него чуть-чуть сжалось, когда почтмейстер проштемпелевал письмо «Par avion»[30], запечатав в него всю его, Генри, надежду. А ведь еще нужно дождаться ночи, чтобы снова увидеть Луи и сообщить ему счастливые новости.
Все еще насвистывая «Алую реку», Генри устремился домой, в «Беннингтон», счастливый, как никогда. До пресс-конференции и сюрприза, который они с Тэтой всем приготовили, оставалось еще несколько свободных часов. Однако на пути через вестибюль к нему, настойчиво зовя по имени, вдруг зашаркала Аделаида Проктор, и сердце у Генри упало.
– Добрый день, мисс Проктор, – сказал Генри, поспешно нашаривая кнопку лифта. – Прошу меня извинить, но я ужасно спешу…
– О, мистер Дюбуа, дело в том, что мне снились про вас совершенно ужасные сны…
– Какая неприятность, мисс Проктор. Но, как видите, со мной все в полном порядке.
– Нет-нет, полагаю, это не так, молодой человек. Вы разве не слышите плач? Умоляю вас, мистер Дюбуа, будьте осторожны!
– Аделаида! – позвала ее с другого конца холла мисс Лилиан. – Мы опоздаем!
Тут как раз подошел лифт, и Генри запрыгнул в него, радуясь, что дешево отделался.
– Пожалуйста, не беспокойтесь на мой счет, мисс Проктор. Хорошего вам дня! – прокричал он в двери, мыслями уже весь в музыке, в Луи и в снах, которые все сплошь были добрыми.
– Адди! – нетерпеливо закричала издалека мисс Лилиан.
Но Аделаида Проктор стояла в холле, не на шутку испуганная. И когда решетка уже закрывалась, она сказала еще кое-что, от чего у Генри, уносимого ввысь, мороз пробежал по коже:
– Энтони Оранжевый Крест, мистер Дюбуа. Внимание, внимание, Райская площадь!
Генри вышел из лифта. Ему было не по себе. Откуда Аделаида Проктор узнала про Энтони Оранжевый Крест и Райскую площадь? Ему вообще-то не случалось заходить к ней в сны или встречать ее в своих. Надо будет потом поймать ее, расспросить на досуге…
Он потянулся, чувствуя боль во всех мускулах. Несильную, как будто он всю ночь занимался физкультурой. В некотором роде так оно и было. Разве они с Луи не ходили на рыбалку? Просто как-то странно чувствовать это сегодня телом. Да чего греха таить, он на самом деле чертовски устал. И стоило Генри рухнуть в любимое кресло, как веки его закрылись и он уснул на месте.
Сон начался в родном доме, в Новом Орлеане. Отец сидел за длинным столом – в напудренном парике пуританского судии.
– Ты больше не увидишься с этим мальчиком, – отрубил он.
Генри отвернулся и побежал через кладбище, устланное, как ковром, пурпурной ипомеей. Мамины каменные святые в унисон шевелили пористыми губами…
– Не надо было им этого делать!
Вьюны ползли вверх по его ногам, плети крепко охватывали мышцы.
– Пустите! – заорал Генри…
…и очутился в убогой комнате, полной опиумного дыма, где полуодетые мужчины валялись вповалку со стеклянноглазыми проститутками. Генри услыхал колкое треньканье музыкальной шкатулки. Он пошел за звуком, завернул за угол и увидал женщину под густой вуалью, сидящую на соломенном тюфяке. Она крутила ручку и плакала – тихо, совсем тихо. Она была маленькая, хрупкая, молодая – не сильно старше самого Генри. Он ощутил ее горе и подумал, что надо бы вытащить ее из этого скверного места.
– Мисс, – сказал Генри, подходя поближе, – почему бы вам не посмотреть другой сон? Хороший, счастливый сон?
Женщина перестала плакать. Взгляд ее глаз сквозь вуаль был темен и тверд.
– Все мои сны мертвы, – прорычала она. – Это ты убил их!
И c быстротой гадюки она воткнула кинжал Генри в грудь.
Он мгновенно проснулся, тяжело дыша, рукой схватившись за сердце.
– Я в порядке, со мной все хорошо, – пробормотал он, испуская долгий облегченный вздох.
Потом глянул на часы, увидал, что уже почти три, и завопил дурным голосом.
– Дьявол! – шипел Генри, хватая пальто и на ходу цепляя подтяжки за плечи. – Тэта меня убьет.
Хорошо поставленное шоу
Тэта сердито мерила шагами кулисы, когда Генри ворвался в театр на такой скорости, что споткнулся и чуть не полетел кувырком к ее ногам.
– Ну, прости, прости! – сказал он, клюя ее в щеку.
Ее темные глаза полыхнули.
– А ты рискуешь, Ген! Еще чуть-чуть…
– Зато успел! Ты выглядишь на миллион баксов!
– Это ладно, главное, чтобы на русскую аристократку была похожа.
– Я бы купился!
– Только если б я продала!
– Ты будешь неподражаема, Тэта! Ты всегда такая.
Тэта раздвинула занавес и поглядела в щелочку на ассорти представителей прессы, рассевшихся в партере, и фотографа, налаживавшего камеру в центральном проходе. Там же Герберт Аллен очаровывал репортеров; его было слышно даже на сцене:
– Да, я как раз написал шикарную песню, которую мисс Найт будет нам сегодня исполнять…
Генри глянул ей через плечо и нахмурился.
– Бездарный болван. Разве ему не полагается сидеть у портного, шить себе очередной уродский костюм?
– Не слишком-то он обрадуется тому, что мы собираемся сделать.
– Ха! А вот и прилив энтузиазма! – пошутил Генри.
Тэта все равно была как на иголках, и он нежно взял ее за руку.
– Не волнуйся. У нас все получится.
– Обещаешь?
– Обещаю. Пошли. Разнесем в пух и прах этих пресс-ских!
Тэта округлила глаза.
– Господи, хоть ты не пытайся сойти за русскую аристократию.
– Как говорят в моей стране, мадам, я оскорблен!
Тэта сжала его ладонь на счастье.
– Ну, ни пуха ни пера!
Репортеры разом затихли, когда Тэта вышла на сцену. Каждым своим дюймом она выглядела как настоящая звезда – в заемном шиншилловом манто, c длинной, завязанной узлом нитью жемчуга, качающейся на фоне зеленого шелкового платья.
Она шагнула в свет.
– Ну, ни фига ж себе! – пробормотал кто-то из толпы.
– Джентльмены! – просиял Флоренц Зигфельд. – Позвольте мне представить вам новейшую звезду нашего ревю, мисс Тэту Найт!
Он подал ей руку и проводил по ступенькам в первый ряд партера.
– Извините мое опоздание, – промурлыкала Тэта, косясь на Генри. – Пришлось подождать, пока высохнут чулки.
Не волнуйся, одними губами изобразил он ей из-за рояля.
– Мисс Найт? – Репортер почтительно прикоснулся к шляпе.
– Так меня зовут, – сказала Тэта, и даже это была ложь.
– Что вы помните о своей жизни в России?
– Холод, – отвечала она, покачивая незажженной сигаретой.
Тот наконец догадался поднести спичку. Тэта подняла на него свой «постельный» взгляд.
– Даже наши соболя там носят соболя.
Репортеры засмеялись, и Тэта чуть-чуть расслабилась. Если своевременно их развлекать, они не пытаются лезть в душу. Журналисты продолжили задавать вопросы, она отвечала, импровизируя на ходу. Вот так и вся моя жизнь, думала Тэта, импровизация и выдумка – каждый раз новая, лишь бы годилась, чтобы остаться в живых. О, она умела лгать молча – «по бездействию», как говорят юристы, когда оставляешь страницы себя незаполненными: это сделают за тебя другие, увидевшие в тебе только то, что вписывается в их собственные выдуманные, сымпровизированные жизни. Тэта редко исправляла такие вписанные другими страницы. Какой смысл? У большинства голливудских звезд все равно фальшивые имена, придуманные агентами или главами студий, и истории жизни, взятые с потолка, но зато способные подстегнуть продажи билетов. Такова фабрика грез.
Тэта снова глянула на Генри. Он зевал за роялем, еще немного, и уснет на месте. Под глазами залегли тени, физиономия бледнее обычного, хотя, казалось бы, куда еще… Он этого, может, и не видит, зато видит она.
– Мисс Найт? – это снова репортер.
– А? – она живо вернула в голос хрипловатые, мурлычущие ноты; не женщина, а загадка. – То есть я вас слушаю?
– Скажите что-нибудь по-русски? – взмолился он.
– Двадцать-три-скиду-ски! – глазом не моргнув, ответствовала она с каменным выражением лица.
– Это из какой части страны выражение?
– Из шикарной.
– Полегче, мальчики, полегче. Мисс Найт была совсем малышкой, когда верные слуги под покровом ночи вывезли ее из раздираемой войной страны и контрабандой переправили в нашу великую державу, где она воспитывалась в сиротском приюте. У добрых монахинь, – вмешался мистер Зигфельд. – Это был очень тяжелый опыт! У бедной девочки амнезия, она вообще мало что помнит. И доктора не надеются, что вспомнит.
– Это правда, мисс Найт?
Тэта выпустила струю дыма в сторону дотошного репортера, наслаждаясь его кашлем.
– Если мистер Зигфельд говорит, что это правда, значит, правда, – отрезала она.
Скорей бы закончился этот тщательно поставленный цирк, чтобы можно было уже заняться пением и танцами. Вот в таком шоу она и правду хороша. Не в этом.
– Эй, крошка, а ты не боишься выступать тут после того, что случилось с Дейзи Гудвин? Убита прямо здесь, на этой сцене!
Тэта побледнела. Если бы они только прознали о той ночи и о тайной силе, что помогла ей спастись от Грязного Джона, выдуманная Фло сказка о русской принцессе мигом слетела бы с передовиц.
– Меня так легко не запугать, – сказала Тэта; ее слова поплыли над сценой в облаке сигаретного дыма. – Не будь это так, я бы не жила на Манхэттене.
– А как же эта сонная болезнь, о которой сейчас так много говорят?
– У Зигфельда еще никто не спал!
– Тэта, милая, не хочешь показать им немного танцев с песнями? – встрял Уолли.
– Затем я и живу, – Тэта дала манто соскользнуть на кресло.
– Постарайся хотя бы выглядеть живым, – шепнула она, проходя мимо Генри. – Мы начинаем.
Сердце у Тэты билось часто-часто. На Уолли она старалась не глядеть.
– Это совершенно новая песня… – начала она; Герберт Аллен у себя в кресле чистил перышки, как человек, совершенно уверенный в том, что мир будет крутиться в ту сторону, в какую он ему скажет. – …написанная талантливейшим Генри Дюбуа Четвертым.
Тэта показала на Генри. На краю поля зрения физиономия Герби, только что такая самодовольная, являла живую маску потрясения.
– Песня называется «Страна снов». Жарь, Ген.
Когда Тэта закончила – а выложилась она, как только могла и даже как не могла, – новостные ястребы взорвались аплодисментами.
– Неплохо, – высказался кто-то из репортеров. – Совсем другое, новое.
– Да уж. Настоящий сюрприз, – процедил Герби; взгляд его горел убийством.
– Джентльмены, представляю вам новейшую сенсацию нашего ревю, мисс Тэта Найт, – радостно прокукарекал мистер Зигфельд.
– И ее аккомпаниатора, Генри Дюбуа Четвертого, – пробормотал Генри себе под нос. – Спасибо, спасибо, не аплодируйте так сильно, парни.
– Восхитительно, мисс Найт, просто восхитительно, – улыбающийся репортер протолкался к сцене. – В Пеории от этой истории будут в восторге, а значит, она пойдет везде. Вы будете знамениты! От Нью-Йорка до Голливуда, от Флориды до Канзаса.
– Канзаса? – прошептала Тэта.
– Ага. Большой такой штат в самой середине страны. Пшеница, республиканцы, Библия вразнос и, в общем-то, все.
Герби обнял Тэту за плечи и хорошенько придавил.
– Ну, разве она не бесподобна? Вообще-то я сам пишу сейчас новые песни для этой маленькой леди. Стоят целого шоу. Она – моя муза!
– Правда? Он – ваш парень, мисс Найт? – подмигнул главный колумнист по сплетням.
– Нет, – отрезала Тэта, аккуратно стряхивая руку Герби.
– Ну, должен же у вас кто-то быть – такая красивая девушка как вы…
Ладони у нее защекотало жаром, словно там вдруг закопошился клубок огненных муравьев. Спокойно, сказала она себе. Главное, сохраняй спокойствие.
– Давайте же, поддадим немного жару, – подзуживал колумнист.
– Что ж… да. У меня кое-кто есть.
– И кто же он? – Карандаши зависли над блокнотами, готовые пригвоздить имя.
Жар поднялся до запястий.
– Дядя Сэм, – отпарировала Тэта. – Я настоящая патриотка. Простите, господа, мне надо попудрить носик.
И она быстро ускользнула в кулисы.
– Она – это что-то, – прокомментировал кто-то из журналюг.
– А то! – отозвался Герби, провожая ее таким взглядом, словно Тэта была домом, который он только что купил – оставалось только въехать.
Тэта кинулась в туалетную комнату и скорей сорвала перчатки: руки уже были цвета горячих углей. Она сунула кисти под холодный кран и закусила губы, когда от поднявшегося пара затуманилось зеркало. Когда рукам стало попрохладнее, она вытерла их и внимательно изучила. Кожа выглядела совершенно нормальной. Зато на внутренней стороне перчаток обнаружились бледные подпалины.
После пресс-показа Генри и Тэта вышли через служебный ход в переулок – подышать.
Генри схватил ее и крепко обнял.
– Мы сделали это!
– Ага, точно сделали.
– Если бы мне до конца жизни нужно было смотреть только одно кино, я бы выбрал рожу Герби Аллена в тот момент, когда ты стала петь мою песню.
– Да, это было что-то.
– Эй, да что с тобой такое? В тебя все влюбились, царевна Тэтакович!
– Ты того репортера слышал, Ген? Канзас! – сказала Тэта, вырываясь из его рук и прикуривая сигарету. – А что, если там кто-нибудь прочитает статью и узнает меня? Что, если меня станут допрашивать про пожар? И про Роя?
– Не станут. Ты – Тэта Найт, а не Бетти Сью Боуэрс. Ты даже выглядишь по-другому. Ты в безопасности, – сказал Генри, целуя ее в лоб. – О’кей?
– О’кей, – отозвалась она, наслаждаясь чувством защищенности рядом с лучшим другом – пусть хотя бы временной.
– А у меня кое-какие свои новости есть, – Генри улыбнулся еще шире. – Луи едет в Нью-Йорк. Я сегодня послал ему по почте билет на поезд.
– Ух ты! Вот это шикарно, Ген. Ты таки сумел пробраться ему в башку. Как тебе это удалось? Ты вдалбливал ему в мозг наш телефон, пока он наконец не проснулся и не набрал?
Генри сунул руки в карманы и отвел глаза.
– Ну, не совсем.
– Так как же тогда… ох, Ген, – Тэта прислонилась к стене театра. – Опять строил планы во сне? Это не более реально, чем моя русская царская кровь.
– Я думал, ты за меня порадуешься, – проворчал разобиженный Генри.
– Так я и рада. Но еще я беспокоюсь за тебя. В последнее время ты живешь больше в мире снов, чем тут, в нормальном мире. Ты тощий и измотанный и как будто за много миль от меня, даже когда… – Тэта резко умолкла; глаза ее сузились. – Так, Ген, а откуда ты взял денег на билет?
Генри упорно смотрел в землю.
– Я тебе все верну.
– Сукин ты сын, Генри! – рявкнула Тэта.
Идущая мимо по Сорок Второй пара наградила ее неодобрительным взглядом.
– Дуйте своей дорогой, миссис Гранди![31] Не ваше дело, – прорычала она, и они заторопились прочь.
– Ты устроила для меня этот фонд, потому что хотела мне счастья. Луи тут, со мной, в Нью-Йорке – вот мое счастье, Тэта, – Генри так хотел поделиться с ней этой новостью, но теперь сделанное казалось ему ужасной ошибкой.
– Ген, этот пианофонд – наш общий пианофонд. Он для нашего будущего. Твоего и моего. Мы – команда. По крайней мере, я всегда так считала.
– Я думал, что кто-кто, а ты точно должна понять…
– Это нечестно, Ген. Ты же знаешь, я на твоей стороне. Всегда.
– Ага, как же, – отозвался Генри, и они с Тэтой молча уставились на идущих по Сорок Второй пешеходов, переступающих через канализационные решетки и теряющих вещественность в клубах рвущегося оттуда густого пара. Здесь, в переулке, они с Тэтой стояли бок о бок, но никогда еще не были так далеки друг от друга.
Предсказание судьбы
Теперь, при двух ангажементах сразу – подложного жениха Эви и музейщика на полную ставку в отсутствие Уилла – у Сэма оставалось крайне мало времени на проект «Бизон». Но все же в один прекрасный день ему удалось выкроить часок и ускользнуть в места детства в Нижнем Ист-Сайде. Много заведений там позакрывалось из-за сонной болезни, так что на Орчард-стрит его ждала неудача – пока продавец солений не сообщил ему, что Розенталям повезло и они перебрались в Бронкс.
Сейчас Сэм с Эви стояли у размашистого многоквартирного дома на Гранд-Конкорсе, явно построенного каким-то амбициозным Тюдором для евреев, покинувших скученные многоэтажки Орчард и Хестер-стрит и желающих начать новую жизнь, и столь же далекого от тех многоэтажек, сколь они были далеки от местечек и гетто России, Польши, Румынии и Венгрии. Впрочем, у каждого дома свои призраки.
– Не понимаю, мне-то зачем было приходить, – ворчала Эви.
Сэм немножко втянул щеки, чтобы казались повпалее.
– Потому что ты – моя ненаглядная невеста. Все обожают Провидицу-Душечку! – не без сарказма сообщил он. – Ах да, и еще одно, дорогая. Если она спросит, ты собираешься перейти в иудаизм.
– Что? Сэм!!
– Да не волнуйся ты. Все схвачено, Бэби-Вамп. Просто делай, как я.
– Если это должно было меня ободрить, так у тебя не вышло, – сердито проворчала Эви.
Они поднялись по ступенькам, лавируя в стае веселых и разнокалиберных детей, носившихся как угорелые, и постучали в дверь миссис Розенталь. Анна Розенталь оказалась куда круглее и старше той юной женщины, что Эви повстречала в виденье. Теперь она носила очки, а в потускневших рыжих волосах сверкало несколько седых прядей – но, несомненно, это была она.
При виде Сэма миссис Розенталь слегка вскрикнула, а потом кинулась неистово его обнимать. Потом отступила, оглядывая его с головы до ног и восторженно качая головой.
– Сергей!
Она затараторила что-то по-русски, и он ответил ей на чем-то похожем, слегка запинаясь.
– Вы уж простите, миссис Розенталь, мой русский малость подзаржавел.
– Все забывается, – отвечала она, и Сэм не сумел бы точно сказать, c грустью или с благодарностью.
Эви откашлялась.
– А это, – опомнился Сэм, сгребая ее поближе, – зеница ока моего, моя прекрасная уже-почти-невеста, Эви О’Нил.
– Очарована, – квакнула Эви, приседая.
– Да, я уже читала о вас в газетах! Надо же, мне и в голову не приходило, что знаменитый Сэм Ллойд – это наш Сережа Любович. Пока ты не позвонил и не сказал мне сам, разумеется. Но, прошу вас, детки – входите, входите!
Миссис Розенталь провела их в гостиную, где на каждом выступе мебели красовалось по ермолке, ушла на кухню и тут же явилась обратно с кофейником и тарелкой мандельброда[32].
– Надо же, Сереженька Любович! – воскликнула миссис Розенталь, прижимая пальцы к губам. – Я ведь тебя не видела с тех пор, как ты был совсем крошкой. И вот он ты, совсем вырос. И таким стал красавцем!
– А вы не повзрослели ни на день, миссис Розенталь, – галантно отозвался Сэм. – Да я бы вас где угодно узнал!
Чары подействовали безотказно, и миссис Розенталь расхохоталась и отмахнулась от такой бесстыдной лести.
– Расскажи мне скорее про маму и папу.
– У папы сейчас меховая лавка в Чикаго. Мама, как ни горько об этом говорить, уже много лет как умерла.
Миссис Розенталь приложила руку к груди и склонила голову.
– Какая ужасная новость. Бедная Мириам. Помню, на корабле сюда… она так тяжело тебя носила.
Эту историю Сэм слышал не раз и от самих родителей. Историю про то, как «мы бросили все, что у нас было, и пустились в ужасный и тяжелый путь в новый мир, чтобы дать тебе самую лучшую жизнь из возможных». Обычно ею пользовались как рычагом, когда нужно было заставить Сэма делать то, что им нужно. Учить Тору, например, или помогать отцу в лавке. Ему позарез хотелось скорее расспросить ее про письмо, но нельзя же вот так сразу кидаться напролом и обижать человека – еще догадается, чего доброго, что он заявился не просто в гости. Вот он и сидел, прихлебывая кофе и ожидая просвета.
– Мы приплыли на пароме на остров Эллис, и когда увидали статую Свободы, как такого ангела над гаванью, мы заплакали. От радости, конечно. От облегчения. И надежды – у нас же ничего не было, – голос миссис Розенталь прервался от нахлынувших чувств. – Эта страна приняла нас.
– Боже, благослови Америку, – вставил Сэм.
Надо было срочно свернуть ее с накатанной дорожки, пока она не ударилась в дальнейшие сентиментальные излияния – а ведь там недалеко и до народных песен! Сэм торопливо полез в карман пиджака и извлек на свет божий таинственный конверт.
– Миссис Розенталь, я тут нашел кое-что в маминых вещах, вот, c тех пор голову ломаю. Вдруг вы знаете что-то об этом письме? Оно от некой Ротке Вассерман.
Он протянул ей конверт; она прищурилась, чтобы разглядеть почерк.
– Да, как же, помню. Оно пришло уже после того, как твои мама с папой уехали. Эта Вассерман иногда приходила работать с Мириам. Это из-за ее дара, – выдала миссис Розенталь как нечто само собой разумеющееся и хорошенько хлебнула кофе.
– Дар… Вы про работу медицинской сестрой, да? – спросил сбитый с толку Сэм.
– Сестрой, ага, – миссис Розенталь красноречиво поцокала языком, словно само это слово показалось ей оскорбительным. – А то как же. В этой стране – да. А до того она была самой лучшей гадалкой во всей Украине! Люди приезжали к ней отовсюду, спрашивали про брак, про детей, открывать ли им дело, продавать ли корову. Даже сам Сумасшедший Монах, Распутин, – миссис Розенталь сплюнула какое-то крепкое русское ругательство, – приезжал повидать великую Мириам Любович.
– Я думал, мама была медсестра, – вот и все, на что хватило Сэма.
– Ну, надо же было писать в документах какую-то профессию. Большинство писало «жена», «мать», «кухарка», «швея» – всякое такое. Твоя мама написала «гадалка», – миссис Розенталь покачала головой. – Мы испугались, им это не понравится. Не годится эта страна для суеверий. Но эта женщина, мисс Вассерман, говорила по-русски. Мириам, сказала она, давай-ка мы тебя проверим.
– Как проверим? – вмешалась Эви.
Миссис Розенталь пожала плечами.
– Мне-то откуда знать. Я одно знаю: должно быть, она справилась, потому что они тут же нас всех пропустили. Все говорили, не волнуйтесь, не волнуйтесь, вам тут ничего не грозит. Давали ей что-то для лучшего самочувствия. Воды, отдохнуть. Мяса, витаминов, чтобы были силы. Вскоре ей и правда стало лучше. Вот поэтому ты здесь, Сережа. Поэтому ты американец. Какое-то время мама, папа и я жили у моих родственников на Орчард-стрит, а потом твои переехали на Хестер. Эта мисс Вассерман частенько приходила проведать тебя с мамой.
– Это еще зачем? – спросил Сэм.
– Не знаю. Посмотреть, как вы там. Она играла с тобой, ты ей очень нравился. А кому бы нет?
– А письмо? – Сэм снова пододвинул ей пожелтевший конверт. – Вы не переслали его им в Чикаго – почему?
– А я знала, где они? Десять лет от них не было ни слуху ни духу. Я и не знала ничего, пока ты не позвонил, – сказала миссис Розенталь; в голосе проступила старая обида.
Сэм и представить себе не мог, c чего это родители вдруг проявили такую грубость – это совсем на них не похоже.
– Наверняка дело в тех людях, – сказала вдруг миссис Розенталь. – Пришли и напугали твою маму. Родители скрылись на следующий же день, как призраки – раз, и нету.
– Какие еще люди?
– Какие-то люди в темных костюмах, приехали поговорить с мамой. Я их сама проводила к вам в квартиру.
– Кто они были? – Пальцы у Сэма сами собой принялись выстукивать по столу что-то лихорадочное; Эви положила свою руку на его, чтобы это прекратить.
Миссис Розенталь покачала головой.
– Они сказали, это по части иммиграции. Мы ужасно занервничали. Кто-то из анархистов ведь евреи. Вдруг они решат, что мы анархисты, и выкинут нас из страны? Они сказали, чтобы я вышла, но твоя мама сказала: «Пусть Анна останется». Сказала, что я лучше говорю по-английски, – соврала. Я видела, что она сильно испугана. Они стали задавать всякие вопросы: все ли у нее хорошо? Как с соседями? Нет ли на что-нибудь жалоб? Нет, хорошо, все хорошо, отвечала она. Все было хорошо, пока они не спросили про тебя.
– Про меня?
– Про Сэма? – в то же мгновение влезла в разговор Эви.
Та кивнула.
– Спрашивали, как ты, здоров ли, пошел ли в папу или больше похож на маму? Есть ли в тебе что особенное? – Она сделала презрительную гримасу. – Нашли, чего спрашивать у матери! Особенный ли у нее сынок! Думала, мама будет неделю им расписывать, какой ты особенный, но нет.
Миссис Розенталь потеребила платок на коленях.
– А вот этого мне, наверное, не стоит говорить.
Сэм забыл про свои чары.
– Прошу вас, – взмолился он. – Мне очень нужно знать, что случилось дальше!
– Этот пишер[33], этот слабак? – сказала им твоя мама, – c тяжким усталым вздохом продолжила миссис Розенталь. – Он маленький и весь больной, сплошное разочарование. Совсем на меня не похож. Я была потрясена. Как она могла такое сказать? Ты был ее княжичем, Сережа. Ты ей столько нахес[34] приносил. Это была совсем не та Мириам, которую я знала, вот что я тебе скажу.
Судя по тому, что Сэм помнил о детстве, мама действительно всегда обожала его, защищала…
– А на следующий день твои мама с папой покинули Хестер-стрит навсегда, никому не сказав ни слова, ни с кем не попрощавшись – и всего за две недели до моей свадьбы! Я пыталась не принимать на свой счет, но… – И миссис Розенталь погрузилась в себя, отпивая маленькими глоточками кофе.
Потом она протянула конверт обратно Сэму.
– Когда пришло это письмо… пф-ф-ф, я так рассердилась. Я отослала его обратно.
– И вы не знаете, о чем в нем говорилось?
– Анна Розенталь в чужие письма не лазает! Однако у меня есть кое-что. Мириам сама в свое время просила меня его сохранить. Идем-ка со мной.
С верхней полки углового шкафа она сняла шкатулку и поставила ее на стол.
– Как только те люди ушли, твоя мама дала это мне. Анна, сказала она, спрячь это у себя в доме. Я потом приду, заберу. Но она так и не пришла.
Миссис Розенталь открыла коробку и вынула жестянку из-под печенья.
– Думаю, теперь это самое время отдать тебе.
– Слов нет, как я вам благодарен, миссис Розенталь, – сказал Сэм, беря жестянку и изо всех сил стараясь не сорвать крышку прямо тут же, на месте. – Ох ты, а времени-то уже сколько! Миссис Розенталь, мы бы были рады остаться на подольше, но мне нужно доставить мою Котлетку обратно на радио для вечернего шоу.
– Но мы вам непременно пришлем приглашение на свадьбу! – радостно пообещала Эви, пока Сэм неуклонно теснил ее к двери.
– На шаббо приходите! – кричала им вслед миссис Розенталь.
– Будем шаббить вовсю! – отвечала Эви, но Сэм уже практически выволок ее из квартиры.
– А откуда мне было знать, что шаббо – это еврейский шаббат? – возмущалась Эви, пока они с Сэмом садились в почти пустую надземку обратно на Манхэттен. – И что плохого в том, чтобы позвать ее на свадьбу, которой все равно не будет? Эй, Сэм, все в порядке? Ты выглядишь так, будто только что с русских горок слез.
– Эви, я же ничего этого о маме не знал, – пробормотал Сэм, глядя, как Бронкс катится назад мимо окон поезда.
Эви осторожненько потрясла жестянку.
– Надо понимать, там у нее не печеньки.
Она подсела поближе к Сэму, который подцепил и снял крышку. В коробке оказалось всего два предмета: пачка бумаг и фотография женщины в длинном клетчатом платье, держащей за руку маленького мальчика.
– Это мама, – сказал Сэм, не отрывая от милой картинки глаз. – А вот это я.
Эви хихикнула.
– Что смешного?
– На тебе короткие штанишки. А еще у тебя толстые круглые щечки!
– Ну, хватит, – Сэм поспешно убрал фотографию и взялся за документы, состоявшие, как оказалось, из одного-единственного машинописного листа.
– Похоже на протокол.
Американский Департамент Паранормальных Исследований
Офис В-130
Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Дата: 8 сентября 1908 г.
Имя: Мириам Любович
Национальность: еврейка
Возраст: 20
Место рождения: Украина
Адрес: 122, Хестер-стрит, Нью-Йорк, штат Нью-Йорк
Субъект успешно прошел все тесты. Здоровье хорошее.
Рекомендуемая кандидатура для: проект «Бизон»
В нижней части поперек страницы красовался штамп: «ОДОБРЕНО».
Внутри у Сэма все так и загудело.
– Ты же знаешь, о чем я хочу тебя попросить?
– Сделка есть сделка, – кивнула Эви.
– Знаешь, в такие моменты я серьезно думаю о том, чтобы сделать тебя честной женщиной, будущая миссис Ллойд.
– Я же сказала, что прочитаю его. Нет нужды меня мучить, Сэм.
Эви взяла лист и сжала между ладонями. Но сколько бы она ни пыталась, бумага не отвечала.
– Ух. Прости, Сэм. Не могу ничего выжать из этого документа. Честно, не могу, – сказала она, изрядно этим смущенная.
Когда сам решаешь, что не будешь читать, – это одно; а когда чувствуешь, что это совершенно за пределами твоих возможностей – совсем другое.
– Ну, все равно спасибо, что попробовала, – сказал бесцветно Сэм.
Эви еще раз внимательно осмотрела бумагу.
– Офис В-130, а адреса нет. Он может быть абсолютно где угодно.
– Да знаю я, – вздохнул Сэм. – Всякий раз стоит нам найти хоть один ответ, за ним сразу встает дюжина новых вопросов.
– А что с твоим жутиком?
– С осведомителем, ты имеешь в виду?
– Жутик, осведомитель, контакт… – Эви неопределенно махнула рукой.
– В последний раз, когда я его видел, он сказал, что за ним, похоже, следят.
– Кто? Гангстеры?
– Понятия не имею. Просто сказал, чтобы я держался подальше. Но это слишком важно. Я должен попытаться.
– Сэм, а ты никогда не думал попросить репортера раскопать для тебя эту историю?
– Ты спятила? Добровольно притащить в дело одну из этих ищеек в пижонском костюме?
– А почему нет? Ищейка, она на то и нужна – пусти ее по следу! Она быстренько найдет тебе дичь.
– Отказать, я работаю один. Ну, иногда с компанией – временно, – признал он. – Но никаких репортеров, поняла?
Эви подняла руки вверх.
– Сдаюсь. Забудь об этом, – сказала она и тут же схватилась за виски. – Ох, ну и молоток в голове!
Она уперла пульсирующий болью лоб в оконное стекло. Поезд петлял по каньонам города. Последние лучи заката расцветили крыши, засверкали в окнах, медля попрощаться. Внизу вечерний сумрак постепенно затоплял суетливые улицы густеющими оттенками одиночества. Сэм вплел свои пальцы в Эвины и крепко пожал. Это был совсем крошечный жест, но Эви немедленно ощутила его во всем теле сразу.
– Ты – просто слонячьи брови, куколка, – тихо сказал он.
Ее лицу вдруг стало как-то слишком жарко.
– Кому-то определенно надо за тобой присматривать, Сэм Ллойд.
Поезд загромыхал, останавливаясь.
– Идем, я провожу тебя на студию, – сказал Сэм, подавая ей руку калачиком. – Надо выдать обожающим фанатам положенную порцию шоу.
– Да уж, – сказала Эви, продевая свою руку в его. – Только ради фанатов.
По дороге в Даблъю-Джи-Ай их несколько раз захлестывали волны ньюйоркцев, жаждущих пожать им руку и пожелать счастья. Толпа скандировала их имена, словно они были кинозвездами или королевскими особами.
– Вот скажи по правде, Сэм, разве это не самый прекрасный звук на свете? Вряд ли он мне когда-нибудь надоест.
– Ну-ну, тогда тебе придется все время держать меня под рукой, – поддразнил ее он.
На самом деле штука была в том, что их фальшивый роман оказался ему как-то уж слишком по душе. Всякий раз, как Эви взглядывала на него с другого конца комнаты, которую они в настоящий момент окучивали, у него в животе что-то начинало щекотаться, словно у них была какая-то сладкая тайна – одна на двоих. Это волновало и веселило – они вдвоем против целого мира. Обратный отсчет, неуклонно тикавший с самой первой минуты, его порядком пугал. И надеяться, что за это время он сумеет заставить ее передумать… разве это так уж много?
– Шикарной тебе передачи, любимая, – сказал Сэм, целуя ей руку и поворачиваясь к толпе. – Вы и понятия не имеете, парни, какая у нее нежная ручка. Ой, погодите-ка… это же перчатка! Нет, парни, вы и понятия не имеете, какие нежные у нее перчатки!
Все захохотали, включая и Эви, и его надежды воспарили вновь. Он послал ей секретную улыбку – как тебе это понравилось? – и мог бы поклясться, что она закусила губку, и улыбнулся сам себе за это. Ничего ему так не хотелось, как придумывать все новые трюки, лишь бы только она улыбалась.
– Пока, Сэм, – сказала Эви, качая головой.
Толкая дверь в студию, Эви оглянулась на шоу, которое тем временем продолжалось на улице. Девушки строили глазки Сэму, Сэм в ответ сиял, встряхивая падающим на глаза черным чубом. Где-то внутри Эви ужалила ревность. Ей захотелось поцеловать Сэма здесь, при всех, чтобы им стало ясно: он бесспорно и бесповоротно принадлежит ей. Правда, на самом деле он ей не принадлежал – все это была игра. Деловое соглашение. И влюбленность в Сэма Ллойда сейчас стала бы вишенкой на торте самых худших идей, какие только приходили ей в голову.
– А ну прекрати это, Эви О’Нил, – сказала она себе под нос. – Прекрати сию же минуту.
К ее удивлению, в глубокой тени под огромными золочеными часами в стиле ар-деко в холле студии обнаружилась Сара Сноу.
– Вы собираете толпы, мисс О’Нил, – сказала она, глядя наружу, на волны восторженных фанатов, все еще местами кричащих: «Эви! Эви!»
– Ох, ну… – Все слова вдруг как-то разом кончились. – У вас тоже есть поклонники, мисс Сноу.
– Не такие, как ваши, – сказала Сара, не отрывая взгляда от толпы. – А иначе бы мистер Филипс не грозил закрыть мою передачу. Судя по всему, наш начальник полагает, что возвращать заблудшие души Иисусу не так весело и не так прибыльно, как заниматься психометрией в прямом эфире. Для ложных пророков у него деньги есть – но не для истинных.
Ее глаза вспыхнули – но лишь на короткое мгновение; затем безмятежная улыбка вернулась на свое привычное место.
– Должна признать, я восхищаюсь вашей отвагой, мисс О’Нил.
– Моей – чем?
– Отвагой. Ну, да, конечно. Это очень смело с вашей стороны – брать в руки все эти предметы, которые неизвестно кто принес. Многие бы побоялись.
– Чего побоялись? – не поняла Эви.
– А вот и наша радиозвездочка! – прогрохотал мистер Филипс.
Он уже шагал к ней, размахивая газетой; за ним тянулся, повиливая, шлейф из секретарей и репортеров.
– Отличный выход на бои вчера вечером. Вы двое напрочь затмили боксеров, – воскликнул он, демонстрируя «Дейли ньюс», где на первой странице Сэм и Эви сидели у самого ринга. – Говорю вам, мне бы двадцать таких девиц, и чтобы каждая – копия Эви. Надеюсь, я ничему не помешал?
– Конечно, нет, мистер Филипс, – кротко ответила Сара Сноу. – Я как раз говорила мисс О’Нил, как я восхищаюсь ее храбростью.
– Енто вы про что толкуете? – принюхался какой-то репортер.
– Про сонную болезнь, разумеется. В конце концов, никто не знает, как люди заболевают. Кто угодно может оказаться носителем болезни. Любой предмет может быть заражен.
– А это, между прочим, правда, – вцепился в идею журналист. – Вы никогда этого не боялись, мисс О’Нил?
– А, ну… – весьма содержательно выразилась Эви.
Никогда прежде она об этом не думала, но теперь сомнение червем пробурилось ей в голову. Что она знала о предметах, которые люди приносят на шоу? А о самих людях? Вообще-то ничего. По крайней мере, до тех пор, пока не зароется по локоть в их тайны – а тогда уже будет слишком поздно.
– Ну-ну-ну, наша Эви совсем не боится какой-то там маленькой старой сонной болезни, – громыхнул мистер Филипс, отмахиваясь от идеи, как поступал со всем, что не касалось лично его. – Она по большей части свирепствует в даунтауне, так? Все дело в гигиене. И уверяю вас, люди оттуда не бывают в Даблъю-Джи-Ай.
– Разумеется, мистер Филипс, у нас все отлично. Но все же трудно угадать, c чем столкнешься, когда копаешься в чьих-то тайнах, – сказала Сара Сноу.
Ее улыбка догнала слова лишь на пару секунд позже нужного.
– Этим ребятам нужна наша фотография в студии, Эви, – распорядился мистер Филипс, провожая ее и хвост репортеров к сверкающим лифтам.
Когда решетка закрывалась, отсекая огромный мраморный холл и толпу почитателей по ту сторону стеклянных дверей, Эви заметила, что Сара Сноу все еще стоит там, в черной тени часов, и провожает ее пристальным взглядом.
Почему-то в этот миг Сара была похожа на кошку, следящую за мышкой.
Но в следующий миг Эви уже была на радио, и ее голос летел во все концы страны, которая неистово аплодировала ей. После эфира фанаты оккупировали весь квартал, охотясь за ее автографом, и Сара Сноу как-то незаметно забылась.
Эви решила пройтись пешочком десять кварталов до «Уинтропа», чтобы как следует накушаться восхищенных взглядов на улицах.
– Пенни для бывшего солдата, мисс?
Грязный, небритый мужик на кресле-коляске затряс ей в лицо своей чашкой. Эви узнала ветерана, которому подавала деньги в первую свою неделю в Нью-Йорке.
– Время пришло, время пришло, – бормотал он; его испуганные глаза искали чего-то за пределами знакомого мира.
Эви разозлилась, что этого беднягу, уничтоженного войной, оставили вот так прозябать на улице. Если бы под рукой сейчас оказалась Сара Сноу, уж Эви приперла бы ее к стенке с вопросом, почему в созданном ее Богом мире так часто встречаются война, бедность и жестокость. Иногда Эви даже жалела, что у нее нет никакого принадлежащего Богу предмета – на прочитать. Может, хоть так она начала бы понимать…
– Помогите, – прокаркал ветеран, – прошу…
У Эви было с собой целых три доллара: запретный джин не радовал дешевизной. А ну его к черту, подумала она. В конце концов, она Провидица-Душечка: кто-нибудь наверняка купит ей выпить.
– Вот, возьмите, сэр, – она сунула все три доллара ему в чашку.
С быстротой ртути солдат схватил ее за запястье; хватка его оказалась на диво сильна.
– Я слышу, как они кричат, – настойчиво зашептал он сквозь стиснутые зубы; в уголках треснутых губ запузырилась слюна.
– Пустите! – закричала Эви.
– Глаз! Иди за глазом! – взмолился нищий.
– Пустите! Пожалуйста!
Эви вырвалась, отшатнулась, он упал и стукнулся головой о кирпич, всхлипывая:
– Прекратите, пожалуйста… Не надо кричать. Не надо кричать…
Дары
– Как так вышло, что ты давеча наврал сестре Уокер про то, откуда ты родом? – спросил Исайя Слепого Билла по дороге из цирюльни домой.
Октавия допоздна задержалась в школе, и Билл предложил отвести мальца к Флойду, подкорнать немного, чтобы в церкви в воскресенье выглядел как человек.
– Незачем этой бабе соваться в мои дела, – сказал Билл. – Ни к чему это, чтоб другие слишком много о тебе знали. Ты меня понимаешь?
– Да, сэр.
– Расскажи-ка мне, как вы проводили время с сестрой Уокер. Что она заставляла тебя делать?
– Ничего она меня не заставляла.
– Нет, конечно, нет. Я знаю, никто не в силах заставить юного джентльмена делать то, чего он не хочет, – сказал Билл, натянуто улыбаясь. – Она тебе карты раскладывала, верно?
– Да, сэр.
– И сколько ты угадал?
– В последний раз – все, – гордо заявил Исайя.
Билл присвистнул.
– Да ну?
– Угу. Мне это очень хорошо удавалось, – сказал мальчик. – Тут угол, мистер Джонсон. Осторожней!
– Спасибо, сынок. Но какой я тебе мистер Джонсон. Ты лучше зови меня дядя Билл.
– Да, сэр, дядя Билл. – Судя по голосу, Исайя остался очень доволен.
– Сдается мне, тут у нас настоящий сильный дар. Это уж как пить дать, – продолжал Билл, когда они с Исайей обогнули угол.
По правде сказать, он и сам бы прекрасно справился, но мальчонка чувствовал себя таким важным, когда помогал.
– Я так и сказал! – огрызнулся Исайя.
– Не мое дело подзуживать тебя пойти против тети. Но ты же знаешь этих женщин…
– Еще бы. Мне ли не знать, – вздохнул Исайя.
Билл чуть не разоржался. Надо же, маленький мужчина, уже все знает о женщинах… Он протянул руку, нащупал голову Исайи и потрепал ее – точь-в-точь довольный сыном отец.
– Иногда у нас, мужчин, тоже должны быть свои секреты. Я прав?
– А то!
– Так вот мы и устроим себе прямо сейчас маленький такой секретик – только между нами, парнями, ага? И тете своей ты о нем ничего не скажешь. Это у нас мужские разговоры, понял?
– Ага, – отозвался Исайя, еще более довольный.
– Ну, значит, по рукам, – и он цапнул маленькую мягкую ручку мальчика своей старой и заскорузлой.
– Старый Билл думает, что тебе непременно надо работать над твоим особенным даром. Чтобы он у тебя становился сильнее, понимаешь? И я намерен помочь тебе овладеть тем, что по праву твое. Что ты на это скажешь?
Исайя совершенно растерялся. Встав тогда после своего припадка, он сразу же отправился в церковь с Октавией – повидать пастора Брауна. Тот долго молился над ним, а потом они с тетей заставили Исайю пообещать, что он никогда-никогда больше не станет пользоваться своими силами. А сейчас другой взрослый, вот этот вот Слепой Билл, уговаривает его снова открыть все двери – и бедный Исайя больше не знал, что правильно, что неправильно.
– Тетя говорила, чтобы я больше так не делал, – выдавил он, как будто это было ответом на все вопросы.
Билл втянул воздух сквозь зубы и медленно высвистел его наружу, раздумывая, что бы сказать дальше.
– Твоя тетя – очень добрая женщина. Умная женщина. Я бы ни в жизнь против нее не пошел. Я просто хочу убедиться, что все, что с тобой сделала сестра Уокер, уже сгинуло, понимаешь? Что пастор и молитвы очистили тебя от всего, чего надо. Ясно?
– Ты думаешь, что-то плохое может прятаться у меня внутри – что осталось от сестры Уокер? – спросил Исайя; голос его задрожал.
– Тебе нечего бояться, сынок. Я смогу защитить тебя от всего. Я все возьму на себя, как если бы я был твой папа. Как только все плохое уйдет, ты получишь свой дар обратно, совсем новенький, будто сад Эдемский. Видишь, это тебе же во благо? Я за тобой присмотрю и обещаю, что буду беречь тебя – прям как твой папа, если бы он был тут.
Исайя проглотил набухший в горле ком. Иногда он даже лица папиного вспомнить не мог и тогда чувствовал, будто теряет часть себя – будто проснулся после счастливого сна и пытается поскорее нырнуть в него обратно, ухватить за хвост, но иной мир течет сквозь пальцы, ускользает без следа. Он запустил себе ногти в ладонь.
– Ну, раз так, тогда можно.
– Хорошо, хорошо. Тогда давай-ка зайдем на кладбище. Тут недалеко.
Исайя довел его до кладбища, где они обнаружили незапертый мавзолей. Туда-то они и вошли.
– Страшно тут, – сказал Исайя; эхо слегка разбросало его голос вокруг.
– Не надо, чтобы за нами кто-то наблюдал, – пояснил Билл. – Отлично. А теперь возьми-ка меня за руки.
Мальчик положил свои ладошки, мягкие и еще не оформленные, на его мозолистые клешни.
– Как ты, малыш, в порядке?
Исайя кивнул, потом вспомнил, что Билл его не видит.
– Да, сэр, – ответил он.
– Ну, славно. И не щекотаться! Потому что я тот еще щекотун.
Он протянул руку и действительно пощекотал Исайю под подбородком; тот захихикал. Голос звучал радостно, это хорошо. Надо, чтобы ребенок расслабился. Билл снова взял его за руки.
– Давай начнем полегоньку. Перво-наперво надо установить между нами связь. Скажешь старому дядюшке Биллу, если увидишь счастливый номер, а если я выиграю немного деньжат, то куплю тебе новый бейсбольный мячик, лады? Закрой глаза.
Исайя отнял руки.
– Я боюсь.
– Бояться тут нечего. Я же с тобой. Я обо всем позабочусь.
Исайя вернул руки на место.
– Вот так, помаленьку, полегоньку. Мы просто попробуем.
На кладбище было тихо, только сухие листья мели по могильным камням. А потом Исайю вдруг что-то потянуло за пальцы, как будто клюнула рыба. Связь зазмеилась вверх по Билловой руке, согревая, приятно жужжа под кожей. Все тело мальчика напряглось, зато голос сделался спокойным, как у сомнамбулы.
– Я вижу дом и длинную дорогую. Много неба.
– Да. А номер ты видишь, малыш? – Сила так и текла из Исайи в Билла.
Надо быть осторожнее, не выпить мальчишку до дна. Нам нужен только номер.
– Дерево, – Исайя дернулся; в голосе проступил страх. – Дерево.
– Ну, ты же не боишься никаких деревьев, правда? – сказал Билл немного раздраженно.
Исайя снова дернулся, раз, другой, вырываясь из рук Билла. Черт. Нельзя тут больше торчать, а не то мальцу придется худо. Но Голландцу нужны деньги, а значит, Биллу нужен номер.
– Номер! Какой номер ты видишь?
Исайя задрожал с головы до ног. Билл чувствовал, как дрожь бежит по его рукам.
– Один, четыре, четыре, – сказал мальчик и повторил, уже громче: – Один, четыре, четыре.
Это не могло бы правдой. Сто сорок четыре – это число Исайя выдал ему в прошлый раз, и тогда Биллу крупно повезло. Но какова вероятность, что выигрыш снова упадет на него, и так скоро?
– Ты уверен, что все правильно разглядел, малыш? Посмотри-ка внимательнее…
– Один, четыре, четыре! Один, четыре, четыре! Призраки идут! Призраки придут за нами! Призраки идут, Призраки идут, Призраки идут…
Боже всемогущий, как жжет кожу! Мальчишка вцепился в него только так! Теперь Билл сам не мог вырваться…
– И… сай… я! – прорычал он, скрипя зубами.
– Змея и дерево, и призраки на дороге! Человек, человек, человек в цилиндре идет!
Тело Исайи начало гнуть и корчить. Еще несколько секунд, и будет поздно. Закричав, Билл разорвал контакт и едва успел подхватить Исайю на руки, когда тот начал падать.
– Тише, тише, тише, – забормотал Билл, хотя мальчик был там, где ничего не слышат.
Слепец положил ему руку на грудь. Дыхание есть, слава богу, а через мгновение раздался и голос, немного сонный.
– Мистер Джонсон?
– Я тут, я тут, малыш. Твой дядюшка Билл здесь. C тобой все хорошо?
– Аххха. У меня был еще один припадок? – спросил Исайя, и Билл расслышал у него в голосе нарастающий ужас.
– Нет, что ты. Никакого припадка не было. Просто… когда ты видишь тот, другой мир, ты в этом как бы немножко засыпаешь. Вот и все. Просто поспал чуток. Ничего в этом плохого нет. Как ты себя чувствуешь?
– Хорошо. Хотя вроде немного устал.
– Но ты же помнишь, что я тебе сказал? Это теперь будет наш секрет.
– Да, сэр.
– И ты никому не скажешь, чем мы с тобой занимаемся, пока не сможешь показать, как у тебя все теперь хорошо получается?
– Нет, сэр! – Мальчишка звучал легко, весело, как жеребенок, которого наконец-то отпустили вволю побегать.
– Даже брату?
Последовала пауза.
– Его все равно никогда рядом нет.
– Зато есть я. Ни о чем не волнуйся, сынок. Я всегда буду рядом.
Исайя взял его за руку, и они вместе вышли из мавзолея. Билл притянул его к себе и потрепал по плечу.
– Что скажешь, если мы прямо сейчас отправимся к Реджи и как следует угостимся мороженым?
– Да, сэр!
– А теперь скажи, кто у нас особенный мальчик?
– Я, – негромко проговорил Исайя.
– Уверен? По мне, так это как-то неуверенно прозвучало, – поддразнил Билл, и на сей раз Исайя ответил таким звонким «Я! Я!», что кругом вспорхнули и загалдели птицы.
– Ну, тогда веди нас, сынок.
Один, четыре, четыре. Билл сыграет номер еще раз и посмотрит, как он повторно окажется счастливым.
– Мистер Джонсон? – вдруг спросил Исайя, когда они уже вышли с кладбища и рука об руку двинулись к центру Гарлема, пряча носы от ледяного, кусачего ветра.
– Да, молодой человек?
– А кто такой Гийом?
Пневматика мистера Бича
Едучи на автобусе в библиотеку Сьюард-парк, мыслями Лин все равно была вся во вчерашнем ночном путешествии. Она приставила пальцы к холодному оконному стеклу, вспоминая, как они совсем недавно обращали пейзаж сна во что-то совершенно другое, создавали из старых атомов нечто новое и полное сил. Целая вселенная жила у нее внутри, и сама она одновременно волна и частица – вечно в движении, вечно в потоке перемен. Все было так волшебно… – кроме того странного момента с тоннелем, когда Вай-Мэй испугалась. Конечно, у этих световых вспышек и звуков должно быть какое-то научное объяснение – возможно, некий источник энергии, который неплохо бы найти и исследовать. Потому что ни один из призраков, c которыми Лин до сих пор доводилось общаться, так себя не вел.
Библиотекарша, миссис Белпр, встретила Лин улыбкой и принялась расспрашивать, как ей понравилась предыдущая партия книг, и советовать новую. Лин поинтересовалась, не знает ли та брачную контору по имени «О’Баннион и Ли», но миссис Белпр только головой покачала.
– А как там твой друг, Джордж? – негромко спросила она.
– Все так же, – отвечала Лин.
– Надеюсь, он скоро проснется, – библиотекарша утешительно похлопала Лин по руке.
Лин смутно, фрагментами помнила сон о Джордже, который видела давеча ночью. Сны – они ведь символы, кусочки мозаики. И эту она сложить покамест не могла, хоть ты тресни. Однако было что-то такое, важное в видении Джорджа на железнодорожной станции.
На станции… вот ведь любопытно.
Путешествуя по снам, Лин могла достаточно ясно читать написанное, тогда как в обычных снах – нет, никогда. Слова расплывались перед глазами или внимание убегало куда-то в сторону. Но этой ночью – да-да, теперь она вспомнила! – ей удалось совершенно отчетливо прочитать надпись «ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ МИСТЕРА БИЧА». Повинуясь внезапному импульсу, Лин отправилась к карточному каталогу и перебирала ящики, пока не наткнулась на запись, от которой у нее мурашки побежали по шее. На карточке серым по белому было напечатано: «Пневматическая транспортная компания мистера Бича».
Ага, так она реальна. Или, по крайней мере, была.
Лин отложила свои научные тома и закопалась в подшивки старых газет, c изумлением читая о месте, которое нашли они с Генри и которому вроде бы полагалось существовать только во снах.
«НЬЮ-ЙОРК ТРИБЬЮН»
26 февраля 1870 года
ПОРАЗИТЕЛЬНОЕ ДОСТИЖЕНИЕ!
МИСТЕР А.Э. БИЧ ТОРЖЕСТВЕННО ОТКРЫВАЕТ
ПНЕВМАТИЧЕСКУЮ ПОДЗЕМНУЮ ЖЕЛЕЗНУЮ ДОРОГУ!
Жители города просят продлить линию до Центрального парка!
Сегодня утром глубоко под суетой и шумом нью-йоркских улиц состоялось торжественное открытие настоящего чуда из области общественного транспорта. Пневматическая транспортная компания мистера Бича, созданная благодаря усилиям целой команды специалистов, работавших день и ночь (и до самого недавнего времени – под покровом строжайшей тайны), была представлена сгорающей от любопытства публике своим автором и архитектором, мистером Альфредом Эли Бичем, редактором «Научной Америки».
Целый год угол Уоррен-стрит и Бродвея, занятый магазином готового платья мистера Девлина (адрес Бродвей, 260), привлекал к себе самое пристальное внимание горожан. Прохожие отмечали сильное дрожание грунта, горнопроходческое оборудование и кучи земли, еженощно появляющиеся позади магазина. И вот сегодня тайна оказалась раскрыта, и все это захватывающее предприятие стало достоянием гласности.
«Леди и джентльмены, сегодня мы представляем вам будущее общественного транспорта – да, прямо под этими самыми улицами! Это Пневматическая транспортная компания мистера Бича. Узрите это чудо своими глазами и поразитесь могуществу науки!» – сообщил лично мистер Бич блестящей аудитории, собравшейся в элегантно обставленном зале ожидания и состоящей из репортеров, официальных лиц и городских политических деятелей, жаждущих прокатиться на новом подземном чуде: линия идет параллельно всей длине Бродвея, начинаясь на Уоррен-стрит, под магазином готового платья мистера Девлина, и заканчиваясь на Мюррей-стрит. Длина ее, таким образом, составляет триста футов; состав движется посредством воздушной струи, нагнетаемой мощным вентилятором. Мистер Бич сообщает, что готов строить и более длинные тоннели.
Лин на всякий случай еще раз прочитала статью: Пневматическая транспортная компания Бича; магазин готового платья Девлина; Бродвей, 260; угол Бродвея и Уоррен. Статью сопровождала нарисованная художником картинка: станция в день открытия. Вот зал и приподнятая на подиум зона ожидания; вот люстры, и фонтан, и даже рояль. Это было в точности то место, откуда начиналось их путешествие. Лин яростно накинулась на остальные вырезки и вскоре обнаружила вторую статью.
ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ МЕЧТА МИСТЕРА БИЧА ВЫДОХЛАСЬ.
Город намерен закрыть первую подземную железную дорогу.
Лин быстро прочла статью. Кажется, мистер Бич крупно попал со своей экспериментальной мечтой. Сколь бы многообещающей она ни казалась, в 1873 году на Нью-Йорк, а с ним и на всю страну обрушилась экономическая паника. На то, чтобы продвигать дальше проект подземной железной дороги, уже просто не было денег. В том же году этот прототип подземки закрыли, а станцию на некоторое время превратили в тир. В 1875-м всю эту красоту замуровали совсем.
В дальнейших материалах Пневматическая транспортная компания мистера Бича фигурировала лишь мимоходом. Город не стоял на месте. Магазин готового платья Девлина превратился в «Роджерс, Пит и Ко», а потом и вовсе сгорел. На его месте поставили новое здание. В 1904 году у мэрии открылась первая станция подземки, «Сити-Холл» – совсем рядом со старой пневматической дорогой. Копались новые тоннели, строились новые линии, но мистер Бич всего этого уже не увидел. Его пневматическая транспортная греза давно почила, оставив по себе только невнятную сноску на страницах нью-йоркской истории.
Тогда с какой же стати она снова возникла у Лин и Генри во снах?
У дверей возникла какая-то суматоха. Оказалось, прибыли полицейские и теперь приказывали посетителям собирать свои вещи и отваливать. Миссис Белпр на профессионально пониженных тонах спорила с медицинским инспектором, который пытался выудить у нее имена всех, кто захаживал в библиотеку в последние две недели.
– …в целях дальнейшего расследования, – говорил он. – В конце концов, это вопрос общественного здоровья.
– Категорически нет, – миссис Белпр была тверда, как кремень. – Это вопрос неразглашения частной информации.
– Что там такое? – шепотом спросила Лин у матери, спешно собиравшей детей.
– Они закрывают библиотеку из-за этой сонной болезни, – ответила на кантонском та. – Боятся, что книги могут быть заражены. Называют это «чрезвычайной ситуацией в области общественного здравоохранения». Сегодня утром они уже закрыли начальную школу и заколотили храм и общественные бани.
Полицейский подошел к столу Лин.
– Все должны немедленно покинуть помещение, мисс, – сказал он, почти извиняясь.
Лин аккуратно сложила книги и газеты стопкой на столе и проследовала к выходу.
На крыльце человек с ведром клея и кистью прилеплял к парадным дверям объявление:
ЗАКРЫТО ВПЛОТЬ ДО ОСОБОГО РАСПОРЯЖЕНИЯ ДЕПАРТАМЕНТОМ ЗДРАВООХРАНЕНИЯ НЬЮ-ЙОРКА
Лин стояла на остановке, ожидая автобуса домой, в Чайнатаун. Мысли ее лихорадочно блуждали. Итак, значит, Пневматическая транспортная компания на самом деле существовала. Она располагалась под магазином готового платья мистера Девлина. И они с Генри каждую ночь видели то и другое в своих путешествиях на ту сторону мира. Приехал автобус, но Лин на него не села. Вместо этого она вскарабкалась в бродвейский трамвай, идущий к Сити-Холл-парку.
Во сне Джордж привел ее к питьевому фонтанчику. Вот его-то Лин и отправилась искать, пока не нашла. Она глотнула воды, полюбовалась на гувернанток, толкавших детские коляски по аллеям. И что, интересно, она надеялась тут найти? Рядом с фонтанчиком действительно располагалась решетка люка. Лин встала над ней и поглядела сквозь старые металлические прутья вниз, в жерло подземелья, чувствуя дующий оттуда ветер.
– Не будет лишнего пенни, юная леди? – осведомился бродяга с ближайшей скамейки.
От него воняло мочой, и Лин малость передвинулась, чтобы уйти из-под ветра. Она глядела на симфонию суматошного Бродвея: автомобили, трамваи, люди безостановочно сновали во все стороны. Ночью она стояла на этом самом месте, и Джордж показал на что-то у нее за спиной. Что она должна была увидеть? Лин придирчиво изучала шеренгу офисных зданий, пока внезапно не поняла, что именно с этого угла они с Генри уже которую ночь наблюдали странную временную петлю в самом начале их совместного путешествия – просто из более давнего времени. Как будто их двоих преследовал город-призрак, затерявшийся на страницах истории.
– Нездорово на улице в такую холодрыгу, мисс, – снова заговорил бродяга, и на сей раз Лин бросила пенни ему в ладонь.
– Спасибо, мисс. Да уж, холодрыга так холодрыга. Раньше я спал там, в тоннелях, – он кивнул на решетку в земле. – Да только туда я больше не ходок. Теперь там рыщут плохие сны. Прямо слышишь, как они тебя зовут. Плохие сны – они забрали Сэл, и Моисея, и Ральфа. И старого Патрика с женой его, Модди, c тех пор ни слуху ни духу.
Тут он выпучил глаза и зашептал настойчиво и испуганно:
– Что-то там есть, внизу, вот что я вам скажу, мисс. Призраки!
Он поглядел вверх, на призрачные силуэты туманного города, и, вскочив со скамейки, побрел, протягивая руки вдогонку шедшей мимо паре.
– Простите, добрый сэр, милая мисс, пенни не найдется?
В воздухе отчетливо пахнуло надвигающимся ливнем. Лин вышла из парка и таки села на автобус до Чайнатауна. На краю Малберри-стрит у Коламбус-парка собралась толпа. Какой-то человек с мегафоном в сопровождении китайца-толмача разъяснял ей, что с этой минуты начинаются обязательные для всех медицинские обследования.
– Все резиденты должны явиться на освидетельствование с документами, удостоверяющими личность, – отрывисто гавкал он в рупор.
В толпе поднялся ропот.
– Вы не можете так с нами обращаться! У нас есть права! – закричал Томас Чун, двадцативосьмилетний юрист, так, на минуточку, из самого Принстона.
Тут, в парке, рядом с матерью и отцом, он выглядел весьма героически – прям как Джек Марлоу, подумала Лин.
– Права есть у граждан! – заорал на него в ответ человек с мегафоном.
– Я тут родился. Я – гражданин. Но мы все люди, и поэтому у нас есть права! – заявил Томас.
Остальные поддержали его громкими криками – и там были не только жители Чайнатауна, но соседи подальше, c Орчард-стрит, и с Ладлоу, и из Маленькой Италии.
– Если не подчинитесь, мы будем вынуждены отправить вас всех в карантинные лагеря! – кричал мегафон.
– Лин!
Лин обернулась: к ней сквозь толпу протискивалась Грейси Лэнь.
– Лин! Ты уже слышала? – воскликнула она, дотолкавшись до нее. – Правда, кошмар?
– Что слышала? – рявкнула Лин.
Как же она ненавидела, когда они вот так, едва переводя дух, кидались в нее свежими сплетнями.
– Про Джорджа!
Лин похолодела.
– И что про Джорджа?
Грейси разразилась слезами.
– Ох, Лин. Он умер!
Весь парк сжался в точку. Лин едва могла вздохнуть.
– Поэтому они тут и собрались! – Грейси ткнула пальцем в человека с рупором, другой рукой вытирая мокрые глаза. – Мама нашла его сегодня утром. Все тело было покрыто нарывами, словно его съели изнутри и ничего, совсем ничего не осталось. А когда они пришли забирать его, кости… – Грейси проглотила всхлип, – его кости рассыпались в прах.
Лин вспоминала самый конец своего сна. Что-то ужасное надвигалось на Джорджа… Он и так уже выглядел мертвым, как осужденный на казнь, который знает, что палач уже готов и ждет. Лин Чань – проснись! – сказал он. Вернее, приказал.
Ее предупредили.
Взгляд в небо
– Ты сегодня жутко тихая, мисс Чань, – заметил Генри от рояля, когда они ждали на станции поезда в мир сновидений.
Внизу Лин сидела на бортике фонтана, бездумно болтая пальцами в воде.
– Мой друг, Джордж Хуань, умер сегодня, – безжизненным голосом проговорила она. – У него была сонная болезнь.
Золотая рыбка сверкнула сквозь воду оранжевым сполохом.
– О, Лин… мне ужасно жаль слышать это, – сказал Генри, подходя и садясь рядом.
– Спасибо, – пробормотала Лин. – Он мне снился. Прошлой ночью.
Генри помолчал.
– Может, он попрощаться приходил?
– Может.
Да только тот сон был ни разу не мирный. Смерть Джорджа сильно ударила по Лин. Она как-то всю дорогу верила, что он выкарабкается – такой был молодой и сильный. Нет, конечно, Лин понимала, что болезнь капризна и честного поведения от нее ждать не приходится. В конце концов, она, Лин, тоже молодая и сильная, но ее ногам это совсем не помогло.
На станцию с шипением ворвался поезд. Ни слова не говоря, Генри предложил руку, и Лин не отвергла ее.
– Что случилось, Маленький Воин? – ахнула Вай-Мэй, стоило Лин выйти из вагона посреди леса.
– Сегодня сонная болезнь унесла ее друга, Джорджа, – ответил за нее Генри.
Они трое немного постояли, слушая птичье чириканье и не зная, что сказать дальше.
– Мы должны упокоить его дух, – заявила, помолчав, Вай-Мэй.
– Ты это о чем? – спросил Генри.
– Очень важно почитать мертвых. Это нужно, чтобы они были счастливы на том свете, особенно если смерть была тяжелой, – ответила Вай-Мэй. – Иначе дух не обретет покоя.
Генри вспомнил мать – как она сидела на кладбище, перебирая бусины четок, обретая покой в разговорах с расписными святыми. И Гаспара он тоже вспомнил: они с Луи похоронили его вместе с суповой косточкой. Ритуалы – вещь важная.
– Я приведу Луи, – сказал он. – Мы все сделаем как надо. В китайско-новоорлеанском стиле.
Генри, Луи, Вай-Мэй и Лин поднялись на холм над золотой деревней. Луи сыграл на скрипке медленную мелодию, а Генри спел гимн, который выучил еще мальчиком. Вай-Мэй отломила веточку с ближайшего куста и превратила ее в благовоние, которое зажгла от свечки, сделанной тут же из травинки. Сладкий, дымный аромат сплелся с сосной и гарденией.
– Как ты это сделала? – спросил пораженный Генри.
Но Вай-Мэй уже собирала пригоршню камушков, которые сжала в кулачке с выражением свирепой сосредоточенности на лице. В раскрывшейся мгновение спустя ладони очутилась чашка чаю.
– За твоего друга, – сказала она, и Лин поставила приношение на подстилку из полевых цветов.
– У меня нет картинки с Джорджем, – сказала она. – А картинка нужна!
Вай-Мэй протянула ей прутик.
– Рисуй.
Лин сделала, как ей сказали. На земле получилась схематичная физиономия: кружок, два штриха вместо глаз, палочка-нос и палочка-рот. Она подняла глаза на Вай-Мэй.
– Ты знаешь, что делать, – сказала та и подвела руки Лин к лицу на земле.
Лин покачала головой.
– Вряд ли я смогу.
– Сможешь, – заверила ее подруга.
Лин закрыла глаза и попробовала представить лицо Джорджа, но смогла увидеть только призрачное, из последнего сна. Она вдохнула поглубже и увидела другое: Джордж, каким она знала его всегда. Тощий, быстрый как заяц, на губах полуулыбка, брови задраны вверх, будто он все время чему-то удивляется. Это его глупое хрюканье… Всякий раз, как открывалась дверь «Чайного дома», от устремлял на нее полный надежды взгляд, словно туда мог войти кто-то с его, Джорджа, радужным будущим в охапке.
В кончиках пальцев у нее загудело. Будто искры разбежались по всей коже и прямо вверх, в шею, так что в голове вдруг стало легко и пусто, как в воздушном шарике. А потом глубоко внутри что-то завибрировало, как если б какая-то ее часть стала единым целым с миром сновидений, и все ее молекулы потоком понеслись вписывать в него нечто, до сих пор ненаписанное. Земля пошла трещинами.
Лин открыла глаза; ее слегка подташнивало, и голова кружилась. Там, где только что был ее грубый набросок, к солнцу тянулся побег, изжелта-зеленый от новой юной жизни. Из белых почек уже рвались наружу крошечные алые бутоны. Свет играл отблесками на его новехоньких усиках. Такой смешной и такой совершенный! Это была самая суть Джорджа: что-то вечно на грани рождения, что-то, не готовое умереть. Она отвернулась, чтобы остальные не увидели ее слез.
– Я сделала это, – прошептала Лин, и она не знала, что за слезы текут по ее щекам: горя по умершему другу или виноватой радости от сознания своей новой силы.
Мимолетная молния озарила пейзаж. Верхушки деревьев утратили форму и цвет, словно стертые рассерженным ребенком. На мгновение воющий насекомый хор пронзил тишину, но лишь на мгновение. Вай-Мэй произнесла молитву над символической могилой Джорджа. Лин собрала пригоршню алых цветков и положила рядом с деревцем.
– За Джорджа. Пусть все его сны теперь будут только счастливыми.
Генри посмотрел на Луи, и они вдвоем затянули веселую песню, словно шли за гробом по Бурбон-стрит, где печаль уступает дорогу радостной памяти о прожитой жизни. Небо снов у них над головой окрасилось золотом.
– Когда я умру, надеюсь, кто-нибудь помянет меня так же хорошо, – тихо сказала Вай-Мэй.
Маленькая стая белых цапель неподалеку снялась и взлетела, выкликая что-то сияющим розовым облакам.
Вай-Мэй схватила Лин за руку.
– Гляди! Его душа теперь свободна!
Лин смотрела на небо и потому не увидела проснувшийся в глубине тоннеля пульсирующий свет. И скрипучего, рычащего хора, вздымающегося там, во тьме, она тоже не услышала.
Сны повсюду
Сны были повсюду.
С самого первого своего вздоха люди выдыхали жажду, пока желание не пропитало воздух насквозь.
Джерико снилась Эви. В небе над нею взрывались фейерверки. Неровный свет придавал лицу ангельскую светоносность и явственно очерчивал тело под тонкой блузкой. Губы так манили, что Джерико простонал, не просыпаясь, ее имя.
Сэму снилось, что он маленький и гуляет с мамой за ручку, купаясь в ощущении любви и безопасности. Правда, их вскоре разлучила толпа каких-то солдат, заполонивших улицу. Сэм потерялся. А потом из радиоприемника в витрине магазина донесся мамин голос:
– Найди меня, Лисеночек!
Мэйбл у себя во сне поднялась на высоченную платформу и окинула горделивым взглядом скандирующие ее имя полчища людей. Они все пришли только ради того, чтобы увидеть ее – и никого больше.
Исайя видел во сне мальчика в канотье и зеленоглазую девочку, таких безмятежно счастливых; он боялся за них, словно предчувствовал надвигающуюся на их идиллию бурю. Он кричал и кричал, что они в опасности, но ни звука не вырвалось у него изо рта.
А напившаяся джина Эви поутру все равно бы не вспомнила своих снов.
Тэте снился Мемфис, а Мемфису – Тэта, и в обоих снах они были счастливы, а мир – добр.
Впрочем, сон невозможно удержать надолго. Он естественным образом стремится вперед. Вверх. Прочь. Сквозь все преграды и барьеры – в мир.
Это же относится и к кошмарам.
В сумрачном тоннеле бледные твари ползли по стенам и выбирались вон, на старую станцию, пробовали ржавые ворота. Когда те отворились, они жадно втянули сырой воздух, напитанный опьяняющими испарениями стольких неутоленных желаний, высунули языки, отведали его на вкус, двинулись дальше, дальше, вытекли в городские коллекторы, в мили тоннелей подземки, прячась в проемах отводков, когда мимо проносились поезда. Они мешкали в тенях по краям станционных платформ, любуясь оттуда яркими светочами людей, до краев исполненных устремлений.
– Сны… мечты… – алчно бормотали они.
На подстанции номер одиннадцать, что под Парк-роу, вращающиеся преобразователи вдруг затряслись и встали, приведя в полное замешательство двоих рабочих. Некоторое время они глубокомысленно постукивали по шкалам контрольной панели, но те не удостоили их ответа.
– Я схожу, Уиллард, – сказал тот, что помоложе, по имени Стэн.
Он взял из ящика разводной ключ и, вооружившись фонариком, двинулся по футуристического вида коридору, выстланному гудящими трубами и проводами, а потом спустился по железной лестнице в комнату с преобразователями – этим чудом современной инженерии, – которая стояла сейчас необычно тихая и темная. Щелканье переключателями на стене не дало никакого результата. Луч фонаря лизнул молчаливые громады конвертеров; сейчас, во тьме, они походили на круглые спины спящих великанов. В дальнем конце комнаты за одним из них пульсировал странный свет – наверное, искрила проводка; возможно, уже даже небольшой пожар разошелся. Стэн осторожно приблизился и остановился, только когда услыхал звук – тихий, сладкий, утробный рык, сменившийся затем низким, визгливым воплем, пробравшим беднягу Стэна холодом до самых костей.
– Кто там? – выдавил он, покрепче берясь за свой разводной ключ.
На мгновение воцарилась тишина, такая полная, что Стэн слышал только собственное дыхание, усиленное похожей на грот комнатой. А затем, безо всякого предупреждения, крик взорвался грозовым фронтом. Он звучал так, словно его, нота за нотой, рвут насильно из глоток сотни проклятых душ сразу, и заполнил собой всю комнату, так что понять, откуда он идет, уже не было никакой возможности.
За конвертером снова затрещал, заискрился свет – одна вспышка, две, три, – кидая макабрические тени на высокие, облицованные белым кафелем стены подстанции.
А потом тварь вышла из своего убежища. Кажется, когда-то она была человеком… но теперь однозначно превратилась во что-то другое: белая, как тесто, кожа, растресканная, как сухая земля, и испещренная багровыми пузырями и язвами; от волос остались какие-то жидкие пучки. Мутно-голубые бездушные глаза пялились с мелового, черепообразного лица. Безжалостный свет фонаря выхватил бритвенно-острый ряд мелких, пожелтевших зубов в гнилом, незакрывающемся рту.
– Помогите… – прошептал Стэн, беспомощно, как перепуганный ребенок – потому что картинка была точь-в-точь из кошмара, надежно запертого за дверями детской.
А существо тем временем увидело Стэна. Оно склонило голову набок, принюхалось. Где-то глубоко в его утробе начался рык, как у собаки, предупреждающей не подходить к ее еде. Черная слюна закапала по углам рта, а потом челюсть вдруг откинулась вниз – куда шире, чем полагалось человеческой. Оно снова завопило, и Стэну уже стало все равно, что он только что намочил штанишки или что ревет во весь голос, потому что он со всех ног кинулся назад, к двери. Бежать-то он бежал, да все без толку – потому что тварь была не одна. Юркие, как жуки, они рассыпались по всей комнате, и уже ничто – ни гаечный ключ, ни фонарик, ни даже сам разум – не могло спасти его от наступающих сияющих силуэтов.
Наверху, в приборной, Уиллард качался на стуле, насвистывая себе под нос, пока вопль Стэна из недр подстанции не заморозил его на месте.
– Господи Иисусе, – Уиллард резко втянул воздух сквозь стиснутые ужасом зубы. – Стэн? – позвал он, и еще раз: – Стэн, это ты?
Ему не ответили.
– Стэн?
Ничего.
Уиллард знал, что ему надо бы встать. Надо взять фонарь и пойти разбираться, что там да как. Левой, правой, левой, правой, и вниз по лестнице – все просто.
Он, однако, не двинулся с места.
– Стэн? Ты в порядке? – позвал он снова, но на сей раз как-то потише.
Надо досчитать до пяти. Если Стэн не появится до тех пор, что уж делать, придется идти. Почти не дыша, Уиллард стал тихо считать:
– Раз… два… три…
Он хрипло вдохнул.
– Четыре…
И еще раз вдохнул.
– Пя…
Ему ответили – жутким криком. В обе стороны по коридору за дверями приборной лампочки дико замигали, а потом вырубились одна за другой, словно кто-то высосал электричество, как коктейль, через невидимую соломинку. Странное дело, но Уиллард все еще не мог заставить себя отправиться выяснять природу звука – даже заслышав приближающееся к дверям снаружи утробное ворчание и странные, скрипучие, одышливые взвизги.
Кошмары пришли к нему сами.
И, как это свойственно людям и снам, они хотели еще.
Маленький рай
В половине первого ночи Мемфис пасся на тротуаре перед клубом «То что надо!», нервно побрякивая мелочью в кармане брюк от взятого напрокат фрачного костюма. Накрахмаленный воротничок был туг, как медицинский жгут. Он перечитал написанное сегодня стихотворение, сложил бумажку, сунул в карман фрака и снова принялся мерить тротуар, то и дело бросая нетерпеливые взгляды вдоль улицы.
– Господи, Мемфис, ты того и гляди дыру в этом тротуаре протопчешь, – сказал Кларенс, швейцар. – Тебя кто-нибудь ждет?
– Скорее уж я жду кого-нибудь, – пробурчал в ответ Мемфис.
К подъезду подкатило такси, знакомый хриплый голос сказал: «Сдачу оставьте себе», – он обернулся и увидал выходящую с заднего сиденья Тэту в черном, сплошь расшитом стеклярусом платье и боа из белого песца. Глаза она густо подвела карандашом, так что они сияли, как две темные жемчужины; черная прическа-боб была сплошь лоск и острые углы. Улыбка плясала в уголках ее багряного рта, когда она заскользила к Мемфису, будто потустороннее видение.
– Вечер добрый, Принцесса, – сказал он, когда смог, наконец, говорить.
– Прекрасно выглядишь, Поэт.
– Ты… – он поискал подходящее слово, – ослепительна.
Тэта выгнула тонкую бровь.
– Напомни, чтобы в следующий раз я положила в сумочку словарь.
– В следующий раз… – Мемфис заухмылялся от уха до уха. – Мне нравится, как это звучит.
Кларенс выразительно на него посмотрел и распахнул дверь. Мемфис отмел инициативу взмахом руки.
– Мы что, не идем внутрь? – удивилась Тэта.
– Не сюда. Это сюрприз, забыла?
Мемфис препроводил Тэту на угол Седьмой авеню и Сто Сорок Третьей улицы. Показался патрульный полисмен, и Мемфис поскорее отстал, проложив между собой и Тэтой предупредительную дистанцию. Коп сделал ей под козырек, та ответила прохладной улыбкой. Когда тот удалился на безопасное расстояние, Мемфис снова поравнялся с Тэтой.
– Следующий угол, – сказал он.
– Что за большой секрет ты намерен мне открыть?
– Сама скоро узнаешь. Закрой глаза. Так, теперь три очень больших шага, и-и-и… открывай.
Тэта прищурилась на раскинувшийся перед ней светящийся навес.
– «Маленький рай»? Это что, шутка?
Мемфис по-хозяйски заложил большие пальцы за лацканы.
– А что, похоже, что этот джентльмен во фраке шутит?
– Ладно, сдаюсь. И по какому случаю?
– Сегодня восемнадцатая годовщина нашего самого первого свидания, – осклабился Мемфис.
– Это же совершенно шикарное место. Откуда капуста, Поэт? – прошептала Тэта, пока белоперчаточный швейцар приветствовал их ледяным «добрый вечер».
– А, так, продал кое-какие акции. Сделал состояние на канадском виски. Обнаружил, что я на самом деле из Рокфеллеров. Ну, ты знаешь, как оно бывает.
На самом деле он долгие месяцы копил деньги на этот выход.
Он сунул метрдотелю пять тяжким трудом заработанных долларов, и тот сей же час проводил их к весьма приличному столику – не совсем уж хорошему, вроде тех, где сидели действительно богатые ребята, дающие на чай куда больше пятерки, или действительно знаменитые, которые просто впархивают в ресторан и сразу же приземляются за специально для них поставленный столик у самого танцпола, – но и такой сойдет. В клубе было правило, что можно приносить алкоголь с собой, но Мемфис твердо вознамерился купить у официантов бутлег. Это было дорого, но так, по крайней мере, деньги оставались крутиться тут же, в Гарлеме, и Мемфис был ужасно горд пофорсить этим перед своей девушкой. Ему хотелось предстать перед нею не едва сводящим концы с концами поэтом, который живет у родной тети и спит в одной комнате с младшим братцем, а на жизнь зашибает у подпольного гарлемского букмекера – короче, не мальчишкой, который учится жизни на ходу, но мужчиной совершенно в теме. Кем-то стóящим. Вроде тех, c кем она общается постоянно.
Местный бэнд – «Райский Оркестр Чарли Джонсона» – держал джаз на медленном огне; музыка ровно побулькивала для толпы танцующих, так плотно набившихся на площадку, что непонятно было, как они там вообще умудряются двигаться. Фрачные официанты сновали между столиками, высоко вознося тяжело груженные подносы и не проливая ни капли. Самый предприимчивый из них даже рассекал по залу на роликовых коньках. В общем, атмосфера тут царила как в гламурном, блестящем, вседозволенном цирке.
– Когда этот ансамбль устанет, его место займет другой, – Мемфис попробовал перекричать шум. – Чтоб можно было плясать без перерыва. К восходу тут все еще будет в разгаре. Мы можем спокойно веселиться всю ночь.
– Будем надеяться, на сей раз обойдется без облавы, – прокричала в ответ Тэта.
– Если бы не та облава, мы бы с тобой не встретились.
– Это правда. Но одного побега с нас вполне достаточно, не находишь?
К столику подрулил официант и подал коктейли в чайных чашках.
– Ваш заказ, мисс, сэр, – сказал он, но Мемфис отчетливо расслышал под профессиональной любезностью вездесущее «что ты здесь делаешь с белой женщиной, ублюдок?».
– Благодарю вас, – сказал он с преувеличенной любезностью, сам едва не кипя.
Будто постоянно извиняешься за преступление, которого не совершал, ей-богу. Даже сейчас, глядя украдкой по сторонам, он видел осуждение на некоторых лицах. Но возможно, если ему удастся стать великим человеком, всеми уважаемым поэтом, это поможет прогнуть правила. Он ведь сейчас писал каждый божий день. Уже целую тетрадь набил новыми стихотворениями. Ну, вроде того, что сейчас в кармане, – его он написал специально для Тэты.
Мемфис то и дело бросал на нее взгляды, надеясь, что сумел произвести впечатление. Тэта смотрела на танцоров. В прошлый раз, на маяке, она сказала, что все хорошо, все в порядке, но Мемфис мог поклясться, что это не так. Он боялся, что дело в нем, что его недостаточно, и именно поэтому хотел сделать сегодняшний вечер особенным.
– Все хорошо, Принцесса?
– Все просто пухло! – отвечала она, но под тонким перчаточным шелком кожу слегка кололо жаром; она изо всех сил пыталась не паниковать.
Пустяки, это пустяки, твердила она себе и упорно глядела на танцпол. Несколько глубоких вдохов, и колотье, кажется, унялось. Но, увы, она чувствовала его все чаще и чаще – c той самой ночи в театре, когда бежала, спасая свою жизнь от Пентаклевого Душегуба. Однажды это с ней даже во сне случилось. Она пробудилась от кошмара, в котором визжащие лошади неслись, не разбирая дороги, сквозь горящую деревню, – только чтобы обнаружить, что ладони у нее горячи, как только что разожженные угли. Пришлось срочно сунуть их под холодную воду.
– Ну, что ж, тогда мне, видимо, нужно отдать тебе вот это, – Мемфис вытащил из кармана сложенный лист бумаги и положил на стол рядом с ее чашкой.
– Что это такое?
– Подарок на годовщину, – сказал Мемфис. – Работал над ним целую неделю.
Тэта потеребила краешек бумаги.
– Мне прочесть это сейчас или потом?
Мемфис пожал плечами.
– Как тебе будет угодно.
Жар снова лизнул ее пальцы, сердце сильно забилось.
– Я… думаю, я сохраню это на потом, как настоящий подарок, – сказала Тэта, засовывая листок под расшитую стеклярусом сумочку.
Она была готова расплакаться, но боялась, что в таком случае руки снова возьмут инициативу на себя, и потому так пристально уставилась на танцоров, что они слились в мозаику размытых цветных пятен.
Мемфис полез пальцами за воротничок. Его особенное юбилейное свидание, кажется, стремительно катилось под откос. Компания белых парней вела своих дам на танцпол – все такие хохочущие, беззаботные. Каждую ночь они заваливались сюда целыми машинами, чтобы как следует подзавестись, а потом ехали обратно в центр, увозя веселье с собой, расплескивать драйв в бродвейских шоу, в элегантных клубах, в отелях, куда вход разрешен только с правильным цветом кожи. Мемфиса просто выжигало изнутри то, что они могут вот так преспокойно заявиться в его район, в его клуб вместе со своим девчонками, и никто им на это слова лишнего не скажет. Им и полагалось тут бывать, какие могут быть вопросы. А вот ему, Мемфису, в своем собственном доме и со своей собственной девушкой приходилось вести себя осторожно.
Под столом, незримо для всех, он переплел пальцы с пальцами Тэты, радуясь шелковой мягкости ее перчаток. Просто погладить ей ладонь – уже счастье. В нескольких столиках от них компания гарлемских шишек глядела на них с возмущением. Да пошли они все! К черту белую шваль, которая смеет устанавливать тут правила… и Гарлем тоже к черту – за то, что покорно по ним играет!
Мемфис сжал руку Тэты покрепче, так что она даже ахнула.
– Доверься мне, – прошептал он, вытащил переплетенный узел рук из убежища и уложил посреди тихого белого океана скатерти.
После чего с вызовом посмотрел на своих, тех, что за несколько столов – ну, как вам? Те отвели взгляд, и Мемфис насладился заслуженным чувством триумфа. Вот и не надо мне диктовать, как жить! Оркестр начал новый танец, и еще больше публики потянулось к и так уже битком набитой площадке. Мимо проскользнула белая пара; их руки сплетены в замок точно как у них двоих. Девица, блондинка в рассыпающей стразовые искры головной повязке, посмотрела на Тэту, на Мемфиса и снова на Тэту. Она могла сколько угодно притворяться утонченной особой, но лицо во всем этом маскараде было живым, настоящим – и выражало оно неприкрытое презрение. Она задержалась у их стола лишь на мгновение – но ровно настолько, чтобы ее реакцию заметили и оценили.
Тэта ответила ей яростным взглядом. Счастливой она при этом совсем не выглядела. Мемфис крепко держал ее за руку – все хорошо, все просто шикарно, он рядом. Ладонь была теплой на ощупь, очень теплой, и в ее глазах вызов неожиданно сменился ужасом. Она быстро выдернула у него руку. Блондинка с самодовольной улыбкой устремилась за своим кавалером и присоединилась к счастливым танцорам – а Мемфису будто нож всадили в живот.
Тэта вскочила, хватаясь за стол и почти опрокинув напиток.
– Прости, – пролепетала она, сметая со скатерти сумочку, – прости, Поэт. Я себя неважно чувствую. Мне надо домой.
И она выбежала из клуба.
– Тэта! Тэта! – закричал вслед Мемфис.
Он кинулся было за ней, но был остановлен официантом.
– Ваш счет, сэр.
– Клянусь, я сейчас же вернусь!
– О, я уже такое слышал, и не раз, – сказал тот, незыблемый, как скала, и Мемфис почувствовал себя дважды униженным: Тэтиным внезапным бегством и подозрениями обслуживающего персонала.
Белых посетителей в дверях никто не ловил. Под взглядами всего ресторана Мемфис вытащил бумажник и бросил на серебряный поднос несколько банкнот.
– Ну, что, счастлив? – ядовито осведомился он.
От особенного вечера остались одни осколки. Плюс ко всему Тэта забыла на столе подаренное ей стихотворение. Мемфис в ярости сгреб бумажку и стал проталкиваться к выходу, так и не заметив два обожженных отпечатка ладоней на краю белеющей скатерти.
Гарлемские улицы купались в неоновом рекламном свете и, казалось, насмехались над бредущим домой Мемфисом. Клубок юной, пьяной и золотой молодежи выкатился из дверей «Коттон-клуба» (только для белых) и тронулся по Леннокс-авеню, горланя «У нас все – то что надо!» на пределе глоток. Естественно, они заняли собой почти всю ширину тротуара, и Мемфис рад был бы врезаться в них, столкнуть на мостовую, но вместо этого лишь засунул кулаки поглубже в карманы костюма. В одном из них до сих пор лежало смятое стихотворение.
– Эй, ромео! Как твое большое свидание? – хохоча, поинтересовался Кларенс от дверей проклятого «То что надо!». – Да не горюй ты так, Мемфис, тут внутри полно девчонок!
Ага, только моей любимой там нет, подумал про себя тот. На краю квартала, на полузаброшенной улочке, бесконечно далекой от прелестей Леннокс-авеню, какой-то мужчина растянулся поперек тротуара и блевал спиртным. Мемфис признал в нем одного из местных пьяниц – Нобла Бишопа. Пальто на господине Бишопе не наблюдалось, того и гляди закоченеет тут насмерть.
Мемфис перемялся с ноги на ногу.
– Эй? Эй там, мистер Бишоп! С вами все в порядке?
В ответ пьяница крепко его обругал.
Отлично, ну и лежи себе, где лежал, подумал Мемфис. Тетя Октавия на это бы сказала: «Все равно нельзя помочь человеку, который не хочет, чтобы ему помогали».
Однако обитатель тротуара явно был не в порядке. Сквозь разорванную рубашку на руке виднелась рана – совсем скверная, если по чести. Мемфис стоял на холоде, разрываясь пополам.
– Похоже, вам бы надо доктора… – попробовал он.
Налитые кровью глаза глянули на него с лишенного всякой надежды лица. Голос прошелестел тонкой ниточкой звука.
– А зачем он мне? Неужто доктор сделает меня снова свободным?..
Пьянчуга положил голову на холодный тротуар и горько заплакал.
Мемфис не был доктором, и святым он тоже не был. Он никого не мог ни от чего освободить – ни себя, ни его. Зато он мог попробовать что-нибудь сделать с этим гниющим порезом – если, конечно, наберется смелости попытаться. Или и здесь его ждет неудача?
– Мистер Бишоп, я бы взглянул на вашу рану? – сказал Мемфис, придвигаясь поближе.
Сердце у него сильно колотилось; ночь и так уже выдалась гадкой, а он еще вздумал на новые неприятности нарываться.
Пьяница двинул ему, правда, без особого энтузиазма.
– Н-не нужна мне твоя помощь! С-сволочь…
– Чья-то точно нужна. Дайте я просто посмотрю, и все.
Нобл нехотя протянул руку, глядя с едва сдерживаемой злостью. Несло от него не только спиртным, но вдобавок еще и мочой. Борясь с отвращением, Мемфис взял его руку за запястье и повыше локтя и закрыл глаза, пытаясь пробиться к тому целительному островку, скрытому глубоко внутри… Ничего. Ни единой искры. Ночь стремительно переключилась с просто мерзкой на окончательно безнадежную.
– Оно ушло, – пробормотал Мемфис себе под нос, вконец отчаявшись. – Я снова все потерял.
– А ну пусти меня! – заорал ни с того ни с сего Бишоп, заезжая ему в плечо и еще раз – по уху.
– Ай! А ну, прекрати драться, старый алкаш! – Мемфис попробовал закрыться от града ударов.
– Пусти! Пусти! – ругаясь так, что небесам впору вспотеть, страдалец продолжал колошматить Мемфиса; тому крепко прилетело в бедро, и тут вся эта идиотская ночь встала у него внутри на дыбы, как девятый вал. Нет, не вылечить Нобла Бишопа он хотел, а как следует наподдать ему и еще, и еще. Он хотел дать миру сдачи. Скрипнув зубами, Мемфис схватил старика за руку и сжал что было силы.
– Хочешь, чтобы у тебя рука к черту сгнила, старый осел? А ну, кончай, а не то я тебе сам врежу! Прекрати, я сказал…
Связь прострелила сквозь него быстро и мощно, как удар электрического тока. Тело Мемфиса дважды дернулось, на языке разлился железистый привкус. Улица кругом размылась, посерела, потом озарилась светом. Последнее, что Мемфис увидел, были глаза пьяницы, круглые, как монеты, когда тот попытался что-то сказать, да так и не смог…
Кажется, Мемфис падал; кругом все ревело, как бурные воды. Потом падение прекратилось, и он снова стоял в том, другом месте, где жило исцеление – между тем миром и этим. Позади ощущалось присутствие духов: руки их ласково приняли его домой, а потом он увидел и их самих, стоящих вокруг. Смутные тени предков, облаченных в многослойные облака ткани, – они тянулись к нему сквозь поколения и океаны, неизвестные и все же такие знакомые. Мягкий, дальний ритм барабанов колотился в сердце, а с ним приглушенное пение. Теплый ветер принес запах соли и испеченного зноем песка.
Потом их руки слетели с плеч, силуэты расступились, и Мемфис увидал маму – в плаще из сверкающих черно-синих перьев она махала ему из янтарного поля поспевшей на солнце пшеницы.
– Мемфис, сынок… – Голос был хриплый, слова текли медленно, словно ей стоило огромных усилий говорить. – У н-нас м-мало времени.
Она схватилась за живот и изрыгнула маленький ком мятых перьев. Тонкая нитка маслянистой слюны повисла на губе. Голос истончился до карканья.
– Иди… За… Глазом… Залечи… Брешь…
Черные клубящиеся тучи вспухли на горизонте, застилая солнце. Гневный свет треснул сквозь бурлящее небо и вилами вонзился в землю. Призраки возникали с каждой вспышкой. Они качались в пшенице, как мерцающие птичьи пугала, и эти мертвые ничуть не походили на приветливые тени, встретившие Мемфиса в целительном месте. Ничего родового и благотворного в этих духах не было, а было, наоборот, что-то ужасное… голодное… как будто они могли есть, есть и никогда не насытиться.
Целый сонм молний зажег небо, и Мемфис увидел, что они все пляшут вокруг человека в высокой шляпе. Буря рождалась у него в ладони, и ему это, судя по всему, очень нравилось. Его смех звучал отовсюду сразу. Он протянул к Мемфису руку, и, хотя был совсем далеко, его лицо сделалось вдруг огромным и близким. «Мое», – сказал серый человек голосом, старым, как время. Он зашагал к нему через поле, и мертвые двинулись следом.
Мемфисова мама закашлялась и скорчилась в какой-то неистовой метаморфозе. Ее глаза дико расширились, когда она, давясь, прошептала еще одно, последнее слово:
– Беги!
Прямо у него на глазах маму поглотил вихрь сине-черных перьев и отчаянного карканья. Обратившись в ворону, она с криком понеслась вверх, в злое небо, а потом спикировала к нему и вцепилась клювом в воротник, словно пыталась утащить отсюда подальше. Но человек в цилиндре и его свита мертвецов были словно магнит; они неодолимо тянули его к себе. Сердце уже билось у него прямо в ушах, веки сами собой заморгали. Еще немного, и он упадет, и будет падать вечно.
Кулак из перьев ударил его по щеке, удивив, разбудив. Ворона орала ему прямо в лицо, и Мемфис вылетел из целительского транса, как пробка из бутылки, вспотевший и смятенный. Его руки все еще сжимали предплечье мистера Нобла; сам мистер валялся на земле, очевидно, при смерти.
– Мистер Бишоп, пожалуйста, вставайте, – взмолился Мемфис, в панике тряся неподвижного старого пьяницу. – Мистер, пожалуйста, просыпайтесь, ну, просыпайтесь же!
Ужас холодом свернулся у него внутри, он едва не плакал. Высоко над головой небо пульсировало зарницами. Ударил ветер, погнал мертвые листья по тротуару, потом барабаном обрушился ливень. Молния шваркнула дерево на той стороне улицы, и на мостовую рухнул сук, обугленный и дымящийся. Мемфис оттащил старика в переулок – хоть какая-то защита.
– Господи Иисусе, – всхлипнул он, глядя на неподвижное тело. – Я его убил.
Показался патруль из двух полисменов. Мемфис их знал – подельники Голландца Шульца; их хлебом не корми, дай сграбастать одного из ребят Папаши Чарли, правонарушение придумаем потом. Убийство подойдет как нельзя лучше.
– Мистер Нобл, пожалуйста, пожалуйста, просыпайтесь, – умолял Мемфис.
Тот кашлянул и вздохнул – а потом захрапел, легко и сладко, и это был самый лучший звук, который Мемфис слышал за свою недолгую жизнь.
– Я сделал это, – пробормотал он, глядя на свои руки и безотчетно расплываясь в улыбке. – Я сделал это, – повторил он почти благоговейно.
Копы были почти рядом.
– Эй! Тут человеку плохо! – закричал Мемфис, прячась за стеной, и, убедившись, что они направляются к переулку, повернулся и помчался прочь – вверх и дальше, через забор, по дороге к дому.
Часть вторая
Город с шестью миллионами снов
Январский сумрак тяжело придавил ньюйоркцев. Дни были коротки, зато ночи – слишком длинны для тех, кто научился бояться снов. Матери несли вахту у детских кроваток. Богатые приказывали слугам сидеть рядом и будить их каждые несколько часов. А вот бутлегерский бизнес откровенно процветал. Город сделался боязливым, подозрительным и едва балансировал на грани хаоса.
Лин и Генри жили только ради своих ночей. Сны давали им ускользнуть от горестей реального мира, укрыться там, где надежды и шансы еще не иссякли. Пока они ждали на красивой старой станции, Генри обычно играл на рояле, пробовал новые мелодии, внимательно выискивая признаки одобрения или скуки на физиономии Лин. Если она морщила нос, будто потянуло чем-то зловонным, он тут же бросал песню, зато если склоняла голову набок и медленно, задумчиво кивала, можешь быть уверен – ты на верном пути.
– Если ты когда-нибудь захочешь прийти к Зигфельду на ревю, скажи только слово, и у тебя будет лучшее место в зале, – обещал он ей.
– И зачем бы мне это делать? Я тебя и здесь могу послушать.
– Ну, дело же не только во мне. Там есть огромные танцевальные номера, и певцы – настоящие, большие звезды. Все такое гламурное, понимаешь?
– По мне, так это до ужаса нудно и долго.
– Большинство любит Зигфельда.
– Я тебе не большинство.
– Более правдивых слов еще не слышал белый свет, моя дорогая, – расхохотался Генри.
Когда поезд прибывал в лес, там их неизменно ждала Вай-Мэй. Она улыбалась Лин и сразу же брала ее за руку, как младшая сестренка, а потом застенчиво взглядывала на Генри.
– Мисс Вай-Мэй, вы сегодня вечером просто блистаете, – c преувеличенной любезностью изрекал тот, и девушка тоненько хихикала, прикрывая рот ладошкой.
Иногда Лин и Вай-Мэй составляли Луи и Генри компанию у реки, на покрытом зеленой травой берегу за хижиной, и устраивали пикник. Музыка звенела под сводами леса: эффектные синкопы диксиленда вторили высокому пению эрху[35].
– Иди сюда, я тебе покажу, как танцевать чарльстон, – говорила Лин, вскакивая и хватая Вай-Мэй за руку.
Однако когда ей все показали, Вай-Мэй пришла в ужас.
– Какой отвратительный танец! Такой неизящный. Совсем не как в опере.
– Тогда ты покажи нам, как надо, – подзуживал Генри, и Вай-Мэй скользила по траве с церемонной змеиной грацией, и широкие рукава ее платья струились, будто на поляне вдруг просыпался фонтан.
– Как красиво, – сказал Луи. – Никогда ничего подобного не видел. Даже на балах в Квартале.
– Если бы только женщинам можно было играть на сцене, – вздохнула Вай-Мэй, возвращаясь на свое место рядом с Лин.
– Женщинам нельзя играть в китайской опере? – поразился Генри.
– О, нет. Она только для мужчин.
– Что, и женские роли тоже?
– Ну конечно.
– Гм, – ухмыльнулся Луи. – Похоже, вы там себе организовали вечеринку трансвеститов.
Генри засмеялся и отвел глаза.
– Что такое вечеринка трансвеститов? – поинтересовалась Вай-Мэй.
– Да так, ничего, – быстро сказал Генри, слегка пихая Луи локтем в бок. – Покажите нам еще, мисс Вай-Мэй, если можно вас попросить.
Вай-Мэй танцевала, а Лин хватала росную траву пальцами босых ног и радовалась ее скользкому холодку. Для них с Генри это было совершенно в порядке вещей. Прежние путешествия по снам, когда-то казавшиеся такими необычными, такими захватывающими, им уже наскучили. Здесь они могли сами писать свои сны, и с каждой ночью те становились все реальнее.
Луи оказался добрым и забавным, и Лин понимала, почему Генри так к нему привязан. Когда она смотрела на него вот так, снизу вверх, на фоне золотого неба, он весь мерцал, словно его вырезали из солнечного света. Лин нравилось, как он говорит, словно каждое слово обмакнули в теплый мед.
– Возможно, тебе стоит выйти замуж за Луи, – серьезно сказала Вай-Мэй, когда они с Лин шли обратно к своему месту в лесу на самом краю деревни. – Из него выйдет прекрасный муж. Он очень красивый. Почти такой же красивый, как мой будущий муж, но все-таки не настолько.
Лин сделала над собой усилие и не стала закатывать глаза. На всем свете не было ничего, что Вай-Мэй не сумела бы превратить в дешевый любовный романчик.
– Я пока не готова для брака, – только и сказала она.
– Тебе же семнадцать! – пожурила Вай-Мэй.
– Вот именно, – отрезала Лин.
Вай-Мэй устало вздохнула и похлопала Лин по руке, как какая-нибудь сердобольная тетушка.
– Не беспокойся так, Лин. Я уверена, родители тебе кого-нибудь найдут, – сказала она с таким неподдельным участием, что Лин могла только принять это как должное – и не обидеться.
Впрочем, на научные эксперименты Лин кроткое терпение Вай-Мэй отнюдь не распространялось.
– Когда ты уже закончишь? – жаловалась она, пока Лин пялилась на какой-нибудь деревенский дом, над которым они уже поработали раньше; теперь она пыталась выяснить, изменится ли он каким-то образом просто от того, что она на него смотрит. – Твоя наука такая скучная!
– Наука ни разу не скучная, – огрызалась Лин. – И потом, мне нужно все проверить.
– Эти атомы, о которых ты все время толкуешь, – что они вообще такое?
– Это такие кирпичики, из которых состоит энергия. Все на свете, вся материя сделана из атомов, – объясняла Лин. – Даже мы с тобой.
– А сны? Сны из чего сделаны? – допытывалась Вай-Мэй.
– Полагаю, они рождаются из человеческих мыслей. Из эмоций. Они постоянно обновляются и постоянно творят сами себя, – говорила Лин, а сама думала: интересно, может ли энергетическое поле твориться из всех мыслей, желаний, воспоминаний, проживаемых внутри сна? Может, именно так она и вызывает мертвых? И что получится, если сразу нескольких путешественников поместить в одно и то же место в царстве сновидений? Может ли их взаимодействие превратить сон в реальность?
Каждую ночь под конец визита Лин ставила опыты. Для начала она пометила руки пеплом от костра. Проснувшись, она их внимательно изучила, но следов не обнаружила. На следующий раз она положила в карман несколько камушков, чтобы выяснить, можно ли их пронести в реальный мир: это тоже не сработало. Потом она попробовала пронести в сон фазанье перо для Вай-Мэй, но уже на месте запустила руку в карман, и он оказался девственно пуст.
– Наверное, некоторые вещи проверить просто нельзя, – рассуждала Вай-Мэй, глядя, как воробей прыгает с ветки на ветку, а потом улетает в сторону поблескивающих деревенских крыш и совсем исчезает с глаз. – Возможно, есть вещи, существующие только потому, что это мы их делаем – потому что мы должны.
Генри и Луи проводили долгие часы за рыбалкой на реке или играли музыку на крыльце хижины – Луи на скрипке, а Генри на гармонике. Иногда они брали Гаспара и отправлялись на длинные прогулки, и Генри рассказывал любимому про Нью-Йорк и про своих тамошних друзей.
– Я тебя поведу на радиошоу Эви, а потом мы зависнем в «То что надо!» c Мемфисом и Тэтой – тебе там понравится! Ты уже получил билет на поезд? – спрашивал он.
– Нет пока, cher. Но я утром пойду на почту на рю Лафайет и посмотрю, вдруг он уже пришел.
– Луи, а ты помнишь свои сны поутру, когда просыпаешься? – обеспокоенно спрашивал Генри; ведь если нет, откуда ему знать, что нужно пойти за билетом?
– Надо думать, помню. Кто же такое забудет? – отвечал безмятежно Луи, утыкаясь носом ему в шею.
– Просто на всякий случай, давай я кое-что сделаю. Слушай меня, Луи: когда ты проснешься, ты будешь помнить. Ты будешь помнить все.
– Все, – шептал Луи и целовал Генри, мягко скользя языком ему в рот.
Только одно беспокоило Генри в этих снах – заросли пурпурных вьюнов. Всякий раз, как они шли мимо сине-лиловых цветов, Луи оттаскивал Генри подальше и сам даже близко к чаще не подходил. Если по-честному, он, кажется, до смерти их боялся.
– Да что эти цветочки тебе сделали? – не выдержал Генри в один такой раз.
Луи, однако, не засмеялся.
– Не знаю. Просто у меня от них скверное ощущение, – сказал он, скребя в затылке. – От их запаха голова болит.
Но стоило им отвернуться от чертовой ипомеи, как настроение у Луи сразу же исправилось. Он расплылся в широкой улыбке, стянул рубашку через голову и швырнул ее Генри.
– Чур, я первый! – прокричал он и умчался к сверкающей глади реки.
– А ну, стой! – Генри сбросил собственную одежду на траву и кинулся вдогонку.
Бывало так, что какой-то кусок мира сновидений вдруг терял краски или мигал и гас, будто лампочка, которую пора заменить. Когда такое случалось, Лин и Вай-Мэй концентрировались и качали энергию в мертвый фрагмент, и тогда пейзаж у них под руками шел рябью, согревался и расцветал.
– Ого, вот это, я понимаю, что-то! – говорил в таких случаях Луи, и если он даже немного завидовал, что они с Генри не способны на такую алхимию, то никогда в этом не признавался.
У них над головой нескончаемый поток единичек и ноликов сеял, как дождь, заставляя Генри вспоминать теорию музыки и песенную структуру, а Лин – Книги Перемен. Целые миры грез рождались из этого цифрового дождя: призрачные джаз-бэнды новоорлеанского Вест-Энда выписывались тушью на фоне затянутого дымкой неба. Вагонетка русских горок с Кони-Айленда носилась вечной восьмеркой, вынырнув из детства Лин. Китайский кукольный театр разыгрывал представления, и незримые руки двигали трости.
Как будто все пространство и время сразу решило вдруг разлиться вкруг них бескрайней рекой. Границы их «я» растворились; они плыли сквозь время, а оно – сквозь них, пока они не теряли уже всякое представление о том, были ли уже являвшиеся им картины в прошлом, или только грядут. Никогда еще в жизни Генри не испытывал столь глубокого счастья – быть и в самой глубине своей личности, и одновременно в мире.
– За нас! – сказал он, поднимая бокал.
– За нас! – эхом отозвались остальные и стали смотреть, как небо рождает новые сны.
Но если ночи были как на подбор волшебны, дни на их фоне сильно проигрывали. Впервые за всю историю их отношений Генри и Тэта стали ссориться. Прогулки по снам до такой степени изматывали Генри, что просыпался он хорошо если часам к трем-четырем пополудни – и уже пропустил три репетиции кряду.
– Я больше не могу выдумывать сказки, чтобы тебя отмазывать, Ген, – предупредила его Тэта. – Герби точно что-то замышляет. Наверняка думает протолкнуть свою песню в шоу вместо твоей. И если ты еще соображаешь, что для тебя хорошо, а что нет, лучше бы тебе появиться сегодня на репетиции.
– Герби меня совершенно не волнует, – лениво сказал Генри, берясь за очередную Тэтину сигарету.
– А следовало бы. И с каких это пор ты куришь?
– Мне просто нужно немножко подзарядиться, – он подвигал пальцами, как заправский джазист.
– Тогда лучше иди, поспи немного, – Тэта выхватила у него сигарету изо рта. – Только по-настоящему поспи.
Но Генри ее не слушал. Да и не мог он ее слушать. Для него в целом мире существовали только Луи и сны, и он пошел бы на что угодно ради того и другого. Они с Лин и так уже увлеченно раздвигали границы возможного, каждую ночь ставя будильник все позже и позже.
Хотя Лин-то в мир снов ходила по делу. Она ощущала, как энергия завивается у нее под пальцами, когда она превращала какой-нибудь безликий камень в подсолнух, чьи лепестки повторяли его спиральные узоры. Ци мощно текла сквозь них обоих, атомы двигались, занимали новые места, рождая целые новые вселенные. Нет – создавая их. Это они с Вай-Мэй творили миры. Мы это делаем, думала Лин. Как боги. Магией и наукой сразу – половина той крови и половина этой, совсем как у нее – и это воистину прекраснее всего на свете.
Как-то ночью, лежа в росной траве и созерцая розовые облака, неспешно плывущие на фоне вечного заката, Вай-Мэй перевернулась на бок и в упор посмотрела на Лин.
– Что случилось с твоими ногами, Маленький Воин?
Лин резко села и натянула подол юбки пониже.
– Ничего, – сказала она.
– А вот и нет. Я вижу, как ты с ними обращаешься – все время прячешь. Ты что-то утаиваешь от меня, какой-то секрет, – выражение ее личика было на редкость решительное. – Если мы хотим быть друзьями, ты должна рассказать мне все.
Лин подтянула коленки к груди – так просто во сне и совершенно невозможно наяву.
– Несколько месяцев назад я очень сильно заболела. Когда все закончилось, мускулы в моих ногах отказались работать. Сейчас, чтобы ходить, мне нужны специальные ножные скобы и костыли. По утрам, перед тем, как совсем проснуться, я еще немного держусь за сон – и я забываю. Забываю, что со мной случилось. Про болезнь и про ноги. И эти несколько секунд я думаю, что инфекция была просто дурным сном, и сейчас я встану с кровати, и выйду из комнаты, и сбегу вниз по лестнице, как будто ничего этого никогда не было. А потом на меня падает правда, вся сразу. Так что единственное место в мире, где я свободна, – это во сне.
– Любой из нас свободен только во сне, – мягко сказала Вай-Мэй, подцепляя Лин пальчиком за подбородок и поворачивая ее лицом к себе; руки у нее пахли землей, как мох на склоне холма. – У нас был мальчик в деревне, совсем как ты. Ему каждый день делали массаж ног, чтобы как-то облегчить боль. Тебе нужно вернуть в мышцы огонь, маленький воин.
Она очень осторожно подняла Лин юбку и провела руками по ее голеням. А потом начала разминать мускулы – на диво сильными пальцами. Лин чуть не ахнула. В больнице после воспаления доктор заковал ее ноги сначала в гипс, потом в шины, потом в скобы – неудивительно, что теперь они чувствовались как-то отдельно от нее, как выставочный экспонат в витрине. Никто никогда не прикасался к ним. Даже сама Лин старалась как можно меньше их трогать.
– И вот так ты будешь делать каждый день, – велела Вай-Мэй.
Она закинула голову и устремила взгляд на солнце и дальние золотые холмы.
– Я тоже хочу остаться здесь навсегда. Во сне. Никаких тебе распрей, никаких страданий, – ее лицо внезапно опечалилось. – Я тебе тоже расскажу секрет, свой. Мне не нравится мистер О’Баннион. Думаю, он нехороший человек. Он врет.
– Что ты хочешь сказать?
– Сегодня на корабле я слышала про одну девушку, которую он тоже вывез из Китая. Говорят, когда она приплыла в Америку, там не оказалось никакого мужа, никакой свадьбы. Ее обманули. Вместо замужества ее вынудили работать в доме терпимости, – c ужасом прошептала Вай-Мэй. – Говорят, она теперь совсем плоха, все время плачет. О, сестричка, я должна доверять своему дяде, он ведь мне зла не хочет… но я боюсь.
Лин подумала, не рассказать ли ей о своих подозрениях, но решила, что с Вай-Мэй и так хватит. Сначала нужно поговорить с мистером Ли – и удвоить усилия по поискам мистера О’Банниона. Если нужно, она заставит дядюшку Эдди обратиться к Ассоциации, чтобы горькая судьба той несчастной не постигла и Вай-Мэй.
– Не волнуйся, – сказала она. – Я присмотрю за тобой.
Вай-Мэй счастливо улыбнулась ей.
– Я так благодарна, что теперь у меня есть ты.
Лин заглянула в ее длинные карие глаза и ощутила, как внутри зашевелился сон, как ее собственные молекулы куда-то сдвинулись, атомы перестроились, превращая ее во что-то новое и прекрасное. От этого у нее даже закружилась голова.
– Что такое, сестра? – удивилась Вай-Мэй.
– Ничего, – сказала Лин, восстанавливая дыхание. – Ничего.
– Скоро я уже буду в Нью-Йорке, – поделилась Вай-Мэй с улыбкой, от которой все ее личико просветлело. – Мы пойдем в оперу к твоему дяде или, может быть, даже в театр «Бут» на Манхэттене[36]. А по воскресеньям станем гулять как настоящие леди в самых наших лучших чепчиках. О, как нам будет весело, Лин!
– Чепчики давно никто не носит, – заметила Лин, стараясь не хихикать.
– У нас очень маленькая деревня, – смутилась Вай-Мэй. – Тебе придется рассказать мне, что сейчас модно.
– Если я стану тебе рассказывать, что сейчас модно, считай, тебе крупно не повезло, – буркнула Лин, немного стыдясь, что она так неприкрыто дразнит Вай-Мэй.
– Мы будем совсем как сестры, – не унималась та.
– Это да, – сказала Лин.
А вот что она на самом деле хотела сказать, пока жемчужно-белые цветы планировали, кружась, на них с нижней ветви кизилового дерева, так это нет, мы будем друзья. Настоящие друзья. Самые лучшие на свете.
– Идем, милая Лин, – Вай-Мэй вскочила и протянула ей руку.
И еще долгие часы они танцевали под пологом неба, таким блистательно-синим, что больно было смотреть вверх.
А в городе с шестью миллионами снов самым сладким из них были Эви и Сэм. Нью-Йорк все никак не мог насытиться новой сенсацией. Куда бы они ни пошли, кругом сразу собиралась толпа: на боксе, в первом ряду у самого ринга; на скачках Лонг-Айленда, когда они позировали репортерам с призовой лошадью какого-нибудь миллионера; за ужином в Каскадном зале «Билтмор-отеля» на фоне аккуратного ряда вишневых деревьев в кадках; за просмотром «Бай-бай, Бонни» в кинотеатре «Риц»; на выходе из имеющего самую скверную репутацию клуба «300», принадлежавшего Тексасу Гинану, c полными волосами конфетти или на коньках на замерзшем пруду в Центральном парке. Фанаты кучковались у радиостанции и «Уинтроп-отеля» – и даже у Музея Страшилок, в надежде хоть мельком увидеть новую золотую парочку Нью-Йорка. Ночные клубы в очередь выстраивались, надеясь заполучить их к себе. Подарки большие и маленькие прибывали с нарочными, в пышно набитых папиросной бумагой коробках – «Просто в знак нашего пророческого расположения!». Внутри оказывалась брошь или запонки с обещанием немедленно предоставить лучший столик заведения в любой, абсолютно любой вечер, когда Эви и Сэму заблагорассудится почтить их своим долгожданным присутствием… и вдруг Провидица-Душечка будет так добра помянуть оное заведение теплым словом на радио или в газетах?
Письма им носили тысячами. «Дейли ньюс» поместила снимок прелестной пары в величественном офисе мистера Филипса, по шейку погребенной в фанатской почте. «Радиозвезда» опубликовала Эвины «Правила жизни для красивых и умных», включавшие бессмертное «Никогда не выходи из дома, не нарумянив коленки» и «Держи врагов близко, а фляжку – еще ближе». Благодаря им двоим Даблъю-Джи-Ай быстренько стала первой радиостанцией страны. От крыльца компании через весь квартал тянулась очередь желающих попасть на шоу Эви.
Она наслаждалась каждой минутой этой свистопляски.
– И не забывайте, дорогие мои, – напоминала она своим слушателям, – мы с Сэмом будем вести вечеринку на открытии пророческой выставки в Музее Американского Фольклора, Суеверий и Оккультизма на следующей неделе. Если вы своевременно купите лотерейный билет, то сможете выиграть бесплатный сеанс от вашей покорной!
На западной стороне Манхэттена лежала перенаселенная полоса недвижимости под названием Радио-роу, где человек предприимчивый мог найти всевозможные радиодетали, от самых обычных до крайне труднодоступных. То, за чем охотился Сэм, было очень труднодоступным. Ни о чем другом он и думать не мог, идучи по Кортленд-стрит мимо орущих музыкой магазинчиков и неистово соревнующихся друг с другом лоточников, которые завлекали невинных прохожих русалочьими зовами с упоминанием новых, самых дорогих и современных моделей: «Детекторный, только что с завода!», «Вестингауз – электрический до последней детальки!», «Радиола – это качество!», «Доверяйте Каннингемовским лампам – они застрахованы!», «Звук такой чистый, что можно уйти к соседям и не упустить ни единой ноты – даже сквозь стены!».
Сэм шагнул в полутемный зальчик и тихонько проскользнул мимо любующихся выставленным на витринах железом праздных мамиков-и-папиков с окраин. При этом он тщательно избегал встречаться глазами с чрезмерно рьяными продавцами, уже с готовностью устремившимися ему навстречу, и упорно держал курс в глубь магазина, надеясь благополучно донести до прилавка свое инкогнито. Усатый джентльмен с зализанными назад волосами закончил выписывать товарный чек и улыбнулся ему.
– Могу я предложить вам сегодня новый радиоприемник, сэр? У нас как раз в продаже самые свежие модели – на шесть, восемь и десять ламп.
– На самом деле мне нужна лампа-бизон, но до сих пор найти такую никак не удавалось. Я так понимаю, мистер Арнольд ими занимается? – сказал Сэм, толкая к нему через прилавок записку, сложенную вместе с пятидолларовой купюрой.
Улыбка торговца испарилась.
– Мистер Арнольд, вы сказали?
– Да. Бен Арнольд. Так его звать.
– Вы меня извините, я на минуточку, – усатый исчез за тяжелой портьерой на задах магазина и появился только через несколько минут. – К сожалению, у нас сейчас нет этой детали, сэр. Мы ее для вас заказали, – он вернул Сэму записку, минус, что странно, пять долларов. – Вот ваша квитанция. Однако, боюсь, это последний раз, когда мистер Арнольд сможет заказать для вас эту деталь, сэр. Ваша модель сейчас… очень популярна. Слишком даже популярна, если вы понимаете, о чем я.
Сэм состроил рожу. Как же, самая модная песня на наших радиоволнах, называется «Сэм-н-Эви». Софиты, направленные на их искусственный роман, чтоб их, бросали слишком много света и на его частную жизнь.
– Слышу тебя так же отчетливо, как детекторный сет, друг, – сообщил он продавцу.
Уже на улице Сэм развернул записку. Внутри был приклеен ключ – безо всякой сопровождающей информации.
– Может быть, вас заинтересует новый шестиламповый «Зенит» с потрясающим музыкальным звучанием? У него везде электричество! – замахал ему очередной энтузиаст.
– Спасибо, друг. У меня тоже, – радостно ответил Сэм, засовывая записку и ключ в карман и ныряя из какофонии Радио-роу в грохот надземки на Девятой авеню.
Пара джентльменов проводила его внимательными взглядами из коричневого седана.
Каждый день газеты сверкали жирно набранными заголовками, живописующими ужасы сонной болезни.
Главный инспектор здравоохранения города Нью-Йорка увещевал граждан чаще мыть руки, ежедневно производить дома влажную уборку и избегать больших скоплений народа, в особенности рынков на открытом воздухе, акций протеста и рабочих беспорядков. От зданий, оклеенных желтыми карантинными плакатами, им тоже следовало держаться подальше и на какое-то время воздержаться от посещений Чайнатауна и «других иностранных кварталов». Родители подписывали петиции, призывающие запретить китайским детям посещать школы и колледжи. Редакции забрасывались письмами, клеймящими иммигрантов, джаз, пошатнувшуюся общественную мораль, несоблюдение запрета на продажу алкоголя, стрижки «боб» (слишком короткие), автомобили и анархистов. Законотворцы спорили, не стоит ли добавить еще пару кирпичиков в и без того непрестанно растущую стену закона о высылке, и ратовали за возврат к традиционной американской морали и религиозности старых добрых времен. Сара Сноу на радио заклинала слушателей отвратиться от джаза с его порочными цыпочками и отдаться душою и телом Иисусу. Правда, сразу после нее реклама заверяла тех же слушателей, что «мыло Пирса надежно обеспечит всей семье здоровье и защиту от всяких экзотических болезней».
В Чайнатауне большой камень с надписью «КЕТАЙЦЫ ОТПРАВЛЯЙТЕС ДОМОЙ!» – влетел в витрину ювелирного магазина «Чун и сыновья». Ресторан «Поющее крылышко» вдруг скоропостижно сгорел за одну ночь. Хозяин стоял под медленно падающими хлопьями снега пополам с сажей и глядел, как все, что он с таким трудом возводил, на глазах рассыпается прахом; его спокойное лицо озарял теплый оранжевый отблеск пожара. Полиция регулярно врывалась на собрания социальных клубов и заявилась даже на банкет по случаю рождения у Юэнь Хуна первенца и наследника. Мэр все-таки запретил празднование китайского Нового года из опасений за общественное здоровье. В отместку Китайская Благотворительная Ассоциация устроила марш протеста вдоль по Центральной улице и до самой мэрии, где демонстрантам приказали разойтись под угрозой ареста и депортации из страны. Улицы пахли зимой и свининой, пеплом пожарищ и благовониями от алтарей предков, да будут они благосклонны к потомкам в сей трудный час. На домах вспыхивали ярко-красные таблички, призванные помочь мертвым найти дорогу обратно, к семейному очагу. Пороги были все в тальковом порошке, и потомки внимательно выискивали на них следы призраков.
Повсюду царил страх.
На евгенической конференции в роскошном бальном зале отеля «Вальдорф-Астория» джентльмены в элегантных костюмах говорили о «проблеме полукровок и гибели белой расы» и тыкали пальцами в рисунки и диаграммы, наглядно доказывающие, что причиной большинства недугов является неполноценное и низкосортное племенное поголовье. Сами докладчики называли это наукой. А еще – фактами. А еще – патриотизмом.
Аудитория прихлебывала кофе и кивала в знак согласия.
Мемфис Кэмпбелл честно пытался работать, но мысли его были далеко. Они с Тэтой не разговаривали с того самого катастрофического вечера в «Маленьком раю». Мемфис, как ни старался, не мог взять в толк, как можно сказать парню, что ты его любишь, а потом взять и сбежать. Он ужасно по ней скучал, но гордость не давала прогнуться. Тэта должна сама к нему прийти, первой.
– Мемфис, ты меня слушаешь, сынок? – сказал Билл Джонсон. – Ты точно записал номер?
– Да, мистер Джонсон, сэр. Один четыре четыре, – сказал Мемфис. – Я сделаю его для вас, как и вчера, и позавчера, и позапозавчера. Понятия не имею, почему вы упорно ставите на него, если все равно не выигрываете.
– Считай, что это предчувствие, – сказал Билл, но прозвучало это все равно раздраженно и нервно.
Блюзмен склонил голову набок, в ту сторону, откуда доносился Мемфисов голос.
– Кстати, слыхал тут надысь странную историю у Флойда. Знаешь этого старого пьяницу, Нобла Бишопа?
– Ну да, – сказал Мемфис, которому в живот будто бабочек напустили.
– В жизни его не видал иначе как мертвецки пьяным либо трясущимся, как старая шавка, от отсутствия бухла. Так, представляешь, он сегодня утром заявляется к Флойду трезвый, что твой дьякон, и спрашивает, нельзя ли ему тут подработать – ну, подмести маленько или еще что. Сказал, ему типа ангел явился. Чудо с ним, мол, случилось. – Билл взял паузу, чтобы следующее слово прозвучало значительнее: – Исцеление.
– И что, он правда исцелился? – спросил Мемфис, стараясь держать голос максимально ровно.
– Как пить дать. – Рот Билла искривился в усмешке. – Хотя если меня спросить, так это напрасная трата чудес. Ну что этот старый пропойца будет делать с таким даром, а? Да он уже в следующий вторник будет валяться обратно в канаве. – Билл сплюнул. – Воистину неисповедимы пути Господни.
– Да, говорят, неисповедимы – отозвался, улыбаясь, Мемфис.
– Еще как говорят, – поддакнул Билл безо всякой улыбки.
Дома Мемфиса ждала телеграмма.
ДОРОГОЙ ПОЭТ, ПРОСТИ ЗА СПЕКТАКЛЬ С ИСЧЕЗНОВЕНИЕМ. МНЕ УЖЕ ЛУЧШЕ.
P.S. СЕГОДНЯ В ТО ЧТО НАДО? ТВОЯ ПРИНЦЕССА.
– Кто это послал тебе телеграмму? – спросил удивленный Исайя. – Что, кто-нибудь умер?
– Нет. Все более чем живы, – отвечал Мемфис так, словно на долю ему выпало уже два чуда.
Той ночью Генри и Лин выставили себе будильники на самое длинное в истории человечества путешествие – полных пять часов. Когда Генри проснулся, в ногах его кровати сидела Тэта, недобро глядя на него сквозь сигаретный дым. Сквозь жалюзи едва сочился свет.
– Который час? – спросил Генри; во рту у него было сухо.
– Половина третьего. Дня, если что, – сурово сказала Тэта. – Ты выглядишь отвратительно.
– Ну, спасибо вам большое, мисс Найт.
– Я не шучу. И сколько времени тебе, интересно, понадобится, чтобы вылезти из кровати?
У Генри ломило все мышцы, словно он всю ночь двигал мебель. Он облизнул пересохшие губы.
– Я в полном порядке. Немного простыл, только и всего.
– Не заливай, ты совсем не в порядке.
Тэта шлепнула на стол какую-то бумажку. Это оказалась вырезка из газеты – реклама лекции «доктора Юнга, известного психоаналитика» в нью-йоркском Обществе Этической Культуры.
– Этот яйцеголовый парень, Юнг, он знает о снах все. Может, он и про путешествия по снам в курсе. И может, он сможет тебе помочь, Ген.
– Не нужна мне никакая помощь.
– А я думаю, мы должны пойти.
– Вот ты и иди.
– Ты мог бы, по крайней мере, послушать, что он скажет…
– Я же сказал, я в порядке! – рявкнул Генри.
Тэта передернулась.
– Не надо на меня орать, – прошептала она.
– Ну, прости, прости, дорогая, – сказал Генри, чувствуя злость и вину сразу; зубы у него стучали, а живот ужасно ныл. – Иди, сядь со мной. Тут так холодно…
На мгновение ему показалось, что Тэта сейчас ляжет рядышком, положит голову ему на грудь, как в старые добрые времена, но вместо этого она швырнула вырезку на стол и направилась к двери в спальню, даже не оглянувшись.
– Я иду в ванную. Репетиция через час. На тот случай, если тебе еще интересно.
На репетиции Генри был такой усталый, что едва мог сосредоточиться на клавишах.
– Генри! Там сейчас было вступление! – гаркнул Уолли с первого ряда.
Генри поднял глаза: весь кордебалет сердито таращился на него.
– Простите, девочки, – проблеял Генри, c усилием возвращаясь к реальности.
Он поймал взгляд Тэты и успел разглядеть в нем обеспокоенность, тут же сменившуюся гневом. Он попытался рассмешить ее, состроив глупую рожу, но она оказалась не в настроении смеяться.
– Если я чего и ненавижу, – объявила Тэта, обращаясь ко всем сразу и ни к кому в отдельности, хотя ежу было ясно, что комментарий предназначался лично ему, Генри, – так это когда мое время тратят попусту. Давайте уже начинать!
Там и сям рождались новые истории… вот пара рабочих подземки пропала с концами. Их фонари нашли в тоннеле, который парни прокладывали для расширения системы, – они все еще горели. Сумочка некой мисс Роуз Брок таинственным образом обнаружилась на путях возле станции «Четырнадцатая улица». Сокрушаясь по поводу неудачной любовной связи, барышня пошла с друзьями в вестсайдский кабак и исчезла. Предполагалось самоубийство. Какого-то билетера отстранили по подозрению в пьянстве: он клялся, что видел слабо мерцающее привидение в темном жерле тоннеля. Бледная тварь, по его показаниям, сначала сидела на четвереньках, а потом прострекотала вверх по стене, как таракан, и прочь с глаз. Некоторые пассажиры сообщали, что видели из окон движущегося поезда странные вспышки зеленого света. Проходчики, занимавшиеся сооружением нового Холланд-тоннеля, отказывались спускаться под землю: там, в глубине, до них донеслись жуткие звуки – как будто жужжание огромного роя, – наверняка там завелись паразиты, только вот непонятно какие. Начальство даже пригласило пророка, чтобы он благословил участок. Он настаивал, что там все чисто, но рабочие-то знали, что ему заплатили, чтобы он это сказал, так что теперь они спускались вниз исключительно группами, и чтобы на каждом был защитный амулет, а то и не один. Поголовье бродяг сильно упало. Вся братия, по зиме спасавшаяся от холода на платформах метро, в тоннелях и канализационных коллекторах, вдруг резко куда-то подевалась.
В Вест-Сайде двое мальчишек играли возле ливневого стока, когда одного внезапно смыло вниз. Полиция прочесала все под решеткой, посветила фонарями в тоннели, но нашла только бейсбольный мяч и один из ботинков. Второй мальчик, тот, что уцелел, утверждал, что дело совсем не в воде и что он видел сверхъестественную бледную руку, которая вылезла снизу и утянула его товарища за лодыжку – быстро, как захлопывается кроличий капкан.
В общем, люди исчезали. Ничего в этом не было необычного – в городе, где орудовали безжалостные гангстеры вроде Мейера Лански, Голландца Шульца и Аль Капоне, все знаменитые, что твои кинозвезды. Только дело в том, что исчезали совсем не гангстеры, которым сам бог велел исчезать после каких-нибудь там разборок или войн за территории. Написанные от руки объявления появлялись всюду на фонарных столбах и у входов в метро – отчаянные мольбы обезумевших близких:
ПРОПАЛ БЕЗ ВЕСТИ: ПРЕСТОН ДИЛЛОН, СТАНЦИЯ «ФУЛТОН-СТРИТ»…
РАЗЫСКИВАЕТСЯ: КОЛИН МЕРФИ, ШКОЛЬНАЯ УЧИТЕЛЬНИЦА, РЫЖИЕ ВОЛОСЫ, ГОЛУБЫЕ ГЛАЗА, ВОЗРАСТ 20 ЛЕТ…
МОЖЕТ БЫТЬ, ВЫ ЗНАЕТЕ: ТОМАС ЭРНАНДЕС, ЛЮБИМЫЙ СЫН? ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛИ ВХОДЯЩИМ НА СТАНЦИЮ МЕТРО «СИТИ-ХОЛЛ»…
ПОСЛЕДНИЙЙ РАЗ ВИДЕЛИ ПОБЛИЗОСТИ ОТ ПАРК-РОУ…
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛИ УТРОМ, КОГДА УХОДИЛ НА РАБОТУ…
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ ВИДЕЛИ…
ПОСЛЕДНИЙ РАЗ…
ПОСЛЕДНИЙ…
Но все это были мелкие, незначительные сюжеты – в городе, который ими и так кишел. Иногда им удавалось просочиться на последние полосы газет, куда-нибудь за спины сенсационных передовиц о том, как Бэби Рут приехал на стадион на своем новехоньком спортивном «Пирс-Арроу»; или сияющих снимков Джека Марлоу, орлиным взором озирающего болотистые просторы Квинса, где скоро раскинется его сногсшибательная выставка «Будущее Америки»; или подробнейших отчетов о том, что именно было надето на Провидице-Душечке, посетившей такую-то и такую-то вечеринку в сопровождении своего удальца-нареченного, Сэма Ллойда.
Потому что газетам, судя по всему, тоже снились сны, только совсем другие.
– Ты пишешь столько любовных песен… а влюблен-то ты когда-нибудь был? – спросила Лин на восьмую ночь, когда они вдвоем ждали поезда.
– Да, – сказал Генри и уточнять ничего не стал. – А ты?
Лин вспомнила, как погрузилась в глаза Вай-Мэй.
– Нет, – коротко ответила она.
– Вот и умница. Любовь – сущий ад, – пошутил Генри.
Он сел за рояль и заиграл что-то новенькое.
– Что это за песня? – полюбопытствовала Лин.
Она сильно отличалась от всего остального, что обычно наигрывал Генри. Те легко забывались, но эта, обретавшая сейчас форму у него под пальцами, была другая – странная, красивая, привязчивая. В ней был вес, в ней была жизнь.
– Пока не знаю. Просто играюсь вот с темой, – нехотя ответил Генри.
Он казался смущенным, словно из него обманом вытянули какую-то сокровенную тайну.
– Мне нравится, – оценила Лин, внимательно прислушиваясь. – Такая… печально-красивая. Как все самые лучшие песни.
– Это… это что, был комплимент? – Генри прижал руку к груди, делая вид, что сейчас грохнется в обморок.
Лин закатила глаза.
– Только не начинай.
Сестра Уокер провела за баранкой уже двенадцать часов кряду и поэтому осталась в комнате мотеля – хоть немного соснуть. Уилл обнимался с кофейной чашкой и глядел в окно кафе. Тусклый свет одевал вершины припорошенных снегом холмов; небо смотрелось старым кровоподтеком. Бронзовая табличка у дверей казенного дома через улицу отмечала место, где Джорджу Вашингтону когда-то улыбнулась победа. В этой части страны было несколько сражений во время Войны за независимость – сражений, которые повернули ход событий и определили судьбу молодой страны, дав ей перескочить от будоражащей кровь идеи о самоуправлении к возможности, а затем и к реальности. Народное правительство для народа.
Америка изобрела себя сама – и продолжала изобретать на каждом шагу. Иногда ее успехам завидовал весь мир. Иногда она предавала самые дорогие свои идеалы. Иногда ее люди просто избавлялись от того, что им было трудно понять или неудобно сознавать. Чаще всего они просто продолжали играть в демократию и придумывали стране новый гимн. И петь его старались погромче, чтобы заглушить несогласных – и даже чтобы пересилить собственные сомнения. Их ошибки не отмечались табличками. Но прошлое ничего не забывает. Историю наводняли призраки былых преступлений, а это требовало периодических экзорцизмов правды. Как ни крути, а у всего есть последствия.
Уилл все это хорошо знал.
– Еще кофе? – осведомилась официантка и, не дожидаясь ответа, все равно налила ему свежую чашку. – Вот ведь жалость, что вы тут оказались в такое поганое время года. Дорога вверх, в горы, сейчас сильно опасная.
– Да, – тихо отозвался Уилл. – Я помню.
– А, так вы тут, у нас, уже бывали?
– Один раз. Очень давно.
– Ишь ты! В общем, вам нужно приехать сюда весной и подняться туда, к старой усадьбе Марлоу, называется «Гавань Надежды». Красиво, аж жуть. Там сейчас закрыто, но весной они открываются.
Уилл пошарил в кармане, выудил четвертак и оставил его на столе, рядом с полной, нетронутой чашкой кофе.
– Благодарю вас. Так я и сделаю.
В мотеле, при немощном свете прикроватной лампы, он еще раз перечитал пачку вырезок из газет со всей страны.
«БОСТОН ГЛОУБ»
Я гуляла по старому Салему, как раз возле холма, где они раньше вешали ведьм, понимаете, и вот поднялся ветер, и Бастер, мой пес, залаял, и у меня появилось такое ужасное ощущение… Я увидела их там, в черных платьях, силуэты на фоне тумана; у некоторых головы болтались на сломанных шеях, и глаза – совсем темные от ненависти…
«СЕДАР РАПИДС ИВНИНГ ГАЗЕТТ»
Мистер и миссис Сэмюэль Стюарт из Алтуны будут рады любой помощи в определении местонахождения их дочери, Элис Кетлин, которая исчезла по дороге домой с танцевального вечера. Оркестр, игравший на вечере под названием «Перекати-поле», тоже исчез. Что любопытно, никакие другие гастролирующие ансамбли ничего о нем не знают, хотя сообщения о пропавших людях в тех городах, через которые проезжал оркестр, достаточно многочисленны…
«НЬЮПОРТ МЕРКЬЮРИ»
…проходя мимо места, где ранее проводилась продажа рабов с аукциона, капитан корабля, некто Джон Тетчер, по его утверждениям, услыхал ужасные крики и увидал на мгновение на фоне порта привидения целого семейства – в цепях, c устремленными на него обвиняющими взглядами – и испытал чувство, «будто судный день уже близок».
«ДОЙЛС ТАУН ДЕЙЛИ ИНТЕЛЛИДЖЕНСЕР»
Миссис Келина Бут сообщает, что никогда больше не пойдет в лес рядом с ее домом, потому что там, по ее заявлению, поселились злые духи. «Я заметила, что птицы перестали петь у нас на деревьях, – сказала нам миссис Бут, – потом по коже у меня пробежал холодок, и я услышала хихиканье. Вот тогда-то я их и увидела – двух призрачных девочек в передничках и с зубами, острыми, как бритвы, а кругом – косточки птиц»…
Кладбищенский сторож сообщил, что многие могилы были осквернены, а одна даже вскрыта…
Могилы потревожены… домашняя скотина покалечена…
Внезапный туман поднялся поздно ночью на дороге рядом со старым церковным кладбищем…
Фермер обнаружил свою верную кобылу, Юстицию, у водопоя, «разорванную пополам и всю покрытую мухами»…
Утверждает, что видел высокого человека в сером плаще и черном цилиндре возле кладбища; тот стоял под желтой луной…
Утверждает, что видел человека в цилиндре, ведущего сонм призраков в темный лес…
Когда последние остатки его уютных иллюзий окончательно развеялись, Уилл выключил свет и отправился в постель.
Но сон еще долго к нему не шел.
День семнадцатый
Адрес отправителя
Сэм и Эви стояли в очереди в главном отделении нью-йоркской почтовой службы, глядя, как огромные стенные часы филигранно нарезают драгоценные минуты. Почта оказалась на диво многолюдной: повсюду длинные хвосты, а ведь давно не Рождество. У окошка номер шесть монументальная рыжая дама уже теряла терпение, нависая над растерянным клерком, который никак не мог отыскать ее бандероль.
– Не могли бы вы посмотреть еще раз, пожалуйста? – говорила она с четким, слегка британским акцентом. – Посылку отправили две недели назад, от мисс Фелисити Уортингтон миссис Рао, Джемме Дойл Рао.
– Простите, а вы случайно не Сэм и Эви?
Эви оглянулась. Молодая девушка в цветочной шляпке глядела на нее, сияя взволнованной улыбкой.
– Виновна! – отрапортовала Эви и расцвела на глазах.
Девушка так и ахнула.
– Я обожаю ваше шоу! Ой, а не могли бы вы дать мне автограф – это для мамы? Она была бы так счастлива, так…
– Прости, сестренка, мы сейчас не на работе, – отрезал Сэм, прерывая поток восторгов.
– А вот это было грубо, – прошептала ему Эви сквозь стиснутые зубы.
– Нам сейчас не нужно внимание, красотка. Хорошо иногда не быть знаменитостью.
– Это самая большая глупость, что я от тебя слышала, Сэм Ллойд, – выдала Эви, вздергивая брови. – А глупостей ты говоришь немало.
– Следующий! – сказал клерк в окошке, жестом подзывая их.
– Как делишки, отец? – обратился к нему Сэм. – Нам бы тут кое-какая помощь с адресом не помешала.
– А ну, отставить шуточки, – отбрил тот с каменной физиономией и даже глаз не поднял. – Куда посылаем?
– О, нет-нет, мы ничего не посылаем, – защебетала Эви. – Нас интересует один офис здесь, в этом самом здании.
– Еще два года, всего два до наградных часов и пенсии, – клерк наградил их суровым взглядом поверх очков. – Какой еще офис?
Сэм протянул в окно мамин таинственный документ. Клерк нахмурился и канул в глубины почты.
– Извините, – изрек он, вернувшись через пару минут. – Ничем не могу вам помочь, если только вы не правительство Соединенных Штатов.
– Что вы имеете в виду? – растерялась Эви.
– Этот офис под запретом. Принадлежит федералам. Или раньше принадлежал. Сейчас не используется. Извиняйте, ребятки, – он взмахнул рукой. – Следующий!
– И как же нам туда проникнуть? – осведомилась Эви, когда они с Сэмом освободили место перед окном.
– Нам нужен отвлекающий маневр, – сказал он, подумав минутку. – Что-нибудь, способное собрать нам тут большую толпу.
– Тебе нужна большая толпа? – переспросила Эви.
– Я так и сказал.
– Просто хотела удостовериться – ты иногда так бормочешь. Вот, подписывай тут, – она протянула ему клочок бумаги и карандаш, потом расписалась рядом с ним. – Предоставь это мне.
Эви продефилировала мимо очереди нетерпеливых горожан, помахивая расшитой бисером сумочкой на локте. Молодая леди, которая их узнала, сейчас как раз стояла у окошка.
– Мне ужасно неловко вас прерывать, – Эви одарила ее улыбкой. – Вот ваш автограф, моя дорогая.
Затем она улыбнулась почтмейстеру.
– Я опять забыла: какую марку, вы говорите, надо клеить на брачное свидетельство?
Тот растерянно поглядел на нее, а девушка ахнула и прикусила губку.
– Впрочем, какая разница. Думаю, у меня все получится. Не будем заставлять мирового судью ждать! – сказала Эви, подмигнув ей.
Мурлыкая себе под нос, она прогулочным шагом направилась прочь и юркнула за какой-то большущий цветок в горшке, откуда открывался вид на телефонную будку.
– Раз… два… – начала она, глядя сквозь ветки.
Не успело настать «три», как их юная фанатка влетела в будку, даже не позаботившись закрыть за собой дверь.
– «Нью-Йорк Дейли миррор», пожалуйста, – заорала она в трубку. – Да! Это «Дейли миррор»? Да! Держитесь там за шляпы, потому что у меня для вас сенсация. Я сейчас на почте, на большой, которая на Восьмой авеню. Здесь Сэм Ллойд и Провидица-Душечка. Они забирали свидетельство о браке и, я слышала, что-то говорили о мировом судье. Они планируют побег! – она сделала паузу. – Ну, я понятия не имею, почему они забирали такой документ на почте, но они сейчас тут, и вам бы хорошо поторопиться, пока они не улизнули!
Девушка нажала на рычаг и снова набрала.
– Да, «Дейли ньюс», будьте добры…
Вполне довольная результатом, Эви нашла Сэма под лестницей, и они стали ждать.
– Что ты там устроила, будущая миссис Ллойд?
Эви ухмыльнулась.
– Кто ждать умеет, тот всем владеет.
– Это обещание? – Сэм одарил ее своим фирменным волчьим оскалом, и у нее в животе снова что-то затрепыхалось.
Ждать, впрочем, пришлось недолго. Через несколько минут ватага репортеров из конкурирующих изданий взяла почту штурмом. Это заметили с улицы, и вскоре все кругом запрудила толпа ньюйоркцев, взволнованных перспективой изловить парочку знаменитостей, собирающихся сбежать. Сэм выглянул как раз вовремя, чтобы увидеть, как полицейский кордон пытается сдержать внезапный вал фанатов. Все это отчетливо отдавало каким-то дружелюбным народным восстанием.
– Такого отвлечения тебе хватит? – деловито осведомилась Эви.
– Красотка, это первый класс!
Последний луч солнца ворвался в высокие окна и упал на лицо Эви, озарив его целиком – и сложившиеся в довольную улыбку губы, и темно-голубые глаза, сощуренные, потому что их хозяйке недурно было бы завести солнечные очки, да тщеславие мешало: такое лицо всегда должно быть открыто. Эви улыбалась, от души наслаждаясь спектаклем. Сэм когда-то путешествовал с цирком, но рядом с Эви всегда свой собственный цирк – да что там, настоящая воздушная гимнастика. Он был бы рад совершить что-нибудь потрясающее, нелепое, забавное, чтобы пофорсить перед нею – ну, скажем, поехать в Бельмонт и поставить все свои деньги на лошадь. Черт, да хоть купить эту самую лошадь и назвать ее в честь Эви. Глупо, ужасно глупо, пускать девушку вот так к себе вовнутрь… Но прекращать этот балаган ему не хотелось – вот нистолечки.
– Что такое? – Эви встревоженно пригладила волосы. – У меня на голове что-то не то?
– Ага. У тебя на голове лицо, представляешь?
Эви закатила глаза.
– Просто так уж вышло, это чертовски симпатичное лицо, – сказал Сэм и готов был поклясться, что Эви зарделась.
– Вон они, там! – завопил кто-то в толпе, показывая, к счастью, совсем в другую сторону, где мужчина и дама шли с небольшим терьером на поводке.
Полицейские заорали и засвистели, а толпа вырвалась из оцепления и хлынула на другую сторону вестибюля, грозя смести ни в чем не повинную пару.
– Пожалуй, нам пора, Бэби-Вамп, – заметил Сэм.
Он потянулся за ее рукой, ее пальцы нашли его, и, радуясь надежности пожатия, Сэм подхватил Эви и ссыпался по ступеням в подвальный этаж. Наверху бал правил хаос.
Они миновали огромное главное помещение, где жужжали и грохотали сортировочные машины, рождая неумолчный механический гул. Письма летели по прозрачным трубам в тележки, откуда их забирали на обработку почтовые рабочие, слишком занятые, чтобы заметить ненавязчиво проскользнувших мимо Сэма и Эви. Вскоре они оказались в другой части почтамта, разветвлявшейся в обширный лабиринт одинаковых коридоров. Поиски уже было решили оказаться бесплодными, когда еще одна лестница привела их на уровень вниз, к длинной, безрадостной череде офисных дверей.
– В-118, В-120, – читала Эви на ходу.
Еще несколько, потом мужской туалет…
– В-130!
Темное, шероховатое стекло в двери офиса В-130 еще хранило призрачные следы надписи, сообщавшей, что здесь находится просто «СТАТИСТИКА».
– Отличный способ держать любопытных подальше. Трудно представить что-то зануднее статистики, – Сэм попробовал ручку. – Заперто, конечно.
– Что дальше? – поинтересовалась Эви.
– Минутку. – Сэм порылся в кармане и извлек полученный от осведомителя ключ.
Будучи применен к замку, тот наотрез отказался сотрудничать. Сэм зарычал.
– Можно еще разбить стекло, – предложила Эви.
– Это последнее средство. Не надо, чтобы люди знали, что мы тут были.
Сэм приник лицом к стеклу, приставив с обеих сторон ладони, но все равно разглядел только столб света, идущий откуда-то сверху справа, со стороны туалета.
– Погоди-ка, у меня идея, – сказал он и взял курс на уборную.
– Вряд ли зов природы можно квалифицировать как идею.
– Ты просто подержись пока за шляпу, ладно? – и он исчез внутри.
Мгновение спустя дверь снова отворилась, и Сэм поманил Эви пальцем.
Та сложила руки на груди.
– И ты хочешь, чтобы я вошла туда?
Сэм округлил глаза.
– Неужели тебя не прельщает маленький уютный кабинетик на двоих, а, Бэби-Вамп?
– Что может быть романтичнее ряда писсуаров! Ты что вообще задумал? – спросила Эви, но внутрь зашла.
– Вон, смотри, – он показал на небольшое створчатое окошко высоко под потолком. – Оно ведет прямиком в офис В-130.
Сэм присел и сплел пальцы ладонями вверх.
– Давай, милая. Оп-ля! Я тебя подсажу.
– Да ты шутишь! – не поверила своим ушам Эви.
– Я в цирке все время этим занимался. Номер проще простого.
– И почему ты думаешь, что он непременно должен называться «Эви вверх тормашками»? – проворчала она.
– Туфли выглядят опасно. Ты их лучше сними сначала.
– Я люблю эти туфли гораздо больше тебя, Сэм.
– Мы за ними потом вернемся.
– Они от Блуми. И я их тут не оставлю!
Эви скинула свои шелковые туфельки и закусила ремешки зубами, так что они симпатично повисли по обе стороны рта.
– А, так вот что требовалось, чтобы тебя заткнуть! – пошутил Сэм.
– Я феве это на голофу надену. Фефное флово! – посулила Эви, наступая на Сэмов ручной трамплин и взлетая к потолку.
Она вцепилась в раму окна и заскользила затянутыми в чулки ногами по белой, кафельно-гладкой стене.
– Фэ-э-эм!
– Держись!
Сэм наступил в писсуар и подставил ей плечо.
– Недофтатофно!
– Ну, ладно. Тогда прошу заранее меня извинить, – сказал Сэм и, крепко взявшись за задний фасад леди, энергично подпихнул ее вверх; он был очень рад, что Эви не видно его ухмылки. – Не торопись, со мной все в порядке.
– Фэ-э-эм, я бы фебя фнула, ефли бы не боялафь, фто ты меня уронишь!
Ворча, она протиснулась сквозь окно и приземлилась с явственным грохотом по ту сторону стены.
– Эви? Ты в порядке? – воззвал Сэм.
– Ага. К счастью, тут у стены стоит стол. Сэм?
– Да, Котлетка моя?
– Напомни мне пнуть тебя потом.
– Непременно, – пообещал он. – Только не забудь открыть мне дверь.
Он обежал кругом. Эви встретила его на пороге, раскинув руки жестом радушной хозяйки.
– Как мило с твоей стороны зайти на огонек! Думаю, тебе понравится, какое гнездышко я тут свила.
На то, чтобы глаза привыкли к темноте, ушло несколько секунд. Зря он не захватил фонарик!
– Вся эта пыль – очень элегантный интерьерный ход.
– Правда ведь? Я специально приглашала декоратора. Сказала ему, мне бы хотелось что-нибудь наподобие «Падения дома Ашеров»[37], только не такое веселое. Итак, Сэм, где это мы?
Американский Департамент Паранормальных Исследований оставил по себе не так уж много. Три стола, несколько стульев. Дубовый шкаф для бумаг. Книжный шкаф, уставленный большими, потемневшими, крайне скучными с виду томами. Календарь страховой компании «Американский орел» на ржавом гвозде на стене, открыт на апреле 1917-го. Рядом карта Соединенных Штатов, утыканная кнопками – в каждом штате отмечено минимум несколько городов. На каждой кнопке – свое число: 63, 12, 144, 48, 97…
– Что мне искать? – деловито осведомилась Эви, открывая и закрывая ящики стола; в них не было ничего, кроме комьев пыли.
– Что угодно со словами «Проект „Бизон“», – отозвался Сэм, подходя к архивному шкафу, который оказался заперт. – Шпильки не найдется?
Эви пошарила в сумочке и нашла одну. Сэм сунул ее в замок, пошерудил и со щелчком открыл ящик. Тот оказался пуст. Они все оказались пусты.
– Черт тебя побери! – Сэм от души двинул шкафу в бок. – Оу, – добавил он, тряся рукой.
– Что теперь? Тут ничего нет, – сказала Эви.
Они с Сэмом неприкаянно стояли посреди заброшенного офиса.
– Я правда думал, мы что-нибудь найдем, – сказал Сэм, и Эви по голосу смогла оценить, насколько он разочарован.
Это был их лучший след за долгое время, он возлагал на него такие надежды… Она огляделась еще раз, ища хоть что-нибудь, способное оказаться полезным.
– Сэм? – У нее в голове заворочалась, обретая форму, кое-какая идея.
– М-м-м?
– Ты вроде говорил, что нашел это письмо от Ротке в книге? – Эви кивнула на шкаф с томами.
– Бэби-Вамп, ты гений. – Искра надежды снова подожгла запал.
– О, Сэм, ты так говоришь просто потому, что это правда.
И они углубились в дебри больших, переплетенных в кожу томов. Эви смахнула с одного слой пыли.
– Уф. Вот и конец этим перчаткам. «Декларация независимости». Сэм, скажи, я об этом где-то слышал.
Она открыла книгу. Внутри та оказалась выпотрошена, так что из краев страниц получилась неопрятная коробка с двумя узкими стеклянными бутылочками внутри. Что бы там ни было раньше, жидкость давно уже испарилась, оставив по себе только потресканную синюю пленку.
– Спиртное? Духи? – Эви открыла одну и понюхала, но покачала головой. – Определенно ни одно из двух.
– Давай проверим, что скрывают «Документы Федералистов», – предложил Сэм, кашляя от взвившейся ему прямо в лицо пыли.
– Похоже на обычную книгу, – сказала Эви. – По крайней мере, внутри не пустая. Тайные послания есть?
Сэм перевернул книгу страницами вниз и от души потряс. Несколько листков бумаги спорхнуло на пол, он поднял один из них: это оказалась прямоугольная картонная карточка с пробитыми в ней явно по какой-то схеме рядами дырок. Остальные карточки были точно такие же, за исключением машинописных заголовков: Субъект № 12, Субъект № 48, Субъект № 77, Субъект № 12, Субъект № 63, Субъект № 144.
– Сэм, что это такое? – спросила Эви, переворачивая одну. – И зачем тут эти дырочки?
– Это код.
– Слушай, ну какой это, к черту, код? Это же просто дырки.
– Дырки и есть код. Как-то на Рождество я работал в универмаге у Мэйси…
– …эльфом?
– А как же. Прости, я удивился, что со мной туфли разговаривают, – огрызнулся он в ответ. – Оператором перфокарт. Информацию по продажам мы хранили в кодах. Вот именно это карточки и есть – закодированные документы, а дырочки – информация.
– И как нам теперь прочесть эту информацию?
– Читать ее может только специальная машина.
– Ты видишь такую тут поблизости?
Сэм честно поглядел во тьму.
– Нет.
Эви еще раз перебрала карточки, зачитывая вслух:
– Субъект номер двенадцать… субъект номер сорок восемь… субъект номер семьдесят семь… так, погоди-ка, – она подбежала обратно к стене и уставилась на карту, потом на карточки, потом опять на карту. – Эти номера субъектов соответствуют городам! Смотри, они тут по всей стране разбросаны. Вот, субъект номер семьдесят семь у нас в… – она поискала, – в Южной Дакоте. А субъект номер сто сорок четыре – это… – она добежала пальцем до следующей кнопки, – Баунтифул, штат Небраска.
– Субъект номер семьдесят семь, Новый Орлеан. Субъект номер двенадцать, Балтимор… – подхватил Сэм.
– Сколько их тут? – Эви отступила на шаг от карты, чтобы окинуть взглядом ее всю.
– Не знаю, но самое большое число на карточке – сто сорок четыре.
Эви прищурилась на стену. В Зените, штат Огайо, торчала кнопка и рядом с нею число – ноль. Субъект номер ноль.
В коридоре, приближаясь, зазвучали шаги.
– Сэм! – прошипела Эви.
– Скорее, возьми вот эти, – зашептал в ответ Сэм, рассовывая карточки по карманам куртки. – Положи в сумочку!
– Там первым делом будут смотреть! – Эви подняла подол и спрятала карточки за край чулка, под подвязку, рядом с фляжкой. – Ты что на мои ноги пялишься, Сэм Ллойд? – она аккуратно разгладила юбку.
– На фляжку вообще-то. Я сам не свой до серебра, – отозвался Сэм, осторожно продвигаясь к двери.
– Что, если мы влипнем? – поинтересовалась Эви, крадясь за ним. – Это тебе не в ссудную кассу вломиться. Тут, на минуточку, правительственная контора!
– А мне нравится, когда ставки высоки, – Сэм продемонстрировал свой неподражаемый волчий оскал.
Он чуток приоткрыл дверь. Двое мужчин в серых костюмах показались в дальнем конце коридора. Походка у них была спокойная, но решительная, и что-то в ней Сэму оч-чень не понравилось, хотя он вряд ли сумел бы уточнить, что именно. Парочка казалась тут совсем не к месту – в отличие от почтовых рабочих. Какая-то охрана, возможно. В случае чего Сэм смог бы отвести обоим глаза достаточно, чтобы успеть улизнуть, но это было совсем уже крайнее средство. Свои сверхъестественные способности – если это были они – Сэм предпочитал держать в секрете. Секреты – это защита.
Эви выглянула у него из-за плеча.
– Это кто? Полиция? – прошептала она, подтверждая показания инстинктов.
– Понятия не имею, но дружелюбно они не выглядят. Здесь мы не выйдем, – сказал Сэм, осторожно прикрывая дверь. – Нужно выбираться тем же путем, что пришли.
– Сэм, там, c той стороны, между полом и окном ничего нет. Можно ногу сломать. А что, если они нас услышат? Что, если кто-то из них пойдет в туалет?
Шаги звучали уже совсем близко.
– Может, они даже не этот офис ищут, – предположила Эви.
– Может, и не этот, – сказал Сэм, но задвижку на двери все равно задвинул.
Шаги стали громче, ближе… и остановились ровно перед их дверью. Сэм схватил Эви за руку, они быстро нырнули под стол и прижались друг к другу. Места было категорически мало. Эви свернулась в клубочек буквально на груди у Сэма. Его рука оказалась у нее на плече, а его рот – прямо у ее шеи.
Застучала дверная ручка, потом стало тихо. Прошло несколько секунд, и в замке клацнул ключ. Эви судорожно втянула воздух сквозь стиснутые зубы.
– Тихо, Шеба, тихо, – прошептал Сэм, скользя теплым дыханием по коже.
Коридорный свет плеснул на пол, потом потух, когда дверь закрыли. Из своего подстольного укрытия Эви с Сэмом имели счастье наблюдать две пары серых брючных ног и черных ботинок, безмолвно ступающих по заброшенному офису. Открывались и закрывались ящики; одна из пар остановилась у стола, и сердце у Эви так загрохотало в ушах, что его было впору услышать снаружи. Сэм рисовал маленькие кружочки большим пальцем по внутренней стороне ее запястья – пытался успокоить, да только вместо этого от них вверх по руке бежали мурашки, а в голове кружилось, как спьяну.
Один из серых заговорил. Голос оказался мягкий, почти что ласковый.
– Видишь что-нибудь похожее на пророчество?
– Нет, если только оно не начертано в пыли, – ответил второй; его голос был более тихий и хриплый, будто сорванный.
Все четыре ботинка повернулись к стене с картой.
– Так много цыплят, и всех надо переловить…
Они еще секунду постояли во мраке. Дверь отворилась, впустила свет, потом закрылась опять; в замке щелкнул ключ. Шаги удалились. Эви повернула голову; рот Сэма был на расстоянии вздоха. Внутри у нее словно заворочался пчелиный рой.
– Еще немного и… – прошептала она; в голове было очень легко.
– Да уж, – согласился Сэм.
Никто из них не шевелился; его рука все еще обнимала ее запястье.
– Я… я думаю, нам уже можно вылезать, – сказала Эви.
– Да, скорее всего, – ответил Сэм.
Эви выбралась из-под стола и потянулась. Сэм последовал за ней, выпрямился, резко развернулся всем корпусом и на мгновение привалился к стене.
– Эй, ты там как?
– Высший сорт. Просто… дай мне минутку. – Странно, но голос у него был слегка запыхавшийся.
Через секунду он повернулся к ней – чуть раскрасневшийся, будто только что выпил.
– Думаю, было бы недурно подышать воздухом – пока еще можем.
Они пошли по длинному коридору. Сэм все еще чувствовал у себя на воротнике след ее духов. Он искоса взглянул на Эви – ровно в тот миг, когда она посмотрела на него: улыбающаяся, слегка на взводе от пережитого приключения, – и сердце у Сэма вдруг оказалось чересчур велико для клетки ребер.
Уборщик вывернул из-за угла с ведром и шваброй, и Эви пискнула от неожиданности. Тот вытаращил на них глаза, потом подозрительно прищурился.
– Эй! Вам тут нельзя находиться. Кто вас сюда пустил?
– Ой, мы дико извиняемся, отец. Искали отдел невостребованной корреспонденции, хотели поклониться могилам, так сказать… – пояснил Сэм.
Эви хрюкнула от смеха, не слишком убедительно попытавшись замаскировать звук приступом внезапного кашля.
– …но, кажется, это не он. Вы уж нас извините.
Схватившись за руки, они проскочили мимо уборщика. Внутри у Эви закипал, булькая, смех, и этого хватило, чтобы Сэм тоже утратил всякое самообладание.
– Вам тут нельзя находиться, – еще раз попробовал донести до них упорный служитель, но пара, истерически хохоча, уже мчалась бегом прочь.
К тому времени, как Эви и Сэм добрались, наконец, до «Вальдорфа», «Радиозвезда» уже поджидала их.
– Надо поглядеть, смогу ли я нарыть одну из этих читающих перфокарты машин, – сказал Сэм, приглаживая черную шевелюру и снова водружая сверху свой моряцкий картуз.
– Кто, по-твоему, были те парни в серых брюках? – спросила Эви.
– Вот уж не знаю. Но не отдел недоставленных писем они там искали, помяни мое слово.
– Кстати, ты про завтрашний вечер не забыл? Мыло Пирса с ума сходит от перспективы твоего появления на моем шоу.
– А мне очень надо?
– Сто пудов. Это будет всего несколько минут, Сэм. Достаточно, чтобы продать мыло и осчастливить рекламщиков, что в свою очередь осчастливит мистера Филипса, что в свою очередь осчастливит меня.
– Какая длинная цепочка счастья, однако. Хорошо, Шеба. Увидимся в девять.
– Не пойдет. В девять шоу. Явишься в полдевятого.
По ту сторону стекла секретарша мистера Филипса уже отчаянно махала Эви, делая головой дерганые жесты в сторону журнальной братии.
– Кажется, мне пора, – сказала Эви.
Она все еще ощущала призрак Сэмовой руки у себя на плече.
– Кажется, да, – сказал Сэм, не двигаясь с места.
– Ну… – сказала она.
– Да, – сказал он.
– До скорого, мой милый Лепрекончик, – сказала Эви, пятясь к дверям.
– До скорого, моя Котлетка, – Сэм галантно снял перед нею шляпу.
Сквозь высокие отельные окна он пронаблюдал, как внутри фотограф поставил Эви позировать с теннисной ракеткой, как будто она тянется за подачей. Это был всего лишь фотоснимок, но на личике у Эви застыло выражение суровой сосредоточенности, будто она собиралась отбить злосчастный мяч, как минимум, к звездам. Сэм понимал, что и ему тоже давно уже пора, да только никак не мог уйти.
По пути в Нью-Йорк он в свое время провел пару месяцев с отчаянной авиаторшей по прозванию Мертвая Петля. Она ему ужасно нравилась, но в конце концов он бросил ее ради проекта «Бизон».
– Всю дорогу думала, что прикончит меня когда-нибудь самолет, – сказала она ему тогда. – И никогда – что мальчишка навроде тебя. Когда-нибудь девчонка разобьет тебе сердце – как только это случится, дай мне знать, я пошлю ей благодарственную открытку.
Она нахлобучила пару авиаторских окуляров на блестящие от слез глаза.
– А ну, брысь отсюда, летун! Мне еще целое шоу летать.
Да, у Сэма были способности, помогающие в любой момент получить нужное, но с любовью такие фокусы не проходят. Любовь должна быть отдана добровольно – и получена обратно, в ответ.
Эви смотрела на него сквозь окно. Она состроила смешную мордочку – глупый жест – и у Сэма что-то всколыхнулось глубоко внутри.
– Ты только не размякай, Сережка, – пробормотал он себе под нос.
– Могу я вам помочь, сэр? – сказал ему ливрейный швейцар на входе, всем своим видом намекая, что кредит бесплатного торчания на тротуаре у него исчерпан.
– Ох, парень, – сказал ему Сэм, бросая Эви еще один, последний, голодный взгляд, – хотел бы я, чтобы ты мог!
Забавные чувства
В шумном «Автоматическом кафе Хорна и Хардарта», что на Бродвее, Эви забилась в уголок и стала выглядывать Т.С. Вудхауза. Вскоре тот показался в дверях – c обычным своим чванливым видом, давно заслужившим ему скверную репутацию.
– Признаться, я удивился, получив твою весточку, Шеба, – заявил он, усаживаясь напротив и непринужденно угощаясь целой вилкой ее яблочного пирога. – Ты нынче занятее бейсбольной биты Крошки Рута.
Эви сунула доллар ему под шляпу. Вуди мельком глянул на него и еще раз вторгся в пирог.
– Неужто тебе не хватает прессы, Душечка?
– На сей раз это не для меня, – тихо сказала она.
Вуди ухмыльнулся во всю пасть.
– Первый раз в жизни слышу от тебя такие слова.
Эту колкость она оставила без внимания.
– Вуди, мне нужно, чтобы ты хоть раз приложил свой воспаленный разум к тому, что требует настоящего расследования.
– Мне реально нравится, как ты напрашиваешься на услуги, Шеба. Само смирение и такт.
– Если тебе надо смирения и такта, отправляйся в монастырь. Это важно.
– Я весь – одни сплошные уши.
Эви совсем не была уверена, что Вуди стоит доверять, но больше у нее все равно никого не было. Она оглянулась убедиться, что никаких других ушей рядом нет.
– Ты когда-нибудь слышал о проекте «Бизон»?
Репортер поднял брови.
– Благотворительная контора, которая водит детишек в зоопарк?
– Нет. Правительственный проект военного времени. Может быть, даже довоенного.
Вуди вытер рот, не отрывая глаз от Эви. Потом вытащил карандаш и записал у себя в блокноте: проект «Бизон».
– Продолжай.
– Я на самом деле немного о нем знаю. Только то, что он, видимо, имел какое-то отношение к пророкам.
– Какое?
– Я уже говорила, не знаю. Видимо, на этот проект работала мама Сэма.
– Что она делала?
– Она была медсестра, – сказала Эви с каменным лицом; Вуди совсем не надо знать все. – Это все, что у меня есть.
– Надо понимать, если я хочу знать больше, мне придется спросить Сэма…
– Нет! – Эви схватила его за руку. – Сэму ты говорить не должен. C ним припадок сделается, если он узнает о нашем разговоре. Это все строго конфиденциально, Вуди. Я просто хочу помочь ему разузнать, что случилось с его матерью.
Его медленная улыбка ей совсем не понравилась.
– А, молодые чувства. Ладно. Как звали вашу миссис Ллойд?
– Мириам. Мириам Любович. Потом они успели поменять фамилию на Ллойд, но я не знаю, когда.
Вуди, не поднимая головы, обжег ее взглядом.
– Так Сэм еврей?
– Как и Аль Джолсон[38], – она выдержала его взгляд, даже не моргнув.
Вуди пожал плечами.
– Я-то против евреев ничего не имею. Но не все придерживаются таких взглядов – твой мистер Филипс, например. Это так, дружеское предупреждение. Ладно, посмотрим, что мне удастся накопать. Но копать, учти, придется много.
Он откашлялся, многозначительно посмотрел на доллар и замолчал.
– Крысы ведь этим и занимаются – копают? – с ходу дала сдачи она, потом порылась в сумочке и протянула ему еще доллар. – Это все, что у меня есть.
– Мой букмекер выражает вам благодарность, мисс О’Нил. Еще одно. Что там произошло в Ноулз-Энде с Хоббсом?
– Я еще тогда рассказала газетчикам всю правду. Эти новости давно простыли, – сказала Эви, гоняя по тарелке остаток яблочного пирога.
– Правду, только правду и ничего, кроме правды, за исключением правды частичной. Слушай, у меня такое забавное чувство, что ты далеко не все рассказала про те события.
– И чего же я, например, не рассказала?
– Ну, скажем, что Джон Хоббс не был человеком.
Эви уже успела пожалеть о своем решении. Таким, как Т.С. Вудхауз, только мизинчик протяни – они тебе руку по плечо отхватят.
– У нас у всех подчас бывают забавные чувства, Вуди. Возьми себе молочный коктейль и забудь про эту историю. Прости, что вот так обрываю разговор, но мне еще выступать перед дамским вечерним клубом до шоу.
– Будешь гадать по куриному салату? – не удержался Вуди, но тут же сделался серьезным. – Я твердо намерен докопаться до правды, красавица. И неважно, сколько времени на это уйдет.
И c этими словами он спикировал на остаток пирога.
Услуги и чудеса
– Мемфис! Мемфис!
На пороге парикмахерской Флойда Мемфис оглянулся и увидал Рене, одного из посыльных Папы Чарльза, который махал ему с той стороны улицы.
– Мемфис! Ты нужен Папе Чарльзу!
– Зачем это? – Сердце у него слегка екнуло.
Папа Чарльз никогда на пустом месте за людьми не посылает.
– Не знаю. Просто велел пойти и привести тебя в «То что надо!». Вот прям щас.
С верхушки фонарного столба их обкаркала ворона.
– Чего ты на меня орешь? Могла бы побыть хорошей птичкой и рассказать, чего Папе Чарльзу от меня нужно!
Ворона еще раз нечленораздельно каркнула и заткнулась.
– Спасибо, ты мне совершенно не помогла, – сказал Мемфис, обхватывая себя руками по случаю холода.
В «То что надо!» он направился прямиком в хорошо обставленный кабинет Папы Чарльза, кивнув по дороге Жюлю и Эммануэлю, Папиным бодигардам, сидевшим снаружи по обе стороны дверей с автоматами на коленях.
– Мемфис, входи-входи, – поприветствовал его Папа из своего исполинского стола. – Садись, сынок.
Мемфис примостился на краешке стула. Он попытался было облизнуть губы, но во всем рту было сухо. Тяжелый дым от Папиной сигары ел глаза. Босс сложил руки на столе и поглядел на мальчика.
– Мемфис, я тебя знаю уже очень долго. И папу твоего знал. И маму тоже.
– Да, сэр.
– И я всегда приглядывал за твоей семьей, так? Я позаботился, чтобы у Исайи была новая бейсбольная перчатка. И послал одного из своих мальчиков починить Октавии холодильник, когда тот сломался.
– Да, сэр, – сказал Мемфис.
Тревога его все росла. В какие-такие неприятности он успел влипнуть?
– А когда тебя арестовали несколько месяцев назад, кто вытащил тебя из тюрьмы?
– Эти копы меня подставили! Они работали на Голландца Шульца и типа хотели таким образом передать вам послание, – запротестовал Мемфис.
Если бы он не работал прежде всего на Папу Чарльза, его бы тогда не замели, так что со стороны босса было некрасиво вот так ему это припоминать.
Папа сделал маленький жест – ну, мы же тут все знаем, как это бывает.
– Тем не менее, – продолжал он, выдувая кольца дыма, – я оказывал тебе услуги, так? И теперь пришло время, когда мне потребуется услуга от тебя.
Мемфис сглотнул тяжелый ком в горле.
– Какая именно услуга?
– Знаешь мистера Каррингтона, у него еще большой магазин на Сто Двадцать Пятой?
«Каррингтон» был большой универмаг, где отоваривались по большей части белые. Мемфис заходил внутрь, один раз – так один из магазинных ищеек ходил за ним всю дорогу по пятам! Пришлось спешно ретироваться.
– Да, сэр, знаю, – напряженно сказал Мемфис.
– Мистер Каррингтон всегда был нам хорошим другом. И сейчас ему нужна наша помощь. Сегодня утром я услышал, что у его жены сонная болезнь, – Папа постучал сигарой о край серебряной пепельницы. – Часть моей работы – присматривать за Гарлемом, за тем, что в наших интересах. Нам тут не нужны проблемы, c которыми сталкиваются ребята в Чайнатауне. И нам не нужно, чтобы тут шнырял Департамент здравоохранения, закрывая нам бизнес и врываясь в рестораны и клубы. Если об этом случае прознают, у всех у нас будут большие неприятности.
– Тогда почему мистер Каррингтон не позовет доктора? Он себе может это позволить.
– Доктора с сонной болезнью поделать ничего не могут. Мистер Каррингтон помнит тебя, помнит, как ты работал в Миссии Чудес, – Папа Чарльз снял заблудившуюся нитку со своих безупречных шерстяных брюк. – Если мы окажем любезность мистеру Каррингтону, он в свою очередь окажет любезность нам. Ну, скажем, поможет людям Голландца Шульца не доставлять нам неприятностей.
Суть ситуации начала всходить над горизонтом Мемфисова разума, подобно заре.
– Папа Чарльз, но вы же знаете, я такого больше не делаю. После мамы…
– Мемфис, – вздохнул Папа Чарльз и посмотрел на него тем особым взглядом, после которого все проблемы в Гарлеме вдруг решались очень быстро и сами собой; слова его, однако, были тихи и обдуманны. – Ты что, думаешь, я вчера родился? В ту минуту, когда Нобл Бишоп ворвался к Флойду, вопя о божественном исцелении, я уже знал, что это ты. Станешь отрицать?
Мемфис приклеился взглядом к своим рукам.
– Ты. Станешь. Это. Отрицать?
– Нет, сэр, – прошептал Мемфис едва слышно. – Но у меня только один этот раз получилось. И я не знаю, смогу ли еще такое сделать.
Врать так врать.
– Значит, сейчас самый что ни на есть отличный случай проверить, – Папа Чарльз решительно затушил сигару. – Хватай шляпу и двигай за мной.
Перед многоквартирным домом Каррингтона на Сто Двадцать Седьмой улице стайка школьниц прыгала через скакалку под какую-то свою девчачью припевку. Пока Мемфис с Папой поднимались на крыльцо и Папа звонил в звонок, юные леди отчаянно хихикали, но Мемфис был слишком расстроен, чтобы обратить на них внимание, так что они вернулись к своей считалочке.
– Мисс Мэри Мак, Мак, Мак, одета в мрак, мрак, мрак… – пели они, и по спине Мемфиса невольно пополз холодок.
– День добрый, Бесси. Мы пришли к мистеру Каррингтону. Полагаю, он нас ждет, – сказал Папа Чарльз, подавая горничной шляпу.
– Да, сэр, мистер Чарльз, – отвечала та, забирая вдобавок и пальто, и улыбаясь застенчиво Мемфису. – Привет, Мемфис.
– Привет, Бесси, – промямлил тот.
– Господи, надеюсь, вы знаете, что делаете, – прошептала она, провожая их наверх. – Я даже простыни ей менять боюсь.
Они прошли вдоль по коридору к закрытой двери, куда девушка осторожно постучала.
– Мистер Каррингтон? Пришли мистер Чарльз и мистер Кэмпбелл, хотят вас видеть, сэр.
– Впусти их, – раздался изнутри приглушенный голос.
Бесси отворила дверь в комнату больной, отступив в сторону, чтобы дать гостям дорогу, и поскорее захлопнула ее за ними.
В спальне было темно и тихо. Шторы стояли задернутые. Миссис Каррингтон лежала в кровати под балдахином на четырех колонках; рот ее был приоткрыт. Губы слегка кривились, словно она пыталась заговорить, а пальцы на одеяле судорожно сжимались и разжимались. Глаза под веками метались туда и обратно; по бледному пергаменту шеи рассыпалась гроздь красных пятен. Мемфис старался не смотреть на пятна, но взгляд туда так и тянуло.
– Спасибо, что пришли, – сказал мистер Каррингтон из полумрака; он него несло спиртным. – Вам нужно что-нибудь, прежде чем приступить?..
Папа Чарльз возложил руки на плечи Мемфиса.
– Он все сделает как надо. Правда, Мемфис?
– Да, сэр, – прохрипел тот, изо всех сил надеясь, что так оно и будет. – Не будете ли вы все так любезны склонить головы?
Не то чтобы ему было непременно нужно, чтобы они молились, – просто Мемфис терпеть не мог, когда на него смотрят, у него от этого нервы сдавали. Когда взрослые послушались, он приблизился к кровати и положил ладони легонько на руку миссис Каррингтон между плечом и запястьем. Все, что есть в мире благого, приди сейчас ко мне, подумал он и закрыл глаза.
Связь пришла быстро, почти мгновенно; ток стремительно побежал вверх по его рукам. Теплое желтое солнце, и предки принимают его в объятия… их дитя вернулось домой. Но стоило Мемфису подключиться к миссис Каррингтон, как стало ясно, что что-то не так. Едва поднявшись, волна исцеления гасла – что-то гасило ее, что-то боролось с ним.
– Мемфис, прекрати! – раздался мамин голос.
Мать стояла там, посреди высокой травы, и лицо ее было испугано.
– Мама?
Духи предков рассеялись в дымку. Гневные тучи закрыли солнце; сразу сделалось холоднее.
– Мемфис! – Мама задохнулась, закашлялась; пучок перьев упал с ее губ, глаза расширились, голос стал хриплым и тонким. – Мемфис, уходи сейчас же!
Но было уже слишком поздно. Его дернуло, скорчило и затянуло под девятый вал – а вынырнув на поверхность, он очутился въяве внутри сна миссис Каррингтон. На синем велосипеде он катил через ярко-зеленое поле только что скошенной травы, и в воздухе пахло макушкой лета. Смех миссис Каррингтон звенел у него в ушах. Она была такая молодая… такая свободная и счастливая. Ее счастье ударило ему в голову, как наркотик; все тело расслабилось. Тут было ужасно хорошо, у нее во сне… и Мемфис забился, чтобы не забыть свою цель.
Ему надо вылечить эту женщину. Надо ее разбудить.
Но стоило ему снова сосредоточиться, как визгливый голос раздался отовсюду сразу:
– Кто смеет тревожить мой сон? Я превращу твою жизнь в кошмар…
Тепло сейчас же куда-то испарилось; холод побежал по жилам. Мемфис попробовал разорвать связь, но не смог. Что-то держало его, сильное, как подводное течение, – он попробовал бороться, но тщетно. Велосипед, поле, солнце – все пропало; теперь кругом было темно, и он не мог двигаться. Где же он? Далеко, сквозь крошечное световое окошко проглянула железнодорожная станция. Вот только что она была красивой, а в следующее мгновение обратилась в покрытую грязью развалину.
Мемфис все еще пытался вылечить миссис Каррингтон, связь между ними была цела – и он чувствовал то, что чувствовала она. Ее разум отчаянно пытался вернуться назад, в счастливые времена, c зеленой травой и синим велосипедом; ее желание зубастым голодом вгрызалось ему в нутро, обещая никогда не знать утоления. А еще Мемфис ощущал, что сон высасывает ее жизненную силу – а значит, чтобы ее исцелить, нужно будет оборвать этот сон. Но как?
Проснитесь, миссис Каррингтон, подумал он. Есть люди, которые хотят, чтобы вы вернулись. Проснитесь!
Свирепый рык прервал его; концентрация полетела к чертям. Что это за звук? Тьму разорвали зеленые вспышки. Какая-то фигура приближалась к нему… На ней было длинное платье и вуаль. Сердце миссис Каррингтон припустило вскачь, и Мемфисово вслед за ним. Тоннель затопил ужасный шум. Призрачная фигура подходила все ближе, и Мемфис чувствовал в ней страшный гнев и горе, недоступные его исцелению.
– Кто вторгается в мои сны? – вскричала женщина, а потом ее глаза загорелись узнаванием и странным восторгом. – О, сколько в тебе жизни! Больше, чем во всех них. Ты сможешь кормить мои сны долго-долго… посмотри со мной этот сон!
Ее губы пали на его, высасывая жизнь из тела, – и одновременно поцелуй обещал все, о чем он когда-либо в жизни мечтал! Надежды стаями полетели перед внутренним взором: вот Мемфис и Тэта сидят рядышком на солнце под лимонным деревом; у него на коленях пишущая машинка. Вот Исайя смеется, а маленький пес прыгает за мячиком. Вот мама развешивает стираное белье и улыбается сыновьям, а папа курит трубку и читает газету. Мемфис воспротивился сну, и его сменили кошмары: солдаты, разорванные пополам… мама в кровати, где она умерла, от нее уже почти ничего не осталось… какой-то страшный лес, и человек в высоком цилиндре протягивает ему руку, а на ладони горит глаз и под ним молния…
– Мы… c тобой… Едины…
Он отвернулся от всего этого ужаса и кинулся обратно, в счастливый сон.
Мемфис открыл глаза. Желтое, как масло, солнце озаряло шикарный городской особняк. Дверь отворилась, и дворецкий пригласил его внутрь.
– Добрый вечер, мистер Кэмпбелл. Взять ваше пальто? Все так ждут услышать вас сегодня.
Он подал Мемфису программку: «Мисс Алелия Уокер представляет новые стихи Мемфиса Джона Кэмпбелла».
– Совсем как Лэнгстон Хьюз. Вы сделали это, мистер Кэмпбелл.
Дворецкий остановился перед второй дверью и широко ему улыбнулся.
– Не желаете ли войти, сэр?
Последнее сопротивление оставило его. Сейчас он хотел только одного – чтобы перед ним открыли эту дверь и он вошел.
– Да. Да, желаю. Спасибо.
И вторая дверь распахнулась. Он вступил в роскошную гостиную, элегантная публика встретила его аплодисментами. Овации нарастали – о, только бы они никогда не кончались! Он растворялся в этой комнате, в этой радости, в этой любви. Тэта посылала ему с первого ряда воздушный поцелуй. Великая Алелия Уокер, патронесса поэтов, писателей, художников Гарлема, раздвинула занавес, и его глазам предстал стол со стопками книг, каждая из которых несла на корешке его, Мемфиса, имя.
– Моя книга, – прошептал Мемфис, расплываясь в улыбке.
С верхней полки книжного шкафа ворона что-то сердито орала ему.
– Лети прочь, птица, – сказал ей Мемфис. – Это мой вечер.
Переведя взгляд обратно на стол, он увидал позади него жерло длинного темного тоннеля.
– Вы же не хотите заставлять их ждать, мистер Кэмпбелл? – произнесла Алелия Уокер; ее рука грозила вот-вот уронить занавес, отсекая его, навеки отделяя его от…
– Нет, мэм, – сказал Мемфис.
Снова раскатился утробный гул. Теперь он был гуще, ниже, почти как гнездо рассерженных ос. Улыбающаяся публика наступала на него.
– Посмотри этот сон вместе с нами… – шептала она, тесня его вглубь, к столу с книгами и ждущей за ним голодной тьме.
Хлопая крыльями, птица пронеслась по комнате. В зеркале Мемфис увидел теплые пески и предков. Один из них, мужчина с высоким посохом, заговорил с ним на незнакомом языке, который, тем не менее, отозвался где-то глубоко внутри, призывая к осторожности. Смотри, смотри внимательнее, увещевал он.
Мемфис шеей почувствовал угрозу, мышцы на ней напряглись; сердце удвоило аллюр. Он обернулся. Миссис Каррингтон стояла в углу, бледная, силясь заговорить.
– Не… Обещай, – c трудом вымучила она. – Это… Ловушка…
Мемфис открыл книгу со своим именем, вспорхнули страницы – пустые. Все до одной пустые.
Смотри внимательнее.
– Где все мои слова? – спросил он.
– Слова не имеют значения. Посмотри с нами этот сон…
Но Мемфис-то знал, что слова значение как раз имеют.
Смотри внимательнее.
– Где все мои слова? Куда вы забрали мои слова? – сказал он.
И сразу же занавес с грохотом пал. Алелия Уокер испарилась, и ее шикарная гостиная начала рассыпаться по краям. Он снова оказался в длинном темном тоннеле; странные зеленые вспышки мигали, текли с потолка. Ворона подлетела и клюнула его в щеку. Мемфис ахнул и потянулся к ране: по пальцам побежала кровь. Он быстро поймал миссис Каррингтон за руку; в голове у него, где-то далеко-далеко, били барабаны предков и, повинуясь какому-то первобытному инстинкту, Мемфис кровью хватил ее по лицу – и закричал, когда сила с ревом ринулась сквозь него, словно целый океан наконец прорвал дамбу.
В следующий миг он рухнул на пол подле кровати миссис Каррингтон. Руки у него тряслись, а горло корчили спазмы, словно от рвоты. Кажется, он бежал долгие мили и весь кончился… Приглушенные голоса стали яснее.
– Мемфис! Мемфис, сынок, сядь. Ну-ка, давай, приподымись…
Миссис Каррингтон села в постели. Широко распахнутые глаза отчаянно мигали, скрюченные пальцы хватались за воздух; рот открывался и закрывался, словно она почти утонула и теперь пыталась выкашлять из легких остатки воды.
– Эммелина! – Мистер Каррингтон в слезах бросился к кровати. – Эммелина!
Та наконец смогла судорожно, c хрипом вдохнуть.
А потом она закричала.
ЧУДО НА СТО ДВАДЦАТЬ ПЯТОЙ УЛИЦЕ! ЖЕНА ХОЗЯИНА УНИВЕРМАГА ПРОБУДИЛАСЬ ОТ СОННОЙ БОЛЕЗНИ! – вопила передовица специального вечернего выпуска.
Жадные до новостей ньюйоркцы осаждали газетчиков, которые едва успевали отлистывать им свежеотпечатанные, пахнущие краской страницы, живописующие чудесное спасение миссис Каррингтон. C одра болезни леди сообщала, что о своем состоянии ничего не помнит, кроме счастливого сна о том, как каталась на синем велосипеде и слушала песенку музыкальной шкатулки. Мистер Каррингтон в свою очередь заявлял, что внезапным выздоровлением супруги обязан исключительно «величайшей целительной силе самого Всемогущего». Сара Сноу тут же примчалась сделать снимок: больная в постели и рядом она, в модном платье с приколотой на груди свежей орхидеей. Ни пророков, ни Мемфиса Каррингтоны не упомянули.
Но Слепой Билл, сидючи у Леннокса в аптеке и потягивая кофе, пока Реджи вслух читал газету алчно внимающим посетителям, – Билл-то знал, чья это работа.
Время ожидания воистину прошло.
Совершенно приличная девушка
Вечером первого свидания с Джерико Мэйбл, как назло, свалила жестокая простуда. Теперь, когда заранее расписанный вечер наконец настал, Джерико не без удивления оценивал выбранную программу. У него был заказан столик в «Киеве», ресторации где-то в Западных Пятидесятых, где посетители пили чай, ели блины, а в промежутках между блюдами плясали под оркестр, если хотели. Почему он выбрал это место, Джерико в упор не понимал. Танцевать он не умел, а когда ведешь девушку в заведение с танцами, ты как бы сообщаешь, что намерен именно этим и заниматься. Вся затея уже начинала казаться ему крайне глупой, но давать задний ход было как-то поздно.
– Эй, Фредди! – завопил Сэм, врываясь через парадные двери. – Слушай, я тут иду на вечеринку… святый боже! Это что, га… то есть, я хочу сказать, на тебе правда галстук?
Сэм привалился к стене и беспомощно смотрел, как Джерико сражается с указанным предметом гардероба, в третий раз проваливая попытку завязать нормальный узел.
– У меня сегодня свидание, – сказал Джерико, снова его распуская. – Почему ты весь в пыли? Впрочем, неважно. Уверен, я не хочу этого знать.
– Совершенно верно, этого ты знать не хочешь. Надеюсь, у тебя свидание с торговцем антиквариатом, потому что на шее у тебя настоящая древность. Ты это у нас в фондах нашел или с мертвого клоуна снял?
– Иди вон, Сэм.
– И бросить тебя в пучине такой беды? Ага, сейчас. Я тебе нужен. Больше, чем ты сам думаешь. Стой тут.
Сэм рысцой устремился к себе в комнату, там загрохотали ящики, и через мгновение он вернулся в сопровождении крайне модного и вполне современного галстука в серую полоску.
– Вот, возьмешь мой.
Джерико с сомнением обозрел предлагаемое.
– И где ты это украл?
– Отлично, – сказал Сэм, убирая галстук подальше от его рук. – Надевай эту дедушкину радость и вперед. Мне-то какое дело.
– Погоди, – Джерико выхватил у него серо-полосатое чудо. – Спасибо.
– Ах, не за что. Так, а кто же у нас счастливая незнакомка? – полюбопытствовал Сэм, волнообразно поигрывая бровями.
Когда его проигнорировали, он цапнул со стола одного из солдатиков времен Гражданской войны.
– О, Джерико, – заговорила тонким голосом фигурка. – Скорей обними меня, большой мальчик, ах ты, самец!
– Поставь генерала Мида назад, в Геттисберг. Ты можешь изменить ход войны. И это всего лишь свидание.
– С девушками это никогда не бывает «всего лишь свиданием». Первый урок, Фредди. Заруби его себе на носу, – тоном знатока возвестил Сэм.
– Как всегда, я тебе безмерно признателен за мудрый совет, – сказал Джерико, приканчивая узел.
Сэм одобрительно кивнул.
– Вот теперь ты совершенно мил, Фредди. Иди и не делай ничего такого, чего не сделал бы я, – и, ухмыляясь от уха до уха, он рухнул в Уиллово кресло.
– То есть не веди себя как приличный человек? – поинтересовался Джерико, снимая с коридорной вешалки шляпу и шарф.
– Кто только что снабдил тебя приличным галстуком?
– Вон из кресла.
– И тебе приятного вечера! – прокричал Сэм в закрывшуюся дверь.
– Прошу прощения за маму и папу и за все эти вопросы, которыми они тебя засыпали, – сказала Мэйбл, когда они с Джерико уже сидели в киевском кожаном купе на двоих. – Они, конечно, радикалы, но в отношении моих ухажеров – форменные республиканцы.
– Все в порядке, – отвечал Джерико, глядя, как пары, по возрасту годящиеся им двоим в дедушки и бабушки, скользят по истертым паркетам под тепловатые потуги второсортного оркестра.
Все это совсем не походило на шикарные ночные клубы, по которым каждый вечер шлялись Эви и Сэм. Оставалось только надеяться, что Мэйбл его выбор не совсем уж разочаровал.
– Милое местечко, – сказала Мэйбл, которая вообще была молодец.
– М-м-м, – промычал Джерико с полным ртом клейкого теста.
– Так славно, что у них тут и танцевать можно.
– Да. Танцевать… это да, – сказал Джерико, чувствуя себя конской задницей.
К тому же Сэмов галстук пытался его задушить.
Мэйбл тянула свой пряный чай; в животе у нее бурчало – это она нервничала, пытаясь придумать какое-нибудь начало для беседы, способное исправить вечер, и чем скорее, тем лучше.
– О, а я знаю одну забавную игру! – сказала она наконец. – Если бы ты был из пророков, какими силами ты бы хотел обладать?
– Я не пророк, – резонно возразил Джерико.
– Ну, так и я тоже нет. На то она и игра.
– Я не силен в такого рода играх. – Он откусил еще блина.
Я заметила, подумала про себя Мэйбл и в двадцатый раз помешала ложечкой чай.
– Ладно. А какие бы силы были у тебя? – нашелся Джерико.
– О. Да какие угодно, я думаю. Не быть такой жутко обычной – уже подарок. – Мэйбл расхохоталась и подождала, пока Джерико примется ее разуверять: ну что ты, не глупи, уж кто-кто, а ты-то не обычная! Ты самая что ни на есть необычная – таких, как ты, вообще больше нет!
– Нет такого понятия, как жуткая обычность. Если что-то жуткое, оно уже по определению необычное. Прямо до жути.
– Ну его, – проворчала Мэйбл. – Давай сменим тему.
– Я же тебе говорил, я в таких играх не силен, – сказал Джерико. – К тому же чем больше я читаю о пророках, тем больше прихожу к заключению, что это проклятие не в меньшей степени, чем дар.
– Что ты хочешь сказать?
– Пророки говорят миру правду. Но люди очень редко на самом деле хотят правды. Мы требуем ее, как раз когда больше всего хотим, чтобы нам солгали. Лучше уж наркотик надежды.
– Но надежда и правда нужна человеку! Людям надо давать надежду! – запротестовала Мэйбл.
– Почему?
– Почему что?
Джерико скрестил на груди руки.
– В таком аморальном и жестоком мире разве это не бессовестно – давать людям надежду? Это как рекламировать мыло, которое никогда ничего не отмоет.
– Да ты просто циник.
– Неужели? А война! Мы деремся за власть, убиваем за нее. Мучаем других, превращаем в рабов. Творим себя, потом уничтожаем – снова и снова, всегда. Если цикл все равно будет повторяться, зачем затеваться с надеждой?
– Но мы же иногда побеждаем! Я сама видела людей, которые борются против такого угнетения и побеждают. То, о чем ты толкуешь, – это нигилизм. И если честно… – Мэйбл втянула воздуху, чтобы успокоиться. – Если честно, мне скучно это слушать.
Ничто так не придавало ей храбрости, как заявления, что в хорошей битве невозможно победить.
– И какой же это нигилизм – понять циклический ход вещей и отпустить его, вместе с зависимостями, моралью и да, c опиумной тщетностью надежды? – Джерико не постеснялся ответить залпом на залп.
Наивность Мэйбл его раздражала. Думает, что она повидала мир… но если она чего и повидала, так это одну-единственную его грань, аккуратно обсаженную живыми изгородями родительского идеализма.
– Ладно, – решил добить он, – если ты изволишь верить в надежду, то как насчет настоящего зла? Ты веришь, что такое явление существует?
Мэйбл почуяла в вопросе испытание, которое оглянуться не успеешь, как провалишь.
– Я верю, что настоящее зло порождается системой, которая устроена несправедливо, или людьми, которые поступают эгоистично. Еще алчностью. – Она никогда еще не облекала свои мысли по этому поводу в слова – даже для себя самой, и теперь ей было очень приятно проговорить их вслух.
– Вот слова истинного благодетеля человечества.
Мэйбл ощетинилась.
– В страшилу под кроватью я не верю. В жизни и так довольно зла, c которым можно бороться, чтобы еще выдумывать чертей, демонов и призраков. Если ты веришь, что в мире существует Зло – вот такое, c большой буквы «З», – разве это не опровергает твою веру в свободную волю? Я все-таки считаю, что выбор у человека есть. Выбор поступать правильно. Выбор надеяться. И давать надежду другим, – c нажимом сказала Мэйбл.
Джерико сидел очень тихо, так что она даже перепугалась, не обидела ли его ненароком. Но тут он поднял голову и поглядел ей в глаза каким-то новым взглядом, от которого ей сделалось страшно.
– С тобой никогда не случалось такого, что поставило бы под вопрос все, во что ты веришь? – спросил он. – Что заставило бы тебя пересмотреть все твои представления о морали, о том, что хорошо и что плохо?
– Я… – Мэйбл осеклась. – Наверное, нет. А с тобой?
– Один раз, – Джерико был неподвижен, как статуя. – Я помог другу свести счеты с жизнью. Тебя это шокирует?
Мэйбл несколько секунд потрясенно молчала. Она совсем не была уверена, что мечтала знать такое о Джерико.
– Да. Немного, – сказала она наконец.
– Он очень болел и страдал и сам попросил меня это сделать. Мне пришлось как следует взвесить этот выбор: было ли это убийство или акт милосердия? Аморальный или, учитывая обстоятельства, наоборот, высокоморальный поступок? Я думал, что уже примирился с тем, что сделал. Но что-то я потерял уверенность.
Мэйбл совсем не знала, что сказать. Она нарисовала себе ростовой портрет Джерико, такого умного, доброго, благородного; это внезапное признание отказывалось вписываться в его строгую композицию. Да и собственная ее жизнь зиждилась на фундаменте, на котором большими буквами значилось «твори добро», и проникнуть в глубинный смысл этих слов у нее до сих пор особого шанса не было – да и желания, пожалуй, тоже.
– Мне очень жаль, – сказала она.
Это было самое жалкое из утешений, но ничего весомее она сейчас предложить не могла.
Джерико оттолкнул тарелку.
– Нет. Это мне жаль. Негодная тема для разговора на свидании. Что-то не задался у нас вечер, да?
– Ну, не настолько не задался, как в тот раз, когда я случайно наступила прямо в отхожее место в трудовом лагере… но в целом ты прав.
Джерико издал небольшое «ха!», и Мэйбл улыбнулась – в первый раз за вечер от души.
– Ого, Джерико! Ты только что смеялся. Ницше будет в ярости!
Джерико чувствовал себя последней сволочью. Затеял перепалку на ровном месте, ни с того ни с сего… Единственное прегрешение Мэйбл в том, что она не Эви. По крайней мере, она заслужила, чтобы к ней относились по-человечески. Если никакая искра между ними не пробежала, что ж, так тому и быть. И вообще-то недурно было бы попробовать спасти вечер и закончить свидание на ноте, поприятнее всех предыдущих.
Джерико сложил салфетку, встал и протянул ей руку.
– Мэйбл, не желаешь ли потанцевать?
– Ну, чаю я уже точно больше не хочу, – сказала она, подавая ему свою.
– Я не то чтобы хороший танцор, – сказал Джерико извиняющимся тоном. – И под этим я подразумеваю, что вообще-то не танцую. Совсем.
– Да ладно. Я вообще-то тоже не танцую. Но мы тут единственная пара младше семидесяти, а это чего-то да стоит, правда?
– Это как-то ужасно, – поморщился Джерико.
– Зато блины были ничего, – она тоже сморщила нос, в знак солидарности.
Джерико сопроводил Мэйбл на площадку для танцев, где они и встали, глядя друг на друга, одинаково неуклюжие и неуверенные. Оркестр затянул мелодию, так и отдающую доброй старосветской драмой: обреченная любовь, кровавая месть, чудесное спасение, новая жизнь.
– Ты разрешишь? – нервно спросил Джерико.
Мэйбл кивнула. Он положил ладонь ей на талию, и она чуть-чуть подскочила.
– Прости. Я?..
– Нет! Все… хорошо. Да. Я просто… В общем, все хорошо. – Щеки у нее почему-то сделались ярко-красные.
Джерико снова приземлил руку ей на талию, и на сей раз она положила свою левую ему на плечо, а другой, правой, встретилась с его ладонью, изо всех сил стараясь не обращать внимания на заливающую лицо жаркую краску. Они медленно двинулись через танцпол: раз, два-три, раз, два-три… Пары постарше одобрительно глядели на них и даже кричали что-то ободряющее на русском и на английском. Им даже удалось проделать несколько па безо всяких происшествий. Танец завершился бурными аплодисментами со стороны престарелой аудитории; Мэйбл чувствовала гордость пополам со смущением.
– Пока мы на коне, надо смываться, – прошептал Джерико ей на ухо.
– Согласна.
По дороге домой беседа вращалась исключительно вокруг пророческой выставки и блестящей игры Чарли Чаплина. Добравшись до «Беннингтона» (на пятнадцать минут раньше комендантского часа Мэйбл), они уже успели договориться пойти вместе на Стренд, смотреть Бастера Китона.
– Там может оказаться публика даже младше шестидесяти, – сострил Джерико, и Мэйбл засмеялась.
В животе у нее вспорхнули бабочки, так что ей даже пришлось поправить ремешок сумочки.
– Ну, спокойной ночи, Джерико.
– Спокойной ночи, Мэйбл.
Джерико был не вполне уверен в протоколе завершения довольно-ужасного-но-все-таки-не-вполне-провального первого свидания. Рукопожатие выглядело бы чересчур формальным. Поцеловать девушке руку… такое мог бы отколоть разве что герой-любовник из фильма (такого, что показывают днем) – и при этом не чувствовать себя полным идиотом. Поэтому Джерико послушался наития и поцеловал Мэйбл – нежно и быстро, в губы, – после чего заспешил по лестнице к себе в квартиру.
Мэйбл распласталась по стене холла, чувствуя себя как в летнем, напоенном цветами, пронизанном светом тумане, и даже зрелище мисс Адди, кружащей по вестибюлю, оставляя за собой след соли из халатных карманов и бормоча что-то про мертвых, которые лезут сквозь брешь, не испортил ей настроения.
Едва войдя в квартиру, она кинулась к телефону, игнорируя мамины мольбы об информации, и, заслышав голос Эви в трубке, расплылась в счастливой улыбке.
– Резиденция Провидицы-Душечки. Как вас представить?
– Эви, это я.
– Мэйбси! Как тебе мой секретарский голос? Правда же придает таинственности?
– Я знала, что это ты.
– О, какое разочарование! Но ты прямо вся запыхалась. За тобой гонятся волки? Говори, не медли.
– Ты мне не поверишь. Я сама себе не поверю!
– И во что же я не поверю?
– Я… погоди, я себя ущипну.
– Мэйбл Роуз! Если ты немедленно не прекратишь меня пытать и не скажешь мне сей же час, в чем дело, я… я… в общем, сделаю с тобой что-нибудь ужасное, пока не могу придумать, что.
– Ты там сидишь?
– Я о-че-лют-но готова услышать твою историю, и уже давно.
– Джерико меня поцеловал!
На том конце линии последовало такое глубокое молчание, что Мэйбл испугалась, не оборвалась ли связь.
– Эй? Эви? Оператор!
– Да здесь я, – негромко ответила Эви. – Не слабо! Это совершенно пухлая новость, милая! И как же… как это случилось?
– После нашего сегодняшнего свидания и…
– Погоди-погоди. Так у вас и свидание было? Почему же ты мне ничего не сказала?
– Ну, видишь ли, Эви, тебя сейчас совершенно невозможно поймать, – сказала Мэйбл, надеясь, что намек прозвучал достаточно внятно: у тебя даже на лучшую подругу времени нет.
– Ты про поцелуй давай. Он тебя долго целовал?
– Нет, быстро, раз, и все. На самом деле…
– А он сначала сказал тебе что-нибудь?
– Нет… ну, он…
– Какое у него было выражение лица? По нему можно было что-то прочесть?
– Эви! Дай я уже сама расскажу, а? – взмолилась Мэйбл в трубку.
– Прости, Мэйбси.
– Мы пошли в «Киев»… – начала та.
– Аргх! У них еще такие унылые маленькие блинчики. Если бы блины умели сурово на тебя смотреть – эти бы точно смотрели.
– …и сначала, – продолжала Мэйбл, не останавливаясь, чтобы ответить на эту ремарку, – все, если честно, шло не то чтобы слишком хорошо. Но потом… потом он пригласил меня танцевать и – ох, Эви! это было так романтично! Ой, ну, если по правде, это тоже было ужасно, пока мы немножечко не втянулись. Ну почему, почему я не дала тебе поучить меня чуть-чуть танцам!
– Это одна из величайших тайн нашей эпохи. Ну, так что там про поцелуй? – спросила Эви, кусая губы.
– Я к этому и веду. Он меня проводил до дверей, был такой молчаливый и…
– Просто молчаливый или задумчиво молчаливый?
– Эви!
– Прости-прости. Давай дальше.
– Он сказал: «Спокойной ночи, Мэйбл», – а потом… просто… меня поцеловал, – Мэйбл даже чуть-чуть пискнула.
Эви закрыла глаза и представила лицо Джерико в первом утреннем свете.
– Я все кручу и кручу это перед глазами, как самую лучшую картину Валентино, только теперь я Агнес Эйрс, а Джерико – Руди.
– Ну, он, конечно, далеко не Руди, но смысл я уловила, – проворчала Эви.
Мэйбл уже щебетала что-то дальше, но Эви больше не желала об этом говорить. Она правильно поступила с Мэйбл и, скорее всего, c Джерико тоже. Она его бросила. Тогда почему же, творя правильные вещи, так погано себя чувствуешь? Значит ли это, что вещи были совсем не правильные? Или правильные вещи всегда так ощущаются? Что само по себе способно навек отвратить от их делания…
– Эви?
– Гм-м?
– Ты слышала, что я сказала?
– Ох, прости, Мэйбл. Тут у меня, понимаешь… паук. На полу. Такой ужас!
– Ой-ой! В таком шикарном отеле как-то не положено водиться паукам.
– Да уж. Я, пожалуй… пойду, позову коридорного. Извини, Мэйбси.
– Погоди! Что, по-твоему, мне теперь делать?
– Я бы на твоем месте не торопилась. Мальчикам нравятся девочки, у которых есть другие мальчики. Вот такие они странные.
Эви шмыгнула носом. Как легко ее все-таки забыли.
– Джерико точно не из таких, – твердо сказала Мэйбл.
– Поверь мне, они все такие.
Она с ума сходила по Джерико. Никакого права не имела, а сходила.
– Эй, Эви, ты как-то не слишком счастлива за меня!
– Извини, Мордочка. Я за тебя очень счастлива. Я о-че-лют-но пою и пляшу тут от радости, – весело сказала Эви, чувствуя себя очень виноватой. – Так что сходи с ним в кино и просто будь самой очаровательной собой.
– Так в этом-то и проблема! Никакая я не очаровательная.
– Ну… вот тебе и будет хорошее упражнение.
Мэйбл рассмеялась.
– Ты самая худшая на свете подруга, Эви О’Нил!
– Да, знаю, – скромно сказала Эви.
Переломный момент
У земли есть память. В каждой реке, в каждом ручье струится какое-то признание, какая-то история – ее шепчут камни, она взлетает над волнами в птичьем кличе, уносится дальше, в море. Бизон мчится по прерии, чья почва вспоена кровью битв, давно почивших в затхлых томах на всеми забытых полках. Поля, некогда вышитые синим и серым[39], ныне распускаются цветами потревожнее. Рабовладелец хлещет кнутом, и на коже много поколений спустя проступают шрамы предков.
Подо всем этим лежат мертвые – и помнят.
Аделаида Проктор ходила по этой земле вот уже восемьдесят один год. У нее тоже была своя история, о, да. Она приходилась дальней родственницей Джону Проктору – тому самому, которого повесили в Салеме, когда охотились на тамошних ведьм. Ведовство было у нее в крови, и Адди еще девочкой прочла все судебные материалы – c большим, надо сказать, интересом. Ведовство действительно существовало на свете – всего лишь профессия травников, повитух и прочего хитрого люда. Суеверия поддерживали только безопасности ради. Проклятия бормотали себе под нос, а то и вручали адресату вкупе с перевязанной прядью волос или метали ввечеру в огонь, чтобы утром о них уже пожалеть – или не пожалеть, смотря по обстоятельствам. Но ничего из этого в жизни не имело отношения ни к какому дьяволу – зато имело (и самое непосредственное) к слабостям сердца человеческого. Вот вам заклятия для исцеления одиночества. Или болезней – тоже дело. Для привлечения доброй удачи. Чтобы остаться живу в бурном море. Чтобы привести в мир дитя, осененное светлой долей. Все это утешало Адди, ибо воистину она нуждалась в утешении.
Иногда она проваливалась в грёзу, в транс, и тогда могла видеть мир духов, читать послания в спитой чайной заварке с той же ясностью, что слова в книге. Никому не дерзала она открыть эти секреты, хотя в талант свой была слегка влюблена. Из-за него она чувствовала себя особенной – почти такой же особенной, как тогда, c Элайджей Крокетом.
Красивый он был мальчик, ее Элайджа, c глазами серо-карими, как речные скалы.
– Я возьму тебя в жены, Аделаида Проктор, – сказал он и надел венок из ромашек ей на голову.
А потом поцеловал и отправился на войну брата против брата.
Она слышала крики и выстрелы со стороны харрисовской фермы. Сражение бушевало две недели. Под конец тридцать тысяч убитых выстилали собой виргинские пахоты. Шеренги мертвых мальчиков лежали бок о бок, протянувшись лентами через поля. Мальчик, которого она любила, тоже лежал среди них. А в нагрудном кармане, насквозь промокшее кровью, лежало ее последнее письмо.
Пронзенная горем, Адди решила, что жажда ее достаточно сильна, чтобы сварганить заклятие. Она написала свою мольбу на бумаге, запечатала лавровой веточкой и отпечатком большого пальца на крови и оставила в дупле старого вяза, как положено делать всякому, кто желает услуг от мира духов, – так она прочитала в книге.
Все, что ей было нужно, – это увидеть своего Элайджу еще разок, поговорить с ним…
В общем, она все сделала и стала ждать.
Война принесла и другие беды. Те, кто убирал трупы с полей, занесли на виргинские просторы тиф. Фермеры укладывались целыми дворами. Как-то знойным летним утром боль опоясала Адди по животу, а к вечеру она уже металась в горячке. Комната качалась и рябила у нее перед глазами, а потом она очутилась в странно бесцветном мире, где ее обступили духи – она чувствовала, как они надвигаются. Там стояло одинокое кресло вроде трона, и на нем восседал высокий серый человек, и плащ у него был весь в тяжелых иссиня-черных перьях. Нос у него рос длинный и крючковатый, губы были тонки, а глаза – черны, как бездна колодца.
– Аделаида Кассия Проктор. Ты искала моей аудиенции.
Никакой аудиенции Адди не искала, кроме как у своего Элайджи, и о том честно сказала.
– Сначала тебе придется говорить со мной. Задолго до того, как твои предки наводнили эту землю, я уже был. Полярная звезда лила свой свет мне на лицо. От ее народа происходит моя власть. Эта нация кормится сама собой. Какие мечты! Какие амбиции!.. И у меня есть мечты. И амбиции тоже есть. Я чувствую ваши желания у себя на языке. Идем со мной, дитя.
И Адди пошла за человеком в цилиндре через лес, где вороны обсели ветки, будто живые листья. Там, где шел ее спутник, трава желтела и жухла, на глазах становясь сухой и хрупкой.
Наконец они пришли на старое кладбище на холме. Могиле Элайджи не сравнялось еще и трех месяцев; последний принесенный Адди букет одиноко вял на ней.
– Что ты готова отдать, чтобы увидеть Элайджу еще раз? – спросил седой.
– Что угодно.
– У каждого выбора есть последствия. Нужно поддерживать равновесие. За то, что дается, забирается что-то другое. Подумай как следует о своих желаниях, Аделаида Проктор.
О своих желаниях Адди думала каждую ночь, пока тихонько плакала в подушку, так, чтобы сестра, Лилиан, мирно спавшая рядом, ничего не услышала. В шестнадцать лет Аделаида потеряла любовь всей своей жизни. Мальчик, обещавший стать ей мужем и отцом ее детям, лежал теперь в шести футах под глумливой сладостью летнего клевера. Нет, выбор свой она давно уже сделала.
– Что угодно, – повторила она, и человек в цилиндре улыбнулся. – Можно мне увидеть его, сэр? Пожалуйста, приведите его ко мне!
– Ты получишь своего Элайджу – со временем, – сказал тот. – А теперь спи. Ибо ты молода, и многочисленны твои дни. Но помни: отныне ты принадлежишь мне, Аделаида Кассия Проктор. Когда придет время, я напомню про обещание, которое ты сегодня дала. Про твой обет верности мне.
Он прижал большой палец ей ко лбу, и она упала спиной назад, в могилу, и все никак не могла перестать падать.
Адди проснулась со страшным желанием пить и на мокрых насквозь простынях. Лихорадка переломилась. За окном, на бледно-золотом пергаменте зари круглилась восковая печать луны. Но где же Элайджа? Тот человек обещал… Шли дни, а Элайджа не приходил, и Адди уже было уверилась, что ее обет – всего лишь болезненный сон.
А потом начались знаки.
То она находила свой дневник открытым на странице, где писала об их с Элайджей любви. То теплый ветер врывался в окно и приносил его запах, такой сладостный, солнечный. То лунной ночью ей чудилась музыка с заросшего высоченной травой поля – легкий шепот песенки, которую они пели вдвоем. И ромашки… она находила их на своей стороне кровати, на сундучке с приданым или рядом с музыкальной шкатулкой. А однажды, сняв с вешалки фартук, она сунула руку в карман и вынула ее всю в восковых белых лепестках. Только Элайджа знал, что из цветов она больше всего любит ромашки. Мать обвиняла, что так она пытается привлечь к себе внимание, но Адди-то знала, что все эти маленькие радости – от Элайджи. Даже за гробом он помнил о ней. И счастье ее не знало границ.
Лихорадка еще раз наведалась к Прокторам – наверное, решила отомстить. Убравшись наконец неделю спустя, она забрала с собой отца Адди и ее младшего брата, двух слуг, жену и крошку дочь бригадира.
Равновесие…
Адди была на похоронах, бледная и молчаливая, страшась того, что натворила, и того, что еще только грядет. Той же ночью кто-то прошептал ее имя, так нежно, что она проснулась с еще не просохшей слезой на щеке. Луна за окном истекала ярким светом в пелене облаков; соловей тренькнул, предупреждая.
Снова имя – легкое, как лунный свет. Аделаида, любовь моя. Я здесь.
Купаясь в серебряном блеске, Элайджа стоял на краю поля. Он вернулся к ней, как седой и обещал. Адди побежала за ним, за мерцающим светлячком меж деревьев, на старое кладбище, мимо надгробных камней – и прибежала к могиле. Шепоты кружили в сентябрьской тьме вокруг них. Холодно было там, так холодно… Элайджа сиял, как монетка в пруду, прекрасный ее возлюбленный, но что-то могильное теперь было в нем. Травы вплелись в истончившиеся волосы, тени окаймили глаза и заострили скулы. Рубашка плакала кровью, там, где пуля сделала свое жестокое дело.
– Ты призвала меня, любимая.
– Да, – в глазах половодьем поднялись слезы. – И я заплатила за тебя большую цену.
– Разве ты не знаешь, что с каждой отданной ему душой растет его сила? Что ты теперь связана с ним навсегда?
Адди ничего не понимала. Разве Элайджа не счастлив?
– Я сделала это, чтобы мы могли быть вместе навеки.
– Мы и будем. Потому что теперь мне не упокоиться без тебя. Я должен любить тебя до самой твоей смерти.
Рот его раскрылся в крике. Жуки полезли оттуда и черви, и прочая гробовая дрянь. В кронах деревьев заорали вороны – будто захохотали, жестоко и холодно. Эта тварь перед нею была не Элайджей, не тем Элайджей, которого она целовала под солнцем. Он был чем-то уже совсем другим, и она ничего из этого не хотела. Аделаида пустилась наутек. Она бежала и бежала, мимо памятников и пугал, назад, в безопасную гавань кровати, где безопасности больше совсем не осталось.
Наутро, окинув взглядом одеяло, она завопила, и вопила так громко, что проснулась сестра. На простыне валялась дохлая мышь, безглазая и со всеми внутренностями наружу – лежала на коврике из побуревших ромашковых лепестков.
Адди прочла кучу книг, выучила кучу заклинаний. В полночь она пошла к могиле Элайджи и выкопала то, что от него осталось. Она отломала суставчик пальцевой кости, вытащила зуб, отрезала прядку волос и взяла пригоршню могильной земли. Она положила их в железную шкатулку и сотворила обряд, привязывающий его дух ко всему этому, чтобы он больше не мог к ней прийти, не мог навредить.
Хорошо, но как же быть с Вороньим Королем, c человеком в цилиндре?
Адди сама дала ему силу, когда попросила увидеть Элайджу еще раз; сама привязалась к нему невидимой нитью, оборвать которую уже не могла. Она вслепую заключила сделку… Да нет, не вслепую. Она выбрала, и выбрала сама, поклялась в верности человеку в цилиндре. C тех пор прошли долгие годы, у нее было время подумать – обмозговать обет, данный поспешно и из любви, взращенный горем, желанием верить во что-то большее, чем она сама.
Теперь Аделаида Проктор была уже стара. Она видела, как хоронили ее любимого мальчика в топких почвах Вирджинии, а вскоре закопала в них и свою семью. Однажды в апреле она прочла, как Джон Уилкс Бут убил президента и сам последовал за ним. Когда президента Маккинли тоже унесла пуля убийцы, она была там. Она видела рождение автомобиля и аэроплана. Паровозы расчерчивали страну, блестящие рельсы неуклюже сшивали раны краденой земли длиной в многие мили. В нью-йоркскую гавань спешили корабли, неся драгоценный, исполненный надежд груз – груз благоговейно таращился на факел Свободы. Города росли и расползались, фабрики изрыгали в небо дым и амбиции. Войны не прекращались. Гимны воспевали славу нации. Люди были добры и красивы, сильны и честны, трудолюбивы и оптимистичны – а еще тщеславны, скупы, жадны, завистливы, принципиально невежественны и опасно забывчивы.
За свой восемьдесят один год Адди Проктор достаточно повидала в этой великолепной и бурной стране, такой невозможной от возможностей, и понимала, что бояться уже пора – потому что переломный момент достигнут. Страну наводнили призраки, и никто этого, кажется, не замечал. Люди плясали под взглядами мертвых из окон. Все это время человек в цилиндре копил свои силы. И теперь он шел в мир.
Хоть ее и предупреждали больше этого не делать, Адди отправилась в подвал и принялась рисовать мелом знаки на полу и бормотать молитвы, принося маленькие жертвы солью и кровью – то тут, то там: ритуалы, отгоняющие мертвых.
Она надеялась, что этого хватит.
Эврика
– Генри! – позвала Лин, идучи знакомой тропинкой вдоль болота под гигантскими испанскими вязами.
Генри и Луи сидели на дряхлом причале, нежась в солнечном золоте.
– Скорей, пока наши будильники не сработали, – напомнила Лин.
– Стой там, я сейчас! – прокричал Генри.
– Вечер добрый, мисс Лин! – подхватил Луи и помахал ей.
Солнце щедро купало его в лучах, и у Лин что-то забавно зашевелилось в животе, словно предупреждая, только о чем – непонятно.
– Все хорошие сны когда-нибудь кончаются, – сказал, подходя к ней, Генри, весь счастливый и розовый.
Они двинулись прочь по затененной тропинке.
– Что это у тебя на платье?
– Грязь, – Лин рывком вернулась в настоящее и потерла упрямое пятно.
– А, я думал, еще один эксперимент. Пепел какой-нибудь…
– Нет, но мне и правда нужна твоя помощь. Хочу посмотреть, смогу ли я разбудить тебя прямо изнутри сна.
Генри пожал плечами.
– Хорошо. Я за. Что мне нужно делать?
– Ничего, просто стой спокойно.
– Прям как моя музыкальная карьера…
– И оставь эти свои шуточки. Готов?
– Готов.
– Ага, значит, так… Генри, пора просыпаться! – сказала Лин.
Ничего не случилось.
– Генри, давай просыпайся! – повторила она уже громче.
– Ну, попробуй потормошить меня, что ли… – предложил Генри.
Лин схватила его за плечи и потрясла, сначала легонько, а потом уже более свирепо.
– Эй, полегче! А то проснусь с мозгами всмятку.
– Ха! – Лин сменила тактику и крепко ущипнула его.
– Ай! Это все еще наука или просто повод меня поколотить?
– Ну, прости, – смущенно сказала Лин и отступила, задумавшись. – Должен же быть какой-то способ…
– Может, мне попробовать разбудить тебя?
– Я не слишком внушаемая, – фыркнула Лин.
– Нет?
– Нет.
– На что спорим?
– Ни на что. Это просто факт.
Генри приподнял брови.
– Ну, давай проведем эксперимент? Ради науки?
– Ты только зря время потратишь, но хорошо, сделай милость.
– Ага! – Генри воздел руку, будто заправский колдун. – О, Лин Чань, мадам Кюри мира сновидений! – театрально взвыл он, едва сохраняя серьезное лицо. – Внемли мне! Воистину отпустил тебя сон! Ныне же пробудись!
Лин закатила глаза.
– Ты идиот.
– Отлично. Если ты так настаиваешь, я буду о-че-лют-но серьезено. – Он откашлялся и уставился на нее в упор. – Проснись, Лин.
Через несколько долгих секунд она светло улыбнулась ему.
– Я же говорила! – Она отломила сосновую веточку с ближайшего дерева и глубоко вдохнула терпкий смолистый запах.
До сих пор Генри и правда шутил, но сейчас ему приспичило принять вызов. Если они найдут способ просыпаться изнутри сна, им больше не понадобятся будильники. Тэта перестанет на него злиться, потому что не будет знать, что он опять гулял по снам. Он задумался… как тогда у него вышло вытащить Тэту из кошмара?
Он снова повернулся к Лин.
– Дружочек, ты очень устала, тебе нужно отдохнуть. Было бы так здорово проснуться сейчас дома, у себя в кроватке, а?
Лицо у Лин сделалось умиротворенным, рот приоткрылся. А потом, легонько вздохнув, она исчезла из мира снов. Генри постоял еще мгновение на месте, слишком ошеломленный, чтобы шевельнуть хоть пальцем.
– Лин? – Он поводил рукой там, где только что стояла девушка. – Ха. Ну, и что ты об этом скажешь?
Он был жутко доволен собой. Поскорей бы встретиться завтра и все это с ней обсудить.
В этот миг внутри тоннеля поползли трескучие вспышки, словно светляки жаркой июльской ночью, и болото кругом стало меркнуть. Серое небо пожирало последние остатки красок, словно шоу закрывалось на ночь. Края сна затрепетали и стали заворачиваться внутрь, словно кто-то потянул за шнурок, стягивая ткань декораций; хижина, деревья, цветы выцвели и утратили детали.
Из тоннеля донесся тихий плач.
– Эй? – Генри осторожно приблизился.
Ленточка песни поплыла в воздухе… мама наигрывала ее на пианино в Новом Орлеане – давно, когда еще делала такие вещи. Ему всегда нравилась эта старая мелодия…
– Милый мечтатель, узри же меня… – тихонько запел Генри, сам себя успокаивая, потому что изнутри отчетливо подымалась тревога.
Под тонким покровом музыки катался сдержанный рык, который они с Лин однажды слышали на станции.
– Эй? Кто здесь? – снова спросил он темноту.
Ветер рванул из тоннеля и с ним густой шепот, окруживший Генри со всех сторон сразу.
– Посмотри сон со мной…
От этого звука Генри сделалось тепло и мягко, словно он глотнул чего-то крепкого. Он шагнул к тоннелю. Что-то двигалось там, в темноте. Краткие вспышки света выхватили из теней девушку.
– Вай-Мэй?
Еще одна зарница высветила контуры темной вуали. Генри заморгал, и в остаточном образе, отпечатавшемся на сетчатке, перед ним мелькнуло такое, что он остро пожалел, что стоит тут сейчас один… потому что фигура из тоннеля медленно шла к нему.
В следующий миг прозвонил будильник. А еще в следующий Генри лежал, не в силах пошевелиться, у себя в кровати в «Беннингтоне».
Когда Лин вернулась из прогулки по снам, у нее болело все тело, а во рту был отчетливый вкус железа. Она вытерла кровь с губы, которую, видимо, прокусила по дороге назад. Все это не имело значения, потому что у Генри получилось! Он сумел ее разбудить, и Лин широко улыбнулась, несмотря на губу.
– Эврика! – пробормотала она, счастливая и изможденная, а потом провалилась в настоящий, глубокий сон, в котором была просто смертной, а никакой не богиней.
Наутро она едва вспомнит, как ей приснился Джордж Хуань, c кожей бледной и лоснящейся, расходящейся трещинами, словно он гнил изнутри, рыщущий по подземным тоннелям – быстрый, дерганый, как марионетка, c жадными руками, которые тянулись, искали, готовые схватить спящего бродягу, свернувшегося калачиком у подножия бетонной арки. И богомерзкого визга, c которым он пал на вопящего человека, она тоже не запомнит, и того, как подземка озарилась молнийными взблесками голодных духов, отвечающих на призыв.
День восемнадцатый
Крошечная вселенная
– Не знаю, стоит ли разрешать Лин идти в кино с Грейси и Ли Фань, когда кругом творится такое, – c сомнением протянула миссис Чань, раздвигая кружевные занавески в окне второго этажа и выглядывая на улицу.
На улице полиция жгла содержимое очередного магазина, где работали две жертвы сонной болезни.
– Пусть пойдет погуляет с подругами, – вмешался мистер Чань. – Как-нибудь несколько часов без нее обойдемся. Ей как раз хорошо бы развеяться, отвлечься от всего этого.
– Только будь очень осторожна, Лин, – сдалась миссис Чань. – Я слышала от Луэллы, что они взяли моду останавливать китайцев на улице и проверять на предмет сонной болезни. А бывали случаи и похуже. К Чарли Лао и его сыну, Джону, хулиганы пристали прямо перед их магазином на Тридцать Пятой улице. У Джона теперь синяк во весь глаз. Я вздохну спокойно, только когда все это закончится…
– Никогда оно не закончится, – заметил дядя Эдди, и Лин знала, что не сонную болезнь он имеет в виду.
На Таймс-сквер Ли Фань и Грейси отправились по магазинам, а Лин – в кино, уговорившись встретиться тут же позднее. Теперь, глядя, как слова «Новости компании „Пате“» мелькают поперек медленно расходящегося занавеса, она ежилась от колючего, как шипучка, волнения.
На экране двое почтенного вида джентльменов прогуливались по заснеженной тропке, заложив руки за спину. Белые титры на черном фоне сообщили, что это
Гиганты науки,
Нильс Бор и Альберт Эйнштейн,
Исследуют крошечную вселенную атома.
Атом. Меньше, чем в силах разглядеть человеческий глаз,
Но обладает силой изменить весь наш мир!
Как фермер собирает урожай со своих полей,
Так и мы можем пожать невероятные блага благодаря атому!
Картинка сменилась, и темноволосый мужчина, пригожий, как кинозвезда, замахал восторженным толпам с палубы своего открытого автомобиля. Лин улыбнулась; лицо ее купалось в белом экранном свете.
Джек Марлоу объявляет открытие
Выставки «Будущее Америки»
В Нью-Йорк-сити.
Исполинские губы мистера Марлоу безмолвно двигались рядом с микрофоном; аудитория на площади жадно внимала его словам. Экран снова почернел.
«Некогда великие мореплаватели бороздили бурные моря
В поисках возможного и невозможного.
Сегодня мы точно знаем, что возможно.
Мы сами построили то, что многие считали невероятным.
Мы построили Америку.
И мы – оплот ее великого будущего.
Будущего, полного отваги, вдохновения, демократии и исключительных людей!»
На мгновение Лин представила себе другие титры… возможно, когда-нибудь их тоже будут крутить вот так на экране… и там она будет одним из этих гигантов науки, пожимающих руку великому человеку вроде Джека Марлоу, а родители станут с гордостью глядеть на нее. Ведь вполне возможно, что все эти сонные путешествия станут ключом к научным открытиям, которые воплотят ее фантазии в реальность. И раз они с Генри могут уходить в иное измерение сна и создавать в этом призрачном мире что-то новое… возможно, время и пространство и да, даже сама материя – не более чем творения человеческого разума. Возможно, их творчеству и их странствиям воистину нет никаких пределов – если только научиться по-другому видеть.
Тапер заиграл что-то бодрое, возвещая о начале «Младшего брата». Лин надежно надвинула серую шляпу на уши, подхватила пальто и костыли и двинулась на выход мимо изумленного швейцара.
– Но, мисс, кино только начинается!
– Я в курсе, – успокоила его Лин. – Я хотела посмотреть только выпуск новостей.
Снаружи, на Сорок Второй, успело стать сильно холоднее. На ветру танцевала мелкая снежная крупа. Дыхание зябкими облачками вырывалось изо рта, но сейчас Лин вдохновляло даже это. Энергия… Атомы… Ци… Газетчик выкрикивал свежие заголовки: «Китайская сонная болезнь распространяется! Мэр клянется не допустить новой эпидемии испанки на нашем веку! Чайнатауну грозит полный карантин!» – и счастье Лин растаяло, как снежинки, как сны, как кинообразы Джека Марлоу… Она спрятала лицо в воротник, поглядела туда и сюда, и медленно побрела по улице.
Какая-то толпа запрудила тротуар и выплеснулась на проезжую часть; таксисты громко гудели, сообщая миру о своем недовольстве. Вперед уже было никак не пройти и обойти пробку тоже. Лин бы охотно спросила у кого-нибудь, что там происходит, да не хотела привлекать к себе лишнего внимания. Тяжелый воинственный барабанный бой повис над улицами – похоже на парад, и Лин ввинтилась на всякий случай в толпу, чтобы лучше видеть.
И да, она увидела. Барабанщики и дудочники шли впереди, предваряя стройные шеренги людей в белых балахонах и капюшонах, в ногу марширующих по Бродвею, размахивающих американскими флагами, несущих транспаранты с горделивыми надписями: «СОХРАНИМ АМЕРИКУ БЕЛОЙ – СОХРАНИМ ЕЕ БЕЗОПАСНОСТЬ!» и «ЗРЯЩЕЕ ОКО ДА НЕ УСТАНЕТ!». Кругом Лин зеваки аплодировали, свистели, приветствуя рыцарей Ку-клукс-клана.
– Простите, извините! – Лин начала проталкиваться против течения, надеясь поскорее вырулить обратно на Сорок Вторую; где-то там был автобус до дома…
Какой-то парень оскалился на нее.
– Эй, тут одна из этих чертовых китаёз лезет!
Все в ней так и окаменело от страха. Ну зачем она так поторопилась избавиться от Грейси и Ли Фань. Спокойно, просто иди на остановку; главное, добраться до остановки, сказала она себе, продолжая идти. Но парень с друзьями уже шагали за ней.
– Эй, ты… девчонка! – Голос уже не смеялся; его обладатель явно решил что-то доказать себе и миру. – Ты далеко собралась? Я с тобой разговариваю!
Сердце Лин глухо бухало; назад она оглянуться не отваживалась. Преследователи, впрочем, были уже близко, а автобус – увы, слишком далеко. Всего каких-то три месяца назад она могла бы кинуться наутек; теперь же лязганье ножных скоб гонгом гремело в голове, а руки тряслись от попыток так быстро двигать костылями. Стоит неправильно поставить ногу, и потеряешь равновесие, упадешь, а там… Некоторые прохожие наблюдали за происходящим с выражениям вялого недовольства на лицах, а один даже проблеял:
– Эй, вы! Оставьте ее в покое!..
Но в основном люди мельком глядели на них и просто шли дальше. Никто не заступил шпане дорогу. Лин держала голову низко, но глазами рыскала по улице, ища место, куда можно было бы рвануть за помощью. Неоновая вывеска в витрине ресторана похвалялась: «ЛУЧШИЙ РОСТБИФ В НЬЮ-ЙОРКЕ», – а ниже красовалось простое (и совершенно новое) рукописное объявление: «Китайцам вход воспрещен».
– Ты что-то далеко от дома забралась! – выдал человек за спиной. – Ты вообще английский-то знаешь?
Он уже был совсем близко; она чуяла запах его одеколона после бритья. Справа мелькнула гигантская афиша театра «Новый Амстердам». Лин сменила курс и поспешила туда. Внезапно костыль ушел глубоко в рытвину, немилосердно дернув все тело назад. Она чуть не зарыдала. И тут из переулка со служебным входом вышел Генри, дыша теплом на закоченевшие руки.
– Генри! – взвизгнула она. – Генри!
Он увидал ее, рука на автомате взлетела… и замерла в воздухе.
– Помоги м… – Ком льда пополам с грязью ударил ее, выбил из равновесия, и Лин упала.
Сумочка покатилась наземь, замок отлетел, и все содержимое рассыпалось по мостовой.
– Грязная китаёза! Вали домой! – прокричал довольный собой юный американец, проносясь мимо с друзьями и хохоча во все горло.
Я уже дома, хотела было сказать Лин, но слова вмерзли ей в горло, и она осталась сидеть в луже посреди Сорок Второй улицы.
– Трусы! – заорал Генри.
Он уже был рядом, помогал встать, подбирал костыли, сгребал с тротуара ее вещи и совал их обратно в сумку.
– Лин! С тобой все нормально?
– Я в-в пор-рядке, – выдавила она; в глазах стояли слезы. – Мне… мне просто надо домой.
– Хорошо, я тебя провожу, – Генри осторожно отряхнул грязь с ее пальто.
Тут его взгляд впервые упал на ее скобы, на ее костыли и безобразные черные ботинки, и улыбка на мгновение померкла. Однако тут же вернулась, слишком любезная, какая бывает у вежливых людей, которые не хотят вас расстроить. И тогда слезы, которые она таким трудом держала подальше, потекли по лицу, сразу все, горячие и позорные.
– О! О, дружочек, ну ты что! – Генри обнял ее за плечи, и она вся одеревенела под его касанием.
– Ой, прости, – спохватился он, отпуская ее. – Ты прям вся сама не своя. Как насчет чашки горячего шоколада, а потом уже домой, а? Ты же любишь какао?
– Я в порядке. Просто покажи мне, где тут автобус.
– Ты знаешь, у меня твердое правило: я никогда не пью шоколад в одиночестве. Мне религия запрещает.
– А у тебя, стало быть, и религия есть? – фыркнула Лин.
– Ну… нет. Практически нет. Но если бы да, такова была бы первая заповедь.
Лин вытерла глаза тыльной стороной руки и искоса глянула на Генри. Он стоял рядом в своем твидовом пальто: хрупкие плечи вздернуты аж до ушей, толстый клетчатый шарф вокруг шеи, ее сумочка болтается на изящных пальцах – весь такой рождественский подарок, только оберток многовато. Выглядел, надо сказать, совершенно нелепо – она бы и рада была рассмеяться, да только вместо этого слезы текли и текли.
Совсем недавно, в кино, ее переполняло ощущение чуда – весь этот мир атомов… и перемен… и возможностей… Теперь он в одночасье стал совсем другим, и этот новый мир ей не нравился. Снег продолжал сеять с небес, облепляя их мокрыми хлопьями.
– Ладно. Одно горячее какао, – сурово сказала Лин, забирая у Генри сумочку. – Если только найдешь место, куда меня пустят.
Она кивнула на «Китайцам вход воспрещен».
– О, не волнуйся, я знаю как раз нужное место, – сказал Генри и галантно предложил ей руку колечком.
– Прости, что это всего лишь чай, – сказал он. – Но он, по крайней мере, горячий.
Они сидели за крошечным столиком с мраморной крышкой в подвальном баре на узкой улочке в Гринвич-Виллидж. Лин дула на почти кипящий чай и подозрительно оглядывалась на красные обои, больше подходящие борделю, чем чайной; на женщин с коротко остриженными волосами и в не слишком-то женственных костюмах… на мужчин, сидящих как-то очень близко друг к другу…
– Что это за место? – прошептала она после долгого, неудобного молчания.
– Безопасное прежде всего, – отвечал Генри, наливая себе в чай молока. – Почему ты мне раньше не сказала правду?
– Не хотела, чтобы ты меня жалел. Хватит с меня зевак, которые таращатся на мои ноги с ужасом. Или с тем, что у них сходит за сострадание.
Она попробовал хлебнуть чаю: он все еще был слишком горячий.
– Просто… в мире снов я такая, какой была всегда. Я могу бегать и танцевать. Я там сильная. Не как тут. Не хотела, чтобы ты видел меня такой – слабой.
– Дорогая, ты можешь быть какой угодно, но вот слабой – уволь. И как давно ты уже… – Он умолк, не найдя слова.
– Калека? Раз уж мы об этом все равно заговорили, нет смысла миндальничать, – отрезала Лин. – Не так уж давно. C октября.
– И ты всегда?..
– Это был детский паралич, – твердо сказала она.
Генри кивнул.
– Мне очень жаль, – сказал он, помолчав.
– Почему? Ты здесь совершенно ни при чем.
– Нет. Но мне все равно очень жаль. Это ужасно несправедливо.
– А никто и не обещал, что жизнь будет справедливой. Именно поэтому я и люблю мир снов. Это единственное место, где я чувствую себя собой. Где я свободна.
– За это я выпью, – сказал Генри, поднимая свою чашку и делая глоток. – За место, где мы можем быть свободны!
Двое джентльменов за крайним столиком встали и пошли танцевать: сплетенные пальцы, щека к щеке. Лин очень старалась не пялиться на них и надеялась только, что ее дискомфорт не слишком бросается в глаза.
– Кстати, о свободе… – сказал Генри и как следует набрал воздуху в грудь. – Раз уж мы решили поговорить начистоту… я хочу рассказать тебе всю правду о Луи.
Сердце у него забилось быстро-быстро. Ну почему просто побыть собой с другим человеком куда ужаснее, чем все, что ты можешь навоображать себе во сне?
– Когда я сказал тебе, что Луи мой друг, это была… не совсем правда. Он больше, чем просто друг. Он единственный человек, которого я в жизни любил. Он… он мой возлюбленный.
Генри откинулся на спинку стула и скрестил руки на груди; физиономия его приобрела запальчивое выражение.
– Вот. Не стесняйтесь, мисс Чань. Что вы имеете мне сказать по этому поводу?
Генри… И Луи… Любовники… Ну, да, это немножко шокировало, но, c другой стороны, объясняло очень много того, что иначе смысла категорически не имело, но что Лин все равно чувствовала где-то там, в глубине души. Много лет назад до нее доходили какие-то обрывки слухов про дядю Эдди и про то, почему он так никогда и не женился. Все дело было в его друге, которого звали Фухуа. Поговаривали, что они друг другу ближе, чем братья. Они действительно всюду ходили вместе… но потом Фухуа арестовали за азартные игры, и на допросе выяснилось, что он въехал в страну незаконно, выдав себя за другого. Сделать ничего было нельзя. Не прошло и недели, как его выслали обратно в Китай с запретом когда-либо появляться на американских берегах. Дядино сердце было разбито… По крайней мере, так сплетничали.
– Это правда? – спросила Лин у мамы уже сильно позднее.
В те дни она еще всем делилась с мамой.
Та ужасно расстроилась.
– Ужасно говорить такие вещи о собственном дяде, Лин!
– Почему? – Щеки у Лин запылали от стыда, причины которого она сама не понимала.
– Потому что это… противоестественно – когда двое мужчин вместе. Грех это. Спроси отца Фому, он тебе все объяснит. И никогда больше не говори этого о дяде, дочка.
По правде сказать, Лин было все равно, правда эта история или нет: ее ужасно огорчало, что ее любимый дядя несчастлив. Как бы там ни было, после маминых разъяснений идея пустила корни у нее в голове: то, о чем шла речь, неправильно и греховно. И ставить эту мысль под сомнение ей до сих пор не приходилось – ни разу. Но Генри не был неправильным. Ну, да, иногда шутил, когда надо бы сохранять серьезность, – но он был добрый! Возможно, она не вполне понимала, как и чем он живет – точно так же, как не понимал он ее, – но там, в мире снов, они всю дорогу были честны друг с другом. Генри ей нравился – и Луи тоже. За свою жизнь она немало говорила с мертвыми, и ни разу никто из них ни словом не обмолвился, что любовь может быть грехом. Пока священники не докажут свою точку зрения, она, уж простите, будет ставить мнение мертвых выше мнения священников.
– Очень хорошо, – сказала она наконец.
Брови Генри полезли на лоб.
– И это все? Просто «очень хорошо»?
Лин погрела ладошки о теплые чашечные бока.
– Ага.
– Странный ты человек, Лин Чань, – Генри потряс головой с выражением видимого облегчения на лице.
– У меня никогда не было друга вроде твоего Луи. У меня вообще на самом деле никогда не было друзей.
– …зато теперь есть.
– Ты это говоришь только потому, что тебя приучили быть вежливым? Или ты правда так думаешь? – окрысилась на него Лин. – Только сделай милость, скажи правду, а не то, что привык.
– А тебе явно не по вкусу светские реверансы!
– А c какой стати мне врать? Какая от этого польза?
Когда она валялась в больнице после инфекции с парализованными ногами, сестры ей вежливо улыбались и уговаривали не волноваться – да только по глазам-то все равно было видно, что волноваться есть о чем, и от их вранья становилось еще страшнее. А правду ей сказал дядя Эдди.
– Дядя, мои ноги выздоровеют? – допытывалась она. – Они будут как раньше?
– Нет, милая, не будут. – И голос, и лицо были полны решимости, чтобы не допустить никакой ложной надежды. – Теперь оно вот так. В принятии есть сила, Лин. Считай, что ноги у тебя забрали – но не то, как ты теперь выберешь с этим жить.
– Я предпочитаю правду, – сказала она Генри уже не так горько.
Отвечать честно Генри не учили – только избегать ответов. Дома, в Новом Орлеане, в нем воспитывали настоящие южные манеры, а это означало никогда не говорить того, что думаешь. Он научился улыбаться, кивать и выдавать что-нибудь вроде «надо же, как интересно!» вместо «бред сивой кобылы!». Быть настоящим южным джентльменом – это ставить вежливость и приятность обхождения превыше всего остального. Честность оказалась странным ощущением, как будто вдруг задействовал давно не работавшую мышцу.
– Я думаю, дружить с тобой будет непросто… но интересно, – наконец сказал он.
– …непросто, но интересно?
– Полагаю, вы со мной влипли, мисс Чань. Так что заранее извиняюсь.
Лин ответила улыбкой – широкой и довольно глупой.
Генри присвистнул.
– Вот эта твоя улыбка – это реально красиво.
Лин замотала головой, уронив волосы на лицо.
– Это глупо.
– Ага. Я именно так и сказал: эта твоя глупая улыбка – это реально красиво.
На сей раз Лин таки захихикала.
– Ого, оно еще и смеется!
– Ну, не такая уж я и зануда!
– Еще какая! Ну, ладно – чуть-чуть. Эй! Ты сама хотела честности – ну, вот на тебе. Понравилось?
– Ты ужасный.
– О, какие любезности пошли! По чести сказать, ты тоже ужасна, дорогая моя, – сообщил Генри, и Лин уже совсем не могла бороться с улыбкой.
– Спасибо, что спас меня сегодня, – сказала она.
– Спасибо, что спасла меня.
Маленький джаз-бэнд в углу затянул что-то ритмичное. Мальчики повели своих партнеров на площадку и закружили, закружили… Лин мечтательно глядела на танцоров, легонько барабаня пальцами по столу. Генри некоторое время смотрел на нее, потом встал.
– Не желаете ли потанцевать, сударыня?
Ее лицо погасло.
– Это тебе не мир снов.
– Я знаю, – он предложил ей руку. – Один танец?
Она уставилась на его пальцы, потом неожиданно вцепилась в них и дала вывести себя на танцпол. По большей части они, конечно, медленно переминались на месте, но для Лин это уже не имело никакого значения – она танцевала! Это было почти так же прекрасно, как прогулки по снам.
Когда они вынырнули на заснеженную Барроу-стрит, Генри поглядел на Лин и спросил:
– Ты зачем это делаешь?
– Что делаю? – не поняла она.
– Натягиваешь подол юбки на скобы, когда на тебя кто-нибудь смотрит.
– Ну, они безобразные. Людей они… беспокоят.
– Меня они совершенно не беспокоят, – заявил Генри, и Лин выпустила на волю еще одну из своих редких улыбок.
– Так тебе совсем не нравятся девушки?
– Наоборот, мне очень нравятся девушки! Ну, только не в матримониальном отношении… если ты понимаешь, о чем я.
Лин кивнула.
– И, что еще более важно, мне нравитесь вы, мисс Чань. Ну, что, друзья?
– Да, полагаю, да.
Генри заухмылялся.
– Ответ совсем в духе Лин Чань. Если ты когда-нибудь отвесишь мне комплимент, я, наверное, упаду замертво. Ну, что такое опять? Ты снова хмуришься.
– Генри, можно я тебе кое-что покажу?
– Только если обещаешь, что там не будет маленьких детей и йодлей.
– Ни того ни другого. Но мне надо, чтобы ты пошел со мной в центр. Если только не боишься.
– Дорогая, меня пугают только скверные рецензии, – бросил Генри и взмахом руки остановил такси.
Незаконченное дело
По дороге в центр Лин честно выложила ему свой кошмар про Джорджа Хуаня, а еще – любопытные библиотечные находки про Пневматическую транспортную компанию Бича.
– Это было настоящее, реальное место, понимаешь – первая нью-йоркская подземка. Открылась в 1870 году, но уже в 1873-м ее перестали использовать, а в 1875-м замуровали навсегда. И, Генри, рисунки со станции просто потрясающе близки к тому, что мы с тобой видим каждую ночь в мире снов.
– Что, и фонтан? И фортепьяно? – спрашивал Генри, и Лин на все кивала. – И даже золотые рыбки есть?
– Да, и рыбки. А построили ее прямо под магазином готового платья Девлина! Вопрос в том, почему старая железнодорожная станция каждую ночь появляется в наших снах?
– Ну, ты же знаешь, как там все устроено. Ландшафт сна – это такая путаница символов, случайные обрывки ментальных цепочек, надерганных из нашей обычной, дневной жизни – и из чужой тоже.
– Да, и подобно реке, они непрестанно меняются. Но ты же сам задал вопрос: почему ты и я все время возвращаемся в одно и то же место, где в одном и том же порядке разыгрывается некая последовательность событий, как будто ее специально закольцевали?
– Что, я прямо так и спросил? – Генри поскреб подбородок. – Надо же, какой я, оказывается, умный. Теперь я как-то увереннее себя чувствую в качестве члена воображаемого научного клуба. Так, ладно… Почему, ты говоришь… И какое это имеет отношение к Джорджу? И к нам?
– Именно это я и хочу выяснить.
Такси остановилось у Сити-Холл-парка. Генри расплатился с шофером, и Лин повела его показывать решетку у фонтанчика.
– Вот сюда Джордж привел меня той ночью. Сам привел, очень целенаправленно. А потом показал на те здания на другой стороне улицы. Тебе они знакомы?
Генри склонил голову набок и прищурился на квартал Бродвея между улицами Мюррей и Уоррен.
– Если мне не изменяет память, похоже на ту улицу, откуда мы каждую ночь стартуем в сон.
– Вот и мне так кажется. – Лин села на скамейку и слегка распустила ремни на скобах, потирая вмятины на голенях от жесткой кожи. – Вон тот дом на углу Уоррена и Бродвея – там как раз стоял магазин Девлина, пока не сгорел.
Генри сел рядом с ней на скамейку и уставился на новое здание, расположившееся теперь на углу. На то, что во сне, оно было совсем не похоже.
– Итак, это место каким-то образом связано со сном, который мы смотрим каждую ночь, но почему – мы не знаем, а Джордж очень хочет, чтобы узнали…
Парковый сторож, насвистывая, обрывал с фонарных столбов объявления «Разыскивается…». Лин подождала, пока он пройдет мимо.
– Помнишь, я тебе говорила, что мертвые появляются, когда им есть что нам сказать. И они почти всегда выбирают декорации, напоминающие им любимое место в этом мире – ну, как моя тетя, например, всегда стоит в саду, который очень любила, а мистер Су – в «Чайном доме», где столовался каждый день. – Лин глубоко вздохнула. – Короче, иногда мертвые, наоборот, являются в тех местах, где у них осталось какое-нибудь незаконченное дело. Они не могут уйти, пока оно не доделается.
– То есть ты думаешь, что у Джорджа осталось какое-то дело тут, в Сити-Холл-парке? – Генри махнул рукой на рассыпавшихся по камням голубей.
– Не у Джорджа. У женщины под вуалью.
Лин искоса поглядела на Генри.
– Люди у нас в квартале думают, что эта расползшаяся по городу сонная болезнь – никакая не болезнь вовсе, а дело рук призрака. Это работа какого-то неупокоенного духа.
– Ты в это веришь?
– Звучит довольно нелепо, но я начинаю задумываться, не может ли это быть правдой.
– Я думал, ты ученый.
– Одно то, что я верю в науку, еще не означает, что я должна игнорировать суеверия. И у суеверий иногда есть основа. Я в этом не одинока, между прочим. Есть еще и ты. И Вай-Мэй тоже предостерегала нас относительно тоннеля. Она сказала, что чувствует там присутствие призрака и он ее пугает – вернее, она. «Она там плачет», – вот что сказала мне Вай-Мэй.
– Плакальщица грядет, – пробормотал Генри. – А теперь держись за шляпу, потому что с этой ноты оно становится еще интереснее. Вчера, когда я разбудил тебя изнутри сна… кстати, я планировал попользоваться этим потрясающим умением для дрессировки тебя, но теперь это, пожалуй, уже не очень уместно.
– Уж говори, что случилось, – прорычала Лин.
– В тот миг, когда ты исчезла, мир снов весь потемнел.
– Что ты имеешь в виду?
– Как в театре, когда спектакль окончен, свет гасят и все закрывается на ночь. Непросто объяснить… ну, как будто, стоило тебе уйти или нам оказаться не вместе, отпала необходимость поддерживать полную картинку. А еще через несколько секунд я услышал, как в тоннеле плачет женщина.
Лин резко втянула воздух.
– Ты же не пошел туда, правда?
– Лин, там женщина плакала! Несмотря на все мои проблемы с родителями, хорошие манеры они мне привить успели. Я не могу оставить без внимания деву в беде.
– Да уж. И что произошло дальше?
– Во тьме были такие зеленоватые вспышки. Я снова услышал рычание, а потом – я, правда, не могу в этом поклясться – я вроде бы увидел, как изнутри кто-то идет.
– Она?
– Возможно. А потом меня разбудил будильник.
– Вай-Мэй говорила про какую-то дурную смерть, – припомнила Лин. – Каждую ночь, когда она бежит мимо нас… у нее явно какая-то беда, тут ты прав. И у нее кровь на платье.
– Да. Кровь на одежде часто указывает на то, что что-то где-то пошло не так, – не удержался Генри. – Но с какой радости нашей таинственной даме из сна иметь какое-то отношение к этой сонной болезни – если ты правда думаешь, что дело в ней?
– Я не знаю. Все это пока что теория, и она еще может оказаться неверна. Но я все время возвращаюсь к той мысли, что Джордж хочет мне что-то о ней сообщить, навести меня на какой-то след.
Генри сунул руки под мышки, для тепла.
– В настоящий момент все наши следы лежат по ту сторону сна. И сводить их вместе нам тоже придется оттуда, я так понимаю.
– Да, согласна. Значит, так, у нас есть Пневматическая транспортная компания Бича. Фейерверки. Некто по имени Энтони Оранжевый Крест. И магазин готового платья Девлина.
– Брюки с привидениями. Всегда все упирается в брюки с привидениями.
Лин испепелила его взглядом.
Генри кивнул.
– Договорились. Все по-честному. Брюки без привидений.
Темная штормовая туча села на крышу мэрии, затмив на мгновение купол. Лин смотрела, как облако растворяется, обращаясь в куда менее зловещую версию самого себя.
– Убийство! Убийство! О, убийство! – пробормотала она. – Может, эту женщину под вуалью убили и… и она хочет, чтобы мы нашли ее убийцу и она могла упокоиться?
– Бьюсь об заклад, это был кучер того фургона: «Аргх, мисс, енто все лошади, чтоб их! Они меня довезли до убивства!» Дошло? Довезли до убивства? Всем спасибо, по два шоу в день. – Генри помахал у нее перед носом руками, но потом снова их уронил. – Ну, прости. Что, если этот самый Энтони Оранжевый Крест и есть убийца?
– Ага, и он гнался за ней, и убил на Райской площади? «Внимание, внимание, Райская площадь»?
– Погоди-ка… – Генри сел очень прямо. – Аделаида Проктор!
– Если это опять шутка, я тебя живьем освежую.
– У меня в доме живет одна старушка, звать мисс Аделаида Проктор. Имеет обыкновение бродить по вестибюлям в халате и посыпать ковры солью, попутно толкуя про всякие убивства, беспорядки и прочие малоприятные вещи. Она… ну, скажем, странная немного.
– То есть чокнутая, – подытожила Лин.
– Я бы сказал, эксцентричная.
– Это то же самое, только более… любезно.
– Так вот, как я как раз собирался тебе рассказать, она тут давеча уставилась на меня эдак – я в лифт заходил, никого не трогал – да вдруг и говорит: «Энтони Оранжевый Крест. Внимание, внимание, Райская площадь!»
Лин аж руками всплеснула.
– И почему ты мне этого раньше не сказал?
– Да как-то к слову не пришлось. К тому же я в театре подвизаюсь, дружочек, не забыла? Я там всякого странного люда навидался. Это, можно сказать, служебные издержки.
– Откуда она узнала эту конкретную фразу? – допытывалась Лин. – Она что, тоже путешествует по снам?
– Мне об этом ничего не известно. Во всяком случае, я ни разу не видел, чтобы она рыскала по царству снов верхом на метле. И да, она спрашивала, не слышу ли я плач.
Он замолчал, не сводя глаз с Лин.
– Вот ты опять хмуришься. И это не обычное презрение мисс Лин Чань к большей части рода человеческого, а что-то больше похожее на… страх.
– Генри, мне это не нравится, – сказала Лин. – Что-то крупно не так. Ты можешь поговорить с этой вашей сумасшедшей леди и разузнать, что ей известно?
– Да, в целях нашего расследования, я готов провести вечер в обществе безумных сестриц Проктор.
Где-то вдалеке часы пробили пять. Лин ахнула.
– Так, ты начинаешь меня серьезно пугать, – возмутился Генри. – Что на этот раз?
Лин схватилась за костыли.
– Мне полагалось быть дома полчаса назад.
– И все-то? Я уж думал, ты там призрак Энтони Оранжевого Креста увидала.
– Призраков я не боюсь, – физиономия Лин была на редкость мрачна. – А вот мамы – еще как.
Стоило Генри и Лин войти в «Чайный дом», как миссис Чань устремилась к ним навстречу, сверкая глазами и угрожающе вытирая руки о кухонное полотенце.
– Лин Чань! Где тебя носило? Я чуть с ума не сошла! Ли Фань и Грейси Лэнь дома с половины четвертого! Я всех соседей подняла на уши, искать тебя!
В первый раз за всю историю их знакомства Генри видел Лин настолько испуганной.
– Я… э-э-э…
– Я прошу вашего прощения, мэм, – он кинулся на амбразуру, окатив миссис Чань своим южным шармом. – Не уверен, что вы меня помните: Генри Дюбуа Четвертый, из научного клуба? Ах, я себя ужасно чувствую – это ведь целиком моя вина. Видите ли, Лин с подругами разошлись в городе, а тут как раз я проходил мимо и, естественно, хотел убедиться, что с ней все в порядке. А потом меня так захватила наша беседа об эйнштейновской относительной теории…
– Теории относительности, – быстро поправила его Лин под сурдинку.
– …что я совершенно потерялся во времени.
– Забавно… – прошептала Лин.
– Чего?
– Потерялся во времени, говоришь… – она покачала головой. – А, не обращай внимания. Я о своем.
– Пожалуйста, примите мои искренние извинения, миссис Чань. Могу вас заверить, что я все это время присматривал за Лин, как если бы она была моя родная сестра.
Физиономия его была настолько искренна, что могла составить конкуренцию Тэте со всем ее актерским мастерством.
Мама Лин тут же смягчилась.
– Ну, что ж. Спасибо, что доставил Лин домой в целости и сохранности, Генри. Можем мы тебя чем-нибудь угостить перед уходом?
– Ах, нет, мэм. Мне нужно спешить в теат… к мессе, – заверил ее Генри, уголком глаза наблюдая, как у Лин отвалилась челюсть.
Мама, однако, радушно ему улыбалась.
– Не знаю, как тебя и благодарить, Генри. У тебя доброе сердце. Ты должен непременно пойти с нами завтра в город, смотреть, как Джек Марлоу закладывает свою новую выставку.
– О, мне бы ужасно хотелось, но я…
– Никаких «но»! – решительно сказала мама Лин, уперев руки в боки. – Ты заслуживаешь достойной благодарности за твою сегодняшнюю помощь. Приходи завтра к полудню.
И c этими словами она удалилась обратно в кухню.
– Ужас, как рано, – смиренно хныкнул Генри, когда Лин пошла провожать его на улицу.
– Спасибо тебе, – сказала она на пороге.
– На здоровье. Мамы меня любят.
– Я про сегодня. Про то, что было днем.
– А. Ну… за этим друзья и нужны. Только отныне и вовек больше никаких секретов. Ни с чьей стороны.
– Больше никаких секретов, – согласилась Лин.
– Я попробую поговорить с мисс Проктор. Увидимся ночью, в обычном месте?
Она кивнула.
– И завтра тоже.
– Ах, да. В полдень. – Генри состроил рожу и глянул через ее плечо, туда, где миссис Чань производила смотр войскам… то есть ресторану. – Пугающая женщина твоя мама, кстати сказать.
– Ты и половины того, что она может, не видел, – со вздохом сказала Лин.
– Когда Луи приедет, я его сразу же приведу к вам на клецки. Ему жутко понравится, – пообещал Генри. – И я жду не дождусь забрать у тебя мою счастливую шляпу. Луи подарил ее мне в первый вечер, как мы встретились. Просто снял со своей головы и нахлобучил на мою. Если хочешь, я попрошу его привезти еще парочку из Нового Орлеана – одну для тебя, другую для Вай-Мэй. Тогда мы сможем организовать первый в мире сновидений сентиментальный барбершоп-квартет[40]. Запор, запор, запор, запо-о-о-ор! – пропел он.
– Ты все-таки самый странный человек из всех, кого я в жизни знала, – констатировала Лин.
– Ну, вот ты опять со своими комплиментами.
Что-то висело на Лин… что-то ей нужно было ему сказать. На самом деле просто ощущение, его еще поди в слова облеки…
– Лин! Уходи с холода сию же секунду! – закричала изнутри миссис Чань, слегка заглушенная стеклянной дверью.
– Чу! Мать зовет, прекрасная Джульетта, – сообщил Генри, отвешивая ей подлинно шекспировский поклон. – Я прочь лечу! О, прочь! Фу! Фу!
И он задним ходом утащил себя за шиворот на улицу.
Лин покачала головой.
– Точно самый странный, – пробормотала она себе под нос, глядя ему вслед и дивясь, как сильно уже по нему скучает.
Предметы не лгут
Поработав в свое время в цирке, Сэм умудрился смыться оттуда с очень недурным фраком, пошитым ему по мерке русским тату-мастером, который, по счастливому совпадению, еще и здорово управлялся с портновской иглой. Фрак всегда делал его центром всеобщего внимания: Бородатая Женщина Рут и Мальчик-Волк Джонни всякий раз одобрительно мерили его взглядом с головы до ног, стоило ему выйти на арену в «хвостах» – так они называли этот предмет туалета. Возможно, он и Эви сегодня немножко очарует?
Но стоило ему навострить лыжи в Даблъю-Джи-Ай, как его буквально с порога сняла записка.
Хочешь узнать побольше про ту радиодеталь, приходи сегодня вечером в магазин. В девять.
Черт, Эви озвереет, что он пропустил ее шоу, – и ее сложно в этом винить. Но этот осведомитель – не из тех ребят, что дают вторые шансы. Может, хоть Эви потом даст?
Бальная зала «Уинтроп-отеля» была под завязку забита всякой шикарной публикой. Сэм даже забоялся, что не найдет в этой толчее Эви. Впрочем, все оказалось донельзя просто: главное, идти на смех и аплодисменты. Разумеется, Эви была там – и восседала, между прочим, на чучеле аллигатора.
– …он попросил прочесть его часы, я прочла и увидала его в чем мать родила – он оказался одним из этих, нудистов. Сами понимаете, по радио я такого сказать не могла…
Сэм решительно протолкался через толпу почитателей в первые ряды. Эви в своем полночно-синем вечернем платье, отороченном пухом марабу, и в рассыпающей сполохи повязке из стразов через лоб была столь ослепительна, что зрелище это вышибло из него весь дух.
– Уж не мой ли это ненаглядный нарисовался? – оскалилась она, сверкая глазами; увы, ни в каком фраке не хватит магии, чтобы отвратить грядущую бурю.
– Он самый, прекраснейшая из Котлеток. Могу я тебя умыкнуть на минутку?
– Прости, свободна я была в девять, – пожала плечами она.
– Я знаю. Как раз собирался все тебе об этом рассказать, – он многозначительно поглядел на остальных.
– Продолжайте тут без меня. Обернусь через мгновение, милые, – распорядилась Эви, отвешивая шикарной публике поклон.
– Тебе полагалось прийти ко мне на радио, Сэм! – прошипела она сквозь зубы, продолжая сверкать улыбкой, достойной рекламы зубной пасты.
Когда они проходили мимо, гости вечеринки разражались бурными аплодисментами.
– Последние два часа я провела с мыслью, что ты сейчас истекаешь кровью где-нибудь в канаве, – продолжала она. – Теперь, когда ясно, что с тобой все в порядке, я не прочь посмотреть, как ты будешь истекать кровью где-нибудь в канаве.
– Оу, Котлетка, выходит, ты по мне скучала!
– Ты вообще слышал, что я сказала?
– А что я могу поделать, я же оптимист.
– Мир полон мертвых оптимистов. Сэм, Сэм, Сэм! – Каждый раз, повторяя имя, она взмахивала волосами, как дворниками по ветровому стеклу; ее бокал был уже почти пуст.
– Это я. Скажи-ка мне, сколько этой полироли для гробов ты уже употребила, Шеба?
Эви зажмурила один глаз, а вторым уставилась на кессоны потолка, неистово сияющего электрическим светом; губы ее безмолвно двигались.
– Это третий, – сообщила она, досчитав. – На четвертом уже можно будет играть в мартини-бридж.
Она хихикнула.
– Ни черта себе! – присвистнул Сэм.
– Так, погоди-ка: ты что, ждешь, пока я залью глазки, чтобы позволить себе всякое непотребство, Сэм Ллойд?
– Вот еще! Мне нравится, если девушки в полном сознании, когда я их целую. Так гораздо веселее. – Он выхватил у нее бокал, опрокинул себе в пасть остатки и сожрал оливку.
– Эй! Ты чего вытворяешь? – запротестовала Эви.
– Да так, спасаю тебя от тебя самой.
– Вот этого не надо! Тоже мне спаситель нашелся! – проворчала Эви. – А надо мне было вот этот напиток. Ты мне даже оливку не оставил!
Сэм поднял руки.
– Сдаюсь. Это по-честному. О-че-лют-но по-честному. Вот если бы я стоял на обрыве и собирался спрыгнуть, что бы ты стала делать?
– Подтолкнула? – Эви поджала губы.
– Не верю.
– Поверил бы по дороге на дно. Что такого важного случилось в жизни, что ты пропустил мое шоу? И пусть причина будет солидная – как шрам после аппендицита.
– Только не здесь.
Кто-то из гостей поставил чайную чашку на столик и отвернулся похлопать оркестру. Эви цапнула чашку, понюхала, улыбнулась, одним глотком прикончила тайное спиртное, поставила сосуд обратно на блюдце и поскорее умыкнула Сэма прочь с места преступления – в комнатку с табличкой «Вход воспрещен». Внутри оказался крошечный офис с кушеткой для обмороков, столом и креслом на колесиках. Эви бросилась на кушетку, задрала повыше ноги и принялась растирать виски.
– Крутой вышел вечерок? – Сэм примостился на краешке стола.
– Не то слово! Какой-то парень притащил носовой платок жены, сказал, он волнуется, что она слишком много денег тратит на покупки, а на самом деле боялся только, что у нее интрижка на стороне. Кстати, прав оказался. Платок был от любовника, – поведала Эви.
– И что же ты ему сказала?
– Сказала, что денег она транжирит и правда многовато и что им было бы не худо почаще выходить ужинать вместе. И танцевать, – она испустила долгий вздох. – Ты себе не представляешь, какие ужасы я узнаю о людях.
– Почему ты не говоришь им правду?
– Потому что правда мыла не продаст. Все должно быть легко, весело и развлекательно. Дай им надежду, детка! – заключила она гулким баритоном мистера Филипса.
– И чем ты тогда отличаешься от этих ушлых жуликов с Сорок Второй? Ты же настоящий талант, Шеба. Тебе нет нужды притворяться.
Эви села и прожгла его взглядом.
– Я не для того притащилась на вечеринку, чтобы выслушивать от тебя нотации, Сэм Ллойд. Ты вообще тыришь бумажники! И не надо делать вид, что ты лучше меня.
– Я-то? Я точно и вор, и мошенник. Но не ты, детка. Тебе, к несчастью, не все равно, я тебя знаю.
– Нет, не знаешь, – отрезала Эви, снова падая назад. – Ты только так думаешь, потому что ты – мой фальшивый жених. Никто на самом деле никого не знает. Все мы – просто бруски пирсовского мыла; расхаживаем тут, такие чистые и блестящие, а останутся от нас все равно одни обмылки.
– И что же тогда реально?
– Не знаю, Сэм. Я больше ничего не знаю. И… не хочу об этом даже думать.
Вечер стремительно сдулся.
– Ну, пока ты еще не совсем в сопли, красавица, мне нужны твои профессиональные услуги.
Эви расхохоталась и зааплодировала – о-чень мед-лен-но.
– Надо было сразу догадаться. Казалось бы – ан нет! Ты сегодня на шоу не явился, так что я тебе тоже ничего не должна. И ты до сих пор не рассказал мне, что случилось!
– Прости, куколка. Мне правда очень жаль. Я в последний момент получил весточку от канарейки.
– От кого?!
– Ну, от моего… как ты там его окрестила? От жутика.
– А, от этого… – Эви сдула со лба загулявший локон.
– Он вообще почти никогда сам на связь не выходит. Это я его всегда ищу и на голове прыгаю. А тут он мне сунул под дверь записку: приходи, дескать, в радиомагазин к девяти.
– Надеюсь, там, по крайней мере, передавали мое шоу, – проворчала Эви. – Ну? И что ты в итоге узнал?
– А вот это самое смешное. Он так и не явился.
– Что-то многовато этого стало в последнее время, – заметила Эви.
– Когда я туда добрался, магазин стоял темный и запертый. Я бы легко вскрыл замок, но если бы меня на этом замели, это вряд ли бы укрепило твою репутацию – жених Провидицы-Душечки, и вдруг за решеткой, – сказал Сэм. – В общем, мне это не нравится. Пованивает чем-то скверным.
– Просто у тебя чересчур буйное воображение.
– Куколка, когда мое воображение буянит, оно это делает на темы, которые в приличном обществе почему-то не принято обсуждать. Я думал, ты-то уж тут на моей стороне.
– Ну, прости, Сэм, – смягчилась Эви. – Я честно не хотела тебя обижать.
– Мне нужно узнать правду.
Об услугах Сэм обычно не просил. Если ему чего надо, он или заплатит, или так возьмет – никаких кто кому должен, никаких ниточек, за которые можно потом подергать. Так что ему стоило буквально всех душевных сил протянуть Эви снова чертов документ.
– Пожалуйста, а? – Слово явно было незнакомо его языку и неохотно оттуда слетело. – Пожалуйста, ты могла бы попробовать еще раз?
Столь кроткая мольба разбередила сердце Эви.
– Хорошо, Сэм. Давай сюда, я посмотрю, что можно сделать.
Она села и похлопала по дивану рядом с собой.
– Дуй сюда. Я не кусаюсь. Если, конечно, ты петь не начнешь.
Сэм благодарно плюхнулся рядом. Эви взяла бумагу и вдарила по полной, но как бы она ни старалась, ничего не приходило, решительно ничего. Злая и с кружащейся головой, она бросила лист.
– Все равно спасибо, детка, – сказал Сэм, подбирая его.
– Нет, я так легко не сдамся! – прорычала Эви и попыталась снова выхватить его, но Сэм живо сунул бумагу во внутренний карман пиджака.
– Нет, куколка, все в порядке. Я… давай я отведу тебя назад, на вечеринку.
– Сэм! – Эви вспрыгнула с дивана и сшибла со столика бюст какого-то римского полководца с недовольной физиономией. – А ну, стоять! – Она успела подхватить скульптуру в последний момент. – Вот, хороший мальчик!
Брови Сэма полезли вверх.
– Слушай-ка! У тебя все еще есть та фотография от Анны Поло… Пала… короче, от Анны, которая Анна?
Сэм вытащил бумажник и извлек из его загадочных складок снимок.
– Это же просто я с мамой…
– Да знаю я, знаю. Но попытаться-то стоит, а?
Сэм расплылся в улыбке.
– Узнаю мою девочку!
– И вовсе я не твоя девочка, – отбрила Эви, борясь с улыбкой.
Картинка поначалу тоже оказалась несговорчивой, но Эви однозначно не собиралась проигрывать еще раз. Она сосредоточивалась, пока во тьме что-то не забрезжило, и тогда потянулась за этой искрой и раздула ее в пламя. Перед ней предстала женщина с каштановыми волосами, собранными на затылке в узел, и густыми, темными бровями: Эви сразу же поняла, что это и есть мама Сэма. В руках у Мириам была эта самая фотография, которую сейчас держала она.
– Я ее вижу, – сонно пробормотала Эви.
– Правда? – В голосе Сэма разгорелась надежда.
– Она красивая, Сэм. Правда, очень.
Эви старательно дышала: вдох, выдох… постепенно погружаясь, отпуская себя, давая лучше разглядеть картинку. Первое воспоминание было совсем простое и короткое: маленький Сэм сидит рядом с мамой, а она запускает пальцы ему в шевелюру. Мало на свете вещей посильней материнской любви – вот ее-то Эви здесь и почувствовала. Что бы там Мириам Любович ни втирала тем людям в костюмах, а сына она любила – очень любила. Примерно как ее собственная мама любила Джеймса, что, в свою очередь, неизмеримо больше, чем она когда-либо любила Эви. Неправда, что у родителей нет среди детей любимчиков, – еще как есть, и Эви была не из них. Боль от этого воспоминания протолкалась сквозь алкогольный угар и кулаком сжала ей сердце, грозя пустить весь сеанс псу под хвост. И Эви в знак протеста нырнула в тайную историю фото еще глубже.
Красивая комната с мраморными полами, c тяжелыми хрустальными люстрами, рассыпающими острые радуги, со стенами, увешанными дорогущими на вид портретами дорогущих на вид людей. В комнате были дети. Одни сидели за столами и рисовали картинки или отвечали на вопросы каких-то взрослых, другие пытались украдкой выпутаться из тугих парадных воротничков; одна маленькая девочка играла с куклой.
Но где же Сэм? Здесь ли он?
И тут же она увидела его: вон он, сидит за столом в углу; мама стоит у него за стулом и выглядит встревоженной и нервной. Напротив Сэма Эви увидела давно покойную невесту Уилла, эту Ротке Вассерман. Она вытащила из колоды карту, показав ее Сэму рубашкой.
– Давай попробуем еще раз. Сэм, скажи, что за карта у меня в руках?
– Эм-м, пятерка… треф?
– Попытайся еще раз, – посоветовала Ротке.
– Король червей? – пролепетал крошка Сэм; передних зубов у него недоставало. – Нет, валет бубен!
Ротке улыбнулась Сэму, потом перевела взгляд на мать и покачала головой.
– Все плохо? – спросил Сэм.
– Нет, бубеле[41], – ответила мама, целуя его в щечку. – Беги, поиграй вон там.
Воспоминание размылось по краям, и Эви наклонилась в него, как в колодец.
Дети играли на идеально отманикюренном газоне. Стоял чудный весенний день, ребятня заразительно веселилась… но кто-то все равно плакал. Эви двинулась на звук: девочка с куклой.
– Что такое, Мария? – Ротке присела рядом с нею на корточки.
Малышка начала что-то отвечать на итальянском.
– По-английски, пожалуйста.
– Корабль горит. Он тонет, – всхлипывала девочка, и остальные дети тоже разволновались, как будто всем им снился одновременно один и тот же сон.
– Ротке! Ротке! – Мужчина выбежал из дома на газон, и перед глазами у Эви поплыло.
Белокурые волосы, очки. Да, гораздо моложе, но это определенно Уилл. Эви так удивилась, что едва смогла сосредоточиться обратно на том, что говорил дядя.
– Радиограмма… немцы торпедировали «Лузитанию». Убиты американцы!
Прошлое заскворчало, как радиоприемник, потерявший сигнал, потом подцепило какой-то еще кусочек истории, даже без картинки – одни голоса.
– Мириам, правительство приказало нам рекрутировать пророков. Проект «Бизон». Нам нужна твоя помощь.
Голос мамы прозвучал испуганно:
– Мне этот план не нравится.
– Все будет хорошо. Необходимые предосторожности приняты.
– То, что вы хотите сделать, опасно. Это привлечет злых духов.
– Мы обязательно победим. Приезжай в Гавань, Мириам. Я прошу. Они просить не будут, учти.
У Эви почва утекла из-под ног. Образы хлынули слишком быстро, как кино в ускоренной съемке. Столько памяти и эмоций – еще немного, и она в них совсем потеряется, если только не выйдет немедленно. Она с усилием оторвала руки от фотографии и рухнула на Сэма. Тот схватил ее в объятия, крепко сжал.
– Я держу тебя, держу. Все хорошо.
Эви прижалась щекой к его теплой груди и стала слушать успокаивающие мерные толчки сердца, дожидаясь, пока дрожь во всем теле и головокружение сойдут постепенно на нет. Ей нравился вес его подбородка у нее на макушке, и запах крема для бритья на шее тоже нравился. Надо бы сесть, отстраниться… но ей совсем не хотелось.
– Нашла что-нибудь, куколка?
Сказать ему, что она видела Уилла? Что он станет делать, если узнает, что Уилл знал его маму и всю дорогу ему врал?
– Ты сидел за столом, и Ротке уговаривала тебя угадать карту у нее в руке. Ты не мог. Не понимаю, зачем она тебя проверяла?
– Я тоже, Шеба. Ничего подобного не помню, – нахмурившись, сказал Сэм.
Он потер лоб, словно надеясь так растормошить беглые воспоминания.
– Как так вышло, что я не могу этого вспомнить?
– Мама тебя ужасно любила, Сэм, – сказала Эви и почувствовала, как его рука напряглась. – Предметы не лгут. Я совершенно уверена.
– Спасибо, – пробормотал Сэм. – Еще что-то есть?
– Я… не все видела, – соврала Эви, – но кто-то просил твою маму каким-то образом помочь с проектом «Бизон». Она думала, что то, чего они просят, слишком опасно и может привлечь злых духов – что бы это ни означало. И еще я услышала: «Приезжай в Гавань». Ты понимаешь, о чем это?
Сэм покачал головой.
– Мало ли кругом гаваней.
– Тебе что-нибудь известно о том, где сделали этот снимок? – спросила Эви.
Сэм уставился на фотографию и снова покачал головой.
– Совершенно не узнаю. И, убей меня, не понимаю, почему.
– В точности не скажу, но выглядело это похоже на замок.
– Прямо настоящий замок?
– Нет, блин, из песка, – огрызнулась Эви. – Конечно, настоящий. Но тут начинается странное: я уже видела этот замок раньше – во сне.
– А за пригожего принца ты в том сне замуж не выходила? – удивленно поинтересовался Сэм. – Скипетр и трон к нему прилагались?
– Ха-ха, – Эви закатила глаза. – Очень смешно. Короче, говорю тебе, я его видела во сне. По крайней мере, я так думаю. Или какой-то очень похожий.
– Когда-нибудь я сам куплю тебе замок, будущая миссис Ллойд, – пообещал Сэм.
Ему нравилась тяжесть Эви, нравилось держать ее в кольце рук.
– Не знаю, что и думать, когда ты не ведешь себя как урод. Это как-то сбивает с толку, – промычала Эви.
Повинуясь непонятно чему, она вдруг поцеловала Сэма и снова примостилась головой ему на плечо.
За последние несколько месяцев, когда он не чистил карманы, не шарил по музеям в поисках ключей к местонахождению матери, не просаживал деньги на боях и не убалтывал хористочек на страстные рандеву в барных гардеробах, Сэм, бывало, воображал себя целующим Эви. Поначалу основным содержанием этих воображаемых сценариев было Сэмово бахвальство и его же раздутое эго: Эви лепетала что-нибудь наподобие о, любимый, никогда не думала, что ты можешь быть таким, поцелуй же меня, идиот, и обмякала в его объятиях, сраженная наглядными изъявлениями его мужества. Впрочем, эти фантазии всегда оставались какими-то… неудовлетворительными, словно даже его распаленное воображение знало, что это форменная чушь.
Вот чего он себе никогда не представлял, так это такого вот дня: вломиться в офис федерального здания, найти карточки с тайным кодом, едва улизнуть от копов – и все это рука об руку с Эви, и на ее пыльном лице блуждает улыбка, потому что ей эта охота так же по душе, как и ему, и они были там вместе.
– Комната чего-то вся размазалась. А у тебя она размазалась, Сэм? – пролепетала Эви.
– Я думаю, что один из нас просто нализался, Котлетка.
– Э-э нет, это все комната, – убежденно вздохнула Эви.
– Нет, не комната.
– Ну, так и не я. Я со спиртным на «ты» – как матрос, – весьма нечленораздельно поделилась она.
Через пару мгновений Эви уже храпела.
Сэм перебазировал о-че-лют-но потерянную для мира Провидицу-Душечку в кресло на колесиках, дотолкал его до лифта, потом до ее номера и сгрузил, в конце концов, на кровать.
– Не таким я представлял себе сегодняшний вечер, – проворчал Сэм, утрамбовывая Эви под одеяло; рот ее был открыт, и оттуда неслись тоненькие, как у колибри, всхрапывания.
– Мало кто элегантно спит, крошка. – Он запечатлел на ее лохматой макушке целомудренный поцелуй. – Сладких снов, Шеба.
Они видят сны?
Город состоит из островов, простроченных улицами и проспектами, тоннелями и трамвайными линиями – целой сеткой потенциальных связей, ждущих, чтобы их прочертили как следует. Царственные мосты перемахивают через реки в величии стальных ферм, а под ними паромы надежно и неторопливо волокут к берегу грузы.
Мосты, тоннели, паромы, улицы… они-то, интересно, спят?
Вот паром вползает в док и распахивает железную пасть, будто хочет запеть; наружу льются люди – шагают, ничего вокруг не видя, лбом вперед, будто стенобитный таран, строя мученические рожи жгучему холоду, – и запеть-то паром забывает, забывает, что ему на роду написано петь. Игривый ветер с этим не согласен, и вот уже шляпа катится, скачет по тротуару, преследуемая бизнесменом в сером, и хихикает аудитория, собранная по кусочку из новостных агентов, и чистильщиков обуви, и телефонисточек, спешащих на работу (а туфли им слишком малы), и каменщиков, и подметальщиков улиц, и лоточников со всякой всячиной, какая только может прийти горожанину в голову.
Высоко надо всем этим мойщики окон воспаряют в небо силою чистого чуда – сделанного из тросов и досточек, – чтобы отмыть с города копоть стольких отработанных снов. Они моют и трут, моют и трут, пока жизнь по ту сторону стекла не станет яснее и чище. Время от времени в окне возникает лицо, глаза встречаются на мгновение; наблюдатель и наблюдаемый оба поражены тем фактом, что другой существует, – и поспешно отводят взгляд. Связь рвется, и вот уже снова дрейфуют два острова.
Ветер свистит в узких каньонах меж небоскребов, вырывается на просторы долин-авеню, улетает в овраги улиц, где копошатся тайные жизни: день за днем, день за днем…
Вот мужчина вздыхает: ему хочется любви, а любви нет.
Вот плачет ребенок: уронил леденец – а ведь едва лизнул!
Вот на станцию с визгом врывается поезд, и девушка испуганно ахает: слишком близко она оказалась к краю платформы.
Вот пьяница возводит усталые очи горе – это унылая гряда домов вдруг стала прекрасной из-за мимолетной игры света и тени.
– Господи, неужто ты? – шепчет он во внезапное затишье между клаксонами такси.
А солнце играет на шпиле, разбивается вдруг на мгновение в веер лучей – и вот уже снова надвинулись облака. Взгляд ползет вниз.
– Господи, господи, – всхлипывает пьяница, словно отвечает на свою же прерванную молитву.
Едут машины, снуют туда-сюда люди. Они вздыхают, желают, плачут, мечтают… Собери вместе все их «почемуогосподипочему!» – и симфония эта взлетит до небес, и тогда ангелы возрыдают. Но поодиночке им не перекрыть гул индустрии – куда там! Отбойные молотки, подъемные краны, автомобили, подземка – ах да, еще аэропланы! Неумолчно рычащая машинерия фабрик мечты… Неужто все это тоже видит сны о чем-то большем?
Смыкается еще один день. Солнце тяжело присаживается на горизонт и соскальзывает за край Гудзона, обливая внезапно золотом всю западную сторону Манхэттена. Ночь заступает на вахту. Городской неон брызжет наружу сквозь разошедшиеся швы дневной реальности, и вакханалия снов начинается заново.
Эви проснулась среди ночи. Жутко болела голова. Веки разъехались с поистине титаническим усилием. Комната немного покачалась, потом смилостивилась и вошла в фокус. Эви смутно припомнила, что, кажется, поцеловала Сэма. В похмельной панике она посмотрела вдоль себя вниз и с облегчением убедилась, что на ней все еще вечернее платье и она вроде одна. Тошнота решила напомнить о себе, да так решительно, что ей пришлось доковылять до ванной и плеснуть водой себе в опухшую физиономию. Еще даже не рассвело. Еще куча времени как следует доспать и придумать, как полегоньку спустить Сэма на тормозах. Эви вывернула шею и напилась прямо из крана, а потом забралась обратно в постель – надо же выспать весь этот алкогольный кошмар.
Разбудил ее свет.
Эви заморгала; глаза не сразу согласились на бодрое утреннее солнце, купающее комнату в светоносной дымке. Комната, однако, оказалась не в «Уинтропе». Это была ее старая спальня в Зените, на Тополиной улице. Медленно, деталь за деталью, она вобрала всю картинку: туалетный столик, на нем ее серебряное зеркальце; картина с викторианской девицей, продающей цветы; лоскутное одеяло в звездочку – его сшила бабушка, когда Эви только родилась. Она была дома.
Быстро одевшись, она поспешила вниз, прошла через гостиную, где кто-то оставил включенное радио, и знакомый голос журчал из динамиков: «Так, мистер Форман, дайте-ка мне сосредоточиться! Там у дýхов, похоже, вечеринка…»
Как ее могут передавать по радио, если она сейчас дома у родителей, в Огайо? Кажется, она совсем недавно стояла на платформе такой красивой железнодорожной станции, а потом садилась в прехорошенький маленький поезд. Должно быть, она заснула. Ага, так это сон. Менее волнительным происходящее от этого не стало – наоборот, она только острее чувствовала все вокруг, словно на целый шаг опережала мгновение и отчаянно пыталась за него ухватиться. Ах, она бы все сделала, только бы его удержать.
Из задней части дома приплыл запах жарящегося бекона. Эви пошла за носом через столовую в знакомую бело-синюю кухню с огромным окном над раковиной, глядящим на ровную гряду рудбекий вдоль посыпанной гравием подъездной дорожки.
– Доброе утро, моя радость, – мама с улыбкой плюхнула на тарелку оладьи. – Завтрак почти готов. Не заигрывайся там.
– Не буду, – отозвалась Эви очень тихо и ровно, словно громкие звуки могли развеять чары и убить магию сна.
Отец вошел в комнату, поцеловал маму в щеку и уселся за стол с газетой. Он поднял голову, поглядел на Эви и улыбнулся.
– Ну, разве ты у меня не картинка сегодня!
– Спасибо, папа.
– Эви, будь лапочкой, – сказала, не оборачиваясь, мама от плиты, – позови брата завтракать, ладно?
Сердце у нее так и припустило. Джеймс. Джеймс здесь.
Свет лился сквозь стеклянную дверь – такой яркий, что по ту сторону ничего не было видно. Она толкнула створку. Там все было совсем как она помнила: веревочные качели на огромном дубе, огород с кустами спелых помидоров, папин «Бьюик», припаркованный у сарая. Чуть туманное солнце одевало все это зыбкой прелестью. У кормушки чирикали птицы. Цикады ласково стрекотали в пушистой, сочной траве.
Где-то кто-то пел:
– Собери свои печали в этот старенький рюкзак, улыбнись, улыбнись, улыбнись…
Сквозь живую изгородь мелькнула рука, болтающаяся нога… Весь покой слетел с нее, и Эви бегом помчалась к фигуре, распростертой на старой садовой скамейке.
– Джеймс? – Она прошептала это так тихо, что брат мог и не расслышать, но он сел, обернулся и широко улыбнулся ей.
Солнце освещало его сзади, так что он весь сиял.
– Неужто это моя маленькая храбрая сестренка, Артемида, оставила охоту и снизошла в наши кущи? Молю, поведай мне вести с Олимпа!
Каждый вечер он читал ей греческие мифы. Они часто так промеж собой разговаривали: Джеймс был Аполлон, она – Артемида. Папа, конечно, был Зевс, а мама – Гера. Так им удавалось хоть как-то выживать на убийственно-скучных светских мероприятиях: «Но, чу! Вон гарпии слетают на буфет, гляди!» – шептал ей Джеймс, показывая на стайку церковных леди, насевших на шведский стол и быстро склевавших все самое вкусное. «Спускай Кербера!» – хихикая, отвечала на это Эви.
Кажется, надо было передать ему что-то от мамы, но сердце болело так, что она никак не могла вспомнить, о чем вообще речь.
– Я… я так по тебе скучала. Вот и все.
– Ну, как видишь, я здесь.
У Эви перехватило горло. Он и правда был здесь – такой золотой и ласковый, ее брат-защитник, ее лучший на свете друг. Какая-то мысль упорно лезла в голову – ужасная мысль. Эви попробовала вытолкнуть ее вон, но та жужжала, билась в стекло разума, словно пчела из сада.
– Нет. Ты же умер, – прошептала она.
Странно помнить это даже во сне. Даже здесь боль следовала за ней по пятам. Она проиграла битву, и слезы хлынули рекой по щекам – а потом она вздрогнула всем телом, потому что его добрые пальцы стерли их прочь.
– Ну-ну, старушка. Ты разве не знаешь: храбрая Артемида никогда не плачет.
Он сорвал черноглазый цветок рудбекии и протянул ей.
– На, держи, – потом подхватил со скамейки томик стихов: Вордсворт, конечно, его любимый – и кивнул на раскрытую страницу. – Клади сюда.
Эви положила цветок на бумажное ложе, а Джеймс прочел стихи под ним:
Ничто нам не вернет ушедшего мгновенья — Ни блеска трав, ни роскоши цветенья, Но, не скорбя о прошлом, мы обрящем Могущество и силу в настоящем[42].С улыбкой он захлопнул книгу.
– Вот так. Сохранено на веки вечные.
С заднего крыльца донесся мамин голос.
– Джеймс! Эванджелина! Завтрак остынет!
– То Гера на Олимп нас призывает!
Эви ужасно хотелось схватить сон за края, как одеяло, и завернуться в него целиком – в такой счастливый и надежный. Солнце грело ей лицо; цикады пели все громче. C крыльца за изумрудным газоном махали мама и папа – сияющие, веселые. Но что-то было не так. Дом вроде как мерцал – совсем легонько. Каких-то несколько секунд это был даже и не дом, а будто бы вход в тоннель, и что-то в клубящейся там, внутри, тьме Эви неприятно пугало.
– Джеймс! – в панике прошептала она. – Джеймс!
Он уже стоял у калитки, в военной форме болотного цвета, c ружьем через плечо. Сон менялся на глазах. Ей отчаянно захотелось схватить его, удержать, пока еще не слишком поздно.
– Джеймс, не ходи! – закричала она, и в картинку хлынул туман, превращая брата в привидение. – Ты не вернешься оттуда, а мы… я не хочу без тебя, Джеймс. Все поломается у нас дома и никогда уже не починится. Джеймс! Вернись!
Она уже плакала вовсю, звала его по имени. Родители и дом пропали – на их месте распахнулось жерло тоннеля, и женщина под вуалью тянула к ней руки.
– Ты его не вернешь. Лучше посмотри со мной этот сон…
– Я… – пробормотала Эви.
Нужно было только сказать «да» – и тогда Джеймс остался бы с ними навек. Сон убеждал ее в этом, и она ему верила. Ничего не может быть проще!
– Я…
– Молодец, Артемида! – Он стоял на вершине холма в окутанном туманом лесу – в том, другом сне, который она ненавидела. – А теперь пора просыпаться.
– Нет! – закричала Эви, и загрохотали взрывы.
Она села в кровати: желудок, кажется, устроил настоящую революцию. Она едва успела донести до туалета все выпитое ночью. А потом упала на холодный кафельный пол, вся в слезах.
А где-то на другом конце города Натан Росборо встал из-за покерного стола, где провел всю ночь, – несколько беднее, чем был в начале вечера. Налившись по макушку скотчем и отчаявшись втереться в доверие брокерам поважнее, он – назовем вещи своими именами – проигрался в пух и прах, так что от бумажника осталась только сморщенная шкурка. А все потому, что не хотел прослыть слабаком. Теперь, малость протрезвев, он сильно расстроился. Хорошо еще, если ему будет что есть всю эту грядущую неделю. Мысль эта сильно давила Натану на психику, пока он пялился на зубчатый абрис крыш, и вселила туда жажду столь сильную, что ее уже впору было счесть умопомешательством. Натан выудил из кармана последний пятицентовик и неверной походкой двинулся вниз по ступенькам на станцию «Фултон-стрит» – ждать последнего поезда.
Платформа в этот час была совсем пуста. Газетный лист с пропавшей наследницей соседствовал на стене с рекламой средства от перхоти: Нора Ходкин, восемнадцать лет. Последний раз ее видели по дороге в центр города; одета была в синее платье и коричневую шляпу. Зернистая газетная фотография изображала хорошенькую большеглазую девушку верхом на коне. Убитые горем родители сулили пятьсот долларов всякому, кто ее найдет. Пять сотен долларов! Натан ослабил узел галстука и развалился на скамейке, приятно раздумывая, что бы он сделал с такой шикарной суммой. Ну, первым делом выехал бы из своей тесной комнатенки в пансионе и перебрался бы в какое-нибудь славное местечко – главное, свое собственное – где-нибудь подальше к окраине и с видом на Ист-Ривер. Летом ему, небось, даже хватит снять на недельку что-нибудь на Лонг-Айленде. Ему улыбалось заявиться вновь на Уолл-стрит загорелым, просоленным, c кучей баек про шикарные вечеринки, из тех, где девушки сбрасывают одежду и лезут плясать на столах, а официанты в белых перчатках разносят икру на эдаких маленьких серебряных ложечках. Натан уже почти чувствовал тепло южного солнца у себя на загривке… Голова его упала на грудь, и он уснул.
Странный звук вернул его в сознание. Вся кожа с какой-то непонятной радости пошла мурашками.
– Эй? – сонно осведомился он. – Есть тут кто-нибудь?
Он встал, доковылял до края платформы и, приставив ладонь козырьком к глазам, уставился туда, где рельсы уходили дугой за поворот. На рельсах кто-то был… девушка!
– Эй… эй, вы, там! – закричал он ей. – Мисс, вылезайте оттуда скорее! Вас же собьют!
Натан заозирался по сторонам, ища помощи, но никто больше не ждал поездов в этот поздний час. Даже билетеров у входа не сидело – все они сдались под напором этих новых турникетов, в которые опускают монетки. Да, он был совершенно один – ну, кроме этой неподвижной девицы в тоннеле. Из-за теней и резкого, мертвенного подземного света она даже как будто слегка светилась. Да нет, точно светилась. Прям как ангел, подумал Натан. И платье на ней было синее.
– Мисс Ходкин? Нора? – попробовал Натан.
Голова дернулась, как будто она узнала свое имя.
Это она, точно она! Эта сияющая беглянка, только и ждущая, чтобы ее спасли, явилась с небес исполнением всех его мечтаний! Хорошенькая, родители богатые, обещают награду. А когда мальчишки на бирже услышат о его подвиге, они будут хлопать его по спине, совать ему в зубы сигары, восклицать наперебой «Этожнашнатан!» Он станет… да он настоящим мужиком станет!
Все это просвиристело через его мозг за пару секунд, пока беглая девица опасно покачивалась во тьме – а потом она взяла, развернулась да и пропала за поворотом.
– Мисс Ходкин! Погодите! – завопил ей вслед Натан (разумеется, тщетно). – Вот ведь дьявол!
Его еще слегонца вело после скотча – зато бухло придавало храбрости. Натан соскочил на пути и припустил в тоннель, вдогонку за попавшей в беду девой; станционный свет постепенно мерк за спиной. Судя по объявлению, Нора Ходкин пропала четыре дня назад, так что сейчас должна быть совсем слабой от голода, рассудил Натан. Однако девица оказалась на редкость прыткой – у него аж в груди все горело от попыток за нею угнаться. Он уже изрядно углубился в тоннель, и спокойствия это ему не прибавило. Единственным источником света здесь были две тусклые рабочие лампочки высоко под потолком, и Натан поневоле сбавил шаг, памятуя о контактном рельсе под напряжением. Вдоль путей тянулись стальные опорные сваи, казавшиеся в этом зловещем отсвете чьими-то исполинскими ногами. И звуки тут у них странные… Натан слышал саднящий тонкий вой – почти как колес по рельсам, но не совсем – и еще какое-то животное порыкивание время от времени. А это-то что такое? Ох, не пойти ли лучше обратно?..
Тут он как раз заметил спину синего платья: мелькающую впереди на путях. К счастью для его многострадальных ног и легких, девушка наконец сбавила аллюр, и тогда стало ясно, что двигается Нора Ходкин как-то неправильно: походка была неверная, руки странно, ртутно плескали вокруг тела, пальцы хватались за воздух.
Либо пьяна, либо сейчас в обморок хлопнется, живо подсказал Натану мозг. Под ложечкой с ним, однако, не согласились. Барышня двигалась целенаправленно, будто ведомая какой-то настоятельной нуждой – пьяные так не ходят. Было в ней что-то такое, не совсем человеческое… И не успела эта светлая мысль пробиться сквозь алкогольную дымку, плававшую у Натана в голове, как беглянка остановилась и обернулась.
Когда-то Нора Ходкин, вполне вероятно, была хороша собой. У того, что смотрело на него сейчас, лицо было костлявое и выбеленное, все затянутое сеткой трещин, как разбитая ваза. Молочно-голубые глаза уставились на Натана; она принюхалась, и ноздри встрепенулись – раз, другой… Лопнувшие губы откатились назад, открывая острые пожелтелые зубы. Черная слизь закапала с уголков этой новой улыбки. Тут до Натана наконец дошло, что влекло ее вперед: голод, конечно. Девица охотилась. Заманивала его в ловушку, как добычу.
Она протянула к нему руку, украшенную впечатляющими когтями.
– Сон?.. – взмолился рык, от которого у него волосы встали дыбом. – Смотреть!
Если бы у Натана Росборо еще были силы кричать, вопль прозвенел бы по всей подземке, так что у несущихся во тьме по своим делам поездов задребезжали стекла. Однако на деле это у Норы Ходкин челюсть откинулась, как на шарнирах, выпуская безбожный визг.
– Господи Иисусе, – прошептал, отшатываясь, Натан. – О Господи…
А светящаяся дева меж тем рухнула на четвереньки, широко расставив колени, и кинулась к нему со стремительностью лесного пожара. Он развернулся и со всех ног дернул назад, на станцию «Фултон-стрит». Прежние надежды покинули Натана, оставив только одну, совсем простую и ранее не знакомую: остаться в живых.
Существо, бывшее некогда Норой Ходкин, позади него испустило еще один визг, так и запрыгавший по тоннелю от стенки к стенке. Натан уже был трезв, как стеклышко: ужас омыл рассудок просто невиданной остротой. Меж бетонных колонн по обе стороны рельсов пульсировали какие-то зеленые вспышки. Поезд?
Новые голодные рыки и пронзительные демонические вопли навалились волной из темноты, практически бросив его на колени.
Нет, не поезд… Еще другие, такие же, как она!
Он уже слышал стремительное клац-клац-клац, неприятно похожее на очень много когтей, на бегу стучащих по кирпичам. Она позвала своих… Боже всемогущий! Они уже настигали: до Натана доносилась ни с чем не сравнимая вонь. Внезапно Нора Ходкин одним прыжком прянула вперед, отрезая ему пути к бегству… Она пыталась заговорить! Голос выходил изо рта натужным бульканьем – это огонь пожирал последние остатки топлива:
– Ты… должен… спать!
Дальние фары поезда лизнули рельсы – слишком далеко, чтобы от них была хоть какая-то польза. Ночь вспучилась другими чудовищами – бледными, светящимися, изношенными остовами, крадущимися из мрака, ползущими по потолку и стенам подземки – голодными… Бесовский шелест их голосов вырос в оглушительную какофонию, когда они фосфоресцентным дождем посыпались на землю.
Нора улыбнулась Натану и раскрыла объятия.
День девятнадцатый
Прометей
Земля во Флашинге (это, если что, Квинс) была плоская и самая что ни на есть подходящая для дела: ничто не встанет на пути героических устремлений. Экскаваторы уже маячили по краям участка, готовые приступить к расчистке пути в светлое завтра – каким его видел Джейк Марлоу. Посреди пока еще чистого поля возвышалась наскоро сколоченная деревянная платформа, несшая на себе господина мэра и весь городской совет вместе с ним, c нетерпением ожидавших прибытия мистера Марлоу. Посмотреть, как их герой будет закладывать выставку «Будущее Америки – 1927», явилась огромная толпа. Почти каждый держал в руках маленький американский флажок на палочке, а небо над их головами было такое синее, словно еще не просохло от краски.
– Он уже тут? – спросила Лин, вытягивая шею и пытаясь хоть что-то разглядеть из-за возвышавшихся перед нею спин.
– Может, подберемся поближе? – предложил Генри.
– Давай, а? – взмолилась Лин.
– Мистер и миссис Чань, – вежливо обратился к ним Генри. – Разрешите, я провожу Лин поближе к сцене?
– Это было бы так мило с твоей стороны, Генри, – сияя, сказала миссис Чань.
Он устремился вперед, рассекая толпу; Лин, поспешая за ним, оглянулась. Отец улыбался; мама махала флажком.
– Кажется, она уже планирует нашу свадьбу.
– Ну, если это поможет тебе чаще выбираться из дому, я могу притвориться, что совершенно потерял голову. Готовься, женщина! – И он тут же уставился на нее осовелым стеклянным взором, раздувая ноздри, как киногерой в приступе жестокой страсти.
– Ты выглядишь так, будто у тебя газы, – Лин в отвращении скривила губы.
– Это мой специальный тайный любовный взгляд. Я его называю «Из самой утробы любви».
– Генри?
– Да, mein Liebchen?[43]
– Лучше просто отведи меня к Джейку Марлоу.
– К этому мерзавцу? Я встречусь с ним во поле на заре! – Генри соорудил из пальцев пистолет и уставил его в небо, готовясь целиться и палить.
– Давай поторопимся, я не хочу все пропустить, – сказала Лин.
– Что ж, да будет так, – рука его упала. – Пусть себе живет. Сюда, миледи!
– Ты уже поговорил с той сумасшедшей женщиной?
– Нет. Испугался, что если зайду к ним сегодня утром, то застряну до вечера – гостем на кошечкином юбилее или на лекции по древнему искусству мумификации – и пропущу вот это все, – сказал Генри, пробившись вместе с Лин в первый ряд и широко ухмыляясь. – А я знал, что это ты пропустить не захочешь.
Мэр Джимми Уокер шагнул к микрофону и забухтел долгую невнятную преамбулу, закончившуюся словами, от которых пульс у собравшихся так и прыгнул вверх:
– А теперь человек, не нуждающийся в представлении. Мистер… Джейк… Марлоу!
Толпа взревела и отчаянно замахала флагами. Воздух встрепенулся и расцвел алым, белым, синим. Солнце светило ему в затылок, когда Джейк Марлоу вступил на платформу, снял шляпу, пробежал ладонью по гладким вороным волосам и взмахнул рукой, приветствуя собрание жестом прирожденного героя. Ответом стала буря аплодисментов. Толпа готова была обожать даже самую мысль о нем.
– Ну, разве не круто? – спросил Генри у Лин; ее сияющие глаза сказали ему все.
Микрофон истошно квакнул на его первых словах, и Джейк Марлоу приложил руку к груди, самым смиренным образом извиняясь перед почтеннейшей публикой; публика расхохоталась – она обожала и это. А потом его речь загремела над землей обетованной Квинса, словно распахивая крылья навстречу будущему.
– Леди и джентльмены… мены… счастлив объявить… вить… вить… что страна готова сделать поразительный шаг вперед, к американскому… канскому… анскому… величию. Прославить наше великое наследие… едие… едие… и не менее великие перспективы всеобщего процветания… ания… и прогресса… ресса… выставкой и ярмаркой… маркой… аркой… «Будущее… щее… Америки» от фирмы «Марлоу Индастриз»… стриз… риз!..
Зимнее солнце поднатужилось, собрало все скудное тепло, отпущенное его холодным лучам, и пролило его на сияющую, улыбающуюся физиономию Джейка Марлоу. Новый вал восторженных воплей сопроводил всеобщего любимца вон со сцены. Проложив себе путь на открытое место, он снял пальто, засучил рукава рубашки, вооружился лопатой и принял живописную позу на вершине земляного отвала.
– Джентльмены, ныне мы, подобно Прометею, творим себе будущее из пригоршни земли!
Лопата вонзилась в мягкую, влажную землю, и кругом неистово замелькали вспышки: мгновение стало бессмертием. Выпустили шарики, и они решительно устремились к небу, словно предъявляя на него права. Оркестр бодро грянул «Звезды и полосы навек», а блистательный Джейк Марлоу двинулся сквозь толпу, пожимая руки и трепля волосы детям – репортеры поспешно ринулись следом, утопая ботинками в гостеприимной грязи Квинса.
– Выставка действительно откроется всего через три месяца? – недоверчиво вопросил кто-то из журналистской братии.
– Можете делать ставки.
– Но это слишком скоро, мистер Марлоу! Слишком быстро даже для вас!
Марлоу расплылся в улыбке и по-царски протянул кудрявому синеглазому ребятенку, сидящему на ручках у папы, мятную жвачку.
– «Это невозможно» – два моих самых любимых слова. Я пользуюсь ими чаще всего – чтобы опровергнуть! В моем распоряжении тысяча сотрудников «Марлоу Индастриз» – образцов современной эффективности! – не покладающих рук, чтобы эта мечта стала явью. Американская модель бизнеса – лучшая в мире!
– Только такой богатый и амбициозный человек, как вы, станет закладывать выставку на исходе зимы!
– Я боюсь не погоды – только отказа следовать за своей мечтой!
– Кстати, о мечте: что вы думаете о профсоюзах и о том, что творится на ирландских шахтах?
Даже отвечая, Марлоу неуклонно продвигался вперед, окучивая толпу.
– Сама идея профсоюзов фундаментально чужда Америке. Мы в «Марлоу Индастриз» верим в честную зарплату честным людям за честно выполненную работу.
– Броско! Это лозунг вашего бизнеса?
– Может, и так. – Марлоу лучезарно подмигнул.
– Когда вы собираетесь жениться?
– Когда найду подходящую девушку.
– У меня есть сестра: если правильно поставить свет, она настоящая красавица!
Все расхохотались. Развлечение и надежды пьянили их. Т.С. Вудхауз протолкался вперед с блокнотом и карандашом наперевес и ринулся в атаку на великого человека.
– Здрасте, мистер Марлоу. Т.С. Вудхауз из «Дейли ньюс». – Отрекомендовавшись, он дважды чихнул в носовой платок. – Извиняйте, ужас, а не простуда.
– Примите тоник «Здоровая жизнь» от компании Марлоу. Держитесь того, что реально помогает, – посоветовал полубог.
– Я держусь ирландского виски, вот что мне реально помогает, – парировал Вудхауз. – Только один вопрос к вам: будут ли пророки как-то представлены на выставке «Будущее Америки»?
Улыбка дрогнула.
– Нет.
– Почему же нет? Разве они не свидетельство безграничных американских возможностей?
– Потому что они – свидетельство… назовем вещи своими именами – надувательства. Величайшая нация на Земле не нуждается во всяких базарных фокусах-покусах. Мы верим в возможности и силу человека, который сделал себя сам!
Снова волна восторгов. Вудхауз подождал, пока она спадет.
– Конечно-конечно, кто не любит старого Горацио Алджера?[44] Но вы-то отнюдь не сами себя сделали, а, мистер Марлоу? Ваши-то деньги – из старых.
– Оставьте его в покое! – прорычал толстошеий гражданин в храмовнической феске.
– Ты сам-то кто? Большевик какой? – крикнул кто-то еще и даже пихнул Вудхауза под прикрытием толпы.
Марлоу простер умиротворяющую длань.
– Тише, тише, – сказал он им и повернулся к Вудхаузу, мигом включив обратно гнев. – Я сам проложил себе дорогу в жизни. Не деньги моей семьи сделали все эти открытия. Не они тестировали новые аэропланы и спасающие тысячи жизней лекарства – а я!
– Но таки на деньги вашей семьи, – кротко заметил Вудхауз и снова чихнул.
– Наше фамильное состояние было утрачено в годы войны, как вы, надо думать, прекрасно знаете. Все до последнего цента. Я восстановил его с нуля – и даже увеличил! Вот что такое американский путь!
– Для некоторых, особо избранных американцев.
– Мистер Вудхауз, сдается мне, никакая у вас не простуда. У вас аллергия на чужой упорный труд и успех!
Толпа отозвалась на это взрывом хохота, аплодисментов и криков: «Слушайте! Слушайте!» Солнце лилось на него сверху, как на картине Уильяма Блейка, а Джек Марлоу двигался через волны толпы, как кит, пожимая руки направо и налево; люди кричали его имя, как заклинание удачи.
– Погодите! Эй! – завопил из гущи событий Генри, когда Марлоу поравнялся с ними. – Мистер Марлоу! Мистер Марлоу! Сэр, пожалуйста! Тут одна из ваших самых горячих поклонниц, мисс Лин Чань! Она тоже ученый, как вы!
– Генри! – зашептала в смятении Лин, но было уже поздно.
– Это правда? – солнце милостиво обратилось к нему.
Сердце у Лин заколотилось часто-часто, а зеваки уже расступались, освобождая Джейку Марлоу дорогу – и он двинулся к ней по образовавшемуся каньону. В отличие от остальных, полубог не уставился первым делом на ее скобы и костыли; нет, он посмотрел ей прямо в глаза, а потом поклонился.
– В таком случае я счастлив с вами познакомиться, мисс Чань. Собираетесь посетить нашу выставку, а?
– Я… я очень надеюсь. Сэр.
Марлоу рассмеялся.
– Что-то вы не слишком уверенно звучите. Вот, позвольте мне облегчить вам задачу.
Он полез в карман, нацарапал что-то на листке бумаги и протянул ей.
– Извиняйте, можно мы тут снимочек для газеты сделаем? – встрял Т. С. Вудхауз, подзывая к себе новостного фотографа.
– Замерли! – велел тот из-за черной занавески камеры; крякнула вспышка, взвилось облачко серого дыма, запечатлевая Генри, Лин и ее героя на серебряном желатине для вечности. – Всем спасибо.
– Увидимся весной, мисс Чань, – сказал, отплывая дальше, мистер Марлоу.
– Что там? Что там? – возбужденно зашептал Генри, сворачивая шею, чтобы получше разглядеть бумажку в руках у Лин.
– «Я должен мисс Лин Чань два бесплатных билета на выставку „Будущее Америки“», – прочла Лин.
Внизу красовалась собственноручная подпись Джейка Марлоу. Боже, у нее теперь есть самый настоящий автограф! Судя по физиономии Лин, она колебалась, стоит ли ей упасть в обморок или достаточно будет просто стошнить.
– Я разговаривала с Джейком Марлоу, – пробормотала она, сама себе не веря. – Вот его подпись.
– Ну, право, какие пустяки. Пожалуйста! Нет! Совершенно не стоит благодарности. Никакой. Твое счастье – уже достаточная награда, – скромно сказал Генри.
– Спасибо, Генри, – спохватилась Лин.
– Ерунда. Пустяки, дело житейское.
Лин так и сияла, сжимая бумажный листок, будто священную реликвию.
– К этому прикасался Джейк Марлоу! – торжественно сказала она, никогда в жизни не будучи так близко к тому, чтобы восторженно завизжать.
– Судя по всему, мисс Чань, – проворчал Генри, – вы о-че-лют-но втрескались. По самые уши.
Т.С. Вудхауз развернулся и ввинтился обратно в гущу улыбающейся, обуянной оптимизмом толпы, счастливой заполучить что-то, способное хоть ненадолго сделать тебя счастливым.
Бороздя растоптанные публикой хляби, он несказанно удивился, узрев посреди всего этого буйства ассистента мистера Фицджеральда, некоего Джерико Джонса, и вроде бы даже припомнил, что Уилл Фицджеральд и сегодняшний изобретатель некогда состояли в дружбе (обратим внимание, глагол в прошедшем времени). И если первый вдруг послал Джерико наводить мосты, то комментарий второго относительно пророков заранее обрекал все усилия на провал.
На краю парковки накрахмаленные сестры в белых колпаках раздавали флаеры тем, кто шел послушать, как Джейк Марлоу в красках расписывает их ослепительное будущее.
– Медицинская проверка – сегодня в шатре «Здоровая семья»! – взывали они. – Совершенно бесплатно!
К ним подошла чернокожая пара, но флаера им никто не дал. Наоборот, сестра притворилась, что вовсе их не видит, и протянула листок стоявшей за ними другой паре – однозначно белой.
Вудхауз снова чихнул в платок.
– Gesundheit![45] – сказала симпатичная медсестра.
– Ох, спасибо. Кажется, я уже исцелился, – улыбнулся ей Вудхауз.
– Вот, возьмите, – она протянула ему памфлет.
А ты можешь стать избранным американцем? Есть необычные способности? Снились необъяснимые сны о прошлом или о будущем? Тебя или кого-то в семье посещали духи загробного мира? Евгеническое Общество проводит тесты для потенциальных кандидатов. Участие бесплатно!
Внизу имелся адрес.
Никаких необычных талантов Вудхауз за собой не знал – если только у евгеников нету теста на выдающийся ум. Или на навыки выживания.
– Непременно передам это первому же потенциальному кандидату, – пообещал он, притрагиваясь к шляпе.
Он прошел через шатер «Здоровая семья», улыбнулся паре близнецов, споривших, кто пойдет первым, – пока не узрели медсестру с большим шприцом, после чего странным образом присмирели. Дальше он заглянул в щелку между занавесками в импровизированный кабинет, где еще одна симпатичная сестра задавала какой-то женщине и ее дочке-подростку вопросы:
– …понятно. А видели ли вы когда-нибудь во сне сверхъестественное создание в облике высокого мужчины в цилиндре, возможно, в сопровождении стаи ворон?
Вудхауз записал это в блокнот, снова чихнул и вышел в толпу, где немедленно врезался в молодого человека и сшиб с него кепку.
– Извиняйте, – сказал он, подбирая головной убор, отряхивая и подавая назад.
– Ничего страшного, – ответствовал Артур Браун, водружая кепку обратно на место.
Облокотившись на киоск с хот-догами, он смотрел, как Джейк Марлоу движется сквозь людское море, сияя, будто только что сделанное обещание. Взгляд его опытно обшаривал всю территорию ярмарки, подмечая не просто все, а все вообще.
– Эта выставка будет самым главным хитом на долгое время, – изрек Вудхауз, кивая на обожающие героев толпы и что-то снова быстро царапая в блокноте. – Крупная будет буча.
Артур кивнул, придержал шляпу на затылке и задрал голову, глядя в обширное, конфетно-синее американское небо, разогнавшее с себя, как по заказу, все облака.
– Эт точно, – согласился он.
Золотой мальчик
В назначенный час Джерико ждал Джейка Марлоу в его частном шатре на краю будущей ярмарки, чью территорию уже благополучно захватила индустрия: воздух полнился грохотом, лязганьем, криками. Великий Джейк Марлоу явно вознамерился доказать, что слов на ветер не бросает и способен возвести свою выставку с поистине нечеловеческой скоростью. Внутри шатер походил на офицерскую штаб-квартиру – им двоим оставалось только развести стратегию грядущего сражения. Середину помещения занимал длинный стол с диорамой. Джерико походил вокруг него, любуясь геометрическим совершенством модели и читая карточки с названиями: ЗАЛ ПРОЦВЕТАНИЯ, ЗАЛ АВИАЦИИ И РАКЕТОСТРОЕНИЯ, НЕФТЯНОЙ ПАВИЛЬОН, ПАВИЛЬОН АТОМНОЙ ЭНЕРГИИ, ЕВГЕНИЧЕСКАЯ ВЫСТАВКА, РАДИО, МАШИНОСТРОЕНИЕ, МЕДИЦИНА, СЕЛЬСКОЕ ХОЗЯЙСТВО.
– Впечатляет, правда? – Марлоу вошел в шатер, вытирая грязь с рук. – Первый взгляд на то, что мы строим. Величайшая выставка в своем роде, посвященная продвижению американского бизнеса, изобретательства и идеалов. Утопическое видение американского завтра.
– Звучит как реклама.
– Так это она и есть, – рассмеялся Марлоу. – Но почему бы нам не гордиться своей страной? Америке завидует весь мир. Здесь каждый может реализовать свою мечту, то, что другим и во сне не снилось. Это мы, мечтатели, создали эту нацию.
– Индейцы и рабы вряд ли с вами согласятся, – парировал Джерико.
– Ты пришел читать мне лекции по американской истории, Джерико? Или все-таки за этим? – Марлоу показал флакон с голубой сывороткой.
Если Джерико что-то в жизни и ненавидел, так это вот такие моменты. Он терпеть не мог зависеть от милости человека, которого сразу ненавидел и обожал, который спас ему жизнь и тут же поработил ее.
– Ну-ну, не надо так смущаться. Я рад тебе – и рад был получить твое письмо. Садись.
Марлоу указал ему на кресло и сам сел напротив, потом непринужденно налил кофе из серебряного кофейника и протянул чашку Джерико. Теплый напиток был как нельзя более кстати.
– Я слышал, что с тобой случилось в Братстве.
– Но как?
Марлоу положил себе в чашку пару кубиков сахара и принялся задумчиво мешать.
– Невозможно выбиться на самый верх, не научившись попутно получать нужную тебе информацию. Это было весьма опрометчиво со стороны Уилла. А уж то, что он еще и племянницу втянул… Эта его глупая одержимость никого до добра не доведет, – лицо его помрачнело. – Как и вся история с пророками.
Джерико был бы рад рассказать Марлоу о том, что они сделали, как не дали демону-маньяку воплотиться посреди Нью-Йорка. Это было не опрометчиво – это было отчаянно. Они спасли кучу жизней, а люди… люди просто никогда не узнают.
– Можете мне поверить, Эви невозможно втянуть в то, во что она не хочет, – сказал он.
– Это Провидица-Душечка-то? Она – это что-то, – сказал раздумчиво Марлоу. – Она вроде обручилась с этим, как его, Сэмом Ллойдом? Могла бы и получше кого найти. Хорошего парня вроде тебя, например.
Джерико уставился на свои ботинки, и лучшего подтверждения Марлоу не потребовалось.
Он внимательно посмотрел на юношу.
– В чем дело? – досадливо спросил Джерико.
– Какие-нибудь сильные чувства были? – деловито поинтересовался Марлоу. – Волнение? Агрессия?
Сильные чувства типа волнения и агрессии вообще-то свойственны человеку в возрасте восемнадцати лет, подумал Джерико.
– Когда меня подстрелили. Во всех прочих случаях – ничего из ряда вон выходящего.
– Хорошо. Просто отлично, – Марлоу прикончил кофе и отставил чашку с блюдцем. – Я рад, что ты поднял эту тему, Джерико. Я тут как раз думал… что, если тебе перебраться в Калифорнию и пойти работать к нам, в «Марлоу Индастриз»?
– И что я вам могу предложить такого, чего у вас еще нет?
– Ты – мое главное достижение. – Изобретатель наклонился вперед, опершись локтями на колени; лицо, давно обожествленное прессой, вблизи ничуть не проигрывало. – Если бы мы могли тебя изучить, выяснить, как так вышло, что ты выжил вопреки всяким прогнозам… – только подумай, сколько блага это принесло бы Америке, да всему человечеству! И тебе самому, Джерико!
Великий человек заглянул юноше прямо в глаза. О, у него был сильный взгляд. Джерико прямо-таки физически чувствовал мощный, бескомпромиссный идеализм: Марлоу излучал его, будто солнце – свет в первый день весны.
– Я бы хотел сделать тебя звездой «Будущего Америки».
Джерико нахмурился.
– Меня? Зачем?
– Пора людям узнать. Джерико, ты и есть будущее Америки. Ты – новый виток эволюции нашего вида, воплощение всех наших надежд и мечтаний. Ты сильнее… Быстрее… Умнее… Ты – герой. Скажи-ка мне, когда ты последний раз болел?
– Я… не могу припомнить.
Марлоу с улыбкой откинулся на спинку кресла.
– Вот то-то и оно! Насколько быстро ты оправился от огнестрельной раны?
– Плюс-минус неделя.
– Неделя! Неделя – и ты был как новенький, лучше, чем новенький! – расхохотался Марлоу. – Просто поразительно. Джерико Джонс – истинный сын нации. Наш золотой мальчик.
Ну, да, Джерико действительно выжил, несмотря на все прогнозы. Но то, как Марлоу об этом говорил… после этого Джерико чувствовал себя скорее промышленным изделием, чем живым человеческим существом. Но разве не некий таинственный, алхимический синтез между наукой, гением Марлоу и черт его знает чем еще – тем, что делало Джерико таким уникальным, – произвел на свет божий это удивительное достижение? Да, Марлоу изготовил детали и изобрел сыворотку, но не имел права утверждать, что все получившееся – исключительно его рук дело. И сам Джерико как он есть – тоже.
Выбор… Именно выбор создал человека, ведь правда?
Марлоу тем временем проследовал к диораме и принялся выверять расположение домиков, доводя топографию до абсолютного совершенства.
– Мы изучим тебя в лаборатории. Исследуем твою кровь. Проведем тебя через программу общей физической подготовки и еще пакет тестов.
– А я-то что со всего этого получу?
Марлоу нахмурился: статуя крылатой Победы была не на месте. Он взял ее двумя пальцами, и ангел воспарил над крошечной выставкой, пока творец озирал свое творение, ища, куда бы его приткнуть.
– Мы все как следует отладим, чтобы тебя не постигла та же судьба, что остальных участников программы «Дедал». Ты точно не кончишь, как твой друг, сержант Лестер.
– Леонард. Сержант Леонард.
– Точно. Конечно, сержант Леонард.
– Но пока что мне прекрасно хватает и сыворотки.
– Разумеется. Ты очень хорошо справлялся, Джерико. Но что, если ты способен на большее, чем просто «очень хорошо»? Что, если мы дадим тебе шанс стать поистине необычайным? Исключительным. Настолько необычайным и исключительным, что такой мужчина станет совершенно неотразим для мисс О’Нил, – глаза Марлоу засверкали. – Ну, когда ты упомянул ее имя, я подумал, что за всем этим что-то кроется.
Джерико ничего не ответил.
– Когда ты встанешь на сцене и продемонстрируешь все свое превосходство над обычными людьми, в целом мире не останется девушки, которую ты не смог бы заполучить. Таков закон животного царства: побеждает сильнейший.
Марлоу поставил статуэтку Победы в самой середине модели.
– Я вам не животное, – Джерико посмотрел на него мрачно.
– Нет-нет, не кипятись. Я вообще-то комплимент тебе пытался сделать.
– Я не хочу быть выставочным экспонатом. Я хочу просто нормальную жизнь.
– Нормальную! – прогремел Марлоу, нависая над столом, будто грозовая туча. – Ни один человек, который хоть чего-то в этом мире стоит, не хочет быть «нормальным», Джерико. Будь выдающимся! Замахивайся высоко! Ты что, правда веришь, что твоя юная леди хочет обычной нормальной жизни? Судя по тому, что я видел, – нет. Забавно, что это племянница Уилла! Они похожи друг на друга не больше, чем сыр на сырость.
– Не больше, чем я на вас, – огрызнулся Джерико.
– Я правда тебе настолько отвратителен? – тихо спросил Марлоу.
Я сделал ему больно, догадался Джерико со смесью стыда и гордости.
– Не то чтобы я не был вам благодарен за все, что вы для меня сделали… Сэр.
– Да не благодарности я хочу от тебя, Джерико, – отмахнулся Марлоу. – Я помню, как первый раз увидал тебя: ты лежал на столе в госпитале, не плача и не жалуясь. Мне сказали, что ты умный, что любишь читать, особенно философию и про машины, – ты своему отцу помогал чинить все на ферме. И я задал тебе один вопрос, чтобы завязать разговор, – ты помнишь?
Джерико помнил. Тем утром он впервые осознал весь упрямый, несговорчивый ужас своего положения. Целый час он таращился в потолок, изо всех сил стараясь удержаться за таявшую на глазах надежду на чудо. И там, слушая крики и стоны людей вокруг, он, наконец, понял, что надежда есть порождение отнюдь не веры, призванной приблизить человека к Богу, но лишь отрицания и самообмана, не дающих ему признать, что бога попросту нет. Интересно, если он просто перестанет есть и даст себе уснуть навсегда, будет ли это считаться самоубийством, которое его всю жизнь приучали считать грехом?
Но о каком грехе может идти речь, если бога все равно нет?
Потом он услышал приближающиеся шаги. Он вполне мог повернуть голову, посмотреть, кто там, но продолжил пялиться в потолок. Улыбка медсестры вползла в поле зрения; кто-то стоял рядом с его парализованным телом.
– Тут кое-кто приехал повидаться с тобой, Джерико.
Ей на смену, заслоняя свет, явилось лицо Джейка Марлоу.
– Привет, Джерико.
Он не ответил.
– Ай-ай, Джерико, где же твои манеры? Мистер Марлоу приехал к тебе аж из самого Вашингтона, – она укоряющее поцокала языком.
Джерико представил, как медсестра падает с обрыва. И здороваться все равно не стал.
– Простите, мистер Марлоу, – сказала сестра. – Он не всегда такой нелюдимый.
– Все в порядке, мисс Портман. Вы нас не оставите на минуточку?
– О, разумеется.
Марлоу встал у его кровати и внимательно осмотрел металлическую клетку, до сих пор позволявшую ему дышать.
– Я сам изобрел эту штуку, знаешь? Хорошие легкие она не заменит, но я над этим работаю. Я так понимаю, ты тоже любишь всякие механические приспособления?
Джерико снова не ответил.
– Ну, ладно. Тогда скажи мне, – игриво продолжал гость, – каково, по-твоему, величайшее изобретение человека?
Джерико легонько повернул в его сторону голову и посмотрел прямо в глаза.
– Бог.
Он ждал, что посетитель будет потрясен или испуган. Ждал проповеди. Но вместо этого Марлоу отечески положил ему ладонь на лоб и сказал тихо, но твердо:
– Я собираюсь помочь тебе, Джерико. Ты встанешь с этой кровати. Ты снова будешь ходить и бегать. Я не остановлюсь, пока не добьюсь этого, обещаю тебе.
Тут-то ловушка надежды и захлопнулась за ним.
Марлоу выполнил свое обещание. Но у любой сделки с дьяволом есть свои нюансы. За последние десять лет отношение Джерико к Марлоу эволюционировало от поклонения к бунту, а затем – к отторжению.
Отцы и дети, говорите…
– А что, если я больше не хочу быть вашим экспериментом или выставочным экспонатом? – спросил Джерико. – Что, если я хочу принадлежать себе самому?
Глаза Марлоу вспыхнули. Джерико очень хорошо знал этот взгляд. К неподчинению великий муж относился безо всякой снисходительности.
– Хочешь принадлежать себе самому? Отлично, принадлежи. Но без вот этого.
Марлоу взял флакон с голубой сывороткой и сунул к себе в карман.
Джерико поежился. В какую игру с ним теперь будут играть?
– Вы этого не сделаете, – попробовал он. – Вам слишком дороги ваши эксперименты.
– Что делать, начну сначала с кем-нибудь другим.
– Если бы вы это могли, давно бы уже начали. И новый золотой мальчик или девочка уже стояли бы рядом с вами на сцене.
– Что ж, хорошо. Обходись дальше без сыворотки, – пожал плечами Джейк.
Насколько понимал Джерико, машинерия его организма работала вот на этом маленьком синем чуде. Именно оно заставляло сердце биться, легкие – раздуваться, кровь – бежать по жилам. А ум – работать, не скатываясь в безумие. Марлоу блефовал. Должен был блефовать.
Джерико испугался, но дать ему вот так себя победить не мог.
– Хорошо. Наверное, я так и поступлю.
– Я бы тебе не советовал.
– Почему? Что случится, если я попробую?
Марлоу промолчал.
– Я заслуживаю ответа, – Джерико даже повысил голос.
Он стукнул кулаком по столу. Несколько зданий в идеальной модели «Будущего Америки» попадали.
– Осторожней! – предупредил Марлоу, и непонятно было, что он имеет в виду: свои модельки или самого Джерико. – Я правда не знаю, что случится. Потому что ты – единственный, кто продвинулся так далеко. Ты один.
Он снова наклонился вперед с выражением суровой решимости на лице.
– Джерико, дай мне тебе помочь. Ты получишь свою девушку. Ты получишь все, что только захочешь. Вместе мы достигнем подлинного величия.
И снова, как тем весенним утром десятилетней давности, Джерико почувствовал, как плети надежды охватили его лодыжку, поползли вверх… Если он подчинится великим планам Марлоу, станет частью его эксперимента – даст ли это ему лучший шанс стать счастливым? Чем он станет – ярмарочным уродом или божьим сыном, прообразом нового, совершенного американца? Правда ли он получит все, чего только захочет?
Правда ли он получит… Эви?
Выбор…
Марлоу уже восстановил порядок в порушенной экспозиции. Все вернулось на свои места.
– Я подумаю об этом, – сказал Джерико и получил удовольствие от тени раздражения, промелькнувшей по лицу творца.
В конце концов, великому Джейку Марлоу тоже не все на свете подвластно.
– Как пожелаешь, – сказал великий.
Он опустил руку в левый карман, извлек голубой фиал и вложил в ладонь Джерико.
Тот в смятении поглядел на сосуд.
– А остальные?
– Их еще нужно будет заслужить. Тут хватит на один месяц. Я даю тебе тридцать дней на раздумья. После этого ты будешь принадлежать самому себе.
Давным-давно жили-были
– Исайя! – заорал Мемфис. – Это твоя работа?
Он продемонстрировал брату изуродованную тетрадь со стихами.
Исайя сделал большие глаза и кивнул.
Три страницы были покрыты неприятного вида рисунками; карандаш местами прорвал бумагу.
– Ты ведешь себя как двухлетка! Тебе же десять! – проворчал Мемфис. – Я понимаю, что ты сейчас зол на весь мир, Исайя, но вот этого делать нельзя. Нельзя хватать чужие вещи и портить их.
– Я не хотел, – запротестовал Исайя. – Я спал!
Мемфис не знал, верить ему или нет. Судя по поведению братца в последнее время, он мог сделать это из чистой вредности. Стихотворение, над которым он так долго корпел, было безнадежно испорчено. Вряд ли его удастся восстановить.
– Мне опять приснился кошмар, – пожаловался мальчик. – Снова те монстры в подземке.
– Монстры, ага. В подземке. – Мемфис коротко и зло хохотнул. – Они у тебя хоть за проезд-то платят?
– Я сам видел! – завопил Исайя. – Это она сделала их! Они там, внизу. И они голодные.
– Исайя! Вот честное слово, – Мемфис всплеснул руками и снова бессильно их уронил. – Ты мне должен.
– Что за шум? – осведомился Билл Джонсон, заходя в комнату.
– Пустяки, мистер Джонсон, – проворчал Мемфис, наставив обвиняющий перст на Исайю. – Но я прослежу, чтобы мои вещи больше тебе не попадались.
И он засунул тетрадь под пальто.
Билл шел через Сент-Николас-парк. Следом, зажав под мышкой бейсбольную перчатку, трусил Исайя. В другой руке у него был мяч, а физиономия имела на редкость хмурое выражение.
– В следующий раз, – наставлял его Билл, стуча тростью слепца по дорожке перед собой, – плюнь слегка себе в ладонь – ну, совсем чуть-чуть. Много не надо. Тогда мяч у тебя полетит, как на ангельских крыльях.
Исайя молчал. Билл и без глаз чувствовал, что малец зол: он достаточно красноречиво топал. Вообще-то это Мемфису полагалось вести брата играть, но он так рассердился за испорченную тетрадь, что отказался наотрез. Билл знал, что замена из него скверная. Знал так же твердо, как и то, что это Мемфис Кэмпбелл исцелил Нобла Бишопа и потом скрыл это ото всех. Билл и сам каждый раз свирепел при мысли, что целитель потратил свой дар на старого алкаша вместо того, чтобы помочь ему, Биллу. Судя по всему, у них с Исайей есть кое-что общее: они оба были до чертиков злы на Мемфиса.
– Эй, молодой человек! – весело сказал Билл, рассчитывая незаметно выманить мальчика из хандры. – Расскажи мне чего-нибудь забавное, а? Ты же много всяких сказок знаешь – про лягушек и всякое такое.
– Мама с папой мне рассказывали сказки, – проворчал Исайя. – И Мемфис рассказывал. Пока не ушел и не завел себе девчонку.
– Значит, вот как? – Где-то в темноте Исайя явно пожал плечами. – Значит, ты хочешь, чтобы это я рассказал тебе сказку? Да?
Шмыг носом.
– Мне все равно.
– Гм-гм. Сказку, говоришь… – протянул Билл, кивая и раздумывая. – Ну, ладно. Был один парень…
– Сказки начинаются не так! – оборвал его Исайя.
– Вот еще! Кто рассказывать-то будет?
Исайя скучал по сказкам. Мама рассказывала очень хорошие, все про кролика у мистера Макгрегора в саду и еще про воина по имени Франсуа Макандаль, который прибежал с холмов и прогнал плохих людей вон. Иногда Исайя путал сюжеты, и тогда Франсуа Макандаль превращался у него в фермера, который гнал кролика вниз по холму. Папа любил смешные сказки, а у Мемфиса… у Мемфиса сказки были лучше всех. Исайя скучал по тем вечерам, когда они лежали вдвоем в комнате у себя в кроватях и глядели, как ползут по стене огни ночного города, и ждали, когда слетит на них сон… давно, еще до того, как у Мемфиса начался всякий вздор с той девушкой, Тэтой. Ох, как он скучал по тому, как оно все было когда-то… Исайя чуть опять не заплакал. И постарался поскорей разозлиться на Билла, который понятия не имел, как правильно рассказывать сказки.
– Начинать всегда надо с «Давным-давно жили-были…» – поучительно сказал Исайя.
– Ну, ладно, ладно, ладно, – лукаво сдался Билл. – Давным. Давно. Жили. Были… Так уже лучше? Счастлив? Давным-давно в дальней стране жил один гордый народ. Сплошь короли и королевы. Совсем как фараоны в древности.
– Это из Библии сказка?
– Если будешь все время молоть языком, так и не узнаешь, – отрезал Билл.
Исайя заткнулся.
– А страна, в которой этот народ жил… – продолжал Билл. – Это, скажу я тебе, было что-то с чем-то. Земля была полна магии. И народ был весь тоже полон магии. И львы там были, и фруктовые деревья, и вообще всё, что душе угодно.
– Прямо всё?
– Кажется, я только что так и сказал, нет? «Всё» пока еще значит «всё». – Билл вернулся к сюжету. – Но народ этой страны предали. Пришли чужие люди и похитили их из их королевства и надели на них цепи, чтобы положить конец магии. А потом погрузили на корабли и увезли в совсем другую страну. В трудную страну, где им пришлось работать день и ночь. И страдать. Да, они сильно страдали. А потом прошло много-много лет и там, в этой стране, к ним явился принц.
– Как в «Золушке», да?
– Не-е-ет, – возмутился Билл. – Ни в какой не в «Золушке». Этот парень выглядел совсем как мы с тобой. Большой, сильный и черный, как ночь. Поговаривали, он был такой сильный, что мог взять постромки плуга двумя руками и протащить его через все поле почище любой лошади. У этого принца была сильная магия. Он мог высасывать жизнь из разных вещей. Мог уложить старую собаку на покой, если ей пришло время, или повывести долгоносика из хлопка. Да, сэр. Этот принц был жутко сильный. И кое-какие люди из-за этого разнервничались, понимаешь? Слишком… Много… Силы.
Эти последние слова Билл едва не выплюнул – злым таким шепотом.
– Вскоре, короче, все кругом только и говорили о принце – и о том, что он, дескать, людей убивает.
– А он убивал?
– Нет. Нет, молодой человек, не убивал, – мягко сказал старый Билл.
– А что же тогда случилось?
Билл втянул побольше воздуху. Воздух пах хорошо: как печной дым и как солнечный свет на снегу.
– И вот однажды пришли люди и взяли принца с собой – поглядеть на королевский замок. И попросили показать им свою силу. Сначала они дали ему курицу. Курица была старая и квохтала, и принц первым делом подумал, вот, мол, и ужин.
Исайя засмеялся.
– А я вчера четыре куриных ножки съел!
– Вот, значит, какой у тебя хороший аппетит.
Билл протянул в темноте руку и погладил мальчика по голове. Когда-нибудь, где-нибудь и у него мог быть такой вот сынок, навроде Исайи Кэмпбелла, мальчишка, который любит бейсбол, и лягушек, и сказки. Если бы все пошло по-другому…
– Ну, а дальше-то что было?
– Ну, сэр, принц взял ту старую курицу, а она на него возьми и накинься и ну клеваться, так перья и полетели – столько шуму наделала старая птица. А потом она драться перестала и легла, холодная и тихая, у принца в руках.
– Он… убил ее?
– Легко и быстро, да. Так что она совсем не страдала, – тихо сказал Билл.
– И они ее потом съели? Правда же, съели?
– Правда, правда, – отозвался Билл. – На короля и его двор это произвело большое впечатление. Той же ночью люди пришли поговорить с принцем. Люди Тени.
– Что такое Люди Тени?
– Тебе это не понравится. Вроде буки, что под кроватью живет, только самые что ни на есть настоящие. Они прослышали, что принц умеет делать с курами, и кое-что с собой захватили. Кое-кого. Сказали, что это плохой человек, враг, и велели принцу применить свою магию, как с той курицей. Но принц никогда такого с человеком не делал, что бы там люди в городе про него ни говорили. И он испугался.
– Чего испугался?
– Что из-за этого на него навеки падет проклятие.
– Это почему же, раз тот человек был плохой?
Билл снова набрал воздуху, потом медленно выдохнул.
– Если бы все было так просто, молодой человек. Не так-то просто понять, где правда, а где нет. Если кто-то тебе говорит, что вот это так, а не иначе, это еще не повод ему верить. Надо убедиться самому.
– Я не понимаю.
– Ну, представь, что пара человек всем рассказала, будто ты спер из пекарни хлеб…
– Они врут! Ничего я не крал!
– Я-то знаю, что не крал. Но кто-то мог им и поверить. Они же всем рассказывали, какой ты плохой, – вот их и слушали, а кто-то даже верил. Не заморачивайся ты этой историей: людям часто проще поверить, чем выяснить все самим.
– Почему?
– Когда ищешь правду, того и гляди, по дороге себя найдешь – и увидишь, какой ты на самом деле.
Холодный ветер залез ему в штанину и пробрал до самой кости. Исайя взял Билла за руку. Доверчивость детской руки оказалась форменным сюрпризом.
– Так принц убил того человека?
– Да, – сказал Билл, помолчав. – Да, сынок, убил.
– И был проклят?
– Да, был.
– Как? Он превратился в чудовище?
Мгновение Билл слушал, как на ближайшем дереве заливается крапивник.
– Наверное, превратился, – сказал он, вдруг почувствовав себя ужасно усталым – сильнее, чем за все последнее время. – А теперь идем. Нам пора домой.
Но не тут-то было.
– Это не конец сказки! – Исайя заявил это сердито и испуганно, как будто кто-то ему сказал, что буки под кроватью и правда настоящие. – Давай настоящий конец!
Действительно, почему бы ребенку не знать истинное положение вещей? И все же… человека убить – это одно, а убить надежду в ком-то настолько юном – совсем другое. Когда-то Билл и сам это прекрасно знал. Когда-то он тешил себя такой же надеждой. Он тогда верил в добро. Если бы он хотел поверить в добро сейчас… достаточно было отвести дитя домой, к тете и горячему ужину.
– О’кей. Но сначала ты мне скажи кое-что. Что ты помнишь о тех временах, когда Мемфис был целителем?
– Мне нельзя об этом говорить.
– Да ну, это же просто мы с тобой. И у нас мужской разговор, не забыл? Знать никому не обязательно.
– Он починил мне сломанную руку, – нехотя сказал Исайя.
– Это как?
– Я упал с дерева после церкви, и Мемфис возложил на меня руки, а я увидел сон про то, как мы с ним оказались в таком прекрасном светлом месте, там еще били барабаны. Когда я проснулся, вокруг стояли преподобный Браун и мама, и еще куча народу, а рука у меня была уже не сломана – вот ни столечки!
Билл задрал лицо к небу, чувствуя щеками тепло усталого зимнего солнца. Он еще помнил, как это самое солнце выглядит, когда пробивается после дождя сквозь тучи. Эта картина стоит того, чтобы увидеть ее еще раз.
– Принц сокрушил проклятие, женился на принцессе и увез ее домой, к себе на родину. Там он освободил свой народ, и все они жили счастливо до конца своих дней. Конец. Ну, что, разве не так заканчиваются настоящие сказки?
– Вот теперь так, – сказал Исайя, хотя и не слишком убежденно. – Мистер Джонсон?
– Ну, что тебе? Сегодня у меня нет больше для тебя сказок.
– С вами все в порядке?
– Конечно, со мной все в порядке. C чего бы со мной не быть всему в порядке?
– У вас глаза совсем мокрые, – сказал Исайя.
– И вовсе они никакие не мокрые, – прошептал Билл, слизывая с губ соль. – Пойдем, молодой человек.
Он протянул руку, и мальчик, доверчивый аки агнец, тут же подошел к нему. Билл тяжело сглотнул, переплетая свои большие, старые пальцы с его маленькими, молодыми, и привлек Исайю поближе, ненавидя себя всего насквозь.
Уже потом, когда он принес ребенка домой и положил на кровать, когда послали за доктором Уилсоном, и в гостиной собрался весь молитвенный кружок Октавии, чтобы просить Бога за невинное дитя, Билл сидел на кушетке и тянул кофе, а люди подходили и хлопали его по плечу, и восхваляли за то, что он снова спас Исайе жизнь, и благодарили Иисуса, что Билл, по счастью, оказался рядом, когда с мальцом случился очередной припадок, а не то кто его знает, что могло бы случиться.
Билл слышал, как кругом шепчутся: вы только посмотрите, плачет, будто Исайя – его родной сын… такое и в самый студеный день сердце согреет. Люди кругом были как смутные тени в вечно сером мире.
Рука его на чашке дрожала. Какой ему сейчас кофе…
– Надеюсь только, что с пареньком все будет в порядке, – бормотал Билл, и даже он сам не был уверен, что врет.
А еще потом он угнездился на конце Исайиной кровати и стал слушать и ждать – ждать, пока старший мальчишка Кэмпбелл придет домой и исцелит брата. А когда он этим займется, Билл уж сумеет потырить той целительной силы в собственных, шкурных целях. Если Мемфис не желает вернуть старику зрение напрямую, что ж, будем действовать как получится.
– Мистер Джонсон?
При звуке Исайиного голоса Билл чуть не подскочил.
– Малыш? Это ты?
– Почему я в кровати? Еще же не ночь.
– У тебя был припадок, – ответил Билл, придвигаясь к мальчишке и держа руки наготове.
– Исайя? Он проснулся? – в комнату ворвалась Октавия, и Билл поскорее отпрянул и сунул руки в карманы.
– Исайя? О, хвала Иисусу!
– Да все со мной в порядке, – сонно пробормотал тот. – Чего все такой шум подняли?
– Я вас, пожалуй, оставлю, – сказал старый Билл и затопал прочь по коридору и вон из дверей.
На улице пела зарянка. Он выпил, и через миг песенка смолкла.
Коллективное бессознательное
Тэта решительно забарабанила в дверь некоего номера в «Уинтроп-отеле».
– Открывай сейчас же, Эвил. Я знаю, что ты там. И буду стучать, пока ты…
Дверь распахнулась, являя взорам чрезвычайно помятую Эви; бархатная маска для спанья торчала на лбу, поверх перепутанных кудряшек. Она наградила Тэту взглядом, предвещавшим убийство.
– Что за дикая идея будить девушку в такое неприличное время, а, Тэта?
Та протолкалась мимо Эви в номер и обозрела пустые бутылки и стаканы, ровным слоем покрывавшие всю комнату. Чрезвычайно грязную, надо сказать.
– Большая ночь выдалась?
– Преогромная.
Эви зевнула и повалилась обратно на кровать.
– Перед самой вечеринкой мы немножко разогрелись тут, у меня. Я познакомилась с этой ми-и-и-илой бурлеск-дивой из «Поукипси» и со славными брокерами из… а, черт с ними, и еще с тем заба-а-авным парнем, очень веселым… представляешь, он может забить четвертной об угол шкафа, причем чтобы он попал точно в стакан с джином на прикроватном столике и… а-а-а-аргх! Ты смерти моей хочешь, что ли?
Тэта рывком распахнула шторы, и вечернее солнце одним ударом нокаутировало царивший в комнате сумрак.
– Это зависит.
– От чего зависит?
– Будешь ли ты еще говорить со мной с этим твоим жеманным акцентом или нет.
Эви потерла виски.
– О, дьявол. Тогда поговори с моей головой, будь другом. Скажи ей, чтобы забила уже играть маримбу у меня на черепе.
Тэта обнюхала несколько ближайших стаканов и нашла один, не пахнувший джином.
– Сиди тут, – распорядилась она, исчезла в ванной и тут же вернулась с полным стаканом воды и двумя таблетками аспирина. – Залпом. То, что доктор прописал.
– А в чем дело-то? – умудрилась поинтересоваться Эви между двумя глотками. – Ты зачем явилась?
На самом деле Тэта неделями пыталась решить для себя, как повести этот разговор. Для начала она свирепо сузила глаза.
– Если хоть слово из того, что я сейчас скажу, просочится наружу, я загоню тебя, как дичь, убью, освежую и сделаю из твоей шкуры пальто.
Эви открыла один глаз.
– У него должна быть шелковая подкладка. Обещай мне, что будет.
– Эвил!
– Ну, ладно, ладно, я заткнулась.
Она изобразила небольшую пантомиму на тему запирания рта на замок и выбрасывания ключа.
– Хотелось бы надеяться, что это действительно работает, – проворчала Тэта, недоверчиво подымая бровь. – Ладно. Слушай. Все эти бегающие кругом пророки…
– Ой, только не надо опять…
– Замок где, ась? – рявкнула Тэта, и Эви присмирела обратно. – Итак, пророки. Ты знаешь среди них каких-нибудь сновидцев?
Эви перекатилась на бок и нахмурилась.
– Ты что имеешь в виду?
– Я имею в виду людей, которые умеют гулять внутри сна, что по твоей Таймс-сквер. Они спят, но при этом остаются в полном сознании.
– Что, прямо внутри сна? – переспросила сбитая с толку Эви.
Тэта всплеснула руками и закатила глаза.
– Мне что, на уроки дикции пора? Я вообще-то так и сказала.
Эви фыркнула.
– Это о-че-лют-но невозможно!
– Еще как возможно.
– Да брось!
– Генри это может.
Эви даже на локте приподнялась.
– Ты хочешь сказать, что Генри, наш Генри может… разгуливать по снам?
– Именно это и хочу. Генри – пророк.
Тэта открыла сумочку, порылась в ней и выудила серебряный портсигар.
– Тебе придется разрешить мне курить здесь, Эвил, а не то я себе все ногти поотгрызаю.
Эви состроила рожу, но потом все-таки махнула рукой. Тэта вынула сигарету и постучала ее концом о портсигар.
– Помнишь, на Рождество Генри попросил тебя прочесть его шляпу, потому что он пытался найти своего Луи?
– Да. Не то чтобы от меня была большая польза.
– Короче, Генри его таки нашел – в мире снов, – сообщила Тэта, прикуривая и глубоко затягиваясь дымом. – И это еще не все. Там же он встретил другого сновидца. Это девушка, зовут Лин, живет в Чайнатауне. C тех пор они каждую ночь встречаются во сне и гуляют там в свое удовольствие. Он думает, что я ничего не знаю, но это не так.
– Похоже, это нереально пухлый талант. Ну, и с чего такой шум поднимать?
– Помнишь, как погано ты себя чувствуешь, когда слишком много работаешь с предметами? Вот и у Генри со снами то же самое. У нас с ним был договор: не больше одного часа в неделю. Эвил, он сейчас ходит в сон каждую ночь, и я даже не знаю, по сколько часов там проводит! Он прогуливает репетиции, и даже когда появляется, все равно витает где-то в другом месте. Он умом повернулся на снах, – выдохнула Тэта вместе со струей сигаретного дыма. – Он – моя единственная семья, Эвил.
– А мы-то что можем сделать? Ты хочешь, чтобы я пошла с тобой и приструнила его?
– Читать ему нотации не поможет. А вот эта лекция могла бы, – Тэта вытащила из сумочки газетную вырезку и сунула ее Эви в руки.
– «Общество Этической Культуры представляет всемирно известного психоаналитика Карла Юнга: симпозиум по снам и коллективному бессознательному», – прочла Эви. – Ы! А теперь то же самое, но в три раза быстрее.
– У нас вопрос по снам, значит, надо идти к эксперту по снам.
– Восемь часов вечера какого-то там января… – Эви внезапно умолкла. – Тэта, так это ж сегодня!
– О чем я тебе и говорю. Вставай и начинай шевелиться. Там сегодня аншлаг. Встретимся на крыльце у этих-как-их-там в половине восьмого.
– Тэта, я не могу. Мы с Сэмом идем сегодня в кино. Хозяева кинотеатра специально договаривались о визите. Представляешь, у них такой специальный проектор, который играет параллельно с картинкой, и звук! Правда слонячьи брови?
– Ага. C ума сойти просто. Скажешь нашему герою-любовнику, что планы изменились. Если он правда собирается на тебе жениться, пускай привыкает, – она прищурилась и внимательно посмотрела на Эви. – В чем дело? Ты такую рожу состроила, будто тебя поймали на краже печенья из сиротского приюта.
– И вовсе я не состроила.
– В том-то и дело. Ты определенно в чем-то виновата. А ну, выкладывай, – Тэта скрестила руки на груди и стала ждать.
– Ох, ну ладно, – вздохнула Эви. – Надо же кому-то признаться, пока я с ума не сошла. Этот роман с Сэмом – просто рекламный трюк.
Тэта стукнула кулаком по кровати.
– Я так и знала! Я сразу почуяла что-то настолько же ненатуральное, как этот твой акцент.
– Эй!
– Я знаю, что ты чокнутая, Эвил, но рада, что все-таки не настолько. Так я была права насчет вас с Джерико?
Эви повесила голову.
– Это было всего один раз. О, Тэта. Из меня такой ужасный друг. Самый худший на свете!
– Ну, у тебя и самомнение. Что, корону на тебя за это надеть? Не дождешься, – проворчала Тэта, крепко затягиваясь сигаретой. – Если ты правда втрескалась в Джерико, не забудь сказать об этом Мэйбл. Если он на самом деле на нее не запал, она может на тебя за это обидеться.
– Ох, может! Ты еще не знаешь Мэйбл. За этим вечно разбитым сердцем скрывается целая фабрика по производству злобы.
– Ну, целую вечность она дуться не будет – особенно если ты сэкономишь ей несколько месяцев тщетных попыток строить глазки парню, которого она все равно не получит.
– Но что, если Джерико мне недостаточно нравится? Не так, по крайней мере, как я нравлюсь ему… или он – Мэйбл. Тогда получится, что я пудрила ему мозги. Играла с его чувствами и отбила у Мэйбл просто эгоистического каприза ради, – Эви натянула одеяло до подбородка. – И еще этот Сэм…
– Так, а Сэм что? – прищурилась Тэта.
– Иногда, когда Сэм притворяется, что влюблен в меня, мой живот вытворяет странные вещи.
– Прими суспензию магнезии, и дело с концом. Слушай, лучшее, что ты можешь сделать с Сэмом, – это сыграть свою роль и забыть о нем. Знаю я этот типаж. Да у него через двадцать минут уже другая помидорка на локте висеть будет.
– Я тебе не помидорка!
Тэта затушила сигарету в бокале.
– Эвил, я тебя знаю. Ты уж с этими мальчиками как-нибудь разберешься. Вот честно, это в тебе самое неинтересное. А у нас сейчас есть проблемы поважнее.
– Это да, – сказала Эви, садясь. – Генри. Спасательная бригада выдвигается.
– Встретимся на этой заумной лекции в полвосьмого. И в полвосьмого значит в полвосьмого, детка. Восточное стандартное время. А не эвионильское фирменное во-сколько-угодно-только-не-вовремя.
– Кто бы говорил, – возмутилась Эви. – Уж тебя-то никогда нет в театре ко времени.
Тэта сунула сумочку под мышку, распахнула дверь и придержала ее ногой, натягивая перчатки.
– Признаю, я люблю иногда поддать Уолли жару. Но для своих друзей я всегда и везде вовремя.
– Да? Ну… – Эви запнулась. – А я зато дым не пускаю!
– Уверена? – Тэта приняла изящную позу в дверном проеме. – Давай подожжем тебя и посмотрим?
Эви швырнула в нее подушкой, но подруга оказалась быстрее. Подушка стукнулась о дверь и присоединилась к остальному мусору на полу.
В пятнадцать минут девятого Эви выскочила из такси на углу Шестьдесят Четвертой и Сентрал-Парк-Уэст и бегом кинулась к лестнице Нью-Йоркского Общества Этической Культуры. Тэта окатила ее кровожадным взглядом, стоя на фоне закрытых дверей.
– Я сказала, в полвосьмого, – рявкнула она, хватая подругу за руку и втаскивая в фойе. – Скажи своим, что тебя нужно учить не говорить со сцены, а время определять, по часам.
– Ну, прости, прости. Просто в последнюю минуту мистер Филипс поймал меня и попросил считать кое-что для кузины его жены. Боссу говорить «нет» я плохо умею, – выдохнула Эви, пропихиваясь сквозь двери в холл, где их уже ждала Мэйбл.
Тут Эви наградили вторым за вечер выразительным взглядом, хотя у Мэйбл он вышел не столько кровожадный, сколько просто рассерженный.
– Оу. Привет, Мордочка. Не знала, что ты тоже идешь, – поздоровалась Эви.
– Я случайно налетела на Тэту на выходе и, поскольку все равно собиралась на лекцию, предложила пойти вместе. Она сказала, ей сны и бессознательное нужны для актерского мастерства, – поделилась Мэйбл.
– Ага. Для актерского мастерства. Для него самого, – поддакнула Эви, принципиально не глядя на Тэту.
– Правда, лекция уже началась, и вахтер мне сказал, что внутрь нельзя абсолютно никому.
– О, не стоит беспокоиться. Предоставьте это мне, – и она грациозно подплыла к человеку на дверях. – Здравствуйте, я – Эви О’Нил… Провидица-Душечка?.. Тоже нет? Мне так жаль, что мы опоздали – я, понимаете ли, навещала детскую больницу и…
– Мне очень жаль, но мы никого больше не пускаем, – он возвышался перед дверью, как айсберг.
– Но я же Провидица-Душечка! – сияя, сообщила Эви.
Когда это не произвело на него никакого особенного впечатления, она попробовала объяснить:
– Ну, я читаю предметы с помощью потусторонних сил, понимаете? Даблъю-Джи-Ай? Я из пророков!
– Тогда вы должны уметь считывать время по часам, – сказал он, тыкая пальцем в афишу мероприятия. – Боюсь, вы опоздали, мисс. Входа нет.
Оказавшись на улице, Тэта гренадерским шагом двинулась вниз по ступенькам, свирепо пыхтя сигаретой. На середине лестницы она развернулась к Эви.
– Я же тебе сказала, в полвосьмого!
– Да, мы это уже выяснили, – пробурчала та и уставилась на двери с выражением полного недоумения. – Этот парень никогда не слышал моего шоу!
– Ну, и что мы будем делать теперь? – осведомилась Тэта, скорее у неба в целом, чем у кого-то конкретно.
– Тебе правда так надо задать ему несколько вопросов по актерскому мастерству? – поинтересовалась Мэйбл.
– Да, – ответила Тэта, чуть помолчав. – Просто до зарезу надо.
– Тогда кутайтесь потеплее и пошли, – сказала Мэйбл и решительно устремилась в сторону Центрального парка.
– Мы куда это? – спросила Тэта, туша сигарету каблуком.
– В Кенсингтон-хауз. Доктор Юнг останавливается там, когда наезжает в Нью-Йорк.
– А ты откуда знаешь? – поразилась Эви.
– Старая подруга моей мамы однажды давала в его честь костюмированный обед в Женеве, – бросила Мэйбл, когда они перешли улицу и углубились под сень голых деревьев.
Иногда у Эви вылетало из головы, что мама Мэйбл была Ньюэлл, то есть принадлежала к одному из самых крутых светских семейств Нью-Йорка. Правда, потом она вышла замуж за папу, и родичи от нее отказались. Интересно, как Мэйбл живется с мыслью, что добрая половина семьи пользуется услугами дворецких, шоферов и горничных, готовых исполнить любую их прихоть, пока она, Мэйбл, ютится в квартирке на две спальни вместе с родителями, митингующими против богатства и привилегий?
– Ты когда-нибудь видишься с мамиными родными, Мэйбси?
– Раз в год, – ответила Мэйбл. – На день рождения бабушки. Мама сажает меня в поезд, а на месте с него забирает шофер в «Роллс-Ройсе».
– И мама от всего этого отказалась ради любви? – спросила Тэта.
– Да. А еще потому, что хотела принадлежать самой себе и жить своей жизнью.
– Далековато между тем и этим, – присвистнула Эви.
Крупчатые гало фонарей бросали отсвет на голые ветви величественных зимних деревьев, окаймлявших бегущую через Центральный парк мощеную дорожку. Стеклянная поверхность подмерзшего пруда отражала молодой месяц – казалось, протяни руку, и достанешь. Вдалеке сияли верхние этажи фешенебельных домов на Пятой авеню. Под подошвами туфель хрустел старый снег.
– Как там у вас с Джерико? – спросила Эви у Мэйбл нарочито легким тоном, будто интересовалась погодой. – Он уже попытался поцеловать тебя еще раз?
– Эви! – возмутилась та.
– Джерико тебя целовал? – в один голос с ней удивилась Тэта.
– Можно было с тем же успехом «Дейли миррор» рассказать, – пожаловалась Мэйбл.
– Ну, прости, прости меня, Мордочка. Это же просто Тэта, и она за тебя тоже волнуется. Правда, Тэта?
– С нездешней силой, – подтвердила Тэта, меча в Эви на редкость выразительный взгляд. Взгляд говорил: какого хрена? что ты вытворяешь, зачем мучаешь себя? Эви в ответ похлопала ресницами: понятия не имею, чего ты там себе надумываешь! Я выше твоих жалких инсинуаций.
– Нет, не пытался, – сообщила Мэйбл, не замечая этого безмолвного обмена любезностями. – Но мы были очень заняты, собирая выставку, – она подозрительно посмотрела на Эви. – Ты ведь придешь, правда? И никакая очередная радиочушь тебе не помешает?
– Сказала, что приду, значит, приду, – шмыгнула носом Эви. – О, глядите-ка! Снова снег пошел. Красота, правда?
Девушки остановились на самом верху арки и залюбовались мерцающими хлопьями, спархивающими на дорожку и полого круглящуюся лужайку. Сама ночь на мгновение задержала дыхание. В тишине из казино Центрального парка долетел джаз, а с ним звуки веселья: огни проглянули между деревьев… Тэта вспомнила Мемфиса и маяк. Сегодня вечером она даже пыталась набрать ему домой, но к телефону подошла тетя, и Тэта быстро положила трубку. «Ошиблась номером…» Снег таял у нее на перчатках, и внутри что-то шевельнулось. В том сновидении тоже всегда шел снег… снег был везде. Генри говорил, что сны – это ключи, но ей было решительно невдомек, что этот сон пытается ей сказать.
– Так что, Мэйбл, вы нашли что-нибудь интересное для этой вашей дурацкой затеи с пророками? – спросила она.
– О, кучу всего нашли. Оно все будет в экспозиции, – отозвалась Мэйбл и уточнять ничего не стала.
Это было личное, между ней и Джерико – таким не делятся. Тем более что Эви все равно разболтает ее частные тайны первому встречному и глазом не моргнет.
– Полный музей жутких страшилок, да? – поднажала Тэта. – Те, кто говорит с призраками. Те, кто видит будущее и считывает предметы, как наша Эвил. Те, кто умеет… ну, не знаю, сжигать всякие вещи, возгорания устраивать…
– Возгорания? Господи, нет! – Мэйбл даже поморщилась. – Ничего такого.
– Вот честно, Тэта, и ты еще меня называешь Злом! – со смехом воскликнула Эви. – Откуда ты вообще выкопала эту идею?
Легкое покалывание пробежало по кончикам Тэтиных пальцев.
– Просто поддерживаю светскую беседу. Тут вообще-то холодно, – и она зашагала быстрее сквозь снегопад.
А потом они ждали в пышном холле маленького и традиционного до мозга костей Кенсингтон-хауса, пока наконец в дверях не возник высокий белоголовый мужчина в очках с металлической оправой, твидовом пиджаке.
Мэйбл пихнула товарок локтями.
– Это он! Вперед! – яростно зашептала она и кинулась ему навстречу. – Доктор Юнг?
Эви и Тэта тащились в фарватере.
– Да, я доктор Юнг.
– Слава богу! Мы так вас ждали.
– Правда? – Докторские брови изобразили галочку над оправой очков. – Прошу прощения. У нас назначена встреча?
– Нет, но нам отчаянно нужно с вами побеседовать. Дело безотлагательной важности.
Психиатр выпустил облачко дыма и задумался, потом любезно улыбнулся.
– В таком случае нам будет лучше пройти вот сюда.
Девушки представились и были приглашены в уютный, премило обставленный кабинет, весь в полках чрезвычайно важных с виду книг. Доктор предложил им сесть и лишь после этого опустился в кресло сам.
– Итак, леди, чем я могу вам помочь?
– Доктор, что вам известно о пророках? – выпалила Тэта.
– Ты же говорила, тебе про актерское мастерство надо, – прожужжала Мэйбл.
Мистер Юнг подождал, пока гостьи как следует устроятся.
– Да, о них слышал, – сказал он; швейцарский акцент аккуратно обкорнал концы слов. – Правильно ли я понимаю, что вы интересуетесь психическими явлениями и паранормальной сферой?
Тэта покосилась на Мэйбл. Приглашая подругу на лекцию, она и подумать не могла, что вечер кончится личной аудиенцией у самого Юнга. Обратного пути нет, придется ввести Мордочку в курс дела.
– Видимо, да. Видите ли, у меня есть друг, он пророк и может путешествовать по снам. Я имею в виду, действительно гулять во сне, как в реальном мире, и все там смотреть.
Мэйбл вытаращила глаза:
– Это еще кто?
– А кто ты думаешь? – огрызнулась Тэта.
– Генри, конечно, – вставила Эви.
– Так, минуточку, а ты откуда знаешь? – она перевела взгляд с Эви на Тэту. – Да, откуда Эви знает? – и обратно. – Так ты все-таки умеешь хранить секреты, просто выборочно?
– Ну, Мэйбси, сколько еще мне тут в терновом венце разгуливать? Я же сказала, прости! – заскрипела зубами Эви.
Доктор Юнг ненавязчиво кашлянул, и девушки присмирели.
– Осознанные сновидения, говорите? Это настоящий талант. Прошу вас, продолжайте.
– Так вот, в последнее время мой друг Генри и еще одна сновидица, Лин…
Тут уже доктор Юнг посмотрел на нее диким взором.
– Так их у вас, что ли, двое?
– Это я собиралась спросить следующим, – встряла Мэйбл, прожигая Тэту взглядом.
Извините, я не с ней, изобразила Эви одними губами.
– Это долгая история, – сказала Тэта. – Суть в том, что они каждую ночь встречаются в мире снов в одном и том же месте, на железнодорожной станции, и отправляются оттуда в некое магическое место, где могут трогать предметы и нюхать цветы, и… короче, судя по тому, что Генри мне говорит, там все очень реально. Слушайте, док, я понимаю, звучит так, будто мы все тут спятили, но это чистая правда.
Доктор Юнг тщательно протер очки носовым платком.
– Иными словами, ваш друг и его спутница свободно перемещаются по миру бессознательного. Они получают возможность действовать внутри психики других людей и взаимодействовать с опытом и воспоминаниями всего человеческого рода – c коллективным бессознательным.
– Извините, док, вы меня по дороге потеряли, – сказала Тэта. – Что такое это ваше коллективное бессознательное?
Психиатр снова зацепил очки за уши.
– Ну, представьте это как символическую библиотеку, которая существовала всегда и в которой находятся все наши личные переживания и воспоминания, а также все то же самое наших предков – эдакое общее для всех знание, которое каждый индивидуум понимает безотчетно, от природы, просто в силу наследственности. Это религия, мифы, сказки – все они черпают силу из коллективного бессознательного. А сны – это, если хотите, такая библиотечная карточка, которая дает доступ к этому архиву символов, воспоминаний и переживаний.
– А вред оно может причинить? Если во сне с вами что-нибудь случилось, вы, как правило, просыпаетесь. А вот если вы там живете, взаправду, как мой друг Генри? Может с ним там что-нибудь случиться – c ним или с Лин?
– Интересный вопрос. Вы когда-нибудь слышали о теневом «я»?
Эви и Тэта покачали головой.
– Это вроде как ваша темная сторона? Как доктор Джекил и мистер Хайд, если я ничего не путаю, – сказала Мэйбл, довольная, что знает ответ на такой мудреный вопрос.
– Да, именно так, – сказал доктор Юнг, выдувая облако пряного дыма. – У каждого из нас есть обычное осознанное «я»: это то лицо, которое мы каждый день демонстрируем миру. Но есть и другое «я», которое мы предпочитаем скрывать даже от самих себя. В нем содержатся самые наши примитивные эмоции и вообще все, чего мы в себе не выносим и потому подавляем. Вот это и есть Тень.
Психиатр снова раскурил трубку. Когда чиркнула спичка, в пальцах у Тэты снова закололо.
– Это теневое «я» – оно злое? – спросила Эви, и на мгновение перед ее внутренним взором вспыхнула картинка Джона Хоббса и его жуткой тайной комнаты.
– Это зависит от того, насколько яростно вы защищаете свои рубежи от теневого «я» и на что готовы пойти, чтобы уберечь себя от этого знания. Такой человек, как правило, даже не знает, что творит зло. Вспомните историю доктора Джекила и мистера Хайда. Добрый доктор Джекил временами оказывается одержим своим теневым «я», мистером Хайдом, который творит совершенно невыразимые вещи. Доктор Джекил проецирует (хорошо – назначает, отдает) невыносимые для себя черты характера этому отщепленному «я», мистеру Хайду. Это, разумеется, весьма крайний случай, но и такое тоже случается. В этом и заключается величайшая власть Тени над нами: мы не видим ее, не замечаем. Когда мы осознаем свою Тень, мы можем достичь просветления.
– Думаю, у Генри такая теневая часть есть…
– Она у всякого есть, – мягко поправил ее доктор Юнг.
– Как можно заставить его прекратить и проснуться?
– Единственный способ исправить Тень – это осознать ее. Принять и интегрировать в личность. Возможно, ваш друг придет к этому решению самостоятельно, просто исследуя свои сны, потому что сны всегда хотят пробудить нас к осознанию каких-то по-настоящему глубоких внутренних смыслов. Все тайное рано или поздно становится явным, как бы яростно мы ни пытались удержать его под замком.
Тэта подумала про свои собственные сны – про снег, и коней, и горящую деревню. И про Роя. Всегда про Роя. Как же отчаянно она старалась оставить прошлое в прошлом – там, откуда оно не сможет дотянуться до нее и причинить боль. А теперь этот специалист по головологии говорит, что крышку на колодце все равно не удастся удерживать вечно. Неприятный зуд в ладонях вырос до жжения.
– Вы хорошо себя чувствуете, мисс Найт? – поинтересовался доктор Юнг, нахмурив лоб. – Вы как-то сильно встревожились.
– Тут… как-то ужасно душно.
– На самом деле холодновато, – вставила Мэйбл.
– Мне… нужно немного подышать. Мы и так уже отняли массу вашего драгоценного времени, доктор. Спасибо. Вы были ужасно пухлый!
В панике она вскочила на ноги. C полки за спиной психиатра выскочила книга и сшибла свечу. Пламя занялось на рукаве докторского пальто, но психиатр ловко загасил его, прежде чем оно успело как следует прихватить ткань.
– Ох, я дико извиняюсь, – в ужасе пролепетала Тэта. – Не надо мне было так скакать.
Она попыталась спешно подумать о чем-нибудь холодном: мороженое… зимний ветер… снег опять же… О, нет! Только не снег.
– Все в порядке, – отозвался доктор Юнг, изучая испорченный рукав.
Он поднял книгу с ковра, куда она приземлилась корешком вверх, томно раскинув страницы, и принялся рассматривать.
– Хм-м, забавно. Да, весьма любопытно. Вы же сказали, что вам жарковато, мисс Найт?
– Да, – прошептала Тэта.
– Что там? – встряла любопытная Эви.
– Синхронистичность. Значимое совпадение. Мощный символ из коллективного бессознательного.
Он показал им рисунок в книге: величественную птицу пожирал огонь.
– Феникс восстает из пламени.
Страница раскрылась на номере сто сорок четыре.
Зеленый свет
А глубоко под поверхностью города Вернон «Крупный Верн» Бишоп и его люди старались согреться в ожидании бутлегера, который нанял их постеречь партию бухла. Работенка была раз плюнуть: канадский виски привезли на корабле; прежде чем судно вошло в док, Вернон с ребятами пригребли на лодке, забрали бочки, угребли обратно и сныкали спиртное в старых каменных тоннелях, вившихся под Бруклинским мостом. В команду Вернон взял Леона, большого парня с Ямайки, зашибавшего временами деньгу в качестве боксера-любителя то тут, то там, и кубинца по имени Тони с крайне ограниченным запасом английского. C кубинцами у Вернона проблем не было: у него жена приехала из Пуэрто-Рико и говорила по-испански. Вернон нахватался у нее отдельных словечек и фраз, достаточных для легкой светской беседы.
Темно было тут; единственный свет шел от лампы на диггерской каске Вернона, да еще у Леона был фонарь и у Тони – совсем маленький, который он очень крепко сжимал в руке.
– ¿Cuánto tiempo más?[46] – спросил Тони, меряя каверну шагами, чтобы не замерзнуть.
Вернон пожал плечами.
– Пока босс не придет.
– Мне тут не нравится, – проворчал Леон, дыша облачками пара, быстро рассеивавшимися в свете фонаря.
Вернон чувствовал себя в тоннелях вполне удобно: некоторые он сам продолбил в бытность свою кессонщиком. Опасная была работа – глубоко под землей, где можно копать всего несколько часов в день, а не то станет плохо с давлением. Зато он гордился, что сам, своим отбойником прокладывал городу дорогу в будущее – к поездам, мостам и тоннелям завтрашнего дня.
– Говорю тебе, тут что-то не так, – не унимался Леон.
– Только не надо мне твоих островных суеверий! – отбрил его Вернон, бессовестно позаимствовав фразу у своего кузена, Клайда.
Во время большой войны Клайд служил в сплошь черной 92-й дивизии. После победы он вернулся в Гарлем весь в орденах, гордый по самое не могу, хоть и без ноги, которую потерял из-за нагноившейся огнестрельной раны. Они курили сигары и точили лясы в задней комнате зеленной лавки Младшего Джексона до раннего утра: хохотали, хлестали виски, слушали, как двое парней пытаются переиграть друг друга на пианино в стиле страйд. Но Клайда как будто что-то преследовало, угнетало. Как-то, сидя под желтой луной, он признался:
– Я видел на этой войне вещи, которые человеку видеть не положено. От таких люди забывают, что они люди, а не стая тварей, ползающих где-нибудь в грязи. А самое проклятое во всем этом то, что я ни в жисть не мог вспомнить, за что мы такое деремся. Драться через некоторое время входит в привычку.
Месяцев пять спустя Клайд отправился в Джорджию, навестить каких-то родичей, да пошел себе в город, выпить чего-нибудь холодненького. Местные не слишком-то обрадовались Клайду в униформе, со сверкающими медальками, и сказали ему все это с себя по-быстрому содрать. Клайд, ясное дело, отказался.
– Я дрался за эту страну в форме, в ней же потерял ногу. И имею право ее носить.
Добрые люди, уроженцы Джорджии, c этим не согласились. Они привязали его к грузовику и протащили через весь город волоком, потом подожгли, а потом вздернули на самом высоком дереве из доступных. Поговаривали, что его крики было слышно в соседнем городе. И медали семья так никогда обратно и не получила.
Забавно, что Вернон решил вспомнить про Клайда именно сейчас. Несколько прошлых ночей ему снился давно покойный кузен: во сне у него никаких костылей не наблюдалось, а униформа была такая чистая, что аж хрустела. Он махал Вернону с парадного крыльца дома; перед домом раскинулся сад, а во дворе стояло персиковое дерево, все в цвету – как раз о таком логове Вернон и сам мечтал. Рядом с Клайдом оказалась хорошенькая девушка в старомодном подвенечном платье с фатой.
– Посмотри этот сон со мной… – прошептала она прямо в голове у Вернона.
Он натурально воспринял сон как знак того, что все идет правильно, что эта работа на бутлегера и деньги с нее могут значить и для него, Вернона, долгожданный кус пирога. Но сейчас что-то из этого сна гуляло у Крупного Верна под кожей, как эдакий зуд, который никак не почешешь. И с чего вдруг – непонятно.
Из длинного жерла тоннеля послышался звук. Парни повскакали с мест.
– Это они? – прошептал опасливо Леон.
Вернон рукой показал – тихо, мол, и уставился выжидательно во тьму.
– Сигнала нет.
Бутлегер всегда светил фонариком условный сигнал: три коротких, резких вспышки. Кто бы там, в тоннеле, сейчас ни сидел, светить он наотрез отказывался. Вернон весь напрягся. Это могли быть и копы! Или бутлегеры-конкуренты, да еще вооруженные.
Вернон слушал, весь натянутый, как струна. Звук был совсем тихий, зато настойчивый: какое-то гудение, вроде как от пчел, запертых в комнате и рвущихся на свободу. Но ниже… почти человеческий такой звук. От него вся кожа у Вернона пошла мурашками. Он даже инстинктивно попятился.
– Что это такое? – спросил Леон, поднимая фонарь: глаза у него были в пол-лица.
– Ш-ш-ш, заткнись, – прошептал Вернон.
Они еще подождали.
– Все еще слышишь? – спросил он.
– Нет, – помотал головой Леон, но тут оно, как назло, вернулось – и на сей раз громче прежнего. – Говорил я тебе, мне тут не нравится. Давай-ка выбираться отсюда.
Вернон сцапал его за плечо.
– Пока босс не сказал, никто никуда не идет.
– Да ну его к дьяволу, босса! Его тут нет, а вон та штука – есть.
– С этими сицилийцами нельзя вот так вот взять и просто выйти из дела, – предупредил Вернон. – Мы будем сидеть здесь, c бухлом, и ждать.
Громкий скрипучий визг донесся из тоннеля – у парней он аж в зубах отдался.
– Dios mío[47], – прошептал Тони.
– Босс там или нет, а я сваливаю, – сообщил Леон.
Тони согласно закивал.
– Ладно, пошли, – сдался Вернон.
Они побежали. Свет фонаря отбрасывал их скачущие тени на старые кирпичные стены – дикие, гротескные фигуры. Внезапно фонарь ни с того ни с сего решил уйти на покой, оставив их почти в полном мраке. Остались только фара у Вернона на лбу да маленький фонарик Тони, и их было решительно мало. Тяжкое дыхание так и колотилось в уши. Надо срочно успокоиться, отдышаться – тут, на глубине, и в обморок недолго хлопнуться, подумал Вернон. Все они это знали – c подземельем шутки плохи. Что бы там, в коридоре, сейчас ни бродило, они с него уже выдохлись, как загнанные в ловушку псы.
– Ты слышал? Слышал? – Леон уже впал в панику.
Звук определенно приближался. В нем уже различались отдельные гортанные порыкивания, утонувшие в общем невнятном гаме. Что же это такое? И сколько его?
– Идет сзади, – оценил Вернон. – Фонарь где? Леон, зажги его немедленно!
Опять визг.
– Леон!
– Да пытаюсь я, пытаюсь!
Визг раздался справа, и мужчины окаменели. Звук был очень близкий.
– Ты вроде сказал, что они сзади, – настойчиво прошептал Леон.
Вернон тяжело сглотнул.
– Они там и были.
– Идем назад! – выкрикнул Леон и кинулся наутек, в сторону склепа под мостом.
– Леон! Погоди! – завопил вдогонку Вернон – за секунду до того, как в темноте прозвенел крик и тут же резко стих.
Ему всегда было интересно, что такого кузен Клайд увидал на войне, что даже упоминать и то страшно. Вот сейчас и выяснишь, дурень, сказал он сам себе.
– Dios mío, – снова повторил Тони.
Он уронил фонарик и сполз по стене на пол, ухватившись руками за шею.
– Ayúdame, Santa María![48]
Вернон подобрал с пола фонарик.
– Вставай, Тони! Шевелись!
Он вздернул напарника на ноги и почти поволок его вниз по темным ступенькам, уводившим еще глубже в подземелье. Через несколько лихорадочных поворотов они выбежали на заброшенную и частично затопленную станцию подземки. Высоко вверху некогда роскошный каменный потолок ниспадал вниз стволами колонн, изборожденных многолетними потеками сырости. Вернону вода оказалась до пояса, но он-то был добрых шести футов ростом. В Тони насчитывалось хорошо если пять с половиной – он ушел в воду по грудь и продолжал при этом яростно молиться.
– Уже недалеко, – сказал ему Вернон.
Он понятия не имел, до чего недалеко, но ему нужен был Тони, живой и вменяемый.
Вода вздулась снизу. Вдалеке что-то плеснуло.
– ¿Qué es eso? – пролепетал Тони голосом, полным ужаса.
Вернон, дрожа, повел тщетным лучиком по просторам затопленной станции: стены лоснились от долгих лет сырости и заброшенности. Старая билетная будка смотрелась маленьким мавзолеем. Вернон на своем веку посетил немало станций подземки и знал, что где-то тут точно должна быть лестница наверх и наружу.
Он повел фонариком вправо от будки: стена.
Влево…
Вот и он – коридор!
– Тони! – прошептал он и ткнул пальцем в черный проем в зернистом бледном свете. – Ahí![49]
– Sí![50] – кивнул тот.
Фонарик мигнул и погас. Вернон хорошенько шлепнул его об ладонь, но это не помогло.
Звук вернулся, и шел уже не издалека – теперь он был повсюду вокруг них.
– Скорей! – заорал Вернон. – ¡Vámonos![51]
Бежать против высокой воды, всем своим весом навалившейся на грудь, было нелегко – да еще при каске Вернона в качестве единственного источника света: естественно, Вернон налетел на стену. Он скрипнул зубами, чтобы не закричать, и сунул руки в темную воду, зная, что где-то там должна быть лестница: наградой ему стали металлические перекладины.
– Она тут, – ободряюще прошипел он Тони. – Лестница!
Вода снова всколыхнулась, долгой и мощной волной. Вернон дернул головой в направлении движения, туда, где раньше были рельсы, а теперь виднелась паутина каких-то металлических конструкций.
Только на прошлой неделе Вернон отпраздновал день рождения – двадцать первый! – в одной дыре под лестницей шикарного дома в Вест-Сайде и теперь очень надеялся отметить и двадцать второй. А может, он подхватит все свое семейство – жену и новенького малыша – и найдет себе новое место, уж однозначно получше. В Нью-Джерси, скажем, переедет или вот в Балтимор, где у него сестра учительницей служит. Страна-то у нас большая, ни к чему весь свой век дышать пылью и газом, таскать на горбу виски, лишь изредка выбираясь на поверхность, чтобы глотнуть воздуха, все время чувствовать дикую жажду, такую, что вовек не напиться… Да, пора им, пожалуй, подальше отсюда – будут совсем как пионеры Дикого Запада. Щедра земля – надо же посмотреть, что она уготовила нам!
Клац-клац-клац-клац. Жуткий звук эхом запрыгал по затопленной станции. Что-то светящееся и зеленое посыпалось из тоннеля и вниз по стенам, так и полыхая в темноте. Жуткий звук издавали рты, а в них, открытых, щерились острые зубы.
Позади Вернон услышал крик напарника.
– Тони! – завопил он, хлеща фонарем во все стороны. – Тони!
Но Тони рядом больше не было. Остался один Вернон – Вернон и те твари во тьме, что подбирались теперь все ближе и ближе. Заорав во всю глотку, Вернон прыгнул на лестницу, вверх и на платформу – а потом он побежал, как поселенец по прерии, торопясь воткнуть свой шест в твердую, плодоносную почву внутренних земель, чтобы застолбить место себе и детям, и всем поколениям, что еще прорастут под этими синими небесами. Вернон бежал, а слабый свет фары на каске лихорадочно метался в окружающей тьме.
Коридор гнулся вверх и влево. Верн бежал, а в ушах у него скрежетал мерзкий, гортанный визг. Кстати, он вспомнил, что ему так не понравилось во сне с Клайдом. Клайд стоял под бушующей в небе грозой.
– Он идет! – сказал кузен и поглядел вдаль, туда, где тощий седой мужик в дурацком цилиндре все хохотал и хохотал, и никак не останавливался.
Свет задрожал, выхватив из мрака коридор и то, что ждало его там. Вернон поставил на скверный участок.
– Господи Иисусе, – только и успел прошептать он, когда меж стен разлился яростный зеленый свет, от которого было уже не спастись.
День двадцатый
Энтони Оранжевый Крест
Генри сидел в гостиной сестриц Проктор, забитой мебелью и всякими вещами по самый потолок, и пил горький, дымный чай в компании мисс Адди и мисс Лилиан. Целое стадо котов гостеприимно мяукало, мурчало и вытиралось о его брюки. Генри честно поддерживал светскую беседу – так долго, как этого требовали приличия, – слушая про разнообразные недуги сестер, про внутренние дрязги Беннингтона и еще одну особенно кровавую историю про циркового дрессировщика, которого задрал медведь (в цирк Генри в обозримом будущем ходить расхотелось). Наконец в разговоре нарисовалась долгожданная пауза, и он не замедлил в нее воткнуться.
– Я тут все думаю о том, что вы давеча упомянули, мисс Аделаида, – сказал Генри. – Когда я садился в лифт, вы сказали: «Внимание, внимание, Райская площадь» и еще «Энтони Оранжевый Крест».
Мисс Лилиан не донесла чашку до рта.
– О, Адди, прошу тебя… Вот зачем было нести такие гадости?
После истории о медведе-каннибале Генри было даже интересно, что мисс Лилиан могла посчитать гадостью, однако сердце у него на этих словах заколотилось чуточку быстрее.
– О, так вы знали этого парня по имени Энтони Оранжевый Крест, да, мисс Лилиан? Он был плохим человеком?
– Энтони Оранжевый Крест – вообще не человек, – сказал та и отхлебнула чаю. – Это улицы. Вернее, когда-то ими были. Сейчас эти названия отправились на свалку истории.
– Улицы? Вы уверены? – Генри облегченно выдохнул.
– Еще бы я не уверена. Энтони теперь прозывается Ворт-стрит. Оранжевая стала Бакстер. Крест переименовали в Парк-стрит еще задолго до нас, хотя большинство народу до сих пор величает ее Крестом.
– Мы живем тут уже очень давно, – вставила мисс Аделаида. – Много чего на наших глазах пришло и ушло.
– Это рядом с Чайнатауном, выходит? – уточнил Генри.
– Именно так.
– Пересечение Энтони, Оранжевой и Креста когда-то образовывало маленький такой треугольничек, который звался Райской площадью – почти рядом с Чайнатауном. И да, это был плохой район. Прямо-таки грязное сердце Пяти Углов.
– Простите, про Пять Углов я, похоже, тоже не слышал, – сокрушенно сказал Генри.
– Когда-то это были самые отвратительные трущобы на свете. Там обитали воры, головорезы, бандиты и дамочки легкого поведения. Сплошные опиумные притоны и тесные, вонючие, кишащие крысами комнатенки, где люди спали друг у друга на головах. Такую скверну, такую деградацию цивилизованному человеку и представить-то себе нелегко. Миссия почти ничего с этим не могла поделать.
Мисс Лилиан поцокала языком, скорбно качая головой.
– Методистская миссия и Дом Трудолюбия, – мисс Адди налила в чашку молока и поставила ее на пол, для котов. – Там самым обездоленным обеспечивали работу и заботу. Мы с Лил одно время волонтерствовали – помогали спасать падших женщин.
Так, значит, Энтони Оранжевый Крест – это заброшенный перекресток, а не убийца, а Райская площадь – бывшие трущобы. И какое это все имеет отношение к женщине под вуалью? Генри даже не был уверен, что она призрак. Возможно, просто часть сонного ландшафта, не более самостоятельная, чем фейерверки или дети, гоняющие обруч по мостовой. Письмо в бутылке, доставленное сильно после того, как отправителя и на свете-то не осталось.
– А вы не припоминаете какого-нибудь убийства, которое случилось, пока вы работали в миссии? – спросил Генри в качестве последней попытки. – Может, на самой Райской площади?
– Молодой человек, да там каждую ночь кого-нибудь резали, – c улыбкой отозвалась мисс Лилиан. – Неплохо бы уточнить, что вас интересует.
– Имени я, к сожалению, не знаю. Это женщина, я видел ее во сне, – промямлил он, глядя на мисс Аделаиду, которая в это время таращилась к себе в чашку. – На ней старомодное платье и вуаль.
Генри на глазах терял запал, а вместе с ним и надежду.
– Возможно, у нее еще шкатулка музыкальная с собой была. Милый мечтатель, узри же меня… – пропел он.
– Звезды и росы заждались тебя, – подхватила мисс Адди надтреснутым шелестом, внезапно придя в себя. – Это Плакальщица. Я тоже слышала ее во сне.
– Адди, только не надо волноваться. Ты же помнишь, что сказал по этому поводу доктор? – пожурила ее мисс Лилиан. – Мистер Дюбуа, у моей сестры слабое сердце. Вы не должны ее расстраивать.
– Да, мэм, конечно, – утомлять мисс Адди Генри решительно не хотел, но ему позарез нужно было больше информации. – Мне только интересно, было ли имя у женщины из моего сна.
– Музыкальная шкатулка! Ну да. Да, я помню ее! Она же приходила к нам в миссию. Всего на несколько дней задержалась. Ты же ее помнишь, правда, Лилиан?
– Не помню и вспоминать не хочу. Послушай-ка, Адди… – начала она, но Аделаиду Проктор уже было не остановить.
– Я все пыталась вспомнить, да никак не могла. Вот-вот, думала, схвачу… – она взмахнула ручкой, словно пыталась поймать что-то и подтащить поближе к себе. – Она еще по-английски едва говорила.
– У нас было много иммигранток, они так легко становятся добычей скверных людей, – вставила мисс Лилиан.
– Она так любила музыку. Пела прям как на сцене. Такой красивый голос, – сказала мисс Адди. – Да, музыка… Так ее тот ужасный человек и захомутал…
– Какой человек? – поднажал Генри, надеясь, что мисс Лилиан не вышвырнет его за такую настойчивость вон.
– Ирландец, который держал бордель, – отрезала Лилиан. – Теперь я вспоминаю. Он пришел за ней как-то утром, так сладко говорил. Подарил шкатулочку маленькую, музыкальную. Обещал подыскать мужа, если только она вернется обратно.
Она вздохнула.
– На этом-то она и сломалась. Ушла с ним. Я только раз видела ее после этого. Она была под опиумом и в прыщах по всему ее пригожему личику. Сифилис. Нос у нее совсем сгнил, так что ей пришлось вуаль надевать, чтобы спрятать лицо. А шкатулку так и носила с собой.
– Точно! Это она! – разволновалась мисс Аделаида. – Ох, мы же все теперь в опасности!
– Все это было давно, Адди, – попробовала успокоить ее мисс Лилиан. – Оно уже в прошлом.
– Прошлое никогда не бывает в прошлом. Ты сама это прекрасно знаешь, Лилиан, – пробормотала Аделаида.
– Мы в безопасности. Все давно заперто в коробке, – спокойно сказала мисс Лилиан, и Генри не понял, о чем она толкует.
– Так что случилось с той женщиной? – спросил он.
– Понятия не имею, – вздохнула мисс Лилиан и, подняв с пола рыжего полосатого кота, принялась чесать его за ушами. – Но подозреваю, что кончила она плохо.
– Она связана с ним, – пробормотала вторая сестра. – Они все связаны. Уж я-то знаю.
– Адди…
– С кем связана, мэм? – немедленно ухватился за ниточку Генри.
Адди поглядела на него широко раскрытыми глазами.
– С человеком в шляпе. C Королем Ворон.
– Адди, ты решительно перевозбудилась. Боюсь, нам придется немедленно попрощаться с вами, мистер Дюбуа.
Мисс Лилиан встала, давая понять, что визит подошел к концу. Генри церемонно поблагодарил сестер Проктор за потраченные на него время и чай. Мисс Адди цапнула со стола его чашку и пристально вгляделась в содержимое.
– Не нравится мне узор этих листьев, мистер Дюбуа. Грядет день ужасной истины. Ужасной для вас или для кого-то любимого вами. Берегитесь, – прошептала она. – Берегитесь.
Генри мчался на репетицию; странные байки сестер Проктор не шли у него из головы. Такие истории он обычно всегда пересказывал Тэте – ты не поверишь, что мне только что рассказали вампирши! – но это если они не были в ссоре. Вдобавок он уже на двадцать минут опаздывал, потому что имел неосторожность прикорнуть на минуточку (на слишком краткую минуточку!), не в силах бороться с сонливостью. Во сне Луи махал ему с палубы «Элизиума», бороздящего кофейные воды Миссисипи. Генри изо всех сил пытался дотянуться до корабля, но проклятые вьюны разрослись так густо, что перекрыли ему дорогу. А потом их плети полезли вверх по телу, обвились вокруг шеи, и он проснулся полузадушенный.
Грохнула театральная дверь, голова Уолли медленно повернулась на толстой шее.
– Так, так, так, – молвил он, глядя на Генри через весь зал. – Уж не мистер ли это Генри… Дюбуа… Четвертый. Фанфары! Всем петь!
– Пр-рости, Уолли, я… я плохо себя чувствовал и, кажется, заснул.
– Многовато ты себя в последнее время плохо чувствуешь, – вздохнул Уолли.
– Ну, прости. Я уже в полном порядке.
Генри скользнул на свою табуретку за роялем и вытер рукой мокрый лоб. Подмышки и грудь рубашки пошли темными пятнами от пота. Остальной играющий состав и обслуживающий с ним вместе сгрудился вокруг Тэты, поздравляя ее с новой сенсационной статьей – «Русская Княжна в Шоу Зигфельда».
– Ну, теперь, когда мы все здесь, – c нажимом возвестил Уолли, – давайте пройдем «Страну Мечты» с первой цифры.
Танцовщицы рассыпались по позициям, подтягивая шаровары и проверяя чечеточные туфли. Все страхи Генри испарились, уступая место радостному возбуждению. Он раскрыл ноты. Наконец-то его песню взяли в шоу! Пальцы вспорхнули над клавишами, волнение улетучилось, он заиграл. Девушки-хористки запели, задорно колотя подметками в пол:
Все мечты твои станут явью, Не горюй, ведь со мною ты, Пой тра-ла, тра-ла-ла И бежим скорее в Страну Мечты!Дыхание у него сперло, будто Генри дали под дых. Песня была кошмарна… Его песня… И они испортили ее у него за спиной! Генри оборвал мелодию.
– В чем дело? С ритма сбился? – ядовито поинтересовался Уолли. – Или тебе снова дурно?
Генри ткнул в партитуру.
– Это не мои слова. Где та песня, которую я написал?
– Ну, Герби ее малость пригладил.
– Она была недостаточно отделана. Я придал ей чуть-чуть живости и энергии, – сообщил с заднего ряда Герби Аллен, восседавший там с таким видом, словно он сам мистер Зигфельд.
На сцене все застопорилось.
– Да в чем дело-то? Мы репетируем или нет? – вопросила одна из девиц.
Уолли погрозил ей пальцем.
– Генри, играй песню.
– Нет, – сказал Генри; слово это так редко бывало у него на языке, что ощущение оказалось на редкость удивительным. – Я хочу играть мою песню.
По шеренге хористок пробежал шепоток.
– Всякому рано или поздно бывает нужна помощь. Не принимай это на свой счет, старина, – проронил вальяжно Герби.
Генри вообще-то не был склонен к насилию, но тут испытал непреодолимое желание хорошенько врезать Герби по самодовольной роже.
– А как мне еще это воспринимать, Герберт, когда ты надругался над моей песней?
– Ну, послушай, парнишка…
– Я тебе не парнишка, – прорычал Генри.
Играющий состав молча переводил глаза с Генри на Уолли, на Герберта и обратно.
Внезапно с самого заднего ряда прогудел голос мистера Зигфельда.
– Мистер Дюбуа, вы – репетиционный аккомпаниатор. За музыкальные интерпретации я вам не плачу.
Импресарио промаршировал по центральному проходу и встал посреди зала, как капитан бунтующего корабля на мостике.
– Нет, мистер Зигфельд. Я – композитор. И мои песни гораздо лучше вот этого дерьма.
Какая-то хористочка со Среднего Запада отчетливо ахнула.
– Простите мою лексику, – быстро добавил Генри.
Мистер Зигфельд наградил его суровым взглядом.
– Ваше время еще придет – если вы научитесь себя вести, мистер Дюбуа. А теперь вернемся к нашему номеру. Нам еще целое шоу репетировать.
И великий Зигфельд повернулся к сцене спиной. Танцовщицы быстро стасовали порядки и встали в композицию. Вот и все, Генри только что указали его место, и спорить тут не о чем.
Ты поступишь в юридическую школу. Ты будешь чтить имя семьи. И ты больше никогда не увидишься с этим мальчиком, прогремел у него в голове голос отца.
– Мистер Зигфельд! – позвал Генри, подымаясь с табуретки. – Вы все говорите, что добавите еще моих песен в шоу, но что-то удача меня упорно минует. Она почему-то все время поворачивается к кому-то другому.
– Генри… – начала было Тэта, но предостерегать его уже было поздно.
– Я устал ждать, сэр. Если вы не хотите моих песен, что ж, надо полагать, я и сам вам не нужен. Раз так, я собираю вещи и отчаливаю.
Великий Зигфельд даже с кресла не встал.
– Желаю удачи. Но рекомендаций вы от меня не получите.
Тэта процокала на авансцену на своих чечеточных каблуках и приставила ладонь козырьком к глазам, чтобы спастись от яростного театрального света.
– Он просто устал, Фло. Он вовсе не это имел в виду.
– Не смей говорить за меня, Тэта. Я сказал то, что хотел.
– Вы можете быть совершенно свободны, мистер Дюбуа. Герби, не поиграешь нам немножко? Уолли, c первой цифры.
И музыкальный кошмар начался по новой.
Генри вихрем пронесся по проходу и вылетел из дверей на шумную Сорок Вторую. Громадная вывеска полыхала у него над головой; черные буквы в фут высотой возвещали «СОВЕРШЕННО НОВОЕ РЕВЮ».
– Совершенно новое! – проорал Генри в лицо прохожему, который воззрился на него, как на полного психа. – Так и есть, парни! Подходите! Наддайте! Мы знаем, что вы раз, два, и соскучились. Игрушки уже не блестят, не радуют. Даже сейчас вы спрашиваете себя: ну и что дальше? что я пропустил? насколько важным я себя с этого почувствую?
Все это машина, которую только кормить и кормить – Генри ненавидел машину и ненавидел себя за то, что хотел людского восхищения, которое она ему так щедро обещала. Как будто сам он ничего не стоил, если никого нет рядом и некому аплодировать.
– Ген! – Тэта выбежала следом прямо в своем скудном, зато очень блестящем сценическом одеянии. – Ген! Да что с тобой такое? Ты совсем спятил? Ты только что потерял работу!
– Я в полной мере осознаю этот факт, милая барышня, – попробовал пошутить Генри, но слова крошились, как сырой мел.
– Ты должен извиниться перед Фло. Скажи, что ты несколько ночей не спал и совсем потерял голову. Он возьмет тебя назад.
Гнев Генри был живой тварью, змеей у него в руках. Сколько раз ему приходилось душить в себе чувства, лишь бы кто-то другой был счастлив? Сколько раз он отрекался от собственных нужд ради чьих-то еще? Неважно, больше он этого делать не станет. Не в этот раз. И не когда речь идет о такой важной вещи, как музыка.
– Так вот что я должен сделать, да, Тэта? Вернуться туда, держа смиренно шляпу в руках, снова попросить подачки, притвориться, что я никто, и быть благодарным за то, что мне кинут с барского стола? И всякий раз, как уродские песенки Герби пролезут в шоу вперед моих, глотать это и говорить спасибо? На это мне стоит тратить свою жизнь? На то, чтобы вежливо улыбаться, когда Уолли дает этому кретину измываться над моей музыкой, а меня даже не спрашивает?
– Это всего лишь вопрос времени…
– Я. Устал. Притворяться, – Генри закинул голову, и буквы вывески поплыли у него перед глазами. – Они никогда никуда меня не возьмут, Тэта! – закричал он.
К крикам Генри не привык. Жизнь с отцом приучила его держать все внутри, под замком. Но сейчас оно все рвалось наружу, как содержимое переполненного шкафа.
– Ты что, не понимаешь? Я не вписываюсь. Песни, которые я пишу – это совсем не те песни, которые они хотят слушать. Все это время я пытался понять, чего они хотят, и дать это им. Я больше не хочу тратить на это время, Тэта. Мне нужно понять, чего хочу я, и это-то и писать. Те песни, которые люблю я. И если я один в целом свете буду их петь, пусть, так тому и быть.
Генри быстро вытер глаза, сунул обе руки под мышки и отвернулся от нее.
– Ген, никто не верит в тебя в этом мире больше, чем я. Но вот прямо сейчас тебе реально нужна работа. Я просто говорю тебе правду.
Это было прямо и в лоб, c Тэтой всегда так. Это свойство он в ней всегда особенно любил. Но вот прямо сейчас оно привело его в бешенство.
– Ну, раз это правда и раз мы сейчас тут все ее говорим, – рявкнул он, так и оскалившись на «правде», – почему бы тебе не пойти сейчас туда и не сказать Фло о Мемфисе? А что, можно еще в газеты позвонить и дать им эксклюзивное интервью: «Фальшивая русская княжна и ее роман с черным гарлемским поэтом».
На мгновение у Тэты отвалилась челюсть. Знатный удар, причем ее же оружием. Потом хорошо отрепетированная холодность опустилась на ее черты, как жалюзи на витрину закрытого магазина.
– Не все мы живем в снах, Ген. Кому-то приходится обитать и в этом мире. Каким бы нечестным он ни был.
И она унеслась обратно в театр, грохнув за собой дверью.
– Ну, и черт с тобой, – проворчал Генри.
Поезд тронулся рывком и покатился сквозь темные подземные мили. Генри прислонил голову к холодному стеклу. Он, правда, только что ушел из зигфельдовского ревю? Кажется, да. Каждый мускул у него в теле ныл. Во рту кислило кровью; он пробежал языком по растресканным губам. Когда же он успел так измотаться? Спать надо все-таки больше. Поезд мягко покачивался, тьма и измождение окутали Генри; веки его сомкнулись.
Он резко вздернул голову. Подбородок холодила струйка слюны. Он поспешно вытер ее, и немолодая леди рядом улыбнулась.
– Вам стоило бы побольше спать, молодой человек, – матерински пожурила она.
– Ох, мэм, боюсь, вы правы.
Поезд внезапно встал между станциями, и Генри со вздохом принялся ждать, пока где-то там разберутся с проблемой. Низкий гул состава проник ему в хребет и пополз вверх. Странный это был звук, какой-то не совсем механический. Как бы даже животный, будто далеко в тоннеле гудел рой. Снаружи что-то мелькнуло. Свет в вагоне лишал заоконную тьму глубины, так что сначала Генри видел только свое отражение. Он приник лицом к стеклу. На параллельных путях стояла девушка. Вернее, сидела на корточках, задрав коленки и уперев в них руки, готовая прыгнуть. В бледном рабочем свете она казалась почти седой.
Генри оглянулся, но никто больше в поезде не заметил странной девицы на путях. Он повернулся обратно к окну и уткнулся в стекло, приставив ладони к вискам, чтобы убрать лишний свет. Голова девушки резко дернулась: она увидела его, челюсть отвалилась и тут же захлопнулась, гнилые зубы-иголки щелкнули, злобно укусив воздух.
Усыпляющее гудение вернулось и выросло до пронзительного боевого клича.
– В-вы это видели? – обратился Генри к другим пассажирам.
– Что видели, Генри? – не поняла пожилая леди.
– Ну, ту девушку на пу… – Сердце у него ударилось о ребра и замерло. – Отк-к-куда вы знаете, как меня зовут?
Леди обернулась женщиной под вуалью.
– Сон… со мной… – пророкотала она.
Во тьме тоннеля пасть призрачной девушки шарнирно откинулась, и из глубин ее утробы поднялся нечеловеческий вопль; она напружинилась и прыгнула в сторону поезда.
– Прочь, прочь от меня! – заорал Генри, вскакивая с места.
Бизнесмен отпрянул, поднимая руки:
– Вам снился кошмар. Я пытался вас разбудить.
Генри выбросил вперед руку, цапнул его за рукав и хорошенько помял.
– Эй-эй! – джентльмен поскорее отодвинулся. – Что вы себе позволяете!
– Вы не сон, – проинформировал его Генри. – Вы реальный.
Он облегченно засмеялся. Рубашка его пропотела насквозь.
Остальные пассажиры уставились на него. Мать прибрала поближе маленького сына.
– …пьяный, наверное…
– …а то и больной…
Поезд с шипением вырвался на станцию «Фултон-стрит», и до Генри дошло, что он проспал свою остановку. Под землей он не мог оставаться больше ни минуты; стоило дверям открыться, как он пулей вылетел наружу и кинулся вверх по лестнице в дневной мир, встретивший его ударом ледяного воздуха и напомнивший, что сейчас он, по крайней мере, не спит.
– Срочно в номер! – вопил мальчишка-газетчик. – Принцесса с Пятой авеню подхватила сонную болезнь! Мэрия заявляет, что пришло время крутых мер!
Генри швырнул ему пятицентовик.
– Эй, можешь дать мне под дых?
Паренек заморгал.
– Ты, что ли, от работы отлынить хочешь, а, мистер?
– Просто врежь мне, ладно?
Тот послушно воткнул кулак ему в живот. Генри согнулся, закашлялся.
– Так. Точно не сплю. Спасибо, малыш. Я твой должник.
Тот покачал головой.
– Заходите, если что.
К тому времени как Генри добрался до «Чайного дома», он уже весь дрожал.
– Да что с тобой случилось? – спросила Лин и немедленно налила ему чаю.
– Дурные сны, – сказал он, грея руки о горячую чашку. – Зато я разузнал о нашей таинственной незнакомке.
Он поделился с нею откровениями насыщенного утра в компании сестер Проктор.
– Так Энтони, Оранжевая и Крест – это улицы! – протянула пораженная Лин. – А ведь Джордж тоже привел меня на этот самый перекресток.
– Отлично. Я весь внимание. Поведайте же мне, что это значит, мадемуазель Чань.
Лин отсутствующе постукала ложечкой по чашке.
– Корабль Вай-Мэй пристает в Сан-Франциско завтра. Надо полагать, Джордж пытался предупредить меня, что и ее ждет та же судьба. И что ей понадобится помощь, чтобы избежать горькой участи.
– Но что же нам делать?
– Надо сказать Вай-Мэй. И сегодня же. Она должна знать.
– Не завидую твоей миссии, – заметил Генри, снова залезая в пальто.
– Она будет в отчаянии, – сокрушенно кивнула Лин.
– И, боюсь, не она одна, – мягко сказал Генри, и Лин чуть не разревелась.
Она очень привязалась к Вай-Мэй и до сего момента сама не понимала, как ждет, что та приедет в Нью-Йорк, что они с ней станут подругами… Теперь вся перспектива повисла в воздухе.
В дверях Генри остановился.
– И все-таки я до сих пор не понимаю, какое отношение ко всему этому имеет Пневматическая транспортная компания Бича. И при чем тут наша старая станция… Как-то оно все не складывается.
– Я же не могу знать все, – покачала головой Лин.
– Какое облегчение, – осклабился Генри.
– Генри… – начала вдруг она и осеклась.
Ужасное предчувствие беды вдруг накрыло ее – ни с того ни с сего; непонятно, куда его приткнуть.
– Да, дружочек?
– Нет, ничего… Сегодня в то же время?
– О-че-лют-но! – сказал Генри, наслаждаясь тем, как сердито Лин поджимает губы.
Довольно, чтобы нас спасти
Во сне, который ее наконец, поймал Аделаида Проктор была семнадцатилетней девушкой с вызолоченными летним солнцем волосами. А еще там был большой дом, и колодец, и фургон, в котором папа возил их по воскресеньям в город. Все, как она помнила… когда она позволяла себе роскошь помнить. Ностальгия, как и морфин, лучше всего в малых дозах. Сквозь ткань сна плыло пение – сладкий девический голос, к такому ее слух был непривычен. Песня была – сама утонченная мука, словно вереница нот длинной лозой пробиралась в душу и сплеталась усиками с ее сокровенной жаждой. А душа Адди полнилась жаждой. Она была просто готова разорваться.
– Элайджа, – сказала Адди, называя жажду по имени.
И словно по мановению волшебной палочки, он оказался рядом – тенью на краю кукурузного поля, за которым вздымался шпиль старой церкви.
– Освободи меня, Аделаида, – прошептал он.
Раньше она не могла этого сделать – а теперь не хотела об этом даже думать; теперь, когда возлюбленный стоял подле нее, а жажда была сильна как никогда.
– Ты сделаешь это для меня, Адди? Сделаешь?
– Да, – прошептала она с лицом, мокрым в лунном свете. – Все, что ты хочешь. Все.
Во сне Аделаида Проктор встала с кровати и прошла к туалетному столику. Она открыла ящик, вытащила музыкальную шкатулку, повернула ключик и улыбнулась, когда крошечная французская балерина закружилась под сладкий перезвон песенки, популярной еще до Гражданской войны. Адди помнила, как последний раз танцевала с Элайджей, как он взял тогда ее руку и вывел в центр круга… Какой же он был тогда красивый, как улыбался ей через весь зал, ожидая, пока остальные пары пройдут свои фигуры. C каким нетерпением она ждала повода еще раз коснуться его руки.
Адди прошла в темную гостиную. Человек в цилиндре сидел в моррисовском кресле. Его ломаные, c грязной каймой ногти так и выстукивали по деревянному подлокотнику: раз, два, три… раз, два, три… Он дружески кивнул Аделаиде.
– Освободи меня, любовь моя… – сказал у нее в голове Элайджа.
Аделаида Проктор, все так же не просыпаясь, вышла из квартиры. Лампы в коридоре мигали, пока она шла мимо. В конце коридора располагался мусоропровод, выводивший внизу в мусоросжигательную печь. Она потянула за рукоятку; распахнулась металлическая пасть, голодная, жаждущая. Аделаида сняла с железного ларца крышку и один за другим побросала его содержимое в бездну: сначала пальцевой сустав, потом зуб, потом прядку волос. Потом погладила ферротипию Элайджи, не решаясь расстаться с нею даже во сне, – но, наконец, бросила и ее и постояла, слушая, как она громыхает вниз по шахте.
Мурлыкая песенку музыкальной шкатулки, Аделаида Проктор проскользнула обратно, в свою затопленную луною квартиру, проковыляла через ватагу тревожно мяучащих и трущихся о ее ноги котов, и улеглась в постель, где погрузилась в объятия того совершенного мира, что был ей обещан на другом берегу сна. И ей приснились солдаты и свет, льющийся сквозь ветви дерев, как электрический дождь, и человек в цилиндре хохотал, а они кричали, кричали, и повсюду была только смерть.
Пророк и пророк
Нью-Йорк – город, где туго с терпением, чистотой, мягкой погодой и неопределившимися во мнении гражданами. Зато в нем точно нет проблем с теми, для кого «сделать карьеру» значит «стать знаменитым любой ценой». Ритуал разрезания ленточек как раз для таких случаев и создан. Мистер Зигфельд рекрутировал самую знаменитую пророчицу Нью-Йорка вместе с ее хахалем открыть его новый, шикарный Театр Зигфельда со сногсшибательным новым ревю «Пророческий раж». Мэр Джимми Уокер тоже там, разумеется, был, и самые крупные звезды сцены. Не обошлось и без Т.С. Вудхауза с его самодовольной рожей.
– Эй, Сэм, – он небрежно подвалил к звезде вечера и облизнул карандаш. – Славный денек для ленточек. Чего это у тебя такая вытянутая физиономия? Вы с невестой часом не поссорились, а?
– С чего бы это? – осведомился Сэм, не доверяя репортеру ни на йоту.
– Ох, ну, мне-то откуда знать. Молодая любовь не знает сна и покоя, – улыбнулся Вудхауз отнюдь не теплой улыбкой. – Скажи-ка мне лучше, как такой парень, как ты, очутился рядом с дамочкой вроде Эви О’Нил?
– Это на что это ты намекаешь? – Сэм ответил ему точно такой же улыбкой, но глаза у него были каменные.
– Ей больше пристало раскатывать в машинах с пригожими мальчуганами из Гарварда или с нефтяными баронами из Техаса, у которых денег побольше, а мозгов поменьше.
Сэм сунул руки в карманы и смерил его гневным взглядом.
– Мою Котлетку такое барахло не интересует.
Взгляд Вудхауз с честью выдержал.
– Сдается мне, ты прав. А вот еще есть один любопытный слушок о вас с Котлеткой…
– Да ну? И какой же?
– Что весь ваш роман выдуман отделом рекламы Даблъю-Джи-Ай.
– Исчезни, Вуди, – Сэм решил, что с него, пожалуй, хватит. – Если бы тебя вообще стоило знать, ты уже давно вылез бы повыше на первые полосы, а не забивал бы гроши, сплетничая о шейхах и шебах в «Дейли». Радио скоро всех вас, новостников, ногами забьет. Так что иди, ищи себе новую работу.
Вальяжная улыбка Вуди вмиг замерзла.
– Ну да? И о чем мне, по-твоему, стоит писать? О бутлегерах? О букмекерах? Или, может, о тайных правительственных программах, вроде проекта «Бизон»?
Из Сэма внезапно выжали весь воздух.
– Что ты знаешь о проекте «Бизон»?
– Да что же может знать такой тупарь, как я?
– Где ты услышал про проект «Бизон»? – наседал Сэм.
– О чем вы тут толкуете? – сияя, поинтересовалась Эви.
Вудхауз побегал глазами с Сэма на Эви и обратно, потом улыбнулся.
– Просто прикидываю, какой заголовок завтра лучше пойдет: «Сэм-энд-Эви: пока искрят» или «…доискрились»?
– Это ты ему сказала про проект «Бизон»? – свирепо уставился на нее Сэм.
– Я… это совсем не то, что ты думаешь, Сэм.
– Упс. Неужто из-за меня в любовном гнездышке разгорелась ссора? – воскликнул победоносный Вуди, вытаскивая карандаш. – Вы желаете сообщить что-нибудь вечернему выпуску?
Сэм схватил Эви за руку и дернул ее к краю помоста.
– Как ты могла ему разболтать? Я же предупреждал: никаких репортеров! Эви, ты обещала хранить этот секрет: только ты и я, забыла? А я ведь тебе доверял… – тихо и злобно прошипел Сэм.
– Сэм, давай поговорим об этом попозже, – голос Эви приветливостью не уступал его. – Я все объясню, но сейчас… – Она кивнула на собравшуюся толпу: – Люди же смотрят!
– Ах да. Люди. Понятно. Нельзя разочаровывать обожателей, да? – К гневу прибавилась обида; Сэм мало кому доверял, но доверился ей… – О’кей. Знаешь что? С меня хватит. Пора уже взорвать эту кучу лжи раз и навсегда. Сказать по правде, меня уже задрало каждую ночь таскаться по вечеринкам. И играть твоего фальшивого жениха тоже задрало. Я устал от тебя, Эви. Просто устал.
Секретарша махала им рукой.
– Мисс О’Нил? Мистер Ллойд? Вы нам нужны!
– Сэм… ну, пожалуйста, – Эви потянулась к нему, но он сунул руки в карманы.
– Давай уже кончать со всем этим, – сказал он и шагнул прочь.
Девушки Зигфельда отплясали танцевальный номер на пророческие темы. Тэта выложилась по полной, но даже ее талант был не в состоянии вытащить бездарную песенку (Сэм понадеялся, что это не Генри ее написал). Уголком глаза он видел, как Эви нервно таращится в его сторону. Выглядела она жалко. Может, не стоило с ней так жестко, но он правда не мог сдержаться. Проект «Бизон» – это его жизнь, не ее. Сэм был ужасно зол. Она же знала, что все это для него значит! Как она могла с ним так бесцеремонно…
Танцовщицы очистили площадку. Мистер Зигфельд сказал несколько слов; дальше надо было выпускать Эви с Сэмом.
– Что и сказать, это было дико пухло, мистер Зигфельд, – зачирикала она в микрофон. – Не нужно быть пророчицей, чтобы предсказать: это шоу – форменные слонячьи брови!
– Ну, разве она не изумительна! И этот ее счастливчик, мистер Сэм Ллойд! – мистер Зигфельд показал на него; счастливчик мистер Ллойд вяло помахал.
Он подошел и встал рядом с Эви, но разделявшие их мили никуда не делись.
– Эви! Сэм! Эви! – наперебой заорали репортеры.
Некто Т.С. Вудхауз раз за разом поднимал руку. Эви щедро отвечала на вопросы других, но на него даже не глядела.
– Эй, мисс О’Нил, у меня такое странное впечатление, что вы меня игнорируете. Я как-то весь в недоумении, – проорал наконец он; в толпе захихикали.
– Да вас попробуй проигнорируй, Вуди, – безо всякого радушия отозвалась Эви.
– Я про тот глупый слушок, который бродит по городу: типа вдруг ваш роман с Сэмом – просто фикция? Читатели «Дейли ньюс» хотят знать: вы, голубки, правда влюблены друг в друга или это все сварганенный Даблъю-Джи-Ай коварный план, чтобы на страницах не просыхала краска, а на радио текли денежки?
В толпе забормотали.
– Странно было бы ожидать, что вы разбираетесь в настоящей любви, мистер Вудхауз. Да вы что угодно превратите в дешевку, – дерзко парировала Эви, однако Сэм расслышал у нее в голосе панику. – Сэм и я c ума друг по другу сходим.
– Да-а-а? – оскалился Вудхауз. – Наверное, поэтому вы стоите так близко.
Как по команде, рука Эви кинулась искать руку Сэма; та ей навстречу не пошла.
– Ах, ну да. Настоящая любовь, – сказал Вудхауз очень сложным голосом; ремарка, впрочем, сделала свое дело.
– Когда свадьба-то? – закричали из толпы.
– Да, когда же свадьба? – подхватил какой-то журналист. – Вы так и не сказали. Или никакой свадьбы нам не светит?
– Сэм, ты волнуешься по поводу большого дня? – встрял другой.
Сэм в первый раз взглянул на Эви. Она смотрела на него расширенными глазами, стиснув платок в кулачке. Чертова шарада значит для нее всё, он это прекрасно знал – вон она даже губу прикусила, будто просит безмолвно: только не испорти мне все! Сэм, конечно, понимал, на что шел, когда ввязывался в этот фальшивый роман, но где-то по дороге его чувства успели измениться. Теперь ему хотелось большего. Он опустил перед ней мост, снял защиты, а она… продала его с потрохами. Сейчас, в эту самую минуту, он мог отплатить ей тем же самым. Одно слово правды про их выдуманные отношения… и поделом ей.
– А кто бы на моем месте не волновался? – проронил он, отводя глаза.
Они сыграли все, что им полагалось. Они махали толпам, выкрикивающим их имена, напиравшим на полицейские заграждения в надежде разглядеть небожителей получше, тянувшим руки, чтобы поймать хоть отблеск их славы.
– Мисс О’Нил, надеюсь, ничего дурного вы с них не считаете, – пошутил мэр Уокер, протягивая Эви ритуальные ножницы для разрезания ленточек; новый театр Зигфельда жаждал открытия.
– Ну, поехали! – Эви лязгнула железом поперек бантика, и ленточка распалась; толпа встретила это событие восторженным воем.
А где-то в ее гуще человек с загнанным лицом и пустыми глазами, одетый в потрепанную военную униформу, толкал свое кресло на колесах к ярко освещенной платформе, что-то бормоча себе под нос и врезаясь в людей на каждом шагу. Люди расступались, ругаясь.
– Смотри, куда прешь, парень, – прорычал какой-то мужчина, но солдат его даже не услышал.
– Время пришло, время пришло… – твердил он, неуклонно продвигаясь вперед.
Там, впереди, Эви отступила в сторону и милостиво приняла от фаната букет цветов.
– Время… время пришло, – лихорадочно прошептал солдат и полез в карман за револьвером.
Все взгляды были прикованы к Эви, которая посылала толпе воздушные поцелуи.
Солдат поднял пистолет. Оружие дрожало в его руке.
– Время пришло, – простонал он.
Улыбка Эви сияла все так же ослепительно, когда она наконец повернулась в его сторону. Она увидела пистолет у него в руке, но не совсем поняла, что это такое: c тем же успехом он мог держать, скажем, рыбу… или альбатроса. Реакции Сэма оказались быстрее. Время вдруг стало ужасно медленным и вместе с тем невероятным образом обострилось. Кровь ударила молотами в уши, отсекая вскрики остолбеневшей публики. Даже и сами люди как-то растворились: остались только Эви, человек в кресле и револьвер. Сэм был слишком далеко, чтобы схватить его раньше, чем он выстрелит, да и думать особо было некогда. Сэм оттолкнул Эви и простер руку в сторону солдата.
– Ты меня не видишь, – прорычал он, вложив в это движение каждую унцию своей воли.
В тот же миг его будто камертоном ударили; все тело задрожало от усилия, колени подогнулись, но Сэм устоял.
– Ты. Меня. Не. Видишь.
Сбрендившие глаза солдата опустели, лишившись всех остатков сознания, как у сомнамбулы. Тут уже Сэм прыгнул вперед и вырвал револьвер из его грязных пальцев. Несколько зевак поближе к нему тоже попали под раздачу и остекленели, задрав голову, устремив взор в небо и погрузившись в какую-то личную грезу.
Зато остальная благодарная публика не упустила ничего.
Полиция пробилась к платформе и окружила все еще оглушенного агрессора. Аудитория неудержимо дрейфовала от озадаченности к изумлению: они что, правда видели все это своими глазами? Шепот превратился в ропот, ропот – в крики. Люди хлынули вперед отовсюду сразу.
– Что? Что? Что там такое происходит?
– Там Сэм Ллойд происходит! Он только что спас жизнь Эви О’Нил!!
Подробности переходили из уст в уста, c замиранием сердца, притягивая все новые уши. Люди запрудили все тротуары, перекрыли уличное движение. Таксисты отчаянно давили на клаксоны и махали в открытые окна кулаками; полицейские тщетно пытались сдержать набухающую толпу, пока события окончательно не вышли из-под контроля.
– Я только что правда это видел? – спросил один репортер у другого.
– Он прямо заклятие на того парня наложил, типа как загипнотизировал его! – возбужденно отвечал тот.
– Он тоже пророк! – завопила из задних рядов какая-то леди.
– Он пророк! Пророк! Пророк!
Все выкрикивали вопросы, напирали, орали что-то радостное, хлопали, скандировали Сэмово имя. Полыхнула фотовспышка, следом другая. Эви прикрыла рукой глаза, которые резало светом. Даже профессиональный оскал Т.С. Вудхауза сменился чем-то больше похожим на удивление.
– Эви, вы знали? Вы знали, что ваш парень – тоже пророк? – допытывался репортер светской хроники.
Эви смотрела на Сэма; в глазах ее блестели слезы.
– Я…
– У нее же шок! Расступитесь, ей не хватает воздуха! – закричал кто-то.
– Ничего она не знала, – громко и твердо заявил Вудхауз и повел рукой в воздухе, словно заменяя завтрашнюю передовицу новой: «Провидица не провидела, что ждет Душечку».
– «Любовь пророка и пророчицы»! – в экстазе завопил кто-то из журналистов.
Снова вспышка – как удар клинка.
– Сэм, скорее, обними ее!
Никогда еще Эви не видела его таким – растерянным, напуганным, сбитым с толку. Рубашка его пропотела насквозь, он скверно выглядел, будто вот-вот мог лишиться чувств. Ее до сих пор пошатывало от возбуждения, но через шок уже пробилась мысль: Сэм сделал это ради нее. Он рисковал жизнью, чтобы спасти ее, Эви. Она продела свою руку в его, удержала. Никто не видел, как она мягко разжала ему кулак. Никто не видел, как сплела пальцы, притянула к себе. Толпа на Шестой авеню уже полностью заблокировала движение. Полиция сдалась и теперь перенаправляла автомобили на соседние улицы. Мэр, воздев обе руки к небу, успокаивал собравшихся, призывал к тишине.
Сэм рядом с нею содрогнулся.
– Спокойно, я держу тебя, – тихонько сказала она, перекидывая его руку себе на талию, чтобы он схватился за нее, как за спасательный круг.
Зрителей это привело в восторг, они закричали, захлопали, засвистели. Она чувствовала, как колотится его пульс.
– Он бы тебя застрелил, – пробормотал Сэм как в полусне. – Я должен был его остановить.
Репортер подскочил прямо к ним, полез в лицо.
– Эй, герой, смотри сюда!
– А ну, оставь его в покое! – прорычала Эви, отталкивая нахала.
– Ну, Эви! Твой красавчик сегодня – самая большая новость!
– Сейчас он – не про тебя добыча! – попробовала она защитить Сэма, но на них напирало слишком много народу, и она упустила его руку.
– Сэм! – закричала Эви, но восторженная толпа уже поглотила его.
Мужчины подняли Сэма в воздух, на всеобщее обозрение, и человеческое море хлынуло прочь по Шестой авеню, как церковное шествие со статуей святого.
Полиция потащила солдата прочь, поперек течения; люди шипели, шикали и плевали на него, проходя мимо.
– Не надо!.. Не надо им было этого делать!.. – бессвязно выкрикивал он.
– Эви! Эви! Эй, брысь с дороги – там моя подруга!
Эви обернулась: к ней с обезумевшим лицом мчалась Тэта.
– Ох, Эвил! Как ты, в порядке, детка?
И тут Эви наконец разрыдалась и дала Тэте схватить себя в объятия.
Весь день Эви искала Сэма. Она даже в музей заскочила, где дверь, к немалому ее удивлению, открыла Мэйбл.
– Здорово, Мордочка! А Сэм тут?
– Нет. Подождешь его?
Через голову Мэйбл она заметила в полумраке холла Джерико. Он тоже ее увидел и поспешно удалился в библиотеку, даже не поздоровавшись.
– Нет, спасибо. Если увидите Сэма, скажите ему, что я его искала, и пусть он мне позвонит в «Уинтроп» или в Даблъю-Джи-Ай.
– Непременно. Эй, все в порядке?
– Искренне надеюсь, что да.
Последнюю попытку она сделала под занавес радиошоу.
– Это Провидица-Душечка с посланием для Сергея: прости и приходи, пожалуйста, домой. Да, под домом подразумевается «Никербокер»[52].
В Даблъю-Джи-Ай настолько обалдели от новости, что Сэм – пророк, что настояли на немедленной вечеринке в его честь в отеле «Никербокер». Секретари и связистки весь день после обеда провисели на телефонах и почти выжгли линии дотла, приглашая на мероприятие всю пухлую публику города и всех репортеров с длиной колонки больше дюйма. За полчаса до полуночи бальный зал отеля был набит под завязку. Сэма среди публики не было, и сердце у Эви покатилось в пятки.
Она стояла, слушая в четверть уха тучного фрачника, гундосящего что-то про фондовый рынок – …самое безопасное на земле место для вложения ваших денег. Вкладывайте все, до последнего цента – и сегодня же!.. – когда коридорный подал ей записку на серебряном подносе.
– Послание для вас от мисс Анны Полотник.
Эви разорвала конверт. В записке значилось просто: «Крыша. Сейчас».
– Вы, конечно, меня извините, – сладко пропела она.
Грациозно утанцевав из комнаты, она подобрала подол и бегом ринулась к лестнице.
– Вот ты где! – она, тяжело дыша, вывалилась на отельную крышу. – Я тебя везде искала!
– Поздравляю. Ты меня нашла, – Сэм оперся руками о широкий каменный парапет. – Как там вечеринка?
– Как обычно. Жарко и серебряные соусники повсюду. Тебе не холодно?
– Холодно.
– Пойдем внутрь?
– Нет.
– С тобой все в порядке?
– Ага.
– Ты врешь?
Сэм пожал плечами и уставился на зазубренный очерк города. Было ясно, что вниз он не пойдет, так что Эви сунула в дверь сумочку, чтобы та ненароком не захлопнулась, подошла и встала рядом с ним. Ниже их выставленные Даблъю-Джи-Ай прожектора полосовали раскаленными белыми лезвиями ночь, обливая ослепительным светом все, до чего дотрагивались.
– В тот раз, когда мы пошли в «Гробницу» на Джейкоба Колла, – тихо сказала Эви, – полицейский посмотрел прямо на нас, но ты поднял руку, и он нас как будто не увидел. Словно под шапкой-невидимкой.
Сэм не ответил.
– И долго?
Он пожал плечами.
– Никогда не знаешь. Зависит от того, насколько внушаемый человек. Бывало, что секунд на двадцать хватало, а кто-то, наоборот, сразу же выскакивал. Меня, можно сказать, на горячем ловили. Обычно секунд десять-двенадцать. Достаточно, чтобы стырить и смыться, если ты достаточно быстр. А я – да.
– Я имела в виду, сколько времени ты уже умеешь проделывать этот трюк?
– С детства. Одиннадцать мне было, может, двенадцать. Мы переехали в суровый район Чикаго. Мальчишки постарше меня задирали: за то, что я еврей, а еще костлявый и мелкий. Никакого способа не было справиться сразу со всеми. Но стоило мне понять, что я вот такое могу, – он выбросил руку вперед, – …это как спрятаться на виду у всех, понимаешь? Как будто я больше не мелкий слабак в полной их власти. В первый раз в жизни я почувствовал себя сильным.
– Почему ты не сказал раньше – когда узнал про меня?
Сэм длинно и грустно вздохнул.
– Я хотел сохранить это в тайне, пока не найду маму.
– Но теперь это больше не тайна.
– Да, видать, больше нет.
– Почему ты сегодня это сделал?
– Ты меня серьезно спрашиваешь? – Сэм посмотрел на Эви, и она вдруг поняла. «Ты-меня-не-видишь» – это не просто талант Сэма-пророка; это вся его картина мира. Он так жил – прячась, позволяя людям себя увидеть, только когда он этого хотел. Вся его жизнь была сплошная ловкость рук. И сейчас он поставил ее на кон – целиком. Ради Эви.
– Я… спасибо, что спас мне жизнь, – тихо сказала она.
Лицу было горячо, в голове кружилось. Она слишком боялась встретиться с Сэмом глазами и просто стояла рядом, глядя на подмигивающий город.
– Мне ужасно жалко, что я сказала Вуди. Клянусь, я думала помочь тебе, Сэм.
Он вздохнул.
– Я знаю. Может быть, эта крыса и правда раскопает что-то полезное. Тот солдатик наверняка совсем сбрендил. Контузия, послевоенное ку-ку и все такое.
– Наверное, – сказала задумчиво Эви. – Самое смешное, что я его знаю. По крайней мере, раньше встречала.
– Что? – Сэм резко развернулся к ней. – Когда?
– В мою первую неделю в Нью-Йорке. А потом давеча после радиошоу. Попробовала положить ему в чашку денег, так он схватил меня за руку…
– Куколка, надо было сказать мне!
– Да ну, пустяки…
– Никакие это не пустяки. Уж сейчас, по крайней мере, точно.
Эви отвернулась и облокотилась на камень, глядя в ночное небо. Дым и пар из каких-то невидимых труб несло мимо гигантскими развевающимися лентами. Звезды слабо подмигивали сквозь вечную неоновую дымку Нью-Йорка.
– Так что случилось, когда он схватил тебя за руку? – вернул ее на землю Сэм.
– Он сказал: «Я слышу, как они кричат. Иди за глазом».
– Иди за глазом… – задумчиво повторил Сэм. – Думаешь, он имел в виду тот символ глаза, который мы видели на маминых бумагах?
– Да откуда же ему о них знать?
– Понятия не имею. Но это как-то чересчур для простого совпадения: сначала толковать про глаз, а потом являться за тобой с пистолетом.
Где-то в глубине отеля открылась дверь, и снизу донеслись звуки вечеринки: визгливый женский хохот, быстрое пиликанье оркестра. Дверь снова закрылась, оставив их наедине с вечным гудением бессонного города.
– Ты и Джерико… – начал было Сэм, но тут же покачал головой. – А, ну его. Забудь.
Он собирался спросить, влюблена ли она все еще в Джерико, Эви это прекрасно поняла – и была рада, что он сам себя оборвал. У нее все еще были чувства к Джерико. Но и чувства к Сэму у нее тоже имелись. Это было странно, непонятно и да – если уж быть совсем честной – чрезвычайно волнующе, когда тобой интересуются сразу два симпатичных молодых человека. Но Эви совсем не была уверена, что ей прямо сейчас нужна эта ответственность – любить кого-то. А если совсем по правде, она боялась, что, влюбившись в парня, где-то по дороге потеряет себя. Такое у нее на глазах случилось со множеством девушек. Сначала она пьет джин, гоняет на скоростных машинах, отважно отплясывает по кабакам, а потом вдруг превращается в тряпку, которая шагу ступить не может, не спросив сначала мужчину, точно ли это будет о’кей. Ни за каким мужчиной Эви прятаться решительно не хотела и в обыденности тонуть тоже. А то проснешься потом – и бац! ты уже домохозяйка где-нибудь в Огайо, c кислой физиономией и мумией вместо сердца. К тому же то, что ты сильно любишь, может исчезнуть в мгновение ока, а образовавшуюся на этом месте дырку потом ничем не заполнить. Вот она и жила одним мгновением, словно вся жизнь – это одна сплошная вечеринка, которая вовсе не обязана кончаться.
Но вот прямо сейчас… прямо здесь она ощущала сильную связь с Сэмом, как будто кроме них людей на свете не осталось. Ей хотелось уцепиться за него и за это мгновение и больше не отпускать.
– Сэм, – сказала Эви.
Он повернулся к ней. Его рот… – почему она никогда не замечала, какой у него идеальный рот? Повинуясь импульсу, она поцеловала его в эти идеальные губы и отпрянула, ожидая. Его лицо было непроницаемо, но в животе у нее снова затрепетало.
Он покачал головой.
– Эви, не надо.
Щеки у нее запылали. Он месяцами играл с ней, а теперь, когда она сама шагнула навстречу, потерял интерес.
– Почему? Что, девушкам не положено целоваться первыми?
Она вовсе не хотела, чтобы это прозвучало так зло, но его реакция ее ранила, и Эви растерялась.
– Мне надо смотреть на тебя сквозь ресницы, вся сама невинность, и ждать, пока тебя торкнет? Этот сборник инструкций я уже давно сожгла, Сэм.
– До этого мне дела нет, – сказал он. – Просто… пожалуйста, не надо меня целовать, если ты сама этого не хочешь.
Все старые страхи разом вскипели в ней. Она хотела поцеловать Сэма, хотела, но боялась того, что это за собой потащит. Что же делать? Почему все так трудно?
– Я хочу этого прямо сейчас.
Сэм пнул какой-то камешек на полу.
– Ты так всегда отвечаешь, да? Никакого завтра, вечное сегодня.
Меланхолия поднялась донным течением. Еще секунда, и оно утащит прочь всю надежду на сиюминутное счастье.
– Это все, на что можно рассчитывать, Сэм. Все, что у нас на самом деле есть, – тихо сказала она и поняла, что это самая большая правда, сорвавшаяся с ее губ за долгое-долгое время.
Прожектор на мгновение поймал их перепуганные лица, и тут же слепящие беспокойные щупальца уплыли дальше, потянулись в небо, как неотвеченные молитвы.
Эви потянулась к Сэму, но ее прервал светский хроникер «Нью-Йорк гералд».
– Вот они вы! Мы уже обыскались, голубки. Ох, ну и холодрыга у вас тут! Идемте скорее в зал, вас все заждались.
Эви не знала, намерен ли Сэм дальше играть в затеянные ими шарады.
– Кажется, нам пора идти работать, – сказал Сэм, предлагая ей руку.
– Кажется, да, – ответила Эви, благодарно ее принимая.
И они вдвоем послушно вернулись в бальную залу под грохот аплодисментов. Сэм рядом с нею глядел исподлобья, как норовистый конь. Она тихонько пожала ему руку, и он вернул жест.
– Ну, что, еще один кон, – прошептала она, и надетая им улыбка предназначалась только ей.
Кругом тут же сгрудилась публика, хлопая его по плечу, рассказывая, какой он герой. Потом белоголовый распорядитель успокоил собрание.
– Вообще-то Новый год уже давно наступил. Но, думаю, нам нужно объявить новый Новый год – пророческий! – пролаял он под звон бокалов и приветственные вопли. – Готовы? Итак, десять… девять… восемь…
Все, что было в мире хорошего, все, на что люди надеялись, поднялось нарастающим валом голосов, но Сэм и Эви видели сейчас только друг друга.
– …четыре… три… два… один!
Конфетти и серпантин хлынули с потолка. Рожки и дуделки проблеяли свой жестяной триумф. Праздник затуманил воздух, закружил комнату вихрем ликования. Маленький оркестр ударил «Добрые старые времена», и все пьяно заголосили знакомую песню, ужасно довольные собой, потому что это было так умно и шикарно – праздновать Новый год, который они только что сами себе придумали. Как будто они могли по желанию переписать само время, точно так же, как переписывали любую осмелившуюся не угодить им правду.
– И чашу доброты поднимем за доброе старое время…
– Ну, c новым пророческим годом! – сказала Эви, слегка напряженно.
– А ну его к дьяволу, – ответил Сэм, схватил ее в объятия и принялся яростно целовать.
Пробуждение
Лин и Вай-Мэй сидели среди цветов на лугу. Солнце сияло и грело. Холмы переливались золотом, но впервые за много ночей Лин не могла спокойно наслаждаться идиллией. Вай-Мэй болтала о своем скором приезде в Нью-Йорк, о свадьбе, а Лин чувствовала себя все несчастнее и несчастнее. Надо было рассказать ей о своих подозрениях насчет О’Банниона и Ли, но она никак не могла себя заставить. Так не хотелось, чтобы все это оказалось правдой, – ради Вай-Мэй… да и ради самой себя тоже.
Поджидая отставшую где-то по дороге храбрость, Лин разглядывала раскинувшуюся внизу деревню; солнце посверкивало на красных черепичных крышах.
– Красиво. Это деревня, откуда ты родом?
– Нет. Я просто однажды увидела ее и запомнила. Я ее очень люблю, – Вай-Мэй мечтательно подняла глаза на лиственную сень у них над головами. – Это была ужасно красивая опера. Настоящее волшебство! Мне было очень грустно, я скучала по дому, но пока я сидела там, на балконе, и смотрела спектакль, вся грусть куда-то подевалась. Теперь всякий раз, как мне нужно, я могу уйти туда – в уме.
Вай-Мэй налила им чаю и искоса поглядела на Лин.
– Кажется, это тебе сейчас нужно где-то спрятаться. Что у тебя стряслось, Маленький Воин?
– Я… – во рту у Лин пересохло.
Она посмотрела в бесхитростное личико подруги, и вся привычная честность оставила ее. Вай-Мэй ужасно расстроится, просто ужасно.
– Дело в этой вашей сонной болезни, да? – предположила Вай-Мэй, и Лин не стала ее поправлять.
– Ты слишком много беспокоишься, сестра, – продолжала та, отгоняя заботы взмахом рукава. – Оставь все свои горести позади – по крайней мере, сейчас.
– Не могу я оставить их позади.
– Конечно, можешь! Горестям нечего делать здесь, в нашем идеальном мире. Если нам тут что-нибудь не нравится, мы просто берем и изменяем это.
Лин даже немного рассердилась.
– Ты не понимаешь! Люди умирают. Мои соседи, в моем городе. И у нас от этого совершенно реальные проблемы.
Крошечная многоножка взбиралась по ноге Вай-Мэй.
– Они ненавидят китайцев. Всегда ненавидели. Называют нас всякими гадкими словами. А потом они приходят за тобой…
Лин раздавила жука пальцем и вытерла руку о траву.
– Ты о чем?
Вай-Мэй наконец посмотрела на нее. Туча пронеслась по лицу, но ее тут же сменила всегдашняя улыбка.
– Ах, милая Лин, я не хочу слышать об этом, не хочу знать, что все это так тебя расстраивает!
– Иногда приходится выслушивать всякие тяжелые вещи.
– Нет. Только не здесь, – Вай-Мэй улыбнулась теплым лучам солнца. – Здесь – никогда.
– Да. Даже здесь. Именно здесь, где так тихо, – Лин набрала воздуху в грудь; слишком долго она откладывала этот разговор. – Вай-Мэй, я искала твою брачную контору, О’Банниона и Ли. Я поспрашивала дядюшку и специально ходила в библиотеку. Похоже, что такой фирмы нет. Их просто не существует.
Вай-Мэй нахмурила лобик.
– Что ты хочешь сказать?
– Я думаю, что это плохие люди и они везут тебя в Америку не выдавать замуж, а… – нужные слова никак не хотели слетать у нее с языка. – …работать.
– Не глупи. Мой дядя сам все устроил. Мистер О’Баннион встретит меня в иммиграционной службе, – решительно отрезала Вай-Мэй. – У меня будет муж и новая, прекрасная жизнь в Нью-Йорке.
– Я в это не верю. Вай-Мэй, они хотят тебя обмануть. Ты будешь служанкой. – Она сглотнула. – Или еще того хуже.
– Зачем ты рассказываешь мне все эти ужасы?!
– Потому что я не хочу, чтобы ты пострадала! Они хотят сделать тебя… – некоторое время Лин сражалась со словом, но все-таки победила его – …проституткой. Ты никогда не выйдешь замуж. Тебе нужно поскорей убираться с этого корабля, Вай-Мэй.
Две слезинки сбежали по щеке Вай-Мэй; губы ее задрожали.
– Это не может быть правдой… Мой проезд на корабле оплачен… Дядя обо всем договорился…
– Прости, – сказала Лин.
– Я не стану больше тебя слушать!
– Я пытаюсь тебя защитить!
– Я не стану слушать! – Вай-Мэй вскочила и отпрянула прочь от нее, тряся головой. – Нет. Ты врешь. Я буду женой американского купца. Хорошего человека! Уважаемого человека!
– Вай-Мэй!
Та поглядела на Лин, сурово сжав губы; взгляд ее потемнел.
– Ты не имела права так поступать. Шпионить за мной, как иммиграционный чиновник, разнюхивать, выспрашивать! Я думала, мы друзья.
– Но мы же дру… – Лин потянулась за ее рукой, но Вай-Мэй быстро отдернула ее.
– Ты не отберешь у меня мечту! – прорычала она, наливаясь гневом – превращение вышло не менее поразительное, чем те, что они сами устраивали тут, во сне.
Чай вскипел в чашке и плеснул Лин на руку. Та ахнула и бросила чашку – жидкость ее обожгла! Поперек большого пальца вспух злой красный рубец.
Ее поранили во сне!
И сделала это Вай-Мэй…
Придерживая руку, Лин вскочила и решительно зашагала к лесу.
– Ты куда? – взмолилась враз перепугавшаяся Вай-Мэй.
Лин не ответила.
– Тебе еще не пора просыпаться! Давай играть в оперу. Или… или мы можем заняться твоей наукой, если хочешь!
Лин даже не оглянулась.
– Все будет хорошо, сестричка! Я точно знаю! – лепетала Вай-Мэй, труся вслед за Лин. – Пожалуйста, не волнуйся. Смотри, мы можем создать что-нибудь очень красивое…
Но Лин больше не хотела ничего создавать. Мечта испортилась окончательно. Лин быстро шла прочь.
– Пожалуйста, вернись! – кричала Вай-Мэй. – Ты обещала! Ты же обещала!
Лин сбежала с холма и углубилась в лес, зовя Генри.
А в это время Генри вместе с Луи валялись рядышком на пристани и болтали ногами в прохладной реке, наслаждаясь последней ночью на болоте. Завтра вожделенный поезд прибудет в Нью-Йорк, так что нужда в еженощных визитах отпадет сама собой. Генри не знал, что еще ему сделать, чтобы поторопить время.
– Анри, я должен тебе кое-что сказать, – вдруг начал Луи очень серьезно, и у Генри все внутри сжалось.
Будто первые капли дождя упали на скатерть долгожданного пикника.
– Не слишком ли серьезный разговор – без рубашек-то? – попробовал пошутить Генри.
Луи сел.
– Мне надо было давно тебе сказать. Напрямую касается тебя.
– Уж не хочешь ли ты мне сообщить, что не приедешь в Нью-Йорк? – Генри приподнялся на локте и уставился на солнечные пятна кофейного цвета на воде. – Ты же получил билет, правда?
– Нет, речь не об этом, – сказал Луи, и Генри немного расслабился.
Луи глубоко вздохнул, повертел опавший листик за ножку, так что он заплясал балериной.
– Перед тем, как ты уехал, твой папа пытался заставить уехать меня. Он прислал в «Селесту» человека с конвертом денег и сказал, что все это будет мое, если я соглашусь уплыть из города на следующем же пароходе и никогда больше тебя не видеть.
– Вот сволочь, – пробормотал Генри.
Отец испортил все. Нет, он не хотел быть сыном такому человеку. Как тут выучиться быть мужчиной, если тот, кто тебя воспитывает, – просто громила, который не заслуживает никакого уважения?
– И сколько там было денег?
– Тысяча долларов, – сказал Луи.
Змеистый страх обвился у Генри вокруг сердца.
– На это можно очень здорово прожить…
– Да уж, наверняка.
Генри вырвал пригоршню травы.
– И что, ты взял?
Он искоса глянул на Луи и увидел боль у него на лице.
– Значит, вот как ты обо мне думаешь?
– Прости, Луи. Я не имел в виду ничего такого. Я совсем не думал, что ты можешь их взять, – заторопился Генри, ругая себя последними словами.
Вот бы слова можно было взять назад.
Луи испустил долгий вздох и уставился в небо, моргая.
– Прости, Луи. Пожалуйста, прости.
Тот покачал головой.
– Сам знаешь, я не могу долго на тебя сердиться, cher.
Он поцеловал Генри в щеку, но как-то вполсердца. Ему все еще было больно.
На тропинке залаял Гаспар.
– Ну, во что там еще влип этот пес? – воскликнул Луи, вскакивая.
Генри поплелся следом, хотя ему ничего так не хотелось, как схватить Луи, утянуть его обратно, на теплые доски и целовать… Он чувствовал себя паршиво из-за этой размолвки и жалел, что сказанного никак не воротишь.
Гаспар свирепо рылся под вьюнами, рыча и лая, будто загнал какую-то мелкую тварюшку.
– Гаспар! – крикнул Луи. – А ну, вылезай оттуда! Фу!
– Слушай, ну, он же просто собака, – сказал Генри. – Может, кость нашел. В конце концов, это и его сон тоже.
– Нечего ему там копаться! – Луи свистнул, но пес отказался слушаться.
Луи шагнул прямо в заросли и тут же пошатнулся, хватаясь за голову и шипя.
– Луи! – Генри подхватил его.
Луи отступил на шаг.
– Я… со мной все хорошо, Анри. Гаспар!
Генри прошел сквозь занавес пурпурных цветов и отогнал Гаспара, который убежал назад, к Луи. Там, где он рылся, была только земля и ничего больше.
– Генри! – c тропинки донесся голос Лин.
– Лин! Что случилось? – спросил он, когда она поравнялась с ним. – Вай-Мэй с тобой? Эй, а с рукой у тебя что?
– Я хочу вернуться, Генри, – дрожа, выдавила Лин. – Мне нужно проснуться.
– Ты хочешь, чтобы я тебя разбудил, как в прошлый раз?
– Нет. Вместе. Нам нужно уйти вместе.
Генри с сожалением оглянулся на Луи.
– Иди, cher. Мы уже скоро увидимся, – сказал тот. – Нельзя заставлять леди ждать.
– Еще один только день, – прошептал Генри, надеясь, что он не испортил все бесповоротно.
– Один только день, – отозвался Луи.
– Тебе нужно разбудить Луи, – заявила Лин, и по лицу ее было ясно, что спорить не стоит.
– Луи, – обратился к нему Генри, – тебе пора возвращаться в хижину. А еще через пять минут ты проснешься и увидишь прекрасный восход и выпьешь цикориевого кофе, а потом сядешь на поезд до Нью-Йорка.
– Как скажешь, Анри, как скажешь, – рассмеялся Луи.
Он взбежал по лестнице в хижину; сзади, мотая хвостом, скакал Гаспар. Внутри, в полумраке, скрипка подхватила мелодию «Алой реки» ровно там, где бросила ее, а потом все стихло.
– Что тебя так напугало? – спросил Генри у Лин.
– Не здесь. Позже я тебе все расскажу. Я не хочу больше оставаться тут, – прошептала она.
– Но, дружочек, мы не поставили будильники. Мы застряли тут, пока не проснемся сами по себе.
– Тогда давай попробуем найти другой сон где-нибудь еще, – решительно сказала Лин. – Даже если придется вернуться на те улицы, откуда мы пришли. А что, если мы вошли через магазин Девлина, может, через него же удастся и выйти?
– Звучит разумно. Мы вернемся той же дорогой. В какой стороне от нас станция? – оглянулся он по сторонам и вскоре через прогалину между деревьев разглядел черную пасть тоннеля.
Лин проследила его взгляд.
– Только не туда!
– Либо через тоннель, либо сидеть тут и ждать, пока сам проснешься.
– Один из нас может проснуться первым, и тогда второй останется здесь в одиночестве, – поежившись, сказала Лин.
Вопрос давно уже рыскал у нее внутри, пытаясь пробиться наверх, и наконец сумел:
– Генри, а что будет, если умрешь внутри сна?
Тот пожал плечами.
– Ты проснешься.
– Даже здесь? Даже здесь, где все так реально? – Она до сих пор чувствовала, как горит место ожога.
В бархатной тьме тоннеля запульсировал свет.
– Смотри, оно опять, – сказал Генри.
Деревья по краям начали рябить, словно через них катилась волна энергии.
– Что это такое? – прошептал Генри.
– Не знаю, – отозвалась Лин.
От страха у нее почти перехватило дыхание. Откуда-то приплыли слова Вай-Мэй: я боюсь, это злое место. Если мы не тронем ее, она не тронет нас.
Свет гас, словно сам сон собирался на боковую. Зато в тоннеле проснулось зловещее ворчание, от которого у Лин мурашки побежали по спине.
– Я хочу знать, что там, внутри, – сказала она вопреки всем дурным предчувствиям. – Я должна узнать!
– Мы просто вернемся той же дорогой, – согласился Генри.
Он предложил ей руку, Лин приняла ее, и вместе они шагнули через порог в ждущую за ним тьму.
– Почему тут так холодно? – шепнула Лин, дрожа; дыхание вырывалось изо рта пушистыми облачками.
– Не знаю, – ответил Генри, у которого слегка стучали зубы.
Чем-то этот тоннель походил на могилу, словно они с Лин без спросу забрались в чей-то склеп. Признаться, Генри испытал огромное облегчение, когда впереди забрезжила станция.
– Смотри, уже недалеко, – он показал на дальний круг золотого света. – Видишь? От второй звезды направо и потом прямо, до самого утра.
– Это что еще за бред? – осведомилась Лин.
– «Питер Пэн», – объяснил Генри.
– Лучше просто иди.
Она споткнулась обо что-то во тьме, присела на корточки посмотреть, но тут старые кирпичи на стенах тоннеля замерцали и разгорелись зеленоватым светом, как разогревающаяся ртутная лампа.
– Лин! – позвал Генри, и та бросила свою находку, что бы это ни было, и подошла к нему.
Вместе они уставились на светящиеся кирпичи. Что-то творилось у тех внутри, будто в каждом показывали маленькое кино.
– Тут где-то есть кинопроектор? – Генри оглянулся, но ничего не обнаружил; свет исходил явно из самой стены.
А в светящихся кирпичах разыгрывались всевозможные истории: вот маленькая девочка пьет чай со своими родителями… вот солдат хохочет за столом, где расселись его друзья… вот какой-то мужчина машет восторженной толпе.
– Что это такое? – спросила Лин.
Генри переходил от одного кирпича к другому, потом к следующему, изучая живые картинки.
– Я думаю… думаю, это чужие сны.
Генри отступил на шаг, чтобы обозреть всю стену. Она тянулась вверх и вверх, насколько хватало взгляда – сияющие экранчики снов. Отсюда картинки напоминали ему электрическую схему какого-то гигантского механизма… словно эти обрывки жизней питали энергией весь мир сновидений – и станцию, и поезд, и луизианское болото, и лес, и деревню, где каждую ночь Лин и Генри играли, теша потаенные желания своего сердца. А сейчас то там, то сям кирпичик гас, словно вся энергия в нем кончилась. Словно эти сны уже перегорели, умерли, и их нужно было срочно заменить новыми – машине нужно больше батареек.
Что-то привлекло внимание Лин, и она наклонилась к кирпичику поближе, чтобы рассмотреть. Глаза у нее широко раскрылись, она повернулась к Генри и поманила его к себе.
– Ты это видишь?
– Что?
– Ее.
Облачко сорвалось у Лин с губ и растаяло в воздухе.
Генри придвинулся к стене вплотную. В углу мерцающей картинки стояла женщина под вуалью и смотрела на сон. Она переходила из кирпича в кирпич, из видения и видение, словно ночной сторож, присматривающий, чтобы фабрика работала как надо. Один кирпич вдруг зарябил, словно в кинопленке на этом месте была склейка, и в замельтешивших у них перед глазами обрывках тьмы Лин и Генри разглядели кошмарный перевертыш чьего-то счастливого сна. В нем человек бежал, спасаясь от стаи жутких тварей, по тоннелям подземки.
– Голодные духи, – пробормотала Лин, глядя на Генри полными ужаса глазами.
Внезапно все кирпичи загорелись одновременно и все показали одну и ту же картинку: женщина под вуалью вбегает в тоннель, перепуганная, c окровавленным ножом в руке, и забирается в заброшенный вагон поезда. Потом стало темно.
Пронзительный, чудовищный вопль проткнул тоннельный мрак.
– Что это… – закончить Лин не смогла.
Там, где они вошли, появилась фигура – темный силуэт в длинном платье – и двинулась к ним.
– Генри… – прошептала Лин.
Он кивнул.
– Просто пойдем. Мы возвращаемся по своим же следам.
Они взялись за руки и пошли в сторону светового круга, обещавшего станцию. Но как бы резво они ни перебирали ногами, проклятый круг и не думал приближаться.
– Он все отдаляется, – сказала Лин. – Как будто она хочет оставить нас здесь.
Позади них в темноте что-то заворчало и заскреблось.
– Ты помнишь, что я могу тебя разбудить.
– И думать не смей! Мы выйдем отсюда вместе – или не выйдем совсем, – рявкнула Лин.
– Ну хорошо. Тогда я все равно сделаю тебе внушение. Давай посмотрим, вдруг ты сможешь увидеть нас в каком-нибудь другом месте – в другом сне. Лин, сейчас тебе приснится… приснится… – в голове у него, как назло, было совершенно пусто, – хорошо, Новый год! Кругом львы танцуют, и фейерверки, и еще такие печеньки в форме полумесяца…
Лин послушно зажмурила глаза, но нет – она была слишком испугана. Разум отказывался думать о чем-то еще, кроме этих жутких звуков в тоннеле. Как будто на них надвигался какой-то рой… но рой чего?
Рядом закричали.
– Генри? – она открыла глаза.
Его нигде не было.
– Генри!
Лин осталась одна с тем, что подбиралось к ней из черноты.
Генри рухнул на пол своей комнаты в «Беннингтоне». Ноги у него намертво запутались в простынях, сердце глухо и тяжело колотилось в груди. Он только что свалился с кровати, и этого хватило, чтобы его разбудить. А Лин осталась там, одна, в этом ужасном месте. Отсюда Генри было видно телефон на столике в холле, но сонный паралич пригвоздил его к полу, неспешно отсчитывая секунды до того, как он снова сможет двигаться.
Ворчание в темноте стало громче.
Лин попыталась бежать, но споткнулась обо что-то и схватилась рукой за стену, чтобы не упасть. Картинка в камне исказилась. Один за другим кирпичи мигали и выдавали одно и то же: лицо женщины под вуалью. Неровные, острые зубы блестели под частой сеткой. Но хуже всего были черные глаза призрака – они смотрели на Лин в упор.
Что-то тихонько зазвенело и затренькало в тоннеле, но звук тут же потонул в страшном утробном вое. Светящиеся пальцы проткнули стену с той стороны, словно тоннель вдруг решил породить десяток кошмаров разом.
– Кто смеет тревожить мой сон? – женщина под вуалью была уже рядом; в руке ее сверкнул нож.
Лин задрожала. Она хотела закрыть глаза, но никак не могла оторвать взгляда от тех, кто лез сейчас сквозь стены тоннеля, и от их предводительницы.
Проснись, – подумала Лин, – пожалуйста, проснись.
Тихий звон мешался со звуками тварей – а потом вдруг вырос над гамом, превратившись в настойчивый набат, окруживший Лин со всех сторон, властно забравший все ее внимание. Тело ее отяжелело, и сон истаял в серую пустоту.
– О-о-о-о-х-х-х-х, – простонала Лин у себя в постели.
У нее болело все, буквально все, но это уже не имело значения. Никогда в жизни она еще так не радовалась пробуждению.
Сквозь закрытую дверь комнаты она слышала сердитую воркотню мамы:
– Ошиблись номером! Подумать только! Хотела бы я посмотреть, как ему весь сон испортят…
Лин слабо улыбнулась. Телефон… вот что вернуло ее назад. Генри не бросил ее.
Потом она посмотрела на свою руку.
Ожог был все еще там.
Люди-тени
Седан с двумя пассажирами упорно крался по промокшим от дождя дорогам. Оба были приблизительно одного роста и комплекции: ни слишком высокие, ни слишком низкие; ни толстые, ни тонкие; одеты в одинаковые темные костюмы, отглаженные белые рубашки с накрахмаленными воротничками и темно-серые шляпы, низко надвинутые на коротко остриженные головы. Волосы на цветовой шкале занимали отметку где-то между «мышиный» и «неопределенно-грязный». Внешностью они обладали самой непримечательной и обреченной немедленно растворяться в окружающей среде, не оставляя по себе ни следа. Когда им случалось зайти в магазин или в придорожную забегаловку, хозяевам заведений потом приходилось реально напрячься, чтобы вспомнить хоть одну деталь облика посетителей. Они были очень вежливы. Вели себя сдержанно. Платили по счету, оставляли чаевые, а мусора, наоборот, не оставляли. Потому что эти граждане очень хорошо знали, что такое оставлять мусор и как его за собой убирать.
Они ехали и ехали. Иногда дорога заводила их в маленькие городки где-нибудь в глубинке, в дома, где хозяюшки встревоженно слушали их расспросы, теребя подол фартука, посеревшего от старости и скудости монеток в жестянке из-под печенья.
Мы просто прочитали вот эту статью в местной газете про сына ваших соседей, пророка. Вы не помните, когда он впервые проявил эти свои способности?..
Вы или кто-то из ваших знакомых видели этих призраков?..
Вам случалось слышать от него упоминания о забавном сером человеке в цилиндре?..
Нет, мы уверены, никакая опасность вам не угрожает, но за такими людьми нужен глаз да глаз, сами понимаете. Нет, беспокоиться решительно не о чем. Мы обо всем позаботимся. Просто живите как обычно…
Но сохраняйте бдительность…
Сразу же сообщайте о любых подозрительных явлениях…
Окна кафе приветливо улыбались в ночь теплым золотом.
– Как насчет пирога, мистер Адамс? – осведомился шофер, сворачивая с дороги.
– Пироги я люблю, мистер Джефферсон, – отозвался пассажир.
Внутри было тепло. Несколько человек местных гнули головы над тарелками с яичницей и сэндвичами – островки человечности, сползшиеся в архипелаг, но не утратившие одиночества. Гости сели и смешались с обстановкой. Официантка налила им две кружки горячего черного кофе и принесла две порции яблочного пирога, который был стремительно прикончен. В кафе имелось и радио. Из колонок, побулькивая, лилась передача: какая-то девица уверенно вела грешников к Иисусу. Да будет Святой Дух вам и сенатором, и конгрессменом…
– Вы, ребята, откуда-то отсюда? – поинтересовалась официантка, убирая тарелки и заменяя их на счет.
– Да, живем недалеко.
– А чем занимаетесь?
– Торгуем помаленьку… – мистер Адамс мельком глянул на ее бейджик, – …Хейзел.
– Да? А что продаете?
– Америку, – улыбнулся он.
– Не желаете еще кофе на дорожку, ребята? – Хейзел снова стала официанткой.
Мистер Адамс одарил ее извиняющейся улыбкой.
– Кажется, нам уже пора, – сказал он, точно копируя говор местных за столиками; не то слово, как легко акцент может выдать чужака. – Спасибо за пирог.
Он заплатил по счету, кинул пятицентовик на чай и вместе с товарищем вышел в сумерки. Зимние облака пышными гирляндами висели над чередой пологих холмов.
– Звонил мистеру Гамильтону. Он намерен проконсультироваться с оракулом, – сообщил мистер Джефферсон, ковыряя во рту зубочисткой.
– Отлично. Давайте займемся тем, другим делом.
Они сели в машину и двинулись в куда менее гостеприимную часть города, расположенную в овраге, куда длинные пальцы неона никак не доставали. Водитель открыл багажник, извлек из него связанную по рукам и ногам девицу и поставил ее на колени наземь. C головы таинственной незнакомки сдернули мешок, и она тут же захлебнулась воздухом, судорожно глотая сырость и моргая на незнакомый пейзаж. По физиономии бежали следы слез и соплей.
– Г-где мы? – пробулькала она.
Мистер Адамс облокотился на машину.
– Мы спросим вас еще раз: случалось ли вам когда-нибудь говорить или еще как-то общаться с сущностью неизмеримой силы, имеющей облик человека с серым лицом и в высокой шляпе-цилиндре?
Девушка затрясла головой; новые слезы побежали по обеим щекам.
– П-прошу вас, мистер. Я просто притворялась, что гадаю на картах. Я не из пророков! Я н-ничего об этом н-не знаю!
Она зашмыгала носом, не имея возможности как следует высморкаться, и сопли потекли рекой.
– Я просто хотела, чтобы на меня обратили внимание.
– И вот мы здесь, к вашим услугам, – ободряюще улыбнулся ей мистер Адамс. – Само внимание.
Пленница принялась всхлипывать. А вот этого господа Адамс и Джефферсон не любили.
– Вы совершенно уверены, что сейчас говорите нам правду?
Она яростно закивала.
Мистер Адамс вздохнул, долго и бесконечно устало.
– Какая жалость.
В помаргивающем белом свете придорожного указателя – РАЙ – ТУДА! – он сделался почти серым, тенью тени, а не человека.
Мистер Адамс натянул свои кожаные перчатки, открыл чемодан и выбрал из имеющегося там инвентаря кусок провода.
– Что вы делаете? – поинтересовалась девица, у которой от ужаса враз высохли все слезы.
Мистер Адамс намотал концы провода на руки, подергал, проверяя натяжение.
– Защищаем демократию, – сообщил он ей.
Потом, позже, люди-тени стояли в чистом поле под пустым ночным небом, прошитым там и сям огоньками ложных надежд – тщетным SOS умирающих звезд. Мистер Адамс закончил писать, застегнулся, вытер руки о девушкин шарф и поджег его, глядя, как огонь карабкается по куску ткани, будто стайка оранжевых птиц, вспорхнувших в небо. Лицо у него было в пятнах дыма. Держать горящий шарф было тяжело, и он уронил его в грязь.
– Итак, c этим покончено, – сказал он. – Что у нас дальше?
Мистер Джефферсон раскрыл газету на маленькой, обведенной черным заметке. Очередной пророк в очередном безымянном городишке.
Мистер Адамс открыл пассажирскую дверь.
– И еще много миль до ближайшей кровати…
Дорога длинным клинком рассекала притихшие ночные земли, взбиралась на холмы, сбегала в распухшие от дождя долины, мимо гнилых пугал, кладбищ, телефонных столбов с деревянными ручищами, распяленных, будто толтекские боги. Она вилась вокруг спящих городков с молчащими фабричными свистками и школьными колокольчиками, прижималась к бокам прерий и то и дело всплывала в снах местного населения в качестве глубокого национального символа: бесконечному стремлению к счастью нужны такие же бесконечные магистрали. А по обочинам призраки глядели в проемы между деревьями, вспоминали, тянулись к бессонной жажде живых, не в силах противиться зову страны, построенной на мечтах.
По дороге шофер пел песенку про девушку по имени Мэйми, которая любила-любила, да и налюбила себе дорогу прямиком в ад. Дьявола она тоже любила и делала это со знанием дела. Пассажир читал сегодняшнюю газету, облизывая время от времени палец, чтобы перелистнуть страницу. В газете писали об очередном школьном учителе, которого оштрафовали и посадили в тюрьму за преподавание теории эволюции. Адвокат уже планировал защиту. Добропорядочные граждане митинговали прямо в здании суда с цитатами из Библии на транспарантах.
– Думаете, это правда? – спросил мистер Джефферсон, нарушая наконец тишину.
– Что – это?
– Что мы все слезли с деревьев. Просто стадо обезьян в костюмах.
– Примерно настолько же правда, насколько и другая теория, – ответствовал мистер Адамс.
Мистер Джефферсон тихо хихикнул и снова затянул свою песенку. На горизонте клубилась, глухо ворча, темная масса облаков. Дорога мурлыкала под колесами седана в их вечном, как мир, вращении.
День последний
Загиб Малберри
Все утро Лин только и думала, что об ужасных событиях сегодняшней ночи и о том, что они с Генри обнаружили в тоннеле. Ожог все еще болел. Как только в ресторане выдалась минутка, она кинулась звонить Генри и поймала его буквально на пороге.
– Я как раз иду на Гранд-Сентрал, встречать Луи с поезда. Притащу его прямиком в «Чайный дом». Тогда обо всем и поговорим, – пообещал он и повесил трубку.
В обед в «Чайный дом» заскочил Чарли Ли – сказать, что его дедушка как раз вернулся из Бостона. Закончив вытирать столы, Лин воспользовалась дневным затишьем, чтобы навестить старого Чана Ли в «Золотой Жемчужине» и отнести ему гостинец – несколько апельсинов к Новому году. Чану Ли уже стукнуло восемьдесят, но ум у него был неизменно остер; Лин надеялась разузнать у него что-нибудь полезное и хоть немного успокоиться относительно дальнейшей судьбы Вай-Мэй.
– По словам внука я так понял, что тебя интересует история нашего околотка? Какая-то брачная контора, так?
– Да, дядюшка. О’Баннион и Ли. Вы их знаете?
– Да, – сказал мистер Ли и этим ограничился.
Однако за молчанием чувствовалось столько всего, что надежда Лин – ну, могут же эти двое еще оказаться респектабельной брачной конторой – растаяла на глазах.
– Когда-то у них тут был офис, – сказал мистер Ли наконец. – Прямо на загибе.
– На загибе?
– На загибе Малберри.
Так, хотя бы в этом Вай-Мэй была права.
– О’Баннион и Ли… Не свахи, нет. Сутенеры. Они завозили девушек из Китая в Штаты, обещали им богатых мужей. Но стоило бедняжкам очутиться здесь… – мистер Ли горестно покачал головой. – Девушек просто продавали. Заставляли проституцией отрабатывать стоимость проезда досюда. Они были бедны, совсем одиноки на новом месте, никакой закон их не защищал – что они могли поделать? Ловушка была очень надежна.
– И никто их не остановил?
– Ну, почему же. Еще как остановил. Их убили – прямо на улице.
– Я… я ни разу не слышала об этом убийстве.
– Еще бы не слышала. Это случилось в 1875 году.
– В… когда? – не поверила своим ушам Лин.
– В 1875-м. Их убила одна из бедняжек, которой они сломали жизнь. Воткнула кинжал каждому прямо в сердце. – Он снова покачал головой. – Они были плохие люди. Помню, я встречал ее на улице. Крепко сидела на опиуме. И еще все время крутила маленькую музыкальную шкатулку.
– И вуаль носила? – в животе у Лин зажужжало.
– Носила. А ты откуда знаешь?
Жужжание побежало вверх по шее и охватило череп. У Лин закружилась голова.
– А где этот самый загиб Малберри, дядя? Мне надо на него посмотреть.
– Да ты его каждый день видишь.
– Прости, я не поняла.
– Сейчас это Коламбус-парк, – мистер Ли широко развел руки: вот, мол, какой там простор. – Загиб Малберри снесли в 1897 году и на этом месте разбили парк. Его уже несколько десятилетий как нет. И твоих О’Банниона и Ли тоже.
Он дунул на кончики пальцев, словно пуская одуванчиковый пух по ветру:
– Призраки.
Три десять из Нового Орлеана
Генри расхаживал туда и обратно по платформе десять на нижнем уровне Гранд-Сентрал, то и дело поглядывая вдоль путей, как будто само его будущее должно было вот-вот явиться там, вдалеке, в развевающихся хвостах пара. В петлице у него торчала свежая красная гвоздика. Наконец траурный не то свисток, не то стон возвестил приближение поезда. Пульс у Генри забился в колесном ритме: тадам-тадам, тадам-тадам. Следом за звуком показалось и само железное чудище. Генри вытянул шею и впился взглядом в лица за окнами, но из-за стекол они все расплывались. Поезд издал долгий шипящий вздох и остановился. Проводник объявил:
– Поезд три десять из Нового Орлеана прибыл в Нью-Йорк!
Двери отворились. Счастливые пассажиры хлынули из вагонов, чтобы немедленно угодить в объятия встречающих родичей и друзей. Генри метался по платформе, и сердце у него едва не выпрыгивало из груди, когда какой-нибудь очередной пригожий брюнет сходил по ступенькам – но ни один из них не был Луи. Носильщики наваливали чемоданы и сумки на тележки и по очереди катили прочь. Платформа постепенно пустела, пока не остались только они да Генри. Неужели он как-то умудрился проморгать Луи в толпе?
– Извините, – обратился он к проводнику, готовому возвратиться в вагон. – Я встречаю друга, который приехал на три-десять. В поезде еще остались пассажиры?
Тот покачал головой.
– Нет, сэр, на борту больше никого. Все уже сошли.
– Вы совершенно уверены?
– Да, сэр. Ни единой живой души.
Должно быть, он его все-таки пропустил. Наверное, Луи стоит сейчас наверху, в этом огромном холле, c чемоданом в руке, и, раскрыв рот, любуется великолепием настоящего нью-йоркского вокзала. Генри потрусил вверх по лестнице в основной зал ожидания и, быстро шаря глазами по сторонам, промчался по проходу между рядов длинных деревянных скамеек, где люди читали газеты или возились с детьми. Вон, кажется, и Луи – идет к телефонной будке. Генри припустил за ним, громко зовя по имени.
– Я могу вам помочь? – обернулся к нему джентльмен лет на десять старше нужного.
– Прошу прощения, сэр, я принял вас за другого.
Генри кинулся прочесывать вокзал вдоль и поперек. Его радостное возбуждение постепенно обращалось в страх. Черт, а ведь Луи так обиделся, когда Генри спросил его про те деньги… При всем своем добросердечии, он вообще-то был на диво тонкокож и чувствителен ко всякому неуважению. Вдруг беспечное замечание Генри так его ранило, что он решил вообще не приезжать?
Или, может, он, в конце концов, просто опоздал на поезд?
Вновь обуянный надеждой Генри ринулся в кассу.
– Простите, не подскажете, когда прибывает следующий поезд из Нового Орлеана?
– Вечером, в полседьмого, – ответил ему билетер.
Генри плюхнулся на скамейку и стал ждать. В полседьмого он все еще ждал. И в восемь тоже, когда все новоприбывшие уже нашли свои семьи и разошлись. В девять пришли уборщики и заскользили по бескрайнему мраморному морю вестибюля со своими швабрами; на путях все стихло. Луи не приехал.
Генри вывалился наружу, в сияющий огнями город, вмиг утративший весь свой блеск, и побрел в один знакомый клуб на Барроу-стрит, что в Виллидже. Он так хотел показать тут все Луи, а теперь… теперь оставалось только напиться или вздуть кого-нибудь. Можно и то, и другое.
– Виски, – бросил он бармену, шлепнув на стойку деньги, которые специально отложил на этот загул с Луи.
Теперь они значения не имели. Генри заглотил огненную воду, порадовался тому, как лихо она обожгла ему горло, швырнул еще двадцатку и протянул свою фляжку.
– Не желаете сделать пожертвование в фонд Жалости к Себе? Весьма достойная благотворительная организация, клянусь.
Тот пожал плечами и наполнил сосуд до краев.
Порядком нализавшись, Генри поплелся в телефонную будку и набрал собственный номер в Беннингтоне. Потом уперся лбом в стеклянную раздвижную дверь и, глотая из фляжки, стал слушать далекий жестяной звон в эбонитовой трубке.
На пятом звонке Тэта подошла.
– Никого нет дома.
Это было ее обычное «здрасте». Генри остро захотелось очутиться сейчас у них на кухне за заваленным всяким хламом столом.
– Это царевна Тэтакович из «Орфея»? – невнятно выдохнул он. – Примете звонок от этой скотины, Генри Дюбуа Четвертого?
На том конце повисла тишина.
– Пожалуйста, только не вешай трубку, – едва слышно прошептал он.
– Ген? Где ты? Что случилось?
Генри уставился в деревянный потолок телефонной будки. Слезы рекой побежали у него по щекам. Немедленно прекрати хлюпать, Хэл. Мужчины не плачут. Никогда. Так всегда говорил ему папа. Ну, вот, Генри определенно мужчина, и ему есть до хрена о чем поплакать.
– Луи так и не появился. Я потратил деньги из пианофонда и разозлил тебя, и все это зазря. Тэта, прости меня. Прости меня…
– Ох, Ген, – вздохнула она. – Просто давай жми скорее домой.
Генри рукавом вытер нос.
– Да?
– Да.
– Ты все еще моя самая лучшая в мире девочка?
– Ты от меня так просто не избавишься. Мы семья. Ступай домой.
– О’кей. Иду, – сказал Генри и повесил трубку.
Но сначала нужно было сделать одно дело.
Генри тащился по улицам Нижнего Манхэттена, мимо карантинных плакатов и темных, заколоченных заведений с объявлениями в окнах: ЗАКРЫТО ПО РАСПОРЯЖЕНИЮ ДЕПАРТАМЕНТА ЗДРАВООХРАНЕНИЯ ГОРОДА НЬЮ-ЙОРКА.
Он был все еще пьян, когда добрался до Чайнатауна. Квартал стоял пустынный и недобрый в своей неожиданной тишине. В «Чайном доме» практически никого не было, но Генри разглядел внутри Лин. Он помахал ей и жестом попросил выйти в переулок.
– Член воображаемого научного клуба Генри Дюбуа Четвертый на службу прибыл, – заплетающимся языком выдал он, потом попробовал отдать честь, но потерял равновесие и врезался в мусорный бак. – А ну, тс-с-с! – сказал он баку, прилаживая крышку на место.
– Ты, что ли, пьян? – шепотом осведомилась Лин.
– Вы изумительно наблюдательны – впрочем, как всегда, мадемуазель.
– Что случилось? Где Луи? Я думала, ты пошел его встречать.
– А! Вот мы и до самого сердца вопроса добрались. Или до отсутствия сердца, вернее. У кого-то из нас сердца определенно не хватает. Он, видите ли, не явился. Лин, мне нужно, чтобы ты пошла со мной. Мне нужны ответы.
– Не уверена, что это хорошая идея.
– Да? А мне кажется, что это охрененно мировая идея.
– Ты пьян.
– А у тебя глаз алмаз. Ты никогда не думала пойти в науку?
– Хреновый из тебя пьяница. Генри, послушай: в мире снов сейчас небезопасно.
– Я в курсе. Призраки. Чудовища. Твари в тоннелях, – Генри чуть не стек по стене вниз. – И вот к этому-то я и веду. Что, если с Луи вчера ночью что-то случилось? Что такое? Ты чего мне рожи строишь?
Лин втянула воздух, слегка постукивая зубами.
– Я разузнала по поводу О’Банниона и Ли. Они умерли в 1875 году. Их убили, Генри. Убила одна из обманутых ими девушек. Которая носила вуаль и слушала музыкальную шкатулку. Думаю, нам нельзя туда, Генри. Не сегодня, по крайней мере.
– Один час в мире снов. Вот все, о чем я прошу. Я не могу попасть на болото без тебя – для этого нужны мы оба. Ты сама знаешь.
– Тебе поспать нужно, а не на болото, Генри. По-настоящему выспаться. Нам обоим это не помешает. Давай поговорим завтра.
Генри задрал голову и уставился на холодные мертвые звезды.
– В завтра я больше не верю, – сказал он.
Возвратившись домой, в «Беннингтон», Генри обнаружил записку от Тэты: «Встречаюсь с Мемфисом. Скоро буду. Добро пожаловать домой, Пианист».
Новенькая, хрустящая пятидолларовая банкнота выглядывала из банки пианофонда. К боку ее был прилеплен кусок малярной ленты с надписью: ПИАНО-ФОНД. НЕ ТРОГАТЬ.
Генри пошел налаживать метроном. Он смутно понимал, что пьян, разозлен и обижен, а это далеко не лучшее состояние для прогулок по миру снов – но ему было решительно наплевать. Он хотел увидеть Луи. Он хотел ответов. И если Лин не желает составить ему компанию – что ж, он пойдет один. Вот заодно и выясним, хватит ли ему пороху все обстряпать самому. Мерное тиканье метронома быстро сделало свое дело: не прошло и пары секунд, как Генри отключился. Тяжкий гнет алкоголя утянул его на дно быстрее обычного.
Очнувшись в сонном царстве, он обнаружил себя не на улицах старого Нью-Йорка, а прямо на платформе станции, сиявшей сегодня так, будто ее специально по случаю начистили и отполировали. Все кругом купалось в золотистой дымке. Генри довольно улыбнулся: у него все получилось. Вопросом, почему и как, он даже не задался.
– Я иду в ми-и-и-ир сно-о-о-ов! – запел он, нетвердой походкой направляясь к черному кругу тоннеля – поезда ждать, вот еще!
Он вспомнил прошлую ночь и то, что они видели там, внутри, и запнулся на пороге, не решаясь войти. Но все, о чем он мог думать, был Луи. Луи…
– А ну к дьяволу! – пробормотал Генри и шагнул внутрь.
Туз пик
Пока «Певицы-Душечки» щебетали заглавную песенку, а мистер Форман мурлыкал вводную часть, Эви промокнула платком лоб и глянула на аудиторию. Люди обступали ее с предметами наперевес, смотрели голодными глазами. Но в мыслях у нее был только Сэм. Они должны были закрутить притворный роман, только и всего. Потом он спас ей жизнь, а она его поцеловала – и да, она сама этого хотела, уж это, по крайней мере, было ясно. А он… он целовал ее страстно и нежно, и так, что у нее сладко кружилась голова – и нет, Эви не хотела, чтобы он прекратил. Когда вчерашняя вечеринка наконец выдохлась и Эви села в такси домой, она долго смотрела сквозь заднее стекло, как он стоит один посреди забитой народом улицы, засунув руки в карманы, c улыбкой на устах, и смотрит, как она уезжает – а кругом, со всех сторон несутся машины, злобно сигналят, гудят, объезжают его, а ему хоть бы хны. Договор с Сэмом должен был облегчить ей жизнь, а вместо этого только еще больше все запутал.
– …и не забывайте, что Провидица-Душечка будет специальной гостьей Музея Американского Фольклора, Суеверий и Оккультизма сегодня на торжественном открытии выставки, посвященной пророкам. Церемония начнется, когда часы пробьют самую темную полночь! Жу-у-у-утко звучит, не правда ли, мисс О’Нил?
– Да, довольно-таки, – несколько скованно отозвалась Эви.
Сквозь стекло инженерного блока ей было видно мистера Филипса; судя по его физиономии, подобного использования радио поперек сценария мистер Филипс не одобрял.
– Итак, не пора ли пригласить нашего первого гостя, мистер Форман?
Мистер Форман понял намек.
– Леди и джентльмены, пожалуйста, поприветствуйте на сцене Мыльного Часа Пирса… мистера Боба Бейтмена!
Под вежливые аплодисменты вперед выступил мужчина – симпатичный и трогательно нервничающий.
– Как поживаете, мисс О’Нил?
– Теперь, когда вы здесь, – уже намного лучше, – ловко отстрелилась Эви, наслаждаясь хохотом зрителей. – Как я могу вам сегодня помочь, мистер Бейтмен?
– Я так рад с вами познакомиться. Вы такая шикарная девушка и все такое…
– Ах, мистер Бейтмен, это так ужасно мило с вашей стороны, – проворковала Эви. – Ой, это вы мне расческу принесли? Надеюсь, вы не хотите сказать, что у меня с прической полный швах?
В зале снова засмеялись. Публика сегодня была в ударе, она тоже – одно из лучших шоу за все время, ей-богу. Эви надеялась, что мистер Филипс это тоже заметил.
– Ах, нет, мисс О’Нил. Вы прекрасно выглядите, – сказал гость, и Эви натурально зарделась.
– Вы там поосторожнее, – заметил мистер Форман, к восторгу публики – Эта юная леди помолвлена с пророком.
– Какой счастливчик, – пробормотал Бейтмен, и улыбка у Эви на секунду утратила естественность.
Она действительно больше не знала, в какую игру они с Сэмом играют.
– Расческа принадлежала моему лучшему другу, Ральфи, – сказал мистер Бейтмен, и Эви щелчком вернулась в реальность.
– А. Ага, – прокомментировала она.
– Он погиб во время войны.
Из зала донеслось нечто неопределенно-сочувственное.
– Мне очень жаль, – сказала Эви. – Мой брат тоже был герой войны.
– Да, я слышал. Вот и подумал, что вы, возможно, поймете старого вояку вроде меня. Понимаете, штука в том, что на фронте Ральфи по-быстрому женился на какой-то молодой француженке, но я не знаю, как ее зовут, и… короче, все эти годы семья пыталась ее найти, и все никак. Думаю, вы понимаете… Я решил, вдруг вы сумеете нам хотя бы имя сказать.
– Конечно, – тихо сказал Эви, кладя ладошку на руку мистера Бейтмена. – Я сделаю, что смогу.
Мистер Бейтмен протянул ей расческу. Это был просто старый черепаховый гребешок, такой в любой аптеке купишь, ничего особенного.
Эви закрыла глаза, провела большим пальцем по краешку зубов. Приготовившись, она зажала гребешок между ладонями, мягко нажала и стала ждать.
Расческа, однако, не спешила делиться с нею своими секретами. Чтобы достать воспоминания, придется нырнуть поглубже. Делать такое во время шоу опасно, последствия могут быть непредсказуемы… но Боб Бейтмен был герой войны, аудитория ждала результатов. Нельзя отсылать его вон без ответа. Скрипнув зубами, Эви поднажала, сосредоточившись так сильно, что верхнюю губу закололи капельки пота; струйка побежала по спине. Она отбросила всякую осторожность: надо получить информацию, и плевать, как это выглядит со стороны.
Видение открылось, и голова Эви дернулась назад. От ощущений закружилась голова… кажется, она бежала. Нет. Это картинка двигалась вокруг. Деревья, камни, еще деревья… Она смотрела на них в окно… ага! Она в поезде! Эви задышала ровнее, пытаясь найти в видении какую-то опору. Наградой ей стала более стабильная картинка. Да, она была в купе поезда, набитом солдатами. На столике играли в карты. Худенький темноволосый парень откинулся на сиденье и писал что-то в дневник. Никакой девушки видно не было. Наверное, она где-то в другой части поезда. Что ж, если так, Эви ее найдет.
– Кто-нибудь знает, куда мы вообще едем? – поинтересовался писавший.
Он, кажется, нервничал. Его глаза… Было что-то знакомое в его глазах. Таких карих… печальных…
– Они никогда нам не говорят, – отозвался тот, что сдавал карты, не вынимая папиросы изо рта.
– Забавно, что не сказали…
– Все равно скоро узнаем, – сказал картежник. – Кто играет?
Чем дольше Эви была там, тем странно знакомее выглядели солдаты – но почему? Так, глубже не надо, оставаться на поверхности… на радио по-другому нельзя. Но Эви уже была глубоко. Она должна была докопаться.
За окном катился пейзаж. Деревья, холмы… падает легкий снежок.
Сдававший прижал карту себе ко лбу рубашкой наружу.
– Что у меня за карта? Ну? Кто скажет – Джо? Кэл?
– Туз пик, – раздался новый голос, такой ужасно знакомый, что из Эви чуть весь дух не выбило.
Улыбнувшись и тряхнув головой, владелец карты швырнул ее на стол картинкой вверх. Туз пик.
– Вот сукин сын, – сказал веснушчатый солдатик. – Опять угадал.
– Такой он, наш Джим, – сказал писавший, и внутри у Эви все похолодело.
Она узнала его. Солдат с пистолетом. Тот, что пытался застрелить ее на Сорок Второй улице. Руки у нее затряслись, колени подогнулись, по горлу поползла тошнота. Это уже слишком! Надо срочно выходить, но она не могла – пока еще не могла. Она обязана разглядеть его лицо – того, кто угадал карту. Она должна знать, кто…
А потом он оказался там, прямо перед ней. Улыбающийся, яркоглазый и такой молодой. Точно такой, каким она его запомнила.
– Ну, ладно, – сказал ее брат. – Кто из вас, парни, спер мой гребешок?
В следующее мгновение Эви соскользнула на пол. Вокруг поднялась какая-то смутная суета, голоса звучали, как из-под воды.
– Мисс О’Нил! Мисс О’Нил! – кричал Боб Бейтмен.
– Пожалуйста, все сохраняйте спокойствие! – это мистер Форман.
Взволнованный ропот из зала. Тревожные голоса:
– Заставьте ее прекратить!
– Как?
– Да сделайте же что-нибудь!
А потом кто-то догадался вытащить гребень из ее сведенных пальцев, разорвав связь. Эви пришла в себя, c хрипом втянув воздух, как утопающая, будто легкие ее на секунду перестали работать, а потом опомнились. Голова качалась на шее, софиты слепили глаза. Ноги едва слушались ее, но она все же попыталась встать.
Аудитория потрясенно ахнула. Одна из певичек кинулась поддержать ее. На языке у Эви был кровавый привкус; во рту, на щеке саднила ранка – наверное, она ее прикусила. Мистер Форман протянул ей стакан воды, и Эви жадно выхлебнула его одним глотком, нимало не заботясь, что попутно залила все платье. Оттолкнув певицу, она на нетвердых ногах двинулась прямо на Бейтмена.
– Где… где вы это взяли? – Эви едва не подавилась звуком; софиты были как кинжалы; из глаз и носа текло.
Еще немного, и ее, возможно, стошнит.
– Я же вам говорил, это моего друга, Ральфи…
– Это неправда! – наполовину выкрикнула, наполовину прорыдала Эви.
Аудитории это непредвиденное шоу никакого удовольствия не доставило. Люди пришли славно провести время и получить весточку из иного мира – про пропавшую собачку там, или про фамильные драгоценности, которые того и гляди поведают, что ты – давно потерянный родич какого-нибудь миллионера, а то и коронованной особы. Мистер Форман честно попытался спасти положение, но голос Эви перекрыл его лепет:
– Откуда у вас гребень моего брата?
– Эй, послушайте… мне просто нужна была небольшая помощь, – попробовал отбрехаться Бейтмен, явно больше растерянный, чем разозленный. – Я не обязан выслушивать такое!
Инженер из будки уже подавал отчаянные знаки мистеру Форману, который, опомнившись, сгреб певичек к микрофону. Там они немедленно затянули бодрую песенку, чтобы заглушить разворачивающуюся у всех на глазах драму. Боб Бейтмен вырвал злосчастную расческу у мистера Формана и устремился по центральному проходу к дверям, несмотря на грозно пылавшую над ними багровую надпись «В ЭФИРЕ». Эви, шатаясь, устремилась за ним под возмущенный ропот зрителей – это ее, разумеется, не остановило. Как упущенный мальчишкой мраморный шарик, она покатилась через вестибюль радиостанции – только бы догнать.
– Мистер Бейтмен! Мистер Бейтмен, а ну, стойте!
Тот лишь ускорил шаги. Она вырвалась через двери в вечернее безумие улицы. Холодный дождь ударил ее по ресницам тяжелыми, тучными каплями. Боб Бейтмен уже был на полпути по лестнице, но она кинулась за ним бегом и схватила за руку.
– Где. Вы. Взяли. Этот гребень? – прорычала Эви сквозь стиснутые зубы.
– Слушайте, я же уже вам сказал…
– Хватит врать! Вы врете, врете, врете!!! – Эви уже плакала навзрыд.
Устроить сцену прямо посреди Бродвея, где все на нее смотрят, – что может быть лучше… но Эви было уже все равно. Ей нужна была правда.
– Откуда вы знаете моего брата?
– Что?
– Моего брата, Джеймса! Он был на том поезде. Я видела его!
На физиономии Боба Бейтмена отразилась паника. Он быстро глянул в обе стороны вдоль улицы и наклонился к Эви, понизив голос.
– Послушай, душечка, это даже не моя расческа…
– Что?
– Она не моя, поняла?
– Н-но, в-вы сказали…
– Мне заплатили, чтобы я это сказал. Она не моя, – снова повторил он.
– Кто? Кто тебе заплатил?
– Понятия не имею. Какие-то парни в темных костюмах… Адамс! Напарник называл его мистер Адамс!
– Зачем они это сделали?
– А мне откуда знать?
– Отведи меня к ним!
– Ты спятила! – Эви вцепилась в него обеими руками. – Пусти!
– Нет, пока не отведешь меня к ним, – Эви вонзила ногти ему в руку.
– Ай! Пусти, кому говорю!
Он наступил ей на ногу; Эви взвыла – больше от потрясения и гнева, чем от боли, – и он сумел вырваться.
Поглядеть на бесплатный спектакль уже собралась небольшая толпа.
– Чокнутая! – сообщил Боб Бейтмен собранию. – Она чокнутая! Все эти пророки совсем рехнутые!
Когда мокрая, забрызганная грязью Эви вернулась в студию, Мыльный Час Пирса уже кончился. Она спряталась за каким-то мясистым растением в кадке, c широкими листьями; в фойе курила группа мужчин, слушая, как мистер Форман в колонках объясняет радиослушателям, собравшимся у домашние приемников, что «мисс О’Нил внезапно занедужила, утомленная общением с духами».
– Утомленная духами, как же, – процедил один из курильщиков.
Мистер Форман тем временем напомнил американской аудитории, что дальше по программе будет «Миссионерский час» Сары Сноу. «Оркестр Радиочудес» в сопровождении Певиц-Душечек сыграл милую, безобидную песенку, чтобы не оставлять домохозяек в расстройстве.
Эви подождала в дамском туалете, пока ее аудитория не рассосется и на смену ей придут почитатели Сары Сноу, чей утешительный голос вскоре загудел по всей ар-декошной твердыне Даблъю-Джи-Ай.
– А, Эви, вот ты где! – это оказалась Хелен, секретарша мистера Филипса.
Выглядела она чуть-чуть пристукнутой – настоящий вестник дурного.
– Милочка, мистер Филипс хочет тебя видеть.
– О-че-лют-но, – глазом не моргнув, отозвалась Эви. – Дай только в порядок себя приведу.
– Я ему скажу, что ты идешь, – Хелен ласково похлопала ее по руке.
Глядя в зеркало, Эви тщательно промокнула полотенцем лицо и волосы, вытерла паучьи потеки туши под глазами и нанесла на губы свежий слой помады.
Каблуки ее оптимистично цокали по мраморным полам, пока она поднималась к голгофе директорского кабинета. Легкой походкой она дошла до офиса мистера Филипса и, не сбавляя шага, прошла мимо и устремилась дальше, к задней двери. Только там она кинулась бежать.
Волк среди нас
ВЕДУЩИЙ: Добрый вечер, леди и джентльмены, слушающие нас сейчас на радиоволнах. C вами Реджинальд Локхарт, я сейчас нахожусь в студии Даблъю-Джи-Ай в Нью-Йорке. Где бы вы сейчас ни находились – от Черных Холмов Южной Дакоты до равнин Внутренних Штатов – и кем бы ни были: усталым после долгого трудового дня рабочим, возводящим величественные монолиты наших городов, или построившим собственную империю бизнесменом… всякий обретет утешение и спасение с помощью мисс Сары Сноу, посланницы Господа нашего в радиоэфире.
(Играет орган. Торжествующе улыбаясь, Сара Сноу в элегантном платье и пелерине, c букетом белых орхидей, пришпиленным к левому плечу, подходит к микрофону и широко раскрывает руки, словно желая заключить аудиторию в объятия.)
САРА СНОУ: Благодарю вас, мистер Локхарт. Добро пожаловать, братья мои и сестры! Я знаю, у вас выдался непростой вечер, но нет ничего в этом мире, что не смогла бы исцелить сила молитвы.
Уверена, вы все присоединитесь ко мне в молитве за мисс О’Нил. Не страшись, дитя, ибо Господь с тобою. Братья и сестры, всем вам известно, что нет в мире страны более великой, чем наша. «Америка, Америка, Господь пролил на тебя свою благодать, / И праведных твоих он Братством увенчал – от моря до сияющего моря…»
Да, воистину от моря до сияющего моря мы – пример всем остальным народам, светоносный факел свободы в мире темном и беспокойном. Господь поставил нас быть привратниками, и воистину каждый из нас есть провозвестник американизма.
(Одинокий мужской голос восклицает: «Аминь». Следует всплеск смущенного смеха над его импульсивным выкриком. Сара Сноу добросердечно улыбается.)
САРА СНОУ: О, аллилуйя, и аминь! Истинно так, брат. Не стесняйся показать всем, что Дух Святой движет тобою. Не прячь свет свой под спудом! Возрадуйся и воспой! Аллилуйя!
(Молчание.)
САРА СНОУ: Я сказала, аллилуйя!
(В аудитории слышатся отдельные крики: «Аллилуйя!»)
САРА СНОУ: Да, да, воистину аллилуйя, друзья мои! (Пауза.) Что же это такое – быть провозвестником американизма? Чего хочет от нас Господь в этой счастливейшей из стран? Ибо сказал Он: «Пасите паству свободы! Отвратите прочь старого, злоехидного мистера Волка и сохраните драгоценное стадо мое в безопасности!» И что же мы отвечаем ему? Отвечаем ли мы: «Эй, Господи, а ведь этот волк не такой уж плохой парень, а? Ну, попрет овцу-другую; уж такие они, волки, есть – надо же им что-то есть! И вообще я тут своими делами маленько занят – пусть кто-нибудь еще за стадом приглядит, а?»
(Сара Сноу смотрит в зал, медленно ведя взглядом по зрителям. Одинокий женский голос отвечает: «Нет».)
САРА СНОУ: Аминь, сестра, аминь. Ибо отвечаем мы: «Да, Господи! Пастырями свободы будем мы! Мы присмотрим за паствой твоею и узрим, как растет она и плодится, и распространяется во все пределы земли! От всех опасностей станем мы защищать пределы свободы, чего бы нам это ни стоило!»
(Рабочий сцены подает ей носовой платок; Сара Сноу промокает им лоб, потом отпивает воды из стакана.)
САРА СНОУ: Но иногда, братья и сестры, мы не знаем, как выглядит волк. Иногда он крадется рядом, облаченный в овечью шкуру, c анархизмом в сердце, вооруженный фальшивыми банкнотами – а то и способностью узнавать самые ваши сокровенные тайны, подержав в руках что-то из личных вещей. Иногда волк улыбается вам дружелюбно и говорит: «А что, я тоже люблю этих овец! Я тоже за свободу!» – а сам только того и ждет, чтобы вы повернулись спиной.
Нам нужно хранить бдительность, зорко выглядывая этих врагов нашего стада. Подозревайте волков среди нас! Мы должны ударить по волку, должны изгнать его, как Иисус изгнал торгующих из храма!
(В аудитории слышны выкрики: «Аминь!»)
САРА СНОУ: Я слышу, как мне говорят: «Но, Сара, сделав так, не предадим ли мы нашу свободу? Не ниспровергнем ли те самые идеалы, которые клялись защищать?» И отвечу я, что свобода требует жертв, братья и сестры мои.
Позволяете ли вы детям вашим творить что заблагорассудится? Конечно же нет. Вы хотите, чтобы игры их были безопасны, и потому говорите им: «Вон в том дворе не играй. От тех ребят держись подальше – знаться с такими не стоит». И как же вы поступаете, когда дети не слушают вас? Вы их наказываете. И делаете это исключительно из любви и заботы об их безопасности. Но вам приходится, да, вам приходится делать это, потому что вы любите ваших детей.
Братья и сестры, мы любим нашу Америку. И как драгоценных наших детей, мы будем пасти Америку – чтобы сохранить ее в безопасности. Там, на улице, есть другие, плохие дети. Анархисты, которые ненавидят наши свободы и хотят уничтожить их своими бомбами, и кровопролитиями, и профсоюзами. Бутлегеры и игроки, пятнающие нашу мораль грехом. Предсказатели и ворожеи, притязающие делать то, что одному лишь Господу Всемогущему под силу, ставящие себя превыше демократии, превыше самого Бога. Услышьте же ныне Слово Господне!
(Сара Сноу открывает Библию и читает вслух.)
«Не должен находиться у тебя проводящий сына своего или дочь свою чрез огонь, прорицатель, гадатель, ворожея, чародей, обаятель, вызывающий духов, волшебник и вопрошающий мертвых; ибо мерзок пред Господом всякий, делающий это, и за сии-то мерзости Господь Бог твой изгоняет их от лица твоего»[53].
(Сара Сноу закрывает Библию и прижимает ее к груди левой рукой, высоко воздевая правую.)
САРА СНОУ: А потому, братья и сестры, да будем мы верными пастырями Господа нашего и да изгоним волка от лица своего! От лица своего говорю, изгоним! Разоблачим в нем хищника, готового сожрать нас изнутри. Только так сможем мы быть спокойны и защищены. Только так воссияет Америка светочем всему остальному миру как истинный пастырь демократии, как провозвестник Явного Предначертания! Аллилуйя!
(На сей раз аудитория без дополнительных указаний взрывается общим хором: «Аллилуйя!» Сара Сноу тепло улыбается, потом поднимает руку, чтобы успокоить паству.)
САРА СНОУ: Да благословит Господь вас, да благословит Господь всех истинных американцев и да благословит Господь Соединенные Штаты Америки.
А теперь, пожалуйста, присоединяйтесь ко мне – споемте вместе гимн «Христианин, их видел ли ты?».
(Звучит орган. Хор запевает гимн.)
Христианин, их видел ли ты На земле святой? Как силы тьмы Обступают со всех сторон стопы твои? Христианин, восстань и сокруши их, Счет веди победам, а не поражениям, Силою сокруши их, Святого Пречистого Креста!Радио журчало в гостиных Миннеаполиса и на кухнях Саут-Сайда в Чикаго. Слово проникало в уши сенаторов и конгрессменов, проповедников, вещающих конгрегациям, и реформистов, сбирающихся на митинги по поводу сухого закона. Передача трещала по проводам через весь эфир и снова возрождалась словами в приемнике у босса, надзирающего за рабочими-мигрантами, у фермера, страдающего, не побьют ли урожай заморозки, у прораба на фабрике, готовящего нормы выработки для утренней смены.
Подозрительно смахивавший на марш гимн играл и в маленьком домике на озере Джордж, штат Нью-Йорк, где Уилл как раз имел беседу с одной маленькой девочкой. Как-то морозной ночью из чердачного окна девочка видела с десяток светящихся призраков, плывущих над скованной льдом поверхностью озера; взбаламученное небо над ними озаряли какие-то вспышки. Уилл сидел совсем неподвижно, а малышка рассказывала ему, что призраки, кажется, целеустремленно куда-то направлялись, будто их что-то тянуло, какая-то незримая нить… но тут им по дороге попалась лань, и они окружили ее и пали на добычу, и принялись пировать с такой устрашающей кровожадностью, что бедное животное и пискнуть не успел, а девочке пришлось сесть на пол и отползти подальше от окна, чтобы они не увидели ее и не пришли следующим номером за ней.
Гимн в студии между тем закончился.
Елеем благословения божьего Сара Сноу щедро помазала усталые сердца норовистой нации на пороге великих перемен. Следом пустили рекламу рубашек фирмы «Стрела»: такая из всякого сделает мужчину.
Безопасности конец
Лин шла повидать дядю Эдди в опере; тревога давила на нее тяжким грузом. Нельзя, ох, нельзя было давать Генри вот так срываться с цепи. Надо было задержать его, напоить чаем, дождаться, пока он хоть немного протрезвеет… Может, так они бы успели обсудить, что на самом деле происходит там, в мире снов, и как остановить женщину под вуалью, пока не стало слишком поздно…
– Куда это вы собрались? – полисмен поднял руку. – Сегодня вечером никто не покинет квартал, мисс, – приказ мэра.
– Я иду к своему дяде, он живет дальше по этой же улице.
Полисмен оценил ее костыли и кивнул.
– Ступайте, мисс.
Опера вся грохотала: двое дядиных учеников прибивали размалеванный холст декорации к деревянной раме. Двери огромной гардеробной были распахнуты; внутри дядя обметал пыль с многоцветных костюмов. Лин потрогала изогнутое фазанье перо на головном уборе Дао Ма Дань.
– Дядя, а как можно изгнать призрака?
Дядя замер, не закончив движения.
– Ну и странные у тебя нынче вопросы, девочка.
– Я гипотетически, – быстро сказала Лин.
– Гипотетически? В научных целях, значит? – уточнил дядя, внимательно глядя на Лин.
Она изо всех сил постаралась сохранить никакое выражение лица, и через мгновение дядя вернулся к своим костюмам.
– А твой призрак – он китаец или американец?
– Понятия не имею, – честно сказала Лин.
– Ну, если китаец, то у нас считается, что его первым делом надо правильно похоронить. В китайской земле. Нужно совершить все нужные ритуалы и прочитать молитвы, чтобы дух мог наконец упокоиться.
– А что, если это невозможно?
– Нужно положить жемчужину в рот трупа. Если же призрак американец… – дядя задумчиво прищурился, – объясни, что ему ни цента не заплатят за то, что он является живым, он и уйдет. Эй, осторожнее!
Дядя спешно переключился на сцену, где двое рабочих воевали с огромным холщовым задником, который шел волнами и грозил рухнуть им на головы.
– Лин, хочешь увидеть что-то особенное?
Она кивнула и поплелась за дядей к краю сцены. Рабочие избежали катастрофы, но задник теперь гордо смотрел тыльной стороной в зал.
– Учиться вам еще и учиться, – вздохнул дядя. – Переверните его, будьте так добры. Вот в эту сторону.
Рабочие очень медленно развернулись и прислонили задник к стене, на сей раз расписанной стороной в зал.
– Красота, правда? – сказал дядя Эдди. – Это оригинальный холст с последнего представления оперы. Они хотели привлечь американскую аудиторию и потому сделали постановку больше похожей на американскую пьесу, c декорациями.
Зал неудержимо сошелся клином, все растаяло, оставив в фокусе только освещенную сцену. У Лин сперло дыхание, будто кто-то вдруг выжал ей весь воздух из легких. Она уставилась на картину, едва понимая, что перед ней: золотые холмы… луг с разноцветными цветами… солнце сияет… красные черепичные крыши китайской деревеньки и окутанный туманом лес на заднем плане…
Все точно так, как она видела каждую ночь во сне, встречаясь с Вай-Мэй.
Это была ужасно красивая опера. Настоящее волшебство! Теперь всякий раз, как мне нужно, я могу уйти туда – в уме…
И тут же все ужасные вопросы последних дней обернулись другой стороной, открывая начертанные там ответы, от которых у Лин кровь так и застыла в жилах. Каждую ночь, когда они приходили в сон, Вай-Мэй уже ждала их там. Она никогда не была на станции или наверху, в городе, как Лин и Генри. А когда Лин спросила ее о пейзаже сна, что та ответила? Я сама сделала его. Она толковала что-то о Малберри-стрит и бандитской ночлежке – а ведь это были всего лишь тени воспоминаний с Пяти Углов, давно выбеленные временем. И потом, эти О’Баннион и Ли, которые вроде бы как раз сейчас везли ее в Америку, а на самом деле уже полвека как мертвы и позабыты… Убиты в 1875 году… Убийство! Убийство! Убиты девушкой под вуалью…
Все ключи уже давно были на виду, и Джордж пытался заставить ее увидеть их. Тогда, в тоннеле, он велел ей проснуться. Он хотел, чтобы она поняла все про призрака и про то, кем он на самом деле был.
А кто предостерегал, чтобы они не ходили в тоннель? Вай-Мэй.
Вай-Мэй и была этим призраком…
Но что, если какая-то ее часть до сих пор этого не знает? Что, если с помощью снов она борется с этим знанием? Нужно срочно поговорить с Генри, немедленно! Вот только бы он не был пьян… Бедняга, так расстроился из-за Луи… который так и не объявился на вокзале.
А ведь Луи тоже никогда не появлялся на поверхности, вспомнила Лин. Как и Вай-Мэй, он всегда ждал их в мире снов, мерцая на солнце… Мерцая… В голове у нее сделалось легко и пусто: до Лин наконец дошло, какая мысль не давала ей покоя все последние дни, ходя кругами на глубине, но не всплывая на поверхность. То, что Генри сказал тогда про шляпу: она-то думала, что шляпа его, но изначально она принадлежала Луи.
А ведь Лин с самого начала говорила Генри: она умеет находить только мертвых.
Хор полицейских свистков вдруг взвыл на улице; ему ответили сирены. В окно Лин увидала гурт полицейских, марширующих по Дойер-стрит.
– Что там происходит?
– Тс-с-с! – Дядя Эдди потушил весь свет, и они с Лин приникли к окнам.
На той стороне улицы полиция взломала дверь квартирного дома; жильцов повели наружу, раздались крики. Людей стали запихивать в полицейские фургоны. Грузовик с прожектором в кузове протиснулся по узкому переулку; раскаленный белый луч выхватил гроздья перепуганных лиц за оконными занавесками. Двое человек попробовали выскочить из окна квартиры на балкон второго этажа, но внизу пожарной лестницы их уже ждали копы с дубинками. Все улицы были запружены полицией, загонявшей и бравшей в кольцо жителей Чайнатауна; отовсюду неслись свистки. Не все шли по доброй воле, кто-то кричал: «Вы не смеете так с нами обращаться! Мы люди!» Раздался усиленный мегафоном голос, по-английски сообщивший, чтобы никто не двигался с места и что это облава.
В тени по улице крался Счастливчик – официант из «Чайного дома». Вот он кинулся вперед сквозь уличный хаос и бегом преодолел последние метры, отделявшие его от оперы. Дядя Эдди впустил его и подождал, пока тот отдышится.
– Мэр объявил полный карантин, – наконец сумел произнести Счастливчик. – Нас отправляют в лагерь временного задержания.
– Где мои родители? – ахнула Лин.
– Папа велел мне выбираться через заднюю дверь и бежать прямиком сюда. Я едва спасся.
– С дедушкой все в порядке? – взмолилась Лин.
– Я пойду в Ассоциацию и посмотрю, что можно узнать у юристов, – дядя Эдди потянулся за пальто и шляпой.
– Они же и тебя заметут, дядя, – сказал Счастливчик.
– Значит, так тому и быть. Я не намерен сидеть тут и ждать, как трусливая собака.
– Мистер Чань велел сделать все возможное, чтобы они не взяли Лин!
Лин было впору разорваться. Она хотела пойти с дядей, найти маму и папу, но, c другой стороны, ей срочно надо было отыскать Генри и сообщить ему, до чего она додумалась насчет мира снов.
– Дядя? – в глазах ее блестели слезы.
– Ты останешься здесь и будешь ждать, – тот распахнул перед нею дверь гардеробной. – Я вернусь за тобой, как только переговорю с Ассоциацией.
Он помог Лин забраться в чулан, где она села на пол, скрытая за кучей тяжелых костюмов, и пристроила рядом свои костыли.
– Здесь тебе ничего не грозит, – ободряюще сказал дядя и закрыл дверь.
Но Лин знала, что безопасных мест в Чайнатауне больше не осталось – нигде. Особенно когда люди кругом ненавидят даже самую мысль о тебе. Когда твои сны населяют призраки… Лин закрыла глаза и стала слушать, как ее соседей хватают и увозят куда-то в ночи. Когда полиция ворвалась в темную оперу и принялась ее обыскивать, она затаила дыхание. Гардероб они, разумеется, тоже открыли, но, увидав там только вешалку с костюмами, закрыли и ушли. Целую вечность Лин пролежала на полу; в ногах немилосердно кололо. Когда все стихло, она рискнула выползти и встала во тьме, не зная, куда ей идти и что делать. Потом решительно оторвала жемчужину и фазанье перо с костюма Дао Ма Дань – надеюсь, дядюшка простит! – и засунула то и другое поглубже в карман. Поглядев в щелочку двери наружу и убедившись, что на улице никого нет, она вышла из театра и двинулась вперед по зловеще пустынным улица Чайнатауна, на каждом шагу оглядываясь, не идет ли полиция. Сейчас родной квартал до боли напоминал тот самый сон. Придушив всхлип, Лин юркнула в «Чайный дом» и, хрустя битыми тарелками на полу, прокралась к телефону, где живо отыскала в книге адрес «Беннингтона».
Прихватив шляпу Генри, она нахлобучила ее себе на голову и, стараясь держаться в тени, поспешила к станции надземки: до Манхэттена было неблизко.
Вечеринка продолжается
На вечер предсказывали северо-восточный ветер, и он уже начал разминаться перед выступлением, трепля от руки расписанный баннер, который Мэйбл и Джерико вывесили над парадным входом в музей, и играя с надписью. Сейчас, например, на нем читалось:……СТАВКА П…ОРОКИ ДНЯ!
Внутри те же двое лиц наводили последний лоск на пророческую экспозицию. Мэйбл красиво раскладывала треугольнички сэндвичей с кресс-салатом на серебряных подносах, которые позаимствовала в буфетной «Беннингтона»; Джерико прилаживал к экспонатам последние карточки с аннотациями.
– Симпатично выглядит, – поделилась Мэйбл, внезапно оказавшись рядом с ним.
– На данном этапе – да, – согласился Джерико. – Без твоей помощи мне бы это не удалось, Мэйбл. Спасибо.
Хорошо, что ты это понимаешь, подумала она.
– Да не за что, – сказала Мэйбл.
Отряхивая дождь с пальто, в вестибюль ввалился Сэм.
– Погода сегодня дрянь, – сообщил он.
– Надеюсь, это не помешает людям прийти, – забеспокоилась Мэйбл. – Пухло выглядишь, Сэм.
– Спасибо, Мэйбл. Ты в целом тоже. А где Эви?
– Я думала, она с тобой придет!
Сэм, уже наполовину вылезший из сырого пальто, тяжко вздохнул, влез обратно и застегнулся.
– Держите тут все на льду, – он подхватил треугольный сэндвич с подноса и сунул в рот. – Скоро вернусь с нашей почетной гостьей.
– Ты ведь знаешь, где она? – спросила Мэйбл, восстанавливая на подносе испорченную композицию.
– По крайней мере, у меня есть идея.
Некоторое – весьма небольшое – время спустя Сэм ворвался в ресторан под «Уинтропом» и быстро проложил себе путь через толпу. Группка порядком нализавшихся гуляк склонилась над фонтаном, куда кто-то запустил маленькую молотоглавую акулу. Рыба растерянно кружила в мелкой воде, пока общество тыкало в нее пальцами и хохотало. Эви в окружении придворных заседала за большим столом. Мужчины и женщины с легкими улыбками и еще более легкими убеждениями, казалось, жадно пожирали каждое слово (доведенное уроками сценической речью до полного совершенства), срывавшееся с ее губ. Некий джентльмен, сидевший как-то уж слишком близко к Эви, как раз перебил ее и принялся рассказывать какую-то очевидную, c точки зрения Сэма, скукотень.
Сэм решительно подошел к столу и постучал хозяйку бала по плечу.
– Ой, привет, Сэм! – радостно завопила Эви, уже явно преодолевшая половину пути до отметки «полное свинство».
– Эви, можно тебя на два слова?
– Слушай, а это не может подождать? – вмешался немолодой гость с тонкими усиками. – Берти как раз рассказывал нам потрясающую историю про…
– Уверен, это офигеть какая интересная история, друг, – перебил его Сэм. – Пойду, пожалуй, завещание напишу – на тот случай, если сдохну от смеха. Эви, два слова.
– Вот я бы ни за что… – досадливо начала одна из девиц.
– А вот это крайне сомнительно, – оборвал ее Сэм.
Чуя беду, Эви нетвердо встала – держите мой стул теплым, а напитки – холодными, мальчики! – и двинулась за Сэмом в уголок. На ее затканном бисером платье где-то распустилась строчка, и теперь за ней тянулся след из крошечных стеклянных бусинок, словно за какой-то экзотической птицей, решившей вдруг полинять.
– В чем дело, Сэм? Почему ты так грубо себя ведешь с моими друзьями?
– Это не твои друзья. Зато твои настоящие друзья гадают, где тебя носит. Ты что, забыла?
Ее пустые глаза подтвердили, что да.
– Вечеринка по случаю открытия пророческой выставки в музее. Сегодня. Ты – почетная гостья.
Эви прикусила губу и потерла лоб.
– Сэм, вот честно… я сегодня не могу.
– Что? Ты что, заболела?
Сэм прижался губами к ее лбу, и в животе у Эви знакомо затрепетало.
– Нет. Но я… у меня было скверное шоу, Сэм. Прямо совсем скверное.
– Значит, в следующий раз будет лучше.
– Нет, ты не понимаешь, – промямлила она.
– Я понимаю, что ты нам обещала, Эви.
– Да. Да, обещала. Я… мне так жаль, Сэм. Дико жаль, но… я просто не могу.
Сэм скрестил руки на груди.
– И почему же?
– Да не могу, и все. О, извините! – Эви поманила проходившего мимо официанта. – Будете душкой и принесете мне еще один Венерин чаёк?
– Конечно, мисс О’Нил!
– Знаешь, почему они его так называют? Потому что после двух бокалов не чувствуешь рук, как Венера Милосская, – пролепетала Эви, пытаясь выдавить улыбку; голова у нее болела, а душа была в клочья.
Ну да, теперь она всех подставила… Ладно, справятся как-нибудь. Там и без нее все отлично выйдет. Ну, не может она показаться на людях сегодня в музее – только не после этого проклятого шоу. Она и Сэму-то едва могла в лицо смотреть. А он глядел на нее с выражением, слишком напоминавшим презрение, – оно пробилось даже сквозь пелену алкогольного тумана, в который она усердно погружалась последние несколько часов.
– И это все, чего ты хочешь? – горько спросил Сэм. – Веселиться?
– Да кто бы говорил?
– Веселиться я люблю. Но не все же время! – он выдержал ее взгляд.
Эви покраснела.
– Если ты сюда явился, только чтобы вывести меня из себя, поздравляю, миссия выполнена. Теперь можешь проваливать.
– Друзья рассчитывали на тебя.
– Ну, и зря, – пробормотала она. – Хочешь, чтобы я снова пошла в тот музей? Болтала о призраках? Тебя не было в том доме с… c этой тварью. Ты понятия не имеешь, каково это было! – ее глаза налились слезами. – Джерико спроси! Он знает. Он понимает, через что я прошла.
Она уже специально накручивала себя. Да, завтра наутро ссора с Сэмом будет еще одной галочкой в списке всего, за что она себя ненавидит, но сейчас у нее развязался язык, и она уже никак не могла остановить сыплющиеся с него слова.
– Я до сих пор вижу этих… чудовищ, лезущих из горящих стен. И слышу, как Страшный Джон говорит – предупреждает меня о брате! Он знал про Джеймса, Сэм! Стоит мне остановиться, и я вижу это все как наяву. Вот поэтому-то я не останавливаюсь… и больше таких приключений себе на голову не ищу, понятно? И каждую ночь перед сном – каждую, Сэм! – я молюсь, чтобы эти картины уже пропали куда-нибудь из моей головы. А когда молитвы не работают, я прошу джин мне помочь.
На горизонте черепа уже собиралась мигрень. Она снова дала Сэму втянуть себя в это… еще одна ошибка.
– Прости, что я не Джерико, – холодно сказал Сэм.
– Прости меня за все, – пробормотала Эви.
– И за прошлую ночь?
Она не ответила.
– Эви, моя дорогая! – воззвал усатый джентльмен откуда-то сбоку. – Ты все веселье пропустишь!
– Даже не смейте начинать без меня! – закричала она, кулачками вытирая слезы.
Сейчас, c размазанной тушью и алыми, изящным луком очерченными губами, Эви напомнила Сэму эдакий новогодний подарочек, какие делают вообще всем гостям вечеринки, а не тем, кого знают и любят: в блестящей обертке, развернутый, рассмотренный – и выброшенный. Комментарий насчет Джерико оказался больнее, чем он ожидал. Куда больнее. Он все равно попытался это проглотить.
– Эви, – сказал он, мягко беря ее за руку. – Вечеринка не может длиться вечно.
Она поглядела на Сэма вызывающе, но вместе с тем и чуть-чуть моляще; голос ее был едва слышен.
– А почему нет?
Она вырвала у Сэма руку.
Он отпустил и еще некоторое время стоял, глядя, как она бежит через зал и бросается в волны безудержного гедонизма.
Забудь
Когда Генри вступил в тоннель, в темноте над ним тут же зашевелились смутные тени. Теперь он знал, что эти твари путешествуют между мирами – естественным и сверхъестественным, между реальностью и сном. Пылающие глаза следили за каждым его шагом. Тени пробовали воздух вокруг Генри, вбирали его запах, но по какой-то непонятной причине отказывались следовать за ним, и он вышел в лес и двинулся в сторону болот, громко зовя Луи по имени. Возле хижины все было тускло и серо: ни лучика солнца не играло на волнах, ни колечка дыма не поднималось из трубы. Ни единая скрипичная нота не встретила его на крыльце. Он глянул в окно, но внутри было хоть глаз выколи. Он схватился за дверь, но рука прошла сквозь нее, как сквозь воду. Паника холодным вьюном обвилась вокруг сердца.
– Луи Рене Бернар, лучше тебе ответить, черт тебя раздери!
Генри в сердцах пнул дерево – c тем же успехом можно было пинать воздух. Тогда он упал на все еще твердую землю и разразился злыми слезами.
– Генри?
Услышав этот голос, он вскочил. Вай-Мэй стояла в устье тоннеля. Ее одежда текла, менялась, словно пока не решила, чем ей хочется быть – старомодным платьем или привычной простой туникой. Все в ней выглядело каким-то эфемерным.
– А Лин с тобой? – спросила Вай-Мэй.
– Нет, я пришел один. Мне нужно… нужно найти Луи. Спросить, почему его не было сегодня на вокзале. Я весь день его прождал. Он так и не появился.
Вай-Мэй шагнула через порог в мертвую траву. Щеки ее были бледны, зато глаза сверкали.
– Бедняжка Генри. Ты очень хочешь быть с ним, правда?
– Да. Это все, чего я хочу.
Она положила руки ладошками на безжизненный испанский вяз. Там, где она коснулась его, дерево расцвело.
– Чтобы творить сны, нужно так много сил.
Она пробежала пальцами по траве: краски вспыхнули и растеклись аж до самой реки – волнующийся под ветром зеленый ковер.
– …чтобы все было таким, как ты хочешь.
Вай-Мэй выдохнула – три коротких свирепых толчка – и воздух тут же вспыхнул птичьими трелями, стрекозами и небесной синевой. Болотный пейзаж тоже медленно воспрянул к жизни, словно запущенная механиком карусель.
– …чтобы прогонять боль.
Вай-Мэй оглянулась на тоннель и нахмурилась.
– Иногда я… она вспоминает. Вспоминает, как они обещали ей все: мужа, дом, новую жизнь в новой стране – лишь затем, чтобы разбить ей сердце. Но больше им не остановить ее мечту. Она хочет помочь тебе, Генри. Да, – сказала Вай-Мэй, моргая, словно только что вспомнила нечто очень важное и давно забытое. – Она хочет, чтобы я помогла тебе быть с Луи. Ты же хочешь его увидеть?
Генри стало слегка дурно; сон чуть размылся по краям.
– Да, – сказал он. – Да.
Откуда-то из глубин платья Вай-Мэй извлекла музыкальную шкатулочку.
– Что ты готов отдать, чтобы снова увидеть его? Чтобы исполнить свою мечту?
Мечты… Ох, эти мечты. На них Генри протянул большую часть своей жизни, ими он питался, в них обитал. Всегда не совсем здесь, все время где-то там, у себя в голове. Он и наяву был такой же сонный гуляка, как и в царстве сновидений. И он не хотел больше просыпаться.
– Все что угодно, – сказал он.
– Обещаешь?
– Да.
– Тогда посмотри со мной этот сон, – Вай-Мэй протянула ему шкатулку.
Генри повернул рычажок. Жестяная песенка понеслась изнутри, и он шепотом запел вместе с ней:
– Милый мечтатель, узри же меня. Звезды и росы з-заждались т-тебя…
Спиртное и усталость взяли над ним верх. Песенка играла, а Генри думал обо всем, что потерял: родителей, любящих и сильных, которых он так хотел, хоть и знал, что это просто несбыточная детская мечта… Легкую счастливую жизнь, какой она была с Тэтой… Музыку, которая жила в нем, рассказывала о нем и которую он так и не сумел выпустить в мир… Он плакал по милому бедняге Гаспару и по бесконечным летним ночам в «Селесте», когда мальчишеские руки беззаботно вспархивали на хрупкие мальчишеские же плечи… Но больше всего он плакал по Луи. Как он мог бросить его, Генри, вот так? Как вообще можно жить, зная, что любовь столь непрочна?
– Забудь, – сказала Вай-Мэй и поцеловала его в щеку.
– Забудь, – сказала она и поцеловала в другую.
– Забудь, – она высоко подняла кинжал.
Нежным поцелуем она коснулась его губ и погрузила тонкое лезвие в грудь Генри прямо над сердцем. Он ахнул от боли, а она вдохнула свой сон ему в рот. Сон потек в Генри, вымывая все воспоминания, все заботы, всю волю, а с ними и саму жизнь. На мгновение ему захотелось воспротивиться, но все это было неизбежно, неотвратимо и так сладко… – как перестать наконец бороться и утонуть после бесплодных, выпивающих последние силы попыток выплыть. Холод уже растекался по его жилам, наливая члены тяжестью, наполняя все его существо болезненным голодом, утолить который могли только мечты – больше, больше мечтаний… Генри падал в глубокий-преглубокий колодец. В колодце звучала песенка, искаженная, замедленная… Сквозь последние трепетания век он видел радиоактивное сияние извращенных, изломанных тварей, глядящих на него из тьмы.
Вот они открыли рты – сонсмотриснамисонсонсон – и их хор, разрастаясь, влился в песню, гремя кошмарной нестройной колыбельной.
Вся борьба закончилась. Армия снов надвинулась на него, Генри закрыл глаза и упал еще глубже.
Настойчивый собачий лай разбудил его. Генри открыл глаза и увидел синее небо в мерцающих бело-розовых предвечерних облачках. Кажется, он целую вечность проспал. Острия травы кололи ему руки и шею; кругом пахло теплой землей и рекой, а еще сладким клевером и испанским мхом. Еще один гавк – Генри повернул голову вправо. Сквозь высокую зеленую траву к нему мчался Гаспар – взволнованный, радостный, как щенок. Слюнявый язык окатил ему липким восторгом всю щеку.
– Гаспар, ко мне, мальчик, – Генри сел и зарылся лицом ему в шерсть.
В конце тропинки стояла хижина, и дым завивался колечками из трубы – Генри чувствовал запах. Деревянный и сладкий, он жег ему горло – совсем как надо. Не иначе как котелок джамбалайи уже поспевает на огне. Генри почти чувствовал острый вкус супа.
Где-то заиграла скрипка – конечно же, «Алую реку». Гаспар с гавканьем унесся к хижине, и Генри пошел следом. Стрекозы висели над бахромчатыми дисками подсолнухов. Птицы пели июньские песни, потому что непременно должен быть разгар лета. Здесь всегда будет лето, это Генри знал твердо. Он вернулся. Он дома. Дверь открылась.
Вот кровать у стены и маленький стол, а при нем два стула и табурет. И Луи сидит там, сказочно красивый, как всегда, и скрипка угнездилась под его небритым подбородком. Потоки солнечного света льются в окна, купают Луи в золотом сиянии. Он улыбнулся Генри.
– Mon cher! Где же тебя носило?
– Я… – Генри начал было отвечать, но понял, что как-то не очень помнит, где его носило и на что была похожа та, другая жизнь… одинокая? важная? прекрасная? ужасная? Кажется, он за что-то был сильно зол на Луи… Но убей бог, теперь не мог вспомнить, за что. Теперь оно не имело никакого значения. Все растаяло, улетучилось, когда Луи вброд перешел солнечные лужи на полу и поцеловал его. Это был самый сладкий поцелуй на его памяти, и Генри захотелось еще и еще. Генри повалил Луи на кровать и прокрался ему под рубашку, и тепло кожи возлюбленного было как настоящее чудо…
– Я больше никогда тебя не покину, – сказал Генри.
А снаружи вьюны распускались пурпурно и жирно, расползаясь по земле, будто свежий синяк…
Знай
– Ты нашел Эви? – поинтересовалась Мэйбл, когда Сэм ворвался наконец в библиотеку и швырнул пальто медведю на лапы, а себя – на диван.
– Ага. Прости, детка, нам придется обойтись без нее.
– Так она не придет? – Джерико снял с медведя пальто, протянул Сэму и держал, пока тот не встал, взял предмет облачения и повесил его, как полагается, в шкаф.
– Напомни мне одолжить Эви немного ума, – проворчала Мэйбл.
– Лучше сэкономь, – посоветовал Сэм. – Она не стоит ни единой части тебя.
Раздался стук в дверь, за которым последовала серия других, все более настойчивых.
– Я знала, что она все-таки придет! – Мэйбл кинулась через холл и открыла, но вместо Эви обнаружила насквозь продрогшую Лин.
– Ой. Если вы на вечеринку, то, боюсь, еще слишком рано.
– Я ищу Генри Дюбуа. Я его друг. Попробовала позвонить к нему на квартиру, но он не отвечает. Потом я вспомнила, что пророческая выставка открывается сегодня, и подумала… Прошу вас, можно мне войти? Дело очень важное.
Такси с визгом остановилось у крыльца, и из него, все еще в сценическом костюме и гриме, выпрыгнула Тэта. Она кинула шоферу деньги через пассажирское окно и с криком: «Сдачу оставьте себе!» – понеслась вверх по ступенькам.
С заднего сиденья неуклюже вылез Мемфис, держа на руках Генри.
– Да что случилось-то? – чуть не крикнула Мэйбл в дверях.
– Эт-то Генри… – выдохнула Тэта, глядя на нее дикими глазами. – Прихожу я домой, а метроном тикает. Он ушел в сон. И вот вам, глядите… – она показала на бледные красные пятна, уже обсыпавшие шею юноши. – Я не могу его добудиться. Думаю, у него сонная болезнь.
Рот у Генри был приоткрыт, глаза ходили под веками. Еще одно пятно заалело на коже.
– Мне позвонить доктору? Или моим родителям? – спросила Мэйбл.
– Доктор тут не поможет, – вмешалась Лин. – И родители тоже. Это все она: она забрала его. Лучше вам меня впустить.
Ветер злобно выл за окнами, стучал по крыше музея. Лин сидела в библиотеке среди совершенно незнакомых людей; Генри спал на кушетке в углу… Драгоценные минуты неуклонно утекали в никуда.
– Меня зовут Лин Чань, – начала она. – Я – сновидец.
– Тот, другой пророк, – тихо отозвалась Мэйбл.
Лин кратко ввела собрание в курс дела: их путешествия с Генри и все, что они видели и пережили за это время. Пневматическая транспортная компания мистера Бича; странная временная петля с участием женщины под вуалью, которую они лицезрели каждый раз; откровения сестер Проктор и то, что она сама узнала о Плакальщице: как она является в местах своих прошлых мытарств; как, кирпичик за кирпичиком, призрак за призраком, строит машину снов – великий монумент иллюзий, призванный защитить людей от скрытой в воспоминаниях боли.
– В общем, Генри в беде. Ему нужна помощь. Наша помощь.
– Так, погоди, – сказала Мэйбл, – выходит, твоя подруга Вай-Мэй – на самом деле призрак, женщина под вуалью. Они с ней – одно и то же?
Лин кивнула.
– То есть она даже не понимает, что она призрак, – Мэйбл задумчиво поглядела на Тэту. – Прямо как говорил доктор Юнг: теневое «я».
– Вот это, я понимаю, тень, – присвистнул Сэм. – С моей всего-то и толку, что я чуть выше кажусь.
– Она на самом деле не понимает, что творит, – подтвердила Лин.
– Вот только не надо этой чуши! – вдруг рассвирепела Тэта. – Это вранье со времен Адама в ходу. Всё она знает. Где-то совсем глубоко, но знает, сто пудов. И я не успокоюсь, пока она не сдохнет.
– Вообще-то она уже сдохла, – заметил Сэм.
Тэта сверкнула на него глазами. Сэм поднял руки, сдаваясь.
– Да я так просто, уточнил.
– Ты сказала, станция была на Пневматической дороге Бича? Уверена? – встрял Мемфис.
– Уверена, – подтвердила Лин.
– Это тебе о чем-то говорит, Поэт?
Он полез во внутренний карман за записной книжкой.
– Исайя меня про нее спрашивал. Даже картинку на самом деле нарисовал. Исайя – это мой брат, – объяснил он, открывая блокнот на рисунке: пневматический поезд и светящиеся призраки, лезущие из тоннеля.
– Это оно, – прошептала Лин. – Именно туда мы и отправляемся каждую ночь. Но как твой брат…
– У Исайи есть свой дар. Он видит проблески будущего – примерно как радио, которое ловит сигнал, – Мемфис повторил то, что много месяцев назад объяснила ему на кухне сестра Уокер.
Кажется, перед отъездом она сказала, что ей нужно поговорить с ним, Мемфисом? Дьявол, ну, почему он не поймал ее на слове! Теперь им и правда будет о чем поговорить, когда она вернется, и никакая тетя Октавия уже не помешает.
– Есть и еще кое-что. Помните ту леди, которая выздоровела от сонной болезни, миссис Каррингтон?
Сэм пожал плечами.
– Типа да. Она же во всех газетах была. Обнималась с Сарой Сноу на фотографии.
Мемфис как следует набрал воздуху в грудь.
– В общем, на самом деле ее исцелил я.
– Ты умеешь исцелять? – Лин так и воззрилась на него.
– Иногда, – тихо сказал Мемфис. – Но такого целительского транса у меня никогда не было. Это было больше похоже на сон, чем на транс. Я не понимал, что реально, а что нет. И вот там, в этом сне… думаю, я там видел ее. Она меня чуть не забрала всего – так что да, насчет силы я вам верю.
– Я вот пытаюсь все это осмыслить… – сказал Сэм, выпрямляясь.
– Только не перенапрягись с непривычки, – посоветовал Джерико.
– Этот призрак, Вай-Мэй, она же женщина под вуалью, или кто она там еще, может ловить людей в ловушку внутри сна?
– Думаю, да, – ответила Лин. – Судя по тому, что мы с Генри видели в тоннеле, она дарит людям их лучшие сны, и пока они не противятся, они остаются внутри. Но если они начинают бороться, сон превращается в самый их худший кошмар.
– Но почему она так делает? – спросил Джерико.
– Ей нужны их мечты. Она ими питается. Они как батарейки, на них работает ее мир сновидений. Именно поэтому жертвы сонной болезни словно сгорают изнутри – это слишком сильно для них; постоянные мечты разрушают, уничтожают человека.
– А что происходит со сновидцами, когда они умирают? – спросил Мемфис, и в комнате вдруг стало очень тихо.
– Они все равно не могут перестать мечтать, хотеть того, что им нужно, – промолвила наконец Лин. – Они ненасытны… и превращаются в голодных призраков.
– Монстры в подземке, – пробормотал Мемфис.
Сэм сурово поглядел на него.
– А вот это мне совсем не нравится. «Монстры в подземке» – никудышное название для большого веселого танцевального номера.
– Сэм, заткнись, – распорядилась Тэта. – Мемфис, ты о чем?
Мемфис кружил по одному и тому же сегменту ковра.
– Исайя все толковал мне о кошмаре, который ему снится – про леди, которая в тоннеле делает монстров. Про «монстров в подземке». Я решил, он выдумывает, чтобы ему не влетело за то, что исчеркал мне весь блокнот. Но, честно сказать, у меня было такое скверное ощущение, что он правду говорит.
– Исчезновения, – сказал Джерико. – Люди пропадают. Об этом во всех газетах было.
– Думаешь, это все как-то связано? – спросила Мэйбл.
– Определенно связано, – твердо ответила Лин.
За окнами сверкнула молния, потом донеслось глухое ворчание грома.
– Оно всю дорогу нас буквально окружало, мы просто не обращали внимания, – сказал Джерико.
– Потому что это происходило не с тобой, – отрезала Лин.
– Да ну? Вы с Генри тоже прекрасненько все игнорировали, пока вам так было удобней, – холодно заметила Тэта.
– Да, ты права, – признала Лин. – Но теперь, когда я все знаю, я обязана ее остановить.
– И как, интересно, ты намерена это сделать? – осведомился Сэм. – Пожалуйста, пожалуйста, перестань убивать людей, потому что это плохо, так нельзя? И почему мне кажется, что ее этим не проймешь?
Лин уставилась на свои руки.
– Не знаю, как… Но попытаться я должна. Я возвращаюсь в мир снов. Сначала найду Генри, а потом буду как-то разбираться с Вай-Мэй.
– А что насчет тех штук в тоннеле – если они правда существуют, если Исайя их не выдумал – этих твоих голодных призраков? – спросил Мемфис. – От них мы как будем избавляться?
– В Ноулз-Энде, когда Эви изгнала дух Джона Хоббса, призраки Братства исчезли сами собой, – Джерико впервые заговорил о том, что случилось тогда. – Как будто они были его продолжением.
В комнате на минутку воцарилось молчание.
– Ты точно знаешь, что и тут будет так же? – осторожно поинтересовался Сэм.
– Нет, – допустил Джерико.
– Ну, пухло. У вас тут есть какой-нибудь букварь по призракам? «Чтение, письмо, арифметика и как избавиться от крадущих душу демонов шутки ради и за профит»? Почему как что полезное нужно, так у вас вечно нет?
Мэйбл протянула ему сэндвич с кресс-салатом.
– Спасибо, Мэйбл.
– Дурная смерть… – пробормотала Лин.
– Чего? Чо еще за дурная смерть? – осведомился Сэм с полным ртом. – Не нравится мне, как оно звучит.
– Вай-Мэй сказала, что призрак в тоннеле когда-то умер дурной смертью. Но как именно – мы не знаем. Каждую ночь наше путешествие в мир снов начинается одинаково: Вай-Мэй бежит мимо нас к магазину готового платья Девлина. Станция Пневматической железной дороги Бича расположена прямо под ним, на пересечении Бродвея и Уоррен, рядом со станцией «Сити-Холл». Там, внизу, явно есть что-то для нее очень важное. Но я не знаю, что.
У Генри на честерфилдовской кушетке, Генри, пойманного в сети снов, одеревенели пальцы. Две новые отметины вспыхнули на шее.
– Что бы вы ни собирались делать, давайте начинать, – взмолилась Тэта. – Пожалуйста.
Мемфис положил руку Генри на плечо.
– Я могу попробовать исцелить его.
Тэта наклонилась и взяла его за руку.
– В прошлый раз она тебя чуть не убила.
– Но на этот раз я на ее хитрости не поддамся.
– Нет, – сурово сказала Лин. – Внутри сна ты себя защитить не сможешь. Может случиться что угодно, и ты окажешься в ловушке, как Генри. Это должна сделать я. Я бодрствую в царстве снов – это совсем другое. Я пойду за Генри.
– А что, если это не сработает? – спросил Джерико.
– Должно сработать.
– Но если нет? – не унимался он.
Лин посмотрела на спящего Генри.
– Мы спустимся в тоннели. Посмотрим, что там такого важного, что оно не отпускает Вай-Мэй.
Громкие неравномерные удары разнеслись по всему музею: похоже, кто-то колотил во входную дверь одновременно кулаком и ногой, очень желая войти.
– Эй! Впустите меня, а? – возвестил слегка придушенный голос. – Тут, блин, холодрыга!
– Эви! – вскричала Мэйбл.
Они кинулись открывать. На пороге, привалившись к косяку, возвышалась Эви: от нее несло джином, а тушь расплылась на полщеки.
– Щаслива предлжить свои услуги этой жутко пухлой вчеринке, – выдала она и так круто поклонилась, что въехала лбом в дверь. – Ау! Кгда вы тут стену пставить успели?
– Эви, ты что, совсем вдребезги? – требовательно вопросила Тэта.
– Нивжисть! – не очень внятно возразила та и попыталась сдуть со лба локон, обдав их еще одной волной перегара. – Ну-у-у, может, фа-бля-мон. Енто по-французски. Я немного кумекаю по-французски… а-ву!
– Вот дьявол! – Тэта даже руками всплеснула. – Именно этого нам сейчас и не хватало!
Эви ввалилась в холл и первым делом сшибла со столика ящик с тряпичными куколками.
– О-го. А ваши куклы не дуры залить корму, – хихикнула она.
– Отправляйся домой, Эви, у нас тут и так хватает неприятностей, – сказал Сэм, беря ее под локоток и ведя к двери.
– А ты меня не лапай, муженек!
– Я тебе не муженек. Я – рекламный статист, не забыла?
– Тчно! – Эви почти выплюнула это слово.
– Так твоя помолвка не настоящая? – сказал Джерико.
Эви уставилась на него, потом быстро отвела глаза.
– Я вам со всей отвств… ответственностью заявляю, что чувства, которые мистер Сэм-Сергей Ллойд-Любович питает к ккой бы т’ни было двушке – чистой воды фикция.
Эви слегка пошатнулась, и Джерико поймал ее – и не отпустил.
– Я держу тебя.
Мэйбл почувствовала тяжесть в животе.
– Я пойду сделаю кофе, – тускло объявила она и двинулась через весь длинный зал на кухню.
– Короче, я здесь, – сообщила Эви всем и каждому, ковыляя в сторону библиотеки.
Она вытащила фляжку, щедро хлебнула из нее и залила джином платье.
– Упс. Этого Провидица-Душечка, конечно, не провидела.
Сэм отобрал у нее фляжку и сунул взамен чашку.
– Лучше пей это.
Эви обратила на него страдальческий взгляд.
– Ты зачем вот так, а? Что я тебе сделала, а?
Она хлебнула и поморщилась.
– На вкус как вода.
– Потому что это вода.
– Знаешь, в чем проблема с этой водой? В ней джина нет! – сказала она, пихая чашку обратно ему. – Слуште! Я думала, тут вечеринка будет! А хде все?
Она нетвердо повернулась кругом, потом увидела Лин.
– Здрасте! – Эви ринулась к ней, протягивая руку. – Как пживаете? Я Эванджелина О’Нил.
– Я знаю, кто вы такая, – сказала Лин.
– Эви, это друг Генри, Лин Чань – вторая сновидица, я тебе о ней рассказывала, – сказала Тэта.
– Тчно! – Эви плюхнулась на стул. – Сно-ви-ди-ца. Пророков кругом развелось – аж жуть! Толпень целая.
– Попридержи язык, Эвил! А не то я тебя вырублю, – пообещала Тэта.
– Нам придется заняться этим сегодня. Немедленно, – сказала Лин, возвращая всех к делу.
– Сегодня? – ахнула Мэйбл.
– Ждать нельзя, – ответила Лин. – Придется сегодня, пока она не затащила его еще глубже.
– Что тут у вас происходит? – заинтересовалась Эви. – Это игра такая?
– Нет, всего лишь проблемы с призраками, – объяснил Сэм. – Сонная болезнь, помнишь? Ее устроил призрак.
Эви яростно затрясла головой.
– Нет. Только призраков не надо. Хочешь секрет расскажу? Только тс-с-с. Я их не сильно жалую, призраков. Поганые ребята.
Мемфис тихо присвистнул и покачал головой.
– Они забрали Генри, Эвил, – глаза Тэты налились слезами.
Та в первый раз за вечер заметила Генри на кушетке, белого и неподвижного.
– Генри… Милый Генри.
– Давай лучше браться за дело, Фредди, – сказал Сэм.
Джерико оторвал кусок какой-то простыни из выставочных экспонатов, крупно намалевал на нем «ОТМЕНЕНО» и повесил поперек парадных дверей.
– Как-то там ветрено, – сообщил он, вернувшись.
– Лин, на сколько мне ставить будильник? – деловито осведомилась Тэта, берясь за часы.
– Два часа. Не думаю, что будет умно оставаться там дольше. И мне понадобится шляпа Генри.
Тэта передала ей потрепанное канотье Генри и села рядом с ним на кушетку, гладя по лбу.
– Мы идем за тобой, Ген.
Лин принялась освобождаться от ножных скоб, чтобы чувствовать себя комфортнее. Она перехватила пристальный взгляд Джерико и зарделась.
– Буду признательна, если ты не будешь так на меня таращиться.
Тот побледнел:
– Это не то, что ты думаешь…
– Детский паралич, – отрывисто объяснила она. – Раз уж тебе так интересно.
– Я знаю, – ответил он так тихо, что гром почти полностью его заглушил.
Он подоткнул Лин одеяло.
– Так удобно?
– Да, спасибо.
– Найди нашего мальчика, Лин. Приведи его назад в целости и сохранности, – напутствовала Тэта.
Лин кивнула. Мэйбл поставила на стол часы, и Лин погрузилась в их мерное тик-так, мечтая найти в нем успокоение. Шляпу Генри она крепко прижала к груди, а другой вцепилась в перо – напоминание о грядущей битве. Потом она глубоко вдохнула, закрыла глаза и стала ждать, когда откроется самая важная сонная дорога в ее жизни.
Театр снов и мечтаний
Лин проснулась на уже таких знакомых улицах старого Нью-Йорка – правда, теперь эта часть сна как-то поблекла в красках, да и сил в ней осталось куда меньше. Мимо процокал фургон – скорее намек на человека и лошадь. Где-то в тумане потерянно разносился голос Альфреда Бича:
– Приглашаю… увидьте… удивитесь… будущее…
Вся сцена будто таяла в небытии, как старое, ненужное воспоминание.
Лин на мгновение испугалась, что не сумеет добраться до Генри.
– Убийство… – раздался приглушенный крик, и секундой позже мимо проскочила женщина под вуалью – такая эфемерная, что в стене для нее открылся лишь крошечный, слабо колеблющийся проем.
Лин быстренько нырнула вслед за ней, молясь, чтобы он не закрылся в момент перехода. Без Генри идти через темную подземку было совсем одиноко и страшно, но Лин не могла позволить себе сомнений. Наконец, она оказалась на станции. Там было светло и уютно, словно ее ждали, но Лин все это отнюдь не порадовало – теперь, когда она знала, откуда что берется. Она нажала клавишу на рояле – неважно какую, любую…
– Генри? – позвала она. – Генри? Это Лин. Я иду за тобой.
В темноте полыхнула головная фара, возвещая прибытие поезда, и вот уже Лин сидела в вагоне, направляясь назад, в частный мир снов, на встречу с Вай-Мэй.
Там, на конечной станции, юная китаянка сидела на лугу, в высокой траве, подле кизилового дерева, которое они сотворили вместе. Она счастливо что-то себе напевала, и решимость Лин на мгновение пошатнулась. На Вай-Мэй был разукрашенный драгоценностями убор императорской наложницы – как у какой-нибудь из ее любимых романтических оперных героинь. При виде Лин она радостно улыбнулась.
– Привет, сестрица! Тебе нравится? – она повертела головой, c гордостью демонстрируя корону.
Еще вчера Лин бы сочла это зрелище невыразимо прелестным.
– Должно быть, куча энергии ушла, чтобы такое создать, – холодно заметила она.
– Оно стоило всех усилий, – сказала с улыбкой Вай-Мэй, и Лин стало нехорошо. – Я так рада, что ты вернулась. Выпьешь со мной чаю?
Она налила чашку и радушно протянула ее Лин.
Та не взяла.
– Я ненадолго. Я пришла поговорить.
Вай-Мэй махнула рукой, словно разгоняя остатки дыма в комнате.
– О прошлой ночи?
– Да. И не только.
– Все уже забыто, сестра. Я простила тебе все, что ты сделала. Я же знаю, ты хотела как лучше. И я не желаю больше говорить обо всех этих гадостях. Садись, я тебе расскажу все о нашей сегодняшней опере. Ты сможешь взять любую роль, какую только захочешь – кроме, конечно, той, что буду играть я.
Лин не двинулась с места.
– Вай-Мэй, где сейчас Генри?
– Генри? С Луи, конечно.
– Вай-Мэй… Ты должна его отпустить.
– Понятия не имею, о чем ты толкуешь. Он совершенно счастлив с Луи у них во сне.
– Нет. Он попался в ловушку сна. Ты не можешь вечно оставаться тут, Вай-Мэй. Никто не может по-настоящему жить во сне. Ты… ты причиняешь людям страдания. И Генри тоже.
– Я бы никогда не причинила Генри вреда!
– Все вот это, – Лин широко повела рукой, – высасывает из него ци. Он так умрет, Вай-Мэй. И превратится в одну из этих выжженных изнутри тварей, в голодного призрака, которые сейчас вырвались в наш мир.
– Все это не имеет ни малейшего смысла! – Вай-Мэй зажала уши ладошками. – Если ты пришла говорить гадости, уходи немедленно.
Надо как-то пробиться через туман у нее в голове, заставить увидеть… Лин протянула ей руку.
– Я хочу кое-что тебе показать. Очень важное. Прогуляемся немного… сестра?
Услышав это слово, Вай-Мэй заулыбалась.
– Это такая новая игра?
– Это эксперимент, – ответила Лин.
– Опять наука, – вздохнула Вай-Мэй. – Ну, что ж, хорошо, Маленький Воин. Но потом мы займемся оперой.
Лин повела ее через лес. В кои-то веки Вай-Мэй перестала трещать, и Лин явственно ощутила ее настороженность.
– Куда ты меня ведешь?
– Еще совсем немножко осталось…
Она миновали опушку, и в лицо им зевнула черная пасть тоннеля.
Вай-Мэй отступила и сердито поглядела на Лин.
– Зачем ты меня притащила в это проклятое место?
– Почему ты не хочешь заглянуть внутрь?
– Я же тебе говорила! Там произошло что-то ужасное. Теперь там живет она.
– Женщина под вуалью. Та, что плачет.
– Да-да, я тебе все это уже говорила… – Вай-Мэй упорно смотрела в сторону.
– Откуда ты все это знаешь?
– Я… просто знаю! Я ее… чувствую.
– Как так вышло, что ты чувствуешь ее эмоции, а мы с Генри нет?
– Откуда мне знать! – огрызнулась Вай-Мэй и скрестила руки на груди. – Здесь я оставаться не хочу. Идем назад.
– Ты ведь знаешь, что тут произошло, правда? И всегда знала. Кто она?
– Прекрати!
– Вспомни, Вай-Мэй. Понимаю, что не хочешь, но ты должна. Вспомни, что тогда случилось.
– Я не дам тебе разрушить мои мечты.
Лин не двинулась с места.
– Вай-Мэй, c тобой поступили ужасно несправедливо, и я очень об этом сожалею. Мне горько знать, что тебе было так больно. Но сейчас ты можешь обрести покой. Сейчас ты можешь отдохнуть. Я помогу тебе.
Вай-Мэй растерялась.
– Но я уже обрела покой – тут, во сне…
– Пойдем туда со мной, это все, чего я прошу, – Лин на шаг отступила к тоннелю; по шее у нее побежали мурашки. – Давай пройдем через тоннель, один раз, вместе, и, клянусь, я ни разу больше не заговорю с тобой об этом.
Она сделала еще шаг назад, и ротик Вай-Мэй приоткрылся от ужаса.
– Сестра! Не ходи туда! Там опасно!
– Почему? Что она мне сделает?
Еще шаг, и Вай-Мэй прижала кулачки к губам, чтобы не закричать.
– Она… она… нет!
– В науке мы всегда ищем доказательств. Докажи, что я не права. Идем со мной.
И Лин шагнула в тоннель.
– Лин! Пожалуйста!
Вопль Вай-Мэй запрыгал эхом вокруг нее; Лин смотрела, как та стоит там, на солнце, и спиной чувствовала тьму. Всю кожу у нее закололо от ужаса.
Вай-Мэй подошла ближе. Дыхание ее прерывалось, голос был полон отчаяния.
– Прошу тебя, Лин…
Сердце ее колотилось, как молот, но Лин сделала шаг назад, потом еще один. Мрак позади вздохнул, словно долгий порыв ветра шевельнул сухие листья, и в мгновение ока смел всю ее решимость… Она чуть не кинулась назад, к свету, крича от страха…
Вай-Мэй помедлила еще секунду и осторожно ступила во тьму, c ужасом глядя по сторонам, на земляные стены могилы. Ничего не случилось. Уж не поняла ли она все неверно, успела подумать Лин…
– Сестрица? Где ты?
– Я здесь, – охрипшим голосом ответила Лин. – Иди ко мне.
Вай-Мэй шагнула вперед. По стене с треском пробежала вспышка, и девушка подпрыгнула от неожиданности.
– Пожалуйста, пойдем назад, Лин.
– Еще шажок, – сказала та.
Кирпичи вспыхнули, возвращаясь к жизни, сияя столькими снами сразу. Будто любопытное дитя, Вай-Мэй подошла поближе к стене, приложила ладошку к одному, потом к другому, к третьему, глядя, как женщина под вуалью бежит к магазину Девлина…
– Ля-ля, ля-ля-ля… узри же меня… – запела она тихонько, как колыбельную. – Звезды… и сладкие сны… – песня растаяла в шепот. – Заждались… заждались… меня.
Светоносная аура размыла ее очертания, словно что-то поднялось из глубин и затопило ее – а потом она упала наземь, зарывшись лицом в ладони. Вырвавшийся у нее стон чуть не разорвал Лин сердце на части.
– За что? – плакала Вай-Мэй.
– Мне так жаль, – сказала Лин, борясь со слезами. – Так жаль…
– Как ты могла так со мной поступить? – вся дрожа, произнесла Вай-Мэй.
– Дай мне помочь тебе!
Глаза Вай-Мэй вспыхнули, зубы вытянулись и заострились.
– Ты – бесчестная, подлая! Как тот мужчина, который меня сюда заманил.
Тьма за спиной у Лин ожила. Когти заклацали по камням. Что-то заскреблось. И неизвестно еще, что было ужаснее – мысль о том, что двигалось сейчас в безбрежном мраке у Лин за спиной, или то чудовище, что обретало сейчас форму впереди. Вай-Мэй поднялась с земли и медленно двинулась к Лин. Ее скромная туника превратилась в длинное белое платье; кровавые пятна набухли и распустились, как цветы, протянувшись по ткани гирляндой ран. Оперный убор растворился, всегда аккуратно уложенные темные волосы упали на плечи и рассыпались, перепутанные и посекшиеся. Острые зубы блеснули в темноте. Пурпурные оспины расписали бледную ленту горла, ядовитый голос ужалил воздух:
– Я открою тебе весь ужас твоих желаний. Я покажу тебе театр мечтаний и снов. Я покажу, как мир разрывает тебя на кусочки. Здесь твоя мечта обратится в прах.
На лицо пала вуаль, в руке возник кинжал. Вай-Мэй прянула вперед, хватая Лин за шею сзади.
– Посмотри со мной этот сон, сестра, – прорычала она, вонзая кинжал.
А затем разомкнула губы и втолкнула свой сон в рот Лин.
Лин боролась, пока могла, но вскоре руки у нее упали и повисли, как будто она наконец сбросила тяжкое бремя.
А потом и сама упала…
Мэйбл выключила будильник. Генри и Лин продолжали спать.
Джерико был мрачнее тучи.
– Я не могу ее разбудить.
Тэта затрясла Генри.
– Вставай уже, Ген! Проснись! Ну, пожалуйста!
Воцарилось зловещее молчание. Тэта встала и обвела компанию взглядом.
– Я не намерена сидеть здесь сложа руки и ждать, пока эта ведьма там убивает моего лучшего друга. Мы сейчас же идем в тоннель искать станцию и то важное, что там спрятано. И мы сожжем эту дрянь, если будет нужно. Что у вас тут, в Страшилках, есть полезного на такой случай?
Мэйбл кинулась открывать фондовые ящики и вынимать всевозможные артефакты: ритуальные ножи, амулеты, осиновый кол, какие-то камни, деревянную шкатулку…
– И что-нибудь из этого правда работает? – осведомилась Тэта, разглядывая обмотанное нитками колесико с привешенными к нему перьями.
– Может, и работает, – сказал Джерико, – да только мы не знаем, как. Уилл говорил, что в каждой культуре есть свои специфические представления о призраках. Нельзя гарантировать, например, что мешочек гри-гри защитит вас от китайского привидения. Надо больше знать о том, чему мы противостоим.
– И как же нам это выяснить? – спросила Тэта. – Те, кто знает о нем больше всего, валяются сейчас вон там в отключке.
– Вот если бы кто-нибудь мог считать нам ситуацию, пока мы все тут торчим… – сказал Сэм и поглядел на обмякшую в кресле Эви.
– Думаю, Эвил сейчас вряд ли считает даже инструкцию на банке с фасолью, – бросила Тэта.
– Еще как считает, зуб даю, – отозвалась та, шмыгая носом.
– Ну, пухло. Кто-нибудь, сделайте нашей Крутой Пьянчуге кофе. – Сэм открыл шкаф с оружием. – И парочка ножичков, я так думаю, нам тоже не помешает.
– Точно. И вон те фонарики пригодятся, – добавил Мемфис, проверяя батарейки в каждом.
– Джерико, вы с Мэйбл останетесь здесь и будете продолжать попытки их разбудить, – распорядился Сэм, берясь за пальто.
– Я пойду с вами, – запротестовал Джерико. – Я тут самый большой.
– Не слепой, вижу, – отрезал Сэм. – Но если с Лин и Генри что-то пойдет реально погано, нужно, чтобы рядом был кто-то, способный их отсюда унести. Ну, или подраться с тем, что сюда полезет.
– Мне это не нравится, – сказал Джерико.
– А мне вообще ничего из этого не нравится, – заорал Сэм. – Если у тебя есть идея получше, напиши мне, адрес знаешь.
Идеи получше у Джерико не было, но мысль застрять в музее вместо того, чтобы кидаться в гущу битвы, ему решительно не улыбалась. Он всегда играл эту роль, и амплуа ему уже порядком надоело.
– Отлично, – проворчал он.
– Тэта, я бы себя чувствовал не в пример спокойнее, если бы ты тоже осталась здесь, – сказал Мемфис.
– Отказать. Генри – мой лучший друг, моя единственная семья. Больше у меня ничего нет.
– У тебя есть я, – тихо напомнил Мемфис.
– Поэт, я не о том…
– Мэйбл не надо ходить, Тэте не надо ходить… Почему никто из вас, парни, не пытается вести себя, как… вот, блин, такая штука на коне… железная… а! ры-царь по отношению ко мне, а? – вопросила Эви у мироздания в целом, чуть не выпадая из кресла.
– Ну, почему, я пытаюсь, – сказала Тэта, решительно усаживая Эви, поднося чашку кофе к ее губам и практически вливая обжигающий напиток в глотку.
Ужасный способ умереть
К тому времени как Тэта, Мемфис, Эви и Сэм добрались до Сити-Холл-парка, дождь уже лил стеной. По канавам бежали грязные реки вперемешку с листвой, низвергаясь в сливные решетки. Отсюда было видно полицейскую иллюминацию, все еще пульсирующую в Чайнатауне, но сам парк был пуст и тих.
– Не забывайте, там, в тоннелях, исчезают люди, – сказал Мемфис. – Берегите головы.
– Если мне с этого должно было стать лучше, выбери другую тактику, – проворчал Сэм.
– Ну, тогда у меня есть чем тебя подбодрить, – сказал Мемфис, поднимая воротник пальто и взглядывая на грозовые тучи, клубящиеся в ночном небе. – Надеюсь, эти тоннели не зальет.
– Давайте уже пойдем, – обронила Тэта, дрожа под холодным дождем. – Я хочу, чтобы все уже осталось позади и рядом был Генри, живой и здоровый.
– Лучше всего будет лезть вниз через станцию «Сити-Холл», – поделился Мемфис.
– Нам правда нужно идти через тоннели? – спросила Тэта.
– Не вижу других вариантов, – Мемфис с извиняющимся видом пожал плечами.
Они бегом сбежали по лестнице на платформу и протолкались через турникет. На станции было пусто.
– Да тут прям библиотека, – обрадовалась Эви. – Привет!
Голос ее упрыгал по путям во тьму.
– Эвил, черт тебя возьми! – разъярилась Тэта. – Хочешь, чтобы эти… твари поскорее пришли за нами?
– Мне просто нравится, как звучит мой голос, – та сокрушенно повесила голову.
Тэта закатила глаза.
– Трудно придумать бóльшую правду.
– Нам туда, – прошептал Мемфис, и они все вчетвером проследовали к концу платформы и уставились, перегнувшись через ограждение, на пути внизу.
Тэта оценила высоту обрыва.
– Да вы, должно быть, шутите.
– Я тебе помогу, Принцесса, – Мемфис протянул ей руку. – Держись рядом.
– Поэт, я намерена держаться так близко, что ты решишь, будто набрал сто два фунта.
Мемфис перелез первым и спрыгнул вниз, потом поймал Тэту, радуясь ее весу у себя на руках.
– Проще простого, – сказал он с улыбкой. – Давай к нам, Эви.
Эви попыталась перепорхнуть через перила, но у нее, как назло, застрял каблук. В конце прыжка она чуть не размазала по стенке Мемфиса.
– А поосторожнее нельзя? – задал он риторический вопрос, ставя ее наземь.
– Так, куда теперь? – осведомился Сэм, спрыгивая с платформы и вытирая руки о штаны.
– Лин сказала, станция пневматического поезда была под пересечением Бродвея и Уоррен, – значит, туда.
Мемфис показал прямо вдоль путей, уходящих пологой дугой за угол и освещенных только цепочкой рабочих ламп высоко под потолком. Там было темно, грязно и опасно – никаких мостков или перил, только стены и рельсы. Если по отрезку пойдет поезд, они окажутся в ловушке. Контактный рельс гудел от напряжения – от него шевелился воздух и ныли зубы.
– Следите за ним внимательно, – предостерег Сэм, – там самый сок.
– Ну, у вас тут и холодрыга, – поделилась Эви, все еще скверно выговаривая окончания.
Кофе и холод сделали свое дело, перегнав ее из категории «пьяна в стельку» в «чуть менее пьяна» с нотами раздражительности и воинственности в букете.
– Ничего, выживешь, – сказал Сэм. – Если только эти голодные духи нас не сцапают. Тогда – нет. Зато температура окружающей среды разом перестанет тебя волновать. Так на так это будет самая крутая вечеринка на Манхэттене. Гип-гип, ура.
– Веселое у вас настроение, как я погляжу, парниша, – сказала Эви.
– А я вообще веселый, – процедил Сэм сквозь зубы, светя фонариком на рельсы впереди. – Давай, дуй вперед.
Мемфис поглядел вверх, вбирая взглядом все закопченное величие подземки.
– Тут даже как-то красиво, а? Типа целый город под городом.
– Как скажешь, Поэт. Ну что, далеко еще? – отозвалась Тэта, глядя себе под ноги: не хватало еще, чтобы туфля застряла между шпал.
Мемфис черкнул лучом по бетонным аркам.
– Если Лин права насчет станции Бича, футов сто.
Крыса кинулась вдоль рельса, Тэта ахнула. Мемфис обнял ее за плечи.
– Она испугалась нас больше, чем мы ее.
– Тогда она наверняка сдохнет от ужаса.
Кругом появилась вода. Она воняла серой и гнилью. Они прикрыли носы и стали дышать ртом.
– Сэм, – сказала вдруг Эви. – Чего-то я не понимаю, что творится.
– Насколько ты пьяна?
– Да иди ты. Я про… про все вот это. Мертвецы, Джон Хоббс, Уилл, Ротке, карты, которые мы нашли… Проект «Бизон», – c похмелья язык у нее ворочался тяжело. – Я тебе должна кое-что сказать Сэм. Про сегодняшний вечер и про то, что случилось на радио.
Сэм нетерпеливо махнул рукой с фонариком; свет плеснул на железо и грязь.
– Ты сейчас хочешь об этом поговорить? Здесь?
– Тс-с-с, слушай. Тот парень принес мне считать расческу. Ну, гребешок такой. Сэм, она принадлежала Джеймсу, – сказала Эви, держась за его спину, чтобы не навернуться в темноте.
– Ты о чем вообще говоришь?
– О расческе. Он сказал, она его друга, но он врал, Сэм. Расческа была моего брата. В трансе я увидела Джеймса.
Сэм старался держать фонарик ровно, а сам в это время переваривал услышанное.
– Ты этого парня знаешь?
– В жизни не видала, клянусь.
– Тогда откуда у него расческа твоего брата?
– Сказал, ему заплатили, чтобы он ее мне подсунул. Люди в темных костюмах.
– Думаешь, это те же, что вломились на почту… после того, как туда вломились мы?
– Да не знаю я, Сэм. Я больше вообще ничегошеньки не знаю. – Эви сглотнула. – Как вот про нас с тобой, например.
– Нет никаких нас с тобой, ты это предельно внятно сегодня объяснила, – сказал Сэм. – Слушай, ты меня попросила сыграть роль, я сыграл. Дальше я работаю соло.
– И кто теперь врет? Я читала твои личные вещи, забыл? Я тебя знаю.
– Ни хрена ты не знаешь.
Однако джин был не намерен дать Эви запереться в себе.
– Я тебя видела. Настоящего тебя. Я держала твои тайны в руках, вот так. Ты боишься, Сэм. Притворяешься, что нет, а на самом деле душа в пятках. Как и у всех у нас.
Сэм свирепо развернулся к ней.
– Все, что ты знаешь, – это вечеринки, развлечения да болтать людям, что они хотят услышать на радио. А, да, еще сердца разбивать.
Он решительно двинулся дальше, светя фонарем вперед, во тьму. Какого дьявола он дал ей так себя разбередить? Вот и пускай людей после этого внутрь… Единожды сняв броню, ее потом очень уж трудно напялить назад.
Эви заковыляла следом.
– Точняк. Совсем забыла: я же просто девчонка с радио. Я, между прочим, читаю то, что люди сами решают мне дать, Сэм. А ты крадешь, что пожелаешь, и никогда не думаешь, кому это сколько будет стоить.
В глазах ее набухли слезы.
– Не реви, – сказал Сэм; внутри у него как-то все перепуталось. – Только не реви. Не могу, когда женщина ревет.
– Хрен тебе, а не мои слезы, Сэм Ллойд! Отзываю ставку, – зубы у нее уже хорошо так стучали. – Но не смей говорить мне, что я знаю и чего не знаю. Потому что ты сам не знаешь.
– Да я даже не знаю, о чем мы сейчас спорим.
– Давай уже уложим призрака баиньки. Мне ванна нужна. Мне, блин, двенадцать ванн нужно. А завтра мы объявим о трагическом завершении нашей помолвки. Хочешь быть один? Будешь, – пообещала Эви, и они пошли дальше молча.
Воды уже было по середину голени. Она стекала по бокам тоннеля и плескала на ходу им на одежду, пробирая холодом до костей. Эви поглядела через стальную опорную арку тоннеля на ту сторону путей, c платформой обратного направления. Тьма на мгновение озарилась, показав выбеленный силуэт мужчины в шахтерской каске. Что-то в нем было неприятно неправильное. Вот он упал на корточки… рот его все открывался и закрывался, открывался и закрывался…
Эви ахнула.
– Ну, что еще? – сердито спросил Сэм.
– Ты это видел?
– Что – это?
Эви ткнула пальцем через арку в пустое место.
– Ничего, – сказала она. – Ничего.
– Эй, я вроде нашел! – крикнул впереди Мемфис.
Он стоял перед старыми воротами, украшенными вызолоченными цветами – останки давно минувшей эпохи. Никакая ржавчина не могла скрыть их былой красоты. Мемфис и Сэм растащили створки против напора воды; петли протестующе завизжали, недовольные необходимостью снова работать после стольких лет сна.
– Ну, вот мы и на месте, – сказал Мемфис.
От фонариков было немного толка в царившей здесь густой, бархатной тьме, но в конце концов глаза немного привыкли к ней. Мемфис повел лучом по заброшенной станции, высвечивая, пусть хотя бы на мгновение, руины ее великолепия.
– Вот ведь дьявол, – выразился Сэм, закидывая голову, чтобы разглядеть высокий сводчатый потолок.
Витражное окно запеклось полувековыми напластованиями пыли. Почерневшая люстра опасно накренилась на полуоборванной цепи. Сэм обмел паутину с выщербленных клавиш рояля, тюкнул одну, но звучать она отказалась. Это было похоже на остатки кораблекрушения, только на суше. Внизу, на путях, возлежал гниющий остов самого первого в Нью-Йорке поезда метро.
– Осторожней на ступеньках, – предупредил Мемфис, спускаясь на нижнюю платформу.
Он сунул голову в вагон и возвестил:
– Тут ничего, кроме куч пыли.
Луч фонаря упал на кольцо битых лампочек вокруг входа на станцию и полустертые буквы на табличке: «ПНЕВМАТИЧЕСКАЯ ТРАНСПОРТНАЯ КОМПАНИЯ БИЧА».
– Все как Исайя рисовал, – пробормотал Мемфис.
– Мне не нравится это место, – сказала Тэта.
– Почему эти уродские призраки не могут являться в каких-нибудь шикарных местах, типа клуба «21», а? – задала вопрос Эви, хлебая из секретной фляжки, до сих пор прятавшейся у нее за подвязкой.
– Эвил! – Тэта с боями изъяла у нее сосуд. – Я тебя прикончу!
– Ну, Тэта! Ты посмотри, какая жуть кругом.
– А ну, мое. – Тэта быстро глотнула и передала фляжку Мемфису. – Только не смей ей отдавать.
– У меня был очень гадкий день! – проорала Эви, так что зазвенела вся станция.
– Тихо ты! – прошипела Тэта. – Смерти нашей хочешь?
– Ты в эфире, Провидица, – сказал Эви Сэм. – Самое время прочесть что-нибудь, чтобы мы уже повыгнали призраков, спасли друзей и убрались отсюда подобру-поздорову.
Эви изобразила крайнее отвращение.
– Я вам не компас, я предметы читаю. Нельзя вот так просто взять меня и наставить на север…
– Вот чего я реально хотела бы, так это наставить свою ногу тебе на… – вызверилась Тэта.
– А один из этих фонарей она прочесть не может? – вмешался Мемфис. – Или кирпич?
– Может, – сказала Эви, – но толку с этого будет как с козла молока. Это никого конкретно не касается, – добавила она, не без труда выговорив слово «конкретно». – Эх, никто тут не ценит литературные метафоры.
– Если тебе тут все едино, я не хочу здесь оставаться ни секунды сверх нужного, – сурово сказал Мемфис. – Чем скорее мы найдем то, что принадлежит призраку, тем лучше…
Тэта пошла рыскать фонариком по пустой станции. Сэм светил Мемфису, который рылся в завалах битого кирпича, ища хоть что-нибудь полезное.
– Ничего, – сказал тот какое-то время спустя. – Давай глянем там, внизу.
Все четверо прошлись по пыльным рельсам, разглядывая кучи камня, пиная холмики пыли и любуясь разбегающимися насекомыми.
– Мемфис, ей-богу, тут ничего нет, – сказал в конце концов Сэм.
– Одно место осталось, – тот кивнул в сторону тоннеля. – Думаю, надо туда заглянуть.
– Так и боялась, что ты это скажешь, – проворчала Тэта.
Тьма давила со всех сторон. Фонарики почти не могли ее рассеять. Тэта на всякий случай держала руку вытянутой вперед.
– Вы не поверите, какие тайны мне приходилось оставлять про себя на радио, – сообщила Эви; кажется, джину удалось подобрать ключ к шкафу, где хранились ее мысли, и теперь они высыпались наружу, сразу все. – Люди по большей части так одиноки. В основном я именно это и считываю – со всего, что они суют мне в руки: какими ужасно, непоправимо одинокими они себя считают, тогда как всего и делов-то, что протянуть руку и потрогать кого-нибудь…
Тут она и правда протянула руку и потрогала Тэту за плечо. Та завопила, Эви чуть не упала назад.
Мемфис развернулся чуть не в прыжке, выхватывая нож.
– Тэта, что?
Та положила руку на сердце.
– Эвил! Хочешь, чтобы у меня сердечный приступ случился?
– Я типа… я просто… наглядно показала, – пропыхтела она.
– Так вот – не надо!
– Это как в тот раз, когда я считала твой браслет, – выдала Эви. – Не хотела тебе говорить, потому как вдруг ты возьмешь и расстроишься? Некоторые вообще никогда о таком не думают, – добавила она громко, зыркая на Сэма. – Я про то, c чем мне приходится жить все время.
– И что же ты увидела, когда прочитала Тэтин браслет? – поинтересовался Мемфис.
– Ничего она не увидела, Поэт. Заткнись, Эвил, – рявкнула Тэта, но страха в ее голосе было куда больше, чем гнева.
– Еще как увидела! – возмутилась Эви. – Я за тебя прямо испугалась, Тэта. Весь этот огонь…
– О чем она там шамкает? – спросил Сэм.
– Так, всякий пьяный бред, – пояснила Тэта. – Тем более что она уже заткнулась, правда, Эвил?
– Да, капитан, есть, капитан, сэр, – Эви отдала честь, развернулась, зацепилась за что-то и повалилась на бок в грязь. – Ау!
Мемфис помог ей подняться. Руки его нащупали что-то твердое там, где она сидела.
– Сэм, не будешь так любезен посветить мне сюда?
В свете фонаря что-то гладкое и серое проглянуло в грязи. Мемфис сел на корточки и обтер многолетние напластования пыли.
– Кажется, мы нашли то, что искали.
– Поздравляю, Эвил, – содрогаясь, проворчала Тэта. – Компас из тебя все-таки вышел.
Эви уставилась на мумифицированные останки – провалившиеся глаза, гнилые зубы, рваное, испачканное кровью платье.
– Я не собираюсь трогать ничего на этом… этом… – заявила она, очерчивая пальцем труп в целом. – Вот этом.
– Эвил, мы должны узнать.
– Ладно, – сказала Эви, помолчав. – Ради Генри… ладно.
Она принялась стягивать перчатки; полупустые лайковые пальцы повисли на концах ее собственных.
– Чёт-та оно не работает…
– Ох, ради бога… – Тэта сорвала с нее перчатки.
Скрививши рот и едва не крича от ужаса и гадливости, Эви тронула скелет.
– Ну, почему мне нельзя быть сновидицей, а? – вопросила она у мироздания в целом. – Зачем нужно обязательно предметы читать?
– Давай, Шеба, – ободряюще сказал Сэм. – Ты сможешь.
Эви вцепилась в запястье трупа и задышала – вдох, выдох, вдох – в попытке расслабиться. Видение началось покалыванием в пальцах и поползло вверх по рукам, сводя мышцы шеи. В следующее мгновение она была уже в трансе, а картинки мелькали, как кино на ярком экране.
– Корабль… Я на корабле, – проговорила она и согнулась. – Так, морская болезнь…
– Ты там в порядке? – донесся голос Сэма.
– Ишь, какой заботливый… – пробормотала Эви.
– Чего?
– Ничего.
Она дала себе чуть-чуть выскользнуть, чтобы хоть немного улучшить самочувствие.
– Пассажиры сходят с корабля, – сообщила она далеким голосом. – Это порт… Сан-Франциско.
Охрана погнала прибывших в здание на обработку. Эви казалось, что она болтается между землей и небом. Девушке было страшно, и от чужого страха у нее колотилось сердце. Эви попробовала отстраниться и сосредоточилась взамен на документе у нее в руке. Текст был на китайском и английском: «О’Баннион и Ли: Брачная контора».
Двое человек вошли в забитое народом здание. Один был крупный, дородный белый с бакенбардами и усищами, сильно смахивающими на велосипедный руль. Другой – китаец в западном костюме, все время улыбавшийся, не показывая зубы. Они всучили иммиграционному офицеру пятьдесят долларов, чтобы смотрел в другую сторону, и забрали девушку и еще двоих с ней. Тут картинка решила, что с нее хватит.
Эви решительно сжала костлявую руку, и на экран выплыли убогие нью-йоркские трущобы: улицы, обильно унавоженные грязью и конским пометом; нищие клянчат объедки. Беззубая, грязная женщина нежно воркует что-то завернутому в тряпки младенцу у ее голой груди. Кругом деловито суетятся мухи.
– Ш-ш-ш, ай, какой хороший мальчик, – кудахтала женщина.
Эви увидела, что ребенок мертв.
Пьянчуга махнул кружкой и проорал с густым ирландским акцентом:
– Добро пожаловать в Пять Углов – задний двор преисподней!
Влезши на ящик из-под мыла, какой-то мужчина окучивал толпу:
– …закрыть наши границы от грязных китаёз, чьи распутные бабы совращают нашу молодежь, разрушают семьи, лишают белых мужчин работы…
– Шеба? Есть что-нибудь? – приплыл издалека голос Сэма.
Видение сосредоточилось на растрепанной женщине: она лежала на койке, сжимая в руках музыкальную шкатулку. Глаза у нее были стеклянные, как у человека, плотно сидящего на опиуме. Впрочем, это была та самая девушка с корабля, ощущение не обманешь.
– Кажется, я ее нашла, – пробормотала Эви.
Она чувствовала опиум у себя в жилах, голова кружилась, ее мутило… Отстраниться… Ей срочно нужно отстраниться.
Господин с бакенбардами отдернул занавеску.
– Хватит мечтать, Вай-Мэй. Пора браться за работу.
Рядом ждал мужчина, держа в руках пальто. Эви знала, зачем он здесь и что Вай-Мэй полагалось для него сделать. Она больше не могла оставаться в этом видении.
Эви попробовала разорвать связь, но, кажется, ей показали еще не все.
Тихонько зарычав, она стиснула зубы и нырнула поглубже.
Снова грязные улицы. Бакенбарды одеты в отличный костюм. Пальцы Вай-Мэй на рукоятке ножа. Она подбегает к нему, втыкает кинжал в грудь, потом еще и еще. Его синие глаза, удивленные, потрясенные… Кровь расползается по белой рубашке, бежит между пальцами. Он падает на мостовую, слышны полицейские свистки, крики…
– Убийство, убийство… – пробормотала Эви.
Сердце у нее колотилось заодно с сердцем девушки, которая помчалась прочь от толпы, вниз по ступенькам в подвал лавки Девлина, дальше, на станцию пневматической дороги… Она спряталась в стоящем на приколе вагоне, схоронилась под бархатным диваном, уснула… Во сне ее преследовал стук молотков: кто-то работал рядом. Вай-Мэй открыла глаза только раз – чтобы увидеть, как меркнет свет, сменяясь кромешной тьмой, но сделать все равно ничего не могла, потому что была слаба и хотела только спать, спать, спать…
Пробуждение. Гложущий опиумный голод. Эви чуть не задохнулась, пока Вай-Мэй рвало желчью. Потом она выбралась из вагона и обнаружила, что тоннель заложен кирпичом. Кругом царила полная тьма. В отчаянии Вай-Мэй колотила кулачками по стене – все безнадежно. Она соскользнула по стене на пол. Воздуху становилось все меньше, голову сдавило, как обручем. Вон… Больше она ничего не хотела: вон из этой каменной могилы. А единственным способом вырваться, скрыться была мечта…
Эви разорвала связь и рухнула в грязь на колени, хватая ртом воздух.
– Эвил, ты в порядке? – Тэта по доброте душевной отвесила ей пару крепких оплеух.
– Эй! Прекрати, а? – Эви попыталась от нее уползти.
– Мне показалось, ты задыхаешься.
– Да я… просто… дышать пытаюсь, – Эви пару раз вдохнула полной грудью, хотя и с большим трудом. – Она пришла сюда спрятаться, – сообщила она, все еще тяжело дыша. – Но именно в этот день станцию замуровали. Пока она спала в вагоне, они заложили тоннель кирпичом. Похоронили ее живой, короче.
– Какой ужасный способ умереть, – сказал Сэм. – В полном одиночестве.
Все умолкли, придавленные кошмаром и невыразимой грустью этой смерти.
– Ты что-нибудь узнала насчет того, как нам избавиться от этой дамочки и от ее призрачного ревю? – спросила наконец Тэта.
Эви схватилась рукой за шею, чтобы как-то утихомирить пустившийся вскачь пульс.
– Точно сказать не могу, но было у меня такое чувство там, внутри… Жуткое это место. Оно-то ее тут и держит, я думаю. Она не может обрести покой. Надо унести отсюда ее кости. Надо о ней позаботиться…
– Правильные похороны, – кивнул Мемфис.
– Отлично. Устроим ей проводы, – сказал Сэм. – Где будем хоронить?
– Тут церковь Троицы недалеко. C кладбищем, – подсказал Мемфис. – Это святая земля.
– Думаешь, сработает? – усомнилась Тэта. – Джерико говорил, у каждой культуры свои верования.
– А я знаю? – пожал плечами Сэм. – Я в этих ваших призрачных делах полный профан.
– Нельзя оставлять ее в этом ужасном месте, – заявила Эви. – Это, по крайней мере, ясно.
– Я только за, давайте скорее убираться отсюда, – согласился Сэм. – Мемфис, поможем барышне?
Очень осторожно они подняли скелет Вай-Мэй. Некоторые кости отцепились и упали в пыль, но большинство осталось вместе.
– Да уж, по карманам такое не рассуешь, – заметил Сэм.
Мемфис снял пальто.
– Давай ее сюда.
Сэм сложил кости в пальто, а Мемфис аккуратно связал в узел.
– На, – сказал Сэм, вручая Эви череп. – Можешь понести. C Рождеством, милая!
Та скривилась от отвращения.
– Ну, спасибо, испортил мне праздник до конца дней.
– Ради бога, двинули уже на воздух, – сказала Тэта, собирая в ком испачканное кровью платье и решительно шагая в сторону станции.
– Стыд и позор, – объявила она сгнившему великолепию, но думала при этом о печальной участи Вай-Мэй.
Уже на выходе из тоннеля сзади пришел звук: мягкий, но тяжелый, будто дождь вдруг пошел с потолка – раз, два, три, четырепятьшесть, потом еще и еще. Тэта скосила глаза назад и увидала нечто, похожее на припавшего на корточки человека. Рот его раскрылся и издал тягучий вой. Цепочка огней мигнула в долгой темноте. В ее неверном свете картинка распалась на отдельные вспышки: акульи зубы… бледная, растресканная кожа… невидящие глаза.
– М-мемфис, – прошептала Тэта.
Фонарик затрясся у него в руке. Он начал было вести луч вверх, но Тэта остановила его руку, качая головой.
– Продолжаем идти, – скомандовал Сэм. – Вверх и наружу.
– Ненавижу призраков, – сообщила Эви. – Честное слово, просто ненавижу.
Старое дерево лестницы, ведущей вверх, на пассажирскую платформу станции, громко заскрипело под весом четверки. Густой шепот заполнил пространство. Пестрый потолок над ними зашевелился.
– Что мы делаем теперь? – спросила Тэта невесомым, как паутинка, голосом.
Мемфис взял ее за руку.
– Думаю, мы бежим.
Пурпурный вьюн
Генри открыл глаза и увидел солнце. Он лежал на дне лодочки, подпрыгивавшей на волнах. Сколько он уже тут плавает, было совершенно непонятно, но Луи определенно рядом не наблюдалось.
– Луи? – позвал он, садясь. – Луи!
Тот сидел на холме под плакучей ивой, посреди целого луга пурпурных ипомей.
– Вот ты где, – сказал Генри, подходя и усаживаясь рядом. – А я тебя везде искал.
– Кажется, ты меня нашел, – отвечал Луи, но голос его звучал как-то пусто.
– Что будем делать? Сплаваем куда-нибудь на лодочке? Погуляем с Гаспаром? Может, порыбачим?
– Я хочу рассказать тебе про эти цветы, Генри. Я вспомнил… почему так их не люблю, – тихо сказал Луи, и у Генри что-то екнуло глубоко внутри: сон менял направление…
– Это неважно, – весело сказал он.
Ему совсем не хотелось об этом разговаривать. А хотелось только плыть вниз по реке, плыть по течению – только он и Луи, и солнце, и место под ним, что принадлежит только им двоим.
– Идем! Рыба не ждет.
Он протянул руку, но Луи ее не взял.
– Я должен рассказать тебе сейчас, пока у меня, кажется, есть храбрость это сделать.
Генри понял, что его не сдвинуть, сел и стал ждать.
Слова капали медленно, словно каждое из них очень дорого стоило Луи.
– Помнишь, я тебе говорил, как ошивался однажды ночью возле «Доброй Удачи» и спрашивал о тебе? Твой папа выслал мне навстречу своих людей. Они сказали, чтобы я тебя отпустил подобру-поздорову… но этого я сделать не мог. Ну, они мне и всыпали. Меня вообще-то и раньше били… за то, что не такой, как другие.
Луи сгреб пригоршню земли и задумчиво растер между пальцами.
– Но один из них как-то слишком круто врезал мне по голове. Я-то всегда думал, что черепушка у меня чугунная…
Эту шутку Луи сопроводил призраком улыбки: тот проскользнул по губам и тут же угас. Луи уставил взгляд в жестокую синеву небес.
– Теперь-то я все вспомнил… – сказал он, и удивление смешалось в его словах пополам с печалью.
Истина нисходила на Генри, как ангел мщения, но он отказывался смотреть вверх.
– Я не хочу тут сидеть, пойдем скорее к реке, детка, – он попробовал утянуть Луи за собой, но тот не поддавался.
– Я должен тебе рассказать, cher. А ты должен выслушать. У меня ужасно заболело в голове, просто ужасно. Настоящая mal de tête[54]. Ну, я и прилег прямо там на землю, отдохнуть.
Луи сорвал пурпурный вьюнок с пышной купы и принялся вертеть в пальцах.
– Излияние крови в мозг. Ничего нельзя было сделать. Те парни вернулись и обнаружили меня на земле, уже холодного. Там они меня и закопали, под вот этими вот пурпурными вьюнами. Там я сейчас и лежу, милый. C тех самых пор, как ты покинул Новый Орлеан, давным-давно.
– Это не может быть правдой.
– Но это правда, cher.
– Ты же здесь! Ты здесь, со мной!
– Где это «здесь»? – c нажимом сказал Луи. – Вспомни, Генри. Вспомни.
Генри закрыл глаза и выключил мир. Сделать это оказалось на удивление просто: врожденная способность, доставшаяся по наследству от родителей, всегда отказывавшихся видеть правду жизни – в том числе и собственного сына. Однако правда упрямая штука: она не перестает быть собой только оттого, что кто-то тут не желает ее видеть. Генри совсем не хотел вспоминать, да только было уже слишком поздно. Он уже всплывал на поверхность.
– Я ждал тебя… На Центральном вокзале – но ты так и не приехал. И на мои письма и телеграммы ты никогда не отвечал.
Он вспомнил… Пианофонд. Тэта.
Когда он открыл глаза, кроны деревьев уже теряли краски. Тупая боль проткнула тело. Лицо его было мокро.
– Я хочу остаться с тобой.
– Ты не можешь, милый. Тебе еще все эти песни писать.
– Нет, нет, нет, – Генри затряс головой.
– Я не знаю, как сюда попал и за что мне эта последняя встреча с тобой. Я ужасно за нее благодарен. Но сейчас мне пора уходить. Да и тебе тоже. Ты должен проснуться, Генри.
Генри впился взглядом в Луи. Его любимый был прекрасен до боли. Таким он навсегда и останется в его памяти: юным и полным возможностей, слегка мерцающим по краям… Это запустило какие-то новые воспоминания. Кто-то сказал ему, что мертвые мерцают… Девушка с ярко-зелеными глазами пристально смотрела на него, словно взвешивая.
Лин. Резкая, честная Лин.
А ведь она ему с самого начала говорила: она может находить только мертвых.
Лин… Тэта. Эви и Сэм.
С каждым толчком пробуждения боль делалась все сильнее. Гаспар заскулил и облизал ему руку. Пес смотрел на него, будто ждал ответа на какой-то вопрос. Генри запрокинул голову и таращился на едва намеченные листья ивы, пока не нашел нужных слов.
– Я знаю. Я знаю… – вымолвил он наконец и заплакал, потому что боль резала его на кусочки.
– Тебе понадобится сила, – сказал Луи. – Поцелуй меня, cher.
И он сомкнул свои губы с его, вливая в Генри остатки своих сил. Когда они разорвали поцелуй, Луи уже таял, словно диск луны на розовом утреннем небе.
– Гаспар, идем, мальчик. Нам пора домой.
Луи свистнул, пес подскочил к нему. Заходящее солнце превратило реку в оранжево-золотой огонь.
– Мне туда. Но тебе со мной нельзя. Пока нельзя.
На самом берегу Луи обернулся и помахал ему: он был весь из света, такой кусочек взятого взаймы солнца.
– Напиши мне хорошую песню, Генри, – крикнул он.
У Генри схватило горло, но он помахал в ответ.
– Сладких снов!
Луи поднялся по лесенке в хижину, истлевая до серого с каждой ступенькой, а потом Генри услышал слабый, мучительный плач скрипки. Ноты мгновение плыли по ветру, а потом растаяли и они.
Но другие воспоминания уже надвигались на него: ощущение, что ему кто-то остро нужен – будто близнец тосковал по близнецу.
– Лин, – сказал Генри и кинулся к лесу.
Истинно опиумная тщетность надежд
Генри и Лин лежали совершенно неподвижно на длинном честерфилде и спали. Мэйбл и Джерико несли молчаливую стражу.
Мэйбл взяла сырой сэндвич с кресс-салатом из преющей на декоративной тарелке кучи. Она уже дала от ворот поворот нескольким разъяренным гулякам, явившимся на вечеринку. Кажется, над музеем и вправду навис неумолимый рок, хотя отсюда, из нынешнего момента, будущее выглядело и не слишком отчетливо.
– Как думаешь, какие сны им снятся? – спросила она, откусывая уголок сэндвича.
– Не знаю.
– Надеюсь, c ними там все в порядке.
– Меня не должно быть тут. Я должен быть со всеми, – проворчал Джерико, и тут некую дамбу внутри Мэйбл наконец прорвало.
– Чтобы присматривать за Эви, да? – спросила она, глядя на него в упор.
Джерико посмотрел на спящих друзей.
– Этого я не говорил.
– И не надо было. Все случилось после Ноулз-Энда или до?
Джерико промолчал, но по челюсти у него прокатился желвак.
– Впрочем, какая разница, – сказала Мэйбл, откладывая остаток сэндвича.
Черные крапинки заплясали у нее перед глазами – это она пыталась проглотить жгучие слезы.
– Тогда почему ты поцеловал меня, если мечтаешь все равно о ней?
– Не все так просто, – сказал, помолчав, Джерико.
За окном ударила молния. Безжалостный свет озарил кулачки Мэйбл, так что каждую веснушку на коже разглядишь. Он выбрал Эви. Неважно, что Эви наверняка разобьет ему сердце, что Джерико никогда не будет значить для нее столько, сколько значит для Мэйбл; неважно даже, что Мэйбл столько времени убила на помощь с этой выставкой. И то, что Эви могла заполучить любого парня, какого только пожелает – и какого непременно заполучит, тоже не имело значения. Он выбрал Эви. Эта мысль высосала весь воздух у нее из легких. Каждый день Мэйбл Роуз работала над тем, чтобы мир стал хоть чуточку справедливее. Но суровая правда – в том, что с некоторыми несправедливостями ты, хоть убей, ничего не поделаешь. Не понравишься, например, парню только потому, что он тебе так ужасно нравится. Сегодня, увидав Джерико и Эви вместе, она поняла совершенно точно: Джерико любит Эви. Эви, интересно, в курсе? И была ли она в курсе всю дорогу, даже когда подстрекала Мэйбл и советовала ей приударить за ним?
Господи, ну что она за идиотка.
И платье это она тоже ненавидела. Эви все врала: оно совершенно ей не к лицу. Просто такой Эви хотела ее видеть – такой все хотели ее видеть: доброй старой Мэйбл. Надежной, предсказуемой Мэйбл. Жизнерадостной, всем довольной Мэйбл.
Вот вернусь домой и сожгу платье на фиг, подумала она.
Джерико меж тем предавался старой привычке: сжимал и разжимал кулаки. Раньше Мэйбл находила ее эксцентричной, но очаровательной. Сейчас она решительно действовала ей на нервы.
– Кофе хочешь? – спросил Джерико.
Это было предложение мира, Мэйбл это понимала, но идти навстречу не намеревалась. Она покачала головой.
Джерико прошел через комнату и налил себе чашку кофе, которого совсем не хотел. Правда была в том, что Джерико хотел Эви, но не знал, сможет ли ее получить. Мэйбл он получить мог, но не знал, хочет ли. Ни тот, ни другой сценарий радости ему не прибавлял. Больше, чем когда-либо, ему хотелось, чтобы пришел кто-нибудь умный и объяснил ему его собственные эмоции, и про девушек тоже, чтобы он понял наконец, как это – когда все правильно.
– Я поцеловал тебя, потому что хотел, – сказал он некоторое время спустя.
– Это ты просто доброту проявляешь?
– Нет. Правду говорю.
– Если хочешь еще меня поцеловать, можешь сделать это, – сказала Мэйбл. – Но только если правда хочешь. Я, видишь ли, не Эви. И никогда ею не буду.
Джерико потянулся и взял ее за руку; у Мэйбл внутри все сжалось. Что, вот что это означает? Просто братскую симпатию или какую-то более глубокую страсть? Это не поцелуй, ежу понятно. Все кончено, траурно прошептал мозг. Надежда еще есть, встрепенулось сердце. Истинно опиумная тщетность надежд, или как он там сказал? Что ж, Мэйбл сейчас готова была заказать двойную дозу.
Лин на кушетке тоненько вдохнула; пальцы ее напряглись, потом снова обмякли.
– С ней все хорошо? – на автомате спросила Мэйбл.
– Думаю, да, – отозвался Джерико и встал. – Но нам надо бы смотреть за ними повнимательнее.
– Да, конечно, – сказала она, ненавидя его за правоту и себя – за то, что кругом ошибалась.
И страшные ангелы снизойдут на землю
Руины станции пневматической подземки затопил рокочущий вой. Странные, светящиеся создания сыпались на пыльные рельсы. Двигались они, как раненые животные, во что бы то ни стало намеренные выжить: дергаясь, извиваясь под бьющими изнутри, как молнии, вспышками адреналина.
– Сонсонголодныйголодныйсон… – завывал хор.
Они лезли из трещин в стенах, будто тараканы. Мемфис уже насчитал пять, нет, десять, нет, уже дюжину, по меньшей мере. До ворот оставалось футов десять. Он мертвой хваткой вцепился в кости Вай-Мэй, а свободной рукой держал Тэту, крепко переплетясь пальцами.
– Бежим, – крикнул он, и они четверо припустили через платформу и вырвались в открытые ворота. Призраки позади негодующе зарычали.
– На станцию – куда? – взвизгнула Тэта.
– Туда! – Мемфис метнулся влево фонариком и замер.
Он выбросил руку вбок, чтобы остановить остальных, потом снова осторожно посветил вперед. Припыленный луч поймал призрачную женщину в голубом платье. Голова ее мотнулась в их сторону. Она принюхалась, завернула верхнюю губу, показала пилу зубов.
– Не двигайтесь, – прошептал Мефис. – Стойте… совершенно… неподвижно.
Синее платье нетвердо шагнуло вперед, снова принюхалось, покачалось неопределенно. А потом распахнуло пасть и завизжало. Из тьмы ответили другие крики – рев богомерзкой армии.
Фонарик вправо – кажется, там коридор пока пуст.
– В другую сторону, – крикнул он, и они бросились дальше, в глубину подземки.
– Не хотелось бы говорить, что я вам так и говорила, – поделилась Эви (голос ее прерывался на бегу), – но таки да, вообще-то я вам так и говорила.
– Побереги дыхание, – выдохнул Сэм. – Оно тебе еще понадобится.
Мемфис глянул через плечо на зеленые фигуры, мелькающие между арками опор. Уже целая стая гналась за ними, корчась и извиваясь; ее жуткие лающие рыки звенели над путями и отскакивали от стен. Не то предостережение – не то зов о подкреплении.
– Осторожно! – Мемфис едва успел отдернуть Сэма, ботинок которого чуть не угодил под деревянную покрышку контактного рельса.
– Спасибо, друг, – выдавил дрожащим голосом тот. – В жареном виде я не очень.
– Погоди с благодарностями, впереди еще тоннелей на много миль. И куча мест, где эта дрянь может прятаться.
– Поднажмем, – подала голос Тэта. – Я вижу впереди станцию. Это должен быть «Бруклинский мост».
Яркие фонари станции так прыгали у них перед глазами. Они бежали. Они были уже близко. От звука, неприятно похожего на клацанье когтей по кафельному полу, у Сэма волосы на загривке стояли дыбом. Он посмотрел вверх – ничего. Зато справа и шагах в трех впереди какое-то движение – он ударил светом в пространство между арками. Высоко под потолком призрак зашипел и застрекотал вниз по стене, прогнувшись в «мостик» назад, будто гигантский паук. Его ногти щелкали по кафелю почище подметок чечеточных туфель. Еще раз зашипев, он плюхнулся на рельсы перед ними. В призрачной руке был зажат плюшевый кролик.
– Что. Это. Такое? – Тэта остановилась как вкопанная.
– Это ребенок, – сказал Мемфис. – Просто ребенок.
– Был ребенок, – поправил Сэм, пятясь. – Теперь, надо полагать, демон…
– Все дети – демоны, – сообщила Эви, тяжело дыша. – Именно поэтому я всегда наотрез отказывалась с ними сидеть.
– Эвил, заткнись, – испуганно прошипела Тэта.
Ночь расцвела взвизгами, рыками и гортанными криками; адский хор неуклонно приближался. Маленькая девочка перед ними разинула пасть. Кровь, черная, как полночь, побежала из глубоких трещин по обе стороны рта. Она была как голодный хищник, почуявший добычу.
– Ну, нет, только этого не хватало, – в ужасе простонала Эви.
Призрачное дитя прыгнуло вперед, щелкая челюстями, но координации ему не хватило, и оно приземлилось лицом в шпалы. В это мгновение Мемфис успел сдернуть Эви у него с дороги, в сторону «Бруклинского моста». Бывшая девочка закопошилась на рельсах, повернула к ним голову, принюхалась, завизжала и кинулась за Мемфисом и Эви. Другие твари уже виднелись в тоннеле, мерцая на фоне тьмы, отрезая Сэму и Тэте дорогу за ними.
– Скорее, – Сэм потащил Тэту через пути и между колонн в боковой тоннель.
– Но, Мемфис…
– Нам туда нельзя, Тэта! Или сюда, или нам крышка.
Тэта проводила Мемфиса и Эви взглядом и неохотно нырнула за Сэмом в тоннель, удаляясь от них с каждым шагом.
Мемфис и Эви вскарабкались на платформу на станции «Бруклинский мост», протолкались через новомодные турникеты, где сам платишь монеткой, мимо реликтового деревянного компостера и ринулись к пустому билетному киоску. Мемфис рывком распахнул дверь, закинул Эви внутрь, вскочил сам, захлопнул дверь и запер. Никаких светящихся монстров видно не было. Однако не прошло и минуты, как зеленые ручонки ухватились за край платформы, девочка выбралась наверх и по-жучиному быстро поползла вперед.
– Дома у меня была подружка, Дотти, она тоже была гуттаперчевая, и я думала, что это дико круто. Но вот это вот – просто жуткая жуть, – прошептала Эви.
– Тс-с-с, – оборвал ее Мемфис.
Призрачный ребенок принюхался, потом еще, а потом кинулся со всей силы на железную решетку кассы. Эви завопила, и их с Мемфисом швырнуло об заднюю стенку крошечной будки. Рука пропихнулась через отверстие для мелочи и поползла дальше внутрь, будто змея.
– Не-на-ви-жу призраков! – заорала Эви, пинком распахивая дверь и таща за собой Мемфиса прыжками вверх по ступенькам в сторону выхода в город.
Первый пролет окончился коридором, который гостеприимно шел вправо и влево.
– Куда? Куда? – в ажиотаже крикнула Эви.
Впрочем, это было уже неважно: c обеих сторон надвигались призраки. А снизу уже поспевала их малолетняя преследовательница.
– Встань за мной, – скомандовал Мемфис, отодвигая Эви к себе за спину.
– Сказала бы я тебе не благородничать, но я, кажется, сейчас помру от ужаса.
Призраки надвигались. Девочка уже поднялась на самый верх лестницы. До нее был где-то фут. Эви чуяла несущуюся от нее гниль и видела глубокие темные трещины на лоснящейся коже. Она и рада была бы закрыть глаза, да страх не давал. Мемфис сжал ее руку.
То, что когда-то было чьей-то дочкой, подобралось совсем близко к Мемфису и глубоко втянуло воздух – а потом отшатнулось, сжалось и зашипело. И издало леденящий кровь вопль. Другие ответили. Мемфис и Эви стояли, не шевелясь. Девочка развернулась и уползла обратно по ступенькам во тьму – вынюхивать другую дичь.
– Почему оно это сделало? – прошептала, не веря своим глазам, Эви.
– Не знаю, – ответил Мемфис.
Он поглядел направо, налево по коридору.
– Они не двигаются. Давай бежать, пока можно, – сказал он.
Эви не пришлось просить дважды. Они взлетели по второму пролету лестницы и не издавали ни звука, пока не вырвались на промокшую от дождя улицу. Ливень окатил их как из ведра, и тогда они закричали, выпуская все, что так долго держали внутри. Прохожие, спешившие мимо под защитой зонтиков, поглядели на них, как на пациентов приюта для умалишенных. Какая-то леди с отвращением прикрыла рот рукой в перчатке.
– Господи боже! – вырвалось у нее.
Только тогда до Эви дошло, что она все еще сжимает в скрюченных от ужаса пальцах череп.
– А мы тут «Гамлета» даем! – проорала она женщине, пряча череп под пальто. – Каждый вечер в восемь и утренние спектакли по воскресеньям. Приходите!
– Тэту видишь? – Мемфис кружил рядом с выходом, принюхиваясь не хуже призрака.
– Они могли выбраться первыми и сейчас уже на пути на кладбище, – предположила Эви.
– Я без Тэты не пойду.
– А я не пойду туда, обратно, – заявила Эви. – Мы договорились двигать к церкви Троицы. Они знают, что встретят нас там. Чем скорее мы похороним эти кости, тем целее будем – все мы.
Дождь бежал по растревоженному лицу Мемфиса.
– Ты уверена?
– Я больше ни в чем на свете не уверена, Мемфис.
Тот кинул еще один последний взгляд на вход в подземелье – прижал к себе покрепче кости.
– До Троицы отсюда кварталов шесть. Нам лучше поторопиться.
– Твой второй акт, Йорик, – сказала Эви черепу и помчалась вслед за Мемфисом через дождь.
Сэм и Тэта неслись на север. Они вылетели в какой-то недостроенный тоннель и уперлись в тупик, заваленный мусором, обломками железа и дерева, трубами, сверлами от отбойников и землекопными инструментами. Сточные воды и дождевой паводок с поверхности низвергались в тоннель через выход трубы. Воды уже было по колено.
– Сэм, стоп! – крикнула Тэта, сгибаясь впополам. – Где Мемфис и Эви?
– Я… не знаю, – выдохнул Сэм, держась за бок, где немилосердно кололо. – Но нам надо отсюда выбираться.
– Как? Тут тупик, а эти твари позади нас! – взгляд Тэты лихорадочно заметался по подземелью в поисках какого-нибудь оружия, остановился на обломке трубы, которую она и схватила на манер бейсбольной биты.
Сэм двинулся через вонючие воды к ряду скоб, торчащих из бетонной стены.
– Думаю, вот эта лестница ведет к люку и на улицу.
Тэта не без труда побрела к нему, потом резко остановилась.
– Тэта, шевелись!
Она покачала головой и покрепче взялась за трубу.
– Там что-то движется. Под водой.
Сэм замер, потом повел лучом фонаря по мутной, бурого цвета воде.
– Ничего там нет. Все хорошо. Давай сюда.
Тэта сделала еще шаг и снова остановилась. Водная гладь вспухла; свет поднимался со дна, расходясь кругами, а потом призрак вырвался из воды прямо перед ней, отрезая путь к Сэму и лестнице. Он был крупный, сильно больше шести футов, и широченный, сложенный как каменщик или рабочий-металлург. Глаза у него были молочные, как будто он давно не видел света, зато зубы острые как иголки, и рот… челюсть ходила с противоестественной эластичностью, а по меловой коже сбегала струйка чего-то темного и вязкого. И еще этот чертов звук – как будто демоны ада пели…
Горло у Тэты сжалось, выталкивая воздух коротенькими, поверхностными вздохами. Страх сдавил ее в кулаке, пробуждая помимо мозгов память тела: как она целые ночи ждала, слушая, не загремят ли по лестнице ботинки Роя, не повернется ли дверная ручка… как она вся деревенела в ожидании удара.
– Тэта! – закричал Сэм.
Но она его почти не слышала. Еще немного, и она уплывет, прочь из тела, прочь от страха и боли, как тогда, c Роем – будто дитя внутри нее манит пальчиком и показывает приоткрытую дверь в чулан. Она смутно сознавала, как Сэм прыгнул вперед, целя нож в обширную спину призрака, как нож воткнулся и не возымел никакого эффекта. Ее тряхнуло, когда Сэм выбросил вперед руку, крича: «Ты меня не видишь!» – но тварь не обратила на это ровным счетом никакого внимания и все равно надвинулась на Тэту.
– Сонсонголодныйсон… – произнесла она искаженным дьявольским голосом.
Лампа на лбу каски сверкнула Тэте в глаза, окончательно гипнотизируя.
Голос Роя загремел у нее в голове.
Где мой ужин, Бетти Сью? Ты опять кокетничала с тем чуваком, Бетти Сью? Я тебя видел. Не смей мне врать. Ты знаешь, как я отношусь к вранью.
Чудовище протянуло к ней руку. От руки несло испорченным мясом и скисшим молоком. Тэта отвернула голову и закрыла глаза. Рой надвигался на нее со своими кулаками, издевательской ухмылкой и ремнем.
– Сонголодныйсонголодныйсон… – прорычала тварь.
Не думать. Не чувствовать.
Его зловонное дыхание у нее на шее, бьет в ноздри…
Рой. От него воняет пивом. Пьяный от злобы, разочарования и собственной жестокости.
Дрожь в теле Тэты перешла в крупную тряску. Ладони у нее зачесались, слезы побежали по лицу, но изо рта не вырвалось ни звука.
Не смей реветь, или я дам тебе над чем поплакать.
Зловонный, зубастый рот был уже совсем близко.
На кровати. Он сверху. Во рту кровь. В носу тоже. Сейчас задохнусь.
Тэта крикнула и выставила ладонь – хрупкий барьер между ней и тем, кто всего-то и хотел, что подарить ей свой сон, остаться в живых любым способом, сломать ее, как сломали его… Кожа у него была мягкая и слизистая, как гнилой плод, – она почувствовала ее сквозь тонкий хлопок перчатки. Спазм прошел по пищеводу, извергая в рот немножко того, что было в желудке. Зуд под кожей схватился, будто газ в кухонной горелке поймал наконец искру. Температура внутри Тэты прыгнула вверх, струйки пота побежали по телу. Жар промчался по нервным окончаниям, кинулся в руку.
Тварь вопила, пока Тэта жгла ее. Она билась и тряслась, пока не сгорела до костей.
– Тэта! – резко сказал Сэм; а потом уже мягче: – Тэта, всё, отпусти.
Она открыла глаза и увидела Сэма. Перчатка у нее на руке сгорела, а местами еще и вплавилась в кожу. Она все еще сжимала клок рубашки, что была на ходячем трупе. Сэм вынул его и бросил вниз, оставив плавать по воде, потом осторожно взял ее руки и рассмотрел. Ладони были красные и покрытые пузырями.
– Надо будет их обработать, – сказал он. – Тебе больно?
– Пока нет, – ответила Тэта.
– Нам нужно выбираться наверх, на улицу.
Вода. Она уже доставала до груди. Тэта кивнула, вся дрожа. Жар уже покинул ее, и теперь казалось, что на свете больше никогда не будет тепло.
– Сэм? Пожалуйста… не рассказывай об этом Мемфису.
Сэм поглядел на проходческую каску, подпрыгивавшую в потоке сточных вод, потом перевел взгляд на Тэту.
– О чем не рассказывай? Я вообще-то ничего не видел.
В той стороне, откуда они пришли, трещали вспышки, будто сразу с десяток гангстеров палил из автоматов в ночи из проезжающей машины. По стенам прыгало эхо воплей. Неприятель прибывал.
– Нам пора, – сказал Сэм.
Тэта пробилась сквозь толщу грязной воды и полезла вверх по лестнице, морщась от боли в обожженных ладонях. А потом они с Сэмом сдвинули крышку дорожного люка, вытащили себя из подземелья в сияющие неоновым светом лужи Бродвея и, не чуя под собой ног, полетели на кладбище.
Лин стояла на безлюдной улице в Чайнатауне. Сырой туман лип к рваным новогодним транспарантам и зигзагам пожарных лестниц. Ни единого света в окне, ни единого открытого магазина. Желтые карантинные уведомления пестрели на каждой двери. В «Чайном доме» было темно. Весь остальной город нависал дальним планом, расплывчатый и недосягаемый.
Где же все? Лин сама не знала, подумала она это или сказала вслух. В голове у нее царила такая же мгла, что и вокруг, – зато тело было на диво собранным, напряженным и готовым к любой опасности.
Корабельный гудок провыл разлуку. Сквозь разошедшийся туман Лин видела гавань и отплывающий пароход – совершенно огромный; на палубе в толпе соседей стояли ее мама и папа, и дядя Эдди с ними: все махали ей на прощание. В руке у заплаканной мамы трепетал платок. Губы папы двигались, но Лин все равно не слышала, что он говорит: слова пожирал туман.
– Баба! Мама! – закричала она, и звук укатился куда-то в закоулки пустых улиц.
От удара гонга в окнах зазвенели стекла. Барабаны чжаньгу мерно зарокотали предвестие войны. Тяжелый бой сплелся с бешеным ритмом ее сердца. Поверх барабанов взмыл тонкий, насекомый вой, от которого у Лин вся кожа тут же пошла мурашками.
Светящиеся лица всплыли во всех окнах и тут же пропали. Лин завертелась кругом. В конце улицы стоял Джордж Хуань, будто вырезанный из мела. Бесцветные, как молодое зерно, губы кривились, обрамляя изъязвленный болезнью рот. Глубокие трещины пестрили лицо, шею, руки; кожа расседалась на глазах, словно гния изнутри. Пасть раскрылась в крике. На мгновение Лин лишилась способности думать и только смотрела и смотрела на бледную фигуру Джорджа, не живого и не мертвого, тянувшего к ней руки, кукольно сжимавшего и разжимавшего пальцы. Потом он упал на четвереньки и застрекотал вверх по стене дома, по-тараканьи быстро.
Беги, сказал голос у нее в голове. Беги. Но как люди бегают? Ее организм почему-то забыл это простое движение… Беги. Когда она посмотрела вниз, мостовая уже превратилась в смоляную реку. Скользкие черные руки подымались из липкой жижи и уже держали ее за лодыжки. Лин ахнула, и на ногах у нее возникли скобы, а пряжки на них принялись затягиваться – туже, туже… Она закричала, и сон вдруг изменился, и она уже лежала на больничной кровати. Спину раздирало от боли, спазмы пожирали ноги, мускулы ее умирали.
Два аккуратных ряда кроватей тянулись вдоль комнаты, уходя в бесконечность, насколько хватало глаз: на всех на них спали люди. Сейчас они разом сели, обратили к ней свои разлагающиеся лица и затянули хором:
– Сон сон смотри с нами вместе сон вечно сон сон с нами вечно вместе…
Дядя Эдди стоял рядом с угрюмым видом, читая ее медицинскую карту.
– Они не должны были этого делать…
Он положил карту к ней на койку.
Слова на обложке плыли: пациент № 28 Нью-Йорк Нью-Йорк…
Накатил новый спазм, и она в агонии закричала. Медсестра задернула занавеску вокруг них; ее физиономия придвинулась вплотную к Лин.
– Хочешь, чтобы боль прекратилась?
– Д-да, – взмолилась Лин.
– Тогда смотри сон вместе с нами.
В проем занавески просочился Джордж, и Лин попыталась сказать оглянитесь оглянитесь осторожно сзади! но слова выговариваться не желали, а только прыгали, как мячики, внутри ее черепа.
Больничный свет замигал. В его вспышках глаза Джорджа светились, будто у демона.
– Джордж, прости… пожалуйста, пожалуйста, прости… – прошептала Лин.
Секунду он смотрел на нее, словно узнал. Потом рот широко распахнулся, мышцы на шее напряглись, словно он пытался что-то извергнуть из горла. Пальцы, сморщенные, как гробовой креп, потянулись к ней, наткнулись на медицинскую карту…
Не смотри, сказала себе Лин, не смотри, и тогда оно потеряет реальность. Насекомый гул оглушал, и Лин подумала, что вот сейчас, на месте и лишится ума. А потом вдруг настала тишина. Когда она снова открыла глаза, Джорджа уже нигде не было.
Поперек медкарты было нацарапано: «Ничего не обещай. Жемчужина».
Лин услышала, как ее кто-то зовет по имени. Звук шел как будто из другой комнаты, из смежного сна.
– Лин! Лин Чань, где ты?
– Генри! – закричала Лин.
Генри отбросил штору в сторону. Он вцепился в ткань так, словно она одна еще удерживала его на ногах.
– Генри! Ты правда тут?
Он выдавил что-то похожее на улыбку.
– Выходит, что да.
– Как ты меня нашел?
– Давай поиграем в угадайку: наверное, это ты сама меня нашла. – Он несколько раз судорожно и поверхностно вдохнул. – Держу пари, ты сейчас спишь где-то с моей шляпой в обнимку.
– Да, – сказала Лин, вспоминая. – Да.
Генри шлепнулся на кровать. Шея у него была вся в красных пятнах.
– Лин, нам срочно нужно посмотреть другой сон.
– Не могу… Я не могу. Мне больно…
– Дружочек, ты не чувствуешь никакой боли. Это просто дурной сон, кошмар. Ты можешь проснуться у себя в кровати, как только пожелаешь.
– Нет. Мы должны вернуться туда, в тоннель. Вай-Мэй… Мы должны положить этому конец.
– Хорошо, – сказал Генри, беря ее за руку. – Тогда почему бы тебе не увидеть во сне тоннель? Ты знаешь, о каком я говорю. Тоннель… и мы с тобой оба там. Мы… оба… там.
Его слова пронеслись сквозь ее голову, как торнадо. Она расслабилась, и больничный сон растаял. Лин снова стояла в тоннеле. Кирпичи ярко полыхали уловленными в западню снами, качая силу в колоссальную машину забвения. Генри лежал на земле, совсем слабый и бледный.
– Генри? – прошептала Лин.
Колокольчики… Робкий жестяной перезвон шкатулочной песенки. Шорох задубевших от крови юбок. Она шла к ним.
– Давай, – сказал Генри.
У Лин все еще все болело. Силы было ужасно мало. Если она намерена победить Вай-Мэй, придется превозмочь боль и изменить сон, как Вай-Мэй же ее и учила.
Дыши глубоко.
Сосредоточься.
Одна задача за раз, только одна.
Фигура Вай-Мэй вспыхнула во тьме.
– Что это ты делаешь, Маленький Воин?
Лин не ответила. Всю силу своего ума она направила на то, чтобы вернуть ногам прежний вид. Но у нее ничего не выходило…
– Ты правда думала, что это ты меняла сон во все те разы? Бедняжка, нет. Это была моя сила, а не твоя.
– Нет. Это была я. Я чувствовала.
– Я просто позволяла тебе думать, что это делаешь ты. Чтобы ты была счастлива. Чтобы возвращалась ко мне.
Вся ее храбрость схлынула прочь. Совсем как в тот день, когда ей сказали, что она больше никогда не сможет бегать – и даже ходить без этих безобразных скоб. У нее только что снова отобрали будущее, отобрали выбор, даже не спросясь. Несправедливость мира обрушилась на нее как тумак.
– Ты можешь выбрать быть счастливой – сейчас.
Вай-Мэй обвела рукой выход из тоннеля, и пейзаж загорелся новыми чудесами. Лин в платье из стекляруса отплясывает чарльстон на сильных стройных ногах. Лин стоит перед завороженной толпой на вставке «Будущее Америки» Джейка Марлоу, а сам мистер Марлоу разглагольствует об ее успехах в атомной физике. Марлоу пожимает ей руку, а внизу стоят родители и с гордостью глядят на нее – и все это так близко, что только руку протяни, и схватишь полный кулак мечты…
– Или ты можешь выбрать оставаться несчастной.
Зеркало затуманилось, картинка пропала, но на ее месте возникла другая. Лин ковыляет по улицам Нью-Йорка, а люди глазеют на нее. Лин сидит в глубине отцовского ресторана за тиковой ширмой, совершенно одна…
– Отвратись от мира, сестра, – нежно сказала Вай-Мэй. – Останься тут, со мной, и давай смотреть сны вместе. Если мы еще вон того возьмем, – она кивнула в сторону Генри, – у нас будет столько силы! Ее хватит на много, много снов. Скоро иной мир откроется нам. Вороний король грядет. Он…
Громкий бум разнесся по тоннелю – это Генри подобрал камень и вмазал по одному из кирпичей-экранов. Он дрожал с головы до ног, но сумел выпрямиться и с криком ударить в стену снова, расколов булыжником другой. Скрытая в кирпиче энергия световым хвостом метнулась наружу, просверкнула во тьме и рассеялась. Вай-Мэй пошатнулась. Генри двинулся было портить стену дальше, но уже едва мог пошевелить рукой.
– Ты бесчестный человек! – вскричала Вай-Мэй, зажимая его голову между ладоней. – Ты будешь страдать, как страдала я.
– Вай-Мэй, стоп! Остановись, и я… и я посмотрю с тобой твой сон, – пообещала Лин.
Та отпустила Генри, и он снова свалился наземь, попытался схватить ее за лодыжку, но она легко шагнула прочь.
– Ты правда будешь смотреть сны со мной? – Пальцы Вай-Мэй скользнули по руке Лин, и в этом жесте слились ужас и вожделение, и монетка завертелась, посверкивая на столе, готовая вот-вот успокоиться навсегда: пан или пропал. – Ты обещаешь?
Ничего не обещай. Жемчужина.
Лин полезла в карман. Там было пусто.
Жемчужина, подумала она. Жемчужина. Искра вспыхнула в кончиках пальцев и скатилась в ладонь. Она чувствовала, как жемчужина обретает форму, круглая, твердая – и настоящая.
– Ты будешь смотреть сон со мной? – снова спросила Вай-Мэй, уже настойчивее. – Ты обещаешь?
– Лин… – пролепетал Генри. – Не надо.
Лин приложила руку ко рту, словно молясь. А потом поманила Вай-Мэй пальцем. Та подплыла ближе, ее лицо придвинулось почти вплотную.
– Я… обещаю… – их губы почти сомкнулись, – что нет.
Лин стремительно прильнула к устам Вай-Мэй и выпустила жемчужину, которую прятала под языком. Глаза Вай-Мэй расширились от изумления, пальцы взлетели к горлу.
– Вынь… ее… скорее, – прохрипела она.
Лин покачала головой. Генри подполз к ней. Тоннель кругом закачался, стремительно стираясь из реальности. Мир сновидений тоже начал рушиться вместе с ним. Сосновая хвоя бурела и сыпалась с веток. Лес истончился до прутиков. Цветы на лугу попрятались обратно в траву, которая сама изгладилась в ничто. На мгновение они оказались наверху, на улицах Пяти Углов. Фейерверки взрывались в небе хлопушками надежды над съеживавшимися крышами.
– Нет, – дрожа всем телом, каркнула Вай-Мэй.
Она еще пыталась дышать. Две слезы сбежали по щекам.
– Оно… все умрет вместе со мной. Больше ничего не будет. Без мечты… это… вторая смерть.
Они снова были на железнодорожной станции. Свет с треском бежал по стенам вверх и змеился по просторам потолка, как закоротившая электроцепь. А потом зал стал сворачиваться сам в себя, как незаписанный сон, который забудется поутру.
– Пожалуйста… – взмолилась Вай-Мэй.
Храбрость Лин пошатнулась. Она посмотрела на Генри.
– Может, мы можем ее спасти?
– Мы как раз это и делаем, – напомнил он.
Вай-Мэй налилась сиянием, как звезда перед гибелью. Ослепительные лучи расчертили ее тело в муках начала, в неизбежности конца. А потом взорвался белый свет и смыл весь пейзаж. Генри и Лин безотчетно прикрыли друг друга и сомкнули веки, чтобы спастись от его ярости.
Мемфис и Эви копались в мокрой земле на кладбище Троицы, готовя неглубокую могилу. Эви вытерла грязный лоб не менее грязной рукой.
– Ну, где они там? – попробовала она перекричать рушащийся сверху дождь.
– Уверен, они будут тут в любую секунду, – ответил Мемфис; голос у него, однако, был нервный. – Лучшее, что мы можем сделать, – это продолжать копать.
– Так и думала, что ты это скажешь, – проворчала Эви.
– Мемфис! – Из-за угла старейшей в Нью-Йорке церкви вырвалась Тэта; Сэм мчался за ней по пятам.
Одним прыжком Мемфис вскочил и заключил ее в объятия.
– Я так беспокоился за тебя!
– У нас случились небольшие неприятности с пареньком, который ни в какую не хотел слышать «нет», – объяснил Сэм.
– Одна из этих тварей загнала вас в угол? – тут же догадался Мемфис.
Тэта кивнула.
– И как же вы выбрались? – Мемфис схватил ее за руки, и Тэта вскрикнула.
Он увидел освежеванные ладони.
– Тэта! А эти ожоги откуда?
– Я…
– Паровая труба, – снова объяснил Сэм, кидая на Тэту быстрый взгляд. – Давайте уже засунем эти косточки в освященную землю. Достойные похороны, все такое…
Сэм, Эви и Мемфис принялись рыть с такой яростью, что вскоре выкопали вполне приличную яму.
– Как скажешь, Мемфис, достаточно глубоко? – спросил Сэм.
– Я тебе скажу, что достаточно, – встряла Эви.
– Ну, тогда была не была, – и он, тяжело дыша, вылез из ямы.
Мемфис с Тэтой опустили череп и оставшиеся кости Вай-Мэй в могилу, и Мемфис забросал ее обратно землей. Руки у него уже почти заледенели на холодном и мокром ветру.
– Я ничего не смыслю в китайских ритуалах, но наверняка тут полагается сказать какую-нибудь молитву, – сказал он.
– Какую молитву говорят, когда нужно избавиться от призрака? – осведомилась Тэта.
– Вот уж чего не знаю… Но, думаю, любая будет лучше, чем совсем никакой.
Все, кроме Сэма, склонили головы.
– Сэм! – Эви пихнула его локтем.
– Уж поверь, если боженька существует, он все равно в курсе, что я притворяюсь.
Мемфис опустился на колени в грязь и положил одну руку на холмик.
– Покойся с миром, беспокойный дух, – прошептал он и ощутил легонький толчок – тень контакта, которая тут же пропала.
– Ну, что? У нас получилось? – спросила Тэта.
Сэм пожал плечами.
– На меня даже не смотрите. Я вам не эксперт по призракам. Что-то пытается нас убить прямо сейчас?
Они сбились в кучу в тени готической колокольни церкви под неутихающим ливнем, прислушиваясь, не идут ли голодные духи, но слышали только грохот воды, и городские клаксоны – такие сладостные сейчас! – и возмущенные крики с улиц, и неумолчный шум города.
– Думаю, у нас все получилось, – заключил Мемфис со смесью облегчения и благоговейного ужаса.
– Двинули обратно в музей, – произнесла Тэта, громко стуча зубами. – Я хочу убедиться, что с Генри все в порядке.
– Дай-ка я сначала взгляну на твои руки, – сказал Мемфис.
– Поэт…
– Тэта!
Она неохотно подняла руки израненными ладонями вверх. Мемфис взял их в свои.
Тэта поморщилась.
– Прости, – сказал Мемфис. – Ты мне доверяешь?
– Да, – прошептала она.
Мемфис закрыл глаза.
Контакт был нежен, словно кто-то на руках, баюкая, уносил его в целительский транс. Он слышал, как бьют барабаны и радостно поют духи предков, а наверху раскинулось вечное синее, синее небо. Ему было тепло.
– Мемфис? – позвал голос Тэты.
Она стояла перед ним, улыбаясь, как человек, в первый раз в жизни увидавший свое счастье.
– Я чувствую тебя, – сказала она, не произнеся вслух ни слова. – И мне совсем не страшно.
Голова ее откинулась назад, глаза закрылись. Волна прокатилась по Мемфису; он ощутил, что сделан из чистого света. Пение было повсюду, и на мгновение они двое стали единым целым – одно тело, одна душа – словно уже перепрыгнули через метлу[55] и приземлились по ту ее сторону. Там, где всегда светит солнце.
Мемфис пришел в себя. Тэта смотрела на него широко раскрытыми глазами. И плакала.
– Я сделал тебе больно?
Она засмеялась сквозь слезы.
– Ты никогда бы не сделал мне больно.
Ее руки лежали в его, и последние ожоги таяли на коже.
В затопленных тоннелях призраки тоже таяли с долгим, протяжным вздохом. Поезда разметывали остатки их призрачной сути, тарахтя прямо сквозь них, неся по домам сонных пассажиров, готовых уснуть, жаждущих оказаться поскорее в постели. Сегодня все они будут спать спокойно.
А в царстве снов, в их сияющем логове началось последнее представление. Генри и Лин вместе смотрели, как воспоминания возвращаются в архивы мира, где и положено спать страстям человеческим.
– А Луи? – спросила Лин.
Огни кругом гасли, один за другим.
Ее друг покачал головой.
– Мне жаль, Генри.
Он поглядел на потолок, где уложенная елочкой плитка уже утратила весь свой блеск.
– Нам пора просыпаться, как думаешь?
– Да, я готова.
– Ты знаешь, что делать?
– Не волнуйся, знаю, – заверила его она.
– А я вот нет, – признался он. – Ладно, Лин, дорогая, ночь выдалась долгой, ты шикарно поработала. Теперь ты можешь проснуться, как только пожелаешь. Просыпайся, Лин Чань.
Лицо Лин утратило выражение, веки опустились, и в следующий миг она пропала из мира снов, оставив лишь смутное ощущение, что она когда-то здесь была – так, еще одно малое возмущение атомов. И совсем уже перед самым пробуждением ей почудилось, что она видит Джорджа, сияющего и золотого. Он улыбался ей с угла Дойер-стрит в день Нового года, и фейерверки взрывались красками у него над головой, а в руке была печенька-полумесяц, и все время мира теперь принадлежало ему.
А Генри, ожидая, пока Лин разбудит его в реальном мире, сел в последний раз за «Чикеринг», который тоже мог растаять в любую минуту. Он поставил пальцы на клавиши и заиграл. Он все еще играл, когда услышал, как где-то надрывается будильник, и последние остатки станции расплылись в молочную белизну и исчезли навек.
Первое, что он увидел сквозь узкие щелочки неподъемных век, проснувшись в музее, было заляпанное грязью, встревоженное лицо Тэты.
– Генри?
Она была насквозь мокрая и воняла, как помойка, но она была рядом.
– Тэта! – проквакал он.
– Генри! – она кинулась обниматься; его скрутило. – Что такое? Тебе плохо?
– Не то чтобы, – он закашлялся. – Просто ты ужасно пахнешь.
Тэта зарыдала и засмеялась сразу, чтоб не тратить время.
– Как моя лучшая на свете девочка? – осведомился Генри.
– Все совершенно пухло, – сказала она, прижимаясь к нему.
Мемфис тихонько отошел, предоставив их друг другу. В конце концов, у него тоже был младший брат.
– Лин, – Генри протянул к ней руки.
Тэта решительно подтащила Лин к ним, хоть та и выглядела раздосадованной.
– Я не обнимаюсь, – сообщила Лин несколько запоздало, уже зажатая между ними, как в бутерброде.
– Сэм! – воскликнул Сэм, обнимая сам себя. – Дорогой! Нет-нет, не благодари.
Эви глядела мимо них стеклянными глазами и слегка покачивалась.
– Эвил?.. – озабоченно начала Тэта.
– Одна из тварей сцапала ее? – деловито спросила Лин.
– Эви? Эй? Ты в порядке? – встрял Сэм.
Эви повернулась к ним спиной, и ее стошнило.
Уже почти рассвело. Грязные и изголодавшиеся до смерти, Тэта, Мемфис и Сэм сгрудились у длинного стола, пожирая отсыревшие сэндвичи с кресс-салатом. Половину своего Тэта отдала Генри. Джерико отнес Лин чашку бульона.
– Не то чтобы сильно вкусный, но хотя бы теплый, – сказал он, получив в благодарность кивок.
– А позвонить от вас можно?
Джерико принес ей еще и телефон, и минуту спустя Лин уже тихо и оживленно разговаривала с кем-то по-китайски.
На другой стороне комнаты Мэйбл ворошила угли в камине, чтобы разогнать утреннюю промозглость. Эви раскинулась в кресле, воркуя с чашкой кофе. Выглядела она потрепанно. Повсюду виднелись остатки благополучно сорванной пророческой выставки.
Тэта вытащила сигарету.
– У нас в музее не курят, – проинформировал ее Джерико.
– Теперь курят, – Тэта чиркнула спичкой и наградила его свирепым взглядом. – Подай мне вон ту пепельницу, Мэйбси.
– Я думала, я одна зову тебя Мэйбси, – подала голос Эви.
Тэта пожала плечами и затянулась. Мэйбл скрестила руки на груди и демонстративно уставилась в другую сторону.
Лин повесила трубку и отхлебнула бульона.
– Как там, все в порядке с твоими родителями? – поинтересовался Сэм.
– Была демонстрация. Люди окружили мэрию, и мэр отдал приказ вернуть всех домой, в Чайнатаун. Но я не сказала бы, что там прямо-таки все в порядке. Мы выиграли всего лишь одну битву.
– Аминь, – отозвался Мемфис, встретившись с нею взглядом; они поняли друг друга без слов.
– Ну, раз все на месте и в наличии, я объявляю наше собрание открытым, – Джерико принялся мерить шагами комнату, как часто делал Уилл. – На настоящий момент совершенно ясно, что в стране что-то происходит. Сначала Джон Хоббс, потом эта Вай-Мэй со своими тоннельными призраками. Духи и демоны так и шныряют вокруг. Сообщений с каждым днем все больше. И у меня создается впечатление, что мы – единственные, кто может с этим хоть что-то сделать.
– Хочешь сказать, нам придется работать вместе? – холодно произнесла Мэйбл, переводя взгляд с него на Эви и обратно.
– Ты пытаешься сделать из нас профсоюз, Мэйбл? – поднял бровь Сэм.
– Нет, – честно сказала та, – даже индустриальных рабочих и то проще организовать.
– Ненавижу призраков, – вставила Эви, решительно отказываясь открывать глаза.
– Кругом куча каких-то непонятных сил, и мы ни хрена о них не знаем, – подытожил Сэм. – Это типа как получить ключи от новехонького родстера и не уметь водить.
Некоторое время в библиотеке было тихо, лишь стучал по подоконнику дождь и трещал огонь в камине. Наконец Эви со вздохом села и открыла налитые кровью глаза.
– Сэм, я думаю, надо рассказать им, что мы нашли.
– Ничего не надо!
– Короче, или ты рассказывай, или это сделаю я.
– Уже второй раз ты со мной это делаешь. Напомни, чтобы я тебе больше никаких секретов не доверял.
– Это больше не твой секрет.
– Ну, отлично, – проворчал Сэм.
Он выложил на стол перфокарту. После всего, что случилось с ними за вечер, она выглядела немного несвежей, но к использованию еще вполне годилась.
– И что это такое? – Мемфис подцепил ее, чтобы рассмотреть.
– Мы с Эви обнаружили эти документы в подвале Центрального телеграфа. В офисе, который раньше принадлежал Департаменту Паранормальных Исследований.
– Че-чему? – не поняла Лин.
– Секретному правительственному подразделению, основанному президентом Рузвельтом для изучения сверхъестественных явлений и рекрутирования пророков на государственную службу в интересах национальной безопасности, – объяснил Джерико.
– Что, прямо Тедди Рузвельтом? В открытую? – впечатлилась Тэта.
– Эй, а ты, Фредди, об этом откуда знаешь? – изумился Сэм.
– Всё здесь, в письмах Уилла к Корнелию Ратбоуну. Пророки были в этой стране с самого ее начала, – Джерико показал на бесполезную выставочную экспозицию. – Вы бы тоже это знали, если бы проторчали тут столько же, сколько я. Сэм, Эви, Мемфис, Лин, Генри – каждый из вас в той или иной мере пророк.
Мэйбл положила руку на плечо Тэты.
– Надо думать, лишь некоторые из здесь присутствующих омерзительно обычны. Или одно это уже делает нас необычными? – сказала она, почти совсем не подначивая Джерико.
Сэм и Тэта обменялись многозначительным взглядом, но Эви успела его перехватить.
– И про что была эта стрельба глазами? – осведомилась она.
– Ни про что. Глазам тоже нужна физкультура, – солнечно ответил Сэм. – Ну, и что теперь? Откроем подпольный кабак? Кружок по изготовлению стеганых одеял в пользу голодающих призраков? Или что, все хотят радиошоу?
– Мы должны выяснить, почему, – сказала Лин. – Откуда у нас всех эти способности. Почему именно у нас. И почему сейчас.
– Раньше чужих секретов мне выдавали секунд на несколько, не больше, – поделилась Эви. – И все урывками – как пытаться кино смотреть на сломанном проекторе. Но в последние полгода оно стало гораздо сильнее.
– Я не мог исцелять, c тех пор как… – сказал Мемфис. – В общем, уже давно. Но сейчас все вернулось, и да, гораздо сильнее.
– У меня та же фигня, – отозвался Сэм. – Когда я уложил того солдатика, он был совсем в отключке.
– Мы с Лин… наши способности гораздо сильнее, когда мы вместе, – сообщил Генри.
– Создается впечатление, что мы все как-то связаны, – согласилась Лин. – Как атомы, которые вместе образуют новую молекулу.
– Но почему? – спросила Тэта. – И главное, зачем?
– Во всем этом должен быть какой-то смысл, – сказал Мемфис. – Призраки исчезли, потому что Генри и Лин победили Вай-Мэй в мире снов? Или все дело в том, что Эви прочла кости, а мы похоронили их на кладбище церкви Троицы и дали духу Вай-Мэй уйти с миром? Мы не можем этого знать.
– Вы похоронили ее – где? – Лин сурово нахмурилась.
– На кладбище… Троицы, – ответил Сэм.
Лин всплеснула руками.
– Нельзя никого хоронить в городе! Это к несчастью!
– Ну, прости, – огрызнулся Сэм. – Некогда было почитать об этом.
– Мы знаем только, – продолжил Мемфис, – что понадобились мы все, чтобы остановить эту напасть навсегда.
– И как? – тихонько спросила Эви.
– Что – как?
– Она остановилась? Навсегда?
С этого момента беседа как-то резко перешла во всеобщую перебранку с криками. Некоторое время Джерико тщетно пытался восстановить порядок, после чего так хватил об стол молотком, что тот треснул. Метафизикометр жахнул статическим разрядом, и все замолчали. Игла на шкале неистово запрыгала.
– Это еще что такое? – спросил Сэм. – И почему оно это делает?
– Не знаю, – прошептала Мэйбл.
Парадная дверь с грохотом распахнулась, потом захлопнулась; звук прокатился по всему зданию.
– Тихо! – прошипел Джерико.
Все сгрудились вокруг стола. Джерико вытащил кочергу из каминного поставца и взял профессиональным бейсбольным жестом, готовый хорошенько размахнуться. По коридору простучали шаги, дверь в библиотеку отворилась.
Уилл встал на пороге, как в раме картины, и по очереди оглядел собравшихся.
– Вы что тут, оркестр решили организовать?
– Уилл, я… – позади него нарисовалась сестра Уокер. – Ого. Не знала, что у тебя тут целая компания молодежи.
– Вообще-то я тоже не в курсе, – сообщил ей Уилл.
– Сестра Уокер? – сощурился Мемфис.
– О, привет, Мемфис. Ужасно рада, что ты зашел. Я уже очень давно хочу с тобой потолковать.
– Привет, Эванджелина, – дядя поприветствовал племянницу коротким кивком; та сложила руки на груди.
– Дядя, – холодно сказала она.
– Ну что, Уилл. Сдается мне, они все, наконец, здесь, – сказала сестра Уокер, снимая шляпу и захлопывая дверь.
Новое начало
В Чайнатауне грохотали барабаны и стрекотали фейерверки, поминутно распускаясь огненными цветами. Год Кролика наконец пришел. Люди повысыпали на балконы второго этажа. Дети глазели с пожарных лестниц, не желая пропустить ни секунды парада. Толпа в этом году была поменьше: многие все еще боялись сонной болезни, хотя о новых случаях больше не сообщалось. Как бы там ни было, мистер Леви явился вместе с внуками, которые стояли теперь на тротуаре, совершенно завороженные львиным танцем. Мистер и миссис Руссо, заправлявшие булочной на Малберри-стрит, тоже были здесь; за ними на хвосте увязались несколько кузенов. Все хлопали, кричали, радуясь шикарному зрелищу и вкусной еде, купаясь в праздничных надеждах – кто не любит новых начал? Супружеские пары раздавали домочадцам красные конверты с деньгами, привлекая в дом добрую удачу. Свой Лин сунула в карман. Потом она добавит его содержимое к фонду «на колледж» – а сейчас ей предстоял пир. «Чайный дом» был битком набит голодными посетителями, жаждущими праздника. От запахов мяса и рыбы, супа и лапши – всего лучшего, что только могла породить папина кухня, – у Лин урчало в животе.
Устроившись за своей тиковой ширмой, Лин разлила чай и поставила на стол две тарелки апельсинов и лунный пирог – приношение в честь Джорджа и Вай-Мэй.
– С Новым годом! – прошептала она.
Джерико, истекая потом, загонял себя ежедневной физической тренировкой. Наконец, он в изнеможении рухнул на пол. Триста отжиманий, двести подтягиваний – и руки даже не дрожат. Он сжал кулак – никаких проблем.
Джерико молча выдвинул ящик шкафа и извлек кожаный футляр, запрятанный в самом низу, под фуфайками. Звякнули десять пустых флакончиков. Он осторожно вытащил пробку из того, что Марлоу дал последним, и отпил унцию голубой сыворотки – на неделю довольно. Осталось еще три.
Он лег на пол и начал по новой.
Эви вылезла из такси и, стуча каблучками, побежала к монолиту Даблъю-Джи-Ай. Она уже взялась за ручку двери, когда сзади донеслось:
– Смотри! Это она!
Троица взволнованных девчушек шепталась и показывала пальцами.
Ну, вот они мы, подумала Эви. Девушки заспешили к ней. Она приняла эффектную позу и немало удивилась, когда они прострекотали мимо. Эви даже на мостовую шагнула, чтобы посмотреть, куда это их понесло. Стайка остановилась за полквартала от нее, окружив… Сару Сноу.
– О, мисс Сноу, мы вас обожаем! – прочирикала одна.
– Благослови вас всех Господь, – просияла Сара и расписалась у них в блокнотиках.
Генри вступил в «Хаффстадлер Паблишинг Компани» в своем шикарном новом пиджаке: в кармане он крепко сжимал кусок нефрита, который вручила ему Лин с коротким: «Смотри не потеряй».
Дэвид Кон у себя за столом удивленно поднял бровь.
– Что, в прошлый раз не наругались?
– Не то чтобы. Хотел оставить вам карточку, на тот случай, если кому-нибудь вдруг понадобится репетиционный пианист. Я уволился от Зигфельда.
– Это было или очень смело, или очень глупо. Давайте остановимся на «смело», – сказал Дэвид.
Из-за закрытой двери хаффстадлеровского кабинета доносился голос хозяина, распекавшего Поразительного Ринальдо: «Ну, какая грошовая пророческая сволочь не способна предупредить джентльмена с любовницей, что по лестнице поднимается жена?»
Генри и Дэвид обменялись понимающими улыбками.
– Что ж, благодарю, – Генри изящно коснулся шляпы.
– Кстати, мистер Дюбуа… Я знаю одно местечко, где требуются пианисты. Это клуб в Виллидже, называется «Денди-сударь», – он со значением посмотрел на Генри. – Вы его знаете?
Тот кивнул.
– Знаю. Пухлое местечко для ребят особого толка.
– А вы – парень особого толка?
– Смотря кто спрашивает.
– Парень совершенно особого толка. Там сегодня шоу, начинается где-то в полдвенадцатого.
– Какое совпадение, – улыбнулся Генри. – Может статься, я как раз окажусь там сегодня около половины двенадцатого.
Скатываясь по лестнице вниз, Генри уже мурлыкал первые строчки новой песенки…
– Паренек особого толка… – пропел он и подкинул нефрит, как монетку, поймал, и еще раз, и еще – чисто и ловко, как человек, чья удача наконец-то повернулась к нему лицом.
Сэм сгреб с пола дневную почту, состроил рожу жуткого вида конверту от Нью-Йоркского Государственного Управления Налогообложения и внезапно замер, обнаружив письмо, адресованное Сэму Ллойду. Ни обратного адреса, ни отправителя, ни марки на конверте не было. Он нашарил на столе нож для бумаги и взрезал клапан. Ему в руки порхнула вырезка из газеты: на шлакоотвале у речки, протекавшей через Квинс, сообщала крошечная заметка, в куче угольных отбросов обнаружено тело человека. Жертва была задушена и не имела на себе ровным счетом ничего, кроме квитанции из радиомагазина на Кортленд-стрит и лицензии на управление моторным средством на имя некоего Бена Арнольда.
Мэйбл обнаружила себя под проливным дождем – и, конечно, без зонтика, – так что ей пришлось срочно нырять в подвальный книжный магазинчик на Бликер-стрит. Она как раз пыталась отряхнуть воду с пальто, когда внутрь ввалился еще один посетитель, чувствительно заехав ей в спину дверной ручкой.
– Ой, я дико извиняюсь, мисс… черт меня побери, если это не Мэйбл Роуз!
Человек сдернул с головы шляпу, схватил руку Мэйбл и крепко тряхнул.
– Помните меня? Артур Браун? Матерь божья, да вы вся промокли! Эй, мистер Дженкинс! – воззвал он к дородному джентльмену в жилете, читавшему книгу рядом с кассовым аппаратом. – Полотенчико для моей подруги?
Мистер Дженкинс предложил Мэйбл тонкое кухонное полотенце, и она тщательно промокнула лицо и волосы, стараясь пощадить остатки укладки, которую заполучила в дамском салоне только вчера. Дело было изначально провальное, но она привыкла к провальным делам.
– Остальные уже наверху, Артур, – сообщил мистер Дженкинс, забирая у нее полотенце. – Я их впустил, – тут он посмотрел нервно. – Надеюсь, это ничего.
– Это шикарно, – Артур энергично кивнул. – Я сам опоздал.
– Куда опоздал? – спросила Мэйбл.
Артур некоторое время взвешивал ответ, и Мэйбл успела испугаться, что сморозила бестактность. Он поглядел на занавески на задах магазина, потом снова на Мэйбл – и предложил ей руку.
– А хотите узнать?
Мемфис завернул за угол Леннокс и Сто Тридцать Пятой. C ним немедленно поравнялась ворона, переметнувшись с перильной балясины на ближайший фонарный столб. Мемфис вздохнул.
– Рад новой встрече, Беренис.
– Этой птице явно надо тебе что-то сказать, – сообщила мадам Серафина, второй по масштабам гарлемский банкир и определенно первая мамбо.
Она стояла в дверях своей лавки, притулившейся под крыльцом дома из бурого песчаника.
– Птицы носят нам послания из страны мертвых.
– Моя мама так всегда говорила.
Серафина ткнула в него длинным изящным пальцем.
– У тебя груз на плечах лежит. Невооруженным глазом видно. Иди-ка сюда, я помогу.
– Нет на мне никакого груза, мэм. Горестей я не ношу, – Мемфис почтительно тронул шляпу и двинулся прочь.
– Куда пошел! – гаркнула Серафина. – Kijan ou rele?
– Чего?
– Как тебя зовут? – медленно проговорила она.
В животе у Мемфиса шевельнулась тревога. Он слышал, что мамбо может наслать проклятие с помощью любых сведений о человеке, даже самых незначительных, даже самых невинных – как имя.
– Мемфис меня зовут, – сказал он, помолчав. – Мемфис Кэмпбелл.
– Я знаю, кто ты такой, мистер Кэмпбелл, – мадам Серафина одобрительно дернула подбородком. – Гарлемский Целитель. Чудо-мальчик. Только вот больше не мальчик. Ты гаитянец?
– По маме.
– Но на креольском не говоришь?
– Не очень.
– Важно знать, откуда ты пришел, юный унган, – хмыкнула она. – Идем. Я хочу поговорить о тебе с лоа.
– Я опоздаю к Папе Чарльзу, – соврал Мемфис.
Губы мадам Серафины сложились в приятную улыбку, которая никак не вязалась с жесткостью взгляда.
– Папа Чарльз дрыхнет, и если скорей не проснется, придет белый человек и отнимет все, что Папа Чарльз построил. Кролики уже в саду, – сказала она, но Мемфис все равно не понял, о чем речь.
– Я просто ставки собираю.
– Он просто ставки собирает, – передразнила она и со свистом втянула воздух сквозь зубы. – А ты вырос пригожим, как я погляжу, – сказала она и рассмеялась, когда Мемфис засмущался. – Бьюсь об заклад, ты скучаешь по своей манман. Она приходила ко мне разок, перед тем, как отчалить.
Мемфис вздернул голову. Нужно быть идиотом, чтобы кидаться на настоящую гаитянскую мамбо, но на сегодня с него было достаточно.
– Не смейте говорить о моей матери. Вы ее не знали.
Плечи мадам Серафины слегка колыхнулись, как будто ей было недосуг ими пожимать.
– Груз лежит на душе твоей. Я знаю. Я вижу, – она больше не улыбалась. – Иди и дай мне тебе помочь – пока я еще могу.
Но Мемфис уже шел прочь.
– Однажды ты сам придешь ко мне, – крикнула она ему вслед, а ворона все каркала и каркала.
Гримерка театра «Новый Амстердам», как всегда, представляла собой хаос перьев, блесток и полуодетых зигфельдовских красоток, приникших к зеркалам, распяливая ротики, подводя губы и глаза, приклеивая накладные ресницы на положенное им место.
Только что ввалившаяся Тэта обнаружила на своем гримерном столике одинокую алую розу и с улыбкой вдохнула пряную сладость ее аромата.
– Это мне?
– Ага. Специальная доставка. Кстати, ты мне должна пятьдесят центов – я дала мальчику на чай за тебя.
– Спасибо, Глория, – Тэта вручила ей полтинник. – А где карточка?
Интересно, это от Мемфиса?
– Там. Ой, ну, была же. А вон она, на пол выпала.
Тэта заметила под столом крошечный конвертик. «Мисс Тэта Найт», – значилось на нем; почерк был аккуратный и весь в завитушках.
– И кто же твой принц? – поддразнила Салли Мэй.
В словах промелькнула совсем тоненькая струйка яда.
– Твой бойфренд, кто же еще, – отрезала Тэта.
Остальные девушки расхохотались.
Тэта прикусила губу, чтобы спрятать улыбку, и вынула карточку из сливочного цвета бумажного гнездышка. В следующую секунду она закричала.
– Тэта? Что такое, дорогая? – всполошилась Глория.
Вся гримерка смотрела на нее.
– Кто это принес? – шепотом спросила Тэта.
– Я же сказала, мальчишка посыльный. Только-только взрослые брюки надел. А что?
Тэта ее не дослушала. Чуть не сбив с ног рабочего, везшего по коридору целую кипу блестящих сценических тряпок, она промчалась через весь этаж и вырвалась через служебную дверь на улицу. Слева по мостовой неслись машины. Справа был безлюдный переулок. Никаких мальчишек-посыльных нигде не наблюдалось. Дома нависали над ней великанами, но никакой защиты не обещали; она вмиг почувствовала себя маленькой и совсем одинокой. Руки у нее запылали, и она поскорее сунула их в лужу, скопившуюся на крышке мусорного бака, слегка подплавив металл.
На карточке было всего четыре слова.
Четыре слова, от которых мог рухнуть мир.
Четыре слова, от которых душа у нее ушла в пятки.
Для Бетти – тебя нашли.
Дом свободных и отважных
На заре страна пробуждается.
Граждане ее встают, умываются, бреются, причесываются. Натягивают чулки, платья, брюки, рубашки – подтяжки, опять же, не забывают. Они застегивают свои нужды, пристегивают амбиции, заправляют историю аккуратно под ремень, создавая себя на ходу – истинная рапсодия преображения.
На западе, будто древние мифы, вздымаются горы. Утренние ветерки ерошат заиндевелую щетку трав и колосьев в прериях. Коровы трепещут ноздрями, исторгая облака пара, и ждут звона фермерского ведра, несущего облегчение. Реки вздуваются внезапными пузырями – это рыба подымается было на поверхность, но быстро передумывает.
Исчерканные тенями холмы-надсмотрщики клонятся над шахтерами, бредущими к сонному зеву шахты. Бедолаги гремят об ведра горстями талисманов – крестиками, кроличьими лапками, локонами жениных волос – запрятанными вместе с облигациями компании глубоко в карманах комбинезонов. Фонари торчат у них во лбу, как огненный третий глаз, отгоняющий страхи. Они загружаются на платформу – ни дать ни взять матросы, навострившие оглобли в Новый Свет: впереди мальчишки-отбойщики, они уже кашляют в предвкушении каменной пыли, забивающей их маленькие легкие по восемь часов в день, шесть дней в неделю. Жены и матери, такие строгие в розовом свете зари, машут им платочками. У женщин на губах тает молитва – на тот случай, если талисманы вдруг не сработают; охрана компании патрулирует рельсы, вооруженная дубинками, если понадобится ткнуть рабочего, и винтовками – чтобы профсоюзники не лезли на рожон.
Со своего шестка в клетке за ними подозрительно следит канарейка.
Механизмы приходят в движение, отсылая дряхлую клетку с мужчинами и мальчишками вниз, в сокровенную тьму самого сердца страны.
Ибо сердце это богато темными сокровищами.
В нефтяных полях Оклахомы исполинские железные буровые установки до крови расклевывают землю. Нефть бьет из ран обетованием светлого будущего, крещением сырой надежды – вот оно, топливо для моторов наших желаний. Буровиков окатывает внезапным ливнем, и, хотя им никогда не видать тех богатств, которые он сулит, никогда не пожать ниву черного золота – они ликуют, словно все это принадлежит им, лишь руку протяни. Их прирожденное право, обещанное, завещанное – право на жизнь, на свободу, на стремление к счастью, вечная гонка за будущим.
Полуденное солнце восходит на трон небес – широких, высоких и обнадеживающих, как показатели фондового рынка. Иней стаивает с лоскутного одеяла земли – ну какой из него противник горячему дневному оптимизму? Несколько сочных почек проклевывается на деревьях. Им уже невтерпеж, у них весна – еще одна вечная жажда.
В дощатой церквушке, притулившейся под ветвями пока еще голой магнолии, обновление достигает кульминации. Пылающие верой руки тянутся к небу, тела раскачиваются взад и вперед, хребты гнутся знаком вопроса, души алчут избавления от сомнений и неуверенности, чтобы тело могло благодарно рухнуть на колени в опилки – c лицом, омытым слезами, и сердцем, прочищенным насквозь – от всякого греха.
Иммигранты рекой текут в города, и края околотков треплются, истираются, сплетаются в новый фирменный американский узор. Эти новые американцы проталкиваются все глубже в страну, только на шаг впереди целого потопа предков, тычущих призрачными пальцами в спины поколениям и поколениям диаспоры. Вперед, шепчут они, идите, но не забывайте о нас.
У стен красной кирпичной тюрьмы демонстранты уже настроились на еще один день плакатов, маршей и воплей о справедливости – но двое итальянских анархистов все равно их не слышат внутри. Торговец рыбой и сапожник, настоящие искатели американской мечты, смотрят в глаза судьбе на судейском престоле, а электрический стул тем временем уже тикает.
Леди в гавани подымает повыше свой факел.
Золотая Гора мерцает в утреннем тумане, обнимающем калифорнийский берег – и правда, красивый мираж.
Атомы вибрируют, всегда на пороге нового сдвига.
Сдвиг – и электроны отклоняются в сторону новой волны или частицы.
Сдвиг – и действие требует противодействия.
Сдвиг – и регистр пишущей машинки превращает «я» в Я, а бога – в Бога.
Сдвиг – и дикая тварь получает отстоящий большой палец; а где большой палец, там и до оружия рукой подать.
Сдвиг – и правое становится неправым, а неправое всегда можно оправдать.
Но все это пока в перспективе.
Тем временем украдкой наступают сумерки.
Намолившись, верующие валятся изможденной кучей. Рубашка проповедника стала прозрачной от пота. Вступают цикады и затягивают хором гимн. Придавленные ветром и грузом неотвеченных молитв, деревья низко клонят ветки, расчесывая усталые от веры головы пальцами новой надежды.
В другой части города, что граничит с хлопковыми полями, три крошечные девчушки спят щека к щеке в колыбельке на задах хижины издольщика, пока ватага ржавых развалюх крадется к ним по дорогам с выключенными фарами. Джентльмены в белых балахонах высыпаются из грузовиков и вламываются в дом с канистрами керосину наперевес, воздевая знак собственного креста. Отцов и братьев, дядьев и кузенов выволакивают из комнат, тащат вниз по ступеням; женщины, конечно, кричат: о милосердии, о надежде – все тщетно. Вон уже налаживают веревки, льют керосин… Спичка чиркает о крест, воспламеняя ночь, – ложный свет во тьме – и крики превращаются в вой, в плач.
На национальных радиоволнах дама-проповедница взывает к одиноким сердцам:
– А ты уже омылся в крови агнца?
В шатре на зимней ярмарке улыбающиеся медсестры задают вопросы и записывают ответы добровольно вызвавшихся семейств – они сами пришли, никто их не гнал. Проявлялись ли у вас когда-нибудь особые способности, спрашивают они? Не видали ли вы когда-нибудь во сне забавного серого человека в шляпе-цилиндре? Не желаете ли сдать простой анализ крови? Нет, это совсем не больно – один маленький укольчик, я обещаю. Потом, после всей крови и слез, они перевязывают крошечные детские раны и вручают гордым родителям бронзовую медаль: да, происхождение самое что ни на есть правильное! Будет чем попетушиться перед соседями.
Еще один хвастливый урожай в стране всеобщего изобилия.
Пыльная дорога змеится через сонные поля – летом золотые волны здесь так и катаются. Старый дом присел на корточки рядом с видавшим виды амбаром и одиноким, на редкость корявым деревом. Трактор и плуг прохлаждаются рядом. Час уже поздний, однако почтовая колымага упорно тарахтит по ухабистой, распухшей от грязи дороге. Почтальон останавливается рядом с ящиком, роется у себя в сумке, выуживает письмо. Сверив еще раз для верности адрес – дом 144 – он пихает его в ящик, захлопывает дверку и опускает маленький жестяной флажок.
Ночь нисходит на белые штакетные заборы и красные сараи, на рекламу крема после бритья и компании «Марлоу Индастриз», заверяющие осовелого к ночи прохожего, что все в этом мире именно так, как должно быть. На искателей, борцов, мечтателей всевозможного толка и рода – на неутомимых провозвестников неуемного, исполнительного американского духа. И на ничем не примечательный седан людей-теней, конечно, тоже – вон он, барахтается в складках ночи, уже раскинувшей свое покрывало забвения по всей стране, погружая ее в сон.
За всем этим наблюдают призраки. Они тоскуют и помнят; некоторые помнят и сожалеют – но все равно помнят, все они. Они были бы рады поведать гражданам настоящего тайны прошлого – все, что сами знают о секретах, об ошибках, о любви и желании, о надежде и выборе, о том, что важно, а что нет…
Они рады были бы предупредить их о сером человеке в шляпе-цилиндре, о Вороньем Короле.
Потому что на самом деле не все призраки помнят, а граждан не мешало бы предостеречь.
Один из людей-теней прошел по гулкому коридору и остановился перед толстой стальной дверью. На двери был знак блистающего глаза, исторгающего единственную слезу-молнию. Он поправил галстук, отпер дверь и вошел. Комната была совсем простая, прямо-таки примитивная, если говорить об удобствах: узкая койка. Тумбочка. Унитаз. Раковина. Единственный источник света – какая-то штуковина на потолке, которую ежевечерне выключал один человек за пультом, а включал ежеутренне уже совсем другой. Правую часть камеры украшали простой деревянный стол и такое большое мягкое кресло – его во всякой американской гостиной найдешь. Кстати, это был единственный признак комфорта во всей комнате, промозглой и неуютной. Неудивительно, что именно в нем сидела женщина. Глаза ее были закрыты. Росту она была среднего, но слишком худая. Этот недостаток вещественности и саму ее превращал почти что в призрака.
Сегодняшний ужин красовался нетронутым на столе.
– М-м-м, стейк Солсбери – мой любимый, – сообщил человек, фамилия которого была не то Гамильтон, не то Вашингтон – а, может, и вовсе Мэдисон.
Женщина не ответила.
– Картофельное пюре, горошек и морковка – прелесть что такое.
Он запустил вилку в картошку и поводил ею у женщины перед носом.
– Ну, открой же пошире ротик.
Женщина не шелохнулась. Мужчина бросил вилку обратно на поднос.
– Видишь ли, Мириам, если ты не станешь есть, мы будем вынуждены кормить тебя насильно. А ты же помнишь, как это неприятно, правда?
Мускул на челюсти у женщины дрогнул, подтверждая, что она действительно не забыла.
– И что, ни единой улыбки для меня не найдется?
Выражение ее лица не изменилось.
– Неужели ты не хочешь снова увидеть свою семью?
– У меня нет семьи, – едва слышно прошептала она.
– Тебе только-то и нужно, что отыскать остальных и сообщить нам их имена. Ну, скажи, где они?
Человек прошелся по комнате, явно привычный к ее географии. Он провел пальцем по столу, изучил пыль на нем и вытер о брюки.
– А ведь ты еще и по лесу сможешь прогуляться. Тебе же хочется, правда? Воздуха свежего глотнуть? Напоминает березовые рощи в Подмосковье… И домом пахнет, да?
– Мой дом – здесь, – прошелестел перышком ответ.
– Ну, тогда вообще никаких проблем, – человек положил ей руку на плечо, и она дернулась. – Скажи нам, где пророки, Мириам? Где наши цыплятки – им давно уже пора домой, на насест.
– Я не знаю. Я ничего не вижу.
– Снова хочешь под воду?
Глаза ее распахнулись от страха, но она все равно ничего не сказала. Вместо этого она закрыла глаза и задышала часто-часто, стремясь убежать поглубже в собственный разум, где ее не достанут их чертовы методы. Однако человек-тень добычу отпускать не собирался.
– Там ведь твой сын, Мириам. Твой Сережа.
Веки ее встрепенулись. Отлично. Прорвались.
– Нам известно, что ты умудрилась послать ему открытку.
– У него нет никакой силы. Он пустышка.
Человек наклонился к самому ее уху и шепнул, так что по коже у нее поползли мурашки:
– Мы видели его силу, Мириам. И мы знаем, что ты лжешь.
Человек-тень развернул газету и положил перед ней. Ее глаза впились в картинку. Жадными руками она схватила бумагу.
ПРОРОК ПЛЮС ПРОРОК!
Сэм Ллойд спасает свою возлюбленную, Провидицу-Душечку, от обезумевшего преступника на Таймс-сквер, явив изумленной толпе свои сверхъестественные способности.
– Он ужасно похож на маму, твой Сергей. Такой же скрытный. Жалко будет, если с ним вдруг что-то случится. Правда ведь, Мириам?
– Это не мой сын. Это кто-то другой, – сказала она наконец.
Увы, голос ее слишком дрожал.
– Давай не будем себе врать, ладно? У нас с тобой это уже позади. Это он. И он в опасности. Они все в опасности, Мириам.
Его шаги мягко кружили вокруг кресла.
– Ну, разве не чудно было бы снова увидеть его?
И снова она отказалась отвечать.
– Мириам, нашей свободе угрожают снаружи и изнутри. Безопасность – вот наша главная цель. Это дом для свободных и отважных, и таким он должен остаться. Но мы не можем защитить их, если не знаем, где они.
Он остановился прямо перед ней, взял за подбородок и вынудил поднять взгляд.
– Давай попробуем еще раз.
Бросив последний взгляд на страницу нью-йоркской «Дейли ньюс», женщина закрыла глаза и отпустила свой разум в иной мир.
– Что ты видишь?
– Их сила влечет его, – проговорила Мириам далеким голосом.
Все ее тело слегка потряхивало от усилий.
– Кого?
– Человека в цилиндре. Вороньего Короля.
– Отлично. Что еще?
Ее дрожь перешла в крупную тряску – разум захлестнул ужас.
– Нет! Нельзя этого допустить. Нельзя! Только не снова!
С криком она вырвалась из транса и упала, ударившись о кровать, вся мокрая и плачущая.
– Ты должна сказать нам, где они, Мириам.
– Н-нет.
Человек-тень тяжело вздохнул.
– Очень хорошо. Завтра попробуем еще раз.
Женщина зарыдала, закрыв лицо руками.
– Нельзя было этого делать!
– Что сделано, то сделано, – отозвался человек-тень. – И страна очень тебе благодарна.
Слезы на ее лице сменились ненавистью: она плюнула ему в лицо. Человек вынул аккуратно сложенный платочек и тщательно вытер следы оскорбления со щек. Все с тем же безмятежным выражением лица он вытащил из кармана гаечный ключ. Женщина бросилась на койку, забилась в угол и подняла, защищаясь, руки.
Он прошел в другую половину комнаты, запустил ключ в радиатор и выключил отопление.
– Боюсь, по ночам здесь бывает довольно холодно, – сказал он, забирая с кровати одеяло. – Когда будешь готова сотрудничать, Мириам, пожалуйста, дай нам знать.
Он закрыл за собой стальную дверь. Засов встал на место. Через секунду бурливые радиоголоса вытеснили тишину из маленькой камеры и становились громче и громче, пока женщина не свернулась в тугой комок на койке, зажимая уши руками. Впрочем, то, что она только что увидела в трансе, лишило ее сна в эту ночь надежнее всякого радио.
Человек-тень оставил ей газету. Мириам разгладила передовицу и положила ладонь на фотографию своего сына и Эви О’Нил.
– Найди меня, Лисеночек, – прошептала она. – Пока еще не поздно. Ради всех нас.
Примечание автора
«Логово снов» уходит корнями в подлинную историю Соединенных Штатов, но это все-таки художественная литература, а потому, драматического эффекта ради, я позволила себе некоторые вольности. («Все быстро шаг назад! У нее лицензия на художественные вольности!») Музей Американского Фольклора, Суеверий и Оккультизма – плод моего воображения (на тот случай, если вам придет в голову поискать его на «ТрипЭдвайзере»). И, насколько мне известно, в нью-йоркской подземке пока не наблюдалось никаких плотоядных привидений. Я в этом совершенно уверена. Ну, почти уверена… Ладно, я в этом совершенно не уверена. Знаете что? Хотите кататься на метро – катайтесь, на свой страх и риск.
А вот Пневматическая транспортная компания Бича и вправду существовала, хотя, к сожалению, маленький поезд на вентиляторной тяге бегал по рельсам всего несколько лет. К 1927 году прототип современного метро, созданный Альфредом Бичем, уже давно канул в Лету, но, учитывая, какая прорва под Нью-Йорком заброшенных тоннелей и станций, я была рада подарить моим пророкам призрачные останки этого роскошного старого вокзала. Если пневматическая дорога вас заинтересовала, рекомендую обратиться к превосходной статье Джозефа Бреннана по адресу: Columbia.edu/brennan/beach.
Закон о высылке китайцев – к сожалению, тоже чистая правда. Принятый парламентом в 1882 году, он резко ограничил поток иммиграции из Китая в Соединенные Штаты. За ним последовал ряд еще более драконовских законодательных актов, и эти ксенофобские, дискриминационные установления оставались в ходу еще долгие десятилетия. Если вы хотите узнать больше об этом законе и его последствиях, горячо рекомендую книгу Эрики Ли. (Erica Lee. At America’s Gates: Chinese Immigration During the Exclusion Era, 1882–1943. Chapel Hill: University of Northeern Carolina Press, 2003). А если интересуетесь личной семейной историей жителей Чайнатауна, прочтите Брюса Эдварда Холла (Bruce Edward Hall. Tea That Burns: A Family Memoir of Chinatown. New York: Simon and Schuster, 1998). Ну, а если сами окажетесь в Нью-Йорке, обязательно посетите замечательный Музей китайцев в Америке (mocanyc.org).
История Америки пишется до сих пор. И немало идеологических баталий, которые мы были бы рады засунуть в папку с грифом «Прошлое» и убрать подальше на полку (вопросы расы, класса, гендера, сексуальной идентичности, гражданских прав, правосудия и всего прочего, что делает нас «американцами»), ведутся до сих пор. То, что мы не изучаем, о чем не думаем, мы рискуем сбросить с весов истории или вовсе позабыть. А то, что мы забываем, мы, как правило, обречены повторять. И призраки всегда с нами, они рядом – шепчут нам в уши, что на некоторые вещи нужно обращать внимание.
Благодарности
Эта книга писалась примерно так, как Басби Беркли[56] ставил свои шоу, и в последние несколько лет в ней пришлось основательно поучаствовать многим и многим. Спасибо всем за ваши калейдоскопические пляски вокруг «Пророков»! Я задолжала спасибо, корзину фруктов и большую коробку с ланчем следующим милым людям.
Необыкновенно талантливой, мудрой и терпеливой Альвине Лин, гению редактуры, и столь же талантливым и чудесным Бетани Страут и Никки Гарсии. Вы – сущие Ангелы Чарли в обличье редакторов. Вы лучше всех!
Трудолюбивой команде серии «Книги для молодежи» издательства «Литтл, Браун & Со»: Меган Тингли, Эндрю Смиту, Мелани Чан, Лайзе Мораделе, Халли Паттерсон, Виктории Стейплтон, Дженни Чой, Эмили Полстер, Стефани Хоффман, Адриану Паласиосу, Тине Макинтайр и Барбаре Баковски. «И не останавливайтесь!»
Волшебному дизайнеру Мэгги Эдкинс, создательнице суперобложки, – она сумела нагнести по-настоящему жуткую атмосферу!
Невероятной команде «Глаз-алмаз»: корректору Джоанне Кремер, техреду Кристине Ма и фактчекеру Норме Джин Гарритон. Боюсь, все они теперь слегли с посттравматическим стрессом.
Агенту Барри Голдблатту, на этом этапе нашего давнего сотрудничества определенно заслужившему медаль за терпение и храбрость. И спасибо Джошу Голдблатту, который развлекал нас аниме и мангой и вовремя объяснял нужным людям: «Моя мама не сошла с ума, просто у нее дедлайн».
Моей героической ассистентке Трише Риди, которая держала наш корабль на плаву, помогала с историческими исследованиями и вычиткой глав и напоминала мне не забывать ключи на столе. Исследовательнице Лайзе Голд – она и вправду настоящее золото[57], и ее не пугало, когда я принималась слать ей е-мейлы посреди ночи. Биллу Дзеффиро – за музыкальную информацию и остроумие.
Литературной группе «Прекрасные и удивительные» – моим добрым друзьям, окружившим меня заботой со всех сторон: Пэм Карден, Бренде Кован, Анне Фандер, Мишель Ходкин, Шерил Левин, Дэвиду Левитану, Эмили Локхарт, Дэну Поблоцки, Нове Рен Суме, Робину Вассерману и Джастину Вайнбергеру. Я люблю вас, ребята! И еще – Лори Элли и Гэйлу Форману, которые не раз спасали меня в беде. Целую!
Бруклинской литературной мастерской «Во вторник вечером»: Эмме Бейли, Мишель Ходкин, Бену Джонсу, Ким Лиггетт, Джулии Моррис, Сусанне Шробсдорф, Нове Рен Суме и Аарону Циммерману.
Нашему «пропавшему подразделению»: Холли Блэк, Кассандре Клэр, Джо Ноулз и Келли Линк. И специалистам по мозговому штурму, показавшим себя с самой лучшей стороны на барбекю по случаю Четвертого июля: Тео Блэку, Элке Клоук, Эмили Севиль Лауэр и Джошу Льюису. И Кэт Ховард – за всю ее полезную критику.
Клубу библиотекарей-супергероев («Можем мы это найти? Да, мы можем!»): Кэрин Силверман, Дженнифер Хьюберт Суон и Саре Райан.
Я писала эту книгу в том числе и за столиками разных нью-йоркских и бруклинских кафе. Спасибо замечательному персоналу заведений «Думай по-кофейному», «Двадцать четыре черных дрозда», «Саутсайд-кофе» и великолепной, но, увы, покойной «Красной лошади» (да будет земля ей пухом). И спасибо бруклинскому «Уголку писателя»!
В заключение хочу сказать, что эта книга не появилась бы на свет без помощи многих и многих замечательных специалистов и просто знающих людей, которые любезно уделяли мне свое время и отвечали на мои вопросы. Их советы были бесценны, и все ошибки, неточности и самовольные джазовые импровизации, которые попадутся вам на страницах «Пророков», остаются целиком и полностью на совести автора. Тысячекратное спасибо нью-йоркскому Музею китайцев в Америке и лично его сотрудникам: Юэ Ма, заместителю директора по музейным коллекциям, Саманте Чинь-Уолнер, ассистенту по коллекциям, и Кевину Чу, ассистенту по коллекциям и цифровым архивам. Спасибо Ширли Еэ, профессору гендерных, женских и сексуальных исследований (специализирующейся на периоде XIX – начало XX вв.) из Вашингтонского университета. Спасибо Чжэнь Ван Ло и Гэйб Ло за сведения о китайских погребальных обычаях. Спасибо Брайану Берлангеру, директору Музея Национального столичного радио и телевидения (Боуи, Мэриленд). Спасибо Кэри Стамм и Бретту Дайону из архива Транспортного управления Нью-Йорка. Спасибо Центру Шомберга по исследованиям афроамериканской культуры при Нью-Йоркской публичной библиотеке. И тебе спасибо, Стив Дункан, самый крутой историк и исследователь городской культуры, – за то, c каким откровенным удовольствием ты перечислял мне способы, которыми можно покалечиться, убиться или угодить в полицию, шастая по кишащим крысами туннелям нью-йоркской подземки. Да, я оказалась хорошей ученицей. Спасибо!
Примечания
1
«Прекрасная мечтательница» – популярный романс Стивена Фостера, впервые опубликованный в 1864 году. (Здесь и далее прим. переводчика.)
(обратно)2
Баба – кит. «папа, отец».
(обратно)3
Флапперша – на американском сленге 1920-х годов модница, тусовщица, продвинутая и эмансипированная молодая особа.
(обратно)4
Гоменташи – треугольные пирожки со сладкой начинкой, традиционное угощение на Пурим.
(обратно)5
Клош – дамская шляпка-колокольчик, модная в 1920-е гг.
(обратно)6
Часть американской шутки: «Я пришел к вам выкурить сигару и задать жару. Сигары уже кончились».
(обратно)7
Сплетни дня (фр.), как в ресторанах бывает суп дня.
(обратно)8
Evil на английском может означать не только «злой, вредный, испорченный», но и «потрясающий, шикарный».
(обратно)9
Марлен Дитрих.
(обратно)10
Софт-шу – разновидность чечетки, которую пляшут в мягких туфлях без набоек.
(обратно)11
«Алая река» (фр.).
(обратно)12
Честерфилд – мягкий кожаный диван, простеганный кожаными клепками. По легенде, первый такой был сделан в середине XVIII века для четвертого графа Честерфилда.
(обратно)13
Рутбир – шипучий напиток из корнеплодов, ароматизированный экстрактом из коры дерева сассафрас.
(обратно)14
Район музыкальных издательств и магазинов в Нью-Йорке, где создается успех популярной музыки.
(обратно)15
Бенье – квадратный пончик без дырки, в сахарной пудре.
(обратно)16
Скажи мне правду (фр.).
(обратно)17
Bonne chance – удача (фр.).
(обратно)18
Hal, Хэл – уменьшительное от Генрих, Генри. Ср. пьесу Шекспира «Генрих IV», где будущий Генрих V зовется принцем Хэлом.
(обратно)19
Я люблю тебя, Анри (фр.).
(обратно)20
Мой дорогой! (фр.)
(обратно)21
Дорогой (фр.).
(обратно)22
Рувим или рубен – жареный бутерброд с мясом и сыром. Яичный крем – напиток из молока и содовой воды с сиропом.
(обратно)23
Дороти Паркер – американская поэтесса, писательница и острословица. Роберт Бенчли – юморист, колумнист и киноактер. Джордж Кауфман – драматург, театральный режиссер и продюсер.
(обратно)24
Айседора (Изадора) Дункан – ирландская танцовщица, основоположница свободного танца, где большую роль играло актерское проживание.
(обратно)25
Рудольф Валентино – Родольфо Альфонсо Раффаэлло Пьер Филиберт Гульельми ди Валентина д’Антонгелла, культовый актер немого кино, погиб, когда ему был 31 год.
(обратно)26
Суфражизм – общественно-политическое течение за предоставление женщинам избирательных прав. Суфражистками называли сторонниц цивилизованных методов борьбы, а суфражетками – террористических.
(обратно)27
«Добрый сон» (фр.).
(обратно)28
В англо-американском праве – презумпция неприкосновенности личности; право арестованного быть доставленным в суд для выяснения законности задержания.
(обратно)29
Оксфорды – тип туфель на шнурках, в которых передняя часть нашита поверх боковых.
(обратно)30
Воздушной почтой (фр.).
(обратно)31
Миссис Гранди – персонаж романа Т. Мортона (1798), законодательница приличий и общественного мнения.
(обратно)32
Мандельброд – мягкое печенье по еврейскому рецепту, популярное в Восточной Европе.
(обратно)33
Пишер – ничтожество, пустое место (идиш).
(обратно)34
Нахес – счастье (идиш).
(обратно)35
Эрху – старинный китайский смычковый инструмент о двух струнах.
(обратно)36
Знаменитый нью-йоркский театр, названный в честь актера Эдвина Бута и открывшийся в 1913 году.
(обратно)37
«Падение дома Ашеров» – готический рассказ Э.А. По, опубликованный в 1839 г.
(обратно)38
Аль Джолсон (1886–1950) – американский певец, киноактер и комик.
(обратно)39
Цвета мундиров солдат Гражданской войны в США 1861–1865 гг.
(обратно)40
Барбершоп, цирюльня – стиль исполнения сентиментальных баллад а капелла, бывший в ходу в Америке в 1920-е гг.
(обратно)41
Малыш (идиш).
(обратно)42
Цитата из стихотворения Уильяма Вордсворта «Ода об откровениях бессмертия» (1804), пер. А. Блейз.
(обратно)43
Моя любимая (нем.).
(обратно)44
Горацио Алджер (1832–1899) – чрезвычайно плодовитый американский писатель, автор назидательных романов о том, как упорный труд и прочие добродетели неизбежно выводят юношество из грязи в князи.
(обратно)45
Будьте здоровы (нем.).
(обратно)46
Сколько еще ждать? (исп.)
(обратно)47
Боже мой (исп.).
(обратно)48
Помоги мне, святая Мария! (исп.).
(обратно)49
Сюда (исп.).
(обратно)50
Да (исп.).
(обратно)51
Идем (исп.).
(обратно)52
Никербокер – житель Нью-Йорка, особенно голландского происхождения. Также брюки-гольф. А еще дамские панталоны.
(обратно)53
Второзаконие, 18:10–12.
(обратно)54
Мигрень (фр.).
(обратно)55
Прыжок через метлу – эвфемизм брачного союза, берущий начало в древнем языческом свадебном ритуале.
(обратно)56
Басби Беркли (1895–1976) – американский кинорежиссер и хореограф, известен постановкой масштабных костюмированных танцевальных номеров с большим количеством участников и неожиданными перестроениями их по принципу калейдоскопа.
(обратно)57
Буквальное значение английской фамилии «Gold».
(обратно)



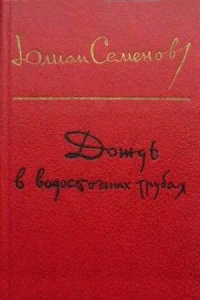
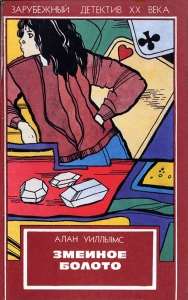
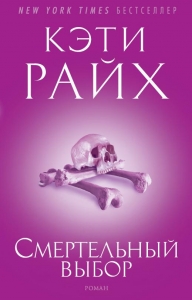




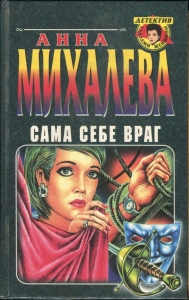


Комментарии к книге «Логово снов», Либба Брэй
Всего 0 комментариев