Стивен Кинг Четыре сезона (сборник)
Stephen King
DIFFERENT SEASONS
© Stephen King, 1982
© Перевод. В.В. Антонов, 2012
© Перевод. «Кэдмэн», 1997
© Издание на русском языке AST Publishers, 2014
Все права защищены. Никакая часть электронной версии этой книги не может быть воспроизведена в какой бы то ни было форме и какими бы то ни было средствами, включая размещение в сети Интернет и в корпоративных сетях, для частного и публичного использования без письменного разрешения владельца авторских прав.
© Электронная версия книги подготовлена компанией ЛитРес ()
* * *
Весны извечные надежды Рита Хейуорт[1], или Побег из Шоушенка
Грязные денежки – за грязные дела.
Отзвук этого слышен
В тайных сигналах, в вине виноградном.
Норман УитфилдГлавное – не рассказ, а рассказчик.
Рассу и Флоренс Дорр
Я из числа тех самых славных малых, которые могут достать все. Абсолютно все, хоть черта из преисподней. Такие ребята водятся в любой федеральной тюрьме Америки. Хотите – импортные сигареты, хотите – бутылочку бренди, чтобы отметить выпускные экзамены сына или дочери, день вашего рождения или Рождество… а может, и просто выпить без особых причин.
Я попал в Шоушенк, когда мне только исполнилось двадцать, и я из очень немногих людей в нашей маленькой славной семье, кто нисколько не сожалеет о содеянном. Я совершил убийство. Застраховал на солидную сумму свою жену, которая была тремя годами старше меня, а потом заблокировал тормоза на «шевроле», который ее папенька преподнес нам в подарок. Все было сработано довольно тщательно. Я не рассчитал только, что она решит остановиться на полпути, чтобы подвезти соседку с малолетним сынишкой до Касл-Хилла. Тормоза отказали, и машина полетела с холма, набирая скорость и расталкивая автобусы. Очевидцы утверждали потом, что она неслась со скоростью не меньше восьмидесяти километров в час, когда, врезавшись в подножие монумента героям войны, взорвалась и запылала, как факел.
Я, конечно, не рассчитывал и на то, что меня могут поймать. Но это, увы, произошло. И вот я здесь. В Мэне нет смертной казни, но прокурор округа сказал, что я заслуживаю трех смертей, и приговорил к трем пожизненным заключениям. Это исключало для меня любую возможность амнистии. Судья назвал совершенное мной «чудовищным, невиданным по своей гнусности и отвратительности преступлением». Может, так оно и было на самом деле, но теперь все в прошлом. Вы можете пролистать пожелтевшие подшивки газет Касл-Рока, где мне посвящены большие заголовки и фотографии на первой странице, но, ей-богу, все это детские забавы по сравнению с деяниями Гитлера и Муссолини и проказами ФБР.
Искупил ли я свою вину, спросите вы? Реабилитировал ли себя? Я толком не знаю, что означают эти слова и какое искупление может быть в тюрьме или колонии. Мне кажется, это словцо политиканов. Возможно, какой-то смысл и был бы, если бы речь шла о том, что у меня есть шанс выйти на свободу. Но будущее – одна из тех вещей, о которых заключенные не позволяют себе задумываться. Я был молод, красив и из бедного квартала. Я подцепил смазливенькую и неглупую девчонку, жившую в одном из роскошных особняков на Карбайн-стрит. Ее папенька согласился на нашу женитьбу при условии, что я стану работать в оптической компании, владельцем которой он является, и «пойду по его стопам». На самом деле старикан хотел держать меня под контролем, как дикую тварь, которая недостаточно приручена и может укусить хозяина. Все это вызывало у меня такую ненависть, что, когда она скопилась, я совершил то, о чем теперь не жалею. Хотя если бы у меня был шанс повторить все сначала, возможно, я поступил бы иначе. Но не уверен, что это значит, будто я «реабилитировался» и «осознал свою вину».
Ну да ладно, я хотел рассказать вовсе не о себе, а об одном парне по имени Энди Дюфресн. Но прежде чем я вам о нем расскажу, нужно объяснить еще кое-что обо мне. Это не займет много времени.
Как я уже говорил, я тот человек, который может достать для вас в Шоушенке все на протяжении этих чертовых сорока лет. Это не означает всяких контрабандных штучек типа «травки» или просто экстра-сигарет, хотя эти пункты, как правило, возглавляют список заказываемых вещей. Но я достаю и тысячи других для людей, которые проводят здесь время, и некоторые из заказов не являют собой ничего противозаконного. Они вполне легальны, но просто труднодоступны в том месте, куда отправляют для наказания. Был один забавный тип, который изнасиловал маленькую девочку и демонстрировал свои мужские достоинства дюжинам остальных. Так вот, я достал для него три кусочка розового вермонтского мрамора. И он сделал три маленькие чудесные скульптурки: младенец, мальчик лет двенадцати и бородатый молодой человек. Парень назвал свои произведения «Три возраста Иисуса», и теперь они украшают гостиную губернатора штата.
А вот имя, которое вы должны были бы помнить хорошо, если жили на севере Массачусетса, – Роберт Алан Коут. В тысяча девятьсот пятьдесят первом году он попытался ограбить Первый Коммерческий банк. Его затея вылилась в кровавую бойню – в итоге шесть трупов. Два из них – члены банды, три – посетители, а один – молодой коп, который сунул нос в помещение банка очень не вовремя и получил свою пулю. У Коута была коллекция пенни. Вообще-то говоря, они запретили ему держать коллекцию в тюрьме, но с помощью матушки этого парня и одного славного малого, который работает шофером и обслуживает нашу прачечную, я смог ему помочь. И я сказал ему: «Бобби, надо быть совсем чокнутым, чтобы держать коллекцию монет в каменном мешке, забитом ворами и мошенниками». Он взглянул на меня, улыбнулся и заметил, что знает, как хранить свое добро. «Все будет в сохранности, – сказал он, – уж за это можешь не беспокоиться». Так оно и вышло. Бобби Коут умер в тысяча девятьсот шестьдесят седьмом, но его коллекция не была обнаружена тюремным начальством.
Я доставал шоколад для народа на День святого Валентина. Я ухитрялся добывать молочные коктейли, которые подают в «Макдоналдсе», для абсолютно чокнутого ирландца по имени О’Мэлли. Я даже организовал ночной показ фильмов «Огромная пасть» и «Дьявол в мисс Джонс» для двадцати парней, которые скинулись, чтобы заплатить за сеанс… хотя после этого где-то с неделю отдыхал в одиночке. Ну да ладно, не беда. Кто не рискует, тот не пьет шампанское.
Я доставал научные трактаты и книги о сексе, пожизненно заключенные и отбывающие длительный срок неоднократно умоляли добыть трусики своей жены или подружки… и, полагаю, вы догадываетесь, что эти парни делали долгими тюремными ночами, когда время тянется бесконечно медленно. Я не делаю все это за спасибо, и иногда цена довольно высока. Но я не стал бы стараться и только ради денег – что значат деньги здесь? Я не смогу купить «кадиллак» или слетать на Ямайку. Пожалуй, я оказываю все эти услуги для того же, для чего хороший мясник всегда присылает вам самое свежее мясо: я заработал себе репутацию и хочу ее поддерживать. Я не занимаюсь только двумя вещами: оружием и сильными наркотиками. Не хочу помогать кому-либо убивать себя или ближнего своего. Достаточно с меня убийств, сыт по горло.
Да, я человек дела. И когда Энди Дюфресн подошел ко мне в 1949-м и спросил, нельзя ли добыть ему Риту Хейуорт, я ответил: «Нет проблем!» Их правда не было.
Когда Энди попал в Шоушенк в 1948-м, ему было 30 лет. Это был невысокий обаятельный человек с песочными волосами и маленькими узкими ладонями. Он носил очки в золотой оправе. Ногти на руках всегда были аккуратно подпилены и безукоризненно чисты. Возможно, это покажется смешным, что я помню о мужчине такие вещи. Но его ногти произвели на меня впечатление и подняли Энди в моих глазах. Он всегда выглядел так, как будто был при галстуке и чуть ли не в смокинге. До тюрьмы он работал вице-президентом крупного банка в Портленде. Согласитесь, неплохая должность для такого молодого человека. Особенно если учесть, насколько консервативно большинство банков… и умножьте этот консерватизм в десяток раз, если вы находитесь в Новой Англии, где люди не склонны доверять свои деньги человеку, если он не стар, не лыс, не готов завтра протянуть ноги. Энди получил срок за убийство своей жены и ее любовника.
Кажется, я уже говорил, что в тюрьме каждый считает себя невинным. И все находящиеся здесь – жертвы обстоятельств, чертовского невезения, некомпетентных следователей, бессердечных прокуроров, дубоголовых полицейских и так далее и тому подобное. Мне кажется, большинство здешних обитателей – люди третьего сорта, и самое большое их «чертовское невезение» заключается в том, что их мама вовремя не сделала аборт.
За мои долгие годы в Шоушенке было всего человек десять, в невиновность которых я поверил. Энди Дюфресн был одним из них, хотя ему я поверил спустя годы с момента нашего знакомства. Если бы я был в коллегии, слушавшей его дело в Портлендском суде в 1947-м, то вряд ли был бы на стороне этого парня.
История, вообще-то говоря, довольно банальная. Наличествуют все необходимые элементы такого рода скандалов. Красивая девочка со связями в обществе, молодой спортсмен – оба мертвы, и многообещающий бизнесмен на скамье подсудимых. И грандиозный скандал в газетах, которые трещали об этом процессе без умолку. И открытое судебное разбирательство, которое продолжалось довольно долго. Прокурор округа хотел обращаться в центральные органы, и ему хотелось, чтобы Джон К. Паблик взглянул повнимательнее на это дело. Зрители начинали собираться около четырех утра, чтобы занять себе места в битком набитом зале. И это несмотря на то, что столбик термометра опускался в те дни необыкновенно низко. Даже мороз не смог отпугнуть любопытствующих.
Факты таковы: у Энди была жена, Линда Коллинз Дюфресн. В июне 1947 года она захотела научиться играть в гольф в клубе «Фэлмоуз-Хилл». Она действительно брала уроки в течение четырех месяцев. Инструктором был тренер «Фэлмоуз-Хилла» по имени Глен Квентин. В августе 1947-го Энди узнал, что Квентин и его жена любовники. Энди и Линда крупно поссорились 10 сентября 1947 года, и предметом ссоры была ее неверность.
Энди показал на суде, что жена была рада, что он узнал правду: ей надоело хитрить и увиливать. Она говорила, что ей это было более всего неприятно, и заявила Энди, что намерена подать на развод. На это он ответил, что скорее увидит ее в преисподней, чем на бракоразводном процессе. Она развернулась и уехала проводить ночь с Квентином в бунгало, которое тот снимал неподалеку от клуба. На следующее утро пришедшая домработница нашла их мертвыми в постели. И в каждом по четыре пули.
Последний факт больше всех других настраивал суд против Энди. Окружной прокурор с невиданным вдохновением и дрожью в голосе обыгрывал эту тему в своем заключительном слове. Эндрю Дюфресн, вещал прокурор, не просто разгневанный муж, учиняющий расправу над неверной женой. Это, говорил прокурор, если не простительно, то хотя бы понятно. Но мы имеем дело с безжалостным чудовищем, с хладнокровным убийцей. Обратите внимание, возвышал голос прокурор, четыре и четыре! Не шесть выстрелов, а восемь! Он выпустил всю обойму, потом остановился, спокойно перезарядил пистолет и снова выстрелил в каждого из них. ЧЕТЫРЕ ЕМУ И ЧЕТЫРЕ ЕЙ. Естественно, эта речь стала изюминкой газетных публикаций, которые пестрели заголовками типа «Расчетливый убийца», «Восемь выстрелов в невинную парочку» и прочей подобной пошлятиной.
Клерк из оружейного магазина в Льюистоне показал, что он продал шестизарядный пистолет тридцать восьмого калибра мистеру Дюфресну за два дня до убийства. Бармен из клуба в своих свидетельских показаниях сказал, что Энди пришел в бар около семи часов вечера 10 сентября, заказал три виски без содовой и выпил все это в течение двадцати минут. И когда расплачивался, сообщил бармену, что направляется к Глену Квентину, а о дальнейшем можно будет прочитать в утренних газетах. Другой клерк из магазина, находящегося в миле от дома Квентина, засвидетельствовал, что Дюфресн зашел к нему тем вечером в четверть девятого. Он заказал сигареты, три бутылки пива и несколько салфеток. Судмедэксперт заключил, что Квентин и Линда Дюфресн были убиты между двадцатью тремя ноль-ноль 10 сентября и двумя ноль-ноль 11 сентября. Следователь, который занимался этим делом, обнаружил на повороте, находящемся в семидесяти ярдах от бунгало, вещественные доказательства, которые были представлены на суде: две пустые бутылки из-под швейцарского пива с отпечатками пальцев обвиняемого, около двадцати окурков тех самых сигарет, что обвиняемый приобрел в магазине, и отлитый в пластике отпечаток шин на повороте, в точности соответствующий отпечатку шин на «плимуте» обвиняемого 1947 года выпуска.
В спальне бунгало на софе были найдены четыре салфетки. Они были продырявлены пулями и испачканы порохом. Следователь заключил, что убийца обмотал ствол оружия салфетками, чтобы приглушить звук выстрела.
Энди Дюфресн, получив слово, рассказал о происшедшем спокойно, холодно, рассудительно. Он сказал, что где-то в конце июля до него начали доходить кое-какие сплетни. В начале августа он был так измучен неопределенностью ситуации, что решил устроить проверку. Как-то вечером Линда собралась якобы съездить в Портленд за покупками после занятия гольфом. Энди преследовал ее и Квентина до бунгало (которое газеты окрестили «Любовным гнездышком»). Он припарковался на повороте и подождал, пока Квентин отвезет Линду до клуба, где она оставила свою машину.
– Вы хотите сказать, что преследовали жену на вашем новом «плимуте»? – спросил прокурор.
– На вечер я поменялся машинами с другом, – ответил Энди, и эта холодная запланированность его действий только усугубила негативное отношение к нему судей и присяжных.
Вернув машину другу и забрав свою, Энди поехал домой. Линда, лежа в кровати, читала книгу. Он спросил ее, как прошла поездка в Портленд. Она ответила, что все было замечательно, но ей не удалось присмотреть ничего, что стоило бы купить. С тех пор Энди окончательно уверился в своих подозрениях. Он рассказывал все это совершенно спокойно, негромким ровным голосом, который за все время его показаний ни разу не пресекся, не повысился, не сорвался.
– Каково было ваше психическое состояние после этого и до той ночи, когда была убита ваша жена? – спросил защитник.
– Я находился в глубокой депрессии, – холодно ответил Энди. Все так же монотонно и безэмоционально, как человек, зачитывающий меню в ресторане, он поведал, что задумал самоубийство и зашел так далеко, что даже купил в Льюистоне пистолет 8 сентября.
Затем защитник предложил рассказать присяжным, что произошло после того, как Линда отправилась на встречу с Гленом Квентином в ночь убийства. Энди рассказал, и впечатление, которое он произвел на жюри, было наихудшим, какое только можно себе вообразить.
Я знал его довольно близко на протяжении тридцати лет и могу сказать, что ни у кого из встречавшихся мне людей не было такого самообладания. Если у него все было в порядке, то кое-какую информацию о себе он выдавал в час по чайной ложке. Но если с ним что-то не так, вам этого никогда не удалось бы узнать. Если Энди когда-то и пережил «темную ночь души», как выразился какой-то писатель, он никогда никому этого не расскажет. Он относился к тому типу людей, которые, задумав самоубийство, не устраивают прощальных истерик и не оставляют трогательных записок, но аккуратно приводят в порядок свои бумаги, оплачивают счета, а затем спокойно и твердо осуществляют задуманное. Это хладнокровие и подвело его на процессе. Лучше бы он проявил хоть какие-либо признаки эмоций. Если бы голос его сорвался, если бы он вдруг разрыдался или даже начал бы орать на окружного прокурора – все пошло бы ему на пользу, и не сомневаюсь, что он был бы амнистирован, например, в 1954-м. Но он рассказывал свою историю как машина, как бесчувственный автомат, словно говоря присяжным: «Вот моя правда. Принимать ее или нет – ваше дело». Они не приняли.
Энди сказал, что он был пьян той ночью, что он был в той или иной степени пьян с 24 августа и что он терял над собой контроль и уже не мог удержаться от рюмки. В это присяжные могли поверить с большим трудом. Перед ними стоял молодой человек в превосходном шерстяном костюме-тройке, при галстуке, прекрасно владеющий собой, с холодным спокойным взглядом. И очень сложно было представить себе, что он напивается в стельку из-за мелкой интрижки своей жены с провинциальным тренером. Я поверил в это только потому, что у меня был шанс узнать Энди так, как эти шесть мужчин и шесть женщин знать его не могли.
Энди Дюфресн заказывал спиртное всего лишь четыре раза в год за все время нашего знакомства. Он встречал меня на прогулочном дворе за неделю до своего дня рождения, а потом перед Рождеством. Всякий раз он заказывал бутылку «Джек Дэниэлс». Он покупал это так же, как и большинство заключенных, получающих здесь гроши за свой рабский труд. С 1965 года расценки нашего труда подняли на двадцать пять процентов, но они остались смехотворно низкими. Плата за мой труд составляла десять процентов от стоимости товара. Прибавьте это к цене высококлассного виски типа «Блэк Джек», и вы получите представление о том, сколько часов тяжкого труда в тюремной прачечной могут обеспечить четыре бутылки в год.
Утром 20 сентября, в свой день рождения, Энди слегка выпил, а вечером после отбоя продолжил это занятие. На следующее утро он отдал мне остаток бутылки и сказал, чтобы я распределил спиртное между своими. И другую бутылку, которую он пил на Рождество, и еще одну, заказанную на Новый год, он вернул мне недопитыми с теми же инструкциями. Четыре раза в год – и это человек, который прежде напивался безудержно, которого алкоголь втянул в эту скверную историю. Достаточно скверную, скажу я вам.
Энди сообщил присяжным, что в ночь с 10 на 11 сентября был настолько пьян, что помнил происходившее с ним только какими-то урывками. Он начал пить днем еще до того, как поссорился с Линдой. После того как она пошла на встречу с Квентином, он решил помешать ей. По дороге заскочил в клуб, чтобы опрокинуть стопочку-другую. Он не помнил, что советовал владельцу бара читать утренние газеты, да и вообще разговаривал с ним. Он помнил, как покупал в магазине пиво, но не салфетки. «И зачем бы мне нужны были салфетки?» – спросил Энди, и в одной из газет было отмечено, что три леди из присяжных содрогнулись.
Позже, гораздо позже, он изложил мне свои предположения о клерке, который упоминал эти чертовы салфетки, и мне кажется, дело обстояло именно так.
– Предположим, в соответствии с концепцией обвинителя, – говорил Энди на прогулочном дворе, – они пристали к этому парню, что продавал мне ночью пиво, со своими вопросами. С тех пор как тот тип меня видел, прошло три дня. Мое дело занимало первую полосу любой газеты, было у всех на слуху. Они насели на беднягу, пять-шесть копов плюс следователь, плюс помощник прокурора. Память на редкость коварная штука, Рэд. Они могли начать с вопроса: «А не покупал ли обвиняемый у вас салфеток?» – и затем гнуть свою линию не сворачивая. Если достаточное количество людей хочет, чтобы ты что-то вспомнил, то вспомнишь, это очень вероятно.
Я согласился, что такое вполне возможно.
– И есть еще одна вещь, которая сильно давит на сознание. И поэтому, думаю, клерк легко убедил себя сам в истинности своих слов. Это слава, Рэд. Представь, репортеры задают ему вопросы, фото во всех газетах… и в довершение всего его выступление в суде. Сдается мне, что он прошел бы – если действительно не прошел – детектор лжи или поклялся бы – если действительно не поклялся – именем своей матери, что я покупал эти салфетки. И все же… память настолько коварна. Мне известно одно: хотя мой адвокат и считал, что я выдумал половину своей истории, эпизод с салфетками он опровергал не задумываясь. Действительно, здесь у них неувязка, согласись. Я был пьян в стельку. Слишком пьян, чтобы думать о том, как приглушить звук выстрела. Если бы я стрелял, то ни о чем бы уже не думал. – Так говорил Энди.
Он припарковался на повороте, пил пиво, курил сигареты, ждал. Он наблюдал зажженный свет в окнах бунгало Квентина. Видел, как какой-то огонек поднялся вверх по ступеням, затем проследовал вниз и наступила темнота. Энди говорил, что последующее он может только предполагать.
– Мистер Дюфресн, не поднялись ли вы потом по ступеням дома мистера Квентина, чтобы убить его и вашу жену? – спросил защитник.
– Нет, этого не было, – ответил Энди. Он рассказал, что начал трезветь где-то около полуночи. Затем почувствовал адскую головную боль и все прочие неприятные симптомы похмелья. Он решил поехать домой, хорошо выспаться и обдумать все свои дела утром на свежую голову.
– В то время как я ехал домой, мне пришло в голову, что лучше всего было бы не мучиться и спокойно дать жене развод, – заключил Энди.
Прокурор подскочил на месте:
– Ну что ж, вы выбрали неплохой путь развестись с женой, не так ли? Вы развелись с ней при помощи револьвера тридцать восьмого калибра, прикрытого салфетками, да?
– Нет, сэр, этого не было, – спокойно ответил Энди.
– А затем пристрелили ее любовника.
– Нет, сэр.
– Вы хотите сказать, что Квентин получил свою пулю первым?
– Я хочу сказать, что вовсе не стрелял ни в кого из них. Я выпил две бутылки пива и выкурил все те сигареты, что подобрала на повороте полиция. Затем поехал домой и лег спать.
– Вы рассказывали присяжным, что с 24 августа по 10 сентября вы хотели покончить жизнь самоубийством?
– Да, сэр.
– И продвинулись так далеко, что купили револьвер.
– Да.
– Как вы смотрите на то, мистер Дюфресн, что не производите на меня впечатление суицидального типа?
– Ну что ж, – ответил Энди, – а вы не кажетесь мне человеком достаточно разумным и проницательным. И я крупно сомневаюсь в том, что если бы у меня имелись суицидальные наклонности, то я бы поделился этим с вами.
Легкий шум в зале. Перешептывание присяжных.
– Вы взяли свой пистолет с собой в ту сентябрьскую ночь?
– Нет, ведь я же говорил…
– Ах да! – саркастически усмехнулся прокурор. – Вы выбросили его в реку, не правда ли? В Ройял-Ривер. Днем 9 сентября.
– Да, сэр.
– За день до убийства.
– Да, сэр.
– Убедительно, не так ли?
– Не знаю, убедительно или нет, сэр. Это правда, и все.
– Кажется, вы слышали показания лейтенанта Минчера?
Минчер был главой группы, которая обследовала окрестности Ройял-Ривер около моста Понд-роуд, с которого Энди выбросил свой пистолет. Поиски на дне реки не принесли никаких результатов.
– Да, сэр. Я слышал.
– Вы слышали, что они ничего не нашли, хотя занимались этим в течение трех дней? И это тоже, кажется, звучит убедительно?
– Возможно. Факт то, что они действительно не отыскали пистолет, – спокойно ответил Энди. – Но я хотел бы заметить, что мост Понд-роуд расположен очень близко от места, где река впадает в залив Ярмут. Течение довольно сильное. Оно могло вынести пистолет в залив.
– И конечно же, нет никакой взаимосвязи между пулями, вынутыми из окровавленных тел вашей жены и мистера Квентина, и вашим револьвером. Это так, мистер Дюфресн?
– Да, сэр.
– И это должно звучать убедительно?
Здесь, как писали газеты, Энди позволил себе одну из немногих эмоциональных реакций, которые можно было наблюдать за все время процесса. Едва уловимая ироническая усмешка заиграла на его губах.
– Поскольку я невиновен в этом преступлении, сэр, и поскольку я сказал правду о том, что выбросил пистолет в реку за день до убийства, мне кажется совершенно неудивительным, что он до сих пор не найден.
Прокурор давил на него в течение двух дней. Он снова и снова перечитывал показания клерка о салфетках. Энди отвечал на это, что он не помнит, как покупал их, но не может поклясться, что он их не покупал.
Правда ли, что в начале 1947 года Энди и Линда Дюфресн застраховались на крупную сумму? Да, это так. А правда ли тогда, что Энди должен был получить пятьдесят тысяч долларов после убийства жены? Правда. В таком случае верно ли, что он пошел к дому Квентина с целью убить обоих любовников и действительно убил их? Нет, это не верно. И что же он в этом случае думает о происшедшем, если полиция не обнаружила никаких следов грабежа?
– Я не могу этого знать, сэр, – отвечал Энди.
Суд удалился на совещание в час дня. Присяжные вернулись в три тридцать. Пристав сказал, что они придут раньше, но присяжные задержались, чтобы насладиться великолепным обедом за счет государства в ресторане Бентли. Они объявили мистера Дюфресна виновным, и если бы в Мэне была смертная казнь, Энди покинул бы этот лучший из миров еще до того, как появились первые подснежники.
Прокурор спрашивал Энди, что он думает о случившемся, и тот не ответил. На самом деле у него были соображения на этот счет, и как-то вечером в 1955 году я их услышал. Семь лет ушло на то, чтобы от шапочного знакомства мы перешли к более близким, дружеским отношениям. Но я не чувствовал себя достаточно близким к Энди человеком где-то до 1960 года или около того. И вообще я оказался единственным, с кем он был на короткой ноге. Мы оба являлись долгосрочными заключенными, жили в одном коридоре, хотя и на порядочном расстоянии друг от друга.
– Что я об этом думаю? – усмехнулся он. – Думаю, что жуткое невезение в тот день просто витало в воздухе. Что такое количество неприятностей в столь короткий промежуток времени трудно себе представить. Несчастье просто кругами ходило у этого чертова домика. Это был какой-нибудь прохожий, незнакомец. Возможно, взломщик. Возможно, случайно оказавшийся там психопат. Маньяк. Он убил их, только и всего. И вот я здесь.
Все так просто. А он теперь обречен провести всю свою жизнь, или значительную ее часть, в Шоушенке, в этой чертовой дыре. Выйти отсюда, когда в вашей карточке стоит пометка убийство, довольно сложно. Сложно и медленно, как каплям воды раздробить камень. В коллегии сидят семь человек, на два больше, чем в остальных тюрьмах, и каждый из этих семерых имеет ледяной рассудок и каменное сердце. Вы не можете купить этих ребят, уболтать их, запугать или воззвать к состраданию. Здесь, за этой стеной, деньги уже не имеют того значения, и все меняется.
Был такой парень по имени Кендрикс, который солидно задолжал мне и выплачивал долг в течение четырех лет. Он работал на меня и чем более всего был мне полезен – так это умением добывать информацию, к которой я сам доступа никогда бы не получил. Когда занимаешься такой деятельностью, как я, нужно держать ухо востро и быть в курсе всех дел.
Кендрикс сказал мне, что коллегия голосовала за освобождение Энди Дюфресна следующим образом. В 1957-м – семь – ноль против него, шесть – один в 58-м, семь – ноль в 59-м и пять – два в 60-м. Не знаю, что было потом, но шестнадцатью годами позже он все еще находился в камере 14 пятого блока. Тогда, в 1975-м, ему было пятьдесят семь. Возможно, они проявили бы великодушие и выпустили его где-нибудь в 1983-м. Они, конечно, поступают очень гуманно, даруя вам свободу, но послушайте вот что. Я знал одного парня, Шервуда Болтона, и он держал у себя в камере голубя с 1945-го по 1953-й. Пока его не амнистировали, у него жил этот голубь. Парень не был большим любителем птиц, он просто жил с ним, привык к нему, и все. Он звал его Джек. Болтон выпустил Джека на свободу за день до того, как по решению коллегии был выпущен на свободу сам. Птичка выпорхнула из его рук, только ее и видели. А через неделю после того, как Шервуд Болтон покинул нашу счастливую маленькую семью, один приятель подозвал меня к себе и повел в западный угол прогулочного двора, где обычно прохаживался Шервуд. Там в пыли валялся маленький грязный комок перьев, в котором с трудом можно было различить застывший трупик голубя. Друг спросил:
– Это Джек?
Да, это был Джек. Бедная птичка погибла от голода.
Я вспоминаю первый раз, когда мы пересеклись с Энди. Этот день так хорошо сохранился в моей памяти, что я могу воспроизвести все детали, словно это было вчера. В тот раз он не просил Риту Хейуорт. Это произошло позже. Летом 1948 года он подошел ко мне совсем по другому поводу.
Большинство моих операций совершалось на прогулочном дворе, здесь заключил я и эту сделку. Наш двор очень большой, гораздо больше, чем дворы во многих других тюрьмах. Северная сторона его представляет собой стену с вышками в каждом углу. Охранники с биноклями, превосходно вооруженные, сидят на вышках и осматривают окрестности. Здесь же расположены главные ворота. Хозяйственные ворота для перевозки различных грузов расположены в южной стороне двора. Их пять. В течение рабочей недели Шоушенк – довольно оживленное место: туда-сюда постоянно снуют посыльные, у ворот сигналят грузовые машины. На территории находится большая прачечная, обслуживающая всю тюрьму, плюс госпиталь Киттери и приют Элиот. Кроме того, здесь также расположен крупный гараж, где заключенные, исполняющие обязанности механиков, следят за машинами охраны, тюремными машинами, государственными, муниципальными… и, конечно, члены коллегии тоже не упускают случая воспользоваться нашими услугами.
Восточная сторона двора – каменная стена в маленьких зарешеченных окнах. Пятый блок находится по другую сторону этой стены. Администрация и лазарет расположены в западной стороне. Шоушенк никогда не бывал переполнен, как большинство тюрем, а в 1948 году он был занят едва ли на две трети. Но в любое время на прогулочном дворе вы можете увидеть от восьмидесяти до сотни заключенных, играющих в футбол или бейсбол, просто прохаживающихся, болтающих друг с другом, обсуждающих свои дела. В воскресенье становится еще более людно, и все это напоминало бы даже уик-энд за городом, если бы не славные ребята на вышках и отсутствие женщин.
Энди подошел ко мне впервые именно в воскресенье. Я только что закончил разговор с Элмором Армитажем, славным малым, который часто имел дело со мной, и тут подошел Энди. Я, конечно, уже знал, кто это такой. Он успел заработать себе репутацию сноба и хладнокровного типа. Я слышал даже такую фразу, что Энди уверен, что его дерьмо пахнет приятнее, нежели дерьмо простого смертного. Говорили также, что ничего хорошего этому парню здесь не светит. Один из утверждавших это был Богс Даймонд, человек, которому лучше не попадаться на пути, если вы дорожите собственной шкурой. Про Энди уже сплетничали достаточно многие, но я не люблю прислушиваться к досужим россказням, пока сам не составлю мнение о человеке.
– Добрый день, – произнес он. – Я Энди Дюфресн. – Он протянул руку, я пожал ее. Он не был похож на человека, который станет терять время, чтобы показаться общительнее. И действительно, мы сразу перешли к делу.
– Я слышал, что вы тот человек, который может кое-что достать.
Я согласился, что кое-что входит в возможности моей скромной персоны.
– Как вы это делаете? – напрямую спросил Энди.
– Временами вещи, кажется, сами идут ко мне в руки. Это сложно объяснить. Возможно, все дело в том, что я ирландец.
Он слегка улыбнулся.
– Я хочу, чтобы вы достали мне геологический молоток.
– Что это еще за штуковина и зачем она вам?
Энди изумился и чуть приподнял брови.
– Разве мотивация желания заказчика является частью вашего бизнеса?
Вот тут-то я понял, почему его называют снобом, неудивительно, что человек, задающий такие вопросы, заслужил соответствующую репутацию. Однако мне показалось, что в его словах заключается изрядная доля иронии, и я объяснил ситуацию:
– Видите ли, если вы хотите зубную щетку, я как-нибудь обойдусь без знания мотивов. Просто назову цену. Потому что зубная щетка не относится к вещам, если можно так выразиться, летальным.
– Вы испытываете неприязнь к летальным вещам?
– Да.
Старый потрепанный бейсбольный мяч полетел в нашу сторону. Энди развернулся и аккуратным движением кисти послал мяч в точности туда, откуда он приближался. Движение было великолепным, точным, быстрым, необыкновенно изящным. Сам Френк Мелзон мог бы таким гордиться. Я видел, что большинство людей, продолжая заниматься своими делами, краем глаза наблюдали за нами. Возможно, на нас с интересом смотрели и ребята с вышек. В каждой тюрьме есть несколько человек, имеющих наибольший авторитет среди заключенных. Скажем, четыре или пять в маленькой тюрьме, два-три десятка в большой. В Шоушенке я был одним из них, и от моего мнения зависело очень много. То, что я скажу об Энди, будет играть важнейшую роль в его дальнейшей судьбе. И он это знал, но нисколько не заискивал передо мной. Я начинал уважать его за это.
– Ну хорошо, я расскажу вам, что представляет собой этот молоток и зачем он мне нужен. Геологический молоток имеет примерно такие размеры. – Энди развел руки, и тут я обратил внимание, какие они у него ухоженные и как аккуратно подпилены и вычищены ногти. – Эта штука слегка напоминает кирку, с одного конца она острая, с другого чуть приплющена. Я люблю камни, поэтому делаю вам такой заказ.
– Камни… – повторил я.
Энди посмотрел на меня и усмехнулся.
– Идите-ка сюда.
Я последовал приглашению. Мы опустились на корточки, как дети.
Энди набрал полную пригоршню дворовой пыли и начал растирать ее между ладонями. Пыль и грязь взвилась облаком вокруг его ухоженных рук. В ладонях остались несколько небольших камешков, парочка блестящих, остальные плоские и совершенно неинтересные на вид. Один из них был кварц и не производил впечатления, пока Энди не очистил его хорошенько. Теперь он сверкал, как стеклышко. Энди бросил камешек мне. Я поймал его и назвал.
– Конечно, кварц, – кивнул Энди, – и вот еще, смотрите. Слюда. Сланец. Гранит. Здесь были залежи известняка, ведь наш славный дворик, как вы могли заметить, вырезан в холме. Вот почему здесь можно найти все это. – Он отшвырнул камешки и отряхнул руки. – Я большой любитель камней. Точнее сказать… был таковым, пока не попал сюда, в той жизни. Но хочу и здесь хоть в какой-то мере заниматься своим увлечением.
– Воскресные экспедиции на прогулочный двор?
Эта идея, конечно, была совершенно идиотской. Однако маленький кусочек кварца как-то странно затронул мое сердце. Не могу даже объяснить – почему. Никому раньше не приходило в голову заниматься здесь такими вещами. Этот камешек, возможно, был для меня ниточкой, связывающей нас с внешним миром. Со свободой.
– Лучше устраивать воскресные экспедиции на прогулочный двор, чем вовсе обходиться без них, – сказал Энди.
– Однако могу ли я быть уверен, что этот молоточек не опустится рано или поздно на чью-нибудь голову?
– Здесь у меня нет врагов, – мягко сказал Энди.
– Нет? – Я улыбнулся. – Подождите немного.
– Если будут какие-нибудь эксцессы, я улажу все и без молотка.
– Возможно, вы хотите устроить побег? Раздробить стену? Если это так…
Он рассмеялся. Когда через три недели я увидел этот молоток, то понял почему.
– Полагаю, вы в курсе, что, если кто-нибудь увидит этот молоток, его отберут. Если у вас в руках обнаружат чайную ложку, будьте уверены, отберут и ее. И что же вы намерены делать – сидеть здесь посреди двора и стучать по камешкам?
– О, поверьте, я вовсе не это намерен делать. Придумаю кое-что получше.
Я кивнул. В конце концов меня действительно это не касается. Я достаю заказчику товар, а что случается потом, меня волновать не должно.
– Сколько может стоить такая штуковина? – поинтересовался я. Мне начинал нравиться его стиль общения – прохладный, спокойный, чуть ироничный. Если бы вы провели в этой чертовой дыре столько лет, сколько я, вы бы поняли, как можно устать от этих шумных ребят с лужеными глотками, вечным стремлением качать свои права и широким ассортиментом бранных слов, среди которых попадаются хорошо если десяток цензурных. Да, пожалуй, Энди понравился мне сразу.
– Восемь долларов, – ответил он. – Но я понимаю, что вы занимаетесь своим бизнесом не в убыток себе.
– Обычно я беру цену товара плюс десять процентов накидываю для себя. Но когда речь идет о такого рода вещах, которые если и не являются опасными, то могут показаться таковыми тюремному начальству, я увеличиваю цену. В конце концов, мне самому приходится давать кое-кому на лапу, чтобы заставить вращаться все винтики и колесики… Скажем так: десять долларов.
– Договорились.
Я взглянул на него с интересом, слегка улыбнувшись.
– Они у вас имеются?
– Да, – пожал плечами Энди.
Спустя довольно долгое время я узнал, что он имел гораздо больше. Порядка пяти сотен долларов. Он пронес их с собой. Конечно, при поступлении в тюрьму вы подвергаетесь тщательной проверке, и эти ребята, будьте спокойны, отберут у вас все, что им удастся обнаружить. Но человек опытный или, как в случае с Энди, просто сообразительный может обвести всех этих славных малых вокруг пальца, есть тысяча способов это сделать.
– Вот и прекрасно, – сказал я, – и еще: надеюсь, вы знаете, что нужно делать в случае, если вас поймают.
– Надеюсь, знаю, – отвечал Энди, и по легкому изменению выражения его серых глаз я понял, что он знает, о чем я намерен толковать. Это было едва заметное изменение, просто взгляд чуть засветился тонкой иронией.
– Если вас поймают, нужно говорить, что вы нашли ваш молоток. Окажетесь в одиночке на две, три недели… и, конечно, потеряете свою игрушку и получите отметку в карточку. Мое имя называть нельзя ни в коем случае. Нашли и все, ни больше ни меньше. Если же вы меня выдадите, мы никогда больше не будем иметь дел. Никаких: я не стану доставать для вас ни бутылку виски, ни шоколадку к празднику. Кроме того, попрошу своих ребят объяснить вам вкратце правила поведения. Я не сторонник жестких мер, поймите правильно, мне приходится как-то защищаться, иначе мой бизнес ничем хорошим не кончится. По-моему, это вполне естественное желание.
– Да, согласен. Можете не беспокоиться.
– Не в моих правилах беспокоиться о чем-либо. Это было бы глупо и смешно в таком месте.
Он кивнул на прощание и пошел своей дорогой. Тремя днями позже, когда в прачечной был перерыв на обед, он прошел мимо меня, не говоря ни слова, даже не поворачивая головы. И сунул мне в руку купюру с ловкостью карточного фокусника. Быстро же этот парень научился ориентироваться в ситуации! А молоток я уже достал. Он лежал у меня в камере целые сутки, и я мог видеть, что это именно та штуковина, которую описал Энди. Конечно, сама мысль о том, чтобы с помощью этого орудия устроить побег, была нелепой. Это заняло бы шесть сотен лет, не меньше. Однако я все еще оставался при своих сомнениях. Если острый конец молотка когда-либо опустится на чью-нибудь голову, то тот бедняга, с кем это случится, никогда уже не выйдет прогуляться на наш славный дворик… Я слышал, Энди уже имел неприятности с сестрами, и очень надеялся, что молоток припасен не для них.
Мои ожидания подтвердились. Рано утром следующего дня, за двадцать минут до подъема, я сунул эту штуковину Эрни, славному малому, который подметал коридор пятого блока, пока не ушел отсюда в 1956-м. Не говоря ни слова, он взял молоток, и на протяжении девятнадцати лет я так и не увидел его и не услышал ничего о каких-либо учиненных Энди с его помощью неприятностей.
В следующее воскресенье Энди подошел ко мне во дворе. Выглядел он, смею заметить, преотвратно. Разбитая нижняя губа опухла, правый глаз, окруженный огромным синяком, был полуприкрыт, на щеке виднелась ссадина. У него продолжались неприятности с сестрами, но Энди ни словом не упомянул об этом.
– Спасибо за инструмент, – произнес он и пошел дальше.
Я с любопытством наблюдал за ним. Он прошел несколько шагов, остановился, нагнулся и поднял с земли небольшой камешек. Затем отряхнул его и внимательно осмотрел. Карманы в тюремной одежде не предусмотрены. Но из этого положения всегда можно найти выход. Камешек исчез в рукаве, и Энди продолжал свой путь… Я восхищался им. Вместо того чтобы ныть по поводу своих проблем, он продолжал спокойно жить и старался сделать свою жизнь максимально приятной и интересной. Тысячи людей вокруг на такое отношение к вещам не способны, и не только здесь, но и за пределами тюремных стен. Еще я отметил, что хотя лицо Энди было обезображено последствиями вчерашнего конфликта, ногти были идеально ухожены и чисты.
Я редко видел его на протяжении последующих шести месяцев – большую часть этого времени Энди провел в одиночном карцере.
Теперь несколько слов о сестрах. В других тюрьмах существуют какие-то иные термины для обозначения этих людей. Позже в моду вошло название «королевы убийц». Но в Шоушенке они всегда назывались сестрами. А впрочем, не вижу особой разницы. Не все ли равно, как именовать это явление, суть от этого не изменится.
В наше время уже ни для кого не секрет, что за тюремными стенами процветает содомия. Это и неудивительно. Большое количество мужчин на долгое время оказываются в изоляции и не могут получать удовлетворение привычным путем. Поэтому часто те из них, кто на воле общался только с женщинами, в тюрьме вынуждены заниматься сексом с мужчинами, чтобы не сойти с ума от переполняющего их желания. Впрочем, если хотите знать мое мнение, то гомосексуальная склонность была заложена в них с самого начала. Потому что если бы они были настолько гетеросексуальны, насколько привыкли себя считать, то они стали бы терпеливо дожидаться, пока их выпустят на свободу к женам и подругам.
Также существует достаточное количество мужчин, которые, на свою беду, молоды, симпатичны и неосмотрительны – их совратили уже в тюрьме. В большинстве случаев им отводится женская роль, и партнеры этих бедняг соревнуются друг с другом за обладание ими.
А еще есть сестры. Для тюремного общества это то же, что насильники для общества за этими стенами. Обычно сестры – заключенные, отбывающие длительный срок за тяжкие преступления: насилие, убийство, грабеж и так далее. Как правило, их жертва молода, слаба и неопытна… Или, как в случае с Энди, только выглядит слабой. Их охотничьи угодья – души, задний двор за помещениями прачечной, иногда лазарет. Неоднократно изнасилование происходило в маленькой, тесной, как шкаф, комнате, выполняющей функции кладовки или подсобного помещения в прачечной. Чаще всего сестры берут силой то, что могут получить и по-хорошему: их жертвы, будучи уже совращены, довольно забавно испытывают увлечение своими партнерами, как шестнадцатилетние девчонки увлекаются своими Пресли Редфордами. Но для сестер, судя по всему, основное удовольствие состоит именно в том, чтобы брать силой… И я полагаю, так будет всегда.
Энди оказался в центре внимания сестер с первого своего дня в Шоушенке. Наверное, их привлек ухоженный вид этого человека, его приятная внешность и абсолютное спокойствие. И если бы я рассказывал вам сказку, с удовольствием продолжил бы ее в том духе, что Энди долго боролся с сестрами и им так и не удалось достичь желаемого. Я хотел бы сказать так, но не могу. Тюрьма – не то место, где сбываются сказки.
Первый раз к нему подошли в душе спустя три дня после его прибытия в Шоушенк. Это была всего лишь проба сил. Шакалы долго кружат около своей добычи и, прежде чем схватить ее, должны убедиться в беззащитности жертвы.
Энди, резко развернувшись, разбил губу огромному мощному парню из числа сестер по имени Богс Даймонд. Охранник разнял дерущихся, прежде чем это зашло слишком далеко. Но Богс обещал Энди, что достанет его, и сдержал свое слово.
Второй раз произошел за помещениями прачечной. За многие годы чего только не случалось на этом пыльном узком задворке. Охранники прекрасно все знали и позволяли событиям течь своим чередом. Там было тесно, все завалено упаковками от стиральных порошков и отбеливателей, пачками катализатора «Хекслайт», безвредного, как соль, если у вас сухие руки, и убийственного, как кислота, если ваши ладони мокры. Охранники не любили туда ходить. Места для маневров там не было, а одна из первых заповедей, которой обучали этих ребят при поступлении на работу, – ни в коем случае не попадать в места, где заключенные могут окружить и некуда будет отступить.
В тот день Богса в прачечной не было. Однако Хенли Бакас, мастер, возглавлявший бригаду работников прачечной с 1922 года, рассказывал потом, что присутствовали четыре дружка Богса. Энди встал в дверях, держа в руках пачку «Хекслайта» и обещая засыпать порошок в глаза нападающим на него, если они тронутся с места. Но удача в тот день была не на его стороне: Энди поскользнулся на большом целлофановом пакете отбеливателя и упал. Все четверо тут же накинулись на него.
Наверное, такая неприятная вещь, как групповое изнасилование, останется неизменной на протяжении многих поколений заключенных. Именно это и сделали с ним четыре сестры. Они повалили его на большую картонную коробку, и один из насильников держал у его виска острую финку, пока остальные занимались своим делом. Такого рода происшествие выбивает вас из колеи, но не слишком надолго. Я сужу по собственному опыту, спросите вы? Хотел бы, чтобы это было не так. Очень хотел бы… Некоторое время у вас будет идти кровь, но не слишком сильно. Если вы не хотите, чтобы какой-нибудь клоун на прогулочном дворе поинтересовался, как прошла ваша первая брачная ночь, то следует просто подложить туалетную бумагу и ходить с ней, пока кровь не остановится. Кровотечение напоминает женскую менструацию, оно довольно слабое и продолжается два-три дня. Затем прекращается. Никакого особого вреда вам не причинили. Никакого физического вреда, но изнасилование есть изнасилование, с вами сделали нечто противоестественное, и вы должны теперь решать, как с этим жить дальше.
Энди прошел через это один, переживая в одиночестве все события тех дней. Он пришел к тому выводу, к которому приходит каждый, оказавшийся на его месте: что есть только два пути общения с сестрами – сдаться им или продолжать борьбу.
Он решил бороться. Когда Богс и еще парочка ублюдков из его компании подошли к нему через недельку после прошлого инцидента, Энди не долго думая заехал в нос приятелю по имени Рустер Макбрайд. Этот фермер с массивной нижней челюстью и низким лбом находился здесь за то, что до смерти избил свою падчерицу. К счастью для общества, он умер, не выходя из Шоушенка.
Они навалились на него втроем. Рустер и еще один тип, возможно, это был Пит Вернес, но я не могу быть в точности уверен, повалили Энди на колени. Богс Даймонд стал перед ним. У Богса была бритва с перламутровой ручкой и выгравированным на каждой стороне рукоятки его именем. Он открыл ее и произнес:
– Смотри сюда, мальчик. Сейчас я дам тебе кое-что, и ты возьмешь это в рот. А потом так же поступит мистер Рустер. Полагаю, ты не откажешься доставить нам удовольствие. Тем более что имел неосторожность разбить ему нос и должен теперь как-то это компенсировать.
– Все, что окажется у меня во рту, будет вами навек утеряно, – спокойно ответил Энди.
Богс поглядел на него как на придурка, рассказывал потом Эрни, бывший в тот день в прачечной.
– Нет, – медленно произнес он, словно объясняя простейшие вещи глупому ребенку, – ты меня не понял. Если ты попробуешь дернуться, то узнаешь вкус этого лезвия. Теперь дошло?
– Я-то вас понял. Боюсь, вы не поняли меня. Я сказал, что откушу все, что вы попробуете в меня засунуть. А что касается лезвия, следует учитывать, что резкая боль вызывает у жертвы непроизвольное мочеиспускание, дефекацию… и сильнейшее сжатие челюстей.
Он глядел на Богса, улыбаясь своей характерной, едва уловимой иронической улыбкой. Будто вся компания обсуждала с ним проблемы человеческих рефлексов, а не собиралась его изнасиловать. Будто он был в своей шикарной шерстяной тройке и при галстуке, а не валялся на грязном полу подсобки, придерживаемый двумя бугаями, с кровью, сочащейся из задницы.
– И кстати, – продолжал он, – я слышал, что этот рефлекс проявляется так сильно, что челюсти жертвы можно разжать только с помощью металлического рычага. Можете проверить, но я бы не рекомендовал.
Богс оставил Энди и ничего не засунул ему в рот той февральской ночью сорок восьмого года, не сделал этого и Рустер Макбрайд. И насколько я знаю, никто никогда такого рода эксперимент поставить не решился. Хотя они втроем довольно круто избили Энди в тот день и оказались все вместе в карцере. Энди и Рустер попали потом в лазарет.
Сколько еще раз эти ребята пытались получить свое от Энди? Не знаю. Макбрайд потерял вкус довольно быстро: перебитый нос не располагал к такого рода развлечениям. Летом отстал и Богс Даймонд.
С Богсом вышел довольно странный эпизод. Однажды утром, в начале июля, его недосчитались на проверке. Он был найден в камере в полубессознательном состоянии, жутко избитым. Он не сказал, что произошло, кто это сделал и как к нему в камеру пробрались, но для меня все было совершенно ясно. Я прекрасно знаю, что за соответствующую сумму офицер охраны окажет вам любую услугу. Разве что не продаст оружие. Большие деньги никогда не запрашивались, да и теперь цены не слишком высоки. И в те дни не было никаких электронных систем, никаких скрытых телекамер, контролирующих каждый уголок тюрьмы. Тогда, в тысяча девятьсот сорок восьмом году, охранник, имеющий ключ от блока и всех его камер, мог позволить войти внутрь кому угодно. И даже двоим-троим. Даже в камеру Богса.
Такая работа стоила денег. Конечно, по стандартам мира, находящегося за пределами тюремных стен, расценки были не слишком высоки. Здесь доллар в ваших руках значит столько же, сколько на свободе двадцать долларов. По моим подсчетам, учинить такое над Богсом стоило немало – пятьдесят долларов за то, чтобы открыли блок и камеру, по два-три доллара каждому из охранников в коридоре.
Не берусь утверждать, что это сделал Энди Дюфресн, но знаю, что он пронес сюда пять сотен долларов. И раньше он был банкиром. А это человек, который понимает лучше остальных, как можно сделать так, чтобы превратить деньги в реальную власть. Богс после того, как его избили – три сломанных ребра, подбитый глаз, смещенная бедренная кость и, кажется, чуть растянутая задница, – оставил Энди в покое. Надо сказать, он всех оставил в покое. Он стал похож на тех облезлых шавок, которые много лают, но совершенно не кусаются. И перешел в разряд «слабых сестер».
Так закончились домогательства Богса Даймонда, человека, который мог бы, что вполне вероятно, убить Энди, если бы тот не принял предупредительных мер. (Я все же думаю, именно Энди устроил тот эпизод с Даймондом.) Эпопея с сестрами на этом не закончилась, хотя поутихла. Шакалы ищут легкой добычи, а Энди Дюфресн зарекомендовал себя человеком, слабо подходящим на эту роль. Вокруг было множество других жертв, и сестры ослабили свое внимание к Энди, хотя долгое время не оставляли его окончательно.
Он всегда боролся с ними, насколько я помню. Стоит только один раз отдаться им без боя, и в следующий они будут чувствовать себя уверенней. Не стоит сдавать своих позиций. Энди продолжал появляться иногда с отметинами на лице, и неприятности с сестрами были причиной двух сломанных пальцев спустя полгода после случая с Даймондом. А в 1949 году парень отдыхал в лазарете после того, как его угостили куском металлической трубы из подсобки прачечной, обернутой фланелью. Он всегда сражался и в результате проводил немало времени в одиночном карцере. Но не думаю, что одиночка представляла собой серьезную неприятность для Энди – человека, привыкшего всегда быть наедине с собой, даже когда он находился в обществе.
Война с сестрами продолжалась, то затихая, то вспыхивая вновь, до 1950 года. Тогда все прекратилось окончательно. Но об этом речь впереди.
Осенью 1948-го Энди встретил меня утром на прогулочном дворе и спросил, могу ли я достать ему дюжину полировальных подушечек.
– Это еще что за хреновина? – поинтересовался я.
Он объяснил мне, что это необходимо для обработки камней. Полировальные подушечки туго набиты, имеют размер примерно с салфетку и две стороны, тонкую и грубую. Тонкая – как мелкозернистая полировальная бумага. Грубая – как промышленный наждак.
Я ответил, что все будет сделано, и действительно, в конце недели мне купили заказанные штуковины в том же магазине, в котором когда-то был куплен молоток. В этот раз я взял с Энди свои десять процентов и ни пенни сверх того. Я не видел ничего летального или даже просто опасного в этих небольших набитых жестких кусочках ткани. Действительно полировальные подушечки.
Пять месяцев спустя Энди попросил у меня Риту Хейуорт. Мы разговаривали об этом в кинозале. Теперь сеансы для заключенных устраивают раз или два в неделю, а в те далекие дни это было гораздо реже, раз в месяц или около того. Фильмы подбирались не какие-нибудь, а высокоморальные. С каждого сеанса мы должны были уходить более благонравными, чем вошли в зал. Этот раз не был исключением. Мы смотрели фильм, повествующий о том, как вредно напиваться. Хорошо хоть то, что эту мораль мы получали с неким комфортом.
Энди сел рядом со мной и где-то посреди сеанса приблизился и спросил на ухо, не могу ли я достать для него Риту Хейуорт. По правде говоря, он меня слегка удивил. Обычно такой спокойный, хладнокровный и корректный, сегодня он выглядел неловким и смущенным, будто просил меня доставить ему троянского коня или… одну из этих резиновых или кожаных штучек, которые продаются в соответствующих магазинах и, судя по журнальной рекламе, «скрасят ваше одиночество и доставят массу наслаждения». Энди выглядел чуть растерянным.
– Я принесу ее, – сказал я, – все в норме, успокойся. Тебе большую или маленькую?
В то время Рита была лучшей из моих картинок (через несколько лет любимой звездой стала Бетти Грейбл), и она продавалась в двух видах. Маленькую вы могли купить за доллар. За два с половиной – большую Риту, в полный рост, размером четыре фута.
– Большую, – ответил он, не глядя на меня. Он зарделся, как ребенок, пытающийся попасть на вечеринку в клуб по пригласительному билету старшего брата. – Ты это действительно можешь?
– Могу, будь спокоен. Не иначе как медведь в лесу сдох?
Зал зааплодировал, закричал, затопал. Кульминационный момент фильма.
– Как быстро?
– Неделя. Или даже меньше.
– О’кей. – Однако он все еще был в непривычном для себя смущении, которое с трудом преодолевал. – И сколько это будет стоить?
Я назвал ему цену, не добавив ни пенни для себя. Я мог себе позволить продать Риту за ее стоимость, тем более Энди всегда был хорошим покупателем. И славным малым. Во время всех этих разборок с Рустером и Богсом я часто мучился вопросом, как долго он продержится, прежде чем молоток, который я ему доставил, опустится на голову какой-нибудь из сестер.
Постеры – существенная часть моего бизнеса, в списке самых популярных вещей они стоят сразу после спиртного и курева и даже перед «травкой». В шестидесятых это дело процветало, все желали приобретать плакаты с Джими Хендриксом, Бобом Диланом и прочими из этой же серии. Однако больше всего пользовались спросом девочки, и одна популярная красотка сменяла другую.
Через несколько дней после того, как мы поговорили с Энди, шофер прачечной привез мне около шестидесяти плакатов, большинство из них с Ритой Хейуорт. Возможно, вы помните эту фотографию. У меня-то она стоит перед глазами во всех подробностях. Рита в купальном костюме, одну руку заложила за голову, глаза полуприкрыты, на полных чувственных губах играет легкая улыбка.
Администрация тюрьмы знала о существовании «черного рынка», если вас волнует эта проблема. Разумеется, все знали. Им было известно о моем бизнесе ровно столько же, сколько мне самому. Они мирились с этим, потому что знали, что тюрьма – большой котел и нужно кое-где оставлять открытыми клапаны, чтобы выпускать пар. Иногда они устраивали проверки, проявляли строгость, и я проводил время в одиночке. Но в безобидных вещах типа плакатов никто не видел ничего страшного. Живи и жить давай другим. И если в чьей-нибудь камере обнаруживается, например, Рита Хейуорт, то принято считать, что картинка попала к заключенному в посылке с вольного мира. Естественно, все передачи родственников и друзей тщательно проверяются, но кто станет устраивать повторные проверки и поднимать шум из-за такой невинной вещицы, как Рита Хейуорт, Ава Гарднер или еще какая-нибудь красотка на плакате? Если вы хороший повар, то знаете, как оптимальным способом выпускать пар из котла. Живи и жить давай другим, иначе найдется кто-нибудь, кто вырежет вам второй рот аккурат под кадыком. Приходится прибегать к компромиссам.
Эрни, именно ему я доверил доставить плакат из моей шестой камеры в четвертую, где обитал Энди. И тот же Эрни принес записку, в которой твердым почерком банкира было написано одно слово: «Спасибо».
Чуть позже, когда нас выводили на утреннюю проверку, я заглянул одним глазом в его камеру и увидел Риту, висящую над его кроватью. Энди мог любоваться ею в полумраке долгих бессонных тюремных ночей. А теперь, при свете солнца, лицо ее было пересечено черными полосами. То были тени от прутьев решетки на маленьком пыльном окошке.
А теперь я расскажу, что случилось в середине мая 1950 года, после чего Энди окончательно выиграл свою войну с сестрами. После этого происшествия он также сменил работу: перешел из прачечной, куда его определили, когда он вступил в нашу маленькую счастливую семейку, в библиотеку.
Вы могли уже заметить, что большинство из рассказанного мной – слухи и сплетни. Кто-то увидел, кому-то рассказал, через десятые руки все попало ко мне, и я вам пересказываю. Ну что ж поделаешь, приходится пользоваться всякими источниками, в том числе и непроверенными, если хочешь быть в курсе событий. Просто нужно уметь выделять крупицу истины из тонн лжи, пустых сплетен и тех частых случаев, когда желаемое выдается за действительное. Вам может показаться также, что я описываю человека, который больше похож на легендарного персонажа, чем на мужчину из плоти и крови. Для нас, долгосрочных заключенных, знавших Энди на протяжении многих лет, не только в рассказах о нем, но и в самой его личности было что-то мифическое, некий неуловимый аромат магии, если вы понимаете, о чем я говорю. Все, что я рассказывал об Энди, сражающемся с Богсом Даймондом, – часть этого мифа, и прочие события, связанные с Энди, и как он получил свою новую работу… но с одной существенной разницей: я был свидетелем последнего происшествия и могу поклясться именем своей матери, что все, что расскажу сейчас, – правда. Понимаю, что слово убийцы вряд ли имеет большую ценность, но вы уж мне поверьте.
К тому времени мы с Энди были уже довольно близки. Парень относился ко мне с уважением и явно предпочитал мое общество любому другому. Да и я, как уже говорил, оценил его по достоинству с самого начала. Кстати, забыл рассказать еще об одном эпизоде. Прошло пять недель с тех пор, как я принес Риту Хейуорт, я уже забыл об этом в повседневной суете, и вот однажды вечером Эрни принес мне небольшую коробочку.
– От Дюфресна, – произнес он, не выпуская щетки из рук, и исчез.
Мне было чертовски интересно, что же там может быть, и я разворачивал белую вату, которой оказалась набита коробка, с нетерпением. И вот…
Я долго не мог оторвать глаз. Несколько минут я просто смотрел, и мне казалось, что к ним невозможно притронуться, так хороши были эти камешки. Все же в этом ублюдском мире, во всей этой мышиной возне и суете, во всем этом навозе встречаются иногда поразительно красивые вещи, радующие человеческий глаз, и беда многих в том, что они об этом забыли.
В коробке лежали два тщательно отполированных кусочка кварца, имеющих форму плавников. Вкрапления пирита давали металлический отблеск, и золотые вспышки играли на шлифованных гранях камней. Если бы они не были достаточно тяжелыми, из них получились бы шикарные запонки.
Как много труда ушло на то, чтобы превратить грязные камни с прогулочного двора в это чудо! Сперва отчистить их, затем придать форму молоточком, и, наконец, бесконечная полировка и заключительная отделка. Глядя на эти камешки, я испытывал нечто вроде восхищения родом человеческим – чувство, посещающее меня очень редко и вполне понятное, когда вы смотрите на что-то прекрасное, действительно приковывающее взгляд, сделанное человеческими руками. Мне кажется, это и отличает нас от животных… Конечно, я восхищался Энди, его необыкновенным упорством, еще одно проявление которого мне предстояло увидеть собственными глазами. Но об этом речь впереди.
В мае 1950 года администрация тюрьмы решила подновить крышу нашей фабрики. Лучше всего было делать это теперь, пока не наступила убийственная летняя жара, и начался набор желающих. Их оказалось много, человек семьдесят, потому что май – чертовски приятный месяц для работы на свежем воздухе. Девять или десять бумажек с именами было вытащено из шапки, и случилось так, что среди имен оказались мое и Энди.
На следующей неделе после завтрака мы прошли через прогулочный двор с двумя охранниками впереди и двумя позади… не считая тех парней на вышках, что не забывали окидывать взглядом все вокруг себя, благо бинокли у них весьма неплохие.
Четверо несли большую лестницу; ее прислонили к стене низкого плоского строения и забрались на крышу. Там мы начали заливать поверхность расплавленным гудроном, выливая его полными черпаками и распределяя жесткими щетками по поверхности.
Внизу сидели шесть охранников. Для них эта затея с крышей обернулась великолепным недельным отпуском. Вместо того чтобы вдыхать порошки в прачечной или пылиться рядом с подметающими двор заключенными, короче говоря, хоть как-то работать, они сидели на майском солнышке, облокотившись о низкий парапет, и чесали языки.
За нами они смотрели вполглаза, потому что южная стена была достаточно близко, бежать было некуда, а человек на крыше был прекрасной мишенью, и в случае неверного движения заняло бы пару секунд прострелить любому из нас череп. Итак, ребята сидели и расслаблялись, каждый из них был вполне доволен собой, и не хватало лишь хорошего крепкого коктейля со льдом, чтобы чувствовать себя хозяином мироздания.
Один из них был тип по имени Байрон Хедли, и в 1950 году, когда происходили все эти события, он находился в Шоушенке гораздо дольше, чем даже я. Дольше, чем два последних коменданта, вместе взятые. У власти в 1950 году находился урод по имени Джордж Данэхи. Он был янки, и все его терпеть не могли, кроме, наверное, тех людей, что назначили его на эту должность. Я слышал, что в этой жизни его интересовали только три вещи. Во-первых, статистика для книги, которая потом вышла в каком-то небольшом издательстве, вероятно, за его счет. Во-вторых, какая команда выиграла бейсбольный чемпионат в сентябре каждого года. И в-третьих, он добивался, чтобы в Мэне была принята смертная казнь. Джордж Данэхи был большим сторонником смертной казни. Он полетел с работы в 1953 году, когда вскрылись его махинации, связанные с автосервисом в тюремном гараже. Он делился доходами с Байроном Хедли и Грегом Стэммосом, но двое последних вышли сухими из воды. Никто не сожалел, когда выгнали прежнего начальника, но назначение на его место Грега Стэммоса было довольно неприятной новостью. Это был коротышка с крепкой нижней челюстью, словно предназначенной для бульдожьей хватки, и холодными карими глазами. Он все время усмехался, болезненно кривя лицо, будто хотел в сортир или у него болела селезенка. Когда Стэммос пришел на пост коменданта, в Шоушенке начали твориться такие зверства, о которых прежде не было слышно. И кажется, хотя я не вполне уверен, что полдюжины могил для странным образом исчезнувших людей, что стояли поперек дороги новому начальнику, были вырыты в лесу, что простирался к востоку от тюрьмы. Конечно, и в прошлом коменданте не было ничего хорошего, но Грег Стэммос был жестоким, убогим, а потому особо отвратительным типом.
Он был добрым приятелем с Байроном Хедли. Как начальник, Джордж Данэхи был не более чем пешкой в руках этих двоих, которые действительно держали всю тюрьму.
Хедли был высокий мужчина с неуклюжей ковыляющей походкой и редкими рыжими волосами. Он легко загорал на солнце, всегда громко говорил, и если вы недостаточно быстро подходили на его отклик, мог ткнуть вас как следует рукоятью своего пистолета. В тот день на крыше он разговаривал с другим охранником по имени Мерт Энтвистл.
Хедли получил неожиданно хорошую новость и усмехался своей желчной злорадной усмешкой. Таков был его стиль. У этого человека ни для кого не находилось доброго слова, и он был уверен, что весь мир против него. Этот мир и все эти ублюдки, его населяющие, испортили ему лучшие годы жизни и были бы счастливы испортить остаток его дней. Я видел несколько тюремных офицеров, которые выглядели вполне умиротворенными и счастливыми, и понимал, как они к этому пришли. Для этого достаточно видеть разницу между их жизнями, возможно, полными страданий, борьбы и нищеты, и состоянием людей, за которыми они присматривают. Так вот, те офицеры, о которых я говорю, смогли увидеть разницу и сделать соответствующий вывод. Остальные не смогли и не захотели.
Для Байрона Хедли не было и речи ни о каком сравнении. Он мог спокойно сидеть под теплым майским солнышком, болтать всякий вздор, тогда как в десяти футах от него работала, обливаясь потом и обдирая ладони о большие ковши с кипящим гудроном, группа заключенных, каждодневный труд которых был настолько тяжел, что теперь они даже ощущали облегчение. Вы можете припомнить старый вопрос, который обычно задают, чтобы проверить, являетесь ли вы оптимистом или пессимистом. Для Байрона Хедли ответ всегда будет одинаков: стакан полупустой. Во веки веков аминь. Если вы предложите ему стаканчик превосходного апельсинового сока, он скажет, что мечтал об уксусе. Если вы похвалите верность его жены, он ответит, что неудивительно: на эту уродину никто и не польстится.
Итак, он сидел, разговаривая с Мертом Энтвистлом достаточно громко, мы слышали каждое слово, и его широкий белый лоб уже начинал краснеть под солнечными лучами. Одной рукой он опирался на парапет, окружающий крышу. Другую положил на рукоять своего револьвера 38-го калибра.
Мы все вместе с Мертом слушали его рассказ. Суть была в том, что старший брат Хедли свалил в Техас лет четырнадцать назад и с тех пор, сукин сын, ни разу не давал о себе знать. Семья решила, что он уже погиб, причем давно. Но неделю назад раздался звонок из Остина, это был адвокат, сообщивший, что брат Хедли умер четыре месяца назад довольно богатым человеком.
(– Меня всегда поражало, – говорил Хедли, этот благороднейший из смертных, – как удача может приваливать к таким ослам, как мой милый братец.)
Деньги пришли к покойному как результат операции с нефтью, и это было что-то порядка миллиона долларов.
Нет, Хедли не стал миллионером. Возможно, это даже его сделало бы счастливым, хотя бы ненадолго. Но брат оставил каждому из членов семьи кругленькую сумму, 35 тысяч долларов, что тоже, казалось бы, очень неплохо.
Но для Байрона Хедли стакан всегда полупустой. И уже полчаса он занимался тем, что жаловался Мерту на проклятое правительство, которое хочет хапнуть хороший кусок его наследства.
– Ну вот, теперь я останусь без новой машины. Да если у меня и хватит на нее, тоже приятного мало, – нудил он. – Нужно платить неслыханную цену за саму машину, потом тебе влетит в копеечку ремонт и техобслуживание, потом эти идиотские дети начинают упрашивать вас покатать их и…
– И самим поводить машину, если они уже достаточно взрослые, – подхватил Мерт. Старина Мерт Энтвистл прекрасно знал, где собака зарыта. И не произнес вслух того, что было очевидно для него, как и для всех нас: «Если тебе так мешают эти деньги, лапонька моя, я уж как-нибудь постараюсь постепенно тебя от них избавить. Для чего и существуют друзья».
– Да-да, водить машину, а еще учиться этому, получать права, о Боже! – содрогнулся Байрон. – И что происходит под конец года? Если в твоих расчетах что-то не то, если ты превысил кредит, они заставят тебя платить из собственного кармана или, что еще хуже, обращаться в одно из этих еврейских агентств по займу. И они везде тебя достанут, будь уверен. Если уж правительство решило проконтролировать твои расходы, будь спокоен, обдерут до ниточки. Кто станет сражаться с Дядей Сэмом? Он высосет из тебя все соки, выбросит на помойку, и все это считается в порядке вещей. Боже мой.
Он замолчал и погрузился в тягостные раздумья о неприятностях, которые выпали ему на долю из-за того, что он имел несчастье получить тридцать пять тысяч наследства. В это время Энди Дюфресн, в пятнадцати футах от него распределявший гудрон по крыше, опустил свою щетку в бадью и пошел прямо к Мерту и Хедли.
Мы все замерли, и я увидел, как один из охранников, Тим Янгблуд, опустил руку на рукоять пистолета. Один из работавших парней дернул своего соседа за рукав, и оба тоже повернулись. В какое-то мгновение я подумал, что Энди решил получить пулю в лоб.
А он сказал Хедли очень мягко:
– Простите, доверяете ли вы своей жене?
Хедли тупо уставился на него. Кровь приливала к его лицу, и я знал, что это плохой знак. Секунды через три он схватится за свой пистолет, и Энди получит сильнейший удар рукоятью в солнечное сплетение. Если не рассчитать силы, удар в это место может убить человека, но охранники этого избегают. Вы просто валяетесь в парализованном виде достаточно долго, чтобы забыть, что вы планировали, прежде чем получили эту передышку.
– Мальчик, – произнес Хедли, – я даю тебе последний шанс поднять свою щетку. Затем ты съедешь с этой крыши на голове.
Энди спокойно смотрел на него, глаза его были холодны как лед. Будто бы он не услышал угрозы охранника. Больше всего я хотел бы сейчас объяснить ему кое-что из здешних правил выживания. Вы никогда не должны показывать, что слышите разговор охранников. Никогда не вмешиваться в их дела. И говорить только тогда, когда вас спрашивают, и только то, что хотят услышать. Черные, белые, желтые и краснокожие – в тюрьме все это несущественно, вот уж где наступает всеобщее равенство! В тюрьме каждый заключенный – негр, и приходится привыкнуть к этой идее, если не хотите нарваться на таких людей, как Хедли и Стэммос, которые убьют вас не задумываясь. И горе вам, если вы не осознаете эту простую истину. Я знаю людей, которые лишились пальцев и глаз, знаю одного человека, который потерял кусок своего пениса и был счастлив, что остальное осталось при нем. Но говорить что-либо Энди было слишком поздно. Даже если он вернется к своему занятию и молча поднимет щетку, вечером в душе его будет подстерегать огромный тип спортивного сложения, которого покупают обычно за несколько пачек сигарет и который выбьет вам все зубы, переломает ребра и оставит валяться на холодном цементном полу. Ну, по крайней мере я хотел бы сказать Энди, чтобы он не усугублял ситуацию.
Но мне пришлось продолжать лить гудрон на крышу, как будто ничего не происходит. Как и все остальные, я должен в первую очередь думать о собственной шкуре. Все же она у меня одна, а желающих свернуть кому-нибудь шею, типа Хедли, вокруг достаточно.
Мерт вскочил. Встал Хедли. Поднялся с места и Тим Янгблуд. Лицо Хедли было красное, как помидор.
Энди сказал:
– Возможно, я неверно это преподношу. Не важно, доверяете вы ей или нет. Вопрос в том, верите ли вы в то, что она не обведет вас вокруг пальца и не бросит с деньгами на руках.
Хедли, казалось, едва не задыхался от злости.
– Вопрос в том, – произнес он, – сколько костей ты переломаешь при падении. Посчитаешь их в лазарете. Подойди сюда, Мерт. Мы выкинем этого ублюдка, если он не понимает с первого раза.
Мы продолжали лить гудрон. Солнце жарило вовсю. Охранники явно собирались осуществить обещанное. Скверное происшествие: Дюфресн, заключенный номер 81433, случайно свалился с крыши во время ремонтных работ. Хорошего мало.
Они подошли к Энди вплотную, Мерт справа, Хедли слева. Энди не сопротивлялся. Он не сводил взгляда с красного перекошенного лица Хедли.
– Если вы уверены в ней, мистер Хедли, – продолжал он все тем же ровным спокойным голосом, – у вас есть великолепный шанс сохранить каждый цент ваших денег. Итог вас обрадует: Дядя Сэм остается ни с чем, тридцать пять тысяч ваши.
Мерт взял Энди за локоть, Хедли продолжал стоять, тупо уставившись в пространство перед собой. На секунду мне показалось, что все кончено и Энди сейчас полетит с крыши головой вниз. Но тут Хедли произнес:
– Обожди немного, Мерт. Что ты имеешь в виду, парень?
– Я хочу сказать, что если вы держите жену под контролем, можете все отдать ей.
– Перестань говорить загадками, парень, по-хорошему говорю.
– IRS[2] позволяет вам сделать единовременный презент своей супруге, – пояснил Энди, – на сумму до шестидесяти тысяч долларов.
Хедли ошарашенно уставился на него.
– Не может быть. Без налога?
– Да, налогом не облагается.
– Откуда ты знаешь эти вещи?
– Он был банкиром, Байрон, – сказал Тим Янгблуд. – Думаю, он может…
– Заткнись, Крокодил, – не поворачиваясь бросил Хедли.
Тим вспыхнул и замолчал; его прозвали Крокодилом приятели-охранники из-за толстых губ и поросячьих глазок.
Хедли продолжал разговор с Энди:
– Ты тот пронырливый банкир, который пристрелил свою жену. Почему я должен верить такому, как ты? Чтобы подметать прогулочный двор рядом с тобой? Этого добиваешься?
Энди отвечал все так же бесстрастно:
– Если вы попадетесь на финансовой махинации, то будете отправлены в федеральный исправительный дом, а не в Шоушенк. Но этого не произойдет. Подарок, не облагающийся налогом, дает вам превосходную возможность сберечь свои деньги, не преступая закон. Я делал дюжины… нет, сотни таких операций. В основном ко мне обращались люди, получившие одноразовую крупную прибыль типа наследства. Как вы.
– Думаю, ты лжешь, – произнес Хедли, но это было не так. И я ясно видел это. Его черты исказились в напряжении, покрасневший лоб собрался в морщины, и на лице явственно читалась эмоция, совершенно несвойственная этому человеку. Надежда.
– Нет, я не лгу. Впрочем, вам нет резона принимать мои слова на веру. Обратитесь к юристу… и все.
– Это официальный грабеж! Эти разбойники, ублюдки, которые сами только и думают о том, чтобы содрать с тебя все до последнего цента! – прорычал Хедли.
Энди пожал плечами:
– Обратитесь в IRS. Там вам скажут то же самое бесплатно. И действительно, вовсе не обязательно слушать меня. Вы можете узнать все об этой операции самостоятельно.
– Заткнись, придурок, я не хочу, чтобы паршивый банкир, прикончивший свою жену, давал мне тут указания.
– Вам нужна помощь юриста или банкира, чтобы оформить составление дарственной, и это будет кое-что стоить. Или… если вы в этом заинтересованы, я сделаю все необходимое почти бесплатно. Возьму за это не много: по три бутылки пива для всех моих сотрудников. – Он обвел нас рукой.
– Сотрудников, – загоготал Мерт и хлопнул себя по коленям. Редкостным ублюдком был старина Мерт. Надеюсь, он умер от рака в какой-нибудь забытой Богом дыре, где неизвестен морфий. – Сотрудники, ха! Остроумно! Ты хочешь…
– Заткнись, урод, – рявкнул Хедли, и Мерт заткнулся.
Хедли посмотрел на Энди:
– Что ты говорил?
– Я говорил, что хочу запросить за свою помощь всего лишь по три бутылки пива для каждого из моих сотрудников, если это вообще можно считать платой. Полагаю, человек будет чувствовать себя человеком, когда он работает весной на открытом воздухе, если ему предложат бутылочку-другую чего-нибудь прохладительного. Это мое мнение. Полагаю, остальные со мной согласятся и будут вам благодарны.
Я разговаривал потом с другими ребятами, которые были в тот день на крыше – Рени Мартин, Логон Пьер, Пауль Бонсайнт и другие, – и все мы увидели… точнее сказать, почувствовали одно и то же. Неожиданно оказалось, что преимущество на стороне Энди. На стороне Хедли был пистолет в кобуре и дубинка в руках, его приятель Грег Стэммос и вся тюремная администрация, а за этим вся мощь государственной машины, но вдруг все это обратилось в ничто, и я почувствовал, что сердце мое забилось в груди так, как никогда с тех пор, как четыре офицера захлопнули за мной ворота в 1938 году и я ступил на тюремный двор.
Энди глядел на своего собеседника холодным, ясным, спокойным взглядом, и мы все понимали, что речь шла не о тридцати пяти тысячах долларов. Я прокручиваю эту ситуацию у себя в мозгу снова и снова и прихожу к одному выводу. Энди просто победил охранников, поборол их своим холодным спокойствием. И действительно, Хедли в любую минуту мог кивнуть своим приятелям, они выбросили бы Энди с крыши, а потом можно было воспользоваться его советом.
И не имелось причин так не поступить. Но этого не произошло.
– Если захочу, всем раздам по парочке бутылок, – медленно ответил Хедли. – После пива лучше работается.
Черт возьми, и он был способен на какие-то благородные жесты.
– Я дам вам один совет, который вряд ли кто-нибудь еще даст, – продолжал Энди, глядя Хедли прямо в глаза. – На эту операцию стоит идти, только если вы уверены в своей жене. Если есть хотя бы один шанс из ста, что она вас надует, мы можем продумать другой вариант…
– Надует меня? – резко спросил Хедли. – Меня?! Ну уж нет, мистер, не бывать этому. Она и пукнуть не смеет без моего позволения.
Мерт и Янгблуд хихикнули. Энди даже не улыбнулся.
– Я сейчас напишу, какие формы необходимы, – сказал он, – и вы возьмете бланки на почте. Я заполню их соответствующим образом, а вы подпишете.
Это звучало конкретно и по-деловому. Хедли принял важный вид и расправил плечи. Затем оглянулся на нас и крикнул:
– А вы что стали, паразиты? Пошевеливайтесь, черт вас подери!
Он оглянулся на Энди:
– А ты учти, банкир. Если решил меня надуть, ничего хорошего из этого не выйдет. Ты понимаешь, надеюсь, что в этом случае тебе оторвут голову и засунут ее в твою же задницу.
– Понимаю, – мягко сказал Энди.
Вот как случилось, что в конце второго дня работы бригада заключенных, перекрывающих крышу фабрики в 1950 году, в полном составе сидела под весенним солнышком с бутылками «Блэк лейбл». И это угощение было предоставлено самым суровым охранником, когда-либо бывшим в Шоушенке. И хотя пиво было теплым, такого чудного вкуса в моей жизни я еще не ощущал. Мы не спеша отхлебывали по глоточку, ощущали солнечные лучи на своей коже, и даже полупрезрительное, полуизумленное выражение лица Хедли, будто он наблюдал пьющих пиво обезьян, никому не могло испортить настроение. Это продолжалось двадцать минут, и двадцать минут мы чувствовали себя свободными людьми. Словно ремонтируешь крышу собственного дома и спокойно попиваешь пивко, делая перерыв, когда захочется.
Не пил только Энди. Я уже рассказывал о его привычках, касающихся алкоголя. Он привалился в тени, руки между коленями, поглядывая на нас с легкой улыбкой. Просто удивительно, как много людей запомнило его таким, и удивительно, как много народу было на крыше в тот день, когда Энди Дюфресн одолел Байрона Хедли. Я-то думал, что нас было человек девять-десять, но к 1955 году уже оказалось не меньше двух сотен или даже больше…
Итак, вы хотите получить прямой ответ на вопрос, рассказываю ли я вам о реальном человеке, или же передаю мифы, которыми обросла его личность, как крошечная песчинка постепенно вырастает в жемчужину. Но я не смогу ответить определенно. И то и другое, пожалуй. Все, в чем я уверен, – Энди Дюфресн был не такой, как я или кто-нибудь еще из обитателей Шоушенка. Он принес сюда пять сотен долларов, но этот сукин сын ухитрился пронести сквозь тюремные ворота нечто гораздо большее. Возможно, чувство собственного достоинства или уверенность в своей победе… или, возможно, просто ощущение свободы, которое не покидало его даже среди этих забытых Богом серых стен. Казалось, от него исходит какое-то легкое сияние. И я помню, что лишь раз он лишился этого света, и это тоже будет часть моего рассказа.
С 1950 года, как я уже сказал, Энди перестал бороться с сестрами. За него все сделали Стэммос и Хедли. Если бы Энди Дюфресн подошел к кому-нибудь из них или к любому другому охраннику, который был проинструктирован Стэммосом, и сказал лишь слово – все сестры в Шоушенке отправились бы спать этой ночью с сильнейшей головной болью. И сестры смирились. К тому же, как я уже отмечал, вокруг всегда находятся восемнадцатилетние угонщики автомобилей, какие-нибудь мелкие воришки и поджигатели, достаточно смазливые на вид и неспособные за себя постоять. А Энди с того самого дня на крыше пошел своим путем.
Теперь он стал работать в библиотеке под начальством крепенького старичка, которого звали Брукс Хетлен. Хетлен занял эту должность в конце двадцатых по той причине, что имел высшее образование. Если честно, его специализация была как-то связана с животноводством, но высшее образование в такой конторе, как Шенк, – большая редкость, а на безрыбье, как известно, и рак – рыба.
В 1952 году Брукс, который прикончил своих жену и дочь, проигравшись в покер, еще когда Кулидж был президентом, был освобожден. Как обычно, государство в своем милосердии позволило ему выйти на свободу только тогда, когда любой шанс влиться в общество остался для него далеко позади. Хетлену было шестьдесят восемь. Он страдал артритом. И когда выходил из главных ворот тюрьмы с бумагами, свидетельствующими о его освобождении, в одном кармане старенького пиджака и автобусным билетом до Грейхаунда – в другом, он плакал. Он шел в мир, который был ему так же чужд, как земли, лежащие за неизведанными морями, для путешественников пятнадцатого века. Для Брукса Шоушенк был всем, был его миром. Здесь он имел какой-то вес, был библиотекарем, важной персоной, образованным человеком. Если же он придет в библиотеку Киттери, ему не доверят даже картотеки. Я слышал, бедняга умер в приюте для престарелых в 1953 году. Он продержался на полгода больше, чем я предполагал. Да, государство сыграло злую шутку с этим человеком. Сперва заставило его привыкнуть к неволе, потом выкинуло за тюремные стены, не предоставив ничего взамен.
Энди был библиотекарем после ухода Кетлена в течение двадцати трех лет. Он проявил все ту же настойчивость и силу, что я неоднократно наблюдал у него, чтобы добиться для своей библиотеки всего необходимого. И я своими глазами видел, как тесная комнатушка, пропахшая скипидаром, поскольку раньше здесь находилась малярная подсобка с двумя убогими шкафчиками, заваленными «Ридерз Дайджест» и географическими атласами, превратилась в лучшую тюремную библиотеку Новой Англии. Он делал это постепенно. Повесил на дверь ящик для предложений и терпеливо переносил такого рода записки, как «пожалуйста, больше книжек про трах» или «искусство побега в двадцати пяти лекциях». Энди узнавал, какими предметами интересуются заключенные, а потом посылал запросы в клубы Нью-Йорка и добился того, чтобы два из них, «Литературный союз» и «Книга месяца», высылали ему издания из своих главных выборок по предельно низким ценам. Он обнаруживал информационный голод у заключенных, и даже если дело касалось таких узкоспециальных вещей, как резьба по дереву, жонглерство или искусство пасьянса, всегда умел найти нужную литературу. Конечно, не забывал Энди и о популярных изданиях – Эрл Стенли Гарднер и Луи Амур. Он выставил шкафчик с книгами в мягких обложках под контрольной доской, тщательно проверял, возвращаются ли книги и в каком состоянии, но они все равно быстро затрепывались до дыр, с этим ничего нельзя было поделать.
В августе 1954 года он стал подавать запросы в сенат. Комендантом тюрьмы тогда уже был Стэммос. Этот человек уверился в том, что Энди – нечто вроде талисмана, и проводил много времени в библиотеке, болтая с ним о том о сем. Они с Энди были на короткой ноге, Грег часто усмехался и даже похлопывал его по плечу.
Как-то он начал объяснять Энди, что если тот и был банкиром, то эта часть его жизни осталась в прошлом и пора бы приспособиться к изменившейся ситуации и привыкнуть к фактам тюремной жизни. В наше сложное время для денег налогоплательщиков, идущих на содержание тюрем и колоний, есть только три позволительные статьи расходов. Первая – больше стен, вторая – больше решеток и третья – больше охраны. По мнению сената, продолжал Стэммос, люди в Шоушенке, и Томастене, и в Питсфилде – отбросы общества. Раз уж они попали в такое место, то должны влачить жалкое существование. И ей-богу, для заключенных действительно ничего хорошего не светит. И от твоего желания зависит слишком мало, чтобы ты мог что-то изменить.
Энди улыбнулся едва заметно и спросил Стэммоса, что случится с гранитным блоком, если капли воды будут падать на него день за днем в течение миллиона лет. Стэммос рассмеялся и хлопнул Энди по спине:
– У тебя нет миллиона лет, старина, но если бы был… я уверен, ты сделал бы все, что захочешь, вот с этой усмешечкой. Продолжай писать свои письма. Я могу даже опускать их для тебя, если ты заплатишь за марки.
И Энди продолжал. Хотя Стэммос и Хедли уже не могли увидеть итогов его трудов. Запросы для библиотечных фондов регулярно возвращались ни с чем до 1960 года, затем Энди получил чек на две сотни долларов. Сенат пошел на это в явной надежде, что надоевший проситель наконец заткнется. Но не тут-то было! Энди только усилил нажим: два письма в неделю вместо одного. В 1962 году он получил четыре сотни долларов, и до конца шестидесятых на счет библиотеки каждый год, с точностью часового механизма, высылались семьсот долларов. В 1971 году сумма была увеличена до тысячи. Не так уж много, если сравнивать с субсидией, получаемой средней библиотекой в небольшом городке, но на тысячу долларов можно купить достаточно произведений Перри Мейсона и вестернов Джека Логана. К этому времени вы могли зайти в библиотеку, разросшуюся до трех просторных комнат, и найти почти все, что желаете. А если чего-то не находили, то Энди сумел бы помочь, будьте уверены.
Вы спрашиваете, произошло ли все это потому, что Энди научил Байрона Хедли, как спасти свое наследство от налогов. Да, но не только. Судите сами, что произошло дальше.
Можно сказать, в Шенке появился добрый финансовый волшебник. Летом 1950 года Энди помог оформить займы двум охранникам, которые хотели обеспечить высшее образование своим детям. Он посоветовал парочке других, как лучше всего провернуть маленькие авантюры с акциями, и настолько успешно, что один из этих парней пошел в гору и смог взять отставку через два года. И я уверен, что сам Джордж Данэхи консультировался у Энди по финансовым вопросам. Это было перед тем, как старикана выгнали с работы, и он еще спокойно спал и грезил о миллионах, которые принесет его книга по статистике. С апреля 1951 года Энди делал все финансовые расчеты для доброй половины администрации Шоушенка. А с 1952-го, пожалуй, для всех. Ему платили тем, что в тюрьме ценится подчас дороже золота, – покровительством и хорошим отношением.
Позже, когда комендантом стал Грег Стэммос, Энди приобрел еще больший вес. Если я постараюсь объяснить вам специфику ситуации, которая к этому привела, то окажусь в затруднительном положении. О некоторых вещах можно только догадываться. Зато другие я знаю наверняка. Известно, например, что некоторые заключенные обладают особыми привилегиями: радио в камере, более частые визиты родственников, прочие такого рода приятные мелочи, и у каждого из них за тюремными стенами есть «ангел». Так называем мы покровителей, которые оплачивают безбедное существование близкого для них человека в тюрьме. И если кто-то освобождается от субботних работ, будьте уверены, что здесь не обошлось без «ангела». Все происходит привычным, проверенным путем. Деньги за услугу передаются кому-нибудь из среднего звена администрации, а тот уже распределяет прибыль вверх и вниз по служебной лестнице.
Кроме того, при коменданте Данэхи расцвели махинации в сфере автосервиса. Некоторое время эти делишки тщательно скрывались, но затем приобрели невиданный размах в пятидесятых. Конечно, все, кто наживался на этом деле, платили дань верхушке администрации. И я уверен, что это касается и компаний, оборудование которых закупалось и устанавливалось в прачечной и на фабрике.
В конце шестидесятых началось повальное увлечение «колесами»; все те же административные лица были вовлечены в оборот наркотиков и делали на этом хорошие деньги. Конечно, речь идет не о той груде нелегальных миллионов, что в больших тюрьмах типа Аттики или Сан-Кветина. Но и не мелочевка. И заработанные таким путем деньги сами по себе становились проблемой. Лучше не стоило класть их в бумажник, а затем, когда вам захочется приобрести новый «мерседес» или построить бассейн во дворе коттеджа, вытаскивать мятые купюры, полученные столь грязным образом. Однажды вам придется в соответствующем месте объяснять, каков источник вашего дохода, и если ваше объяснение не найдут достаточно убедительным, придется пополнить число тех, кого вы прежде контролировали, и прогуливаться по тюремному двору с номером на спине.
Вот для чего был нужен Энди. Они вытащили его из прачечной и посадили в библиотеку, но если взглянуть на дело с другой стороны, работа осталась той же самой. Просто теперь ему приходилось отмывать грязные деньги, а не грязные рубашки.
Однажды он сказал мне, что прекрасно понимает происходящее, но нисколько не волнуется насчет своей деятельности. Те махинации, в которые он был вовлечен, все равно продолжались бы – с его участием или без него, какая разница… Никто не спрашивал его согласия попасть в Шоушенк, он всего лишь невинный человек в этой чертовой тюрьме, человек, которому крупно не повезло, а вовсе не миссионер и не апостол.
– Кроме того, Рэд, – продолжал Энди со своей характерной полуусмешкой. – То, что я делаю здесь, не слишком отличается от того, чем я занимался на свободе. Люди, которые прибегают к моей помощи в Шоушенке, в большинстве своем – тупые, жестокие чудовища. Люди, которые правят миром, лежащим за этими стенами, тоже жестоки и тоже чудовища, разве что они не настолько тупы: планка компетентности стоит чуть повыше. Не слишком, но слегка.
– Но «колеса», – возразил я, – заставляют меня беспокоиться. Не хочу совать нос не в свои дела, но мне это все неприятно. Все эти транквилизаторы, корректоры, прочие хреновины – заниматься ими мне очень не хочется.
– Но ведь и я не большой сторонник «колес». Ты же знаешь. Впрочем, я не слишком увлекаюсь и спиртным… И ведь учти, не я проношу их в тюрьму, не я продаю. Скорее всего этим занимаются охранники.
– Но…
– Знаю, что ты хочешь сказать. Есть люди, Рэд, которые отказываются участвовать во всем этом. Они не хотят марать руки. Это называют святостью, и белый голубь садится на плечо твое и гадит тебе на рубашку. Есть другая крайность: славные малые, которые готовы валяться в грязи и вымазываться в дерьме ради всего, что принесет им доллар, – оружие, наркотики, да все, что угодно. Тебе ведь предлагали такого рода контракты?
Я кивнул. Такое случалось неоднократно на протяжении многих лет. Люди видят, что вы тот человек, который может достать все, и, заключают они, если вы приносите им батарейки для радио или сигарету с «травкой», то так же легко сумеете предоставить им парня, который способен по их заказу сунуть кому-нибудь перо под ребра.
– Да, от тебя этого ожидают, Рэд. Но ты ведь этого не сделаешь. Потому что знаешь, что есть третий путь, его и выбирают такие люди, как мы. Да и все разумные люди в этом обществе. Ты балансируешь по самому краю, выбираешь меньшее из двух зол и следишь за тем, чтобы волки были сыты и овцы целы. И можно сделать вывод, насколько хорошо у тебя это получается, изучив, насколько хорошо ты спишь и не видишь ли кошмаров. Можно действовать среди всей этой грязи, имея перед собой добрые намерения.
– Благие намерения? – засмеялся я. – Слыхали мы о таком. Говорят, ими дорога в ад вымощена.
– Не верь в это, – отвечал Энди, чуть помрачнев. – Мы уже в аду. Он прямо здесь, в Шенке. Они торгуют наркотиками, и я говорю им, как отмыть деньги, на этом нажитые. Но я также держу библиотеку и знаю добрые две дюжины ребят, которые после подготовки, с помощью моей литературы, смогут продолжить образование. Возможно, когда они выйдут отсюда, то не пропадут в этом жестоком мире. Когда в 1957 году я просил вторую комнату для библиотеки, то получил ее. Потому что администрации выгодно видеть меня счастливым. Я беру недорого. И доволен.
Население тюрьмы медленно увеличивалось на протяжении пятидесятых, затем в шестидесятых возросло довольно резко. В это время каждый школьник в Америке только и мечтал о том, чтобы попробовать наркотики, нисколько не пугаясь смехотворных наказаний за их употребление. Да, тюрьма была переполнена, но даже в это время у Энди не было сокамерников. Правда, ненадолго к нему подселили огромного молчаливого индейца по имени Нормаден, которого звали, как всех индейцев в Шенке, Вождь. Большинство долгосрочников считали Энди чокнутым, а он только улыбался. Он жил один и наслаждался покоем… Как уже отмечалось, администрации было выгодно видеть его счастливым.
В тюрьме время тянется медленно, иногда кажется, что оно и вовсе останавливается. Но на самом деле оно течет, течет… Джордж Данэхи покидал сцену под шум газетчиков, выкрикивающих: СКАНДАЛ, КОРРУПЦИЯ, ЧРЕЗВЫЧАЙНОЕ ПРОИСШЕСТВИЕ. На пост пришел Стэммос, и на протяжении последующих шести лет Шенк напоминал ад. Кровати в лазарете и одиночки в карцере никогда не пустовали.
Однажды в 1957 году я взглянул в маленькое зеркальце от бритвенного набора, которое хранил у себя в камере, и увидел сорокалетнего мужчину. В 1938-м сюда пришел ребенок, мальчишка с огромной копной рыжих волос. Сходящий с ума от угрызений совести, помышляющий о самоубийстве. Мальчишка повзрослел. Рыжая шевелюра поседела и стала редеть понемногу. Вокруг глаз появились морщинки. Сегодня я видел пожилого человека, ожидающего, когда его выпустят на свободу. Если выпустят. Это ужаснуло меня: никто не хочет стареть в неволе.
Стэммос ушел в 1959-м. Еще до этого времени вокруг так и роились вынюхивающие сенсацию журналисты, один из них даже ухитрился провести четыре месяца в Шенке в качестве заключенного. Итак, они уже открыли рты, чтобы кричать: СКАНДАЛ, ПОПАВШИЙСЯ ВЗЯТОЧНИК, но прежде, чем над его головой окончательно сгустились тучи, Стэммос свалил. Я его прекрасно понимаю. Если бы он был действительно пойман и уличен во всех своих грязных делишках, то здесь бы и остался. А кому этого хочется? Байрон Хедли ушел двумя годами раньше. У этого ублюдка был сердечный приступ, и он взял отставку, к превеликой радости всего Шенка.
Энди в связи с аферами Стэммоса не тронули. В начале 1959-го в тюрьме появились новый комендант, новый помощник коменданта и новый начальник охраны. Около восьми последующих месяцев Энди ничем не отличался от прочих заключенных. Именно в этот период к нему подселили Нормадена. Потом все вернулось на круги своя. Нормаден съехал, и Энди опять наслаждался покоем одиночества. Имена на верхушке администрации меняются, но делишки прокручиваются все те же.
Я говорил однажды с Нормаденом об Энди.
– Славный парень, – сказал индеец. Разговаривать с ним было очень сложно: у бедняги была заячья губа и треснутое нёбо, слова вырывались наружу с шумом, плевками и шипением, так что трудно было что-либо разобрать. – Мне он понравился. Никогда не подшучивает. Но он не хотел, чтобы я жил там. Это можно понять. Ужасные сквозняки в камере. Все время холодно. Он никому не позволяет трогать свои вещи. Я ушел. Славный парень, не издевается, не подшучивает. Но сквозняки ужасные.
Рита Хейуорт висела в камере Энди до 1955-го, если я правильно помню. Затем ее сменила Мэрилин Монро. Тот самый плакат, где она стоит около решетки сабвея, и теплый воздух развевает ее юбку. Монро продержалась до 1960-го, и когда она была уже почти совсем затерта, Энди заменил ее на Джейн Мэнсфилд. Джейн была, простите за выражение, соска. Через год или около того ее сменили на английскую актрису, кажется, Хейзл Курт, но я не уверен. В 1966-м, убрав и ее, Энди водрузил на стену Ракел Уэлч. Этот плакат висел шесть лет. Последний плакат, который я помню, – хорошенькая исполнительница песен в стиле кантри-рок Линда Ронстадт.
Однажды я спросил Энди, что для него значат эти плакаты, и он как-то странно покосился на меня.
– Они для меня то же, что и для большинства других заключенных, полагаю, – ответил он. – Свобода. Понимаешь, смотришь ты на этих хорошеньких женщин и чувствуешь, что можешь сейчас шагнуть на эту картинку. И оказаться там. На воле. Думаю, более всего мне нравилась Ракел Уэлч потому, что она стояла на великолепном побережье. Вид просто изумительный, помнишь? Где-то в окрестностях Мехико, милое тихое местечко, где можно побыть наедине с природой. Разве ты никогда не чувствовал всего этого, когда глядел на картинки, Рэд? Не чувствовал, что ты можешь шагнуть туда?
Я признался, что никогда над этим не задумывался.
– Однажды ты узнаешь, что я имею в виду, – задумчиво ответил Энди, и он был прав. Спустя годы я понял, что он имел в виду, и первое, о чем я тогда вспомнил, был Нормаден и как он жаловался на сквозняки в камере Энди.
Скверное происшествие случилось с Энди в конце марта или начале апреля 1963 года. Я уже говорил, что было в этом человеке что-то, что отличало его от большинства заключенных, включая меня. Можно назвать это свойство уравновешенностью, или внутренней гармонией, или верой в то, что однажды этот долгий кошмар непременно закончится. Как бы вы это ни называли, Энди Дюфресн резко отличался от всех нас. В нем не было того мрачного отчаяния, которое угнетает большинство остальных, и он никогда не терял надежды. Никогда – пока не наступила та зима 1963 года.
К тому времени у нас был новый комендант, Сэмюэл Нортон. Насколько я знаю, никто никогда не видел этого человека улыбающимся. Он носил почетный значок тридцатилетнего членства в баптистской церкви Элиота. Его главным нововведением как главы тюремной администрации было стремление убедиться, что каждый заключенный имеет Новый завет. На его столе находилась небольшая табличка из тикового дерева, где золотыми буквами было выдавлено: ХРИСТОС – МОЙ СПАСИТЕЛЬ. На стене висел вышитый руками миссис Нортон лозунг: ГРЯДЕТ ПРИШЕСТВИЕ ЕГО. При виде этой сентенции у большинства из нас пробегал мороз по коже. Мы чувствовали себя так, будто пришествие уже началось, и не будет нам спасения, и возопим мы к небесам, и станем искать смерти, но не найдем ее. У мистера Нортона на каждый случай имелась цитата из Библии, и если вы когда-нибудь встретите человека, похожего на него, мой вам совет: обходите его десятой дорогой.
Насколько я знаю, захоронения в лесу, случавшиеся при Греге Стэммосе, прекратились. И вряд ли кому-нибудь ломали кости и выбивали глаза. Но это не значит, что Нортон трогательно заботился о благополучии вверенных ему людей. Карцер был все так же популярен, и люди теряли зубы не под ударами охранников, а от частого пребывания в одиночке на хлебе и воде. Это стали называть «диетой Нортона».
Этот человек был самым грязным ханжой, которого я когда-либо видел в правящей верхушке. Мошенничество, о котором я рассказывал раньше, продолжало процветать, и Сэм Нортон даже прибавил кое-что от себя. Энди был в курсе всех его дел, и поскольку к тому времени мы стали верными друзьями, о многом мне рассказывал. При этом на его лице появлялось чуть брезгливое выражение, как будто он описывал мне какое-то уродливое, отвратительное насекомое, все действия которого из-за его омерзительности скорее смешны, чем ужасны. Это именно Нортон придумал знаменитую программу «Путь к искуплению», о которой вы могли читать или слышать лет шестнадцать назад. Фото нашего коменданта было помещено даже в «Ньюсуик». В прессе программа освещалась как образец истинной заботы о реабилитации заключенных и практическом применении их труда. Она включала в себя использование заключенных в разных видах деятельности: обработка древесины, строительство дорог, овощехранилищ и прочего. Нортон назвал эту хреновину в своем характерном патетическом стиле «Путь к искуплению», и клубы «Ротейри» и «Кайванис» в Новой Англии приглашали его для выступлений, особенно после того, как фото Нортона появилось в «Ньюсуик». Мы называли этот проект «Большая дорога», но что-то я не слышал, чтобы кого-нибудь из заключенных приглашали высказать свое мнение в клубе или газете. Нортон был тут и там, успевал поприсутствовать на строительстве автомагистралей и рытье канав со своими возвышенными речами и почетным значком баптиста. Есть сотни путей осуществлять все эти проекты – кадры, материалы, подбор всего необходимого… однако Нортон оказался хитрее. И все строительные организации округа смертельно боялись его программы, потому что труд заключенных – рабский труд, и вы не станете этого отрицать. Итак, Сэм Нортон каждый день за время своего шестнадцатилетнего правления получал изрядное количество заказов, просто заваливающих его стол с золотой табличкой «Христос – мой спаситель». А потом он был волен ответить заказчику, что все его работники проходят «путь к искуплению» где-то в другом месте. Для меня всегда оставалось чудом, почему Нортона не нашли в один прекрасный день в канаве с дюжиной пуль в голове.
Как бы там ни было, а права старая песенка, в которой говорится: «Боже, как крутятся деньги». Мистер Нортон, похоже, разделял точку зрения старых пуритан, что лучший способ проверить, является ли человек избранником Божьим, – взглянуть на его банковский счет.
Энди Дюфресн был правой рукой коменданта, его молчаливым помощником. Библиотека много значила для Энди, Нортон знал это и умело использовал. Энди говорил, что один из любимых афоризмов Нортона: Рука руку моет. Итак, Энди давал ценные советы и вносил деловые предложения. Я не могу с уверенностью заявлять, что он продумал программу «Путь к искуплению», но уверен, что он сводил все счета, связанные с этой грязной махинацией, и – сукин сын! – библиотека получила новый выпуск пособий по авторемонту, новое издание Энциклопедии Гройлера… и, конечно, нового Гарднера и Луи Амура.
И я убежден, что то, что произошло, должно было произойти, поскольку Нортон не хотел лишаться своей правой руки. Скажем больше: он боялся, что Энди слишком многое может рассказать о его делишках, если покинет Шенк.
Я узнавал эту историю на протяжении семи лет, немного здесь, немного там, кое-что от самого Энди, но далеко не все. Он не любил говорить об этом периоде своей жизни, и я его за это не виню. Я собирал эту историю по частям из дюжины разных источников. Заключенные, как я уже отмечал, не более чем рабы. Возможно, поэтому им присуща рабская манера любопытствовать и пронюхивать. Теперь я излагаю вам все последовательно, с начала до конца. И возможно, вы поймете, отчего человек провел около десяти месяцев в жуткой депрессии. Думаю, он не знал всей правды до 1963 года, пятнадцать лет спустя с тех пор, как он попал в эту забытую Богом дыру. По-моему, он не знал, как скверно это может оказаться.
Томми Вильямс поступил в Шоушенк в ноябре 1962 года. Томми считал себя уроженцем Массачусетса, но за свою двадцатисемилетнюю жизнь вдоволь попутешествовал по всей Новой Англии. Он был профессиональным вором. Томми был женат, и жена навещала его каждую неделю. Она вбила себе в голову, что Томми будет лучше – а уж ей и трехлетнему сынишке и подавно, – если он получит аттестат. Она уговорила мужа, и Томми Вильямс начал регулярно посещать библиотеку.
Для Энди все это было рутинным занятием. Он видел, как Томми набирал изрядное количество тестов высшей школы. Парень хотел освежить в памяти предметы, которые когда-то изучал – таковых было не много, – а затем пройти тесты. Он также получил по почте большое количество курсов по предметам, которые провалил или просто оставил без внимания в школе.
Томми явно не был хорошим учеником, и не знаю, получил ли он свидетельство об окончании высшей школы, да это и не важно для моего рассказа. Важно, что он очень привязался к Энди, как большинство людей, которые какое-то время с ним общались.
Пару раз он спрашивал Энди: «Что такой продувной парень, как ты, забыл в тюряге?» – вопрос, который звучит как грубый эквивалент светской любезности: «Что такая милая девушка, как вы, делает в таком месте, как это?» Но Энди ничего не отвечал, только улыбался и переводил разговор на другую тему. Естественно, Томми стал расспрашивать окружающих и, когда получил ответ, был шокирован до глубины души.
Человек, который рассказал ему, почему Энди попал в тюрьму, был его партнером на гладильной машине в прачечной. Мы называли эту машину давилкой, и можете себе представить, что случилось бы с человеком, работающим на ней, если бы он ослабил свою бдительность. Партнером Томми был Чарли Лафроб, отбывавший свои двенадцать лет за убийство. Он с наслаждением принялся пересказывать все подробности истории Дюфресна; излюбленным развлечением для нас, старых обитателей тюрьмы, было введение новичков в курс всех наших дел. Чарли дошел уже до того места, как присяжные, придя с обеда, объявили Энди виновным, как вдруг послышался неожиданный свист, и давилка остановилась. В тот день машина обрабатывала свежевыстиранные сорочки для приюта Элиот. Они выскакивали из машины сухими и выглаженными со скоростью штука в секунду. Томми и Чарли должны были подхватывать их и складывать в тележку, выстланную чистой бумагой.
Но Томми Вильямс продолжал стоять, открыв рот и тупо уставившись на Чарли. Он был завален грудой рубашек, которые падали на липкий грязный пол прачечной.
В тот день за прачечной присматривал Хомер Джесуб, и он уже спешил к машине, громко ругаясь на ходу. Томми даже не повернулся к нему. Он спросил Чарли, будто старина Хомер, который проломил за свою жизнь больше черепов, чем мог сосчитать, и вовсе отсутствовал.
– Как, ты сказал, звали того инструктора из гольф-клуба?
– Квентин, – произнес смущенный и почти напуганный Чарли. Он рассказывал потом, что мальчишка был бледен как полотно. – Кажется, Глен Квентин. Или что-то вроде этого, точно не помню…
– Эй, немедленно! – прорычал Хомер. Шея его налилась кровью. – Бросьте рубашки в холодную воду! Пошевеливайся, урод! Быстро, а то…
– Глен Квентин, о Боже, – произнес Томми Вильямс, это были его последние слова, потому что Хомер Джесуб, этот образец гуманности, уже опустил свою дубинку на череп бедного парня. Томми упал на пол лицом вниз, лишившись при этом трех передних зубов. Очнулся он уже в одиночке, где и провел всю следующую неделю на «диете Нортона». Плюс черная отметка в его карточке.
Было это в феврале 1963 года, и Томми Вильямс обошел шесть или семь долгосрочников и услышал в точности ту же историю, что и от Чарли. Я знаю, потому что был одним из них. Но когда я спросил Томми, зачем ему это, вразумительного ответа не получил.
И вот в один прекрасный день Томми пришел в библиотеку и вывалил Энди всю информацию разом. В первый и последний раз, по крайней мере с тех пор, как он в смущении говорил со мной о Рите Хейуорт, Энди потерял присущее ему самообладание… Только на этот раз в куда большей степени.
Я видел его на следующий день, он выглядел как человек, который наступил на грабли и получил хороший удар промеж глаз. Руки Энди дрожали, и когда я заговорил с ним, он не отвечал. После полудня он нашел Билли Хенлона, дежурного охранника, и договорился с ним об аудиенции у коменданта на следующий день. Позже Энди рассказывал, что в ту ночь не спал ни минуты. Он прислушивался к завываниям холодного зимнего ветра, смотрел на длинные колеблющиеся тени на цементном полу камеры, которую называл домом с тех пор, как Трумэн стал президентом, и пытался все спокойно обдумать. Он говорил, что Томми принес ключ, который подходил к клетке, находящейся где-то в глубине его сознания. К такой же клетке, как его собственная камера, только вместо человека в ней был тигр. Тигр по имени надежда. Вильямс принес ключ, который открыл дверцу, и тигр вырвался на волю разгуливать по его сознанию.
Четырьмя годами раньше Томми Вильямс был арестован в районе Род-Айленд, когда вел краденую машину, набитую краденым товаром. Томми признался в своем преступлении, и ему смягчили приговор: два с небольшим года лишения свободы. Прошло одиннадцать месяцев, и сокамерник Томми вышел на свободу, а его место занял некий Элвуд Блейч. Блейч отбывал наказание за кражу со взломом.
– Я никогда раньше не встречал настолько нервозного типа, – говорил мне Томми, – такой человек не должен быть взломщиком, особенно вооруженным. Малейший шум, и он подскочит на три фута в воздух и начнет палить не глядя во все стороны… Однажды ночью он совершенно меня достал, потому что какой-то малый в нашем коридоре постукивал чашкой по прутьям своей решетки. Блейча это бесило.
Я провел с ним семь месяцев, прежде чем меня выпустили. Не могу сказать, что мы беседовали с моим соседом. Вы не можете разговаривать с Элом Блейчем. Это он разговаривает с вами. Треплется все время, и заткнуть его невозможно. А если вы попытаетесь вставить хоть слово, он грозит своим волосатым кулаком, вращает глазами. У меня мороз пробегал по коже, когда он так делал. Огромный тип, довольно высокий, почти совершенно лысый, с глубоко посаженными злобными зелеными глазками. Господи Иисусе, только бы никогда не увидеть его опять.
Каждую ночь начинался словесный понос. Я был вынужден все это выслушивать. Где он вырос, как сбегал из приютов, чем зарабатывал на жизнь, какие делишки проворачивал и каких женщин трахал. Мне ничего не оставалось, как выслушивать весь этот треп. Возможно, моя физиономия и не покажется вам слишком красивой, но она мне дорога, и я очень не хотел, чтобы этот тип видоизменил ее в припадке ярости.
Если ему верить, то он совершил не меньше двухсот краж со взломом. Мне сложно представить, что это мог проделать такой психопат, который взвивается как укушенный, стоит кому-то рядом пукнуть громче обычного. Но он клялся, что говорит правду. А теперь… слушай меня внимательно, Рэд. Я знаю, что люди иногда выдают желаемое за действительное и что никогда не стоит доверять своей памяти… Но прежде чем мне довелось услышать впервые про парня по имени Квентин, я, помнится, думал: «Если бы старина Эл когда-нибудь ограбил мой дом, то, узнав об этом, я чувствовал бы себя счастливейшим из смертных, что остался жив». Можешь себе представить, как этот тип в спальне какой-нибудь дамы роется в ее шкатулке с драгоценностями, а она переворачивается во сне на другой бок или кашляет? У меня мурашки по коже пробегают, стоит только подумать об этом, клянусь именем моей мамочки.
И он говорил, что убивал людей, когда они его дергали. Так и говорил, и я ему верил. Эл был похож на человека, который способен убивать. Боже, какой же он был нервный! В точности как пистолет со взведенным курком. Знавал я одного парнишку, у которого был «смит-вессон» со взведенным курком, и ничего хорошего в этом не видел. К тому же спусковой крючок на этом пистолете нажимался так легко, что мог прийти в движение просто от громкого звука. Вот такую штуковину напоминал мне Эл Блейч, и не сомневаюсь, что он прирезал кого-нибудь из-за своих чертовых нервов.
Однажды ночью я спросил его, просто чтоб хоть что-нибудь сказать: «Ну и кого же ты убил?» Он рассмеялся и ответил: «Один тип сейчас на зоне в Мэне. Мотает срок за двух людей, которых прикончил я. Его жена с одним козлом была в домике, куда я пробрался, так все и случилось».
Насколько мне помнится, он не называл имя женщины. А может, я просто пропустил мимо ушей. Да и какая разница? В Новой Англии Дюфресны встречаются так же часто, как Смиты и Джонсы на остальной территории страны. Главное, что Эл назвал убитого им парня, он сказал, парня звали Глен Квентин, и он был богатенький хер, тренер гольф-клуба. Эл говорил, что парень, по его предположению, держал дома тысяч пять долларов. А это по тем временам были деньги. И я спросил: «Когда это произошло?» Блейч сказал, что сразу после войны.
Он продолжал рассказывать эту байку: он вошел в домик, все там перерыл, а парочка проснулась, и тут начались неприятности. «Меня это достало», – сказал Эл. «Возможно, парень начал храпеть, и тебя достало это? Так?» – спросил я. А Эл, продолжая свой рассказ, упомянул юриста, чья жена лежала в постели с Квентином. «Теперь этот юрист мотает срок в Шоушенке», – закончил Эл и загоготал. Боже, как я счастлив, что больше не увижу этого гнусного типа.
Полагаю, теперь вы можете понять, почему Энди скверно чувствовал себя после того, как Томми рассказал эту историю, почему волновался и хотел срочно видеть коменданта. Элвуд Блейч был осужден на шестилетний срок, когда Томми сидел с ним в камере. И теперь, в 1963-м, он мог быть уже на свободе… Или же собирался выйти на свободу. Вот что волновало Энди: с одной стороны, весьма вероятно, что Блейч все еще в камере, а с другой стороны, не менее вероятно, что он уже освобожден. И ищи теперь ветра в поле.
Конечно, в рассказе Томми встречались неувязки, но разве их нет в реальной жизни? Блейч упоминал о юристе, а Энди был банкиром, но необразованный человек легко может перепутать эти две профессии. Не забывайте, что прошло двенадцать лет с тех пор, как Блейч читал заголовки газет, кричащих о деле Энди. Могут показаться странными его слова, что он полез за деньгами и действительно нашел тысячу долларов, а полиция не обнаружила никаких следов грабежа. На этот счет могу выдвинуть несколько предположений. Во-первых, если хозяин имущества мертв, вы ни за что не выясните, что у него пропало, если кто-нибудь другой вам об этом не скажет. Во-вторых, кто сказал, что Блейч не солгал насчет этих денег? Возможно, он просто не хотел признаваться в том, что ни за что убил людей. В-третьих, следы взлома и грабежа могли наличествовать, а полиция их проглядела: копы бывают на редкость дубоголовыми. Или даже, обнаружив эти следы, о них могли не упоминать, чтобы не разрушать версию прокурора. Прокурор, как уже упоминалось, шел на повышение, а привлечь внимание центральных органов к такому заурядному процессу, как кража, было бы сложнее.
Из этих трех версий лично я склоняюсь ко второй. Видал я таких Элвудов за свою долгую жизнь в Шоушенке. Такого рода малые хотят, чтобы вы думали, будто на каждом своем деле они наваривали миллионы и не стали бы стараться за что-то меньшее, чем королевский бриллиант. Даже если в результате их поймали на десятидолларовой мелочевке, за которую и посадили.
Была в рассказе Томми одна деталь, которая убедила Энди без тени сомнения. Блейч не описывал внешность Квентина. Он назвал его «богатым хером» и упомянул, что парень был инструктором по гольфу. Когда-то давно Энди с женой выбирались в клуб пообедать, и случалось это пару раз в неделю на протяжении нескольких лет, а затем Энди частенько приходил туда напиться после того, как узнал все о Линде. При клубе была дискотека, и в 1947-м один из работавших там жокеев запомнился Энди. Он в точности соответствовал описанию Элвуда Блейча. Высокий крепкий мужчина, почти совсем лысый, с глубоко посаженными зелеными глазами. Он всегда смотрел так, будто оценивает вас взглядом. Он проработал там недолго, но Энди запомнил этого человека, поскольку тот обладал слишком примечательной внешностью.
Энди явился к Нортону в дождливый ветреный день, когда большие серые облака ползли по небу над серыми стенами, в день, когда с полей, лежащих вокруг тюрьмы, сходил последний снег, обнажая безжизненные пожелтевшие клочки прошлогодней травы.
У Нортона был солидных размеров кабинет в административном отделе тюрьмы, а прямо за его столом располагалась дверь, ведущая в комнату помощника коменданта. Помощник в тот день отсутствовал, а в его конторе находился один из заключенных, убогий прихрамывающий тип, имя которого я уже не припомню. Все звали его Честером. Ему было поручено поливать цветы в помещении и натирать полы. И у меня есть сильное подозрение, что земля в цветочных горшках в тот день осталась сухой, а все, что Честер в тот день натирал, – это собственное грязное ухо о замочную скважину.
Он услышал, как дверь, ведущая из коридора в кабинет коменданта, отворилась и захлопнулась, и Нортон сказал:
– Добрый день, Дюфресн, чем могу вам помочь?
– Видите ли, – начал Энди, и старина Честер признавался нам, что едва смог узнать его голос. – Видите ли, комендант, произошло нечто… Со мной случилось нечто такое, что я… я затрудняюсь, с чего и начать.
– Ну что ж, почему бы вам не начать сначала? – спросил Нортон своим елейным голоском, словно предназначенным для зачитывания псалмов. – Наверное, это будет лучше всего.
Энди так и поступил. Он напомнил Нортону подробности преступления, за которое попал в Шоушенк. Затем в точности пересказал всю историю, которую услышал от Томми Вильямса. Он назвал Томми, и возможно, вам это покажется не слишком мудрым в свете последующих событий, но что ему оставалось делать? Ведь иначе его история звучала бы и вовсе неправдоподобно.
Когда он закончил, Нортон некоторое время молчал. Я ясно вижу его, откинувшегося на спинку кресла под портретом губернатора Рида, висящим на стене: пальцы сплетены, губы сжаты, лоб собран в морщины, почетный значок на груди тускло поблескивает.
– Да, – наконец произнес комендант, – это одна из самых дурацких историй, которую я когда-либо слышал. И знаете, Дюфресн, что меня больше всего удивляет?
– Что, сэр?
– Что вы всему этому поверили.
– Сэр! Я не понимаю, что вы хотите этим сказать? – произнес Дюфресн, и Честер говорил потом, что едва мог узнать голос человека, тринадцать лет назад справившегося с Байроном Хедли. Сейчас Энди с трудом выговаривал слова, голос его дрожал.
– Что ж, – произнес Нортон, – для меня вполне очевидно, что этот молокосос Вильямс был вами совершенно очарован. Попал под ваше влияние, скажем прямо. Он услышал вашу горестную историю, и вполне естественно с его стороны было желание как бы… оправдать вас и приободрить. Вполне естественно. Он молод, не слишком рассудителен. Он никак не мог предвидеть, в какое состояние это вас приведет. Все, что я могу предложить…
– Разве я бы об этом не подумал? – перебил Энди. – Но я никогда не говорил Томми о том человеке, работавшем при клубе. Более того, никому не мог говорить, в этом просто не было необходимости. Но описание сокамерника Томми и того парня, которого я помню… они же идентичны!
– Прекрасно, но теперь вы склоняетесь к одностороннему восприятию действительности, – ответил Нортон. Фразочки типа «одностороннее восприятие действительности» в большом количестве усваиваются людьми, проходящими обучение, чтобы потом работать в исправительных учреждениях. И они применяют эти словечки к месту и не к месту.
– Но это не так, сэр.
– Это ваша точка зрения. Моя же принципиально иная. И учтите, у меня нет никаких фактов, кроме вашего слова, что такой человек действительно работал в клубе «Фэлмоуз-Хилл».
– Нет, сэр, не только, потому что…
– Подождите, – остановил его Нортон, голос его становился все громче и уверенней, – давайте посмотрим на дело с другой стороны. Предположим на секунду, просто предположим, не более, что действительно существовал человек по имени Элвуд Блоч.
– Блейч, – поправил Энди.
– Пусть Блейч, какая разница. И будем считать, что он действительно являлся сокамерником Томаса Вильямса в Род-Айленде. Шансы, что сейчас он уже на свободе, очень высоки. Более чем высоки. Ведь мы даже не знаем, сколько времени он провел в тюрьме, прежде чем попал в камеру Вильсона, не так ли? Известно только, что он был осужден на шесть лет.
– Нет. Мы не знаем, сколько времени он отсидел. Но я полагаю, есть шанс, что он все еще там. Даже если это не так, в тюрьме сохранились сведения о его последнем адресе, имена близких друзей и родственников.
– То и другое, как вы понимаете, может ровным счетом ничего не значить. Концы в воду, и все тут.
Энди секунду помолчал, затем взорвался:
– Да, но шанс есть, так ведь?
– Да, конечно. Итак, Дюфресн, предположим далее, что Блейч не только существует, но и поныне находится в Род-Айленде. И что же, по-вашему, он скажет, когда мы придем к нему с показаниями вашего Томми? Возможно, упадет на колени, возведет глаза к небу и, рыдая, признается во всех своих грехах?
– Как можно быть настолько тупым? – пробормотал Энди так тихо, что Честер едва сумел его расслышать. Зато коменданта он услышал превосходно.
– Что?! Как вы меня назвали?!
– Тупым! – закричал в ответ Энди. – Или это намеренно?
– Дюфресн, вы отняли пять минут моего времени – нет, семь, – а я сегодня очень занят. Итак, полагаю, нашу встречу можно объявить законченной и…
– В клубе хранятся все старые бланки и карточки, вы хоть это понимаете? – продолжал кричать Энди. – У них и налоговые бланки, и В-формы, и компенсационные карточки для уволенных, и на каждой его имя! Кто-нибудь из администрации, кто работал в клубе прежде, остался там и сейчас! Возможно, и сам старик Бриггс, ведь прошло пятнадцать лет, а не вечность! Они вспомнят его! Если Томми подтвердит все, что рассказывал ему Блейч, и Бриггс удостоверит, что Блейч действительно работал при клубе, мое дело возобновят! Я смогу…
– Охрана! Охрана! Уберите этого человека!
– В чем дело? – дрогнувшим голосом спросил Энди. – Это моя жизнь, моя возможность выйти на волю, вы это понимаете? Почему бы не сделать всего лишь один запрос, чтоб подтвердить историю Томми? Послушайте, я заплачу…
Затем, по словам Честера, последовал легкий шум: охранники схватили Энди и потащили его прочь из кабинета.
– В карцер, – сухо сказал Нортон, и я представляю себе, как он при этом провел рукой по своему значку. – На хлеб и воду.
И Энди, окончательно вышедшего из-под контроля, увели. Честер говорил, что он слышал, как уже в дверях Энди продолжал кричать на коменданта:
– Это моя жизнь! Неужели непонятно, это моя жизнь!
Двадцать дней провел Энди на «диете Нортона». Это была его первая стычка с Сэмом Нортоном и первая черная отметка в карточке с тех пор, как он вступил в нашу маленькую счастливую семейку.
Расскажу теперь немного о шоушенкском карцере, раз уж к слову пришлось. Эта старая добрая традиция восходит в Мэне к временам первых поселенцев, началу и середине XVIII века. В те дни никто не тратил времени на такие вещи, как «искупление», «реабилитация», и прочую ерунду. Вещи подразделялись четко и ясно на черное и белое. Либо вы виновны, либо нет. Если виновны – вас полагается либо повесить, либо посадить в тюрьму. И если вы приговорены к лишению свободы, вас не будут отвозить в какое-то заведение, нет, вам придется рыть себе тюрьму своими руками, и власти провинции Мэн выделят для этого лопату. Вы выроете яму таких размеров, какие вам под силу, если копать от восхода солнца до захода. Затем, получив пару шкур и корзину, вы спускаетесь вниз, а яму сверху накрывают решеткой, сквозь которую вам будут бросать немного зерен или кусочек червивого мяса, а по редким праздникам потчевать ячменной похлебкой. Испражняться придется в бадью, а в шесть утра, когда приходит тюремщик, эту же самую бадью вы отдаете ему для воды. А в дождливую погоду приходится спасаться под ней от потоков воды.
Никто не проводил «в дыре» слишком долгое время – самое большее, насколько я знаю, тридцать месяцев. Это был четырнадцатилетний психопат, кастрировавший школьного товарища, но он был молод и здоров, когда его посадили.
Не забывайте при этом, что за любое более тяжкое преступление, чем пустячная кража или мелкое богохульство, вас повесят. А за такие мелкие преступления вы проводите три или шесть, или девять месяцев в дыре и выходите оттуда абсолютно бледным, полуослепшим, начинаете бояться открытого пространства, зубы ваши шатаются и готовы окончательно вывалиться, ноги покрыты грибком. Старая добрая провинция Мэн…
Шоушенкский карцер являет собой некое более цивилизованное подобие средневековой тюрьмы… События в человеческой жизни развиваются в трех направлениях: хорошо, плохо и ужасно. И если вы углубляетесь в кромешную тьму ужасного, все труднее становится делать какие-либо различия.
Чтобы попасть в карцер, вы спускаетесь на двадцать три ступеньки в подвал. Единственный звук, проникающий туда, – звук падающей воды. Все освещение представлено тусклой шестидесятиваттной лампочкой. Камеры там одиночные, они имеют форму бочонка, как те стенные сейфы, что богатые люди скрывают в своем доме за какой-нибудь картиной. Как и в сейфе, двери раздвигающиеся, окон нет никаких, даже решетчатых, и единственное освещение – лампочка, которую выключают в восемь вечера, на час раньше, чем гасят огни в остальных помещениях тюрьмы. Вам приходится находиться в кромешной тьме, хотите вы этого или нет. В камере есть вентиляция, и можно слышать, как в вентиляционной системе шуршат и снуют крысы. В камере есть прикрученная к стене койка и большой стульчак без сиденья. Таким образом, у вас есть возможность проводить время тремя способами: сидеть, испражняться или спать. Богатый выбор. Двадцать дней в таком месте тянутся, как год, тридцать – как два года, сорок дней могут показаться десятилетием.
Единственное, что можно сказать в защиту одиночки, – у вас появляется время подумать. Энди занимался этим все двадцать дней своего пребывания на «диете Нортона», а когда вышел, попросил о новом свидании с комендантом. Запрос был отклонен. Такая встреча, сказал комендант, будет «непродуктивна». Вот еще одно словцо, которому обучают на такого рода должности.
Энди терпеливо повторил свой запрос. И снова. И снова. Он действительно изменился, Энди Дюфресн. Той весной 1963 года на лице его появились морщины, а в волосах седые пряди. Исчезла маленькая усмешка, которая всегда так восхищала меня. Он стал часто смотреть в пустоту, а я знаю, что, когда у заключенного появляется такой взгляд, он считает оставшиеся годы в тюрьме, месяцы, недели, дни.
Энди возобновлял свой запрос снова и снова. Он был терпелив. У него не было ничего, кроме времени… Началось лето. В Вашингтоне президент Кеннеди обещал избирателям новое наступление на нищету и нарушения прав человека, не зная, что жить ему осталось всего полгода. В Ливерпуле появилась группа «Битлз» и стала популярна как одна из самых сильных музыкальных групп Англии, но полагаю, в Штатах их еще не слушали. Бостонская команда «Ред сокс» четыре года до того, что люди в Новой Англии назовут «Чудом-67», прозябала в бездействии в последних разрядах Американской лиги. Вот что происходило в большом мире, где жили свободные люди.
Нортон встретился с Энди в конце июня, и подробности их разговора я узнал от самого Дюфресна спустя семь лет.
– Можете не волноваться, что я сболтну что-нибудь, – говорил Энди Нортону тихим мягким голосом. – Информация о наших финансовых делах останется в тайне, я буду нем как рыба, и…
– Достаточно, – перебил его Нортон. Он откинулся в кресле так, что голова его почти касалась вышитых букв, оповещающих о грядущем пришествии. Лицо коменданта было холоднее могильного камня.
– Но…
– Больше не упоминайте при мне о деньгах. Ни в этом кабинете, ни где-либо еще. Если не хотите, конечно, чтобы библиотека опять превратилась в одну маленькую комнату типа чулана, как это было раньше. Надеюсь, это понятно?
– Я просто попытался вас успокоить, только и всего.
– Учтем на будущее. И если я когда-нибудь еще буду нуждаться в успокоениях такого сукина сына, то попрошу о них специально. Я согласился на эту встречу, потому что вы утомили меня своими запросами, Дюфресн. Этому пора положить конец. Я выслушивал бы идиотские истории типа вашей дважды в неделю, если бы пустил это дело на самотек. И каждый, кому не лень, использовал бы меня как жилетку, в которую можно поплакаться. Я раньше относился к вам с большим уважением. Но теперь это закончилось. Вот и все. Надеюсь, мы поняли друг друга?
– Да, – ответил Энди, – но я хотел бы нанять адвоката.
– О Боже, и для чего?
– Думаю, мы можем это обсудить. С показаниями Томми Вильямса, моими показаниями и информацией, полученной из клуба, можно начать новое дело.
– Томми Вильямс выбыл из Шоушенка.
– Что?!
– Он переведен.
– Переведен куда?
– В Кешмен.
Энди замолчал. Его никто не назвал бы недостаточно сообразительным, но тут и круглый идиот мог бы догадаться, что дело нечисто. Кешмен – тюрьма к северу от Арустука, слабо охраняемая. Заключенные часто посылаются на уборку картофеля, и это довольно тяжелая работа, но им выплачивают хороший заработок. А также у них есть реальная возможность обучаться в CVI, престижном техническом институте, если у кого возникает желание. Что самое главное для таких людей, как Томми, людей с молодой женой и ребенком, – отпускная программа в Кешмене довольно свободная. Это означает реальный шанс хотя бы по выходным жить как нормальный человек. Воспитывать собственного ребенка, заниматься сексом с женой, даже ездить на пикник.
Нортон, несомненно, выложил все эти козыри перед ошалевшим Томми и потребовал взамен всего лишь одной маленькой услуги: ни слова больше про Элвуда Блейча. Томми предстояло решать, отправляться ли ему в Кешмен или оставаться здесь, где ему устроили бы действительно тяжкое существование и вместо секса с женой предложили бы секс с тремя-четырьмя сестрами.
– Но почему? – спросил Энди. – Почему вы…
– Да будет вам известно, – спокойно продолжал Нортон, – что я связывался с Род-Айлендом. Там действительно содержался заключенный по имени Элвуд Блейч. Он был выпущен на свободу во время последней амнистии, знаете, эти идиотские правительственные программы, выдумка обезумевших либералов, позволяющая уголовникам спокойно разгуливать по улицам. Блейч исчез.
– Начальник той тюрьмы… не приходится ли вам приятелем?
Сэм Нортон одарил Энди ледяной улыбкой…
– Да, мы знакомы.
– Почему? – повторил Энди. – Скажите мне, зачем вы это сделали? Я бы ни о чем не стал болтать, если бы вышел на свободу, это же очевидно. Так зачем же?..
– Затем, что люди, подобные вам, причиняют мне много расстройства и головную боль, – откровенно сказал Нортон. – Меня устраивает, что вы находитесь здесь, в Шоушенке, мистер Дюфресн. И пока я нахожусь на посту коменданта, вы на свободу не выйдете. Вы привыкли думать, что на голову выше всех окружающих. Это очевидно, для этого достаточно хоть раз посмотреть вам в глаза, и когда я впервые пришел в библиотеку, мне все стало очевидно. Ощущение собственного превосходства написано у вас на лбу крупными буквами. Теперь вы несколько изменились, и я этому рад. Не думайте, что вы для меня чем-то полезны, вовсе нет. Просто такого человека не помешало бы поучить смирению. Вы привыкли шествовать по прогулочному двору так, как будто это гостиная в доме вашего приятеля и вы приглашены на вечерний коктейль. Знаете, такие очаровательные вечеринки, где всякий муж домогается чужой жены и все до одного напиваются безобразно пьяными. Но больше вы не будете прогуливаться подобным образом, я в этом уверен. И буду с большим удовольствием на протяжении многих лет следить за тем, чтобы к вам не вернулась прежняя самонадеянность. А теперь убирайтесь прочь.
– О’кей. Но знайте, Нортон, что вся моя деятельность в качестве вашего личного экономиста сворачивается. И если вы захотите впредь обходить налоги и сводить концы с концами, обращайтесь в консультацию. Возможно, вам помогут.
Лицо коменданта на секунду стало красным от прихлынувшей крови, но затем прежний цвет вернулся к нему.
– Теперь вы пойдете в карцер. Тридцать дней. На хлеб и воду. Вторая черная пометка в карточке. И пока будете там сидеть, обдумайте мои слова: если вы прекратите на меня работать, я приложу все усилия, чтобы библиотека вернулась в то состояние, в котором была до вашего прихода. И сделаю вашу жизнь тяжелой… Очень тяжелой. Уж будьте спокойны, это я обеспечить смогу. Вы потеряете свою одноместную камеру в пятом блоке; поступающих сейчас много, так что будете жить с соседом. Потеряете все ваши камешки, лежащие на окне, и лишитесь протекции охраны против гомосексуалистов. Вы лишитесь всего… Ясно?
Думаю, Энди было ясно все.
Время шло – возможно, единственно невосполнимая, единственно ценная вещь в этом мире. Энди Дюфресн действительно изменился. Он продолжал делать грязную работу на Нортона и заниматься библиотекой, все шло по-прежнему. По-прежнему он заказывал выпивку на день рождения и Рождество, по-прежнему отдавал мне недопитые бутылки. Время от времени я доставал ему полировальные подушечки, и в 1967-м принес молоток: старый, который он получил девятнадцать лет назад, совсем истерся… Девятнадцать лет! Когда вы произносите эти слова, они звучат как стук захлопывающейся двери в гробницу и дважды повернутого в замке ключа. Молоток, который тогда стоил десять долларов, теперь поднялся до двадцати двух, и мы с Энди печально улыбнулись, когда заключали сделку.
Энди продолжал обрабатывать камни, которые находил на прогулочном дворе. Правда, двор теперь стал меньше: половина его была заасфальтирована в 1962 году. Но Энди все равно находил достаточно, чтобы ему было чем заниматься. Заканчивая обрабатывать камень, он помещал его на подоконник. Энди говорил мне, что любит смотреть на камешки, освещаемые солнечными лучами, на кусочки планеты, которые он взял из пыли и грязи и отшлифовал до зеркального блеска. Аспидный сланец, кварц, гранит. Крошечные скульптуры, склеенные заботливыми руками Энди. Осадочные конгломераты, отполированные так, что можно было ясно видеть: они составлены из слоев различных пород, отлагавшихся здесь на протяжении многих веков. Энди называл такие образцы «тысячелетние сандвичи».
Время от времени Энди убирал некоторые камешки с подоконника, чтобы освободить место для новых. Большинство из тех камней, что покинуло его комнату, перешло ко мне. Считая те, самые первые, напоминающие запонки, у меня было пять экземпляров. Одна скульптура человека, мечущего копье, два осадочных конгломерата, тщательно отполированных. У меня до сих пор хранятся эти камни, и я часто верчу их в руках, думая о том, сколь многого может добиться человек, если у него есть время и желание.
Итак, все текло своим чередом. Если бы Нортон мог видеть, как изменился Энди в глубине души, он был бы доволен результатами своих трудов. Но для этого ему пришлось бы заглянуть чуть глубже, чем он привык.
Он говорил Энди, что тот идет по прогулочному двору, как по гостиной на званом ужине. Я называл такое поведение чуть иначе, но прекрасно понимаю, что именно имел в виду комендант. Я уже говорил, что Энди носил свою свободу, как невидимый пиджак, и хотя он находился за решеткой, никогда не походил на заключенного. Глаза его никогда не принимали отсутствующего тупого выражения. Он никогда не ходил так, как большинство здесь, – сгорбившись, вжав голову в плечи, тяжело переставляя ступни, словно они налиты свинцом. Нет, не такой была походка Энди: легкий шаг, расправленные плечи, будто он возвращается домой, где его ждет прекрасный ужин и красивая женщина вместо пресного месива из овощей, переваренной картошки и двух жирных жестких кусочков того, что скорее можно назвать пародией на мясо… Плюс картинка с Ракел Уэлч на стене.
Но за эти четыре года, хотя Энди и не стал таким же, как остальные, он приутих, замкнулся в себе, стал более молчаливым и сосредоточенным. И кто может его винить? Разве что Нортон.
Мрачное состояние Энди прекратилось в 1967 году во время мирового чемпионата. Это был сказочный год, год, когда «Ред сокс» стали победителями. Первое место вместо предсказываемого Лас-Вегасом девятого. Когда это случилось – когда команда стала призером Американской лиги, – невиданное оживление охватило всю тюрьму. Это была какая-то идиотская радость, странное ощущение, что если ожила безнадежная, казалось бы, команда – то шанс на воскресение есть у всякого. Теперь я едва ли смогу объяснить природу этого чувства, как бывший битломан не объяснит причин своего сумасшествия, когда оно уже прошло. Но тогда все это было вполне доступным и реальным. Всякое радио включалось на волну радиостанции, передающей чемпионат, когда играли «Ред сокс». Жуткое уныние охватило публику, когда в Кливленде была пропущена под конец пара мячей, и идиотский взрыв буйного веселья последовал за решающим броском Рико Петроселли, который решил исход игры. Затем, после поражения в седьмой игре чемпионата, «Ред сокс» утратили свое магическое воздействие, и заключенные вновь впали в тягостное оцепенение. Подозреваю, как обрадовался этому Нортон. Проклятый сукин сын любил видеть вокруг себя людей с постными лицами, посыпающих головы пеплом, и на дух не переносил счастливых улыбок.
Что касается Энди, у него не было причин унывать. Возможно потому, что он никогда не был бейсбольным фанатом. Но тем не менее он сумел поймать то непередаваемое ощущение удачи, которое, казалось, потерял. Энди вытащил свою свободу, как невидимый пиджак из пыльного шкафа, – и примерил вновь…
Я вспоминаю один ясный осенний денек спустя две недели после окончания чемпионата. Возможно, было воскресенье, потому что я помню множество людей, расхаживающих по двору, перекидывающихся мячиком, треплющихся друг с другом о всякой ерунде и заключающих сделки. Другие в это время сидели в зале для посетителей, общаясь с близкими под пристальным взором охранников, рассказывая с серьезным видом совершенно неправдоподобные сказки о своей жизни и радуясь передачам.
Энди сидел на корточках у стены, сжимая в руке только что подобранные камешки. Он поднял к солнцу лицо и, зажмурившись, впитывал тепло его лучей. В тот день была на редкость ясная погода, это я помню точно.
– Привет, Рэд, – окликнул он меня. – Подсаживайся, поговорим.
Я подошел.
– Хочешь? – Он протянул мне парочку тщательно отполированных «тысячелетних сандвичей».
– Конечно. Чудные вещицы… Спасибо тебе большое.
Энди сменил тему:
– У тебя в следующем году знаменательная дата.
Я кивнул. В будущем году я отмечу тридцатилетие своего поступления в Шоушенк, шестьдесят процентов жизни проведено в тюрьме…
– Думаешь, ты когда-нибудь выйдешь отсюда?
– Разумеется. Когда у меня отрастет длинная седая борода, а старческий маразм разовьется настолько, что я уже не буду осознавать, в тюрьме я или на свободе.
Энди слегка улыбнулся и прищурился на солнце:
– Хорошо.
– Я думаю, почему бы не быть хорошему настроению в такой чудный денек.
Он кивнул, и некоторое время мы молчали.
– Когда я отсюда выйду, – наконец произнес Энди, – то поеду туда, где всегда тепло. – Он говорил с такой уверенностью, как будто до освобождения оставалось не больше месяца. – И знаешь, Рэд, куда я поеду?
– Понятия не имею, и куда же?
– Зихуатанехо, – ответил Энди, медленно, мягко выговаривая это слово, и оно звучало как музыка. – Недалеко от Мехико. Это маленькое местечко в двадцати милях от Тридцать седьмой магистрали. Оно находится в сотне миль к северо-востоку от Акапулько в Тихом океане. Ты знаешь, что говорят мексиканцы о Тихом океане?
Я ответил, что не знаю.
– Говорят, у него нет памяти. Именно там я хочу провести остаток своих дней, Рэд. В теплом месте, где исчезает память.
Энди захватил в ладонь горсть пыли, и теперь, продолжая говорить, отбирал камешки. Пару раз кварц вспыхнул под солнечными лучами.
– Зихуатанехо. Там у меня будет маленький отель. Шесть домиков вдоль побережья и еще шесть – чуть подальше около магистрали. У меня будет парень, который станет возить гостей на рыбалку. А для того, кто поймает самую большую рыбу сезона, будет учрежден приз, и его портрет я повешу в вестибюле. Это будет такое место, где стоит провести свой медовый месяц.
– И где ты собираешься взять денег для этого всего? Финансовые операции?
Он взглянул на меня и улыбнулся:
– В точку, Рэд. Временами ты меня просто пугаешь. Так вот, слушай, – продолжал Энди, закуривая сигарету. – Когда случается что-нибудь скверное в этом суетном мире, люди делятся на две категории. Предположим, есть маленький домик, уютно обставленный и полный гениальных полотен и всякого антиквариата. И вот хозяин его услышал, что приближается ураган. Один из этих двух типов людей будет надеяться на лучшее. «Ураган свернет с пути, – говорит себе такой человек. – Было бы абсурдно уничтожить этот чудный дом и эти старые картины. Господь не позволит этого… Да если что и случится, все имущество здесь застраховано». Это один сорт людей. А другой пребывает в уверенности, что ураган может идти прямо на него и тогда разрушит все на своем пути. И даже если прогноз погоды утверждает, что ураган сменил путь, такой человек знает, что в любой момент он может вернуться вновь и сровнять его милый домик с землей. Такие люди отдают себе отчет в том, что стоит надеяться на лучшее, это еще никому не вредило… Но готовиться стоит к худшему.
Я зажег сигарету и спросил:
– Ты хочешь сказать, что застраховался от неожиданности?
– Да, я подготовился к урагану. Я знаю, как скверно он выглядит. У меня было мало времени, но во все отведенное мне время я действовал. У меня был друг, единственный человек, который остался со мной. Он работал в инвестиционной компании в Портленде. Шесть лет назад он умер.
– Жаль.
– Да. – Энди отбросил окурок. – У нас с Линдой было что-то около четырнадцати тысяч долларов – не много, но кое-что. Однако, черт, мы были молоды и ни о чем не думали. Но когда начался ураган, я принялся вытаскивать свои картины в безопасное место. Я продал акции и честно заплатил весь налог, как примерный школьник. Внес в декларацию абсолютно все, ничего не скрыл.
– Они заморозили твой счет?
– Я был обвинен в убийстве, Рэд, а не мертв! Невозможно заморозить имущество невинного человека. И слава Богу. А это все случилось еще до того, как меня обвинили в преступлении. У нас с Джимом, тем моим другом, было немного времени. Я все быстро скинул по дешевке. Конечно, много проиграл на этом. Но тогда у меня были другие, гораздо более серьезные поводы для волнения.
– Да, пожалуй.
– Когда я попал в Шоушенк, все это оставалось в целости. Как и теперь. Там, за этими стенами, живет человек, которого никто никогда не видел в лицо. У него есть карточка социального страхования и водительские права, полученные в Мэне. А также свидетельство о рождении на имя Питера Стивенса. Превосходное имя, не правда ли?
– Кто он? – спросил я. Похоже, я знал, что ответит Энди, но не мог в это поверить.
– Я.
– Не станешь же ты говорить мне, что у тебя было достаточно времени, чтобы получить фальшивые документы, пока над тобой трудились копы. Или что ты оформил все это, находясь на судебном разбирательстве.
– Нет, этого я утверждать не стану. Мой друг Джим оформил все за меня. Он начал действовать после того, как отклонили мою апелляцию. Основные документы были в его руках до 1950 года.
– Он должен был быть тебе очень близким другом, – сказал я.
Не знаю, какой части из всего этого я поверил – всему, половине или же вовсе ничему. Но денек был теплый, солнце ясно светило, и все один черт – это была занимательная история.
– Ведь весь этот расклад на сто процентов нелегален.
– Он был близким другом. Мы вместе воевали. Франция, Германия, оккупация. Он был хорошим другом и знал, что в этой стране сделать фальшивые бумаги, пусть и нелегально, легко и безопасно. Он взял мои деньги, все налоги на которые были выплачены так тщательно, что налоговой службе было просто не к чему придраться. И вложил их на имя Питера Стивенса. Это было в 1950 и 1952 годах. Сегодня, по приблизительным расчетам, там триста семьдесят тысяч долларов.
Наверное, у меня отвисла челюсть, потому что Энди улыбнулся, глядя на меня.
– Если я не умру здесь, возможно, у меня будет семь или восемь миллионов, «роллс-ройс» и все, чего я ни пожелаю.
Ладонь его зачерпнула новую пригоршню камешков.
– Я надеюсь на лучшее, готовлюсь к худшему, и ничего кроме этого. Фальшивое имя предназначено для того, чтобы сохранить этот маленький капитал. Просто я перестраховывался и заранее выносил свои пожитки из дому. Но, к сожалению, не знал, что ураган будет продолжаться так долго.
Я некоторое время молчал, пытаясь осознать, что этот невысокий худощавый человек в сером тюремном костюме может обладать большей суммой денег, чем комендант Нортон сумеет собрать за всю свою гнусную жизнь, даже если вывернется наизнанку.
– Значит, ты не придуривался, когда говорил, что можешь нанять адвоката, – наконец вымолвил я. – За такие деньги можно пригласить Кларенса Дарроу или кто там сейчас самый крутой вместо него. Почему ты до сих пор этого не делаешь? Ты бы вылетел из этой чертовой дыры, как пуля.
– Не совсем так, – ответил Энди, слегка улыбаясь.
– Хороший адвокат вытащит Томми Вильямса из Кешмана и заставит его говорить, хочет он того или нет. Твое дело возобновят, ты наймешь частных сыщиков для поисков Элвуда Блейча и смешаешь эту суку Нортона с дерьмом. Почему бы нет, Энди?
– Потому, что я сам себя перехитрил. Если я когда-нибудь попробую наложить лапу на деньги Питера Стивенса, находясь здесь, то потеряю все до цента. Это мог сделать Джим, однако он мертв. Видишь, в чем проблема?
Я видел: эти деньги так много могли дать Энди, но получалось так, будто они принадлежат другому лицу. И если отрасль, в которую они вложены, придет в убыток… Все, что остается Энди, – наблюдать за курсом акций на страницах «Пресс геральд», будучи не в силах сделать хоть что-нибудь. Хреновое положение, скажу я вам.
– И еще тебе кое-что скажу, Рэд. В городке Бакстоне есть сенокосный луг. Ты же знаешь, где находится Бакстон?
Я знал.
– Вот и хорошо. С севера луг огражден каменной стеной, совсем как в стихотворении Роберта Фроста[3]. И возле этой стены лежит камень, который не имеет никакого отношения ни к этому лугу, ни к штату Мэн. Это кусок вулканического стекла, который до сорок седьмого года был моим пресс-папье. Джим положил этот камешек у основания стены. Под ним лежит ключ от депозитного ящика в Портлендском банке.
– Ну и попал же ты в переделку, – сказал я. – Когда умер твой друг, налоговое управление вместе с исполнителем его завещания вскрыло все депозитные ящики.
Энди улыбнулся:
– Все не так плохо. Мы позаботились о такой возможности. Ящик зарегистрирован на имя Питера Стивенса, и каждый год компания юристов, являющаяся исполнителем завещания Джима, посылает в банк чек. Рента вносится исправно.
Питер Стивенс находится в этой коробке и рано или поздно выйдет наружу. Водительские права просрочены на шесть лет, потому что Джим умер шесть лет назад, но ничего не стоит восстановить их за пять долларов. В коробочке также находятся биржевые сертификаты и два десятка тысячедолларовых облигаций.
Я присвистнул.
– Питер Стивенс надежно заперт в ящике Портлендского банка, а Энди Дюфресн еще более надежно заперт в Шоушенке. Вот ведь в чем проблема. А ключ, которым можно открыть ящик с документами, деньгами и новой жизнью, находится под куском черного стекла на бакстонском лугу. Скажу больше, Рэд, последние двадцать лет я с необычайным интересом проглядывал газеты, выискивая в них все новости, касающиеся новых строительных проектов в Бакстоне. И в один прекрасный день, подозреваю, мне придется прочитать, что через луг проложили магистраль или начали строить там новый госпиталь или универмаг, похоронив мою новую жизнь под десятью футами бетона.
– О Боже, Энди, если все это так, как ты еще не сошел с ума?
Он улыбнулся:
– Все спокойно на западном фронте.
– Но возможно, через годы…
– Да, возможно. Но есть вероятность, что я окажусь на свободе чуть раньше, чем этого хотят государство и Нортон. Не могу позволить себе ждать долго. Я думаю о Зихуатанехо и своем отеле. Это все, чего я теперь хочу от жизни. Я не убивал Глена Квентина, и жену свою тоже не убивал, и этот отель… не так уж многое из всего, что может хотеть человек. Купаться, загорать и спать в комнате с открытыми окнами… не столь уж это и много. Естественное человеческое желание.
Он отбросил свои камешки и продолжил, довольно бесцеремонно глядя мне в глаза:
– А знаешь, Рэд, мне там непременно понадобится человек, умеющий крутиться и доставать вещи.
Я довольно долго думал об этом разговоре. И почему-то мне даже не казалось абсурдным, что мы обсуждали такие проекты на вонючем тюремном дворе под пристальными взглядами вооруженных до зубов ребят на вышках.
– Не могу, – ответил я. – Там я ничего не могу. Я привык к своей несвободе. Здесь я человек, который может все – по крайней мере многое. Но там, на свободе, мои способности не будут нужны никому. И если ты захочешь купить плакаты или полировальные подушечки, у тебя всегда под рукой каталоги любого крупного универмага. Здесь я выступаю в роли этого чертова каталога. А там… просто непонятно, с чего начать. И непонятно, как.
– Не преуменьшай своих достоинств. Ты самоучка, человек, который всего в жизни добился сам. Совершенно замечательный человек, на мой взгляд.
– О дьявол, у меня нет даже диплома высшей школы.
– Я знаю, – ответил Энди. – Но не бумажка создает человека. И не тюрьма его уничтожает.
– За пределами этих стен я буду ничем, Энди. Это точно.
Он встал.
– Обдумай мои слова, – негромко произнес он и пошел прочь, как если бы один деловой человек на свободе сделал конкретное предложение другому деловому человеку. И на какое-то мгновение я действительно почувствовал себя свободным. Да, Энди мог творить чудеса. Благодаря ему я на время забыл о том, что оба мы осуждены пожизненно, забыл о ребятах на вышках и коменданте-баптисте, которому нравится Энди Дюфресн, находящийся в Шоушенке, и нигде больше. Ведь Энди для него – как домашняя зверушка, обученная заполнять ведомости и проводить счета. Совершенно замечательное создание!
Но ночью в камере я вновь стал заключенным. Идея была совершенно абсурдной, но она зацепила мое воображение, как крючок. Видение голубой воды и белого песчаного пляжа теперь было скорее жестоким, чем идиотским. Я не умел носить тот невидимый пиджак, что отличал Энди от всех нас. Я провалился в мучительный скверный сон. Я видел огромный черный камень в форме гигантской наковальни посреди луга. Я пытался поднять его, чтобы вытащить ключ, но чертов валун был необыкновенно тяжел, и мне не удалось даже сдвинуть его с места. И где-то вдали слышался лай ищеек…
Теперь, думаю, стоит немного рассказать о побегах. Конечно, они случаются время от времени в нашей милой семейке. Через стену, конечно, вы не перепрыгнете при всем своем старании. Прожектора освещают пространство всю ночь, протягивая длинные белые пальцы через поля, которые окружают тюрьму с трех сторон, и зловонное болото с четвертой стороны. Заключенные иногда перебираются через стену и всегда попадают под луч прожектора. Даже если этого не происходит, копы подбирают беднягу, пытающегося голосовать на Шестой или Девяносто девятой магистрали. Если они пытаются пробираться сквозь фермерские угодья, кто-нибудь непременно позвонит в тюрьму и сообщит местонахождение беглеца. Те ребята, которые пытаются бежать через стены, просто кретины. В сельской местности человек, бегущий по полям в сером тюремном костюме, находится в худшем положении, чем таракан, забравшийся на блюдо с пирогом посреди стола.
Ребята, которые действуют оптимально, всегда согласуются с требованиями момента. Они просто ловят счастливый случай и применяют всю свою сообразительность, чтобы его не упустить. Многие бежали в грудах белья, которое машина вывозит из прачечной за ворота тюрьмы. Когда я еще только попал в Шоушенк, таких случаев было много, и поэтому теперь администрация стала более бдительно следить за этой лазейкой.
Знаменитая программа Нортона «Путь к искуплению» породила новые варианты побега. Нет ничего проще, чем аккуратно прихватить грабли и пойти прогуляться в кустах, пока охранник отходит за стаканчиком воды или двое охранников увлечены перебранкой так, что вокруг себя почти ничего не замечают.
В тысяча девятьсот шестьдесят девятом заключенных отправили на картошку. Было уже третье ноября, и вся работа была выполнена почти до конца. Один из охранников по имени Генри Пух – теперь он уже выбыл из нашей счастливой семейки – сидел на бампере комбайна и спокойно завтракал, положив карабин на колени. И тут из осеннего легкого тумана реализовалась десятидолларовая купюра. Она медленно кружилась в морозном воздухе, и Пух решил, что в его бумажнике эта штука будет смотреться куда лучше. Пока он сосредоточивал свое внимание на том, чтобы поймать бумажку, улетающую от него в слабом осеннем ветерке, трое заключенных тихо смылись. Двоих из них вернули. Третий не найден по сей день.
Но самый знаменитый случай, наверное, это побег, который совершил Сид Недью. Дело было в 1958 году. Сид линовал бейсбольное поле для предстоящего в субботу матча, когда послышался свисток, извещающий охрану о том, что уже три часа и пришла новая смена. Ворота открылись, отдежуривший патруль направился к выходу, а охранники, заступающие на смену, пошли на тюремный двор. Как всегда, смена охраны сопровождалась громкими приветствиями, похлопываниями по спине, бородатыми шутками… Сид просто развернул линовочную машину в направлении ворот и поехал, оставляя за собой белую полосу на протяжении всего пути до ямы, находящейся уже далеко за пределами тюремной территории, где перевернутая машина была обнаружена в груде известки. Понятия не имею, как ему это удалось. Он просто ехал на этой штуковине, оставляя за собой клубы известковой пыли. Был ясный денек, охранники, покидающие тюрьму, радовались тому, что наконец уходят, а их сменщики были слишком огорчены тем, что заступают на работу, и никто из них не дернулся вовремя, чтобы остановить линовочную машину, к тому же совершенно не видную в клубах пыли. И пока все эти парни отряхивались и чихали, Сида и след простыл.
Насколько мне известно, он и теперь на свободе. Мы с Энди часто смеялись над этим грандиозным побегом, и когда услышали об угоне аэроплана, из которого один парень ухитрился выпрыгнуть с парашютом, Энди готов был биться об заклад, что настоящее имя этого малого Сид Недью.
– И наверняка он прихватил с собой пригоршню известковой пыли на счастье, – говорил Энди. – Везучий, сукин сын!
* * *
Но вы понимаете, что такие случаи, как Сид Недью с тем приятелем, который спокойно ушел с картофельного поля, очень редки. Столько счастливых совпадений должны предшествовать такой удачной попытке, а такой человек, как Энди, не может ждать десятки лет, пока представится шанс.
Возможно, вы помните, я упоминал парня по имени Хенли Бакас, бригадира в прачечной. Он пришел в Шоушенк в 1922 году и умер в тюремном лазарете тридцать один год спустя. Побеги и попытки к побегу были его хобби. Возможно потому, что он никогда не пытался проделать это сам. Он вываливал перед вами сотню различных схем, все совершенно сумасшедшие, и все рано или поздно были кем-то испробованы в Шоушенке. Мне больше всего нравилась байка о Бивере Моррисоне, который в подвале фабрики попробовал из каких-то отходов смастерить глайдер. Эта штука действительно должна была летать: он пользовался чертежами из старой книжки под названием «Занимательные технические опыты для юношества». В соответствии с рассказом, Моррисон построил глайдер, и его не засекли. Только он, к сожалению, обнаружил, что в подвале нет дверей таких размеров, через которые можно вывести проклятую штуковину наружу.
И таких историй Хенли знал дюжины две, не меньше. Как-то он сказал мне, что за время его пребывания в Шоушенке слышал более чем о четырехстах попытках бежать из тюрьмы. Только подумайте об этой цифре – четыреста попыток! Это выходит по двенадцать целых девять десятых на каждый год, который провел в нашей тюрьме Хенли Бакас. Можно основывать клуб «лучший побег месяца». Конечно, большинство из них были совершенно непродуманными и идиотскими и заканчивались примерно так: охранник хватает за руку какого-нибудь беднягу и вопрошает: «Куда это ты собрался, кретин?»
Хенли сказал, что классифицирует как серьезные чуть более шестидесяти попыток. И включил сюда знаменитое дело тридцать седьмого года, когда строился новый административный корпус и четырнадцать заключенных сбежали, воспользовавшись плохо запертым оборудованием. Весь южный Мэн впал в панику по поводу четырнадцати «жутких уголовников», большинство из которых были до смерти напуганы и имели какие-то соображения, куда им теперь податься, не более чем кролик, выскочивший вдруг на оживленную трассу под свет фар бешено несущихся машин. Никто из четырнадцати не смог уйти. Двое были застрелены – жителями, а не полицией и не персоналом тюрьмы, – и ни один не ушел.
Сколько побегов произошло между 1937 годом, когда я попал в Шоушенк, и тем октябрьским днем, когда мы говорили о Зихуатанехо? Складывая свою информацию с информацией Хенли, я полагаю, что десять. Десять вполне успешных. Но я предполагаю, что не меньше половины из этих десяти теперь сидят в других заведениях типа Шенка. Потому что к неволе привыкаешь. Когда у человека отнимают свободу и приучают его жить в клетке, он теряет способность мыслить как прежде. Он как тот самый кролик, испуганно вжимающийся в асфальт, по которому несутся машины. Чаще всего эти ребята заваливаются на каком-нибудь небрежно сработанном деле, у которого не было ни шанса на успех… И все почему? Потому что они просто хотят за решетку, туда, где надежнее и спокойнее.
Энди таким не был, а вот я был. Идея увидеть Тихий океан звучала прекрасно, но оказаться там на самом деле… Эта мысль меня до смерти пугала.
В любом случае в день того разговора о Мехико и Питере Стивенсе я поверил, что у Энди есть план побега. Я молил Бога, чтобы он был осторожен, если это так. И все равно не стал бы биться об заклад, что шансы на успех у него велики. Нортон пристально следил за Энди, не спуская с него глаз. Энди не был для него обыкновенным двуногим существом с номером на спине, как другие заключенные. У Энди были мозги, которые Нортон хотел использовать, и дух, который он хотел сломить.
Если за тюремными стенами в свободном мире где-то есть честные политики, то наверняка есть и честные охранники в тюрьме. И они не покупаются. Но ведь встречаются среди охраны и ребята с другими взглядами на жизнь, и если у вас достаточно здравого смысла и денег, кто-нибудь вовремя закроет глаза – и успех вашего побега обеспечен. Не стану говорить, что никто никогда не пользовался таким способом. Но он явно не годился Энди: бдительность Нортона была известна всем охранникам, и собственная шкура и работа были им все же дороги.
Никто не собирался посылать Энди в группе, задействованной в программе «Путь к искуплению», куда-либо за ограду Шоушенка. По крайней мере пока списки групп подписывал Нортон. И Энди был не тем человеком, который мог бы воспользоваться способом Сида Недью.
Был бы на его месте я, мысль о ключе бесконечно угнетала бы меня. Каждую ночь я едва ли мог бы сомкнуть глаза и видел бы кошмарные сны. Бакстон менее чем в тридцати милях от Шоушенка. Так близко и в то же время так далеко!
Я оставался при своем мнении, что лучше всего пригласить адвоката и потребовать пересмотра дела. Хоть как-то вырваться из-под контроля Нортона. Возможно, Томми Вильямсу действительно заткнули рот этой чертовой отпускной программой. Но я не уверен. Скорее всего крутой парень из адвокатуры Миссисипи, поработав немного, сумеет Томми расколоть. И вряд ли ему придется слишком долго трудиться: мальчик был искренне привязан к Энди. Неоднократно я приводил все доводы, снова и снова повторял, что это лучший шанс на успех, а Энди только улыбался, говоря, что он над этим подумает.
Как выяснилось, он много над чем думал в те дни…
В 1975 году Энди Дюфресн сбежал из Шоушенка. Его не вернули, и я уверен, этого никогда не произойдет. Да и вряд ли сейчас где-нибудь существует такой Энди Дюфресн. Но я более чем уверен, что в Зихуатанехо живет человек по имени Питер Стивенс. Владелец небольшого отеля на тихоокеанском побережье.
Двенадцатого марта 1975 года двери камер в пятом блоке открылись в шесть часов тридцать минут утра, как каждое утро, кроме воскресенья. Как обычно, заключенные вышли в коридор, двери камер гулко захлопнулись за их спинами, а затем, выстроившись по двое, заключенные пошли к дверям блока. Там два охранника должны были сосчитать своих подопечных, прежде чем отправить их в столовую на скромный завтрак, состоящий из овсянки, яичницы-болтуньи и жирного бекона.
Все шло как обычно, пока охранники не окончили счет. Двадцать шесть человек вместо двадцати семи. Заключенные пятого блока были отправлены на завтрак, а о случившемся сообщили капитану охраны.
Капитан, в общем-то неглупый и славный малый по имени Ричард Гоньяр, и его ублюдский ассистент Дейв Беркс зашли в пятый блок, открыли двери камер и медленно пошли по коридору, держа наготове дубинки и пистолеты. В таких случаях, когда кого-то недосчитывались, обычно обнаруживался какой-нибудь бедняга, заболевший так тяжко, что не мог подняться на ноги. Реже оказывалось, что кто-нибудь умер или покончил жизнь самоубийством.
Но на этот раз случилось нечто совершенно неожиданное: ни больного, ни мертвого человека охранники не нашли. Вообще никого. В пятом блоке четырнадцать камер, семь по одну сторону коридора и семь по другую, и все совершенно пустые.
Первое предположение Гоньяра, и вполне разумное: произошла ошибка при счете. Поэтому вместо того, чтобы пойти на работу после завтрака, заключенные пятого блока были приведены обратно в камеры, совершенно довольные происходящим. Любое нарушение надоевшего распорядка всегда желанно. Двери камер открылись, заключенные вошли, двери захлопнулись. Какой-то клоун крикнул:
– Эй, ребята, сегодня вместо работы по распорядку онанизм?
Беркс:
– Заткнись немедленно, или я тебе сейчас вставлю ума.
Клоун:
– Жене твоей я вставлял, Беркс.
Гоньяр:
– Заткнитесь все немедленно, очень вам рекомендую.
Они с Берксом пошли вдоль коридора, считая всех по головам. Далеко идти не пришлось.
– Это чья камера? – спросил Гоньяр ночного охранника.
– Энди Дюфресна, – пробормотал охранник, и эти два слова произвели эффект разорвавшейся бомбы. Надоевший порядок рухнул окончательно.
Во всех фильмах я видел, что, как только обнаруживают побег, начинаются завывания сирен и прочие шумовые эффекты. В Шоушенке никогда такого не происходило. Первое, что сделал Гоньяр, это связался с комендантом. Во-вторых, приказал обыскать тюрьму. В-третьих, предупредил полицию о возможности побега заключенного.
Все это было простое следование инструкции. Никогда не было никакой необходимости обыскивать камеру беглеца, да никто этого и не делал. Зачем попусту тратить время? Вы увидите все ту же надоевшую картину: маленькая комнатушка с решетками на двери и окне, койкой, ну еще блестящие камешки на подоконнике.
И, конечно, плакат. На этот раз Линда Рондстадт. Картинка, привешенная прямо над койкой, на том же самом месте, где одна красавица сменяла другую на протяжении 26 лет. И если бы кто-нибудь заглянул за картинку, его хватил бы удар.
Но это произошло только ночью, спустя двенадцать часов после того, как обнаружилось отсутствие Энди, и не менее двадцати часов после того, как он совершил побег.
Нортон просто взбесился.
Информацию о происходящем в его кабинете я получал все из того же надежного источника: от старины Честера, натирающего полы в административном корпусе. Только в тот день ему не пришлось полировать ухом замочную скважину: крики коменданта были слышны по всей тюрьме.
– Вы с ума сошли, Гоньяр! Что вы подразумеваете, когда говорите, что он «не обнаружен на территории тюрьмы»? Что это значит? Это значит, что вы не нашли его! Лучше найдите! Ей-богу, это будет лучше для вас! Я этого хочу, слышите?!
Гоньяр что-то ответил.
– Что значит «не в вашу смену»? Никто не знает, когда это случилось. И как. И случилось ли вообще. Так вот, в 15.00 он должен быть у меня в кабинете, или полетят головы. Уж это я обещаю! А я всегда выполняю свои обещания!
Какая-то реплика Гоньяра спровоцировала Нортона на настоящий взрыв.
– Что?! Да вы посмотрите сюда! Сюда, я говорю! Узнаете?! Рапорт ночной смены пятого блока. Все заключенные на месте! Дюфресн был закрыт в камере в девять вечера, и то, что сейчас его там нет, – невозможно! Невозможно, понимаете? Немедленно его найдите!
Но в 15.00 Энди в кабинете Нортона не было. Комендант самолично ворвался в пятый блок, где все мы были заперты на целый день несколько часов спустя. Задавали ли нам вопросы? Мягко сказано. Мы только тем и занимались в этот день, что отвечали на бесконечные вопросы нервничающих озлобленных охранников, которые чувствовали, что им скоро не поздоровится. Все мы говорили одно и то же: ничего не видели, ничего не слышали. И насколько я знаю, все мы говорили правду. Я в том числе. Все мы сказали слово в слово одно: Энди был на месте, когда запирали камеры и гасили огни.
Один парень с невинным видом заявил, что видел, как Энди пролезает в замочную скважину, и фраза эта стоила ему четырех дней карцера. Нервы у всех были на пределе.
Итак, к нам спустился сам Нортон. Его голубые глазки побелели от ярости и, казалось, могли бы высекать искры из прутьев решетки. Он смотрел на нас так, как будто думал, что мы все заодно. Могу спорить, он был в этом уверен.
Он вошел в камеру Энди и огляделся. Камера была все в том же состоянии, в каком ее оставил Энди: кровать расстелена, но не похоже, чтобы на ней сегодня спали. Камни на подоконнике… но не все. Один, самый любимый, Энди забрал с собой.
– Камни, – прорычал Нортон, сгреб их в ладонь и выбросил в окно. Гоньяр вздрогнул, но ничего не сказал. Взгляд Нортона остановился на плакате. Линда оглядывалась через плечо, держа руки в задних карманах облегающих бежевых слаксов. Майка-топ подчеркивала великолепный бюст и нежную гладкую кожу с темным калифорнийским загаром. Для Нортона с его баптистскими воззрениями такая девица была исчадием ада. Глядя на него в эту минуту, я вспомнил, как Энди когда-то сказал, что может пройти сквозь картинку и встать рядом с девушкой.
В точности так он и поступил, как обнаружил Нортон парой секунд позже.
– Какая пакость! – прошипел комендант, сорвав картинку со стены резким жестом.
И обнажил довольно большую зияющую дыру в бетоне, которая была скрыта за плакатом.
Гоньяр отказался лезть в эту дыру.
Нортон приказывал ему – Боже, это надо было слышать, как Нортон во весь голос орал на капитана, – а Гоньяр просто отказывался, да и все тут.
– Уволю! – вопил Нортон. Более всего он напоминал в этот момент истеричную бабу. Все спокойствие было окончательно утеряно. Шея покраснела, на лбу вздулись и пульсировали две вены. – Вы ответите за это, вы… вы, француз! Лишитесь работы, и я уж прослежу за тем, чтобы ни одна тюрьма в окрестности не приняла такого кретина!
Гоньяр молча протянул коменданту служебный пистолет. С него было достаточно. Уже два часа как закончилась его смена, шел третий час, и все это ему порядком надоело. События развивались таким образом, будто исчезновение Энди из нашей маленькой семьи толкнуло Нортона на грань помешательства… Он был просто сумасшедшим в ту ночь. Двадцать шесть заключенных прислушивались к грызне Нортона и Гоньяра, пока последний свет падал с тусклого неба, какое бывает поздней зимой. И все мы, долгосрочники, которые не раз видели смену администрации и перепробовали на своей шкуре все новые веяния, все мы сейчас знали, что с Уорденом Сэмюэлом Нортоном случилось то, что инженеры называют критическим напряжением.
И мне казалось, что я слышу далекий смех Энди Дюфресна.
Нортон наконец получил добровольца из ночной смены, который согласился лезть в дыру, открывшуюся за плакатом. Это был охранник Рори Тремонт, бедняга, который явно не стоял в очереди, когда Господь раздавал мозги. Возможно, ему пригрезилось, что он получит бронзовую звезду или нечто в этом роде. Как выяснилось, это оказалось большой удачей, что в лаз проник человек примерно того же роста и комплекции, что и Энди. Если бы туда полез охранник с толстой задницей, каковых большинство, могу биться об заклад, что он торчал бы там и поныне.
Тремонт полез внутрь, держась за конец нейлонового шнура, который кто-то нашел в багажнике своего автомобиля. Шнур для надежности обмотали вокруг талии охранника, в руку сунули мощный фонарь. Затем Гоньяр, который передумал уходить в отставку и который был единственным мыслящим человеком из присутствующих, откопал кипу распечаток, являющих собой план тюрьмы. Я прекрасно себе представляю, что он там увидел. Тюремная стена в разрезе смотрелась как сандвич: вся она была толщиной в десять футов, внешняя и внутренняя секции – по четыре фута каждая, между ними оставалось свободное пространство в два фута. В этом и заключался весь фокус.
Из дыры донесся приглушенный голос Тремонта:
– Здесь что-то скверно пахнет, комендант.
– Не обращайте внимания! Продвигайтесь вперед.
Ноги Тремонта исчезли в дыре.
– Комендант, здесь жутко воняет.
– Вперед, я сказал! – заорал Нортон.
Едва слышный печальный голос Тремонта:
– Пахнет дерьмом. О Боже, это оно, дерьмо, это же дерьмо! О Господи Иисусе. Сейчас меня стошнит. Дерьмо. Ведь это дерьмо. Боже…
После чего последовал характерный звук, свидетельствующий о том, что желудок бедняги выворачивается наизнанку.
Я ничего не мог с собой поделать. Весь последний день – нет, все последние тридцать лет с их событиями – все стало вдруг на свои места, ясно как Божий день, и я расхохотался. У меня никогда не было такого смеха с тех пор, как я переступил порог этого чертова места. И Боже, как мне было хорошо!
– Уберите этого человека! – орал Нортон, а я смеялся так, что совершенно не мог понять, имеет ли он в виду меня или Тремонта. Я свалился с ног и корчился на полу камеры, не в силах остановиться. Я не смог бы прекратить смеяться, даже если бы Нортон приказал пристрелить меня на месте.
– УБЕРИТЕ ЕГО!
Да, друзья, это было про меня. Убрали меня непосредственно в карцер, где я и провел последующие пятнадцать дней. Срок довольно долгий. Но как только я вспоминал о стенаниях бедняги Тремонта – дерьмо, Боже мой, это дерьмо – и представлял Энди Дюфресна, направляющегося к югу в собственной машине, в костюме и при галстуке, я начинал хохотать. Все пятнадцать дней я просто стоял на голове. Возможно, потому, что какая-то часть моего существа была сейчас с Энди Дюфресном. С Энди, который прошел через дерьмо и вышел чистым, с Энди, едущим к Тихому океану.
Я услышал о том, что происходило в остаток той ночи, из полдюжины различных источников. Дело на этом не закончилось. Очевидно, Тремонт рассудил, что ему нечего терять после того, как он потерял недопереваренный ужин, потому что решил продолжить. Он не рисковал провалиться между внутренними и внешними секциями стены. Пространство было настолько узким, что Тремонту приходилось силой пропихивать себя вниз. Позже он говорил, что едва мог переводить дыхание и что это напоминало погребение заживо.
Внизу он обнаружил канализационную трубу, которая обслуживала четырнадцать туалетов пятого блока, керамическую трубу, установленную тридцать три года назад. В ней была пробита дыра, внутри которой Тремонт нашел молоток Энди.
Энди вышел на свободу, но это оказалось нелегко.
Труба была даже уже, чем промежуток между стенами. Тремонт внутрь не полез, и, насколько я знаю, на это не отважился никто. Пока Тремонт обследовал дыру в трубе, из нее выскочила крыса, и охранник позже клялся: зверюга была размером со щенка спаниеля. Тремонт в два счета взобрался по шнуру обратно в камеру, ловко, как обезьяна.
Энди вышел через трубу. Возможно, он знал, что она оканчивается на западной стороне тюрьмы в пяти сотнях ярдов от ее стен. Думаю, знал. Существовали эти карты, и Энди наверняка мог найти способ взглянуть на них. Он был методичен. Он узнал, что сточная труба, обслуживающая пятый блок, – единственная в Шоушенке не реконструированная по новому образцу, и он знал, что в августе 1975 года будет установлена новая канализационная система. Поэтому бежать надо было сейчас или никогда.
Пять сотен ярдов. Длина пяти футбольных полей. Он полз, сжимая в руке свой любимый камешек, а возможно, еще пару книг и спички. Полз сквозь зловоние, которое я боюсь себе даже представить. Крысы выскакивали перед его носом и следовали за ним, а в темноте они всегда наглеют. Возможно, где-то ему приходилось протискиваться сквозь сужающуюся трубу, опасаясь, что он останется здесь навсегда. Если бы я был на его месте, клаустрофобия довела бы меня до сумасшествия. Но он все прошел до конца.
Через две мили от тюрьмы была найдена его униформа, и было это только днем позже.
Газетчики, как вы можете предположить, тут же принялись раздувать историю. Но ни один человек в радиусе пятнадцати миль от тюрьмы не пожаловался на угон автомобиля, кражу одежды. Никто не сообщил о том, что видел голого человека, бегущего в лунном свете. Даже собаки не лаяли во дворах. Энди вышел из канализационной трубы и таинственным образом исчез, словно растворился в воздухе.
Но я могу спорить, что растворился он в направлении Бакстона.
Три месяца прошло с того памятного дня, и комендант Нортон получил отставку. Но без радости могу добавить, что он к этому времени был совершенно раздавленным человеком. В последний раз он выходил из тюремных ворот ссутулившись, ковыляющей походкой, как старый больной заключенный ковыляет в лазарет за своими каплями. Комендантом стал Гоньяр, и для Нортона это было худшее, чего только можно было ожидать. Насколько я знаю, Сэм Нортон и теперь живет в Элиоте, исправно посещает воскресные церковные службы. Его не покидают тягостные мысли об Энди Дюфресне, какого-то черта взявшем над ним верх. Все просто, Сэм: это должно было произойти. Имея дело с таким человеком, как Энди, следовало знать, что это должно произойти.
Вот все, что я знаю. Теперь попробую изложить свои предположения. Не знаю, насколько они окажутся близки к истине в деталях. Но могу спорить, что общую линию я уловил верно. И когда я теперь думаю об этом, то вспоминаю Нормадена, придурочного индейца.
– Славный малый, – говорил Нормаден после восьми месяцев проживания с Энди. – Но я был рад оттуда съехать. Такие сквозняки в камере. Все время холодно. Он не позволяет никому трогать свои вещи. Хороший человек. Но такие сквозняки…
Бедняга Нормаден знал больше, чем все мы. Прошло восемь долгих месяцев, прежде чем Энди смог снова остаться один в своей камере. Если бы не эти восемь месяцев, которые Нормаден провел с ним, Энди был бы на свободе еще до того, как Никсон стал президентом.
* * *
Я полагаю, все началось в 1949-м – не с молотка даже, а с Риты Хейуорт. Я уже описывал, каким нервным показался мне Энди, когда разговаривал со мной в кинотеатре. Тогда я подумал, что это просто смущение, что Энди из тех людей, которые не хотят, чтобы окружающие знали, что они тоже из плоти и крови и тоже могут хотеть женщину. Но теперь я знаю, что ошибался, возбуждение Энди имело совсем другую причину.
Что привело к появлению того лаза, который Уорден Нортон обнаружил за фотографией девочки, которая даже не родилась в те далекие дни, когда Энди принес в камеру Риту Хейуорт? Долгий труд и тщательный расчет Энди Дюфресна, этого у него не отнимешь. Но было еще кое-что: удача и те свойства, которыми обладает бетон. Что такое удача, объяснять не нужно. Насчет бетона я писал даже в Мэнский университет и получил адрес человека, который мог ответить на интересующие меня вопросы. Он был автором проекта строительства Шоушенкской тюрьмы.
Корпус, содержащий третий, четвертый, пятый блоки, строился с 1934 по 1937 год. Теперь не принято считать цемент и бетон «техническим достижением», как автомобили и ракеты, но это неверно. До 1870 года не было современного цемента, и до начала нашего столетия не существовало современного бетона. Смешивать компоненты для бетона – такая же непростая задача, как выпекать хлеб. Вы можете взять слишком много или слишком мало воды, передозировать песок или выбрать его неподходящего качества. И в 1934 году в этой области не было накоплено достаточно опыта, чтобы бетон всегда выходил качественно.
Стены пятого блока достаточно твердые, но недостаточно сухие. Точнее говоря, чертовски отсыревшие. Время от времени в них появлялись трещины, некоторые очень глубокие, к этому мы давно уже привыкли, и трещины регулярно замазывались. И вот в блоке появился Энди Дюфресн. Человек, который окончил Мэнский университет по экономическому профилю и был бизнесменом, но заодно окончил два или три геологических курса. Геология была его главным хобби. Это вполне соответствовало его скрупулезной, педантичной натуре. Тысячелетние ледники. Миллионы лет горообразования. Движущиеся глубоко под земной корой тектонические плиты, которые на протяжении тысячелетий перемещались, наталкивались друг на друга, образуя кору. Давление. Энди как-то сказал мне, что геология заключается в изучении давлений.
И, конечно, время.
У него оказалось много времени на изучение этих стен. Когда захлопывалась дверь камеры и гасли огни, просто не на что было смотреть.
Новички всегда трудно адаптируются к тюремной жизни. У них начинается нечто вроде горячки. Особо нервных приходится даже пичкать успокоительными в лазарете, чтобы они пришли в норму. Довольно обычное занятие для нас, стариков, слушать крики какого-нибудь бедняги, только вчера попавшего в нашу милую семейку. Он бьется о прутья решетки и кричит, чтобы его выпустили, и до тех пор, пока крики не утихнут, заключенные начинают напевать: «Свежая рыба, эй, маленькая рыбка, свежая рыба, сегодня нам попалась свежая рыба».
Энди не выкидывал никаких штучек, когда попал в Шоушенк в 1948-м, но это не значит, что он не испытывал тех же переживаний. Он, возможно, находился на грани сумасшествия и сумел удержаться на этой грани, не потерять рассудок. Хотя это так тяжело, когда старая жизнь рушится в одно мгновение и начинается долгий кошмар, жизнь в аду.
И что же он сделал? Он стал искать какое-нибудь занятие, что-нибудь, что помогало бы убить время и дать пищу для умственной деятельности. В тюрьме можно найти множество разнообразных способов развлечься; похоже, что человеческий мозг бесконечно изобретателен и имеет неограниченные возможности, когда дело касается развлечений. Я уже рассказывал о скульпторе, создавшем «Три возраста Иисуса». Многие собирают коллекцию монет, и их всегда крадут. Кто-то коллекционирует марки, и я знаю одного парня, у которого были почтовые открытки из тридцати пяти стран мира. И он отвернул бы голову тому, кто посмел бы тронуть его коллекцию.
Энди интересовался камнями. И стенами своей камеры.
Я думаю, первоначально его намерения заходили не слишком далеко. Разве что выбить на стене свои инициалы. Или, может быть, несколько строчек стихотворения. Вместо того он обнаружил удивительно мягкий бетон. Возможно, с первого же удара молотка от стены откололся хороший кусок. Я представляю себе, как Энди лежит на своей койке, вертит в руках кусок бетона и задумчиво его разглядывает. На секунду стоит забыть о том, что вы находитесь в проклятой Богом дыре, что вся прошлая жизнь дала трещину и разлетелась на мелкие кусочки. Обо всем этом сейчас лучше не думать и внимательно посмотреть на этот кусок бетона.
Через несколько месяцев он решил, что будет забавно посмотреть, какое количество бетона он сможет вытащить, выбить из стены. Но нельзя ведь начать долбить стену вполне откровенно. И потом, когда придет недельная проверка (или одна из тех неожиданных проверок, которые вечно обнаруживают у заключенных «травку» и порнографию), просто сказать охраннику: «Это? Просто я ковырял маленькую дырочку в стене. Пустяки, не обращайте внимания».
Нет, так он поступить не мог. Поэтому пришел ко мне и спросил, нельзя ли достать плакат с Ритой Хейуорт. Большой экземпляр.
И, конечно, тот самый молоток. Помню, когда я доставал его в 1948 году, подумал, что уйдет шесть сотен лет на то, чтобы пробить такой штуковиной стену. Вполне резонно. Но Энди пришлось проходить только половину стены, да еще из довольно мягкого бетона, и на это ушло всего лишь двадцать семь лет и два истершихся молотка.
Большую часть одного из этих лет пришлось потратить на Нормадена. К тому же Энди приходилось работать ночью, когда все, включая охранников ночной смены, спят. Но я подозреваю, что более всего работу замедляла необходимость куда-то девать вынутые из стены куски. Приглушить звук молотка можно было с помощью полировальных подушечек, но что делать с раскрошившимся бетоном и попадающимся гравием?
Помню одно воскресенье вскоре после того, как я принес Энди молоток. Помню, как я смотрел на Энди, идущего по двору. Вот он останавливается, подбирает камешек… и тот исчезает в рукаве тюремной куртки. Такой карман в рукаве – старый тюремный трюк. В рукаве или в штанинах брюк. Помню и другое свое наблюдение. Энди Дюфресн прогуливался по двору в жаркий летний день, вокруг ног Энди легкий ветерок, казалось, поднимал и кружил песчинки и пыль.
Стало быть, у него была пара потайных карманов. В них набивался раскрошенный цемент, и как только Энди оказывался в сравнительной безопасности и никто не наблюдал за ним довольно пристально, он выпускал цементную пыль. Старый трюк, который применяли пленники времен второй мировой войны, устраивающие подкопы.
Проходили годы, и Энди понемногу выносил свою разрушавшуюся стену на тюремный двор. Он участвовал в махинациях каждой новой администрации, и все думали, что он это делает потому, что хочет расширять библиотеку. Несомненно, в этом была доля истины, и довольно большая. Но главное заключалось в том, что Энди хотел оставаться один в четырнадцатой камере пятого блока.
Не знаю, были ли у него реальные планы побега. Или по крайней мере надежда на побег. Возможно, он считал, что стена более чем твердая и длиной десять футов. И если даже он пройдет этот путь, то выйдет наружу в тридцати футах над прогулочным двором. Но как я уже сказал, не думаю, чтобы он как-то беспокоился и особо задумывался на этот счет. Его мысли могли течь по следующему руслу: я прохожу всего фут стены за семь лет, значит, наружу смог бы выйти только лет через семьдесят, в сто один год, но и черт с ним со всем, будь что будет.
Посмотрим, как развиваются события дальше. Энди знает, что, если его увлечение обнаружат, он получит изрядный срок карцера и черную отметку в карточке. А так как регулярные проверки происходят каждую неделю, а неожиданная может прийти в любой момент, и чаще всего это происходит ночью, то все это не может продолжаться слишком долго. Рано или поздно какой-нибудь охранник может заглянуть за картинку, чтобы проверить, не прячет ли там Энди остро наточенную ручку алюминиевой ложки или сигарету с «травкой».
И Энди сделал из этого игру: поймают или не поймают? Тюрьма – чертовски скучное место, и возможность нарваться на ночную проверку в то время, когда Рита Хейуорт снята со стены, как всякий риск, вносила некий интерес и разнообразие в жизнь заключенного на протяжении первых лет.
Думаю, что с помощью одного везения ему не удалось бы продержаться двадцать семь лет. Но первые два года – до мая 1950-го, когда произошел эпизод с Байроном Хедли, – надеяться приходилось только на везение.
Кроме того, конечно, у него имелись деньги. Можно было каждую неделю распространять между дежурными охранниками небольшую сумму, чтобы они не слишком тщательно обыскивали его камеру во время проверок. Охранники не особо усердствуют в таких случаях: деньги у них в кармане, и пусть себе заключенный спокойно курит свои сигареты или развешивает картинки. К тому же Энди всегда был паинькой. Тихий, хладнокровный, корректный, он вовсе не напоминал тех дебоширов, к которым проверка приходит чаще, чем к остальным, переворачивая подушки и проверяя канализационную трубу.
Тогда, в 1950-м, Энди стал чем-то большим, чем просто примерным заключенным. Он стал заметной фигурой, человеком, который умеет обращаться с бухгалтерией. Он оформлял счета, давал советы по планированию вложений, заполнял бланки договоров по займу и аренде. Помню, как однажды Энди сидел в библиотеке, терпеливо, параграф за параграфом, прорабатывая с начальником охраны соглашение о прокате автомобиля. Он рассказывал во всех подробностях, что в договоре хорошо и что плохо, объясняя непонятные термины и предостерегая от операций с финансовыми компаниями, которые отличались от сидящих в Шенке грабителей только тем, что были официально зарегистрированы и признаны. Когда он закончил, начальник было протянул ему руку для пожатия… и быстро отдернул ее обратно. На секунду он забыл, что находится в тюрьме и имеет дело с заключенным.
Энди был в курсе всех изменений в законах о налогообложении и ситуаций на рынке акций, поэтому его деятельность как знающего специалиста не прекратилась после того, как его заперли в каменный мешок, а ведь это могло бы произойти. Он был полезен для администрации. Поэтому война с сестрами прекратилась, библиотека росла, и камера по-прежнему была в распоряжении Энди. Он был очень полезным ниггером. Им было выгодно видеть его счастливым.
Однажды в октябре 1967 года простое развлечение, долгое хобби превратилось в нечто иное. Ночью, когда Энди, просунувшись в дыру уже по пояс, продолжал крошить стену, молоток внезапно ушел в бетон по самую рукоятку.
Энди вытащил, возможно, несколько обломков, но он услышал, как другие провалились в пустоту, гулко ударившись о трубу внизу. Знал ли он к этому времени, что наткнется на пространство между стенами или же был удивлен? Понятия не имею. Не знаю, была ли у него возможность до этого дня ознакомиться с планом тюрьмы. Если нет, будьте уверены: на следующий же день он это сделал.
Тогда Энди понял, что играет уже не в детские игрушки. Что ставки слишком высоки: его свобода, его жизнь. Даже тогда он не был вполне уверен в успехе, но идея побега уже пришла ему в голову, потому что именно в это время мы впервые говорили о Зихуатанехо. Вместо того чтобы оставаться простым вечерним развлечением, этот лаз сделался его хозяином, если Энди к этому времени знал уже о канализационной трубе и о том, что она выведена за стены тюрьмы.
На протяжении многих лет он беспокоился о своем ключе, лежащем под камнем в Бакстоне. Волновался, что какой-нибудь крутой охранник из новеньких устроит у него тщательный обыск и заглянет за плакат или что придет новый сокамерник. Все эти вещи действовали ему на нервы на протяжении восьми лет. Все, что я могу сказать по этому поводу: он – самый хладнокровный человек из мне известных. Я бы просто свихнулся от такой неопределенности. Но Энди продолжал свою игру.
Он вынужден был мириться с тем, что в любой момент его тайна раскроется, но боги были добры к нему на протяжении всего этого долгого времени.
Самое забавное, что только можно себе представить, – это его амнистия. Ведь три дня после того, как решение об освобождении принято, заключенный проводит в менее охраняемом корпусе, проходя физические, психические, профессиональные тесты. Пока он находится там, его камеру полностью освобождают от вещей хозяина и готовят для нового жильца. Поэтому вместо освобождения Энди получил бы довольно долгий срок в карцере, а потом поднялся бы по все тем же ступеням, но уже в другую камеру.
Если он вышел на полость в 1967-м, почему же ничего не предпринимал до 1975-го?
Точно не знаю, могу лишь кое-что предполагать.
Во-первых, он должен был стать еще более осторожным. Он был слишком умен, чтобы сломя голову броситься осуществлять свои замыслы и попытаться выйти наружу за восемь месяцев или даже за восемнадцать. Он должен был расширять свой лаз понемногу. Отверстие размером с чашку, когда он заказал свою новогоднюю выпивку в тот год. Размером с тарелку к тому времени, когда он отмечал день рождения в 1968-м. И уже довольно большой ход в 1969-м, когда начался бейсбольный сезон.
К тому времени он стал продвигаться гораздо быстрее, чем раньше. Вместо того чтобы измельчать куски бетона и выносить пыль во двор в потайных карманах, можно было просто выбрасывать их в полость. Возможно, он так и делал, а может, и нет, ведь шум мог бы возбудить подозрения. Или, если он уже знал о трубе, то мог бояться, что падающий вниз обломок бетона пробьет ее раньше времени. Канализационная система блока выйдет из строя, что повлечет за собой расследование, и его ход будет непременно обнаружен.
Несмотря на все это, к тому времени как Никсон был избран во второй раз, ход сделался настолько большим, что Энди спокойно мог проникнуть в него.
Почему же он этого не сделал?
Здесь какие-либо обоснованные предположения заканчиваются, и остаются только смутные догадки. Конечно, лаз мог быть засорен внизу осколками стены, и его надо было расчистить. Но эта операция не могла занять много времени. Что же тогда?
Мне кажется, Энди испугался.
Я уже описывал, как привыкает человек к несвободе. Сперва вы не можете находиться среди этих четырех стен, затем понемногу к ним привыкаете, начинаете принимать их как нечто естественное… И наконец, тело ваше и сознание настолько приспосабливаются к клетке, что вы начинаете ее любить. Здесь вам указывают, когда надо есть, когда писать письма, когда курить. Когда вы работаете, то каждый час вам выделяется пять минут на то, чтобы справить свою нужду. Мой перерыв приходился на двадцать пятую минуту каждого часа, и это было на протяжении тридцати пяти лет. Поэтому единственное время, когда я мог захотеть в туалет, приходилось на двадцать пятую минуту. А если я по каким-то причинам туда не шел, на тридцатой минуте нужда проходила… До двадцать пятой минуты следующего часа.
Возможно, Энди тяготил страх оказаться за пределами тюремных стен, этот обычный для всякого заключенного синдром.
Сколько ночей провел он, лежа на койке под своим плакатом, раздумывая о канализационной трубе и своих шансах благополучно сквозь нее пробраться? Распечатки указали ему местоположение и радиус трубы, но никак нельзя было узнать, что находится внутри – не задохнется ли он, не будут ли крысы настолько велики, чтобы нападать на него, а не убегать, а главное, что он найдет на дальнем конце трубы, когда до него доберется? Ведь могла бы выйти даже более забавная история, чем с амнистией: Энди пробивает отверстие в трубе, ползет пять сотен ярдов, задыхаясь в зловонной темноте, и видит крупную металлическую сетку или фильтр на другом конце трубы. Забавная ситуация, не правда ли?
Все эти вопросы постоянно волновали его. И даже если все закончится благополучно и Энди вылезет из трубы, сможет ли он найти гражданскую одежду и исчезнуть незамеченным ни полицией, ни фермерами? Даже если все это произойдет и он будет далеко от Шоушенка прежде, чем поднимут тревогу, доберется до Бакстона, найдет нужный луг, перевернет камень… а там ничего? Нет даже необходимости в таком драматическом развитии событий, как прийти на нужное место и увидеть вместо луга новый супермаркет. Все может оказаться еще проще: какой-нибудь ребенок, любитель камней, увидит вулканическое стекло, вытащит его, обнаружив ключ, и унесет то и другое в качестве сувениров… да все, что угодно, может произойти.
Итак, мне кажется, что Энди просто на некоторое время затих. Что он мог потерять, спросите вы? Во-первых, библиотеку, и потом, привычную подневольную жизнь. И любой будущий шанс воспользоваться своими документами и деньгами.
Но в результате он решился и преуспел.
Но действительно ли ему удалось убежать, спросите вы? Что произошло потом? Что случилось, когда он перевернул камень… Даже если предположить, что камень все еще был на месте?
Я не могу описать эту сцену, потому что все еще сижу в четырех стенах своей камеры и вряд ли скоро покину Шенк.
Но кое-что я знаю. Пятнадцатого сентября 1975 года я получил почтовую открытку из маленького городка Макнери, штат Техас. Город расположен на американской стороне границы. Та сторона открытки, где полагается писать, была абсолютно пуста. Но я все понял.
Именно там он переходил границу. Макнери. Штат Техас.
Вот и вся моя история. Я никогда не задумывался о том, сколь долгой она получится и сколько страниц займет. Я начал писать сразу после того, как получил открытку, и закончил сегодня, 14 января 1976 года. Я использовал уже три карандаша и полную упаковку бумаги. Рукопись я тщательно прячу… Да и вряд ли кто-нибудь сможет прочитать эти каракули.
Ты пишешь не о себе, говорю себе я. Ты пишешь об Энди, а сам являешься лишь второстепенным персонажем своего рассказа. Но знаете, каждое слово, каждое чертово слово этого рассказа все-таки обо мне. Энди – это часть меня, лучшая часть, которая обрадуется, когда тюремные ворота откроются наконец и я выйду на свободу. В дешевом костюме, с двадцатью долларами в кармане. Эта часть моей личности будет радоваться независимо от того, насколько старой, разбитой и напуганной окажется оставшаяся половина.
Здесь есть и другие заключенные, которые, подобно мне, помнят Энди. Мы счастливы, что он ушел, но и опечалены. Некоторые птицы не предназначены для того, чтобы держать их в клетке. Их оперение блистает сказочными красками, песни их дики и сладкозвучны. Лучше дать им свободу, иначе однажды, когда вы откроете клетку, чтобы покормить птицу, она просто выпорхнет. И какая-то часть вашего существа будет знать, что все происходит так, как и должно, и радоваться. Но дом ваш опустеет без этого чудного создания, жизнь станет более скучной и серой.
Вот и все, что я хотел вам рассказать. И я рад, что мне это удалось, даже если мой рассказ где-то оказался непоследовательным и бессвязным, и если эти воспоминания сделали меня чуть печальнее и даже старее. Благодарю за внимание. И Энди, если ты действительно сейчас на свободе – а я верю, что это так, – погляди за меня на звезды после заката, набери полную пригоршню песка, брось ее в прозрачную чистую воду и вдохни за меня полной грудью воздух свободы.
Я никогда не подозревал, что снова возьмусь за свою рукопись, но вот передо мной лежат разбросанные по столу страницы, и я хочу к ним добавить еще несколько. Я буду писать их на новой бумаге, которую купил в магазине. Просто пошел в магазин на портлендской Конгресс-стрит и купил.
Я думал, что закончил свой рассказ в Шоушенкской тюрьме январским днем 1976 года. Сейчас май 1977-го, и я сижу в маленькой дешевой комнатушке отеля «Брюстер» в Портленде.
Окно распахнуто настежь, и доносящийся с улицы гул машин кажется мне очень громким, волнующим, будоражащим сознание. Я постоянно выглядываю в окно, чтобы убедиться, что на нем действительно нет решетки. Ночью я плохо сплю, потому что кровать в моем дешевом номере кажется слишком большой и непривычно роскошной. Я вскакиваю в шесть тридцать каждое утро совершенно растерянный и испуганный. Мне снятся дурные сны, и постоянно возникает чувство, что свобода моя вот-вот исчезнет, и это ужасно.
Что со мной случилось? Я был выпущен из тюрьмы. После тридцати восьми лет подъемов и отбоев по звонку я оказался свободным человеком. Они решили, что в возрасте пятидесяти восьми лет после долгого заключения я слишком стар, разбит и совершенно безопасен для общества.
Я едва не сжег рукопись. Выходящих на свободу заключенных обыскивают так же тщательно, как новичков, попадающих в тюрьму. А моя рукопись содержит в себе достаточно взрывоопасных вещей, чтобы стоить мне еще шести или восьми лет заключения. И главное – название города, где находится сейчас Энди Дюфресн. Мексиканская полиция с удовольствием объединит свои усилия с американской, и я не хочу, чтобы мое нежелание расставаться с записями, которым я отдал столько времени и энергии, стоило Энди его свободы.
И вот я вспомнил, каким способом Энди в 1948-м пронес в тюрьму пятьсот долларов, и вынес свои исписанные листки точно так же. Для перестраховки я тщательно вымарал название Зихуатанехо. Если бы даже записи обнаружили, я вернулся бы в Шенк еще на некоторое время, но Энди бы никто найти не смог. Комитет по освобождению дал мне работу в большом продовольственном магазине на Спрус-Мэлл в Портленде. Я стал посыльным. Есть только два типа мальчиков на побегушках, насколько известно: мальчишки и старики. Если вы делали закупки на Спрус-Мэлл, возможно, я даже относил вашу корзинку к автомобилю. Но только если это происходило между мартом и апрелем 1977 года, поскольку именно в этот период я там и работал.
Сперва я думал, что никогда не приспособлюсь к жизни за стенами Шенка. Я описывал тюрьму как уменьшенную модель общества, но никогда не представлял себе, как интенсивно развиваются события и как быстро движутся люди в большом мире. Они даже говорят быстрее. И громче.
Теперь мне приходится проходить период адаптации, и он еще не закончился. Например, меня смущают женщины. На протяжении сорока лет я успел забыть, что они тоже являют собой половину рода человеческого. И вот внезапно я оказался в магазине, переполненном женщинами. Старые леди, беременные женщины в майках со стрелочками, указывающими на живот и надписью БЕБИ ЗДЕСЬ… Женщины всех возрастов и форм. Я большую часть времени находился в легком смущении и ругал себя за это: «Прекрати глазеть по сторонам, грязный старикашка!»
Другой пример – необходимость отлучиться в туалет или ванную. Когда мне приходило такое желание (обычно это случалось на двадцать пятой минуте часа по старой привычке), мне приходилось бороться с непреодолимым желанием спросить разрешения у босса. Одно дело знать, что я могу обойтись без чьего-либо разрешения на эти вещи в свободном мире. Другое дело – выработавшаяся за долгие годы привычка доложить о своем уходе ближайшему охраннику: уклонение от этого правила могло стоить двух дней карцера.
Мой босс меня не любил. Он был молод, лет двадцати шести или двадцати семи. Я видел, что вызываю у него отвращение, какое может вызывать подползающий к вам на брюхе, чтобы его погладили, старый пес. Боже, я и сам себе был отвратителен. Но ничего не мог с собой поделать. Я хотел сказать ему: Вот что делает с человеком жизнь, проведенная в тюрьме. Она превращает каждого вышестоящего в хозяина, а тебя делает псом. Но там, за решеткой, когда все вокруг тебя находятся в том же положении, это не имеет большого значения. А здесь становится заметным. Но я не мог сказать ему этих слов, да и зачем? Все равно он никогда не поймет меня, как и мой инспектор, огромный тип с густой рыжей бородой и богатым набором шуток о поляках. Он встречался со мной минут на пять каждую неделю.
– Остаешься по эту сторону решетки, Рэд? – спрашивал он, когда запас шуток иссякал.
Я отвечал утвердительно, и мы расставались до следующей недели.
Музыка по радио. Когда я попал в Шенк, музыкальный бум только начинался. Теперь же вокруг было множество групп самых разнообразных направлений. Казалось, все только и поют, что о страхе. Возможно, это мне только казалось… Много машин и очень оживленное движение на улицах. Первое время когда я переходил улицу, то чувствовал себя так, будто жизнь моя висит на волоске.
Было много всего, чего и не опишешь, но, думаю, суть вы уловили. Я начал подумывать о возвращении в старый добрый Шенк. Когда вас только освободили, нет ничего проще. Стыдно признаться, но я намеревался даже украсть выручку в своем магазине… В общем, что угодно, чтобы попасть обратно туда, где день регламентирован и все предписано и известно заранее.
Если бы я не был знаком с Энди, то так бы и поступил. Но я вспоминал о том, как долгие годы этот человек терпеливо пробивал стену тюрьмы, чтобы выйти на свободу. И мне становилось стыдно. Да, вы можете сказать, что у него было больше причин, чем у меня, желать освобождения. У него были новые документы и уйма денег. Но это не совсем так. Он не мог быть уверен, что документы все еще на месте, а без документов и деньги находились за пределами досягаемости. Нет, он просто хотел на свободу. И поэтому мое трусливое желание вернуться в клетку было просто предательством.
Тогда в свободное от работы время я начал ездить в маленький городок Бакстон. Было начало апреля 1977 года, уже теплело, снег сходил с полей, бейсбольные команды уехали на север, чтобы открыть новый сезон единственной богоугодной, по-моему, игры. Когда я отправлялся в эти поездки, в правом кармане у меня всегда лежал компас.
В Бакстоне есть большой луг. С севера он огражден каменной стеной, как в стихотворении Роберта Фроста. И возле этой стены лежит камень, который не имеет отношения к этому лугу в Мэне.
Идиотская идея, скажете вы. Сколько лужаек в маленьком провинциальном городишке? Сотня? По моему собственному опыту могу сказать, что даже больше. Стоит еще посчитать те, которые были обработаны после того, как Энди попал в тюрьму. И если даже я найду нужное место, то не факт, что узнаю его. Потому что кусочек вулканического стекла можно проглядеть. Или Энди мог забрать его с собой.
Да, я с вами согласен. Затея глупая и даже опасная для бывшего заключенного, потому что некоторые из этих лужков обнесены теперь оградой с табличкой ВХОД ВОСПРЕЩЕН. А как я уже говорил, вас всегда рады упрятать обратно за решетку по любому пустячному поводу. Дурацкая идея… Впрочем, не более, чем пробивать дырку в стене на протяжении двадцати семи лет. И если вы перестали быть значимой персоной, человеком, который может все достать, и стали просто старым мальчиком на побегушках, то замечательно будет завести себе какое-нибудь хобби. Моим хобби стали поиски камня Энди.
Итак, я ездил в Бакстон и прогуливался по дорогам. Я слушал пение птиц, наблюдал, как с полей сходит снег, обнажая прошлогоднюю траву и валяющиеся тут и там обрывки газет, консервные банки, бутылки. Все бутылки непригодны к возвращению; удивительно расточительным стал этот мир… И конечно, я искал лужайки. Большинство из них отпадало сразу. Никаких каменных оград. Или же компас указывал мне, что они расположены не на том краю. Я проходил мимо. Эти прогулки были довольно приятны, я действительно ощущал спокойствие, умиротворенность, свободу. В одну субботу меня сопровождала какая-то дворняжка, а однажды я увидел вышедшего из-за деревьев оленя.
Затем наступило двадцать третье апреля, день, который останется в моей памяти, даже если я проживу еще пятьдесят восемь лет. Была суббота, и я шел по направлению Олд-Смит-роуд, следуя совету мальчишки, рыбачившего на мосту. Я взял с собой несколько бутербродов в коричневом пакете нашего магазина и позавтракал, сидя на обочине дороги. Потом встал, аккуратно закопал пакет, как учил меня папенька, когда я был не старше этого рыбака, и пошел дальше.
Часа в два дня я увидел слева от себя большой луг. Каменная стена ограждала его в точности с северной стороны. Я пошел к ней, хлюпая по весенней грязи. Белка внимательно глядела на меня с ветки дуба.
Пройдя три четверти пути вдоль ограды, я увидел камень. Тот самый, ошибки быть не могло. Черное стекло, гладкое как шелк. Камень, не имеющий никакого отношения к этому лугу. Долгое время я стоял и просто смотрел на него, чувствуя, что сейчас могу заплакать. Сердце мое бешено билось.
Когда я почувствовал, что немного взял себя в руки, то приблизился к камню и дотронулся до него. Он был реальный. У меня и в мыслях не было брать его: я был уверен, что в тайнике уже ничего нет, и спокойно мог бы пойти домой, так ничего и не обнаружив. И ни в коем случае не стал бы я уносить его с собой – это было бы хуже воровства. Нет, я просто взял камень в руки, чтобы лучше ощутить его реальность, чтобы окончательно понять, что это не галлюцинация. Долгое время я не двигаясь смотрел на то, что лежало под камнем. Глаза мои все видели, но мозг был не в состоянии что-либо понять. Там лежало послание, аккуратно запечатанное в пластиковый пакет для предохранения от сырости. На нем каллиграфическим почерком было выведено мое имя. Я взял письмо и вернул на место камень.
Дорогой Рэд!
Когда ты читаешь эти строки, ты уже дышишь вольным воздухом. Так или иначе, ты вышел на свободу. Теперь, возможно, ты запомнил название города? Мне очень нужен такой человек, как ты, чтобы помочь наладить мое дело.
Пропусти теперь стаканчик виски и обдумай это предложение. Помни, что надежда – хорошая вещь, возможно, даже лучшая из всех. Она не умирает. Я буду надеяться, что это письмо найдет тебя, и все будет хорошо.
Твой друг
Питер СтивенсЯ не стал читать письмо прямо на лугу. Меня охватил ужас, и захотелось немедленно убежать отсюда, пока меня никто не увидел.
Я вернулся в свою комнату и прочитал его там. С кухни доносился запах дешевых обедов – Бифарони, Рис-а-рони, Нудл-рони… Могу спорить, что все, что сейчас едят в Америке пожилые люди с ограниченным доходом, оканчивается на рони.
Я вскрыл пакет и прочитал письмо. Потом уронил голову на руки и заплакал. К письму были приложены двадцать новеньких пятидесятидолларовых банкнот.
И вот я сижу за столом в своей дешевой комнатушке отеля «Брюстер» и думаю, что делать дальше. Кажется, я слегка обойду закон. Нарушение условия освобождения. Преступление не слишком тяжкое: инспектор будет недоволен, но засад на дорогах никто выставлять не станет.
Передо мной эта рукопись. На кровати валяется весь мой багаж, умещающийся в чемоданчике размером с докторский. В кармане девятнадцать пятидесятидолларовых бумажек, четыре десятки, пятерка, три доллара и всякая мелочь. Я разменял одну из пятидесяток, чтобы купить упаковку бумаги и курево.
Я раздумывал, как быть дальше. Но на самом деле никаких сомнений не было. Всякий выбор сводится к одному простому вопросу: быть или не быть, жить или существовать.
Сперва я положу рукопись в чемоданчик. Затем закрою его, возьму пальто, спущусь по ступенькам и покину этот клоповник. Я пойду в бар, положу перед барменом пять долларов и закажу две порции «Джек Дэниэлс» – одну для меня и другую для Энди Дюфресна. Если не считать того пива на крыше фабрики, это будет первая моя выпивка с 1938 года. Затем я поблагодарю бармена и оставлю ему доллар на чай. Я пойду к станции Грейхаунд, где куплю билет до Эль-Пасо. Там я пересяду на автобус до Макнери. Когда я приеду в этот городишко, там уже будет видно, сможет ли такой старый плут, как я, пересечь мексиканскую границу.
Я запомнил это название: Зихуатанехо. Такое название трудно забыть.
Я чувствую прилив энергии и настолько возбужден, что едва могу держать карандаш в дрожащей руке. Думаю, такое возбуждение может испытывать только свободный человек, отправляющийся к океану.
Я надеюсь, Энди сейчас там.
Надеюсь, что смогу пересечь границу.
Надеюсь увидеть моего друга и пожать ему руку.
Надеюсь, что Тихий океан такой же голубой, как в моих снах…
Я надеюсь.
Лето распада «Способный ученик»
[4]
1
Парнишка, мчавшийся по тихой пригородной улочке на отличном велосипеде фирмы «Швинн» с изогнутым рулем, был похож на типичного американского подростка, каким он, собственно, и являлся. Тодду Боудену исполнилось тринадцать лет, рост и вес нормальные, волосы светло-соломенные, глаза голубые, зубы ровные и белые, а чистое и загорелое лицо лишено даже намека на обычные для этого возраста угри.
Он крутил педали, мчась по залитой солнцем улице за три квартала от дома, и на его лице играла та особенная улыбка, что бывает на лицах ребят только в летние каникулы. Его вполне можно было принять и за разносчика газет – и он действительно подрабатывал доставкой «Клэрион» подписчикам Санта-Донато. Еще его можно было принять за торговца поздравительными открытками, что, кстати, тоже соответствовало действительности. На таких открытках обычно печатали имена отправителей, например «Джек и Мэри Бёрк», или «Дон и Салли», или просто «Мерчинсоны». Такие парнишки часто насвистывают во время работы, и Тодд тоже иногда насвистывал, причем очень даже неплохо. Отец Тодда – архитектор – получал сорок тысяч в год, мать была домохозяйкой с дипломом секретаря и подрабатывала машинописными работами на дому, если позволяло время. Она и с отцом-то познакомилась, когда тот искал себе секретаршу в машинописном бюро. Мать аккуратно хранила в отдельной папке все табели успеваемости Тодда. Самый лучший был за четвертый класс, на котором миссис Апшоу даже написала: «Тодд – на редкость способный ученик». И это была чистая правда. Одни отличные и хорошие отметки. Учись
он только на «отлично», друзья бы запросто могли решить, что с ним не все в порядке.
Добравшись до строения 963 по Клермон-стрит, Тодд затормозил и слез с велосипеда. Небольшой белый домик с верандой, зелеными ставнями и такого же цвета наличниками прятался в глубине участка, опоясанного ровной и ухоженной живой изгородью.
Тодд откинул со лба прядь светлых волос и покатил велосипед по бетонной дорожке к ступенькам крыльца. Он по-прежнему улыбался, и в его открытой улыбке – настоящем шедевре современной стоматологической индустрии и фторированной воды – появилось предвкушение. Установив велосипед на выдвижную подставку, Тодд подобрал газету, валявшуюся на нижней ступеньке, правда, не «Клэрион», а «Лос-Анджелес таймс», сунул ее под мышку и поднялся по ступенькам. Справа от двери к деревянной стене был привинчен звонок и две маленькие таблички, закрытые прозрачной пленкой, защищающей от солнца и дождя.
«Немецкая обстоятельность», – подумал Тодд, и улыбка стала еще шире. К такому заключению мог прийти только взрослый, и он мысленно поздравил себя, как делал каждый раз, когда удавалось проявить несвойственную мальчишке его возраста сообразительность.
На верхней табличке значилось: «АРТУР ДЕНКЕР».
На нижней – «ТОВАРОВ И УСЛУГ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ».
Продолжая улыбаться, Тодд нажал кнопку звонка.
В маленьком домике послышалось приглушенное треньканье. Тодд убрал палец с кнопки и, наклонив голову, прислушался: теперь в доме царила тишина. Мальчик взглянул на наручные часы, полученные в качестве награды за распространение поздравительных открыток: двенадцать минут одиннадцатого. Хозяину уже давно пора проснуться. Сам Тодд даже во время каникул вставал не позднее половины восьмого. Кто рано встает, того удача ждет.
Он подождал еще с полминуты и снова нажал на кнопку, следя за секундной стрелкой на часах. Через семьдесят одну секунду послышалось шарканье. По звуку шагов Тодд определил,
что хозяин наверняка в шлепанцах. Он увлекался дедукцией и мечтал стать частным детективом, когда вырастет.
– Иду, иду! – послышался недовольный голос человека, выдававшего себя за Артура Денкера. – Хватит трезвонить! Иду!
Тодд отпустил кнопку звонка и взглянул на подушечку пальца – на ней отпечатался след в виде маленького красного пятнышка.
За глухой внутренней дверью звякнула цепочка, лязгнул отодвигаемый засов, и на пороге за противомоскитной сеткой показался старик, облаченный в халат. Тодд решил, что он одновременно похож и на Альберта Эйнштейна, и на Бориса Карлоффа, сыгравшего Чудовище в фильме «Франкенштейн». Длинные седые волосы некрасивого желтого оттенка наводили на мысль не о слоновой кости, а о никотине. На одутловатом со сна морщинистом лице неприятная двухдневная щетина. Отец Тодда брился каждый день, даже в выходные, и любил повторять, что «бритье наводит на лицо утренний лоск». Старик и в самом деле немного походил на Альберта Эйнштейна и Бориса Карлоффа, но еще больше – на опустившегося пьяницу, вроде тех, что ошиваются возле вокзала.
Однако Тодд напомнил себе, что старик только что проснулся. Он много раз его видел раньше (и принимал все меры предосторожности, чтобы тот не заметил слежки), и на людях старик всегда выглядел очень опрятно и подтянуто – сразу понятно, что отставной военный, хотя ему и стукнуло уже семьдесят три года, если верить статьям в газетах, которые Тодд разыскал в библиотеке. При посещении магазина или кино, куда Денкер ездил на автобусе, поскольку машины у него не было, он всегда облачался в один из четырех добротных костюмов, какая бы жаркая погода на улице ни стояла. Иногда он даже надевал мягкую фетровую шляпу. В пасмурные дни Денкер захватывал перетянутый резинкой зонт, который держал под локтем, будто офицерскую трость. На людях Денкер был всегда тщательно выбрит, а его седые усы, которые он отпустил, чтобы прикрыть неудачно прооперированную заячью губу, тщательно и аккуратно подстрижены.
– Мальчик… – обратился к нему старик глухим и заспанным голосом. Тодд с неудовольствием обратил внимание, что
халат у него заношенный и грязный. Круглый ворот смялся и уперся в морщинистую шею. На левом отвороте виднелось бурое пятно от какого-то соуса. От старика пахло табаком и перегаром. – Мальчик, – повторил он, – мне ничего не нужно. Прочитай, что здесь написано. Ты же умеешь читать? Наверняка умеешь! Все американские мальчики умеют читать. Так что ступай своей дорогой. До свидания.
Дверь начала закрываться.
Позднее, размышляя о случившемся в одну из бессонных ночей, Тодд пришел к выводу, что на этом все могло бы и закончиться. Впервые увидев старика так близко и без маски на лице, которую тот надевал «на выход», а сейчас спрятал в шкаф вместе с зонтиком и фетровой шляпой, Тодд мог запросто передумать. И тогда дверь просто закрылась бы, задвижка вернулась на место, и не произошло бы ничего из дальнейших событий. Но Тодда воспитывали как настоящего американца, для которого упорство и настойчивость являлись высшими и бесспорными добродетелями.
– Тут ваша газета, мистер Дюссандер, – вежливо произнес Тодд, протягивая «Таймс».
Закрывавшаяся дверь замерла, осталась широкая щель. По лицу Курта Дюссандера пробежала тень, но лицо тут же снова обрело бесстрастность. Наверное, от неожиданности он не смог скрыть невольный испуг, но сумел быстро овладеть собой. Тодд испытал разочарование в третий раз: он-то рассчитывал, что Дюссандер не просто хорош, а практически совершенен.
Ну и ну, подумал Тодд с презрением. А я-то думал!
Дверь снова распахнулась. Скрюченная артритом рука, похожая на паучью лапу, отодвинула задвижку на двери с противомоскитной сеткой, чуть приоткрыла ее и ухватилась за край газеты, которую протягивал Тодд. Мальчик с отвращением посмотрел на длинные, неухоженные и пожелтевшие от никотина ногти. Такая желтизна на пальцах бывает только оттого, что в руках постоянно дымится сигарета. Тодд считал курение отвратительной и вредной для здоровья привычкой и сам курить не собирался. Просто удивительно, как Дюссандер дожил до преклонных лет.
– Отпусти мою газету! – Старик потянул ее на себя.
– Конечно, мистер Дюссандер. – Тодд разжал пальцы. Паучья лапа втянула газету за сетчатую дверь, и она захлопнулась.
– Моя фамилия Денкер, – сказал старик, – а вовсе не какой-то Дузандер. А ты, выходит, даже читать не умеешь. Очень жаль. Всего хорошего!
Тодд торопливо произнес:
– Концлагерь Берген-Бельзен – с января по июнь сорок третьего, Аушвиц – с июня сорок третьего по июнь сорок четвертого. Unterkommandant[5]. Патэн…
Дверь снова замерла на месте. Мертвенно-бледное лицо с мешками под глазами походило на застрявший в проеме полусдутый воздушный шар. Тодд улыбнулся:
– Перед приходом русских вы бежали из Патэна и перебрались в Буэнос-Айрес. По слухам, вы там разбогатели, вкладывая золото, вывезенное из Германии, в наркоторговлю. Как бы то ни было, с пятидесятого года по пятьдесят второй вы жили в Мехико, а потом…
– Да ты с ума сошел, мальчик! – Старик покрутил скрюченным пальцем возле виска над уродливым ухом, но его губы, закрывавшие беззубый рот, предательски задрожали…
– Что вы делали с пятьдесят второго до пятьдесят восьмого, я не знаю. – Улыбка Тодда стала еще шире. – Этого, похоже, никто не знает, во всяком случае, никаких сведений я не нашел. Но на Кубе, накануне прихода Кастро к власти, вас опознал один израильский агент – вы были консьержем большого отеля. Когда повстанцы вошли в Гавану, ваш след потерялся. В шестьдесят пятом вас снова разыскали, но уже в Западном Берлине, и чуть было не сцапали. – Говоря все это, Тодд загибал по очереди пальцы, пока они не сжались в кулак. Глаза Дюссандера неотрывно следили за сноровистыми руками типичного американского подростка, обожающего превращать старые мыльницы в гоночные машинки и собирать модели кораблей. Конечно, этим занимался и Тодд – в прошлом году они с отцом четыре месяца собирали модель «Титаника», которая и сейчас украшает кабинет отца.
– Я понятия не имею, о чем ты, – произнес Дюссандер.
Без вставных зубов он шамкал, и Тодду это не понравилось. Его манера говорить была какой-то… ненастоящей. В комедийном сериале «Герои Хогана» полковник Клинк и то звучал убедительнее. Но в свое время с этим стариком наверняка были шутки плохи. Недаром в статье о концлагерях в журнале «Менз экшн» автор назвал его Кровавым Мясником из Патэна.
– Уходи, мальчик, иначе я вызову полицию.
– Вызывайте, мистер Дюссандер. Или герр Дюссандер, если вам так больше нравится. – Тодд продолжал улыбаться, демонстрируя великолепные зубы – результат действия фторированной воды, которой он всегда полоскал рот, и пасты «Крест», которой чистил зубы три раза в день. – После шестьдесят пятого года вы снова исчезли из виду… И вот я встретил вас на автобусной остановке в центре города пару месяцев назад.
– Ты спятил!
– Конечно, если хотите, можете вызвать полицию, – опять улыбнулся Тодд, – а я подожду на крылечке. Но если решите не вызывать, может, пригласите меня в дом? И мы поговорим.
Старик молча разглядывал ухмыляющегося подростка. В кронах деревьев щебетали птицы, где-то тарахтела газонокосилка, вдалеке слышались гудки спешивших куда-то машин.
Тодд вдруг почувствовал, что начинает терять уверенность. Неужели он ошибся? Вряд ли, но речь шла не о задачке в учебнике, а все было взаправду. Вот почему он так обрадовался (слегка обрадовался, как он позднее уверял себя), когда Дюссандер произнес:
– Если желаешь, можешь ненадолго войти. Но помни: я просто не хочу, чтобы у тебя были неприятности. Это понятно?
– Конечно, мистер Дюссандер, – отозвался Тодд. Он открыл дверь и прошел в прихожую. Дюссандер закрыл за ними дверь, и они оказались в полумраке.
В помещении стоял затхлый запах, в котором ощущался солод. У них дома иногда тоже так пахло после визита гостей, пока мать не успевала проветрить. Но здесь запах был сильнее. Казалось, он пропитал буквально все. Пахло спиртным, подгоревшим маслом, потом, старой одеждой и какими-то лекарствами вроде мятного полоскания для горла и болеутоляющей
мази. В полумраке прихожей Дюссандер стоял совсем близко, и его голова, торчавшая из отворотов халата, напоминала голову хищного грифа, терпеливо ждавшего, когда его жертва испустит дух. Несмотря на щетину и дряблую обвисшую кожу старика, Тодд вдруг ясно представил себе его в черной форме офицера СС, на которого он сейчас походил куда больше, чем во время прогулок по городу. И мальчик вдруг ощутил острый укол страха. Легкого приступа страха, как он позднее объяснял себе.
– Должен вас предупредить, если со мной что-нибудь случится… – начал он, когда Дюссандер, шаркая шлепанцами, проходил мимо него в гостиную. Тот успокаивающе похлопал Тодда по спине, и от этого прикосновения его бросило в жар.
Мальчик проследовал в гостиную, но улыбки на его лице больше не было. Он представлял себе встречу совсем иначе. Все еще образуется и наверняка выйдет, как он рассчитывал. Прочь сомнения! Ведь до сих пор у него все всегда получалось! В гостиной Тодд уже снова улыбался.
Там его ждало очередное разочарование, правда, на этот раз вполне ожидаемое. Разумеется, в комнате не оказалось портрета Гитлера с упавшей челкой и неотступным завораживающим взглядом. И никаких боевых наград в рамках, никакого культового меча на стене, никакого «люгера» или «вальтера» на каминной полке (по правде сказать, и самой-то каминной полки не было). Тодд напомнил себе, что держать подобные атрибуты на виду, чтобы их все видели, было бы непростительной глупостью, однако отказаться от представлений, навязанных кино и телевизором, было очень непросто. Самая обычная гостиная – такую и ожидаешь увидеть в домах одиноких стариков, с трудом сводящих концы с концами на скудную пенсию. Над декоративным камином, облицованным декоративным кирпичом, висят часы. На тумбочке черно-белый телевизор – концы усов комнатной антенны обмотаны фольгой для улучшения приема. На полу – истертый серый коврик. Возле дивана этажерка с прессой: «Нэшнл джиографик», «Ридерз дайджест» и «Лос-Андж елес таймс». Вместо портрета Гитлера или наградного оружия на стене в рамках под стеклом висели свидетельство о гражданстве и фотография женщины в смешной шляпке. Позднее
Дюссандер рассказывал, что такие дамские шляпки назывались «колокол» и были в моде в двадцатых и тридцатых годах.
– Моя жена, – пояснил Дюссандер, и его голос дрогнул. – Она умерла в пятьдесят пятом. Слабые легкие… В то время я работал чертежником на автомобильном заводе «Меншлер» в Эссене. Даже не знаю, как сумел пережить ее смерть.
Тодд продолжал улыбаться. Он прошел через комнату, будто хотел получше рассмотреть фотографию, но вдруг остановился и провел пальцем по абажуру маленькой настольной лампы.
– Не сметь! – рявкнул Дюссандер так властно, что Тодд невольно отпрянул.
– Здорово! – искренне восхитился подросток. – Вот это команда! Если не ошибаюсь, делать абажуры из человеческой кожи придумала Ильза Кох, верно? И ведь это она проделывала штуку с маленькими стеклянными трубочками, которые вставлялись мужчинам…
– Я понятия не имею, о чем ты говоришь, – прервал его Дюссандер. На телевизоре лежала открытая пачка сигарет без фильтра. Он кивком показал на нее и предложил Тодду: – Закуришь?
– Нет. От них развивается рак легких. Мой отец раньше курил, но сейчас бросил. Даже посещал специальные курсы, чтобы бросить.
– Правда? – Дюссандер вытащил из кармана халата спичку и с безучастным видом чиркнул ею по пластику телевизора. Спичка вспыхнула, и он закурил. – Назови мне хотя бы одну причину не звонить в полицию и не рассказывать им о твоей наглой выходке с ужасными обвинениями? Хотя бы одну? И побыстрее! Телефон рядом. Думаю, отец тебя обязательно выпорет и ты неделю не сможешь нормально сидеть.
– Мои родители никогда меня не бьют. От телесных наказаний больше вреда, чем пользы. – Неожиданно глаза Тодда загорелись. – А вы их пороли? Женщин, к примеру? Заставляли раздеться и…
Дюссандер, издав нечленораздельный звук, напоминающий мычание, направился к телефону.
– На вашем месте я бы этого не делал, – предостерег Тодд ледяным тоном.
Дюссандер обернулся и размеренно произнес:
– Я скажу это только один раз и больше повторять не буду. – Даже отсутствие вставной челюсти не мешало ему говорить достаточно четко. – Меня зовут Артур Денкер. Меня так звали всегда, даже до получения американского гражданства. Имя мне дал отец в честь Конан Дойла, почитателем которого он являлся. Меня никогда не звали ни Дузандером, ни Гиммлером, ни Санта-Клаусом. Во время войны я был лейтенантом запаса и никогда не состоял в нацистской партии. Мое участие в боевых действиях ограничивалось обороной Берлина. Должен признать, в конце тридцатых, еще во время своего первого брака, я был сторонником Гитлера. Он положил конец Депрессии и вернул немцам чувство национальной гордости, растоптанное несправедливым Версальским договором. Думаю, что во многом мои симпатии были вызваны наличием работы и тем, что в магазинах снова стал продаваться табак и больше не требовалось копаться в грязи, выискивая окурки, если хотелось курить. В конце тридцатых я считал Гитлера великим человеком. Может, так сначала и было. Но потом он явно лишился рассудка и командовал несуществующими армиями по указке астролога. Он отравил даже любимую собаку! Настоящее безумие! К концу войны они все посходили с ума и, распевая гимн национал-социалистов «Знамена ввысь!», давали смертельный яд своим детям. Второго мая сорок пятого года мой полк сдался американцам. Помню, как я заплакал, когда солдат по имени Хакермейер угостил меня плиткой шоколада. В Эссене меня интернировали, и обращались с нами очень хорошо. Мы слушали по радио, как идет суд в Нюрнберге, а когда Геринг совершил в тюрьме самоубийство, я выменял на четырнадцать американских сигарет полбутылки шнапса и напился. Меня освободили в январе сорок шестого. На автомобильном заводе в Эссене я устанавливал на машины колеса, а в шестьдесят третьем вышел на пенсию и эмигрировал в Штаты. Поселиться здесь было мечтой моей жизни. В шестьдесят седьмом году я получил гражданство США и стал американцем. Я хожу на выборы. Никакого Буэнос-Айреса и никакой наркоторговли не было. Не
было ни Берлина, ни Кубы. А теперь, если ты немедленно не уйдешь, я позвоню в полицию.
Тодд не сдвинулся с места. Старик подошел к телефону и взял трубку. Тодд продолжал стоять возле стола с маленькой лампой.
Дюссандер начал набирать номер. Тодд следил за ним, чувствуя, как бешено бьется сердце. Набрав четвертую цифру, старик бросил взгляд на подростка. Тот не шевелился. Старик вдруг обмяк и положил трубку на рычаг.
– Мальчишка, – прошептал он. – Какой-то мальчишка!
Тодд скромно улыбнулся.
– Как ты узнал?
– Немного везения плюс трудолюбие, – ответил Тодд. – У меня есть друг по имени Гарольд Пеглер, правда, все зовут его Лис. Играет в нашей бейсбольной команде на второй базе. А у его отца в гараже полно всяких журналов. Целые пачки, и все про войну. Но они старые. Я хотел достать новые, но продавец из киоска напротив школы сказал, что такие больше не выпускаются. Так вот, в тех журналах полно фоток фрицев, в смысле немецких солдат, и еще япошек, пытающих женщин. И много статей про концлагеря. А я от этого просто тащусь!
– «Просто тащишься…» – будто не веря своим ушам, повторил Дюссандер, потирая щеку. Было слышно, как жесткую щетину скребли ногти.
– Ну… балдею, кайфую. Короче, мне нравится!
Тот день в гараже Лиса врезался Тодду в память в мельчайших подробностях. Он помнил, как в четвертом классе накануне Дня выбора профессии миссис Андерсон (ребята звали ее Зайчиха из-за больших передних зубов) рассказывала, как узнать, в чем твой ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС.
– Вы поймете это сразу! – с чувством восклицала Зайчиха Андерсон. – Это все равно что повернуть ключ в замке и распахнуть дверь. Или влюбиться с первого взгляда. Вот почему День выбора профессии так важен, ребята. Как знать, а вдруг вам откроется ваш ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС? – А потом она рассказала, что ее ГЛАВНЫМ ИНТЕРЕСОМ было вовсе не преподавание в четвертом классе, а коллекционирование почтовых открыток XIX века.
Тогда Тодд посчитал, что училка несет полную чушь, но в тот знаменательный день в гараже Лиса ему вдруг вспомнились ее слова: похоже, она знала, о чем говорила.
Дул Санта-Ана, сильный северо-восточный ветер, и воздух был насыщен жаркой и липкой гарью лесных пожаров. Тодд помнил «матросский ежик» Лиса со следами специального воска, чтобы прическа держалась. Он помнил все мельчайшие детали того дня.
– Тут где-то есть старые комиксы, – сказал Лис. У его матери разболелась голова, и она выставила их из дома, желая побыть в тишине. – Классные! В основном вестерны, но есть и с космическим десантом, и с…
– А здесь что? – спросил Тодд, указывая на большие, доверху набитые картонные коробки под лестницей.
– Ерунда всякая, – ответил Лис. – Разные военные истории. Скукотища!
– А посмотреть можно?
– Конечно. А я пока поищу комиксы.
Когда толстый Лис Пеглер отыскал наконец комиксы, Тодда они уже не интересовали. Он совершенно потерял голову от того, что увидел в журналах.
Это все равно что повернуть ключ в замке и распахнуть дверь. Или влюбиться с первого взгляда.
Так оно и было. Конечно, он знал о войне – не о той, где американцам надирали задницу азиаты в черных пижамах, а о Второй мировой войне. Он знал, что американцы носили круглые, обтянутые сеткой каски, а фрицы – скорее квадратные. Он знал, что американцы выиграли большинство сражений и что немцы к концу войны изобрели ракеты, которыми обстреливали Лондон. Он слышал и о концентрационных лагерях.
Разница между тем, что Тодд слышал, и тем, о чем говорилось в журналах, найденных под лестницей в гараже Лиса, была такой же, как между тем, чтобы просто слушать рассказ о микробах и видеть их живыми под микроскопом.
Здесь имелась статья об Ильзе Кох. Здесь были снимки крематориев с распахнутыми дверцами на покрытых копотью петлях. Здесь оказались фотографии офицеров в форме СС и узников в полосатых робах. Запах старых журналов, отпечатанных
на дешевой газетной бумаге, был похож на запах гари от лесных пожаров, и шуршание переворачиваемых страниц уносило Тодда в прошлое, заставляя поверить в реальность описанных ужасов. Они действительно это делали, и им позволялось это делать. Голова начала раскалываться, не в силах совместить нахлынувшие отвращение и возбуждение, глаза покраснели и заслезились, но он продолжал жадно читать, пока не наткнулся на цифру под статьей с фотографией сваленных в кучу трупов в каком-то месте под названием Дахау:
6 000 000.
И тогда он подумал, что здесь наверняка какая-то ошибка, что кто-то по оплошности добавил пару лишних нулей, ведь это в три раза больше населения Лос-Анджелеса! Но в другом журнале (на обложке – прикованная к стене женщина, к которой приближался ухмыляющийся мужчина в нацистской форме и с кочергой в руке) он снова натолкнулся на ту же цифру:
6 000 000.
Головная боль усилилась, а во рту пересохло. Будто издалека послышался голос Лиса, говорившего, что ему пора на ужин. Тодд спросил, можно ли остаться и почитать еще, пока Лис будет ужинать. Приятель удивленно на него посмотрел и, пожав плечами, ответил: «Само собой!» И Тодд продолжил чтение, погрузившись в мир военных журналов, пока за ним не явилась мать и не увела домой.
Это все равно что повернуть ключ в замке и распахнуть дверь.
Во всех журналах говорилось, как ужасно было все, что тогда творили фашисты, но слова осуждения терялись в обилии рекламных объявлений, предлагавших немецкие ножи, ремни и каски, а также чудодейственные травы и лосьоны для укрепления волос. В объявлениях предлагали купить флаги со свастикой, нацистские «люгеры» и игру «Атака» с участием немецкой бронетанковой техники, а также записаться на заочные курсы или стать богатым, особые туфли с внутренним каблуком и толстой стелькой низкорослым людям. Хотя в статьях и говорилось об ужасах, но, похоже, это мало кого трогало.
Или влюбиться с первого взгляда.
Да, он отлично помнил тот день. Буквально все: и пожелтевший календарь давно минувшего года на задней стене, и масляное пятно на цементном полу, и оранжевую бечевку, которой были перевязаны пачки журналов. И еще он помнил, как каждый раз голова болела все сильнее, стоило подумать о невероятной цифре:
6 000 000.
Он тогда подумал: Я хочу знать обо всем, что там происходило. Обо всем! И хочу знать, где больше правды: в статьях или объявлениях, которые в них вставлены.
И еще, задвигая коробки с журналами обратно под лестницу, он вспомнил о Зайчихе Андерсон: Она была права. Я нашел свой ГЛАВНЫЙ ИНТЕРЕС.
Дюссандер долго не сводил взгляд с Тодда. Затем прошел через гостиную и, тяжело опустившись в кресло-качалку, снова посмотрел на подростка, не в силах объяснить мечтательное и даже ностальгическое выражение его лица.
– Да, журналы меня заинтересовали, но я решил, что в них немало вранья. Тогда я пошел в библиотеку, чтобы выяснить наверняка. Оказалось, что не все вранье. Сначала замшелая библиотекарша не хотела давать мне нужные книги, поскольку они не для детей, но я сказал, что они нужны для домашней работы. Библиотекарша позвонила отцу. – Тодд презрительно хмыкнул. – Типа она не поверила, что отец в курсе, какие книги я читаю, представляете?
– А он был в курсе?
– Конечно! Отец считает, что дети должны узнавать жизнь как можно раньше. И плохое, и хорошее. Чтобы быть во всеоружии. Он говорит, что жизнь – это тигр, которого надо схватить за хвост, но если не знать его повадок, можно запросто стать его добычей.
– Хм-м… – с сомнением протянул Дюссандер.
– Мама тоже так считает.
– Хм-м… – повторил Дюссандер, не зная, что и думать.
– А книги в библиотеке оказались классные! – продолжил Тодд. – Только о концлагерях их было, наверное, не меньше сотни, и это в обычной городской библиотеке. Похоже, читать про это интересно очень даже многим. Правда, фотографий там
оказалось меньше, чем в журналах отца Лиса, а во всем остальном – просто атас! Кресла с шипами, торчащими из сидений. Вырывание золотых зубов плоскогубцами. Газ, который пускали из душевой установки. – Тодд покачал головой. – Вы, ребята, отрывались по полной!
– «По полной», – повторил Дюссандер, думая о своем.
– А я действительно написал реферат, и знаете, что мне за него поставили? Пять с плюсом! Конечно, я проявил осмотрительность и изложил все в нужном свете. Осторожность еще никому не повредила.
– Вот как? – Дюссандер взял трясущимися пальцами новую сигарету.
– Ну да! Все те книги в библиотеке написаны так, будто авторам самим было противно об этом рассказывать. – Тодд нахмурился, пытаясь выразить мысль. Слово тональность не входило в его словарный запас, что только осложняло задачу. – Они писали так, будто ночами не могли спать от кошмаров. Будто хотели сказать: нельзя, чтобы такое повторилось. Мой реферат в таком же духе, и учитель мне поставил пять с плюсом, наверное, потому, что я читал первоисточники и меня не вывернуло наизнанку. – На лице Тодда снова заиграла торжествующая улыбка.
Дюссандер глубоко затянулся, кончик сигареты в руках заметно дрожал. Выпуская дым через нос, старик сильно закашлялся.
– Поверить не могу, что все это происходит наяву, – сказал он и, подавшись вперед, устремил на мальчика пристальный взгляд. – Ты знаешь, что такое «экзистенциализм»?
Тодд, не обратив внимания на вопрос, задал свой:
– А вы знали Ильзу Кох?
– Ильзу Кох? – еле слышно переспросил Дюссандер. – Да, я знал ее.
– Она была красивая? – оживился мальчик. – В смысле… – Он изобразил в воздухе контур песочных часов.
– Неужели ты не видел ее фотографии? – удивился Дюссандер. – При твоей-то одержимости?
– При моей чего?
– Одержимости, – повторил Дюссандер. – Это когда человек чем-то очень сильно увлечен. Когда от чего-нибудь просто… балдеет.
– Да? Круто! – Озадаченный вид Тодда снова сменился торжествующей улыбкой. – Конечно, я видел ее фотографию. Но сами знаете, как снимки выглядят в книгах. – Он говорил так, будто у Дюссандера все эти книги стояли в шкафу. – Черно-белые, нечеткие… обычные любительские фотографии. Никто и не подозревал, что делает их для истории. У нее и правда была обалденная фигура?
– Она была толстой, коренастой и с плохой кожей, – коротко ответил Дюссандер и потушил недокуренную сигарету о тарелку, заполненную окурками.
– Надо же! – Лицо Тодда вытянулось от огорчения.
– Чистая случайность! – отвечая своим мыслям, задумчиво произнес Дюссандер. – Ты увидел мою фотографию в журнале и оказался рядом в автобусе. Ну и ну! – Он с досадой несильно стукнул кулаком по подлокотнику кресла.
– Нет, сэр. Не просто случайность, а гораздо, гораздо больше! – возразил Тодд, всем своим видом излучая уверенность.
– В самом деле? – Густые брови Дюссандера поднялись – он явно сомневался.
– Еще бы! Я хочу сказать, что снимки в моем альбоме были тридцатилетней давности, а то и более старые. Ведь сейчас у нас семьдесят четвертый год.
– У тебя есть… такой альбом?
– Да, сэр! Он потрясающий! Там сотни фотографий. Я вам как-нибудь его покажу. Вам точно понравится!
Дюссандер с отвращением поморщился, но промолчал.
– Сначала я сомневался, что это вы. А потом как-то шел дождь, и вы сели в автобус в блестящем черном плаще…
– Так вот оно что! – выдохнул Дюссандер.
– Ну конечно! На вас был точно такой же на одной фотке из гаража Лиса. И еще в одной библиотечной книге был ваш снимок в шинели СС. И в тот день сомнения отпали, и я сказал себе: «Точно! Курт Дюссандер собственной персоной!» И начал за вами следить.
– Ты начал что?
– Следить за вами. Я мечтаю стать частным детективом вроде Сэма Спейда из «Мальтийского сокола» или Менникса из телесериала. И мне нужно было вести себя осторожно. Я не хотел вас спугнуть раньше времени. Показать снимки?
Тодд вытащил из заднего кармана конверт. Глаза у него горели предвкушением праздника, как у мальчишки накануне дня рождения, Рождества или перед салютом на День независимости.
– Ты меня фотографировал?
– Конечно! У меня есть портативный фотоаппарат, «Кодак». Он тонкий, плоский и умещается в руке. Если приноровиться, можно запросто снимать, зажав его в ладони и держа объектив между пальцами. А кнопка затвора нажимается большим пальцем. – Том скромно потупился. – Сначала я никак не мог приспособиться, и все время получались одни пальцы. Но я упорный и не сдавался. Настойчивостью можно добиться всего, что хочется. Это, конечно, ни для кого не секрет, но зато верно.
Курт Дюссандер побелел и съежился.
– А снимки ты отдавал печатать в фотоателье?
– Что? – Тодд возмущенно затряс головой. – Конечно, нет! Вы что же, думаете, я совсем идиот? У отца есть темная комната, и я сам проявляю пленки и печатаю снимки с девяти лет.
Дюссандер промолчал, но явно обрадовался и даже чуть порозовел.
Тодд передал ему несколько глянцевых снимков, неровные края которых подтверждали: их действительно печатали в домашних условиях. Дюссандер, нахмурившись, стал их изучать. Вот он сидит в автобусе возле окна; в руках – роман Джеймса Миченера «Столетие». Вот он на остановке «Девон-авеню» с зонтиком под мышкой; подбородок надменно вздернут, как у Шарля де Голля, принимающего военный парад. На следующем снимке он запечатлен в очереди возле кинотеатра «Маджестик», там он явно выделяется в толпе подростков и невзрачных домохозяек с завивкой ростом и статью. А вот он заглядывает в свой почтовый ящик.
– Когда я это снимал, то очень боялся, что вы меня засечете, – признался Тодд. – Но все-таки решил рискнуть. Я стоял
на другой стороне улицы. Эх, будь у меня «Минолта» с телеобъективом… Когда-нибудь… – Тодд мечтательно вздохнул.
– Не сомневаюсь, что ты заранее заготовил правдоподобное объяснение. На всякий случай.
– Я бы спросил, не видели ли вы мою собаку. В общем, я печатал снимки и сравнивал их с этими.
Он передал Дюссандеру три ксерокопии. Тот уже видел эти фотографии раньше, причем много раз. На первом снимке он был в своем кабинете в лагере для перемещенных лиц в Патэне. Фотография была обрезана так, что на ней остался только он сам и нацистский флажок со свастикой на столе. Второй снимок был сделан в день зачисления на военную службу. На третьем он обменивался рукопожатиями с Рихардом Генрихом Глюксом, подчинявшимся только самому Гиммлеру.
– Я уже тогда практически не сомневался, что это вы, но из-за проклятых усов не мог разглядеть заячьей губы. И чтобы убедиться окончательно, раздобыл вот это.
Тодд достал из конверта последний, сложенный в несколько раз листок и развернул его. На сгибах чернела грязь, края обтрепались от долгого хранения в кармане, как всегда бывает у мальчишек, имеющих много разных дел и забот. Это было израильское извещение о розыске Курта Дюссандера. Старик с горечью подумал о мертвых, которые никак не упокоятся в своих могилах.
– Я снял ваши отпечатки, – с улыбкой сообщил Тодд, – и сравнил с теми, что на листке о розыске.
– Этого не может быть! – не поверил Дюссандер и выругался по-немецки.
– Может! Родители подарили мне на Рождество набор для снятия отпечатков пальцев. Настоящий, а не игрушечный. Там были порошок, три кисточки для различных поверхностей и специальная бумага для снятия отпечатков. Родители знают, что я хочу стать частным детективом, когда вырасту. Понятно, что всерьез они это не воспринимают, но все же… – Он равнодушно пожал плечами. – В инструкции сказано, как сравнивать всякие там завитки, линии и папиллярные узоры. Чтобы суд принял отпечатки в качестве доказательства, они должны совпадать не меньше чем по восьми пунктам. Однажды, когда вы
были в кино, я приехал сюда, обработал порошком почтовый ящик, дверную ручку и снял отпечатки. Ловко, верно?
Дюссандер промолчал. Он судорожно цеплялся за подлокотники кресла, губы беззубого рта мелко дрожали. Тодду это не понравилось. Казалось, старик вот-вот расплачется. Что за глупость? Кровавый Мясник из Патэна в слезах? Да это все равно что ожидать банкротства от «Шевроле» или что «Макдоналдс» перестанет кормить гамбургерами и перейдет на икру с трюфелями.
– У меня появилось два комплекта отпечатков, – продолжил Тодд. – Один из них не имел ничего общего с тем, что на листовке о розыске, и я решил, что это «пальчики» почтальона. Зато другой оказался вашим! Больше восьми совпадений. Я насчитал четырнадцать. – Он ухмыльнулся. – Вот так я убедился точно.
– Ах ты, маленький гаденыш! – не выдержал Дюссандер, и его глаза недобро блеснули.
У Тодда от страха засосало под ложечкой, как недавно в прихожей. Но после вспышки неконтролируемого гнева старик снова обмяк.
– Кому ты об этом рассказывал?
– Никому.
– Даже своему другу? Этому Кролику Пеглеру?
– Его называют Лис. Лис Пеглер. Нет, он бы точно проболтался. Я никому не рассказывал. Не тот случай.
– Чего тебе нужно? Денег? У меня их нет. В Южной Америке деньги водились, правда, с наркотиками или чем-то опасным и романтичным это никак не связано. В Бразилии, Парагвае и Санто-Доминго есть, вернее, была своего рода община из бывших вояк, скрывавшихся после войны. С ее помощью я сколотил состояние на природных ископаемых – олове, меди, бокситах. А потом наступили новые времена – национализм, антиамериканизм. Может, перемены и коснулись бы меня, но на мой след напали люди Симона Визенталя. Одно несчастье притягивает другое, как течная сучка – кобелей. Дважды меня чуть не схватили, один раз эти жиды уже были за стеной в соседней комнате… Они повесили Эйхмана, – прошептал старик, непроизвольным движением потирая шею. Его глаза округлились от
ужаса, как бывает у детей, слушающих страшные сказки вроде «Гензель и Гретель» братьев Гримм или «Синей Бороды» Шарля Перро. – Он был старым человеком, безобидным и далеким от политики. А его все равно повесили.
Тодд молча кивнул.
– Устав от преследования, я обратился к людям, способным мне помочь. Они были моей последней надеждой.
– Так вы обратились в Организацию бывших членов СС? – Глаза у Тодда загорелись.
– Нет, к сицилийцам, – сухо уточнил Дюссандер, и Тодд снова разочарованно вздохнул. – Они все устроили. Фальшивые документы, выдуманное прошлое. Пить не хочешь?
– Хочу. Есть кока-кола?
– Кока-колы нет.
– А молоко?
– Молоко, – кивнул Дюссандер и прошел на кухню. – Сейчас я живу на проценты с акций, – донесся оттуда его голос, – а акции купил после войны на чужое имя через банк в штате Мэн. Если тебе интересно, банкира, который все это устроил, через год посадили за убийство жены. Жизнь полна неожиданностей, nein?[6]
Хлопнула дверца холодильника.
– Сицилийские шакалы понятия не имели об акциях, – продолжал старик. – Это сегодня их можно встретить везде, но в те годы дальше Бостона они не добирались. Знай они об акциях, наверняка бы все отобрали и отправили меня голодать на пособие и продовольственные талоны.
Тодд услышал, как открылась дверца шкафа, и булькающий звук льющейся жидкости.
– Небольшой пакет акций «Дженерал моторс», немного – «Американ телефон энд телеграф», сто пятьдесят акций еще одной компании. Банкира звали Дюфресн – я запомнил, потому что в ней есть нечто общее с моей фамилией. Так вот, при убийстве жены тому банкиру не хватило той самой осмотрительности, которую он проявил при выборе растущих акций, ведь он
сам определял, какие бумаги покупать. Crime passionnel[7]. Это лишний раз доказывает, что люди – просто умеющие читать болваны.
Шаркая, старик вернулся в гостиную с двумя зелеными пластиковыми стаканчиками, которые обычно бесплатно дают в подарок при открытии бензоколонок. Заправил бак – получи стаканчик. Один стаканчик Дюссандер протянул Тодду.
– Первые пять лет я жил на проценты, не зная никаких забот, а затем продал часть акций и купил этот дом и небольшой коттедж на побережье. Потом инфляция, кризис… Пришлось продать коттедж, а за ним и остальные акции, поскольку цены на них взлетели до небес. Жаль, что в свое время я не купил больше. Но я боялся, что такие вложения ненадежны, а цена подскочила из-за биржевых спекуляций… – Он горестно вздохнул и щелкнул пальцами.
Тодд, заскучав, приуныл. Он явился сюда вовсе не за тем, чтобы выслушивать сетования Дюссандера по поводу акций. У него и в мыслях не было вымогать у него деньги. Зачем они ему? На карманные расходы давали родители, и потом – он же развозил газеты. А если вдруг понадобится больше денег, то всегда можно подработать стрижкой газонов.
Тодд поднес молоко к губам и замер. На его лице расплылась довольная улыбка, и он протянул стакан старику.
– Отпейте сначала вы, – сказал он, хитро улыбаясь.
Дюссандер удивленно на него посмотрел и, сообразив, в чем
дело, иронически закатил глаза.
– Господи Боже! – Он взял стакан, отпил два глотка и вернул. – Не задыхаюсь. Не хватаюсь за горло. Никакого запаха горького миндаля. Это молоко, мальчик. Молоко. Из коробки с улыбающейся коровой.
Тодд наблюдал за ним, не сводя пристального взгляда, потом сделал маленький глоток. Да, на вкус – самое обычное молоко, но почему-то пить вообще расхотелось, и он поставил стакан на стол. Дюссандер пожал плечами, поднял свой стакан и, отхлебнув, причмокнул от удовольствия.
– Шнапс? – поинтересовался Тодд.
– Бурбон «Эйшн эйдж». Отличный. И дешевый.
Тодд поскреб ногтями швы на джинсах.
– Выходит, – продолжил Дюссандер, – что поживиться за мой счет у тебя точно не выйдет.
– Что?
– Шантаж, – пояснил Дюссандер. – Разве не так это называется в сериалах типа «Менникс», «Барнаби Джонс» и прочих? Вымогательство. Если ты…
Тодд расхохотался – искренне, заливисто. Он мотал головой, не в силах остановиться, и буквально давился от хохота.
– Значит, не шантаж, – произнес Дюссандер и вдруг весь съежился и стал похож на затравленного зверька. Он сделал большой глоток и поморщился. – Вижу, речь не о… деньгах. Судя по смеху, тебе от меня нужно что-то другое. Что же? Зачем ты пришел и лишил старика покоя? Возможно, когда-то я действительно был нацистом. И даже гестаповцем. И что с того? Сейчас я старик, у которого даже кишечник отказывается работать без свечей. Что тебе от меня нужно?
Тодд наконец успокоился и, устремив на Дюссандера взгляд, ответил с неподдельной искренностью:
– Я просто хочу… чтобы вы рассказали. Вот и все! Честно!
– Рассказал о чем? – озадаченно переспросил Дюссандер, окончательно сбитый с толку.
Тодд подался вперед и уперся загорелыми локтями в колени.
– Ну как же?! Про расстрельные команды. Про газовые камеры. Про печи. Как узники рыли себе могилы, а после расстрела в них падали. – Он облизнул пересохшие губы. – Про допросы, эксперименты. Про все! Про все эти ужасы!
Дюссандер смотрел на мальчика с каким-то отстраненным любопытством, так ветеринар разглядывает кошку, родившую целый выводок двухголовых котят.
– Да ты чудовище! – тихо произнес он.
Тодд усмехнулся:
– Судя по книгам, которые я читал, готовя реферат, чудовище – это вы, а не я, мистер Дюссандер. Это вы их посылали в печи, а не я. До вашего появления в Патэне там ежедневно погибали две тысячи человек, а после – три тысячи. А перед са-
мым приходом русских цифра возросла до трех с половиной тысяч. Сам Гиммлер оценил ваш профессионализм и даже наградил медалью. И после этого вы называете чудовищем меня! Ничего себе!
– Это все грязная ложь, придуманная американцами! – возмутился задетый за живое Дюссандер. Он порывисто поставил стаканчик на стол, расплескав виски на стол. – Это не я все придумал и устроил. Мне отдавали приказы, а я их выполнял.
Улыбка Тодда стала еще шире и теперь походила на сардоническую ухмылку.
– Уж я-то знаю, как американцы умеют все извращать, – пробормотал Дюссандер. – Но по сравнению с вашими политиками доктор Геббельс – сущий ребенок, мирно листающий книжки с картинками в детском саду. Они рассуждают о морали, а сами заживо сжигают напалмом плачущих детей и кричащих старух. Тех, кто отказывается воевать, называют трусами. За неповиновение приказу их судят или делают изгоями. Демонстрантов, протестующих против этой авантюры, избивают дубинками средь бела дня. Солдат, убивавших мирных жителей, награждает сам президент, а тех, кто возвращается домой, обагрив руки кровью детей и стерев с лица земли больницы, встречают с почестями. В их честь устраивают торжественные приемы, их делают почетными гражданами, им вручают бесплатные билеты на стадионы. – Старик с сарказмом поднял стаканчик, будто произносил тост. – И только те, кто проиграл войну, называются военными преступниками, а вся их вина в том, что они выполняли приказы. – Он сделал глоток и закашлялся так сильно, что побагровел.
Пока он произносил этот монолог Тодд со скучающим видом озирался по сторонам, как всегда делал, когда родители обсуждали последние новости, рассказанные по телевизору Уолтером Кронкайтом – «стариной», как его называл отец. Тодда совершенно не интересовали ни взгляды Дюссандера, ни его акции. Сам-то он считал, что люди придумали политику, чтобы развязать себе руки. Вроде того, как поступил он, когда в прошлом году захотел потрогать кое-что у Шарон Аккерман под платьем. Та, понятно, возмутилась, но по всему было видно, что ей самой этого хотелось. Он сказал, что, когда вырастет, собирает-
ся стать доктором, и она ему разрешила. Вот это и есть политика. Теперь же он хотел услышать, как немецкие врачи заставляли женщин совокупляться с собаками, как засовывали близнецов в холодильник, чтобы узнать, умрут они одновременно или кто-то проживет дольше. Как они лечили электрошоком и оперировали без анестезии, как немецкие солдаты насиловали всех понравившихся им женщин. А все остальное – пустая болтовня ради оправдания после проигрыша.
– Если бы я не выполнял приказов, меня бы самого убили, – продолжал Дюссандер, тяжело дыша и раскачиваясь в скрипучем кресле, разнося запах спиртного. – Русский фронт-то никуда не делся, nicht wahr![8] Понятно, что у наших вождей поехала крыша, но разве можно вразумить сумасшедших? Особенно когда самому главному невероятно везет? Он чудом избежал смерти во время блестяще разработанного покушения. А заговорщиков удавили рояльной струной, причем удавили медленно. Их мучения и агонию даже засняли на пленку и показывали элите для профилактики.
– Да! Вот это круто! – восхитился Тодд. – А вы видели этот фильм?
– Видел. Мы все видели, что случилось с теми, кто хотел опередить события, не дожидаясь неизбежного конца. Все, что делали тогда, было правильным. Для того времени и тех обстоятельств. Я бы и сейчас повел себя точно так же. Но… – Он заглянул в стаканчик – тот был пуст. – …Но я не хочу говорить об этом, не хочу даже думать. Нами двигало только желание выжить, а борьба за жизнь всегда неприглядна. Мне снились сны… – Он медленно взял сигарету из пачки на телевизоре. – Да, меня долгие годы мучили кошмары. Черная мгла и раздающиеся в ней звуки. Рев тракторов и бульдозеров. Стук прикладов то ли о мерзлую землю, то ли о кости людей. Свистки, сирены, выстрелы, крики. Грохот раздвижных дверей вагонов для скота, разносящийся на морозном воздухе. И вдруг все звуки стихают, глаза открываются и смотрят в темноту – совсем как у зверя в лесу. Я долгие годы жил неподалеку от джунглей, наверное, поэтому в этих снах меня всегда преследует их запах. Я просыпаюсь в хо-
лодном поту, сердце бешено колотится, а рука зажимает рот, чтобы сдержать крик. И тогда мне кажется, что это никакой не сон, а самая что ни на есть реальность. Бразилия, Парагвай, Куба… все эти места существуют во сне. А на самом деле я по-прежнему нахожусь в Патэне. Русские продолжают наступать и сегодня подошли еще ближе. Кое-кто из них помнит, как в сорок третьем, чтобы выжить, ел мертвечину – замерзшие трупы немецких солдат. И теперь они хотят попить немецкой крови. Ходили слухи, что такое и правда случалось: пленному перерезали горло и пили его кровь прямо из сапога. Я просыпался и думал: работа должна продолжаться. Хотя бы для того, чтобы не осталось никаких следов наших деяний. Или их осталось так мало, что мир легко поверит, что все это неправда, поскольку миру так спокойнее. Я думал: работа должна продолжаться, чтобы мир мог существовать и дальше.
Теперь на лице Тодда не осталось и следа скуки, и он жадно ловил каждое слово. Это было увлекательно, но впереди его наверняка ждали новые, еще более волнующие откровения. Главное – расшевелить Дюссандера. К счастью, он еще не впал в маразм, как многие старики его возраста.
Дюссандер глубоко затянулся сигаретой.
– Потом сны прекратились, но мне начало казаться, что на улице я встречаю узников из Патэна. Не охранников, не офицеров, а именно заключенных. Помню один день в Западной Германии десять лет назад. На автобане произошла авария, и движение на всех полосах было перекрыто. Я сидел в машине, слушал радио и ждал, когда машины снова поедут. Потом посмотрел направо и увидел на соседней полосе старую «симку», за рулем которой сидел седой мужчина, не сводивший с меня глаз. Ему было лет пятьдесят, и выглядел он ужасно. Бледный как полотно, на щеке большой шрам. Волосы совсем белые, плохо подстриженные. Я отвернулся. Шло время, а машины продолжали стоять. Я украдкой поглядывал на мужчину в «симке» – тот по-прежнему не сводил с меня ввалившихся глаз. Я не сомневался, что он был узником Патэна и узнал меня.
Дюссандер провел ладонью по глазам.
– Тогда была зима, и тот мужчина сидел в пальто. Но я был уверен, что если выйду из машины, заставлю его снять пальто и
задеру рукав, то наверняка увижу татуировку с номером. Потом машины тронулись, и я обогнал «симку». Но если бы пришлось простоять еще минут десять, я бы точно вылез из своей машины и избил старика. И не важно, был у него номер или нет. Я бы избил его только за то, что он так на меня смотрел. Вскоре после этого я навсегда уехал из Германии.
– Повезло, что вовремя, – сказал Тодд.
Дюссандер пожал плечами:
– В других местах было то же самое. В Гаване, Мехико, Риме. Я прожил в Риме три года. Как-то я поймал на себе взгляд мужчины в кафе… Женщина в вестибюле гостиницы изучала меня, а не свой журнал… Официант в ресторане все время поглядывал в мою сторону, хотя обслуживал других… Мне начинало казаться, что все они ко мне присматриваются, и ночные кошмары возвращались – те же самые звуки, те же джунгли и те же глаза.
Но в Америке мне удалось избавиться от наваждений. Я хожу в кино, раз в неделю ужинаю не дома, в основном в каком-нибудь заведении быстрого питания, где все стерильно чисто и красиво светится бар. Дома я собираю пазлы, читаю романы – большинство из них паршивые – и смотрю телевизор. Вечерами выпиваю, пока не начинает клонить в сон. Кошмары больше не мучают. Если и ловлю на себе чей-то взгляд в магазине, библиотеке или табачной лавке, то считаю, что, наверное, напомнил кому-то родственника… или старого учителя… или соседа из городка, оставленного много лет назад. – Он покачал головой. – То, что было в Патэне, происходило с другим человеком. Не со мной.
– И отлично! – воскликнул Тодд. – Об этом я и хочу услышать.
Дюссандер крепко сомкнул веки и медленно их разжал.
– Ты не понял. Я не хочу об этом говорить.
– Однако придется! Иначе я всем расскажу, кто вы на самом деле.
Дюссандер печально посмотрел на него.
– Я так и думал, – сказал он, – что без шантажа не обойдется.
– Сегодня я хочу услышать о газовых печах, – заявил Тодд. – Как вы поджаривали евреев. – На его лице сияла лучезарная
улыбка. – Но сначала вставьте свои зубные протезы. С ними вы смотритесь лучше.
Дюссандер подчинился. Он рассказывал Тодду о газовых печах, пока не наступило время обедать и тому пришлось отправляться домой. Каждый раз, когда старик пытался уйти от деталей, Тодд хмурился и конкретными вопросами возвращал рассказ в прежнее русло. Вспоминая прошлое, Дюссандер много пил и ни разу не улыбнулся.
Зато Тодд улыбался так часто, что этого с лихвой хватило на них обоих.
2
Август 1974 года
День выдался теплым и безоблачным, и они устроились на заднем крыльце дома. Тодд был одет в джинсы и футболку с логотипом Малой бейсбольной лиги, на ногах – кеды.
Совсем как бродяга, с неудовольствием подумал Тодд, глядя на Дюссандера в мешковатой серой рубахе и бесформенных брюках на подтяжках. В таких штанах – точь-в-точь как со склада старых вещей Армии спасения – разгуливали только опустившиеся пьяницы. Надо будет это исправить, а то все удовольствие от рассказов насмарку.
Они ели еще теплые бигмаки, которые Тодд привез в корзинке на багажнике: не зря он изо всех сил крутил педали, чтобы не дать сандвичам остыть. Тодд запивал еду кока-колой через соломинку, а Дюссандер потягивал виски.
Старик рассказывал, и его скрипучий голос звучал то громче, то тише, часто становясь совсем неразборчивым. Бегающий взгляд выцветших голубых глаз с красными прожилками был беспокойным. Со стороны Дюссандер мог кому-то показаться дедом, дающим внуку важные наставления.
– Это все, что я помню, – закончил рассказ старик и откусил большой кусок. По подбородку потекла струйка соуса.
– А если подумать? – засомневался Тодд.
Дюссандер отхлебнул виски.
– Робы были хлопчатобумажными, – наконец нехотя произнес он. – Когда умирал заключенный, его роба, если еще не развалилась, переходила к другому. Иногда одну робу носили до сорока человек. Меня начальство даже ставило в пример за бережливость.
– Глюкс?
– Гиммлер.
– Но в Патэне была швейная фабрика, вы сами рассказывали об этом на прошлой неделе. Почему же там нельзя было шить робы? Силами самих заключенных?
– На той фабрике шили форму для немецких солдат. Что касается нас… – Дюссандер на мгновение запнулся, но заставил себя закончить мысль: —…То трудовое перевоспитание не входило в нашу задачу.
Тодд широко улыбнулся.
– Может, хватит на сегодня? – спросил старик. – У меня уже не ворочается язык и осипло горло.
– Не надо так много курить, – улыбаясь, посоветовал Тодд. – Расскажите мне о форме.
– О какой? Узников или СС? – обреченно спросил Дюссандер.
– И о той, и о другой, – ответил Тодд с улыбкой.
3
Сентябрь 1974 года
Тодд поднялся по деревянным ступенькам на сверкающую хромом и пластиком кухню и начал делать себе бутерброд с арахисовым маслом и джемом. Из кабинета доносился стук электрической пишущей машинки – он так и не прервался с того момента, как Тодд вернулся из школы. Мать печатала диплом одному студенту, который, по мнению Тодда, здорово смахивал на инопланетянина благодаря толстым линзам очков и торчащим в разные стороны коротким волосам. А сам диплом был о
значении плодовой мушки для жизни долины Салинас в послевоенный период или какой-то мути вроде этого. Стук машинки наконец прекратился, и на пороге появилась мать:
– Привет, малыш Тодд.
– И тебе привет, малышка Моника, – дружелюбно отозвался он ей в тон.
Тодд взглянул на мать. Для своих тридцати шести лет она была очень даже ничего: высокая и стройная, на светлых волосах несколько крашеных пепельных прядей. Сейчас на ней были красные шорты, а теплого цвета блузка, небрежно перевязанная узлом под грудью, обнажала плоский живот. В волосы, убранные назад и стянутые бирюзовой заколкой, был воткнут узкий ластик для стирания опечаток.
– Как дела в школе? – Входя в кухню, она чмокнула сына и села на стул.
– Все путем.
– Снова окажешься в отличниках?
– Само собой. – Вообще-то в этой четверти его оценки, наверное, ухудшатся. Дело даже не в том, что он проводил много времени с Дюссандером, просто в голове постоянно крутилось то, о чем рассказывал старый фриц. Пару раз Тодду это даже приснилось. Но он не тревожился.
– Способный ученик, я тобой горжусь! – одобрительно сказала мать, ероша его светлые волосы. – Как бутерброд?
– Отлично! – сказал он.
– Может, сделаешь мне один и принесешь в кабинет?
– Не успеваю, – сказал он, поднимаясь. – Я обещал мистеру Денкеру прийти и почитать ему часик.
– Вы все еще читаете «Робинзона Крузо»?
– Нет. – Тодд показал ей корешок толстой книги, купленной у старьевщика за двадцать центов. – «История Тома Джонса, найденыша» Генри Филдинга.
– Боже милостивый! Да на нее уйдет весь учебный год! Неужели ты не мог найти сокращенного издания, как с «Робинзоном Крузо»?
– Мог, но он просил целиком.
– Понятно. – Моника внимательно посмотрела на сына и, обняв, прижала к груди. Она редко позволяла себе проявлять
нежность, и Тодд слегка смутился. – Ты такой молодец, что тратишь время на чтение старому человеку. Мы с отцом считаем, что это… просто замечательно!
Тодд скромно потупил взор.
– Никому об этом не рассказываешь, – продолжала она, – и не хвастаешься!
– Просто ребята, с которыми я дружу… они решат, что у меня не все дома, – застенчиво улыбаясь, ответил Тодд и направился к двери. – Начнут дразниться, что я шизик!
– Не говори так! – машинально одернула она и спросила: – Как думаешь, может, нам пригласить мистера Денкера как-нибудь на ужин?
– Может, – уклончиво ответил Тодд. – Слушай, мне пора линять.
– Хорошо. Ужин в половине седьмого. Не опаздывай.
– Ладно.
– Сегодня папа работает допоздна, так что ужинать будем вдвоем. Годится?
– А то!
Она проводила его теплым взглядом, размышляя, не рановато ли Тодду читать «Тома Джонса» – как-никак ему всего тринадцать лет! Наверное, нет. Сейчас «Пентхаус» продают в любом магазине за доллар и двадцать пять центов, а подросток, способный дотянуться до верхней полки, где обычно лежат эти журналы, может запросто успеть их полистать, пока не видит продавец. В обществе, где заповедью стало не возлюбить, а «поиметь» своего ближнего, вряд ли книга, написанная двести лет назад, испортит мальчика, а вот старик в ней наверняка поймет гораздо больше. К тому же, как любил повторять Ричард, для мальчишки весь мир – это терра инкогнита, и не нужно ему мешать исследовать этот мир. И если у такого мальчишки хорошие, любящие родители, то столкновения с темной стороной жизни его только закалят.
А уж их чудесному сыну, спешившему к старику на своем велике, точно ничего не страшно. Как же хорошо мы его воспитали, с гордостью подумала Моника, намазывая себе бутерброд. Можно только порадоваться!
4
Октябрь 1974 года
Дюссандер заметно похудел. Они сидели на кухне, а на столе, застеленном клеенкой, лежал потрепанный том «Тома Джонса». Чтобы подстраховаться на случай, если родители спросят, о чем роман, Тодд приобрел на свои карманные деньги краткое изложение содержания и тщательно его проштудировал. По дороге к Дюссандеру он купил по шоколадному пирожному для себя и старика и сейчас доедал свое. Старик к пирожному не притронулся, лишь только изредка бросал на него угрюмые взгляды, потягивая виски. Тодд не мог допустить, чтобы такая вкуснотища, как шоколадное пирожное, пропадала зря, и собирался угоститься и вторым тоже, если Дюссандер не станет возражать.
– А как в Патэн все доставляли? – спросил он у старика.
– По железной дороге, – ответил тот. – В вагонах с надписью «Медикаменты». В качестве тары использовали длинные ящики, похожие на гробы. Символично! Заключенные разгружали ящики и складывали их в лазарете. А потом, уже ночью, наши сотрудники перетаскивали их в складские помещения непосредственно за душевыми.
– И это всегда был «Циклон-Б»?
– Нет, иногда присылали… новый газ, для эксперимента, на пробу. Командование постоянно требовало повышения эффективности. Однажды доставили газ под кодовым названием «Пегас». Нервно-паралитический. Слава Богу, его больше не присылали! Он… – Заметив, как у Тодда загорелись глаза и он нетерпеливо подался вперед, Дюссандер осекся и с деланным равнодушием махнул сувенирным стаканчиком с бензоколонки. – …Не оправдал надежд. Совсем не оправдал.
Но провести Тодда не удалось.
– А что этот газ делал?
– Убивал, что же еще? А ты что думал? Наделял сверхъестественными способностями?
– Расскажите!
– Нет! – Дюссандера передернуло от отвращения и ужаса. Сколько лет он уже не вспоминал о «Пегасе»? Десять? Двадцать? – Ни за что! Не буду!
– Расскажите! – повторил Тодд, облизывая перепачканные шоколадом пальцы. – Расскажите, иначе сами знаете, что будет.
Да, подумал Дюссандер, я знаю, мерзкий гаденыш. И неуверенно произнес:
– Га з заставлял их… плясать.
– Плясать?
– Как и «Циклон-Б», газ подавался в душ в отверстия для воды. У заключенных открывалась рвота, недержание, и они начинали испражняться.
– Ничего себе! – воскликнул Тодд. – Испражняться! – Он доел свое пирожное и показал на нетронутое: – Будете?
Тот не ответил. Его глаза были подернуты дымкой воспоминаний, а лицо превратилось в застывшую маску – так, наверное, выглядит сторона планеты, на которую никогда не падают лучи солнца. Его захлестнула волна отвращения и, как ни странно, ностальгии!
– Они начинали вертеться и издавать какие-то необычные, странные звуки. Мои люди… называли «Пегас» «рвотным газом». Потом заключенные стали падать на землю, корчиться и кататься по бетонному полу, изгаженному их собственным дерьмом. Из носа хлестала кровь, а их все рвало и рвало. Но я сказал неправду, мальчик. Газ их не убил. То ли его концентрация была слишком слабой, то ли мы просто не дождались конца. После такой процедуры вряд ли кому-то удалось бы выжить. И я послал пять человек с оружием, чтобы пристрелить заключенных, положив конец их мучениям. Если бы об этом узнали, мне бы точно не поздоровилось. Ведь пришлось потратить патроны, которые так нужны были фронту: фюрер даже объявил боеприпасы национальным достоянием! Этим пяти подчиненным я доверял. Слышать рвотные звуки, похожие на хохот, было выше моих сил. Казалось, они будут звучать у меня в ушах вечно.
– Надо думать! – с одобрением отозвался Тодд, управившись с пирожным Дюссандера. «Остатки сладки», любила повторять Моника, когда Тодд капризничал и не хотел доедать. —
Классная история, мистер Дюссандер. Вы вообще классно рассказываете, если, конечно, вас расшевелить.
Тодд улыбнулся, и неожиданно Дюссандер, сам того не желая, улыбнулся в ответ.
5
Ноябрь 1974 года
Отец Тодда Дик Боуден был удивительно похож на известного канадского актера Ллойда Бокнера, которому особенно удавались роли воспитанных и состоятельных героев. Ему – Боудену, а не Бокнеру – было тридцать восемь лет. Худощавый и высокий, он предпочитал носить строгие темные костюмы, а на стройку облачался в полевую форму цвета хаки и каску – все это он сохранил со времен своей службы в Корпусе мира, когда помогал проектировать и строить две плотины в Африке. При работе дома у себя в кабинете он надевал очки-половинки, которые обычно сползали на самый кончик носа и делали его похожим на университетского преподавателя. Вот и сейчас на нем были эти очки, и он возмущенно размахивал табелем успеваемости за первую четверть:
– Одна четверка, четыре тройки и один неуд! Господи Боже, Тодд, неуд! Да что это такое? Мама старается не показывать, но она ужасно расстроена!
Тодд опустил глаза. Сейчас он не улыбался. Если отец повышал голос, значит, дело действительно дрянь.
– Боже милостивый, да такого никогда не было! Неуд по алгебре! Как это понимать?
– Не знаю, пап. – Пристыженный, Тодд не поднимал глаз.
– Мы с мамой считаем, ты слишком часто бываешь у мистера Денкера, а на учебу времени не остается. Судя по всему, придется ограничить ваши встречи только выходными. По крайней мере пока ты не подтянешься…
Тодд поднял глаза, и Боудену показалось, как в них сверкнуло бешенство. Он нервно сжал в руках табель… но Тодд уже
смотрел открыто и виновато, всем своим видом выражая смирение. Может, ему только показалось? Не похоже. Боуден почувствовал, что сбит с толку, и даже растерялся. Тодд не мог разозлиться, и Боуден вовсе не хотел разозлить сына. Они всегда были друзьями, и Дик этим очень гордился и дорожил. У них не было друг от друга никаких тайн. Правда, Дик Боуден иногда изменял жене со своей секретаршей, но разве таким делятся с тринадцатилетним сыном? Тем более что это абсолютно никак не отражалось на их семье. Это вообще не в счет, ведь мы живем в безумном мире, где убийцы разгуливают на свободе, старшеклассники сидят на героине, а у ровесников Тодда находят венерические болезни.
– Нет, пап, пожалуйста, не надо. Я хочу сказать, мистер Денкер ни в чем не виноват, и не надо за меня его наказывать. Я исправлюсь! Честно! А эта алгебра… она у меня сразу не пошла. А потом мы несколько дней позанимались вместе с Беном Тримейном, и сейчас я начинаю въезжать. Просто… даже не знаю. Сразу как-то не врубился.
– И все-таки ты проводишь с мистером Денкером слишком много времени, – сказал Боуден, смягчаясь. Ему было трудно отказать Тодду, и к тому же… он, черт возьми, прав, когда говорит, что старика наказывать не за что. Тот наверняка ужасно радуется, когда кто-то скрашивает его одиночество.
– А мистер Сторрман, учитель алгебры, настоящий зверь! – продолжал Тодд. – Он многим поставил пары, а троим даже колы!
Боуден понимающе кивнул.
– Я не буду к нему ходить по средам, пока не исправлю отметки. – Тодд следил за реакцией отца по глазам. – И начну оставаться в школе и заниматься после уроков, пока не подтянусь. Обещаю.
– Он тебе так нравится?
– Он прикольный! – Ответ прозвучал искренне.
– Что ж… ладно. Пусть будет по-твоему. Но в январе я жду хороших отметок. Это ясно? Я думаю о твоем будущем. Ты, наверное, считаешь, что за ум надо браться в старших классах, но это не так. Отнюдь! – Если мать любила приговаривать: «Остатки сладки», то отец любил слово «отнюдь».
– Я понял, пап, – серьезно, по-мужски, произнес Тодд.
– Тогда ступай и возьмись за ум! – Боуден вернул съехавшие очки на место и похлопал сына по плечу.
Тодд широко улыбнулся:
– Договорились, пап!
Дик проводил Тодда довольным взглядом. Таким сыном можно только гордиться! И тогда в его глазах промелькнуло вовсе не бешенство. Может, уязвленное самолюбие, но уж точно не ярость, как ему вдруг показалось. Своего сына он знает и отлично понимает – у того буквально все написано на лице. И между ними всегда было полное взаимопонимание.
Считая отцовский долг выполненным, Дик Боуден с легким сердцем развернул чертежи и склонился над ними.
6
Декабрь 1974 года
После настойчивого звонка Тодда, долго не убиравшего палец с кнопки, за дверью показалось осунувшееся и изможденное лицо. Волосы, еще довольно пышные и здоровые в июле, теперь казались тусклыми и ломкими. Дюссандер и раньше не отличался упитанностью, но теперь – одна кожа да кости. Тодд, правда, считал, что до узников концлагеря тому было еще далеко.
Левую руку Тодд держал за спиной, но, увидев старика, протянул празднично упакованный сверток.
– С Рождеством! – весело прокричал он.
От неожиданности Дюссандер отшатнулся, но все-таки взял пакет. Старик держал пакет осторожно, будто боялся, что он может взорваться. На лице Дюссандера не было ни радости, ни удивления. Почти всю неделю шел дождь, и Тодд притащил пакет под курткой, чтобы доставить сухим.
– Что там? – спросил Дюссандер по дороге на кухню.
– Откройте и посмотрите.
Тодд достал из кармана куртки банку кока-колы и поставил на клеенку в красно-белую клетку.
– А жалюзи лучше закрыть, – заговорщицки посоветовал он.
– А это еще зачем? – Старик сразу заподозрил неладное.
– Ну… на всякий случай, мало ли кто может заглянуть, – пояснил, улыбаясь, Тодд. – Разве осторожность может повредить? Кому, как не вам, знать об этом лучше других?
Дюссандер опустил жалюзи, налил себе виски и начал распаковывать подарок. Тодд завернул его так, как делают только мальчишки, у которых всегда есть дела поважнее, например футбол, хоккей или вечерний фильм ужасов, который они, нервно хихикая, смотрят вдвоем с другом, устроившись вместе на диване под одним одеялом. Сверток был обернут неровно и наспех, складки на упаковочной бумаге не расправлены, а залеплены скотчем. Вечно спешащие мальчишки считают аккуратность женским качеством.
И все же Дюссандер был тронут. Только потом, немного оправившись от первого шока, подумал: я должен был догадаться!
Это была черная форма офицера СС. Полный комплект, включая сапоги.
Старик перевел рассеянный взгляд с вещей в коробке на ее крышку: «Маскарадные костюмы от Питера. Наш адрес не менялся с 1951 года!»
– Нет, – тихо произнес он. – Я это не надену! Скорее умру!
– Вспомните, что сделали с Эйхманом, – без тени улыбки отозвался Тодд. – Он был старым человеком, далеким от политики. Разве не вы это говорили? И я копил на это деньги всю осень. Форма с сапогами обошлась мне в восемьдесят долларов. А в сорок четвертом вы носили ее с удовольствием. Да еще с каким!
– Ах ты, маленький мерзавец! – Старик замахнулся кулаком, но Тодд не шевельнулся, его глаза лихорадочно блестели от предвкушения.
– Валяйте! – тихо и угрожающе произнес он. – Только попробуйте до меня дотронуться!
Старик опустил руку. Его губы дрожали.
– Ты – настоящее исчадие ада! – прошептал он.
– Ну же, я жду! – поторопил Тодд.
Дюссандер начал развязывать пояс халата, но остановился и умоляюще взглянул на мальчика:
– Пожалуйста, я же совсем старый. Я не могу.
Тодд медленно, но решительно покачал головой. Глаза по-прежнему лихорадочно блестели – ему нравилось, когда Дюссандер молил о пощаде. Наверняка в Патэне заключенные молили и унижались не меньше.
Халат упал на пол, и теперь старик стоял в одних трусах и шлепанцах. Впалая грудь, чуть вздутый живот, костлявые стариковские руки. Но Тодд не сомневался, что форма все изменит и старик преобразится.
Дюссандер, вытащив из коробки форму, начал одеваться.
Через десять минут он был полностью облачен. Хотя плечи мундира висели, а фуражка сидела неровно, кокарда с «мертвой головой» сразу бросалась в глаза и смотрелась впечатляюще. Тодд решил, что в облике Дюссандера появилось мрачное достоинство, которого прежде не наблюдалось. Несмотря на обвисшие плечи и стариковскую косолапость, которую сапоги только подчеркивали, Дюссандер впервые выглядел так, как, по мнению Тодда, и должен был выглядеть. Да, постарел. Да, пообтрепался. Но снова в мундире! Не какой-то там старикашка, доживающий свой век перед допотопным черно-белым телевизором, по которому показывают музыкальное шоу Лоренса Уилка, а сам Курт Дюссандер – Кровавый Мясник из Патэна!
Что до самого Дюссандера, то он испытывал отвращение, неловкость… но при этом еще и непонятное облегчение. Старик отлично понимал, что это – верный признак психологического доминирования, которого добился мальчишка. Он презирал себя. Он оказался пленником подростка и, мирясь с очередным унижением, только усиливал свою зависимость и унижение. И все-таки ему почему-то действительно стало легче. В конце концов, это всего лишь кусок сукна, пуговицы и застежки… обычный маскарадный костюм, а никакая не форма. Ширинка на галифе была на молнии, а должна быть на пуговицах, кокарда неправильная, швы неаккуратные, сапоги из дешевой кожи. Что такого, что он в это вырядился? Ничего…
– Поправить фуражку! – громко скомандовал Тодд.
Дюссандер вздрогнул и непонимающе на него уставился.
– Поправить фуражку, солдат!
Дюссандер подчинился и машинально чуть сдвинул ее – именно так – заносчиво и надменно – носили фуражки обер-лейтенанты, а форма, при всей ее неправильности, оказалась именно обер-лейтенантской.
– Ноги вместе!
Дюссандер выполнил команду, щелкнув каблуками. Казалось, надев форму, он обрел все прежние, доведенные до автоматизма навыки, хотя после войны прошло несколько десятилетий.
– Achtung![9]
Старик замер по стойке «смирно», и Тодду вдруг стало страшно – страшно по-настоящему. Он чувствовал себя как подмастерье колдуна, он словно вызвал к жизни темные силы, но не был уверен, что сумеет их укротить. Старика, живущего на пенсию, больше не было – его место занял Курт Дюссандер!
Однако страх быстро сменился ощущением всесилия.
– Кру-гом!
Дюссандер красиво и четко выполнил команду, будто и не пил виски и не мучился от унижений в последние месяцы. Щелк нули каблуки, и он замер. Но перед его глазами была не заляпанная жиром кухонная плита, а плац военного училища, где он постигал основы военного ремесла.
– Кру-гом!
Старик снова повернулся, но уже не так четко, а чуть покачнувшись. За это он тогда сразу получил бы болезненный удар под дых тростью да с десяток нарядов вне очереди. Он готов был улыбнуться – мальчишка многого не знал. Куда ему!
– А теперь – шагом марш! – скомандовал Тодд. Его глаза возбужденно горели.
Дюссандер вдруг обмяк и снова покачнулся.
– Нет, – сказал он. – Пожалуйста…
– Марш, марш, марш!
Издав неясный звук, Дюссандер начал чеканить шаг по вытертому линолеуму кухни. Дойдя до стола, он четко повер-
нул направо, а у стены повернул направо еще раз. Он маршировал, чуть задрав подбородок, и его лицо стало похожим на застывшую маску. Он печатал шаг, выбрасывая вперед вытянутые ноги и заученными движениями делая отмашку руками. Каждый шаг отзывался звяканьем посуды на полке возле раковины.
Глядя на преобразившегося старика, Тодд вдруг снова ощутил приступ страха. Он не хотел, чтобы Дюссандеру это понравилось; ему больше хотелось выставить его смешным, а не настоящим. Но, несмотря на преклонный возраст и убогость обстановки на кухне, Дюссандер не только не выглядел смешным, но производил устрашающее впечатление. Трупы в печах крематория и набитых доверху рвах впервые стали для Тодда не какой-то абстракцией, а чем-то вполне реальным. Множество переплетенных рук, ног и туловищ, белевших под струями весенних дождей в Германии, были не пластмассовыми манекенами в постановочных кадрах фильмов ужасов, а невероятной и жуткой реальностью. Тодду даже почудился зловонный запах гниения.
Его охватил ужас.
– Хватит! – закричал он.
Дюссандер продолжал мерно чеканить шаг. Его взгляд остекленел, подбородок поднялся еще выше, дряблая кожа шеи натянулась, а ноздри тонкого носа хищно раздувались.
Тодд прочувствовал, как его прошиб пот.
– Halt![10] – крикнул он.
Дюссандер замер на месте, со звонким стуком, похожим на хлопок выстрела, опустив на пол левую ногу. Пару секунд на его отрешенном лице еще сохранялось отсутствующее выражение, но оно быстро сменилось смущением, а затем и покорностью. Дюссандер сник на глазах.
Тодд с облегчением перевел дыхание и разозлился на себя: Разве не я здесь главный? И почувствовал, как к нему возвращается уверенность: Конечно, я! И пусть Дюссандер об этом не забывает!
Старик молча стоял, повесив голову.
– Можете переодеться, – великодушно разрешил Тодд и вдруг засомневался, что ему вообще когда-нибудь захочется снова увидеть Дюссандера в форме.
7
Январь 1975 года
Когда отзвенел последний звонок, Тодд выскочил из школы, сел на велосипед и добрался до парка. Он нашел пустую скамейку, поставил рядом велосипед, достал из заднего кармана листок с оценками за четверть и осмотрелся, нет ли поблизости знакомых. Возле пруда обнималась какая-то парочка из старших классов, да двое бродяг передавали друг другу пакет, прикладываясь к спрятанной в нем бутылке.
«Проклятые алкаши!» – со злостью подумал Тодд, хотя злился на самом деле совсем по другой причине. Он развернул листок.
Английский – удовлетворительно. История Америки – удовлетворительно. Естествознание – плохо. Обществоведение – хорошо. Французский – неудовлетворительно. Алгебра – неудовлетворительно.
Он смотрел на оценки, не веря своим глазам. Он предполагал, что хвастаться будет нечем, но такой катастрофы никак не ожидал.
А может, оно и к лучшему, вдруг прозвучал внутренний голос. Может, ты специально до этого довел, потому что хочешь остановиться? Пока не поздно. Пока не случилось чего-то непоправимого.
Он отбросил эту мысль. Ничего плохого случиться не может! Дюссандер целиком и полностью в его власти. Старик был уверен, что Тодд написал обо всем в письме, которое передал на хранение другу. Кому конкретно, он не знал. Если с Тоддом, не дай Бог, что-нибудь случится – причем не важно, что именно, – письмо сразу окажется в полиции. Тодд не сомневался: раньше Дюссандер мог бы на что-то решиться, но теперь стал
слишком стар, чтобы пуститься в бега даже при наличии форы.
– Он, черт возьми, вот у меня где! – прошептал Тодд и с силой ткнул кулаком себе в бедро. Ушибленное место больно заныло.
Разговаривать с собой вслух – дурной признак, так делают только психи. Это началось месяца полтора назад, и ему никак не удавалось избавиться от дурной привычки. Несколько раз Тодд даже ловил на себе недоуменные взгляды прохожих. И учителей тоже. А гаденыш Берни Эверсон даже прямо спросил, все ли у него дома. Тодд с большим трудом удержался, чтобы не вмазать ему хорошенько, но разборки с драками ни к чему хорошему не приводят, и попадать в список хулиганов ему вовсе ни к чему. Да, разговаривать с самим собой – плохо, однако…
– Видеть сны еще хуже, – прошептал он, и на этот раз даже не заметил, что снова произнес это вслух.
В последнее время Тодда мучили кошмары. В одном сне он, одетый в робу, стоял в шеренге изможденных, костлявых заключенных. В воздухе пахло горелым, слышался рев бульдозеров. Появившийся Дюссандер показывал на отдельных узников. Их оставляли, а остальных уводили в крематорий. Кое-кто упирался, но большинство обреченно брели, не в силах сопротивляться. Потом Дюссандер остановился перед Тоддом, их взгляды встретились, и старик ткнул ему в грудь потрепанным зонтиком.
– А этого отведите в лабораторию, – приказал Дюссандер во сне и противно ухмыльнулся, обнажив вставные зубы. – Заберите этого американского мальчишку!
В другом сне Тодд был одет в нацистскую форму. Сапоги начищены до зеркального блеска. Кокарда с «мертвой головой» и эмблема со сдвоенной руной «зиг» ослепительно сверкают. Он стоит на центральной улице Санта-Донато, и все на него смотрят. На него начинают показывать пальцами, кое-кто даже смеется. На лицах остальных отражается крайнее удивление, гнев и омерзение. В том сне к нему подъезжает старинный автомобиль и со скрежетом останавливается. В нем сидит Дюссандер, похожий на мумию с коричневой кожей, и на вид ему лет двести.
– Я знаю тебя! – визгливо кричит Дюссандер, оглядывая зевак и показывая на Тодда. – Ты был главным в Патэне! Смотрите, смотрите все! Вот он – Кровавый Мясник из Патэна! Любимчик Гиммлера! Смерть убийце! Смерть Мяснику! Смерть чудовищу!
А еще был сон, в котором Тодда, одетого в полосатую робу заключенного, вели по каменному коридору два охранника, похожие на его родителей. У обоих на рукавах желтые повязки с шестиконечной звездой Давида. За ними шел священник, читавший выдержки из Ветхого Завета. Тодд обернулся и увидел, что это Дюссандер, одетый в форму офицера СС.
В конце коридора открылись двойные двери, за которыми оказалась восьмиугольная комната со стеклянными стенами. Посередине возвышалась плаха. За стеклом вокруг комнаты толпились изнуренные мужчины и женщины, все голые, они безучастно наблюдали за происходящим. На руке у каждого была татуировка с номером.
– Все в порядке, – снова прошептал Тодд. – Все в порядке и под контролем.
Парочка возле пруда перестала целоваться и с любопытством уставилась на Тодда. Тот вызывающе посмотрел на них. Наконец они отвернулись. Интересно, тот парень действительно ухмыльнулся или ему показалось?
Тодд поднялся, сунул табель в задний карман и забрался на велосипед. Добравшись до магазина в двух кварталах от парка, он купил там жидкость для выведения чернил и синюю авторучку. Затем вернулся в парк. Парочка уже ушла, а пьяницы были на месте – порывы ветра доносили исходившее от них зловоние. Тодд переправил оценки. Английский – хорошо. История Америки – отлично. Естествознание – хорошо. Обществоведение – хорошо. Французский – удовлетворительно. Алгебра – хорошо. Чтобы документ не вызвал подозрений, он сначала стер слово «хорошо» в оценке по обществоведению, а потом написал его заново.
Настоящий специалист!
– Ерунда, – шептал Тодд. – Главное – выиграть время. Точно!
В том же месяце Курт Дюссандер проснулся как-то ночью от собственного крика. Он, судорожно сжав руками одеяло, задыхался, вглядываясь в зловещую темноту. Его парализовал страх. Грудь сдавило так, что он испугался, не инфаркт ли это. С трудом нащупав в темноте лампу на тумбочке возле кровати, старик чуть не сбросил ее, когда пытался включить.
Он пробовал успокоиться, убеждая себя, что по-прежнему находится у себя в спальне, что живет в Санта-Донато, в Калифорнии, в Америке. Вот знакомые коричневые занавески, вот полки с дешевыми книгами из лавки на Сорен-стрит, вот старый серый ковер на полу и голубые обои на стенах. Нет никакого инфаркта. Нет никаких джунглей. И никто его не выслеживает!
Но ужас, накрывший его липкой пеленой, не исчезал, сердце продолжало бешено биться. Ночной кошмар вернулся. Он знал, что, если мальчишка не перестанет его мучить, это обязательно случится, рано или поздно. Проклятый мальчишка! Старик считал, что уловка с письмом была обыкновенным блефом, причем не самым удачным, и позаимствована из детективных телесериалов. Разве найдется на свете такой подросток, который удержится от соблазна и не вскроет письмо, где написано что-то важное? Где кроется какая-то тайна? Конечно, нет! Если бы он только мог быть уверен…
Старик с трудом сжал и медленно разжал скрюченные артритом пальцы.
Он вытащил из пачки на столе сигарету и чиркнул спичкой. Часы показывали 2:41. Ночь. Заснуть теперь точно не удастся. Он затянулся и закашлялся. Можно, конечно, спуститься вниз и, чтобы успокоиться, пропустить пару стаканчиков. А то и три. Но в последние полтора месяца он и так слишком много пил. Теперь он уже не тот молодой человек, что мог пить ночь напролет, как во время отпуска в тридцать девятом в Берлине, когда в воздухе витал дух победы, повсюду звучал голос фюрера и везде висели его портреты с пронизывающим и уверенным взглядом…
Проклятый мальчишка!
– Не надо себя обманывать, – произнес он и невольно вздрогнул от звука собственного голоса, прорезавшего ночную тишину.
У него не было привычки разговаривать с собой, но иногда такое случалось. Например, в последние недели в Патэне, когда с каждым новым днем канонада приближавшегося фронта становилась все громче. В то время разговаривать с собой казалось вполне естественным. Он переживал стресс, а при стрессе люди часто делают что-то необычное – например, теребят мошонку, сунув руку в карман, или клацают зубами… Особенно впечатляюще клацать зубами получалось у Вольфа: губы у него при этом растягивались, как в улыбке. Гуффман щелкал пальцами и постукивал себя по бедру, отбивая какой-то одному ему ведомый ритм и при этом совершенно этого не замечая. А он сам, Курт Дюссандер, иногда разговаривал с собой вслух. Но теперь…
– Ты снова переживаешь стресс, – громко произнес он, но на этот раз по-немецки. Он не говорил на немецком уже много лет, и звуки родной речи в тиши спальни были удивительно приятными и успокаивали. – Да, ты переживаешь стресс. Из-за мальчишки. Но не надо себя обманывать, особенно в такой поздний час. Ты не жалеешь, что пустился в воспоминания. Сначала ты боялся, что мальчишка не сможет или не захочет сохранить тайну, поделится с другом, а тот расскажет кому-нибудь еще. Но если он до сих пор никому не проболтался, то сумеет и дальше держать язык за зубами. Если меня схватят, то он… лишится своей любимой книжки. Ведь я же его любимая книжка? Похоже, так.
Старик замолчал, погрузившись в размышления. Он был очень одинок, одинок так, что и передать нельзя. Он даже всерьез раздумывал о самоубийстве. Он превратился в отшельника. Чужие голоса звучали в его доме только по радио. Он ни с кем не общался, его никто не навещал. Он был старым человеком, а одиночество для старика было страшнее смерти.
Иногда его подводил мочевой пузырь и на штанах расплывалось темное пятно у самой двери туалета. В сырую погоду суставы начинало ломить, и постепенно боль становилась невыносимой. Выпадали дни, когда он поглощал по целой упаковке болеутоляющего… Но аспирин только притуплял боль, и простые движения, например достать книгу с полки или переключить программу телевизора, превращались в настоящую пытку.
#Зрение падало, и он постоянно натыкался на все, больно ударяясь головой или голенью или ненароком опрокидывая посуду. Он жил в постоянном страхе, что сломает ногу и не сможет добраться до телефона или что попадет в больницу, где врач, заподозрив неладное в истории болезни несуществующего мистера Денкера, докопается до истины.
С появлением мальчишки многие страхи отступили. Старик безбоязненно рассказывал ему о прошлом, которое почему-то помнил в мельчайших подробностях. Он без труда вспоминал имена, события и даже то, какая погода была в тот или иной день. Он помнил рядового Хенрайда, несшего караул на пулеметной вышке. У него был огромный жировик между глаз, которому он был обязан прозвищем Циклоп. Он помнил Кесселя, у которого была фотография его девушки, снятой голой на диване. Она лежала, закинув руки за голову. Кессель за деньги давал другим эту фотографию. Старик помнил имена врачей, проводивших десятки и даже сотни экспериментов по определению степени боли, которую способен вынести человек, последствий радиации, изучению электроэнцефалограмм умирающих мужчин и женщин и многого, многого другого.
Наверное, он разговаривал с мальчиком, как разговаривают все старики, но ему, похоже, повезло больше других: его готовы были слушать часами с бесконечным и неослабевающим интересом.
Разве могут несколько ночных кошмаров оказаться слишком высокой платой за это?
Дюссандер загасил сигарету, немного полежал, глядя в потолок, и спустил ноги на пол. Они с мальчишкой оба омерзительны, оба сосали кровь и вырывали друг из друга куски плоти. И если после совместных «трапез» на кухне даже он с трудом переваривал съеденное, то каково мальчишке? Мучают ли его ночные кошмары? Судя по всему, нет. Хотя в последнее время Тодд побледнел, похудел и осунулся.
Старик подошел к шкафу, открыл дверцу и, сдвинув вешалки направо, достал маскарадную форму. Она повисла на руке как шкура хищника. Он провел по ней ладонью… и нежно погладил.
Дюссандер долго не сводил с нее взгляда, а потом стал медленно надевать мундир и галифе, застегивая все пуговицы (даже молнию на галифе) и затягивая портупею.
Закончив, он посмотрелся в зеркало и с довольным видом кивнул.
Он вернулся к постели, лег, закурил новую сигарету, чувствуя, что его начинает одолевать сонливость. Старик выключил лампу, еще не веря, что все так просто, но через пять минут уже глубоко спал, и на этот раз кошмары его не тревожили.
8
Февраль 1975 года
После ужина Дик Боуден угостил Дюссандера коньяком, который тому совершенно не понравился. Однако он, конечно, расплылся в довольной улыбке и всячески его нахваливал. Жена Боудена принесла сыну шоколадный коктейль. На протяжении всей трапезы Тодд вел себя необычно тихо. Волновался? Наверное. Судя по всему, ему было очень не по себе.
Дюссандер буквально очаровал Дика и Монику Боуден, едва переступив порог их дома. Мальчик внушил родителям, что мистер Денкер почти ничего не видит (хоть заводи собаку-поводыря), потому он и ездит к старику, чтобы читать вслух. Дюссандер старался постоянно держать это в голове и, кажется, ни разу не прокололся.
Он оделся в свой лучший костюм, и, хотя вечер выдался влажным, артрит, по счастью, особенно его не беспокоил – так, давал о себе изредка знать, не более того. По непонятной причине мальчик не хотел, чтобы Дюссандер брал с собой зонтик, но тот не послушался. А сам вечер удался на славу, и даже отвратительный коньяк не мог его испортить. Как ни крути, а за последние девять лет Дюссандер впервые ужинал не дома, а в гостях.
Во время ужина он рассказывал о своей работе на автомобильном заводе и восстановлении послевоенной Германии.
#В вопросах Боудена, в том числе и о немецкой литературе, чувствовался искренний интерес, и ответы Дюссандера его не разочаровали. Моника Боуден поинтересовалась, почему он приехал в Америку так поздно, и старик, придав лицу подобающее скорбное выражение, поведал о кончине вымышленной супруги. Моника расчувствовалась.
Уже в самом конце, потягивая коньяк, Дик Боуден все же спросил:
– Прошу заранее извинить меня за бестактный вопрос, мистер Денкер, и я пойму, если вы сочтете его слишком личным и не станете отвечать… но мне ужасно любопытно, что вы делали во время войны.
Мальчик замер.
Дюссандер улыбнулся и стал шарить рукой по столу в поисках сигарет. Он отлично видел, где они лежат, но ему было важно не допустить ни малейшего промаха. Моника подала ему пачку.
– Благодарю вас, милая леди. Ужин был просто превосходным. Даже моя жена не смогла бы приготовить лучше.
Польщенная Моника поблагодарила за комплимент и покраснела от удовольствия. Тодд бросил на нее сердитый взгляд.
– Вам не за что извиняться, мистер Боуден, а мне нечего скрывать, – продолжил Дюссандер, поворачиваясь к Дику. – Начиная с сорок третьего года я был в запасе, как и все здоровые мужчины, которые по возрасту не подлежали призыву. Тогда уже чувствовалась неизбежность падения Третьего рейха и возглавлявших его безумцев. Особенно это касалось одного, как вы сами понимаете. – Он погасил спичку, и его лицо помрачнело. – Когда от Гитлера отвернулась удача, все ощутили облегчение. Огромное облегчение. Конечно, – он взглянул на Боудена, будто ища в нем понимания, – никто в этом не признавался. Во всяком случае, не говорил об этом вслух.
– Естественно, – уважительно поддакнул Дик Боуден.
– Об этом не говорили, – повторил Дюссандер, будто подчеркивая свою мысль. – Помню, как-то мы вчетвером или впятером – все друзья – заглянули после работы в один погребок, чтобы выпить. Тогда уже случались перебои со шнапсом и даже пивом, но в тот вечер имелось и то и другое. Мы знали друг дру-
га лет двадцать. Один из нас – Ганс Хасслер – заметил мимоходом, что фюрер зря послушал тех, кто советовал открыть второй фронт против русских. Я сразу сказал: «Ганс, Бога ради, думай, что говоришь!» Ганс побледнел и тут же сменил тему. А через три дня он исчез. И я больше никогда его не видел, как, похоже, и все остальные из нашей компании.
– Ужас какой! – воскликнула Моника, на которую рассказ произвел сильное впечатление. – Еще коньяку, мистер Денкер?
– Нет, спасибо, – с улыбкой отказался он. – Как говаривала моя теща: «Все хорошо в меру».
Тодд нахмурился еще больше.
– Вы думаете, его отправили в концлагерь? – спросил Дик. – Вашего друга Хесслера?
– Хасслера, – мягко поправил Дюссандер и посуровел. – Туда отправляли многих. Концлагеря… настоящий позор Германии, который она не сможет смыть и за тысячу лет! Вот оно – истинное наследие Гитлера.
– Думаю, вы слишком категоричны, – заметил Боуден, раскуривая трубку и наполняя гостиную ароматом вишни. – Если верить тому, что я читал, то большинство немцев понятия не имели о происходившем у них под носом. Те, кто жил рядом с Аушвицем, считали, что там колбасный завод.
– Просто ужас! – вмешалась Моника и выразительно посмотрела на мужа, призывая его сменить тему. Потом обратилась к Дюссандеру с улыбкой: – Я обожаю запах трубочного табака! А вам он нравится, мистер Денкер?
– Да, мадам, – вежливо кивнул Дюссандер, с трудом подавляя желание чихнуть.
Неожиданно Боуден потянулся через стол и хлопнул сына по плечу. Тодд вздрогнул.
– Тебя что-то не слышно. Ты, случаем, не заболел?
Улыбка Тодда предназначалась одновременно и отцу, и гостю:
– Нет, я здоров. Просто все это я уже слышал раньше.
– Тодд! – одернула его Моника. – Разве можно…
– Мальчик просто честен, – вмешался Дюссандер. – А с возрастом подобная роскошь становится непозволительной. Верно, мистер Боуден?
Дик, соглашаясь, рассмеялся.
– Может, Тодд проводит меня до дома? – спросил Дюссандер. – Не сомневаюсь, уроки он уже сделал.
– Тодд – очень способный ученик, – привычно констатировала Моника, посмотрев на сына. – Одни пятерки и четверки. Правда, по французскому тройка за последнюю четверть, но он обещал подтянуться. Так ведь, Тодд?
Мальчик улыбнулся, будто думая о чем-то своем, и кивнул.
– Зачем вам идти пешком? – спросил Дик. – Я с удовольствием отвезу вас на машине.
– Спасибо, но я хожу пешком, чтобы подышать свежим воздухом и немного размяться. Честно. Но если Тодду не хочется…
– Почему? Я – с удовольствием, – ответил Тодд, и родители с довольным видом заулыбались.
Они уже почти добрались до улицы, где жил Дюссандер, когда старик наконец нарушил молчание. Накрапывал дождь, и они шли под раскрытым зонтиком Дюссандера. Как ни странно, артрит по-прежнему не давал о себе знать.
– Ты совсем как мой артрит, – произнес старик.
– Что? – Подросток отвлекся от своих мыслей.
– Вы сегодня оба не давали о себе знать. Что с тобой?
– Ничего, – процедил Тодд, и они свернули к дому.
– Попробую угадать, – миролюбиво продолжил Дюссандер. – Когда ты зашел за мной, то боялся, что на ужине я совершу какой-нибудь промах… «Проколюсь», как вы выражаетесь. А деваться было некуда, ведь предлогов не знакомить меня с родителями больше не осталось. Теперь, когда все прошло отлично, ты не знаешь, что и думать. Я угадал?
– Какая разница? – Тодд недовольно передернул плечами.
– А разве могло быть иначе? – не унимался Дюссандер. – Я же носил маску еще до того, как ты родился. Должен признать, ты умеешь хранить тайны. Что есть, то есть. Но ты видел меня сегодня? Я же буквально очаровал твоих родителей!
– А зачем?! – взорвался подросток.
Дюссандер остановился и пристально посмотрел на Тодда:
– Зачем? А я-то думал, тебе нужно именно это. Теперь они точно не станут возражать против твоих визитов для «чтения книг вслух».
– Слишком уж много ты о себе возомнил! – запальчиво крикнул Тодд. – Может, я уже получил все, что хотел! Думаешь, меня можно заставить приходить в твою жалкую лачугу и смотреть, как ты напиваешься, словно бездомный алкаш на вокзале? Ты так думаешь? – Его голос стал визгливым и обрел истерические нотки. – Меня нельзя заставить! Хочу – прихожу, хочу – нет!
– Не нужно кричать. Нас могут услышать.
– И что с того? – Тодд зашагал вперед, демонстративно выйдя из-под зонта.
– Никто не заставляет тебя приходить, – сказал Дюссандер и решился закинуть удочку: – Вообще-то я совсем не против. Меня совсем не смущает пить в одиночестве. Можешь мне поверить.
Тодд мрачно на него посмотрел:
– Ты об этом только и мечтаешь, верно?
Дюссандер только улыбнулся.
– Даже не надейся! – Они уже были на бетонной дорожке, ведущей к дому. Дюссандер покопался в кармане, нащупывая ключ. Артрит напомнил о себе острой болью в суставах и тут же снова затаился. Теперь Дюссандер не сомневался, что артрит только и дожидался, пока он останется один. А уж потом помучает его по полной.
– Между прочим… – начал Тодд дрожащим от волнения голосом, – …если бы только родители знали о тебе правду, если бы я им рассказал… да они бы вышвырнули тебя пинком под костлявый зад! А мама еще бы и пырнула кухонным ножом. Она рассказывала, что в ней есть еврейская кровь.
Дюссандер пытливо смотрел на мальчика в сгущавшейся тьме. На вызывающе вздернутом бледном лице выделялись круги под глазами, как бывает у людей, которым пришлось долго бодрствовать, пока остальные крепко спали.
– Не сомневаюсь, что они бы испытывали ко мне отвращение, – сказал Дюссандер, хотя и подумал, что Боуден-старший скорее всего стал бы расспрашивать о том же, что так интересо-
вало его сына. – Это понятно. Но что бы они почувствовали, узнай от меня, что тебе все обо мне известно уже целых восемь месяцев? И что ты об этом никому не рассказал?
Тодд молча отвернулся.
– Будет желание – заходи, – равнодушно бросил Дюссандер. – А не будет – сиди дома. До свидания, мальчик.
Он вошел в дом, и оставшийся под моросящим дождем Тодд долго смотрел ему вслед, не зная, что и думать.
На следующее утро за завтраком Моника сказала:
– Мистер Денкер очень понравился папе, Тодд. Он сказал, что тот напомнил ему твоего дедушку.
Тодд в ответ что-то пробормотал. Моника с тревогой взглянула на сына. Он был очень бледным. И никогда раньше не получал троек.
– Ты в последнее время себя нормально чувствуешь, Тодд?
Он непонимающе взглянул на мать, и вдруг на его лице расцвела широкая улыбка, которая моментально ее успокоила. Подбородок сына был смешно перемазан клубничным джемом с бутерброда.
– Конечно! А то!
– Малыш Тодд!
– Малышка Моника! – отозвался он, и они весело рассмеялись.
9
Март 1975 года
– Кис-кис-кис, – звал Дюссандер. – Кис-кис, ну что же ты, котик?
Он сидел на заднем дворе – у ног стояла розовая пластиковая миска с молоком. Половина второго. Раскаленный дрожащий воздух насыщен гарью лесных пожаров, бушующих на западе, и каким-то осенним запахом, столь необычным для марта. Если мальчик и появится, то примерно через час. Теперь он приходил не каждый день, а четыре или пять раз в неделю.
#Старик чувствовал, что с Тоддом не все ладно и у него неприятности.
– Кис-кис-кис, – снова позвал он бездомного кота, сидевшего на давно не стриженной траве на самом краю участка. Кот был облезлым и таким же неухоженным, как и газон, на котором он устроился. На каждый призыв Дюссандера кот реагировал только движением ушей, но глаз с розовой миски не сводил.
«Наверное, у мальчишки проблемы с учебой, – подумал Дюссандер. – Или со сном. А может, и с тем и с другим».
Эта мысль вызвала на его лице улыбку.
– Кис-кис-кис, – снова позвал он. Уши кота шевельнулись, он по-прежнему продолжал неотрывно смотреть на миску.
У Дюссандера хватало и своих проблем. Уже три недели или около того он, ложась спать, надевал нацистскую форму, будто она была пижамой и защищала от ночных кошмаров. Сначала он действительно спал без всяких сновидений, а потом кошмары вернулись. Причем не постепенно, а сразу, и были теперь намного страшнее, чем раньше. К кошмару следивших за ним глаз добавился кошмар погони и бегства. Он мчится напролом что есть мочи через мокрые и невидимые джунгли, влажные ветки больно хлещут по лицу, оставляя липкие разводы то ли сока, то ли крови… Он бежит и бежит, а кругом светятся глаза, равнодушно следящие за обуявшим его ужасом. Но вот он выбирается на поляну. И в темноте скорее чувствует, чем видит, что на другом конце находится холм, наверху которого стоит Патэн. Приземистые бетонные строения и плацы обнесены колючей проволокой, по которой пропущен ток. Сторожевые башни, похожие на марсианские дредноуты из «Войны миров», зловеще возвышаются над лагерем. А посередине из огромных кирпичных труб, упирающихся в небо, валят клубы черного дыма. Внизу стоят печи с раскрытыми дверцами: в них бушует яркое пламя, и в темноте их мерцание похоже на горящие глаза свирепых демонов. Местным жителям говорили, что в Патэне шьют одежду и делают свечи, но они, конечно, в это верили не больше, чем жители Аушвица в колбасный завод. Но это не имело значения.
Во сне он оглядывается и наконец видит, как обладатели глаз выходят из укрытия. Ненашедшие упокоения евреи медленно подступают все ближе и ближе, их мертвенно-бледные руки с выжженными синими номерами вытянуты вперед, а скрюченные пальцы похожи на когтистые лапы птиц. Их лица уже не бесстрастны, а искажены ненавистью и жаждой мести, все они хотят его смерти. Маленькие дети цепляются за матерей, а взрослые помогают идти старикам. И еще на лицах написан страх.
Страх? Да! Потому что во сне он знает (и они тоже знают), что если ему удастся вскарабкаться на холм и добраться до лагеря, то он окажется в безопасности. Здесь, в болотистой и влажной долине, в джунглях, где цветущие ночью растения выделяют не сок, а кровь, он просто… добыча. Но если внизу раскинулись джунгли, то на холме расположился зоопарк, где все дикие животные сидят по своим клеткам, и только он решает, кого накормить, кого оставить в живых, кого отдать для опытов, а кого посадить в фургон и доставить к печам для сожжения.
Он мчится к холму изо всех сил, но во сне это получается слишком медленно, и вот первая костлявая рука уже хватает его за горло, он чувствует холодное смердящее дыхание, запах разлагающейся плоти, слышит восторженные крики, похожие на клекот птиц, и вот его уже волокут вниз, хотя спасение было так близко…
– Кис-кис-кис, – позвал Дюссандер. – Молочко. Вкусное молочко.
Наконец кот решился. Проделав половину пути, он снова сел, но не основательно, а скорее осторожно присел, в тревоге подергивая кончиком хвоста. Кот ему не доверял, но Дюссандер знал, что, учуяв молоко, животное в конце концов сдастся, так что следовало просто набраться терпения.
В Патэне никогда не существовало проблем с пронесенными тайком предметами. Некоторые заключенные прибывали в лагерь, запрятав ценности в маленькие замшевые мешочки, которые проталкивали себе палочкой в задний проход как можно глубже, чтобы их не смог нащупать даже Вонючий Палец, как прозвали имевшегося среди охраны настоящего доку в этом деле. Зачастую эти «ценности» оказывались сущей ерундой: фотографией, прядью волос или бижутерией. У одной женщины
нашли маленький алмаз, как выяснилось, дефектный, не представлявший никакой ценности, но, по ее словам (она была еврейкой, а евреям, как известно, верить нельзя), он находился в их семье шесть поколений и переходил от матери к старшей дочери. Она проглотила его перед отправкой в Патэн. Когда алмаз вышел с фекалиями, она его снова проглотила. И делала так много раз, пока не расцарапала им себе все внутренности и не истекла кровью.
Ухищрений, к которым прибегали узники, чтобы припрятать какую-нибудь мелочевку, вроде табака или ленты для волос, было немало, но это не имело значения. В комнате, где Дюссандер проводил допросы, стояли газовая плита и обычный кухонный стол, накрытый скатертью в клетку, очень похожей на ту, что сейчас лежала у него на кухне. На этой плите всегда тушилось мясо молодого барашка, насыщая воздух аппетитным ароматом, от которого текли слюнки. Если возникало подозрение, что у кого-то имелись запрещенные вещи (а такие подозрения были всегда), в допросную доставляли заключенного из группы подозреваемых и ставили возле плиты, источавшей невероятные запахи. Дюссандера интересовал только один во прос: кто? Кто припрятал золото? Драгоценности? Табак? Кто дал таблетку женщине по фамилии Гивенет для ее маленького ребенка? Кто конкретно? Никаких обещаний накормить в общем-то и не давалось, но аппетитные запахи неизменно развязывали языки. Конечно, такого же результата можно было добиться с помощью дубинок или, к примеру, сунув ствол в промежность, а вот запахи… это красиво и изящно! По-другому и не скажешь!
– Кис-кис! – позвал Дюссандер. Кот навострил уши и приподнялся, но, видимо, припомнив какой-нибудь давнишний пинок или спичку, опалившую усы, снова сел. Но он скоро сдаст ся – нужно просто набраться терпения.
Дюссандер нашел способ усмирить ночные кошмары. В чем-то он напоминал надевание эсэсовской формы, только был намного эффективнее. Старик был очень собой доволен и только жалел, что не додумался до этого раньше. Наверное, ему следует благодарить мальчишку за то, что тот помог ему понять простую истину: чтобы прошлое перестало преследовать, нужно не
раскаиваться, а созерцать его и даже воспроизводить. Хотя до неожиданного появления подростка прошлым летом он на протяжении долгого времени и не страдал от ночных кошмаров, их причиной, по его мнению, являлось малодушное признание своей вины. Он отказался от чего-то очень для себя важного и перестал быть цельной личностью. Теперь он снова обрел цельность.
– Кис-кис-кис, – позвал Дюссандер, и на его лице появилась добрая и мудрая улыбка, которую можно часто видеть на лицах стариков, переживших трудные времена и нашедших наконец мирное пристанище, где проводят последние, отведенные им жизнью дни.
Кот поднялся и, наконец, решившись, грациозной трусцой проделал оставшийся до миски путь. Поднявшись по ступенькам, он снова смерил Дюссандера недоверчивым взглядом и, прижав облезлые уши, принялся лакать молоко.
– Вкусное молочко, – произнес Дюссандер, надевая прочные резиновые перчатки, предусмотрительно приготовленные заранее. – Вкусное молочко для хорошего котика. – Он купил эти перчатки в супермаркете и, стоя на переходе, ловил на себе одобрительные и даже заинтересованные взгляды пожилых женщин. Такие перчатки рекламировали по телевизору, они были длинными и такими эластичными, что в них можно запросто подцепить монетку с пола.
Он стал осторожно гладить кота, тихо приговаривая, чтобы животное окончательно успокоилось. Кот довольно выгибал спину в такт движениям руки.
Когда молока в миске почти не осталось, Дюссандер резко схватил кота.
Тот моментально взвился и отчаянно забился в цепких пальцах, пытаясь вырваться. Его тельце извивалось и дергалось, он визжал, царапался и кусался с такой силой, что наверняка вышел бы победителем, не окажись перчатки такими прочными. Кот был бесстрашным и опытным бойцом, и оценить его отвагу по достоинству мог только такой же старый ветеран, подумал с усмешкой Дюссандер.
Держа кота на вытянутых руках, чтобы тот не задел его когтями, старик ногой распахнул дверь на кухню и вошел. Кот виз-
жал, извивался и пытался разодрать ненавистные перчатки. В отчаянном броске он извернулся и вцепился зубами старику в большой палец, защищенный зеленой резиной.
– Плохой котик! – укоризненно покачал головой Дюссандер.
Дверца духовки была открыта, и старик швырнул туда кота. Когти со скрежетом зацарапали по стенкам. Дюссандер коленом захлопнул дверцу и поморщился от боли, вызванной резким движением. Однако на его лице по-прежнему продолжала играть улыбка. Тяжело дыша, почти задыхаясь, он оперся на плиту, чтобы собраться с силами. Духовка была газовой, и он редко ею пользовался, разве что для разогрева полуфабрикатов, а теперь – и для убийства бродячих котов.
Кот отчаянно визжал, силясь вырваться.
Дюссандер поставил температуру на пятьсот градусов, и с легким шипением по двойному ряду горелок пробежал огонек, поджигая газ. Визг кота сменился отчаянным воплем, похожим… на крик маленького ребенка. Ребенка, которому причинили неимоверную боль. Улыбка Дюссандера стала еще шире. В груди гулко стучало сердце. Кот бился и царапал стенки духовки, откуда доносился его дикий предсмертный визг. В воздухе запахло паленой шерстью и горелым…
Через полчаса старик выскреб останки кота из духовки с помощью вилки для барбекю, которую приобрел за два доллара девяносто восемь центов в торговом центре в миле от дома.
Затем он сложил обугленные кости кота в пустой пакет из-под муки и отнес в подвал с земляным полом. Вернувшись, Дюссандер как следует обработал кухню и гостиную аэрозольным освежителем воздуха, и там установился стойкий искусственный запах хвои. Наконец он открыл все окна, помыл вилку, повесил на стену с другими приборами и сел поджидать, не придет ли мальчишка. С его лица не сходила довольная улыбка.
Тодд появился минут через пять после того, как Дюссандер уже потерял надежду его увидеть. Он был в спортивной куртке с эмблемой школы и бейсболке клуба «Сан-Диего падрес». Под мышкой торчали учебники.
– Салют! – сказал он и, добравшись до кухни, наморщил нос. – Ну и вонища!
– Я опробовал духовку, – пояснил Дюссандер, закуривая, – и случайно сжег свой ужин. Пришлось выбросить.
Однажды в конце месяца Тодд пришел намного раньше обычного, задолго до окончания уроков. Дюссандер сидел на кухне, потягивая виски из облезлой фаянсовой кружки, вдоль ободка которой было выведено стершимися буквами: «Пью свой кофеёк – бодрости паёк». Старик перетащил на кухню кресло-качалку и теперь раскачивался в нем с кружкой в руке и шлепая задниками тапок по вытертому линолеуму. В голове приятно шумело. С тех пор как он расправился с тем облезлым котом, ночные кошмары перестали его мучить и вернулись только прошлой ночью. Правда, такого ужаса ему раньше переживать еще не приходилось. Они стащили его с середины холма и стали вытворять с ним невообразимые вещи, пока ему не удалось проснуться. Но, оправившись от шока и убедившись, что все происходило не наяву, а во сне, Дюссандер приободрился. Он мог положить конец ночным кошмарам в любой момент. Однако не исключено, что на этот раз кота будет недостаточно. Приютов для собак еще никто не отменял. И их двери всегда открыты.
Тодд появился на кухне неожиданно – бледное лицо перекошено, под глазами – темные круги. Дюссандер заметил, что мальчишка сильно похудел. Но в глазах Тодда светилась такая ненависть, что старику стало не по себе.
– Ты обязан мне помочь! – с вызовом заявил мальчик.
– Неужели? – мягко переспросил Дюссандер, но внутри у него все сжалось от дурного предчувствия. Сохраняя внешнее спокойствие, он молча наблюдал, как Тодд со злостью швырнул учебники на стол. Один из них скользнул по клеенке и свалился на пол у самых ног Дюссандера.
– Обязан! – истерично выкрикнул Тодд. – Потому что это ты во всем виноват! Только ты! – На его щеках проступили алые пятна. – Ты должен мне помочь, иначе я всем расскажу! А мне есть что…
– Я сделаю все, что в моих силах, – спокойно произнес старик, сцепив на животе пальцы, как когда-то любил, и по-
дался вперед, так что его подбородок оказался на одной линии со сложенными руками. На его лице не отразилось и тени тревоги: оно выражало только внимание и дружеское участие. Сколько раз он сидел в допросной именно в этой позе, а рядом на плите варилось мясо молодого барашка. – Расскажи, что тебя расстроило.
– Вот что! – злобно выкрикнул Тодд и швырнул ему папку. Она, ударившись о грудь, упала на колени, и Дюссандер, вдруг ощутив приступ дикой ярости, едва сдержался, чтобы не влепить мальчишке пощечину, которую тот запомнил бы надолго. Однако он сумел подавить гнев и сохранить безмятежное выражение лица. Папка оказалась обычным табелем успеваемости, хотя школа по какой-то непонятной причине решила поменять название на «Успехи в четверти», будто это что-то меняло. Хмыкнув, он раскрыл ее.
Из папки выпал листок с напечатанным текстом. Дюссандер отложил его и пробежал глазами оценки.
– Похоже, ты здорово влип, мой мальчик, – не без злорадства констатировал Дюссандер. По всем предметам, кроме английского и истории, – неуды.
– Я не виноват! – прошипел Тодд. – Это все ты! Со своими историями! Мне ночами снятся кошмары – ты это знаешь? Я сажусь за уроки, вспоминаю, что ты рассказывал, и уже пора спать! Я не виноват! Это все ты! Слышишь? Ты!
– Я отлично тебя слышу, – отозвался Дюссандер и прочитал выпавший листок.
%%%Уважаемые мистер и миссис Боуден!
Предлагаю нам вместе обсудить успеваемость вашего сына за вторую и третью четверти. Учитывая, как хорошо он учился раньше, его нынешние оценки позволяют предположить, что существует некая особая причина, по которой успеваемость Тодда так резко упала. Эта причина может быть выявлена в ходе откровенного разговора.
Хотя первое полугодие ему удалось закончить без академической задолженности, его годовые оценки могут оказаться неудовлетворительными, если в четвертой четверти он не наверстает упущенного. В противном случае ему придется дополнительно за-
ниматься летом, если вы не хотите, чтобы он остался на второй год.
Обращаю ваше внимание, что успеваемость вашего сына на данный момент не соответствует требованиям, предъявляемым к будущим абитуриентам, и намного ниже показателей, предусмотренных отборочными тестами для выпускников, рассчитывающих продолжить образование в колледже или университете.
Я готов встретиться с вами в любое удобное время. Учитывая обстоятельства, полагаю, что откладывать нашу встречу не следует.
Искренне ваш,
%%%Эдвард Френч
– Кто такой этот Эдвард Френч? Ваш директор? – поинтересовался Дюссандер, вкладывая литок в папку и снова сцепляя пальцы. Он не переставал удивляться витиеватости, с которой американцы любят выражать простые мысли: столько слов, чтобы сообщить родителям, что их сын перестал учиться и завалил экзамены! Старика охватило предчувствие надвигающейся катастрофы, но сдаваться он не собирался. Го д назад он, наверное, смирился бы с неизбежным, но только не сейчас, а проклятый мальчишка, похоже, накликал на него беду.
– Кто? Калоша Эд? Да нет, черт возьми! Просто воспитатель.
– Что еще за воспитатель?
– Догадайся! – Тодд был близок к истерике. – Ты же читал его писульку! – Не находя себе места, он нервно расхаживал по кухне, бросая на старика полные злобы взгляды. – Я этого не допущу! Слышишь? Не допущу! И я не собираюсь заниматься летом! Родители хотят поехать на Гавайи и взять меня с собой. – Он показал на папку на столе. – Знаешь, что сделает отец, когда увидит это?
Дюссандер отрицательно покачал головой.
– Он вытащит из меня всю правду. Всю! Он выяснит, что это все из-за тебя. Другой причины нет и быть не может. Он начнет меня выспрашивать и не успокоится, пока не расколет! И тогда… тогда я окажусь в полном дерьме! – Он с вызовом смот-
рел на Дюссандера. – Родители станут следить за мной! Черт, может, даже отправят к врачу, откуда мне знать? Но я этого не допущу! И ни в какую школу летом меня не затащат!
– И в колонию тоже, – очень тихо произнес Дюссандер.
Тодд замер как вкопанный и побледнел еще сильнее. Он открыл рот, но слова, казалось, застряли у него в горле.
– Что? Что ты сказал?
– Мой дорогой мальчик, – начал Дюссандер, всем своим видом изображая беспримерное терпение. – Я уже пять минут выслушиваю твои горестные стенания, а сводятся они к следующему: тебе грозят неприятности и тебя могут вывести на чистую воду. – Видя, что наконец удалось завладеть вниманием подростка, Дюссандер задумчиво отхлебнул из кружки. – Мой мальчик, – продолжал он, – ты так себя ведешь, что делаешь только хуже. И себе, и мне. А мое положение намного опаснее. Ты не находишь себе места из-за табеля. Господи Боже! Это всего лишь табель!
Он смахнул желтым от никотина пальцем папку со стола. И она упала на пол.
– А у меня на кону стоит жизнь!
Тодд молчал, не сводя с Дюссандера полубезумного взгляда.
– Израильтян ничуть не смутит тот факт, что мне семьдесят шесть лет. Там до сих пор с удовольствием применяют смертную казнь, особенно если речь идет о военном преступнике, связанном с концлагерями.
– Но ты гражданин США! – возразил Тодд. – Америка тебя не выдаст. Я читал об этом. Я…
– Читать-то ты читал, а вот меня точно не слушал. Я не гражданин США. Мои документы – подделка, изготовленная коза нострой. Меня вышлют из страны, и куда бы я ни направился – везде будут ждать агенты МОССАДа.
– Вот и пусть тебя повесят! – процедил сквозь зубы Тодд, сжимая кулаки. – И зачем я только с тобой связался!
– Вот и не надо было, – с усмешкой отозвался Дюссандер. – Но ты уже это сделал, мой мальчик. Исходи из того, что есть, прошлое изменить нельзя. Теперь наши судьбы неразрывно связаны. Если ты решишь меня «заложить», как вы выражаетесь, то и мне придется «заложить» тебя. В Патэне погибло семьсот
тысяч человек. В глазах всего мира я преступник, чудовище, настоящий монстр. А ты – мой сообщник! Ты знал, что я живу в Штатах по поддельным документам, но никому не сказал. А если меня схватят, я всем расскажу об этом. Когда журналисты станут осаждать меня с вопросами и лезть с микрофонами, я буду повторять твое имя снова и снова: его зовут Тодд Боуден, да, именно так… Сколько? Почти целый год. Он хотел знать все в мельчайших подробностях, особенно про мучения узников и издевательства над ними. Он так и выразился: «Как вы над ними измывались».
Тодд замер. Его кожа стала почти совсем прозрачной. Дюссандер улыбнулся и отхлебнул виски.
– Думаю, тебя тоже упрячут за решетку. Назовут это «колонией», «исправительным учреждением» или еще как-нибудь иносказательно, вроде «Успехов в четверти», но тюрьма есть тюрьма.
Тодд провел языком по пересохшим губам.
– А я скажу, что это вранье! И что ничего не знал. И поверят мне, а не тебе. Так что не надейся!
Дюссандер продолжал саркастически улыбаться:
– По-моему, ты сам говорил, что отец все из тебя вытянет.
– Может, и не вытянет. По крайней мере не сразу. Речь-то не о разбитом окне. – Тодд произносил слова медленно, будто рассуждая вслух.
Дюссандер с досадой поморщился. Не исключено, что мальчишка прав – когда на кону стоит так много, ему, возможно, удастся убедить отца. Тем более что никакому отцу такая правда не понравится и он будет цепляться за любую возможность в нее не поверить.
– Может, да, а может, и нет. Но как ты объяснишь чтение всех этих книг полуслепому мистеру Денкеру? Сейчас, конечно, я вижу хуже, чем раньше, но читать в очках могу без проблем. И легко это докажу.
– А я заявлю, что ты меня обманул.
– Правда? А чего ради?
– Ради… дружбы. Потому что тебе было одиноко.
Дюссандер мысленно отметил, что такой номер у мальчишки мог бы запросто пройти. Во всяком случае, раньше. Но сей-
час подросток словно расползался по швам, как ветхое пальто, сшитое прогнившими нитками. Если на улице хлопнет пистон в игрушечном пистолете, он с испугу заорет как девчонка.
– Мои слова подтвердит твой табель, – сказал Дюссандер. – Ведь не из-за «Робинзона Крузо» ты вдруг стал плохо учиться, верно?
– Замолчи! Хватит об этом!
– Нет, – возразил Дюссандер, – не замолчу, пока ты не поймешь кое-что простое. – Он закурил сигарету, чиркнув спичкой о стеклянное окошко духовки. – Мы с тобой в одной связке и пойдем на дно или выплывем только вместе. – Он смотрел на Тодда, уже не улыбаясь, и морщинистое лицо в клубах табачного дыма напоминало голову рептилии. – Если пойду на дно, то утащу и тебя, мальчик. Обещаю. Если хоть что-то выплывет наружу, я молчать не стану. Можешь мне поверить!
Тодд угрюмо посмотрел на него, но промолчал.
– А теперь, – быстро продолжил Дюссандер, будто покончив с неприятными формальностями, – давай подумаем, как нам выбраться из этого положения? Есть какие-нибудь идеи?
– Табель можно исправить с помощью этого, – ответил Тодд, вытаскивая из кармана куртки новый пузырек с жидкостью для выведения чернил. – А что делать с проклятой запиской, я не знаю.
Дюссандер одобрительно кивнул. В свое время он и сам не раз прибегал к подобным махинациям и подделывал цифры в документах, когда разнарядки стали превышать все мыслимые и немыслимые объемы… И сейчас – как и раньше – вопрос упирался в то, что написано в официальном документе… только тогда речь шла о трофеях. Каждую неделю он проверял ящики с ценностями, которые отправлялись в Берлин в специальных бронированных вагонах, похожих на сейфы на колесах. К каждому ящику прилагался перечень содержимого, которое составляли бесчисленные перстни, ожерелья, колье, золото. У Дюссандера имелся свой ящик с украшениями, где камни были не такими дорогими: нефриты, турмалины, опалы, технические алмазы, не очень качественный жемчуг. Если в описи драгоценностей, предназначенных для отправки в Берлин, встречалось нечто, нравившееся Дюссандеру или казавшееся ему выгодным
капиталовложением, он изымал его и заменял изделием из своего ящика, а запись в ведомости подтирал и вписывал что-то другое. В подделке документов он стал настоящим мастером, и это не раз выручало его после войны.
– Отлично! – похвалил он Тодда. – Что же касается второй проблемы…
Он погрузился в раздумья, раскачиваясь в кресле-качалке и время от времени прикладываясь к виски. Тодд, не говоря ни слова, подвинул к столу стул, поднял с пола табель и принялся над ним колдовать. Внешнее спокойствие Дюссандера оказало на него благотворное воздействие, и он принялся за дело с усердием, которое проявляют американские мальчишки, когда не хотят ударить лицом в грязь. И не важно, чем они при этом заняты: сеют пшеницу, играют в бейсбол или подделывают оценки в табеле.
Дюссандер посмотрел на загорелую шею Тодда, торчавшую из круглого ворота футболки, и перевел взгляд на верхний ящик буфета, где хранились ножи. Один точный удар – а уж он знал, куда его нанести, – и мальчишке конец! И тогда он наверняка не проболтается.
Старик с досадой вздохнул: к сожалению, если Тодд исчезнет, начнут задавать вопросы. И этих вопросов будет много. Наверняка и к нему тоже придут. Даже если никакого письма, переданного на хранение другу, и не было, Дюссандер не мог себе позволить так рисковать. Слишком опасно.
– А этот воспитатель Френч, – обратился он к Тодду, постучав по записке, – знаком с твоими родителями?
– Кто? Калоша Эд? – презрительно отозвался тот. – Да его и на порог не пустят туда, где бывают родители!
– Может, он общался с ними как воспитатель?
– Нет! Я всегда хорошо учился. Раньше…
– Так что он знает о твоих родителях? – поинтересовался Дюссандер, задумчиво разглядывая почти пустую кружку. – О тебе, конечно, ему известно все, даже о драках на заднем дворе, и он наверняка будет готов подкрепить свои слова фактами. Но что он знает о твоих родителях?
Тодд отложил ручку и пузырек в сторону.
– Ну, он знает, как их зовут. Это само собой. Еще их возраст. Знает, что мы методисты. Мы не так часто ходим в церковь, но в анкетах это указано. Наверняка знает, чем отец зарабатывает на жизнь. Это тоже есть в анкетах. В общем, все, что есть в бумагах, которые они должны заполнять каждый год. Думаю, больше ничего.
– А если бы у вас в семье имелись проблемы, он бы знал о них?
– В смысле?
Дюссандер допил виски.
– Ссоры, скандалы, драки. Отец спит на диване. Мать слишком много пьет. – Его глаза блеснули. – Подумывают о разводе.
– Еще чего! У нас дома все в порядке!
– Я и не говорил, что не в порядке. Подумай, прошу тебя! Если бы у вас дома творилось что-то неладное?
Тодд непонимающе на него уставился.
– Ты бы наверняка переживал, – пояснил Дюссандер. – И очень сильно. Потерял бы аппетит. Плохо спал. И самое главное – забросил бы учебу. Верно? Дети ужасно переживают, когда дома что-то не так.
В глазах Тодда промелькнуло понимание. И еще нечто похожее на благодарность. Дюссандер приободрился.
– Когда семья оказывается на грани развала, это очень печально, – важно заметил он, наливая новую порцию виски. – В передачах, что показывают по телевизору днем, только об этом и говорят. Сколько обид, лжи и скандалов! Сколько боли! Да, мой мальчик, боли! Ты даже не представляешь, в каком аду живут твои родители. Они настолько увязли в своих проблемах, что им некогда заниматься сыном. Да и разве у него могут быть проблемы, сравнимые с теми, от которых страдают они? Однако страсти рано или поздно улягутся, раны зарубцуются, и они наверняка снова начнут заниматься сыном. Но в данный момент единственное, что они могут сделать, – так это послать к мистеру Френчу дедушку.
Лицо Тодда прояснялось с каждым новым словом.
– А что, может сработать, – пробормотал он. – Да, может, точно может… – Он вдруг осекся. – Нет, не получится! Ты на меня совсем не похож, и Калоша Эд ни за что не поверит.
– Himmel! Got im Himmel![11] – воскликнул Дюссандер. Он вскочил и, пошатнувшись, достал из буфета бутылку с виски и от души плеснул в кружку. – Вот уж не думал, что ты такой Dummkop![12] Когда это внуки были похожи на дедушек? А? У меня же лысина! А ты разве лысый?
Он вернулся к столу и, с неожиданным проворством ухватив мальчика за вихры, дернул.
– Пусти! – закричал тот, невольно улыбнувшись.
– Кроме того, – продолжил Дюссандер, усаживаясь в кресло-качалку, – у тебя голубые глаза и светлые волосы. У меня тоже голубые глаза, а волосы были светлыми, пока не поседели и не выпали. Ты расскажешь мне обо всех родственниках. О тетях и дядях. О сослуживцах отца. О том, чем любит заниматься мать. Я все запомню. Обязательно запомню. Через пару дней, конечно, в голове ничего не останется – сейчас память уже не та, что раньше, – но к встрече я буду точно готов. – Он мрачно улыбнулся. – В свое время я сумел провести людей Визенталя и даже самого Гиммлера. Если мне не удастся одурачить какого-то американского учителя, то я сам завернусь в саван и поползу на кладбище.
– Может, ты и прав, – медленно признал Тодд, но Дюссандер видел, что сумел его убедить. Глаза мальчика сияли надеждой.
– Есть и еще кое-что, – сказал старик.
– О чем вы?
– Ты говорил, что в жилах твоей матери есть еврейская кровь. А моя мать была стопроцентной еврейкой! Так что мы оба жиды, дружок. Как в старом анекдоте. – Он неожиданно ухватил одной рукой за нос себя, а другой – мальчика. – А уж это скрыть не получится! – захохотал он, раскачиваясь на скрипучем кресле.
Тодд испуганно на него воззрился, но, не выдержав, тоже начал смеяться. Они заливались смехом, не в силах остановиться: Дюссандер у открытого окна, в которое врывался теплый калифорнийский ветер, а Тодд – откинувшись на спинку стула,
который упирался в плиту со следами темных полос от спичек на белой эмали.
Калоша Эд Френч (Тодд объяснил, что своим прозвищем тот был обязан привычке надевать в слякоть галоши) был худощавым мужчиной, принципиально ходившим по школе в кедах, которых у него имелось пять пар: от небесно-голубых до ядовито-желтых. Он искренне верил, что эта подобная экстравагантность поможет ему достучаться до сердец ста шести учеников от двенадцати до четырнадцати лет, вверенных его попечению. Френч и не подозревал, что за глаза его называют не только Калошей Эдом, но еще и Надсмотрщиком, и Кедоносцем. Когда-то в колледже за ним закрепилось прозвище Вонючка, и он ужасно боялся, как бы об этом прискорбном факте не прознали в школе.
Он редко появлялся в галстуке и предпочитал водолазки. Их он носил с начала шестидесятых, и его явное стремление походить на Дэвида Маккаллума из шпионского сериала «Человек от Д.Я.Д.И.» не могло не вызвать насмешек со стороны сокурсников. В качестве специализации Френч выбрал школьную психологию и искренне верил, что в этой области ему не было равных. Он умел найти с ребятами общий язык, мог «побазарить» и «влезть в их шкуру», если их что-то «достало». Он понимал их «заморочки» и то, как трудно в тринадцать лет «собрать мозги в пучок», если все вокруг только и делают, что их «полощут».
Правда, он очень плохо помнил себя в тринадцать лет. Наверное, потому, что рос в пятидесятые, а в шестидесятые уже была другая эпоха, и он стал Вонючкой.
Когда в кабинет вошел дедушка Тодда Боудена и плотно закрыл за собой дверь из матового стекла, Калоша Эд предупредительно поднялся, но выходить из-за стола не стал. Он помнил про свои кеды, а люди старой закалки далеко не всегда понимали, что ношение подобной обуви – лишь психологический прием, призванный вызывать доверие у трудных подростков, а вовсе не стиль одежды воспитателя.
Калоша Эд по достоинству оценил представительный вид старика. Поредевшие седые волосы аккуратно зачесаны назад.
#Отутюженный костюм-тройка. Безукоризненно завязанный серый галстук. Черный зонт в левой руке (уже несколько дней моросил мелкий дождь) он держал, будто офицерский стек. Несколько лет назад Калоша Эд и его жена увлеклись детективами Дороти Сейерс и перечитали все произведения этой достопочтенной леди, которые только смогли достать. И вот теперь перед глазами воспитателя предстал во плоти придуманный ею персонаж аристократа и сыщика-любителя лорда Питера Уимзи. Именно так тот выглядел в семьдесят пять лет. Надо будет обязательно рассказать об этом вечером жене.
– Мистер Боуден, – уважительно произнес он и протянул руку.
– Рад познакомиться, – ответил Боуден и пожал ее.
Калоша Эд не стал ее крепко сжимать, как обычно делал,
приветствуя отцов трудных подростков: было видно, что старика мучает артрит.
– Очень рад, мистер Френч, – повторил Боуден и сел, аккуратно подтянув брюки на коленях. Он поставил зонтик между ногами и оперся на него: ни дать ни взять – старый мудрый гриф, заглянувший к воспитателю на огонек. В его речи чувствовался легкий акцент: непохожий на характерные интонации британской аристократии, он скорее был просто европейским. И поражало сходство с Тоддом – те же глаза и нос.
– Рад, что вы нашли время встретиться со мной, – сказал Калоша Эд, усаживаясь на место, – хотя в подобных случаях обычно приходят родители…
Конечно, он произнес это не случайно. За десять лет работы в должности воспитателя Эд не раз имел возможность убедиться, что если приходит тетя, дядя, бабушка или дедушка, то, значит, в семье не все ладно и проблема ребенка крылась именно в этом. Калоша Эд даже испытал облегчение. Конечно, неприятности в семье – это очень плохо, но для такого смышленого мальчика, как Тодд, проблемы с наркотиками оказались бы куда хуже.
– Я понимаю, – ответил Боуден, и на его лице одновременно отразились и скорбь, и негодование. – Меня об этом попросили сын и невестка, мистер Френч. Тодд – очень хоро-
ший мальчик, уж поверьте. А плохие оценки… это временное явление.
– Мы все на это очень надеемся, мистер Боуден, не так ли? Если хотите, можете курить. Вообще-то в школе это не разрешается, но мы не станем афишировать.
– Благодарю вас.
Мистер Боуден достал из внутреннего кармана мятую пачку, сунул в рот одну из двух оставшихся сигарет и чиркнул спичкой по подошве черного ботинка. От первой же затяжки он закашлялся, как кашляют старики, погасил спичку и аккуратно положил в пепельницу, любезно подвинутую Эдом. Калоша завороженно наблюдал за манипуляциями старика.
– Даже не знаю, с чего начать, – нерешительно произнес Боуден, и на его лице за пеленой дыма отразилось замешательство.
– Что ж, – мягко сказал Френч, – уже сам факт, что пришли именно вы, наводит на определенные мысли.
– Да, наверное. Очень хорошо. – В правой руке дымилась сигарета. Старик выпрямился и задрал подбородок. В его осанке и сосредоточенности было что-то прусское, как в фильмах про войну, которые Эд смотрел в детстве. – У моего сына и невестки не складывается семейная жизнь, – произнес Боуден, четко выговаривая слова. – Я бы сказал, совсем не складывается. – Его голубые глаза неотрывно следили за Френчем. Тот раскрыл папку, лежавшую на столе. Листков в ней было немного.
– И вы считаете, что это негативно сказывается на успеваемости Тодда?
Боуден чуть подался вперед, глядя Эду прямо в глаза. Выдержав долгую паузу, Боуден произнес:
– Его мать пьет.
И снова выпрямился.
– О Господи! – отреагировал Эд.
– Да, – подтвердил старик, мрачно кивая. – Мальчик рассказывал мне, как он два раза заставал ее на кухне – она спала прямо за кухонным столом. Тодд знает, как болезненно относится к этому мой сын, поэтому ему пришлось самому разогреть себе еду и заставить мать выпить много кофе, чтобы та к возвращению Ричарда пришла в себя.
– Ужасно! – сказал Эд, хотя ему доводилось выслушивать истории и похлеще. Например, о матерях, сидящих на героине, или отцах, вдруг поднимавших руку на дочерей… или сыновей. – А миссис Боуден не пыталась обратиться с этой проблемой к врачу?
– Мальчик пробовал ее уговорить, но, мне кажется, ей просто стыдно. Если дать ей немного времени… – Он махнул рукой, и сигарета, описав круг, оставила в воздухе кольцо дыма, которое начало медленно рассеиваться. – Вы меня понимаете?
– Да, конечно, – кивнул Френч, невольно восхитившись кольцом дыма. – Ваш сын… отец Тодда…
– Он виноват не меньше! – резко оборвал его Боуден. – Приходит поздно, ужинают без него, даже вечером он может сорваться на работу… Если честно, мистер Френч, по-настоящему он женат на работе, а не на Монике. А я считаю, что на первом месте должна быть семья, а уж потом все остальное. Вы со мной согласны?
– Совершенно согласен, – искренне подтвердил Эд. Его отец работал ночным сторожем универмага в Лос-Анджелесе, и он видел его только по выходным и на каникулах.
– Так что и здесь все не так просто, – сказал Боуден.
Френч понимающе кивнул и, чуть подумав, спросил:
– А что ваш второй сын, мистер Боуден? Э-э… – Он сверился с записями. – Гарольд? Дядя Тодда?
– Гарри и Дебора перебрались в Миннесоту, – сообщил Боуден, и это была правда. – Он преподает там в университете. Вряд ли Гарри сможет вернуться, да и просить об этом не очень-то честно. – На его лице появилось горделивое выражение. – А вот у них образцовая семья!
– Понятно. – Френч еще раз сверился с записями и закрыл папку. – Мистер Боуден, я вам очень признателен за откровенность. И в свою очередь, буду откровенен с вами.
– Благодарю вас, – вежливо отозвался Боуден.
– К сожалению, наши возможности ограничены. В школе работают шесть воспитателей, и у каждого больше сотни подопечных. У моего нового коллеги, мистера Хепберна, их сто пятнадцать. А сейчас такое время, что поддержка нужна почти всем подросткам.
– Разумеется. – Боуден решительно раздавил окурок в пепельнице и скрестил руки на груди.
– Существуют проблемы, справиться с которыми не в наших силах. И самые распространенные из них – это наркотики и семейные неурядицы. Слава Богу, что у Тодда нет интереса к амфетаминам, мескалину или «ангельской пыли».
– Боже упаси!
– И зачастую, – продолжил воспитатель, – мы совершенно бессильны. Это очень печально, но такова правда жизни. Обычно первыми, кого выбрасывает система, которую мы пытаемся держать на плаву, оказываются хулиганы – замкнутые и нелюдимые ребята, которые даже не пытаются взяться за ум. Они просто плывут по течению и переходят из класса в класс или ждут, пока подрастут и смогут бросить школу, не спрашивая родителей. А потом попадают в армию и на автомойки, а дев чонки выскакивают замуж. Вы меня понимаете? Я специально не подбираю слов. Наша система работает вовсе не так, как хотелось бы.
– Я ценю вашу откровенность.
– Но когда в жернова машины попадают ребята вроде Тодда, больно видеть, как ломаются их судьбы. В прошлом году он был среди лучших учеников, а по английскому – вообще первым. У него определенно есть литературный талант, а это такая редкость для нынешнего поколения, чьи взгляды формируются только телевидением и местным кинотеатром. Я разговаривал с учительницей, которая в прошлом году вела у Тодда язык. Она сказала, что он написал лучшее сочинение за все двадцать лет ее педагогической практики. На тему немецких концлагерей во время Второй мировой войны. Она даже поставила ему пять с плюсом, чего никогда раньше не делала.
– Я читал это сочинение, – заметил Боуден. – Очень хорошее.
– Он также отлично успевал по естествознанию и обществоведению. Конечно, по математике он вряд ли достиг бы выдающихся успехов, но уровень знаний был вполне приличным… Он уверенно шел в учебе по восходящей… но в этом году все изменилось. Причем изменилось кардинально. Вот в общем-то и все.
– Понятно.
– Я не могу смириться с тем, что Тодд катится вниз, мистер Боуден. Что же до летней школы… Буду с вами откровенен! Таким мальчикам, как Тодд, она может принести больше вреда, чем пользы. Летняя школа для неуспевающих учеников, переходящих в старшие классы, это настоящий зверинец! Сборище обезьян и гиен, целый сонм кретинов. Совсем неподходящая для Тодда компания.
– Еще бы!
– Так давайте постараемся этого избежать. Я предлагаю мистеру и миссис Боуден походить к семейному психологу. Разумеется, все будет конфиденциально. Службу доверия возглавляет мой хороший приятель Гарри Аккерман. И мне кажется, что эта идея должна исходить не от Тодда, а от вас. – Эд ободряюще улыбнулся. – Может, к июню все и наладится. Такое вполне возможно.
Однако Боуден воспринял предложение без всякого энтузиазма.
– Им это точно не понравится, а виноватым во всем они сделают мальчика, – сказал он. – Ситуация очень деликатная, и тут важно не навредить. Мальчик обещал мне налечь на учебу. Он сам переживает из-за плохих отметок. – При этих словах Боуден загадочно улыбнулся, но чему именно, Эд Френч так и не понял. – Вы даже представить не можете, насколько сильно.
– Но…
– И на меня они станут смотреть косо, – быстро добавил Боуден. – Наверняка! Моника всегда считала, что я вмешиваюсь не в свое дело. Я стараюсь держаться в стороне, но вы сами видите, что происходит. Мне кажется, сейчас надо просто переждать… какое-то время.
– В подобных делах у меня есть немалый опыт, – сказал Эд Френч, накрывая папку руками и устремляя на Боудена серьезный взгляд. – Я уверен, что психологическая помощь пойдет им на пользу. Вы понимаете, что мой интерес к их семейным проблемам связан только с влиянием, которое эти проблемы оказывают на успеваемость Тодда, причем влияние крайне негативное.
– Позвольте сделать вам встречное предложение, – сказал Боуден. – Насколько я понимаю, в середине четверти выставляется промежуточная оценка за успеваемость?
– Да, – осторожно подтвердил Френч. – Она выставляется только тем, кто не сумел усвоить пройденный материал и получал по предмету лишь двойки и единицы. Неслучайно ребята называют такой табель «ужастиком».
– Замечательно! – отозвался Боуден. – Тогда я предлагаю следующее: если мальчик по итогам половины четверти получит неуд хотя бы по одному предмету, – он поднял скрюченный палец, – я поговорю с сыном и невесткой о посещении психолога. И настою на этом. Если в апреле…
– Вообще-то подобные табели выдаются в первой неделе мая…
– Да? Так вот: если мальчик получит неуд хотя бы по одной дисциплине, я гарантирую, что его родители отправятся к психологу. Они любят сына, мистер Френч. Просто сейчас они так заняты своими проблемами, что… – Он пожал плечами.
– Понимаю.
– Давайте дадим им время разобраться во всем и навести в семье порядок. Каждый сам кузнец своего счастья. Кажется, так говорится в пословице?
– Да, так, – подтвердил Эд и, взглянув на часы, увидел, что до следующей встречи у него осталось пять минут. – Я согласен.
Они поднялись, и Френч на прощание пожал старику руку, по-прежнему помня, что сильно жать ее нельзя.
– Однако должен вас предупредить, что наверстать в течение месяца материал за полгода вряд ли реально. Тут нужно горы своротить, никак не меньше. Так что придется вам выполнить данное обещание, мистер Боуден.
– Поживем – увидим. – Губы Боудена тронула та же непонятная улыбка.
Во время беседы Эдда Френча что-то постоянно смущало, но что именно, он понял только во время обеда в кафетерии, через час после ухода «лорда Питера» с элегантно зажатым под мышкой зонтиком.
Они разговаривали не меньше пятнадцати минут, скорее даже двадцать, и за все это время старик ни разу не назвал внука по имени.
Как только закончились занятия, Тодд, вскочив на велосипед, помчался к дому Дюссандера. Взбежав на ступеньки крыльца, он отпер дверь своим ключом и вихрем помчался на кухню через гостиную. На пороге залитой солнцем кухни Тодд замер, чувствуя, что в горле пересохло, а живот свело. На лице попеременно отражались то надежда, то отчаяние.
Дюссандер раскачивался в кресле с полным стаканом виски в руке. Он не стал переодеваться и сидел в том же костюме-тройке, только чуть ослабил узел галстука и расстегнул верхнюю пуговицу рубашки. Немигающий взгляд бесстрастных, как у ящерицы, глаз был устремлен на Тодда.
– Ну? – наконец выдавил Тодд.
Дюссандер выдержал паузу, которая показалась Тодду вечностью. Затем он, не торопясь, поставил стакан возле бутылки с виски и ответил:
– Этот болван поверил всему.
Тодд вздохнул с облегчением.
Но прежде чем он сумел что-то сказать, Дюссандер добавил:
– Он хотел отправить твоих родителей на консультации к своему другу в службу доверия. Даже настаивал на этом.
– Господи! А ты… ты – что?
– Пришлось импровизировать, – ответил старик. – Совсем как той девочке из сказки, где требовалось проявить смекалку. Я всегда умел быстро соображать. Пообещал, что твои родители отправятся к психологу, если тебе выставят неуд хотя бы по одному предмету за половину четверти.
Тодд побледнел.
– Да ты что?! – закричал он. – Я уже завалил в этой четверти две контрольные по алгебре и одну по истории! – На бледном лице проступили капельки пота. – Сегодня был тест по французскому, и я с ним тоже не справился… Точно не справился! Я не мог ни о чем думать, кроме как об этом проклятом Эде и о том, удастся ли тебе с ним разобраться. Да уж, ты разобрал-
ся, нечего сказать! – Он горько усмехнулся. – Обойтись без неудов? Да у меня их будет пять или шесть!
– Это максимум, что я мог сделать, не вызвав подозрений, – пояснил Дюссандер. – Каким бы болваном ни был этот Френч, он выполняет свою работу. А тебе придется выполнить свою.
– Это как? – Лицо Тодда перекосилось от злобы, а голос срывался.
– Займешься учебой. В предстоящий месяц тебе придется пахать как рабу на галерах. Мало того, в понедельник ты подойдешь к каждому учителю и скажешь, что тебе стыдно и что ты берешься за ум. Ты…
– Это невозможно, – сказал Тодд. – Ты не понимаешь. Это просто нереально! Я отстал по естествознанию и истории недель на пять. А по алгебре вообще на десять!
– Тем не менее, – отозвался Дюссандер, наливая себе еще виски.
– Считаешь себя самым умным, да? – закричал Тодд. – Ты не можешь мне приказывать! Время, когда ты командовал, давно прошло! Это понятно? Он вдруг перешел на издевательский шепот: – А воевать теперь тебе по силам только с насекомыми и грызунами! Ты лишь больной старик, который только и может, что портить воздух да мочиться в постели!
– Заткнись и слушай, мерзавец! – оборвал его Дюссандер.
Тодд только дернул головой.
– До сегодняшнего дня, – продолжил старик, понизив голос, – ты еще мог, хотя бы чисто теоретически, выдать меня и выйти сухим из воды. Не думаю, что при твоих расшатанных нервах у тебя бы это получилось, но все-таки. Однако сейчас все изменилось. Сегодня я выступил в роли твоего дедушки, некоего Виктора Боудена. И никто не усомнится, что поступить так я мог только при твоем… – как это называется? – потворстве. Если это выйдет наружу, ты уже ни за что не отмоешься. И у тебя не будет никаких оправданий. Сегодня я об этом позаботился.
– Я хочу…
– Он хочет! Хочет! – взревел Дюссандер. – Да кого волнует, что ты хочешь? Меня тошнит от твоих желаний – наплевать
на них и забыть! Меня интересует только одно: отдаешь ли ты себе отчет, в каком положении мы оказались?
– Отдаю, – угрюмо пробурчал Тодд, сжимая кулаки: он не привык, чтобы на него кричали. На ладонях остались следы от ногтей, которые были бы еще заметнее, не начни он грызть ногти месяца четыре назад.
– Хорошо. Тогда ты извинишься перед учителями и начнешь заниматься. Ты будешь штудировать учебники даже во время переменок. Даже во время еды. После уроков будешь являться ко мне и заниматься. И по выходным тоже.
– Не здесь, – быстро сказал Тодд. – Дома.
– Нет, дома ты начнешь постоянно отвлекаться и витать в облаках, как делал до сих пор. Здесь я буду стоять над твоей душой и, если надо, заставлять. Тут я защищаю себя. Я смогу тебя контролировать и проверять, как ты все выучил.
– Ты не можешь заставить меня приходить, если я не захочу.
Дюссандер сделал очередной глоток.
– Это верно. Тогда случится то, что и должно. Ты провалишься. Этот воспитатель, Френч, будет ждать, что я выполню свое обещание. А если не дождется, позвонит родителям. И они узнают, что по твоей просьбе мистер Денкер любезно согласился выдать себя за твоего деда. Они узнают и про настоящие отметки, и про то, как ты их переправил. Они…
– Хватит! Я буду приходить.
– Ты уже здесь. Начнем с алгебры.
– Ну уж нет! Сегодня ведь пятница!
– Теперь ты будешь заниматься каждый день, – мягко произнес Дюссандер. – Начнем с алгебры.
Тодд, поколебавшись, опустил глаза и полез в рюкзак за учебником, однако старик успел заметить, как пылала в его взгляде жажда убийства. Причем убийства настоящего, убийства в буквальном, а не в переносном смысле. С тех пор как он стал ловить на себе эти оценивающие, полные жгучей ненависти взгляды, прошло много лет, но он отлично их помнил. Наверняка его собственный взгляд в тот день, когда он изучающе присматривался к беззащитной шее подростка, был таким же.
Мне нельзя расслабляться ни на секунду, с некоторым удивлением подумал он. Ни на секунду!
Дюссандер качался в кресле, потягивал виски и не спускал глаз с засевшего за учебники Тодда.
Мальчик поехал домой, когда на часах было почти пять. Он чувствовал себя абсолютно разбитым и опустошенным, перед глазами плыли круги, внутри все клокотало от чувства бессилия и злобы. Каждый раз, когда взгляд уходил в сторону от раскрытого учебника с непонятными идиотскими значками множеств, подмножеств, упорядоченных пар и декартовых координат, раздавался скрипучий голос Дюссандера. О присутствии старика напоминали только этот голос, мерное поскрипывание кресла-качалки и сводивший с ума стук шлепанцев о пол. Старик сидел, как стервятник, поджидавший смерти своей добычи. Почему все это случилось? Как он мог угодить в такую переделку? В голове царила полная неразбериха. Сегодня Тодду удалось кое-что понять в теории множеств, за которую он получил неуд как раз перед самыми рождественскими каникулами. Ему даже показалось, что эти знания улеглись в голове с громким щелчком, но их явно будет недостаточно, чтобы написать контрольную на следующей неделе.
До конца света оставалось всего пять недель.
Краем глаза он заметил сойку, лежавшую на боку возле обочины. Ее клюв медленно открывался и закрывался. Она безуспешно пыталась отползти в безопасное место. Тодд решил, что ее сбила проезжавшая мимо машина и отбросила в сторону. Глаза-бусинки раненой птицы неотрывно следили за ним.
Тодд долго ее разглядывал, придерживая руль велосипеда. На улице стало заметно прохладнее. Друзья, наверное, все это время проторчали на бейсбольной площадке на Уолнат-стрит, где отрабатывали подачи и прием, а скорее всего просто разминались или тренировались с битой. В это время года начинались всякие бейсбольные состязания. Поговаривали, что собираются создать школьную команду для участия в неофициальном городском чемпионате, а некоторые родители мечтали о соревнованиях и посерьезнее. Тодд, конечно, играл бы питчером. Он был настоящей звездой в команде детской бейсбольной лиги, пока в прошлом году не вышел из нее по возрасту. Играл бы!
А что теперь? Теперь ему только и остается сказать: Парни, я здорово влип. Связался с военным преступником и думал, что он у меня в руках. А потом – просто умереть со смеху! – выяснилось, что я сам оказался в его власти. Мне начали сниться кошмары. Посыпались неуды, и я переправлял оценки в табеле, чтобы родители ничего не узнали. А теперь приходится заниматься как проклятому. Я не боюсь, что меня вышибут из школы. Я боюсь попасть в колонию. Поэтому на меня не рассчитывайте – я не смогу с вами играть в бейсбол в этом году. Такие вот дела, парни.
Его губы скривила усмешка, очень похожая на ту, что он часто видел на лице Дюссандера. Лишенная веселья и уверенности, она совсем не напоминала его прежней открытой улыбки и, казалось, говорила: Такие вот дела, парни.
Тодд надавил на руль и нарочито медленно проехал колесами велосипеда по сойке. Послышался хруст тонких ломающихся костей и бумажное шуршание перьев. Развернув велосипед, Тодд проехал по дергавшейся в агонии птице еще раз. На переднем колесе описывало круги прилипшее к нему окровавленное перо. Птица затихла. «Сыграла в ящик», «дала дуба», «окочурилась», но Тодд все продолжал упрямо давить колесами расплющенное тельце. Он никак не мог остановиться – давил и давил птицу целых пять минут, и все это время на его губах играла та же горькая усмешка. Такие вот дела, парни.
10
Апрель 1975 года
Старик стоял посередине длинного строения и с довольной улыбкой поджидал спешившего ему навстречу Дэйва Клингермана. По обеим сторонам прохода располагались загоны с собаками, огороженные сеткой, на которую те набрасывались и яростно лаяли на посетителя. Судя по всему, старика совершенно не смущал ни оглушительный лай, ни стойкий запах псины, и Клингерман с первого взгляда распознал в нем настоящего
собачника. Он протянул улыбавшемуся старику руку и осторожно пожал его протянутую ладонь со скрюченными артритом пальцами.
– Здравствуйте, сэр, – обратился Дэйв к посетителю. – Ужас, какой шум, верно?
– Меня это совсем не смущает, – ответил старик. – Меня зовут Артур Денкер.
– Клингерман. Дэйв Клингерман.
– Рад познакомиться, сэр. Я прочитал в газете, – и даже не поверил своим глазам! – что вы здесь раздаете собак бесплатно. Видимо, я не так понял. Даже наверняка.
– Нет-нет, вы не ошиблись, мы действительно находим для них хозяев, – подтвердил Дэйв. – А если новых хозяев не найдется, нам приходится их умерщвлять. Штат выделяет день ги на содержание собак в течение шестидесяти дней, и все. Ужасно! Давайте пройдем в кабинет – там тише и не так сильно пахнет.
В кабинете Дэйв выслушал самую обычную трогательную историю, похожую на многие другие. Артуру Денкеру было за семьдесят, и он приехал в Калифорнию после смерти жены. Он не был богат, но жил по средствам и особенно ни в чем не нуждался. Старик страдал от одиночества – его единственным другом был мальчик, который иногда приходил почитать ему книги вслух. В Германии у него был чудесный сенбернар. Здесь, в Санта-Донато, он живет в доме с большим задним двором, который огорожен забором. И он прочитал в газете… Может…
– У нас сейчас нет сенбернаров, – сказал Дэйв. – Им легко найти новых хозяев, потому что они очень любят детей…
– Да, конечно. Я вовсе не имел в виду…
– …но зато у нас есть подросший щенок овчарки. Что скажете?
Глаза мистера Денкера блеснули, будто наполнились слезами.
– Отлично! – сказал он. – Просто отлично!
– Сама собака ничего не стоит, но нужно заплатить за прививки от бешенства и чумки и регистрационное свидетельство. Для большинства новых хозяев это составляет двадцать пять долларов, но штат компенсирует половину этой суммы для тех,
кто старше шестидесяти пяти. В рамках программы «Почтенный возраст».
– «Почтенный возраст»… Выходит, она для таких, как я? – спросил мистер Денкер и засмеялся.
Дэйв не понял почему, но при этих словах у него по спине пробежали мурашки.
– Э-э… похоже, так, сэр.
– Очень разумно.
– Мы тоже так считаем. За такую же собаку в зоомагазине вы бы заплатили сто двадцать пять долларов. Но люди почему-то обращаются туда, а не к нам. А деньги в основном платят не за собаку, а за оформление всяких бумаг. – Дэйв покачал головой. – Если бы они только знали, как много чудесных животных по каким-то причинам оказываются ненужными своим хозяевам…
– А если вам не удается их пристроить за два месяца, вы их умерщвляете?
– Да, усыпляем.
– «Усыпляете»?.. Извините, но мой английский…
– Таково решение городских властей, – пояснил Дэйв. – Нельзя допустить, чтобы по улицам носились своры бездомных собак.
– И как вы это делаете?
– Помещаем в газовую камеру. Это очень гуманно. Они ничего не чувствуют и не страдают.
– Я с вами полностью согласен, – заверил его мистер Денкер.
На занятии по алгебре Тодд сидел за четвертой партой во втором ряду. Когда мистер Сторрман раздавал проверенные контрольные, Тодд изо всех сил старался не выдать волнения, но обгрызенные ногти с силой впились в ладони, а по спине предательски побежали струйки липкого пота.
Не нужно лелеять пустых надежд! Это глупо! Я никак не мог хорошо написать контрольную, и сам это знаю.
Однако надежда продолжала теплиться. Впервые за многие недели задания не показались ему полной абракадаброй. Он не сомневался, что из-за волнения (кого он хочет обмануть? вот ведь
ужас!) не сумел собраться с мыслями должным образом… Да к тому же у этого Сторрмана вместо сердца вообще кусок льда…
Хватит! – скомандовал он себе и на мгновение даже замер от ужаса, решив, что крикнул это слово вслух. Ты провалился, ты сам это знаешь, и ничем тут не поможешь.
Когда Сторрман вручил Тодду контрольную и прошел дальше, его лицо выражало полное безучастие. Мальчик положил листок на парту лицом вниз, не в силах заставить себя перевернуть и посмотреть результат. Решившись, он так резко дернул страницу, что нечаянно чуть надорвал. Во рту все пересохло, а сердце замерло.
В верхнем углу страницы была написана цифра «83» и обведена кружком, а внизу стояла оценка: три с плюсом. Еще ниже было написано:
Молодец! Я рад даже больше тебя. Посмотри внимательно свои ошибки. По меньшей мере три из них – чисто арифметические.
Сердце снова бешено заколотилось. Волна облегчения, окатившая Тодда, не только его не охладила, а, напротив, обдала жаром. Он закрыл глаза, не слыша привычного недовольного гула одноклассников, пытавшихся выторговать лишний балл. Красная пелена перед глазами пульсировала в такт сердцебиению. В этот момент Тодд ненавидел Дюссандера так, как никогда прежде. Руки с силой сжались в кулаки, и он представил, как сжимает ненавистную куриную шею старика.
В спальне родителей стояли две кровати, разделенные тумбочкой со стилизованной под старину лампой с абажуром. Стены обшиты панелями красного дерева с книжными полками. По обе стороны телевизора на тумбочке у стены расположились подставки для книг из слоновой кости в виде стоящих на задних лапах слонов с бивнями. Дик смотрел по телевизору шоу Джонни Карсона, воткнув в уши наушники. Моника читала новый фантастический роман Майкла Крайтона, выписанного по почте и доставленного сегодня.
– Дик! – Моника заложила страницу закладкой с надписью «На этом месте я уснула» и закрыла книгу.
По телевизору очередная шутка Бадди Хаккетта вызвала взрыв смеха, и Дик тоже улыбнулся.
– Дик! – уже громче окликнула она.
Он вытащил наушники.
– Что?
– Как думаешь, у Тодда все в порядке?
Он непонимающе на нее посмотрел и покачал головой.
– Je ne comprends pas, cherie[13]. – Они оба постоянно подшучивали над его ужасным французским. Он познакомился с ней в колледже, когда никак не мог сдать язык, и отец выслал ему двести долларов на репетитора. Из списка студентов на доске объявлений, предлагавших репетиторские услуги, он наугад выбрал Монику Дарроу, и к Рождеству они уже обручились, а он благополучно сдал французский на тройку.
– Он… сильно похудел.
– Да, толстым его точно не назовешь, – согласился Дик и положил наушники, из которых слышался неразборчивый писк. – Он растет, Моника.
– Что, так быстро? – встревожилась она.
Он рассмеялся:
– Так быстро! В его возрасте я вытянулся на целых семь дюймов и превратился из четырнадцатилетнего коротышки в настоящего красавца ростом шесть футов один дюйм, которого тебе удалось заполучить в мужья. Мама рассказывала, что в четырнадцать лет я рос так, что было слышно даже ночью.
– Слава Богу, что у тебя не все так сильно выросло.
– Дело не в размере, а умении.
– Хочешь его продемонстрировать?
– Сама напросилась! – воскликнул Дик Боуден, смахивая наушники на пол.
Уже потом, когда его клонило в сон, Моника сказала:
– Дик, Тодда мучают кошмары.
– Кошмары? – переспросил он спросонья.
– Да. Я несколько раз слышала, как он стонет во сне, когда спускалась вниз в туалет. Я не стала его будить. Может, это глупо, но моя бабушка всегда говорила, что если разбудить человека во время ночного кошмара, он запросто может сойти с ума.
– Она была полькой, верно?
– Да, полькой, и, значит, не стоит придавать значения ее словам? Спасибо на добром слове!
– Ты же понимаешь, я не это имел в виду. А почему ты не пользуешься туалетом наверху? – Дик сам оборудовал его два года назад.
– Ты же просыпаешься, когда спускается вода.
– Так не спускай ее!
– Дик, перестань говорить ерунду!
Он молча вздохнул.
– Порой, когда я захожу посмотреть, как он спит, все простыни мокрые.
Он ухмыльнулся в темноте:
– Неудивительно!
– Что ты хочешь этим сказать? Фу, как не стыдно! – возмутилась она, шутливо шлепая его по руке. – Мальчику всего тринадцать лет!
– В следующем месяце исполнится четырнадцать. Не такой уж он маленький. Может, и не взрослый, но уж точно не маленький!
– А сколько лет было тебе, когда…
– Четырнадцать или пятнадцать. Не помню точно. Помню только, что проснулся и решил, что умер и попал в рай.
– Но ты был старше Тодда.
– Сейчас дети развиваются быстрее. Наверное, из-за молока… а может, из-за фтора в зубной пасте. Ты знаешь, что во всех женских туалетах в школе в Джексон-Парке, что мы построили в прошлом году, есть специальные контейнеры для использованных прокладок? А это – начальная школа! Сейчас в шестом классе учатся дети, которым всего десять лет. А когда у тебя начались месячные?
– Не помню, – ответила Моника. – Только сны Тодда… вовсе не похожи на рай.
– А ты его спрашивала о кошмарах?
– Один раз. Месяца полтора назад. Ты тогда уехал играть в гольф с этим ужасным Эрни Джекобсом.
– Этот «ужасный» Эрни Джекобс сделает меня полноправным партнером фирмы уже в будущем году, если, конечно, его
не затрахает до смерти секретарша-мулатка. К тому же он всегда сам платит за аренду спортивной площадки. Так что сказал Тодд?
– Сказал, что не помнит. Но… как-то смутился. Мне кажется, он отлично все помнил.
– Моника, я сам, конечно, многого не помню из давно минувших дней юности, но могу тебя заверить: далеко не все сны с поллюцией обязательно приятны. Более того, они могут быть совсем даже неприятны.
– Как это?
– Да очень просто. Например, из-за комплексов или чувства вины. Скажем, мальчику в раннем детстве внушали, что мочиться в постели – это плохо. Или что секс – нечто постыдное. Кто знает, что вызывает поллюцию? Толкотня в переполненном автобусе? Или заглядывание под юбку девчонки во время уроков? Лично мне это неизвестно. А вот о себе точно помню только один случай. Когда во время общего с девчонками урока физкультуры в бассейне я прыгнул с вышки, и у меня в воде слетели плавки.
– И от этого у тебя был оргазм? – удивилась она, хихикнув.
– Да. Словом, если сын не хочет обсуждать с тобой свои проблемы взросления, не дави на него.
– Но мы так старались, чтобы он вырос без всяких дурацких комплексов.
– От них нельзя уберечься. Помнишь, как он постоянно болел в первом классе, цеплял инфекции? Так и сейчас он приносит свои комплексы из школы, где общается с друзьями, а учителя при обсуждении подобных тем начинают юлить и изворачиваться. А может, не обошлось и без моего отца, который внес свою лепту. «Не трогай «это» ночью, Тодд, не то руки покроются шерстью, глаза перестанут видеть, ты потеряешь память, а «это» почернеет и отвалится»!
– Дик, твой отец ни за что бы…
– Правда? А я такое от него слышал! Как и ты слышала от своей еврейской бабушки из Польши, что у человека может поехать крыша, если его разбудить во время ночного кошмара. Еще отец учил меня обязательно вытирать крышку унитаза в общественных туалетах, чтобы «не подцепить чужой заразы».
#Думаю, он имел в виду сифилис. Уверен, ты не раз слышала подобное от своей бабушки.
– Нет, от мамы, – рассеянно уточнила Моника. – И еще она говорила, что я должна обязательно спускать воду. Вот почему я хожу вниз.
– И я все равно просыпаюсь! – пробурчал Дик.
– Что?
– Ничего.
Дик уже начал проваливаться в сон, когда Моника снова его окликнула.
– Ну что опять? – недовольно отозвался он.
– А ты не считаешь… ладно, не важно. Спи!
– Нет уж, говори, раз разбудила. Чего я не считаю?
– Тот старик, мистер Денкер. Ты не считаешь, что Тодд проводит с ним слишком много времени? Может, он… ну, не знаю… рассказывает всякие ужасы?
– Леденящий душу кошмар о падении производства на автомобильном заводе в Эссене, – усмехнулся Дик.
– Я просто вдруг об этом подумала, – заметила Моника и обиженно отвернулась. – Извини, что разбудила.
Дик положил ей руку на голое плечо.
– Хочу кое-чем с тобой поделиться, малышка, – произнес он и задумался, подбирая нужные слова. – Знаешь, иногда мне тоже очень тревожно за Тодда. Совсем не по тем причинам, что тебе, но это ничего не меняет.
Она снова повернулась к нему:
– А по каким?
– Я рос в семье, совсем не похожей на нашу. У моего отца был магазин. Отца так и звали: Бакалейщик Вик. У него имелась тетрадь, в которой он вел учет всех должников и сумм долга. Знаешь, как он ее называл?
– Нет. – Дик редко рассказывал о своем детстве, и Моника считала, что оно было не очень счастливым. Сейчас она вся обратилась в слух.
– Он называл ее «Книга левой руки», потому что правой рукой вел бизнес, а правая рука не должна была знать, что делает левая. Отец говорил, что если бы правая рука узнала, то могла бы отрубить левую.
– Ты никогда мне об этом не говорил.
– Мы с отцом не очень-то ладили даже до нашей свадьбы, и, по правде сказать, сейчас я не испытываю к нему особой привязанности. Я никак не мог взять в толк, почему должен носить брюки из магазина подержанных вещей, а отец при этом преспокойно отпускал миссис Мазурски ветчину в долг под неизменные заверения, что на следующей неделе ее муж точно начнет работать. Билл Мазурски был законченным алкоголиком и отродясь не держал в руках ничего тяжелее бутылки с дешевым пойлом. Тогда мне хотелось только одного: как можно скорее оттуда убраться и не повторить жизненный путь отца. Поэтому я приналег на учебу, занялся спортом, который мне никогда особенно не нравился, и получил стипендию в Калифорнийском университете в Лос-Анджелесе. Там я сделал все, чтобы войти в десятку лучших студентов, потому как кредиты на учебу колледжи в то время давали только тем, кто воевал на фронте. Отец присылал мне деньги на учебники, и я никогда не брал денег ни на что другое. Единственным исключением стали двести долларов на репетитора, которые он прислал, получив мое паническое письмо о проблемах с французским. Так мы познакомились с тобой. Позже я узнал от нашего соседа мистера Хенрейда, что отцу пришлось заложить машину, чтобы выслать эти деньги. А сейчас у меня есть ты и есть Тодд. Я всегда считал, что у нас замечательный сын, и старался, чтобы ничто и никогда не мешало ему стать достойным человеком. Я часто подсмеивался над банальными рассуждениями о лучшей доле, которую отцы желают своим сыновьям, но с возрастом мне все чаще это кажется не смешным, а очень даже верным. Я не хочу, чтобы Тодду пришлось носить брюки из магазина секонд-хэнд, потому что жена какого-то алкаша берет ветчину в долг. Ты меня понимаешь?
– Понимаю, – тихо подтвердила Моника.
– Лет десять назад отца хватил удар. Это случилось незадолго до того, как он, устав воевать с городскими властями, которые доставали его с программой реконструкции города, решил уйти на пенсию. Он провел в больнице десять дней. И жители всей округи: итальяшки, немцы и даже черные, которые стали селиться в районе после пятьдесят пятого года, – оплати-
ли в складчину все его медицинские счета. До единого цента! Я не мог в это поверить! Более того, они не позволили магазину закрыться. Фиона Кастеллано договорилась с несколькими неработающими подругами, и они торговали посменно. Когда мой старик вернулся за прилавок, все было в идеальном порядке, баланс сошелся до цента.
– Поразительно! – прошептала впечатленная Моника.
– Знаешь, что он мне сказал? Я – про отца. Что он всегда боялся постареть, боялся стать немощным и попасть в больницу, ведь тогда он мог бы не свести концы с концами. Он боялся смерти. А после инсульта перестал бояться и отныне знал, что умрет достойно. «Ты имеешь в виду – довольным, пап?» – спросил я. «Нет, – ответил он, – вряд ли кто доволен наступлением смерти, Дикки». Он всегда звал меня «Дикки», и продолжает так звать до сих пор, и это мне никогда не нравилось. Он сказал, что смерть никого не радует, но умереть достойно вполне реально. Эти слова врезались мне в память.
Он надолго задумался.
– В последние пять-шесть лет я стал по-другому относиться к отцу. Может, потому, что он остался жить в Сандоро и не доставляет мне никаких хлопот. Теперь мне кажется, что на поверку в «Книге левой руки» кроется большой смысл. А ведь раньше, думая о Тодде, я беспокоился, что не растолковал ему: главное в жизни – вовсе не возможность провести месяц на Гавайях или носить штаны, не пахнущие нафталином, какие покупали мне. Но я не знал, как ему об этом сказать. Сейчас же мне кажется, что он и сам это понимает. И у меня будто камень с души свалился.
– Ты имеешь в виду чтение книг мистеру Дюссандеру?
– Да. Он делает это просто так – Денкер не может ему заплатить. Этот старик, живущий за тысячи миль от друзей и родственников, и являет собой пример всего, чего так боялся мой отец. И теперь у него есть Тодд.
– Я никогда не задумывалась об этом.
– А ты замечала, как ведет себя Тодд, если с ним заговорить о старике?
– Становится очень тихим.
– Вот именно. Сразу замолкает и смущается, будто совершил что-то нехорошее. Точно так же вел себя и мой отец, когда его начинали благодарить, что он отпустил в долг. Мы – «правая рука Тодда», ни больше ни меньше. Ты, я и все остальное – дом, катание на лыжах на озере Тахо, хорошая машина в гараже, цветной телевизор. Все это – его «правая рука». И он не хочет, чтобы мы знали, что делает его «левая».
– Ты считаешь, нет ничего страшного, что он так много времени проводит в обществе Денкера?
– Милая, посмотри на его оценки! Если бы они ухудшались, я бы первым сказал: хватит – хорошего понемножку! Будь с ним что-то не так, на отметках это сказалось бы в первую очередь. А как он учится?
– После того досадного срыва никаких претензий.
– Вот видишь? Послушай, милая, завтра в девять у меня совещание. Если я не посплю, то ничего не буду соображать.
– Спокойной ночи! – милостиво произнесла Моника. Он повернулся спиной, и она чмокнула его в лопатку.
– Я тоже тебя люблю, – пробормотал он, закрывая глаза. – Все хорошо, дорогая. Не волнуйся понапрасну.
– Постараюсь. Спи!
Они оба уснули.
– Хватит таращиться в окно! – сказал Дюссандер. – Там нет ничего интересного!
Тодд угрюмо на него посмотрел. Учебник истории был раскрыт на странице с цветной иллюстрацией, изображавшей сражение при Сан-Хуан-Хилл у Сантьяго, в котором отличился кавалерийский полк Тедди Рузвельта. Кубинцы в панике разбегались от копыт лошадей целой лавины всадников. На лице Тедди играла широкая улыбка американца, уверенного в своей правоте и в том, что на его стороне сам Всевышний. В отличие от него Тодд Боуден не улыбался.
– Тебе нравится быть надсмотрщиком, да?
– Мне нравится жить на свободе, – ответил Дюссандер. – Учи!
– А рожа не треснет?
– Скажи я такое в детстве, меня бы заставили прополоскать рот с мылом.
– Времена меняются.
– Разве? – Дюссандер сделал глоток. – Учи!
Тодд не сводил с него ненавидящих глаз.
– А ты всего лишь жалкий алкаш, понятно?
– Учи!
– Хватит! – Тодд с шумом захлопнул учебник. В тишине кухни хлопок прозвучал как выстрел. – Мне все равно не осилить! Слишком мало осталось времени! Еще пятьдесят страниц такого же дерьма до Первой мировой войны. Завтра на втором уроке самостоятельных занятий я напишу шпору.
– Не сметь! – хрипло воскликнул Дюссандер.
– Это еще почему? Кто мне запретит? Ты, что ли?
– Парень, у тебя совсем отшибло мозги? Не понимаешь, что стоит на кону? Ты думаешь, мне нравится тыкать тебя сопливым носом в учебник? – Его голос возвысился и стал властным. – Ты думаешь, мне нравятся твои выкрутасы и детские ругательства? «А рожа не треснет?» – передразнил он фальцетом, и Тодд залился краской. – «А рожа не треснет? Как бы не так! Еще чего!»
– А ты сам от этого балдеешь! – закричал Тодд в ответ. – Еще как! Ты чувствуешь, что живешь, только когда на меня ругаешься! Вот и оставь меня в покое!
– Если тебя поймают со шпаргалкой, что, по-твоему, будет дальше? Кому об этом сообщат в первую очередь?
Тодд промолчал, разглядывая свои обгрызенные ногти.
– Ну? – не отступал Дюссандер.
– Господи, Калоше Эду, кому же еще! Потом, наверное, родителям.
Старик кивнул:
– Я тоже так думаю. Так что учи! Вбей себе эту шпору в башку – там ей самое место!
– Я тебя ненавижу, – устало произнес Тодд. – Честно! – Он открыл учебник, и перед глазами снова возникла фигура Рузвельта на коне. Губы растянуты в широкой улыбке, в руке сабля, перепуганные насмерть кубинцы спасаются бегством – не исключено, что из страха перед американской улыбкой.
Дюссандер принялся снова раскачиваться, обхватив ладонями чашку с бурбоном.
– Славный мальчик! – почти нежно похвалил он.
В последнюю ночь апреля у Тодда впервые случилась поллюция, и он проснулся под звуки дождя, барабанившего по лист ве деревьев за окном.
Ему приснилось, что в одной из лабораторий Патэна он стоит у торца длинного стола, на котором лежит привязанная ремнями девушка поразительной красоты и с пышными формами. Ассистирует ему Дюссандер в одном только белом фартуке мясника. Каждый раз, когда старик поворачивается, чтобы проверить показания приборов, Тодд видит его тощие ягодицы, трущиеся друг о друга, как плохо подогнанные жернова.
Дюссандер передает Тодду какой-то предмет, и тот сразу его узнает, хотя никогда раньше не видел. Это – фаллопротез. Его конец изготовлен из блестящего металла, в котором отражается равнодушный холодный свет флуоресцентных ламп. Полый протез соединялся черным шлангом с грушей из красной резины.
– Давай! – говорит Дюссандер. – Фюрер разрешает! Это – твоя награда за учебу.
Тодд опускает глаза и видит, что он тоже голый. Его маленький пенис возбужден и отстоит от паха с редкой порослью волос на лобке. Он надевает фаллопротез, и тот плотно облегает пенис. Внутри протеза оказывается смазка, и трение не только не доставляет неудобства, но оказывается даже приятным, а точнее – просто восхитительным!
Тодд опускает глаза на девушку, и неожиданно его мысли принимают другой оборот, будто нашли наконец долгожданное убежище, в котором им тепло и уютно. Вдруг исчезли все запреты и распахнулись двери, в которые можно войти. Взяв резиновую грушу в левую руку, он залезает на стол, устраивается на коленях и регулирует угол протеза, а его собственный пенис набухает и еще больше отстает от худенького тела.
Будто издалека слышится голос диктующего Дюссандера:
– Эксперимент восемьдесят четыре. Электричество, сексуальная стимуляция, обмен веществ. Проверка теории Тиссена
об «отрицательном подкреплении»[14]. Испытуемая – молодая еврейка, на вид – примерно шестнадцати лет, здоровая, без особых примет, кожа чистая…
Почувствовав касание металлического конца протеза, девушка издает душераздирающий крик. Тодду крик нравится, как и ее безуспешные попытки освободиться или по крайней мере сдвинуть ноги.
Вот чего не показывают в журналах о войне, подумал он, но такое там точно происходило.
Он резким толчком безжалостно в нее входит, будто раздирая надвое. Она захлебывается криком.
Поняв бессмысленность сопротивления и попыток вытолкнуть его из своего тела, она, смирившись, безучастно затихает. Тодд чувствует, как смазанная внутренняя поверхность фалло-протеза приятно скользит по восставшей плоти. Восхитительно! Божественно! Левой рукой он подкачивает воздух в протез с помощью груши.
По-прежнему издалека слышится голос Дюссандера, методично фиксирующего пульс, давление, дыхание, альфа-волны, бета-волны, темп совокупления.
Почувствовав приближение оргазма, Тодд замирает и изо всех сил сдавливает резиновую грушу. Ее глаза, до этого закрытые, широко распахиваются и стекленеют. В полураскрытых губах трепещет розовый кончик языка. По рукам и ногам пробегает мелкая дрожь. Но особенно бурно реагирует торс: таз конвульсивно дергается, и каждая мышца вибрирует в неимоверном напряжении. Кажется, ее лоно втягивает Тодда в себя, сжимается и жадно глотает его бурное извержение…
Он проснулся и услышал стук дождевых капель. Сжавшись, он лежал на боку, а сердце словно хотело выскочить из груди. Пах был залит теплой липкой жидкостью. Тодд жутко испугался, что он истекает кровью… но потом, сообразив, в чем дело, ощутил невыразимое омерзение. Семя. Сперма. Он вспомнил
о словах, которые пишут на заборах, в раздевалках и туалетах на бензоколонках. Он не хотел иметь с этим ничего общего.
Тодд со злостью сжал кулаки, вспомнив постыдные и пугающие подробности сновидения. Его нервы еще не успели успокоиться после пережитого напряжения. А самым ужасным было то, что последняя сцена, при всей ее омерзительности, самым противоестественным образом казалась притягательной. Как будто он попробовал какой-то вкусный тропический фрукт и тут же сообразил, что необыкновенная сладость объясняется тем, что плод гнилой. И тут Тодда осенило! Он понял, что надо сделать. Только так он мог снова стать самим собой. Дюссандер должен умереть! Другого пути не было. Время игр прошло, и время рассказов тоже. Речь шла о выживании.
– Убить его, и все кончится! – прошептал он в темноте под стук дождевых капель. Сперма на животе начала подсыхать. Произнесенные вслух слова придали мысли реальность.
Дюссандер всегда держал запас виски на полке, висевшей над ступеньками, ведущими в подвал. Старик подходил к двери, за которой находилась лестница, открывал ее (обычно она и была приоткрыта) и спускался на две ступеньки. Потом наклонялся, опирался одной рукой на полку, а второй доставал за горлышко бутылку. Пол в подвале был не бетонным, а земляным, но все равно очень твердым, и раз в два месяца Дюссандер обрызгивал его жидкостью от тараканов, проявляя завидную педантичность, которая в глазах Тодда выглядела скорее прусской, чем просто немецкой. Старые кости легко ломаются, а старые люди часто падают. Вскрытие покажет, что при падении в крови «мистера Денкера» было много алкоголя.
Что тут случилось, Тодд?
Он не открыл мне дверь, и я отпер замок запасным ключом, который получил от него. Мистер Денкер часто засыпал. Я прошел на кухню и увидел, что дверь в подвал открыта. Я спустился вниз, а он… а он…
Затем, конечно, слезы.
Это должно сработать.
И он снова станет самим собой.
Тодд долго лежал, прислушиваясь к далеким раскатам грозы, удалявшейся на запад, и тихому шелесту дождя. Он не со-
мневался, что больше не заснет и будет до утра прокручивать в голове хитроумный план, но вскоре глаза сомкнулись, он, сунув руку под щеку, погрузился в крепкий сон без всяких сновидений. Первого мая он впервые за долгие месяцы проснулся отдохнувшим.
11
Май 1975 года
Та пятница в середине месяца показалась Тодду самой длинной в жизни. Он сидел на уроках, тянувшихся бесконечно долго, и ничего не замечал вокруг в ожидании последних пяти минут, когда учитель должен вручать промежуточные табели двоечникам по своему предмету. Видя, как Сторрман приближается к парте со стопкой табелей в руках, Тодд замирал от страха, а когда учитель проходил мимо, едва не терял сознание от волнения и был близок к истерике.
Хуже всего вышло на алгебре. Сторрман подошел к его парте… чуть помедлил… а когда Тодд уже решил, что он двинется дальше, положил ему табель на парту лицом вниз. Тодд, ничего не чувствуя, бесстрастно посмотрел на листок бумаги. Все кончено, подумал он. Подача, удар, очко, партия. Если, конечно, Дюссандер ничего не придумает. Но это вряд ли.
Он безучастно перевернул табель лицом вверх, собираясь посмотреть, сколько баллов ему не хватило до тройки. Наверняка самой малости, но разве Железного Сторрмана этим проймешь! Табель оказался пустым – в графе «Баллы» и «Оценка» ничего не было. И только внизу в разделе «Примечание» от руки написано: «Я очень рад, что могу не вручать тебе настоящий! Так держать! Сторрман».
Перед глазами все поплыло, в голове громко зашипело, будто надували гелием воздушный шар. Тодд ухватился руками за края парты и чудовищным усилием воли овладел собой. Постепенно пелена перед глазами спала, и теперь он боролся с неимоверным желанием броситься за учителем и выколоть ему глаза остро отточенным карандашом, который вертел в руках. Одна-
ко его лицо оставалось бесстрастным, и только легкий тик века выдавал бушевавшие в душе страсти.
Через пятнадцать минут учеников распустили на выходные, и Тодд медленно побрел к велосипедной стоянке, сунув руки в карманы и зажав учебники правым локтем. Уложив книги в багажную корзину велосипеда, он отстегнул цепь с замком и покатил в сторону дома Дюссандера.
Сегодня, повторял он. Сегодня твой последний день, старик.
– Итак, – произнес Дюссандер, наливая себе виски, когда Тодд вошел на кухню, – подсудимый возвращается из зала суда. И какой вынесли вердикт? Виновен? – На нем были халат и пара ворсистых шерстяных носков, почти закрывавших голени.
Тодд мысленно отметил, что в таких носках легко поскользнуться, и бросил взгляд на бутылку в руках Дюссандера. Виски в ней оставалось всего чуть-чуть.
– Двоек нет, единиц нет, никакого табеля тоже нет, – ответил он. – В июне придется снова подчистить кое-какие оценки за год, чтобы не оказалось троек. Но в этой четверти, если продолжать в том же духе, будут одни пятерки и четверки.
– Ты продолжишь, не сомневайся! – заверил Дюссандер. – Мы за этим проследим. – Он сделал глоток и плеснул в чашку еще виски. – Это надо отметить! – Он говорил, чуть растягивая слова. Тодд уже достаточно хорошо знал старика, чтобы понимать – тот был здорово пьян. Да, сегодня! Он должен умереть сегодня!
Однако надо сохранять спокойствие.
– Еще чего! – произнес он.
– Боюсь, посыльный с белугой и трюфелями опаздывает, – продолжил Дюссандер, не обращая внимания на подростка. – В наши дни ни на кого нельзя положиться. А пока мы ждем, не подкрепиться ли галетами с плавленым сыром?
– Ладно, – согласился Тодд. – Без разницы.
Дюссандер поднялся и двинулся к холодильнику. По дороге старик пошатнулся и, ударившись коленом о ножку стола, поморщился от боли. Он достал сыр, взял из буфета нож, тарелку и вытащил из хлебницы пачку галет.
– Все тщательно обработано синильной кислотой, – сообщил старик Тодду, раскладывая сыр и галеты на столе.
Дюссандер улыбнулся, и Тодд заметил, что он опять забыл вставить челюсть. Тем не менее мальчик улыбнулся в ответ.
– Что-то ты сегодня больно тихий! – воскликнул Дюссандер. – Я-то думал, ты будешь скакать от радости. – Он вылил в кружку остатки виски из бутылки, отпил и причмокнул от удовольствия.
– Наверное, еще не до конца осознал, – ответил Тодд и откусил кусок галеты. Он давно перестал бояться перекусывать у Дюссандера. Старик верил, что у друга Тодда хранится письмо, которого на самом деле, конечно, не было. У Тодда были друзья, но никому из них он настолько не доверял. Дюссандер, возможно, об этом догадывался, но вряд ли мог пойти на такой риск, как убийство.
– Так о чем мы поговорим? – поинтересовался Дюссандер, допивая виски. – Сегодня мы устроим выходной – я освобождаю тебя от занятий. Как тебе это? А?
Когда он пил, акцент, сильно раздражавший Тодда, становился особенно заметным. Но сегодня он его словно не замечал. Сегодня его ничего не бесило, и он был совершенно спокоен. Тодд взглянул на свои руки – им предстояло толкнуть старика, а они выглядели как обычно. Не дрожали и не потели.
– Мне все равно, – сказал он. – О чем хотите.
– Может, рассказать об этом мыле, которое мы варили? О гомосексуальных экспериментах? Или о том, как мне удалось бежать из Берлина, когда я по глупости туда вернулся? Меня ведь едва не поймали. – Он провел по шее пальцем, как бритвой, и засмеялся.
– О чем хотите, – снова повторил Тодд. – Мне правда без разницы. – Он молча наблюдал за Дюссандером – тот, убедившись, что в бутылке пусто, выбросил ее в ведро для мусора.
– Ты, похоже, не в настроении, так что об этом я рассказывать не буду. – Старик нерешительно постоял возле ведра и направился к двери в подвал. Шерстяные носки шаркали по неровному линолеуму. – Лучше я тебе расскажу историю про испуганного старика. – Дюссандер повернулся спиной и открыл дверь в подвал. Тодд тихо поднялся. – Он боялся одного ма-
ленького мальчика, который был в некотором роде его другом. Умного мальчика. Мама называла его способным учеником, и старик имел возможность убедиться в ее правоте… хотя и не в том смысле, который она вкладывала в эти слова.
Нащупав на стене старомодный выключатель, Дюссандер пытался включить свет непослушными пальцами. Тодд неслышно подбирался сзади. Он знал, куда наступать, чтобы пол не скрипнул: он ориентировался на этой кухне даже лучше, чем дома.
– Поначалу мальчик не был другом старика, – задумчиво продолжал Дюссандер. Ему удалось наконец включить свет, и он, пошатнувшись, с трудом спустился на одну ступеньку. – Скорее даже наоборот. Но потом… он стал к нему относиться лучше, хотя неприязнь еще осталась. – Он разглядывал полку, ухватившись за поручень.
Тодд уже стоял сзади и хладнокровно прикидывал, с какой силой толкнуть старика, чтобы тот не удержался и полетел вниз. Он решил дождаться, когда Дюссандер потянется к полке.
– Отчасти мнение старика изменилось благодаря чувству равенства, – продолжал говорить Дюссандер. – Дело в том, что и мальчик, и старик оказались в одинаковом положении: каждый из них знал нечто, что другому хотелось сохранить в тайне. А потом… потом старик понял, что положение изменилось. Да! Он уже не был так уверен в своей безопасности, поскольку от безысходности или по здравом размышлении мальчик мог решиться на отчаянный шаг. И в одну из долгих бессонных ночей старик придумал, как ему себя обезопасить.
Дюссандер убрал руку с поручня и наклонился вперед к полке, но Тодд не шевельнулся, чувствуя, как ледяное спокойствие уступает место растерянности и злости. Старик ухватил новую бутылку, и Тодд вдруг с раздражением подумал, какой омерзительный запах исходит из подвала. Оттуда тянуло мертвечиной.
– И тогда старик вылез из постели. Что в его возрасте сон? Чепуха! Он сел за стол, размышляя, как ловко сумел превратить парнишку в своего соучастника и какие невероятные усилия тому пришлось приложить, чтобы исправить оценки. А теперь, когда с учебой все наладилось и опасность миновала, старик
больше стал не нужен, с его смертью мальчик обрел бы свободу. Он повернулся, держа бутылку с виски за горлышко. – Я слышал, как ты поднялся со стула, – почти ласково произнес он. – Ты еще не умеешь двигаться бесшумно. Во всяком случае, пока.
Тодд промолчал.
– Так вот! – продолжил Дюссандер, плотно закрывая за собой дверь в подвал и возвращаясь на кухню. – Старик все записал. От начала до конца! Когда он закончил, уже почти рассвело и пальцы ныли от боли из-за проклятого артрита. Но на душе у него впервые стало спокойно. Он больше не боялся! Он снова лег в постель и проспал до обеда. Даже дольше, и чуть не пропустил свой любимый сериал «Главный госпиталь».
Дюссандер уселся в кресло-качалку, достал старый перочинный нож с потертой ручкой из слоновой кости и принялся неторопливо счищать защитную пленку с винтовой пробки бутылки. Наконец он продолжил:
– На следующий день старик надел лучший костюм и отправился в банк, где лежали его скромные сбережения. Там он поговорил со служащим и арендовал индивидуальную банковскую ячейку. Служащий сказал, что ячейка запирается на два замка: ключ от одного вручат старику, а от второго останется в банке. Чтобы открыть ячейку, потребуются оба ключа. Причем одним может воспользоваться только сам старик, если, конечно, не оформит на кого-нибудь нотариальную доверенность. Однако есть одно исключение. – Дюссандер беззубо улыбнулся, глядя на бледное как мел лицо Тодда Боудена. – Ячейка может быть вскрыта в отсутствие владельца в случае его смерти, – пояснил Дюссандер и, продолжая улыбаться, убрал нож в карман халата, отвинтил крышку и налил себе новую порцию виски.
– И что? – хрипло спросил Тодд.
– Ячейка вскрывается в присутствии банковского служащего и представителя налоговой службы, и все, что в ячейке, описывается. В ней не будет ценностей, но зато там найдут двенадцать написанных от руки страниц. Налогами этот документ облагаться не будет, но его содержание вызовет исключительный интерес.
Тодд, судорожно сцепив пальцы, сжал их так сильно, что костяшки побелели.
– Это… невозможно! – срывающимся голосом произнес он. Он не мог прийти в себя от потрясения. Это было примерно так же, как если бы на его глазах человек разгуливал по потолку. – Ты… ты не можешь так поступить!
– Я это сделал, мой мальчик, – с участием произнес Дюссандер.
– Но я… ты… – В голосе мальчика зазвучали истерические нотки. – Ты же старый! Ты что – не понимаешь? Ты же можешь умереть! Ты же можешь умереть сам!
Дюссандер поднялся, подошел к буфету и достал маленький стаканчик. Когда-то в нем продавалось детское желе, и на рисунках вдоль ободка Тодд узнал знакомые персонажи из мультфильма «Флинтстоуны»: Фреда и Вилму, Барни и Бетти Раббл, Пебблс и Бамм-Бамма. Он вырос с этими мультяшными героями. Дюссандер неторопливо протер стаканчик кухонным полотенцем, поставил перед мальчиком и плеснул чуть-чуть виски.
– А это еще зачем? – не понял Тодд. – Я не пью! Пьют только пьяницы вроде тебя!
– Возьми! Сегодня особый случай, так что можно выпить!
Тодд долго на него смотрел, а потом взял стаканчик. Дюссандер нарочито громко чокнулся с ним чашкой.
– Я знаю, за что мы выпьем! За долгую жизнь – твою и мою! – Он залпом проглотил виски и принялся раскачиваться в кресле, шлепая задниками тапок о пол. Никогда прежде старик до такой степени не напоминал одетого в халат зловещего грифа-падальщика.
– Я тебе ненавижу! – прошептал Тодд, и Дюссандер разразился диким хохотом. Он никак не мог остановиться, и смех перешел в кашель: лицо побагровело, на нем выступила испарина. Перепуганный Тодд вскочил со стула и начал стучать старика по спине, пока тот наконец не пришел в себя.
– Danke schön[15], – поблагодарил он. – Выпей, не пожалеешь!
Тодд послушно сделал глоток, и жидкость, похожая на противную микстуру от простуды, обожгла горло.
– Даже не представляю, как ты пьешь эту гадость целыми днями, – сказал он, ставя стакан на стол и поеживаясь. – Нужно бросать пить. И курить тоже.
– Очень трогательно, что ты заботишься о моем здоровье, – ответил Дюссандер и вытащил пачку сигарет из того же кармана, куда сунул перочинный нож. – И я так же сильно беспокоюсь о твоем благополучии. Почти каждый день в газетах пишут, как на оживленном перекрестке велосипедиста насмерть сбила машина. Тебе нужно ходить пешком или ездить, как я, на автобусе.
– Засунь себе свои советы знаешь куда? – взорвался Тодд.
– Мой милый мальчик, мы туда отправимся вместе, – заверил Дюссандер, наливая себе еще виски и снова начиная смеяться.
Примерно неделю спустя Тодд сидел в заброшенном железнодорожном депо и швырял галькой по старым, изъеденным временем шпалам.
А почему бы мне все равно его не убить?
Если рассуждать логически, то особых причин, препятствующих этому, Тодд не видел, а он был очень рассудительным мальчиком. Рано или поздно Дюссандер все равно умрет, а учитывая его вредные привычки, ждать слишком долго не придется. И тогда все выплывет наружу, причем не важно, убьет его Тодд, или он умрет сам от сердечного приступа, например, принимая ванну. Но по крайней мере Тодд не лишит себя удовольствия лично свернуть этому упырю шею.
«Рано или поздно» звучало очень неконкретно.
Может, он отбросит коньки и не так скоро, подумал Тодд. Даже с выпивкой и сигаретами старик протянул вон сколько лет… Кто знает, может, ему отпущен долгий век.
Откуда-то снизу вдруг послышался храп.
Тодд испуганно вскочил, выпустив из рук камушки. Храп повторился.
Он уже собрался пуститься наутек, но никаких звуков больше не последовало. Примерно за девятьсот ярдов от тупика с за-
брошенными строениями, заборами, полусгнившими вагонами и кучами мусора пролегала широкая эстакада в восемь полос. Мчавшиеся по ней машины были похожи на экзотических жуков в сверкавших на солнце панцирях. Там машины, а здесь только Тодд, птицы и еще… тот, кто храпит.
Мальчик осторожно встал на четвереньки и заглянул под платформу перрона. Там среди пожелтевших сорняков, пустых банок и грязных бутылок валялся пьяница. Его возраст не поддавался определению: по мнению Тодда, ему могло быть от тридцати до нескольких сот лет. На нем были майка со следами высохшей рвоты, явно великоватые зеленые штаны и грубые серые ботинки с трещинами, зиявшими, как открытый в крике рот. Тодд уловил запах, похожий на тот, что стоял в подвале у старика.
Налитые кровью глаза медленно открылись и тупо уставились на Тодда. Он мгновенно вспомнил о швейцарском перочинном ноже в кармане. Тодд купил его почти год назад в магазине спортивных товаров на Ренолдо-Бич. В ушах зазвучали слова продавца: Лучше, чем этот, ножей не бывает, сынок. Когда-нибудь он наверняка спасет тебе жизнь. Мы продаем их полторы тысячи в год.
Полторы тысячи в год!
Он сунул руку в карман и нащупал нож. Перед глазами возник Дюссандер, методично соскабливавший защитную пленку с пробки, и Тодд неожиданно ощутил эрекцию.
Его прошиб холодный пот.
Пьянчужка провел рукой по треснутым губам и облизнул их желтым от никотина языком.
– Мелочью не богат, парень?
Тодд молча смотрел на него.
– Мне надо в Лос-Анджелес. Не хватает на автобусный билет. У меня там встреча. Насчет работы. Ты – хороший мальчик. Наверняка у тебя есть монетка, может, даже целый четвертак.
Да, сэр, таким ножом можно запросто почистить окуня… да что там окуня – даже крупного марлина, если понадобится. Мы продаем их по полторы тысячи в год. Они есть в каждом магазине спортивных товаров, и, если кому-то придет в голову очис-
тить мир от грязного, вонючего старого пьяницы, НИКТО и НИКОГДА не сможет отследить по нему владельца.
Пьянчужка вдруг понизил голос и перешел на шепот:
– За доллар я могу сделать тебе такой минет, что и не передать. У тебя глаза вылезут от восторга… ты…
Тодд вытащил руку с мелочью. Он и сам не знал, сколько там денег. Оказалось, два четвертака, две монеты по пять центов и несколько одноцентовиков. Швырнув их пьянице, Тодд убежал.
12
Июнь 1975 года
Тодд Боуден, которому уже исполнилось четырнадцать лет, свернул на дорожку к дому Дюссандера и слез с велосипеда. На нижней ступеньке лежал экземпляр «Лос-Анджелес таймс». Подняв газету, Тодд посмотрел на звонок и аккуратные таблички «АРТУР ДЕНКЕР» и «ТОВАРОВ И УСЛУГ НЕ ПРЕДЛАГАТЬ». Необходимости звонить, конечно, не было – у него имелся свой ключ.
Где-то неподалеку тарахтела газонокосилка. Взглянув на газон старика, Тодд подумал, что его тоже не мешало бы подстричь. Надо будет сказать Дюссандеру, чтобы тот пригласил газонокосильщика. В последнее время он стал часто забывать такие вещи. Может, из-за возраста, а может, и из-за спиртного. Мысль вполне тянула на взрослую, но теперь Тодд уже не обращал на это внимания. Его мысли часто были взрослыми, но совсем не такими уж важными.
Он вошел в дом.
Добравшись до кухни, Тодд похолодел от ужаса: Дюссандер, обмякнув, сидел в кресле. На столе – чашка и початая бутылка виски. На крышке от майонезной банки несколько окурков и серая полоска пепла от прогоревшей до конца сигареты. Рот старика приоткрыт, лицо серое. Большие руки безжизненно свесились с подлокотников. Дыхания не слышно.
– Дюссандер! – окликнул Тодд, внезапно охрипнув. – Просыпайся!
Увидев, что старик шевельнулся, открыл глаза и выпрямился, Тодд испытал неимоверное облегчение.
– Это ты? А что так рано?
– Сегодня отпустили пораньше – последний день занятий, – объяснил он и показал на прогоревшую сигарету. – Когда-нибудь ты спалишь дом.
– Не исключено, – равнодушно согласился Дюссандер и вытряс новую сигарету из пачки. Она почти выскочила на пол, но в последний момент старик успел ее поймать и, закурив, зашелся в приступе кашля. Тодд с отвращением поморщился. Каждый раз при таких приступах ему казалось, что старик вот-вот начнет отхаркивать серо-черные куски легких прямо на стол… да еще будет при этом ухмыляться.
Наконец кашель стих, и Дюссандер обрел способность говорить.
– Что там у тебя?
– Табель за год.
Дюссандер взял его и отвел подальше от лица, чтобы прочитать.
– Английский – пять. История Америки – пять. Естествознание – четыре с плюсом. Обществоведение – пять. Французский – четыре с минусом. Алгебра – четыре. – Он отложил табель в сторону. – Замечательно! Нам удалось спасти твою шкуру, мальчик! Кажется, так вы говорите? А в последней колонке надо будет исправлять набранные баллы?
– Только по французскому и алгебре, да и то самую малость. Думаю, мне удалось выпутаться. И это твоя заслуга. Не очень приятно такое признавать, но что есть, то есть. Поэтому – спасибо!
– Какая трогательная речь! – отметил Дюссандер и снова закашлялся.
– Наверное, больше мы не сможем так часто видеться, – сообщил Тодд. Дюссандер неожиданно перестал кашлять.
– Не сможем? – вежливо переспросил он.
– Да. Двадцать пятого июня мы на месяц уезжаем на Гавайи. А с сентября я начну ходить в старшую школу, она на другом конце города, и туда будут возить на автобусе.
– Ну да, Schwarzen[16], – сказал Дюссандер, наблюдая за мухой, ползавшей по скатерти в красно-белую клетку. – Уже двадцать лет эта страна мучается и не знает, что делать со Schwarzen. А мы с тобой… мы с тобой знаем, верно? – Он улыбнулся беззубым ртом, и Тодд опустил глаза, чувствуя, как на него накатывается знакомая тошнотворная волна ужаса, ненависти и желания совершить нечто жуткое, возможное только во сне.
– Послушай, потом я собираюсь в колледж. Понятно, до этого еще далеко, но я об этом думаю. И даже знаю, что хочу изучать. Историю.
– Похвально! Тот, кто не извлекает уроков из прошлого…
– Хватит! – оборвал его Тодд.
Дюссандер послушно замолчал и, сцепив пальцы, с любопытством уставился на мальчика. Он видел: тот явно что-то задумал…
– Я мог бы забрать письмо у своего друга, – неожиданно выпалил Тодд. – Понимаешь? Я бы дал тебе его прочитать, а потом сжег в твоем присутствии. Если…
– …если я заберу из банковской ячейки некий документ.
– Ну… в общем, да.
Дюссандер горестно вздохнул.
– Мой мальчик, – сказал он, – ты не понимал раньше и не понимаешь до сих пор своего положения. Отчасти оттого, что ты еще очень юн, но дело даже не в этом – ты с самого начала был очень старым. Главная причина тому – извечная американская самонадеянность, не позволяющая объективно оценить возможные последствия своих действий. Не позволяла раньше, не позволяет и теперь.
Тодд начал было возражать, то Дюссандер остановил его решительным жестом регулировщика, привыкшего к беспрекословному повиновению водителей на перекрестках.
– Не спорь со мной – я прав! Живи как знаешь. Уходи и не возвращайся. Могу ли я остановить тебя? Конечно, нет! Отдыхай на Гавайях, а я останусь в этой душной и вонючей кухне ждать, когда Schwarzen из южных окраин Лос-Анджелеса начнут убивать полицейских и снова жечь трущобы. Я не могу ос-
тановить тебя, как не могу перестать стареть. – Он пристально посмотрел на Тодда, и тот, не выдержав его взгляда, отвернулся. – В глубине души я тебя не люблю. И не полюблю никогда. Ты мне не нравишься. Ты вторгся в мою жизнь незваным гостем. Ты заставил меня вскрыть склепы, которые было лучше не трогать, потому что, как выяснилось, кое-кто в них был похоронен заживо и сумел выжить. Ты и сам запутался в жизни, но жалко ли мне тебя? Gott im Himmel! Ты сам себе все это устроил, так почему я должен тебя жалеть? Нет, мне тебя не жалко. Ты мне не нравишься, но я начинаю тебя уважать. Поэтому избавь меня от необходимости повторять одно и то же дважды. Мы могли бы принести сюда эти документы и уничтожить их здесь, на кухне. Но это абсолютно ничего не изменит. И все останется по-прежнему.
– Не понимаю.
– Не понимаешь, потому что никогда не давал себе труда подумать о возможных последствиях. Тогда слушай меня внимательно, мальчик. Даже если мы вместе сожжем здесь свои письма, откуда мне знать, что ты не сделал копию? А то две или три? В библиотеке стоит ксерокс, и за какие-то пять центов можно сделать копию. За один доллар ты можешь повесить мой смертный приговор на каждом перекрестке в двадцати кварталах. Подумать только – это целых четыре мили! Скажи, откуда мне знать, что ты так не поступишь?
– Я… ну… я… я… – Поняв, что не сможет выдавить ни слова, Тодд закрыл рот. Дюссандер с ходу заметил в предложении мальчика уловку, о которой тот и не помышлял. Он уже собирался об этом сказать, но передумал, поняв, что старик все равно не поверит. Отсутствие доверия и было главной проблемой.
– И откуда тебе знать, что у меня в ячейке не две копии? Что одну я могу принести сюда и сжечь, а вторая останется там?
Потрясенный, Тодд молчал.
– И как бы мы ни старались все предусмотреть и подстраховаться, сомнения все равно останутся. Наша проблема не имеет решения, уж поверь.
– Вот черт! – обескураженно протянул Тодд.
Дюссандер сделал большой глоток и посмотрел на подростка поверх чашки.
– А теперь я сообщу тебе еще кое-что важное. Первое: если твоя роль в этом деле и выйдет наружу, то ты отделаешься легким испугом. Не исключено, а вернее, скорее всего сообщение об этом даже не попадет в газеты. Я тебя стращал колонией, но тогда я сам сильно перепугался – думал, ты не выдержишь и расколешься. Но верю ли я в это? Нет, не верю. Я поступил так, как делает отец, когда пугает своего ребенка «страшным букой», чтобы тот не гулял, когда стемнеет. Я не верю, что тебя отправят в колонию. Во всяком случае, в стране, где убийца отделывается легким шлепком по руке и выходит на волю, чтобы снова убивать, отсидев пару лет в тюрьме, где по цветному телевизору смотрел сериалы. Но бесследно для тебя все это не пройдет. Останутся архивы… пойдут разговоры. А от разговоров никуда не деться. Такая скандальная история не может не вызвать их, и ее, как хорошее вино, запечатают в бутылку и приберегут до лучших времен. С годами твоя вина будет только расти. Если все выплывет наружу сегодня, люди скажут: «Он лишь ребенок…» – понятия не имея, что ты совсем уже не ребенок, о чем знаю я. А как они отреагируют, если узнают об этом, скажем, через пару-тройку лет? Что ты молчал с семьдесят четвертого года? Это будет уже совсем другая история. А если правда выплывет во время учебы в колледже? Настоящая катастрофа! А если ты только начнешь делать первые шаги в бизнесе? Конец всем надеждам! Ты понимаешь, что я хочу сказать?
Тодд не ответил, но Дюссандер с удовлетворением кивнул.
– Теперь перейдем ко второму пункту, – сказал он, продолжая кивать. – Я не думаю, что твое письмо вообще существует.
Испугавшись, что его выдадут глаза, Тодд уставился в пол и изо всех сил старался сохранить на лице невозмутимое выражение. Дюссандер не спускал с него пристального взгляда, и до мальчика вдруг дошло, что старик допрашивал сотни, если не тысячи заключенных, и был настоящим мастером своего дела. Тодду казалось, что его голова стала совсем прозрачной и никаких мыслей скрыть не удастся.
– Я спросил себя, кому ты по-настоящему доверяешь? Кто твои друзья… с кем ты общаешься? Кому этот мальчик, совершенно самодостаточный и удивительно расчетливый, может безоговорочно доверять? Ответ очевиден: никому!
Глаза Дюссандера горели. Он продолжил:
– Я много размышлял об этом и взвешивал все за и против. Я знаю тебя, знаю твой характер, но знаю не все, поскольку постичь другого человека до конца не суждено никому. И я совершенно не знаю, какой ты вне этого дома. И поэтому я сказал себе: «Дюссандер, ты можешь ошибаться. Неужели после стольких лет ты хочешь, чтобы тебя поймали и, возможно, казнили только потому, что ты недооценил какого-то мальчишку?» Будь я помоложе, думаю, рискнул бы – все-таки шансы на успех достаточно велики. Но, как ни странно, чем старше становишься и чем ближе смерть, тем больше цепляешься за жизнь и боишься рисковать.
Он помолчал, не сводя горящего взгляда с Тодда.
– И последнее, а потом можешь уйти, когда пожелаешь. Хочу, чтобы ты хорошенько запомнил следующее. Я сомневаюсь, что есть письмо, которое ты передал другу, но в существовании моего могу тебя заверить. Документ, о котором я тебе рассказывал, действительно лежит в сейфе. Если я умру сегодня… завтра… все выплывет наружу. Абсолютно все!
– Выходит, мне будет плохо при любом раскладе? – поинтересовался Тодд и даже усмехнулся. – Тогда какая мне разница?
– Разница есть. С течением времени твоя власть надо мной будет уменьшаться, поскольку с каждым годом американцы – и даже израильтяне – будут все меньше и меньше заинтересованы в том, чтобы отобрать у меня жизнь и свободу, которыми я так дорожу.
– Да? А что же они тогда не отпустили Шпеера?
– Если бы его взяли американцы, а они очень милосердны к убийцам, то наверняка отпустили бы, – возразил Дюссандер. – Неужели американцы позволят израильтянам вывезти девяностолетнего старика, чтобы повесить его, как Эйхмана? Вряд ли. Такое невозможно в стране, где фотографии пожарных, спасающих котят с деревьев, печатают на первых
полосах. Твоя власть надо мной станет уменьшаться, а моя над тобой – расти. Баланс сил будет постоянно меняться. И настанет день – если я, конечно, проживу достаточно долго, – когда я решу, что ты больше не представляешь для меня угрозы. Тогда я уничтожу документ.
– Но за это время с тобой может случиться что угодно. Несчастный случай, болезнь…
Дюссандер пожал плечами:
– «Если будет на то воля Господня, источник забьет, и мы найдем его и утолим из него жажду. Если будет на то воля Господня». Чему быть, того не миновать.
Тодд долго смотрел на старика, не в силах пошевелиться. Наверняка в его рассуждениях что-то не так и можно найти выход для них обоих или по крайней мере для него, Тодда. Что-то вроде спасительного заклинания «Чур, не я!» в детской игре. На него накатило зловещее предчувствие темного и беспросветного будущего. Он явственно ощущал его, хотя оно и не успело оформиться в законченную мысль: «И что бы я ни сделал, куда бы ни пошел…».
Он вспомнил героя образовательного мультика, безуспешно пытавшегося увернуться от наковальни, сброшенной ему вслед с двадцатого этажа. Когда Тодд окончит школу, Дюссандеру исполнится восемьдесят. Четыре года на бакалавриат – восемьдесят четыре, еще два на магистратуру – восемьдесят шесть… И за все эти годы старик может так и не почувствовать, что он в безопасности.
– Нет, – глухо произнес Тодд. – То, что ты предлагаешь… Я не согласен!
– Мальчик мой, – ласково произнес Дюссандер, и Тодд с ужасом понял, почему тот вдруг поставил местоимение в конце, – у тебя нет выбора.
Тодд почувствовал, как у него распухает язык: казалось, он вот-вот перекроет дыхательное горло и он задохнется. Мальчик опрометью бросился из дома.
Дюссандер невозмутимо смотрел ему вслед и, когда шаги на ступеньках затихли, закурил. Конечно, никакой банковской ячейки с документом не было. Но Тодд ему поверил, причем по-
верил окончательно. Теперь старик был в безопасности. Все наконец-то осталось позади.
Однако он ошибался.
В ту ночь им обоим приснились кошмары, и оба проснулись возбужденными и мокрыми от холодного пота.
Тодд чувствовал уже ставшую привычной эрекцию. Дюссандер, слишком старый для подобных ощущений, надел гестаповскую форму и снова улегся в постель, ожидая, когда сердце перестанет бешено колотиться и немного успокоится. Форма была дешевой и уже начала приходить в негодность.
Во сне Дюссандеру удалось добраться до ворот лагеря на вершине холма. Широкие створки распахнулись, пропуская его, и тут же закрылись. По металлическим воротам и ограде из колючей проволоки был пропущен ток. Костлявые голые преследователи накатывались на проволоку волна за волной и замертво падали. Дюссандер, расправив грудь, со смехом расхаживал по другую сторону ограды, щегольски заломив фуражку. Черный воздух наполнился терпким запахом горящей плоти, и старик проснулся. Мгла калифорнийской ночи невольно навеяла мысли о вампирах, рыскающих в поисках жертв в ночь на День всех святых, и о фонарях из выдолбленной тыквы.
За два дня до отъезда Боуденов на Гавайи Тодд отправился в заброшенное депо, где раньше садились на поезда до Сан-Франциско, Сиэтла и Лас-Вегаса, а еще раньше – ходили трамваи до Лос-Анджелеса.
Он добрался туда почти в сумерки. Вдалеке на автостраде машины уже стали включать габаритные огни. Несмотря на теплую погоду, Тодд был в легкой куртке, а за пояс он заткнул большой нож для разделки мяса, обернутый в старое полотенце. Этот нож он купил на распродаже в огромном универмаге, окруженном бескрайними стоянками для автомобилей.
Он заглянул под платформу, где за месяц до этого видел пьянчужку. В голове крутились обрывки мыслей, его сознание неумолимо окутывало черное облако.
Под платформой Тодд увидел того же бездомного, а может, и другого – они все были на одно лицо.
– Эй! – окликнул Тодд. – Деньги нужны?
Пьяница, подслеповато моргая, повернулся. Увидев широко улыбающегося Тодда, он тоже растянул губы в улыбке. В следующее мгновение сверкнуло лезвие ножа, с ходу проткнув небритую правую щеку. Брызнула кровь. Тодд видел, как в раскрытой от крика глотке мелькнуло лезвие и полоснуло слева вдоль губ, вырезая на лице жуткую кривую ухмылку. Тодд орудовал ножом так, будто обрабатывал тыкву для Хеллоуина.
Он нанес пьянице тридцать семь ударов. Он специально считал. Тридцать семь, включая самый первый, который прошел через щеку и превратил ответную улыбку пьяницы в омерзительную гримасу. Бродяга перестал кричать после четвертого удара. А после шестого уже не пытался отползти и затих. Тодд залез под платформу и закончил начатое.
По дороге домой он выбросил нож в реку. Забрызганные кровью брюки сунул в стиральную машину и поставил регулятор на стирку в холодной воде. После стирки пятна остались, правда, совсем блеклые, но Тодда это не смутило: со временем их станет не видно. На следующее утро он едва мог шевельнуть рукой, настолько болело плечо. Отцу он объяснил, что, наверное, слишком усердно бросал с ребятами в парке камешки на меткость.
– На Гавайях точно пройдет, – успокоил его отец, потрепав по голове.
Он не ошибся: когда они вернулись из отпуска, у Тодда уже давно ничего не болело.
13
Снова июль
Без четверти одиннадцать вечера Дюссандер, одетый в костюм (не выходной), стоял на остановке и дожидался последнего рейса автобуса. Он возвращался домой из кинотеатра, где посмотрел незамысловатую легкую комедию, которой остался очень доволен. У него вообще с утра было отличное настроение: мальчик прислал красочную открытку – пляж Вайкики в Гоно-
лулу, ослепительно-белые колонны гостиничных небоскребов упираются в небо. На обратной стороне имелась надпись:
%%%Дорогой мистер Денкер!
Тут классно! Я купаюсь каждый день. Отец поймал большую рыбу, а мама все время читает (шутка!). Завтра мы едем на вулкан. Постараюсь не свалиться в кратер. Надеюсь, у вас все в порядке.
Не болейте.
%%%Тодд
Дюссандер все еще улыбался скрытому значению последней фразы, когда сзади кто-то дотронулся до его локтя.
– Мистер?
– Да?
Он настороженно обернулся – даже в Санта-Донато случались ограбления – и поморщился от тяжелого запаха: смеси пива, пота, грязи и какой-то едкой мази. Сзади стоял бродяга в мешковатых брюках. На мужчине, а вернее, существе были фланелевая рубаха и развалившиеся кеды, обмотанные изоляцией. Лицо – под стать шутовскому одеянию.
– Не найдется мелочи, мистер? Мне надо в Лос-Анджелес. Там предлагают работу, а на билет не хватает несколько центов. Я бы не просил, но такой шанс устроиться выпадает не каждый день.
Дюссандер сначала нахмурился, но тут же снова заулыбался:
– Вам действительно нужно на билет?
Пьянчужка неуверенно улыбнулся, не зная, как реагировать.
– А может, вы поедете на автобусе со мной? – предложил Дюссандер. – У меня вы помоетесь, переночуете, я вас накормлю и угощу выпивкой… А взамен составите мне компанию. Я – старый и одинокий человек. Живу один. Иногда так хочется с кем-то поболтать…
Получив ответ сразу на все вопросы, пьянчужка оживился и теперь заулыбался во весь рот. Похоже, этот старый педик был из тех, кто сочувствовал нищим.
– Совсем один? Хорошего мало, верно?
Дюссандер вежливо кивнул:
– Я только попрошу вас сесть отдельно. Уж больно сильный запах.
– Зачем тогда меня звать? Как бы весь ваш дом не провонял! – вдруг с неожиданным достоинством отозвался пьянчужка.
– Автобус придет через минуту. Сойдите на следующей после меня остановке, пройдите два квартала назад, и я буду ждать вас на перекрестке. А утром посмотрим, сколько я смогу дать вам денег. Может, два доллара.
– А может, даже пять! – оптимистично предположил бродяга, напрочь забыв о продемонстрированном только что достоинстве.
– Кто знает… Там будет видно, – нетерпеливо отозвался Дюссандер, прислушиваясь к рокоту дизельного двигателя приближавшегося автобуса. Сунув четвертак на билет в грязную ладонь бродяги, он, не оборачиваясь, отошел в сторону.
На лице пьянчужки отразилось сомнение, но тут показались фары автобуса. Проводив взглядом старого педика, который поднялся в салон, так и не обернувшись, бродяга с сомнением посмотрел на монету в руке и повернулся, чтобы уйти. Однако в самый последний момент он передумал и, вскочив на подножку за мгновение до того, как складные дверцы закрылись, опустил монету в кассу с видом человека, сделавшего рискованную ставку в сотню долларов. Он прошел мимо Дюссандера, бросив на того мимолетный взгляд, и устроился сзади. По дороге его разморило, он задремал, а когда очнулся, старика в автобусе уже не было. Пьянчужка сошел на следующей остановке, не зная, была ли она той, что требовалось, и не особенно по этому поводу переживая.
Он вернулся на два квартала назад и увидел на перекрестке одинокую фигуру под уличным фонарем. Точно, тот самый старый педик поджидал его, стоя навытяжку.
Неожиданно у пьянчужки сжалось сердце от дурного предчувствия, и ему захотелось поскорее унести ноги.
Но старик уже держал его за локоть… и его пальцы оказались неожиданно сильными.
– Отлично! – сказал Дюссандер. – Я очень рад, что вы пришли. Мой дом вон там. Это совсем рядом.
– А может, даже десять, – пробормотал бродяга, направляясь за ним.
– Может, даже десять, – подтвердил старый педик и засмеялся. – Как знать?
14
Наступил год двухсотлетнего юбилея независимости США.
После поездки на Гавайи летом 1975 года и путешествия с родителями в Рим, когда торжества и праздничные шествия достигли апогея, Тодд заезжал к Дюссандеру несколько раз. Получив разрешение уйти на каникулы раньше, а именно 1 июня, Тодд вернулся в Санта-Донато 1 июля, то есть за три дня до начала официального празднования двухсотлетнего юбилея.
Атмосфера на встречах царила мирная и даже дружеская – они оба выяснили, что могут общаться достаточно цивилизованно. Их не тяготило, если кто-то из них замолкал, а их разговоры усыпили бы самого недоверчивого агента ФБР. Тодд рассказал старику, что встречался с девушкой по имени Анджела Фарроу, от которой не был без ума, но их матери дружили. Старик рассказал Тодду, что начал плести коврики: он прочитал, что это помогает разрабатывать пальцы при артрите, и показал, что у него получалось. Подросток вежливо повосхищался.
Тодд заметно вытянулся, правда? (Да. На целых два дюйма.)
Бросил ли Дюссандер курить? (Нет, но курить стал меньше из-за кашля.)
Как дела с учебой? (Учиться непросто, но интересно. Оценки – только пятерки и четверки, а на годовые экзамены вышел со своим проектом по солнечной энергии, который делал для «ярмарки научных проектов учащихся». Теперь он хотел изучать в колледже антропологию, а не историю, как раньше.)
Кто стриг газон Дюссандера в этом году? (Рэнди Чемберс, который живет по соседству. Хороший мальчик, но слишком уж толстый и медлительный.)
В тот год Дюссандер у себя на кухне лишил жизни трех бродяг. На автобусной остановке к нему подходили раз двадцать, и семь раз он предлагал пищу, ночлег, ванну и выпивку. Дважды бродяги отказывались, а еще два раза не стали садиться в автобус и исчезали с полученным на проезд четвертаком. Подумав, Дюссандер нашел выход: он купил проездной за два доллара пятьдесят центов, дававший право на пятнадцать поездок.
В последнее время Дюссандер заметил, что в особенно теплые дни из подвала тянет очень неприятным запахом. В такие дни он держал двери и окна плотно закрытыми.
Тодд Боуден набрел на бродягу в водосточной канаве позади пустыря на Сайнага-Уэй. Это случилось в декабре накануне Рождества. Парнишка постоял некоторое время, сунув руки в карманы, разглядывая пьянчужку. Он чувствовал, как по телу пробегает дрожь. В течение пяти недель он шесть раз возвращался сюда в неизменной легкой куртке, которую наполовину застегивал, чтобы скрыть столярный молоток-гвоздодер за поясом. Наконец, первого марта он снова увидел этого бродягу. А может, и другого – какая разница? Тодд начал бить тупым концом, а затем (он даже не помнил, когда именно – глаза застилала кровавая пелена) – загнутым раздвоенным задком, превращая лицо жертвы в кровавое месиво.
Для Дюссандера убийство бродяг стало жертвоприношением, призванным умилостивить жестоких богов, в которых он уверовал… или всегда верил, но на время забыл о них. Бродяги помогли ему снова почувствовать вкус к жизни и наполнили ее смыслом. Ему даже начало казаться, что до появления мальчика с большими голубыми глазами и широкой американской улыбкой он жил в Санта-Донато совершенно неправильно, ошибочно посчитав себя немощным стариком. Он приехал сюда в шестьдесят восемь лет, а сейчас чувствовал себя намного моложе.
Мысль о жертвах богам могла сначала показаться Тодду нелепой, но со временем он бы вполне принял ее. После жестокого убийства бродяги под платформой он боялся, что кошмары усилятся или даже сведут его с ума. Он боялся, что под давлением нестерпимого чувства вины обязательно проговорится или наложит на себя руки.
Однако он спокойно отправился с родителями на Гавайи, где провел самые лучшие в своей жизни каникулы.
Учеба в старших классах началась с ощущения внутреннего обновления, будто в тело Тодда Боудена вселился кто-то другой. Его сознание жадно фиксировало удивительные картины, которые он давно перестал замечать: первые лучи солнца на рассвете; величественный океан, вид на который открывался с морского причала; куда-то спешащие в сумерках люди, когда только начинают зажигаться фонари. Эти картины отпечатывались в сознании, как прекрасные камеи, вырезанные с необыкновенным мастерством. Его чувства удивительно обострились, теперь он улавливал мельчайшие оттенки окружающего мира: так тонкий ценитель вина улавливает неповторимый аромат драгоценного напитка из только что открытой бутылки.
После встречи бродяги в канаве кошмары возобновились.
Чаще всего ему снился пьяница, которого он зарезал в заброшенном депо. Во сне он прибегает домой из школы и уже готовится крикнуть привычное: «Привет, малышка Моника!» – но слова застревают в горле при виде мертвого бродяги. Тот сидит, откинувшись на маленький столик на кухне, в своей грязной рубашке и вонючих штанах, а на яркой кафельной плитке пола тускло блестят лужи крови. Кровью заляпаны блестящие ящики из нержавеющей стали, на шкафах из натурального дерева тоже кровавые разводы.
Сбоку от холодильника приколота записка от матери: «Тодд, я в магазине. Вернусь к половине четвертого». Стрелки стильных часов над плитой показывают 3:20, и бродяга сидит, развалившись, в углу, будто персонаж из фильма ужасов, неведомо как очутившийся в их доме. Повсюду кровь, и Тодд бросается ее вытирать, не переставая кричать мертвецу, чтобы тот убирался и оставил его в покое, но мертвец не отвечает и продолжает
с жуткой ухмылкой пялиться в потолок, роняя капли свежей крови, сочащейся из располосованных ножом ран. Тодд хватает из кладовки швабру и лихорадочно пытается вытереть лужи, понимает, что только сильнее размазывает кровь по полу, однако остановиться не может. Он слышит, как к дому подъезжает машина матери, и наконец до него доходит: убитый пьяница – это Дюссандер. Он просыпается мокрым от пота, хватая ртом воздух и судорожно комкая простыни.
К счастью, после того как он разделался с бродягой в канаве – не важно, другим или тем, кого он видел прежде, – и забил его до смерти молотком, кошмары прекратились. Тодд пришел к выводу, что ему, наверное, придется снова пойти на убийство, причем, возможно, даже не на одно. Хорошего тут ничего не было, но эти бродяги уже давно потеряли человеческий облик. А Тодду они еще могли принести пользу. И Тодд – как и все вокруг – брал от мира то, что отвечало его меняющимся с возрастом потребностям. Каждый сам прокладывал себе дорогу в жизни, и полагаться мог только на себя самого.
15
Осенью первого года в старшей школе Тодд играл в школьной команде «Кугуары Санта-Донато» на позиции тейлбека[17] и был назван игроком года. А во второй четверти, закончившейся в конце января 1977 года, стал победителем конкурса Американского легиона на лучшее сочинение на патриотическую тему. Этот конкурс устраивали для всех учащихся старших классов, изучавших историю страны. Сочинение Тодда называлось «Ответственность американцев». Во время бейсбольного сезона того беспокойного года (после свержения шаха Ирана цены на бензин снова подскочили) Тодд стал лучшим питчером школьной команды, продемонстрировав исключительно высокую эффективность в бросании мяча. В июне его признали «лучшим
спортсменом года», и тренер Хейнс (тот самый, что однажды отвел его в сторону и посоветовал и дальше совершенствовать бросок по дуге, потому что «ни один из ниггеров на это не способен») вручил ему почетный диплом. Когда Тодд позвонил из школы и рассказал про награду Монике, она расплакалась от счастья. Дика Боудена целых две недели после вручения награды буквально распирало от гордости, и он едва сдерживался, чтобы не расхвастаться на работе. Тем летом они сняли коттедж на Биг-Сюр, и за две недели Тодд вдоволь нанырялся в маске с трубкой. В том же году Тодд лишил жизни четырех бродяг: двух он заколол, а двух забил дубинкой. Для подобных «охотничьих» вояжей он натягивал сразу две пары брюк. Иногда он разъезжал на автобусе, высматривая подходящие места. Самыми перспективными оказались Городская миссия обездоленных на Дуглас-стрит и пустырь за углом офиса Армии спасения на Юклид-стрит. Он медленно прогуливался по округе, поджидая, пока кто-нибудь не начнет попрошайничать. Когда подходил пьянчуга, Тодд объяснял, что хочет купить бутылку виски, но ему не продадут по возрасту, и если бродяга согласится сходить в магазин, то он с ним поделится. Каждый раз для расправы он выбирал новое место и заманивал туда бродяг под предлогом, что знает, где им никто не помешает. Он не решался снова появляться в депо или на пустыре за Сайенага-Уэй, понимая, что возвращаться на место совершенного им преступления – непростительная глупость.
Дюссандер продолжал пить виски и смотреть телевизор, а вот курить стал намного меньше. Иногда к нему заглядывал Тодд, но их встречи становились все короче из-за отсутствия тем для разговоров, и они постепенно отдалялись друг от друга. В тот год Тодду исполнялось шестнадцать лет, и Дюссандер, отмечая свой семьдесят восьмой день рождения, отметил, что шест надцать лет – лучший возраст молодости, сорок один – зрелости, а семьдесят восемь – старости. Тодд вежливо кивнул. Старик много выпил и трещал без умолку, к явному неудовольствию Тодда.
В течение учебного года Дюссандер лишил жизни двух бродяг. Второй оказался на удивление живучим. Даже будучи в
стельку пьяным, он сумел вскочить на ноги с воткнутым в шею ножом и заметался по кухне, разбрызгивая кровь. Ему удалось дважды обежать кухню, добраться до прихожей и едва не вырваться наружу.
Дюссандер, не в силах поверить своим глазам, завороженно наблюдал за метаниями бродяги. Тот цеплялся за стены и сбивал на пол все, что попадалось под руку. Когда пьянчужка уцепился за ручку входной двери, старик наконец очнулся и, выхватив из ящика вилку, подскочил к бродяге и воткнул ее ему в спину.
Задыхаясь, стоял Дюссандер над рухнувшим на пол бродягой. Его сердце бешено колотилось… совсем как у больных во время приступа, которых показывали в его любимой передаче «Скорая помощь» по субботам вечером.
Теперь следовало вытереть кровь и навести порядок.
Это случилось четыре месяца назад, и с тех пор больше ни разу он не зазывал домой бродяг, встреченных на автобусной остановке. Дюссандер не на шутку испугался, что не смог разделаться с жертвой одним ударом, однако, вспомнив, как в последний момент сумел собраться, испытал чувство гордости. В конце концов, бродяге так и не удалось вырваться из дома, а это было самым главным.
16
Осенью 1977 года Тодд записался в стрелковый клуб. К июню 1978-го он уже считался одним из самых метких. Его снова объявили лучшим футболистом, да и в бейсболе дела обстояли не хуже. По количеству набранных в учебе баллов ему удалось войти в тройку самых лучших учеников школы за все время ее существования и получить особую стипендию за заслуги. Тодд подал документы в Калифорнийский университет в Беркли и был сразу принят. К апрелю он знал, что его удостоят чести произнести торжественную речь на церемонии вручения аттестатов или выступить с приветственной речью в начале учебного года. Ему ужасно хотелось произнести прощальную речь, ведь это поручалось только лучшему ученику.
Во второй половине завершающего года учебы в школе Тодд вдруг ощутил странное желание, не поддававшееся никакому рациональному объяснению. Он держал его под контролем, но сам факт его возникновения не сулил ничего хорошего. Казалось, Тодду удалось устроить жизнь так, как хотелось. Все было разложено по полочкам, как на образцовой материнской кухне, сверкавшей чистотой, лежало на своих местах и никогда не ломалось. Конечно, на кухне имелись всякие шкафы и ящики, но то, что в них хранилось, всегда было скрыто от посторонних глаз.
Это странное желание напомнило Тодду сон, тот самый, когда он дома видел бродягу, истекавшего кровью в их чистой и светлой кухне. Как будто в его налаженную и размеренную жизнь, где все как следует отрегулировано и идет своим чередом, проникло некое темное и зловещее существо, решившее умереть у всех на глазах не где-нибудь, а именно здесь…
В четверти мили от дома Боуденов проходила широкая автострада в восемь полос. К ней вел крутой склон, поросший кустарником и деревьями, где можно было отлично укрыться. На Рождество отец подарил Тодду винтовку «винчестер» с рычажным взводом и съемным оптическим прицелом. В часы пик, когда все полосы забиты стоявшими машинами, он мог спокойно найти на склоне укромное местечко… и…
Что?
Покончить с собой…
И разрушить все, ради чего столько трудился последние пять лет?
Еще чего!
Нет, сэр, нет, мэм! Ни за что!
Да это смеху подобно!
Само собой, и все же… эта мысль продолжала его преследовать.
В одну из суббот за несколько недель до окончания школы Тодд, убедившись, что в магазине не осталось патронов, убрал винтовку в чехол и, пристроив ее на заднем сиденье новой отцовской игрушки – подержанного «порше», – поехал на склон, упиравшийся в автостраду. Родители на уик-энд уехали
в Лос-Анджелес на другой машине. Дик, к тому времени уже ставший полноправным партнером фирмы, должен был провести переговоры о строительстве в Рино нового отеля «Хайатт».
Спускаясь по склону с зачехленной винтовкой в руках, Тодд с тревогой прислушивался к бешеному биению сердца, чувствуя, что во рту все пересохло. Добравшись до поваленного дерева, он занял удобную позицию и вытащил винтовку. Ровная поверхность ствола и под удобным углом отходящая ветка служили отличным упором. Тодд уперся прикладом в правое плечо и прильнул к прицелу.
Не будь идиотом! – отчаянно взывал его разум. Что за дурацкая выходка? Если тебя увидят с винтовкой, то не важно будет, заряжена она или нет, – проблем все равно не оберешься! По тебе даже могут открыть огонь!
Время шло к обеду, и машин на шоссе было мало. Тодд поймал в прицел женщину за рулем голубой «тойоты». Стекло было полуопущено, и круглый воротничок ее блузки без рукавов трепетал под порывами ветра. Тодд навел перекрестие ей на висок и нажал на спусковой крючок. При отсутствии патрона в стволе послышался лишь сухой щелчок. Ударник, конечно, мог повредиться, но кого это волновало!
– Бах! – прошептал он, провожая взглядом «тойоту», нырнувшую в тоннель в полумиле дальше по дороге. Тодд с трудом проглотил большой комок, подступивший к горлу.
А вот за рулем пикапа «субару» мужчина с неопрятной седой бородой и в бейсболке «Сан-Диего-падрес».
– Ах ты… вонючая крыса… так это ты подстрелил моего братана? – прошептал Тодд, ухмыляясь, и снова послышался сухой щелчок ударника.
Он «подстрелил» еще пять человек, но беспомощный треск ударника портил все удовольствие от «убийства». Убрав винтовку в чехол, Тодд поднялся по склону к машине, стараясь прижиматься к земле как можно ниже, чтобы остаться незамеченным. Бросив «винчестер» на заднее сиденье, он поехал домой. В висках шумело и ухало. Дома он зашел к себе в комнату и принялся мастурбировать.
17
Расползавшийся по швам, заношенный шерстяной свитер, совершенно неуместный в Южной Калифорнии, придавал бродяге какой-то сюрреалистический вид. В протертых на коленях дырах истрепанных джинсов виднелась волосатая кожа, покрытая струпьями. Бродяга поднял стаканчик с мультяшными персонажами – казалось, Фред и Вилма, Барни и Бетти исполняют вдоль его кромки какой-то экзотический обряд посвящения, – и махом опрокинул в рот. После чего, смакуя, с видимым удовольствием облизнул губы – в последний раз в своей жизни.
– Мистер, проскочило как по маслу! Что есть, то есть!
– Я тоже люблю пропустить стаканчик на ночь, – кивнул Дюссандер, заходя ему за спину и вонзая в шею нож. Хрустнули хрящи, будто кто-то энергично раздирал на части жареную курицу с румяной корочкой. Стаканчик из-под желе выпал из рук жертвы и покатился по столу, отправляя в пляс мультяшных персонажей, которые весело закружились в хороводе.
Бродяга откинул голову назад и попытался закричать, но из разинутого рта вырвался только жуткий свистящий хрип. Глаза, расширившиеся от ужаса, казалось, вот-вот выскочат из орбит… Через мгновение голова с глухим стуком ударилась о стол, накрытый клеенкой в красно-белую клетку. Вставная верхняя челюсть вылезла вперед, обнажив в зловещей ухмылке зубы.
Дюссандер обеими руками выдернул нож и подошел к раковине, наполненной горячей мыльной водой. Нож нырнул в пахнущую лимоном пену, как маленький истребитель в облако.
Старик снова подошел к столу и оперся о плечо мертвого бродяги, пытаясь справиться с приступом кашля. Он достал из заднего кармана носовой платок и выплюнул в него желто-коричневый сгусток. В последнее время он слишком много курил. Так всегда бывало перед очередным убийством. На этот раз все прошло на редкость гладко. После прошлого раза он очень боялся повторения разгрома и того, что снова придется оттирать кровь.
Если поторопиться, может, ему даже удастся посмотреть вторую часть музыкального шоу Лоренса Уилка.
Дюссандер поспешил к двери в подвал, открыл ее и включил свет. Затем вернулся на кухню и достал из тумбы под раковиной упаковку зеленых пластиковых пакетов. Вытащив один, старик подошел к телу бродяги. Кровь, залившая весь стол, стекала вниз, образуя яркие пятна на потертом бугристом линолеуме и джинсах бродяги. Стул тоже оказался перепачканным, но все это можно было вытереть.
Дюссандер приподнял голову бродяги. Она легко откинулась назад, словно они были в парикмахерской и собирались вымыть волосы. Дюссандер надел на него сверху пластиковый мешок, скрывший голову, плечи и весь торс. Затем старик расстегнул ремень мертвого гостя, вытащил его из потертых шлевок и затянул на пару дюймов выше локтей. Пластик зашуршал, и Дюссандер принялся тихо мурлыкать популярную песенку.
Старик ухватился за ремень и потащил бродягу к подвалу – ноги убитого в старых, разбитых ботинках разъехались в стороны, оставляя на полу кровавый след. Что-то со стуком свалилось на пол: увидев, что это вставная челюсть, старик поднял ее и сунул бродяге в передний карман.
Наконец ему удалось дотащить тело до двери и оставить в проеме. Голова мертвеца свесилась на вторую ступеньку. Дюссандер обошел труп и принялся толкать его ногой, пытаясь сбросить вниз. Ему это удалось только с третьей попытки, и тело, как гуттаперчевое, покатилось по лестнице. Где-то посередине оно сделало кульбит и с глухим стуком распласталось животом вниз на полу подвала. Один ботинок слетел с ноги убитого, и Дюссандер взял себе на заметку не забыть его убрать.
Старик спустился в подвал, снова подхватил тело за ремень и подтащил к верстаку. Слева от него аккуратным рядком стояли лопата, грабли и мотыга. Дюссандер взял лопату. Физиче ская нагрузка ему точно не повредит и даже поможет размять старые кости.
Внизу стоял неприятный затхлый запах, но Дюссандера он особенно не беспокоил. Раз в месяц (а точнее – раз в три дня после каждого убийства) он обрабатывал подвал дезинфицирующим средством, а для проветривания наверху у него имелся
вентилятор, не позволявший запаху пропитать весь дом в самые жаркие дни. Он хорошо помнил излюбленную присказку коменданта концлагеря Бельзен Йозефа Крамера, что мертвые не молчат, только слышим мы их с помощью обоняния.
Выбрав участок в северном углу, Дюссандер принялся копать могилу размером два с половиной на шесть футов. Он уже углубился на два фута, то есть проделал почти половину работы, как вдруг его грудь пронзила острая боль, будто от заряда картечи, а перед глазами все поплыло. Затем боль – невероятная и жгучая – спустилась по руке, как если бы кто-то ухватился за кровеносные сосуды и теперь их растягивал, пытаясь разорвать. Лопата выпала из рук, колени подогнулись. Он с ужасом подумал, что вот-вот свалится в эту могилу сам.
Каким-то непостижимым образом Дюссандер сумел доковылять до верстака и с трудом присел. На его лице застыло выражение идиотского изумления – он сам это чувствовал, – какое бывает в старых немых комедиях, когда актер вляпывается в коровью лепешку или получает удар закрывающейся дверью. Дюссандер опустил голову между коленей и никак не мог вдохнуть полной грудью.
Прошло пятнадцать минут. Боль немного отпустила, но Дюссандер сомневался, что сможет подняться. Он впервые столкнулся с реалиями старческого бытия, которых до сих пор ему удавалось избегать. От подступившего ужаса на глаза навернулись слезы. В этом сыром и вонючем подвале смерть дала ему о себе знать холодным дыханием. И она могла еще вернуться за ним. Однако он не собирался умирать здесь, во всяком случае если от него хоть что-то зависело.
Старик медленно поднялся, прижимая руки к груди, будто так мог помешать себе развалиться на части, и, шатаясь, сделал пару шагов в сторону лестницы. Споткнувшись о вытянутую ногу трупа, он с криком упал на колени. Грудь снова пронзила острая боль. Дюссандер взглянул на ступеньки. Их было двенадцать. Освещенный проем двери казался издевательски далеким.
– Ein… – произнес Курт Дюссандер, усилием воли заставляя себя подняться на первую ступеньку. – Zwei. Drei. Vier[18].
Подъем до кухни занял двадцать минут. Дважды на лестнице боль напоминала о себе, и старик, закрыв глаза, пережидал приступ с закрытыми глазами, отлично понимая, что, если она вернется с той же силой, что и в подвале, он скорее всего умрет. Но оба раза боль отступала.
Он еле добрался до стола, стараясь не запачкаться кровью, которая уже начала свертываться на полу. С трудом дотянувшись до бутылки с виски, он сделал глоток и закрыл глаза. Посидел, пережидая боль. Через пять минут он медленно двинулся в сторону гостиной: там, на маленьком столике, стоял телефон.
В четверть десятого в доме Боуденов раздался телефонный звонок. Тодд сидел на диване, поджав ноги, и готовился к экзамену по тригонометрии. Эта дисциплина, как и все, связанное с математикой, давалась ему с трудом. Отец находился в той же комнате и складывал на портативном калькуляторе цифры с корешков чековой книжки. На его лице отражалось недоумение. Моника, расположившаяся ближе всех к телефону, смотрела фильм про Джеймса Бонда, который Тодд записал с телевизора за пару дней до этого.
– Алло? – спросила она, взяв трубку. Потом, слегка нахмурившись, протянула трубку сыну: – Это мистер Денкер. Он очень взволнован. Или расстроен.
У Тодда екнуло сердце, но виду он не подал.
– Правда? – Он подошел и взял трубку. – Привет, мистер Денкер.
Дюссандер говорил хрипло и отрывисто:
– Приезжай прямо сейчас! У меня сердечный приступ. Похоже, серьезный.
– Правда? – нарочито беззаботно произнес Тодд, боясь, что не сможет скрыть охватившего его страха. – Это правда здорово, но сейчас уже поздно, и я занимаюсь…
– Я знаю, что ты не можешь говорить, – сказал Дюссандер тем же хриплым, почти лающим голосом. – Но выслушай меня. Я не могу вызвать «скорую»… по крайней мере сейчас. Сначала тут надо… прибраться. Мне нужна помощь, а значит, и тебе тоже.
– Ну, если это так срочно… – Пульс у Тодда подскочил до ста двадцати ударов в минуту, но лицо оставалось спокойным. Он предвидел, что рано или поздно все закончится именно так. По-другому и быть не могло.
– Скажи родителям, что я получил письмо, – посоветовал Дюссандер. – Очень важное. Понятно?
– Да, хорошо, – согласился Тодд.
– Посмотрим, на что ты годен.
– Конечно, – подтвердил Тодд и, заметив, что Моника, забыв о фильме, смотрит на него, широко улыбнулся. – До встречи.
Дюссандер хотел сказать что-то еще, но Тодд уже повесил трубку.
– Мне надо ненадолго съездить к мистеру Денкеру, – заявил он, обращаясь к обоим родителям, но глядя на мать. На ее лице была написана тревога. – Заехать по дороге в магазин? Нам ничего не надо?
– Мне – ершики для чистки трубки, а матери – лекарство от расточительности, – ответил отец.
– Очень смешно! – фыркнула Моника. – Тодд, а мистер Денкер…
– А что ты покупала в магазине Филдинга? – перебил ее Дик.
– Симпатичную полочку для гардеробной. Я же тебе говорила. Тодд, с мистером Денкером все в порядке? Он говорил как-то странно.
– А что, такие полочки для гардеробной действительно существуют? Я думал, они бывают только в детективах, которые пишут англичанки, чтобы убийца знал, где взять орудие преступления.
– Дик, я могу задать свой вопрос?
– Да, конечно. Но полочка для гардеробной?
– С ним все в порядке, – успокоил Тодд, застегивая молнию на кожаной куртке. – Но он очень взволнован. Пришло письмо от его племянника из Гамбурга, или Дюссельдорфа, или откуда-то в этом роде. Он не получал вестей от родных уже много лет, а теперь вот письмо, но прочитать его он не может.
– Да уж, его можно понять! – отозвался Дик. – Ступай, Тодд. Съезди и успокой старика.
– А я думала, теперь ему читает другой мальчик, – сказала Моника.
– Так и есть, – подтвердил Тодд, ненавидя мать за смутное сомнение, промелькнувшее в ее глазах. – Может, его не было дома, а может, он не смог приехать так поздно.
– Да, наверное… Ступай, конечно. И будь осторожен!
– Ладно. Так в магазин заезжать не надо?
– Нет. Как с подготовкой к экзамену? Успеваешь?
– По тригонометрии? Думаю, справлюсь. Я все равно уже почти закончил. – Это была неправда.
– Хочешь поехать на «порше»?
– Нет, лучше на велосипеде. – Тодд надеялся выиграть немного времени, чтобы собраться с мыслями и немного успокоиться. Если, конечно, получится. В его теперешнем состоянии он мог запросто врезаться в телефонную будку.
– Пристегни на колено светоотражатель, – сказала Моника, – и передай мистеру Денкеру от нас привет.
– Хорошо.
На лице матери все еще было написано сомнение, но уже не столь явное. Тодд чмокнул ее в щеку и направился в гараж, где стоял немецкий гоночный велосипед, сменивший «Швинн». В висках стучало, перед глазами все плыло, и он с трудом подавил вдруг накатившее желание вернуться домой, достать винтовку и пристрелить обоих родителей, а потом отправиться на склон возле автострады. И больше никаких волнений из-за Дюссандера. Никаких ночных кошмаров и бродяг. Он будет стрелять, стрелять и стрелять, пока не останется только одна пуля. Для него самого.
Но ему удалось взять себя в руки, и он покатил к Дюссандеру. Светоотражатель на колене мерно вращался, а пряди длинных светлых волос развевались на ветру.
– Господи Боже! – вырвалось у Тодда, едва он перешагнул через порог кухни.
Дюссандер сидел, навалившись на локти. На лбу испарина, рядом на столе чашка. Но шок Тодд испытал не из-за Дюссан-
дера. Виной тому была кровь. Кровь повсюду: на клеенке, на полу, на пустом стуле!
– Что с тобой? Откуда кровь? – закричал Тодд, когда наконец обрел дар речи и сумел сделать шаг вперед. Ему казалось, он простоял в дверях целую вечность.
Вот и все, подумал он, теперь уж точно конец! Песенка спета, шарик улетел!
Тем не менее он машинально старался ступать туда, где не мог перепачкаться кровью.
– Ты же говорил про сердечный приступ!
– Это не моя кровь, – пояснил Дюссандер.
– Что? – замер Тодд. – О чем ты?
– Ступай в подвал. Сам увидишь, что надо сделать.
– Что, черт возьми, все это значит? – спросил Тодд и похолодел от страшной догадки.
– Не теряй времени, мальчик. Вряд ли то, что ты там увидишь, тебя сильно потрясет. Думаю, ты и сам уже совершал нечто подобное. Лично.
Тодд в изумлении посмотрел на него и спустился на несколько ступенек в подвал. В тусклом желтом свете лампочки он заметил на полу большой куль, который сначала принял за мешок с мусором. И только потом увидел торчавшие ноги и стянутые ремнем у локтей руки.
– Господи Боже! – повторил он, но на этот раз хриплым шепотом.
Тыльной стороной руки он провел по шершавым, как наждачная бумага, губам и закрыл глаза. Когда он их вновь открыл, к нему вернулось самообладание.
Тодд принялся за работу.
Обнаружив торчавший из ямы в дальнем углу черенок лопаты, он сразу понял, чем занимался Дюссандер, когда его свалил сердечный приступ. Еще через мгновение он уловил тошнотворный запах, как от протухших помидоров. Этот запах подросток замечал и раньше, только тогда он был намного слабее… правда, в последние два года Тодд заезжал к Дюссандеру довольно редко. Теперь, когда источник зловония больше не вызывал сомнения, Тодд почувствовал, что его вот-вот вырвет, и, зажав рот обеими руками, с трудом подавил приступ тошноты.
Постепенно он пришел в себя.
Подтащив тело бродяги за ноги к яме, он вытер пот со лба и на мгновение замер, лихорадочно соображая. Затем схватил лопату и принялся углублять могилу. Когда ее глубина достигла пяти футов, он вылез и столкнул туда тело ногой. Заношенные до дыр джинсы. Грязные, покрытые коростой руки. Да это бездомный алкаш! Невероятно! Схожесть жертв его почему-то развеселила, и он едва не расхохотался.
Тодд бегом вернулся на кухню.
– Как ты? – спросил он Дюссандера.
– Держусь. Ты закончил?
– Заканчиваю.
– Поторопись. Тут тоже надо прибрать.
– Надеюсь, в аду тебе уготовано достойное место! – бросил Тодд и вернулся в подвал, прежде чем Дюссандер успел ответить.
Он уже почти полностью закопал труп, когда что-то его смутило. Он замер и уставился на могилу, сжимая лопату в руках. Ноги бродяги, присыпанные землей, чуть разъехались: одна – в старом ботинке, а вторая – только в грязном носке, судя по всему, бывшем белым в далекие времена президент ства Тафта[19].
Только один ботинок? А где второй?!
Тодд обвел лихорадочным взглядом подвал. Ничего! В висках застучала боль, словно старавшаяся вырваться наружу. Ботинок он увидел в тени валявшейся полки – примерно в пяти футах от могилы. Тодд схватил его и бросил в яму, после чего снова взялся за лопату. Наконец земля скрыла все – и труп, и ноги, и второй ботинок.
Утрамбовав землю, Тодд прошелся сверху граблями, чтобы окончательно скрыть следы своей работы. Правда, достичь желаемого результата ему не удалось. Сделать могилу незаметной не вышло: свежевскопанная земля всегда бросается в глаза. Но зачем кому-то понадобится спускаться в подвал? Ему и Дюссандеру только оставалось надеяться, что никому.
Тодд бегом рванул на кухню, чувствуя, что начинает задыхаться.
Старик сидел не шевелясь: локти разъехались, а голова бессильно свесилась вниз. Глаза закрыты, а веки приобрели пунцовый оттенок…
– Дюссандер! – закричал Тодд. Липкая слюна во рту вдруг стала горячей от страха и адреналина, разгонявшихся по телу жаркой волной крови. – Только попробуй сдохнуть!
– Не кричи! – ответил Дюссандер, не открывая глаз. – Там, в шкафу, есть все, что нужно…
– Где у тебя моющие средства? Любые! И тряпки? Мне нужны тряпки!
– Все под раковиной.
К тому времени кровь на кухне почти высохла. Дюссандер, подняв голову, наблюдал, как Тодд сначала оттирал лужи на полу, а затем соскребал пятна с ножек стула, на котором сидел бродяга. От напряжения юноша нервно кусал губы и громко фыркал, будто конь, закусивший удила. Наконец порядок был наведен, и на кухне воцарился стойкий запах моющего средства.
– Под лестницей есть ящик со старыми тряпками, – сказал Дюссандер. – Положи грязные в самый низ. И не забудь вымыть руки.
– Я не нуждаюсь в твоих советах. Это ты втянул меня во все это!
– Правда? А ты – молодец! Не растерялся. – В его голосе прозвучала нотка иронии, но он тут же застонал, и лицо исказила гримаса боли. – Поторопись!
Тодд убрал тряпки и поднялся по ступенькам подвала. Наверху он обернулся, бросил последний оценивающий взгляд, выключил свет и закрыл дверь. Затем подошел к мойке, закатал рукава и, открыв горячую воду, опустил руки в мыльную пену… и вытащил нож, которым Дюссандер зарезал бродягу.
– Жаль, что не могу перерезать тебе им горло, – мрачно заметил Тодд.
– Да, и отправить в ад. Не сомневаюсь.
Тодд вымыл нож, вытер его и положил в ящик. Затем, покончив с остальной посудой, сполоснул раковину и бросил взгляд на часы: 22:20.
Он подошел к столику с телефоном, взял трубку и с сомнением посмотрел на нее. Его не оставляло чувство, что он упустил что-то очень важное, как едва не произошло с ботинком бродяги. Но что? Он никак не мог сообразить. Если бы не проклятая головная боль, он бы точно вспомнил! Раньше память его никогда не подводила, и теперь ему стало страшно.
Тодд позвонил в «Скорую» – трубку взяли после первого же гудка.
– Служба «Скорой помощи Санта-Донато». Что случилось?
– Меня зовут Тодд Боуден. Я нахожусь в доме номер девятьсот шестьдесят три по Клермон-лейн. Нужна «скорая».
– Кому-то стало плохо, сынок?
– Моему знакомому, мистеру Д… – Он осекся, закусив губу так сильно, что показалась кровь, и от пульсирующей боли в голове на мгновение едва не отключился. Он чуть было не произнес «Дюссандер», выдав настоящее имя старика совершенно постороннему человеку.
– Успокойся, сынок, – прозвучал голос в трубке. – Не торопись и просто отвечай на вопросы.
– Моему знакомому мистеру Денкеру, – сказал Тодд. – Похоже, у него сердечный приступ.
– А какие симптомы?
Тодд начал перечислять, но, услышав о резкой боли в груди, спустившейся по левой руке, дежурный все понял и сказал, что «скорая» приедет через десять, максимум двадцать минут в зависимости от пробок. Тодд повесил трубку и потер глаза.
– Вызвал? – едва слышно поинтересовался Дюссандер.
– Да! – взорвался Тодд. – Да, вызвал! Вызвал, черт тебя побери! Да! Да! Да! Ты можешь заткнуться?
Он с силой надавил на глаза – в них вспыхнули мириады ярких точек, сменившихся красными кругами. Возьми себя в руки, малыш Тодд! Успокойся! Все идет нормально! Все путем!
Открыв глаза, он снова поднял трубку. Теперь самое трудное. Надо позвонить домой.
– Алло? – послышался мягкий спокойный голос Моники. Тодд представил, как он тычет ей в нос дулом винтовки и нажимает на спусковой крючок.
– Мамуль, это Тодд. Дай мне папу. Скорее.
Он давно не называл ее «мамулей» и знал, что это подействует на нее быстрее, чем все остальное. Он не ошибся.
– Что случилось? В чем дело, Тодд?
– Просто позови его к телефону!
– Но что…
В трубке раздался треск, и он услышал, как мать что-то сказала отцу. Тодд приготовился.
– Тодд, что случилось?
– Пап, мистер Денкер… у него, кажется, сердечный приступ. Я уверен.
– Господи! – Тодд слышал, как отец пересказывал новость матери. Затем в трубке снова послышался его голос: – Он еще жив? Как, по-твоему?
– Жив. В сознании.
– Слава Богу! Вызови «скорую».
– Только что вызвал.
– Молодец! Насколько он плох, как думаешь?
Жаль, что недостаточно плох.
– Не знаю, пап. Диспетчер сказал, что приедут быстро… но мне страшно. Ты не можешь приехать и подождать со мной?
– Конечно, могу! Буду через четыре минуты!
Пока отец вешал трубку, Тодд слышал, как мать начала что-то говорить. Он тоже положил трубку на рычаг.
Четыре минуты.
У него было четыре минуты, чтобы подчистить все окончательно. Четыре минуты, чтобы вспомнить, что именно он упустил. Или ничего не упустил? Неужели все это из-за нервов? Господи, он уже жалел, что позвонил отцу. Но разве такой поступок не был естественным? Конечно, был! О чем еще таком же естественном он не подумал? О чем?..
– Будь ты проклят! – неожиданно простонал он и бросился на кухню. Голова Дюссандера лежала на столе с закрытыми глазами.
– Дюссандер! – закричал Тодд и начал трясти старика за плечи. Тот застонал. – Очнись! Очнись, скотина!
– Что? Приехала «скорая»?
– Письмо! Сейчас приедет отец, времени совсем нет. Где это чертово письмо?
– Что… Какое письмо?
– Ты велел мне сказать родителям, что получил важное письмо. Я так и сделал… – У него перехватило дыхание. – Я сказал, что оно из-за границы… из Германии. Господи! – Тодд нервно взъерошил волосы.
– Письмо… – Дюссандер с трудом оторвал голову от стола. Морщинистые щеки были нездорового бледно-желтого цвета, губы посинели. – Думаю, от Вилли. Вилли Франкеля. Дорогой… дорогой Вилли.
Тодд бросил взгляд на часы: прошло уже две минуты, как он повесил трубку. За четыре минуты отец, конечно, не успеет добраться от их дома до Дюссандера, но на скоростном «порше» будет здесь очень скоро. Времени оставалось совсем мало. К тому же Тодда не покидало ощущение, что нечто важное он все равно упускает. Но сейчас было не до этого.
– Ладно, хорошо! Я читал письмо, ты разволновался, и случился сердечный приступ. Годится. Так где оно?
Дюссандер тупо глядел на юношу.
– Письмо? Где оно?
– Какое письмо? – непонимающе произнес старик, и Тодд едва не вцепился ему в горло.
– То, которое я тебе якобы читал! От Вилли или как его там! Где оно?
Они оба посмотрели на стол, будто ожидая, что письмо вдруг волшебным образом материализуется там само по себе.
– Наверху, – наконец произнес Дюссандер. – Посмотри в комоде. Третий ящик. Маленькая деревянная шкатулка. Крышку придется сломать – ключ я давно потерял. Там лежат очень старые письма от друга. Без подписи. Без дат. Все на немецком. Выбери любое. Поторопись…
– Ты совсем рехнулся? – вскинулся Тодд. – Я же не знаю немецкого! Как я могу прочитать письмо?
– А с чего это Вилли будет писать мне по-английски? – резонно возразил Дюссандер. – Если ты мне его прочитаешь на немецком, то сам ничего не поймешь, а я пойму. Понятно, что
ты будешь произносить слова неправильно, но разобрать я все равно смогу…
Дюссандер, как обычно, снова оказался прав, и Тодд не стал терять времени на препирательства. Даже после сердечного приступа голова у старика работала что надо. Тодд помчался наверх, на мгновение задержавшись у двери посмотреть, не приехал ли отец. Прошло не меньше пяти минут, но «порше», по счастью, видно не было. Времени совсем не осталось.
Он взбежал наверх, перепрыгивая через ступеньки, и вихрем влетел в спальню Дюссандера. Тодд никогда не заглядывал сюда раньше – просто не было интереса – и теперь лихорадочно озирался по сторонам в незнакомом помещении. Комод оказался дешевой поделкой с претензией на модерн. Тодд упал перед ним на колени и резко потянул на себя третий ящик. Он чуть выдвинулся и, перекосившись, намертво застрял.
– Проклятие! – простонал Тодд. Он был мертвенно бледен, только на щеках выступили яркие пунцовые пятна, да голубые глаза потемнели и стали похожи на грозовые облака над Атлантикой. – Вылезай, чертова рухлядь!
Он рванул за ручку изо всех сил и чуть не опрокинул на себя комод. К счастью, комод, качнувшись, все-таки устоял, и ящик вылетел из него, упал на колени Тодду. По комнате разлетелись носки, трусы и майки Дюссандера. Порывшись в белье, оставшемся в ящике, Тодд нащупал и вытащил деревянную шкатулку длиной девять и высотой три дюйма. Крышка, как и предупреждал старик, оказалась заперта на маленький висячий замочек. Ну что за день?! Все не так!
Уложив разбросанные вещи в ящик, Тодд попытался засунуть его на место, но он снова застрял. Парнишка дергал его туда и обратно, чувствуя, как глаза начало щипать от струившегося пота. Наконец ящик задвинулся, и Тодд поднялся со шкатулкой в руках. Сколько прошло времени?
Кровать была на столбиках, и Тодд с размаху саданул по одному из них замком, надеясь, что так удастся его сбить. По руке до самого локтя прокатилась волна боли, но он лишь недобро ухмыльнулся. Дужка замка чуть погнулась, но из защелки не выскочила. Тогда Тодд, не обращая внимания на боль, ударил еще раз, на этот раз сильнее. От шкатулки отскочила щепка, однако
замок выдержал. Юноша, нервно хохотнув, подошел к столбику с другой стороны кровати и, размахнувшись, ударил замком изо всех сил. На этот раз замок сорвался.
Тодд открыл крышку шкатулки, в этот момент по стенам спальни заплясал свет от фар подъезжавшей машины.
Он лихорадочно просмотрел бумаги и вещицы, лежавшие в шкатулке. Открытки. Медальон. Сложенная в несколько раз фотография голой женщины в одних черных подвязках, отделанных рюшем. Старый бумажник. Несколько удостоверений личности. Кожаная обложка для паспорта. А в самом низу – письма.
Свет фар стал ярче, послышалось урчание мощного двигателя «порше», и… все стихло!
Тодд схватил три листка почтовой бумаги, исписанных с обеих сторон, и рванул из спальни. Он уже добежал до лестницы, как вдруг до него дошло, что сломанная шкатулка осталась на кровати. Тодд вернулся, стал выдвигать третий ящик, но он снова застрял, противно заскрипев от перекоса.
У входной двери уже слышался треск ручного тормоза, звук открывающейся и захлопывающейся дверцы.
Тодд, застонав от бессилия, сунул шкатулку в застрявший ящик и с силой лягнул его, с грохотом ящик задвинулся. Помедлив долю секунды, Тодд бросился по ступенькам вниз – отец уже торопливо шел по дорожке. Тодд перемахнул через перила и, мягко приземлившись, ворвался на кухню с листками в руках.
Раздался стук в дверь.
– Тодд! Тодд, это я!
Вдали послышалась сирена «скорой помощи». Дюссандер снова начал впадать в беспамятство.
– Иду, пап!
Разложив листки на столе, будто их бросили второпях, он прошел в прихожую и открыл отцу дверь.
– Где он? – спросил Дик Боуден, отодвигая сына плечом.
– На кухне.
– Ты все сделал правильно, Тодд, – похвалил отец и, смущаясь, неловко обнял сына.
– Надеюсь, – скромно ответил тот и проследовал за отцом на кухню.
В суете хлопот, когда Дюссандера переносили в «скорую помощь», на письмо почти никто не обратил внимания. Отец рассеянно взял листки, но тут же положил обратно, когда появились врачи с носилками. Тодд с отцом проводили их, а рассказ юноши, как все произошло, не вызвал никаких вопросов. Как-никак «мистеру Денкеру» было семьдесят девять лет, да и от вредных привычек он так и не отказался. Доктор даже похвалил Тодда за проявленную выдержку, хладнокровие и сообразительность. Тодд понуро кивнул и спросил, можно ли им с отцом поехать домой.
По дороге Дик еще раз повторил, что очень гордится сыном. Тодд его почти не слушал: мысли снова вертелись вокруг винтовки.
18
В тот же день Моррис Хайзел сломал позвоночник.
Он хотел всего лишь закрепить оторвавшийся конец водостока на западной стене дома, и вот как все обернулось. Проблем в жизни Хайзела хватало и без сломанного позвоночника. Его первая жена погибла в двадцать пять лет. Та же участь постигла и двух дочерей. В 1971 году в автомобильной аварии неподалеку от «Диснейленда» погиб его брат. Сам Моррис на исходе шестого десятка страдал от быстро прогрессировавшего артрита. На обеих руках у него были бородавки, которые появлялись быстрые, чем доктор успевал их сводить. Кроме того, Хайзела мучили приступы сильной головной боли, да еще подонок Роуган из соседнего дома последние пару лет называл его не иначе как Красавчик Моррис. Хайзел даже справлялся у своей второй жены Лидии, как бы соседу понравилось, если бы он стал называть его Вонючка Роуган.
– Не обращай внимания, Моррис, – обычно отвечала Лидия. – Ты просто не понимаешь шуток. Иногда я даже удивляюсь, как могла выйти замуж за человека, совершенно лишенно-
го чувства юмора. Вот, например, мы едем в Лас-Вегас, – продолжала она в пустой кухне, будто обращаясь к невидимой аудитории, – идем на концерт Бадди Хаккетта, а Моррис там даже ни разу не улыбнулся!
Кроме артрита, бородавок и мигреней, у Морриса была жена Лидия, которая после удаления матки пять лет назад превратилась в удивительно сварливое существо, постоянно его достававшее. Так что у Морриса и без сломанного позвоночника проблем хватало.
– Моррис! – крикнула Лидия, выходя на задний двор и вытирая руки полотенцем. – Моррис, немедленно слезай с этой лестницы!
– Что? – Он повернул голову, чтобы лучше ее видеть. Он стоял на второй сверху ступеньке алюминиевой стремянки в плотницком фартуке с большими карманами, набитыми гвоздями и скобами. На ступеньке имелась яркая желтая наклейка с надписью: «Осторожно! Выше – центр тяжести неустойчив!» Стремянка стояла на неровном участке земли и покачивалась при каждом движении. Начинала ныть шея – верный признак надвигающейся мигрени. – Ну что еще? – повторил он раздраженно.
– Я сказала, чтобы ты слез, пока не свернул себе шею.
– Но я уже почти закончил.
– Стремянка качается, Моррис. Спускайся вниз!
– Спущусь, когда закончу! – рявкнул он. – Отстань!
– Ты свернешь себе шею… – уныло повторила она и вернулась в дом.
Через десять минут, когда он уже забивал последний гвоздь, опасно раскачиваясь на стремянке, послышался кошачий вой и злобный лай.
– Какого черта?
Моррис обернулся посмотреть, в чем дело, и стремянка пошатнулась. В этот самый момент из-за угла вылетел их кот со вздыбленной на загривке шерстью и безумными зелеными глазами. За ним, высунув язык и волоча поводок, мчался подросший соседский щенок колли, заливаясь лаем.
Кот нырнул под стремянку, собака – за ним.
– Куда?! – замахнулся Моррис. – А ну, пошли прочь!
Собака задела стремянку, и она, качнувшись, начала заваливаться, а вместе с ней полетел на землю и Моррис, издав громкий крик. Из карманов посыпались гвозди и скобы. Он упал на бетонную дорожку, и спину пронзила дикая боль. Хайзел скорее почувствовал, чем услышал, как хрустнули позвонки. Мир вокруг окрасился в серый цвет.
Когда он пришел в себя, то понял, что лежит на дорожке, усеянной гвоздями и скобами, а рядом на коленях, заливаясь слезами, стоит Лидия. Сосед Роуган тоже находился здесь, его лицо было белым как мел.
– Я же просила! – причитала Лидия. – Я же просила слезть со стремянки. А теперь посмотри, что вышло.
Смотреть на что бы то ни было Моррис не имел абсолютно никакого желания. Поясница ныла тупой болью, но самым пугающим было то, что он ничего не чувствовал ниже пояса. Абсолютно ничего!
– Еще успеешь нареветься, – хрипло произнес он. – А сейчас вызови «скорую».
– Давайте я вызову, – предложил Роуган и побежал в дом.
– Лидия, – обратился Моррис к жене, облизнув пересохшие губы.
– Что? Что, Моррис? – Она наклонилась, и ему на щеку упала ее слеза. Наверное, это было трогательно, но он невольно вздрогнул, и движение отдалось новой болью.
– Лидия, у меня к тому же разболелась голова.
– Ох, бедняжка! Бедный Моррис! Но я же просила тебя…
– У меня болит голова, потому что проклятый щенок Роугана лаял всю ночь и не давал спать. А сегодня он погнался за нашим котом и опрокинул стремянку. Боюсь, я сломал позвоночник.
Лидия закричала от ужаса, и ее крик завибрировал в пульсировавших болью висках Морриса.
– Лидия, – снова сказал он и облизнул пересохшие губы.
– Что, милый?
– Знаешь, я уже много лет подозревал кое-что. А теперь точно уверен.
– Бедняжка! О чем ты?
– Бога нет! – заявил Моррис и потерял сознание.
Хайзела отвезли в городскую больницу, и вечером – примерно в то же время, когда он обычно ужинал, – врач сообщил, что он больше никогда не сможет ходить. Его заковали в гипсовый корсет, сделали анализ крови и мочи. Проверив реакцию зрачков, доктор Кеммельман постучал резиновым молоточком по коленям, но рефлекторного подергивания не было, как не было вообще никакой реакции. Лидия постоянно была рядом и не переставала плакать, то и дело меняя мокрые от слез платки. Теперь эта женщина, и раньше постоянно находившаяся дома и ухаживавшая за вечным страдальцем, которого Бог послал ей в мужья, повсюду ходила с солидным запасом кружевных носовых платочков на случай особенно длительного приступа слез. Она позвонила своей матери, и та пообещала скоро приехать. Моррис сказал, что рад этому, хотя в действительности терпеть не мог тещу. Еще Лидия позвонила раввину, который тоже должен был скоро явиться. Моррис снова похвалил жену, хотя не был в синагоге уже лет пять и даже не знал, как зовут раввина. Кроме того, Лидия позвонила его боссу Фрэнку Хаскеллу, который, правда, не обещал прийти, но просил передать привет и выразить искренние сожаления по поводу случившегося. Вечно жевавший сигару Фрэнк был единственным достойным соперником матери Лидии, вызывавшим у Морриса столь же глубокую неприязнь.
Потом Моррису дали валиум, увели Лидию, и через некоторое время он уснул – больше не было ни боли, ни забот, ни волнений. Он даже подумал, что ради этих маленьких голубых таблеток готов еще раз залезть на стремянку и сломать позвоночник.
Когда Хайзел проснулся, а точнее, пришел в себя, занималась заря, в больнице царила полная тишина. Он ощущал душевный покой и даже какое-то умиротворение. Боли не чувствовалось – запеленатое тело казалось невесомым. Кровать была частью какой-то хитроумной конструкции, похожей на металлическую клетку для белок: кругом стальные прутья, проволочные растяжки и шкивы. Ноги держали тросы, прикрепленные к этому устройству. Спину тоже что-то поддерживало, но что именно – он не видел.
«Бывает и хуже, – подумал он. – По всему миру происходят вещи пострашнее. В Израиле палестинцы взрывают автобу-
сы с пассажирами, виновными в преступном желании доехать на нем до кинотеатра. В качестве акта возмездия израильтяне сбрасывают на палестинцев бомбы и вместе с террористами убивают детей. Да, другим точно хуже… Мне, конечно, тоже несладко, но по сравнению с тем, что могло бы быть…»
Он пошевелил рукой – движение отдалось болью, правда, очень слабой – и сжал кулак. Руки в порядке. И кисти, и предплечья. Он ничего не чувствовал ниже пояса, и что с того? В мире полно людей, парализованных от шеи и ниже. А сколько мучаются с проказой? А умирают от сифилиса? Где-то прямо сейчас кто-то садится на самолет, которому суждено упасть. Моррису, конечно, не позавидуешь, но в мире столько всяких ужасов…
И когда-то он с подобным столкнулся лично.
Моррис поднял левую руку. Казалось, она появилась перед глазами сама по себе – невесомая и парящая. Костлявая рука старика с теряющими силу мышцами. Он был одет в больничную сорочку с завязками на спине и короткими рукавами и мог прочитать на предплечье номер, вытатуированный светлыми синими чернилами. A499965214. Да, это точно хуже, чем упасть с лестницы, сломать позвоночник и попасть в стерильно чистую городскую больницу, где дают валиум, избавляющий от всех проблем.
Там тоже имелись душевые, но совсем не такие, как здесь. Его первая жена – Эбер – умерла под одним из таких душей. Там были траншеи, превращенные в могилы: он и сейчас мог, закрыв глаза, увидеть шеренги людей, выстроенных вдоль разверзшейся пасти их последнего прибежища, мог слышать треск выстрелов и стук падающих в канаву тел, похожих на большие куклы. Там вечно дымили крематории, насыщавшие воздух тошнотворным сладковатым запахом горелой плоти – плоти евреев, которых сжигали в печах, как никому не нужные дрова. Искаженные ужасом лица друзей и родственников расплывались перед глазами, как оплавленный воск свечей… Куда они все делись? Куда уносил их дым под порывами холодного ветра? В рай? В преисподнюю? Свет в темноте, свечи на ветру. Когда Иов, претерпев все муки земные, отверз наконец уста свои и проклял день свой, Господь спросил его: «Где был ты, когда
#Я полагал основания земли?»[20] На месте Иова Моррис Хайзел ответил бы ему вопросом: «А где бы Ты, когда умирала моя Эстер? Смотрел бейсбол, как «Янки» играют против «Сенаторов»? Если Ты так относишься к своим обязанностям, сгинь с глаз моих!»
Да, в мире есть много чего гораздо хуже сломанного позвоночника. Никаких сомнений! Но что это за Бог, если он позволил Моррису, видевшему смерть своей жены, детей и родных, сломать позвоночник и остаться калекой до конца дней?
Этот Бог – никакой. Его просто нет.
По щеке скатилась слеза. Где-то тихо тренькнул звонок, и по коридору, мягко ступая в тапочках на каучуковой подошве, прошла сестра. Дверь в палату была открыта, и на стене коридора виднелись большие буквы «СИВНАЯ ТЕРА». Судя по всему, надпись целиком гласила: «ИНТЕНСИВНАЯ ТЕРАПИЯ».
В палате послышался шорох.
Моррис осторожно повернул голову направо, в сторону от двери, и увидел рядом с кроватью тумбочку, на которой стоял кувшин с водой, и имелись две кнопки вызова. А за тумбочкой была еще одна кровать, на которой лежал старик, выглядевший даже хуже Морриса. Подле этой кровати не было никаких устройств, похожих на колесо в клетке гигантской белки. Правда, там стояла капельница, а в ногах – стойка с какими-то электронными приборами. Дряблая кожа старика отливала желтизной. Уголки губ и глаза ввалились. Седые с желтизной волосы казались неживыми. Синеватые веки были прозрачными, а лопнувшие капилляры на крупном носу указывали на многолетнее пристрастие к алкоголю.
Моррис отвернулся… но потом снова бросил взгляд на старика. С рассветом больница начала просыпаться, и у Мориса вдруг возникло странное чувство, что сосед по палате ему смутно знаком. Но разве такое возможно? На вид тому было под восемьдесят, а знакомых такого возраста у Морриса не было. Если, конечно, не считать тещи, которая, по его глубокому убеждению, наверняка старше сфинкса, на которого походила даже внешне.
Может, этот старик был похож на кого-то из его далекого прошлого, еще даже до приезда в Америку? А может, и нет. И почему он вдруг об этом подумал? И к тому же вспомнился концлагерь, Патэн, хотя Моррис уже давно – и довольно успешно – научился избегать печальных воспоминаний?
По коже побежали мурашки, как будто он вступил в зловещие чертоги, где мертвецам нет покоя и вечно бродят призраки. Но как это возможно здесь, в современной больнице, спустя тридцать лет?
Он отвернулся от старика, лежавшего на другой кровати, чувствуя, как на него наваливается сон.
Это просто игра воображения – старик никак не может оказаться знакомым. Это все – проделки мозга, который пытается зацепиться за что-то знакомое, чтобы не погрузиться в безумие. Совсем как тогда в…
Но он не станет думать об этом. Запретит себе – и все!
Засыпая, Моррис вспомнил, как в свое время хвастался Эстер (Лидии он никогда не хвастался: она не была похожа на Эстер, которая всегда выслушивала его с милой и доброй улыбкой), что никогда не забывает лиц людей, которых когда-то встречал. Теперь пришло время подтвердить свои слова делом. Если он действительно встречал соседа по палате раньше, то должен вспомнить, где… и когда.
Уже проваливаясь в сон, Моррис подумал, что мог видеть это лицо в концлагере.
«Но это было бы уже слишком, хотя… Пути Господни неисповедимы. А разве Бог есть?» – снова спросил себя Моррис и уснул.
19
Мечта Тодда произнести торжественную речь на церемонии вручения аттестатов не осуществилась: он не стал лучшим выпускником из-за осечки на экзамене по тригонометрии, к которому готовился в тот самый вечер, когда у Дюссандера случился сердечный приступ.
Через неделю после церемонии Боудены отправились навестить мистера Денкера в больницу. Тодд с трудом выдержал пятнадцать минут обмена банальностями, включавших пожелания поскорее выздороветь и выражения благодарности за проявленную заботу, и был рад, когда сосед Дюссандера по палате попросил подойти на пару слов.
– Ты уж меня прости, – извиняющимся тоном произнес пожилой мужчина в гипсовом панцире, висевший в сложной конструкции из блоков и ремней. – Меня зовут Моррис Хайзел. Я сломал позвоночник.
– Неприятная штука, – сочувственно произнес Тодд.
– «Неприятная штука»? Да ты сама тактичность!
Тодд начал извиняться, но Хайзел, улыбаясь, поднял руку. У него было бледное и усталое лицо, как у всякого старика, чья жизнь после больницы кардинально изменится, причем не в лучшую сторону. Тодд даже подумал, что в этом они с Дюссандером очень схожи.
– Не нужно, – сказал Моррис. – Не обращай внимания на мое брюзжанье. Мы же даже не знакомы, так что мои проблемы не должны тебя волновать.
– «Нет человека, что был бы сам по себе, как остров…»[21], – начал Тодд, и Моррис засмеялся.
– Надо же, молодой человек знает наизусть Джона Донна! А твой знакомый – мой сосед по палате – как у него дела?
– Врачи говорят, неплохо, учитывая возраст. Ему семьдесят девять лет.
– Ничего себе! – воскликнул Моррис. – Знаешь, он не очень-то общителен, но я понял, что он родом не отсюда и натурализовался. Совсем как я. Я же родился в Польше. В Радене.
– В самом деле? – вежливо отозвался Тодд.
– Да. А знаешь, как в Радене называют оранжевые крышки канализационных колодцев?
– Нет, – ответил Тодд, улыбаясь.
– Блины! – Моррис засмеялся. Тодд тоже засмеялся, а Дюссандер покосился в их сторону и недовольно нахмурился. Но тут Моника что-то спросила, и он повернулся к ней.
– Так, значит, твой знакомый принял гражданство США?
– Да, – подтвердил Тодд. – Он из Германии, из Эссена. Знаете такой город?
– Нет, – ответил Моррис, – но однажды мне довелось быть в Германии. Интересно, а твой знакомый воевал?
– Понятия не имею.
– Нет? Ну, и не важно! После войны много воды утекло… В голове не укладывается – еще каких-то пару лет, и по возрасту в президенты смогут баллотироваться люди, родившиеся после войны! Для них «Дюнкеркское чудо» сорокового года и переход Ганнибала со слонами через Альпы в третьем веке до нашей эры, должно быть, события одного ряда.
– А вы сами были на войне? – поинтересовался Тодд.
– Можно сказать, был. Ты молодец, что пришел навестить старика, даже двух, если меня тоже посчитать.
Тодд скромно улыбнулся.
– Ладно, пожалуй, посплю: что-то я устал, – сказал Моррис.
– Поправляйтесь! – пожелал Тодд.
Моррис кивнул и, улыбнувшись, закрыл глаза. Тодд вернулся к кровати Дюссандера, родители засобирались домой. Отец выразительно посмотрел на часы и притворно удивился, что уже так поздно.
Однако Моррис Хайзел не уснул – он долго лежал с закрытыми глазами, размышляя.
Через два дня Тодд пришел в больницу один. На этот раз Моррис Хайзел был погружен в глубокий сон.
– Ты справился! – тихо похвалил Дюссандер. – А потом заходил в дом?
– Да. Убрал на место шкатулку и сжег проклятое письмо. Вряд ли оно кого-нибудь заинтересовало бы, но я испугался… короче, так вышло! – Тодд пожал плечами, не зная, как объяснить Дюссандеру почти суеверный страх, который он испыты-
вал при одной мысли, что письмо могут прочесть и выяснить, насколько давно оно было получено.
– Когда придешь в следующий раз, пронеси незаметно виски, – попросил Дюссандер. – Без сигарет я еще могу обходиться, а…
– Я больше не приду, – ровным голосом произнес Тодд. – Никогда. Это наша последняя встреча. Мы в расчете.
– «В расчете»… – Дюссандер сложил руки на груди и улыбнулся. Улыбка вышла неискренней… но другой старик изобразить не смог. – Ты меня не удивил – я ждал чего-то подобного. Меня отсюда выпустят на будущей неделе… во всяком случае, обещают. Врач говорит, несколько лет я еще протяну. Я спрашивал, сколько конкретно, но он в ответ только смеется. Думаю, что он полагает два, максимум три года. Но я могу его удивить и протянуть до года Оруэлла[22].
Тодд, который пару лет назад при таких словах обязательно бы настороженно нахмурился, сейчас только равнодушно кивнул.
– Но ясно одно – до начала века мне не дотянуть.
– Я хочу кое-что выяснить, – обратился Тодд к старику, пристально глядя ему в глаза. – Ради этого я и пришел. Я хочу, чтобы ты объяснил мне свои слова.
Тодд посмотрел на кровать соседа Дюссандера по палате и, подвинув стул поближе к старику, уловил исходивший от него затхлый запах – точь-в-точь как в музейных залах с экспонатами Древнего Египта.
– Спрашивай.
– Насчет того бродяги. Ты упомянул о моем личном опыте. Что ты имел в виду?
Дюссандер улыбнулся чуть шире:
– Я читаю газеты, мальчик. Старики всегда читают газеты, причем не так, как молодые. Ты слышал о том, что к взлетным полосам некоторых аэропортов Южной Америки слетаются грифы, когда задувает опасный боковой ветер? Стрики читают газеты именно так. Неделю назад в воскресном выпуске была
статья. Конечно, не на первой полосе – бродяги и пьяницы не заслуживают того, чтобы о них рассказывали на первой полосе. Но там был большой «подвал», который назывался «Кто расправляется с изгоями Санта-Донато?». Статья жесткая, типичный продукт желтой прессы. Американцы такими славятся.
Тодд сжал кулаки, пряча обгрызенные ногти. Он никогда не читал воскресных газет, предпочитая заниматься чем-то другим. Конечно, после каждого «приключения» он просматривал прессу примерно неделю, а то и больше, но его жертвы никогда не удостаивались упоминания на первых страницах. Новость о том, что какому-то журналюге удалось связать эти убийства в единое целое, привела его в бешенство.
Дюссандер продолжил:
– В статье говорилось о нескольких изуверских убийствах. Жертвы были зарезаны или забиты насмерть, как выразился журналист, с «нечеловеческой жестокостью», но газетчики любят преувеличивать, верно? По признанию самого автора этой статьи, в последние годы бродяг в нашем городе развелось прискорбно много. И далеко не все они умирают от естественных причин или из-за дурных привычек и избранного образа жизни. Убийства в подобной среде совершаются довольно часто, но это дело рук в основном такого же отребья, поводом служат конфликты при игре в карты или дележе спиртного. Обычно убийцу мучают угрызения совести, и поймать его просто. Но последние убийства остались нераскрытыми. Мало того, по мнению этого журналиста, участились случаи пропажи бездомных. Он, конечно, допускает, что эти люди не сидят на месте и запросто подаются в другие края. На то они и бродяги. Но многие исчезли, не забрав чеков для выплаты пособий по социальному обеспечению или за поденную работу, которые можно погасить только в пятницу. И журналист резонно задается вопросом: не стали ли они жертвами загадочного убийцы, а их тела еще просто не нашли? Фу!
Дюссандер поморщился и махнул рукой, будто отметая столь невероятное предположение.
– Все это, конечно, глупости, написанные с единственной целью пощекотать нервы обывателям в выходной день. Чтобы подлить масла в огонь, журналист прибегает к старому, но про-
веренному приему и припоминает известных серийных убийц. Кливлендского Мясника, орудовавшего в Огайо в тридцатых годах, Зодиака, действовавшего в Северной Калифорнии и Сан-Франциско в конце шестидесятых. Загадочного мистера Икс, убившего Черную Орхидею. И даже фольклорного Джека Прыгуна из Викторианской эпохи. Но эта статья заставила меня задуматься. А что еще делать старику, когда старые друзья перестают его навещать?
Тодд молча пожал плечами.
– И я подумал, что будь у меня желание помочь этому гнусному журналисту, а желания такого я, понятно, не испытываю, то мог бы пролить свет на некоторые исчезновения. Разумеется, я имел в виду не убитых, чьи трупы нашли, – помилуй, Господи, их грешные души, – а лишь некоторых пропавших бродяг. Потому что их тела находились в моем подвале.
– И сколько их там? – тихо спросил Тодд.
– Пять, – спокойно ответил Дюссандер. – Включая закопанного тобой. Всего пять.
– Ты и правда настоящий псих! – резюмировал Тодд. Он заметно побледнел. – И в какой-то момент окончательно съехал с катушек!
– «Съехал с катушек»! Какое образное выражение! Возможно, ты и прав. Но тогда я сказал себе: «Этот писака хочет повесить пропавших и убитых на одного человека – своего гипотетического Чистильщика. А по-моему, тут другая история». И еще я задумался, не знаю ли кого-нибудь, кто мог совершить нечто подобное? Кто в последние годы испытывал такой же стресс, как и я? И ответ напрашивался сам собой. Это ты, мальчик!
– Я никого и никогда не убивал.
Тодд подумал не о бродягах – те не были людьми, ну или почти не были. Он вспомнил, как лежал за поваленным деревом и видел в перекрестии оптического прицела висок старика с неопрятной бородой за рулем пикапа.
– Может, и нет, – миролюбиво согласился Дюссандер. – Однако той ночью ты вовсе не был шокирован и держался молодцом. И еще ужасно злился, что оказался в таком опасном положении из-за немощи старика. Я прав?
– Да, – подтвердил Тодд. – Я был в бешенстве и не успокоился до сих пор. Я все подчистил за тобой из-за компромата, который ты упрятал в банковскую ячейку и который мог разрушить мою жизнь.
– Нет, я ничего не прятал.
– Что? Что ты говоришь?!
– Это был такой же блеф, как твое «письмо у друга». Ты никогда не писал такого письма, у тебя не было друга, и точно так же я никогда не писал о нашем… скажем, «сотрудничестве». Больше нет смысла что-то от тебя утаивать. Ты спас мне жизнь. И не важно, что ты сделал это ради себя: ты все равно проявил выдержку и хладнокровие. Заявляю со всей ответственностью: я не могу причинить тебе вреда. Я заглянул смерти в лицо, и она испугала меня, хотя и не так сильно, как я всегда опасался. Никакого документа нет! Так что мы с тобой действительно квиты!
Тодд улыбнулся: уголки его губ дрогнули и чуть приподнялись. В глазах промелькнул злобно-насмешливый огонек.
– Герр Дюссандер, – сказал он, – если бы только это было правдой!
Вечером того же дня Тодд отправился на склон у автострады, спустился к поваленному дереву и устроился на нем. День был теплым, сгущались сумерки, и в полумраке мчались машины, образуя бесконечные цепочки желтых огней.
Никакого документа не было!
Однако эта новость, по сути, ничего не изменила и не принесла Тодду никакого облегчения. Дюссандер сам предложил ему обыскать дом, и если никакого ключа не найдется, значит, нет и банковской ячейки с документом. Но ключ мог быть спрятан где угодно. Например, в банке из-под масла, закопанной во дворе. Или под половицей в коробочке из-под пастилок от кашля. Или старик мог доехать на автобусе до Сан-Диего и замаскировать ключ в декоративной каменной кладке, ограждавшей ареал обитания медведей. Если уж на то пошло, Дюссандер вообще мог его выкинуть. А почему нет? Ключ ему требовался только для того, чтобы положить документ в ячейку. А уж после его смерти найдется, кому ее открыть…
Дюссандер задумчиво кивал, выслушивая его доводы, а потом предложил другой вариант. Когда его выпишут, Тодд в его присутствии обзвонит все банки и, представившись внуком, скажет, что дед в силу возраста совсем выжил из ума, потерял память и не помнит, где абонировал ячейку и куда дел от нее ключ. Зовут деда Артур Денкер, и внук просит проверить по записям, не в их ли банке абонирована ячейка. А когда во всех банках подтвердят, что не у них…
Тодд снова покачал головой. Во-первых, это наверняка вызовет ненужные вопросы. В банке могут заподозрить мошенничество, а то и обратиться в полицию. И даже если все пройдет гладко, это ничего не меняло. Отсутствие в многочисленных банках Санта-Донато ячейки, абонированной на имя Денкера, вовсе не означало, что старик не мог ее арендовать в Сан-Диего, Лос-Анджелесе или в любом другом городке.
Наконец Дюссандер был вынужден сдаться:
– У тебя есть ответы на все вопросы, мальчик. На все, кроме одного: зачем мне тебе врать? Я выдумал эту историю, чтобы защититься от тебя. Мотив налицо. А зачем мне пытаться тебя в этом разубедить? Что я выиграю? – Дюссандер осторожно приподнялся на локте. – Если уж на то пошло, зачем мне вообще документ? Я могу разрушить твою жизнь, если захочу, даже находясь на больничной койке. Мне достаточно остановить любого проходящего мимо доктора и просто представиться. Они тут все евреи и наслышаны обо мне, во всяком случае о том, кем я был. Но зачем мне это нужно? Ты – хороший студент, впереди тебя ждет отличная карьера… Если, конечно, не проколешься со своими бродягами.
Тодд замер.
– Я никогда не говорил тебе…
– Знаю. Ты никогда не слышал о них, никогда даже близко не подходил к вонючим бродягам, покрытым коростой. Пусть так! Отлично! Разве кто-то спорит? Только объясни, зачем мне врать? Я же сказал, что мы в расчете! Но добавлю: мы можем быть квиты, только если будем доверять друг другу.
И теперь, сидя на поваленном дереве на склоне у автострады и глядя на машины, исчезающие вдалеке, как трассирующие пули, Тодд понял, чего именно он боялся.
Дюссандер говорил о доверии. И Тодда пугало именно это.
Кто знает, а вдруг в глубине души Дюссандера постоянно тлеет огонек ненависти? Вот что было страшно!
Старик мог ненавидеть Тодда Боудена, молодого, здорового и полного сил. Способного ученика, у которого впереди целая жизнь, полная радости и успехов.
Но больше всего Тодда пугало упорное нежелание Дюссандера обращаться к нему по имени.
Тодд. Предельно простое имя. Всего один слог, его легко произнести даже старому фрицу со вставными зубами. Упереться языком в нёбо, чуть опустить челюсть и убрать язык. Всего-то! Но Дюссандер всегда называл его только мальчиком. И никак иначе! Высокомерно. И безлико. Да, именно безлико! Будто номер узника концлагеря.
Вполне возможно, Дюссандер был искренен и говорил правду. Даже не просто «возможно», а скорее вероятно. Но страх никуда не уходил… особенно пугало нежелание старика называть его по имени.
И как ни крути, все упиралось в его неспособность решиться на крайнюю меру. Даже после четырех лет общения со стариком Тодд так и не знал, что у того на уме. Выходит, не такой уж он способный ученик.
Машины, машины, машины… Пальцы сжались, будто держали винтовку. Сколько их он мог бы отсюда достать? Трех? Шестерых? Чертову дюжину? Как в детской считалочке?
Тодд поежился.
Только смерть Дюссандера расставит все по своим местам и внесет ясность. Наверное, лет через пять, может, раньше. От трех до пяти… Прямо как тюремный срок. Тодд Боуден приговаривается к сроку от трех до пяти лет за оказание содействия военному преступнику. От трех до пяти лет ночных кошмаров и холодного пота.
Рано или поздно Дюссандер умрет. И тогда начнется ожидание. И каждый раз, когда постучат в дверь или зазвонит телефон, сердце будет предательски сжиматься.
Вряд ли он сумеет выдержать.
Испытывая непреодолимое желание ощутить в руках привычную тяжесть винтовки, Тодд сжал кулаки и сдавил их коле-
нями. В животе появилась ужасная резь, и парнишка, скрючившись, повалился на землю, раскрыв рот в беззвучном крике. Но острой боли удалось остановить бесконечный поток сводивших его с ума мыслей.
По крайней мере на какое-то время.
20
Для Морриса Хайзела воскресенье оказалось настоящим днем чудес.
Его любимая бейсбольная команда «Атланта брейвз» дважды за один день разгромила заносчивых выскочек из «Цинциннати редз» со счетом 7:1 и 8:0. Лидия, которая всегда хвасталась своей осмотрительностью и любила приговаривать: «Болен – лечись, здоров – берегись», поскользнулась на мокром полу кухни у своей подруги Дженет и подвернула ногу. Теперь она лежала дома. Ничего страшного, конечно, слава Богу (какому Богу?), но теперь она точно не придет целых два дня, а может, даже четыре.
Четыре дня без Лидии! Четыре дня он не будет выслушивать ее бесконечных причитаний, что она предупреждала, что стремянка качается, и что он забрался слишком высоко. Четыре дня он не будет выслушивать, как она всегда говорила, что щенок Роуганов не дает прохода их котику и надо ждать беды. Четыре дня без ее вопросов, рад ли он, что она заставила его отправить заявление на страховое возмещение, иначе они бы уже были на пути в богадельню. Четыре дня без ее рассказов, как много людей с параличом ног ведут абсолютно нормальную – ну, почти нормальную – жизнь: в каждом музее и выставочном помещении есть специальные пандусы для инвалидных колясок и даже ходят специальные автобусы. После этого замечания Лидия всегда одаривала его смелой улыбкой и непременно заливалась слезами.
Моррис с удовольствием погрузился в послеобеденный сон.
Он проснулся в половине шестого. Его сосед спал. Моррису так и не удалось понять, почему лицо Денкера кажется ему знакомым, но он не сомневался, что встречал его раньше. Пару раз он заговаривал с Денкером о прошлом, но что-то всегда удерживало его от дальнейших расспросов. Он почему-то удерживался от разговоров с ним и на самые обычные темы, вроде погоды, последнего и нового землетрясения и о том, что на шоу Лоренса Уилка по телевизору в конце недели будет выступать аккордеонист-виртуоз Майрон Флорен.
Моррис объяснял себе это желанием иметь какую-то пищу для ума, раз уж тело от плеч до бедер оказалось закованным в гипсовый панцирь. Если голова чем-то занята, то не изводишь себя бесконечными мыслями о катетере, с помощью которого придется мочиться всю оставшуюся жизнь.
Обратись он к Денкеру с прямым вопросом, интрига сразу исчезла бы, и никакой больше пищи для ума. Вспомнив каждый свое прошлое, они быстро выяснили бы, где могли пересекаться: в поезде, на пароходе или даже в концлагере. Денкер мог запросто оказаться даже узником Патэна – там было полно немецких евреев.
С другой стороны, одна медсестра сообщила, что Денкера выпишут через неделю-другую. Если к тому времени Моррис так и не найдет ответа на свой вопрос, то признает поражение и спросит у соседа прямо, где мог видеть его раньше…
Однако в глубине души Моррис понимал: его смущает нечто совсем другое. Его мучило зловещее предчувствие, в голове постоянно всплывал сюжет известного рассказа Джейкобса «Лапка обезьяны», где выполнение каждого желания оборачивалось горьким разочарованием и новым несчастьем.
В рассказе у пожилой четы оказалась лапка обезьяны, которая могла выполнить три желания. Супруги попросили сотню долларов, которую и получили в виде компенсации за смерть единственного сына, погибшего на фабрике в результате ужасного несчастного случая – он попал под станок, искромсавший его на части. Тогда мать захотела, чтобы лапка оживила сына, и вскоре на пороге послышались неровные шаги, и раздался настойчивый стук в дверь. Мать, вне себя от радости, бросилась открывать, а отец, понимая, что она увидит лишь оживший изу-
родованный труп, попросил лапку вернуть сына обратно на кладбище. Мать распахнула дверь, но за ней никого не было, только завывал ночной ветер.
Моррису казалось, что он просто боялся вспомнить, откуда знает Денкера. Это воспоминание было все равно что возвращение с того света сына из рассказа Джейкобса. Сын вернулся совсем не таким, как представлялось матери, а изрубленным на куски трупом, перемолотым жерновами безжалостного станка. Моррис чувствовал, что воспоминание о Денкере пытается пробиться сквозь барьер, отделявший подсознательное от рационального, но сам при этом отчаянно цеплялся за любую возможность не допустить этого, пусть даже с помощью «лапки обезьяны» или какого-то иного ее психологического аналога.
Нахмурившись, он посмотрел на Денкера.
Денкер. Денкер. Откуда я тебя знаю? Может, по Патэну? И поэтому гоню воспоминания прочь? Но двум узникам, пережившим общий кошмар, нечего бояться друг друга. Если, конечно…
Он снова нахмурился, чувствуя, что разгадка совсем близка, но неожиданное покалывание в ногах никак не позволяло сосредоточиться. Как будто во сне он отлежал ноги, и теперь кровообращение восстанавливалось, доставляя неприятные ощущения. Если бы не проклятый гипс, он бы точно сел и потер ноги, чтобы покалывание поскорее прошло…
Зрачки Морриса расширились.
Он долго лежал, боясь пошевелиться. Он забыл о Лидии, Денкере, Патэне, забыл обо всем на свете и затаил дыхание, боясь спугнуть вспыхнувшую надежду. Он чувствовал покалывание в обеих ногах, но в правой сильнее. Обычно про такое говорят: «колет иголками».
Моррис потянулся к кнопке вызова и жал на нее до тех пор, пока не прибежала сестра.
Она попыталась разуверить его, намекнув, что ему, наверное, показалось. В ее практике такое уже не раз бывало. Доктора сейчас нет, а беспокоить его дома она не хотела. Доктор Кеммельман и так отличался несносным характером, а уж если его потревожить дома… Но Моррис не унимался. Уравновешенный по натуре, сейчас он был готов закатить настоящий скандал. По-
беда любимой команды – это раз, Лидия растянула связки – это два. Значит, должно быть и три! Это же очевидно!
Наконец сестра привела практиканта – молодого человека по имени доктор Тимпнелл. На голове у него была огромная копна волос, стриженных, судя по всему, газонокосилкой с тупыми лезвиями. Доктор Тимпнелл достал из кармана белых брюк швейцарский нож, открыл лезвие с отверткой и провел ее кончиком по пятке правой ноги Морриса. Пятка не сжалась, но пальцы точно дернулись – никаких сомнений! У Морриса из глаз брызнули слезы.
Ошеломленный Тимпнелл присел на кровать и успокаивающе похлопал его по руке.
– Такое иногда случается, – сказал он, опираясь, видимо, на свой шестимесячный опыт практикующего врача. – Заранее никто этого знать не может, но иногда подобное происходит. Похоже, у вас как раз тот самый случай.
Моррис кивал, глотая слезы.
– Судя по всему, ваш паралич не является полным, – продолжал Тимпнелл, похлопывая Морриса по руке. – Но я не знаю, насколько удастся восстановить двигательные функции. Думаю, что и доктор Кеммельман тоже этого не скажет. Вам предстоит длительный курс физиотерапии, причем довольно болезненный… Но по сравнению с тем, что могло бы быть… в общем, вы меня понимаете.
– Да, – подтвердил Моррис сквозь слезы. – Я понимаю. Слава Богу! – Вспомнив о своем заявлении Лидии, что Бога нет, он залился краской.
– Я сообщу доктору Кеммельману, – пообещал Тимпнелл на прощание и поднялся.
– А вы не могли бы позвонить моей жене? – попросил Моррис. Несмотря на ее занудство и причитания, он все-таки к ней что-то испытывал. Может, даже любовь, хотя трудно представить, чтобы это чувство уживалась с неизменно посещавшим его желанием свернуть ей шею.
– Да, конечно. Сестра, вы не будете так любезны…
– Конечно, доктор, – кивнула она, и Тимпнелл с трудом сдержал улыбку.
– Спасибо! – поблагодарил Моррис, вытирая глаза бумажной салфеткой из пачки на тумбочке. – Огромное спасибо!
Тимпнелл вышел из палаты. Пока они разговаривали, мистер Денкер проснулся. Сначала Моррис хотел извиниться за шум, но потом решил, что не стоит.
– Насколько я понял, вас можно поздравить, – сказал мистер Денкер.
– Жизнь покажет, – ответил Моррис, как и доктор Тимпнелл, едва сдерживая улыбку. – Жизнь покажет.
– В жизни все так или иначе образуется, – туманно заметил Денкер и включил пультом телевизор. Было без четверти шесть, и они застали конец эстрадного представления «Хи-хоу», а потом начались новости. Безработица росла, а темпы инфляции замедлились. Последние опросы службы Гэллапа показывали, что если бы выборы проходили сейчас, то Джимми Картер проиграл бы четырем республиканским кандидатам. После убийства чернокожего ребенка в Атланте снова вспыхнули расовые волнения (только через полгода полиция заподозрит, что череда подобных убийств – дело рук маньяка), которые комментатор назвал «Ночью насилия». В блоке местных новостей сообщили об убийстве неизвестного мужчины, труп которого обнаружили в саду возле Сорок шестого шоссе. Его зарезали и забили дубинкой.
Около половины седьмого позвонила Лидия. Доктор Тимпнелл выразил осторожный оптимизм. Лидия же была им преисполнена. Она поклялась обязательно навестить мужа на следующий день, даже если это убьет ее. Моррис сказал ей, что любит ее. В тот момент он любил абсолютно всех: Лидию, доктора Тимпнелла с его немыслимой прической, мистера Денкера и даже молоденькую санитарку, которая принесла ужин, едва он повесил трубку.
В больничном меню на сей раз были рубленый бифштекс, картофельное пюре, салат из моркови с горошком и небольшая порция мороженого на десерт. Санитарку – застенчивую девушку со светлыми волосами лет двадцати, работавшую в больнице на добровольных началах, – звали Фелисией. У нее тоже были хорошие новости: ее парень устроился программистом в «Ай-би-эм» и сделал ей официальное предложение.
Мистер Денкер, чья учтивая обходительность вызывала неизменные симпатии медсестер и санитарок, искренне за нее порадовался:
– Просто чудесно! Пожалуйста, присядьте и расскажите нам все самым подробным образом. Все-все-все, ничего не утаивая!
Фелисия, покраснев, улыбнулась и сообщила, что, к сожалению, никак не может:
– Нам надо раздать еду пациентам в этом крыле, а потом в другом. А уже половина седьмого!
– Тогда завтра вечером. И никаких отговорок! Мы настаиваем, правда, мистер Хайзел?
– Конечно, – пробормотал Моррис, думая совершенно о другом.
Пожалуйста, присядьте и расскажите нам все самым подробным образом.
Он уже слышал раньше именно эти слова, произнесенные таким же доброжелательным тоном. Никаких сомнений! Но от кого? От Денкера?
Все-все-все!
Голос образованного горожанина. И в нем звучала угроза. Волк в овечьей шкуре. Точно!
Но где?
Все-все-все, ничего не утаивая!
В Патэне?
Моррис Хайзел бросил взгляд на тарелку с ужином – мистер Денкер уже с энтузиазмом занялся своим. Разговор с Фелисией привел его в отличное расположение духа. Совсем как визит юноши со светлыми волосами.
– Чудесная девушка! – заметил Денкер, отправляя в рот салат из моркови с горошком.
Пожалуйста, присядьте…
– Кто? Фелисия? Да, она очень милая.
…и расскажите нам все самым подробным образом. Все-все-все, ничего не утаивая!
Моррис снова посмотрел на тарелку и вдруг вспомнил, как это было в концлагере. Сначала за крошечный кусочек мяса, даже самого червивого и покрытого плесенью, человек был го-
тов пойти на убийство. Но со временем дикий голод исчезал, а желудок превращался в небольшой серый камень, упрятанный в живот. Казалось, что от чувства голода ты избавился раз и навсегда.
Пока перед тобой не оказывалась еда.
Расскажите нам все… Ничего не утаивая… Пожалуйста, присядьте и расскажите нам ВСЕ самым подробным образом.
На пластиковом больничном подносе остывал бифштекс. Почему Моррис вдруг вспомнил о молодом барашке? Нет, не об обычной баранине и даже не об отбивной: баранина могла оказаться жилистой, а отбивная – жесткой. У людей, зубы у которых едва держались в деснах, эти блюда едва ли могли вызвать дикий аппетит. Другое дело, если ноздри улавливают непередаваемый аромат мяса молодого барашка, которое тушится в подливе с овощами, мягкими и такими вкусными. Почему он вдруг вспомнил о подливе? Неужели?..
Дверь распахнулась, и в палату вбежала раскрасневшаяся, сияющая Лидия. Она опиралась на алюминиевый костыль и передвигалась точь-в-точь как раненый приятель шерифа Честер из ковбойского сериала «Дымящееся ружье».
– Моррис! – закричала она. Вслед за ней показалась такая же счастливая соседка Эмма Роуган.
Мистер Денкер от неожиданности выронил вилку и, буркнув ругательство, с отвращением поднял ее с пола.
– Это настоящее чудо! Господи, какое счастье! – заверещала Лидия, не в силах сдержать переполнявшие ее чувства. – Я позвонила Эмме и спросила, можем ли поехать прямо сегодня, а не завтра. «Эм, – сказала я, – какая же я тогда жена, если не смогу перетерпеть боль ради любимого мужа?» Дословно! Правда, Эм?
Эмма Роуган, судя по всему, не забывшая, что именно их щенок отчасти виновен в падении Морриса, охотно закивала.
– Тогда я позвонила в больницу, – продолжала Лидия, сбрасывая плащ и устраиваясь поудобнее для продолжительной беседы, – и мне сказали, что время посещений уже закончилось, но в моем случае готовы сделать исключение, если, конечно, мы пообещаем, что пробудем недолго, поскольку можем доставить
беспокойство мистеру Денкеру. Мы вас не очень побеспокоим, мистер Денкер?
– Нет, ну что вы, – с обреченным видом успокоил ее мистер Денкер.
– Садись, Эмма, и возьми стул у мистера Денкера, он все равно сейчас свободен. Моррис, оставь в покое мороженое – ты перепачкался им как ребенок. Не волнуйся, мы быстро поставим тебя на ноги! Я сама тебя покормлю. Открой ротик… шире-шире… вот так, а сейчас глотай и – прямо в животик. Вот молодец! И не спорь! Мама лучше знает, как надо! Ты только посмотри, Эмма! Волос почти совсем не осталось! И неудивительно – даже представить страшно, что он мог до конца жизни сидеть в инвалидном кресле. Это настоящее чудо Господне! Я говорила ему, что стремянка качается. «Моррис, – сказала я, – слезай немедленно с лестницы, пока…»
Скармливая ему мороженое, она говорила без умолку и так протарахтела еще целый час. Когда Лидия наконец удалилась, опираясь на костыль одной рукой, а другой – держась за Эмму, Моррис уже не думал ни о тушеном молодом барашке в подливе, ни о словах, словно донесшихся из далекого прошлого. Чувствуя себя совершенно разбитым и опустошенным, он провалился в глубокий сон.
В три часа ночи Моррис проснулся с разинутым в беззвучном крике ртом.
Теперь он знал! Знал, где и когда видел человека, лежавшего на соседней кровати. Только звали его тогда не Денкер, а совсем по-другому.
Еще никогда в жизни Моррису не приходилось видеть такого кошмара. Ему с Лидией подарили лапку обезьяны, и они попросили денег. А потом посыльный из «Вестерн юнион» в форме «Гитлерюгенда» принес им такую телеграмму:
%%%ПРИСКОРБИЕМ СООБЩАЕМ СМЕРТИ ВАШИХ ОБЕИХ ДОЧЕРЕЙ КОНЦЛАГЕРЕ ПАТЭН ТЧК СОБОЛЕЗНУЕМ ТЧК ПОДРОБНОСТИ ПИСЬМЕ КОМЕНДАНТА ТЧК ВАШ СЧЕТ БАНКЕ ПЕРЕЧИСЛЕНО СТО ДОЙЧМАРОК ТЧК ПОДПИСЬ КАНЦЛЕР ГЕРМАНИИ АДОЛЬФ ГИТЛЕР
Хотя Лидия никогда не видела дочерей Морриса, она издает истошный вопль и просит обезьянью лапку вернуть их к жизни. Комната погружается в темноту, а с улицы слышатся неровные шаркающие шаги.
Моррис стоит в темноте на четвереньках, и в нос ему внезапно ударяет запах газа, дыма и смерти. Но можно загадать еще одно, правда, последнее желание и положить конец ночному кошмару. Но сначала надо найти лапку. И тогда он не увидит своих дочерей, превращенных в обтянутые кожей скелеты с ввалившимися глазами и выжженными номерами на прозрачных от худобы ручонках.
Требовательный стук в дверь.
Моррис продолжает лихорадочно искать лапку, но все впустую. Ему кажется, поиски затянулись на целую вечность. А потом вдруг дверь распахивается. Он зажмуривается, лишь бы ничего не видеть – пусть у него лучше вырвут глаза, но он ни за что не станет смотреть!
И все-таки он посмотрел. Не мог не посмотреть. Как будто чьи-то чудовищные руки взяли его за голову, повернули к двери и заставили открыть глаза.
Но на пороге стоят вовсе не его дочери – там Денкер. Только намного моложе, в эсэсовской форме и фуражке, щегольски заломленной набок. Сапоги начищены до зеркального блеска, пуговицы сияют.
В руках огромная кастрюля с пузырящейся в подливе тушеной ягнятиной.
И во сне этот Денкер произносит, учтиво улыбаясь: «Пожалуйста, присядьте и расскажите нам все самым подробным образом. Мы же друзья, верно? Мы знаем, что кое-кто прячет золото, а у кого-то есть табак. Мы знаем, что пару дней назад Шнайбель вовсе не отравился, а проглотил толченое стекло. И не нужно делать вид, что вам ничего не известно. Вам все известно. Так что расскажите все-все-все, ничего не утаивая».
И в темноте, вдыхая сводящий с ума запах тушеного мяса, он им все рассказал. Его желудок, казавшийся до этого маленьким серым камушком, вдруг превращается в ненасытного тиг-
ра. Слова сами срываются с его губ в бессвязной исповеди безумца, в которой правда причудливо переплетается с вымыслом…
Боуден прячет под мошонкой обручальное кольцо матери.
Пожалуйста, присядьте.
Ласло и Герман Дорски говорят о побеге возле третьей сторожевой вышки.
Расскажите нам все самым подробным образом.
У мужа Рахиль Танненбаум есть табак. Он делится им с охранником, который сменяет Зайкерта и кого прозвали Сопливым за привычку постоянно ковырять пальцем в носу, а потом совать его в рот. Танненбаум давал Сопливому табак, чтобы тот не отобрал у его жены жемчужные сережки.
Тут вы смешали два совершенно разных случая. Но это не важно, лучше смешать их, чем утаить. А вы должны рассказать все-все-все, ничего не утаивая!
Есть заключенный, который выкрикивает имя своего мертвого сына, чтобы получить двойную порцию.
Как его зовут?
Я не знаю, но могу показать. Я покажу, я сделаю все, что хотите! Сделаю! Сделаю! Сделаю…
Расскажите нам все, что знаете.
Я расскажу! Расскажу! Расскажу…
Моррис захлебнулся в крике и очнулся в холодном поту.
Его била нервная дрожь, и он с трудом повернул голову, чтобы посмотреть на соседа. Взгляд уперся в сморщенный, ввалившийся рот. Дряхлый тигр, лишившийся зубов. Старый злоб ный слон, уже потерявший один бивень, а второй едва держится и вот-вот тоже вывалится. Пережившее свое время чудовище.
– Боже милостивый! – беззвучно прошептал Моррис Хайзел. По его щекам ручьями текли слезы. – Господи! Человек, убивший мою жену и дочерей, спит со мной в одной комнате! Боже, в той же самой комнате!
Слезы ярости и ужаса обжигали кожу на лице.
Он дрожал и ждал утра, которое никак не наступало.
21
На следующий день, в понедельник, Тодд встал в шесть часов. Когда отец, еще в шлепанцах и халате с монограммой, спустился вниз, он безучастно ковырял вилкой омлет, который сделал себе на завтрак.
– Привет! – поздоровался отец, доставая из холодильника апельсиновый сок.
Тодд буркнул в ответ, не отрывая глаз от детектива Эда Макбейна о буднях 87-го полицейского участка. Ему повезло устроиться на работу на лето в фирме ландшафтного дизайна в городке Сосалито. Добираться туда каждый день было довольно долго, даже если бы родители и предложили ему временно пользоваться одной из своих машин (а они не предложили). Но у отца примерно в тех местах строился объект, и он утром подбрасывал Тодда до автобусной остановки, а вечером там же подбирал и привозил домой. Парнишке не очень нравилось возвращаться с отцом вечерами, а уж поездки с ним по утрам просто бесили. По утрам он чувствовал, что особенно уязвим, грань между тем, кем он казался окружающим, и кем был на самом деле, становилась особенно тонкой. После ночных кошмаров Тодд буквально не находил себе места, но даже если ночь проходила спокойно, по утрам ему все равно было плохо. Как-то в машине он с ужасом поймал себя на мысли, что едва не потянулся через отцовский портфель к рулю и не вывернул его, чтобы врезаться в поток автомобилей, мчавшихся по скоростным полосам шоссе.
– Для тебя сделать яичницу?
– Нет, пап, спасибо. – Дик Боуден всегда ел яичницу. Как ее вообще можно есть? Две минуты на сковородке, затем аккуратно перевернуть. А потом получалось нечто похожее на затянутый катарактой глаз, из которого, если проткнуть вилкой, вытекала желтая жидкость.
Тодд отодвинул тарелку с омлетом, к которому едва притронулся.
Отец, закончив жарить, выключил газ и подошел к столу.
– С утра нет аппетита, малыш?
Еще раз меня так назовешь, и я воткну тебе нож прямо в глаз!
– Нет, пап, спасибо.
Отец с любовью посмотрел на сына, у которого на мочке правого уха осталось пятнышко от крема для бритья.
– Наверное, из-за Бетти Траск.
– Возможно, – признался Тодд с вымученной улыбкой, которая сползла с лица, едва отец отправился на улицу забрать газету.
А что бы ты сказал, если б узнал, что она – потаскуха? «Знаешь, пап, а на дочурке твоего дружка Рея Траска пробы ставить негде!» Да она бы сама вылизывала себе промежность, если б только могла дотянуться! Она на этом просто помешана! Самая что ни на есть грязная шлюха! За пару дорожек кокса ее может поиметь любой! А нет кокса, не страшно – она даст просто так! Да она трахнется с псом, если не найдется кого-то другого. Как тебе это? Помогает проснуться?
Усилием воли он отвлекся от этих мыслей, но знал, что это ненадолго.
Отец вернулся с газетой. Тодду бросился в глаза заголовок: «Суд над шпионами подходит к концу».
Дик сел за стол.
– Бетти очень мила, – сказал он, – она напоминает мне твою мать, когда мы только познакомились.
– Правда?
– Такая симпатичная… юная… свежая. – Дик мечтательно прикрыл глаза, но тут же, очнувшись, с тревогой посмотрел на сына. – Я вовсе не хочу сказать, что наша мама сейчас не так красива, но в юности все девушки… как будто сияют изнутри, если можно так выразиться. А потом это сияние исчезает. – Дик пожал плечами и развернул газету. – C'est la vie[23]. Тут уж ничего не поделаешь.
Она просто течная сучка! Вот и все ее «сияние»!
– Ты ее не обижаешь? – Отец быстро просматривал газету, продвигаясь к разделу спорта. – Не распускаешь руки?
– Все нормально, пап.
Если он не перестанет, я… я за себя не ручаюсь! Заору! Или запущу в него кружкой! Или еще что-нибудь!
– Рею ты нравишься, – рассеянно произнес Дик. Он наконец добрался до спортивных новостей и углубился в чтение. За столом воцарилась долгожданная тишина.
Бетти Траск прилипла к Тодду после первого же свидания. После кино он повел ее на укромную аллею, где обычно уединялись влюбленные парочки. Это было естественно – они могли провести там полчаса, целуясь и обжимаясь, а на следующий день поделиться впечатлениями с друзьями. Она сможет закатывать глаза и рассказывать, как отбивалась от его домогательств: «мальчишки такие примитивные», а она не из тех, кто на первом же свидании соглашается на все. Подруги, конечно, покивают, а затем побегут стайкой в туалет, чтобы сделать там свои дела – подкраситься, сменить прокладку или чем там они еще занимаются…
Что же до ребят… тут требовалось продемонстрировать желание и проявить настойчивость. После предварительного этапа следовало перейти к главному. По крайней мере попытаться. Потому что репутация очень важна. Тодд вовсе не собирался прослыть жеребцом, но хотел, чтобы его считали нормальным. А если парень даже не пытается проявить инициативу, об этом быстро становится известно. И возникают вопросы, все ли с ним в порядке.
Поэтому он водил девчонок на Джейнс-Хилл, целовал их, щупал и даже заходил чуть дальше, чем они позволяли. Но на этом все заканчивалось. Девчонки его останавливали, он, немного повозмущавшись для виду, отступал и провожал их домой. Что они потом станут рассказывать подружкам, было уже не важно. Никаких оснований считать, что с Тоддом Боуденом что-то не так. Однако…
Однако с Бетти Траск все вышло по-другому, поскольку она давала с первого раза. На каждом свидании. И в промежутках между ними тоже.
Первый раз это произошло примерно за месяц до злополучного сердечного приступа проклятого нациста, и Тодд еще удивился, как ловко у него все вышло, учитывая полное отсутствие опыта… Наверное, примерно так новичок-питчер отлично про-
водит свой первый бейсбольный матч, когда его вдруг неожиданно выпускают на поле. Просто не перегорел заранее из-за нервотрепки и комплексов.
Раньше Тодд всегда чувствовал, когда девушка для себя решает, что на следующем свидании уже можно уступить. Он отлично понимал, что при его внешности и перспективах являлся желанной «партией» для дочерей в глазах их похотливых матушек. И как только он ощущал, что девушка готова на все, тут же переключался на другую. Мало того, Тодд признавался себе, что, случись ему встретить по-настоящему фригидную девушку, он бы с удовольствием крутил с ней роман долгие годы. А может, даже и женился.
Но с Бетти все прошло на удивление гладко: в отличие от него она не была девственницей. Она помогла ему войти в нее, причем это было как нечто само собой разумеющееся. И в самый разгар соития она, не удержавшись, воскликнула: «Как же я обожаю трах!» Причем произнесла это так, будто речь шла о клубнике с мороженым.
Потом их секс – всего они занимались этим пять раз (вернее, пять с половиной, если считать прошлый вечер) – уже не был так хорош. Можно даже сказать, что от раза к разу он ухудшался… хотя Бетти вряд ли об этом догадывалась (по крайней мере до последнего случая). Мало того, она даже считала, что ей повезло заполучить «жеребца» своей мечты.
Тодда не охватывали чувства, которые по идее он должен был испытывать в такие моменты. При поцелуях ее губы напоминали ему сырую теплую печенку, а язык во рту наводил на мысли о кишащих на нем бактериях. Ему даже казалось, что он ощущает похожий на хром вкус ее пломб – металлический и неприятный. Груди – обычные куски мяса. Не более того.
До сердечного приступа Дюссандера он занимался с ней сексом еще дважды, и каждый раз у него возникали проблемы с эрекцией. В конце концов ему удавалось возбудиться, подключив воображение. Он представил, что Бетти раздевают на глазах у знакомых и она плачет. Он водит ее между ними и приговаривает: «Покажи им свои груди! А теперь – лохматку, грязная шлюха! А ну-ка наклонись и раздвинь ягодицы! Вот так!»
Восторг Бетти был вполне объясним. Тодд оказался отличным любовником, причем не вопреки, а благодаря своим проблемам. При наличии эрекции следовало довести дело до оргазма. Во время четвертого раза – через три дня после сердечного приступа Дюссандера – Тодд обрабатывал Бетти больше десяти минут. Ей показалось, что она умерла и попала в рай. Она уже испытала три оргазма и пыталась достичь четвертого, когда Тодд вдруг припомнил свой сон. На столе – связанная и беспомощная девушка. Огромный фаллопротез. Резиновая груша для подкачки воздуха. Только теперь у девушки на столе, мокрой от пота и теряющей рассудок от желания испытать оргазм и положить конец этой бесконечной пытке, оказалось лицо Бетти. Эта мысль спровоцировала безрадостное извержение, которое, как решил Тодд, по крайней мере технически, и было его оргазмом. А через мгновение Бетти уже с благодарностью шептала ему на ухо:
– Любимый, это было потрясающе! Я твоя навеки. Днем и ночью. Только скажи.
Тодд едва не застонал.
Его волновал вопрос: пострадает ли его репутация, если он порвет с девчонкой, которая сама вешается ему на шею? Он пришел к выводу, что нет. Вспомнил, как однажды случайно услышал разговор двух старшеклассников, когда проходил мимо них по коридору. Один сказал, что порвал с подругой, и на вопрос почему ответил: «Натрахался до отвала!» – после чего оба похотливо засмеялись.
Если и его спросят, почему он ее бросил, скажет, что натрахался. А если она разболтает, что было всего пять раз? Этого хватит? Сколько на самом деле надо?.. И как это воспримут?..
Мысли лихорадочно вертелись в голове, то и дело упираясь в тупик, как голодные крысы, мечущиеся в лабиринте. Тодд понимал, что раздувает до небес несуществующую проблему, и одно это уже свидетельствовало о плачевности его состояния. Однако сил справиться с этим не было, и Тодд погрузился в мрачную депрессию.
Колледж! Вот реальный выход. Он сможет порвать с Бетти так, что ни у кого не возникнет никаких вопросов. Но до сентября еще столько ждать!
На пятый раз Бетти потребовалось почти двадцать минут, чтобы довести его до эрекции, но она не сдавалась, зная, что ее усилия вознаградятся сторицей. Однако на шестой раз он так и не смог возбудиться вообще!
– Да что с тобой такое? – наконец не выдержала Бетти. После двадцати минут безуспешных попыток оживить его вялый пенис она потеряла терпение. – Может, тебе больше нравятся мальчики?
Он чуть не придушил ее на месте. Окажись у него в руках «винчестер»…
– Вот это новость! С ума сойти! Поздравляю, сын!
– Что? – очнулся Тодд от мрачных раздумий.
– Тебя включили в список юных спортивных звезд Южной Калифорнии! – Отец буквально сиял от гордости и удовольствия.
– Правда? – Тодд даже не сразу понял, о чем речь, и попытался вникнуть в смысл сказанного. – Да, тренер Холлер говорил в конце года, что послал документы на меня и Билли Делайонса. Но я не думал, что из этого что-то выйдет.
– Господи, ты как будто даже не рад!
– Просто… еще не осознал. – Он с трудом изобразил улыбку.
Какая, к черту, разница?
– А можно, я сам прочитаю?
Отец передал ему через стол газету и поднялся:
– Пойду разбужу Монику. Она должна это увидеть до нашего отъезда!
Только не это! Если они окажутся тут вдвоем, я этого не вынесу!
– Не стоит. Ты же знаешь – она потом ни за что не заснет. Мы оставим газету на видном месте.
– Да, думаю, ты прав. У нас вырос очень заботливый сын. – Отец одобрительно похлопал Тодда по спине, и он, закрыв глаза, недовольно передернул плечами. Дик засмеялся и отошел. Тодд бросил взгляд на газету.
Заголовок гласил: «Четыре юноши признаны юными спортивными звездами Южной Калифорнии». Внизу были их фото-
графии в бейсбольной спортивной форме: кетчера и левого принимающего из команды школы «Фэрвью», чернокожего парня из Маунтфорда, а справа – Тодда с широкой улыбкой. В статье говорилось, что Билли Делайонс попал во второй состав. Хоть что-то приятное! Делайонс мог врать сколько угодно, что их семья – методисты, но Тодда ему было не провести. Он отлично знал, кем тот являлся на самом деле. Может, его стоит познакомить с Бетти Траск, тоже жидовкой. Он долго размышлял насчет нее, а в ту ночь пришел к однозначному выводу. Траски, конечно, выдавали себя за белых. Но достаточно присмотреться к ее носу и оттенку кожи, а у ее отца эти признаки особенно бросались в глаза, и последние сомнения исчезали. Поэтому, наверное, Тодд так и не смог возбудиться. Все очень просто: пенис почувствовал это еще до того, как осознал мозг. Кого они хотят обмануть, что их фамилия Траск?
– Еще раз поздравляю, сын!
Тодд поднял глаза и увидел широко улыбающегося отца, протягивающего руку.
Твой приятель Траск – жид! – едва не сказал он. Вот почему прошлым вечером у меня случился облом с его дочерью! И тут же он услышал внутренний голос – решительный и холодный, – который не раз приводил его в чувство, ставя заслон вспышке безумия: Возьми себя в руки немедленно!
Тодд пожал отцу руку и скромно улыбнулся:
– Спасибо, пап!
Они оставили газету для Моники на столе, приложив записку, которую Тодд написал по настоянию отца и подписался: «Твой звездный сын Тодд».
22
Эд Френч – он же Надсмотрщик, он же Кедоносец, он же Калоша Эд – находился в маленьком и живописном приморском городке Сан-Ремо, где проходила конференция школьных наставников-психологов. Вообще-то толку от нее не было никакого, потому что все участники соглашались только в одном:
сколько психологов, столько и мнений, и прийти к единому невозможно в принципе. Эду с лихвой хватило первого дня, чтобы смертельно заскучать от бесконечных докладов, семинаров и обсуждений, а к середине второго он пришел к выводу, что из прилагательных «маленький», «живописный» и «приморский» самым подходящим для Сан-Ремо было «маленький». Даже чудесные виды и буйная растительность не компенсировали отсутствие кинотеатра и боулинга, а желания убивать время в единственном на город баре Эд не имел. На неухоженной парковке стояли покрытые пылью пикапы со стикерами в поддержку Рейгана, наклеенными на ржавые бамперы и задние откидные борта. Эд не боялся, что в баре его станут задирать, но не испытывал ни малейшего желания лицезреть весь вечер парней в ковбойских шляпах и слушать кантри в исполнении Лоретты Линн, пластинок которой обычно полно в музыкальных автоматах.
На третий день конференции, растянутой на немыслимые четыре дня, Эд сидел в 217-м номере отеля «Холидей-Инн». Телевизор барахлил, а из ванной тянуло неприятным запахом. Жена и дочь остались дома. В бассейн при гостинице он не ходил, стесняясь обострившейся экземы – все голени были покрыты сыпью, похожей на проказу. До семинара на тему «Помощь детям с проблемами речи» (имелись в виду дети с волчьей пастью и заиканием, но Боже упаси назвать вещи своими именами!) оставался еще целый час. Перекусив в единственном ресторанчике Сан-Ремо, Эд понял, что спать не хочет, а по телевизору, не желавшему переключаться на другие каналы, повторяли очередные выпуски сериала «Моя жена меня приворожила».
Он прилег с телефонной книгой на кровать и принялся бесцельно ее листать, прекрасно понимая, что вряд ли кому-то из его знакомых придет в голову поселиться в Сан-Ремо при всех достоинствах этого замечательного уголка, если, конечно, они окончательно не сошли ума. Эд не сомневался, что все скучающие постояльцы отелей сети «Холидей-Инн» по всему миру рано или поздно обязательно брали в руки телефонную книгу в надежде натолкнуться на какого-нибудь давно забытого друга или родственника, проживавшего неподалеку. Альтернативой
был только сериал «Моя жена меня приворожила» или бесплатный экземпляр Библии в номере. Но что можно сказать, позвонив? «Привет, Фрэнк? Как дела, старина?» Ну конечно! Как будто собеседник все эти годы только и ждал, когда ты наконец объявишься!
И все же, пока он перелистывал тонкие белые страницы справочника и проглядывал колонки с именами, его не покидало ощущение, что он слышал про этот город раньше. Может, от книготорговца? Или тут живет племянник или племянница Сондры, которых у нее насчитывалось бесконечное множество? А может, какой-то партнер по покеру в колледже? Или родственник ученика? Уже теплее, но точно вспомнить не удалось.
Он продолжал листать справочник и даже начал подремывать, когда его вдруг осенило: лорд Питер!
Ну конечно!
Совсем недавно по телевизору показывали экранизации романов о Питере Уимзи – «Под грузом улик», «Убийству нужна реклама» и «Девять портных». Они с Сондрой не отрывались от экрана. Детектива-аристократа Уимзи играл актер по имени Йен Кармайкл, и Сондра была от него без ума. Причем настолько, что Эд, по мнению которого Кармайкл совсем не подходил для этой роли, даже разозлился.
– Сэнди, да у него лицо совершенно другое! И к тому же вставные зубы!
– Подумаешь! – беззаботно отозвалась Сондра с дивана, в углу которого уютно пристроилась. – Ты просто ревнуешь! Он такой милый!
– Папа ревнует! Папа ревнует! – запрыгала по комнате маленькая Норма в пижаме с утятами.
– А ты вообще давным-давно должна быть в постели! – раздраженно напомнил Эд. – И если не прекратишь, то сразу туда отправишься!
Маленькая Норма, смутившись, притихла. Эд повернулся к Сондре:
– Года три-четыре назад ко мне приходил дед одного ученика по имени Тодд Боуден. Вот он был вылитый Уимзи! Сильно постаревший, но лицо – точно его и…
– Уим-зи, Уим-зи, Дим-зи, Джим-зи, – пропела маленькая Норма. – Уим-зи, Дим-зи, тра-ля-ля-ля-ля…
– Перестаньте, вы оба! – сказала Сондра. – По-моему, он очень красив!
И что тут скажешь? Женщины – одно слово!
А разве дед Тодда Боудена был не из Сан-Ремо? Точно! Тодд начал тогда учебный год очень хорошо, а потом вдруг скатился на двойки. Старик приехал, рассказал обычную историю о семейных неурядицах и попросил дать внуку шанс на исправление и какое-то время не предпринимать никаких репрессивных мер. Эд считал, что толку от наказаний все равно не будет, но старик умел убеждать (может, потому, что был похож на Уимзи), и воспитатель согласился подождать пару месяцев. А Тодд сумел выкарабкаться! Эд даже представить не мог, каким образом старику удалось все уладить в семье. Но выглядел он человеком жестким и способным не только принять крутые меры, но и сделать это с удовольствием. А буквально пару дней назад Эд увидел в газете фотографию Тодда, которого признали восходящей звездой бейсбола Южной Калифорнии. Это дорогого стоит, ведь отбор происходит примерно из пятисот мальчишек, которые включаются в заявку тренерами. Не попадись Эду на глаза фотография Тодда, он бы ни за что не вспомнил, как зовут деда его бывшего подопечного.
Теперь он листал справочник уже целенаправленно и вскоре нашел нужную строчку: «Боуден, Виктор, 403, Ридж-лейн». Эд набрал указанный номер телефона, но там долго никто не подходил. Он уже собирался повесить трубку, когда послышался старческий голос:
– Алло?
– Здравствуйте, мистер Боуден. Это Эд Френч. Из младшей средней школы Санта-Донато.
– Слушаю? – В голосе звучал только вежливый интерес, не более того. Было ясно, что старик его не узнал. Что ж, прошло целых четыре года, и удивляться тому, что Боуден запамятовал, не приходилось – годы берут свое.
– Вы не помните меня, сэр?
– А должен? – осторожно осведомился Боуден, и Эд улыбнулся. У старика явно проблемы с памятью, и он не хочет, что-
бы об этом знали другие. Его собственный отец вел себя точно так же, когда стал хуже слышать.
– Я был воспитателем вашего внука, когда он учился в младшей средней школе Санта-Донато. И звоню поздравить. В старшей школе он стал настоящей звездой! И не только в учебе! Недаром его признали лучшим бейсболистом Южной Калифорнии! Подумать только!
– Тодд! – воскликнул старик, моментально оживившись. – Он просто молодец! Второй по учебе в школе! А девочка, которая его обогнала, ходила на дополнительные курсы. – Он презрительно фыркнул: – Мне звонил сын и предлагал приехать на торжество. Но в январе я сломал шейку бедра и сейчас в инвалидном кресле. А появляться там в кресле я не хотел. У меня в гостиной на видном месте висит выпускная фотография Тодда, родители им очень гордятся. И я, конечно, тоже.
– Да, похоже, нам тогда удалось его вытащить из трясины, – заметил Эд, улыбаясь. Но улыбка вышла какой-то неуверенной – он не узнавал деда Тодда по голосу. Правда, после их встречи прошло столько лет…
– «Трясины»? Какой трясины?
– Я о нашей маленькой беседе. Когда у Тодда были проблемы с учебой в девятом классе…
– Не понимаю, о чем вы, – медленно произнес старик. – Мне бы и в голову не пришло просить за сына Ричарда. Да это был бы настоящий скандал! Вы даже представить не можете, какой! Вы ошиблись, молодой человек.
– Но…
– Наверняка ошиблись. Просто перепутали нас с Тоддом с каким-то другим учеником и его дедушкой.
Эд опешил. Впервые в жизни он не находил слов. Если кто-то что-то и напутал, то уж точно не он!
– Что ж, – с сомнением произнес Боуден. – Спасибо за звонок, мистер…
Эд наконец обрел дар речи:
– Я сейчас в вашем городе, мистер Боуден. Тут проходит конференция школьных наставников-психологов. Завтра около десяти после заключительного доклада я освобождаюсь. Вы
не позволите мне приехать… – Он сверился с адресом в телефонной книге, – …на Ридж-лейн для короткой встречи?
– С какой целью?
– Просто кое-что уточнить. Понятно, дело прошлое, но четыре года назад Тодд запустил учебу и его дела были настолько плохи, что я послал с табелем записку, в которой просил о встрече с кем-нибудь из родителей, а лучше – с обоими. В результате явился его дедушка – очень приятный пожилой мужчина, назвавшийся Виктором Боуденом.
– Но я уже говорил вам…
– Да-да, конечно. Но я все-таки разговаривал с человеком, который представился дедушкой Тодда. Сейчас, конечно, это не важно, но мне бы хотелось убедиться, что это были не вы. Я отниму у вас буквально несколько минут, тем более что обещал вернуться домой к ужину.
– Уж чего-чего, а свободного времени у меня сейчас сколько угодно, – с грустью отозвался Боуден. – Я буду дома весь день. Приезжайте.
Эд поблагодарил его и, попрощавшись, повесил трубку. Потом присел на край кровати и задумчиво уставился на телефон. Через некоторое время он встал и вытащил из куртки пачку сигарилл «Филлис». Нужно идти на семинар, иначе его обязательно хватятся. Он закурил, чиркнув спичкой из коробки с логотипом отеля, и аккуратно положил ее в пепельницу с таким же логотипом.
Сказав Боудену, что за давностью лет это все не имеет значения, Эд покривил душой – для него это было важно. Он не привык, чтобы его водили за нос ученики, и чувствовал себя уязвленным. Теоретически еще оставалась возможность, что Боуден страдал старческим маразмом, но собеседник отнюдь не производил такого впечатления. И сам Френч тоже был в здравом уме.
Неужели Тодд Боуден провел его?
Такая возможность не исключалась. При своих способностях Тодду не составило бы труда провести любого. Он запросто мог подделать подпись родителей в табеле с двойками. Двоечники нередко проявляли недюжинные способности к мошенничеству, когда получали плохие табели. А отметки за вторую и
третью четверти можно исправить, чтобы показать родителям, а потом аккуратно восстановить прежние, и классный руководитель ничего не заподозрит. Конечно, такая двойная подтирка при внимательном рассмотрении была бы замечена, но на одного учителя приходилось в среднем шестьдесят учеников, так что до первого урока преподаватели с трудом успевали даже бегло просмотреть сданные табели, чтобы убедиться: родители их видели и расписались.
Что же до общего количества набранных за учебу баллов, оно оказалось очень даже приличным, поскольку Тодд компенсировал неуды хорошей успеваемостью по другим предметам, а за двенадцать четвертей, за которые выставлялись баллы, он отставал лишь на протяжении двух. А многие ли родители находят время зайти в школу и проверить, как на самом деле учатся их дети? Особенно если дети на таком хорошем счету, как Тодд Боуден?
Эд Френч нахмурился, что бывало крайне редко.
Теперь, конечно, все это не очень и важно. Но ему хотелось докопаться до правды. Успехи Тодда в учебе не вызвали сомнений – незаслуженно набрать 94 балла просто невозможно. В газете говорилось, что Тодд собирается продолжить учебу в Беркли. Наверняка родители им очень гордятся, и это понятно. Эд с грустью наблюдал за падением нравов в Америке: люди все чаще стремились преуспеть любой ценой, шли на мошенничество, употребляли наркотики, проповедовали сексуальную вседозволенность. И родителям было чем гордиться, если их ребенок сумел противостоять столь печальным тенденциям.
Даже если Тодд тогда пошел на обман, теперь это было не важно… Но кто, черт возьми, был тем проклятым дедом?
Эта загадка не давала Эду покоя. Кто?! Может, Тодд обратился в местный офис Гильдии актеров кино и повесил там на доске объявление? Что-то вроде «Отстающему ученику требуется актер 70–80 лет, чтобы сыграть роль его деда. Оплата по действующим расценкам гарантируется»? Нет, вряд ли. Какой взрослый решится на участие в подобной афере? И чего ради?
Эд Френч – он же Надсмотрщик, он же Кедоносец, он же Калоша Эд – не находил ответа. А поскольку это действитель-
но было не важно, он затушил сигариллу и направился на семинар. Но на душе у него было неспокойно.
На следующий день он поехал на Ридж-лейн и имел продолжительную беседу с Виктором Боуденом. Они обсудили разные сорта винограда, трудности мелких торговцев, которые могли конкурировать с сетевыми супермаркетами, положение заложников в Иране (тем летом это обсуждали все) и даже политический климат в Южной Калифорнии. Мистер Боуден предложил Эду выпить бокал вина. Тот с удовольствием согласился, хотя было всего десять сорок утра. Виктор Боуден походил на Питера Уимзи не больше, чем пулемет на дубинку. Он говорил без всякого акцента, запомнившегося Эду, и оказался довольно тучным, а старик, выдавший себя за деда Тодда, отличался болезненной худобой.
Перед отъездом Эд сказал:
– Буду вам очень признателен, если вы не станете рассказывать о моем визите мистеру и миссис Боуден. Наверняка существует какое-то очень простое объяснение… а даже если и нет, то все это уже в далеком прошлом.
– Иногда, – заметил Боуден, поднимая бокал с красным вином и любуясь его насыщенным цветом, – прошлое никак не дает о себе забыть. Иначе зачем люди изучают историю?
Эд неловко улыбнулся и промолчал.
– Но можете не беспокоиться. Я никогда не вмешиваюсь в дела Ричарда. И Тодд – хороший мальчик. Один из лучших учеников, разве не так?
– Вы абсолютно правы, – согласился Эд и попросил еще вина.
23
Сон Дюссандера был неспокойным – его мучили ночные кошмары.
…Их были тысячи и миллионы. Они выбегали из джунглей и бросались на уже опасно накренившуюся ограду из колючей проволоки, по которой был пропущен ток. В отдельных местах проволока порвалась, и ее концы извивались по утрамбован-
ному плацу, исторгая синие искры. Конца узникам было не видно – они все шли и шли! Фюрер оказался таким же сумасшедшим, как и Роммель, если действительно считал, что проблему евреев можно решить окончательно. Их были миллиарды, они заполняли всю Вселенную, и все хотели его крови…
– Просыпайся, старик! Дюссандер! Просыпайся, пора!
Сначала он решил, что его зовут во сне.
К нему обращались по-немецки. Наверняка это сон, чем и объяснялся тот невыразимый ужас, который охватил Дюссандера. Если проснуться, можно будет спастись. И старик усилием воли сбросил оковы сна.
Но человек, сидевший возле кровати верхом на стуле, был не из сна, а вполне реальным.
– Просыпайся, старик, – повторил посетитель, которым оказался сравнительно молодой человек не старше тридцати лет. За стеклами очков в простой металлической оправе внимательный взгляд темных глаз. Довольно длинные каштановые волосы падали на воротник рубашки, и сначала Дюссандер даже подумал, что это загримированный Тодд. Однако он ошибался, и молодой человек был одет в старомодный синий костюм, явно неуместный в жарком калифорнийском климате. На лацкане пиджака поблескивал маленький значок. Явно серебряный, а серебро, как известно, убивает вампиров и оборотней. Значок в форме шестиугольной звезды Давида.
– Вы ко мне обращаетесь? – спросил Дюссандер по-немецки.
– К кому же еще? Никого другого тут нет.
– А где Хайзел? Да, его вчера выписали.
– Проснулся?
– Конечно. Только вы меня с кем-то перепутали. Меня зовут Артур Денкер. Наверное, вы ошиблись палатой.
– Моя фамилия Вайскопф. А тебя зовут Курт Дюссандер.
Дюссандер хотел облизнуть губы, но не смог. Наверное, сон
все еще продолжался. Что ж, дайте мне еще одного бродягу и нож поострее, и я избавлю свои сны от таких видений, как этот мистер Звезда Давида в Петлице.
– Я не знаю никакого Дюссандера, – вежливо сообщил он посетителю. – Я вас не понимаю. Мне вызвать сестру?
– Ты все отлично понимаешь, – возразил Вайскопф, отбрасывая со лба прядь волос. Прозаичность этого жеста окончательно лишила Дюссандера еще теплившейся надежды, что он продолжал видеть сон. – Хайзел, – сказал Вайскопф и показал на пустую кровать.
– Хайзел, Дюссандер, Вайскопф… Все эти фамилии мне ни о чем не говорят.
– Хайзел упал со стремянки, когда прибивал под крышей водосток, – пояснил Вайскопф. – Он сломал позвоночник, и, не исключено, больше никогда не сможет ходить. Вот такое несчастье. Но в его жизни оно было не единственным. Во время войны он был узником Патэна, где потерял жену и двух дочерей. А комендантом лагеря был ты.
– Да вы с ума сошли! – возмутился Дюссандер. – Меня зовут Артур Денкер. Я приехал в Америку после смерти жены. А до этого я был…
– Хватит рассказывать сказки! – остановил его Вайскопф жестом руки. – Он не забыл твое лицо. Это лицо! – Жестом фокусника, демонстрирующего новый трюк, Вайскопф махнул неизвестно откуда взявшейся фотографией. Одной из тех двух, что показывал мальчик несколько лет назад. Молодой Дюссандер в щегольски сдвинутой набок фуражке и с офицерской тросточкой под локтем.
Дюссандер перешел на английский и произнес, медленно и четко выговаривая каждое слово:
– Во время войны я работал слесарем на заводе. Занимался производством приводных блоков и силовых агрегатов для бронеавтомобилей и грузовиков. Потом меня перевели на изготовление танков «Тигр». Я был в запасе, и меня призвали под ружье для обороны Берлина, где я сражался, хотя и недолго. А после войны я работал на машиностроительном заводе в Эссене, пока…
– …пока не настала пора бежать в Южную Америку. Со своим номерным счетом в швейцарском банке, золотом, переплавленным из коронок евреев, и серебром из отнятых у них украшений. Мистер Хайзел отправился домой счастливым человеком. Он, конечно, пережил настоящий шок, когда, проснувшись ночью, понял, кто его сосед по палате на самом деле. Но теперь ему намного лучше. Он считает, Господь одарил его величайшей
милостью, ведь в результате перелома позвоночника удалось обнаружить одного из самых жестоких преступников, которых знало человечество, и тому не удастся избежать возмездия.
Дюссандер снова заговорил медленно и четко:
– Во время войны я работал слесарем на заводе…
– Ты еще не понял? Твои бумаги не выдержат серьезной проверки. Ты сам это знаешь, и я это знаю! Ты попался!
– Я занимался производством…
– …трупов! В любом случае ты окажешься в Тель-Авиве еще до Рождества. На этот раз мы встречаем полное понимание со стороны властей, Дюссандер. Американцы очень хотят сделать нам приятное, а твой арест попадает как раз в эту категорию.
– …приводных блоков и силовых агрегатов для бронеавтомобилей и грузовиков. Потом меня перевели на изготовление танков «Тигр».
– К чему эти ненужные отпирательства?
– Я был в запасе, и меня призвали…
– Ладно, пусть так. Я еще вернусь. И очень скоро.
Вайскопф поднялся и вышел из палаты. На мгновение на
стене застыла его тень, но тут же исчезла. Дюссандер закрыл глаза. Неужели американцы его выдадут? Три года назад, когда в Америке ощущались перебои с нефтью, он бы поверил в это сразу. Да и сейчас из-за безумных иранских фанатиков американцы спешно укрепляли связи с Израилем. Его запросто могут выдать. И что это означало?
Так или иначе, официально или нет, но Вайскопф и его коллеги до него наверняка доберутся. По отношению к нацистам их позиция была всегда непреклонной, а уж если речь заходила о концлагерях, они вообще шли напролом.
Дюссандера била дрожь. Но он знал, что должен сделать.
24
Архивные материалы по учащимся младшей средней школы Санта-Донато хранились в старом складском здании на севере города неподалеку от заброшенного депо. В сумрачном по-
мещении гуляло гулкое эхо и пахло воском, мастикой и хлоркой.
Эд Френч прибыл туда около четырех часов дня в сопровождении Нормы. Впустивший их вахтер сказал, что необходимые Эду материалы находятся на четвертом этаже, и проводил их до места. Зловещее эхо, далеко разносившее звуки их шагов, заставило испуганно притихнуть даже никогда не унывающую Норму.
Она обрела привычную жизнерадостность только на четвертом этаже и стала весело скакать по сумеречным проходам, заставленным коробками и папками, пока Эд искал табели за 1975 год. Он вытащил вторую коробку и принялся перебирать ее. Борк. Ботсуик. Босвелл. Боуден Тодд! Он быстро вытащил табель и, поняв, что при тусклых лампах все равно ничего не разберет, подошел к большому окну с пыльными стеклами.
– Не бегай здесь, милая! – крикнул он дочери.
– А почему?
– Потому что тебя схватят тролли, – ответил он и поднес табель Тодда к свету.
То, что оценки в этом табеле четырехлетней давности аккуратнейшим образом подчистили, сомнений не было.
– Боже милостивый! – пробормотал ошарашенный Эд.
– Тролли! Тролли! Тролли! – радостно выкрикивала Норма, прыгая и кружась по проходу.
25
Дюссандер, с трудом передвигая ноги, медленно брел по коридору больницы. На нем был синий больничный халат, надетый поверх сорочки с завязками на спине. Время – восемь вечера, и медсестры как раз менялись перед ночной сменой. Примерно полчаса они будут обмениваться новостями, сплетничать и пить кофе на посту дежурной, сразу за углом от питьевого фонтанчика.
То, что Дюссандеру было нужно, располагалось напротив фонтанчика.
На него самого никто не обращал внимания – в это время коридор больницы напоминал длинную платформу перед отправлением поезда. Ходячие пациенты неспешно прогуливались: кто в синих халатах, кто в больничных сорочках, придерживая полы за спиной руками. Из палат доносились обрывки музыки из радиоприемников, настроенных на разные станции. Изредка попадались посетители. В одной палате кто-то громко смеялся, а в другой – горько плакал. Проследовал доктор, уткнувшись носом в раскрытый роман.
Дюссандер подошел к фонтанчику, напился из ладони и, вытерев губы, бросил взгляд на закрытую дверь напротив. Она всегда должна была быть запертой… во всяком случае, так полагалось. Однако он обратил внимание, что во время пересменки это помещение часто пустовало, а дверь оказывалась незапертой. Медсестры собирались за углом, откуда двери видно не было. Дюссандер отметил это натренированным взглядом человека, постоянно находящегося настороже. Конечно, было бы лучше понаблюдать за комнатой еще с недельку и подстраховаться на случай разных неожиданностей, и он наверняка бы именно так и поступил, но теперь следовало действовать безотлагательно. О тайном «логове оборотня» вот-вот станет известно всем, и он окажется под постоянным присмотром. Допустить такое нельзя.
Он сделал еще пару глотков, снова вытер губы и осмотрелся. Затем, не таясь, медленно пересек большой коридор и направился к двери, повернул ручку и вошел в комнату, где хранились лекарства. На случай встречи с кем-то Дюссандер – близорукий старик – смущенно извинился бы, пояснив, что всего лишь искал туалет и ошибся дверью.
Но на складе никого не было.
Дюссандер бросил быстрый взгляд на верхнюю полку слева. Только глазные и ушные капли. На второй полке – слабительное и свечи. На третьей он заметил снотворное секонал и веронал. Сунув пузырек со снотворным в карман, Дюссандер вышел из комнаты, смущенно улыбаясь – здесь не было никакого туалета! Да вот же нужная дверь – возле фонтанчика! Как глупо!
Он прошел в туалет, вымыл руки и направился в свою палату, ставшую одноместной после выписки достопочтенного мистера Хайзела. На столике между кроватями стоял пластмассовый кувшин с водой и стакан. Жаль, что в такой момент под рукой не оказалось виски, но это не так важно – таблетки благополучно перенесут его в мир иной независимо от того, чем их запить.
– За тебя, Моррис Хайзел! – произнес он с едва заметной улыбкой и налил в стакан воды. После стольких лет вечного страха и постоянного напряжения, когда кругом – на скамейках в парке, в ресторане, в кино, – всюду мерещились знакомые лица, он наконец попался! И кто его узнал? Человек, которого он совсем не помнил. Даже смешно! Этот Хайзел даже не удостоился его внимания – подумаешь, неудачник, которого Господь наградил сломанным позвоночником. Подумав, Дюссандер пришел к выводу, что это не просто смешно, а очень смешно.
Старик положил в рот три таблетки и запил водой. Затем проглотил еще три, а потом еще. В коридоре напротив два пожилых мужчины играли в криббидж[24]. У одного из них, он знал, была грыжа. А у другого? Желчные камни? Камни в почках? Опухоль? Простата? Вот они – ужасы старости. И несть им числа.
Дюссандер снова налил в стакан воды, но еще таблеток пока пить не стал. Слишком большая доза могла все испортить. Его просто вырвет, а потом ему промоют желудок и сохранят жизнь для разных мерзостей, которые уготовят американцы с израильтянами. Он вовсе не собирался расставаться с жизнью, как какая-нибудь hausfrau[25], которая в порыве отчаяния истерично глотает пригоршню таблеток. Он примет еще, когда почувствует сонливость. Тогда все сработает как надо.
До него донесся торжествующий голос одного из игроков в холле:
– Две пары – это десять очков… «Пятнадцать» – еще восемнадцать… и нужный валет для девятнадцати! Как тебе это?
– Я бы на твоем месте подождал радоваться! – осадил его старик с грыжей. – Я первым считаю очки. Так что поминай, как звали!
«Поминай, как звали», – мысленно повторил Дюссандер, чувствуя, как его начинает одолевать сонливость. До чего же американцы любят всякие выражения типа «мне до фени», «шевели мозгами», «засунь себе в задницу», «деньги все могут». Просто удивительно…
Они думают, что уже поймали его, а он ускользнет у них прямо из-под носа, и «поминай, как звали»!
Вопреки всякому здравому смыслу Дюссандеру вдруг ужасно захотелось написать записку мальчику. Пожелать ему никогда не терять осторожности. Послушать старика, который попался по своей неосмотрительности. Ему хотелось добавить, что в конце концов мальчик заслужил его, Дюссандера, уважение. И хотя старик никогда не смог бы полюбить его, их беседы были намного лучше одиночества с одними и теми же вечными мыслями. Но любая записка, даже самого невинного содержания, могла вызвать ненужные подозрения и поставить мальчика под удар, а этого Дюссандер не хотел допустить ни в коем случае. Само собой, парнишке предстоит провести пару непростых месяцев в ожидании визита какого-нибудь правительственного агента с вопросами о документе, найденном в депозитной ячейке, абонированной Куртом Дюссандером на имя Артура Денкера… Но со временем он убедится, что старик говорил правду и никакой ячейки не было. Мальчишке ничего не угрожало, если он сам себя чем-нибудь не выдаст.
Дюссандер протянул руку, которая, казалось, стала необыкновенно длинной, взял стакан и проглотил еще три таблетки. Потом поставил стакан, закрыл глаза и устроился на мягкой подушке поудобнее. Никогда прежде он не чувствовал такой сонливости. Его сон будет долгим. И принесет долгожданное успокоение.
Если, конечно, в нем не будет кошмаров.
Эта мысль привела его в ужас. Кошмары? Господи, только не это! Только не сводившие его с ума кошмары! Ведь проснуться уже будет нельзя! Ни за…
Охваченный ужасом, он попытался сбросить оковы сна. Со всех сторон прямо из кровати к нему уже тянулись худые руки с жадно хватавшими воздух пальцами.
Нет!
Клубок рвавшихся в разные стороны мыслей вдруг провалился в темную шахту и полетел, постоянно ускоряясь и раскручиваясь по спирали, вниз, в чернеющую пустоту неизвестности…
Отравление от передозировки обнаружили в 1:35 ночи, и через пятнадцать минут констатировали смерть. Дежурная медсестра была молодой, и Дюссандер ей даже нравился своей неизменной обходительностью с налетом иронии. Не в силах сдержать слезы, она расплакалась. Будучи католичкой, девушка никак не могла понять, почему такой приятный старик, уже шедший на поправку, вдруг решился на столь ужасный поступок и обрек свою бессмертную душу на вечные муки в аду.
26
В субботу утром Боудены встали около девяти часов. В половине десятого семья собралась на кухне. Моника, так до конца и не проснувшаяся, молча готовила на завтрак омлет, сок и кофе, а Тодд с отцом читали каждый свое: сын – научно-фантастический роман, а отец – журнал по архитектуре. За дверью послышался шлепок – доставили газету.
– Хочешь, я принесу, пап?
– Я сам.
Дик сходил за газетой, сделал глоток из кружки с кофе и, взглянув на первую полосу, поперхнулся.
– Дик, что с тобой? – встревожилась Моника.
Закашлявшись, Дик показал, что кофе попал не в то горло.
Тодд снисходительно на него посмотрел поверх раскрытой книги, а Моника принялась стучать мужу по спине. После третьего удара ее взгляд упал на газету, и она застыла на месте, как в игре «замри-отомри». Глаза ее округлились, и, казалось, вот-вот выскочат из орбит.
– Боже милостивый! – наконец с трудом выдавил Дик Боуден.
– Но ведь это… Не может быть… – начала Моника и осеклась, бросив взгляд на Тодда. – Милый…
Дик Боуден тоже смотрел на сына.
Тодд, встревожившись, поднялся и сделал шаг к отцу.
– Да что случилось?
– Мистер Денкер, – ответил отец и замолчал, не зная, что добавить.
Тодд увидел заголовок и все сразу понял. Огромные буквы кричали: «БЕГЛЫЙ НАЦИСТ ПОКОНЧИЛ С СОБОЙ В БОЛЬНИЦЕ». Внизу две фотографии – обе Тодд видел раньше. Одна была сделана шесть лет назад уличным фотографом, и Артур Денкер на всякий случай ее выкупил, чтобы она никому не попала на глаза. На другой был снят Курт Дюссандер в эсэсовской форме: фуражка щегольски сдвинута набок, под локтем – офицерская тросточка.
Если нашли снимок уличного фотографа, значит, побывали у него дома.
Тодд быстро пробежал глазами статью, лихорадочно соображая. Об убитых бродягах пока ни слова! Но их тела обязательно найдут, и газеты тогда взорвутся заголовками: «КОМЕНДАНТ ПАТЭНА ОСТАЛСЯ ВЕРЕН СЕБЕ!», «УЖАСНАЯ НАХОДКА В ПОДВАЛЕ НАЦИСТА! ОН ПРОДОЛЖАЛ УБИВАТЬ!».
Тодд покачнулся – земля уходила у него из-под ног.
Откуда-то издалека донесся отчаянный крик матери:
– Держи его, Дик! Он падает!
Падает! Падает! Падает!
Это слово закрутилось в голове, будто на нем заело пластинку. Тодд смутно почувствовал, как отец подхватил его. Перед глазами все поплыло, и он потерял сознание.
27
Эд Френч откусил от плюшки и развернул газету. Увидев первую полосу, он едва ли не подавился.
– Эдди! – встревожилась Сондра Френч. – С тобой все в порядке?
– Папа подавился! Папа подавился! – торжественно пропела маленькая Норма и с удовольствием стала помогать матери стучать Эду по спине. Тот не обращал на них внимания, не в силах отвести изумленный взгляд от газеты.
– Да что с тобой? – снова спросила Сондра.
– Это он! Он! – закричал Эд, с силой тыча пальцем в фотографию. – Тот самый человек! Лорд Питер!
– Да о чем ты…
– Это дед Тодда Боудена!
– Что? Военный преступник? Да ты с ума сошел!
– Это точно он! – почти простонал Эд. – Господи Боже, никаких сомнений!
Сондра Френч долго разглядывала фотографию.
– На Питера Уимзи совсем не похож! – пришла она к выводу.
28
Тодд, бледный как мел, сидел на диване между родителями.
Напротив располагался вежливый седовласый полицейский по имени Риклер. Дик предложил позвонить в полицию, но Тодд сказал, что сделал это сам, и его голос, когда он говорил, был ломающимся, как у подростка.
Теперь же Тодд говорил безучастно и монотонно, чем до смерти пугал Монику. Ему должно было скоро исполниться восемнадцать, но во многих отношениях он оставался еще совсем мальчишкой. Такой шок не мог не сказаться на мальчике.
– Я читал ему… даже не знаю… «Тома Джонса» Филдинга. «Мельницу на Флоссе» Джордж Элиот. Меня книга не впечатлила. Рассказы Готорна. Я помню, ему особенно понравились «Каменный лик» и «Молодой Браун». Начали «Записки Пиквикского клуба», но потом бросили. Он сказал, что Диккенс смешнее всего, когда рассуждает серьезно, а Пиквик вообще
похож на котенка. Он так и выразился. Наверное, самой лучшей книгой был «Том Джонс». Она нам обоим понравилась.
– И это было четыре года назад, – уточнил Риклер.
– Да, я заезжал к нему, когда было время, а потом стал учиться в школе в другом конце города. Нас туда возили на автобусе… тренировки… стали больше задавать на дом… в общем… всяких дел прибавилось.
– И свободного времени стало меньше.
– Да, верно. В старших классах заниматься приходиться больше… надо набирать баллы для колледжа.
– Тодд – очень способный ученик, – почти автоматически добавила Моника. – По успеваемости он второй в классе. Мы им очень гордимся.
– Еще бы! – заметил Риклер с понимающей улыбкой. – У меня в школе «Фэрвью», что в конце долины, учатся два сына. Так к ним претензий нет только по физкультуре. – Он повернулся к Тодду: – А когда стал учиться в другой школе, ты уже больше не читал ему?
– Нет. Только иногда – газету. Он спрашивал меня, что в заголовках. Очень следил за скандалом с «Уотергейтом». И всегда интересовался котировками фондовой биржи, а там все напечатано так мелко, что он просто опупевал. Извини, мам.
Она молча погладила его по руке.
– Не знаю, зачем ему нужны были котировки, но он следил за ними.
– У него имелись кое-какие акции, – пояснил Риклер. – И проценты помогали ему сводить концы с концами. Хотите, я вас удивлю? Человек, который помог ему купить акции на чужое имя, был осужден за убийство в конце сороковых! Бывают же совпадения! У Дюссандера в доме нашли пять комплектов удостоверений личности на разные имена. Надо отдать ему должное: заметать следы он умел.
– Наверное, акции он хранил где-нибудь в банке, – заметил Тодд.
– Прошу прощения? – Риклер удивленно приподнял брови.
– Акции, – повторил Тодд, и отец, который сначала тоже удивился, согласно кивнул.
– Сертификаты акций были в ящике под кроватью, – ответил Риклер, – вместе с фотографией, где он снят как Денкер. А у него что – была абонирована депозитная ячейка в банке, сынок? Он говорил об этом?
Тодд, подумав, покачал головой.
– Просто я подумал, что акции должны храниться там. Не знаю… вся эта история… понимаете… у меня просто крыша от нее едет! – Он удрученно покачал головой. Он действительно был потрясен, но постепенно приходил в себя и чувствовал, как напоминает о себе инстинкт самосохранения. Реакция обострилась, и одновременно к нему вернулась способность соображать. Если Дюссандер действительно снял ячейку в банке для хранения своего письма, то не разумно ли было держать в ней и акции тоже? Вместе с фотографией?
– Мы работаем над этим делом вместе с израильтянами, – сказал Риклер. – Неофициально. И попрошу вас не упоминать об этом журналистам, если надумаете с ними разговаривать. Они – настоящие шакалы и умеют вытягивать нужную информацию. С тобой хочет встретиться человек по имени Вайскопф, Тодд. Если ты сам не против, и с согласия родителей, разумеется.
– Я не против, – ответил Тодд, но невольно поежился при мысли, что его будут обнюхивать те же ищейки, что выслеживали Дюссандера последнюю треть его жизни. Дюссандер был о них исключительно высокого мнения, и Тодд напомнил себе, что расслабляться нельзя ни на минуту.
– Мистер и миссис Боуден, вы не возражаете против встречи вашего сына с мистером Вайскопфом?
– Нет, если Тодд согласен, – ответил Дик Боуден. – Но я хотел бы при этом присутствовать. Я читал про то, как действуют агенты МОССАДа…
– Вайскопф – не агент МОССАДа. Он – специальный сотрудник, как их называют израильтяне. Вообще-то он преподает грамматику идиша и – вы не поверите! – английскую литературу. И даже написал два романа, – улыбнулся Риклер.
Дик поднял руку, останавливая его:
– Кем бы он ни был, я не позволю ему давить на Тодда. Судя по тому, что я слышал, эти ребята не очень-то разборчивы в
средствах. И я хочу, чтобы и вы, и этот Вайскопф запомнили раз и навсегда: Тодд всего лишь желал помочь старому человеку и понятия не имел, кем тот являлся на самом деле!
– Все в порядке, пап. – Тодд слабо улыбнулся.
– Я просто рассчитываю на вашу помощь, – пояснил Риклер, – и с уважением отношусь к вашему мнению. Но уверен, вам понравится мистер Вайскопф и вы убедитесь в его тактичности. У меня больше нет вопросов, но я вряд ли выдам тайну, если скажу, что именно интересует израильтян. Тодд был с Дюссандером, когда у того случился сердечный приступ…
– Он попросил приехать и прочитать ему письмо, – вставил Тодд.
– Это нам известно. – Риклер подался вперед и уперся локтями в колени. Галстук выскользнул из пиджака и коснулся пола. – Израильтяне хотят побольше узнать об этом письме. Дюссандер был крупной рыбой, но не единственной, за кем они охотятся. Во всяком случае, так утверждает Сэм Вайскопф, и я ему верю. Они думают, Дюссандер мог знать и о других преступниках. Большинство из тех, кто еще не умер, скорее всего живут в Южной Америке, но кто-то ведь мог поселиться и в других странах. Вы знаете, что арестовали бывшего заместителя коменданта Бухенвальда в фойе гостиницы в Тель-Авиве?
– Да вы что! – Глаза Моники округлились от изумления.
– Именно так! – подтвердил, кивая, Риклер. – Два года назад. Израильтяне не исключают, что письмо, которое Дюссандер просил прочитать Тодда, было написано кем-то из военных преступников. Может, они и правы, а может, и нет. Но в любом случае, они хотят это выяснить.
Тодд, который специально возвращался в дом Дюссандера, чтобы сжечь письмо, сказал:
– Я бы с удовольствием помог вам или этому Вайскопфу, лейтенант Риклер, но письмо было на немецком. И читать его – это было нечто! Я чувствовал себя полным кретином. Мистер Денкер… Дюссандер… очень оживился и просил меня произносить некоторые слова по буквам, поскольку не мог понять, что я говорю. Но смысл он понимал. Помню, один раз даже рассмеялся, сказав: «Да, иначе ты бы и не мог поступить, верно?» А потом добавил что-то по-немецки. Это было минуты за две, за три
до приступа. Что-то вроде Dummkopf. Кажется, по-немецки это «глупый».
Он неуверенно посмотрел на Риклера, но был очень доволен своей складной ложью.
Риклер понимающе кивал:
– Да, мы знаем, что письмо было на немецком. Врач «скорой» слышал твое объяснение и подтверждает его. Но само письмо, Тодд… ты помнишь, что с ним произошло дальше?
Вот оно, подумал Тодд. Теперь они зацепятся!
– Мне кажется, когда приехала «скорая», оно так и лежало на столе. А потом мы все ушли. Под присягой я, конечно, утверждать не смогу, но…
– Мне кажется, письмо было на столе, – вмешался Дик. – Я даже брал его в руки. Обычная почтовая бумага, но что оно на немецком, я не обратил внимания.
– Значит, оно по-прежнему должно быть в доме, – сказал Риклер. – А его не было, и это не дает нам покоя.
– Его нет? В смысле – не было? – удивился Дик.
– Его не было и нет.
– Может, дверь взломали воры, а потом ограбили? – предположила Моника.
– Взламывать никакой необходимости не было, – пояснил Риклер. – В суматохе, когда старика увозили на «скорой», дверь не заперли. Похоже, сам Дюссандер никого об этом не попросил. Ключ от дома так и остался у него в брюках, когда он умер. С момента отъезда «скорой» и до половины третьего сегодняшней ночи, когда мы все опечатали, дом был открыт.
– Тогда это все объясняет! – заявил Дик.
– Нет, – возразил Тодд. – Я понимаю, что смущает лейтенанта Риклера. – Он действительно отлично все понимал. Не видеть этого мог только слепой. – Почему вор ни на что не позарился, кроме этого письма? Да еще на немецком? Как-то не вяжется. Конечно, у мистера Денкера и красть-то особенно было нечего, но не письмо же брать!
– В самую точку! – похвалил Риклер. – Молодец!
– Тодд раньше собирался стать детективом, – сказала Моника и потрепала сына по волосам. Повзрослев, Тодд при по-
добном проявлении нежности обычно недовольно отклонялся, но на это раз не стал. Она ужаснулась – такой он стал бледный! – Сейчас его больше интересует история.
– История – интересный предмет, – одобрил Риклер. – Можно даже проводить исторические расследования. Тебе не приходилось читать детективы Джозефины Тэй?
– Нет, сэр.
– Не важно. Жаль, у моих сыновей желания не идут дальше выигрыша их любимой команды.
Тодд слабо улыбнулся и промолчал.
Риклер снова стал серьезным.
– Как бы то ни было, я обрисую вам вкратце версию, над которой мы работаем. Мы считаем, что некто, возможно, прямо здесь, в Санта-Донато, был в курсе, кем на самом деле являлся Дюссандер.
– Вы так думаете? – удивился Дик.
– Да. Кто-то знал правду. Не исключено, что другой военный преступник. Я понимаю, это звучит как пересказ сюжета романа Роберта Ладлэма, но кто бы мог представить, что в нашем тихом уголке обоснуется нацистский преступник? А когда Дюссандера увезли в больницу, вероятно, этот мистер Икс проник в дом и забрал опасную улику. И сегодня она превращена в пепел и странствует по канализационной системе.
– Но это тоже как-то не вяжется, – возразил Тодд.
– А почему?
– Ну, если мистер Денк… Если у Дюссандера был старый приятель по лагерю, зачем он тогда звонил мне и просил прочитать письмо? Я хочу сказать, что если бы вы слышали, как он меня исправлял и все такое… уж, наверное, этот старый приятель хорошо знал немецкий.
– Согласен. А если он прикован к инвалидному креслу или ослеп? Может, он даже боится показаться на людях и никогда не выходит из дома?
– Калеке в инвалидном кресле или слепому не очень-то сподручно проникать в чужой дом и искать письма, – не сдавался Тодд.
Риклер снова посмотрел на него с уважением:
– Верно. Но слепой мог запросто выкрасть письмо, даже если и не в состоянии его прочитать. Или нанять для этого кого-нибудь.
Тодд, подумав, кивнул и пожал плечами, показывая, что не очень-то верит в такую возможность. Риклер уже превзошел богатством фантазии Роберта Ладлэма и по невероятности сюжета ничем не уступал Саксу Ромеру. Но все это не имело никакого значения! Главное – Риклер продолжал копать, да еще этот жиденыш Вайскопф тоже никак не успокаивался! Черт, проклятое письмо! Если бы только не цейтнот, в который его загнали! И вдруг неожиданно вспомнился «винчестер», висевший в темном гараже. Чувствуя, как вспотели ладони, Тодд постарался выбросить мысли о нем из головы.
– А у Дюссандера имелись какие-нибудь друзья? – поинтересовался Риклер.
– Друзья? Нет. К нему приходила убираться какая-то женщина, но потом она переехала, а другую он искать не стал. Летом он обычно нанимал мальчишку постричь газон, но в этом году, по-моему, даже этого не сделал. Трава там высокая, обратили внимание?
– Да, мы обошли всех соседей, но, похоже, он ни к кому не обращался. А ему звонили?
– Конечно, – охотно подтвердил Тодд, ухватившись за забрезжившую возможность направить следствие по ложному пути. За все время знакомства Тодда с Дюссандером тому звонили раз десять: коммивояжеры, из службы опроса потребителей, а остальные звонки – просто были ошибочными. Дюссандеру телефон был нужен только если понадобится вызвать «скорую»… Так и случилось, будь он проклят! – Ему звонили раз или два в неделю.
– А он говорил по-немецки? – тут же оживился Риклер.
– Нет, – ответил Тодд, сразу насторожившись. Ему не понравилась быстрая реакция Риклера – в ней было что-то неестественное и потому опасное. Почувствовав, как на лбу выступила испарина, Тодд постарался взять себя в руки. – Он практически не разговаривал. Пару раз ответил, что ему сейчас читает мальчик, и потом он сам перезвонит.
– Так я и знал! – воскликнул Риклер, хлопая себя по бедрам. – Это точно был он! Готовь поспорить на месячное жалованье! – Он с шумом захлопнул блокнот (Тодд видел, что он в нем ничего не писал, а просто выводил каракули) и поднялся. – Хочу вас всех поблагодарить. Особенно тебя, Тодд. Я понимаю, какое потрясение тебе пришлось испытать, но скоро все закончится. Сегодня после обеда мы перевернем вверх дном дом Дюссандера. От подвала до чердака. Для этого вызвали специальную бригаду. Надеюсь, нам удастся выйти на того, кто ему звонил.
– Удачи! – пожелал Тодд.
Пожав всем руки, Риклер ушел. Дик предложил Тодду поиграть до обеда в бадминтон, но тот отказался и, повесив голову, понуро поплелся в свою комнату. Родители обменялись сочувственными взглядами.
Тодд лег на кушетку, уставился в потолок, и перед его глазами возникла винтовка. Он представил, как засовывает ствол из вороненой стали в липкое еврейское влагалище Бетти Траск – она же мечтала о члене, который никогда не теряет твердости?
Нравится, Бетти? Теперь ты довольна? Представив ее исступленные вопли, он скривил губы в жестокой ухмылке. Скажи, сука! Теперь ты довольна? Довольна?!
– Ну и как впечатление? – спросил Вайскопф у Риклера, который забрал его на машине у закусочной в трех кварталах от дома Боуденов.
– Думаю, что парень причастен, – ответил тот. – Во всяком случае, он точно не чист! А его хладнокровию и выдержке можно только позавидовать! Такого ничем не проймешь! Я подловил его на паре моментов, но для суда это не годится. Если продолжать в том же духе и даже получить доказательства, то толковый адвокат его запросто отмажет, сославшись на подставу. Провоцирование на уголовно наказуемое деяние со стороны правоохранительных органов считается незаконным. К тому же он несовершеннолетний. Во всяком случае, формально. Хотя лично я считаю, что он перестал быть ребенком лет в восемь. У меня, когда смотрю на него, мурашки бегут по коже. – Риклер сунул в рот сигарету и засмеялся. – Я не шучу. Честное слово!
– А на чем он прокололся?
– На телефонных звонках. Когда я подбросил эту идею, у него глаза вспыхнули, прямо загорелись, как лампочки у игрального автомата. – Риклер повернул руль налево, и машина помчалась в сторону скоростной автострады. Через двести ярдов справа показался склон с поваленным деревом, где Тодд в одну из недавних суббот стрелял без патронов из «винчестера» по проезжавшим машинам. – Он говорит себе: «У этого копа наверняка не все дома, если он считает, что у Дюссандера мог быть здесь нацистский дружок! Но для меня так даже лучше – пусть себе его ищет!» И поэтому он с готовностью подтверждает, что Дюссандеру звонили раз или два в неделю. Сплошные тайны! Типа: «Сейчас не могу говорить, Зет-5, перезвони позже!» – или что-то в этом роде. Но последние семь лет у Дюссандера был тариф «Редкий звонок». Ему неделями никто не звонил и уж тем более – по межгороду или из-за границы.
– А еще что?
– Он моментально пришел к выводу, что украли только письмо. Он явно знал, что больше ничего не пропало, поскольку сам вернулся в дом и забрал его. – Риклер загасил сигарету в пепельнице. – Мы считаем, письмо было только предлогом. Вероятно, у Дюссандера случился сердечный приступ, когда он пытался закопать тело… самое последнее. На его обуви и манжетах были следы земли, причем свежей – словом, основания так думать у нас имеются. Чтобы выбраться из своего дома, парень на ходу выдумывает для родителей историю про письмо… Не бог весть, конечно, какую, но вполне сносную… учитывая все обстоятельства. Он приезжает в дом к Дюссандеру и подчищает там за ним. А затем наступает цейтнот. Вот-вот приедет «скорая» и появится отец, а ему необходимо письмо, чтобы все выглядело правдоподобно. Он бежит наверх, вскрывает шкатулку и…
– Это можно доказать? – поинтересовался Вайскопф, закуривая сигарету «Плейер» без фильтра, которая Риклеру показалась на редкость вонючей. «Неудивительно, что Британская империя распалась, – подумал он, – раз там курили такую гадость».
– Доказательства есть, но толку от них… – ответил он. – На шкатулке имеются отпечатки его пальцев, которые совпадают с теми, что хранятся в деле этого парнишки в школе. Причем его отпечатки в этом чертовом доме повсюду!
– И все же, если ему это предъявить, он запросто может расколоться, – предположил Вайскопф.
– Послушай, ты не знаешь этого парня. Я неслучайно сказал, что его выдержке можно только позавидовать. Он сразу от всего откажется, сославшись на то, что Дюссандер сам попросил его принести шкатулку, желая что-то оттуда достать.
– Но его отпечатки есть на лопате…
– Он объяснит, что сажал куст роз на заднем дворе. – Риклер достал собственную пачку сигарет, но она оказалась пустой. Вайскопф предложил ему свои, и Риклер, затянувшись, закашлялся. – На вкус такие же противные, как и на запах, – давясь дымом, с трудом выговорил он.
– Совсем как гамбургеры, которыми мы вчера угощались на обед, – отозвался Вайскопф, улыбаясь. – В «Макдоналдсе».
– Биг-мак, – согласился Риклер и засмеялся. – Взаимопроникновение культур не всегда проходит мирно. – Он снова стал серьезным. – Понимаешь, на вид он такой благополучный!
– Понимаю.
– Не какой-то там отморозок с волосами до пояса и цепями на сапогах.
– Само собой. – Вайскопф посмотрел на окружавшие их машины и порадовался, что за рулем сидит не он. – Обычный молодой человек. Белый, из хорошей семьи. И мне трудно представить, что…
– А мне казалось, у вас в Израиле к восемнадцати годам с оружием умеют обращаться все без исключения.
– Это так, но когда все это началось, мальчику было лишь четырнадцать. Что общего могло быть у подростка с таким человеком, как Дюссандер? У меня в голове это никак не укладывается!
– А меня бы вполне удовлетворило понимание дня сегодняшнего, – сказал Риклер и выбросил сигарету в окно, чувствуя, что от нее начинает болеть голова.
– Если все было так, как ты говоришь, то здесь не обошлось без случайности. Стечение обстоятельств. Есть термин, лейтенант, который мне очень нравится, – «интуитивная прозорливость». Думаю, она бывает и «белой», и «черной».
– Не понимаю, о чем ты, – мрачно заметил Риклер. – Я знаю только одно: этот парень вызывает у меня какой-то суеверный ужас.
– Все очень просто! Любой другой мальчишка был бы просто счастлив явиться к родителям или в полицию и заявить: «Я нашел преступника, которого давно ищут. Он живет по такому-то адресу. Да, я уверен!» А дальше подключились бы власти. Или я не прав?
– Думаю, прав. Парень стал бы настоящим героем дня, а подростки только об этом и мечтают. Фотография в газете, интервью в вечерних теленовостях, почетное чествование на общем собрании в школе. Черт, о нем даже могут снять сюжет для выпуска «Есть такие люди»![26] – засмеялся Риклер.
– А что это?
– Не важно, – ответил детектив, повышая голос, чтобы перекричать рев проносившейся мимо огромной десятиколесной фуры. Вайскопф в тревоге перевел взгляд с полицейского на огромный грузовик. – А насчет мальчишек ты прав. Во всяком случае насчет подавляющего их большинства.
– Но наш парень другой, – заметил Вайскопф. – Может, чисто случайно он узнал в Денкере Дюссандера. Но вместо того чтобы сообщить родителям или полиции… отправился к самому Дюссандеру. Зачем? Ты говоришь, тебе это не важно, но я не верю. Тебе, как и мне, это тоже не дает покоя.
– Не ради вымогательства – это точно, – подхватил мысль Риклер. – У парня было все, о чем только мечтают мальчишки. Включая дюноход для езды по песчаному побережью, не говоря уж о мощной винтовке. И даже если бы он захотел выжать из Дюссандера деньги, у него бы ничего не вышло. Если не считать скромного пакета акций, тот был гол как сокол.
– А ты уверен, что парень не знает об обнаружении трупов?
– Уверен. Может, я вернусь к этой теме после обеда и ошарашу его. Похоже, сейчас это наш единственный козырь. – Риклер с досадой стукнул по рулю. – Случись это хоть на день раньше, я бы попытался получить ордер на обыск.
– Думаешь об одежде, в которой он был в тот вечер?
– Да. Если нам удастся найти на ней следы земли из подвала Дюссандера, я почти уверен: парня удастся расколоть. Но за это время его вещи наверняка стирали несколько раз.
– А как насчет других убитых бродяг? Тех, чьи тела полиция находила в разных концах города?
– Ими занимается Дэн Боузман. Вряд ли они имеют отношение к нашему делу. Дюссандер не был так силен… к тому же у него был свой алгоритм действий. Пообещать ужин и дать выпивку, привезти домой на рейсовом автобусе – чертов автобус! – и зарезать прямо на кухне.
– Я имел в виду не Дюссандера, – тихо уточнил Вайскопф.
– Что ты хочешь этим ска… – начал было Риклер, но осекся и замолчал, так и не закончив фразы. Воцарилась тишина, которую нарушал только шум ехавших автомобилей. Наконец Риклер пришел в себя: – Ну ты даешь! Дай подумать…
– Как представителя правительства Израиля меня интересует Боуден только в плане того, что ему может быть известно о связях Дюссандера с бывшими нацистами. Но как человек я хочу понять мотивы этого парня. Я хочу знать, от чего он тащится и почему. И мне на ум приходит только один возможный ответ.
– Но…
– Я задаю себе вопрос: а что, если в основу их связи легли те самые зверства, к которым причастен Дюссандер? Конечно, сама мысль об этом кажется чудовищной. Достаточно представить, что творилось тогда в концлагерях, чтобы ужаснуться и почувствовать тошноту. И здесь нет ничего личного – моим единственным близким родственником, попавшим в концлагерь, был дед, погибший, когда мне было три года. Но в глубинах сознания каждого из нас, возможно, таится нечто темное, некий нездоровый жадный интерес к тому, что творили нацисты. Я не исключаю, что наш собственный страх и ужас вызва-
ны тем, что в душе мы допускаем, что при определенных обстоятельствах и сами могли бы оказаться на месте фашистов и поступать, как они. Я называю это «черной интуитивной прозорливостью». Может, мы интуитивно сознаем, что мерзкие существа, живущие в нас самих, только и ждут возможности выползти на свет Божий? И кого бы тогда они напоминали? Безумного фюрера с челкой и усиками, беспрестанно вскидывающего руку в приветствии? Красных чертиков, или демонов, или драконов, парящих на омерзительных перепончатых крыльях?
– Я не знаю.
– А я думаю, они выглядели бы как самые заурядные бухгалтеры, – продолжил Вайскопф. – Как обычные разумные существа с таблицами и калькуляторами, готовые употребить все свои знания на совершенствование системы истребления, чтобы в следующий раз можно было уничтожить двадцать или тридцать миллионов, а не каких-то семь, восемь или двенадцать. И кое-кто из них обязательно выглядел бы, как Тодд Боуден.
– Ты меня пугаешь не меньше его! – признался Риклер.
– Тут есть чему испугаться, – кивнул Вайскопф. – А разве не страшно было найти в подвале Дюссандера останки людей и животных? Тебе не приходило в голову, что у парнишки все могло начаться с самого обычного интереса к концлагерям? Интереса сродни тому, что заставляет мальчишек собирать марки, монеты или читать про геройское покорение Дикого Запада? Может, он всего лишь отправился к Дюссандеру, желая получить информацию из первого рта?
– Из первых уст, – пробормотал, поправляя, Риклер, но его почти не было слышно из-за рева очередной проносившейся мимо фуры с надписью «Будвайзер» высотой в шесть футов.
«Что за страна! – подумал Вайскопф, закуривая новую сигарету. – Здесь не представляют, как можно жить в окружении полоумных арабов, но за пару лет я бы точно заработал тут нервное расстройство».
– Трудно сказать. А может, просто невозможно постоянно находиться рядом с убийцей и оставаться при этом в стороне от его деяний.
29
Порог полицейского участка переступил невысокий мужчина, и все невольно поморщились от зловонного запаха, распространившегося по помещению. От посетителя несло гниющими бананами, приторным гелем для волос, тараканьими экскрементами – словно открылся накопитель мусоровоза в напряженный субботний день. Мужчина был одет в старые брюки из ткани «в елочку», рваную серую форменную рубашку и выцветшую голубую спортивную куртку с надорванной молнией, висевшей как дикарское ожерелье из рыбьих зубов. Подошва изношенных вконец ботинок держалась только благодаря универсальному клею моментального действия. На голове красовалась не менее живописная и зловонная шляпа. Вылитая смерть с похмелья.
– Убирайся отсюда! – воскликнул дежурный сержант. – Ты же не под арестом, Хэп! Ради всего святого, уходи! Мы тут задохнемся!
– Мне надо поговорить с лейтенантом Боузманом! – громко произнес Хэп, распространяя вокруг специфический «выхлоп» – запах пиццы, ментоловых пастилок от кашля и крепленого красного вина.
– Он выехал на задание, Хэп. Так что ноги в руки и мотай отсюда!
– Мне нужен лейтенант Боузман, и я не уйду, пока не увижу его!
Дежурный выскочил из комнаты и вернулся через пять минут с Боузманом – худощавым и сутулым полицейским лет пятидесяти.
– Дэн, только отведи его к себе, ладно? – взмолился сержант. – А то мы здесь точно помрем!
– Пошли, Хэп, – пригласил Боузман, и через минуту они оказались в небольшой клетушке, служившей ему кабинетом. Прежде чем сесть, Боузман предусмотрительно открыл единственное окно и включил вентилятор. – Итак, что случилось, Хэп?
– Вы еще расследуете эти убийства, лейтенант?
– Ты о бродягах? Да. Это поручено мне.
– Я знаю, кто их прикончил.
– В самом деле? – спросил Боузман, раскуривая трубку. Он курил не так часто, но ни открытое окно, ни вентилятор не спасали от зловония. Подумав, что краска на стенах наверняка вот-вот начнет пузыриться и отваливаться, Боузман тяжело вздохнул.
Хэп продолжил:
– Помните, я говорил, что видел, как Сонни болтал с парнем, а на следующий день его нашли в трубе убитым? Помните, лейтенант?
– Помню, – подтвердил Боузман. Несколько бродяг, околачивавшихся неподалеку от конторы Армии спасения и бесплатной кухни, рассказывали, что с убитыми Чарлзом Сонни Брэкеттом и Питером Поули Смитом разговаривал какой-то молодой парень. Куда делся Сонни, никто не видел, а вот Поули, по словам Хэпа и еще двоих, точно ушел вместе с парнем. Похоже, юноша хотел выпить, а спиртное ему не продавали из-за юного возраста, и он просил купить для него бутылку, пообещав поделиться содержимым с бродягами. Другие бездомные тоже видели этого парня и даже дали его описание. На редкость «толковое» и «годящееся» для любого суда, особенно с учетом надежности источников. Молодой, светловолосый, белый. Что еще нужно для ареста?
– Вчера вечером я зашел в парк, – рассказывал Хэп, – и наткнулся на кипу газет…
– У нас запрещено бродяжничать, Хэп.
– Я специально их подобрал! – воскликнул мужчина с возмущением. – Люди так мусорят, что просто ужас! Я оказал обществу настоящую услугу, лейтенант! Некоторые газеты были недельной давности!
– Понимаю. – Боузман вспомнил, что был голоден и даже собирался пообедать, но теперь ему казалось, что аппетит у него долго не появится.
– Так вот, когда я проснулся, одна газета раскрылась от ветра, и я увидел этого парня! Я даже обомлел, ей-богу! Посмотрите! Вот он! Тот самый парень!
Хэп вытащил из куртки пожелтевший смятый листок с разводами и развернул. Боузман, заинтересовавшись, наклонился пониже. Хэп положил листок на стол, и стал виден заголовок: «Четыре юноши признаны юными спортивными звездами Южной Калифорнии».
– И который из них?
Хэп ткнул грязным пальцем в правую фотографию:
– Вот этот! Тут написано, что его зовут Тодд Боуден.
Боузман оценивающе посмотрел на Хэпа, прикидывая,
сколько у того в голове могло остаться клеток, еще способных соображать после упорного двадцатилетнего полоскания в дешевом пойле.
– Откуда такая уверенность, Хэп? На фотографии парень в бейсболке. И не видно, светлые ли у него волосы.
– Улыбка! – пояснил Хэп. – Такую не перепутать! На его лице была именно такая жизнерадостная улыбка, когда они вместе с Поули уходили. Это он, не сомневайтесь!
Но Боузман его почти не слушал, изо всех сил пытаясь вспомнить, почему это имя кажется ему знакомым. Он испытывал смутное беспокойство, которое явно не было вызвано мыслью, что местная школьная знаменитость может оказаться убийцей бездомных. Он нахмурился, но вспомнить никак не мог.
Хэп ушел, а Дэн Боузман продолжал безуспешно ломать голову над этой загадкой, когда в участке появились Риклер и Вайскопф… При звуке их голосов его наконец осенило.
– Боже милостивый! – воскликнул он и, вскочив, поспешил им навстречу.
30
Моника планировала поехать в магазин, а Дик – на встречу с клиентом, но оба были готовы остаться дома, если так пожелает Тодд. Он отказался, заверив, что предпочитает побыть один. Тодд решил, что почистит винтовку и за работой хорошенько все обдумает. Следовало привести мысли в порядок.
– Тодд… – обратился к сыну Дик и вдруг поймал себя на мысли, что не знает, что сказать. Его отец, наверное, посоветовал бы помолиться, но времена изменились, и Боудены никогда не отличались религиозностью. – В жизни всякое бывает, – туманно произнес он, видя, что сын ждет окончания фразы. – Постарайся не принимать случившееся слишком близко к сердцу.
– Все нормально, – заверил его Тодд.
После отъезда родителей взял ветошь и ружейное масло и отнес все это на скамейку возле кустов роз. Потом сходил в гараж за винтовкой и разобрал ее, чувствуя, как сладкий аромат цветов приятно щекочет ноздри. Тодд работал увлеченно, тихо мурлыкая мелодию и иногда насвистывая. Тщательно почистив и протерев все детали, он собрал винтовку. Руки совершали привычные движения автоматически, и можно было не думать. Когда через пять минут все было готово, Тодд вдруг заметил, что зарядил винтовку. Стрелять по мишени он не собирался, но винтовку все равно зарядил. Зачем – он и сам не знал.
Конечно, знаешь зачем, малыш Тодд. Время, как говорят, пришло!
В этот момент к дому подкатил блестящий желтый «сааб». Из машины стал выбираться человек, который показался Тодду смутно знакомым, но окончательно он узнал мужчину, только когда тот направился к нему по тропинке. На нем были светло-голубые полукеды. Ожившая картинка из прошлого – его почтил присутствием не кто иной, как Калоша Эд Френч, он же Кедоносец.
– Привет, Тодд. Давно не виделись!
Тодд поставил винтовку у края скамейки и широко улыбнулся:
– Здравствуйте, мистер Френч! Как вы оказались в нашей глуши?
– Твои родители дома?
– Нет. А они вам нужны?
– В общем-то нет, – ответил Эд Френч после долгой паузы. – Наверное, так даже лучше – нам никто не помешает поговорить с глазу на глаз. Во всяком случае для начала. Может, у
тебя имеется вполне разумное объяснение всему, хотя, видит Бог, я сильно в этом сомневаюсь.
Он достал из заднего кармана брюк вырезку из газеты. Тодд догадался, что на ней, еще до того, как Эд передал ее ему – фотографии Дюссандера. Второй раз за день! Одна, сделанная уличным фотографом, была обведена в кружок. Все ясно: Френч узнал «дедушку» Тодда. И теперь он хотел поведать об этом всему миру. Хотел поделиться своим открытием. Проклятый Калоша Эд с его дурацкими кедами!
Полицию, конечно, это очень заинтересует, хотя там и так уже все знают. В этом у Тодда никаких сомнений не осталось. Через полчаса после отъезда Риклера он почувствовал, что летит в пропасть. Он словно поднялся высоко в небо на воздушном шаре, а потом шар проткнули стальной стрелой, и теперь он неудержимо летит вниз, набирая скорость с каждой новой секундой.
Главный его прокол – телефонные звонки. Чертов Риклер ловко провел его, заставив сунуть голову в петлю. «Ему звонили раз или два в неделю». И пусть копы рыщут по всей Южной Калифорнии в поисках престарелых нацистов. Отлично! Только вдруг телефонная компания этого не подтвердит? Тодд не знал, могла ли телефонная компания быть в курсе, сколько мест ных звонков сделано с конкретного номера, но Риклера выдал взгляд…
Потом письмо. Тодд по неосторожности ляпнул, что у старика ничего не украли, а Риклер наверняка сообразил: знать это он мог, только если возвращался в дом. А Тодд действительно там побывал, причем не один, а целых три раза. Первый раз – забрать письмо, а два других – проверить, не пропустил ли он какой-нибудь улики. Все было в порядке: он даже гестаповской формы не нашел. Видимо, за четыре года Дюссандер избавился от нее сам.
И еще в подвале были зарыты трупы, а Риклер о них не обмолвился ни единым словом.
Сначала Тодд этому даже обрадовался. Пусть полицейские потопчутся на месте, а он за это время соберется с мыслями и продумает до мелочей версию, которой будет придерживаться.
Следы земли на одежде, появившиеся, когда он закапывал труп, его не беспокоили – он все постирал той же ночью, а потом высушил феном, прекрасно понимая, что Дюссандер мог умереть, и тогда заявятся полицейские. Старик не раз повторял, что осторожность излишней не бывает.
Но постепенно до него дошло, что радоваться рано. Погода стояла теплая, а в такие дни запах в подвале усиливался. Когда Тодд был в доме последний раз, запах чувствовался довольно сильно. Наверняка полицейские заинтересовались его происхождением и нашли источник. Тогда почему Риклер об этом не обмолвился ни словом? Готовил неприятный сюрприз? А если Риклер готовил Тодду неприятные сюрпризы, значит, он попал под подозрение.
Тодд посмотрел на вырезку и увидел, что Калоша Эд отвернулся и смотрел на улицу, хотя там ничего особенного не происходило. Риклер мог подозревать сколько угодно, но, кроме подозрений, у него ничего не было.
Если, конечно, не появятся новые факты, свидетельствующие об особых отношениях Тодда и старика.
Именно такие факты мог предоставить Калоша Эд.
Нелепый человек в дурацких кедах. А нелепые люди не заслуживали права на жизнь. Тодд дотронулся до ствола винтовки.
Да, Калоша Эд был недостающим звеном в полицейском расследовании. Копы никогда не смогут доказать, что Тодд был пособником Дюссандера в одном из убийств. Но если Калоша Эд даст показания, они могут доказать сговор. И что тогда? На этом все и закончится? Вряд ли! Полицейские возьмут выпускную фотографию Тодда и начнут показывать бродягам. Вряд ли, конечно, они всерьез будут на что-то рассчитывать, но такой возможности Риклер ни за что не упустит. Если причастность Тодда к одной группе убийств доказать нельзя, может, удастся связать его с другими преступлениями.
А что потом? Потом суд.
Отец, понятно, наймет лучших адвокатов. И Тодда вытащат. Потому что все улики косвенные. А на жюри присяжных он сумеет произвести благоприятное впечатление. Но жизнь его все
равно пойдет под откос. О нем напишут в газетах, вытащат на свет Божий все грязное белье, как полуразложившиеся трупы из подвала Дюссандера.
– Человек на фотографии и человек, который пришел ко мне в кабинет, когда ты учился в девятом классе, – одно и то же лицо, – неожиданно произнес Эд, поворачиваясь к Тодду. – Он выдал себя за твоего деда. Теперь выясняется, что он – военный преступник.
– Да, – подтвердил Тодд. Его лицо странным образом изменилось: из него словно ушла жизнь, черты застыли в холодной маске бездушного манекена.
– Как это могло случиться? – спросил Эд. Судя по всему, он хотел, чтобы вопрос прозвучал строго и требовательно, но вышло совсем иначе: жалобно и даже с обидой: – Как это могло случиться, Тодд?
– Одно потянуло за собой другое, – ответил он и взял «винчестер». – Вот так все и вышло. Сначала одно… а потом другое. – Он снял винтовку с предохранителя и навел на Эда. – Глупо, конечно, но все получилось именно так.
– Тодд?! – Глаза Эда расширились, и он попятился. – Тодд! Ты же не станешь… пожалуйста, Тодд. Давай погово…
– Поговоришь на том свете с проклятым фрицем! – ответил Тодд и нажал на спусковой крючок.
В душной полуденной тишине прогремел выстрел. Эда отбросило к машине, и он, пытаясь устоять на ногах, уцепился за дворник, сорвав его с держателя. Эд в недоумении опустил глаза: на голубой водолазке расползалось пятно крови. Выпустив из рук дворник, он перевел взгляд на Тодда и прошептал:
– Норма…
– Как скажешь, приятель, – отозвался Тодд и выстрелил. На этот раз пуля угодила в череп: капли крови и осколки костей брызнули во все стороны.
Эд, пошатнувшись, повернулся к дверце водителя и стал заваливаться, продолжая шептать имя дочери непослушными губами. Тодд выстрелил еще раз, теперь уже целясь в поясницу, и воспитатель упал. Пару раз его ноги конвульсивно дернулись, и наконец он затих.
Не так-то просто избавиться от воспитателя! – подумал Тодд с нервным смешком. И в этот момент голову вдруг пронзило такой острой болью, что он невольно зажмурился.
Когда он открыл глаза, боли не было – такой легкости и свободы он прежде никогда не ощущал. Все было в полном порядке, и на душе царило удивительное спокойствие. Лицо снова обрело живость и вместе с ней – привлекательность.
Тодд вернулся в гараж, забрал все патроны – их оказалось больше четырех сотен – и, сложив в старый рюкзак, водрузил его на плечи. Выходя на улицу, он широко улыбался, и глаза светились тем радостным ожиданием, какое бывает у мальчишек в день рождения, на Рождество и в День независимости 4 июля. Так улыбаются мальчишки, предвкушая, как будут запускать фейерверки, прятаться в шалашах и пещерах или праздновать победу в спортивном матче, после которой ликующие болельщики вынесут их со стадиона на своих плечах. С такими улыбками светловолосые парни в касках отправляются на войну.
– Я – властелин мира! – закричал он в высокое синее небо, вскидывая руки с зажатой в них винтовкой. Повернув направо, он направился на склон у автострады к знакомому стволу упавшего дерева. Там он мог укрыться…
С ним удалось покончить лишь через пять часов, когда стало темнеть.
Осень невинности «Тело»
Джорджу Маклеоду
1
Наверное, в жизни каждого из нас есть что-то такое, что имеет для нас первостепенное значение, о чем просто необходимо поведать миру; вот только, пытаясь сделать это, мы сталкиваемся с неожиданным препятствием: то, что нам кажется важнее всего на свете, немедленно теряет свой высокий смысл и, облеченное в форму слов, становится каким-то мелким, будничным. Но дело ведь не только в этом, правда? Хуже всего то, что мы окружены глухой стеной непонимания, точнее, нежелания понять. Приоткрывая потайные уголки своей души, мы рискуем стать объектом всеобщих насмешек, и, как уже не раз бывало, наше откровение будет гласом вопиющего в пустыне. Понимание, желание понять – вот в чем нуждается рассказчик.
Мне только что исполнилось двенадцать, когда впервые в жизни я увидал покойника. Это было давно, в 1960 году… хотя иногда мне кажется, что с тех пор прошло совсем немного времени, особенно когда я вижу по ночам, как крупный град бьет прямо по его открытым, безжизненным глазам.
2
Возле громадного старого вяза, нависавшего над пустырем в Касл-Роке, мы оборудовали что-то вроде ребячьего клуба. Теперь ни пустыря, ни вяза уже нет – там обосновалась транспортная фирма. Что поделаешь, железная поступь прогресса… У клуба не было названия, а располагался он в сооруженной нами же хибарке, где мы – пять или шесть местных парней – собирались перекинуться в картишки. Вокруг нас ошивалась мелюзга. Время от времени – когда требовалось побольше игроков – мы дозволяли кому-нибудь из малышей присоединиться к нам. Играли мы, как правило, в «блэкджек», а ставки редко доходили до пяти центов. И тем не менее выигрыши достигали, по нашим понятиям, солидных сумм, в особенности если пойти ва-банк, но это мог себе позволить один лишь сумасшедший Тедди.
Стены нашей хижины мы сделали из старых досок, собранных на свалке строительной фирмы «Макки Ламбер энд Билдинг Сэплай» на Карбайн-роуд, а многочисленные щели заткнули туалетной бумагой. Крыша была из целого, хоть и проржавевшего листа жести, который мы сперли на другой свалке. Отлично помню, как мы волокли этот лист, трясясь от страха: у сторожа свалки была собака – настоящее чудовище, которое, по слухам, пожирало детей. Там же мы добыли и металлическую сетку от мух, служившую нам дверью. Мух-то она внутрь не пропускала, но и свет тоже – такая была ржавая, – поэтому в хибаре всегда царил полумрак.
Помимо картишек мы в нашем «клубе» тайком покуривали и рассматривали картинки с девочками. У нас там было с полдюжины служивших пепельницами жестянок с рекламой «Кэмела», два или три десятка потрепанных карточных колод (их Тедди свистнул у своего дядюшки, хозяина писчебумажного магазина, когда же дядюшка однажды поинтересовался, какими картами мы пользуемся, Тедди ответил, что наша любимая игра – морской бой и ни о каких картах мы и слыхом не слыхивали), набор пластмассовых жетонов для покера, а также весьма древняя подшивка журнала «Мастер Детектив», который мы иногда перелистывали, когда заняться больше было нечем. Под полом мы вырыли потайной погреб, куда и прятали все эти сокровища в тех редких случаях, когда одному из наших предков вдруг приходило в голову проверить, действительно ли мы такие паиньки, какими кажемся дома. Находиться внутри хижины во время дождя было все равно что забраться в большой африканский тамтам как раз в разгар ритуальных плясок, вот только дождя в то лето не было и в помине.
Газеты писали, что такого жаркого и сухого лета не было с 1907 года. В пятницу, накануне последних выходных перед Днем труда[27] и началом нового учебного года, немилосердно палящее солнце, казалось, собралось испепелить остатки жухлой травы в придорожных канавах – поля и сады были сожжены уже давно. Обычно изобильный в это время года рынок Касл-Рока опустел: торговать было нечем, разве что вином из одуванчиков.
В то утро мы с Тедди и Крисом засели за карты в довольно мрачноватом настроении, «предвкушая» начало занятий в школе. Чтобы хоть как-то развеселить друг друга, мы, как обычно, вспомнили пару анекдотов про коммивояжеров и французов. Ну, например, вот этот: «Если ты, придя домой, обнаруживаешь, что твое мусорное ведро вдруг опустело, а собака забеременела, значит, к тебе в гости заходил француз». Почему-то Тедди всегда обижался, услышав эту байку, хоть был он вовсе не французом, а поляком.
Вяз отбрасывал густую тень, но мы все равно скинули рубашки, чтобы не провоняли потом. Играли мы в скат по три цента – глупейшую игру, которую только можно выдумать, – но мозги в этом пекле расплавились настолько, что малейшее умственное напряжение давалось с превеликим трудом. Вообще где-то с середины августа наша некогда мощная «команда» стала постепенно распадаться, и все из-за жары.
Ну и невезуха – сплошные пики… Начал я с тринадцати, затем пришло еще восемь, и на этом все кончилось. А Крис, похоже, хочет вскрыться. Ну же, последняя взятка… И снова – ноль!
– Двадцать девять, – объявил Крис, выкладывая свои бубны.
– Двадцать два, – разочарованно отозвался Тедди.
– А у меня дерьмо собачье, – швырнул я карты на стол «рубашками» вверх.
– Горди пролетел, дружище Горди снова пролетел, – хихикнул Тедди так, как только он, Тедди Душан, мог хихикать: словно водил ржавым гвоздем взад-вперед по стеклу.
Как и всем нам, Тедди шел тринадцатый год, но очки с толстыми стеклами делали его старше, к тому же он пользовался слуховым аппаратом. Мальчишки, несомненно, потешались бы над ним из-за очков, однако слуховой аппарат – кнопка телесного цвета, торчавшая из уха Тедди, да еще с батарейкой в кармане рубашки – был предметом всеобщей зависти и восторга.
Но даже с этими приспособлениями видел и слышал Тедди плохо. В бейсбол он мог играть лишь в глубокой защите, гораздо дальше Криса на левом поле и Билли Грира на правом, а если кто-то из соперников и умудрялся послать мяч так далеко, то Тедди только провожал его недоуменным взглядом. Изредка мяч попадал ему прямо в лоб, а однажды после такого удара он, закатив глаза, отключился минут на пять, перепугав меня до полусмерти. Затем все-таки очухался, поднялся и, разбрызгивая кровавые сопли, принялся доказывать, что удар был нанесен не по правилам. На лбу у него мгновенно выросла громадная шишка, сиявшая всеми цветами радуги.
Зрение у него было плохим от рождения, со слухом же дело обстояло иначе. Тедди первым в Касл-Роке отпустил волосы «под «Битлз», когда последним писком моды был «полубокс», а о «битлах» Америка услышала лишь года четыре спустя. Сделал он это по необходимости: уши у Тедди стали походить на два бесформенных куска расплавленного воска.
Благодарить за это Тедди должен своего папашу. Мальчишке было восемь лет, когда он, к собственному ужасу, расколотил любимую отцовскую тарелку. Мать Тедди в то время работала на обувной фабрике в соседнем городке под названием Южный Париж. Когда она вернулась домой, все уже было кончено.
Папаша выволок упиравшегося мальчика на кухню, прижал его ухом к раскаленной заслонке большой дровяной печки, подержал так секунд десять, после чего, ухватив его за волосы и повернув голову, проделал то же самое со вторым ухом. Затем он вызвал «Скорую помощь», достал из чулана старую винтовку и, положив ее на колени, уселся смотреть дневной выпуск новостей. Соседка, миссис Барроуз, заслышав вопли Тедди, заглянула узнать, не случилось ли чего с мальчиком, и тут же пулей вылетела вон: папаша Тедди навел на нее винтовку. Но позвонить в полицию она, конечно, не преминула. Приехала машина «скорой помощи». Мистер Душан впустил санитаров, а сам с винтовкой встал на страже на крыльце, наблюдая, как изувеченного мальчика грузят на носилках в машину.
Санитарам он пожаловался, что, несмотря на заверения военных властей, в районе все еще полным-полно немецких снайперов, поэтому необходимо держать ухо востро. Те многозначительно переглянулись, и один из них спросил, сможет ли рядовой Душан продержаться до подхода подкрепления, поскольку раненого ребенка необходимо срочно доставить в госпиталь. Отец Тедди пообещал держаться до последнего, отдал честь, санитары ответили тем же, и «скорая помощь» умчалась, а через пару минут явилось «подкрепление» – патрульная машина полиции штата.
Чудить Норман Душан начал еще за год до этого происшествия – постреливал в соседских кошек, поджигал ящики с почтой, и после недолгого разбирательства его наконец водворили в психушку. Несмотря ни на что, Тедди гордился своим папашей, ветераном войны и участником высадки союзных войск в Нормандии. Они с матерью навещали старика регулярно раз в неделю.
По правде говоря, Тедди и сам был с приветом, но все его заскоки странным образом сходили ему с рук. Ну, например, он обожал перебегать автостраду 196 в каких-то сантиметрах от мчавшихся с бешеной скоростью трейлеров. Одному Богу известно, скольких водителей он довел таким образом до инфаркта. Вихрь, поднятый чуть не сбившим его грузовиком, трепал его длинные волосы, а он безумно хохотал, стоя на обочине и поджидая очередную жертву. Не забудьте при этом, что зрение у Тедди было из рук вон, несмотря на очки-бинокли. И дураку ясно, чем бы рано или поздно кончилось такое развлечение. В общем, парень был самым натуральным психом, а если его еще и подначить – тогда держись!
– Гы-ы-ы! – продолжал веселиться Тедди. – Горди продулся!
– Замолкни! – цыкнул я на него и принялся листать «Мастер Детектив».
Я только взялся за рассказ «Красавчик Эд пришил меня в застрявшем лифте», как Тедди громогласно объявил:
– Вскрываюсь!
– Задница четырехглазая! – выдохнул с досады Крис.
– Фигню несешь, – проговорил Тедди с мрачноватой убежденностью. – У задницы только один глаз…
Мы с Крисом грохнули. Тедди в изумлении уставился на нас, недоумевая, что это нас так развеселило. Это тоже было для него весьма характерно: ляпнет что-нибудь эдакое, вроде «у задницы только один глаз», и не знаешь, шутит ли он или же на полном серьезе. Сам же при этом хмурится на хохочущих, как бы вопрошая: О Боже, ну какого еще черта?!
У Тедди была на этот раз чистая тридцатка – трефовые валет, дама и король, тогда как Крис с шестнадцатью и в самом деле оказался в заднице.
Тедди со своей обычной неуклюжестью принялся тасовать колоду, когда раздался громкий стук в дверь.
– Кто там? – крикнул Крис.
– Это я, Верн!
Голос казался возбужденным и запыхавшимся. Я отодвинул засов и впустил Верна Тессио, одного из старейших членов нашего «клуба». Вид его говорил о том, что произошло нечто из ряда вон: рубашку можно было выжимать, пот градом катился по физиономии, а всегда прилизанные – на манер звезды рок-н-ролла Бобби Райделла – волосы стояли дыбом.
– Ну и дела, парни! – выдохнул он. – Нет, вы только послушайте…
– Да что случилось-то? – проговорил я.
– Подожди, дай отдышаться. От самого ведь дома бегом бежал…
– Ты бежал от самого дома? – недоверчиво переспросил Крис. – Вот псих! – До дома Верна, вниз по Главной улице, было никак не меньше пары миль. – Да ведь там, снаружи, градусов девяносто[28]!
– Ничего, дело того стоит… Я вам, мужики, сейчас такое расскажу – ушам своим не поверите. Вот, ей-богу, не вру!
Он даже шлепнул себя по потному лбу в доказательство, что и в самом деле не врет.
– Ну, что там у тебя? – Крис был явно заинтригован.
– Сможете отпроситься из дома на ночь? – Глаза Верна горели, а его, похоже, ненаигранное возбуждение стало передаваться и нам. – Скажете предкам, что мы решили устроить маленький турпоход, а ночевать будем в палатке, на нашем поле.
– Я, наверно, смогу, – не совсем уверенно сказал Крис. – Хотя старик мой сейчас не в духе – у него очередной запой…
– Постарайся, дружище, вот те крест, не пожалеешь! – настаивал Верн. – Ты и не представляешь, что там такое! Ну а ты, Горди?
– Смогу, пожалуй…
На самом деле сомнений у меня не было: ведь я уже не появлялся дома практически все лето, с тех пор как мой старший брат Деннис погиб в автокатастрофе. Он служил в армии в Форт-Беннинге, штат Джорджия. Однажды – это произошло в апреле – он с приятелем отправился на джипе в гарнизонную лавку. На перекрестке в борт джипа врезался на полном ходу огромный трейлер. Деннис был убит на месте, а пассажир его с тех пор так и не вышел из коматозного состояния. Через несколько дней Деннису должно было исполниться двадцать два, я уже отправил поздравительную открытку…
Господи, как же я ревел! И когда мне сообщили о трагедии, и позже, на похоронах. Я все никак не мог поверить, что Денниса больше нет, что брат, любимый брат, который раздавал мне подзатыльники, пугал меня громадным резиновым пауком, а когда я в очередной раз разбивал до крови коленки, успокаивал меня, целуя в лоб и приговаривая: «Ну перестань, ты же большой парень, уже почти мужчина!» – что он уже никогда не дотронется до меня, не погладит меня по голове…
Смерть Денниса выбила меня из колеи, родителей же она просто убила. В конце концов, у нас с ним было мало общего – представляете, что значит в таком возрасте разница почти в десять лет? У него была своя жизнь, свои приятели. Иногда я воспринимал его как друга, иногда – как своего мучителя, но в основном он был для меня всего лишь частью окружающего мира, одним из многих взрослых парней, которые на меня, пацана, не обращали никакого внимания. В последний год перед гибелью Денниса я виделся-то с ним пару раз, не больше. Мы даже не были похожи друг на друга. Лишь много времени спустя я понял, что плакал тогда не из-за брата, а скорее из-за матери с отцом. Как будто им – да и самому мне – от этого стало легче…
– Так что там у тебя стряслось, Верн? – проявил нетерпение и Тедди.
– Вскрываюсь, – объявил вдруг Крис.
– Что-о-о?! – заверещал Тедди, тут же начисто забыв про Верна и его чрезвычайное сообщение. – Как это ты вскрываешься, если я еще и не сдавал?
– Сейчас моя очередь сдавать, – ухмыльнулся Крис. – Вот, забирай свои карты.
Тедди потянулся за картами. Крис распечатал пачку «Винстона», а я опять раскрыл журнал. Про Верна Тессио все как бы забыли, но тот вдруг подал голос:
– Хотите, парни, поглядеть на мертвеца?
Мы, все трое, раскрыли рты.
3
Наш старый приемник фирмы «Филко», подобранный, естественно, на свалке, был постоянно настроен на радиостанцию Льюистона. Несмотря на треснутый корпус, работал он вполне прилично. Мы слушали по нему последние суперхиты и старые вещи вроде «Что это на тебя нашло» Джека Скотта, «Такие времена» Троя Шонделла, «Король-креолец» Элвиса и «Только одиночество» Роя Орбисона, а когда начинался выпуск новостей, как правило, приглушали звук – нас мало волновала болтовня насчет Кеннеди и Никсона, и уж тем более рассуждения по поводу того, какой, в сущности, подонок этот Кастро. Однако происшествие с Рэем Брауэром нас заинтересовало, поскольку он был одного с нами возраста.
Жил он в Чемберлене, городке, расположенном милях в сорока к востоку от Касл-Рока. Дня за три до того, как Верн, запыхавшись, ворвался в нашу хижину после двухмильного забега по Главной улице, Рэй Брауэр отправился в лес за черникой и не вернулся. Шериф по настоянию родителей организовал розыск – сначала в окрестностях дома Брауэров, а затем и вокруг близлежащих городков: Моттона, Дарема и Паунела. В поисках участвовало черт-те сколько народу – полиция, муниципальные власти, лесники, егеря, добровольцы, – но и теперь, спустя три дня, мальчишка не был обнаружен. По радио высказывались предположения, что его уже нет в живых, что розыск скорее всего не даст результатов и что лет этак через десять какой-нибудь охотник обнаружит его кости в лесной чаще. Водолазы приступили уже к обследованию дна нескольких прудов возле Чемберлена, а также Моттонского водохранилища.
В наше время на юго-западе штата Мэн уже ничего подобного произойти не может: теперь это довольно густонаселенная местность, некогда крохотные поселки Портленд и Льюистон сильно разрослись, леса еще остались, особенно на западе, ближе к Белым горам, однако достаточно пройти миль пять строго в одном направлении, чтобы обязательно выйти к жилью или автостраде. Но тогда, в 1960 году, район между Чемберленом и Касл-Роком представлял собой чуть ли не дебри, где заблудиться можно было запросто.
4
В то утро Верн Тессио был занят раскопками у себя под крыльцом.
Как только он нам это сообщил, мы сразу поняли, в чем дело, однако постороннему необходимо пояснение. Дело в том, что Верн Тессио находился примерно на одном интеллектуальном уровне с Тедди Душаном, а его братец Билли – еще ниже, но об этом позже. Сначала нужно объяснить, что за раскопки устроил Верн под крыльцом своего дома.
Четыре года назад, когда ему было восемь, Верн закопал там кувшин емкостью в кварту[29], наполненный мелочью. Он был тогда помешан на пиратах: крыльцо стало его бригантиной, а закопанный кувшин – пиратским кладом. Верн забросал то место опавшими листьями, скопившимися за долгие годы под крыльцом, отметил его на самодельной карте, которую тут же сунул куда-то в игрушки, и начисто забыл о «кладе». Вспомнил он о нем примерно через месяц, когда потребовались деньги на кино или что-то другое, и принялся разыскивать карту. Выяснилось, что матушка его успела произвести за это время две или три генеральные уборки и, разумеется, пустила карту на растопку кухонной печи вместе со старыми газетами, фантиками и комиксами. По крайней мере такой вывод сделал Верн, так и не обнаружив карты.
Тогда он попытался восстановить ее по памяти. Это вроде бы удалось, однако, раскопав нужное место, он там ничего не обнаружил. Верн принялся копать чуть правее, потом чуть левее – ничего. На следующий день наш умник продолжил поиски все с тем же результатом. И так на протяжении четырех лет. Четырех лет, вы только себе представьте! Не знаешь, смеяться над ним или рыдать.
Раскопки стали для Верна чем-то вроде мании. Начавшись под крыльцом, они продолжились и под верандой футов в сорок длиной и в семь шириной. Перекопав там каждый сантиметр по два-три раза, Верн так и не нашел кувшина. Тем временем размеры «клада» в его сознании неуклонно росли. Поначалу он говорил нам с Крисом, что мелочи там было доллара на три, через год сумма увеличилась до пяти долларов, а не так давно Верн заявил, что мелочи там находилось где-то на десятку, по самым скромным подсчетам.
Неоднократно мы пытались растолковать Верну то, что было ясно с самого начала: брат его, Билли, знал о «кладе», он его и выкопал. Верн, однако, отказывался этому верить, хоть и ненавидел Билли примерно так же, как арабы ненавидят евреев, и, вероятно, будь он председателем суда присяжных, то с удовольствием приговорил бы братца к смертной казни, если бы тот попался на мелкой краже в супермаркете. Черт побери, Верн даже не хотел спросить об этом у Билли напрямую! Возможно, он подсознательно страшился услыхать в ответ: Ну разумеется, я его выкопал, болван ты этакий. Там было больше двадцати баксов, и я истратил все, до последнего цента! Верн каждую свободную минуту тратил на раскопки (разумеется, когда поблизости не было Билли) и вылезал из-под крыльца со спутанными волосами, в измазанных джинсах и, конечно, с пустыми руками. Мы дали ему прозвище Тессио-кладоискатель. Мне кажется, что и летел-то он в тот день как на пожар не столько чтобы рассказать нам ошеломляющую новость, сколько затем, чтобы показать, что бесконечные раскопки в конце концов хоть к чему-то привели.
Итак, в то утро Верн проснулся раньше всех, поел на завтрак кукурузных хлопьев и, не имея более достойного занятия, решил еще немного покопаться под крыльцом. Вдруг наверху хлопнула дверь. Верн замер: если это отец, он тихо вылезет из-под крыльца, но если это Билли, то ему следует переждать, пока тот со своим приятелем Чарли Хоганом куда-нибудь не смоется.
По веранде заходили двое, затем Верн услыхал голос Чарли Хогана:
– Господи, Билли, что же теперь делать?
Верн насторожился. Чарли Хоган, один из самых крутых парней Касл-Рока, водивший дружбу с самим Тузом Меррилом и с Чамберсом по прозвищу Глазное Яблоко, говорил со слезами в голосе, словно напроказивший молокосос, которого отец вот-вот выпорет ремнем!
– Что делать, что делать! – передразнил его Билли. – А ничего не делать!
– Нет, что-то сделать надо… – Они уселись на ступеньки, совсем рядом с тем местом, где затаился Верн. – Ты его видел?
То, как это было произнесено, заставило Верна содрогнуться. Быть может, Билли с Чарли напились и сбили кого-нибудь машиной? Он старался не дышать и, не дай бог, не зашуршать листьями, которых вокруг было полным-полно. Ведь если эти двое обнаружат, что он подслушивает, ему конец!
То, что он услышал дальше, вогнало его в дрожь.
– Нам-то что до этого? – заговорил Билли Тессио. – Пацан мертв, так что ему тоже все равно. Скорее всего его даже не найдут.
– Это тот самый, про которого говорили по радио, – заметил Чарли. – Ну, как же его? Брокер, Бровер, Флоуер? Должно быть, его поездом переехало.
– Точно. – Чиркнула спичка, и мгновение спустя потянуло табачным дымом. – Ну и видок у него… Немудрено, что ты сблевал.
Чарли Хоган не ответил, но Верн нутром почувствовал, что он смущен.
– Хорошо хоть телки его не видели, – проговорил через какое-то время Билли, хлопнув Чарли по спине. – Растрепали бы до самого Портленда… Правильно мы сделали, что быстренько оттуда смылись. Как думаешь, им ничего не показалось подозрительным?
– Да нет, – ответил Чарли. – Мари вообще терпеть не может ездить по шоссе мимо кладбища: она до смерти боится привидений. – Он хохотнул, но тут же в его голосе опять послышались истерические нотки. – Боже ты мой, лучше бы мы вообще не угоняли эту тачку! Пошли бы на шоу, как и собирались…
Верн знал, что Чарли и Билли гуляли с двумя потаскушками, каких свет еще не видывал, звали их Мари Догерти и Беверли Томас. Иногда они вчетвером – а то и вшестером или ввосьмером, если к ним присоединялись Волосан Бракович и Туз Меррил со своими подружками, – угоняли тачку со стоянки Льюистона, брали пару-тройку бутылок «Дикой ирландской розы» вместе с упаковкой баночного имбирного пива и носились по проселкам вокруг Касл-Вью, Харлоу или Шилоу. Поразвлекавшись с девочками вдоволь, они бросали машину где-нибудь не очень далеко от дома и возвращались уже пешком. Пока еще ни разу их на этом не поймали, но Верн надеялся, что рано или поздно Билли попадет-таки в тюрягу. С каким огромным удовольствием он стал бы навещать любимого брата по воскресеньям вместо того, чтобы ежедневно видеть его рожу!
– Если сообщить в полицию, они обязательно поинтересуются, как мы, собственно, добрались туда от самого Харлоу, – размышлял тем временем Билли. – Ни у кого из нас машины нет… Так что лучше всего держать язык за зубами, тогда нас никто не тронет.
– А если звонок будет она… оно… анонимным? – предложил Чарли.
– Анонима они в два счета вычислят, – отверг его идею Билли. – Ты что, не смотрел «Дорожный патруль» и «Облаву»? Видел, наверное, как это делается?
– Да, ты прав… – Чарли испустил тяжкий вздох. – Господи, хоть бы Туз с нами был. Сказали бы легавым, что тачка – его.
– Так или иначе, его с нами не было.
– Не было, – вздохнув опять, эхом отозвался Чарли. – Да, похоже, ты прав… – В воздухе мелькнул огонек брошенного окурка. – А вдруг они пустят по нашим следам собаку? А я к тому же наблевал на новые кроссовки… – Голос его упал окончательно.
– Нет, ты видел его?! Ты видел, что с ним стало, Билли?
– Отлично видел, – отозвался Билли, и в воздухе мелькнул второй огонек. – Пойдем посмотрим, встал ли Туз. Неплохо было бы выпить.
– Мы ему расскажем?
– Послушай, Чарли, об этом мы не расскажем никому. Никому и никогда. Ты меня понял?
– Понял, – ответил Чарли. – Господи Иисусе, ну за каким дьяволом мы уперли этот гребаный «додж»?!
– Заткнись, а?
Сквозь прорези в ступеньках Верн увидел две пары ног в вытертых джинсах и стоптанных армейских ботинках. Он весь сжался («Я думал, у меня яйца зазвенят», – рассказывал он нам), похолодев при одной мысли о том, что будет, если братец и Чарли Хоган вдруг обнаружат его под крыльцом… Шаги, однако, удалились. Верн выполз из своего убежища и стремглав бросился к нам.
5
– Ну, повезло тебе, – прокомментировал я его рассказ. – Уж они бы тебя точно придушили.
– Я знаю это шоссе, – сказал Тедди. – Оно упирается в реку, где мы со стариком раньше удили рыбу.
Крис кивнул:
– Точно, там еще был железнодорожный мост. Его давным-давно снесло во время наводнения, а рельсы остались.
– Но ведь от Чемберлена до Харлоу двадцать или даже тридцать миль, – заметил я. – Неужели пацан покрыл такое расстояние?
– А почему бы и нет? – пожал плечами Крис. – Он, наверное, шел по рельсам: думал, они его куда-нибудь выведут, или, может, удастся сесть на попутный поезд. Но только там ходят теперь одни товарняки до Дерри или Браунсвилла, да и то редко. Чтобы выбраться из леса, ему потребовалось бы топать до самого Касл-Рока… Возможно, ночью в темноте он не заметил приближавшийся поезд – и привет!
Крис смачно шлепнул кулаком о ладонь, чем привел в полнейший восторг Тедди, ветерана смертельных игр с грузовиками на автостраде 196. Мне же стало немного не по себе. Я воочию представил, как до смерти напуганный пацан, оказавшийся вдали от дома, черт-те где бредет по шпалам, шарахаясь от каждого ночного звука, как навстречу ему с огромной скоростью мчится товарняк, как он, ослепленный прожектором, стоит на рельсах, словно парализованный, или, быть может, лежит, обессилев от ужаса и истощения. Так или иначе, жест Криса весьма точно выразил конечный результат.
От возбуждения Верн крутился, будто ему приспичило.
– Так что – идете на него смотреть? – не выдержал наконец он.
Мы все довольно долго смотрели на него, не произнося ни слова. Крис, перетасовав колоду, в конце концов проговорил:
– Что за вопрос, конечно! Могу поспорить, что наши фотографии появятся в газетах.
– Что-что? – не понял Верн.
– Что ты сказал? – вторил ему Тедди. На физиономии его заиграла обычная, довольно идиотская ухмылочка.
– А вот что, – начал Крис, перегибаясь через обшарпанный стол. – Мы разыщем тело и заявим в полицию, после чего попадем во все газеты!
– Ну уж нет, только без меня, – вскинулся Верн. – Билли непременно догадается, что я все слышал и разболтал вам, а тогда он как пить дать вышибет из меня мозги.
– Не вышибет, – возразил я. – Не вышибет, ведь тело обнаружим мы, а не он с Чарли Хоганом, катаясь на ворованной машине. Наоборот, он с Чарли нам тогда спасибо скажет: они-то остаются как бы ни при чем. А ты, Кладоискатель, может, даже заработаешь медаль.
– Правда? – Верн расплылся, показывая нам свои гнилые зубы. Вот только улыбка у него вышла малость озадаченной: ему и в голову не приходило, что Билли способен за что-то сказать ему спасибо. – Ты в самом деле так считаешь?
Тедди же вдруг перестал лыбиться и озабоченно нахмурился:
– А, черт!
– В чем дело? – Верн тотчас повернулся к нему, теперь уже в страхе, что пришедшая в голову Тедди мысль (если у него вообще была голова на плечах) способна помешать столь замечательному развитию событий.
– А как же предки? – сказал Тедди. – Ведь если завтра мы обнаружим тело к югу от Харлоу, они поймут, что мы вовсе не ночевали в палатке у Верна в поле.
– Точно, – согласился Крис. – Сразу догадаются, что мы пошли разыскивать того пацана.
– А вот и нет! – заявил я.
У меня возникло странное ощущение, от которого мне даже стало нехорошо: смесь возбуждения и страха. И тем не менее я был уверен, что мы сможем это сделать и остаться безнаказанными. Чтобы унять возникшую вдруг дрожь в руках, я принялся тасовать карты – единственное, пожалуй, чему научился у покойного брата Денниса. Все завидовали моему умению и упрашивали меня научить их тасовать колоду с тем же шиком… все, за исключением лишь Криса. Он, вероятно, понимал, почему я всегда отказывался это сделать: ведь показать им этот способ значило для меня расстаться с частицей Денниса, а у меня от него и так осталось слишком мало…
– Ну так вот, – сказал я, – мы объясним, что торчать в палатке в поле Верна нам осточертело – ведь это уже сто раз было, и тогда мы решили переночевать в лесу, для чего и отправились по железнодорожному пути. И потом, уверен, все так обалдеют от нашей находки, что объяснений никаких никто и не потребует.
– Мой-то старик обязательно потребует, – не согласился со мной Крис. – Он в последнее время как с цепи сорвался. – Чуть поразмыслив, он кивнул: – Черт с ним, игра стоит свеч.
– Отлично! – Тедди вскочил с улыбкой до ушей, готовый разразиться своим сумасшедшим хохотом. – После обеда собираемся у Верна. Что скажем дома насчет ужина?
– Я, ты и Горди скажем, что поужинаем у Верна, – предложил Крис.
– А я – что у Криса, – объявил Верн.
План этот должен был сработать, лишь бы не случилось нечто непредвиденное или же наши родители не переговорили бы друг с другом, однако ни у Верна, ни у Криса телефона не было. Во многих семьях телефон в то время все еще считался предметом роскоши, особенно в неимущих слоях общества, к которым мы все в общем-то принадлежали.
Отец мой был уже на пенсии. У Верна старик продолжал работать – водил грузовик 1952 года выпуска. У Тедди, правда, был собственный дом, но и его мамаша постоянно охотилась за квартирантами, чтобы хоть как-то заработать. В то лето ей не удалось завлечь ни одного – табличка СДАЕТСЯ МЕБЛИРОВАННАЯ КОМНАТА провисела у них в окне с самого июня. Папаша Криса неизменно пребывал в запое, жил на пособие и днями напролет торчал в таверне Сьюки вместе с отцом Туза Меррила и парой других забулдыг.
Крис не любил об этом рассказывать, но мы все знали, что он ненавидит своего папашу лютой ненавистью. Регулярно – раз в две недели – он появлялся в синяках, с подбитым глазом, сиявшим всеми цветами радуги, а как-то пришел в школу с забинтованной головой. Время от времени он подолгу пропускал занятия, и тогда возле его дома появлялся старый черный «шевроле» с табличкой ПАССАЖИРОВ НЕ БЕРУ на ветровом стекле, принадлежавший городскому школьному инспектору, мистеру Хэллибартону. Мать Криса в таких случаях пыталась выгородить сына, заявляя, что тот болен. Если Крис просто прогуливал, инспектор его строго наказывал, но когда он не мог посещать школу из-за отцовских побоев, Берти (так мы все звали инспектора, конечно, за глаза) делал вид, что ничего особенного не произошло. Признаться, я в то время не задумывался о причинах такого двойственного подхода.
За год до описываемых событий Крис был исключен из школы на три дня: во время его дежурства пропали деньги на завтраки, сбор которых входит в обязанности дежурного. Инспектор же, конечно, обвинил в пропаже Криса, хоть тот и божился, что не брал денег. Узнав про это, родитель Криса разбил сыну нос и сломал руку… В общем, у бедняги Криса была еще та семейка. Старший брат Фрэнк сбежал из дому в семнадцать, поступил служить на флот и кончил тем, что сел за изнасилование и вооруженное нападение. Средний брат, Ричард, известный более под кличкой Глазное Яблоко – его правый глаз почему-то постоянно закатывался, – был исключен из десятого класса и с тех пор болтался в одной компании с Чарли, Билли Тессио и прочими гопниками.
– Думаю, все пройдет великолепно, – заверил я Криса. – А как насчет Джона и Марти?
Джон и Марти Деспейны были также постоянными членами нашего «клуба».
– Они пока что не вернулись, – ответил Крис, – и, очевидно, будут не раньше понедельника.
– Жаль.
– Так что – решено? – Тедди уже горел нетерпением, не допуская и мысли, что нам что-то помешает.
– Решено, – подвел итог Крис. – Кто хочет еще партию в скат?
Никто не захотел: все были чересчур возбуждены, чтобы продолжать игру. Бейсбол нас тоже не увлек. Мысли у всех были заняты предстоящими поисками малыша Брауэра, вернее, того, что от него осталось. Около десяти мы разошлись по домам договариваться с родителями.
6
Я был дома в четверть одиннадцатого, по пути заглянув в книжную лавку за новым выпуском серии криминальных романов Джона Макдональда, что делал регулярно, раз в три дня. У меня был четвертак, которого хватило бы на книжку, но новенького ничего не было, а все старье я перечитал раз этак по шесть.
Машины нашей возле дома не было, и я припомнил, что мама собиралась с подругами на концерт в Бостон. Большая меломанка моя матушка… А впрочем, почему бы и нет? Ребенок ее мертв, надо же как-то отвлечься? Довольно горькие мысли, но, я надеюсь, вы меня поймете.
Отец был дома, точнее, в саду – он тщетно пытался реанимировать погибшие деревья при помощи тугой струи из шланга. Чтобы понять всю бесплодность его усилий, достаточно было бросить взгляд на то, что раньше составляло гордость семьи. Земля в саду потрескалась и превратилась в грязно-серый порошок. Немилосердное солнце спалило все, за исключением маленькой делянки с чахлой кукурузой. Отец сам признавался, что поливать он не умел – это всегда было маминой обязанностью. Он же никогда не мог достичь золотой середины: после его поливки один ряд деревьев стоял в воде, соседний же высыхал… Почти одновременно – в августе – он потерял и сына, и любимый сад. Не знаю, какая из этих потерь подкосила его больше, но он с тех пор замкнулся в себе и напрочь перестал чем-либо интересоваться. Что ж, его я тоже понимаю.
– Привет, пап! Хочешь? – Я протянул ему пакет с бисквитами, купленными вместо криминального романа.
– Привет, Гордон, – ответил он, не поднимая взгляда от струи, уходящей в безнадежно высохшую землю. – Нет, спасибо, я не голоден.
– Ничего, если мы с ребятами заночуем сегодня в палатке у Верна в поле?
– С какими ребятами?
– Да с Верном и Тедди Душаном. Может, еще с Крисом.
Я ожидал, что папа обязательно пройдется по поводу Криса и его семейки: что, дескать, он воришка, подрастающий малолетний преступник, яблоко от яблони… Однако он только вздохнул, проговорив:
– Ладно уж, валяй…
– Вот это клево! Спасибо, пап!
Я уже повернулся к дому – поглядеть, есть ли что забавное по «ящику», – когда он вдруг остановил меня словами:
– Гордон, а больше с вами никого не будет?
Обернувшись, я посмотрел на него, ища в вопросе какого-то подвоха, но его не было. Лучше бы уж был… Спросил он это просто для порядка – вряд ли его на самом деле интересовало, чем я занят и с кем. Вряд ли его вообще что-то интересовало в этом мире. Плечи отца поникли, на меня он даже не смотрел, уставившись на мертвую землю, глаза его как-то неестественно блестели – похоже, в них стояли слезы.
– Ну что ты, пап, они отличные ребята, – начал я.
– Да уж куда там – отличные… один воришка и два придурка. Компания у моего сына просто замечательная.
– Верн Тессио вовсе не придурок, – возразил я. О Тедди лучше было б помолчать…
– О да, конечно, в двенадцать лет он все еще в пятом классе, а чтобы одолеть комиксы в воскресной газете, ему нужно не менее полутора часов.
Это меня уже возмутило: сейчас он был не прав. Как можно судить о людях, совершенно их не зная? Верна же, как, впрочем, и остальных моих друзей отец не знал абсолютно. Да он и видел-то их раз в год по обещанию, лишь изредка сталкиваясь то с одним, то с другим на улице или же в магазине. Ну как он может, например, обзывать Криса воришкой?! Я уже собирался все это ему высказать, однако вовремя остановился: а вдруг он запрет меня дома? Да и в конце концов, сейчас он вовсе не был раздосадован по-настоящему, как случалось иногда за ужином, когда он приходил в такое бешенство, что у всех пропадал аппетит. Сейчас он более всего напоминал уставшего от жизни человека, которому все на свете опротивело. Ведь отцу было шестьдесят три, и он по-настоящему годился мне в дедушки…
Мама у меня тоже в годах – ей уже стукнуло пятьдесят пять. Поженившись, они решили сразу завести детей, но у мамы случился выкидыш, потом еще два, и врач сказал ей, что и все последующие дети будут недоносками. Все это говорилось в семье совершенно открыто и даже пережевывалось с каким-то непонятным сладострастием: родители старались привить мне мысль о том, что рождение мое явилось Божьим даром, за что я должен быть благодарен им и Господу всю жизнь. Зачат я был, когда маме уже исполнилось сорок два и она начала седеть. Мне же почему-то не хотелось благодарить ни Господа, ни страдалицу матушку за свое появление на свет…
Лет через пять после того, как доктор объявил, что мама не способна иметь детей, она вдруг забеременела Деннисом. Вынашивала она его в течение восьми месяцев, после чего он просто-таки рванулся вон из чрева. Весил новорожденный целых восемь фунтов и, по словам отца, достиг бы пятнадцати, если бы подождал до срока. Несколько озадаченный доктор сказал тогда: «Что ж, иногда матушка-природа вводит нас в заблуждение, но теперь-то уж точно детей у вас не будет, так что благодарите Бога за этого и на том успокойтесь». Десять лет спустя мама забеременела мной и не только доносила меня до срока, но при родах пришлось даже применить щипцы. Забавная у нас семейка, правда? Родителям уже пришла пора внуков нянчить, а они заводят еще одного спиногрыза…
Они и сами понимали всю нелепость ситуации, и одного Божьего подарочка им вполне хватило. Нельзя сказать, что я был нелюбимым сыном, и, уж конечно, они никогда меня не колотили. Просто я стал для них в некотором роде сюрпризом, а люди после сорока в отличие от двадцатилетних сюрпризы, да еще такие, жалуют не очень. Чтобы избежать еще одного, мама после моего рождения сделала операцию, на сто процентов дающую гарантию от «даров Господних»… В школе я понял, как мне повезло, что акушер при родах применил щипцы: родиться с опозданием, оказывается, гораздо хуже, чем недоношенным. Яркий тому пример – мой дружище Верн Тессио. И папа, кстати, был того же мнения.
Я полностью осознал, каково это – ощущать себя пустым местом, когда мисс Харди уговорила меня написать сочинение по «Человеку-невидимке». Уговаривать, по правде говоря, ей даже не пришлось: я полагал, что речь идет о научно-фантастическом романе про забинтованного парня, которого в одноименном фильме играл Фостер Грантс. Когда же выяснилось, что это совершенно другая книга с тем же названием, я попытался отказаться, но впоследствии был только рад, что мисс Харди настояла на своем. В этом «Человеке-невидимке» главным героем был негр, которого никто вокруг не замечал, пока он наконец не взбунтовался. Люди смотрели как бы сквозь него; когда он с кем-то заговаривал, то не получал ответа, в общем, походил на чернокожего призрака, реально существующего, но как бы бесплотного. «Врубившись» в книгу, я проглотил ее залпом, словно это был роман Макдональда, ведь этот тип, Ральф Эллисон, описывал мою жизнь. Все у нас в семье крутилось вокруг Денниса, а меня как бы и не было. «Денни, как вы вчера сыграли?», «Денни, с кем ты танцевал на вечеринке у Сэди Хопкинс?», «Денни, как ты полагаешь, стоит нам купить ту черную машину?» Денни, Денни, Денни… За столом я просил передать мне масло, а папа, будто меня не слыша, говорил: «А ты уверен, Денни, что армия – твое призвание?» «Да передайте же мне, ради Бога, масло!» А мама спрашивала Денни, не купить ли ему новую рубашку на распродаже… В конце концов мне приходилось тянуться самому за маслом через весь стол. Однажды (мне было девять лет) я засомневался, слышат ли они меня вообще, и чтобы это выяснить, брякнул за столом: «Мам, передай, пожалуйста, вон тот задрюченный салат». «Денни, – услыхал я в ответ, – сегодня звонила тетя Грейс. Интересовалась, как идут дела у тебя и у Гордона…»
Я не пошел на выпускной вечер Денниса (школу он, разумеется, окончил с отличием), сказавшись больным. Упросив Ройса, старшего брата Стиви Дарабонта, купить мне бутылку «Дикой ирландской розы», я выхлебал половину, после чего сблевал прямо в постель. Случилось это ровно в полночь.
Согласно учебникам психологии я должен был либо возненавидеть старшего брата до потери пульса, либо сделать из него кумира, стоящего на недосягаемой для меня высоте. Чушь какая… Наши с Деннисом взаимоотношения не имели с этим ничего общего. Странно, но мы с ним чрезвычайно редко ссорились и ни разу не подрались. А впрочем, ничего странного: за что, собственно, четырнадцатилетнему парню колотить четырехлетнего братишку? Тем более что родители слишком тряслись над Деннисом, чтобы обременять его заботами о малыше. Обычно в семьях младшие дети пользуются большим вниманием со стороны родителей, что и приводит к ссорам по причине зависти и ревности, у нас же было все наоборот. Если Денни и брал меня куда-нибудь с собой, то делал это по собственной воле. Кстати сказать, то были самые счастливые эпизоды моего детства.
– Эй, Лашанс, что это за шмакодявка с тобой?
– Братишка мой, и ты, Дэвис, лучше попридержи язык, а то Горди надерет тебе задницу. Мой брательник – парень крутой.
На несколько минут друзья Денниса с интересом окружали меня, такие большие, высокие, такие взрослые…
– Привет, малыш! А этот чудила и в самом деле твой старший брат?
В ответ я лишь кивал, краснея от смущения и робости.
– Ну и засранец же твой братец, ведь так, малыш?
Я опять кивал, и все, включая Денниса, лопались от смеха. Затем Деннис доставал свисток, крича:
– Ну что, мы будем сегодня тренироваться, или вы собрались прохлаждаться?
Парни бросались занимать каждый свое место, а Деннис наставлял меня:
– Сядь, Горди, вон на ту скамейку. Веди себя тихо, ни к кому не приставай, понял?
Я садился, куда мне было указано, и сидел тише воды ниже травы, ощущая себя таким маленьким под огромным летним небом, на котором постепенно собирались тучи. Я следил за игрой, вернее, наблюдал за братом, и, как он и велел, ни к кому не приставал.
Вот только таких счастливых эпизодов было в моем детстве крайне мало.
Иногда он перед сном рассказывал мне сказки, и они были лучше маминых. Ну разве «Красная Шапочка» и «Три поросенка» могут сравниться с жуткими историями про Синюю Бороду или Джека-потрошителя?! А еще, как я уже рассказывал, Деннис научил меня играть в карты и тасовать колоду так, как, кроме него, не умел никто. Не много, конечно, но я и этим страшно был доволен.
В общем, можно сказать, что в раннем детстве я по-настоящему любил своего брата. Со временем это чувство сменилось неким благоговейным преклонением, похожим, вероятно, на преклонение правоверного мусульманина перед пророком Магометом. И, вероятно, смерть пророка так же потрясла всех правоверных мусульман, как потрясла меня гибель брата Денниса. Он был для меня чем-то вроде любимой кинозвезды: обожаемым и в то же время таким далеким.
Хоронили Денниса в закрытом гробу под американским флагом (прежде чем опустить гроб в землю, флаг сняли, свернули и передали маме). Мать с отцом испытали такое потрясение, что и теперь, спустя четыре месяца, шок все еще не проходил и вряд ли уже когда-нибудь пройдет. Комната Денни, по соседству с моей, была превращена в подобие музея, где по стенам были развешены его школьные похвальные грамоты, а возле зеркала, перед которым он сидел часами, делая себе прическу «под Элвиса», стояли фотографии его девушек. На полке все так же лежали старые подшивки «Тру» и «Спортс иллюстрейтед», в общем, все было как в отвратительных «мыльных операх», которые до бесконечности крутят по телевидению. Однако я не находил в этом ничего сентиментального – для меня это было ужасно. В комнату Денниса я заходил лишь в случае крайней необходимости: мне постоянно мерещилось, что вот сейчас открою дверь, а он там прячется под кроватью, в шкафу или где-нибудь еще. Скорее всего в шкафу… Когда мама просила меня принести из комнаты Денни его альбом с открытками или коробку из-под туфель, в которой он хранил фотографии, я воочию представлял, как дверь шкафа медленно, со скрипом открывается, и оттуда… Господи, он то и дело представал передо мной с наполовину снесенным черепом, в рубашке, покрытой кашицей из спекшейся крови и мозга. Я видел, как он поднимает окровавленные руки и, сжимая кулаки, беззвучно кричит: А ведь это ты должен был оказаться на моем месте, Гордон! Ты, а не я!
7
«Стад-сити», рассказ Гордона Лашанса. Впервые напечатан осенью 1970 года в 45-м выпуске «Гринспан куотерли». Перепечатывается с разрешения издателя.
Март.
Чико, обнаженный, стоит у окна, скрестив на груди руки и положив локти на перекладину, разделяющую верхнее и нижнее стекла. Вместо выбитого правого нижнего стекла в окне приспособлен лист фанеры. Животом Чико облокотился на подоконник, его горячее дыхание чуть затуманило оконное стекло.
– Чико…
Он не оборачивается, а она больше его не зовет. В окне он видит отражение девушки, сидящей на его в полнейшем беспорядке развороченной постели. От ее макияжа остались только глубокие тени под глазами.
Он переводит взгляд с ее отражения на голую землю внизу, чуть припорошенную крупными хлопьями мокрого снега. Он падает и тут же тает. Снег, снег с дождем… Остатки давно увядшей, прошлогодней травы, пластмассовая игрушка, брошенная Билли, старые ржавые грабли… Чуть поодаль – «додж» его брата Джонни с торчащими, словно обрубки, колесами без шин. Сколько раз Джонни катал его, тогда еще пацана, на этой тачке. По дороге они с братом слушали последние суперхиты и старые шлягеры, которые беспрерывно крутили на местной радиостанции – приемник был всегда настроен на волну Льюистона, – а раз или два Джонни угостил Чико баночным пивом. Неплохо бегает старушка, а, братишка? с гордостью говорил Джонни. Вот подожди, поставлю новый карбюратор, тогда вообще проблем не будет.
Сколько воды утекло с тех пор…
Шоссе 14 ведет к Портленду и далее в южный Нью-Хэмпшир, а если у Томастона свернуть на национальную автостраду номер один, то можно добраться и до Канады.
– Стад-сити, – бормочет Чико, все так же уставившись в окно. Во рту у него дымится сигарета.
– Что-что?
– Так, девочка, ничего…
– Чико, – снова окликает она. Нужно ему напомнить, чтобы сменил простыни до возвращения отца: у нее начинаются месячные.
– Да?
– Я люблю тебя, Чико.
– Не сомневаюсь.
Грязный март. Дождливый, гнусный месяц март… думает Чико. Дождь со снегом там, на улице, дождь капает по ее лицу, по ее отражению в окне…
– Это была комната Джонни, – внезапно произносит он.
– Кого-кого?
– Моего брата.
– А-а… И где же он сейчас?
– В армии.
На самом деле Джонни не был в армии. Прошлым летом он подрабатывал на гоночном автодроме в Оксфорде. Джонни менял задние шины серийного, переделанного под гоночный, «шеви», когда одна из машин, потеряв управление, сломала заградительный барьер. Зрители, среди которых был и Чико, кричали Джонни об опасности, но он так и не услышал…
– Тебе не холодно? – спросила она.
– Нет. Ноги немножко замерзли…
Что ж, подумал он, то, что случилось с Джонни, случится рано или поздно и со мной. От судьбы не убежишь… Снова и снова перед его глазами вставала эта картина: неуправляемый «форд-мустанг», острые лопатки брата, выпирающие под белой футболкой, – Джонни стоял, нагнувшись над задним колесом «шеви». Он даже выпрямиться не успел… «Мустанг» сшиб металлическое ограждение, высекая искры, и через долю секунды ослепительно белый столб огня взметнулся в небо. Все…
Мгновенная смерть – не так уж и плохо, подумал Чико. Ему вспомнилось, как мучительно медленно умирал дедушка. Больничные запахи, хорошенькие медсестры в белоснежных халатах, бегающие взад-вперед с «утками», хриплое, прерывистое дыхание умирающего. Какая смерть лучше? А есть ли вообще в смерти что-то хорошее?
Зябко поежившись, он задумывается о Боге. Дотрагивается до серебряного медальона с изображением святого Христофора, который носит на цепочке. Он не католик, и в жилах его не течет ни капли мексиканской крови. По-настоящему его зовут Эдвард Мэй, а прозвище Чико дали ему приятели за иссиня-черные волосы, всегда прилизанные и зачесанные назад, и за его любовь к остроносым туфлям на высоком каблуке, в каких ходят кубинские эмигранты. Не будучи католиком, он носит медальон с изображением святого Христофора – зачем? Да так, на всякий случай. Кто знает, если б и у Джонни был такой же, быть может, тот «мустанг» и не задел бы его…
Он стоит у окна с сигаретой. Внезапно девушка вскакивает с постели, бросается к нему, словно опасаясь, что он вдруг обернется и посмотрит на нее. Она прижимается к нему всем телом, обнимая горячими руками за шею.
– И в самом деле холодно…
– Тут всегда холодно.
– Ты любишь меня, Чико?
– А ты как думаешь? – Его шутливый тон вдруг становится серьезным. – Ты взаправду оказалась целочкой…
– Это что значит?
– Ну, девственницей.
Пальцем она проводит ему по щеке – от уха к носу.
– Я же тебя предупреждала.
– Больно было?
– Нет, – смеется она, – только немножко страшно.
Они вместе смотрят в окно. Новенький «олдсмобиль» проносится по шоссе 14, разбрызгивая лужи.
– Стад-сити, – снова бормочет Чико.
– Что-что? – недоумевает она.
– Да я вон о том парне в шикарной тачке. Торопится как на пожар… Не иначе как в Стад-сити[30] собрался.
Она целует место, по которому провела пальцем. Он шутливо отмахивается от нее, словно от мухи.
– Ты что это? – надувает она губки.
Он поворачивается к ней. Взгляд ее непроизвольно падает вниз, и тут же девушка краснеет, пытается прикрыть собственную наготу, но, вспомнив, что в фильмах ни одна кинозвезда никогда так не поступает, сейчас же отдергивает руки. Волосы у нее цвета воронова крыла, а кожа белоснежная, будто сметана. Груди у девушки небольшие, упругие, а мышцы живота, быть может, чуть-чуть вялые. Ну, хоть какой-то должен быть изъян, думает Чико, все же она не голливудская дива.
– Джейн…
– Что, милый?
Горячая волна уже подхватила и несет его…
– Да так. Ведь мы с тобой друзья, только друзья, да? – Он внимательно разглядывает ее всю, с ног до головы. Она краснеет. – Тебе не нравится, что я тебя рассматриваю?
– Мне? Ну почему же?..
Прикрыв глаза, она делает несколько шагов назад, затем опускается на кровать и откидывается, раздвинув ноги. Теперь он может видеть ее всю, включая пульсирующие жилки на внутренней части бедер. Вот эти жилки неожиданно приводят его в сильнейшее возбуждение, такое, какого он не испытывал, даже поглаживая ее твердые розовые соски или проникая в самое ее лоно. Его охватывает дрожь. «Любовь – святое чувство», – говорят поэты, но секс – это какое-то сумасшествие, которое охватывает тебя всего, лишает разума, заставляет полностью отключиться от окружающего мира. Наверное, нечто подобное испытывает канатоходец под куполом цирка, вдруг приходит ему в голову.
На улице снег сменяется дождем. Крупные капли барабанят по крыше, по оконному стеклу, по вставленному вместо стекла листу фанеры. Ладонь его ложится на грудь, и на мгновение он становится похож на древнеримского оратора. Как холодна ладонь… Он роняет руку.
– Открой глаза, Джейн. Ведь мы с тобой друзья, не так ли?
Она послушно открывает глаза и смотрит на него. Цвет ее глаз внезапно меняется – они стали фиолетовыми. Струи дождя, текущие по стеклу, отбрасывают странные тени на ее лицо, шею, грудь. Сейчас, когда она откинулась навзничь, даже ее несколько дряблый живот – само совершенство.
– Чико, ах, Чико… – Он замечает, что она тоже дрожит. – У меня такое странное ощущение… – Она подбирает под себя ноги, и Чико видит, что ступни у нее нежно-розовые. – Чико, милый мой Чико…
Он приближается к ней. Дрожь никак не унимается. Зрачки ее расширились, она что-то говорит, всего одно слово, но он не разобрал, какое именно, а переспрашивать не стал. Он наклоняется над ней, нахмурившись, дотрагивается до ее ног чуть выше колен. Внутри его как будто колокол гудит… Он делает паузу, прислушиваясь к себе, стараясь продлить мгновение.
Лишь тиканье будильника на столике у изголовья нарушает тишину да ее дыхание, которое, все убыстряясь, становится прерывистым. Мышцы его напряжены перед рывком вперед и вверх. И вдруг взрыв, буря, шторм. Тела их сцепляются в любовной схватке. На этот раз все происходит еще более удачно, чем первоначально. На улице дождь смывает остатки снега.
Примерно через полчаса Чико слегка встряхивает ее, выводя из оцепенения.
– Нам пора, – напоминает он ей, – отец с Вирджинией должны уже быть с минуты на минуту.
Она смотрит на часы и садится, больше не пытаясь прикрыть наготу. Что-то в ней здорово изменилось: она уже не прежняя, чуть наивная, неопытная девушка (хотя, быть может, сама она полагает, что перестала быть такой уже давно). Теперь ему улыбается женщина-искусительница. Он тянется к столику за сигаретой. Когда она надевает трусики, ему вдруг приходит на ум песенка Рольфа Харриса «Привяжи-ка меня к стойлу, кенгуру». Песенка совершенно идиотская, но Джонни ее просто обожал. Чико усмехается про себя.
Надев бюстгальтер, она принимается застегивать блузку.
– Ты что-то смешное вспомнил, Чико?
– Так, ничего.
– Застегнешь мне сзади?
Все еще оставаясь голым, он застегивает ей «молнию» и при этом целует в щечку.
– Можешь заняться макияжем в ванной, только недолго, ладно?
Он затягивается сигаретой, наблюдая за ее грациозной походкой. Чтобы войти в ванную, ей приходится наклонить голову – Джейн выше Чико. Отыскав под кроватью свои плавки, он сует их в ящик комода, предназначенный для грязного белья, а из другого ящика достает свежие, надевает их и, возвращаясь к постели, оскальзывается в луже, которая натекла из-под листа фанеры.
– Вот дьявол, – ругается он, с трудом удержав равновесие.
Чико окидывает взглядом комнату, которая принадлежала брату до его гибели. (Какого, интересно, черта я ей сказал, что Джонни в армии?) Стены из древесно-стружечных плит так тонки, что пропускают все звуки, доносящиеся по ночам из комнаты отца и Вирджинии. Пол в комнате имеет наклон, так что дверь приходится держать, чтобы она не захлопнулась сама. На стене висит плакат из фильма «Легкий скакун»: Двое отправляются на поиски истинной Америки, но так нигде и не могут ее найти. При жизни Джонни тут было гораздо веселее. Как и почему, Чико сказать не сумел бы, но это правда. По ночам его иногда охватывает ужас – он представляет, как тихо, со зловещим скрипом открывается дверца шкафа и оттуда, из темноты, появляется Джонни, весь окровавленный, с переломанными конечностями и с черным провалом вместо рта, откуда доносится свистящий шепот: Убирайся из моей комнаты, Чико. И если ты даже близко подойдешь к моему «доджу», я тебе башку оторву, понял?
– Понял, братишка, – говорит про себя Чико.
Несколько мгновений он смотрит на пятна крови, оставленные девушкой, потом одним резким движением расправляет простыню так, чтобы пятна были на самом виду. Вот так, так… Как тебе это понравится, Вирджиния? Забавно, правда? Он натягивает брюки, потом свитер, достает из-под кровати армейские ботинки.
Когда Джейн выходит из ванной, он причесывается перед зеркалом. Выглядит она классно – ни малейшего намека на дряблый живот. Взглянув на разоренную постель, она несколькими движениями придает ей вполне приличный вид.
– Отлично, молодец, – хвалит ее Чико.
Она, довольная, смеется и, чуть кокетничая, смахивает в сторону закрывшую глаз челку.
– Пора идти, – говорит он.
Они проходят через холл в гостиную. Джейн останавливается, чтобы рассмотреть студийную цветную фотографию на телевизоре. На ней изображено все семейство: отец с Вирджинией, старшеклассник Джонни с малышом Билли на руках, ну и, конечно, Чико, в то время ученик начальной школы. На лицах у всех застыли неестественные, натянутые улыбки, за исключением Вирджинии. Ее несколько сонная физиономия, как всегда, абсолютно ничего не выражает. Чико припоминает, что фотография сделана примерно месяц спустя после того, как отец имел глупость жениться на этой сучке.
– Это твои родители?
– Это мой отец, а это мачеха, ее зовут Вирджиния, – отвечает Чико. – Пойдем.
– Она и до сих пор такая симпатяшка? – спрашивает Джейн, надевая куртку и протягивая Чико его ветровку.
– Об этом лучше всего спросить папашу.
Они выходят на веранду, сырую и насквозь продуваемую ветром через многочисленные трещины в фанерных стенах. Тут настоящая свалка: куча старых, совершенно лысых покрышек, велик Джонни, в десятилетнем возрасте унаследованный Чико и немедленно им сломанный, стопка криминальных журналов, ящик с пустыми бутылками из-под пепси, громадный, весь покрытый толстым слоем солидола дизель, оранжевая корзина, полная книжек в мягких обложках, и тому подобная дребедень.
Дождь льет не переставая. Старый седан Чико имеет весьма жалкий вид. Даже с обрубками вместо колес и куском прозрачного пластика, заменившим давно разбитое ветровое стекло, «додж» Джонни выглядит на порядок выше классом. Краска на «бьюике» Чико, цвета весьма тоскливого, местами облупилась, и там светятся пятна ржавчины, чехлом переднего сиденья служит коричневое армейское одеяло, на заднем валяется стартер, который Чико уже давным-давно собирается поставить на «додж», да все никак руки не доходят. На солнечном козырьке перед сиденьем пассажира сияет забавная наклейка с надписью: РЕГУЛЯРНО И С УДОВОЛЬСТВИЕМ.
Внутри «бьюика» воняет затхлостью, а его собственный стартер долго прочихивается, прежде чем мотор заводится.
– Аккумулятор не в порядке? – спрашивает Джейн.
– Все из-за чертова дождя, – бормочет Чико, выруливая на шоссе и включая «дворники».
Он глядит на дом, тоже довольно малопривлекательный: грязно-зеленые стены, покосившаяся веранда, облупившаяся кровля…
Вздохнув, Чико включает приемник и тут же вырубает его: звук его просто неприличен. Внезапно у него начинает болеть голова. Они едут мимо Грейндж-Холла, пожарной каланчи и универмага Брауни с бензоколонкой, возле которой Чико замечает Салли Моррисон на «ти-берде». Он поднимает руку в знак приветствия, сворачивая на старое льюистонское шоссе.
– А это кто такая? – спрашивает Джейн.
– Салли Моррисон.
– Ничего девочка, – как можно безразличнее произносит она.
Чико тянется за сигаретами.
– Салли дважды выходила замуж и дважды разводилась. Если хотя бы половина сплетен про нее соответствует истине, она переспала со всем городом и, частично, с его окрестностями.
– Она так молодо выглядит…
– Не только выглядит.
– А ты когда-нибудь…
Ладонь его ложится ей на бедро. Он улыбается:
– Нет, никогда. Брательник мой – вполне возможно, но я – нет. Хотя она мне нравится. Во-первых, Салли получает алименты, во-вторых, у нее шикарная белая тачка, а в-третьих, ей наплевать, что про нее толкуют сплетники.
Едут они долго. Джейн думает о чем-то своем. Тишину нарушает лишь скрип «дворников». В низинах уже собирается туман, который ближе к вечеру поднимется наверх, чтобы покрыть полностью дорогу вдоль реки.
Они въезжают в Обурн, и Чико, чтобы сократить путь, сворачивает на Мино-авеню. Она совершенно пустынна, а коттеджи по обеим сторонам кажутся заброшенными. На тротуаре им попадается лишь мальчишка в желтом пластиковом дождевике, старающийся не пропустить ни одной лужи на своем пути.
– Иди, иди, мужчина, – мягко произносит Чико.
– Что?
– Ничего, девочка. Можешь продолжать спать.
Она хихикает, не очень-то понимая, что он хочет сказать.
Свернув на Кистон-стрит, Чико, не выключая мотора, притормаживает возле одного из якобы заброшенных коттеджей.
– Ты разве не зайдешь? – удивленно спрашивает она. – У меня есть кое-что вкусненькое.
Он качает головой:
– Нужно возвращаться.
– Да, я знаю… – Она обнимает его за шею и целует. – Спасибо тебе, милый. Это был самый замечательный день в моей жизни.
Лицо его освещается улыбкой: слова ее кажутся ему просто волшебством.
– Увидимся в понедельник, Джейни? И помни: мы с тобой – всего лишь друзья.
– Ну разумеется, – улыбается она в ответ, целуя его снова, но когда ладонь его ложится ей на грудь, шарахается в сторону: – Что ты, отец может увидеть!
Улыбка его гаснет. Он отпускает ее, и она выскальзывает из машины, бросившись сквозь дождь к крыльцу. Мгновение спустя она исчезает. Чико медлит, прикуривая, и этого оказывается достаточно, чтобы мотор «бьюика» заглох. Стартер опять долго прочихивается, прежде чем двигатель заводится.
Ему предстоит долгий путь домой.
Отцовский фургон стоит перед входной дверью. Чико притормаживает рядом и глушит мотор. Несколько мгновений он сидит молча, вслушиваясь в мерный стук капель по металлу.
Когда Чико входит, Билли, оторвавшись от «ящика», кидается ему навстречу:
– Ты только послушай, Эдди, что сказал дядя Пит! Оказывается, во время войны он со своими товарищами отправил на дно немецкую подводную лодку! А ты возьмешь меня с собой на дискотеку в субботу?
– Еще не знаю, – отвечает Чико, ухмыляясь. – Может, и возьму, если ты всю неделю будешь перед ужином целовать мои ботинки.
Чико запускает пальцы в густую шелковистую шевелюру Билли, тот, счастливо хохоча, колотит брата кулачками в грудь.
– Ну вы, двое, перестаньте-ка сейчас же, – ворчит Сэм Мэй, заходя в комнату. – Мать не выносит вашей возни, и вам это известно. – Отец снимает галстук, расстегивает верхние пуговицы рубашки и садится за стол, где перед ним уже стоит тарелка с двумя-тремя красноватыми сосисками. Сэм мажет их несвежей горчицей. – Ты где пропадал, Эдди?
– У Джейн.
Дверь ванной хлопает. Это Вирджиния. Интересно, не забыла ли там Джейн губную помаду, заколку или что-то еще из своих дамских причиндалов, размышляет Чико.
– Ты бы лучше отправился с нами навестить дядю Пита и тетушку Энн, – продолжает ворчать отец, что, однако, не мешает ему в два счета проглотить сосиски. – Ты стал словно чужой, Эдди, и мне это не нравится. Ты тут живешь, мы тебя кормим – изволь вести себя как член семьи.
– Живу тут, – бормочет Чико, – кормите меня…
Сэм быстро поднимает на него глаза. Во взгляде его мелькает затаенная боль, тут же сменяющаяся гневом. Когда он снова открывает рот, Чико замечает, что зубы у него желтые от горчицы.
– Попридержи язык, сопляк, – рявкает на него отец. – Слишком разговорчивый стал…
Пожав плечами, Чико отрезает ломоть хлеба от батона, лежащего на подносе возле отца, и намазывает его кетчупом.
– Через три месяца я от вас уеду, – говорит он. – Я намереваюсь починить машину Джонни и свалить отсюда в Калифорнию. Может, найду там работу.
– Великолепная мысль! Долго ее рожал? – Сэм Мэй крупный, чуть нескладный мужчина, но у Чико складывается впечатление, что после женитьбы на Вирджинии и особенно гибели Джонни он стал как-то усыхать. – На этой развалюхе ты не доберешься и до Касл-Рока, не говоря уже о Калифорнии.
– Ты так считаешь? А не пойти ли тебе куда подальше, папочка?
Отец замирает с открытым ртом, затем хватает со стола баночку с горчицей и швыряет ее в Чико, попав прямо в грудь. Горчица растекается по свитеру.
– Ну-ка повтори, что ты там вякнул! – ревет он. – Я тебя, сопляк, сейчас по стенке размажу!
Чико поднимает баночку, задумчиво глядит на нее и внезапно швыряет назад в отца. Тот медленно поднимается со стула. Физиономия его приобретает кирпичный оттенок, на лбу резко пульсирует жилка. Он делает неловкое движение, задевает поднос и опрокидывает его на пол вместе с тарелкой жареной фасоли в соусе. Малыш Билли с расширенными от ужаса глазами и дрожащими губами отступает к кухонной двери, готовый броситься вон из комнаты. По телевизору Карл Стормер и его ребята из группы «Кантри Баккаруз» исполняют суперхит сезона – «Длинную черную вуаль».
– Вот она, благодарность, – пыхтит отец, как будто из него вдруг выпустили пар. – Растишь их, заботишься о них и вот что получаешь…
Одной рукой он хватается за спинку стула, словно боясь потерять равновесие. В другой – судорожно сжимает сосиску, похожую на фаллос. Внезапно отец выкидывает такое, что Чико глазам своим не верит: он впился зубами в сосиску и принимается быстро-быстро ее жевать. Одновременно из глаз его брызжут слезы.
– Эх, сынок, сынок… – дожевав сосиску, стонет отец. – Так-то ты платишь мне за все, что я для вас делаю…
– А что ты для нас сделал? Привел в дом эту стерву?! – взрывается Чико, сумев, однако, вовремя остановиться и проглотить остаток фразы: Если б ты этого не сделал, Джонни был бы жив!
– Это тебя не касается! – ревет Сэм Мэй сквозь слезы. – Это мое дело!
– Разве? – Чико тоже срывается на крик. – Только твое? А нам с Билли не приходится жить с ней?! Наблюдать, как она мучает тебя? А ведь тебе даже невдомек, что…
– Что? – Отец вдруг понижает голос, в нем звучит неприкрытая угроза. – Говори уж все до конца. Так что мне невдомек, а?
– Так, не важно…
То, что он едва не проболтался, приводит Чико в ужас.
– Тогда лучше заткнись, Чико, или я вышибу из тебя мозги. – То, что отец назвал его по прозвищу, означает крайнюю степень бешенства. – Ты понял меня?
Обернувшись, Чико замечает Вирджинию. Судя по всему, она все слышала с самого начала и теперь молча смотрит на Чико большими карими глазами. Глаза у нее в отличие от всего остального действительно прекрасны… Внезапно Чико ощущает новый прилив ненависти.
– Хорошо же, я договорю до конца, – шипит он и тут же срывается на крик: – Ты, папочка, рогами весь порос и великолепно это знаешь, но поделать ничего не можешь!
Для Билли это уже слишком: малыш роняет свою тарелку на пол и, тоненько взвыв, закрывает ладонями лицо. Фасолевый соус растекается по ковру, запачкав его новенькие туфельки.
Сэм делает шаг к Чико и вдруг останавливается под его взглядом, который словно говорит: Ну же, давай, смелей! Ведь к этому все шло уже давно! Так они и стоят друг против друга в полной тишине, которую нарушает низкий, чуть с хрипотцой голос Вирджинии, поразительно спокойный, как и ее огромные карие глаза:
– У тебя была здесь девушка, Эд? Ты же знаешь, как мы с отцом относимся к подобным вещам. – И после паузы: – Она забыла носовой платок…
Чико упирается в нее взглядом, не в силах выразить словами, как он ее ненавидит, какая же она дрянь, грязная сука, сумевшая выбрать момент, чтобы вонзить ему кинжал в спину, зная, что защититься он не сможет.
Ну, что же ты замолк, ублюдок? говорят ее спокойные карие глаза. Тебе же известно, что было между нами незадолго до его гибели. Что, Чико, слабо рассказать отцу? Как же, так он тебе и поверил… А если и поверит, ты же понимаешь, что он этого не переживет.
Сэм, услыхав слова Вирджинии, кидается на Чико, словно бык на красную тряпку:
– Ты что, засранец, трахался в моем доме?!
– Сэм, что за выражения, – укоризненно произносит Вирджиния.
– Поэтому ты и отказался поехать с нами?! Чтобы тут потра… Чтобы вы…
– Ну, давай же, продолжай! – кричит Чико, чувствуя, что вот-вот разрыдается. – Ты что, ее стесняешься?! Да она и не такое слыхала и видала! Давай же, договаривай!
– Убирайся, – глухо проговорил отец. – Пошел отсюда вон и не возвращайся, пока не надумаешь попросить прощения у матери и у меня.
– Не смей! – взвизгивает Чико. – Не смей звать эту суку моей матерью! Убью!
– Прекрати, Эдди! – раздается вдруг тонкий вскрик Билли. Ладони все еще закрывают его лицо. – Перестань орать на папочку! Ну пожалуйста, прекрати же!
Вирджиния неподвижно стоит в дверном проеме, вперив уверенный, невозмутимый взгляд в Чико.
Сэм, отступив, тяжело опускается на стул и роняет голову на грудь:
– После таких слов, Эдди, я даже смотреть на тебя не хочу. Ты даже представить себе не можешь, какую боль мне причинил.
– Это она причиняет тебе боль, не я! Ну почему до тебя никак не доходит?!
Он молча, не поднимая глаз на Чико, мажет хлеб горчицей и так же молча его жует. Билли рыдает. Карл Стормер и «Кантри Баккаруз» поют по телевизору: «Драндулет мой старенький, но бегает еще дай Бог!»
– Прости его, Сэм, он сам не понимает, что болтает, – мягко произносит Вирджиния. – Это все переходный возраст…
Змея снова победила, думает Чико. Все, конец.
Он поворачивается, направляясь к выходу. У двери он останавливается и окликает Вирджинию.
– Что тебе, Эд?
– Я сломал ей целку, – говорит он. – Иди взгляни: на простыне кровь.
Что-то такое промелькнуло у нее во взгляде… Нет, показалось.
– Уйди, Эд, прошу тебя, уходи. Ты насмерть перепугал Билли.
Он уходит. «Бьюик» снова не заводится, и он уже решил отправиться пешком под проливным дождем, когда движок в конце концов прокашливается. Прикурив, он выруливает на шоссе 14. Что-то стучит в моторе… Плевать, до Гейтс-Фоллз он как-нибудь доберется.
Чико бросает прощальный взгляд на «додж» Джонни.
Джонни предлагали постоянную работу на ткацкой фабрике в Гейтс-Фоллз, но лишь в ночную смену. Работать по ночам он не против, говорил он Чико, к тому же там платили больше, чем на автодроме, но, поскольку отец работал днем, то Джонни пришлось бы в это время оставаться с ней наедине, в соседней с Чико комнате, а стены в доме тонкие, и слышно все великолепно… Я не смогу с ней ничего поделать, оправдывался Джонни перед Чико. Ведь я прекрасно понимаю, что будет с ним, если он узнает. Но, видишь ли, я просто не в состоянии вовремя остановиться, она же этого и не желает. Ты понял, что я имею в виду, Чико? Конечно, понял, ты же ее знаешь. Это Билли пока еще мал для таких дел, но ты-то уже взрослый…
Да, он знал ее и, разумеется, все понимал. Так или иначе, Джонни пошел работать на автодром. Отцу он объяснил это решение тем, что там сможет по дешевке доставать запчасти для своего «доджа». Ну а потом «мустанг» убил Джонни. Нет, не «мустанг» его убил, а эта сучка мачеха, так что давай, старый драндулет, бывший когда-то «бьюиком», кати себе в Стад-сити и не глохни по дороге… Вот только бы еще избавиться от постоянно преследующего его запаха паленой резины да от кошмарного видения кровавой массы, бывшей его братом Джонни, расплющенной между «мустангом» и «шеви», с торчащими из дыр в белой футболке сломанными ребрами, от ослепительно белого столба огня, взметнувшегося ввысь, от неожиданно резкой бензинной вони…
Чико изо всех сил жмет на тормоз, распахивает дверцу и, сотрясаемый судорогами, выблевывает противную желтую массу в снег и грязь. Потом еще раз и еще… Мотор готов уже заглохнуть, но Чико вовремя жмет на стартер. Тело его дрожит. Мимо проносится новенький белый «форд», обдавая «бьюик» грязной водой из громадной лужи.
– Торопится в Стад-сити, – бормочет Чико. – Фу, мерзость…
Во рту у него остается противный привкус рвоты. Даже курить противно. Поспать бы сейчас… Что ж, он, наверно, сможет переночевать у Денни Картера, а завтра будет видно, что делать дальше. Старый «бьюик» катит вперед по шоссе 14.
8
Чертовски мелодраматичная история, не так ли?
Я ведь отлично понимаю, что никакой это, конечно, не шедевр и что на каждой странице моего опуса следовало бы поставить штамп: ТВОРЕНИЕ ЛИТЕРАТУРНОГО РЕМЕСЛЕННИКА-НЕДОУЧКИ, чем сие сочинение и является на самом деле. Сплошное заимствование, да еще с претензией: хемингуэевский стиль (исключая явное злоупотребление настоящим временем – к месту и не к месту), фолкнеровский сюжет… В общем, несерьезно. Нелитературно.
Но даже явная претенциозность не в состоянии завуалировать тот факт, что эта чрезвычайно эротическая вещь вышла из-под пера молодого человека, чрезвычайно неопытного в таких делах (прежде чем написать «Стад-сити», я переспал всего лишь с двумя девушками, причем в обоих случаях показал себя гораздо слабее моего героя Чико). Отношение автора к прекрасному полу выходит за рамки простой враждебности, неся в себе некое омерзение: две героини «Стад-сити» – потаскухи, а третья – глупенькая пустышка, из которой так и сыплются пошлости вроде «Я так люблю тебя, Чико» или «Ты разве не зайдешь ко мне? У меня есть кое-что вкусненькое». Напротив, Чико – настоящий парень-работяга, не выпускающий сигарету изо рта, прямо-таки передовой представитель трудящейся молодежи, любимый герой Брюса Спрингстина (которого, по правде говоря, никто еще не знал в то время, когда рассказ мой появился в студенческом литературном альманахе – между поэмой под названием «Воплощения моего Я» и эссе о молодежном матерном жаргоне, написанном на этом самом жаргоне). Короче, неопытность и неуверенность автора в себе ощущается в каждой фразе этого, с позволения сказать, произведения.
И в то же время «Стад-сити» стал первым действительно моим произведением после пяти лет довольно бесплодных литературных упражнений, первым, которого я мог бы не стыдиться, несмотря на все его огрехи, весьма корявым, но, согласитесь, жизненным. Даже теперь, когда я перечитываю рассказ, с трудом сдерживая усмешку в наиболее претенциозных и «крутых» местах, за строчками мне видится живой образ Гордона Лашанса, только, разумеется, не нынешнего автора многочисленных бестселлеров, не успевающего подписывать все новые контракты, а того Гордона, который в один прекрасный день отправился с друзьями на поиски тела погибшего пацана по имени Рэй Брауэр.
Конечно, это плохой рассказ, поскольку автор его слышал слишком много посторонних голосов в ущерб единственному – внутреннему – голосу, к которому вообще стоит прислушиваться. Но это было первое мое произведение, где я описал места, которые я знаю, и чувства, которые испытал сам. То, что волновало меня на протяжении стольких лет, вдруг обрело новую форму, форму ощущений, поддающихся контролю, и этот факт сам по себе наполнил меня неким новым, радостным ощущением. Взять, к примеру, кошмар моих детских лет: мертвый Денни, появляющийся из шкафа в его тщательно оберегаемой, превращенной в музей комнате. Я вполне искренне полагал, что кошмар этот давным-давно забыт, и вдруг он, слегка измененный, всплыл в моем рассказе. С той разницей, что герой «Стад-сити» способен контролировать возникающие у него при этом чувства.
Не раз мне приходилось бороться с искушением «причесать» этот корявый рассказ и даже, может быть, переписать его заново – временами я действительно стыжусь его, но в то же время он мне дорог таким, какой он есть. Во всяком случае, теперешний, начавший уже седеть Гордон Лашанс не смог бы написать таких вещей, как, например, картина смерти Джонни или тени от текущих по стеклу струй дождя на лице и на груди Джейн.
И еще одно: «Стад-сити» стал первым моим произведением, которое я не показывал родителям. Слишком в нем много было Денни, Касл-Рока и, главное, 1960 года. Слишком в нем много было правды, а правда всегда причиняет боль.
9
В моей комнате, располагавшейся на верхнем этаже, температура уже достигала градусов девяноста, а к полудню, даже с настежь распахнутыми окнами, она наверняка поднимется до ста десяти. Хорошо, что мне сегодня не придется спать тут, в этой душегубке. Сама мысль о предстоящей экспедиции привела меня в радостное возбуждение. Я сдернул с постели пару одеял, свернул их и при помощи ремня соорудил нечто вроде солдатской скатки. Затем пересчитал оставшиеся деньги – получилось шестьдесят восемь центов. Теперь я был полностью готов.
Спуститься я решил по задней лестнице, чтобы лишний раз не встретить старика, однако эта предосторожность была напрасной: отец все еще разбрызгивал бесполезную уже влагу в саду, задумчиво уставясь на сотворенную им радугу.
Пройдя по Летней улице, я пересек пустырь и вышел к Карбайн – туда, где теперь находится редакция касл-рокского «Зова». К тротуару подрулила машина, и из нее вылез Крис со скаутским рюкзаком в одной руке и такой же, как у меня, скаткой из одеял в другой.
– Благодарю, мистер, – бросил он водителю, подбегая ко мне. На шее у него болталась скаутская фляга. Глаза Криса блестели.
– Ух, Горди, что я тебе сейчас покажу! – возгласил он.
– Что же?
– Пойдем-ка вон туда. – Он указал на узкое пространство между ресторанчиком и касл-рокским универмагом.
– Да что случилось, Крис?
– Пойдем, говорю тебе!
Он бросился в проулок, и после секундного размышления я последовал за ним. Проход между двумя зданиями сужался, оканчиваясь громадной кучей мусора, старых газет, битых бутылок и прочей дребедени. Крис, а за ним и я, перебрался через кучу и свернул за угол ресторанчика, где наконец остановился. Восемь или девять мусорных бачков, выстроенных в шеренгу, будто солдаты на параде, распространяли ужасающее зловоние.
– Местечко погаже ты не мог выбрать? – скорчил я гримасу. – Ну нет уж, Крис, уволь…
– Давай руку, – сказал он.
– Не в этом дело. Меня сейчас вывернет наизнан…
Слова застряли у меня в горле, и я немедленно забыл про вонь: в руках у Криса, который уже успел распаковать свою поклажу, был громадный черный пистолет с деревянной рукояткой.
– Ну, кем ты хочешь быть: Одиноким Рейнджером или Сиско-кидом? – осведомился Крис, расплываясь в довольной ухмылке.
– Господи Боже мой! – только и смог выдохнуть я. – Ты где его добыл?
– Упер из папашиного письменного стола. Сорок пятый калибр!
– Ага, вижу… – На самом деле это мог быть и тридцать восьмой, и даже триста пятьдесят седьмой калибр – я перечитал все вещи Джона Макдональда и Эда Макбейна, но настоящую «пушку» видел только раз, у констебля Баннермана, да и то в кобуре. Он ее оттуда никогда не вытаскивал, вопреки всем нашим просьбам.
– Послушай, тебе же твой старик башку открутит, тем более что, как ты говоришь, он не в своей тарелке. Вернее, как раз в своей…
В глазах у Криса заплясали чертики.
– Вот это-то и хорошо, дружище: он с приятелями засел накрепко у Харрисона. Они там уже выжрали бутылок шесть, а может, и все восемь, и останавливаться на этом явно не намерены. Похоже, этот «штопор» у него не менее чем на неделю, так что он ничего не узнает. Алкаши вонючие…
Крис закусил губу. Единственный из нашей компании, он никогда не брал в рот ни единой капли, даже чтобы показать, что он уже мужчина. Когда его на этот счет подначивали, он отвечал, что взрослый-то он взрослый, но уподобляться своему папаше категорически не желает. Однажды он мне поведал по секрету (это было после того, как близнецы Деспейн приволокли украденную у отца коробку с шестью банками пива, и все принялись потешаться над Крисом, который отказался сделать хоть один глоток), что пить он просто-напросто боялся. Его родитель не просыхал теперь уже круглыми сутками, старший брат изнасиловал ту девицу, будучи пьяным в стельку, а Глазное Яблоко, вместе с Тузом Меррилом, Чарли Хоганом и Билли Тессио, тоже надирался весьма регулярно. То же самое, сказал Крис, будет и с ним, если он хоть раз притронется к бутылке. Вы, наверное, будете смеяться над двенадцатилетним пацаном, который до смерти боится превратиться в алкоголика, однако Крису было не до смеха. Абсолютно не до смеха. Он очень много размышлял о подобной перспективе, и она беспокоила его всерьез.
– А патроны к нему есть? – спросил я.
– Девять штук – все, что было в коробке. Он часто спьяну постреливает по пустым консервным банкам, так что мы можем их использовать – он подумает, что расстрелял все сам.
– Он заряжен?
– Нет, конечно! Ты что, меня за идиота держишь?!
Я взял пистолет. Ощущая его приятную тяжесть в ладони, я представил себя Стивом Кареллой из 87-го участка, преследующим того подонка, Хеклера, или, быть может, Мейера с Клингом после того, как они очистили очередную квартиру. Прицелившись в один из мусорных баков, я плавно нажал на курок.
БА-БАХ!!!
Из дула вырвался язычок пламени, запястье пронзила боль от отдачи, сердце у меня подскочило и затрепетало где-то возле глотки. В покрытой слоем ржавчины стенке бачка зияла громадная дыра.
– О Боже! – вырвалось у меня.
От неожиданности, а может, и от страха Крис бешено захохотал.
– Ну, ты даешь! – заорал он. – Гордон Лашанс устроил пальбу в Касл-Роке! Вот это да!
– Заткнись! – прикрикнул я, хватая его за рукав. – Сматываемся отсюда!
Мы ринулись прочь, и в ту же секунду Френсин Таппер в белом фартуке официантки высунулась из задней двери ресторанчика:
– Кто это сделал? Какой мерзавец вздумал тут взрывать хлопушки?
Боже, как мы мчались! Пробежав через захламленные дворы нескольких магазинов, мы перемахнули через дощатый забор, при этом занозив ладони, и наконец выскочили на Каррен-стрит. На бегу я кинул Крису пистолет. Он, не переставая хохотать, каким-то образом поймал его и умудрился сунуть назад в рюкзак. Свернув на Карбайн-стрит, мы перешли на шаг: бежать по такой жаре сломя голову было невмоготу, к тому же выглядели мы слишком подозрительно. Криса все еще разбирал смех.
– Поглядеть бы тебе в тот момент на свою физиономию, дружище! – Он остановился, хохоча и хлопая себя по ляжкам. – Зрелище на миллион долларов, ей-богу!
– Зараза, вот ты кто! Признайся, ведь ты знал, что он заряжен?! Из-за тебя я теперь влип: эта сучка Таппер наверняка меня узнала.
– Глупости, она подумала, что это всего лишь хлопушка. К тому же ты отлично знаешь, что она не видит дальше собственного носа. Воображает, что очки испортят ее миленькую мордашку. Ха, будто такую харю можно чем-то еще испортить!
Крис согнулся пополам от нового взрыва хохота.
– Да наплевать мне на ее харю! Учти, Крис, это тебе даром не пройдет.
– Да ладно, Горди, успокойся. – Он обнял меня за плечи. – Я и понятия не имел, что он заряжен, честное слово! Клянусь матушкой! Я взял его из папашиного стола, а он, прежде чем положить его туда, всегда вытаскивает обойму. На сей раз он, вероятно, был в тот момент слишком накачан.
– Ты правда не заряжал его?
– Конечно, нет.
– Клянись, что если ты мне врешь, то твоя мать будет гореть в аду. Ну, клянешься?
– Клянусь.
Перекрестившись, он трижды сплюнул через левое плечо. Физиономия у него при этом была такой честной и открытой, словно у мальчика, поющего в церковном хоре, но когда мы приблизились к дожидавшимся нас возле хижины Верну и Тедди, смех снова разобрал его. Он, конечно, рассказал им, как все было, и как только хохот стих, Тедди поинтересовался, а за каким, собственно, дьяволом ему понадобилось оружие.
– Да ни за каким, – ответил Крис. – А вдруг нам повстречается медведь или еще какое чудо-юдо? К тому же с пистолетом в лесу ночью как-то спокойнее.
Последний довод убедил нас. В отличие от Тедди Крис, самый крутой парень в нашей команде, мог не опасаться, что кто-то назовет его трусоватым.
– Ты не забыл поставить палатку у себя в поле? – поинтересовался Тедди у Верна.
– Не забыл и даже зажег внутри фонарик, чтобы все думали, что мы там.
– Вот молодец! – похлопал я Верна по плечу, и тот расплылся, довольный похвалой.
– Ну, тогда пошли, – сказал Тедди. – Пора: уже почти двенадцать.
Крис поднялся первым. Мы окружили его.
– Пойдем по полю Бимана до бензоколонки Сонни, затем мимо мебельного магазина и свалки выйдем к железнодорожным путям, а там от эстакады и до Харлоу недалеко, – сказал он.
– Как думаешь, это далеко? – спросил Тедди.
Крис пожал плечами:
– Миль двадцать по меньшей мере. Правда, Горди?
– Если не все тридцать.
– Пусть тридцать, мы все равно там будем завтра к полудню, если, конечно, никто из нас не накладет в штаны.
– Тут нет засранцев, – поспешил заверить Тедди.
Мы с некоторым сомнением переглянулись.
– Мя-я-я-у, – мяукнул Верн.
Все грохнули от хохота.
– Ладно, ребята, пошли. – Крис вскинул на плечо свой рюкзак и зашагал впереди. Остальные последовали за ним.
10
Когда мы наконец прошли через поля Бимана и вскарабкались на насыпь эстакады, где Большое Южное шоссе пересекается с Западно-Мэнской автострадой, нам пришлось скинуть рубашки и обвязать их вокруг пояса. Пот лил с нас ручьями. С эстакады мы осмотрели окрестности, выбирая наиболее удобный путь.
До самой старости я не забуду ту минуту. Часы были у меня одного – дешевенький «Таймекс», полученный мной год назад в качестве премии за успешную торговлю лечебной мазью «Кловерин» (я подрабатывал тогда в аптеке). Обе стрелки замерли на верхней цифре. Солнце стояло в зените, задавшись, очевидно, целью спалить все живое здесь, внизу. Мозги наши потихоньку плавились.
За нами, на склоне холма Касл-Вью, раскинулся наш городишко Касл-Рок. Чуть ниже протекала Касл-Ривер, возле которой трубы шерстоткацкой фабрики выбрасывали в небо клочья дыма того же цвета, что и пистолет Криса. Фабрика со страшной силой гадила не только в воздух, но и в реку. Слева от нас располагался большой мебельный магазин Джолли, а прямо, параллельно Касл-Ривер, блестела под палящим солнцем железнодорожная колея. Справа раскинулся громадный, заросший густым кустарником пустырь (теперь там все расчищено, и по воскресеньям, в два часа пополудни, проходят мотогонки). На горизонте возвышалась старая, давно заброшенная водонапорная башня. Было в этом мрачном, обшарпанном сооружении нечто зловещее.
Мы невольно залюбовались открывшимся видом, но Крис нетерпеливо нас поторопил:
– Пойдем же, мы теряем время.
Под ногами у нас был шлак, и очень скоро черная пыль намертво въелась в носки и кеды. Верн что-то замурлыкал себе под нос, однако вскоре замолчал, и слава Богу: не хватало только этой пытки для ушей. Фляжки догадались захватить лишь Крис и Тедди. Мы поминутно к ним прикладывались.
– Наполним их на свалке: там есть кран, – сказал я. – Вода туда подается из колодца в сто девяносто футов глубиной, поэтому пить ее можно. По крайней мере отец так говорил.
– Вот и отлично, – отозвался Крис, ставший общепризнанным вожаком нашей экспедиции. – К тому же пора сделать пятиминутный привал.
– А как насчет перекусить? – брякнул вдруг Тедди. – Держу пари, никто и не додумался захватить что-нибудь пожрать. Я-то точно не додумался…
Крис остановился.
– Вот дьявол! – стукнул он себя по лбу. – И я ничего не взял. А ты, Горди?
Я покачал головой, сам удивляясь собственной глупости.
– Ты как, Верн?
– Искренне сожалею, – ответил тот, – но и я пустой.
– Что ж, – вздохнул я, – давайте глянем, сколько у нас денег.
Расстелив рубаху на земле, я высыпал на нее свою мелочь – шестьдесят восемь центов. Монетки ярко блестели под ослепительными солнечными лучами. У Криса оказалась мятая долларовая бумажка и пара одноцентовиков. Тедди высыпал два четвертака и еще два пятака. У Верна оказалось только семь центов.
– Два тридцать семь, – сосчитал я деньги. – Жить можно. В конце дороги к свалке есть магазинчик. Кому-то придется отправиться туда и принести гамбургеров с тоником, пока остальные будут отдыхать.
– Кто пойдет? – спросил Верн.
– Решим, когда доберемся до свалки. Идем.
Я ссыпал деньги в карман куртки и уже завязывал ее на поясе, когда Крис закричал:
– Поезд идет!
И правда – звук приближавшегося поезда уже был слышен, но чтобы окончательно убедиться, я дотронулся до рельса: он мелко дрожал.
– Парашютистам приготовиться к прыжку! – заорал Верн и тут же, головой вниз, покатился по насыпи. Игра в парашютистов была его второй манией, для чего он использовал любое место, подходящее для мягкого приземления: стог сена или вот эту поросшую жухлой травой насыпь.
Крис прыгнул вслед за ним. Поезд, идущий, очевидно, в Льюистон, был уже совсем близко, однако Тедди вместо того, чтобы спрыгнуть, повернулся к нему лицом. Толстые стекла очков поблескивали на солнце, длинные волосы упали на глаза.
– Тедди, ты что? – заорал я. – Давай прыгай!
– И не подумаю. – В глазах его был такой знакомый сумасшедший блеск. – Что такое грузовики по сравнению с поездом?! Вот где настоящий риск… Ну, сейчас я ему покажу!
– Ты что, офонарел?! Он же тебя раздавит всмятку!
– Это совсем как высадка в Нормандии! – кричал мне Тедди, балансируя на рельсе.
Мгновение я стоял, пораженный подобным пароксизмом идиотизма, затем схватил Тедди в охапку и, не обращая внимания на его судорожные попытки вырваться, столкнул его вниз с насыпи и спрыгнул вслед за ним. Еще не успев приземлиться, я почувствовал сильнейший удар под дых. Ловя ртом воздух, я умудрился вмазать ему коленом в грудь, опрокинув его навзничь, но Тедди тут же ухватил меня за шею. Мы вместе покатились по насыпи, с ожесточением молотя друг друга кулаками и ногами. Крис с Верном удивленно уставились на нас.
– Ты, сволочь, сукин сын! – брызгал слюной Тедди. – Дерьмо вонючее! Слезай с меня сейчас же, убью гадину!
Дыхание постепенно возвращалось ко мне. Я с трудом поднялся, отступая от разъяренного Тедди и пытаясь сдержать его удары. Мне было одновременно смешно и страшно: когда с Тедди случались вспышки ярости вроде этой, к нему лучше было близко не подходить. В таком состоянии он мог наброситься на кого угодно, а если бы ему переломали руки, стал бы кусаться и лягаться.
– Тедди, ты можешь кидаться хоть под поезд, хоть под грузовик, но
бац, кулак его прошел в миллиметре от моего носа
только после того, как мы найдем то, что ищем
он наконец достал меня в плечо
а до тех пор никто не должен видеть нас
бац мне по щеке!
ты меня понял, болван чертов, или тебя по-настоящему отделать?!
Когда он вмазал мне по физиономии, я был уже готов дать ему хорошенько, но нас вовремя растащили Крис с Верном.
Наверху с грохотом пронесся поезд. Несколько кусочков шлака скатились вниз по насыпи. Я уже начал остывать, но Тедди, как только мимо пронесся последний вагон, снова заорал:
– Пустите, я убью его! Я ему всю рожу разукрашу!
Он попытался высвободиться из объятий Криса, однако безуспешно.
– Успокойся, Тедди, – мягко проговорил Крис.
Он повторял это снова и снова, пока Тедди не перестал барахтаться. Он замер, очки съехали ему на нос, слуховой аппарат болтался где-то возле кармана, куда от него тянулся проводок к батарейке.
Когда он окончательно успокоился, Крис, обернувшись ко мне, задал вопрос:
– Чего это вы сцепились, Гордон?
– Да он хотел «поиграть» с поездом так, как это обычно делает с грузовиками на шоссе. Я подумал, что машинист может вызвать полицию.
– Ну, ему бы было не до этого, – усмехнулся Тедди. Пар из него уже весь вышел.
– Горди поступил правильно, – заявил Верн. – Давайте-ка, ребята, миритесь.
– Мир, парни, – поддержал его Крис.
– Ну ладно. – Я протянул руку ладонью вверх. – Что, Тедди, мир?
– Я запросто бы от него увернулся, – упрямо сказал он. – И не испугался бы нисколечко.
– И не сомневаюсь в этом, – заверил я его, хотя при одной мысли об этом по спине у меня пробежали мурашки. – Ясное дело, ты бы увернулся.
– Ну, тогда мир.
– Пожми руку Горди, – велел Крис, отпуская Тедди.
Тедди сжал мне ладонь чуть сильнее, чем требовалось.
– А все-таки засранец ты, Лашанс, – заявил он при этом.
– Мя-я-я-у, – ответил я.
– Ладно, ребята, пошли дальше, – сказал Верн.
– Тебя бы вот послать подальше, – хохотнул Крис. Верн сделал вид, что собирается его ударить. Все рассмеялись.
11
В половине второго мы добрались наконец до свалки. Верн с воплем Парашютистам приготовиться к прыжку! тут же совершил этот самый прыжок с насыпи, а за ним и мы. Свалка начиналась сразу же за нешироким заболоченным участком. Ее окружала загородка в шесть футов высотой. На расстоянии примерно двадцати футов друг от друга висели проржавевшие таблички:
ГОРОДСКАЯ СВАЛКА КАСЛ-РОКА
РАБОЧЕЕ ВРЕМЯ С 4 ДО 8 ПОПОЛУДНИ
ВЫХОДНОЙ – ПОНЕДЕЛЬНИК
ПОСТОРОННИМ ВХОД СТРОГО ВОСПРЕЩЕН!
Мы перелезли через загородку и спрыгнули на территорию свалки. Тедди и Верн сразу направились к колодцу, воду из которого необходимо было добывать при помощи довольно древнего ручного насоса. Его металлическая рукоятка торчала под углом, напоминая однокрылую птицу, которая пытается взлететь. Когда-то рукоятка была зеленой, однако тысячи рук, качавших воду за последние лет двадцать, отполировали ее до зеркального блеска. Рядом стояло наполненное до краев ведро, и было бы просто неприличным не воспользоваться чьей-то щедрой предусмотрительностью вместо того, чтобы качать воду самим.
Свалка навсегда осталась в моей памяти как одно из самых сильных воспоминаний о детстве в Касл-Роке. Почему-то она ассоциируется у меня с картинами сюрреалистов: часовыми циферблатами без стрелок, свисающими с ветвей деревьев, меблированными комнатами в викторианском стиле, торчащими посреди песков Сахары, или старинными паровозами, выезжающими прямо из каминов. Примерно такой мне, ребенку, виделась городская свалка Касл-Рока.
На свалку мы проникли с тыльной стороны. Если вы въезжаете туда, так сказать, с парадного входа, по широкой, но ужасно грязной дороге через ржавые ворота, то попадаете на довольно обширную полукруглую площадку, выровненную бульдозерами чуть ли не идеально, на манер взлетно-посадочной полосы. Площадка эта упирается в крутой обрыв, за которым простирается собственно свалка, представляющая собой громадный котлован, быть может, футов в восемьдесят глубиной, наполненный всеми видами отходов жизнедеятельности обыкновенного американского городка – пустой тарой, разнообразными предметами, когда-то нужными, а теперь изношенными, сломанными или просто бесполезными. Разглядывать всю эту мешанину никогда не доставляло мне особенного удовольствия: взгляд бессмысленно блуждал по ней, пока не останавливался на каком-то уж совершенно несуразном предмете вроде уже упоминавшихся часовых циферблатов или викторианской мебели. Бронзовый остов старинной кровати поблескивал на солнце; однорукая кукла скорчилась в позе роженицы; обтекаемый капот перевернутого «студебеккера» торчал из общей кучи на манер готовой к пуску межконтинентальной баллистической ракеты; громадных размеров титан для кипячения воды, вроде тех, что раньше ставили в присутственных местах, сверкал, будто гигантский бриллиант…
На свалке было также полным-полно живых существ, которые, однако, нимало не походили на героев диснеевских мультиков или же на обитателей зоопарка. Тут кишмя кишели громадных размеров крысы и даже сурки, разжиревшие на таких деликатесах, как тухлые гамбургеры и червивые овощи, гнездились тысячи не менее жирных чаек, задумчиво бродили здоровенные вороны, похожие на протестантских пасторов в черных смокингах, уже не говоря о бродячих собаках, в отличие от прочих обитателей свалки тощих, злых, вечно грызущихся между собой из-за облепленного мухами куска протухшего мяса или куриных потрохов, дошедших под палящим солнцем до полной кондиции.
Чудища эти были не страшны лишь Майло Прессману, сторожу свалки, потому что он нигде не появлялся без сопровождения гораздо более кошмарного создания по кличке Чоппер. Не было в Касл-Роке и его окрестностях в радиусе сорока миль существа более злобного, одним своим видом внушающего ужас, и в то же время таинственного, почти мифического – настолько редко он появлялся на людях. Среди окрестной ребятни о Чоппере ходили легенды. Одни говорили, что это помесь немецкой овчарки с боксером, другие – что он ирландский волкодав, а некий парнишка из Касл-Вью, по имени Гарри Хорр, утверждал, что Чоппер – настоящий доберман-пинчер и что у него вырезаны голосовые связки, поэтому он набрасывается молча и никогда не лает. Утверждали также, что Майло Прессман кормит своего пса особой смесью из сырого мяса и куриной крови. Не знаю, правда это или нет, но, по слухам, сам Майло не отваживался выпускать Чоппера из конуры, не набросив ему на морду проволочный капюшон вроде того, который надевают на охотничьих соколов.
Поговаривали еще, что Прессман выдрессировал Чоппера так, чтобы он не просто набрасывался на жертву, а хватал ее за определенные части тела. Так, якобы однажды некий отправившийся на свалку за «сокровищами» пацан услыхал крик Майло Прессмана: «Фас, Чоппер! За руку его!» – и Чоппер в самом деле ухватил несчастного за ладонь, разорвал кожу и связки, а потом принялся перемалывать кости, но тут Майло оттащил его от бедного мальчишки. Говорили, что Чоппер может точно так же схватить за ногу, за ухо или даже за лицо… Другой нарушитель будто бы услыхал команду Прессмана: «Фас, Чоппер! Хватай его за яйца!» – после чего он превратился в евнуха на всю оставшуюся жизнь. Впрочем, все это были одни лишь сплетни, самого же Чоппера редко кто видел в натуре в отличие от его хозяина – обыкновенного, довольно туповатого работяги, который компенсировал свой нищенский заработок тем, что изредка продавал в городке вещи, еще годные к употреблению.
Сейчас ни Чоппера, ни Майло поблизости было не видать…
Поначалу мы собирались наполнить фляги из ведра, однако вода там была теплая и противная, поэтому пришлось все-таки качать. Верн присоединил шланг к горловине насоса, и Тедди приступил к работе. Качал он в лихорадочном темпе, и наконец усилия его были вознаграждены – из шланга полилась струя чистой прохладной воды. Крис с Верном тут же подставили под струю головы, в то время как Тедди продолжал качать как сумасшедший.
– Совсем наш Тедди полоумный, – тихонько проговорил я.
– Это точно, – согласился со мной Крис. – Держу пари, что долго он так не протянет – отправится по стопам папаши. Взять хотя бы его игру с трейлерами на шоссе… Да и потом, он же не видит ни черта, даже в очках.
– А помнишь тот случай с деревом?
– Ну еще бы.
В прошлом году Тедди с Крисом забрались как-то на высоченную сосну, которая росла за моим домом. Они уже залезли почти на самый верх, и тут Крис заявил, что дальше лезть нельзя: ветви могут не выдержать. Тогда-то у Тедди снова появилось знакомое бешеное выражение на лице, и он упрямо полез вверх, намереваясь добраться до самой макушки. Отговорить его Крис так и не смог. Тедди – вы только представьте себе! – все-таки залез на самый верх, правда, весил он всего семьдесят пять фунтов… Ухватившись за верхушку дерева, он принялся орать, что весь мир теперь у его ног, и тому подобные глупости, и тут раздался треск: сучок, на котором стоял Тедди, подломился, а вслед за этим произошло нечто такое, что вполне может служить доказательством существования Бога. Повинуясь какому-то шестому чувству, Крис вытянул руку и… ухватил Тедди Душана за волосы. Он вывихнул запястье (рука у Криса впоследствии не действовала недели две), однако продолжал удерживать визжащего Тедди до тех пор, пока тот не нащупал ногой крепкий сук. Если бы не Крис, он бы пролетел добрых сто двадцать футов сквозь острые сучья, после чего от него бы, разумеется, и мокрого места не осталось. Когда они наконец слезли, лицо Криса было пепельно-серым, а этому засранцу Тедди хоть бы хны! Он, как водится, набросился на своего спасителя с кулаками за то, что Крис схватил его за волосы, и роль миротворца выпала тогда мне.
– Мне тот случай до сих пор по ночам снится. – Крис посмотрел на меня, в глазах его мелькнула какая-то незащищенность. – Вот только во сне схватить его я постоянно не успеваю или же в руке остается лишь клок его волос, а Тедди с воплем падает и падает… Кошмар, правда?
– Кошмар, – согласился я.
На какое-то мгновение взгляды наши встретились, и в этот краткий миг мы поняли, что останемся друзьями навеки. Затем мы отвернулись друг от друга и принялись наблюдать за плещущимися в воде Тедди и Верном.
– Но ты же все-таки успел его схватить, – проговорил я. – Крис Чамберс всегда и везде успевает, не так ли?
– Особенно в общении со слабым полом, – подмигнул мне Крис и, сложив большой и указательный пальцы в кольцо, метко сквозь него плюнул.
Я расхохотался.
– А вы что там застыли, как пеньки? – крикнул нам Верн. – Дожидаетесь, пока вода кончится?
– Ну что, бежим наперегонки? – предложил Крис.
– По такой жаре? Совсем рехнулся.
– Слабо, да? – с ухмылкой принялся подначивать меня он. – Ну, кто первый?
– Ничего не слабо!
– Тогда бежим!
Мы рванули – только пыль из-под ног полетела. Зрители, поддерживая нас, завопили: Верн болел за Криса, а Тедди – за меня. Финиша мы достигли одновременно и, хохоча, рухнули на пожелтевшую траву рядом с колодцем. Крис швырнул Верну свою флягу. Как только он ее наполнил, мы с Крисом принялись поливать друг друга из шланга – сначала он меня, а затем я его. Вода оказалась просто ледяной, совсем как в январе, но при такой жаре это было как раз то, что надо. Покончив с купанием, мы присели в тени единственного дерева – чахлого ясеня, росшего футах в сорока от лачуги Майло Прессмана. Дерево резко склонилось на запад, создавая впечатление, что его единственным желанием было подхватить корни – так, как дамы в исторических фильмах подхватывают на ходу пышные юбки, – и убраться куда-нибудь к черту на кулички из этой Богом проклятой дыры.
– Кайф! – счастливо засмеялся Крис, откидывая со лба мокрые волосы.
– Да, так бы жил да жил, – вздохнул Верн.
Мне показалось, что он имел в виду не только то, что мы вырвались на свободу, не только предстоящее нам в Харлоу приключение, но и нечто большее. Сейчас действительно весь мир был у наших ног. У нас была цель, и мы знали, как ее достичь. Это поистине великое чувство.
Мы еще немного посидели под деревом, болтая о всякой всячине вроде того, кто станет в этом сезоне чемпионом (при этом сошлись во мнении, что, конечно, «Янки» – ведь за них теперь играли Мэнтл с Мэрисом), какая тачка лучше всех (конечно, «тандерберд» 1955 года, хоть Тедди и утверждал упрямо, что «корвет» 1958 года даст «тандерберду» сто очков вперед), кто не из нашей команды самый крутой парень в Касл-Роке (все согласились, что это Джейми Гэллант, потому что он кое-что показал миссис Эвинг, а когда та принялась на него орать, спокойно – руки в карманах – вышел из класса), что было по «ящику» достойного внимания (безусловно, «Неприкасаемые» и «Питер Ганн» – оба фильма с Робертом Стэком, Эллиотом Нессом, а также Крейгом Стивенсом в роли Ганна). Ну и тому подобное…
Тень от ясеня становилась все длиннее. Первым это заметил Тедди и поинтересовался у меня, который час. С удивлением я увидел, что уже четверть третьего.
– Кому-то нужно отправляться за едой, – сказал Верн. – Свалка открывается в четыре, а мне бы не хотелось повстречаться с Чоппером и Майло.
С этим согласился даже Тедди. На старого, тощего Майло ему было, конечно, наплевать, но вот при одном упоминании Чоппера у любого пацана из Касл-Рока душа уходила в пятки.
– Ну хорошо, – сказал я. – Держите по монете.
Четыре монетки блеснули на солнце, прежде чем упасть каждому на ладонь. Два орла и две решки… Мы опять подбросили монеты – на сей раз все четыре выпали решкой.
– О Господи, вот это уже погано, – выдохнул Верн.
Что погано, мы и без него знали: четыре решки, иначе говоря «луна», предвещали что-то крайне неприятное. Какое-то несчастье.
– Бросьте, это ровным счетом ничего не значит, – заявил Крис. – Давайте еще раз.
– Нет, дружище, – с убежденностью заговорил Верн, – «луна» означает, что худо дело. Помните историю с Клинтом Брейкеном и его приятелями? Билли рассказал мне, что, прежде чем сесть в тачку, они кинули монетки – кто побежит за пивом, – и выпала как раз «луна». И что от них осталось? Все четверо всмятку! Нет, парни, ей-богу, мне это не нравится.
– Да кто поверит в эту чепуху? – нетерпеливо заворчал Тедди. – Все это байки, Верн, для маленьких детей. Давай кидай монетку.
Верн с очевидной неохотой кинул монету, а за ним и остальные. На этот раз им, всем троим, выпала решка, а на моем пятаке сиял профиль Томаса Джефферсона. Внезапно мне стало по-настоящему страшно: как будто сама судьба предвещала нам несчастье уже вторично. Или по крайней мере им троим. На память вдруг пришли слова Криса: В руке остается лишь клок его волос, а Тедди с воплем падает и падает… Кошмар, правда?
Три решки, один орел…
Раздался безумный хохот Тедди, и тут же ощущение страха у меня прошло. Тедди со смехом указывал на меня пальцем. В ответ я продемонстрировал ему фигу.
– Чего ты ржешь, как сивый мерин после случки?
– Гы-ы-ы, Горди… – надрывался Тедди, – давай чеши-ка за едой, засранец скребаный…
Я и не возражал: после такого отдыха пройтись до магазинчика «Флорида» мне казалось плевым делом.
– Это тебя так матушка твоя зовет? – поддел я Тедди.
– Гы-ы-ы, – не унимался он. – Лашансу явно не везет в азартных играх…
– Давай, Горди, – сказал Крис. – Мы будем тебя ждать у железки.
– Не вздумайте меня бросить, – предупредил их я.
Теперь уж засмеялся Верн:
– Куда ж мы без тебя, Горди? Да еще на пустой желудок…
– Вот с этого и начинал бы.
Я снова показал кукиш, на этот раз не только Тедди, и, повернувшись, отправился в путь. Они все еще ржали мне вслед. Теперь, вспоминая прожитое, я вижу, что лучших друзей, чем тогда, когда мне было всего двенадцать, я больше уже в своей жизни не встречал. Интересно, только ли со мной так получилось?
12
Недаром говорят: на вкус, на цвет товарища нет, и слово лето, понятное дело, вызовет у вас совершенно иные ассоциации, нежели у меня. Услыхав его, я непременно вспоминаю себя бегущим в кедах по девяностоградусной жаре к магазинчику «Флорида», позвякивая мелочью в кармане. Еще при этом слове в памяти моей встает железнодорожная колея, уходящая вдаль, к горизонту, сверкающие на солнце рельсы, такие ослепительные, что я продолжаю видеть их и при зажмуренных глазах, только тогда они меняют цвет, становясь из белых голубыми.
Помимо нашей экспедиции к реке на поиски тела несчастного Рэя Брауэра воспоминание о лете 1960 года будит у меня и ряд других ассоциаций. Так, в голове почему-то непременно возникают одни и те же мелочи: «Неслышно приблизься ко мне» в исполнении «Флитвудз», «Дорогая Сузи» Робина Люка и «Бегом к дому» Малыша Энтони. Были ли именно эти песенки суперхитами сезона? И да, и нет, хотя скорее всего были. Долгими багряными вечерами того лета их крутили по радио ежедневно по нескольку раз, вперемежку с бейсбольными репортажами. Бейсбол стал тогда частью моей жизни. Я внезапно осознал, что бейсбольные звезды, по крайней мере некоторые из них, в чем-то мне очень близки. Произошло это после появления на первых страницах газет сообщения об автокатастрофе, в которую попал знаменитый Рой Кампанелла: он не погиб, однако навсегда остался прикованным к креслу-каталке. Такое же ощущение посетило меня вновь совсем недавно, когда, садясь за пишущую машинку, я услыхал по радио о гибели Тармена Мансона при неудачной посадке самолета.
Еще тем летом мы довольно часто бегали в кино (того старенького кинотеатра под названием «Жемчужина» теперь в Касл-Роке уже нет). Больше всего я любил смотреть научно-фантастические картины вроде «Гога» с Ричардом Иганом в главной роли, вестерны с Эди Мэрфи (Тедди прямо-таки боготворил Эди Мэрфи и по меньшей мере трижды пересмотрел все фильмы с его участием), а также ленты про войну, особенно с Джоном Уэйном. Ну и, конечно, у нас были разнообразные игры: те же карты, бейсбол, «расшибалочка» на деньги – обычные мальчишеские забавы. Все это было, однако теперь, когда я, тупо уставясь на клавиатуру машинки, вспоминаю то безумно жаркое лето, перед глазами встает лишь одна картина: потный Гордон Лашанс в кедах и джинсах, бегущий, звеня мелочью, по пыльной дороге к магазинчику «Флорида».
Хозяин магазина по имени Джордж Дассет сложил в пакет три фунта гамбургеров, четыре бутылки кока-колы и открывалку за два цента. Это был громадных размеров мужчина с накачанным пивом брюхом, выпиравшим из-под белой футболки на манер надутого ветром паруса. Как только я появился в его заведении, он, посасывая зубочистку и опершись толстыми, как сардельки, пальцами о прилавок, принялся наблюдать, не сопру ли я чего, и заговорил, лишь когда стал взвешивать гамбургеры:
– А я, кажется, знаю тебя, парень. Ты – брат Денни Лашанса, так?
При этих словах зубочистка перекочевала из одного уголка его рта в другой. Он, пыхтя, достал из-под прилавка бутылку содовой и открыл ее.
– Совершенно верно, сэр, вот только Денни…
– Я знаю. Печальная история, малыш. Как говорится в Библии, «и в расцвете лет помни, человек, что ты смертен». Вот так, малыш… Знаешь, у меня брат погиб в Корее. Тебе когда-нибудь говорили, как ты похож на Денни? Да-да, ну просто копия брата…
– Да, сэр, говорили, – соврал я.
– Я ведь отлично помню, каким он классным был полузащитником. Вот это игрок, Бог ты мой! Ты тогда был слишком мал и вряд ли что-то запомнил…
Он уставился поверх меня куда-то в пространство, словно перед его глазами возникло вдруг видение моего брата.
– Ну почему же? Прекрасно помню. Эй, мистер Дассет…
– Что, малыш?
От нахлынувших воспоминаний глаза его затуманились, а зубочистка слегка вздрагивала во рту.
– Снимите руку с весов.
– Что-что? – В легком недоумении он уставился на тарелку весов, где рядом с гамбургерами покоились его пальцы-сардельки. – Ах да… Извини, задумался о твоем брате, упокой, Господи, душу его. – Он убрал ладонь с весов, и стрелка тут же прыгнула вниз на добрых шесть унций. Пришлось-таки ему доложить еще гамбургеров. – Ну хорошо, держи, – сказал он, протягивая мне пакет. – Посмотрим, что тут у нас получилось… Три фунта гамбургеров – доллар и сорок четыре цента, рулет – двадцать семь, четыре воды – сорок, плюс открывалка за два цента. Итого… Он пощелкал костяшками счетов, – два двадцать девять.
– Тринадцать, – возразил я.
Нахмурившись, он медленно поднял на меня глаза:
– Что ты сказал?
– Два тринадцать. Вы неправильно посчитали.
– Ты что, малыш…
– Вы неправильно считаете, – повторил я. – Сначала вы собирались меня обвесить, мистер Дассет, а теперь хотите обсчитать? У меня была мысль оставить вам несколько центов чаевых, однако теперь я, наверное, от этого воздержусь.
Я выложил перед ним ровно два доллара и тринадцать центов мелочью. Он хмуро посмотрел на деньги, затем на меня. Лоб его пересекли глубокие морщины.
– Да ты в своем уме, молокосос?! – В тоне его звучала неприкрытая угроза. – Считаешь себя чересчур умным, да?
– Не чересчур, сэр, а в самый раз. И я вам не молокосос. Что бы сказала, интересно, ваша собственная мамочка, узнай она, что ее сыночек обсчитывает, как вы говорите, малышей?
Он чуть ли не в лицо швырнул мне пакет. Бутылки с кокой сердито зазвенели. Физиономия его побагровела, и он заорал:
– Вон из моего магазина, молокосос! Смотрите, какой умник нашелся! Сукин ты сын, не вздумай появиться у меня еще раз – вышвырну к чертовой матери, так и знай!
– Успокойтесь, не появлюсь, – парировал я, направляясь к двери. Жара за ней стояла несусветная. Солнце, хоть и давно перевалило полуденную отметку, продолжало палить нещадно. – И непременно прослежу за тем, чтобы ни один из моих друзей – а их у меня где-то с полсотни – никогда не сунул нос в вашу парашу.
– Ублюдок! – завопил Джордж Дассет. – Брат твой не был таким!
– Да пошел ты…
Указав точный адрес, я выскочил на улицу. Дверь за мной с пушечным выстрелом захлопнулась. Вдогонку я услышал:
– Ну погоди, гаденыш, как только я тебя еще увижу, к чертовой матери башку оторву!
Не переставая хохотать, хоть, честно говоря, сердце у меня и колотилось, я добежал до ближайшего пригорка и только тогда перешел на шаг, поминутно оборачиваясь: черт его знает, вдруг он погнался за мной на машине или еще что…
Он, однако, не стал гнаться, и очень скоро я добрался до ворот свалки. Сунув пакет за пазуху, я перелез через ограду, спрыгнул на другой стороне и тут увидел то, что мне уж совершенно не понравилось: возле лачуги Майло Прессмана стоял его потрепанный «бьюик» 1956 года. Значит, Майло уже явился на работу, и если меня угораздит напороться на него, тогда пиши пропало. Пока что ни его, ни вселяющего ужас Чоппера нигде не было видно, к тому же конура монстра располагалась в дальнем конце свалки, и тем не менее я уже пожалел, что перелез через ограду – ведь мог же обойти свалку стороной. Как бы то ни было, лезть обратно теперь еще опаснее: Майло может запросто меня заметить и спустить свое чудовище с цепи.
В голове у меня слегка помутилось от страха. Стараясь выглядеть как можно невиннее – будто свалка и есть мой дом родной, – я не торопясь направился к той части изгороди, за которой виднелись железнодорожные рельсы.
Футах в пятидесяти от загородки, когда мне начало уже казаться, что на сей раз пронесло, я вдруг услышал крик Майло:
– Эй! Эй, парень! Ты что тут делаешь? Ну-ка сейчас же отойди от загородки!
Мне бы послушаться его, однако страх, наоборот, погнал меня к изгороди так, что только пятки засверкали. По ту сторону решетки я заметил обеспокоенные лица Верна, Тедди и Криса.
– А ну вернись! – орал мне вслед Майло. – Вернись, паршивец, или я пса спущу!
Угроза эта словно подтолкнула меня, и я удвоил скорость. Пакет с едой трепыхался за пазухой. Тут я услышал идиотский хохот Тедди, крик Верна:
– Скорее, Горди! Ну же, давай быстрей! – и сразу вслед за этим команду Майло:
– Взять его, Чоппер! Фас его, малыш!
Верн, оттолкнув Тедди, поймал пакет, который я перекинул через загородку. Представив ринувшегося за мной Чоппера – огнедышащее, клыкастое чудище, от топота которого земля вдруг содрогнулась, я заорал благим матом, одним прыжком взвился на изгородь и, будто мешок с дерьмом, шлепнулся по другую ее сторону, совершенно не заботясь, куда именно. Свалился же я на продолжавшего гоготать Тедди, сбив с его носа очки и больно ударившись о его мосластое тело. В тот же миг Чоппер, наткнувшись на непреодолимое препятствие, лязгнул у меня за спиной челюстями и издал протяжный, полный разочарования вой. Несмотря на боль, я тут же обернулся, чтобы, теперь уже будучи в безопасности, впервые собственными глазами увидеть легендарного монстра.
И тут уже я не смог скрыть разочарования: легенды имели довольно мало общего с действительностью.
Вместо громадного свирепого волкодава с пылающими глазами и капающей с кинжалообразных клыков слюной на меня, жалобно поскуливая, смотрела обыкновенная белая с черными пятнами дворняга средних размеров. Дворняга встала на задние лапы, безуспешно пытаясь вскарабкаться на загородку, по другую сторону которой уже пришедший в себя Тедди дразнил ее мартышечьими прыжками и ужимками.
– Поцелуй-ка, Чоппи, меня в задницу! – приговаривал он, обнажая эту самую часть тела. – Хочешь дерьмеца попробовать? Вкуснятина! А ну куси меня за зад!
Чоппер сделал бы это с превеликим удовольствием и даже умудрился просунуть морду сквозь решетку, за что тут же и получил по носу. Обиженная псина завизжала, а Тедди продолжал крутить перед собачьим носом задницей, обзывая его так, что даже песьи уши такого унижения не вынесли. Чоппер лег, положил окровавленную морду на передние лапы и заскулил. Мы с Крисом и Верном чуть не лопались от хохота.
Майло Прессман в бейсбольной кепочке, весь в поту и с перекошенной от злобы физиономией, подбежал к загородке, крича:
– Эй вы, паршивцы! Не смейте дразнить пса! Слышите, что я вам говорю? Сейчас же перестаньте!
– Куси меня, Чоппи! – не унимался Тедди, прыгая за загородкой с голой задницей. – Куси меня за попу! – Ну же, давай!
Ей-богу, такого дурного пса я в жизни не встречал. Чоппер забегал кругами, не переставая завывать и, очевидно, собираясь с силами, а затем, разогнавшись до скорости миль тридцать в час, ринулся прямо на ограду. Хотите верьте, хотите нет – пес налетел на металлическую решетку с такой силой, что та, издав звук лопнувшей струны, чуть-чуть не сорвалась со столбов-опор. Из пасти Чоппера вырвался сдавленный рык, глаза закатились, он сотворил в воздухе нечто вроде сальто-мортале, после чего шлепнулся на спину, подняв столп пыли. Несколько мгновений он лежал без движения, затем стал потихоньку отползать со свесившимся из пасти языком.
После этого Майло окончательно потерял голову. Физиономия его стала какой-то сливовой, и даже белки глаз побагровели. Все еще сидя в пыли с разорванными на коленях джинсами и колотящимся от только что пережитого ужаса сердцем, я подумал, что хозяин был сейчас поразительно похож на своего пса.
– Я знаю тебя! – заорал Майло. – Ты Тедди Душан! Я всех вас знаю, гаденыши! Это надо же, сотворить такое с бедной псиной… Вот я вас сейчас!
– Ага, попробуй, – крутил задницей Тедди. – Давай, лезь сюда к нам, задница, а мы посмеемся!
– Что-о-о?! Как ты меня назвал? – не веря своим ушам, взревел Майло.
– ЗАДНИЦА! – с каким-то непонятным сладострастием повторил Тедди. – ДЕРЬМА КУСОК! ХРЕН СТАРЫЙ! ЛЕЗЬ СЮДА, ЛЕЗЬ! – Тедди разошелся не на шутку: глаза его горели, кулаки сжались, пот стекал по лицу. – ЧТО, НЕ МОЖЕШЬ? ТЫ ТОЛЬКО СПОСОБЕН НАУСЬКИВАТЬ СВОЮ ПОГАНУЮ ПСИНУ НА ЛЮДЕЙ? ДАВАЙ, ЛЕЗЬ К НАМ!
– Ах, сопляк паршивый, отродье психопата! Ну подожди, твоя мамаша будет отвечать перед судьей за то, что довел моего песика до инфаркта!
– Как-как ты меня обозвал? – зловеще прошипел Тедди, переставая прыгать и скакать. Глаза его расширились, а кожа приобрела свинцовый оттенок.
Обозвать-то его Майло успел уже по-всякому, но лишь одно ругательство попало в цель (меня не перестает поражать способность людей находить самое больное место у тех, кого хотят обидеть или оскорбить), и это было ОТРОДЬЕ ПСИХОПАТА. Поняв, что попал в точку, Майло повторил с ухмылкой:
– Думаешь, я не знаю, что твой папаша шизик? Недаром его заперли в психушку… И сынок такой же ненормальный. Яблочко от яблони…
– ЗАМОЛКНИ, МАТЬ ТВОЮ!.. – взвизгнул Тедди, не помня себя от бешенства. – ЕСЛИ ТЫ ЕЩЕ ХОТЬ РАЗ НАЗОВЕШЬ МОЕГО ОТЦА ПСИХОПАТОМ, Я ТЕБЯ, ПИДОР ВОНЮЧИЙ, К ЕДРЕНОЙ МАТЕРИ ПРИШЬЮ!
Такого мне от Тедди слышать еще не доводилось.
– Психопат, психопат, – жал на больное место Майло. – Отродье психа и сам псих. Чудило грешное!
Видя, что дело заходит слишком далеко, Верн с Крисом перестали хохотать, но когда Тедди обозвал матушку Майло старой мандавошкой, снова грохнули.
– Хватит… – стонал Крис, суча ногами и перекатываясь со спины на живот, – сейчас лопну со смеху, перестань, Тедди…
Очухавшийся Чоппер заковылял к хозяину. Вид у него был как у боксера после нокаута. Тем временем Тедди и Майло, разделенные лишь сеткой, продолжили дискуссию.
– Не смей трогать моего отца, подонок гребаный! – орал Тедди. – Мой отец в Нормандии воевал.
– Ага, а сейчас он где? – Не унимался Майло. – Ну, ты, сопляк четырехглазый, скажи, где твой папаша! В дурдоме, да? В ДУРДОМЕ, ВОТ ОН ГДЕ!
– Ну все, – выдохнул Тедди, – сейчас я буду тебя кончать.
С этими словами он полез на загородку. Майло осклабился, но на всякий случай сделал шаг назад, приговаривая:
– Давай, давай, иди сюда, молокосос…
– Стой! – заорал я, хватая Тедди за джинсы и оттаскивая от загородки.
Как и в прошлый раз у насыпи, мы с ним покатились кубарем. Внезапно Тедди двинул мне коленом между ног. Вы когда-нибудь получали между ног коленом? Тогда вы знаете, что это за дикая боль. И тем не менее Тедди я не выпустил.
– Пусти! – уже не вопил, а выл он, напрасно пытаясь вырваться. – Пусти меня сейчас же, Горди! Я никому не позволю оскорблять своего старика. ЧЕРТ ТЕБЯ ПОБЕРИ, ГОРДИ, ОТПУСТИ МЕНЯ!
– Ты что, не понимаешь, что он только этого и ждет? – кричал я ему в ухо. – Ему того и надо, чтобы ты перелез через загородку – тогда он вышибет из тебя мозги, а потом вызовет полицию.
– Что-что? – очнулся Тедди при упоминании полиции.
– Пусти его, парень, – сказал Майло, снова подходя к решетке и сжимая кулачищи. – Пусть сам ответит за свои слова. Мужчины должны драться один на один.
– Ну разумеется, – усмехнулся я, – вот только вы с ним в разном весе: Тедди легче фунтов этак на пятьсот.
– Так-та-а-ак, – с угрозой протянул Майло, а я ведь и тебя знаю. Твоя фамилия Лашанс, да? – Он показал на Криса с Верном, которые, наконец оправившись от приступа смеха, поднялись с земли. – А это Крис Чамберс, и с ним один из этих дебилов, братьев Тессио. Так вот, ваши отцы получат вызов в суд, кроме, разумеется, вот этого шизика, у которого папаша в дурдоме. Вы все несовершеннолетние правонарушители, и место вам в исправительной колонии. Туда вы и отправитесь, все четверо!
Он стоял, широко расставив ноги, грозя нам кулаком, глаза при этом у него были словно щелки. Чего он добивался: чтобы мы попросили у него прощения или, может, выдали ему Тедди, чтобы он на него натравил своего Чоппера?
Крис ответил ему своим коронным жестом: сложил большой и указательный пальцы буквой О и сплюнул сквозь нее. Верн, хмыкнув, посмотрел на небо. Тедди сказал:
– Пойдем, Горди, отсюда, пока я не сблевал от одного вида этой задницы…
– Посмотрим, маленький ублюдок, как ты у констебля запоешь, – прошипел Майло.
– Мы слышали, что вы тут говорили про его отца, – оборвал я его, – мы будем свидетелями, если что… И еще: вы натравили на меня собаку, а это противозаконно.
Майло явно не ожидал такого оборота.
– Ты проник в закрытую зону, – неуверенно пробормотал он.
– Ни фига подобного! Свалка – не частная собственность.
– Ты перелез через ограду.
– Конечно, перелез, после того как вы натравили на меня пса, – возразил я, надеясь, что Майло не видел, как я сначала перелез внутрь. – А что мне оставалось делать? Стоять столбом и дожидаться, пока он разорвет меня на мелкие кусочки? Ладно, пошли, ребята. Вонь тут стоит просто невыносимая…
– В колонию вас всех, – пообещал еще раз Майло, однако без прежней убежденности в голосе. – Таким умникам, как вы, там только и место.
– Мне просто не терпится заявить в полицию, как он обозвал героя войны психопатом, – бросил Крис через плечо, отходя от загородки. – А где во время войны были вы, мистер Прессман, а?
– НЕ ТВОЕ СОБАЧЬЕ ДЕЛО! – рявкнул Майло. – ВЫ МНЕ ОТВЕТИТЕ ЗА МОЕГО ПСА!
– Засунь своего пса знаешь куда… – огрызнулся напоследок Верн, карабкаясь по железнодорожной насыпи.
– Вот погодите, доберусь я до вас! – крикнул Майло нам вдогонку уже совсем без энтузиазма.
Тедди не мог не ответить ему неприличным жестом. Когда мы забрались на насыпь, я обернулся: крупный мужчина в бейсбольной кепочке стоял с собакой возле загородки и что-то продолжал кричать нам вслед. Внезапно я почувствовал к нему что-то вроде жалости: он напоминал второгодника-переростка, запертого по ошибке на школьной спортивной площадке, орущего, чтобы его выпустили. Он поорал еще немного, а затем либо заткнулся, либо мы отошли уже слишком далеко. Так или иначе, больше в тот день мы не видели ни Майло, ни его Чоппера.
13
После довольно бурных восторгов (в которых, впрочем, ощущалось некоторое смущение) по поводу того, как мы великолепно проучили Майло Прессмана, я поведал об инциденте, происшедшем в магазинчике «Флорида». Вслед за этим наступило продолжительное молчание: каждый из нас по-своему переживал оба эпизода.
Я, к примеру, сделал вывод, что судьба предупреждала нас не напрасно (помните историю с монетками?), хоть все могло обернуться гораздо хуже: не хватало еще, чтобы мои предки, не успев потерять одного сына, были вынуждены навещать второго в исправительной колонии. Их бы это окончательно убило… Ведь Майло, не будь он таким тупым, мог запросто догадаться, что я действительно перелез через загородку, тем самым нарушив право собственности, не важно, частной или общественной. А раз так, он, вероятно, имел полное право не только отвести меня в полицию, но и натравить своего пса-идиота, который, даже не будучи тем монстром, каким его изображали, вполне мог изорвать мне в клочья не только джинсы, но и кое-что еще. Все это показывало, что денек сегодня выдался поистине несчастливым. Быть может, сам Господь предостерегал нас таким образом от нашей затеи? В конце концов, что это за цель у нас – полюбоваться на раздавленного поездом мальчишку?
Как бы то ни было, мы продолжали свой путь, и ни один из нас не собирался возвращаться…
Мы уже почти добрались до моста через реку, когда Тедди внезапно разрыдался. Именно разрыдался. Так это было неожиданно для нас и настолько слезы были горькими, словно внутри у него лопнула некая туго натянутая струна. Это было как гром среди ясного неба: только что он спокойно, быть может, чуть задумчиво шагал рядом и вдруг медленно опустился на шпалы, весь как-то сжался, закрыл ладонями то, что осталось у него от ушей, и принялся рыдать, судорожно всхлипывая.
Мы остановились, пораженные. Это не были слезы боли, когда тебя, к примеру, сбивают с ног во время игры или ты на полном ходу врезаешься на велосипеде в столб. Точнее говоря, физической боли Тедди, безусловно, не испытывал. Слегка напуганные, мы на всякий случай отошли немного от него и стали наблюдать за ним, не зная, что в таких случаях надо делать.
– Эй, дружище… – неуверенно произнес Верн. Мы с Крисом в надежде посмотрели на него: обычно «Эй, дружище!» было неплохим началом, однако больше ничего Верн из себя выдавить не смог.
Тедди всем телом наклонился вперед и закрыл ладонями лицо, словно правоверный магометанин во время молитвы. Нам, однако, было не до смеха…
Наконец рыдания немножечко ослабли, и Крис приблизился к нему. Мне уже приходилось отмечать, что Крис в нашей компании был самым крутым (может, полагал я, и покруче Джейми Гэлланта), но он еще был и самым лучшим утешителем и миротворцем. К таким делам он обладал просто потрясающими способностями. Сколько раз мне доводилось наблюдать, как он подсаживался к совершенно незнакомому пацану с разбитыми коленками и начинал заговаривать ему зубы, болтая о чем угодно – о скором приезде цирка или недавнем показе «Собаки Баскервилей» по телевизору, пока малыш не забывал напрочь о своих ранах. Да, к таким вещам у Криса был талант. Хотя, может, и для этого необходимо быть крутым.
– Послушай, Тедди, – проговорил он, – какого дьявола ты обращаешь внимание на то, что эта толстозадая скотина наплела про твоего отца? Нет, ты подумай сам, подумай! От его слов что-нибудь изменилось? Хоть что-нибудь?
Тедди резко качнул головой. Не изменилось-то, конечно, ничего, но слышать такое, то, о чем он, вероятно, думал сотни раз, чего он подсознательно страшился более всего на свете… Нет, для Тедди это было ужасно.
– Что, разве твой отец не воевал в Нормандии? – продолжал Крис, сжимая потные ладони Тедди. – Ведь воевал же, правда? – Тедди, все еще рыдая, резко закивал. – А это жирное дерьмо? Он, думаешь, хоть раз в жизни нюхал порох?
Тедди снова покачал головой.
– Что может знать он о твоем отце?
– Н-ничего, – всхлипнул Тедди, – и все-таки…
– Разве они с твоим отцом были приятелями?
– НЕТ! – воскликнул Тедди с каким-то ужасом и одновременно со злостью. Сама эта мысль показалась ему кощунственной.
В правом ухе Тедди, сейчас не закрытом волосами, я заметил кнопку слухового аппарата – предмет гораздо более привлекательный, нежели само ухо. Надеюсь, вы поймете, о чем это я.
– Что бы там ни произошло между тобой и твоим стариком, – продолжал Крис спокойным, убедительным тоном, – это не касается абсолютно никого, кроме вас двоих, а уж тем более этой грязной свиньи.
Тедди неуверенно кивнул. Боль немного утихла после таких простых и в то же время поразительно наглядных доводов Криса. Надо будет
(отродье психопата)
все это обдумать
(в дурдоме, вот он где)
но только позже, не сейчас… Долгими бессонными ночами.
Крис потряс его за плечо:
– Он же дразнил тебя, ты что – не понял? Хотел выманить за загородку, а ты, чудило, рад стараться. Ни черта он о твоем старике не знает, кроме, может, сплетен, прихваченных в пивнушке. Да он просто козел, Тедди, обыкновенный вонючий козел. Выброси из головы, что он тебе наплел, договорились? Ну вот, молодец.
Рыдания отпустили Тедди. Он достал платок, вытер покрасневшие глаза и сел на корточки.
– Вот, я уже в порядке, – проговорил он, прежде всего стараясь убедить в этом самого себя. – Да, все нормально… – Он поднялся, нацепил на нос очки (прикрыл наготу лица, подумал я) и, вымученно засмеявшись, побренчал пальцами по губам. – Ну вот, разнюнилась деточка, да? Так вы подумали?
– Ну нет, дружище, – нетвердо возразил Верн, – если б какой-то подонок принялся оскорблять моего отца…
– Ты бы выпустил из него кишки! – окончил фразу Тедди. – Так, да? Правильно я говорю, Крис?
– Правильно. – Крис хлопнул Тедди по плечу. – Когда-нибудь ты так и сделаешь, но не сейчас.
– А ты, Горди, как считаешь?
– Абсолютно верно, – заявил я, в душе же недоумевая такой чувствительности Тедди по отношению к отцу, который чуть его не убил, в то время как мне на моего старика было в общем-то наплевать, хоть он ни разу в жизни и пальцем меня не тронул, за исключением одного случая, когда я в три года достал из ванной синьку и принялся ее поедать.
Мы прошли по рельсам пару сотен ярдов, и Тедди вдруг сказал виноватым тоном:
– Простите меня, парни. Там, у изгороди, я вел себя как идиот. Все вам настроение испортил…
– Настроение у нас еще только будет испорчено, – внезапно заявил Верн. – На этот счет у меня нет никаких сомнений.
– Хочешь вернуться? – тут же отреагировал Крис.
– Н-нет… – нахмурившись, ответил Верн, – но все-таки… Я, честно говоря, не знаю, как это сказать… поймете ли вы меня… что-то нехорошее есть в том, что мы идем глядеть на труп, будто на экскурсию. – Взгляд его вдруг стал затравленным. – Признаться, я, кажется, немного трушу… Непонятно вам?
Не дождавшись ответа, Верн продолжал:
– Знаете, иногда меня мучают кошмары. Помните, Денни Нотон притащил как-то стопку старинных книжек про вампиров, расчлененные трупы и всякое такое дерьмо? Вот подобная мерзость мне и снится: то повешенный с позеленевшей физиономией и высунутым языком, то какая-нибудь гадость под кроватью, причем она так и норовит ухватить меня, допустим, за руку, если рука свесится во сне…
Мы закивали – с ним все было ясно. Детские кошмарики, страшные сны – кому же это не знакомо? Ни за что бы не поверил, если бы кто-то мне сказал тогда, что пройдет не так уж много времени и я на описании таких вот «ужастиков» заработаю порядка миллиона долларов.
– Хуже всего то, что мне приходится молчать про эти страхи, чтобы мой любимый братец… ну, Билли, черти бы его взяли… не растрезвонил всем и каждому, какой я трус. А я вовсе не трус… – Он с несчастным видом пожал плечами. – Но мне бы не хотелось видеть того парнишку. Ведь если он и в самом деле настолько плох, то непременно мне приснится, и не раз…
Сглотнув, я посмотрел на Криса – во взгляде его было понимание. Он поощрительно кивнул Верну: давай, мол, дальше, выскажись – легче будет.
– В общем, я боюсь, что он не просто станет посещать меня в кошмарных снах, но будет прямо-таки преследовать меня, лежа там, под кроватью, в луже крови, изрезанный на куски, и тем не менее двигаясь, понимаете, двигаясь… Он будет пытаться меня схватить!
– Бог ты мой! – выдохнул Тедди. – Что за дикие кошмары.
– Я ничего не могу с этим поделать, – словно оправдываясь, проговорил Верн. – И все же мне почему-то кажется, что мы должны его увидеть. Понимаете, должны… Но… Не нужно относиться к этому как к забавному приключению.
– Да, – тихо сказал Крис, – пожалуй, ты прав.
– Вы ведь никому не расскажете? – В голосе Верна послышалась мольба. – Не о кошмарах, разумеется, – они у всех бывают, а о том, как я просыпаюсь от того, что кто-то будто бы притаился под кроватью. Никому, ладно? Ведь я уже не маленький…
Мы пообещали, что, ясное дело, не скажем никому, и снова воцарилось чуть неловкое молчание. Было только без четверти три, однако дьявольская жара и обилие чрезвычайных происшествий создавали впечатление, что времени прошло гораздо больше, а до Харлоу было еще далеко. Следовало поторапливаться, чтобы хоть как-то приблизиться к цели до наступления темноты.
Мы вышли к железнодорожному разъезду с установленным на высокой ржавой мачте семафором. Каждый попеременно попробовал попасть камешком в одно из его металлических, давно не крашенных крыльев, однако это никому не удалось. Где-то в половине четвертого впереди показался мост через Касл-Ривер.
14
В 1960 году река в том месте достигала сотни ярдов в ширину, а может, даже больше. Не так давно я вновь посетил эти места и обнаружил, что Касл-Ривер стала намного уже. А как же иначе – столько заводов, фабрик, плотин понастроили вокруг за это время. Тогда же на всю длину реки – а она протекает через весь Нью-Хэмпшир и добрую половину Мэна – было всего лишь три плотины, и раз в три года Касл-Ривер выходила весной из берегов, заливая шоссе 136 в районе Харлоу или Джанкшена, а иногда и там, и там.
Сейчас, на исходе самого жаркого лета со времен Великой депрессии, река, как ни странно, ничуть не обмелела. Ее противоположный берег, поросший густым лесом, резко отличался от нашего. Высоченные сосны и ели казались голубоватыми в предвечерней дымке. Рельсы нависали над поверхностью воды на высоте примерно футов в пятьдесят, поддерживаемые толстенными деревянными сваями с деревянными же перекладинами. Вода была такой прозрачной, что, перегнувшись через перила, можно было запросто увидеть железобетонные плиты, установленные на глубине десять футов на дне реки и служившие фундаментом длинного и узкого моста. Впрочем, перегибаться через перила не было необходимости: вода виднелась сквозь зазоры шириной в четыре дюйма между перекладинами-шпалами. Расстояние между рельсами и краем моста не превышало восемнадцати дюймов: достаточно, быть может, чтобы увернуться от внезапно появившегося поезда, однако, если бы такое случилось, поток воздуха вполне мог сбросить зазевавшегося путника в воду или же на острые прибрежные камни, перила тут вряд ли помогли бы.
Стоя на берегу и разглядывая это ненадежное сооружение, все мы ощутили, как к горлу подкатывается страх, смешанный с неким задором – ведь одного такого путешествия через мост хватило бы, чтобы потом о нем рассказывать на протяжении нескольких недель… при условии, конечно, что путешествие окончится благополучно. В глазах Тедди я вновь заметил возбужденный блеск: держу пари, что на мост как таковой ему сейчас было абсолютно наплевать. Наверняка он видел другой берег, там, в далекой Нормандии, куда ревущий прибой выбрасывал десятки тысяч джи-ай. Они бежали по песку в своих высоких армейских ботинках, прыгая через мотки колючей проволоки, стреляя на ходу, швыряя гранаты в пулеметные гнезда, падая и снова поднимаясь в неукротимом порыве…
Мы подошли к месту, где насыпь заканчивалась и начинался собственно мост. Густой колючий кустарник покрывал откос, спускавшийся к самой воде, где меж огромных серых валунов каким-то образом пристроились несколько рахитичных елочек с торчащими наружу корнями.
Как я уже отмечал, вода в этом месте была еще совсем чистой: цепочка ткацких фабрик – основной источник загрязнения – начиналась в Касл-Роке, ниже по течению. Дно реки просматривалось великолепно, и тем не менее рыбой здесь и не пахло. Тот, кто хотел поймать хоть что-то в Касл-Ривер, должен был подняться миль на десять вверх, в сторону Нью-Хэмпшира. И даже в этом месте, кое-где у прибрежных камней можно было заметить хлопья пены цвета старой слоновой кости. Аромат от реки шел довольно специфический: вода пахла давно замоченным, но еще не выстиранным бельем. Тучи стрекоз откладывали здесь яйца безо всякой опаски – тут не водились даже пескари, не то что форель.
– М-да… – хмыкнул Крис.
– Идем же, – нетерпеливо сказал Тедди. – Ну, что вы встали?
Он первый быстрым шагом двинулся по шпалам меж сверкающих на солнце рельсов.
– Постойте-ка, ребята, – с некоторым смущением проговорил Верн. – Никто не знает, во сколько тут должен пройти ближайший поезд?
Все пожали плечами.
– Есть еще мост на шоссе… – предложил я.
– Ты что, очумел? – заорал Тедди. – Он отсюда в пяти милях по течению, и столько же придется отмахать в обратную сторону… Так мы на тот берег дотемна не попадем, а здесь мы перейдем реку минут за десять!
– Ну а если поезд? – проронил Верн, избегая встречаться взглядом с Тедди.
– Если бы да кабы… – презрительно сплюнул Тедди и вдруг проделал трюк: ухватился за одну из шпал и спрыгнул вниз, повиснув в воздухе, почти касаясь кедами земли, после чего в одно мгновение взлетел обратно и, отряхнув ладони, насмешливо взглянул на Верна. – Видишь, всего-то и делов, если поезд вдруг появится, так и сделаем, и все будет о’кей! От одной мысли, что придется так висеть в пятидесяти футах над поверхностью воды, а над головой будет в это время мчаться тяжелый состав, быть может, разбрасывая из-под колес искры в волосы и за шиворот, меня пробрала дрожь.
– А если пройдет поезд вагонов в двести? – Крис покрутил пальцем у виска. – Ты предлагаешь провисеть вот так минут пять, а может, и все десять?!
– Что, струсили? – заорал Тедди.
– Да нет, – ухмыльнулся Крис, – что ты распетушился? Просто лучше предусмотреть любые варианты.
– Ну так валяйте чешите в обход! – противно загундосил Тедди. – Так и быть, подожду вас, может, и посплю часок-другой.
– Один поезд уже прошел, – принялся рассуждать я, – а ходят они в Харлоу не так уж и часто: может, один-два в день. – Я пнул пучок травы, проросший между шпалами. – А вот на дороге между Касл-Роком и Льюистоном, где движение интенсивное, никакой травы не растет…
– Да-да, вот видите?! – победно вскричал Тедди, обрадовавшись неожиданной поддержке.
– И тем не менее всякое может случиться, – вылил я на него ушат воды.
– Вот именно, – сказал Крис. Глаза его внезапно заблестели, смотрел он только на меня. – Ну что, Лашанс, рискнем?
– Рискнем, пожалуй.
– О’кей, – заключил Крис, оглядывая Тедди и Верна. – Может, кто-нибудь откажется?
– НЕТ! – заорал Тедди, довольный.
Откашлявшись, Верн тоже выдавил из себя «нет», но его улыбка выглядела при этом довольно жалко.
– О’кей, – повторил Крис, однако все мы, даже Тедди, продолжали колебаться, меряя взглядом железнодорожную колею. Опустившись на колени, я пощупал рельс и тут же отдернул руку, таким он был горячим. Все же я выяснил, что хотел: рельс не дрожал, значит, поезда поблизости не было.
– О’кей, – повторил я вслед за Крисом, но как только это произнес, в желудке у меня возникло довольно неприятное ощущение, а сердце вдруг заколотилось.
Крис двинулся по рельсам первым, за ним Тедди, еще дальше Верн, а мне выпала роль замыкающего. Ступать приходилось по шпалам, а значит, нужно было постоянно смотреть под ноги: расплатой за один неверный шаг могла быть сломанная щиколотка – в лучшем случае. Смотреть же вниз, находясь на такой высоте, сами понимаете, не здорово…
Насыпь осталась позади, и с каждым следующим шагом во мне укреплялось чувство, что мы совершаем самоубийственную глупость. Прибрежные камни внизу сменились водой. Крис с Тедди уже почти достигли середины, чуть позади них осторожно двигался Верн, пристально глядя под ноги и на всякий случай балансируя руками. Я оглянулся. Все, тот берег был уже слишком далеко. Оставался один путь – вперед, и не только из-за поезда. Повернув назад, я прослыл бы трусом на всю оставшуюся жизнь.
Ну ладно, вперед так вперед… От неотрывного взгляда на бесконечную череду шпал и сверкающую в промежутках между ними воду меня слегка затошнило. С каждым новым шагом возникало ощущение, что вот сейчас нога провалится в пустоту, хоть я и был уверен, что ступаю правильно.
Вообще все чувства вдруг необычайно обострились. В голове заиграл какой-то полоумный оркестр, сердце колотилось, кровь стучала в ушах, суставы и сухожилия поскрипывали, а обертоном к этой какофонии служил плеск воды в реке, стрекот цикад и отдаленный собачий лай. Наверное, это Чоппер брешет, подумалось мне.
От напряжения мышцы ног подрагивали. Не лучше ли (а может, даже и быстрее) продолжить путь на четвереньках? Хотя, ясное дело, ни я, ни кто-то другой из нас не отважился бы на это: «ползает только проигравший» было одним из основных принципов «Евангелия от Голливуда». С пеленок мы усвоили, что настоящие мужчины несгибаемы в прямом и переносном смысле, что суставы с сухожилиями могут скрипеть лишь из-за притока адреналина в кровь, а мускулы подрагивают по той же причине. Что ж, так тому и быть.
Тошнота тем временем усиливалась. Чтобы с ней справиться, мне пришлось остановиться на середине моста и некоторое время смотреть только вверх, в пронзительно синее небо, но даже тогда шпалы не сразу перестали мелькать перед глазами. Я взглянул вперед: Крис с Тедди уж почти добрались до конца моста, а вот с Верном происходило что-то неладное. Теперь он находился лишь чуть впереди меня и двигался крайне медленно.
Я написал семь книг о различных парапсихологических явлениях: людях, способных читать мысли, наделенных даром предвидения и тому подобных вещах, но сам я испытал нечто вроде озарения единственный раз в жизни. Это произошло именно в тот момент, на середине моста через Касл-Ривер. Как будто что-то подтолкнуло меня, заставив опуститься на корточки и пощупать рельс. Ощущение было таким, словно я схватил извивающуюся железную змею: рельс просто ходуном ходил.
Вам, конечно, знакома фраза «внутри у него все похолодело»? Выражение более чем избитое, ведь так? Однако лично я просто не в состоянии как-то по-другому передать то, что мне довелось испытать в тот момент. Позднее чувство страха, и довольно сильное, мне приходилось испытывать неоднократно, но никогда я не был в таком ужасе, как в ту минуту, когда рельс трепыхался у меня в руке. Все, что находится у меня ниже горла, превратилось в ледяную глыбу, по ноге побежала струйка мочи, нижняя челюсть отвисла, язык прилип к нёбу, но хуже всего то, что меня словно парализовало. Ни один мускул не слушался, руки и ноги напрочь отказались двигаться. Это длилось лишь какое-то мгновение, но мне показалось, что прошла вечность.
Вслед за этим мозг мой будто электрошок пронзил, обострив все чувства до предела. Я услыхал шум летящего где-то самолета и даже успел подумать, как было бы замечательно оказаться там, на борту, сидя в мягком кресле у иллюминатора с бутылкой кока-колы и разглядывая блестящую извилистую ленту незнакомой мне реки. Я видел каждую щепочку, каждое волоконце шпалы, на которую присел, а в уголке глаза поблескивал рельс, за который я все еще держался. Я отдернул руку – ладонь продолжала вибрировать, как будто тысячи мелких иголок одновременно пронзили нервные окончания. Слюна во рту приобрела вкус свернувшегося молока и стала какой-то наэлектризованной. Но самое ужасное то, что я не слышал приближающегося поезда, поэтому не мог понять, откуда он появится – сзади или спереди, и на каком он расстоянии. Это был поезд-невидимка, единственным признаком которого оказался дрожащий рельс. Перед глазами промелькнула жуткая картина: растерзанное тело Рэя Брауэра, сброшенное в придорожную канаву. И нас ждет то же самое, по крайней мере меня с Верном, а может, и меня лишь одного. Мы сами заказали себе похороны.
Последняя мысль вывела меня из оцепенения, и я вскочил на ноги. Со стороны я был, наверное, похож на чертика из табакерки, но самому мне мои движения казались ужасно медленными, как при подводной съемке, когда кинокамера следит за водолазом, медленно поднимающимся на поверхность с глубины в пятьсот футов.
Однако на поверхность я, так или иначе, всплыл, стряхнув с себя оцепенение.
– ПОЕЗД!!! – не своим голосом заорал я и, окончательно выйдя из паралича, рванул с места.
Голова Верна дернулась, словно от удара током. На лице его мелькнуло искреннее изумление, но, увидев, как я сломя голову перепрыгиваю с одной шпалы на другую, он мгновенно понял, что это не шутка, и тоже бросился бежать, уже не глядя под ноги.
Неожиданно меня охватила какая-то глупая ненависть к Крису: этот хмырь уже был в безопасности. Я увидел, как он, далеко-далеко впереди, на противоположном берегу, склонился, чтобы пощупать рельс.
Моя левая нога вдруг провалилась в пустоту. Я выкатил глаза, неуклюже взмахнул руками, но тут же восстановил равновесие и опять помчался, теперь уже сразу вслед за Верном. Миновав середину моста, я наконец услышал поезд. Он приближался сзади, со стороны Касл-Рока. Звук этот, поначалу низкий и невнятный, становился с каждой секундой громче, и уже можно было разобрать отдельно рев мотора и мерный, вселяющий ужас перестук колес по рельсам.
– А-А-А! – заорал Верн.
– Беги же, дьявол! – крикнул я, подталкивая его в спину.
– Не могу! Я боюсь упасть!
– БЫСТРЕЙ!
– А-А-А… КАРАУЛ!!!
Но он и в самом деле побежал быстрее. Его голая потная спина с торчащими лопатками мелькала у меня перед глазами, мышцы ходили ходуном, а позвонки то выпирали, то куда-то проваливались. Он, так же, как и я, не выпускал из рук свернутые в скатку одеяла. Вдруг он чуть-чуть не оступился, притормозил, и мне пришлось еще раз хлопнуть его по спине.
– БОЛЬШЕ НЕ МОГУ, ГОРДИ! – взмолился он. – А-А-А!!!
– БЫСТРЕЕ, СУКИН ТЫ СЫН! – взревел я, внезапно с ужасом ловя себя на мысли, что мне вдруг… это начинает нравиться.
Подобное ощущение я испытал только однажды, да и то когда напился в доску. Мне нравилось погонять Верна Тессио, словно теленка, которого ведут на бойню…
Поезд грохотал уже совсем близко – вероятно, он находился сейчас у разъезда, где мы швыряли камешки в семафор. Я ждал, что мост вот-вот завибрирует, и это будет конец.
– БЫСТРЕЙ ЖЕ, ВЕРН! БЫСТРЕ-Е-ЕЙ!!!
– О Боже, Горди, Боже, Боже… А-А-А!!!
Воздух прорезал оглушительный, протяжный гудок – это был голос самой смерти:
У-У-У-А-А!!! У-У-У-А-А!!!
Гудок на секунду оборвался, и я скорее не услышал, а всей кожей ощутил крик Тедди и Криса:
– Прыгайте! Прыгайте же!
В тот же миг мост задрожал, и мы с Верном прыгнули.
Верн приземлился в песок у самого берега, а я скатился по откосу прямо на него. Поезда я так и не увидел. Не знаю даже, заметил ли нас машинист. Спустя пару лет я предположил, что, может быть, и не заметил, однако Крис сказал на это:
– Вряд ли он стал бы так гудеть, лишь только чтобы попугать ворон…
А почему бы, собственно, и нет? Так или иначе, тогда это было совершенно не важно. В момент, когда поезд проходил мимо, я закрыл ладонями уши и чуть ли не зарылся головой в песок, лишь бы не слышать оглушительного грохота и лязга, не ощущать обдавшей нас волны раскаленного воздуха. Взглянуть на него не было ни сил, ни желания. Состав оказался длиннющим, но я на него так и не посмотрел. На шею мне легла теплая ладонь, и я сразу понял, что она принадлежала Крису.
Когда поезд наконец прошел (вернее, когда я удостоверился, что он прошел), только тогда я все еще с опаской поднял взгляд. Наверное, точно так же солдат высовывается из блиндажа после долгого артиллерийского обстрела… Верн, дрожа всем телом, лежал ничком, а Крис сидел по-турецки между нами, положив руки нам на плечи. Верн поднял голову, все еще дрожа и нервно облизывая губы.
– Ну что, парни, по бутылочке коки? – предложил Крис как ни в чем не бывало.
Нам это было как нельзя кстати.
15
Примерно в четверти мили от берега рельсы углублялись прямо в лесную чащобу. Местность тут к тому же была заболоченной, тучи комаров висели в воздухе, словно армады истребителей-бомбардировщиков, но был во всем этом и один громадный плюс: прохлада, благословенная прохлада.
Присев в теньке, чтобы распить по бутылочке коки, мы с Верном накинули на плечи рубашки, а Крис с Тедди остались, как и были, голыми по пояс, несмотря на насекомых. Не прошло и пяти минут, как Верну понадобилось уединиться в кустиках, что послужило поводом для шуточек и прибауточек.
– Что, дружище, здорово перетрусил? – хором поинтересовались у него Крис с Тедди, когда он снова появился, натягивая штаны.
– Да н-нет, – промямлил Верн, – мне еще на том берегу приспичило…
– Ладно заливать, – усмехнулся Крис. – А ты, Горди, тоже наложил в штаны?
– Ничего подобного, – ответил я, невозмутимо потягивая коку.
– Ничего подобного! – передразнил меня Крис, похлопывая по плечу. – А у самого поджилки до сих пор трясутся.
– Вот те крест, что я ни капельки не испугался.
– Да ну? – встрял Тедди. – Так уж и ни капельки?
– Конечно же, нет! Я не испугался, я просто… остолбенел!
Все, даже Верн, грохнули. Действительно, «испугался» было не то слово…
После этого мы все по-настоящему расслабились, раскинувшись на траве и молча допивая кока-колу. В ту минуту я, наверное, был действительно счастлив: мне удалось избежать смертельной опасности, жизнь казалась такой замечательной штукой, и я был в мире с самим собой. А кроме того, у меня великолепные друзья. Что же еще нужно для счастья?
Вероятно, именно в тот день я начал понимать, каким образом обыкновенный человек становится сорвиголовой. Пару лет назад я заплатил двадцать долларов, чтобы присутствовать при неудачном прыжке Эвела Найвела через каньон Снейк-Ривер. Жена моя, вместе со мной лицезревшая этот головокружительный прыжок, пришла в ужас, но не от самой трагедии, а от моей реакции. Она заявила, что если бы я жил в Древнем Риме, то непременно был бы завсегдатаем кровавых казней первых христиан, которых сажали в клетки со львами. Тут она была, конечно, не права, хоть я и вряд ли смог бы объяснить почему (впрочем, она сама была уверена, что я всего лишь хотел этим досадить ей). Дело в том, что я выбросил двадцатку вовсе не затем, чтобы полюбоваться гибелью человека, хотя у меня с самого начала не было сомнений относительно исхода смертельного трюка, транслировавшегося, кстати, по телевидению на всю страну. Нет, думаю, у многих в жизни бывают моменты, когда возникает непреодолимое желание бросить вызов таинственной тьме, о которой Брюс Спрингстин поет в одной из своих песен, сделать это несмотря на то (а может, скорее благодаря тому), что Господь сотворил нас смертными…
– Эй, Горди, расскажи-ка нам ту самую историю, – внезапно попросил Крис, привставая.
– Какую? – переспросил я, хотя прекрасно знал, о чем он говорит.
Я ощущал какую-то неловкость, когда меня просили рассказать одну из моих «историй», – и это несмотря на то, что они пользовались неизменным успехом. Первым, кто узнал о моем желании стать, когда вырасту, писателем, был Ричи Дженнер, парнишка, который состоял полноправным членом нашей компании, пока его семья не переехала в 1959 году в Небраску. Уже не помню, чем мы занимались у меня в комнате, когда Ричи обнаружил в книжном шкафу под комиксами пачку исписанных от руки листков. «Это-то что такое?» – спросил он, заинтригованный. «Так, ничего…» Я попытался выхватить у него листки, хотя, признаться, не слишком настойчиво. В душе моей авторская гордость боролась с застенчивостью (кстати говоря, борьба эта продолжается и по сей день…). Пишу я всегда в одиночестве, отгораживаясь ото всего мира, как будто совершая нечто постыдное, словно юнец, занимающийся онанизмом, запершись в ванной. Писательский труд для меня – нечто глубоко интимное, вроде секса, хотя я знаю и совершенно противоположные примеры. Так, один мой знакомый писатель обожает работать, устраиваясь в витринах книжных магазинов или супермаркетов. Это потрясающе, до безрассудства храбрый человек, и я всегда мечтал иметь такого друга, с которым можно было бы пойти в огонь и в воду…
Почти до вечера Ричи просидел на моей кровати, «заглатывая» мою писанину, навеянную сюжетами все тех же комиксов или же детских ночных кошмаров, о которых говорил Верн. Закончив чтение, Ричи посмотрел на меня как-то по-новому, будто впервые по-настоящему меня узнал, и заявил: «Отлично это у тебя получается, просто замечательно. А почему ты не покажешь это Крису?» Я ответил, что это мой секрет, и тут он пришел в недоумение: «Ну почему же? Что тут такого? Ведь это не стишки какие-нибудь, наоборот, все ужасно круто и клево…»
Тем не менее я взял с него слово никому не говорить про мои писания. Он, разумеется, пообещал и тут же раззвонил об этом всем и каждому, после чего скрывать мое тайное занятие стало совершенно невозможно. Большинству ужасно нравились мои рассказы о погребенных заживо, о казненных преступниках, восставших из мертвых, чтобы отомстить приговорившим их судьям, о маньяках, делающих из своих жертв котлеты, но главным образом о частном детективе Курте Кэнноне, который, «выхватив свой «магнум», принялся отправлять патрон за патроном в разверстую зловонную пасть маньяка».
Почему-то я старательно избегал слова «пуля», употребляя только «патрон».
Впрочем, из-под моего пера выходили не одни лишь «ужастики». Была, к примеру, серия рассказов про Ле-Дио, маленький французский городок, который в 1942 году подразделение американских героев-пехотинцев пыталось отбить у фрицев (я тогда не знал, что союзные войска высадились во Франции лишь в 1944 году). На протяжении пяти лет – с девяти до четырнадцати – я написал четыре десятка рассказов о кровопролитных уличных боях в Ле-Дио, причем последняя дюжина появилась на свет исключительно по настоянию Тедди, который от этих историй был просто без ума (мне же они к тому времени осточертели до смерти). Он проглатывал страницу за страницей, при этом глаза у него были как полтинники, пот струился по физиономии, а в голове, похоже, грохотала канонада. Мне, конечно, льстил такой читательский восторг, но в то же время я стал опасаться, не свихнется ли Тедди окончательно от моего Ле-Дио.
Теперь это стало для меня способом заработать на кусок хлеба в гораздо большей степени, нежели удовольствием. Писательский труд ассоциируется у меня скорее с искусственным оплодотворением, а не с чувственным наслаждением, смешанным с неким комплексом вины, как в юношеские годы. Все происходит строго по правилам, зафиксированным в договоре с издателем, и пишущая машинка подчас вызывает у меня чувство отвращения. Это меня пугает: я вовсе не претендую на звание Томаса Вулфа наших дней, но все же мне хотелось бы оставаться именно писателем, а не халтурщиком от литературы.
– Только, пожалуйста, без ужасов, – взмолился Верн. – Хватит с меня кошмаров… Хорошо, Горди?
– Там нет никаких ужасов, – успокоил его Крис, – наоборот, это очень веселая история. Немного непристойная, зато веселая… Валяй, Горди, рассказывай. Повесели-ка нас, а то чего-то чересчур мы кислые.
– Это про Ле-Дио? – с надеждой спросил Тедди.
– Какой Ле-Дио, ты, псих ненормальный?! – Крис дал ему легкий подзатыльник. – Это про соревнование по поеданию пирожков.
– Да я ведь не успел еще даже записать эту историю, – начал я упрямиться.
– Плевать, рассказывай давай.
– Что, все хотят слушать?
– Конечно, все, – сказал Тедди. – Рассказывай, кончай ломаться.
– Ну ладно. Дело происходит в одном городке, разумеется, вымышленном, под названием Гретна, что в штате Мэн.
– Гретна? – заулыбался почему-то Верн. – Что это еще за название? В штате Мэн нет никакой Гретны.
– Заткнись ты, придурок, – оборвал его Крис. – Сказали же тебе, что городок этот вымышленный.
– Так-то оно так, да уж больно идиотское название…
– Да вокруг полным-полно идиотских названий, – вполне резонно возразил Крис. – Как тебе, к примеру, нравится поселок Альфред, штат Мэн, или Сако, штат Мэн, или взять хотя бы наш родимый Касл-черти-бы-его-побрали-Рок… Ведь здесь нет ни одного замка[31]. Да большинство названий – идиотские, просто мы к ним привыкли и не думаем об этом. Правильно, Горди?
– Безусловно, – ответил я, хотя, честно говоря, подумал, что Верн прав, и Гретна – совершенно идиотское название. Интересно, чего это ради именно оно пришло мне в голову?
– Так или иначе, в этой самой Гретне, как и у нас, в Касл-Роке, ежегодно праздновали День первых поселенцев…
– День первых поселенцев – это клево, – опять встрял Верн. – Я грохнул в прошлый раз всю свою заначку за год, но зато уж отвел душу… А этот Билли, сукин сын…
– Да заткнешься ты в конце концов?! – рявкнул Тедди. – Дай Горди рассказать.
– Да, конечно, конечно, – заморгал Верн, – пускай рассказывает.
– Валяй, Горди, – подтолкнул меня Крис.
– История вообще-то так себе, – решил я поломаться еще немного.
– А мы другого и не ждем, – утер мне нос Тедди, – но все равно рассказывай давай.
– Ну ладно, уговорили. – Я прокашлялся. – Так вот, на вечер у них там были намечены три крупных мероприятия: раздача яичного рулета для самых маленьких, соревнование по бегу в мешках для ребят постарше – восьми-девяти лет, а также этот самый конкурс – кто больше и быстрее всех слопает пирожков. Да, я забыл представить главного героя. Это был жирный чувак, которого никто терпеть не мог, а звали его Дэви Хоган.
– Намек на Чарли Хогана, да? – не выдержал снова Верн, и Крису в очередной раз пришлось дать ему хорошего тумака.
– Был он одного с нами возраста, весил фунтов так сто восемьдесят, а величали его не иначе как Хоган Задница и шпыняли, кто как только мог.
Физиономии моих слушателей тут же отразили искреннее сочувствие к третируемой всеми Заднице, хотя, уверен, если бы подобный тип вдруг появился в Касл-Роке, все мы, в том числе и я, издевались бы над ним до полного беспредела.
– Наконец Заднице все это надоело, и он решает отомстить своим мучителям. Но каким образом? В День первых поселенцев такая возможность представилась ему в виде конкурса пожирателей пирожков, ведь в этом деле – пожрать – равных ему не было. Кстати, победитель получал приз – пять баксов.
– Все ясно: Задница выигрывает и оставляет всех с носом! – не удержался снова Верн.
– Нет, все гораздо интереснее, – заявил Крис: он знал эту историю. – Замолкни и слушай дальше.
– Ну что такое пять долларов? – продолжал я. – Деньги эти утекут как сквозь пальцы, думал Хоган, а через пару недель если кто и вспомнит о его «подвиге», то только затем, чтобы, повстречав на улице, в очередной раз надавать по шее да еще обозвать при этом: Задница-пожиратель-пирожков.
Слушатели согласно кивнули: а этот Дэви Хоган вовсе не дурак. Я стал рассказывать дальше:
– Тем временем никто не сомневается, что он выиграет соревнование, даже его собственные родители. Более того, они уже заранее положили глаз на его приз.
– Точно, так всегда и бывает, – согласился Верн.
– Поразмыслив таким образом, он проникается ненавистью ко всей этой затее. В конце концов, необыкновенный аппетит – не его вина, тут все дело в обмене веществ и…
– Ну конечно, у моего двоюродного брата точно такая штука! – возбужденно вскричал Верн. – Честное слово! Он такой жирный, что весит, наверное, фунтов триста. Говорят, у него что-то не в порядке с хипо… гипофизом, да?.. Не знаю точно, как эта штука называется, но он напоминает мне рождественского индюка, а когда я обозвал его…
– Да заткнешься ты в конце концов?! – заорал на него Крис. – В последний раз тебя предупреждаю, понял?
Он замахнулся на Верна пустой бутылкой из-под коки.
– Ты что, ты что? – замахал руками Верн. – Больше не буду, честное слово! Валяй, Горди, дальше, история у тебя получилась занятная.
Я ухмыльнулся. По правде говоря, то, что Верн постоянно перебивал рассказ, меня не очень-то и раздражало, но, разумеется, сказать об этом Крису я не мог: он ощущал себя сейчас кем-то вроде охранителя Высокого Искусства.
– Так вот, мысли эти не покидали Дэви Хогана, наверное, целую неделю до начала праздника. Одноклассники беспрестанно тормошили его подначками: ну что, Задница, сколько пирожков намереваешься сожрать? Десять? А может, двадцать? Неужели восемьдесят?! «Откуда мне знать? – отвечал Хоган. – Мне ведь даже неизвестно, какого они будут размера…» Да, вот еще что: интерес к предстоящему соревнованию подогревался тем, что у Хогана, которому по возрасту предстояло в нем участвовать впервые, все-таки был соперник – прошлогодний чемпион по имени Билл Трейнор. Так вот, этот самый Трейнор, будучи обжорой, в отличие от Задницы был кожа да кости, и тем не менее год тому назад проглотил шесть пирогов всего за пять минут.
– Больших пирогов? – уточнил Тедди.
– Ага, больших. А Задница, напоминаю, был самым младшим из участников.
– Я уже начинаю за него болеть! – воскликнул Тедди. – Давай, Задница, покажи им!
– Были же и еще участники, – напомнил Крис.
– Да, разумеется. Кроме Хогана Задницы и Билла Трейнора, в конкурсе участвовали и взрослые, среди них Кэлвин Спайер, хозяин ювелирной лавки и самый толстый житель городка. Еще был диск-жокей с радиостанции Льюистона, не то что очень жирный, а так, несколько полноватый. Ну и конечно, директор школы, где учился Хоган. Звали его Губерт Гретна-третий… Красавец мужчина!
– Гениально! – захлопал Тедди. – Дальше, Горди, давай дальше!
Тут я по-настоящему почувствовал, что все внимание приковано ко мне, что я имею неограниченную власть над слушателями. Закинув пустую бутылку в кусты, я устроился поудобнее. Воцарилась тишина, нарушаемая лишь монотонным стрекотом цикад.
– Тут он и придумал, как отомстить всем, кто над ним издевался. Идея была просто блестящей… Так вот, конкурс должен был состояться под вечер, непосредственно перед фейерверком. Главная улица Гретны будет закрыта для движения, а в центре ее, перед трибуной с национальным флагом, соберется громадная толпа. Будут там, конечно, и фоторепортеры, чтобы запечатлеть вымазанную черникой физиономию победителя – организаторы решили, что пироги на этот раз будут черничными. Да, забыл сказать, что поедать их участники должны со связанными сзади руками. Ну вот, поднимаются они на трибуну…
16
«Месть Хогана Задницы», рассказ Гордона Ла-шанса. Впервые напечатан в марте 1975 года в журнале «Кэвелер». Публикуется с разрешения издателя.
Они по одному поднялись на трибуну и выстроились позади длинного, напоминающего столярные козлы стола, покрытого льняной скатертью. Заполненный пирогами стол находился у самого края трибуны, а сверху нависала гирлянда стосвечовых лампочек, облепленных мотыльками и ночными бабочками. Гирлянда освещала огромный транспарант с надписью:
ОТКРЫТЫЙ ЧЕМПИОНАТ ГРЕТНЫ
ПО ПОЕДАНИЮ
ПИРОЖКОВ – 1960!
По обеим сторонам транспаранта были установлены громкоговорители, любезно предоставленные Чаком Деем, владельцем магазина бытовых электроприборов и двоюродным братом нынешнего чемпиона, Билла Трейвиса.
У всех участников рубашки были расстегнуты, а руки связаны сзади, словно перед казнью на гильотине. Мэр Шарбонно объявлял имя каждого через микрофон, а затем повязывал ему на шею большую белую салфетку-слюнявчик. Кэлвина Спайера встретили довольно жидкими аплодисментами: несмотря на громадное брюхо, напоминающее двадцатигаллонную бочку, он, по общему мнению, явно уступал малышу Хогану по прозвищу Задница (впрочем, последний тоже не считался фаворитом, по крайней мере в этом году: слишком еще молод).
Вслед за Спайером мэр представил Боба Кормера, диск-жокея с льюистонского радио. Этого публика встретила теплее, послышались даже визги молоденьких поклонниц Кормера. За ним последовал Джон Уиггинс, директор средней школы Гретны, горячо приветствуемый старшим поколением и гораздо сдержаннее (мягко говоря) младшим. Каким-то образом Уиггинсу удалось одновременно выразить признательность первым и свое «пфе» вторым.
Наконец мэр Шарбонно объявил:
– А теперь самый молодой и в то же время многообещающий участник Открытого чемпионата Гретны по поеданию пирогов, на которого мы все возлагаем большие надежды… – Он сделал паузу. – Дэвид Хоган-младший!
Публика взорвалась аплодисментами, а кто-то принялся скандировать: По-ка-жи им, Зад-ни-ца!
Кто-то захохотал, кто-то при этом нахмурился (в первую очередь, конечно, мэр – главный блюститель порядка и этических норм), сам же Задница и ухом не повел. На губищах у него блуждала еле уловимая, таинственная ухмылка, в то время как насупившийся мэр повязывал ему салфетку вокруг шеи и убеждал вполголоса не обращать внимания на идиотов, дыша при этом пивным перегаром.
Настоящую же бурю аплодисментов вызвало появление последнего участника, легендарного обжоры Билла Трейвиса. Рост его превышал шесть футов пять дюймов, при этом он был худой как щепка. В поселке любили добродушного, общительного механика с автозаправки «Амоко», что возле железнодорожной станции.
Всем до одного было известно, что чемпионат Гретны по поеданию пирогов значил, по крайней мере для Билла Трейвиса, гораздо больше, нежели возможность получить лишние пять долларов в качестве приза. Были тому две причины. Во-первых, очень многие заезжали на бензоколонку поздравить Билла с победой и заодно заправить бак, так что примерно месяц после соревнования бизнес шел великолепно. Люди пользовались случаем, чтобы не только заправиться, но и сменить масло, накачать шины, купить кое-что из запчастей или же просто попить кока-колы, пивка или кофейку, болтая с Биллом, пока он осматривал или ремонтировал их тачки. Тем более что Билл поболтать был всегда не прочь, потому-то его все в Гретне и любили.
Неизвестно, выплачивал ли ему Джерри Мейлинг, хозяин бензоколонки, премии за победу на конкурсе или же ограничивался прибавкой к зарплате. Как бы то ни было, с заработками у Билла Трейвиса все было в порядке: вскоре после своей первой победы он купил прелестный двухэтажный коттедж на Саббатус-роуд, тут же прозванный неким остроумцем «домом, построенным на пирожках». Вероятно, было в этом некоторое преувеличение, но тут мы подходим ко второму обстоятельству, вследствие которого победа на «пирожковом чемпионате» так много значила для Билла Трейвиса.
Для Гретны и окрестностей он был, безусловно, событием номер один: для большинства забавным развлечением, но для многих еще и способом заработать (или же спустить) большие деньги. Дело в том, что на конкурсе существовал своего рода тотализатор, почти как на бегах. Шансы претендентов на победу горячо обсуждались, о каждом из них (главным образом об их аппетите) наводили справки через родственников и знакомых, «спортивные снаряды» – а они каждый год были разные – имели свою классификацию: так, яблочный пирог считался «тяжелым», а абрикосовый почему-то «легким», хотя съевший три-четыре абрикосовых пирога обрекал себя на несколько дней строгой диеты и бега трусцой. Черничный пирог, избранный в тот год, слыл «золотой серединой», и, разумеется, игроки заранее старались разузнать, кто из претендентов питает слабость к чернике, а кто ее терпеть не может.
Наконец все, какие только можно, сведения о кандидатах были собраны, тщательнейшим образом проанализированы и ставки сделаны. Точная сумма автору, конечно, неизвестна, но полагаю, что она составила не меньше тысячи. Вам это, может быть, покажется сущим пустяком, но для крошечного городка пятнадцать лет назад это были громадные деньги.
Поскольку соревнование проходило у всех на глазах и было строго ограничено во времени (десять минут), что по идее исключало всякое жульничество, никто не возражал против того, чтобы и сами претенденты делали ставки, конечно, на самих себя. Билл Трейвис так и поступал. Поскольку он в тот год был явным фаворитом, то его шансы оценивались как пять к одному, то есть чтобы выиграть, скажем, полсотни, ему следовало поставить на себя двести пятьдесят. Не очень-то хороший расклад, но такова цена успеха, впрочем, в своей победе он не сомневался. Под гром аплодисментов, сияя белозубой улыбкой, вскочил он на помост, как только мэр объявил в микрофон:
– А теперь несравненный чемпион Гретны, великий Билл Трейвис!!!
– Хо, Билл!
– Сколько на этот раз осилишь, Билл? – кричал кто-то.
– Уж наверняка не меньше десятка, Билли-бой?
– Эй, Билли, не подведи меня! Я на тебя поставил двадцать баксов!
– Оставь мне хоть кусочек, Трейв!
С деланной скромностью кивая и улыбаясь публике, Билл Трейвис позволил мэру повязать себя салфеткой, после чего занял место у правого края стола, там, где во время соревнования будет находиться мэр Шарбонно. Справа налево участники расположились таким образом: Билл Трейвис, Дэвид Хоган Задница, Боб Кормер, директор школы Джон Уиггинс, Кэлвин Спайер.
Затем мэр Шарбонно представил Сильвию Додж, президента Женского общества Гретны, вероятно, со времен открытия Америки, без которой конкурс пожирателей пирогов был так же немыслим, как и без многолетнего чемпиона Билла Трейвиса: она лично инспектировала пекарню и была ответственной за качество каждого пирожка, причем процесс проверки включал и контрольное взвешивание на аптекарских весах.
Сильвия, по-королевски улыбаясь толпе, произнесла краткую речь насчет того, как счастлива она, что столько людей собрались отдать дань памяти первым поселенцам, отцам-основателям нашей великой страны, достойными наследниками и продолжателями дела которых являются республиканцы во главе с мэром Шарбонно («Не забудьте вновь проголосовать за него на предстоящих в ноябре выборах», – призвала она) на местном уровне, а на общенациональном – с Ричардом Никсоном, подхватившим факел свободы из рук «нашего горячо любимого генерала»[32].
После этих слов в громадном брюхе Кэлвина Спайера громко заурчало. Все знали, что Кэлвин был, во-первых, демократом, а во-вторых, католиком, что в глазах Сильвии Додж приравнивалось к смертному греху. Она одновременно смутилась, выдавила жалкую улыбку и покрылась пятнами гнева, после чего обратилась к «присутствующей на этом торжестве нашей славной молодежи» с призывом «достойно нести звездно-полосатый стяг», быть патриотами своей страны и всегда помнить, что курение – мерзкая, вредная привычка, от которой бывает рак. «Славная молодежь», которая какие-нибудь восемь лет спустя проявит свой патриотизм демонстрациями против войны во Вьетнаме, а курить будет в основном не «Кэмел» или «Мальборо», а марихуану и гашиш, слушала леди Додж без энтузиазма, с нетерпением ожидая начала потехи.
– Меньше слов, больше дела! – выкрикнул кто-то под одобрительные возгласы остальных. – Пора начинать!
Мэр Шарбонно торжественно вручил Сильвии секундомер и полицейский свисток, чтобы подать сигнал по истечении контрольных десяти минут.
– Готовы? – обратился он к претендентам.
Вся пятерка подтвердила готовность номер один.
– Внимание… – разнесся по Главной улице голос мэра. Он поднял коротенькую толстую руку и тут же резко дал отмашку: – НАЧАЛИ!!!
Пять физиономий одновременно склонились к тарелкам. Послышалось громкое чавканье, напоминающее топот сапог по грязи. Болельщики заорали, поддерживая своих любимцев, но как только претенденты расправились с первым пирогом, многие уже начали понимать, что назревает сенсация.
Хоган Задница, чьи шансы из-за его молодости и неопытности оценивались как один к семи, жрал будто одержимый, челюсти его с пулеметным треском сокрушали корку (по правилам необходимо было съесть только верхнюю корку, а нижнюю можно оставить), а когда она исчезла у него во чреве, он издал губами гулкий всасывающий звук, словно громадный пылесос, и начинка пирога последовала вслед за коркой. Секунд через пятнадцать он оторвался от тарелки, весь вымазанный черничной начинкой, тогда как легендарный Билл Трейвис не справился еще и с половиной пирога!
Мэр, обследовав тарелку Хогана, объявил, что она достаточно чиста, и положил второй пирог. Выяснилось, что с первым Задница разделался за сорок две секунды, установив рекорд соревнований за все годы их проведения.
На второй он накинулся с удвоенной яростью. Билл Трейвис, покончив наконец с первым пирогом, обеспокоенно поглядывал на неожиданного конкурента. Впоследствии он говорил друзьям, что столь достойный соперник появился у него впервые с 1957 года, когда Джордж Гамаш заглотнул три пирога за четыре минуты, после чего свалился замертво, и его еле откачали. Откуда взялся этот чертов парень, или это, может, и есть черт? При мысли о деньгах, которые он может потерять, в голове у Билла помутилось, и он удвоил усилия.
Но если Трейвис их удвоил, то Задница утроил. Не только скатерть и салфетка, но и лоб, и даже волосы его были заляпаны черничным джемом, создавая впечатление, что он им потеет.
– Готово! – воскликнул он, отваливаясь от тарелки, прежде чем Билл Трейвис успел прогрызть верхнюю корочку.
– Полегче, паренек, полегче, – проговорил ему на ухо Шарбонно: он сам поставил десять долларов на Билла Трейвиса. – С таким темпом как бы тебе не стало плохо.
Задница его как будто и не слушал, вгрызаясь в третий пирог. Челюсти его работали, как мясорубка. И тут…
И тут я должен прервать свой рассказ, чтобы поведать об одной немаловажной детали. В аптечке Хоганов имелась некая бутылочка, на три четверти наполненная жидкостью противного желтого цвета, быть может, самой гадостной, которая только существует на земле: касторовым маслом. Так вот, теперь бутылочка была пуста. Дэви Задница, предвкушая сладостную месть, вылакал эту мерзость до последней капли и даже облизал горлышко.
Приканчивая третий пирог (Кэлвин Спайер, явный аутсайдер, еще не справился и с первым), Задница прибег к заранее продуманному трюку. Вместо пирогов он представил жирных вонючих крыс со вспоротыми животами, а вместо черничного джема – вываливающиеся из крысиных животов тухлые внутренности…
Тем временем с третьим пирогом было покончено, и он принялся за четвертый, опережая легендарного Билла Трейвиса на целый пирог. Толпа, всегда падкая на сенсацию, уже неистово поддерживала без пяти минут нового чемпиона.
Однако становиться чемпионом Задница не имел ни желания, ни сил: он уже выдохся и не смог бы продолжать в таком темпе, даже если б ставкой была его собственная жизнь. К тому же победа была для него равносильна поражению: не победы он жаждал, но мести. Касторка уже начала бунтовать у него в желудке, рот открывался и закрывался, как у вытащенной на берег рыбы. Он потребовал пятый пирог, который должен был стать последним, и, уронив голову, вгрызся в корку, после чего принялся всасывать в себя черничный джем. В желудке громко забурчало: час страшной мести наступил.
Переполненный сверх всякой меры желудок Хогана наконец восстал. Задница поднял голову, повернулся к Биллу Трейвису и открыл рот, щерясь зубами, синими от черники.
Содержимое его желудка выплеснулось неудержимым желто-голубым фонтаном, обдавая несчастного Трейвиса, который успел лишь издать нечленораздельный звук. Дамы в испуге завизжали, а Кэлвин Спайер с расширенными от ужаса глазами перегнулся через стол и блеванул прямо на прическу Маргерит Шарбонно, супруги мэра. Та с воплем принялась ощупывать волосы, покрытые жуткой смесью из черники, вареных бобов и частично переваренных гамбургеров (последние два блюда были ужином Кэла Спайера), затем обернулась к своей лучшей подруге, Марии Лейвин, и тут же ее вытошнило на ее замшевый жакет.
Дальнейшие события произошли практически одновременно.
Билл Трейвис обдал мощной струей рвоты два первых ряда зрителей. При этом на лице его было такое выражение, как будто он никак не мог поверить, что все это не сон.
Джон Уиггинс, директор средней школы Гретны, раскрыл рот и, будучи воспитанным человеком, сделал это в собственную тарелку.
Мэр Шарбонно, внезапно обнаружив себя председательствующим сборищем холерных больных вместо вполне достойного мероприятия, собирался уже объявить чемпионат прерванным по техническим причинам, но вместо этого лишь испачкал микрофон.
– Господи, спаси и сохрани! – взмолилась Сильвия Додж, после чего ее довольно скромный ужин – устрицы с лимоном, салат из шинкованной капусты, кукурузные хлопья с сахаром и маслом, а также кусочек шоколадного пирожного – нашел запасный выход и смачно растекся по мэрскому смокингу.
Хоган Задница переживал свой звездный час, стоя на импровизированной сцене и с улыбкой до ушей раскланиваясь перед публикой. Блевотина покрыла все вокруг. Рвало всех без исключения. Какого-то парня в джинсах вытошнило прямо на пробегавшего мимо, совершенно ошалевшего пекинеса, и бедная псина чуть не захлебнулась. Миссис Брокуэй, супруга пастора методистской церкви, испустила долгий стон, за которым последовали остатки ростбифа, жареного картофеля и яблочного мусса. Последний, впрочем, был вполне готов к повторному употреблению. Джерри Мейлинг, явившийся понаблюдать за новым триумфом своего механика, решил убраться подобру-поздорову из этого дурдома, но не успел он отбежать и пятнадцати ярдов, как поскользнулся и плюхнулся в теплую, вонючую лужу, после чего сдержаться уже не мог. Ему оставалось лишь поблагодарить Бога за то, что надоумил его надеть в тот вечер рабочий комбинезон. Мисс Норман, учительницу английского и латыни, стошнило в собственный кошелек, достаточно объемистый, чтобы принять в себя хозяйский ужин. Ну и так далее…
Хоган Задница наблюдал за этим пандемониумом с чувством глубокого удовлетворения и законной гордости. Никогда ему еще не было так хорошо, так покойно на душе… Он взял из дрожащей руки мэра Шарбонно микрофон, обтер его салфеткой и проговорил…
17
– Соревнование закончилось вничью!
Вернув микрофон мэру, он спустился с трибуны и отправился домой, к матери, которая не присутствовала на соревновании, так как не с кем было оставить двухлетнюю сестренку Дэви.
– Ты победил?! – воскликнула она, как только он вошел, весь в черничном джеме и блевотине, так и не сняв с шеи салфетку.
Дэви молча поднялся к себе, заперся в комнате и рухнул на кровать…
С этими словами я допил коку Верна и швырнул бутылку в кусты.
– Замечательно! – одобрил Тедди мой рассказ. – А дальше, дальше-то что было?
– Понятия не имею.
– Как это ты понятия не имеешь? – не понял он.
– Очень просто: это значит конец истории. Если автор не знает, что было дальше, значит, рассказу конец.
– Что-о-о?! – возмущенно протянул Верн с таким разочарованно-обиженным видом, будто ему вместо обещанной ватрушки подсунули лягушку. – В чем же тут суть? Чем, черт тебя побери, все это закончилось?
– Додумывайся сам, – объяснил ему Крис, – у тебя же есть собственное воображение.
– Еще чего! – возмутился Верн. – Он сочинил эту поганую историю, вот пускай он и применит свое воображение!
– Да, Горди, чем же в конце концов все это кончилось для Задницы? – принялся настаивать и Тедди. – Ты уж давай досказывай…
– Ну, – замялся я, – думаю, что уж папаша-то его присутствовал, конечно, на соревновании и, придя домой, задал сыночку хорошую трепку.
– Точно, – согласился Крис, – скорее всего так и было.
– А ребята, – добавил я, – продолжали дразнить его Задницей, вот только к этой кличке прибавилась, наверное, еще одна: Рыгайло-Блевайло.
– Тоскливый какой-то конец, – угрюмо заметил Тедди.
– Потому-то я его и опустил.
– А ты не хочешь переделать его? – предложил Тедди. – К примеру, он, пристрелив папашу, убегает из дома и присоединяется к техасским рейнджерам… Как тебе это нравится?
Мы с Крисом обменялись взглядами, и Крис незаметно покрутил пальцем у виска.
– Ну, если так тебе нравится… – Я не стал возражать Тедди.
– А про Ле-Дио ничего новенького нет?
– Сейчас нет, может, попозже будет. – Мне не хотелось его огорчать, однако рассказывать что-то про Ле-Дио у меня не было ни малейшего желания. – Жаль, что тебе не понравилась эта история.
– Да нет же, еще как понравилась, особенно про блевотину, – принялся уверять Тедди. – Вот только конец маленько подкачал.
– Да, – согласился Верн, – то, как всех там вывернуло наизнанку, было великолепно. А насчет конца Тедди прав.
– Ладно, пусть будет так, – вздохнул я.
Крис поднялся: пора было трогаться в путь. Было еще совсем светло, и небо продолжало сиять какой-то пронзительной голубизной, однако тени сильно удлинились – дело шло к вечеру. Ребенком, помнится, мне всегда казалось, что вечера на исходе лета наступали как-то уж слишком неожиданно, совсем не так, как, скажем, в июне, когда и в половине десятого было еще совсем светло.
– Который час, Горди? – спросил Крис.
Взглянув на часы, я поразился: уже шестой…
– Да, пора, – заторопился и Тедди. – Нужно разбить лагерь засветло, чтобы успеть собрать дров. К тому же я проголодался.
– Ладно, начнем устраиваться на ночлег в половине седьмого, – решил Крис. – Возражений нет?
Их не было. Мы двинулись в путь, но уже не по шпалам, а по щебенке возле рельсов. Река вскоре осталась далеко позади, так, что ее и слышно уже не было. То и дело приходилось хлопать себя по лицу и шее, отгоняя комаров. Впереди теперь шли Верн и Тедди, оживленно обсуждая содержание последних выпусков комиксов, а Крис, засунув руки в карманы, двигался со мной рядом. Рубашка, все еще повязанная на поясе, хлопала его по бедрам и коленям, словно фартук.
– Я слямзил у папаши несколько штук «Винстона», – сообщил он. – Покурим после ужина.
– Правда?! – обрадовался я. – Это здорово.
– После ужина, – повторил Крис. – Закурить после еды – самое милое дело.
– Это точно.
Некоторое время мы шли молча.
– А рассказ у тебя вышел классный, – неожиданно сказал Крис. – Не обращай на них внимания, – он кивнул в сторону Верна и Тедди, – у них просто не хватает мозгов, чтобы понять.
– Да ну, фигня это…
– Перестань. Не фигня, и ты это прекрасно понимаешь. Ты собираешься его записать? Ну, обработать и перенести на бумагу?
– Наверное… Только позже. Я, видишь ли, не умею писать вот так, сразу. Рассказ должен сначала сложиться в голове, так сказать, дозреть.
– А как насчет концовки? Верн дурачок – конец этой истории, по-моему, как раз таким и должен быть. Как в жизни, в нашей поганой жизни…
– Чем же она такая уж поганая?
– А что, нет?
Крис нахмурился, но тут же рассмеялся:
– А знаешь, я завидую тебе. Они из тебя выскакивают, словно пузырьки газа из кока-колы, если хорошенько взболтать бутылку.
– Что-что из меня выскакивает? – переспросил я, хотя, похоже, прекрасно понимал, о чем он.
– Да эти твои байки. Ведь это просто невероятно: ты их рожаешь одну за другой, а им все конца нет. Вот увидишь, Горди, ты станешь великим писателем.
– Не думаю.
– Станешь. А может, когда-нибудь напишешь и о нас, о нашем детстве: как мы жили, чем занимались…
– Уж о тебе-то точно напишу, – ткнул я его локтем в бок.
Отсмеявшись, мы еще немного помолчали, затем он так же неожиданно спросил:
– В школу тянет?
Я пожал плечами. Что тут сказать? Разве в школу вообще может тянуть? После каникул хочется, конечно, повидать друзей, посмотреть на новых учителей. К концу лета иногда даже устаешь от отдыха, но эта усталость – ничто по сравнению с усталостью от учебы, которая наступает уже на второй неделе после начала занятий.
– А знаешь, Горди, к следующим летним каникулам мы уже будем совсем другими, – сказал вдруг Крис.
– Как это? Почему?
– Средняя школа – не начальная. Там все будет по-другому, почти как в колледже. Меня, Тедди и Верна запишут скорее всего в производственный класс, как и всех отстающих, – будем вытачивать пепельницы и мастерить клетки для птиц. Верн, может, даже загремит во вспомогательный… Тебе же прямая дорога в гуманитарный, «продвинутый» класс. Там у тебя будут новые друзья, не чета нам… Уж до них-то смысл твоих рассказов станет не на третьи сутки доходить… Вот так, Горди.
– Черт с ними, с рассказами. Я не собираюсь расставаться ни с тобой, ни с Тедди, ни с Верном.
– Ну и дурак.
– Почему же это я дурак? Потому что не хочу бросать друзей?
Замедлив шаг, он задумчиво взглянул на меня, словно решая: сказать или не говорить? Верн с Тедди уже опередили нас чуть ли не на милю. Солнце, клонясь к закату, выглядывало из-за верхушек деревьев, окрашивая все вокруг в золотистый цвет. Рельсы поблескивали уже не на всем протяжении, а лишь местами, как будто через каждые шестьдесят ярдов кто-то рассыпал по ним бриллианты. Тем не менее было все так же жарко, и пот продолжал катить с нас градом.
– Да, бросить, если ежу понятно, что такие друзья тебя до добра не доведут, – жестко сказал наконец Крис. – Тем более с такой семьей, как у тебя. Ведь я все знаю про твоих стариков: на тебя им совершенно начхать. Твой старший брат был для них единственным солнышком в окошке… Вот так же и мой собственный папаша: когда Фрэнк угодил за решетку, у него крыша поехала. На нас, младших, принялся срывать зло… Твой-то хоть тебя не лупит, но это, может, даже хуже. Если ты ему объявишь, что по собственному желанию записался в производственный класс, знаешь, как он скорее всего прореагирует? Перевернет страницу своей гребаной газеты и скажет: «Отлично, Гордон, пойди спроси у мамы, что у нас на ужин». И не говори мне, что это не так. Уж я-то знаю…
Возражать ему я и не собирался. Он, разумеется, был прав, но как же, черт побери, больно услыхать такое о своем родителе, пусть даже от лучшего друга.
– Ты, Горди, еще ребенок…
– Ну спасибо, папочка!
– Хотел бы я быть твоим папочкой! – ответил он неожиданно зло. – Ты бы у меня только попробовал заикнуться о производственном классе! Ведь эти твои рассказы… Это же дар Божий, настоящий талант, как ты не понимаешь! Собираешься зарыть его в землю, будто дитя малое, за которым некому присмотреть. Только круглые дураки и маленькие дети, оставшиеся без присмотра, вечно все теряют, не способны сохранить то, что дает им Бог. Ну так вот, если уж за тобой некому присматривать, быть может, этим следует заняться мне.
Мне показалось, что он ждет, когда я на него наброшусь с кулаками. Лицо его сделалось несчастным под зеленовато-золотистыми лучами предзакатного солнца. Крис понимал, что только что нарушил неписаный ребячий закон, свято соблюдавшийся в те времена: можно говорить все, что угодно, о другом пацане, можно смешивать его с грязью, обливать его дерьмом, но о родителях его ни в коем случае нельзя было произнести худого слова. Это считалось табу, за нарушение которого полагалась неотвратимая и жестокая кара.
– Подумай, Горди, что будет с тобой, с твоими историями, которые никто из нас не понимает, если ты вместе с нами пойдешь в этот идиотский производственный класс лишь потому, что не хочешь разбивать компанию. Ты станешь таким же болваном, как мы, будешь кидаться ластиками на уроках, красть по мелочам из магазинов, у тебя появятся приводы в полицию. А когда немного подрастешь, то будешь вместе с нами угонять тачки, чтобы катать девиц по сельским кабакам, потом трахнешь одну из них, она обвинит тебя в изнасиловании, и ты на долгие годы загремишь в исправительную колонию, а дальше все покатится как по наезженным рельсам. И ты уже не напишешь ничего – ни эту историю про пожирателей пирогов, ни какую-либо другую. Ты станешь просто одним из многих дураков, у которых вместо мозгов – дерьмо.
Представляете, все это мне выложил двенадцатилетний мальчишка! Но когда Крис Чамберс это говорил, лицо у него было такое – словно у умудренного жизнью старика, познавшего все на свете… Тон его был совершенно спокойным, даже каким-то бесцветным, но именно он вселил в меня настоящий ужас.
Крис схватил меня за руку и сжал так, что пальцы свело судорогой. Я посмотрел ему в глаза и содрогнулся: они были совершенно мертвыми, как у восставшего из гроба трупа.
– Я знаю, что говорят о моих родных и обо мне, – лихорадочно зашептал он, – знаю, что люди обо мне думают и чего от меня ожидают. В тот раз никто ведь даже не спросил меня, брал я деньги или нет: все было решено заранее…
– А ты их брал?
Вопрос вырвался у меня сам собой. Про это я у Криса никогда не спрашивал и, очевидно, не спросил бы.
– Конечно… – На мгновение он замолчал, глядя вслед Тедди и Верну. – И ты это знал, так же как и Тедди, и все остальные, даже, быть может, Верн.
Я собирался было возразить, но тут же передумал: он был абсолютно прав, что бы я там ни толковал своим родителям насчет того, что любой человек должен считаться невиновным до тех пор, пока не доказано обратное. Да, я действительно знал, что деньги взял он.
– А никому не пришло в голову, что я, может быть, раскаялся и попытался их вернуть?
Глаза у меня расширились.
– Ты правда пытался?
– Я же сказал может быть… А может, я это и сделал? Может, я отдал их этой старой чертовке, леди Саймонс, но, несмотря на это, меня наказали, поскольку деньги так и не всплыли? А на следующей неделе старая чертовка заявилась в школу в новой юбке…
Я уставился на Криса, пораженный, не в силах вымолвить ни слова. Он как-то жалко ухмыльнулся, но глаза его вовсе не смеялись.
– Повторяю, может быть. Это всего лишь предположение.
Новую коричневую юбку леди Саймонс я прекрасно помнил. Мне еще тогда подумалось, что в ней она даже как-то похорошела, помолодела вроде бы…
– И сколько же там было, Крис?
– Почти семь баксов.
– Бог ты мой…
– А теперь представь себе, как я рассказываю всем и каждому, что действительно взял эти деньги, однако потом леди Саймонс взяла их у меня… Кто это утверждает?! Крис Чамберс, братец Фрэнка Чамберса и Глазного Яблока? Поверил бы мне кто-нибудь, как ты полагаешь?
– Бог ты мой! – повторил я в ужасе. – Конечно же, никто бы не поверил.
Опять эта ужасная ухмылка и льдинки вместо глаз…
– И еще: как думаешь, если бы на моем месте был кто-нибудь из приличной семьи, скажем, из Касл-Вью, решилась бы эта сука на такое?
– Да ни в жизнь!
– То-то и оно. Если бы это было так, она бы заявила: «Ну хорошо, хорошо, простим тебя на этот раз, но больше так не делай…» Что же касается меня… Ну, может, она уже давно положила глаз на эту юбку, а тут представился такой случай. Но мне и в голову не могло прийти, что учительница… Да ладно, о чем тут вообще говорить?
Он прикрыл лицо ладонью, и я понял, что сейчас он заплачет.
– Крис… А почему бы и тебе не попробовать поступить в гуманитарный класс? С мозгами у тебя, по-моему, все в порядке.
– Так ведь все уже решено, дурашка! Такие вещи учителя решают в своем кругу, не спрашивая нас. Для них главный критерий – это поведение, ну и, конечно, репутация семьи. Не дай Бог, какой-нибудь хулиган испортит примерных деток! И тем не менее я все же попытаюсь. Не знаю, получится ли, но попробовать стоит. Я, видишь ли, мечтаю поступить в колледж и убраться из Касл-Рока к чертям собачьим, чтобы никогда больше не видеть моего любимого папочку и дорогих брательников. Хочу уехать туда, где меня никто не знает, где ко мне не станут относиться как к прокаженному с рождения. Удастся ли мне это? Не знаю, но буду стараться.
– А почему же не удастся?
– Из-за людей. Всегда найдутся такие, кто тебя утопит.
– О ком ты?
Наверное, подумал я, он говорит об учителях, о взрослых сволочах вроде этой мисс Саймонс, которой вдруг понадобилась новая юбка, или о своем братце Глазном Яблоке и его друзьях-приятелях Тузе, Билли и Чарли, а может, и о своих стариках…
Однако он не их имел в виду.
– Я, Горди, говорю о своих же товарищах, о наших с тобой корешах. – Он показал на Тедди и Верна, дожидавшихся нас в отдалении. Они громко хохотали над чем-то своим, при этом Верн чуть не лопался от смеха. – Ты удивлен? Между тем это чистая правда. Именно друзья хватают меня за ноги, не давая выплыть. Спасти же их уже нельзя, можно только вместе с ними пойти ко дну. Ты тоже пойдешь с ними ко дну, Горди, если не стряхнешь с себя этот груз.
– Ну вы, черепахи, чего там застряли?! – заорал Верн, все еще хохоча.
– Идем! – ответил ему Крис и, прежде чем я смог что-то сказать, бросился бежать к Верну и Тедди. Догнать его я так и не сумел.
18
Мы прошли еще милю, прежде чем решили устраиваться на ночлег. Темнота еще не наступила, но дожидаться ее ни у кого не было желания, и дело тут не только в том, что приключений на сегодня нам хватило выше крыши. Мы уже находились в Харлоу, в лесной чаще, а где-то впереди нас ожидало свидание с трупом пацана, возможно, изуродованным до неузнаваемости, начавшим разлагаться, изъеденным червями и мухами. Наткнуться на такое в темноте? Нет уж, увольте… Где-то я читал к тому же, что душа умершего бродит вокруг тела до тех пор, пока его не похоронят по-христиански, и мне вовсе не хотелось проснуться ночью от воплей и стенаний призрака Рэя Брауэра, увидеть его горящие неземным огнем глаза среди окрестных сосен. Мы рассчитали, что сейчас нас отделяет от него по меньшей мере с десяток миль – расстояние, по нашему мнению, вполне достаточное, чтобы не опасаться привидения, хотя, конечно, никаких привидений не существует.
Верн, Крис и Тедди собрали хворост и развели прямо на щебенке маленький костер. Крис соорудил вокруг него что-то вроде небольшой насыпи: лес был сухим как порох, и рисковать нам не хотелось. Тем временем я заострил несколько палочек и сделал то, что мой брат Денни обычно называл «ножками пионеров», – нанизал куски гамбургеров на концы зеленых веток. Мы заспорили, как лучше их готовить – на огне или же подождать, пока получатся угли (спор этот, впрочем, был абсолютно беспредметным: собачий голод не позволял нам дожидаться углей). Тут же выяснилось, что спичек у нас маловато, и Тедди заявил, что умеет добывать огонь с помощью трения двух кусков дерева друг о друга, на что Крис обозвал его врунишкой. Верн успокоил их, сказав, что у него есть зажигалка. В результате всей этой возни у нас получился не костер, а настоящий пожар, и, чтобы слегка притушить его, нам пришлось изрядно напрячь мочевые пузыри.
Когда пламя приутихло, я приспособил «ножки пионеров» над огнем, и мы уселись в кружок, наблюдая, как с гамбургеров сначала закапал жир, а потом они стали покрываться румяной корочкой. Тут же рты у нас наполнились слюной, а в животах заурчало.
Не в силах больше дожидаться, каждый из нас ухватил по одной «ножке» и впился в нее зубами. Гамбургеры, обуглившиеся снаружи, однако сырые внутри, были тем не менее настоящим лакомством. Мы в два счета проглотили их, вытерли ладонями рты, после чего Крис полез в рюкзак (пистолет лежал там же, на дне, и так как он не сообщил о нем Верну и Тедди, я заключил, что для них это секрет) и вытащил оттуда коробку из-под пластыря, в которой находились чуть помятые сигареты. Каждый из нас прикурил от горящего сучка, после чего мы с наслаждением откинулись на спину, наблюдая за струйками дыма, исчезающими в сумраке, и ловя полнейший кайф. Никто не затягивался: мы просто втягивали в себя дым и тут же выдыхали, сплевывая (теперь-то я знаю, как распознать начинающего курильщика: они, как правило, плюются как верблюды). Чувствовали мы себя прекрасно. Докурив до самого фильтра, мы швырнули окурки в огонь.
– Ничего нет лучше сигареты после еды, – заметил Тедди.
– Это точно, – согласился Верн.
Тем временем небо из синего становилось фиолетовым. Сумрак нагнал на меня печаль, и одновременно пришло ощущение покоя.
Мы нашли достаточно ровное место возле насыпи, где и разложили наши «постели», после чего опять уселись у костра поболтать с часок. Это была обычная болтовня мальчишек, еще не достигших пятнадцати лет, после чего единственной темой разговоров становятся девочки. Мы спорили о том, кто лучше всех водит машину в Касл-Роке, останется ли Бостон в высшей лиге и как прошли каникулы. Тедди рассказал, как один пацан на пляже в Брансуике ударился обо что-то головой, прыгнув с волнореза, и чуть не утонул. Мы также поперемывали косточки учителям, сойдясь на том, что мистер Брукс самый большой засранец в касл-рокской средней школе, а миссис Коут – такая стерва, равной которой белый свет не видывал. По словам Верна, пару лет назад она так отдубасила одного из учеников, что тот чуть не ослеп. Я посмотрел на Криса, ожидая, что он вспомнит мисс Саймонс, однако Крис не проронил ни слова и на меня даже не глядел: он слушал Верна и при этом согласно кивал.
Темнота постепенно сгущалась. Никто из нас не упоминал про Рэя Брауэра, однако в мыслях у всех был именно он, по крайней мере у меня-то точно…
Есть что-то жуткое и в то же время завораживающее в том, как тьма сгущается в лесу, где нет ни фонарей, ни света из окон, ни неоновых реклам, ни потока машин – ничего, что бы хоть чуть-чуть рассеяло сумрак. Родители не зовут детей домой, ужинать и спать, нет никаких привычных городских звуков… Горожанин, застигнутый наступлением ночи в лесной чаще, воспринимает сие природное явление скорее как природный катаклизм вроде весеннего разлива Касл-Ривер.
При мысли о духе Рэя Брауэра, который может материализоваться из этого мрака в любую секунду, чтобы прогнать нас, нарушителей его покоя, туда, откуда мы явились, у меня больше не возникало ни ощущения безоглядного страха, ни приступов тошноты – лишь только неожиданная жалость к этому парнишке, такому одинокому и беззащитному в ночи. Как же он тут пробирался один, ночью, через лес, и никто на свете – ни папа с мамой, ни Иисус Христос со всеми своими святыми, – никто его не предупредил, не спас, не отвратил беду? Теперь он, всеми покинутый, лежал весь изуродованный под железнодорожной насыпью… Внезапно я почувствовал, что вот-вот разрыдаюсь.
Чтобы этого не случилось, мне пришлось буквально с ходу сочинить очередную историю из серии Ле-Дио – про то, как американский пехотинец, смертельно раненный, исповедуется своему сержанту в любви к родине и к девушке, которая осталась его ждать там, далеко-далеко, за океаном. Перед глазами у меня стояло во время этого рассказа совсем другое лицо, гораздо моложе, черты которого уже исказила смерть, глаза остекленели, а из уголка рта тянулась к подбородку струйка запекшейся крови. Кругом же вместо черепичных крыш и острых церковных шпилей воображаемого городка Ле-Дио я видел мрачный ночной лес и чуть поблескивающие при свете звезд два ряда рельсов.
19
Проснулся я за полночь от пронизывающего холода, недоумевая, кто и с какой стати распахнул на ночь окна у меня в спальне. Может, Денни? Он как раз мне снился – как мы с ним ездили в Национальный парк Гаррисона кататься на волнах и загорать на пляже. Это было четыре года назад…
Нет, я не у себя в спальне, и кто-то другой – не Денни – прильнул ко мне спиной, в то время как еще чья-то голова, вернее, ее тень, приподнялась чуть поодаль, вслушиваясь в ночную тишину.
– Какого черта? – пробормотал я с искренним изумлением.
Ответом был протяжный стон, вроде бы Верна.
Наконец я начал что-то понимать и вспомнил, где и с кем нахожусь. Интересно, сколько я проспал – несколько минут? Нет, быть того не может: тонкий серп месяца висел практически посередине чернильного неба…
– Уберите от меня это! – послышался горячечный шепот Верна. – Я буду хорошо себя вести, клянусь! И кольцо на унитазе буду поднимать, прежде чем пописать… Ей-богу, я буду хорошим мальчиком, только уберите его от меня!..
Это было похоже на молитву. Пораженный, я сел и испуганно позвал:
– Эй, Крис! Ты не спишь?
– Тс-с! – ответил Крис: это он, приподняв голову, вслушивался в ночные звуки. – Нет, ерунда, показалось…
– Ничего не показалось, – возразил Тедди. Оказывается, он тоже не спал. – Я совершенно отчетливо слышал…
– Да что там такое?! – воскликнул я, все еще плохо соображая. Спросонья я слабо ориентировался во времени и пространстве – меня пугало именно то, что я, не разобравшись в происходящем, не смогу защититься в случае опасности.
И тут – словно ответ на мой вопрос – из леса донесся долгий, полный ужаса вопль. Так, наверное, кричит женщина в агонии.
– Господи Иисусе! – со слезами в голосе захныкал Верн, натягивая одеяло на голову и прижимаясь ко мне всем телом, словно до смерти напуганный щенок. Я оттолкнул его, но он опять прижался.
– Это малыш Брауэр, – хрипло зашептал Тедди, – вернее, его призрак бродит по лесу…
– О Боже! – залепетал Верн. Судя по всему, ему эта идея не показалась безумной. – Даю слово, что больше никогда не буду воровать неприличные журналы в супермаркете и скармливать морковку псу! Ну пожалуйста… Я буду хорошо себя вести!.. – Похоже, он, не в силах справиться с ужасом, пытался подкупить Бога чем угодно, лишь бы ушел этот кошмар. – Клянусь, я больше никогда не стану курить сигареты без фильтра! И сквернословить не буду! Не буду больше класть пистоны в тарелку для пожертвований! Обещаю…
– Да замолчишь ты, наконец?! – рявкнул на него Крис, но даже в его голосе я ощутил страх. Интересно, подумал я, покрылся ли он весь гусиной кожей, вроде меня, и встали ли у него волосы дыбом или нет?
Верн, понизив голос до еле внятного шепота, продолжал тем временем развивать идею относительно новой жизни, которую он собирается начать, если только Господь оставит его этой ночью в живых.
– Может, это какая-нибудь птица? – предположил я.
– Нет, не думаю, – ответил Крис. – Это, наверное, дикая кошка. Папаша рассказывал, что они вот так орут, собираясь спариваться. Похоже на женский вопль, да?
– Ага…
В горле у меня словно застрял комок.
– Только ни одна женщина так громко вопить не может, – заявил Крис и тут же неуверенно добавил: – Или все-таки может? Ты как считаешь, Горди?
– Да это привидение, – зашептал Тедди. Лунный свет поблескивал в стеклах его очков зловещими искорками. – Надо пойти посмотреть…
Вряд ли он сказал это серьезно, но мы с Крисом, как только он попытался подняться, на всякий случай уложили его назад, причем, наверное, сделали это довольно грубо – от страха нервы у нас были напряжены, так же как, впрочем, и мышцы.
– Пустите меня, козлы! – зашипел Тедди, вырываясь. – Сказал – пойду, значит, пойду! Я хочу посмотреть на привидение! Если я чего-то захочу, то…
Мы – в том числе и Тедди – замерли: из леса вновь послышался душераздирающий вопль, нарастая октава за октавой, пока не замер на верхней точке регистра, после чего стал снижаться до басового звука, напоминающего жужжание громадного шмеля. Вслед за этим раздался взрыв бешеного хохота – и воцарилась пронзительная тишина.
– Ох, Господи Иисусе, Боже милостивый, – в священном ужасе выговорил Тедди.
О том, чтобы пойти посмотреть, он больше и не помышлял. Мы все вчетвером сбились в плотную кучку, и, наверное, не только у меня промелькнула мысль о бегстве. Так бы мы скорее всего и поступили, если бы заночевали у Верна в поле, как сказали предкам, но теперь Касл-Рок был черт-те где, а от одного воспоминания о мосте через реку, который к тому же придется переходить в темноте, кровь застывала в жилах. Точно так же немыслимо было бежать в другую сторону, туда, где лежал труп Рэя Брауэра. Таким образом, мы очутились в ловушке, и если это чудище в лесу намеревается до нас добраться, то помешать ему не сможет ничто…
Крис предложил установить посменное дежурство, и мы с ним согласились. Дежурить первым выпало Верну, а мне – последним. Верн уселся по-турецки поближе к костру, а остальные снова залегли, тесно прижавшись друг к другу.
Я был абсолютно уверен, что уснуть больше не удастся, и тем не менее уснул, вернее, задремал, готовый в любой момент вскочить и броситься бежать. Мне чудились кошмарные вопли, а один раз я увидел – хотя скорее это показалось, – как среди деревьев промелькнуло что-то бесформенно-белое, вроде простыни. Потом я куда-то провалился, и мне приснился пляж в Брансуике, тот самый, где Тедди видел чуть не потонувшего парнишку, который, ныряя, ударился обо что-то головой. Пляж находился на озерце, образовавшемся на месте карьера, где когда-то добывали гравий, и мы с Крисом любили ездить туда купаться.
Мне снилось, как мы лениво плывем на спине под палящим июльским солнцем. Вокруг с визгом и хохотом плескалась ребятня. Мимо нас проплыла на надувном резиновом матрасе миссис Коут. Почему-то она была одета в свою неизменную и всесезонную школьную униформу: серый костюм – жакет с юбкой, толстый свитер, который она надевала вместо блузки под жакет, брошка в виде цветочка, приколотая на почти несуществующую грудь, и, разумеется, туфли на высоких каблуках, свисающих с матраса в воду. Ее иссиня-черные – как у моей мамы – волосы были, опять же как обычно, закручены на затылке в тугой узел, а очки поблескивали на солнце.
– Дети, ведите себя прилично, – противно-скрипучим голосом проговорила она, подплывая к нам, – а то я в два счета вышибу из вас дурь. Вы знаете, что попечительский совет школы разрешил мне применять телесные наказания? Вы, мистер Чамберс, пойдете сейчас к доске.
– Я хотел вернуть деньги, – сказал ей Крис, – но их взяла леди Саймонс! Слышите? Она их у меня взяла. К ней вы тоже примените телесные наказания, или как?
– К доске, мистер Чамберс, пожалуйте к доске.
Крис в отчаянии посмотрел на меня, как бы говоря: Ну разве я не говорил тебе, что так все и будет, и принялся уныло грести к берегу. Обернувшись, он попытался что-то произнести, и вдруг его голова исчезла под водой.
– Горди, помоги! Спаси меня, Горди! – крикнул он, на мгновение вынырнув и тут же погружаясь снова.
Сквозь прозрачную воду я увидел, что Криса держат за щиколотки и тянут вниз двое голых мальчишек с совершенно пустыми, лишенными зрачков глазами, словно у древнегреческих статуй. Один был Тедди, а второй – Верн. Опять голова Криса оказалась на секунду на поверхности, и он, протягивая мне руку, издал ужасный вопль не своим, а каким-то женским голосом. Вопль, нарастая, разнесся по пляжу, усеянному людьми, однако никто не обратил на него ни малейшего внимания, и даже бронзовая от загара атлетическая фигура спасателя, дежурившего на вышке, не пошевелилась. Те двое дернули Криса вниз, он захлебнулся криком, уходя все глубже в теперь уже почти черную воду, в его обращенном ко мне взгляде были отчаяние и безумная мольба, а руки все тянулись вверх, к солнечным лучам. Вместо того чтобы нырнуть и попытаться его спасти, я, словно обезумев, поплыл к берегу, а может, и не к берегу, по крайней мере туда, где, казалось, было безопасно. Но прежде чем я достиг мелкого места, вокруг моей икры сомкнулась чья-то холодная как лед ладонь и принялась тянуть меня на глубину. Крик ужаса готов был вырваться из груди, когда я понял, что это уже не сон: кто-то и в самом деле тянул меня за ногу.
Открыв глаза, я увидел Тедди: он будил меня, чтобы я сменил его на дежурстве.
– Ты живой, Тедди? – пробормотал я, еще не до конца очнувшись ото сна.
– Нет, я покойник, а ты черномазый ниггер, – проворчал он.
Остатки сна слетели с меня, и я уселся у костра, а Тедди залег досыпать.
20
Как я уже говорил, мне выпало дежурить последним. Сидя у костра, я с переменным успехом боролся со сном: то встряхивался, то опять проваливался в дрему. И хотя жуткие вопли больше не повторялись, ночь эта была далеко не тихой – чуть ли не ежеминутно до меня доносился то победный вскрик охотящегося филина, то жалобный стон некоего зверька, очевидно, ставшего добычей, то более крупный зверь с шумом и треском продирался сквозь заросли, и все это на фоне непрекращающегося стрекота сверчков. Я то клевал носом, то снова вскакивал как ошпаренный после очередного ночного звука, и если бы я вот таким образом исполнял обязанности часового где-нибудь в Ле-Дио, то меня непременно отдали бы под трибунал и скорее всего расстреляли.
Под утро меня сморило окончательно и бесповоротно, однако уже перед рассветом я заставил себя проснуться. Светало. Часы на моей руке показывали без четверти пять.
Я поднялся – при этом в позвоночнике что-то хрустнуло, – отошел на пару сотен футов от распростертых тел моих товарищей и помочился на замшелый пень. Ночные страхи постепенно отступали от меня, и ощущать это было приятно.
Вскарабкавшись на насыпь, я присел на рельс и принялся рассеянно подбрасывать носком кеда щебень. Будить остальных я не спешил: хотелось в эти предрассветные мгновения побыть в одиночестве.
Утро наступало быстро. Сверчки затихли, таинственные тени как бы испарились, отсутствие каких-либо запахов предвещало еще один жаркий день, возможно, один из последних… Пробуждались ото сна и птицы: откуда-то появился крапивник, присел на сук громадного поваленного дерева, откуда мы брали хворост для костра, почистил перышки и полетел дальше по своим делам.
Не знаю, как долго я сидел вот так на рельсе, наблюдая за багровеющим на востоке горизонтом. Наверное, достаточно долго, поскольку в брюхе у меня заурчало – пора завтракать. Я уже хотел подняться и начинать будить ребят, как вдруг посмотрел направо и остолбенел: в каких-то десяти ярдах от меня стоял олень.
Сердце у меня подпрыгнуло так, что, вероятно, выскочило бы изо рта, не прикрой я его ладонью. Я замер без движения, впрочем, сдвинуться с места не смог бы, даже если б очень захотел. Глаза у оленя были вовсе не карие, а бархатно-черные, как у внутренней поверхности шкатулок с драгоценностями, какие я видел в ювелирной лавке. Маленькие ушки были словно сделаны из замши. Животное взглянуло на меня, чуть склонив голову, будто заспанный парнишка со всклокоченными волосами, в джинсах с манжетами и залатанной рубахе цвета хаки со стоячим – по тогдашней моде – воротником был для него явлением вполне обычным. Мне же олень казался неким чудесным видением, незаслуженным, а потому необъяснимым даром свыше.
Довольно долго (по крайней мере так мне показалось) мы смотрели друг на друга, затем животное повернулось ко мне спиной, нагнулось и, беззаботно помахивая белым хвостиком-обрубком, принялось щипать травку. Олень ел, не обращая на меня ни малейшего внимания и совершенно меня не опасаясь! Да и чего ему бояться? Это я боялся не то что шевельнуться, но даже старался не дышать.
Внезапно рельс, на котором я продолжал сидеть, мелко завибрировал, и через какое-то мгновение олень поднял голову, тревожно поглядывая в сторону Касл-Рока и поводя коричневато-черным носом. Наконец зверь встрепенулся, в три прыжка достиг зарослей и там исчез – лишь ветка хрустнула под копытом, будто одиночный выстрел в тиши.
Зачарованный, я продолжал смотреть на то место, где только что пасся олень, пока грохот приближающегося поезда не стал явственным. Тогда я скатился с насыпи туда, где ребята, разбуженные тем же грохотом, уже потягивались и зевали спросонья.
«Вопящий призрак», как выразился Крис, был уже почти забыт: при свете дня охвативший нас тогда, в ночи, ужас казался просто-напросто смешным до неприличия, досадным эпизодом, который следовало предать забвению.
Рассказ о встрече с оленем вертелся у меня на языке, но что-то подсказало мне, что говорить им ничего не надо – пусть это останется моей тайной. И действительно, до настоящего момента я об этом случае нигде ни словом не обмолвился, а описав ту встречу, почувствовал, что на бумаге мои ощущения в тот момент передать просто невозможно. В общем, это был не только самый запоминающийся, но и – как бы это выразить? – самый чистый эпизод всей моей жизни. Воспоминания о нем как-то смягчают последующие довольно жуткие события, которых мне довелось пережить немало. Ну, например, мой первый день в джунглях Вьетнама, когда один из моих сослуживцев лишь на какое-то мгновение высунулся из окопа и тут же повалился навзничь, зажимая ладонями место, где у него только что был нос. Или тот день, когда доктор объявил, что наш младший сын может родиться гидроцефалом (слава Богу, появился он на свет почти нормальным, только с немного увеличенной головой). Или те долгие, кошмарные недели, когда, агонизируя до бесконечности, умирала мать… В такие вот моменты я вспоминал тот предрассветный час, бархатисто-черные глаза и маленькие замшевые ушки великолепного, совершенно не пугающегося меня животного, настоящего чуда природы… Впрочем, кто способен это понять? Ведь посторонним нет дела до потайных уголков нашей души. Помните, ведь именно с этих слов я начал свой рассказ?
21
Рельсы поворачивали теперь на юго-запад и тянулись через настоящий бурелом. Лес тут был преимущественно хвойным, с густым, практически непроходимым подлеском. Прежде чем двинуться в путь, мы позавтракали собранной в этом подлеске черникой. Ее здесь было видимо-невидимо, но, несмотря на это, желудки наши лишь слегка наполнились, а через полчаса принялись требовать более солидной пищи. Не только губы и пальцы, но даже наши обнаженные до пояса тела (было только восемь, но жара уже заставила нас скинуть рубашки) стали синими от черники. Верн принялся мечтать вслух о яичнице с беконом, из-за чего чуть не схлопотал по шее.
Это был действительно последний из долгой серии поразительно жарких дней и, думаю, худший из всех. Тучки, появившиеся было на горизонте, растаяли без следа уже к девяти часам, небо приобрело стальной оттенок, усугубляя уже и так невыносимое пекло, струйки пота скатывались вниз, оставляя следы-дорожки на покрытых пылью спине и груди, над головой вились оводы и слепни – в общем, ощущение было пренеприятнейшим, а понимание того, что путь до цели предстоял еще довольно долгий, отнюдь не добавляло энтузиазма. И тем не менее двигались мы быстро, принимая во внимание жару: всем нам не терпелось увидеть наконец мертвое тело, даже если при этом нам не поздоровится – черт его знает, недаром же говорят, что с мертвецами дела лучше не иметь. Но, несмотря ни на что, мы были преисполнены решимости добраться до цели – в конце концов, мы это заслужили.
Где-то в половине десятого Крис с Тедди, шедшие впереди, заметили воду, о чем и прокричали нам с Верном. Мы тут же подбежали к ним. Крис, радостно смеясь, показывал куда-то пальцем:
– Смотрите! Это бобры соорудили!
Чуть впереди под насыпью пролегала широкая дренажная труба. Бобры заткнули ее правый конец, соорудив нечто вроде небольшой плотины из палок и сучьев, скрепленных листьями, ветками и глиной. В результате образовался маленький водоем, наполненный чистой, сверкающей на солнце водой, над поверхностью которой в нескольких местах возвышались домики зверьков с острыми крышами, напоминающими эскимосские чумы. В пруд впадал ручеек, деревья вокруг которого были лишены коры почти до трехфутовой высоты.
– Ремонтная служба быстренько все это ликвидирует, – заявил Крис.
– Это почему же?
– А для чего, как вы думаете, здесь проложена труба? Чтобы вода не подмывала драгоценную насыпь. Так что пруд здесь не потерпят ни в коем случае. Бобров частично перестреляют, остальные уйдут сами, а плотину их разрушат, после чего на этом месте останется трясина, которая тут скорее всего была и раньше.
– А бобры как же? – спросил Тедди.
– Это их проблемы, – пожал плечами Крис. – По крайней мере управлению железных дорог на такие мелочи плевать.
– Интересно, можно ли здесь искупаться? – Верн жадно смотрел на воду. – Глубины хватит?
– Чтобы узнать, надо попробовать, – резонно ответил Тедди.
– Кто будет первым?
– Я! – вызвался Крис.
Он бросился вниз, на бегу скидывая кеды. Одним движением он стянул с себя джинсы вместе с трусами, затем поочередно снял носки и ласточкой прыгнул в воду. Через несколько мгновений голова его со слипшимися волосами показалась на поверхности, и он закричал:
– Отлично, парни! Здесь просто здорово!
– Глубоко? – осведомился Тедди: плавать он так и не научился.
Крис встал на дно, плечи его поднялись над поверхностью. На одном из них я заметил что-то серовато-черное и подумал: «Наверное, грязь». Немного погодя я пожалел, что не вгляделся повнимательнее…
– Давайте сюда, вы, трусишки! – кричал нам Крис.
Повернувшись, он поплыл саженками к противоположному берегу, затем обратно, но к тому времени мы уже скидывали с себя одежду. Верн прыгнул первым, за ним я.
Вода была просто потрясающей – прохладной, чистой и какой-то ласково-шелковистой. Подплыв к Крису, я встал на дно, и мы, счастливо улыбаясь, посмотрели друг на друга. Крик ужаса вырвался у нас одновременно: серовато-черное пятно у Криса на плече оказалось громадной жирной пиявкой. Такая же, очевидно, присосалась и ко мне, поскольку челюсть у Криса отвисла, а оказавшийся рядом Тедди заверещал на манер подсвинка под ножом мясника. Мы все втроем очертя голову бросились на берег.
Теперь я знаю о пресноводных пиявках гораздо больше, нежели тогда, и тем не менее эти в общем-то совершенно безобидные существа продолжают вселять в меня чуть ли не мистический ужас. Как известно, их слюна содержит анестезирующие и противосвертывающие вещества, присасываясь, они не причиняют никакой боли, поэтому если их не видеть, то ничего и не заметишь, пока они сами не отвалятся, насытившись, или же не лопнут.
Оказалось, что в пруду этих тварей полным-полно. Когда мы выскочили на берег и Тедди посмотрел на собственное тело, его чуть кондрашка не хватила.
Один лишь Верн пока ни о чем не подозревал, с удивлением наблюдая за нами из воды:
– Да что там такое? Что на вас нашло?
– Пиявки! – взвизгнул Тедди, дрожащими пальцами отдирая тварей от ляжек и отшвыривая их как можно дальше от себя. – Кровопийцы гребаные!
– ОБожеОБожеОБоже! – заорал Верн, выскакивая из воды словно ошпаренный.
Меня всего трясло, будто от холода, хотя жара стояла невыносимая. Сдирая пиявок с груди и рук, я всеми силами старался удержаться и не зареветь белугой.
– Посмотри-ка, Горди, – Крис повернулся ко мне спиной, – много их там еще? Ради всего святого, Горди, сними с меня эту гадость!
Я отодрал от спины Криса штук пять или шесть, после чего он помог мне таким же образом.
Ужас уже немного отпустил меня, когда я, опустив глаза, увидел, вероятно, прабабушку всех этих тварей, к тому же вспухшую от моей крови, наверное, вчетверо и превратившуюся из серовато-черной в багрово-красную блямбу колоссальных размеров. Устроилась она – где бы вы думали? – прямо у меня в паху. Это уж было чересчур. Я все еще старался не показать вида, но в голове у меня помутилось.
Тыльной стороной ладони я попытался смахнуть отвратительного слизняка. Не тут-то было. Заставить себя дотронуться до мерзкого создания еще раз было выше моих сил. Я повернулся к Крису, но выговорить ничего не смог, а лишь показал пальцем на то место. Физиономия Криса из побледневшей сделалась пепельно-серой.
– Сам не могу, – пробормотал я, сдерживая подступившую внезапно тошноту. – Ты мне… не поможешь?..
Он отшатнулся от меня с перекошенным лицом, не в силах отвести глаз от кошмарной картинки.
– Н-нет, Горди… Извини, но я не могу… Н-нет… А, черт!
Он наконец оторвал взгляд от пиявки, сложился пополам, и его вырвало на песок.
Ты должен сделать это сам, принялся убеждать себя я, стараясь не смотреть на омерзительное существо, которое тем временем продолжало раздуваться. Ну же, давай, покажи, что ты мужчина. Это же последняя. Последняя…
Я все-таки заставил себя дотронуться до пиявки, и в тот же миг она лопнула, словно переполненный воздухом шарик, вот только вместо воздуха из лопнувшей гадины брызнула моя собственная кровь, липкая и теплая.
Я тихонько заплакал. В слезах отвернулся от ребят и принялся одеваться. Сделав над собой невероятное усилие, я с ужасом понял, что больше не в состоянии контролировать себя. Плечи мои тряслись от рыданий, сдержать которые я уже не мог.
Ко мне подбежал все еще голый Верн.
– Посмотри, Горди, на мне их больше нет? – Он принялся тормошить меня за локоть, весь трясясь, как в пляске святого Витта. – Ну, Горди, посмотри же! Я стряхнул их всех, да? Больше ни одной нет?
Смотрел он при этом куда-то мимо меня, глаза его расширились и закатились так, что виднелись одни белки.
Я молча кивнул, продолжая рыдать. Похоже, я становлюсь плаксой… Надев рубашку, я застегнул ее на все пуговицы, после чего натянул носки и кеды. Рыдания понемногу стихали, наконец прекратились и всхлипывания.
Подошел Крис, вытирая рот пучком листьев вяза. Вид у него был испуганно-виноватый.
Одевшись, мы несколько мгновений молча смотрели друг на друга, а затем принялись взбираться на насыпь. Лишь один раз я оглянулся, и взгляд мой, как назло, упал на ту самую здоровенную пиявку, что лопнула от моего прикосновения. Выглядела она довольно жалко, но все еще омерзительно.
Четырнадцать лет спустя, когда вышел мой первый роман, я решил на полученный гонорар впервые посмотреть на Нью-Йорк. В программу поездки входил полный джентльменский набор туриста: шоу в мюзик-холле Рейдио-сити, смотровая площадка Эмпайр-Стейт-Билдинга (к чертям собачьим Всемирный торговый центр – здание, потрясшее мое воображение в фильме о Кинг-Конге, снятом еще в 1933 году, навсегда останется для меня самым высоким в мире), ночная жизнь Таймс-сквер и все такое прочее. Издатель мой, мистер Кейт, был до смерти рад возможности похвастаться передо мной своим городом. Последним пунктом программы была прогулка на морском пароме до Стейтен-Айленда. Свесившись через перила и посмотрев за борт, я вдруг содрогнулся от внезапно нахлынувшего воспоминания: в воде плавали сотни использованных презервативов, которые удивительно живо напомнили мне ту самую раздавленную пиявку. Мистер Кейт заметил, очевидно, как по лицу у меня пробежала тень, и покачал головой:
– Да, зрелище не очень привлекательное… Свинство какое!
Не мог же я, в самом деле, объяснить ему, что вовсе не резинки вызвали у меня чувство омерзения и что ему не стоит извиняться за своих не слишком-то чистоплотных сограждан?
В тот вечер, как вы уже, наверное, догадались, я изрядно нализался…
22
Не знаю, как далеко мы отошли от гнусного пруда, когда это со мной произошло. Я уже начал было успокаиваться, убеждая себя в том, что ничего страшного, черт побери, не случилось, это всего лишь пиявки, подумаешь, невидаль какая, когда перед глазами у меня все помутилось, и я свалился прямо на рельсы, при этом, судя по всему, сильно ударившись головой о шпалу. Сознание покинуло меня, и я как будто утонул в громадной пуховой перине.
Чьи-то руки перевернули меня лицом вверх. Наверно, те же ощущения испытывает боксер после нокаута, когда рефери, склонившись к нему, начинает считать до десяти. Сквозь ватную пелену доносились до меня слова:
– …с ним…
– …все…
– …ты думаешь, солнце…
– Горди, ты…
Я им, наверное, ответил что-то совсем уж нечленораздельное, поскольку лица их приняли крайне озабоченное выражение.
– Необходимо что-то предпринять. – Голос принадлежал Тедди. – До дома мы его не донесем.
После этих слов я снова провалился в небытие. Через какое-то время туман вокруг меня рассеялся, и я расслышал Криса:
– Ну ты как, Горди? Очнулся?
– Да вроде бы, – сказал я и попытался сесть.
Перед глазами тут же вспыхнули мириады ослепительных искр и так же мгновенно погасли. Я открыл и снова прикрыл глаза – искры не возвращались. Тогда я очень медленно встал.
– Ну ты и напугал нас, Горди, – проговорил Крис. – Водички хочешь?
Я кивнул. Он протянул мне флягу с теплой водой, и я сделал три больших глотка.
– Что с тобой было, Горди? – обеспокоенно спросил Верн.
– Да вот, посмотрел на твою физиономию и тем самым совершил непростительную ошибку…
– Гы-гы-гы! – расхохотался Тедди. – Во дает! Он еще и шутит! Ну, значит, Горди, с тобой и правда все нормально.
– Ты в порядке? – настойчиво переспросил Верн.
– Вполне. Да, теперь все о’кей. Просто как вспомню этих кровопийц, так и с катушек долой…
Они согласно кивнули: каждый, вероятно, ощущал что-то похожее.
Мы перекусили в теньке и продолжили путь – Крис с Тедди впереди, а мы с Верном в роли замыкающих. Идти, судя по всему, оставалось уже недолго.
23
На самом деле это было не совсем так, и если бы мы додумались взглянуть на дорожную карту, то сразу бы поняли почему. Нам было известно, что тело Рэя Брауэра находилось где-то возле дороги, упирающейся в берег Ройял-Ривер неподалеку от железнодорожного моста. Именно там Билли и Чарли со своими девочками устроили импровизированный пикничок, там же они и обнаружили труп, думали мы. От Касл-Ривер до Ройял было миль десять, которые мы по идее уже должны были пройти.
Однако десять миль напрямую, тогда как железнодорожная колея делала изрядный крюк, огибая холмистую местность под названием Утесы. Крюк этот прекрасно просматривался на карте, оттуда же можно было заключить, что расстояние между Касл– и Ройял-Ривер по железной дороге равнялось не десяти милям, а шестнадцати.
Крис начал догадываться об ошибке, когда миновал уже полдень, а Ройял-Ривер и в помине не было. Он решил забраться на высокую сосну, чтобы осмотреться, а когда слез, то огорошил нас известием, что если мы ускорим шаг, тогда до Ройял доберемся часам примерно к четырем.
– Ни фига себе! – присвистнул Тедди. – Ну и что же нам делать?
Мы переглянулись: лица у нас были злые, усталые и голодные. То, что поначалу казалось захватывающим приключением, на самом деле вылилось в утомительный, тяжелый и, не исключено, опасный поход. Кроме того, нас, наверное, уже начали разыскивать, и если Майло Прессман и не вызвал полицию, это вполне мог сделать машинист поезда, с которым мы едва разминулись на мосту через Касл-Ривер. Обратный путь до Касл-Рока мы намеревались проделать на какой-нибудь попутке, однако часам к семи уже должно было стемнеть, а после наступления темноты поймать попутку, да еще в такой пустынной местности, нечего было и пытаться.
Я попробовал вызвать перед глазами образ «моего» оленя, щиплющего травку, но и это не принесло облегчения. Положение наше было отчаянным.
– Лучше, несмотря ни на что, двигаться вперед, – вывел нас из оцепенения Крис. – Так что пошли.
Он повернулся и, опустив голову, побрел по рельсам в своих покрытых пылью кедах. Минуту мы раздумывали, а затем, растянувшись цепочкой, последовали за ним.
24
Удивительно, но за все долгие годы, миновавшие с тех памятных дней на исходе необыкновенно жаркого лета, я крайне редко предавался размышлениям о них, потому, наверное, что они неизменно вызывают у меня ассоциации столь же неприятные, как, например, зрелище утопленника, выброшенного на берег после недельного пребывания под водой. В результате я никогда не подвергал сомнению наше решение продолжить путь, точнее, не правильность этого решения, а то, как оно было принято.
А ведь все могло сложиться иначе, и тогда, возможно, Крис, Тедди и Верн были бы живы до сих пор. Нет, они не погибли тогда ни в лесной чаще, ни на железнодорожной колее; в этой повести вообще нет ни одного погибшего, исключая разве что нескольких пиявок да беднягу Рэя Брауэра, который, впрочем, был мертв еще до начала моего рассказа. Истина, однако, заключается в том, что из нас четверых, бросавших монетки, чтобы решить, кому отправляться за продуктами в магазин «Флорида», в живых остался лишь один, тот, кто туда в конце концов отправился, то есть ваш покорный слуга, автор этих строк. Трое из четверых умерли, не достигнув возраста, позволяющего баллотироваться в президенты… И если правда то, что порой кажущиеся незначительными события способны иметь далеко идущие последствия, пускай хотя бы косвенные, то, может быть, и в самом деле все бы сложилось по-другому, если бы мы в тот момент оставили нашу затею и махнули в Харлоу ловить попутку.
Мы бы, безусловно, так и поступили, если б только знали, что и Билли Тессио, и Чарли Хоган, и старший братец Криса по прозвищу Глазное Яблоко, а кроме них, и Джек Маджетт, и Норман Волосан Бракович, и Вэнс Дежарден, и даже сам Туз Меррил усаживались именно в тот момент, когда мы решали, как быть дальше, в побитый «форд» Меррила и розовый «студебеккер» Вэнса, чтобы поехать посмотреть на труп парнишки.
Мы не могли знать, что не прошло и тридцати шести часов с момента, когда Верн подслушал страшную тайну, как его братец Билли проболтался Джеку Маджетту, а Чарли – Тузу. Те поклялись здоровьем матери хранить услышанное в секрете, однако уже к полудню об этом знала вся их банда. Можно себе представить, как эти два ублюдка относились к собственным матерям…
Вся шайка-лейка собралась на совет, и Волосан Бракович высказал уже известную вам, дорогой мой читатель, мысль о том, что было бы неплохо попасть на первые полосы газет и в программы теленовостей, для чего необходимо «случайно» обнаружить труп, а для пущей убедительности погрузить в машины побольше рыболовных снастей. Дескать, мы тут собрались порыбачить, господин констебль, и вот полюбуйтесь, что выудили…
Когда мы вышли наконец на финишную прямую, они как раз свернули с автострады на дорогу, ведущую к Ройял-Ривер.
25
Первые тучки появились на небе к югу от нас часов около двух, но поначалу мы на них не обратили никакого внимания: последние дожди прошли в самом начале июля, с какой же стати быть дождю сейчас? Однако тучи постепенно сгущались, становились свинцовыми и мало-помалу двигались в нашу сторону. Я пригляделся к горизонту повнимательнее, надеясь увидеть характерную пелену, которая указывала бы на уже начавшийся дождь милях в двадцати, а может, и в пятидесяти от нас, однако ее пока не было. Тучи же продолжали сгущаться.
Выяснилось, что Верн натер ногу. Мы остановились, ожидая, пока он подложит немного мха под левую пятку.
– Как думаешь, Горди, дождь будет? – спросил Тедди.
– Похоже на то.
– Вот зараза, – вздохнул он, – ну и денек… А может, оно и к лучшему: жара достала окончательно…
Из-за больной ноги Верна нам пришлось сбавить шаг. Последние сомнения в том, что дождь будет, отпали после того, как в небе откуда ни возьмись появились стаи галдящих птиц, и сам воздух как-то резко изменился: из прозрачного, чуть подрагивающего он сделался каким-то густо-жемчужным, насыщенным влагой, хотя жара ни капельки не спала. Наши удлинившиеся тени также потеряли резкие очертания. Небо с южной стороны приобрело медный оттенок. Мы опасливо поглядывали на тучи, выросшие до колоссальных размеров и уже готовые закрыть солнце. То и дело в них сверкали ослепительные вспышки, на мгновение делая их светло-серыми вместо свинцово-фиолетовых. Из-под ближайшей тучи ударила громадная ветвистая молния, такая яркая, что я не мог не зажмуриться. Вслед за ней раздался оглушительно долгий раскат грома.
Мы немного поворчали по поводу дождя, но в глубине души каждый из нас жаждал освежающей влаги… только без пиявок.
Было чуть больше половины четвертого, когда впереди, в просвете между деревьями, блеснула полоска воды.
– Наконец-то! – радостно воскликнул Крис. – Это Ройял!
У нас как будто открылось второе дыхание, так мы рванули к долгожданной реке. Тем временем ливень приближался. Воздух еще более загустел, и за какие-то секунды температура упала градусов на десять. Взглянув себе под ноги, я вдруг обнаружил, что тень моя совсем исчезла.
Мы снова шли попарно, внимательно вглядываясь в склоны насыпи по обе стороны дороги. Я ощутил внезапную сухость во рту. Солнце в последний раз выглянуло из-за туч и больше уже не показывалось. Картина эта – громадная туча, сверкающая золотом по краям, – напомнила мне одну из иллюстраций к Ветхому завету. Наконец солнечные лучи исчезли вовсе, а за ними тучи поглотили и последний кусочек голубого неба. Мы, словно лошади, почуяли запах реки, а может, это был запах океана, готового вот-вот обрушиться сверху на иссохшую, истомившуюся по влаге землю. Назревал, судя по всему, настоящий потоп.
Я старался внимательно смотреть на обочину, однако разверзшееся небо приковывало взгляд помимо моей воли. Прохладный ветер все крепчал. Внезапно прямо у меня над головой сверкнула такая ослепительная вспышка, что глаза сами собой зажмурились: похоже, сам Господь сфотографировал меня, по пояс голого мальчишку, куда-то бредущего по железнодорожной колее. Где-то ярдах в пятидесяти рухнуло сраженное молнией громадное дерево, а последовавший вслед за этим раскат грома заставил меня содрогнуться. Больше всего на свете мне сейчас хотелось очутиться дома, в уютном безопасном месте вроде погреба, где хранилась картошка, с хорошей книжкой…
– О Боже! – вскрикнул Верн фальцетом. – Господи Иисусе, вы только посмотрите!
Взглянув туда, куда указывал пальцем Верн, я увидал голубовато-белый огненный шар, двигавшийся к нам над левым рельсом с треском и шипением, напоминавшим рассерженного кота. Мы замерли в оцепенении, разинув рты и все еще не веря в существование подобных штуковин, а шар тем временем промчался мимо нас и, удалившись футов на двадцать, вдруг лопнул с громким треском и исчез, распространив вокруг резкий озоновый запах.
– Какого черта я вообще тут делаю? – пробормотал Тедди.
– Вот это да! – возбужденно воскликнул Крис, потрясенный зрелищем. – Глазам своим поверить не могу! Вот так штука, а?!
Я, однако, в этой ситуации был согласен скорее с Тедди. Как и ему, мне было весьма не по себе, а одного взгляда на небо хватило, чтобы закружилась голова. Очередная молния ударила совсем рядом, запах озона стал сильнее, а раскат грома последовал практически безо всякой паузы.
Звон в ушах еще не стих, когда послышался ликующий вопль Верна:
– ВОТ ОН! НУ НАКОНЕЦ-ТО! СМОТРИТЕ, ВОН ТАМ ОН! Я ЕГО ВИЖУ!
Достаточно прикрыть глаза, и я снова и снова вижу Верна, стоящего на рельсе, словно первооткрыватель на капитанском мостике, прикрыв ладонью глаза от очередной вспышки, другой же рукой указывая куда-то вдаль.
Мы подбежали к Верну, при этом я повторял про себя: Его просто-напросто подвело воображение. Сначала пиявки и жара, теперь эта гроза… Ему, конечно, померещилось. Однако, как бы мне ни хотелось, чтобы это так и было, я уже понимал, что Верну вовсе не померещилось. В тот миг я осознал, что зря ввязался в это гиблое дело, что любоваться на мертвое тело у меня не было ни малейшего желания.
Там, куда указывал Верн, прошедшие ранней весной ливни частично размыли насыпь, образовав канаву фута в четыре, до которой у ремонтной службы либо никак не доходили руки, либо ее просто не заметили. Канава уже заросла черникой, откуда высовывалась белая, как воск, ладонь. Запах оттуда шел отвратный.
Я старался не дышать, остальные, по-моему, тоже.
Сильный ветер хлестал нас теперь уже со всех сторон, однако я его не замечал, думая, что обязательно сойду с ума, если сейчас услышу выкрик Тедди: Парашютистам приготовиться к прыжку! Лучше бы было увидеть все тело сразу, а не одну эту восковую ладонь… Она и сейчас встает у меня перед глазами всякий раз, когда я слышу или же читаю о каком-нибудь ужасном происшествии или преступлении.
И вновь блеснула молния, потом еще и еще раз. Раскаты грома следовали один за другим, словно боги устроили там, на небесах, гонки на огненных колесницах.
– Бли-и-ин, – протянул Крис. Ругательство вышло у него каким-то полувздохом, полувсхлипом.
Верн нервно облизнул губы, а Тедди молча стоял и смотрел. Ветер то сдувал его длинные, спутанные волосы с ушей, то снова закрывал их. На лице его застыла абсолютно ничего не выражающая маска, хотя позднее мне стало казаться, что нечто на нем все же промелькнуло…
По мертвой ладони ползали взад-вперед черные мураши.
Лес вокруг нас как будто тяжело вздохнул, заметив наконец наше присутствие, – это по кронам деревьев ударили первые тяжелые капли дождя.
По голове и рукам застучали капли размером в десятицентовик. Изголодавшаяся по влаге земля впитывала их мгновенно.
Эти первые громадные капли сыпались, наверное, не более пяти секунд. Мы с Крисом озадаченно переглянулись.
И тут разверзлись хляби небесные, и начался всемирный потоп…
Крис спрыгнул с насыпи к промоине, волосы у него уже намокли и слиплись. Я последовал за ним. Верн с Тедди поспешили за нами, но мы с Крисом оказались у тела Рэя Брауэра первыми. Лежал он ничком. Крис вопросительно посмотрел на меня, взгляд у него был серьезным, совсем взрослым. Поняв, чего он хочет, я молча кивнул.
Думаю, тело оказалось тут, внизу, безо всяких видимых увечий, а не там, на рельсах, изуродованным до неузнаваемости, потому что парнишка в последний момент попытался увернуться от поезда. Лежал он головой к насыпи, в позе ныряльщика перед прыжком. Его темные, рыжеватые волосы слегка вились, на них виднелась запекшаяся кровь, однако ее было совсем немного. Одет он был в темно-зеленую футболку и джинсы. Обуви не было, но чуть поодаль, в зарослях черники, я заметил полукеды. Это меня поначалу удивило – почему это они валяются отдельно? – но потом понял, в чем тут дело.
Все мои родные и друзья считают, что мое богатое воображение – бесценный дар Божий, что оно не только позволяет зарабатывать на жизнь, но и не дает мне никогда скучать, словно бесплатное кино, которое можно смотреть когда захочешь. В общем-то они правы, но иногда, особенно по ночам, воображение рисует мне такое, что лучше было б никогда не видеть. Вот и сейчас, глядя на эти валяющиеся в стороне кеды, я отчетливо увидел, как они слетели у него с ног от страшного удара поездом, удара, который и отнял у него жизнь.
Только теперь я осознал это с ужасающей отчетливостью: парнишка не спит, не приболел, он мертв, безнадежно мертв, он никогда уже не встанет с этой постели из черники, никогда не наденет свои кеды, не вернется домой, вообще теперь по отношению к нему одно лишь слово имеет смысл: НИКОГДА. Он мертв, умер. Конец…
Мы перевернули его лицом вверх, подставив под проливной дождь, сверкающие молнии, оглушительные громовые раскаты.
Его лицо и шею покрывал сплошной ковер из муравьев и жуков, копошащихся вокруг выреза футболки. Широко раскрытые глаза представляли собой не менее кошмарное зрелище: один закатился так, что виден был только белок, а второй неподвижно уставился прямо на нас. Кровь, очевидно из носа, запеклась на верхней губе и на подбородке, а правая сторона лица была сплошным кровоподтеком. И все равно выглядел он не столь ужасно, как я предполагал. Однажды Деннис с силой распахнул дверь именно в тот момент, когда я собирался открыть ее с противоположной стороны, так у меня кровоподтеки на физиономии были еще страшнее плюс к тому, конечно, кровь из носа, и тем не менее я даже не отказался ужинать в тот вечер.
Изо рта Рэя Брауэра выполз громадный жук и, перебежав по щеке, свалился в чернику.
– Видали? – сказал Тедди срывающимся голосом. – Держу пари, у него там, внутри, полным-полно жуков, даже, наверное, в мозгу…
– Заткнись, Тедди! – прикрикнул на него Крис, и Тедди с видимым облегчением его послушался.
Небо прочертила ярко-голубая молния, отразившись в глазах парнишки, которые словно ожили на миг, как будто он обрадовался, что его наконец нашли, и нашли именно мы, ребята одного с ним возраста.
Только теперь я заметил, какой тяжелый от него исходит дух. Уверенный, что меня вот-вот стошнит, я поспешно отвернулся, однако позывов, как ни странно, не было. Тогда, чувствуя, что это мне необходимо, я сунул в рот два пальца, но и это не помогло: спазм сжал желудок, не более того.
Шум ливня и раскаты грома совершенно заглушили рокот моторов двух автомобилей, подъехавших со стороны Харлоу, и уж тем более никто из нас не слышал приближающихся шагов. Потому-то мы и застыли в оцепенении, когда Туз Меррил, перекрывая грозу, заревел:
– А эти тут откуда взялись?!
26
От неожиданности мы так и подпрыгнули, а Верн вскрикнул – как выяснилось позже, ему показалось, что это труп так заорал.
Мы, еле дыша от страха, подняли глаза. У дальнего края заболоченного участка, там, где лесополоса скрывала от нас проселочную дорогу, стояли Туз Меррил и Чамберс Глазное Яблоко. От нас их отделяла лишь плотная дождевая пелена, за которой четко просматривались их красные нейлоновые куртки – из тех, что можно купить в любой студенческой лавке по предъявлении билета учащегося, а выступающим за университетские команды их выдают бесплатно.
– Так это мой младший братишка! – присвистнул Глазное Яблоко. – Ах ты, гаденыш, сукин сын!
Крис, разинув рот, уставился на брата. Его насквозь мокрая, грязная рубаха все еще была обвязана вокруг пояса, а на голых плечах резко выделялись темно-зеленые от дождя лямки рюкзака.
– Ты, Рич, лучше сюда не лезь, – сказал он чуть дрожащим голосом. – Он наш. Это мы его нашли.
– Вы?! – заорал Глазное Яблоко. – Черта с два! Нашли его мы, мы же и сообщим о нем в полицию.
– Ничего не выйдет, – сказал я, чувствуя, как закипаю от ярости. Если бы мы только могли предположить, что так все обернется… что они явятся сюда на автомобилях… Именно это почему-то и разозлило меня больше всего: они приехали в комфорте, на машинах, тогда как мы… Ну нет, им не удастся воспользоваться, как всегда, так называемым правом старшего. После всего, что с нами было, – нет, не выйдет! – Нас здесь четверо, Глазное Яблоко, – продолжил я с угрозой. – Только попробуйте!
– И попробуем, малыш, попробуем, – с усмешкой ответил тот.
Ветви у него за спиной зашевелились, и на поляне появились, ругаясь и отплевываясь от заливающей лицо воды, Чарли Хоган и брат Верна, Билли. Внутри у меня все похолодело, когда вслед за этими двумя из-за кустов вылезли Джек Маджетт, Волосан Бракович и Вэнс Дежарден.
– А вот и мы, – ухмыльнулся Туз, – так что вы, ребятишки, давайте-ка…
– ВЕРН!!! – заорал вдруг Билли Тессио, багровея и сжимая пудовые кулачищи. – Ах ты, сучонок! Так ты подслушивал, да? Ты сидел под крыльцом, да?!
Верн затрясся, а Чарли Хоган ласково проговорил:
– Ну что, змееныш, доигрался? Сейчас узнаешь, как шпионить и подглядывать. Сейчас твой братец тебе покажет, как совать нос в чужие дела, а я еще добавлю.
– Да ну-у? – внезапно выступил Тедди. Глаза его за толстыми стеклами очков сверкнули в безумной ярости. – Вот только троньте его или кого-нибудь из нас! Ну же, рискните! Вы же такие взрослые, сильные, попробуйте! Давайте!
Билли и Чарли уговаривать не пришлось: с угрожающим видом они вместе двинулись вперед. Верн задрожал еще сильнее, однако с места не сдвинулся: бок о бок с ним стояли его друзья, с которыми он столько вынес, которые добирались сюда с ним вместе отнюдь не на автомобилях.
Внезапно Туз положил ладони на плечи Чарли и Билли, осаживая их.
– А теперь послушайте меня, – спокойно сказал он, обращаясь к нам, словно учитель к непонятливым ученикам. – Нас больше, чем вас, к тому же мы гораздо сильнее. Мы даем вам шанс: исчезните отсюда, куда – не наше дело. Чтоб через минуту вас тут не было! Усвоили?
Братец Криса хохотнул, а Волосан похлопал Туза по плечу, одобряя его великодушие. Тем временем Туз продолжал с улыбкой удава, вздумавшего побеседовать с кроликом, прежде чем сожрать его на ужин:
– Давайте сваливайте отсюда, а его мы заберем с собой. Вздумаете упираться – надерем вам задницу, а его, так или иначе, заберем. К чему вам лишние неприятности, мальцы? Кроме того, – добавил он с видом человека, пытающегося лишь восстановить справедливость, – это ведь Билли и Чарли его нашли, поэтому, ха-ха, все почести по праву должны достаться им.
– Да они перетрусили как зайцы! – оборвал его Тедди. – Верн все нам рассказал: они себя не помнили от страха. – Он состроил гримасу ужаса, пародируя Чарли Хогана – было очень похоже. – «Господи, Билли, что же теперь делать? О Боже, Билли, лучше бы мы вообще не угоняли эту тачку! Какой кошмар, Билли, какой ужас. Взгляни-ка, Билли, я, кажется, описался…»
Этого Чарли стерпеть уже не мог. Физиономия его перекосилась, однако что-то все же удержало его от того, чтобы немедленно растерзать Тедди.
– Не знаю, как тебя зовут, сучонок, – сдавленно проговорил он, – но попадешься ты мне еще…
Я скосил глаза на Рэя Брауэра: тот лежал, все так же уставясь таинственным «нормальным» глазом в затянутое тучами небо, как будто происходящее вокруг его совершенно не касалось. Гром продолжал погромыхивать, но ливень стал уже стихать.
– А ты, Горди, что скажешь? – обратился ко мне Туз, придерживая Чарли за локоть и при этом напоминая опытного дрессировщика, сдерживающего разъяренного тигра. – Есть же в тебе что-то от брата, а он был вполне разумным парнем. Скажи своим дружкам, чтобы отвалили. Четырехглазый оскорбил Чарли, поэтому тот должен ему ответить, но только так, слегка, ну а потом разойдемся по-хорошему. Договорились?
Напрасно он упомянул о Денни. До этого я был готов поторговаться с ним, сказать Тузу, что, как тому и без меня известно, Билли и Чарли струсили и сами отказались от своего права «первооткрывателей», Верн это слышал собственными ушами, а значит, ни они, ни тем более их дружки не обладают в отношении тела никакими преимуществами. Вывод: тело Рэя Брауэра по праву наше, мы выстрадали это право на мосту через Касл-Ривер, когда нас с Верном едва не сшибло поездом, на свалке, где мы схлестнулись с Майло Прессманом и его идиотом суперпсом Чоппером, в пруду, где нас чуть не сожрали пиявки. Да и вообще… Короче говоря, я собирался урезонить его, чтобы все было по-честному. Шансов, конечно, было мало, но может, в чем-то он со мной и согласился бы. Однако он ни к селу ни к городу приплел сюда Денниса, и вместо увещеваний у меня, помимо моей воли, вырвался мой собственный смертный приговор:
– А пошел-ка ты к такой-то матушке, дешевка, раздолбай гребаный!
Нижняя челюсть у Туза отвисла, образуя идеальной формы овал: услыхать такое – и от кого?! – ему, наверное, в жизни не доводилось. Все прочие представители обеих враждебных сторон также уставились на меня, ушам своим не веря.
Из оцепенения нас вывел Тедди радостным воплем:
– Вот это да! Молодец, Горди, круто ты его!
Я и сам не мог поверить, что такое ляпнул. Словно в кульминационный момент пьесы пьяный актер сморозил со сцены такое, что не лезло ни в какие ворота. Мы не знали оскорбления страшнее, чем «дешевка», даже если оставить в стороне упоминание о «матушке». Краем глаза я заметил, как Крис, сбросив с плеч рюкзак, лихорадочно принялся рыться в его недрах, но для чего – я в тот момент еще не понял.
– Славно, славно… – оправился от потрясения Туз. – Что ж, парни, приступим. Кроме Лашанса, никого не трогать, им же я сам займусь. Руки ему переломаю, гадине.
Я похолодел. Не так, как тогда, на мосту, но это, наверное, потому, что страха уже почти не осталось. До меня как-то сразу дошло, что он не шутит, он действительно собирается переломать мне руки. Много лет прошло с тех пор, но и теперь у меня нет ни малейшего сомнения в том, что именно так он и намеревался поступить.
Они медленно приближались сквозь дождевую пелену. Джеки Маджетт вытащил из кармана ножик-выкидуху и нажал на кнопку. Шестидюймовое лезвие сверкнуло под слабыми лучами уже начавшего пробиваться сквозь тучи солнца. Верн с Тедди по обе стороны от меня храбро приняли боевую стойку, при этом на лице у Верна отразилось мужество отчаяния. Тедди же не унывал нисколько.
Парни приближались, выстроившись в линию, шлепая армейскими ботинками по размытой дождем земле. Тело Рэя Брауэра лежало у наших ног, словно огромной ценности трофей, который мы решили защищать до последнего. Я приготовился ударить первым, когда в руке у Криса тускло блеснула вороненая сталь.
БА-БАХ!!!
Боже, что за звук! До сих пор он сладостной мелодией звучит у меня в ушах. Чарли Хоган высоко подпрыгнул на месте; Туз Меррил мгновенно перевел взгляд с меня на Криса, при этом челюсть у него снова отвалилась; Глазное Яблоко выглядел так, словно его пыльным мешком ударили. Тем не менее очнулся он первым:
– Эй, Крис, это же отцовская пушка! Да он тебе руки-ноги повыдергивает…
– Тебя ждет кое-что похлеще, – с угрозой проговорил смертельно побледневший Крис. Глаза его пылали. – Горди прав: вы не что иное, как дешевки, грязные, вонючие дешевки. Если бы Чарли и Билли, обнаружив мальчишку, не наложили в штаны, разве мы бы отправились за ним черт знает куда? Эти два засранца струсили и выложили все Тузу Меррилу, чтобы тот принял за них решение. – Крис сорвался на крик: – Вы не получите его, поняли?! После всего, что было, не получите! Это я вам говорю! Вам ясно?
– Послушай, – принялся уговаривать его Туз, – опусти-ка пушку, пока не отстрелил себе же что-нибудь. – Самообладание быстро возвращалось к нему, и он, со своей обычной ухмылочкой, стал снова приближаться. – Дай-ка быстренько ее сюда, вонючка, не то я заставлю тебя ее сожрать!
– Ей-богу, Туз, еще один шаг – и я тебя пришью…
– Тогда ты ся-я-дешь, дорогой мой, – пропел Туз все с той же ухмылочкой.
Дружки его наблюдали за ним с каким-то благоговейным ужасом, точно так же мы с Тедди и Верном смотрели на Криса. Конечно же, Туз Меррил, бандит и хулиган, от которого на ушах стояла вся округа, не мог предположить ни на секунду, что двенадцатилетний мальчишка способен в него выстрелить. Полагаю, он ошибался. Вряд ли Крис просто так позволил бы ему отнять у него отцовский пистолет. В тот миг я был уверен, что вот-вот грянет беда, и такая, какой я еще не знал. Может, и до убийства дойдет. И все это из-за премии, назначенной тому, кто найдет мальчишку, которого давным-давно и в живых-то уже нет…
Мягко, словно жалея Туза, Крис произнес:
– Ну, выбирай, что тебе отстрелить: руку или ногу. Мне все равно – давай выбирай ты.
Вот это-то и остановило Туза Меррила.
27
С ума можно сойти: на его физиономии я прочел страх. Туз Меррил испугался! Такого еще не бывало. Напугало его скорее не то, что сказал Крис, а то, как он это сказал. Если Крис и блефовал, то делал он это просто гениально, хотя, честно говоря, не думаю, что это был блеф. Да и все остальные поверили, что он говорит вполне серьезно. Лица у всех были такими, как будто кто-то поднес огонь к очень короткому бикфордову шнуру – еще секунда-другая, и раздастся взрыв.
Туз мало-помалу приходил в себя. Лицо его снова сделалось жестким, губы вытянулись в струнку, он смотрел сейчас на Криса, как смотрят на человека, сделавшего важное, но рискованное деловое предложение: ну что – стоит с тобой поиграть или же послать тебя к черту? Он словно замер в ожидании, сумев либо подавить страх, либо удачно его скрыть. Судя по всему, он понял, что риск чересчур велик, но тем не менее Туз был еще опасен, быть может, даже более, чем раньше. Оба они с Крисом балансировали сейчас на грани фола – сорвись любой из них, и это могло оказаться роковым для обоих.
– Ну хорошо. – Туз обращался к одному лишь Крису. – Но не надейся, гаденыш, что это так вот сойдет тебе с рук.
– Еще как сойдет, – возразил ему Крис.
– Ты, говнюк! – внезапно заорал Глазное Яблоко. – Ты даже представить себе не можешь, что тебе за это будет.
Крис оставался невозмутимым:
– Поцелуй меня в задницу.
Глазное Яблоко с глухим рычанием двинулся к брату. Пуля ударила в лужу футах в десяти впереди него, взметнув фонтанчик брызг. Глазное Яблоко, отскочив, выругался.
– И дальше что? – осведомился Туз.
– Дальше вы сядете в свои тачки и уберетесь отсюда назад, в Касл-Рок. Иначе я за себя не отвечаю. Его, – Крис осторожно, почти благоговейно тронул мыском тело Рэя Брауэра, – его вы не получите, это точно. Вы меня поняли?
– Ну погоди же… – К Тузу вернулась его ухмылочка. – Неужели ты не понимаешь, что мы тебя достанем, и очень скоро?
– Может, да, а может, нет…
– Доста-а-нем, – ухмыляясь, протянул Туз. – И вот тогда, приятель, тебе придется по-настоящему хреново. Тебе будет больно, очень больно… Не могу поверить, что до тебя это не доходит. Больница, куча переломов – все это я тебе обещаю. Клянусь мамой…
– Ты лучше поспеши домой – потрахаться со своей мамой. Она, говорят, обожает, когда ты ее трахаешь.
Туз не то что побледнел, а как-то посерел.
– Ну все, парень, считай – ты труп. Чтоб кто-то сказал о моей матери такое…
– А я слыхал, что твоя матушка – любительница потрахаться, особенно с тем, кто больше заплатит, – сообщил ему Крис. Туз, побагровев, двинулся к нему, а Крис тут же добавил: – А еще говорят, что она готова это сделать с кем угодно даже за десять центов. Она, я слышал…
В это мгновение налетел такой шквал, по сравнению с которым предшествовавшая гроза казалась сущей чепухой. Градины – каждая размером с куриное яйцо – загрохотали по кронам деревьев, по превратившейся в трясину земле, по нашим головам и плечам, а также по лицу Рэя Брауэра, о котором все как будто забыли.
Первым не выдержал Верн: с диким воплем он ринулся вверх по насыпи. За ним, обхватив голову руками, последовал Тедди. С противной стороны Вэнс Дежарден и Волосан Бракович отступили под защиту деревьев, однако остальные не двинулись с места, более того, Туз опять заухмылялся.
– Останься, Горди, – чуть слышно прошептал Крис. В голосе его была мольба. – Останься со мной, дружище.
– Я с тобой, – успокоил я его.
– Ну, что вы там решили? – крикнул он Тузу, и на этот раз голос его был тверд, более того, в нем опять зазвучал вызов.
– Мы до тебя доберемся, – пообещал ему Туз. – Не думай, что я это забуду, не надейся. Ты свое еще получишь.
– Давай, давай проваливай. А что будет потом – мы еще поглядим.
– Погоди, Чамберс, я до тебя доберусь. Я тебя…
– А ну пошел отсюда! – заорал Крис и поднял пистолет.
Туз стал медленно отступать. Минуту-другую он еще смотрел на Криса, потом кивнул, повернулся и бросил своим:
– Пойдем отсюда… – Обернувшись, он еще раз посмотрел на нас с Крисом: – До скорого свидания, мои дорогие!
Они скрылись за деревьями, а мы с Крисом остались на месте, не обращая внимания на молотящий нас град, от которого кожа уже покраснела и все вокруг покрылось серовато-белым ковром. Наконец сквозь шум града донесся рокот двух заводимых моторов.
– Стой тут, – велел мне Крис, а сам двинулся к лесополосе.
– Крис! – чуть ли не в панике окликнул его я.
– Подожди, я должен посмотреть. Оставайся на месте.
Его не было довольно долго, по крайней мере так мне показалось. Я уже начал думать, что Туз с Глазным Яблоком где-то затаились и схватили Криса, оставив меня тут одного, вместе с Рэем Брауэром. Через какое-то время Крис вернулся.
– Мы победили, – сообщил он, – они смылись.
– Ты в этом уверен?
– Абсолютно. Они уехали, обе машины.
Он чемпионским жестом вознес руки над головой – в одной из них все еще был пистолет, – затем опустил их и улыбнулся. Более печальной улыбки я в жизни не видел.
Несколько мгновений мы смотрели друг на друга, а потом одновременно опустили глаза. Внезапно меня объял ужас: глаза у Рэя Брауэра стали широченными, белыми-белыми и совершенно лишенными зрачков – как у древнегреческих статуй. Причину я понял практически мгновенно, однако ужас от этого не уменьшился: его глазные впадины заполнились градом, который постепенно таял, и вода стекала по щекам, словно мертвый парнишка оплакивал свою горестную судьбу – быть бессловесным призом, за который только что чуть не подрались между собой две незнакомые ему команды лоботрясов. Одежда его также стала белой от града, превратившись в некое подобие савана.
– Да, Горди… – вздохнул Крис, – невеселое это было для него зрелище…
– К счастью, он уже ничего не видит и не слышит.
– Ты в этом уверен? А его душа, тот самый призрак, что нас напугал ночью? Быть может, он догадывался, что здесь должно произойти, а?
Сзади хрустнула ветка. Уверенный, что Туз и его парни подкрались к нам с противоположной стороны, я резко обернулся, однако Крис лишь мельком туда взглянул и тут же снова принялся разглядывать тело. Это были Верн с Тедди в мокрых, прилипших к тощим ногам джинсах. На лицах обоих сияли улыбки до ушей, как у собаки, которой хозяин вынес наконец долгожданную мозговую кость.
– И что мы будем делать дальше? – спросил тем временем Крис то ли меня, то ли самого себя, а может быть, и Рэя Брауэра – именно на него он в тот момент и смотрел. Меня вдруг начала пробирать дрожь.
– Как это что? – удивленно переспросил Тедди. – Заберем его отсюда, разве нет? Все будут считать нас героями, ведь мы это заслужили, правда?
Он недоуменно переводил взгляд с меня на Криса, потом снова на меня.
Крис встряхнулся, сбрасывая с себя оцепенение. Закусив губу, он подошел к Тедди и обеими руками сильно толкнул того в грудь. Тедди попытался удержать равновесие, но это ему не удалось, и он гулко шлепнулся задницей в грязь, хлопая глазами на Криса. Верн тоже смотрел на него так, как смотрят на сумасшедшего. Возможно, в ту минуту он был недалек от истины.
– Ты, бесстрашный парашютист, сейчас лучше помолчи, – процедил Крис, обращаясь к Тедди. – Паршивый резиновый цыпленок…
– Да мы от града убежали! – красный от стыда и злости, крикнул Тедди. – Крис, ты что, думаешь, я их испугался? Я грозы боюсь, ничего с собой поделать не могу! Этих бы я в два счета уделал, клянусь мамой! Я грозы боюсь, как не знаю чего, в этом все дело. Вот дьявол! Ничего с собой поделать не могу!
Все так же сидя в луже, он заревел.
– Ну а ты? – обратился Крис к Верну. – Ты тоже боишься грозы?
Верн, так и не пришедший в себя после внезапной вспышки ярости у Криса, ошеломленно качал головой.
– Я думал, мы все побежим… – промямлил он.
– Ах, ты думал. Ты еще и мысли читаешь? Понял, что мы все сейчас рванем, потому и рванул первым?
Верн сглотнул два раза и ничего не ответил.
Крис диким взглядом смотрел на него еще некоторое время, а затем повернулся ко мне:
– Думаю, Горди, надо устроить ему темную.
– Ну, если тебе так хочется…
– Конечно! Как у скаутов… – В его голосе послышались странные, чуть истерические нотки. – Ну да ладно, это потом… Сейчас давай решать, что делать с трупом. Предлагаю соорудить носилки из веток и рубашек, как в той книжке, помнишь? Ну, что скажешь, Горди?
– Можно, конечно, так и поступить, но если эти гады…
– Да пошли они туда-то и туда-то! – взорвался Крис. – Вы что, стайка цыплят? Дрожите от страха?
– Крис, они могут настучать констеблю.
– Он наш, и мы обязаны вытащить его ОТСЮДА!
– Они и наврут с три короба, чтобы только нам нагадить, – настойчиво сказал я. Голос у меня был какой-то больной. – Ты что, не знаешь их? Они друг друга запросто закладывают, а нас-то и подавно. У них это в крови…
– А МНЕ ПЛЕВАТЬ! – снова взревел Крис и вдруг бросился на меня с кулаками.
В ту же секунду он, споткнувшись о грудную клетку Рэя Брауэра, растянулся на земле. Я ждал, что он тут же поднимется и, может быть, двинет мне в челюсть, но он остался лежать головой к насыпи в позе готового к прыжку ныряльщика, точно в такой же позе мы нашли Рэя Брауэра. Я даже посмотрел на ноги Криса – на месте ли его кроссовки. И тут вдруг Крис зарыдал, горько, истерически, замолотил кулаками по грязи, голова его задергалась из стороны в сторону, тело затряслось в конвульсиях. Тедди и Верн уставились на него, пораженные: никто и никогда не видел Криса Чамберса плачущим. Минуту спустя я взобрался на насыпь и присел на рельс. Тедди с Верном последовали за мной. Так мы и сидели молча под проливным дождем, а Крис с Рэем Брауэром лежали внизу, в грязи, чуть ли не в обнимку друг с другом.
28
Прошло не менее двадцати минут, прежде чем Крис присоединился к нам на насыпи. К этому времени в тучах образовался просвет, сквозь который хлынули солнечные лучи. За какие-то сорок пять минут растительность вновь обрела утерянный за лето ярко-зеленый цвет. Крис был весь в грязи, волосы его спутались и стояли дыбом, а единственными светлыми пятнами на физиономии были круги вокруг глаз, где он вытер слезы.
– Ты прав, Горди, – сказал он, – к черту всякие там премии. Мир, ладно?
Я кивнул. Минут пять прошли в полном молчании, затем я кое о чем подумал – на случай, если они все же настучат Баннерману. Спустившись с насыпи и подойдя к месту, где стоял Крис, я присел на корточки и принялся тщательно прочесывать пальцами мокрую траву и грязь.
– Что это ты делаешь? – заинтригованно спросил подошедший Тедди.
– Они, наверное, слева, – сказал Крис, указывая на это место пальцем.
Там я и продолжил поиски и через минуту-другую обнаружил обе стреляные гильзы, тускло поблескивавшие под лучами солнца. Я протянул их Крису. Он кивнул и сунул гильзы в карман джинсов.
– А теперь идем, – сказал он.
– Эй, да вы что?! – запротестовал Тедди. – Давайте заберем его!
– Слушай сюда, чучело, – принялся объяснять ему Крис, – если мы его заберем, то попадем в колонию. Горди абсолютно прав: эти подонки могут сочинить все, что угодно. Что, если они заявят, что это мы его убили? Как тебе это понравится?
– А мне плевать, – уперся Тедди точно так же, как несколько минут назад сам Крис. Вдруг в глазах его блеснула безумная надежда. – Да и много ли нам дадут, двенадцатилетним? Подумаешь, пару-тройку месяцев…
– Тедди, – принялся мягко убеждать его Крис, – с судимостью не берут в армию.
Я был абсолютно уверен, что это не так, но возражать, разумеется, не стал: Крис попал точно в цель. С минуту Тедди недоверчиво смотрел на него. Губы у него задрожали, и он наконец выдавил:
– Это точно?
– Спроси у Горди.
Он взглянул на меня с надеждой.
– Точно, – соврал я, – это совершенно точно, Тедди. Всех добровольцев первым делом проверяют, не состоят ли они на учете в полиции.
– А, черт!
– Нужно как можно скорее попасть к мосту, – сказал Крис. – Потом мы обойдем Касл-Рок и вернемся домой с другой стороны, а если нас станут спрашивать, где мы пропадали, скажем, что заблудились на холмах за кирпичным заводом.
– А Майло Прессман? – напомнил я. – И этот паскуда из магазина «Флорида»?
– Ну, мы можем сказать, что Майло напугал нас до полусмерти, поэтому мы и решили отправиться к кирпичному заводу, чтобы разбить палатку там.
Я кивнул: это объяснение показалось мне достаточно убедительным. Оно должно сработать, при условии, конечно, что Тедди с Верном не расколются.
– А что, если наши предки соберутся вместе? – спросил Верн.
– Тебя это беспокоит? Меня нет: мой старик наверняка ведь до сих пор не просыхает.
– Тогда идем, – заторопился Верн, озабоченно поглядывая на лесополосу, словно оттуда в любую минуту мог появиться констебль Баннерман со сворой гончих. – Пошли, пока опять какая-нибудь чертова гроза не разразилась.
Мы поднялись, готовые тронуться в путь. Вокруг как сумасшедшие пели птицы, вне себя от восторга по поводу только что прошедшего дождя, вновь показавшегося солнца, всей этой послегрозовой свежести, массы выползших на поверхность дождевых червей, да и вообще такой прекрасной жизни… Словно по команде, мы одновременно взглянули на Рэя Брауэра.
Он снова лежал в одиночестве, так, как мы его оставили, перевернув лицом вверх. Руки его раскинулись, словно приветствуя засиявшее на небе солнце. Поза эта была почти прекрасной и даже величественной, если бы не кровоподтек на щеке, не запекшаяся кровь от носа к подбородку, если бы тело уже не начало раздуваться и вокруг него не вились появившиеся вместе с солнцем трупные мухи. И, конечно, если бы не запах… Он был с нами одного возраста, и он умер, погиб, а мы живы. Я с ужасом отринул мысль о том, что в смерти может быть что-то величественно-прекрасное.
– О’кей, – сказал Крис чуть хрипло, – давайте-ка двигаться в темпе.
Мы чуть ли не бегом отправились в обратный путь. Разговаривать никому не хотелось. Не знаю, как остальные, но я почувствовал необходимость кое-что обмозговать. Это «кое-что», связанное с телом Рэя Брауэра, беспокоило меня тогда, продолжает беспокоить и теперь.
Обширный кровоподтек на одной стороне лица, небольшая рваная рана на темени, запекшаяся кровь из носа – и больше ничего, по крайней мере, ничего видимого. Бывает, в пьяной драке получают повреждения похлеще и, чуть оправившись, ударяются в запой по новой… И тем не менее, его должно было сбить поездом – иначе почему с него слетели кеды? А как это так вышло, что машинист его не заметил? Мог ли поезд отбросить его в сторону, но не убить при этом? Думаю, что при определенном стечении обстоятельств такое вполне могло случиться. Ударило ли его поездом в челюсть в тот момент, когда он попытался увернуться? А может, он еще был жив в течение нескольких часов и там лежал, дрожа, один-одинешенек, отрезанный ото всего мира? Может, он и умер-то от страха? Вот точно так же умерла однажды птица с перебитым крылом, умерла прямо у меня на руках. Перед смертью ее тельце трепетало, клюв открывался и закрывался, будто в предсмертном крике, темные блестящие глазки с мольбой смотрели прямо на меня, потом дрожь прекратилась, клюв остался полуоткрытым, а темные глазки словно затянуло белесой пленкой. То же самое могло произойти и с Рэем Брауэром. По-видимому, он умер, измученный нескончаемым ужасом, не имея больше сил цепляться за жизнь.
Но больше всего меня, похоже, беспокоило другое. Помнится, в радионовостях сообщалось, что он отправился за ягодами. Позднее я специально перелистал в библиотеке газетные подшивки – все правильно, он ушел в лес собирать ягоды, а значит, должен был взять с собой корзинку, ведерко или же что-то в этом роде. Однако ничего подобного поблизости от тела мы не обнаружили. Мы нашли сам труп, нашли кеды, и больше ничего. Быть может, он выбросил корзинку где-то между Чемберленом и тем болотистым участком местности в Харлоу, где и нашел свою смерть. Сначала, очевидно, он, наоборот, цеплялся за этот предмет, напоминающий о доме, о тепле и безопасности, однако по мере того как он осознавал весь ужас своего положения – одиночество, отсутствие всякой надежды на помощь, необходимость уповать лишь на собственные силы, – по мере того как страх пронизывал все его существо, он, должно быть, совершенно бессознательно зашвырнул корзинку куда-нибудь в кусты у насыпи.
Не раз возникало у меня желание попытаться найти эту корзинку – если она, конечно, вообще существовала. И даже много лет спустя меня неоднократно посещало искушение отправиться одним прекрасным солнечным утром в Харлоу одному, без жены и детей, вырулить на ту самую проселочную дорогу в почти новехоньком «форде»-пикапе, а добравшись до места, достать из багажника свой старенький рюкзак, стянуть рубашку с плеч и обвязать ее рукавами вокруг пояса… Потом натереть грудь и плечи жидкостью от комаров и продраться сквозь кусты к тому самому заболоченному участку. Интересно, пожелтела ли там трава по форме его распростертого тела? Ну конечно же, нет, ничто там уже не напоминает о том давнем происшествии, нужно же в конце концов мыслить здраво и не давать волю своей чрезмерной писательской фантазии… Затем я заберусь на насыпь, поросшую теперь уже густой травой, и не спеша побреду вдоль ржавых рельсов по полусгнившим шпалам в сторону Чемберлена…
Все это глупости. Двадцать лет минуло с тех пор, и, конечно же, та корзинка для черники давно сгнила в густом кустарнике, раздавлена гусеницами бульдозера, расчищавшего очередной участок под строительство, или же просто обратилась в прах. И тем не менее я не могу отделаться от мысли, что она до сих пор там, где-то возле старой заброшенной узкоколейки. Время от времени желание поехать поискать ее становится прямо-таки всепоглощающим. Оно, как правило, посещает меня по утрам, когда супруга моя принимает душ, а ребятишки смотрят очередную серию «Бэтмена» или «Скуби-ду» по 38-му бостонскому каналу. В такие минуты я вновь становлюсь тем Горди Лашансом, который много лет назад отправился с друзьями на поиски тела погибшего сверстника. Я снова ощущаю себя мальчишкой, но тут же меня будто окатывает холодным душем, и я задаю вопрос: каким именно мальчишкой из двоих?
Я потягиваю крепкий чай, наблюдаю за солнечными зайчиками, скачущими через жалюзи по кухне, вслушиваюсь в шум воды из ванной и в звуки телевизора из гостиной, чувствую пульс на виске, что означает пару рюмок лишних накануне вечером, и думаю, что отыскать это ведерко (или там корзину), безусловно, можно. Я мог бы прочесать кусты вдоль насыпи и все-таки найти эту штуковину, а потом… В этом-то все и дело: а потом что? Да ничего, я просто подниму корзинку, поверчу ее в руках, ощупаю ее, думая о том, что последний, кто дотрагивался до нее, уже давным-давно лежит в сырой земле. Может, он оставил там записку? Помогите, я потерялся, или что-то в этом духе… Чушь какая, кто же идет в лес по ягоды и захватывает с собой карандаш с бумагой? А если все-таки? Воображаю, какой благоговейный ужас меня охватит, если это и в самом деле так. Нет, мне положительно необходимо отыскать эту корзинку как некий символ, подтверждение того, кто из нас двоих – нет, пятерых – жив, а кто умер. Необходимо подержать ее в руках, почувствовать, собственной кожей ощутить все эти бесконечные дожди, пролившиеся на нее за долгие годы, снега, покрывавшие ее зимой, солнечные лучи, сиявшие над ней. И вспомнить, где был я и что поделывал, когда все это происходило, кого любил, кого ненавидел, по какому поводу смеялся и почему плакал… Я найду ведерко, ощупаю его, прочитаю на его поверхности длинную книгу бытия, всмотрюсь в собственное отражение в тусклом металле, покрытом ржавчиной и следами времени. Вы понимаете меня?..
29
В Касл-Рок мы вернулись в начале шестого воскресным утром, накануне Дня труда. Всю предыдущую ночь мы шли, не останавливаясь ни на минуту. Ни один из нас не скулил, не жаловался, хотя все до одного до крови натерли ступни и были страшно голодны. У меня к тому же голова раскалывалась от жуткой боли, а ноги горели адским пламенем. Два раза нам пришлось прыгать с насыпи вниз, пропуская поезда. Один из них оказался попутным, однако шел слишком быстро, чтобы на него вскочить. К мосту через Касл-Ривер мы вышли перед рассветом. Крис оглядел его и повернулся к нам:
– К черту, я пойду через мост напрямую. Если меня собьет поезд, что ж, по крайней мере эта свинья Туз Меррил будет лишен удовольствия со мной расправиться.
Мы все последовали за Крисом через мост – точнее было бы сказать, потащились. Поезда, на наше счастье, не было. Затем мы перелезли через ограду свалки (в такую рань, да еще в воскресенье, ни Майло, ни Чоппером тут, конечно, и не пахло) и напрямик вышли к колодцу. Первым попробовал ледяную воду Верн, потом и остальные, окатившись до пояса, напились так, что больше не было возможности. Утро выдалось прохладным, поэтому нам пришлось надеть рубашки. Доковыляв до нашего пустыря, мы остановились и уставились на хижину, в которой все и начиналось. Смотреть друг на друга нам почему-то не хотелось.
– Ну ладно, – вздохнул наконец Тедди, – увидимся в среду в школе. Я лично до тех пор скорее всего буду спать как убитый.
– И я, – отозвался Верн. – Грубая сила меня износила…
Крис стоял молча, что-то насвистывая сквозь зубы.
– Эй, дружище, – окликнул его Тедди, явно ощущая себя неловко, – только без обид, договорились?
– Без обид, – эхом отозвался Крис. Внезапно его мрачная, изможденная физиономия осветилась радостной улыбкой. – А все-таки, черт побери, нам это удалось! Мы им показали, всем им, так ведь?
– Ага, – тихо вздохнул Верн, – показали… Теперь Билли покажет мне.
– Ну и что? – возразил Крис. – Я тоже получу свое от Ричи; Горди скорее всего от Туза, а Тедди – от кого-нибудь еще. Важно, что нам это удалось!
– Точно, удалось, – без особой уверенности проговорил Верн.
Крис взглянул на меня, ища поддержки.
– Нам это удалось, ведь так? – спросил он тихо. – Игра стоила свеч, разве нет?
– Стоила, Крис, безусловно, стоила, – заверил его я.
– Да идите вы все на фиг, – махнул рукой Тедди, как будто мы несли какую-то совсем уж полную ахинею. – Устроили здесь, понимаешь, пресс-конференцию по поводу успешного завершения выдающейся экспедиции. Давайте-ка скорее по домам, а то, наверное, предки уже включили нас в список жертв новоявленного маньяка. Ну, прощаемся?
Мы обменялись на прощание рукопожатиями, и Тедди с Верном потопали в свою сторону. Я собирался уже отправиться к себе, но что-то меня удержало.
– Я провожу тебя? – предложил Крис.
– Конечно, если тебе так хочется.
Некоторое время мы брели молча. В этот ранний час Касл-Рок все еще спал как убитый. Тишина стояла полнейшая, и у меня возникло ощущение, что вот сейчас мы повернем за угол, на Карбайн-стрит, и там увидим «моего» оленя, мирно щиплющего травку.
– Они расколются, – проговорил наконец Крис.
– Безусловно, только не сегодня и не завтра. Думаю, пройдет достаточно много времени, прежде чем у них развяжутся языки. Быть может, годы.
Он удивленно посмотрел на меня.
– Видишь ли, Крис, они напуганы, в особенности Тедди. Он страшно боится, что его могут не взять в армию. Верн тоже до чертиков напуган. Теперь у них будет немало бессонных ночей этой осенью, время от времени кто-то из них едва не проболтается, но, думаю, вовремя прикусит язык. И вот еще что. Знаешь, это, конечно, выглядит полнейшей чушью, но мне кажется, они постараются забыть обо всем, что произошло.
Поразмыслив, Крис медленно кивнул.
– Мне как-то не пришло в голову взглянуть на вещи под таким углом. Ты, Горди, прямо-таки видишь людей насквозь.
– Хотелось бы мне, чтобы так и было.
– Так оно и есть.
Мы еще немного помолчали.
– Никогда мне не выбраться из этой дыры, – проговорил вдруг Крис с тяжелым вздохом. – Что ж, будешь приезжать из колледжа на летние каникулы, а мы с Верном и Тедди, отпахав семичасовую смену, сможем с тобой встречаться в кабачке у Сьюки: вспомнить былое, да и просто поболтать. Если тебе, разумеется, захочется, только вряд ли…
Он горько усмехнулся.
– Слушай, перестань! Какого черта ты себя хоронишь? – накинулся на него я, стараясь, чтобы в голосе моем звучал металл.
В то же время в ушах у меня были слова Криса: А может, я это и сделал? Может, я отдал деньги старой чертовке, леди Саймонс, но, несмотря на это, меня наказали, поскольку они так и не всплыли? А на другой день старая чертовка заявилась в школу в новой юбке… И взгляд. Взгляд его глаз.
– Я и не собираюсь хоронить себя, дружище, – печально проговорил Крис, – я просто называю вещи своими именами. И хватит об этом.
Мы дошли до перекрестка, где начиналась моя улица, и там остановились. Часы показывали четверть седьмого. У магазина, принадлежащего дядюшке Тедди, остановился фургон с надписью «Санди телеграф». Водитель в футболке и джинсах швырнул на крыльцо пачку газет. Перевернувшись в воздухе, она шлепнулась последней страницей – с комиксами – вверх. Фургон поехал дальше. Я почувствовал, что нужно сказать Крису нечто крайне важное, но слова не шли.
– Давай пять, дружище, – устало проговорил он.
– Крис, подожди…
– Пока, я говорю.
Я протянул ему ладонь:
– Ладно, до скорого.
Ответил он уже своей обычной беззаботной улыбкой:
– До скорого. Давай чеши домой, готовь задницу для порки!
Посмеиваясь и что-то напевая, он отправился своей дорогой. Шагал он легко, как будто вовсе не натер до крови ступни, вроде меня не протопал несколько десятков миль практически без отдыха, как будто его не искусали комары и слепни. Было такое впечатление, словно он возвращался после увеселительной поездки в роскошный особняк, а не в трехкомнатный домишко (более подходящим словом было бы «хибара») с покосившейся входной дверью и разбитыми окнами, где вместо стекол были вставлены листы фанеры, к подонку брату, который, вероятно, уже его поджидает в предвкушении трепки, которую задаст «оборзевшему салаге», к неделями не просыхающему отцу… Слова застревают у меня в горле, когда я вспоминаю тот миг. Вообще я совершенно убежден – хотя какой же я писатель после этого? – что для любви не нужно слов, и более того, слова могут убить любовь. Вот точно так же, если, незаметно приблизившись к оленю, шепнуть ему на ухо, чтобы он не боялся, что никто его не обидит, то зверь в одно мгновение исчезнет в лесной чаще – ищи ветра в поле. Так что слова – это зло, а любовь – совсем не то, что воспевают все эти безмозглые поэты вроде Маккьюэна. У любви есть зубы, и она кусается, любовь наносит раны, которые не заживают никогда, и никакими словами невозможно заставить эти раны затянуться. В этом противоречии и есть истина: когда заживают раны от любви, сама любовь уже мертва. Самые добрые слова способны убить любовь. Поверьте мне, что это так, – уж я-то знаю. Слова – моя профессия, моя жизнь.
30
Черный ход оказался запертым, однако мне было хорошо известно, где спрятан запасной ключ. На кухне, тихой и ослепительно чистой, никого не было. Я осторожно повернул выключатель. Что-то не припоминаю, чтобы мне когда-либо доводилось вставать с постели раньше матери…
Скинув с себя рубашку, я засунул ее в пластиковую корзину для грязного белья возле стиральной машины, затем вытащил из-под мойки чистую тряпку и тщательно вытерся ею – лицо, шею, грудь, живот. После этого я расстегнул «молнию» на джинсах и растирал пах, пока кожа не покраснела, особенно в том месте, где присосалась гигантская пиявка. Кстати, у меня там до сих пор маленький шрам в форме полумесяца. Жена однажды поинтересовалась его происхождением, и я совершенно непроизвольно соврал ей что-то, уже не помню что.
Закончив с растиранием, я с омерзением выбросил ставшую грязной тряпку.
Выудив дюжину яиц, я взболтал шесть штук в кастрюльке, добавил туда немного ананасового сока и четверть кварты молока и только присел, чтобы все это проглотить, как в дверях появилась мама с сигаретой во рту. На ней был вылинявший розовый фартук, а тронутые сединой волосы она стянула в тугой пучок на затылке.
– Ты где пропадал, Гордон?
– В поход с ребятами ходили, – ответил я, приступая к еде. – Сначала мы расположились в поле у Верна, но потом решили отправиться к кирпичному заводу. Мама Верна обещала сообщить тебе. Разве она этого не сделала?
– Может, она сказала отцу…
Словно розовое привидение, мама проскользнула мимо меня к мойке. Под глазами у нее были синяки. Она испустила тяжелый вздох, почти что всхлип:
– Почему-то именно по утрам мне так не хватает Денниса… Всегда захожу к нему в комнату, а там пусто, понимаешь, Гордон, пусто…
– Да, я понимаю.
– Он постоянно спал с распахнутыми окнами, а его одеяло… Ты что-то сказал, Гордон?
– Нет, мама, ничего.
– А одеяло он натягивал на себя до самого подбородка, – закончила она фразу и, повернувшись ко мне спиной, уставилась в окно. Меня охватила дрожь.
31
Никто так ничего и не узнал. То есть тело Рэя Брауэра было, конечно, найдено, но ни мы, ни шайка Туза Меррила никакого к этому отношения уже не имели. Хотя, быть может, анонимный звонок в полицию, в результате которого труп был обнаружен, и имел прямое отношение к Тузу, по-видимому, решившему, что так будет безопаснее для всех. В любом случае родители наши остались в неведении относительно того, где мы были и что поделывали в выходные накануне Дня труда.
Как Крис и предполагал, папаша его еще не вышел из глубокого запоя, а мать, по своему обыкновению, отправилась на это время в Льюистон к сестре, оставив младших на попечении Глазного Яблока. Тот день и ночь ошивался с Тузом и его бандой, таким образом девятилетний Шелдон, пятилетняя Эмери и двухлетняя Дебора оказались предоставленными самим себе.
Матушка Тедди забеспокоилась на вторую ночь и позвонила матери Верна, которая ее успокоила, сообщив, что накануне ночью видела свет в палатке, разбитой у них в поле. Мамаша Тедди, поостыв, выразила надежду, что мы там, дай Бог, не курим, на что ее собеседница заявила, что ни Верн, ни Билли табаком не балуются, как и, по ее мнению, их друзья.
Что же касается моего старика, он, разумеется, задал мне несколько вопросов, на которые получил весьма уклончивые ответы, однако, по всей видимости, они его удовлетворили. Пообещав, что как-нибудь сходит со мной на рыбалку, он закончил разговор и более к нему не возвращался. Быть может, кое-что и всплыло бы, если бы наши предки собрались вместе по горячим следам, в течение недели-другой, но этого не произошло. В общем-то им всем было наплевать.
Майло Прессман счел за благо держать язык за зубами; очевидно, тщательно все взвесив, он пришел к выводу, что показания нескольких человек, пускай и несовершеннолетних, о том, как он натравил на меня пса, не сулят ему ничего хорошего.
Таким образом, история эта не стала достоянием публики, однако она имела продолжение.
32
Однажды, уже в конце месяца, я возвращался домой из школы, как вдруг черный «форд» модели 1952 года, обогнав меня, притормозил у тротуара. Тачка эта была с массой прибамбасов: перламутрово-белые колпаки на колесах, высокие хромированные бамперы, искусственная роза на антенне, а на багажнике красовалась нарисованная карта. Была она весьма необычной: сверху одноглазый валет, в нижней половине хохочущий бесенок, а еще пониже – надпись готическим шрифтом: БЕШЕНЫЙ КОЗЫРЬ.
Дверцы машины распахнулись, и оттуда показались старые знакомые – Туз Меррил и Волосан Бракович.
– Так ты говоришь, дешевка? – ухмыльнулся Меррил. – Говоришь, моя матушка это обожает?
– Ну, малыш, считай, что ты покойник, – присовокупил Волосан.
Уронив сумку с учебниками, я со всех ног бросился назад, к перекрестку, однако почти тут же получил сильнейший удар в затылок и запахал носом по асфальту. В глазах у меня вспыхнули не искры, а настоящий фейерверк. Когда они подняли меня за шиворот, я уже ревел вовсю, но не от боли в разбитых в кровь локтях и коленях, даже не от страха, что они действительно сделают из меня отбивную. Крис был абсолютно прав: самые горькие слезы – это слезы отчаяния, бессильной ярости.
Я, словно обезумев, стал вырываться, и это мне почти уже удалось, когда Волосан двинул мне коленом в пах. Боль была такая, что сознание у меня помутилось, и, перестав что-либо соображать, я заорал, нет, скорее завизжал, как поросенок под ножом мясника.
Туз с каким-то сладострастием, широко размахнувшись, дважды саданул меня по физиономии. Первый удар отключил мой левый глаз (открылся он лишь спустя четыре дня), вторым он мне сломал нос. Звук при этом был такой, как будто кто-то разгрыз грецкий орех. Тут-то и появилась старуха Чалмерс с сумками в изуродованных артритом руках и с неизменной гаванской сигарой в уголке рта (старуха была довольно колоритной личностью). На секунду остолбенев от представшей перед ней картины, она заверещала:
– Эй, что вы с ним сделали, подонки? Полиция! Поли-и-иция!!!
– Не дай тебе Бог, гаденыш, встретиться со мной еще раз, – прошипел Туз со своей ухмылочкой и нехотя отпустил меня.
Согнувшись пополам, я корчился на асфальте, не сомневаясь в том, что вот-вот отдам концы. Слезы катились из глаз, но все же я разглядел, как Волосан занес ногу в армейском ботинке, чтобы ударить напоследок. Мгновенно во мне снова вспыхнула ярость. Забыв про боль, я ухватил его обеими руками за ногу и впился зубами в джинсы с такой силой, что челюсти хрустнули. Вопль его заглушил мой собственный, он запрыгал на одной ноге, и в ту же секунду каблук Туза опустился на мою левую ладонь, ломая пальцы. Опять раздался хруст разгрызаемого ореха… Туз – руки в карманах – неторопливо двинулся к «форду», за ним запрыгал Волосан, поминутно оборачиваясь и выплевывая грязные ругательства в мой адрес. Обессиленный, весь в слезах, я кое-как присел на тротуаре. Тетушка Чалмерс доковыляла до меня и, наклонившись, поинтересовалась, нужен ли мне врач. Стараясь сдержать поток слез, я ответил, что не нужен. Тогда она запричитала:
– Звери, надо же, какие звери! Я видела, как он тебе врезал напоследок… Бедный мой мальчик, у тебя рука распухла и все лицо в крови…
Она привела меня к себе домой, дала мокрое полотенце – вытереть кровь с носа, который к тому времени стал напоминать громадных размеров сливу, угостила здоровенной чашкой пахнувшего лекарством кофе, который, надо сказать, меня здорово успокоил, и при этом не переставала причитать и настаивать на вызове врача, от чего я наотрез отказался. Наконец она сдалась, и я отправился домой. Двигался я крайне медленно: в паху все распухло, и каждый шаг давался с огромным трудом.
При одном взгляде на меня у отца с матерью волосы встали дыбом. По правде говоря, меня страшно удивило, что они вообще что-либо заметили… Тут же начались расспросы: кто это сделал? Смогу ли я опознать негодяев? (Последний вопрос задал, разумеется, отец, не пропускавший ни одной серии «Обнаженного города» и «Неприкасаемых».) Я заявил, что знать их не знаю и опознать вряд ли смогу, добавив, что я смертельно устал и хотел бы прилечь. Думаю, что у меня был шок, а тут еще подействовал кофе тетушки Чалмерс, очевидно, более чем наполовину разбавленный крепчайшим бренди. В общем, я сказал, что они скорее всего иногородние, может, из Льюистона или Оберна.
Родители все же отвезли меня к доктору Кларксону (он, кстати, до сих пор жив, хотя уже тогда был настолько стар, что почти не вставал с кресла-качалки). Доктор выправил мне кости носа и пальцев, дал матери рецепт на болеутоляющее, затем под каким-то предлогом выпроводил их из смотровой комнаты, после чего, нагнув голову, словно боксер на ринге, принялся меня допрашивать:
– Гордон, кто это сделал?
– Не знаю, доктор Клар…
– Врешь.
– Ей-богу, сэр, не вру. Я действительно не знаю.
Лицо его медленно наливалось кровью.
– С какой стати ты выгораживаешь этих кретинов? Воображаешь, что они тебе за это скажут спасибо? Как бы не так – они лишь посмеются и назовут тебя полным идиотом, а выбрав подходящий момент, добавят еще.
– Честное слово, я их не знаю.
Ответ мой страшно разозлил его, но что он мог поделать? Только покачать седой как лунь головой и, что-то бормоча по поводу малолетних преступников, отправить меня к родителям.
Мне было абсолютно все равно, что скажут Туз и Волосан и назовут ли они меня идиотом, я думал в тот момент только о Крисе. Глазное Яблоко сломал ему руку в двух местах и так изукрасил физиономию, что она напоминала солнце на закате. В предплечье ему пришлось вставить стальной стержень, чтобы кость срослась. Криса отыскала миссис Макджинн, изо рта и из ушей у него лилась кровь. Когда она привела его к врачу и Крис слегка очухался, то заявил, что в темноте свалился с лестницы, ведущей в погреб.
– Да, очень похоже, – сказал на это врач, качая головой точно так же, как доктор Кларксон качал в моем случае, и тут же позвонил констеблю Баннерману.
Пока он это делал, Крис осторожно спустился с лестницы, придерживая сломанную руку на перевязи, и позвонил из автомата на улице миссис Макджинн (первый раз в жизни он звонил в «коллект» и, как позднее мне рассказывал, до смерти боялся, что соседка откажется ответить на звонок, платить за который предстояло ей, однако она ответила).
– Крис, с тобой все в порядке? – спросила она.
– Да, благодарю вас.
– Извини, что не смогла побыть с тобою, Крис, но у меня пироги…
– Ничего, миссис Макджинн, все нормально. У меня к вам просьба. Видите «бьюик» у нас во дворе?
«Бьюик» десятилетней давности принадлежал матери Криса. Когда у него перегревался мотор, а случалось это сплошь и рядом, от него на всю округу воняло горелым машинным маслом.
– Вижу, – осторожно ответила миссис Макджинн. Все это ей до чрезвычайности не нравилось – с Чамберсами, как известно, никакого дела лучше не иметь.
– Вы не могли бы попросить маму – а раз «бьюик» во дворе, значит, она дома – спуститься в погреб и вывернуть лампочку на лестнице?
– Крис, я же сказала – у меня пироги…
– Я очень вас прошу, – неумолимо продолжал Крис, – сделать это сейчас же. Скажите ей, что иначе мой братец сядет за решетку.
Последовала продолжительная пауза, и наконец миссис Макджинн сдалась. Лишних вопросов задавать она не стала. Констебль Баннерман незамедлительно посетил Чамберсов, но в итоге для Ричи Чамберса все кончилось благополучно.
Верн с Тедди также получили свое, хотя и в меньшей степени, нежели мы с Крисом. Дома Верна уже поджидал Билли с кочергой, но только после четвертого или пятого удара Верн отключился окончательно. Билли, напуганный, что убил брата, тут же прекратил избиение, однако Верн очухался довольно быстро. Тедди они поймали втроем в один не очень-то прекрасный для него вечер, когда он шел домой с «нашего» пустыря. Ему набили морду и расколотили очки, причем он попытался дать сдачи, но кто же станет драться со слепым?
В школе мы были неразлучны, словно единственные из целой дивизии бойцы, которым удалось вырваться из окружения. Никто из одноклассников толком ничего не знал, однако ходили упорные слухи, что мы не только не побоялись сцепиться со старшими ребятами, но и довольно лихо утерли им нос. На этот счет из уст в уста передавались дичайшие истории – одна неправдоподобнее другой.
Со временем, когда кровоподтеки сошли и раны зажили, Верн с Тедди отошли от нас и сформировали собственную команду из сопляков и салажат, которые боготворили их и которыми они помыкали как хотели, словно эсэсовские надсмотрщики в концлагере. Штаб-квартирой у них осталась все та же хибара на пустыре.
Мы с Крисом появлялись там все реже и реже и какое-то время спустя перестали вовсе. Как-то весной 1961 года я забрел туда от нечего делать – вонь там стояла, как на скотном дворе, – и больше, насколько мне помнится, я уже туда не заглядывал. Мало-помалу Тедди и Верн стали для меня практически чужими: при встрече мы, разумеется, здоровались, но не более того. Такое случается сплошь и рядом: друзья приходят и уходят, а жизнь продолжается… Иногда я вспоминаю тот сон и две фигуры под водой, старающиеся утопить третьего. Может, оно и к лучшему, что так все кончилось. Кто-то тонет, кто-то выплывает, а жизнь идет своим чередом. Справедливо это или нет, но это так.
33
Верн Тессио погиб в 1966 году во время пожара в Льюистоне, когда огонь уничтожил многоквартирный дом из тех, что в Бруклине или Бронксе называют трущобами. По заявлению пожарной охраны, дом загорелся часа в два ночи, а к рассвету от него остались одни головешки. В ту ночь там была пьянка, на которой присутствовал и Верн. Как часто бывает, кто-то уснул с горящей сигаретой, может, это даже был он. В общем, его труп был одним из пяти, которых смогли опознать лишь только по зубам.
Тедди попал в кошмарную автокатастрофу. Случилось это в 1971-м, а может, и в начале 1972 года. Как я уже упоминал не раз, служба в армии стала для него настоящей идефикс. Едва достигнув возраста, когда можно было подавать документы в пункт набора добровольцев, он запросился в авиацию, однако был признан годным лишь к нестроевой, и то ограниченно. Все, кто хоть один раз видел Тедди – его очки и слуховой аппарат, – не сомневались, что так и получится, все, но только не Тедди. И бесполезно было убеждать его: однажды его временно исключили из школы за то, что он назвал руководителя службы профориентации «дерьмаком задрипанным». В другой раз Тедди харкнул в физиономию директору, когда тот заикнулся о необходимости подумать о какой-нибудь другой профессии.
За многочисленные прогулы, опоздания и нарушения дисциплины Тедди оставили на второй год, но школу он как-то умудрился окончить. Он пошел по стопам Туза и Волосана: купил древний «шевроле-белэйр» и принялся ошиваться по тем же самым злачным местам: дискотека, кабачок Сьюки (он теперь закрыт), бильярдная, бар «Похмельный тигр» и т. п., иногда заглядывая в Управление общественных работ Касл-Рока, чтобы получить очередную халтуру – уборку мусора или ремонт дорожного покрытия. Постоянной работы у него, естественно, не было.
Авария произошла в Харлоу. «Белэйр» был до отказа набит друзьями и подружками Тедди, двое из которых пристали к нему еще в 1960-м. Не знаю, сколько бутылок они успели осушить, но только «шевроле» начисто своротил телеграфный столб, после чего перевернулся аж шесть раз. Лишь одна девица из всей компании осталась в живых, да и то лучше бы ей умереть на месте: полгода она провела в барокамере, не подавая признаков жизни, после чего чья-то милосердная рука повернула краник аппарата искусственного дыхания. Тедди же хоронили в наглухо закрытом гробу.
Крису удалось поступить на курсы подготовки в колледж, причем все, кроме, разумеется, меня, его от этого настоятельно отговаривали. Родители считали, что он только зря теряет время, дружки вообще не понимали, зачем ему вдруг понадобилось корпеть над учебниками, руководитель службы профориентации не верил в его способности, учителям же отнюдь не улыбалась перспектива ежедневно лицезреть этого хулигана в кожаной куртке на «молниях» и в высоких армейских ботинках на фоне благовоспитанных мальчиков и девочек из добропорядочных семей, всегда аккуратно одетых и причесанных, готовых день и ночь зубрить алгебру, латынь и естествознание. Среди них Крис, с его вечно всклокоченными волосами и курткой в заклепках, выглядел, ясное дело, белой вороной.
С десяток раз он был близок к тому, чтобы бросить учебу. Особенно его достал папаша, не перестававший брюзжать, что «этот сопляк возомнил себя умнее отца», что «нужно деньги зарабатывать, а не заниматься ерундой», ну и так далее. Однажды, в сильном подпитии, он треснул Криса бутылкой «Рейнголда» по голове, после чего Крис оказался у доктора, своего старого знакомого, которому пришлось наложить на его скальп четыре шва. Его старые дружки (большинство из которых сейчас сидит, а остальные либо уже отсидели, либо скоро сядут) устроили за ним настоящую охоту на улицах. Ответственный за профориентацию убеждал его пройти хотя бы краткий курс профессионального обучения, чтобы впоследствии не оказаться у разбитого корыта. Но хуже всего было то, что в младшей школе Крис изрядно запустил учебу, и теперь ему приходилось нагонять.
Чуть ли не каждый вечер мы с ним занимались вместе, иногда по шесть часов кряду. Меня эти занятия просто выматывали, а временами и пугали: пугало какое-то остервенение Криса по отношению к учебе. Тем не менее отставание его казалось непреодолимым: прежде чем приступить к введению в алгебру, ему пришлось повторять дроби, потому что, когда их проходили в пятом классе, они с Тедди и Верном учились играть в покер. Прежде чем выучить по-латыни «Отче наш, иже еси на небесех», Крис должен был уяснить, что такое существительное, предлог и дополнение. На первой странице его учебника английской грамматики красовалась аккуратно выведенная надпись: Е…Л Я ГЕРУНДИИ. Содержание его сочинений было неплохим, мысли отличались оригинальностью, но в правописании он был, мягко говоря, не силен, а уж пунктуация вообще казалась ему темным лесом. Учебник Уорринера стал для него настольной книгой, а когда один экземпляр истрепался до того, что стало невозможно его раскрыть, он тут же приобрел другой, в твердой обложке.
И тем не менее дела его шли в гору. Я тоже не блистал: по успеваемости в классе был седьмым, а Крис поднялся до девятнадцатого места, но нас обоих приняли в университет штата Мэн, только я получил место в кампусе[33] Ороно, а Крис – в Портленде. Представляете, он пошел на юридический, туда, где вообще сплошная латынь!
Ни я, ни он практически не общались с девочками, не назначали свиданий. Очевидно, большинство наших знакомых, включая и Тедди с Верном, считали нас гомиками, однако наши с Крисом отношения были, по-моему, гораздо ближе. Нас тянуло друг к другу словно магнитом. Что касается Криса, причину этого, по-моему, объяснять не надо, со мной же все было несколько сложнее. Его жгучее желание вырваться из Касл-Рока, из болота, что его затягивало, стало для меня частицей моего собственного «я», причем лучшей частицей. Я просто-напросто не мог оставить Криса в этом болоте, иначе вместе с ним в нем бы погибла вот эта самая, лучшая, часть моего естества.
Шел к концу 1971 год. Крис вышел из общежития перекусить в гриль-баре. В очереди, прямо перед ним, стояли двое, между ними вспыхнула ссора по поводу того, который из них первый. Один из спорщиков вытащил нож. Крис, этот вечный миротворец, стал их разнимать и получил удар в горло. Умер он практически моментально. Позднее выяснилось, что его убийца имел четыре судимости и лишь за неделю до того был освобожден из тюрьмы по истечении срока заключения.
Я прочел об этом в газетах. Крис к тому времени только что поступил в аспирантуру, я же преподавал английский в средней школе, был уже в течение полутора лет женат, супруга вскоре должна была родить, и я тоже пытался родить свою первую книгу. Когда мне на глаза попался заголовок СТУДЕНТ ТРАГИЧЕСКИ ПОГИБ В РЕСТОРАНЕ ПОРТЛЕНДА, я сказал жене, что сбегаю ей за молочным коктейлем, а сам сел в машину, выехал на окраину города, припарковался и проплакал навзрыд, наверное, с полчаса. Я очень люблю свою жену, но рыдать при ней, конечно, было невозможно. Уж слишком это дело интимное…
34
Теперь, наверное, нужно сказать немного о себе. Как вы уже знаете, я стал писателем. Многие критики считают, что все мои писания – дерьмо, и иногда мне кажется, что они правы, однако мне все же доставляет удовольствие вписывать «свободный литератор» в графу «род занятий» многочисленных анкет, которые приходится заполнять, скажем, при получении кредита в банке или в конторе медицинского страхования.
Как это началось? Вполне обычная история: моя первая книга неплохо разошлась, по ней сняли фильм, который неожиданно стал суперхитом, к тому же получил неплохие отзывы критики. Тогда мне было только двадцать шесть. Затем последовала вторая книга и фильм по ней, потом третья и еще один фильм. Маразм, короче… В то же время жена вполне довольна моими успехами, у нас свой дом и трое детишек, все они – отличные ребята, в общем, я могу считать, что жизнь удалась и что, пожалуй, у меня есть все для счастья.
С другой стороны, как мне уже приходилось отмечать, писательский труд перестал приносить мне прежнюю радость. Эти бесконечные звонки, визиты… Иногда у меня жутко болит голова, и тогда приходится запираться в темной комнате, ложиться ничком и ждать, пока боль стихнет. Врачи утверждают, что это не классическая мигрень, а результат постоянного стресса, и уговаривают меня сменить образ жизни, работать менее напряженно, и все такое прочее. Какая глупость… Как будто это от меня зависит. Впрочем, время от времени я сам за себя беспокоюсь, но, что гораздо хуже, начинаю сомневаться, а нужно ли кому-нибудь то, что я делаю.
Забавно, но я не так давно вновь повстречался с Тузом Меррилом. Вот ведь как вышло: друзья мои мертвы, а Туз жив-здоров. Я видел, как он отъезжал с фабричной стоянки по окончании трехчасовой смены, когда в последний раз мы с ребятами навещали дедушку, то есть моего старика.
У него и сейчас был «форд», только не 1952-го, а 1977 года, с наклейкой РЕЙГАН/БУШ-1980 на заднем бампере. Он сильно располнел и полысел, его некогда красивое, с тонкими чертами лицо превратилось в упитанную харю. Он равнодушно скользнул по мне взглядом, не узнавая в тридцатидвухлетнем мужчине мальчишку, которому когда-то сломал нос.
Я решил понаблюдать за ним. «Форд» подкатил к замусоренной стоянке рядом с «Похмельным тигром», Меррил вылез из машины и, подтягивая на ходу брюки, заковылял к бару. Дальнейшее я вполне мог себе представить: вот он открывает дверь и под приветственные крики остальных завсегдатаев усаживается на табурет, который протирает ежедневно, кроме воскресений, по меньшей мере часа по три кряду с тех пор, как ему исполнился двадцать один год; вот залпом выпивает первую кружку…
Так вот ты каким стал, Туз, подумал я, трогаясь с места.
Слева, за фабрикой, виднелась Касл-Ривер, не такая широкая, как тогда, но и не такая грязная. Железнодорожного моста уже не было, а река осталась. Как и я сам.
Зимняя сказка «Метод дыхания»
Питеру и Сьюзан Страуб
1. Клуб
Возможно, в этот снежный и ветреный вечер 23 декабря 197… года я оделся чуть быстрее, чем обычно. Подозреваю также, что и другие члены клуба сделали то же самое. В ненастные вечера в Нью-Йорке очень трудно поймать такси, и я заказал машину по телефону. Я сделал заказ в пять тридцать на восемь часов, и моя жена удивленно подняла брови, но ничего не сказала. Без четверти восемь я уже стоял под козырьком подъезда нашего дома на Восточной Пятьдесят восьмой улице, где мы жили с Эллен с 1946 года. В пять минут девятого такси еще не было, и я поймал себя на том, что в нетерпении мечусь вверх-вниз по ступенькам.
Машина приехала в десять минут девятого. Я влез в такси, довольный, что наконец укрылся от ветра, но в то же время злясь на водителя, как, по-видимому, он того заслуживал. Этот ветер, пришедший накануне вместе с фронтом холодного воздуха из Канады, свистел и завывал вокруг машины, заглушая шум водительского радио и раскачивая антенну. Большинство магазинов было еще открыто, однако на тротуарах почти не попадалось запоздалых покупателей. Те же, кто решился выбраться из дому, выглядели как-то неприкаянно или даже болезненно.
Весь день непогодилось, и теперь снова повалил снег – сначала тонкой завесой, а затем плотными вихревыми потоками, кружившимися впереди нас. Возвратясь домой, я наверняка буду вспоминать об этом сочетании снегопада, такси и Нью-Йорка с еще большим чувством дискомфорта. Впрочем, никто не знает заранее, что будет потом.
На углу Второй и Сороковой улиц над перекрестком, словно привидение, пролетел большой рождественский колокольчик из фольги.
– Жуткий вечер, – сказал водитель. – Завтра в морге окажется еще пара десятков трупов. Алкашей да нескольких грязных шлюх.
– Вполне возможно.
Таксист задумался.
– Ну что ж, это даже к лучшему, – сказал он наконец. – Меньше расходов на пособия, разве нет?
– Ваше рождественское милосердие, – ответил я, – просто поразительно.
Таксист задумался.
– Вы что, один из этих слюнявых либералов? – спросил он через некоторое время.
– Я отказываюсь отвечать на том основании, что мой ответ может быть использован против меня, – сказал я.
Таксист фыркнул, что должно было означать: «Ну почему мне всегда везет на всяких умников?» – но больше ничего не добавил.
Я вышел на пересечении Второй и Тридцать пятой и прошел полквартала вниз до клуба, навстречу завывающему ветру, нагнувшись и придерживая шляпу затянутой в перчатку рукой. Как никогда раньше, моя жизненная сила сжалась где-то в глубине тела до размеров маленького дрожащего огонька в газовой колонке. В семьдесят три человек ощущает холод быстрее и глубже. В таком возрасте лучше сидеть дома перед камином или по крайней мере у электрического обогревателя. В семьдесят три воспоминания о горячей крови – это скорее не воспоминания, а академический отчет.
Снегопад утихал, но сухой, как песок, снег все еще хлестал меня по лицу. Я обрадовался, увидев, что ступени, ведущие наверх к двери 249Б, посыпаны песком. Конечно, работа Стивенса – он достаточно хорошо знал древнюю алхимию: кости превращаются не в золото, а в стекло.
Стивенс был там, он стоял, распахнув дверь, и через мгновение я оказался внутри. Через обшитый красным деревом холл и двойные двери на рельсах, распахнутые на три четверти, я поспешил вниз, в библиотеку с читальней и баром. Это была темная комната, где светились лишь случайные островки – читальные лампы. На дубовом паркете лежал отблеск более густого света, и я слышал потрескивание березы в огромном камине. Тепло разливалось по всей комнате. Рядом сухо и слегка нетерпеливо зашуршала газета. Это, наверное, Иохансен со своим «Уолл-стрит джорнэл». И через десять лет можно было бы узнать о его присутствии по тому, как он читал свои газеты. Занятно, если не сказать – удивительно.
Стивенс помог мне снять пальто, бормоча что-то об ужасном вечере: прогноз обещал сильный снегопад до утра.
Я согласился с тем, что вечер выдался действительно ужасный, и оглядел большую, с высокими потолками комнату. Ненастный вечер, потрескивающий огонь и… история о духах. Я сказал, что в семьдесят три горячая кровь – это уже в прошлом? Может быть, произошло и так. Но я почувствовал тепло в груди от чего-то иного, не связанного с огнем или радушием Стивенса.
Думаю, это произошло потому, что настала очередь Маккэррона рассказывать историю.
Я прихожу в это здание из коричневого камня на Восточной Тридцать пятой улице вот уже десять лет, почти через регулярные промежутки времени. Про себя я называю его «клуб джентльменов» – забавный анахронизм времен еще до Глории Стайнем. Но даже сейчас я не знаю ни что он на самом деле такое, ни как возник.
В ту ночь, когда Эмлин Маккэррон рассказал свою историю о методе дыхания, только шестеро из нас – в клубе тогда насчитывалось всего одиннадцать членов – выбрались из дому в непогоду. Я вспоминаю годы, когда в клубе могли состоять лишь восемь постоянных членов, но бывали времена, когда их насчитывалось по крайней мере двадцать, а то и больше.
Полагаю, Стивенс мог знать, как все это возникло, и я уверен, что он находился там с самого начала, сколько бы лет с тех пор ни прошло. И я верил, что Стивенс был старше, чем выглядел. Намного старше. Он говорил со слабым бруклинским акцентом, но, несмотря на это, был агрессивно корректен и пунктуален, как английский дворецкий третьего поколения. Его сдержанность являлась частью его обаяния, а его маленькая улыбка – закрытой и запечатанной дверью. Я никогда не видел никаких клубных записей, если он хранил их. Никто не говорил мне об обязанностях – здесь не было обязанностей. Мне ни разу не позвонил секретарь – здесь не было секретаря. И в 249Б на Восточной Тридцать пятой улице нет телефонов. Не было и коробки с мраморными черными и белыми шарами. И, наконец, у клуба – если это клуб – никогда не было названия.
Впервые я попал в клуб (как я должен его теперь называть) в качестве гостя Джорджа Уотерхауза. Он возглавлял адвокатскую фирму, в которой я работал с 1951 года. Мое продвижение на фирме – одной из трех крупнейших в Нью-Йорке – было стабильным, но крайне медленным. Я трудился как мул, но не обладал настоящими способностями. Я знаю людей, которые начинали с моей помощью и делали гигантские скачки, в то время как я продвигался медленным шагом. Я наблюдал за всем этим без особого удивления.
За все время до того дня, когда Уотерхауз зашел ко мне в офис в начале ноября, мне доводилось лишь обмениваться с ним парой любезных фраз, посещать вместе обязательный банкет, устраиваемый фирмой ежегодно в октябре, и встречаться чуть чаще накануне спада 196… года.
Этот визит был столь необычен, что у меня возникли неприятные мысли об увольнении, равно как и надежды на неожиданное продвижение. Уотерхауз стоял у двери, облокотившись о косяк, со сверкающим значком общества «Фи-Бета-Капа» на пиджаке и говорил вежливые общие фразы – ничего из того, что он сказал, не имело какого-то значения. Я ждал, когда он закончит с любезностями и перейдет к делам: «Да, по поводу этой справки Кейси» или «Нас попросили расследовать назначение мэром Салковича на…». Но казалось, дел никаких и не было. Он посмотрел на часы и сказал, что ему была приятна наша беседа и что ему надо идти.
Я все еще не мог прийти в себя от растерянности, когда он повернулся и обронил:
– Есть место, которое я посещаю по вечерам в большинство вторников – что-то вроде клуба. В основном старые дурни, но некоторые из них могут составить неплохую компанию. У них запас превосходных вин, если вы ценитель. Время от времени кто-нибудь из них рассказывает хорошую историю. Почему бы вам не пойти как-нибудь вечером туда, Дэвид? В качестве моего гостя.
Я пробормотал что-то в ответ и до сих пор не уверен, что тогда сказал. Меня смутило это предложение. Казалось, оно было сделано под влиянием минуты, но холодно-голубые англосаксонские глаза под густыми завитками бровей явно говорили о другом. И если я не могу вспомнить точно, что ответил на это загадочное предложение, то только потому, что в тот момент неожиданно понял, что чего-то подобного я и ожидал от него все это время.
В тот вечер Эллен восприняла эту новость с любопытством, переходящим в раздражение. Я работал с Уотерхаузом, Карденом, Лаутоном, Фрейзером и Эффингемом около пятнадцати лет, и было понятно, что уже не мог лелеять надежду занять более высокое положение в фирме. Эллен же сочла, что таким образом фирма нашла более дешевый способ моего вознаграждения за службу.
– Старики, собирающиеся, чтобы рассказать истории о войне или поиграть в покер, – сказала она. – Предполагается, что ты будешь проводить счастливые вечера в библиотеке, пока они не отправят тебя на пенсию… Да, я приготовлю тебе виски со льдом. – Она нежно меня поцеловала. Бог знает, что Эллен прочитала на моем лице, но она преуспела в этом за все те годы, что мы прожили вместе.
В последующие недели ничего не произошло. Когда я мысленно возвращался к необычному предложению Уотерхауза – воистину необычному, ибо оно исходило от человека, с которым я встречался не чаще двенадцати раз в году и которого видел в обществе от силы на трех приемах или вечеринках, включая октябрьский банкет фирмы, – мне начинало казаться, что я неправильно истолковал выражение его глаз и что он действительно пригласил меня случайно и забыл об этом. Или даже сожалел, что так поступил. Но вскоре он как-то зашел ко мне под вечер. Хотя ему было уже за семьдесят, он все еще выглядел атлетически. Он спросил:
– Если вы по-прежнему не прочь выпить чего-нибудь в клубе, не хотите ли прийти сегодня?
– Хорошо… Я…
– Прекрасно. – Он вложил мне в руку листок бумаги. – Здесь адрес.
Он ждал меня у входа в клуб в тот вечер, и Стивенс открыл нам дверь. Вино было превосходно, как и обещал Уотерхауз. Он не сделал ни малейшей попытки представить меня присутствующим – сначала я счел это проявлением снобизма, но потом отбросил такую мысль. Однако двое или трое представились мне сами. Одним из них оказался Эмлин Маккэррон, тогда ему было под семьдесят. Он протянул руку, и мы обменялись короткими рукопожатиями. Его кожа была сухой и жесткой, почти как у черепахи. Он спросил, играю ли я в бридж. Я ответил, что не играю.
– Дьявольски хорошая штука, – сказал он. – Эта проклятая игра сделала больше, чтобы убить интеллектуальную беседу после ужина, чем что-либо другое в этом веке. – С этими словами он удалился в полумрак библиотеки, где полки с книгами, казалось, уходили в бесконечность.
Я поискал глазами Уотерхауза, но он исчез. Чувствуя себя немного не в своей тарелке, я подошел к камину. Как я, по-моему, уже упоминал, он был огромных размеров, особенно для Нью-Йорка, где квартиросъемщики вроде меня с трудом могли себе представить подобную роскошь, служащую для чего-то большего, чем приготовление воздушной кукурузы и поджаривание хлеба. Камин в 249Б на Восточной Тридцать пятой улице был достаточно большим, чтобы зажарить в нем быка. Вместо каминной доски его обрамляла каменная арка. Ее центральный камень немного выступал, он находился как раз на уровне моих глаз, и даже при таком слабом свете я без труда смог прочитать вырезанную на нем надпись: СЕКРЕТ В РАССКАЗЕ, А НЕ В РАССКАЗЧИКЕ.
– Вот вы где, Дэвид, – сказал Уотерхауз за моим плечом, и я вздрогнул. Он вовсе не бросил меня, а только отлучился ненадолго куда-то, чтобы принести напитки. – Вы предпочитаете скотч с содовой, не так ли?
– Да. Спасибо, мистер Уотерхауз.
– Джордж, – сказал он. – Здесь просто Джордж.
– Хорошо, Джордж, – произнес я, хотя мне показалось немного безумным называть его по имени. – Откуда все…
– На здоровье, – сказал он.
Мы выпили.
– Стивенс держит бар и делает превосходные напитки. Он любит говорить, что это не Бог весть какое, но очень полезное умение.
Виски притупило мое чувство растерянности и неловкости (но только притупило, а не развеяло полностью – я провел полчаса, рассматривая свой гардероб и раздумывая, что же надеть. В итоге выбрал темно-коричневые широкие брюки и грубый твидовый пиджак, надеясь, что мне не придется находиться в окружении людей в смокингах или в джинсах и спортивных рубашках. И, похоже, я не очень-то ошибся в выборе). В новой обстановке всегда очень остро ощущаешь все, что происходит вокруг, пусть даже самые незначительные события. И в тот момент, держа виски и сандвич в руках, я очень хотел быть уверенным, что ничего не ускользнуло от моего внимания.
– Здесь имеется книга для гостей, где я должен расписаться? – спросил я. – Что-то вроде этого?
Уотерхауз выглядел удивленным.
– У нас нет ничего подобного, – сказал он. – По крайней мере я так полагаю. – Он обвел взглядом затемненную тихую комнату. Иохансен зашуршал своим «Уолл-стрит джорнэл». Я увидел, как Стивенс проскользнул в дверь на другом конце комнаты, словно привидение в своем белом пиджаке. Джордж поставил виски на край стола и подбросил полено в огонь. Искры взвились вверх по черной каминной трубе.
– Что это означает? – спросил я, указывая на надпись на камне. – У вас есть какие-нибудь соображения?
Уотерхауз внимательно прочел ее, будто видел впервые. СЕКРЕТ В РАССКАЗЕ, А НЕ В РАССКАЗЧИКЕ.
– Думаю, у меня есть одна идея, – сказал он. – У вас тоже, может быть, появится, если вы придете снова. Да, я бы сказал, что у вас может появиться идея или две. В свое время. Желаю приятно провести время, Дэвид.
Он удалился. Хотя это может показаться странным, но, предоставленный самому себе в совершенно незнакомой обстановке, я действительно приятно проводил время. Для начала, я всегда любил книги, а здесь было много интересных книг. Я медленно проходил вдоль полок, рассматривая книжные корешки, насколько это было возможно при таком слабом освещении, вытаскивал то одну, то другую, а потом остановился у узкого окна, над перекрестком на Второй авеню. Я стоял и смотрел через покрытое инеем стекло на огни светофора у перекрестка, переливающиеся от красного к зеленому, янтарному и снова к красному, и неожиданно почувствовал, как необычное чувство покоя постепенно наполняет меня. О да, я знаю, что вы скажете: какой глубокий смысл – глазеть на огни светофора и ощущать чувство покоя.
Вы правы, в этом нет никакого смысла. Но это чувство действительно было. Оно заставило меня впервые за многие годы подумать о зимних вечерах в Висконсине, на ферме, где я вырос. Я вспомнил, как лежал наверху, в недостроенной комнате, дивясь контрасту между свистящим январским ветром снаружи, гнавшим сухой, как песок, снег вдоль ограды, и теплом моего тела, укрытого двумя стегаными одеялами.
На полках стояли книги по юриспруденции с довольно странными названиями. Я запомнил одно из них: «Двадцать случаев расчленения и их последствия в свете английского законодательства». Другой книгой, привлекшей мое внимание, оказались «Случаи с домашними животными». Я открыл ее – это было учебное пособие по юридической практике (на этот раз речь шла об американском законе) в отношении специфических случаев с животными – от кошек, унаследовавших большую сумму денег, до оцелота, который порвал цепь и сильно ранил почтальона.
Я увидел также собрания Диккенса, Дефо и Троллопа и одиннадцать романов автора по имени Эдвард Грей Севиль. Их обложки были обтянуты красивой зеленой кожей, а издательская фирма называлась «Стэдхем и сын» – надпись была вытиснена золотыми буквами. Я никогда не слышал о Севиле и его издателях. Первый роман «Это были наши братья» издавался в 1911 году. Последний, «Нарушитель», в 1935-м.
Двумя полками ниже находился большой фолиант с инструкциями для любителей всякого рода конструкторов. Рядом стояла не меньших размеров книга с кадрами из знаменитых фильмов. Каждая картинка занимала целую страницу, на обороте которой можно было прочитать написанные белым стихом стихотворения, посвященные этим кадрам. Не очень-то удачная идея, но авторы стихов были неординарны: Роберт Фрост, Мариан Мур, Уильям Карлос Уильямс, Уоллас Стивенс, Луис Зуковски, Эрика Йонг. В середине книги я нашел стихотворение Алджернона Уильямса рядом со знаменитой фотографией Мэрилин Монро, где она стоит на решетке метрополитена, стараясь опустить вздувшуюся вверх юбку. Стихотворение называлось «Колокольный звон» и начиналось так:
Форма ее юбки, как мы сказали, напоминает колокол. Ее же ноги – его язык…И в том же духе. Не совсем ужасное стихотворение, но далеко не лучшее из того, что написано Уильямсом.
Я имел право на подобное мнение, поскольку многое читал у Уильямса. Но, несмотря на это, не мог вспомнить этих строк о Мэрилин Монро (даже без фотографии понятно, что речь идет о ней, так как в конце Уильямс пишет: Мои ноги выстукивают мое имя:/Мэрилин, ma belle). Я искал это стихотворение позже и не мог найти, что ни о чем не говорит, конечно. Стихотворения не похожи на романы или узаконенные мнения, они больше напоминают сорванные ветром листья, и любой объемистый сборник, названный Полным собранием того-то или того-то, не является таковым. У стихотворений есть свойство теряться в каком-нибудь укромном месте, и в этом – часть их очарования и одна из причин того, что они сохраняются. Но…
Откуда-то появился Стивенс с новой порцией виски (к этому моменту я устроился в кресле с томиком Эзры Паунда в руках). На вкус оно было ничуть не хуже первого. Потягивая его, я увидел, что двое из присутствующих – Джордж Грегсон и Гарри Стайн (Гарри уже шесть лет как умер в ту ночь, когда Эмлин Маккэррон рассказал нам историю о методе дыхания) – покинули комнату через маленькую дверь, не более сорока двух дюймов высотой. Это была дверца, через которую Алиса попала в кроличью нору, если там вообще была какая-то дверца. Они оставили ее открытой, и вскоре после их необычного отбытия из библиотеки я услышал стук бильярдных шаров.
Подошел Стивенс и спросил, не хочу ли я еще виски. С чувством сожаления я отказался. Он кивнул: «Очень хорошо, сэр». Его лицо сохраняло неизменное выражение, но все же у меня появилось смутное ощущение, что я ему понравился.
Некоторое время спустя меня оторвал от книги его смех. Кто-то бросил пакетик с химическим порошком в огонь, и пламя стало разноцветным. Я снова подумал о своем детстве, но без тени ностальгического романтизма. Мне показалось, что необходимо подчеркнуть это, Бог знает почему. Я подумал о том времени, когда ребенком делал то же самое. Но в этом воспоминании не было места для грусти.
Я заметил, что все остальные сдвинули кресла в полукруг рядом с камином. Стивенс приготовил дымящееся блюдо превосходных сосисок. Гарри Стайн вернулся через «кроличью» дверь. Грегсон остался в бильярдной комнате, судя по звукам, тренируя удар.
После некоторого колебания я присоединился к ним. История, которую я услышал, была не слишком занимательна. Ее рассказал Норман Стет. Не хочу пересказывать эту историю, но для того, чтобы сделать вывод о ее достоинствах или недостатках, достаточно будет сказать, что речь в ней шла о человеке, который утонул в телефонной будке.
Когда Стет, которого уже тоже нет в живых в настоящий момент, завершил свое повествование, кто-то сказал:
– Вы должны были бы приберечь эту историю для Рождества, Норман.
Раздался смех, смысл которого я, конечно же, не понял. По крайней мере в тот вечер.
Тогда свой рассказ начал Уотерхауз. Такого Уотерхауза я не смог бы представить себе никогда, сколько бы ни пытался. Выпускник Йельского университета, член почетного общества «Фи-Бета-Капа», седовласый, одетый в тройку, глава столь крупной юридической фирмы – и этот самый Уотерхауз рассказывал историю про учительницу, которая застряла в туалете. Туалет располагался позади одной из классных комнат, где она преподавала. Как-то раз она застряла в одной из дырок, и так случилось, что в этот день туалет должны были увезти на выставку «Жизнь как она есть в Новой Англии» в Бостоне.
– Учительница не произнесла ни звука все время, пока туалет загружали на платформу грузовика, она оцепенела от отчаяния и ужаса, – сказал Уотерхауз. – И когда дверь туалета распахнулась на автостраде 128 в Сомервилле, в самый разгар часа пик…
Впрочем, оставим эту историю и все другие, которые могли бы последовать за ней. Это не мои сегодняшние истории. Стивенс достал откуда-то бутылку бренди, настолько хорошего, что в это трудно было поверить. Иохансен поднял тост, который мог бы произнести любой из нас: «За сам рассказ, а не за того, кто его рассказывает».
Мы выпили за это.
Чуть позднее собравшиеся стали расходиться. Было не слишком поздно, по крайней мере еще не полночь, но, когда вам шестой десяток, поздно наступает все раньше и раньше. Я увидел Уотерхауза, надевающего пальто с помощью Стивенса, и решил, что мне тоже пора уходить. Мне показалось странным, что Уотерхауз может удалиться, не сказав мне хотя бы одного слова на прощание (и было похоже, что именно так он и поступит; ведь если бы я возвратился из библиотеки, где ставил взятую мною книгу на место, сорока секундами позже, он бы уже ушел), хотя это было бы не более странным, чем многое другое, что я увидел за этот вечер.
Я вышел из клуба сразу вслед за ним, и Уотерхауз, оглянувшись вокруг, как будто удивился, увидев меня, или испугался, как человек, очнувшийся от дремоты.
– Поедем на такси вместе? – спросил он, как будто бы мы только случайно встретились на этой пустынной, продуваемой ветром улице.
– Спасибо, – ответил я. Но слова означали много больше, чем простая благодарность за предложение поехать в одном такси, и я надеялся, что по моему тону было легко догадаться об этом. Но он кивнул так, словно я не имел в виду ничего другого. Машина с зажженным огоньком медленно ехала вдоль улицы – похоже, людям, подобным Уотерхаузу, везло с такси даже в такие ужасно холодные и снежные ночи в Нью-Йорке, когда вы готовы поклясться, что на всем острове Манхэттен не найдется ни одной свободной машины.
В спасительном тепле автомобиля, под размеренные щелчки счетчика, отмеряющего наш путь, я сказал ему, как мне понравился его рассказ. Я не помнил, когда еще так сильно и непосредственно смеялся с тех пор, как мне минуло восемнадцать, и я не льстил ему, это было правдой.
– Да? Как мило с вашей стороны сказать мне об этом. – Его голос был холодно-вежлив. Я упал духом, чувствуя, как зарделись мои щеки. Вовсе не всегда обязательно слышать хлопок, чтобы знать, что дверь закрылась.
Когда такси подъехало к тротуару у моего дома, я вновь поблагодарил его, и на этот раз он проявил чуть больше теплоты.
– Хорошо, что вы пришли по первому же приглашению, – сказал он. – Приходите еще, если захотите. Не ждите приглашения, мы в 249Б не очень любим церемонии. Четверги лучше всего подходят для историй, но клуб открыт каждый вечер.
Я должен буду вступить в его члены?
Вопрос вертелся у меня на кончике языка. Я хотел задать его, мне казалось необходимым спросить об этом. Я обдумывал его, мысленно произносил (по своей адвокатской привычке), чтобы услышать, как он звучит, но в этот момент Уотерхауз велел таксисту ехать. Такси тронулось, а я стоял на тротуаре, полы моего пальто бились о колени, и думал: Он знал, что я собираюсь спросить его об этом, он знал и специально сказал водителю, чтобы тот трогал, а я не успел задать вопрос. Затем я сказал себе, что это абсурд или паранойя. И это действительно так. Но в то же время это было правдой. Я мог насмехаться надо всем, но никакая насмешка не может изменить сути того, что есть.
Я медленно подошел к двери и вошел в дом.
Эллен была в полусне, когда я сел на кровать, чтобы снять ботинки. Она повернулась на другой бок и издала какой-то вопросительный звук, я сказал ей, чтобы она спала.
Она опять пробормотала что-то, напоминавшее «Нуктам?».
Сидя в наполовину расстегнутой рубашке, я не решался что-либо сказать. И вдруг отчетливо осознал, что если я расскажу ей, то больше никогда не увижу эту дверь с другой стороны.
– Все было хорошо, – сказал я. – Пожилые люди рассказывали истории о войне.
– Я же тебе говорила.
– Но это было совсем неплохо. Я, может быть, снова пойду туда. Это может оказаться полезным для моего положения в фирме.
– В фирме. – Она чуть подтрунивала надо мной. – Ты старый зануда, любовь моя.
– Чтобы узнать кого-то, надо жизнь положить, – сказал я, но она уже снова заснула. Я разделся, принял душ, надел пижаму, но вместо того чтобы ложиться спать, накинул халат и взял бутылку виски. Я пил его маленькими глотками, сидя за столом на кухне и глядя в окно на холодную Мэдисон-авеню. Я размышлял. У меня слегка шумело в голове от выпитого за весь вечер алкоголя. Но эти ощущения не были неприятными, как бывает при похмелье.
Когда Эллен спросила меня, как провел вечер, мысли, пришедшие мне в голову, были столь же неясными, как и в тот момент, когда я стоял на тротуаре и провожал глазами отъезжающую машину с Уотерхаузом. Бога ради, что плохого было бы в том, если бы я рассказал жене о безобидном вечере в клубе моего босса? И пусть даже в этом и было что-то зазорное, кто узнал бы, что я это сделал? Нет, воистину все это было смешным и безумным одновременно. Однако сердце подсказывало мне, что то, о чем я думал, действительно имеет место.
Я встретил Джорджа Уотерхауза на следующий день в холле между бухгалтерией и библиотекой. Встретил? Точнее сказать, прошел мимо. Он кивнул мне и удалился, не сказав ни слова… как он поступал все эти годы.
Весь день у меня болели мышцы живота. Это было единственным, что убеждало меня в реальности вечера, проведенного мною в клубе.
Прошло три недели. Четыре… пять. Второго приглашения от Уотерхауза не последовало. Наверное, я сделал что-то не так, не подходил им. Или просто сам убеждал себя в этом. Подобные мысли угнетали меня. Полагаю, что со временем мои переживания потеряли бы остроту, утихли, как случается со всякими неприятными ощущениями. Но я не переставал вспоминать самые необычные моменты того вечера – отдельные островки света в библиотеке; абсурдный и потешный рассказ Уотерхауза об учительнице, застрявшей в туалете; запах кожи среди узких стеллажей. И мои чувства, когда я стоял возле узкого окна и смотрел на ледяные кристаллики, меняющие цвет от зеленого к янтарному и красному. Я думал о состоянии покоя, который тогда испытал.
В течение этих пяти недель я заходил в библиотеку и пролистывал книги Алджернона Уильямса (у меня были собственные три тома, и я их уже просмотрел). Одно издание претендовало на полное собрание стихотворений этого поэта, но и там я не обнаружил «Колокольного звона».
Во время посещения Нью-Йоркской публичной библиотеки я пытался найти в каталоге карточку с перечислением произведений Эдварда Грея Севиля, но отыскал лишь мистический роман, написанный женщиной по имени Рут Севиль.
Приходите снова, если захотите. Не ждите приглашений…
Тем не менее я, конечно же, приглашения ждал. Моя мать приучила меня не принимать легко на веру слова людей, которые говорят вам, чтобы вы заходили к ним в любой момент и что их двери всегда для вас раскрыты. Мне не нужно было открытки с приглашением, принесенной на дом почтальоном, я не это имею в виду, но я действительно ждал чего-то, пусть даже наспех оброненной фразы: «Вы как-нибудь зайдете вечером, Дэвид? Надеюсь, вам с нами не очень скучно». Или чего-то в этом роде.
Но, ничего не дождавшись, я начал более серьезно думать о том, чтобы прийти туда снова, несмотря ни на что. В конце концов, иногда люди действительно желают, чтобы вы забегали к ним в любое время. Предполагаю также, что в некоторых местах двери на самом деле открыты, а матери не всегда бывают правы.
…Не ждите приглашений…
Как бы то ни было, случилось так, что 10 декабря того года я надел свой твидовый пиджак и темно-коричневые брюки и стал искать темно-красный галстук. Помню, что ощущал сердцебиение более отчетливо, чем обычно.
– Джордж Уотерхауз наконец-то сломался и позвал тебя? – спросила Эллен. – Назад в стойло к остальным старым шовинистам?
– Да, ты права, – ответил я, сознавая, что солгал ей, наверное, впервые по крайней мере за последние двенадцать лет. Я вспомнил также, что после нашей первой встречи она спросила меня, на что похожа ложь. Старые люди, рассказывающие о войне, ответил я тогда.
– Ну что ж, может быть, это действительно обещает твое продвижение, – заметила она, хотя и без особой надежды. К ее чести, она сказала это без особой горечи.
– Случались и более невероятные вещи, – подытожил я и поцеловал ее на прощание.
– Ну-ну, – сказала она, когда я выходил на улицу.
В эту ночь поездка в такси показалась мне слишком долгой. Вечер выдался холодный и звездный. Машина была огромной, и я чувствовал себя маленьким мальчиком, впервые попавшим в большой город. Меня охватило возбуждение, когда такси остановилось перед коричневым зданием клуба. Такие чувства с возрастом незаметно перестают нас посещать, но, ощутив их вновь, вы испытываете удивление подобно человеку, нашедшему один или два темных волоса в расческе спустя много лет после того, как полностью поседел.
Я расплатился с таксистом и направился к четырем ступенькам, ведущим к двери. Когда я поднялся, мое возбуждение сменилось чувством неуверенности и тревоги. Зачем я приехал сюда?
Дверь была обшита дубовыми панелями и казалась мне крепкой, как ворота замка. Там не было ни звонка, ни молоточка или камеры, установленной незаметно в тени коридора, и, конечно, Уотерхауз не ждал меня у входа. Я остановился у ступенек и огляделся. Восточная Тридцать пятая улица неожиданно показалась мне более темной, холодной и угрожающей. Коричневый камень выглядел таинственно, как будто скрывая что-то, о чем было бы лучше и не пытаться узнать. Окна напоминали глазницы.
Где-то за одним из этих окон могли находиться мужчина или женщина, наблюдающие за убийством, подумал я. Дрожь пробежала у меня по спине. Наблюдающие… или совершающие его.
Вдруг дверь отворилась и появился Стивенс.
Я почувствовал огромное облегчение. Думаю, у меня не слишком богатое воображение – по крайней мере не в обычных обстоятельствах, – но недавняя мысль отличалась жуткой ясностью предвидения. Я мог бы заговорить об этом, если бы не посмотрел в глаза Стивенсу. Его глаза не знали меня. Совершенно не знали.
В тот момент я вновь с жуткой пророческой ясностью увидел весь мой вечер в деталях. Три часа в тихом баре. Три виски (возможно, четыре), дабы заглушить чувство неловкости и собственной глупости, придя туда, где я не был желанным гостем. Унижение, от которого совет моей матери был призван меня спасти. Совет, чью цену можно понять, лишь преступив его.
Я видел, как возвращаюсь домой подвыпивший, но слишком сильно. Я видел себя через стекло такси, увозящего меня к дому, словно через призму детского возбуждения и ожидания. Я слышал, как говорю Эллен: Уотерхауз рассказал ту же самую историю о том, как была выиграна в покер целая партия бифштексов для Третьего батальона… Они ставили по доллару за очко, ты представляешь?.. Пойду ли я еще?.. Может быть, но сомневаюсь. На этом бы все и закончилось. Но только не мое унижение.
Я увидел все это в глазах Стивенса. Затем глаза потеплели. Он слегка улыбнулся и сказал:
– Мистер Эдли! Заходите. Я возьму ваше пальто.
Я поднялся по ступенькам, и Стивенс плотно прикрыл за мной дверь. Насколько другой может показаться дверь, когда находишься с теплой стороны! Стивенс взял мое пальто и ушел с ним. Я остался в холле, глядя на свое отражение в зеркале – мужчину шестидесяти трех лет, чье лицо стареет на глазах.
Я прошел в библиотеку.
Иохансен сидел там со своим «Уолл-стрит джорнэл». В другом островке света Эмлин Маккэррон расположился за шахматной доской напротив Питера Эндрюса. Маккэррон был худым мужчиной с бледным лицом и тонким, как бритва, носом. Эндрюс был огромным, с покатыми плечами и вспыльчивым характером. Широкая рыжеватая борода лежала у него на груди. Сидя друг против друга над шахматной доской, они смотрелись как индейский тотем: орел и медведь.
Уотерхауз тоже находился здесь, листая свежий выпуск «Таймс». Он поднял голову, кивнул мне без всякого удивления и вновь уткнулся в газету.
Стивенс принес мне виски, которого я не просил.
Я взял его с собой к стеллажам и нашел те загадочные тома в зеленых обложках. Этим вечером я начал читать сочинения Эдварда Грея Севиля, взявшись с самого начала, с книги «Они были нашими братьями». С тех пор я прочитал все одиннадцать романов и считаю их одними из самых утонченных произведений нашего века.
В самом конце вечера я услышал историю – всего одну, – в то время как Стивенс разносил бренди. После того как рассказ был закончен и все начали собираться уходить, Стивенс заговорил, обращаясь ко всем нам. Он стоял в дверном проеме, выходящем в холл. Его голос был низким и приятным:
– Кто будет рассказывать историю к Рождеству?
Все застыли на месте и посмотрели друг на друга. Кто-то рассмеялся.
Стивенс, улыбаясь, но сохраняя серьезность, дважды хлопнул в ладоши, как школьный учитель, призывающий класс к порядку:
– Ну же, джентльмены, кто будет рассказывать?
Питер Эндрюс прочистил горло:
– У меня кое-что имеется к случаю. Я, правда, не знаю, подойдет ли это, но если…
– Это будет забавно, – прервал его Стивенс, и в комнате снова раздался смех. Эндрюса дружески хлопали по спине. Потоки холодного воздуха проносились по холлу, пока народ расходился.
Словно по волшебству, передо мной возник Стивенс, держа мое пальто.
– Хороший вечер, мистер Эдли. Всегда рады вас видеть.
– Вы на самом деле собираетесь в вечер под Рождество? – спросил я, застегивая пальто. Я был немного разочарован тем, что не смогу услышать рассказ Эндрюса, потому что мы твердо решили поехать в Скенектади и провести праздники у сестры Эллен.
Стивенс посмотрел на меня как-то весело-удивленно.
– Ни в коем случае, – сказал он. – Рождество – это время, которое мужчина должен проводить с семьей. Хотя бы этот вечер. Вы согласны, сэр?
– Ну конечно.
– Мы всегда собираемся во вторник перед Рождеством. В этот день у нас всегда много народу.
Он не сказал членов клуба. Случайно или нет?
– Много историй было рассказано в комнате у камина, мистер Эдли. Историй всякого рода, комических и трагических, ироничных и сентиментальных. Но во вторник перед Рождеством обычно повествуется о чем-нибудь сверхъестественном. Всегда было так, насколько я помню.
По крайней мере это объясняло то, что во время моего первого посещения кто-то заметил Норману Стету, что ему стоило приберечь свою историю для Рождества. Я готов был спросить Стивенса еще о многом, но увидел предостережение в его глазах. Это не означало, что он не ответит на мои вопросы. Скорее, что я не должен их задавать.
– Что-нибудь еще, мистер Эдли?
Мы остались одни. Неожиданно холл показался мне более темным, лицо Стивенса бледнее, а губы ярче, чем всегда. В камине выстрелило полено, и красный отблеск скользнул по полированному паркету. Мне показалось, что я услышал что-то напоминающее звук удара в тех отдаленных комнатах, куда я еще не заходил. Мне очень не понравился этот звук. Очень.
– Нет, – сказал я не совсем ровным голосом. – Думаю, что нет.
– Что ж, спокойной ночи, – попрощался Стивенс, и я вышел наружу. Я слышал, как тяжелая дверь захлопнулась за моей спиной. Щелкнул замок. Я шел навстречу огням Третьей авеню, не оборачиваясь и в какой-то мере боясь посмотреть назад, словно мог увидеть нечто ужасное, следующее за мной по пятам, или обнаружить что-то, о чем лучше не догадываться. Я дошел до угла, увидел такси и помахал ему.
– Опять истории о войне? – спросила Эллен, когда я пришел. Она лежала в постели с Филиппом Марлоу, единственным любовником, который у нее был.
– Была одна история или две, – ответил я, вешая пальто. – В основном я читал книгу.
– Только когда ты не хрюкал.
– Согласен. Когда не хрюкал.
– Послушай-ка вот это: «Когда я впервые увидел Терри Леннокса, он был пьян и сидел в серебристом «роллс-ройсе» у террасы «Танцоров». – Эллен продолжила: – У него было молодое лицо, но белые, цвета кости, волосы. Судя по его глазам, можно было сказать, что каждый волос на его голове был крашеным, однако он выглядел как и любой другой красивый молодой парень, тративший слишком много денег на кабак, который и существует для этой цели и никакой другой». Неплохо, а? Это…
– «Долгое прощание», – сказал я, снимая ботинки. – Ты читаешь мне один и тот же отрывок раз в три года. Это часть твоего жизненного цикла.
Она сморщила нос:
– Хрю-хрю.
– Спасибо.
Она вернулась к книге. Я вышел на кухню и взял бутылку виски. Когда я возвратился, Эллен отложила открытую книгу на одеяло и пристально посмотрела на меня:
– Дэвид, ты собираешься вступить в этот клуб?
– Думаю, что это возможно… если меня попросят.
Я чувствовал себя неуютно. Вероятно, я еще раз сказал ей неправду. Если бы существовало членство в 249Б на Тридцать пятой улице, я бы уже был членом клуба.
– Я рада за тебя, – сказала она. – Тебе сейчас необходимо что-то постоянное. Я не уверена, что ты отдаешь себе в этом отчет, но тебе это нужно. У меня есть Комитет по правам женщин и Театральное общество. И ты тоже нуждался в чем-то.
Я сел рядом с ней на кровать и взял «Долгое прощание». Это было новое издание в светлой обложке. Я помнил, как я покупал оригинальное издание в подарок на день рождения Эллен. В 1953-м.
– Мы что, уже старые? – спросил я ее.
– Боюсь, что да, – сказала она и ослепительно улыбнулась.
Я положил книгу и коснулся ее груди:
– Слишком стара для этого?
Она потянула на себя покрывало с видом великосветской дамы, а потом, хихикая, сбросила его ногой на пол.
– Побей меня, папочка, – сказала она. – Я плохо себя вела.
– Хрю-хрю, – ответил я, и мы оба рассмеялись.
Наступил предрождественский вторник. Этот вечер был похож на все остальные, за исключением двух обстоятельств. Было больше народу, возможно, не меньше восемнадцати человек. И остро ощущалась атмосфера возбужденного ожидания. Иохансен лишь бегло пробежал глазами свою газету и присоединился к Маккэррону, Хьюгу Биглмэну и ко мне. Мы сидели у окон и говорили о том о сем, пока неожиданно не завели горячий и зачастую смешной спор о довоенных автомобилях.
Была еще – сейчас, когда думаю об этом, – и третья особенность: Стивенс приготовил великолепный пунш. Он был мягким, хотя и с ромом и специями, и подавался из невероятного кувшина, похожего на ледяную скульптуру. Беседа становилась все оживленнее по мере того, как уменьшался уровень пунша в кувшине.
Я перевел взгляд в сторону маленькой двери, ведущей в бильярдную, и был поражен, увидев, как Уотерхауз и Норман Стет засовывали бейсбольные карточки в какое-то подобие цилиндра. При этом они громко смеялись.
Повсюду образовывались, а потом расходились группы людей. Становилось все позднее… и наконец, когда настало время, в которое обычно все начинали расходиться, я увидел Питера Эндрюса, сидящего перед камином с каким-то пакетом в руке. Он бросил его в огонь, не распечатав, и через мгновение пламя заплясало всеми цветами спектра, пока вновь не стало желтым. Мы расставили стулья по кругу. Через плечо Эндрюса увидел камень с выгравированным изречением: СЕКРЕТ В РАССКАЗЕ, А НЕ В РАССКАЗЧИКЕ.
Стивенс скользил среди нас, забирая бокалы и возвращая их с бренди. Слышались негромкие пожелания «Счастливого Рождества» и «Это гвоздь сезона, Стивенс», и я впервые увидел, как здесь расплачивались, протягивая десятидолларовую и даже стодолларовую бумажку.
– Спасибо, мистер Маккэррон… мистер Иохансен… мистер Биглмэн…
Я прожил в Нью-Йорке достаточно долго, чтобы знать, что во время Рождества чаевые текут рекой: что-то мяснику, что-то булочнику и владельцу скобяной лавки, не говоря уже о швейцаре, мажордоме и уборщице, приходившей по вторникам и пятницам. Я еще не встречал людей моего круга, которые относились бы к этому как к обязательному пустяку… однако мне не хотелось плохо думать о ком-нибудь в этот вечер. Деньги давались по доброй воле и легко…
Я нашел свой бумажник. В нем я всегда держал за фотографиями Эллен пятидолларовую бумажку на всякий случай. Когда Стивенс подал мне бренди, я положил ее ему в руку без всякого колебания, хотя и не был богат.
– Счастливого Рождества, Стивенс, – сказал я.
– Спасибо, сэр. И вам того же.
Он раздал бренди, собрал чаевые и ушел. В какой-то момент, уже на середине рассказа Эндрюса, я повернул голову и увидел его стоящим в двери, словно тень, густая и молчаливая.
– Сейчас я адвокат, как многие знают, – сказал Эндрюс, отпив из своего бокала. Он прочистил горло и снова пригубил. – У меня несколько контор на Парк-авеню, вот уже двадцать два года. До этого я был ассистентом в адвокатской фирме, ведущей дела в Вашингтоне. Однажды вечером, в июле, меня попросили задержаться допоздна, чтобы составить перечень дел для справки адвокату, что не имело никакого отношения к данной истории. Вскоре в контору вошел человек, который в то время был одним из наиболее известных сенаторов в Капитолии и впоследствии стал президентом. Его рубашка была испачкана кровью, а глаза буквально вылезали из орбит.
«Мне нужно поговорить с Джо», – сказал он. Джо, как вы понимаете, был не кто иной, как Джозеф Вудс, глава моей фирмы и один из самых влиятельных частных адвокатов в Вашингтоне. К тому же он являлся близким другом этого сенатора.
«Он ушел домой несколько часов назад», – объяснил я ему. Говоря откровенно, я был ужасно напуган – он выглядел как человек, который только что попал в жуткую аварию или участвовал в смертельной схватке. Глядя на его лицо, которое я часто видел в газетах, все в запекшейся крови, с нервно подергивающейся щекой под обезумевшим глазом, я все сильнее поддавался панике.
«Я могу позвонить ему, если вы…» Я уже держал в руках телефон, сходя с ума от желания переложить свалившуюся на меня ответственность на кого-то другого. Заглянув за спину сенатора, я увидел кровавые следы, оставленные им на ковре.
«Я должен поговорить с Джо немедленно, – повторил он, будто не слыша моих слов. – Кое-что находится в багажнике моей машины… То, что я обнаружил в Вирджинии. Я стрелял в это, но не мог убить. Это не человек, и я не мог это убить».
Он начал хихикать, потом засмеялся и, наконец, закричал. Он все еще продолжал кричать, когда я дозвонился до мистера Вудса и попросил его, ради всего святого, приехать как можно скорее…
Я не собираюсь рассказывать историю Питера Эндрюса полностью. По правде говоря, я не уверен, что осмелился бы ее рассказать. Достаточно будет сказать, что этот рассказ был столь ужасным, что я думал о нем в течение нескольких недель. Как-то за завтраком Эллен посмотрела на меня и спросила, почему я закричал ночью: «Его голова! Его голова на земле все еще говорила!»
– Думаю, это был сон, – сказал я. – Один из тех, которые потом невозможно вспомнить.
Но тут же опустил глаза, и, полагаю, Эллен поняла, что это была ложь.
В один из августовских дней следующего года я работал в библиотеке, и меня позвали к телефону. Это был Уотерхауз. Он спросил, не могу ли я зайти к нему в кабинет. Когда я пришел, то увидел, что там также находились Роберт Карден и Генри Эффингем. В первый момент я подумал, что меня собираются обвинить в каких-то неразумных и некомпетентных поступках.
Карден подошел ко мне и сказал:
– Джордж полагает, что настало время сделать вас младшим партнером, Дэвид. Мы все согласились.
– Вы должны пройти этот путь, Дэвид. Если все будет хорошо, мы сделаем вас полноправным партнером к Рождеству, – заверил Эффингем.
В эту ночь мне не снились кошмары. Мы с Эллен, изрядно выпившие, выбрались пообедать в одно джазовое заведение, которое не посещали почти шесть лет, и слушали удивительного голубоглазого негра, Дикстера Гордона, дувшего в свою трубу почти до двух утра. На следующее утро мы проснулись с неприятными ощущениями в желудке и головной болью и не могли полностью поверить в то, что произошло. Самым невероятным было то, что мой заработок поднялся до восьми тысяч долларов в год, хотя мы перестали верить в возможность такого повышения.
Фирма послала меня на шесть недель в Копенгаген, и когда я вернулся, то узнал, что Джон Ханрахан – один из постоянных посетителей 249Б – умер от рака. Был произведен сбор средств для его жены, которая оказалась в трудном положении. Меня уговорили заняться подсчетом собранной суммы и оформлением банковского чека. Набралось больше десяти тысяч долларов. Я передал чек Стивенсу и предполагаю, что он отослал его по почте.
Так уж случилось, что Арлин Ханрахан была членом Театрального общества Эллен, и через какое-то время Эллен рассказала мне, что Арлин получила анонимный чек на десять тысяч четыреста долларов. К чеку была приложена короткая и загадочная записка: От друзей вашего мужа Джона.
– Разве это не самая удивительная вещь, которую ты когда-либо слышал в жизни? – спросила меня Эллен.
– Нет, – ответил я, – но, по-видимому, она входит в первую десятку. У нас есть еще клубника, Эллен?
Прошли годы. Я обнаружил наверху в 249Б множество комнат: кабинет, спальню, где гости иногда оставались на ночь (хотя после того, как я услышал звук удара или мне показалось, что услышал, лично я предпочел бы остановиться в приличном отеле), небольшой, но хорошо оборудованный гимнастический зал и бассейн с сауной. Кроме этого, имелись также длинная узкая комната во всю длину здания с двумя дорожками для игры в боулинг.
За эти годы я перечитал романы Эдварда Грея Севиля и открыл для себя совершенно удивительного поэта по имени Норберт Роузен, равного, может быть, Эзре Паунду и Уолласу Стивенсу. Согласно справке в конце одного из томов его сочинений, он родился в 1924-м и был убит в Анзио. Все три тома его лирики были изданы фирмой «Стэдхем и сын» в Нью-Йорке и Бостоне.
Помню, что я вновь побывал в Нью-Йоркской публичной библиотеке в один из светлых весенних дней (не уверен, в каком именно году) и заказал подшивку «Литерари маркет плейс» за 20 лет. Это было ежегодное издание форматом с «Желтые страницы», одну из крупнейших газет в городе. Мне кажется, что служащий библиотеки готов был отказать мне. Но я настаивал и тщательно просмотрел каждый том. И если предполагалось, что в ЛМП указаны все издатели США, то я не обнаружил там фирму «Стэдхем и сын». Год спустя или, может быть, два я разговаривал с владельцем книжной антикварной лавки и спросил его об этом издании. Он никогда о нем не слышал.
Я подумал о том, чтобы спросить Стивенса, но вспомнил о предупреждении, которое увидел в его глазах, и решил оставить свой вопрос без ответа.
И, конечно, на протяжении всех этих лет было рассказано немало историй.
Смешных, о потерянной или приобретенной любви, тревожных и даже несколько рассказов о войне, хотя и не таких, о которых думала Эллен, задавая мне вопросы.
Лучше всего я помню историю Джерарда Тоузмена – его рассказ об американском оперативном центре, обстрелянном артиллерией за четыре месяца до окончания первой мировой войны, весь личный состав которого погиб, за исключением Тоузмена.
Лесроп Каррутэрс, американский генерал, которого каждый тогда считал безумным (он был ответственным за по крайней мере восемнадцать тысяч смертей), стоял у карты линий фронта, когда взорвался снаряд. Он объяснял очередную безумную операцию на флангах, которая могла бы стать успешной только с точки зрения производства новых вдов.
Когда пыль рассеялась, Джерард Тоузмен, растерянный и оглушенный, весь в крови, сочившейся из носа, ушей и уголков глаз, подошел к телу генерала. Оглядев то, что осталось от центра, он посмотрел вниз… и закричал, а потом засмеялся.
Собственного голоса он не услышал, но его крики и смех привлекли внимание врачей, убедившихся, что кто-то остался жив под этими развалинами.
Каррутэрс не был изувечен взрывом, по крайней мере, как сказал Тоузмен, «не в том виде, в каком солдаты этой затяжной войны привыкли представлять себе увечье – люди с оторванными руками, без ног, без глаз, с легкими, сморщенными от газа. Нет, – сказал он, – ничего подобного не было. Мать этого человека сразу бы опознала его. Но карта… та карта, перед которой он стоял, когда разорвался снаряд…»
Она каким-то образом впечаталась в его лицо. Тоузмен смотрел на ужасную татуированную маску смерти. На надбровной дуге Лесропа Каррутэрса находился каменистый берег Бретани, Рейн, как голубой рубец, струился вниз по левой щеке. Несколько винодельческих провинций расположились на подбородке. Сахара обхватила горло, как петля палача, а на вздутом глазном яблоке отпечаталось слово ВЕРСАЛЬ.
Это была наша рождественская история 197… года.
Я вспоминаю много других, но для них здесь нет места. Честно говоря, и для истории Тоузмена также… но это была первая рождественская история, услышанная мною в 249Б, и я не мог удержаться от того, чтобы не рассказать ее. Наконец во вторник, перед нынешним Рождеством, после того как Стивенс хлопнул в ладоши, призывая нас к вниманию, и спросил, кто осчастливит нас рождественской историей, Эмлин Маккэррон произнес:
– Думаю, у меня есть кое-что заслуживающее внимания. Лучше рассказать сейчас, чем никогда. Господь закроет мои уста довольно скоро.
За все годы, проведенные мной в 249Б, я никогда не слышал, чтобы Маккэррон рассказывал истории. Может быть, именно поэтому я вызвал такси столь рано и, когда Стивенс разнес пунш шестерым собравшимся, кто отважился выбраться из дому в этот холодный и ветреный вечер, почувствовал сильное волнение. Я не был в одиночестве – те же чувства отражались на лицах остальных присутствующих.
Старый и сухой, Маккэррон сидел в центральном кресле у камина, держа в узловатых руках пакетик с порошком. Он высыпал его, и мы смотрели на меняющее цвет пламя, пока оно вновь не стало желтым. Стивенс обошел нас, предлагая бренди, и мы отдали ему его рождественский гонорар. В какой-то момент во время этой церемонии я услышал звон монет, переходящий из рук дающего в руки получателя; в другой раз при свете огня я увидел тысячную купюру. В обоих случаях Стивенс был одинаково почтителен и корректен. Вот уже десять лет, немногим больше или меньше, прошло с тех пор, как я впервые переступил порог 249Б вместе с Джорджем Уотерхаузом, и в то время как многое изменилось в мире снаружи, ничего не менялось здесь внутри. Казалось, Стивенс не постарел не то что на один месяц, а даже на один день.
Он удалился в тень, и на мгновение воцарилась абсолютная тишина. Мы слышали даже, как шипел кипящий сок на дровах в камине. Эмлин Маккэррон смотрел в огонь, и мы проследили за его взглядом. Языки пламени казались особенно неистовыми в этот вечер.
Я почувствовал себя загипнотизированным огнем. То же самое, как я предполагаю, должен был ощущать и пещерный человек, породивший нас, сидя у костра, в то время как ветер гулял и завывал вокруг его холодной пещеры.
Наконец, не отводя глаз от огня, немного наклонившись вперед и соединив руки между коленями, Маккэррон заговорил.
2. Метод дыхания
Мне сейчас почти восемьдесят, это говорит о том, что я родился вместе с веком. Вся моя жизнь была связана со зданием, которое стоит прямо поперек Мэдисон-сквер-гарден. Это здание, похожее на большую серую тюрьму, является в настоящее время больницей, как должно быть известно многим из вас. Это – мемориальная больница Гарриет Уайт.
Гарриет Уайт, чьим именем она названа, была первой женой моего отца, получившей первый опыт работы сиделкой, когда овцы еще действительно паслись на Овечьем лугу в Центральном парке. Ее статуя стоит на постаменте во дворе перед зданием, и если кто-то из вас ее видел, то, наверное, испытал удивление, как женщина с таким суровым лицом могла посвятить себя столь мягкой профессии. Девиз, высеченный в основании статуи, еще менее располагает к себе: Нет покоя без боли, поэтому мы определяем спасение через страдание.
Я был рожден внутри этого серого здания 20 марта 1900 года. И вернулся туда как стажер в 1926-м. Двадцать шесть – это слишком поздно, чтобы делать первые шаги в мире медицины, но у меня уже была практика во Франции в конце первой мировой, где я пытался штопать разорванные животы и доставал на черном рынке морфин, который часто был плохого качества.
Как и все поколение хирургов перед второй мировой войной, мы были хорошими практиками, и между 1919-м и 1928-м в высших медицинских школах было зарегистрировано удивительно мало случаев отчислений за непригодностью. Мы были старше, более опытны и уравновешенны. Были ли мы также и мудрее? Не знаю, но, несомненно, были более циничными. Никогда не случалось ничего подобного той чепухе, о которой пишут в популярных романах о врачах, падающих в обморок или блюющих во время первого вскрытия.
Больница памяти Гарриет Уайт сыграла также центральную роль в событиях, которые случились со мной девять лет спустя после моего поступления туда. И эту историю я хочу рассказать вам сегодня, джентльмены.
Вы можете сказать, что это не совсем подходящая история для Рождества (хотя развязка произошла как раз в сочельник), но я вижу в ней, какой бы ужасной она ни была, проявление той поразительной силы, которая заложена в обреченных и Богом проклятых человеческих существах. В ней я вижу и невероятные возможности нашей воли, и ее ужасную темную силу.
Рождение само по себе, джентльмены, – ужасная вещь. Сейчас стало модным, чтобы отцы присутствовали при рождении собственных детей, и эта мода способствовала тому, что у многих мужчин появилось чувство вины, которого, я полагаю, они не всегда заслуживали (некоторые женщины потом с умением и жестокостью им воспользовались). Это считается нормальным и даже полезным. Однако я видел мужчин, выходящих из операционной нетвердой походкой, с белыми, бескровными лицами. Я видел, как они теряли сознание от криков и обилия крови. Вспоминаю одного отца, который неплохо держался… только начал истерически кричать, когда его сын пытался проложить себе дорогу в мир. Глаза ребенка были открыты, казалось, он осматривается вокруг, а затем его глаза остановились на отце…
Рождение – удивительная вещь, джентльмены, но я никогда не находил его прекрасным. Думаю, оно слишком грубо, чтобы быть прекрасным. Матка женщины похожа на двигатель. С зачатием этот двигатель приводится в действие. Вначале он работает почти вхолостую… Но с приближением рождения все набирает и набирает обороты. Его холостой стук становится размеренным гулом, а затем переходит в пугающий рокот. Коль скоро этот двигатель заведен, каждая будущая мать должна понимать, что ее жизнь поставлена на карту. Либо она родит и двигатель остановится, либо этот двигатель начнет разгоняться все сильнее, пока не взорвется, неся кровь, боль и смерть.
Это история о рождении, джентльмены, в канун другого рождения, которое мы празднуем вот уже почти две тысячи лет.
Моя медицинская практика началась в 1929-м – слишком плохом году, чтобы что-то начинать. Мой дед оставил мне в наследство небольшую сумму денег, и хотя я и был удачливее многих моих коллег, мне пришлось вертеться, чтобы хоть как-то продержаться следующие четыре года.
К 1935-му дела пошли немного лучше. У меня появились настоящие пациенты и некоторые больные, проходящие амбулаторное лечение в Уайт Мемориал. В апреле того года я увидел нового пациента – женщину, которую буду называть Сандрой Стенсфилд, что почти соответствует ее настоящему имени. Это была молодая женщина с бледной кожей, утверждавшая, что ей двадцать восемь лет. После осмотра я понял, что на самом деле она года на три-четыре моложе. У нее были светлые волосы, изящная фигура и высокий рост – около пяти футов и восьми дюймов. Ее можно было бы назвать красивой, если бы не излишняя суровость черт. В глазах светился ум, а линия рта была столь же резкой и решительной, как у каменной статуи Гарриет Уайт перед зданием больницы. Имя, которое она указала в карточке, было не Сандра Стенсфилд, а Джейн Смит. Осмотр показал, что пациентка примерно на втором месяце беременности. Обручального кольца она не носила.
После предварительного осмотра, но до того, как были получены результаты анализов, моя медсестра Элла Дэвидсон сказала:
– Та девушка, что приходила вчера, Джейн Смит? Я больше чем уверена, что это вымышленное имя.
Я согласился. И все же я ею восхищался. В ее поведении не было и тени нерешительности, стыдливости и робости. Меня поражала ее прямота и деловитость. Казалось даже, что и вымышленное имя она взяла по деловым соображениям, а не от стыда. Она как бы говорила вам: Вы требуете имя, чтобы занести его в вашу картотеку. Таков порядок. Что ж, вот вам имя. Чем полагаться на профессиональную этику человека, которого я не знаю, лучше положусь на саму себя.
Элла отпустила несколько замечаний на ее счет типа «современные девицы» и «наглая молодежь», но она была доброй женщиной, и думаю, эти слова были произнесены так, для проформы. Она прекрасно понимала, так же как и я, что кем бы ни была моя новая пациентка, она не имела ничего общего с проституткой с выцветшим взглядом и на высоких каблуках. Напротив, Джейн Смит была крайне серьезной и целеустремленной молодой женщиной. Она оказалась в неприятном положении и была полна решимости пройти через это со всем достоинством, на которое способна.
Через неделю она пришла во второй раз. Стоял обычный день – один из первых настоящих весенних дней. Воздух был мягким, небо – молочно-голубого цвета, и чувствовался запах ветра – теплый, едва ощутимый запах возрождения природы. В такие дни хочется уйти от всех забот и волнений, сидя рядом с прекрасной женщиной где-нибудь в Кони-Айленде, с корзиной для пикника на разостланном покрывале, а на твоей спутнице – большая белая шляпка и платье без рукавов, прекрасное, как и сам день.
На Джейн Смит было платье с рукавами, но все равно не менее прекрасное, чем тот весенний день. Из белого льна с коричневой окантовкой. Она надела также коричневые туфельки, белые перчатки и шляпку «колокол», немного старомодную – первый признак того, что она была далеко не богатой женщиной.
– Вы беременны, – сказал я. – Думаю, что вы не очень-то в этом сомневались, да?
Если и должны быть слезы, подумал я, то они появятся сейчас.
– Да, – ответила она с завидным самообладанием. В ее глазах не было и намека на слезы. – Я догадывалась.
Возникла небольшая пауза.
– Когда я должна родить? – спросила она почти беззвучно.
– Это будет рождественский ребенок, – сказал я. – Примерный срок – десятое декабря плюс-минус две недели.
– Хорошо. – Она поколебалась немного, а потом решилась: – Вы будете принимать роды? Даже если я не замужем?
– Да, – сказал я. – При одном условии.
Она нахмурилась, и в этот момент ее лицо стало еще больше походить на лицо Гарриет Уайт. Трудно поверить, что хмурое выражение лица молодой женщины двадцати трех, вероятно, лет может быть настолько грозным. Но именно таким оно и было. Она уже была готова уйти, и даже мысль о том, что ей придется начинать все сначала с другим врачом, не смогла бы ее удержать.
– И каким будет это условие? – спросила она подчеркнуто холодно.
Теперь уже я почувствовал желание отвести глаза от ее лица, но выдержал ее взгляд.
– Я настаиваю на том, чтобы знать ваше настоящее имя. Мы можем продолжать наши финансовые отношения при помощи наличных денег, если вас это больше устраивает, и миссис Дэвидсон по-прежнему будет выдавать вам рецепты на имя Джейн Смит. Но если мы собираемся отправиться вместе в это путешествие в течение следующих семи месяцев, я хотел бы иметь возможность обращаться к вам по имени, на которое вы отзывались всю вашу жизнь.
Я закончил свою миленькую, наигранно строгую речь, ожидая, пока она обдумает мои слова. Я был почти уверен, что она поднимется, поблагодарит меня и исчезнет навсегда. Я испытал бы растерянность, если бы это произошло. Она нравилась мне. Более того, мне нравилась прямота и решимость, с коими она бралась за проблему, в то время как девяносто из ста женщин на ее месте запутались бы в собственной лжи и от страха и стыда перед такой ситуацией оказались бы не способны ее преодолеть.
Полагаю, что многим нынешним молодым людям такая ситуация показалась бы нелепой и даже невообразимой. Сейчас все стремятся продемонстрировать широту взглядов в отношении того, что беременная женщина без обручального кольца должна быть окружена большим вниманием и заботой, чем любая другая. Но джентльмены хорошо знают, что в те времена все было по-другому. Бытующие тогда нравственные нормы и лицемерие ставили незамужнюю беременную женщину в крайне затруднительное положение. В те годы замужняя беременная женщина чувствовала себя счастливой и гордой тем, что собиралась выполнить предназначение, данное ей Богом. Незамужняя же выглядела в глазах окружающих проституткой, да и сама была склонна считать себя таковою. Она была, используя выражение Эллы Дэвидсон, «легкой» женщиной, а в те времена о «легкости» забывали не скоро. Такие женщины уезжали рожать и жить в другие города. Некоторые из них глотали таблетки или выбрасывались из окон. Другие шли к подпольным акушеркам-мясникам с грязными руками или пытались сделать все сами. За мою хирургическую практику четыре женщины умерли у меня на глазах от потери крови из-за тяжелых ранений матки. Помню один случай, когда ранение было нанесено зазубренным горлышком бутылки, привязанным к венику. Сейчас трудно в это поверить, но подобные вещи происходили, джентльмены. В общем, такая ситуация была для здоровой молодой женщины худшей из всех, какие только можно вообразить.
– Я согласна, – сказала она наконец. – Это справедливо. Меня зовут Сандра Стенсфилд.
Она протянула мне руку. С удивлением я пожал ее, радуясь, что Элла Дэвидсон не видела, как я сделал это. Она бы ничего не сказала, но целую неделю кофе был бы горче, чем обычно.
Она улыбнулась в ответ на мое замешательство – я думаю – и посмотрела на меня открыто.
– Надеюсь, мы будем друзьями, доктор Маккэррон. Сейчас мне нужен друг. Я немного напугана.
– Я вас понимаю и постараюсь стать вашим другом, если смогу, мисс Стенсфилд. Я что-нибудь могу для вас сделать в настоящий момент?
Она открыла сумочку и достала блокнот и ручку. Раскрыв блокнот, посмотрела на меня. В какой-то момент я с ужасом подумал, что она спросит у меня имя и адрес акушера. Затем она сказала:
– Я хотела бы знать, что мне лучше есть. Для ребенка, конечно.
Я громко рассмеялся. Она взглянула на меня с удивлением.
– Извините. Просто у вас такой деловой вид.
– Ну уж наверное. Этот ребенок теперь часть моих дел, разве не так?
– Да, естественно. У меня есть брошюра, которую я даю всем моим беременным пациенткам. Здесь говорится о диете, весе, питье, курении и многом другом. Пожалуйста, не смейтесь, когда будете читать. Это затронет мои чувства, потому что я сам писал текст.
Это был скорее памфлет, а не брошюра, что, однако, не помешало ему стать впоследствии книгой «Практическое руководство по беременности и родам». В то время я серьезно увлекался акушерством и гинекологией и, начав довольно поздно из-за войны, не собирался терять время. Меня подбадривала мысль о том, что я увижу множество счастливых женщин в ожидании ребенка и приму за мою практику много детей. Так и случилось: по последним подсчетам, я участвовал в появлении на свет около двух тысяч младенцев – достаточно, чтобы заполнить пятьдесят классных комнат.
Я читал много литературы о беременности и родах и применял свои знания по этому вопросу более разумно, чем в других областях медицинской практики. Поскольку я был энтузиастом и у меня сложились собственные представления о предмете, то предпочел написать собственную брошюру, чем следовать избитым предписаниям, которыми в избытке потчевали беременных женщин. Не буду излагать полный набор этих предписаний – для этого не хватило бы и ночи, – но приведу лишь два примера.
От будущих матерей требовали как можно меньше находиться на ногах и тем более не совершать длительных прогулок из-за опасности выкидыша и других «нежелательных для родов» последствий. Но роды как таковые – это в первую очередь тяжелая работа, и давать подобные советы – все равно что сказать футболисту, готовящемуся к важной встрече, чтобы он как можно больше проводил время сидя и сохранял силы для предстоящей игры! Другой столь же «мудрый» совет, часто даваемый многими докторами упитанным женщинам, – начать курить… курить! Эти рекомендации отражены в имевшем хождение лозунге тех дней: «Возьми сигарету Lucky вместо конфеты». Те, кто думает, что, вступив в двадцатый век, мы вошли в эпоху просвещенной медицины, не представляет, какие безумные идеи иногда приживаются и в наши дни.
Я дал мисс Стенсфилд мою брошюру, и она внимательно изучала ее в течение минут пяти. Когда я спросил у нее разрешения закурить трубку, она кивнула мне, не отрываясь от чтения. Потом подняла глаза и улыбнулась:
– Вы радикал, доктор?
– Почему вы это говорите? Не потому ли, что я советую ожидающим ребенка женщинам ходить пешком, а не ездить в прокуренных и трясущихся поездах подземки?
– Витамины… всякого рода… плавание и дыхательные упражнения! Какие дыхательные упражнения?
– Об этом вы узнаете позже, но я не радикал. Далеко не радикал. Я тот, кто задерживает на пять минут моего следующего пациента.
– О, прошу прощения. – Она быстро встала, запихивая толстую брошюру в сумочку.
– Ничего.
Она набросила легкое пальто, глядя на меня карими глазами.
– Нет, – сказала она. – Вы совсем не радикал. Ну а теперь вы себя чувствуете более… умиротворенно? Я правильно подобрала слово?
– Вполне подходяще, – сказал я. – Это слово мне нравится. Скажите миссис Дэвидсон, чтобы она выписала талон на следующее посещение. Я хочу вас видеть в начале следующего месяца.
– Ваша миссис Дэвидсон меня не одобряет.
– Уверен, что это не так. – Но я никогда не умел врать, и теплота, возникшая между нами, сразу же испарилась. Я не провожал ее до двери кабинета. – Мисс Стенсфилд?
Она обернулась и застыла в ожидании вопроса.
– Вы собираетесь оставить ребенка?
Она окинула меня взглядом, потом улыбнулась той загадочной улыбкой, секрет которой знают только беременные женщины.
– О да, – услышал я в ответ, и она ушла.
До конца этого дня я занимался похожими друг на друга случаями пищевого отравления, ожогов кипятком, вытаскивал кусок металла из глаза и дал направление на госпитализацию моему старому пациенту, у которого, я уверен, была раковая опухоль. Я совершенно позабыл о Сандре Стенсфилд. Элла Дэвидсон напомнила мне о ней, заметив:
– Возможно, она вовсе и не потаскушка.
Я оторвал взгляд от карточки моего последнего пациента. Я изучал ее, ощущая раздражение, которое чувствует большинство врачей, оказавшихся не в силах помочь больному. Мне пришла в голову мысль, что вместо всех этих колонок СУММА К ОПЛАТЕ, ОПЛАЧЕНО ПОЛНОСТЬЮ или ПАЦИЕНТ ПЕРЕВЕДЕН я должен был бы написать ОРДЕР НА СМЕРТЬ. Наверное, с черепом и костями вверху, как на бутылках с ядом.
– Простите?
– Я о вашей мисс Джейн Смит. Она сделала удивительную вещь сегодня утром после того, как записалась на прием. – Поза миссис Дэвидсон недвусмысленно давала понять, что этот поступок она одобряла.
– И что же она сделала?
– Когда я дала ей талон на посещение, она попросила подсчитать ее расходы. Все до единого. Включая роды и пребывание в больнице.
Это действительно вызывало удивление. Не забывайте, что речь идет о 1935 годе, а мисс Стенсфилд, похоже, была предоставлена самой себе. Жила ли она в достатке? Сомневаюсь. Ее платье, туфли и перчатки были красивыми, но она не носила ювелирных украшений. И к тому же ее шляпка явно уже вышла из моды.
– И вы сделали, что она просила?
Мисс Дэвидсон посмотрела на меня так, словно я лишился чувств:
– Сделала ли? Конечно, сделала! И она заплатила всю сумму. Наличными.
Это обстоятельство, по-видимому, больше всего поразило миссис Дэвидсон (самым приятным образом, несомненно), но только не меня. Единственное, чего не могут делать все Джейн Смит этого мира, так это выписывать чеки.
– Она вытащила из сумки бумажник, открыла его и отсчитала деньги прямо на моем столе, – продолжала миссис Дэвидсон. – Затем убрала рецепт туда, где лежали деньги, положила бумажник в сумочку и попрощалась. Совсем неплохо, если подумать о том, как иногда мы вынуждены бегать за их так называемыми «респектабельными» милостями, чтобы они заплатили по счету!
По непонятной причине я почувствовал себя огорченным. Меня не обрадовало то, что Сандра Стенсфилд так поступила, вызвав такую радость у миссис Дэвидсон, не был я доволен и самим собой. Сам не знаю почему. Что-то во всем этом заставляло меня почувствовать собственную неполноценность.
– Но не могла же она заплатить за пребывание в больнице, ведь так? – спросил я. В конечном счете это не имело никакого значения, но мне нужно за что-нибудь зацепиться, чтобы дать выход охватившему меня чувству огорчения. – Разве можно сказать заранее, сколько времени ей придется пролежать в больнице. Или вы читаете будущее, Элла?
– Я ей говорила то же самое, но она спросила, сколько времени в среднем находятся в больнице женщины при отсутствии каких-либо осложнений. Я сказала, что шесть дней. Разве нет?
Я был вынужден признать, что это так.
– Она сказала, что заплатит за шесть дней, а если ей придется пролежать дольше, то внесет дополнительную плату. Но если…
– …если меньше, то мы можем возместить ей лишние расходы, – утомленно закончил я и подумал: Черт бы побрал этих женщин. И тут же рассмеялся. – У нее есть голова на плечах. Невозможно это отрицать. И неплохая голова.
Миссис Дэвидсон позволила себе улыбнуться… И если я в какой-то момент, особенно сейчас, находясь в старческом маразме, начинаю верить, что знаю все о людях, которые меня окружают, то пытаюсь вспомнить эту улыбку. До того дня я готов был поклясться жизнью, что никогда не увижу, как миссис Дэвидсон, одна из самых «правильных» женщин, которых я когда-либо знал, улыбается при мысли о девушке, забеременевшей не в замужестве.
– Голова на плечах? Может быть, доктор. Но она знает свои умственные способности, это уж точно.
Прошел месяц, и мисс Стенсфилд пришла вновь в назначенное ей время, просто возникнув из этого удивительного человеческого потока, каким был и остается Нью-Йорк. На ней было голубое платье, которое выглядело довольно оригинально, хотя и было явно выбрано среди множества ему подобных. Ее туфельки не очень подходили к нему – это была та же коричневая пара, в которой она приходила в последний раз.
Я тщательно осмотрел ее, счел, что все идет нормально, сказал ей об этом, и она осталась довольна.
– Я нашла витамины, которые нужно принимать во время беременности.
– В самом деле? Превосходно.
Ее глаза озорно сверкнули.
– Аптекарь предостерегал меня от их употребления.
– Избави меня Бог от этих порошковых дел мастеров, – сказал я, и она прыснула в ладошку. Это был жест ребенка, покоряющий своей непроизвольностью. – Я еще не встречал аптекарей, которые не были бы неудавшимися врачами. И республиканцами. Эти витамины пока еще в новинку, и к ним относятся с подозрением. Вы последовали его совету?
– Нет, только вашему. Вы же мой врач.
– Благодарю.
– Не за что. – Она посмотрела прямо мне в глаза, уже не хихикая. – Доктор, когда по мне станет заметно?
– Не раньше августа, я думаю. Или сентября, если вы будете носить… гм, широкие одежды.
– Спасибо.
Она взяла свою сумочку, но не встала сразу, чтобы уйти. Я подумал, что она хочет поговорить, но не знает, как и с чего начать.
– Вы ведь работаете, правда?
Она кивнула:
– Да, я работаю.
– Можно спросить – где? Если вы считаете, что я не должен…
Она засмеялась, но каким-то ломаным, невеселым смехом.
– В универсальном магазине. Где еще незамужняя женщина может работать в городе? Я продаю духи толстым леди, которые смачивают свои волосы, а затем накручивают на тонкие бигуди.
– Как долго вы еще сможете там работать?
– Пока мое деликатное положение не станет заметным. Предполагаю, что тогда меня попросят уйти, чтобы не огорчить какую-нибудь толстую леди. Потрясение от того, что их обслуживает беременная женщина без обручального кольца, может вызвать выпрямление волос.
Почти мгновенно ее глаза заблестели от слез. Губы задрожали, и я стал нащупывать платок. Но слезы не закапали. Глаза вновь прояснились, губы затвердели, но тут же смягчились. Она просто решила, что не будет терять контроля над своими эмоциями. И не потеряла. Это было впечатляющее зрелище.
– Извините, – сказала она. – Вы очень добры ко мне. Я не хочу отплатить вам за вашу доброту, рассказывая всякие банальные истории.
Она встала, чтобы идти, и я поднялся вместе с ней.
– Я умею слушать, – сказал я, – и у меня есть время. Мой следующий пациент отменил свой визит.
– Нет, – ответила она. – Спасибо, но не стоит.
– Хорошо, – согласился я. – Но я хотел бы сказать кое-что еще.
– Да?
– Не в моих правилах делать так, чтобы мои пациенты – любые пациенты – оплачивали вперед услуги, которые им будут оказаны. Думаю, что если вы… то есть если бы вы хотели… или вам необходимо… – промямлил я и замолчал.
– Я уже четыре года в Нью-Йорке, доктор. И по своей природе терпелива. После августа или сентября я вынуждена буду жить на свои сбережения, пока не смогу снова устроиться на работу. Это не очень много, и иногда по ночам мне становится страшно.
Она внимательно посмотрела на меня чудесными карими глазами.
– Мне казалось, будет лучше – скорее надежней, – если я заплачу за ребенка. В первую очередь. Потому что я много думаю о нем, а искушение истратить эти деньги может стать очень сильным.
– Хорошо, – согласился я. – Но, пожалуйста, запомните, что если они вам понадобятся, сразу скажите мне об этом.
– И снова разбудить дракона в миссис Дэвидсон? – Игривые огоньки вновь появились у нее в глазах. – Не думаю, что это нужно делать. Ну а теперь, доктор…
– Вы намерены проработать до конца, сколько сможете? Это действительно необходимо?
– Да, я должна. Но почему вы спрашиваете?
– Боюсь, мне придется попугать вас немного, прежде чем вы пойдете, – сказал я.
Ее глаза стали чуть шире.
– Не делайте этого, – попросила она. – Я и так уже достаточно напугана.
– Именно поэтому я и собираюсь поговорить с вами. Сядьте, мисс Стенсфилд. – Но поскольку она осталась стоять, я добавил: – Прошу вас.
Она села. Не очень охотно.
– Вы находитесь в довольно-таки незавидном положении, – начал я, сидя на краю письменного стола. – Но вы не без изящества справляетесь с встающими на вашем пути трудностями.
Она собиралась что-то сказать, но я поднял руку, прося не перебивать меня.
– Это очень похвально. Но я не хотел бы, чтобы вы навредили ребенку вследствие заботы о своем финансовом положении. У меня была пациентка, которая, несмотря на мои предостережения, из месяца в месяц продолжала туго затягивать пояс. Она была тщеславной, глупой и скучной женщиной, и не верится, что она на самом деле хотела ребенка. Я бы не подписался под многочисленными теориями о подсознании, которые обсуждаются сегодня чуть ли не на каждом углу, но если бы я в них верил, то сказал, что она – или часть ее – пыталась убить младенца.
– И она это сделала? – Ее лицо оставалось спокойным.
– Нет, вовсе нет. Но ребенок родился с опозданием. Вполне возможно, что он, так или иначе, родился бы позже срока – мы мало что знаем о причинах этого явления. Но она сама могла вызвать это.
– Понимаю, куда вы клоните, – сказала она низким голосом. – Вы не хотите, чтобы я тоже затягивалась, так что я смогу оставаться на работе еще месяц или шесть недель. Честно говоря, такая мысль приходила мне в голову. Что ж, спасибо за то, что вы меня напугали.
На этот раз я проводил ее до двери. Мне хотелось спросить, сколько у нее осталось денег и как долго она сможет на них прожить. Но я слишком хорошо знал, что на такой вопрос не услышал бы ответа. На прощание я пошутил по поводу ее витаминов. Она ушла. Я думал о ней в свободные минуты весь следующий месяц, и…
На этом месте Иохансен прервал рассказ Маккэррона. Они были друзьями, и это, как мне кажется, давало ему право задать вопрос, о котором мы все думали.
– Ты любил ее, Эмлин? Ведь поэтому ты постоянно упоминаешь о ее глазах, улыбке и о том, как ты «думал о ней в свободные минуты»?
Я подумал, что подобное вмешательство должно было рассердить Маккэррона, однако этого не произошло.
– Ты вправе задать этот вопрос, – сказал он и замолчал, глядя в огонь. Могло показаться, что он задремал. В этот момент выстрелило сухое полено, искры закружились в камине, и Маккэррон посмотрел вокруг, сначала на Иохансена, а потом на всех остальных. – Нет, я не любил ее. То, что я говорил о ней, очень напоминает те детали, которые обычно замечает влюбленный мужчина – выражение глаз, одежда, смех. – Он зажег свою трубку специальной зажигалкой, затянулся и выпустил облачко дыма, окружившее его голову ароматной завесой. – Я восхищался ею. И мое восхищение росло с каждым ее появлением. Думаю, некоторые из вас воспринимают мой рассказ как историю любви, перечеркнутую обстоятельствами.
Но это не имеет ничего общего с реальностью. Ее история завершилась в последующие полгода, и когда, джентльмены, вы услышите ее, то, уверен, убедитесь, насколько она во многом типична, как утверждала сама Сандра. Она попала в Нью-Йорк, как тысячи других девушек, приехав из небольшого города…
…в Айове или Небраске. А может быть, в Миннесоте, я не помню. Она изучала драматическое искусство и участвовала в спектаклях местного городского театра. В местном еженедельнике были опубликованы хорошие рецензии одного драматического критика с ученой степенью, и она отправилась в Нью-Йорк, чтобы начать карьеру актрисы.
Она была практичной даже в этом – насколько позволяло столь непрактичное само по себе устремление. Ей захотелось попасть в Нью-Йорк, как она сама рассказывала, не потому, что она верила в то, на что намекали иллюстрированные журналы: любая девушка, приехавшая в Голливуд, может стать звездой. Она говорила, что приехала в Нью-Йорк, чтобы приоткрыть дверь в новый мир, а также потому, как мне кажется, что больше любила драматический театр, чем звуковое кино.
Она устроилась на работу в универсальный магазин и поступила на театральные курсы. Ее отличали ум и железная воля, но в ней было столько же человеческих качеств, как и в любом другом человеке. К тому же она была одинока. Так одинока, как только, пожалуй, могут чувствовать себя простые девушки из небольших городков Среднего Запада. Тоска по дому – это не всегда то смутное, ностальгическое и даже прекрасное чувство, каким мы его себе привыкли представлять. Оно может быть острым, как нож, и превращаться в болезнь не в переносном, а в прямом смысле. Оно может изменить взгляды человека на жизнь. Лица на улице становятся для него не безразличными, а отталкивающими и даже злорадными. Тоска по дому – это настоящая болезнь, боль вырванного с корнем растения.
Мисс Стенсфилд, сколь очаровательной и решительной она ни была, не имела иммунитета от этой болезни. Все случившееся с ней затем настолько естественно, что не стоит и труда рассказывать об этом. На курсах вместе с ней учился некий молодой человек. Несколько раз они вместе проводили вечер. Она не любила его, но ей был нужен друг. Когда выяснилось, что он никогда им не станет, произошло два события: она обнаружила, что беременна, и рассказала об этом молодому человеку. Он сказал, что останется с ней и у них все будет «пристойно». Через неделю он съехал с квартиры, не оставив своего нового адреса. И тогда она пришла ко мне.
Когда мисс Стенсфилд была на четвертом месяце, я познакомил ее с методом дыхания, сейчас он называется методом Ламаза. В те времена, как вы понимаете, о господине Ламазе никто не слышал.
«В те времена» – эта фраза появляется все чаще и чаще, я заметил. Приношу свои извинения, но ничего не могу с этим поделать. Все, о чем я вам рассказал и расскажу, произошло в те времена или в те дни, если хотите.
Итак… В те времена, сорок пять лет назад, посещение родильного отделения в любой крупной американской больнице напомнило бы вам визит в сумасшедший дом. Женщины, плачущие навзрыд, женщины, кричащие о том, что хотели бы умереть, женщины, стенающие, что они не перенесут таких мучений, женщины, взывающие ко Христу, чтобы он простил им их прегрешения, женщины, выкрикивающие такие слова, что их мужья и отцы никогда бы не поверили, что они им известны. Все это – вещи общеизвестные, несмотря на то, что большинство женщин рожают почти в абсолютной тишине, за исключением мычащих звуков натуги, которые, впрочем, ассоциируются у нас с любым тяжелым физическим трудом.
К сожалению, врачи отчасти повинны в этой истерии. Ей способствуют также и рассказы, которые беременная женщина слышит от подруг и родственниц, уже испытавших, что такое роды. Поверьте, если вам скажут, что что-то будет болезненным, вы действительно почувствуете боль. Большей частью боль находится в вашем сознании, и когда женщина уверует в то, что роды – это страшно болезненный процесс и об этом ей говорят мать, сестры, подруги и ее врач, то она уже внутренне готова испытать сильные мучения.
Даже всего за шесть лет практики я привык к тому, что женщины пытаются справиться с двойной проблемой: дело не только в том, что они беременны и должны готовиться к рождению ребенка, но и в том, что над ними нависла тень смерти. Многие стараются привести свои дела в порядок, чтобы, если они умрут, их мужья могли бы продолжать без них.
Сейчас неподходящее время для лекции по акушерству, но вы должны знать, что длительное время до тех дней роды считались в западных странах крайне опасными. Революция в медицине, начавшаяся около 1900 года, сделала этот процесс более безопасным, но только ничтожно малое число врачей удосужилось сообщить об этом своим пациенткам. Одному Богу известно почему. В этой связи стоит ли удивляться, что большинство родильных домов ассоциировались с местом для умалишенных? И вот все эти несчастные женщины проходят через то, о чем из-за викторианских предрассудков, господствующих в то время, знают лишь в самых общих чертах. Их охватывает страх и изумление, которые они моментально воспринимают как невыносимую боль, и большинство из них начинают чувствовать, что скоро умрут собачьей смертью.
Во время чтения литературы о беременности я обнаружил принцип «тихих» родов и основную идею метода дыхания. При криках тратится энергия, которую можно использовать для выталкивания плода. Это приводит к перенасыщению кислородом, а перенасыщение включает аварийную систему функционирования организма: надпочечники начинают работать на полную мощность, дыхание и пульс учащаются, что совсем не нужно. Метод же дыхания помогает матери сосредоточиться на самом процессе и справиться с болью, используя ресурсы собственного тела.
К тому времени этот метод широко применялся в Индии и Африке; в Америке его использовали шошоны, микмаки и другие индейские племена, эскимосы прибегали к нему всегда. Однако, как вы можете догадаться, большинство западных врачей нисколько им не интересовалось. Один из моих коллег возвратил мне мою отпечатанную на машинке брошюру, где красным карандашом перечеркнул целый раздел о методе дыхания. На полях он написал, что если бы он захотел что-либо прочитать о «предрассудках черномазых», то просто купил бы издание «Страшных сказок»!
Я все же не выкинул этот раздел моей брошюры, как он советовал, а попробовал добиться результатов на практике. Некоторые женщины достигли впечатляющих успехов. Другие же, казалось, понимали суть метода, но полностью теряли самообладание, как только сокращения матки становились сильнее. В большинстве случаев, как мне удалось выяснить, сама идея была раскритикована друзьями и родственниками, которые никогда ни о чем подобном не слышали, а потому не верили, что что-то может получиться.
Метод основывался на предположении, что, хотя и не бывает одинаковых родов в их специфических моментах, все они похожи в своих общих чертах. Существует четыре стадии родов: схватки, срединные роды, рождение и выведение последа. Сокращения вызываются напряжением мышц живота и предлобковой зоны и часто появляются на шестом месяце беременности. Многие женщины при первой беременности ожидают чего-то ужасного, внутренних спазмов, хотя это чисто физическое ощущение, похожее на боль, когда сводит мышцу. Женщина, применяющая метод дыхания, начинает дышать сериями коротких, размеренных вдохов и выдохов, когда чувствует, что подходят схватки. Воздух выдыхается резкими толчками, как если бы вы дули в трубу в стиле Диззи Гиллеспи.
Во время срединных родов, при которых более болезненные сокращения наступают каждые пятнадцать минут, женщина переходит к долгим вдохам и выдохам – так дышат бегуны на длинные дистанции, когда совершают свой финишный рывок. Чем сильнее схватки, тем продолжительнее вдох-выдох. В моей брошюре я назвал эту стадию «качание на волнах».
На последнем этапе надо быть особенно внимательными к тому, что я называю «локомотив», а инструкторы Ламаза стадией дыхания «чу-чу». Последняя фаза родов сопровождается болями, которые чаще всего описывают как глубокие и тупые. В этот момент женщину охватывает непреодолимое желание… вытолкнуть ребенка. Вот та точка, джентльмены, когда этот удивительный и жуткий двигатель набирает полные обороты. Шейка матки полностью раскрыта. Ребенок уже начал свое короткое путешествие по родовому каналу, и если вы посмотрите прямо между ног матери, то увидите родничок младенца, пульсирующий всего в нескольких дюймах от выхода из материнского тела. Женщина должна дышать при помощи коротких и резких вдохов и выдохов, но не наполняя свои легкие, а контролируя ритм дыхания. Она как бы подражает звуку паровозной трубы.
Такое дыхание благоприятно воздействует на организм: насыщенность кислородом сохраняется высокой, но при этом не включается аварийная система. В то же время женщина полностью владеет собой, может задавать вопросы и способна выполнять указания врача. Но еще более важен моральный эффект, получаемый при использовании метода дыхания. Мать чувствует, что она активно участвует в рождении ребенка и даже может частично управлять этим процессом.
Вы должны понимать, что весь процесс тесно связан с состоянием ума пациента. Его уязвимость – и этим я бы объяснил все неудачи, если бы их у меня было много, – заключается в том, что пациентку, убежденную собственным врачом, могут отговорить родственники, которые и слышать ничего не захотят о таком варварском методе.
С этой точки зрения мисс Стенсфилд была идеальной пациенткой. У нее не было ни друзей, ни родственников, способных поколебать ее веру в метод дыхания (хотя, честно говоря, я очень сомневаюсь, что кто-то смог бы отговорить ее от того, что она для себя решила), если она сама в него поверила. И она поверила.
– Это немного напоминает самогипноз, да? – спросила она, когда я в первый раз рассказал ей о методе.
Я согласился, не скрывая восхищения.
– Вот именно! Но вы не должны допускать мысли, что это всего лишь трюк, и не отчаиваться, если что-то не будет получаться сразу.
– Никаких таких мыслей у меня нет. Я очень вам благодарна. Я буду очень стараться, доктор.
Она была просто создана для метода дыхания, и если пообещала стараться, то можно было не сомневаться, что так и будет. Я никогда не видел раньше, чтобы кто-то отнесся к этой идее с таким энтузиазмом. Мисс Стенсфилд принадлежала к категории людей, которые предпочитают крепко держать собственную жизнь за горло.
Когда я говорю, что она полностью решила посвятить себя методу дыхания, то нисколько не грешу против истины и думаю, что ее последний день работы в универмаге подтверждает это.
Этот день настал в конце августа. Мисс Стенсфилд была стройной молодой женщиной в прекрасной форме. Любой врач может подтвердить, что такие женщины, носящие первого ребенка, способны «не выдавать» своего положения в течение пяти или даже шести месяцев. Но затем в один прекрасный день все становится явным.
Она пришла на очередной осмотр первого сентября и, рассмеявшись, рассказала мне, что, как выяснилось, метод дыхания имеет еще одно применение.
– Какое же? – спросил я.
– Это даже лучше, чем считать до десяти, когда рассердишься на кого-то, – сказала она. Ее карие глаза сверкали. – Хотя люди смотрят на тебя как на лунатика, когда начинаешь пыхтеть и сопеть.
Она охотно поведала мне, что произошло на работе. В прошлый понедельник она, как обычно, вышла на работу. Я полагаю, что это забавное и резкое превращение из стройной молодой в явно беременную женщину случилось в выходные дни. Или ее начальница пришла к выводу, что ее подозрения перестали быть просто подозрениями.
– Зайдите ко мне в кабинет во время перерыва, – холодно сказала ей эта женщина, некто миссис Келли. До этого момента она держалась очень дружелюбно по отношению к мисс Стенсфилд. Миссис Келли показывала ей фотографии двух своих сыновей, учившихся в институте. Она постоянно спрашивала ее, не встретила ли она уже «милого юношу».
Теперь же от этого дружелюбия не осталось и следа. Мисс Стенсфилд сказала мне, что, входя в кабинет миссис Келли, она знала, что произойдет.
– У вас неприятность, – резким голосом произнесла эта добрая, казалось бы, женщина.
– Да, – сказала мисс Стенсфилд. – Некоторые называют это так.
Щеки миссис Келли стали цвета старого кирпича.
– Не умничайте со мной. Судя по вашему животу, вы и так были слишком умны.
Я словно воочию видел обеих женщин, пока слушал рассказ мисс Стенсфилд, – ее карие глаза смотрят прямо, она не желает опускать их или как-то по-иному продемонстрировать признаки смущения. Думаю, что с практической точки зрения она гораздо лучше, чем миссис Келли, представляла себе все трудности своего положения.
– Должна сказать, что вы не очень-то стыдитесь того, что обманули меня! – с горечью сказала миссис Келли.
– Я никогда вас не обманывала. Вы ни словом не обмолвились о моей беременности до сегодняшнего дня. – Она с любопытством посмотрела на миссис Келли. – Как вы можете говорить, что я вас обманула?
– Я приглашала вас к себе в дом! – вскричала миссис Келли. – Я позвала вас на обед… с моими сыновьями. – Она неприязненно взглянула на мисс Стенсфилд.
В этот момент мисс Стенсфилд рассердилась не на шутку. Так, как, по ее словам, она не сердилась ни разу в жизни. Она прекрасно отдавала себе отчет в том, какую реакцию может вызвать ее положение, когда оно обнаружится, но вы все можете подтвердить, джентльмены, какая разница существует между теорией и ее практическим результатом.
Положив руки на колени, мисс Стенсфилд сказала твердо:
– Если вы намекаете на то, что я когда-нибудь пыталась или могла бы попытаться соблазнить ваших сыновей, это самая грязная и низкая ложь, которую я когда-либо слышала в своей жизни.
Голова миссис Келли дернулась, как от пощечины. Две женщины мерили друг друга взглядом, разделенные письменным столом. В комнате чувствовался слабый запах цветов. Это мгновение, как показалось мисс Стенсфилд, длилось бесконечно долго.
Затем миссис Келли рывком открыла ящик стола и достала темно-желтый чек. Показывая зубы, словно откусывая каждое слово, она сказала:
– Когда сотни порядочных девушек ищут работу в нашем городе, не думаю, что мы нуждаемся в услугах какой-то проститутки, дорогая.
Она сказала мне, что именно это презрительное «дорогая» окончательно вывело ее из себя. Миссис Келли, с широко раскрытыми глазами и открыв рот наблюдала, как мисс Стенсфилд, сцепив пальцы с такой силой, что на них появились синяки (они уже побледнели, но все еще были заметны, когда она пришла ко мне первого сентября), начала с шумом выдыхать воздух сквозь плотно сжатые зубы.
Вряд ли эту историю можно было назвать забавной, но я не удержался от смеха, и мисс Стенсфилд присоединилась ко мне. Миссис Дэвидсон заглянула в кабинет – наверное, чтобы убедиться, что мы не надышались закисью азота, – и закрыла за собой дверь.
– Это единственное, что я могла сделать, – сказала мисс Стенсфилд, все еще смеясь и вытирая платком слезы. – Потому что в тот момент ясно представила, как смахиваю с ее стола флакончики с духами. Я увидела, как они разбиваются на мелкие кусочки и наполняют комнату жутким зловонием. – Я собиралась сделать это, и казалось, ничто не могло бы меня удержать. Но тогда я начала дышать как паровоз, и все прошло. Я нашла в себе силы взять чек и уйти. Я не могла поблагодарить ее, потому что все еще изображала паровоз!
Мы снова рассмеялись, а потом она стала серьезной.
– Все уже позади, и мне сейчас даже немного жаль ее – или, может быть, я веду себя чересчур высокомерно?
– Вовсе нет. Я просто удивлен, что вы можете испытывать сейчас такие чувства.
– Можно я покажу вам то, что купила на выходное пособие?
– Конечно, если вы этого хотите.
Она открыла кошелек и вынула маленькую плоскую коробочку.
– Я купила это в ломбарде, – сказала она. – За два доллара. Это был единственный момент за все время этого кошмара, когда я действительно почувствовала стыд. Разве это не странно?
Она открыла коробочку и положила на стол, чтобы я смог увидеть ее содержимое. В ней лежало обычное обручальное кольцо.
– Я буду делать все как нужно, – сказала она. – Я снимаю комнату в доме, который миссис Келли назвала бы «добропорядочным пансионом». Моя хозяйка добра ко мне… но миссис Келли тоже была добра и дружелюбна. Я думаю, она может в любой момент попросить меня съехать, и боюсь, что, если я попрошу ее вернуть деньги, которые заплатила вперед, она рассмеется мне в лицо.
– Но это будет незаконно. Есть суды и адвокаты, которые помогут вам…
– Суды – это мужские клубы, – ответила она с уверенностью в голосе, – не способные с пониманием отнестись к женщине в моем положении. Может быть, я сумею получить назад мои деньги, а может быть, и нет. В любом случае, все расходы и неприятности вряд ли стоят сорока семи долларов или около того. И впредь я намерена стать более практичной. Я приметила одно местечко в нижней части Вилледжа. Это, правда, третий этаж, но комната чистая и стоит на пять долларов в месяц дешевле, чем та, которую я снимаю в настоящий момент. – Она вытащила кольцо из коробочки. – Я надела его, когда хозяйка показывала мне комнату.
Она надела его на третий палец левой руки с легким выражением неприязни, в котором, как мне кажется, не отдавала себе отчета.
– Вот так. Теперь я миссис Стенсфилд. Мой муж был водителем грузовика, он погиб в аварии на автостраде Питсбург – Нью-Йорк. Ужасно грустно. Но я больше не проститутка, а мой ребенок не будет незаконнорожденным.
Она посмотрела на меня, и в ее глазах появились слезы.
– Прошу вас, – сказал я и взял ее руку в свою. Она была очень холодной. – Не надо, дорогая.
Она повернула руку ладонью вниз и посмотрела на кольцо. Затем улыбнулась, и, поверьте мне, джентльмены, улыбка эта была столь же горькой, как горчица. По ее щеке скатилась одинокая слеза.
– Когда я слышу, как некоторые циники говорят, что волшебству и чудесам нет места в наше время, я уверена, что они заблуждаются, правда, доктор Маккэррон? Когда вы покупаете кольцо за два доллара и это кольцо в один миг избавляет вас от незаконного рождения и нелегальности вашего положения, как это можно назвать, если не волшебством? Дешевым волшебством.
– Мисс Стенсфилд… Сандра, если я могу… если вам нужна помощь, все, что я смогу…
Она убрала свою руку – может быть, если бы я взял ее правую руку, она бы этого не сделала. Я говорил вам уже, что не любил ее, но в тот момент мог почувствовать любовь к ней, был готов полюбить ее. Возможно, если бы я взял ее правую руку вместо той, с предательским кольцом, и она позволила бы мне подержать ее руку в своей немного дольше, пока бы я не согрел ее своим теплом, – возможно, я полюбил бы эту женщину.
– Вы хороший, добрый человек и многое сделали для меня и моего ребенка. Ваш метод дыхания – несравнимо большее чудо, чем это ужасное кольцо. Кроме всего прочего, он спас меня от тюрьмы за предумышленные разрушительные действия.
Вскоре после этого она ушла, а я подошел к окну и смотрел, как она шла вдоль улицы к Пятой авеню. Боже, я восхищался ею даже тогда! Она выглядела такой хрупкой, такой молодой и явно беременной, но ничуть не неуверенной или пугливой. Она шла по улице как бы с сознанием собственного права на свое место в этом мире.
Она исчезла из вида, и я вернулся к столу. Мой взгляд вдруг привлекла фотография в рамке, висевшая на стене рядом с моим дипломом, и страшная дрожь пробежала по телу. Жуткий страх сжал горло, и я почувствовал, что задыхаюсь. Это был ужас предчувствия, джентльмены. Не хочу спорить о том, могут ли происходить подобные вещи или нет. Знаю, что могут, поскольку испытал это на себе. Именно тогда, в тот жаркий сентябрьский полдень. И я молю Бога, чтобы мне не довелось испытать это еще раз.
Снимок был сделан моей матерью в тот день, когда я окончил медицинский институт. Я стоял перед Уайт Мемориал, заложив руки за спину и сияя, как ребенок, который целый день резвился и прыгал по аллеям Пэлисейд-парка. Слева от меня виднелась статуя Гарриет Уайт, и хотя ее верхняя часть была отсечена кадром, пьедестал и жестокая надпись – Не существует покоя без боли; таким образом, мы определяем спасение через страдание – были четко различимы. И у подножия статуи первой жены моего отца, как раз под надписью, Сандра Стенсфилд погибла почти четыре месяца спустя во время несчастного случая, случившегося в тот момент, когда она приехала в больницу, чтобы родить на свет своего ребенка.
Она переживала, что меня не окажется в больнице, когда ей придет время рожать, что я уеду на Рождество и мне нельзя будет позвонить. Ее пугало, что роды придется принимать другому врачу, который не будет знать о ее желании воспользоваться методом дыхания и вместо этого применит наркоз.
Я старался успокоить ее как только мог. У меня не было причин уезжать из города, не было семьи, которую следовало навестить во время рождественских праздников. Моя мать умерла двумя годами раньше, и у меня никого не осталось, за исключением незамужней тетки в Калифорнии, а поезда я не любил, сказал я мисс Стенсфилд.
– Вы чувствуете себя одиноким? – спросила она.
– Иногда. Обычно я слишком занят. Возьмите вот это. – Я написал свой номер телефона на карточке и протянул ее мисс Стенсфилд. – Позовите меня, если дозвонитесь до приемной больницы, когда начнутся схватки.
– О нет, я не могу…
– Вы хотите пользоваться методом дыхания или довериться какому-нибудь костоправу, который подумает, что вы свихнулись, и даст вам эфира, когда вы начнете выдыхать, как паровозная труба?
Она улыбнулась:
– Ну хорошо. Вы меня убедили.
Тем не менее осень проходила, но волнения не покидали ее.
Ее в самом деле попросили освободить комнату, где она жила, когда я впервые встретился с ней. Она переехала в Вилледж, и это, как оказалось, было ей только на пользу. Она даже нашла какую-то работу. Слепая женщина с неплохим доходом наняла ее для легкой домашней работы, а также для чтения вслух произведений Джин Стрэттон Портер и Перл Бак[34]. Она жила на первом этаже в том же доме, что и мисс Стенсфилд. У мисс Стенсфилд появился тот цветущий вид, который свойствен здоровым женщинам на последних трех месяцах беременности. Но на ее лице лежала какая-то тень. Когда я разговаривал с ней, она отвечала мне с какой-то излишней медлительностью. Как-то раз, когда она не ответила вовсе, я поднял глаза и увидел, что она рассматривает фотографию в рамке на стене со странным, мечтательным выражением. Я почувствовал, как меня обдало холодом… и ее ответ, не имевший ничего общего с моим вопросом, нисколько не успокоил меня.
– У меня такое чувство, доктор, и иногда очень сильное, что я обречена.
Глупое, мелодраматическое слово! Однако, джентльмены, у меня был готов сорваться ответ: Да, я тоже чувствую это. Я прогнал от себя эти мысли – врач, произносящий такие вещи, должен немедленно продать свой инструмент и медицинские книги и попытать счастья в плотницком деле или стать водопроводчиком.
Я сказал ей, что она не первая беременная женщина, у которой возникают подобные чувства. Они известны любому врачу, и их часто называют синдромом Долины теней. По-моему, я уже упоминал об этом, джентльмены.
Мисс Стенсфилд серьезно кивнула мне в ответ, и я вспоминаю, как молодо она выглядела в тот день и каким большим казался ее живот.
– Я знаю об этом, – сказала она. – Я испытываю эти ощущения, но они как бы отделены от того, другого чувства. Оно… как что-то неясно вырисовывающееся. Не могу описать это более точно. Это глупо, но я не могу от него избавиться.
– Вы должны попытаться, – сказал я. – Это же очень хорошо для…
Но она уже была далеко от меня. Она снова изучала фотографию.
– Кто это?
– Эмлин Маккэррон, – ответил я, стараясь перевести все в шутку. Но у меня получилось немного глуповато. – Перед Гражданской войной, совсем еще молодой.
– Нет, вас я узнала, конечно, – сказала она. – Женщина. Можно определить, что это женщина, по юбке и туфлям. Кто она?
– Ее имя – Гарриет Уайт, – промолвил я и подумал: Она будет первой, чье лицо вы увидите, когда приедете рожать. Холод вернулся вновь, жуткий и беспредельный. Ее каменное лицо.
– А что говорит надпись на основании статуи? – спросила она, все еще находясь в каком-то оцепенении.
– Не знаю, – солгал я. – Я не очень силен в разговорной латыни.
* * *
В эту ночь мне приснился самый плохой сон в моей жизни. Я проснулся от ужаса, и если бы был женат, то напугал бы жену до смерти.
Во сне я открыл дверь своего кабинета и увидел Сандру Стенсфилд. На ней были коричневые туфли, красивое белое платье с коричневой каймой и чуть вышедшая из моды шляпка. Но шляпка находилась между ее грудей, потому что она держала голову в руках. Белое платье было запачкано кровью. Кровь хлестала из шеи и заливала потолок.
Ее удивительные карие глаза были широко раскрыты и смотрели на меня.
– Обречена, – сказала голова. – Обречена. Я обречена. Нет спасения без страдания. Это дешевое волшебство, но это все, что мы имеем.
Я закричал и проснулся.
Настал и прошел день, когда должен был подойти ее срок – 10 декабря. Я осмотрел ее 17 декабря и сказал, что ребенок, безусловно, родится в 1935-м, но скорее всего после Рождества. Мисс Стенсфилд восприняла эту новость с хорошим настроением. Казалось, она отбросила все мрачные предчувствия. Миссис Гиббс, слепая женщина, нанявшая мисс Стенсфилд, была ею очень довольна. Она даже рассказала своим друзьям о мужественной молодой вдове, которая, несмотря на все невзгоды и собственное затруднительное положение, не унывает и смело смотрит в будущее. Многие из друзей старой женщины выказали готовность взять мисс Стенсфилд на работу после рождения ребенка.
– Я тоже подвела их к этому, – сказала она мне. – Ради ребенка. Но только до тех пор, пока окончательно не встану на ноги и не найду что-нибудь постоянное. Иногда мне кажется, что самое худшее из всего случившегося – то, что я по-другому стала смотреть на людей. Иной раз думаю: ну как я могу спокойно спать, когда обманула эту милую золотую старушку? А потом говорю себе: «Если бы она знала, то показала бы мне на дверь, как и все другие». Но все равно, ложь есть ложь, и порой мне становится тяжело на сердце.
Перед тем как уйти в этот день, она достала маленький сверток и робко положила его на стол.
– Счастливого Рождества, доктор.
– Вы не должны были, – сказал я, выдвигая ящик стола и доставая собственный сверток. – Но я тоже приготовил для вас…
Она удивленно взглянула на меня, и мы оба рассмеялись. Она подарила мне серебряную заколку для галстука, а я – альбом для фотографий ее ребенка. У меня сохранилась заколка, и, вы видите, я надел ее сегодня. Что случилось с альбомом, мне неизвестно.
Я проводил ее до двери, и тут она обернулась, положила руки мне на плечи, поднялась на мыски и поцеловала меня в губы. Ее губы были холодны и тверды. Это был не страстный поцелуй, но и не тот, что вы ждете от сестры или тети.
– Еще раз спасибо, доктор, – сказала она, чуть задыхаясь. Ее щеки слегка зарделись, а карие глаза ярко блестели. – Спасибо за все.
Я засмеялся – немного неуклюже.
– Вы говорите так, словно мы с вами больше не увидимся, Сандра. – Во второй и последний раз я назвал ее по имени.
– Нет, мы еще встретимся, – возразила она. – Я в этом нисколько не сомневаюсь.
Она была права, хотя ни один из нас не мог предвидеть, при каких страшных обстоятельствах произойдет наша последняя встреча.
Схватки начались в самый канун Рождества, после шести вечера. К тому времени выпавший за день снег превратился в лед.
Миссис Гиббс жила в просторной квартире на первом этаже, и в шесть тридцать мисс Стенсфилд осторожно спустилась вниз, постучала в дверь ее квартиры и попросила разрешения вызвать по телефону такси.
– Что, маленький беспокоит, дорогая? – спросила миссис Гиббс, уже волнуясь.
– Да. Схватки только начались, но я беспокоюсь из-за погоды. Такси будет ехать очень долго.
Она вызвала такси, а потом позвонила мне. В это время, в шесть сорок, волны боли следовали с интервалом в двадцать пять минут. Она повторила мне, что решила поторопиться из-за непогоды.
– Мне бы не хотелось родить ребенка на заднем сиденье такси, – сказала она. Ее голос был совершенно спокойным.
Такси опаздывало, а родовые схватки протекали немного быстрее, чем я предсказывал. Но, как я уже говорил, не бывает абсолютно похожих друг на друга родов. Таксист, видя, что его пассажирка вот-вот разродится, помог ей спуститься по скользким ступеням, все время повторяя:
– Будьте осторожны, леди.
Мисс Стенсфилд только кивала, сосредоточившись на глубоких вдохах и выдохах, в то время как конвульсии сотрясали ее тело. Дождь со снегом барабанил по крышам машин, стекая гигантскими каплями по светящейся желтой табличке такси. Миссис Гиббс рассказывала мне позже, что молодой водитель нервничал больше, чем ее «бедная, дорогая Сандра», что, вероятно, также явилось причиной несчастья.
Другой причиной, несомненно, был сам метод дыхания.
Таксист пробирался по скользким улицам, медленно проезжая перекрестки. Он сказал, что звук ровного и глубокого дыхания, доносящийся с заднего сиденья, заставлял его нервничать и постоянно смотреть в зеркало, чтобы проверить, все ли в порядке с женщиной. Он утверждал, что не нервничал бы так, если бы она просто вскрикивала, как, по его мнению, и должны себя вести рожающие женщины. Он спросил ее один или два раза, как она себя чувствует, и она лишь кивнула в ответ, продолжая «качание на волнах» с глубокими вдохами и выдохами.
За два или три квартала до больницы она, наверное, почувствовала, что наступает конечная стадия родов. Прошел час с того момента, как она села в такси, но все равно это были необычайно быстрые роды для женщины, не имевшей раньше детей. Водитель заметил разницу в ее дыхании.
– Она задышала, как собака в сильную жару, док, – сказал он. – Она начала работать в ритме «паровоза».
В эти минуты таксист увидел просвет в нескончаемом потоке машин и устремился в него. Путь к больнице был теперь открыт. Она находилась всего в нескольких кварталах впереди.
– Я уже видел статую рядом с ней, – продолжал водитель.
Стремясь как можно быстрее избавиться от терпящей муки беременной женщины, он нажал на газ, и машина рванулась вперед, заскользив по покрывшему дорогу льду.
Я прибыл в больницу примерно в то же время, что и такси, только лишь потому, что недооценил всю сложность вождения в таких условиях. Я считал, что найду мисс Стенсфилд наверху, уже подготовленную к родам. Я поднимался по ступеням, когда неожиданно заметил пересечение двух огней, отразившихся на ледовой дорожке, которую еще не успели посыпать золой. Я повернулся вовремя, чтобы увидеть, как все произошло.
Машина «скорой помощи» выезжала с площадки перед корпусом неотложной терапии, в то время как такси с мисс Стенсфилд подъезжало к больнице. Такси ехало слишком быстро, чтобы успеть затормозить. Водитель запаниковал и резко нажал на тормоз, вместо того чтобы «подкачать» его. Такси закружилось и начало переворачиваться на бок. Зажженная мигалка «скорой» отбрасывала полосы кроваво-красного света, освещавшего место происшествия. В какой-то момент полоса света упала на лицо Сандры Стенсфилд. Это было лицо из моего сна – окровавленное, с широко раскрытыми глазами.
Я выкрикнул ее имя, сбежал две ступеньки вниз, поскользнулся и упал, растянувшись. Я почувствовал парализующую боль в локте, но все же сумел опереться о свой черный портфель. За всем остальным я наблюдал лежа, ощущая звон в ушах и острую боль в локте.
«Скорая» затормозила и также начала вращаться, ударившись задом об основание статуи. Двери распахнулись, и каталка, к счастью пустая, выскочила, словно язык, и помчалась вниз по улице на своих колесах. Молодая женщина на тротуаре закричала и попыталась убежать, когда две машины приблизились друг к другу. Сделав два больших шага, она поскользнулась и упала на живот. Сумочка вылетела у нее из рук и заскользила по ледяному тротуару, словно бита по дорожке кегельбана.
Такси продолжало вертеться и теперь двигалось назад. Я хорошо видел водителя. Он крутил руль как сумасшедший. «Скорая» отскочила от статуи и врезалась в бок такси. Машина закружилась с новой силой и со всего маху ударилась об основание постамента. Горевшая желтая табличка взорвалась, словно бомба. Левый бок такси смялся, как папиросная бумага. Через мгновение я увидел, что удар не полностью пришелся на левую сторону. Машина угодила в угол пьедестала с такой силой, что могла бы быть разрезана пополам.
Во все стороны брызнули стекла. А моя пациентка была выброшена через правую половину заднего стекла изуродованной машины, как тряпичная кукла.
Я снова был на ногах, не замечая этого. Я помчался вниз по обледенелым ступеням, снова поскользнулся, но устоял. Единственное, в чем я отдавал себе отчет, – это мисс Стенсфилд, лежащая в тени зловещей статуи, рядом с тем местом, где «скорая» нашла успокоение, перевернувшись на бок, а ее мигалка продолжала разрывать ночь красными вспышками. Было что-то до жути ненормальное в лежавшей фигуре, но, честно говоря, я не хотел верить, что знаю, в чем дело, пока моя нога не наткнулась на какой-то предмет. То, что я задел, заскользило прочь, как сумочка молодой женщины. Оно скорее скользило, чем катилось. И только колыхание волос, перепачканных в крови и усеянных осколками стекла, но узнаваемых по их золотистому оттенку, заставило меня понять, что это было. Во время аварии ей оторвало голову. Ее-то и задела моя нога.
Двигаясь, словно во сне, я подошел и перевернул тело. Думаю, что я пытался закричать, как только увидел это. Но не смог издать ни единого звука. Женщина еще дышала, вы представляете, джентльмены. Ее грудь поднималась и опускалась в ритме быстрого и легкого дыхания. Снег падал на распахнутое пальто и окровавленное платье. И я слышал какой-то высокий свистящий звук. Он походил на шум закипающей в чайнике воды. Это ветер входил и выходил через ее открытое горло – маленькие вскрики воздуха, проходящего через голосовые связки, у которых не осталось рта, чтобы обратить их в членораздельные звуки.
Я хотел убежать, но у меня не было сил. Я упал на колени рядом с телом, прикрывая рот рукой. Вдруг я заметил свежую кровь, проступающую через нижнюю часть одежды… и какое-то движение. И неожиданно поверил в то, что еще можно спасти ребенка.
Мне кажется, что, задрав ее одежду до груди, я засмеялся. Наверное, я обезумел. Ее тело было еще теплым. Я помню это. Помню, как оно колыхалось при дыхании. Один из фельдшеров «Скорой помощи» подошел ко мне, шатаясь, словно пьяный, и держась одной рукой за голову. Сквозь его пальцы сочилась кровь.
Я все еще смеялся. Мои руки убедились в том, что она полностью раскрыта.
Фельдшер смотрел на обезглавленное тело Сандры Стенсфилд широко раскрытыми глазами. Не знаю, сознавал ли он, что тело еще дышало. Возможно, он приписывал это нервной реакции, что-то вроде конечного рефлекса. Цыплята могут бегать некоторое время с отрезанной головой, а люди лишь дернутся раз-другой… да и только.
– Хватит глазеть на нее и найди мне простыню, – зашипел я на него.
Он поплелся куда-то, но не в направлении «скорой». Он просто удалился в ночь. Я не представляю, куда он делся. Я повернулся к мертвой женщине, хотя она была и не совсем мертва, помедлил немного и скинул пальто. Потом приподнял ее бедра, чтобы подложить его под тело. Я все еще слышал дыхание, производимое ее лишенным головы телом. Иногда я до сих пор слышу его, джентльмены. В моих снах.
Пожалуйста, поймите, что все произошло в считанные секунды. Мое восприятие было доведено до крайнего предела, и потому мне казалось, что прошло много времени. Из больницы только начали выбегать люди, чтобы выяснить, что случилось, и рядом со мной пронзительно закричала какая-то женщина, увидевшая отрезанную голову на мостовой.
Я раскрыл свой черный портфель, благодаря Бога, что не потерял его при падении, и достал короткий скальпель. Разрезав нижнее белье, я отложил его в сторону. Водитель «скорой» приблизился ко мне, но остановился как вкопанный, не дойдя несколько шагов. Я посмотрел на него в ожидании простыни, но понял, что ничего от него не добьюсь. Он уставился на дышавшее тело, и его глаза начали округляться и, казалось, вот-вот вылезут из орбит. Затем он грохнулся на колени и воздел руки к небу. Он собирался молиться, я почти уверен в этом. Фельдшер мог и не знать, что увиденное им невозможно, но этот парень знал наверняка. Через минуту он убрался восвояси, еле живой.
В тот день я взял с собой хирургические щипцы, даже не знаю почему. Я не пользовался ими более трех лет после того, как один врач, не буду называть его имени, пробил ими висок новорожденного, вытаскивая его из чрева матери. Ребенок мгновенно умер.
Но тем не менее мои щипцы были при мне в тот вечер.
Тело мисс Стенсфилд напряглось, а живот словно окаменел. Я увидел темя ребенка, окровавленное, в плевре, но пульсирующее. Пульсирующее. Значит, он был жив. Несомненно, жив.
Твердь снова размягчилась. Темя исчезло из вида. Чей-то голос позади меня спросил:
– Чем могу помочь, доктор?
Это была медсестра средних лет, тот тип женщины, который часто становится опорой в нашей профессии. Ее лицо было бледным как молоко, и хотя на нем застыло выражение суеверного ужаса при виде этого странно дышащего тела, я не заметил в ее глазах ни малейшего признака того опасного состояния шока, которое лишает людей способности действовать.
– Нужна простыня, – быстро сказал я. – Думаю, что у нас еще есть шанс.
Позади нее я разглядел около дюжины человек из больницы, столпившихся на ступенях и не желающих приблизиться. Много ли им было видно оттуда? У меня не было возможности узнать об этом наверняка. Могу лишь сказать, что в течение нескольких дней после этого случая многие в больнице избегали меня (некоторые и после), и никто, включая и эту медсестру, никогда не спрашивал меня о том, что произошло.
Она повернулась и направилась к больнице.
– Сестра! – позвал я. – У нас нет времени. Возьмите простыню в «скорой». Ребенок вот-вот появится.
Она пошла к машине, скользя по мокрому снегу туфлями на белых каблуках. Я повернулся к мисс Стенсфилд.
Вместо того чтобы замедлиться, дыхание стало более учащенным, и тело снова напряглось. Голова ребенка появилась опять, но на этот раз не исчезла. Он просто начал выбираться наружу. Щипцы не понадобились вовсе. Ребенок словно выплыл в мои руки. Я видел, как снег падал на его окровавленное тельце. Это был мальчик. Его маленькие кулачки зашевелились, и он издал тонкий жалобный крик.
– Сестра! – закричал я. – Шевели побыстрей своей задницей, сука!
Это прозвучало слишком грубо, но на мгновение я почувствовал, что снова оказался во Франции и снаряды опять будут свистеть над головой. Раздастся рокот пулеметов, и немцы возникнут из мрака, скользя, падая и умирая в грязи и копоти. Дешевое волшебство, подумал я, видя, как человеческие тела шатаются, поворачиваются и падают. Но ты права, Сандра, это все, что мы имеем. Я никогда еще не был настолько близок к тому, чтобы потерять рассудок, джентльмены.
– СЕСТРА, РАДИ ВСЕГО СВЯТОГО!
Ребенок заплакал опять – такой тонкий, потерянный звук! – и замолчал. Пар, поднимавшийся от его тела, стал намного реже.
Я поднес его лицо ко рту, ощущая запах крови и легкий аромат плаценты. Дунув ему в рот, я услышал слабый ответный выдох. Наконец подошла медсестра, и я протянул руку за простыней.
Она стояла в нерешительности, не отдавая мне простыню.
– Доктор, а что… что, если это монстр?
– Дайте мне простыню, – сказал я. – Дайте мне ее, пока не получили хорошего пинка.
– Хорошо, доктор, – ответила она очень спокойно (мы должны благословлять женщин, джентльмены, которые часто понимают нас только потому, что не пытаются понять). Я завернул ребенка и отдал его медсестре.
– Если вы уроните его, я заставлю вас съесть эту простыню.
– Да, доктор.
– Это дрянное дешевое волшебство, но это единственное, что нам дал Господь.
– Да, доктор.
Я наблюдал, как она возвращалась в больницу с ребенком и как толпа расступилась, пропуская ее. Затем я поднялся и попятился от тела. Это дыхание, как у ребенка – толчок, пауза… толчок… пауза.
Я опять начал пятиться, и моя нога на что-то наткнулась. Я обернулся. Это была ее голова. Подчинившись какому-то внутреннему приказу, я встал на колено и перевернул голову. Глаза были раскрыты – ее карие глаза, которые всегда были полны жизни и решимости. И они все еще были полны решимости. Джентльмены, она видела меня.
Ее зубы были плотно сжаты, а губы чуть приоткрыты. Я слышал, как воздух входил и выходил через эти зубы и губы в ритме «паровоза». Ее глаза двигались: они скосились чуть влево, словно чтобы лучше меня видеть. Ее губы раскрылись. Они выговорили четыре слова: Спасибо вам, доктор Маккэррон. И я услышал их, джентльмены. Но не из ее рта. Из голосовых связок, в двадцати футах от меня. Но поскольку ее язык, губы и зубы – то, что мы используем для артикуляции слов, находились здесь, слова были лишь набором звуков. Однако количество этих звуков соответствовало количеству гласных в фразе Спасибо вам, доктор Маккэррон.
– Поздравляю, мисс Стенсфилд, – сказал я. – У вас мальчик.
Ее губы пришли в движение, и позади меня раздался тонкий, едва различимый звук… аииии…
Решимость в ее глазах погасла. Казалось, что теперь они смотрят на что-то вне меня, может быть, на это черное, заснеженное небо. Потом они закрылись. Она задышала снова и остановилась. Все было кончено.
От тех событий, что произошли у меня на глазах и свидетелями которых стали служанка, водитель и, может быть, кто-то из собравшихся у входа в больницу людей, догадывающихся о случившемся, остались лишь следы ужасной катастрофы… и ребенок, конечно.
Я посмотрел на статую Гарриет Уайт. Она стояла невозмутимо, ее каменный взгляд был устремлен куда-то вдаль, поверх парка, как будто ничего достойного внимания и не произошло, и такая удивительная решимость ничего не значила в этом жестоком и бесчувственном мире. Или, что еще хуже, только она одна и имела какое-то значение, только в ней одной был какой-то смысл.
Помню, что стоял на коленях перед ее головой и рыдал. Я все еще рыдал, когда подошедшие врачи и две медсестры помогли мне встать и увели в больницу.
У Маккэррона погасла трубка.
Он зажег ее, а мы продолжали сидеть в абсолютной тишине. Снаружи яростно завывал ветер. Маккэррон посмотрел по сторонам, словно удивляясь, что мы еще оставались в комнате.
– Вот и все, – сказал он. – Конец истории! Чего вы еще ждете? Огненные колесницы? – фыркнул он, а потом задумался. – Я оплатил все расходы на ее похороны. У нее больше никого не было, знаете ли. – Он улыбнулся. – Да, моя медсестра, Элла Дэвидсон, настояла на том, чтобы внести двадцать пять долларов, что было для нее огромной суммой. Но когда Дэвидсон настаивает на чем-то… – Он пожал плечами и затем рассмеялся.
– Вы уверены, что это не было простым рефлексом? – услышал я собственный голос. – Вы действительно уверены…
– Абсолютно уверен, – невозмутимо сказал Маккэррон. – Завершение ее родов длилось не секунды, а минуты. И иногда я думаю, что она могла бы держаться и дольше, если бы было необходимо. Слава Богу, этого не понадобилось.
– А что с ребенком? – спросил Иохансен.
Маккэррон затянулся.
– Его усыновили, – сказал он. – И вы понимаете, что даже в те времена все документы об усыновлении держались в секрете.
– Понятно, но что с ребенком? – снова спросил Иохансен, и Маккэррон засмеялся с некоторым раздражением.
– Вы всегда идете до конца, не так ли? – спросил он Иохансена.
Иохансен покачал головой.
– Некоторые люди не могут иначе, на их беду. Ну и что с ребенком?
– Хорошо, раз вы настаиваете, вы, конечно, понимаете, что мне было интересно узнать о нем как можно больше. Я действительно следил за его судьбой и продолжаю это делать. Некий молодой человек и его жена, жившие в Мэне и не имевшие детей, усыновили ребенка и назвали его… ну, скажем, Джоном – хорошее имя, не правда ли.
Он затянулся, но его трубка снова погасла. Я чувствовал присутствие Стивенса у себя за спиной. Вскоре мы разойдемся и вернемся к нашим будням. А истории, как сказал Маккэррон, начнутся лишь в следующем году.
– Ребенок, который родился той ночью, возглавляет в настоящий момент английское отделение одного из самых престижных частных колледжей в стране, – сказал Маккэррон. – Ему еще нет и сорока пяти. Он слишком молод для такой должности. Но в один прекрасный день может стать президентом этого заведения. Я не сомневаюсь в этом. Он красив, умен и обаятелен.
Однажды, по какому-то случаю, я обедал с ним в клубе преподавателей колледжа. Нас было четверо. Я мало говорил и в основном наблюдал за ним. У него решимость его матери, джентльмены…
…и такие же карие глаза.
3. Клуб
Стивенс, как всегда, стоял наготове с нашими пальто, желая всем наисчастливейшего Рождества и выражая благодарность за проявленную щедрость. Я постарался оказаться последним, и Стивенс ничуть не удивился, когда я сказал:
– Я хотел бы задать один вопрос, если вы не возражаете.
Он улыбнулся.
– Конечно, нет, – ответил он.
– Рождество – подходящее время для вопросов.
Где-то внизу, слева от холла – там мне не доводилось бывать, – звонко тикали старинные часы. Я слышал запах старой кожи, пропитанного маслом дерева и чуть более слабый, почти неуловимый запах одеколона Стивенса.
– Но должен предупредить вас, – добавил Стивенс, – что лучше не задавать слишком много вопросов. Если вы решили продолжать приходить сюда.
– Кого-нибудь уже выгоняли за то, что они задавали много вопросов? – Выгоняли было не совсем то слово, которое я хотел произнести, но по смыслу оно подходило тому, что я имел в виду.
– Нет, – ответил Стивенс своим, как всегда низким и вежливым, голосом. – Просто они предпочли держаться подальше отсюда.
Я выдержал его взгляд, чувствуя, как мурашки пробежали по спине, словно невидимая холодная рука легла мне на позвоночник. Я вспомнил странный звук, который шел сверху, и еще раз попытался представить, сколько же комнат было там на самом деле.
– Если вы все еще хотите задать ваш вопрос, то я к вашим услугам. Вечер уже закончился и…
– И вам предстоит долгий путь поездом? – спросил я, но Стивенс лишь нетерпеливо посмотрел на меня.
– Хорошо, – решился я. – Здесь в библиотеке есть книги, которые я нигде больше не смог найти. Ни в Нью-Йоркской публичной библиотеке, ни в каталогах букинистов, ни в публикуемых справочниках. Бильярдный стол в Маленькой комнате имеет марку «Норд». Я никогда не слышал о такой и позвонил в Международную комиссию по торговым маркам. У них зарегистрировано два «Норда» – один производит лыжи, а другой изготовляет кухонные принадлежности. В длинной комнате находится музыкальный автомат «Seafront». Но в списках комиссии имеется лишь «Seeburg», а не «Seafront».
– В чем суть вашего вопроса, мистер Эдли?
Его голос был мягок, как обычно, но что-то жуткое появилось неожиданно в его глазах… нет, честно говоря, даже не в глазах. Ужас, который я почувствовал, пронизывал всю атмосферу вокруг. Размеренный ход часов перестал быть звуком, задаваемым маятником, – это был топот ног палача. Запахи масла и кожи стали резче и несли в себе какую-то угрозу. И когда снаружи вновь послышался резкий порыв ветра, я был уверен, что распахнувшаяся дверь представит моему взору не Тридцать пятую улицу, а безумный пейзаж в стиле Кларка Эштона Смита, где острые силуэты деревьев вычерчены на стерильном горизонте, над которым сияют два красных солнца.
Он прекрасно знал, что я собираюсь спросить. Я понял это по его серым глазам.
Откуда взялись здесь эти вещи? Я хотел спросить именно это. О, я прекрасно знаю, откуда вы родом, Стивенс; этот акцент не из измерения икс, а из Бруклина. Но куда вы идете? Откуда у вас эта печать безвременья во взгляде и на лице? И, Стивенс…
…где мы находимся сейчас, В ЭТУ СЕКУНДУ?
Но он ждал моего вопроса.
Я открыл рот, и вопрос, вышедший из моих уст, был таков:
– Много ли комнат наверху?
– О да, сэр, – сказал он, не упуская моего взгляда. – Очень много. Человек даже может потеряться. На самом деле люди теряются. Иногда мне кажется, что они уходят далеко. Двери и коридоры.
– И входы и выходы?
Его брови слегка поднялись.
– Да. Входы и выходы.
Он продолжал ждать, но я уже спросил достаточно – я подошел к краю чего-то, что, возможно, сведет меня с ума.
– Спасибо, Стивенс.
– Не за что, сэр. – Он подал мне пальто.
– Еще будут истории?
– Здесь, сэр, всегда много историй.
Этот вечер произошел много лет назад, а за эти годы моя память явно не улучшилась. Но я прекрасно помню ощущение страха, охватившее меня, когда Стивенс широко раскрыл дубовую дверь, – страха, что я увижу тот чуждый ландшафт в кровавом свете двух солнц, которые могут зайти и принести тьму на много часов или на века. Не могу объяснить это, но, уверяю вас, тот мир существует. Я убежден в этом так же, как Маккэррон был убежден, что оторванная голова Сандры Стенсфилд продолжала дышать. Я подумал в те нескончаемые секунды, что дверь откроется и Стивенс вышвырнет меня в этот мир и я услышу, как дверь навсегда захлопнется за мной.
Но вместо всего этого я увидел Тридцать пятую улицу и такси, ожидающее перед домом. Я почувствовал страшное облегчение.
– Да, всегда много историй, – повторил Стивенс. – Спокойной ночи, сэр.
Всегда много историй.
Действительно, их было много. И когда-нибудь, может быть, я расскажу вам еще одну.
Сноски
1
Рита Хейуорт (Хейворт) (1918–1987) – настоящее имя Маргарита Кансино, актриса, звезда Голливуда 1940-х годов. – Примеч. ред.
(обратно)2
IRS (Internal Revenue Service) – Налоговое управление США. – Примеч. ред.
(обратно)3
Роберт Фрост (1874–1963) – патриарх американской поэзии, «певец Новой Англии», умевший увидеть необычное и значительное в обыденном. – Примеч. ред.
(обратно)4
© Перевод с английского. В.В. Антонов, 2012.
(обратно)5
Заместитель коменданта (нем.).
(обратно)6
Нет (нем.).
(обратно)7
Преступление по страсти (фр.).
(обратно)8
Здесь: к тому же (нем.).
(обратно)9
Внимание! (нем.)
(обратно)10
Стой! (нем.)
(обратно)11
Здесь: О небо! Господи Боже! (нем.)
(обратно)12
Здесь: Болван, олух (нем.).
(обратно)13
Я не понимаю, милая (фр.).
(обратно)14
Отрицательное подкрепление – психологический термин, неприятное воздействие, которым сопровождают нежелательное действие с целью его изменения. – Примеч. пер.
(обратно)15
Большое спасибо (нем.).
(обратно)16
Черные (нем.).
(обратно)17
Тейлбек – в американском футболе игрок, замыкающий линию нападения; занимает позицию для атаки позади линии схватки. – Примеч. пер.
(обратно)18
Один… Два. Три. Четыре (нем.).
(обратно)19
Имеется в виду Уильям Хауард Тафт – 27-й президент США. Годы правления: 1909–1913.
(обратно)20
Книга Иова 38:4.
(обратно)21
Цитата из «Обращения к Господу в час нужды и бедствий» английского поэта и проповедника Джона Донна (1572–1631). – Примеч. пер.
(обратно)22
Имеется в виду 1984 год, по названию самого известного романа Джорджа Оруэлла (1903–1950). – Примеч. пер.
(обратно)23
Такова жизнь (фр.).
(обратно)24
Криббидж – карточная игра, популярная в Англии и США. Играют вдвоем, используется полная колода в 52 листа без джокера. – Примеч. пер.
(обратно)25
Домохозяйка (нем.).
(обратно)26
Имеется в виду телепередача, выходившая в эфир в 1979–1984 гг.
(обратно)27
День труда – общенациональный праздник в США, отмечаемый в первый понедельник сентября начиная с 1882 г. – Примеч. ред.
(обратно)28
По Фаренгейту. Примерно 32,2°C. – Примеч. пер.
(обратно)29
Кварта – мера жидкости, равная 0,8 л – Примеч. ред.
(обратно)30
Игра слов: stud (англ.) на жаргоне конезаводчиков означает «случка», на сленге – «наркотики».
(обратно)31
Касл-Рок (Castle Rock) в переводе означает «Замок на скале».
(обратно)32
Имеется в виду генерал Дуайт Эйзенхауэр, президент США в 1953–1961 гг. Никсон в его администрации был вице-президентом.
(обратно)33
Кампус – студенческий городок, объединяющий учебные корпуса, лаборатории, библиотеку, общежития, студенческий клуб, поликлинику, административные здания и т. д. – Примеч. ред.
(обратно)34
Перл Бак (1892–1973) – американская писательница, лауреат Пулитцеровской (1931) и Нобелевской (1938) литературных премий. Автор многочисленных статей, романов и автобиографической прозы. – Примеч. ред.
(обратно)
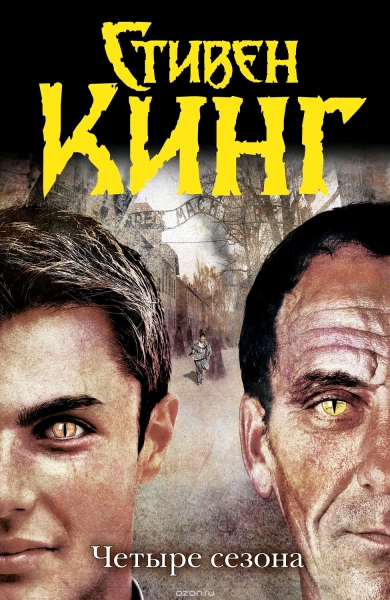

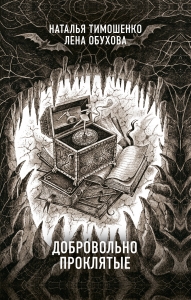
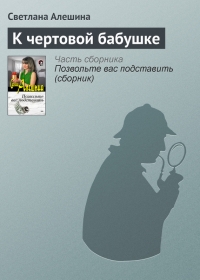
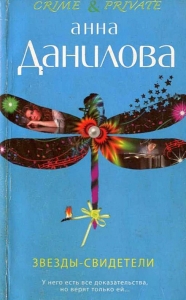






Комментарии к книге «Четыре сезона», Стивен Кинг
Всего 0 комментариев