Артур Конан Дойл, Гилберт Кийт Честертон, Эдгар Аллан По, Эдгар Уоллес, Морис Леблан, Нат Пинкертон, Ник Картер, Эмиль Габорио Золотая коллекция классического детектива (сборник)
© DepositPhotos.com / Valery Sibrikov, kvkirillov, Nutta pong Maksonsong, pejo, Dragan Nikolic, обложка, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», издание на русском языке, 2013
© Книжный Клуб «Клуб Семейного Досуга», перевод и художественное оформление, 2013
Артур Конан Дойл
Сэр Артур Игнатиус Конан Дойл – шотландский и английский врач и писатель. Артур Конан Дойл родился в Эдинбурге 22 мая 1859 года в семье художника. В 1881 году он окончил медицинский факультет Эдинбургского университета и как корабельный врач совершил путешествие в Африку.
Вернувшись на родину, он занялся медицинской практикой в одном из районов Лондона. Защитил диссертацию, стал доктором медицины. Постепенно начал писать рассказы и очерки в местные журналы.
Героем его рассказов под именем сыщика-любителя Шерлока Холмса стал преподаватель Эдинбургского университета Джозеф Белл, который любил поразить воображение студентов своей чрезмерной наблюдательностью и умением с помощью «дедуктивного метода» разобраться в самых сложных и запутанных проблемах. Правда, первая повесть осталась незамеченной, зато следующая – «Знак четырех» (1890) – принесла автору популярность. В начале 90-х годов XIX века один за другим выходят сборники рассказов «Приключения Шерлока Холмса», «Воспоминания о Шерлоке Холмсе», «Возвращение Шерлока Холмса».
Читатели требовали от автора все новых и новых произведений о любимом герое, но Конан Дойл понимал, что фантазия его постепенно угасает, и написал несколько произведений с другими главными героями – бригадиром Жераром и профессором Челенджером.
Дойл много путешествовал, плавал судовым врачом в Арктику на китобойном судне, в Южную и Западную Африку, служил полевым хирургом во время англо-бурской войны.
В последние годы жизни Конан Дойл увлекся спиритизмом и даже издал двухтомный труд «История спиритизма» (1926).
Умер Конан Дойл в 1930 году в возрасте 71 года. Он сам написал свою эпитафию:
Я выполнил свою простую задачу,
Если дал хотя бы час радости
Мальчику, который уже наполовину мужчина,
Или мужчине – еще наполовину мальчику.
Мой друг, убийца
– Доктор, четыреста восемьдесят первому номеру лучше не становится, – укоризненно произнес старший надзиратель, заглянув в приоткрытую дверь моего кабинета.
– Ну и черт с ним, – ответил я, не отрывая глаз от газеты.
– А шестьдесят первый жалуется, что у него болит горло. Может, поможете?
– В этом шестьдесят первом уже столько лекарств, что по нему фармакопею изучать можно, – сказал я. – Он сам как ходячая аптека. А горло у него здоровее вашего.
– Так, а седьмой и сто восьмой? Это хроники, – продолжил надзиратель, бросив взгляд на синий листок бумаги. – И двадцать восьмой вчера на работу не вышел, сказал, что, когда поднимает тяжести, у него в боку колет. Я бы хотел, чтобы вы его осмотрели, доктор, если можно. А у восемьдесят первого – это тот, который Джона Адамсона на бриге «Коринфянин» убил, – ночью какой-то приступ был. Он до утра орал как сумасшедший.
– Ну хорошо, хорошо, осмотрю его попозже. – Небрежно отбросив газету, я потянулся за кофейником. – Надеюсь, это все?
Надзиратель просунул голову чуть дальше в комнату.
– Прошу прощения, доктор, – перешел на доверительный тон офицер, – но мне показалось, что у восемьдесят второго что-то вроде простуды намечается, так что у вас есть хороший повод заглянуть к нему и переброситься парой словечек.
Моя рука с чашкой кофе замерла в воздухе на полдороге ко рту. Я изумленно воззрился на серьезное лицо надзирателя.
– Повод? – произнес я. – У меня есть хороший повод? Что вы несете, Мак-Ферсон? Я, когда не смотрю за заключенными, весь день, как проклятый, бегаю по больным, вечером возвращаюсь уставший как собака, а вы подыскиваете мне лишний повод работать еще больше?
– Вам это понравится, доктор, – уже показалось из-за стены плечо надзирателя Мак-Ферсона. – Этого человека стоит послушать, если, конечно, вам удастся его разговорить. Вообще-то он парень не болтливый. Или вы не знаете, кто такой восемьдесят второй?
– Нет, не знаю. И знать не хочу! – отрезал я, полагая, что мне в качестве знаменитости подсовывают какого-нибудь местного бандита.
– Это Мэлони, – многозначительно произнес надсмотрщик. – Тот самый, который сдал своих сообщников после убийств в Блюменсдайке.
– Не может быть! – воскликнул я, в изумлении опуская чашку. Я слышал об этой серии ужасных убийств и читал о них в одном из лондонских журналов задолго до того, как попал в Австралию. Мне тут же вспомнилось, что эти зверские преступления своей жестокостью затмили даже злодеяния Берка и Хейя[1] и что самый безжалостный член банды спасся от виселицы только тем, что согласился свидетельствовать против своих сообщников на суде. – Вы уверены, что это он? – спросил я.
– О, можете не сомневаться. Просто раскачайте его немного, и он уж вас удивит, будьте уверены. С таким человеком, как этот Мэлони, стоит познакомиться поближе. До определенной степени, конечно, – лицо надсмотрщика расплылось в довольной улыбке, он коротко кивнул и скрылся за дверью, оставив меня заканчивать завтрак и размышлять над услышанным.
Должность медика при австралийской тюрьме завидной не назовешь. Возможно, где-нибудь в Мельбурне или Сиднее такая работа еще может показаться сносной, но такому небольшому городу, как Перт, завлечь почти нечем, да и немногие его прелести уже давно исчерпались и обрыдли. Климат здесь был отвратительный, общество – и того хуже. Жизнь местных обитателей была неразрывно связана с животноводством; так что все разговоры здесь сводились к обсуждению цен, болезней и вопросов разведения овец и коров. Я, как человек пришлый, ни тех, ни других не держал, и новые средства избавления от паразитов, лечение парши и другие подобные темы меня совершенно не интересовали, поэтому я оказался в некоторой интеллектуальной изоляции и был страшно рад чему угодно, что могло хоть как-то развеять однообразие моего существования. Убийца Мэлони по крайней мере был личностью неординарной, выделялся на общем фоне и мог стать для меня глотком свежего воздуха в рутине повседневности. Я решил, что воспользуюсь советом надсмотрщика и познакомлюсь с ним. Итак, во время обычного утреннего обхода я остановился у двери с соответствующим номером, повернул в замке ключ и вошел в камеру.
Заключенный лежал на нарах в расслабленной позе, но при моем появлении тут же поднялся, спустил на пол длинные ноги и устремил на меня дерзкий, но настороженный взгляд, не предвещавший легкой беседы. С бледным скуластым лицом, рыжеватыми волосами и серо-голубыми кошачьими глазами, мускулистый и высокий, он тем не менее производил впечатление человека, обладающего каким-то физическим недостатком из-за слишком низко опущенных плеч. Какой-нибудь прохожий, встретив Мэлони на улице, принял бы его за обычного респектабельного мужчину довольно привлекательной наружности. Даже в уродливой арестантской робе этой гнилой тюрьмы он держался с определенным достоинством, что отличало его от остального сброда соседних камер.
– На здоровье я не жаловался, – вместо приветствия грубо произнес он. Этот хрипловатый резкий голос живо напомнил мне, что передо мной сидит гроза Лена-вэлли и Блюменсдайка, самый безжалостный головорез из тех, которые когда-либо грабили фермы или перерезали глотки их обитателям.
– Я знаю, – ответил я. – Но надзиратель Мак-Ферсон сказал, что у вас простуда, вот я и решил к вам зайти.
– А не пошли бы вы к черту вместе со своим Мак-Ферсоном! – закричал вдруг заключенный в неожиданном приступе ярости. – Ах да, – добавил он уже чуть спокойнее, – теперь давайте, бегите строчить доклад коменданту. Ну? Добавьте мне еще полгода или сколько там полагается… Вперед!
– Я не собираюсь писать на вас доклад, – миролюбиво возразил я.
– Восемь квадратных футов, – он, похоже, пропустил мимо ушей мои слова и снова начал впадать в ярость: – Восемь квадратных футов, и даже тут я не могу жить спокойно! Обязательно найдется какая-нибудь гнида, которой, видишь ли, хочется поговорить, поглазеть… Да чтоб вас всех разорвало! – Он поднял над головой руки и затряс сжатыми кулаками, сопровождая свой жест потоком отборных ругательств.
– Странное у вас представление о гостеприимстве, – изо всех сил стараясь оставаться спокойным, произнес я первое, что мне пришло в голову.
К моему удивлению, он тут же замолчал и уставился на меня широко раскрытыми глазами. В том, что он так яростно отстаивал, а именно в его праве относиться к этой камере как к собственному жилью, я вроде бы не усомнился, и это, похоже, стало для него совершенной неожиданностью.
– Прошу меня извинить, – смущенно произнес он. – Я немного погорячился. Присаживайтесь, – указал он на грубую скамью, которая служила ему продолжением ложа.
В сильном недоумении от столь внезапной перемены я сел. Не уверен, что Мэлони в подобном спокойном состоянии располагал к себе больше. Кровожадный убийца на какое-то время исчез, но теперь неожиданно мягкий голос и подобострастная манера указывали на доносчика, который ради того, чтобы спасти свою шкуру, с легким сердцем отправил на виселицу тех, с кем совершал свои страшные преступления.
– В груди боли есть? – спросил я, напуская на себя деловой вид.
– Да бросьте вы, доктор… Бросьте! – улыбнулся он, обнажая два ряда белых зубов, и уселся на край лежака. – Вас же сюда привела вовсе не забота о моем драгоценном здоровье. Можете не прикидываться. Вы пришли посмотреть на Вулфа Тона Мэлони, фальшивомонетчика, убийцу, грабителя и стукача. Вы ведь так меня себе представляете, да? Ну вот он я, во всей красе. Как видите, не такой уж и страшный.
Он помолчал, как будто ожидая от меня какого-то ответа, но, поскольку я молчал, повторил еще пару раз:
– Не такой уж я страшный… А что мне оставалось делать? – вдруг возмутился он, его сатанинское нутро снова дало о себе знать. – Все равно нас всех должны были вздернуть. Всех до одного. От того, что я их сдал и этим спас себя, они лучше не стали. В этом мире каждый сам за себя, а уж дьявол выберет, кому повезет больше. У вас табаку жевательного не найдется, доктор?
Он набросился на кусок «барретта», который я ему протянул, как голодный дикий зверь. Табак, похоже, несколько успокоил его нервы, поскольку он уселся поудобнее и снова заговорил извиняющимся голосом.
– Представьте себя на моем месте, доктор, – сказал он. – Любой бы тут немного тронулся. Меня на этот раз на шесть месяцев упекли за драку, и знаете что? Когда этот срок выйдет, я буду очень жалеть. Здесь мне спокойно, живу себе тихо-мирно, но как представлю, что меня ждет на воле… С одной стороны власти, с другой – Расписной Том из Хоуксбери. Какое там спокойствие!
– А кто это? – поинтересовался я.
– Брат Джона Гримторпа, одного из тех, кого после моих показаний приговорили. О, это был отъявленный мерзавец, дьявольское отродье, и братец его не лучше! Этот, с татуировками, – бандюга, каких поискать. Он после суда поклялся мне отомстить. Прошло уже семь лет, а он все еще преследует меня. Я это точно знаю, хоть сейчас его не видно и не слышно. В семьдесят пятом он меня выследил в Балларате, вот, видите, у меня на тыльной стороне ладони шрам – это от его пули. В семьдесят шестом в Порт-Филлипе[2] мы с ним снова встретились, но мне тогда повезло больше, я его подстрелил, правда, он выжил. В семьдесят девятом он порезал меня в баре в Аделаиде, так что после этого мы были, можно сказать, квиты. Но сейчас он опять где-то здесь ошивается, выискивает способ отправить меня на тот свет. И он это сделает, если только… Если только не случится чудо и кто-нибудь не сделает этого с ним самим раньше, – и Мэлони криво улыбнулся.
– Но, если честно, я на него не в обиде, – продолжил он. – Для него-то ведь это дело кровное, просто так его не бросишь. Власти наши – вот что выводит меня из себя. Когда я думаю о том, что я сделал для этой страны и что получил взамен, у меня все внутренности начинают переворачиваться… Я просто сатанею. У нас уже никто не помнит, что такое благодарность или обычные правила приличия, доктор!
На несколько минут он призадумался, должно быть, над жизненными тяготами, которые выпали на его долю, после чего приступил к их подробному изложению.
– Представьте. Девять отъявленных мерзавцев, – сказал он. – Три года они промышляют убийствами и грабежом. Не проходит и недели, чтобы они не отняли чью-то жизнь. И вот их ловят, полиция пытается доказать их вину, но ничего не получается. Почему? Да потому, что эти девятеро знали свое дело и всем свидетелям, кто хоть что-то мог рассказать, перерезали горло. Что же происходит потом? Возникает некий гражданин по имени Вулф Тон Мэлони и говорит: «Я нужен стране, и я готов послужить ей». После чего дает показания против остальных. Судьям этого вполне достаточно, чтобы отправить негодяев на виселицу. И что же тут плохого, спрошу я вас. Разве я сделал что-то предосудительное? И что же я получаю в благодарность от этой страны: меня преследуют, сэр, за мной шпионят, не сводят с меня глаз ни днем, ни ночью. Человек, который столько трудился для ее блага, подвергается самому настоящему гонению. Кто может такое вынести? Конечно, я не жду, что мне дадут орден или сделают министром колоний, но я-то, черт побери, рассчитывал, что меня после суда оставят в покое!
– Но вы же не думаете, – возразил я, – что помощь, которую вы оказали, даст вам пожизненную амнистию.
– Я говорю не о нынешнем заключении, сэр. – Голос Мэлони преисполнился достоинства. – То, во что превратилась моя жизнь после того проклятого суда, вот что выматывает мне душу. Я вам сейчас все расскажу. Выслушайте меня до конца и скажите, справедливо со мной обошлись власти или нет.
Далее я изложу рассказ заключенного его собственными словами настолько точно, насколько я их запомнил, сохранив его довольно извращенное понимание добра и зла. Я могу поручиться за точность изложенных им фактов, но сделанные на их основании выводы пусть останутся на его совести. Через несколько месяцев после нашего разговора я встретился с инспектором Г. У. Хэнном, бывшим комендантом данидинской[3] тюрьмы, и он показал мне свой журнал, записи в котором полностью подтверждают каждый факт из рассказа Мэлони, который поведал он мне в то утро глухим невыразительным голосом, с низко склоненной головой и зажатыми между коленями руками. Лишь блеск кошачьих глаз указывал на волнение, охватившее его при воспоминании о тех событиях.
* * *
Вы наверняка читали о Блюменсдайке (не без гордости начал он). О, это название было у всех на устах, когда мы там хозяйничали. Потом-то нашлась одна умная ищейка по фамилии Бракстон, который со своим напарником, проклятым янки, выследил нас и сцапал всю нашу честнýю компанию. Ну, вы, разумеется, знаете, что это было в Новой Зеландии, так вот, нас отправили в Данидин, там же вынесли приговор, и всех моих дружков повесили. Когда мы сидели на скамье подсудимых, они все как один подняли руки и наградили меня такими проклятиями, что, если бы вы их услышали, кровь бы застыла у вас в жилах… Довольно подло с их стороны, потому что мы ведь как-никак были друзьями. Но ладно уж, все равно они были отъявленными мерзавцами, и каждый думал только о себе. Хорошо, что их всех повесили.
После этого меня отправили обратно в данидинскую тюрьму и посадили в нашу старую камеру. Вся разница заключалась в том, что теперь мне не нужно было работать и кормить меня стали получше. Я это терпел недели две, пока однажды с обходом к нам не пожаловал комендант. Ну, я, само собой, и выложил ему свои претензии.
– Что происходит? – спросил его я. – Мне обещали, что меня отпустят, а вы держите меня здесь. Вы же нарушаете закон.
Он как-то непонятно улыбнулся.
– Тебе так хочется отсюда выйти?
– Да! Причем так сильно, что, если сейчас же вы не откроете дверь, я вас сам засужу за незаконное лишение свободы.
Моя решительность его, похоже, немного удивила.
– Что-то тебе уж сильно не терпится попасть на тот свет, – сказал он.
– Что это вы имеете в виду? – удивился я.
– Пойдем со мной, сейчас ты увидишь, что я имею в виду, – сказал он и повел меня в дальний конец коридора, к окну, из которого были видны ворота тюрьмы. – Смотри! – произнес он.
Я выглянул. На улице перед воротами стояло с десяток сурового вида парней. Одни курили, другие играли в карты прямо на тротуаре. Увидев меня, они словно с цепи сорвались и с дикими криками, размахивая кулаками, ринулись к воротам.
– Они ждут тебя. Наблюдают за всеми выходами из тюрьмы, – сказал комендант. – Все они – представители «комитета бдительности»[4]. Впрочем, если ты так решительно намерен уйти, задерживать тебя я, конечно же, не имею права.
– И вы называете эту страну цивилизованной? – закричал тогда я. – Вы что, допустите, чтобы человека убили посреди бела дня прямо на улице?
После этих слов и комендант, и надзиратели, и вообще все, кто меня слышал, заулыбались, словно я сказал что-то чрезвычайно остроумное.
– Закон на твоей стороне, – говорит комендант, – так что мы более тебя не задерживаем. Надзиратель, выведите его за ворота.
И этот паршивый ублюдок таки вывел бы меня, если бы я не начал упираться и умолять его. Я даже пообещал заплатить за питание и проживание в их поганой тюрьме, чего раньше, я уверен, не делал ни один заключенный. На этих условиях мне разрешили остаться, и я проторчал там три месяца, пока вся городская шваль дежурила у ворот. Хорошенькое обращение с человеком, который всего-то исполнил свой гражданский долг!
Наконец, в один прекрасный день ко мне снова заглянул комендант.
– Ну что, Мэлони, – сказал он, – долго еще мы будем иметь удовольствие принимать тебя здесь?
Мне тогда захотелось засадить этому гаду перо под ребро, и я бы это обязательно сделал, если бы мы были с ним одни где-нибудь в буше[5], но мне приходилось улыбаться, умасливать его, лишь бы он не выдворил меня за ворота.
– Ты, конечно, шаромыжник тот еще, – представляете, он так и сказал! Мне, человеку, которому он был стольким обязан! – Но я не хочу, чтобы кто-нибудь у меня тут самосуд учинил. Поэтому я нашел способ спровадить тебя из Данидина.
– Вовек вас не забуду, комендант, – сказал на это я. – Честное слово, вовек!
– Не нужны мне твои благодарности или признательность, – ответил он. – Я это сделаю не ради тебя. Просто хочу сохранить спокойствие в городе. Завтра утром с западного причала отходит пароход в Мельбурн, посадим тебя на него. Будь готов к пяти утра.
Собрал я свои вещи, которых у меня было не так уж много, и на самом рассвете меня потихоньку вытолкали через заднюю дверь. Ну, я помчался к пристани, купил билет на имя Айзека Смита и благополучно поднялся на борт мельбурнского парохода. Помню, когда отдали швартовы, я стоял на палубе и услышал, как гребной винт стал опускаться в воду. Я повернулся, облокотился о борт, окинул последним взглядом огни Данидина и подумал: какое счастье, что я никогда больше их не увижу! Мне казалось, что весь мир теперь открыт передо мной и что все мои невзгоды наконец-то остались позади. Потом я спустился вниз, выпил кофе и опять поднялся на палубу. С того самого дня, когда я проснулся и увидел над собой этого проклятого ирландца с шестизарядной пушкой в руке, у меня еще не было такого прекрасного настроения.
К тому времени уже совсем рассвело, мы плыли на всех парах вдоль берега, Данидина уж давно видно не было. Пару часов я прогуливался по палубе, а когда солнце уже высоко поднялось, стали выползать и остальные пассажиры. Один, такой невысокий, нагловатый тип, долго смотрел на меня, потом подошел и говорит:
– Что, небось старатель?
– Да, – отвечаю.
– Ну и как, заработал чего-нибудь? – спрашивает.
– Да так, – говорю. – Есть немного.
– Я и сам старателем был, – не отставал он. – Три месяца корячился на полях у Нельсона[6]. Все, что заработал, пустил на покупку участка, но он оказался «засоленным», так что золотишко там иссякло на следующий день. Но я не стал сидеть сложа руки, опять пошел работать, разбогател. Правда, когда обоз с золотом шел в город, на него напали грабители, чтоб им пропасть! Ты представляешь, цента медного не оставили, забрали все!
– Да, не повезло, – говорю я.
– Я остался ни с чем! Я разорен, и как теперь жить, не знаю. Но ничего, меня утешает то, что я своими глазами видел, как этих бандюг вздернули на виселице за их «подвиги». Один только остался… Тот, который всех своих дружков и заложил. Эх, как бы мне хотелось с ним встретиться! Уж я бы тогда…
– Что? – спокойно так интересуюсь я.
– Сначала узнал бы, где деньги… Спустить-то их они не могли, просто не успели бы, так что наверняка они спрятаны где-то в горах. А потом… свернул бы шею этому подонку, чтобы он в аду повстречался с теми, кого предал.
Я тогда подумал: а ведь мне кое-что известно об этих денежках, и рассмеялся, но этот тип все смотрел на меня, и взгляд у него был каким-то уж слишком жестким, мстительным. В общем, заводить с ним дружбу мне не хотелось, поэтому я сказал:
– Ну ладно. Пойду-ка я на мостик.
Но он вцепился в меня, как клещ.
– Ты что, – говорит, – мы же оба старатели! Будем вместе держаться до конца поездки. Пошли в буфет. На пару стаканов денег у меня еще хватит.
Как от него отделаться, я не придумал, поэтому пришлось идти с ним. С этого и начались мои неприятности. Разве я сделал что-то плохое кому-нибудь на том корабле? Все, что мне было нужно, – доплыть себе спокойно куда мне надо, никого не трогая, и чтобы меня никто не трогал. Неужели я не имею на это права? Но теперь послушайте, чем все закончилось.
По пути в бар мы проходили мимо дамской комнаты, когда оттуда появилась служанка… дьяволица конопатая… с ребеночком на руках. Идем мы мимо нее, и тут она как завизжит, ну прямо как паровозный свисток, чуть ребенка не выронила. Когда я этот крик услышал, у меня самого чуть сердце не остановилось. Ну, я подумал, что, наверное, на ногу ей наступил, повернулся к ней и начал извиняться, но когда увидел, как она побледнела, прижалась к двери и стала тыкать в меня пальцем, понял, в чем дело.
– Это он! Он! Я его на суде видела, – заголосила она, а потом мне кричит: – Не приближайся к ребенку!
– Кто, кто это? – сразу стали спрашивать стюард и еще с полдюжины тех, кто был рядом.
– Он это… Мэлони! Убийца Мэлони! Заберите его! Заберите!
Что потом происходило, я точно не помню. Вдруг я увидел прямо перед собой пол и чьи-то ноги, услышал крики, ругань, меня начали колотить, осыпать проклятиями, кто-то закричал про свое золото. В общем, началась свалка. Когда я чуть очнулся, у меня во рту была чья-то рука. Потом-то я понял, что, наверное, это была рука моего нового знакомого, того самого, со злобным взглядом. Он-то руку все-таки смог выдернуть, но только потому, что остальные меня душили. Конечно, легко им было всей гурьбой на одного лежачего… Но я думаю, этот гад будет меня помнить до самой смерти, а то и дольше.
Вытащили они меня на корму и устроили самый настоящий суд. Представляете? Надо мной! Мной! Человеком, который для их же блага корешей своих продал! Ну, стали они решать, что со мной делать. Кто-то говорил одно, кто-то другое, в конце концов капитан решил высадить меня на берег. Пароход остановили, спустили шлюпку, меня швырнули в нее, а вся эта банда стояла у борта и улюлюкала мне вслед. Там был и тот парень, с которым я разговаривал, он перевязывал себе руку, и я тогда почувствовал, что еще легко отделался, все могло закончиться для меня намного хуже.
Но еще до того, как мы доплыли до берега, я изменил свое мнение. Я ведь надеялся, что меня высадят и дальше я смогу пойти, куда мне нужно, но корабль-то от города еще не успел далеко отплыть. На берегу стали собираться люди, из тех, которые без дела болтаются по пляжам, и им подобные. Очень уж им любопытно было узнать, почему это с парохода к берегу лодку направили. Когда мы подплыли к берегу, рулевой поприветствовал их, потом доложил, кто я такой, и меня швырнули в воду. А там до дна футов десять, да и не ожидал я такого… К тому же там акул здоровенных что попугаев в кустах, поэтому я изо всех сил стал грести к берегу, а эти сволочи еще начали смеяться.
Скоро я понял, что дела мои совсем плохи. Когда я кое-как весь в водорослях вылез на берег, меня схватил здоровый как бык парень в вельветовой куртке, а еще несколько человек нас окружили. С виду это были обычные людишки, так что я их не особенно испугался, но там был один в шляпе из листьев капустного дерева, рожа которого мне очень не понравилась. К тому же этот здоровяк, похоже, был его дружком.
Меня вытащили на середину пляжа, бросили на песок и обступили со всех сторон.
– Привет, приятель, – говорит этот в шляпе. – Мы давно хотели с тобой встретиться.
– Я очень рад, – отвечаю.
– Заткни пасть, – это он мне. – Ну что, ребята, давайте решать, что делать… Повесим или утопим? А может, просто пристрелить его? Что скажете?
Причем говорил он спокойно так, деловито.
– Ничего вы со мной не сделаете! – сказал я. – Я нахожусь под защитой государства. Так что отвечать будете как за убийство.
– Вот именно, убийство, – радостно кивнул тот, в вельветовой куртке, и аж расплылся от удовольствия.
– Вы собираетесь казнить меня за мои прошлые преступления?
– Преступления, преступления, – пробубнил этот громила. – Мы тебя повесим за то, что ты донес на своих товарищей, и хватит нам зубы заговаривать!
Накинули они мне на шею веревку и потащили к бушу. Там росло несколько больших казуарин[7] и эвкалиптов. Выбрали они дерево для своего поганого дела, перекинули веревку через ветку, связали мне руки и велели молиться. Я уж думал, песенка моя спета, но провидению было угодно меня спасти. Сейчас-то мне об этом легко говорить, сэр, но представьте, что я чувствовал тогда, когда передо мной был только длинный берег с белой полосой прибоя, пароход вдали и толпа жаждущих крови негодяев.
Никогда не думал я, что чем-то буду обязан полиции, но в тот раз она спасла мне жизнь. Оказывается, как раз в ту минуту мимо скакал их отряд из Хоукс-поинт-стейшн в Данидин. Услышав шум, они направились к сборищу. Я пару раз в жизни слышал, как играет оркестр, доктор, но музыки более сладостной, чем бряцание их шпор и сбруи, когда они выскочили из буша, мне слышать не приходилось. Те гады, правда, все равно хотели довести свое дело до конца, но полицейские оказались быстрее. Тот, что в шляпе, даже получил по голове плоской стороной сабли. Меня закинули на спину лошади, и уже до вечера я снова оказался в своей старой камере в городской тюрьме.
Не скажу, что комендант был рад моему возвращению. Он все равно жаждал отделаться от меня, да и мне не хотелось лишний раз любоваться на него, поэтому подождал он недельку, пока шум уляжется, и тайком переправил меня на трехмачтовую шхуну, которая должна была доставить в Сидней партию жира и кож.
Когда мы отплыли далеко в море, я уж начал подумывать, что на этот раз все будет хорошо. По крайней мере, я был уверен, что в тюрьму больше не вернусь. Правда, экипаж шхуны примерно представлял, кто я такой, поэтому, случись какая непогода, меня бы мигом швырнули за борт, потому что матросы там были людьми грубыми и необразованными и им казалось, что я принесу неудачу их судну. Но, к счастью, погода стояла хорошая, и меня в целости и сохранности высадили в Сиднее.
Но вы только послушайте, что произошло потом. Я, честно говоря, решил, что всем уже надоело за мной гоняться, сколько можно-то?! Но, как оказалось (вы только представьте!), тот паршивый пароход отплыл из Данидина в тот же день, что и мы, и прибыл в Сидней раньше нас, чтобы всем растрезвонить о моем приезде. И там прямо в порту собрался самый настоящий митинг. Можете вы себе такое вообразить? Митинг, чтобы решить, как поступить со мной. И вот я, сойдя на берег, угодил прямехонько в эту толпу. Меня тут же взяли под белы рученьки, и мне пришлось выслушивать все их речи и постановления. Если бы я был каким-нибудь принцем, и то шуму было бы меньше. В итоге они сошлись на том, что нельзя позволять Новой Зеландии сбагривать своих преступников соседям, и меня нужно отправить обратно первым же судном. Они так и сделали, запихнули меня на какую-то посудину, как будто я не живой человек, а чемодан какой, и после очередного путешествия в восемьсот миль я в третий раз оказался в том самом месте, откуда начал свой путь.
Тогда я стал подумывать о том, что мне до конца дней своих предстоит болтаться между разными портами. Похоже, все вокруг настроены против меня, нигде мне не было покоя. Все это мне уже настолько осточертело, что я готов был вернуться в буш и зажить прежней жизнью, если бы мне представилась такая возможность. Но меня почти сразу опять посадили под замок. Правда, я успел-таки наведаться к нашему тайнику, о котором я упоминал, и спрятал золотишко себе в пояс. В тюрьме я проторчал еще месяц, после чего меня посадили на судно, идущее в Англию.
На этот раз никто в команде не догадывался, кто я такой. Потом, правда, выяснилось, что капитану все было прекрасно известно, но он до конца плавания этого не показывал. Хотя я все равно сразу смекнул, что капитан этот – сволочь, каких поискать. Плавание выдалось удачным, пару раз в районе мыса Доброй Надежды налетал шторм, но все обошлось, и вот, когда впереди показалась голубая дымка над английским берегом и нас встретил юркий лоцманский катерок из Фалмута[8], я наконец почувствовал себя свободным человеком. Мы прошли через Английский канал[9], и еще до Грейвсенда[10] я договорился с лоцманом, что он возьмет меня с собой, когда поплывет к берегу. Тогда-то капитан и показал свое истинное лицо: я не ошибся, когда посчитал его коварным типом себе на уме. Я сложил свои вещички и, пока они с лоцманом о чем-то разговаривали, пошел пообедать, но, когда вернулся на палубу, оказалось, что мы уже порядочно углубились в устье Темзы, а катер, на котором я должен был добраться до берега, уплыл. Шкипер сказал, что лоцман просто забыл обо мне, но я ему не поверил. Мне стало жутко, когда я подумал, что мои напасти еще не закончились.
И вскоре мои подозрения подтвердились. От берега к нам подлетел катер, и на палубу взобрался долговязый тип с длинной черной бородой. Я услышал, как он стал спрашивать помощника капитана, не нужен ли им речной лоцман, но мне показалось, что парень этот в наручниках разбирается намного лучше, чем в рулевом управлении, поэтому решил на всякий случай держаться от него подальше. Но он вышел на палубу и даже о чем-то со мной заговорил, при этом пристально меня разглядывая. Мне слишком любопытные люди вообще не нравятся, а уж те, у кого борода явно приклеенная, и подавно (особенно в том положении, в котором я тогда был), поэтому я решил, что пора мне делать ноги.
И вскоре мне представился такой случай, и я, само собой, его не упустил. Прямо у нас перед носом прошел большой углевоз, и пароход пришлось остановить. А в это время позади как раз проплывала баржа. Ну, я по веревке и спустился на нее потихоньку, когда меня никто не видел. Багаж свой, естественно, пришлось бросить на пароходе, но на мне-то был пояс с золотом, да и возможность отделаться от полиции стоила пары чемоданов. К тому времени я уже был полностью уверен, что и капитан, и тот лоцман оказались предателями и сообщили обо мне полиции. Мне и сейчас иногда очень хочется встретиться с этими гадами где-нибудь в темном переулке.
Я весь день слонялся по барже, пока она плыла по реке. На ней, кроме меня, находился только шкипер, но он занимался своим делом. Эта грязная посудина была такой большой, что времени смотреть по сторонам у него не было. Ближе к вечеру, когда начало смеркаться, я прыгнул в воду, поплыл к берегу и оказался посреди какого-то болота в нескольких милях восточнее Лондона. Промокший до нитки и голодный как собака, я кое-как пешком добрался до города, там прикупил себе новую одежонку в какой-то дешевой лавке, поужинал и снял себе самую тихую комнату, какую только смог найти.
Проснулся я очень рано (эта привычка у меня еще со времен буша осталась), и как раз кстати, так как первым, кого я увидел в щелку между оконными ставнями, был полицейский, рассматривавший окна. У него не было эполетов или сабли, как у наших полицейских, но морда такая же наглая. Не знаю, то ли они с самого начала за мной следили, то ли женщине, которая сдавала мне комнату, я чем-то не понравился, мне этого уже никогда не узнать. Полицейский записал в свою книжечку номер дома, и я уж начал думать, что мне делать, если он сейчас захочет зайти, но, очевидно, ему было приказано просто наблюдать за мной, так как, еще раз окинув взглядом окна, он пошел себе дальше по улице.
Тут я решил, что нельзя терять ни минуты, оделся, тихонько открыл окно и, убедившись, что рядом никого нет, выпрыгнул на улицу и пустился бежать со всех ног. Мили через две-три дыхание у меня стало сдавать. Я увидел огромное здание и толпы людей, которые входили и выходили из него. Я тоже вошел и понял, что это вокзал. Там как раз отходил поезд на Дувр, где можно было пересесть на паром до Франции, так что я купил на него билет и шмыгнул в купе третьего класса.
Там уже сидели два совершенно безобидных с виду молодых парня, явно небогатых, которые болтали о том о сем. Я сидел себе тихо в углу и помалкивал. Потом разговор у них зашел о том, как живется в Англии и других странах. Поверьте, доктор, все было именно так, как я рассказываю. Один из них принялся нахваливать английское правосудие. «У нас все делается честно и открыто, – говорит. – Никакой тебе тайной полиции, шпионов, как в других странах». Ну и дальше в том же духе. Представьте, каково мне было слушать этого сосунка, если за мной по пятам шли ищейки!
Как бы то ни было, я добрался до Парижа. Там продал часть своего золота и какое-то время думал, что отделался от слежки. Я решил, что наконец смогу немного отдохнуть, и видит бог, отдых мне был очень нужен, потому что к тому времени я был больше похож на привидение, чем на человека. Вам, наверное, никогда не приходилось скрываться от полиции? Нет-нет, не обижайтесь, я вовсе не хочу вас обидеть. Просто, если бы вы через это хоть раз прошли, вы бы знали, как это изматывает.
Однажды вечером я пошел в оперу и снял целую ложу, деньги-то у меня были. Захотелось мне пожить на широкую ногу! В антракте я вышел из зрительного зала и там обратил внимание на одного человека, который вроде бы бесцельно прогуливался в фойе. Рассмотрев его на свету, я узнал того самого речного лоцмана, который поднялся к нам на борт на Темзе. На этот раз он был без бороды, но я узнал его сразу, ведь память на лица у меня дай бог.
Правду скажу, доктор, сначала я пришел в отчаяние. Если бы мы были одни, я там же и порешил бы его, но он, видать, слишком хорошо меня знал, чтобы предоставить мне такую возможность. Больше этого выносить я не мог, поэтому просто-напросто подошел к нему, оттащил за угол, где нас никто не видел, и спросил напрямую:
– Сколько вы еще будете меня преследовать?
Поначалу он, кажется, немного смутился, но потом понял, что отпираться бессмысленно, и юлить не стал.
– Пока ты не вернешься в Австралию, – ответил он.
– Вы что, не знаете, – спросил я, – что своей помощью полиции я заслужил помилование?
На его поганой морде расплылась улыбочка.
– Мы о тебе, Мэлони, все знаем, – сказал он. – Хочешь спокойно жить, возвращайся туда, откуда прибыл. Если останешься здесь, глаз мы с тебя не спустим. Оступишься хоть раз – пожизненная каторга тебе обеспечена, и это как минимум. Свободная торговля – дело, конечно, хорошее, но на нашем рынке своего отребья хватает, так что такой импорт нам ни к чему.
И показалось мне тогда, что в словах его что-то есть, хоть он и высказал все это довольно грубо. За несколько дней до того меня такая тоска по дому взяла! В Париже ведь люди живут совсем не так, как привык я. На улицах прохожие на меня оглядывались; если я заходил в бар, остальные посетители тут же замолкали и отсаживались подальше, будто я дикий зверь. За глоток старого доброго эвкалиптового пива я бы отдал ведро любого их вина, от которого с души воротит. Какой прок от денег, если ты не можешь ни одеться, как хочешь, ни напиться всласть?! Там никто не понимает, что человеку, когда совсем невмоготу, иногда нужно расслабиться немного, отвести душу, так сказать. Из-за какого-нибудь разбитого окна шуму там поднимается больше, чем у нас в Нельсоне из-за убийства. Не по мне все это было. Надоела мне такая жизнь до чертиков.
– Так вы хотите, чтобы я вернулся? – спросил я у него.
– Мне приказано, пока ты здесь, не отходить от тебя ни на шаг, – ответил он.
– Что ж, – сказал я. – Почему бы и нет? Только при одном условии: обо мне никому ничего не рассказывать, чтобы я мог начать новую жизнь, когда вернусь.
Он согласился, и прямо на следующий день мы отправились в Саутгемптон[11], где он посадил меня на пароход. Я решил плыть в Аделаиду, подумав, что там, должно быть, обо мне никто и слыхом не слыхивал. Там я и осел. Снял квартирку прямо у полицейского участка и с тех пор жил там себе тихо-мирно. Все было бы ничего, если бы не последняя встреча с этим дьяволом Расписным Томом из Хоуксбери, из-за которой я сейчас здесь и нахожусь.
Не знаю, почему я вам все это рассказываю. Наверное, когда долго живешь в одиночестве, начинает тянуть на разговоры, когда выпадает такая возможность. Послушайте моего совета, доктор, никогда ничего не делайте для своей страны, потому что взамен от нее ничего хорошего вы не дождетесь. Пусть все сами решают свои проблемы. Если у них возникнут какие-нибудь трудности с тем, чтобы вздернуть пару-тройку негодяев, не вмешивайтесь, пусть они сами с этим разбираются. Может, когда я умру, они вспомнят, как обошлись со мной, и пожалеют, что так обидели человека, который столько для них сделал. Когда вы ко мне вошли, я немного грубовато повел себя, но вы не обижайтесь, просто такой я человек. Вы теперь, наверное, понимаете, что о прошлом мне вспоминать не так уж легко… Вы что, уже уходите? Ну что ж, надо, значит, надо. Надеюсь, вы как-нибудь еще ко мне заглянете, когда очередной обход будете делать. Постойте-ка, вы ж свою плитку табака забыли где-то здесь… А, она у вас в кармане… Ну, тогда ладно. Спасибо, доктор, хороший вы человек. Я такого приятного собеседника еще не встречал.
Через пару месяцев после того разговора со мной срок Вулфа Тона Мэлони истек и его освободили. Долгое время я о нем ничего не слышал и почти позабыл о нашей встрече, пока неожиданный и трагический инцидент не напомнил мне о нем. Как-то раз мне понадобилось навестить одного пациента, который жил далеко от города. Обратно мне пришлось возвращаться поздно вечером. С трудом различая дорогу, я ехал на уставшей лошади между валунов и камней и неожиданно оказался у небольшого придорожного трактира. Я направил лошадь к двери, намереваясь спросить о дальнейшей дороге, но по шуму, доносящемуся изнутри, понял, что там происходит какая-то заваруха.
Слышались яростные крики двух спорщиков и целый хор голосов, призывавших к порядку и явно пытавшихся успокоить буянов. Я остановился и стал прислушиваться, но тут на какую-то секунду все стихло, после чего почти одновременно громыхнули два пистолетных выстрела. В тот же миг дверь трактира распахнулась и на лунный свет вывалились две темные фигуры. Какое-то время они простояли, вцепившись друг в друга, потом, продолжая бороться, повалились на землю и стали кататься в пыли между камней. Я спрыгнул с лошади и вместе с десятком парней, высыпавших из трактира, стал разнимать их. Растащить их удалось с большим трудом.
Мне хватило одного взгляда, чтобы понять, что один из них уже умирал. Это был дородный коренастый парень с упрямым взглядом. Из глубокой раны у него на горле хлестала кровь. Явно была перебита одна из важных артерий. Ничем помочь ему я уже не мог, поэтому обратил свое внимание на его врага, который лежал поодаль. У того оказалось прострелено легкое, но, когда я подошел, он все-таки приподнялся на руке и стал внимательно всматриваться в мое лицо. К своему удивлению, в этом худощавом мужчине с соломенными волосами я узнал своего случайного знакомого, Мэлони.
– А, доктор, это вы, – произнес он. – Как он? Выживет?
В его голосе мне послышалось такое искреннее беспокойство, что я решил, будто в последние минуты жизни его сердце вдруг смягчилось и ему стало страшно покидать этот мир, отяготив свою совесть еще одним убийством. Но, не желая скрывать правду, я скорбно покачал головой и сказал, что рана оказалась смертельной.
Мэлони из последних сил издал торжествующий крик, отчего изо рта у него хлынула кровь.
– Эй, парни, – задыхаясь, обратился он к окружившей его группке людей, – у меня во внутреннем кармане деньги. Плевать на расходы, угощаю всех… Не такой уж я плохой… Я бы и сам с вами выпил, да уж, видно, не смогу… Налейте за меня доку, хороший он человек…
С этими словами голова его с глухим звуком запрокинулась, глаза последний раз блеснули – и душа Вулфа Тона Мэлони, фальшивомонетчика, бывшего заключенного, грабителя, убийцы и стукача, отлетела в Великое Неизведанное.
Не могу закончить, не приведя заметку об этом происшествии, которая появилась на страницах «Уэст-острелиэн сентинел». Те, кому это интересно, могут отыскать ее в номере за 4 октября 1881 года.
«РОКОВАЯ ССОРА
При весьма трагических обстоятельствах погиб В. Т. Мэлони, известный житель Нью-Монтроуса, владелец игорного салона „Желтолицый мальчик“. Мистер Мэлони прожил бурную жизнь. Некоторые наши читатели, возможно, вспомнят дело о серии убийств в Лена-вэлли, в которых он играл ключевую роль. За семь месяцев, в течение которых он владел в тех местах баром, предположительно от двадцати до тридцати путешественников стали его жертвами. Несчастных сначала одурманивали наркотиком, а потом грабили или убивали. Однако преступнику каким-то образом удалось ускользнуть от полиции и скрыться на территории буша, неподалеку от Блюменсдайка, где он примкнул к банде беглых каторжников, героический арест и последующая казнь которых уже давно стали историей. Мэлони удалось избежать виселицы только потому, что он согласился выступить на суде со свидетельскими показаниями против своих сообщников. Впоследствии он уехал в Европу, но пробыл там недолго и скоро вернулся в Западную Австралию, где долгое время жил как добропорядочный гражданин и принимал активное участие в делах местной общины. В пятницу вечером он повстречал Томаса Гримторпа, больше известного как Расписной Том из Хоуксбери, с которым у него были давние счеты.
Прогремели выстрелы, и оба заклятых врага получили смертельные раны. Мистера Мэлони запомнят не только как самого кровавого убийцу в истории, но и как человека, чьи свидетельские показания своей четкостью, обстоятельностью и подробностями удивили даже видавших виды юристов. Ни один европейский преступник не может похвастать подобным „достижением“. Sic transit gloria mundi!»
Долина Ужаса
Часть 1 Трагедия в Берлстоуне
Глава 1 Предупреждение
– Я тут подумал, что…
– Давайте думать буду я, – резко оборвал меня Шерлок Холмс.
Мне всегда казалось, что я наделен просто ангельским терпением, но должен признать, что это язвительное замечание меня сильно задело.
– Знаете, Холмс, – сухо произнес я, – вы порой становитесь просто несносны.
Он был слишком занят своими мыслями, чтобы сразу ответить на мое замечание. Подперев голову рукой, он сидел над нетронутым завтраком и рассматривал небольшой листок бумаги, который только что достал из конверта. Потом он взял конверт, поднес к свету и очень внимательно осмотрел его с обеих сторон.
– Это почерк Порлока, – задумчиво произнес он. – Да, я почти не сомневаюсь, это почерк Порлока, хотя до сих пор мне его приходилось видеть всего пару раз. Характерная прописная «Е» с интересным завитком сверху… Но, если это Порлок, дело должно быть исключительной важности.
Холмс скорее размышлял вслух, чем обращался ко мне, но слова его так меня заинтересовали, что я даже позабыл об обиде.
– А кто это – Порлок?
– Порлок, Ватсон, это nom-de-plume[12], всего лишь способ обозначить себя, но за ним скрывается ловкая и сноровистая личность. В предыдущем письме он честно признался, что это не настоящее его имя, и даже предложил мне разыскать его среди миллионов жителей этого огромного города. Но Порлок сам по себе не интересен. Интересен тот великий человек, с которым он связан. Представьте себе рыбу-лоцмана рядом с акулой или шакала, который всюду следует за львом… Да все, что угодно незначительное, что сопровождает нечто большое. И не просто большое, Ватсон, но опасное… в высшей степени опасное и зловещее. Его я представляю себе таким. Я вам когда-нибудь рассказывал о профессоре Мориарти?
– А, это тот ученый преступник, который так же знаменит среди жуликов, как…
– Не заставляйте меня краснеть, Ватсон! – смущенно махнул рукой Холмс.
– Я хотел сказать: как и совершенно не известен обычным людям.
– Браво, Ватсон! Браво! – воскликнул Холмс. – Я вижу, вы уже научились язвить. Нужно будет придумать, как от этого защищаться. Но то, что вы называете Мориарти преступником, с точки зрения закона является клеветой… И в этом заключается непостижимость ситуации! Величайший комбинатор всех времен, организатор и вдохновитель всех самых жестоких и коварных преступлений, злой мозг криминального мира, разум, который мог бы вершить судьбы наций… Вот какого масштаба этот человек! Но перед законом он настолько чист, более того, ведет такой незаметный и совершенно законопослушный образ жизни, что его не то что нельзя обвинить, он сам бы мог привлечь вас к ответственности за только что произнесенные слова и получить вашу годовую пенсию в качестве возмещения за клевету, попранное достоинство. Это ведь он является автором той самой знаменитой «Динамики астероида», книги, которая поднимается к таким высотам чистой математики, что, как выяснилось, в научном мире не нашлось никого, кто мог бы дать ей достойную критическую оценку. И на такого человека вы наговариваете! Несдержанный на слова доктор и ставший жертвой клеветнических нападок профессор – вот какие роли были бы вам уготованы. Говорю вам, это гений, Ватсон. Но ничего, дайте мне время, я и до него доберусь.
– О, как хотел бы я это видеть! – в порыве воскликнул я. – Но вы говорили об этом человеке, Порлоке.
– Ах да… Человек, которого мы знаем под именем Порлок, – это одно из звеньев цепочки, ведущей к его великому спутнику. И, честно говоря, не самое надежное. Но это единственное слабое звено, которое я нашел.
– Но ведь прочность любой цепи измеряется прочностью самого слабого звена.
– Совершенно верно, дорогой Ватсон! Именно поэтому Порлок так важен. Кое-какие зачатки добра, еще оставшиеся в его душе, плюс десять фунтов, которые я время от времени ему подбрасываю на всякий случай, – в результате я пару раз получал от него предварительные сведения о планах преступников… Бесценные сведения, которые дают возможность предвидеть и предотвратить преступление, а не помогают раскрыть его. Не сомневаюсь, если бы у нас был ключ к шифру, мы бы выяснили, что его письмо как раз из разряда таких предостережений.
Холмс положил записку на оставшуюся неиспользованной тарелку, я встал, подошел к нему и посмотрел на это необычное послание. Вот что я увидел:
534 II 13 127 36 31 4 17 21 ДУГЛАС 41 109 293 5 37 БЕРЛСТОУН 26 «БЕРЛСТОУН» 9 47 171
– Что это по-вашему, Холмс?
– Очевидно, некое зашифрованное послание.
– Какой смысл присылать шифровку, не указав ключа к шифру?
– В данном случае никакого.
– Что значит «в данном случае»?
– То, что существует множество шифров, прочитать которые для меня не сложнее, чем криптограммы в газетах в разделе частных объявлений. Подобного рода ухищрения скорее являются разминкой для ума, чем настоящей задачей. Но здесь другой случай. Несомненно, это указание на определенные слова на странице какой-то книги. Пока я не узнаю, что это за книга и на какую страницу нужно смотреть, прочитать послание невозможно.
– А почему слова «Дуглас» и «Берлстоун» не зашифрованы?
– Разумеется, потому что их не оказалось на данной странице книги.
– Тогда почему он не указал книгу?
– Ваша врожденная осторожность, Ватсон, та присущая вам осмотрительность, которой так восхищаются ваши друзья, тоже не позволила бы вам посылать и шифровку, и ключ к шифру в одном конверте. Попади такое послание не в те руки, его не составило бы труда прочитать. С минуты на минуты должны принести почту, и я сильно удивлюсь, если мы не получим второго письма с объяснением или, что более вероятно, саму книгу, к которой относятся эти цифры.
Расчеты Холмса очень скоро полностью подтвердились, когда Билли, помогающий нам по хозяйству мальчишка, принес ожидаемое письмо.
– Та же рука, – вскрывая конверт, сказал Холмс. – О, оно даже подписано, – ликующим голосом добавил он, развернув сложенный пополам листок. – Дело продвигается, Ватсон.
Однако, когда он прочитал послание, по лицу его пробежала тень.
– Какая жалость! Боюсь, Ватсон, что наши ожидания окажутся напрасными. Надеюсь, Порлоку ничего не угрожает. Послушайте, что он пишет:
«Дорогой мистер Холмс,
Я выхожу из этого дела – слишком опасно. Он меня подозревает. Я это чувствую. Когда я подписывал этот конверт, в котором собирался отправить ключ к шифру, он вошел в комнату так неожиданно, что мне едва удалось кое-как прикрыть Ваш адрес. Если бы он его увидел, у меня были бы очень большие неприятности. Я вижу, с каким подозрением он на меня смотрит. Прошу Вас, сожгите мое предыдущее письмо с шифром. Оно Вам не пригодится.
Фред Порлок».
Прочитав письмо, Холмс надолго задумался, устремив хмурый взгляд на огонь в камине.
– В конце концов, – наконец сказал он, взвесив записку на ладони, – может быть, никакого повода для беспокойства и нет. Вполне возможно, это лишь его разыгравшееся воображение. Понимая, что является предателем, он мог прочитать в чужих глазах обвинение, которого там на самом деле не было.
– А «он» – это, надо полагать, профессор Мориарти.
– Да. Когда такие люди говорят «он», можете не сомневаться, кого они имеют в виду. Для них всех есть лишь один «ОН».
– Ну, и что такого он может сделать?
– Хм. На этот вопрос трудно ответить. Когда твоим врагом становится один из умнейших людей Европы, в руках которого сосредоточены все силы зла, возможности просто безграничны. Как бы то ни было, мой друг Порлок напуган до смерти… Можете сравнить его почерк в записке и на конверте, который он подписывал, как указано, еще до этого зловещего визита. Один почерк четкий и уверенный, второй – едва читаемый.
– А почему он все-таки решил писать? Он же мог просто выбросить конверт.
– Побоялся, что я захочу узнать, что случилось, а это могло бы выдать его.
– Несомненно, – сказал я. – Очевидно, так и есть. – Я поднял первое письмо и еще раз вчитался в него. – Как все-таки обидно иметь в руках важнейшее послание и понимать, что прочитать его вне человеческих возможностей.
Шерлок Холмс отодвинул давно остывший завтрак и взялся за трубку, которую всегда курил, когда нужно было крепко подумать. Комната наполнилась зловонным табачным дымом.
– Вот что интересно, – сказал он, откидываясь на спинку стула и устремляя взгляд в потолок, – мне кажется, что некоторые обстоятельства все же ускользнули от вашего макиавеллиевского ума. Давайте рассмотрим это дело в свете чистой логики. Примем за основу то, что этот человек отсылает нас к определенной книге.
– Довольно шаткая основа.
– Посмотрим, удастся ли нам как-то ее укрепить. Чем больше я думаю об этой загадке, тем менее неразрешимой она мне кажется. Какие указания имеем мы относительно этой книги?
– Никаких!
– Ну-ну, не все так плохо. Зашифрованное послание начинается с немаленького числа 534, верно? Можно принять за рабочую гипотезу, что 534 – это указание на ту страницу, которая является ключом к шифру. Таким образом, книга наша должна быть толстой. Это уже что-то. Что еще мы можем о ней выяснить из записки? Далее идет знак II. Что это по-вашему, Ватсон?
– Конечно же, указание на главу.
– Вряд ли. Я думаю, вы не станете спорить, что, сообщив страницу, указывать главу не имеет смысла. К тому же если на 534 странице книга доходит только до второй главы, то длина глав в ней превосходит любые разумные пределы.
– Значит, это столбец!
– Превосходно, Ватсон! Сегодня вы просто блещете умом. Готов спорить на что угодно, что это именно столбец. Итак, начинает вырисовываться толстая книга, в которой текст набран столбцами, причем достаточно длинными, поскольку среди указанных слов есть даже двести девяносто третье. Может ли логика подсказать нам что-либо еще?
– Боюсь, больше мы ничего не узнаем.
– Вы к себе несправедливы. Ну же, Ватсон, еще одно усилие, еще одна гениальная догадка! Если бы книга была какой-то необычной, он прислал бы ее нам. Но он этого не делает, судя по размеру конверта, выбранного прежде, чем его планы были нарушены; он хотел лишь сообщить, о какой книге идет речь. Он сам пишет об этом в письме. Это указывает на то, что, как он считает, мне не составит труда самому раздобыть эту книгу. Книга эта есть у него, он уверен, что она есть и у меня. Другими словами, это очень распространенная книга.
– То, что вы говорите, звучит довольно правдоподобно.
– Итак, наши поиски теперь можно ограничить. Нас интересует очень распространенная толстая книга, набранная в два столбца.
– Библия! – взволнованно воскликнул я.
– Хорошо, Ватсон, хорошо. Но не совсем. Предположим, я мог бы иметь ее, но мне кажется совершенно неправдоподобным, чтобы эта книга была всегда под рукой у одного из помощников Мориарти. К тому же Святое Писание имеет очень много разных изданий, и вряд ли бы он посчитал, что нумерация страниц в моей и его копиях совпадет. Нет, эта книга должна быть стандартной, одинаковой во всех изданиях. Он уверен, что его пятьсот тридцать четвертая страница не отличается от моей пятьсот тридцать четвертой.
– Но таких книг очень немного.
– Вот-вот. В этом наше спасение. Теперь мы ограничены лишь книгами, которые всегда перепечатываются в одном и том же виде и которые могут найтись в любом доме.
– Железнодорожный справочник! «Брэдшо»!
– Нет, Ватсон, с этим тоже есть сложности. Лексикон «Брэдшо» хоть и емок, но ограничен. Набор слов в нем вряд ли подходит для того, чтобы пользоваться им для составления посланий общего содержания. Исключим «Брэдшо» из нашего списка. От словарей, боюсь, придется отказаться по той же причине. Что же остается?
– Какой-нибудь ежегодник?
– Блестяще, Ватсон! Голову даю на отсечение, что вы попали в точку! Ежегодник! Давайте рассмотрим энциклопедический ежегодник Витакера. Он достаточно распространен, в нем интересующее нас количество страниц, текст набран в два столбца. Если в предыдущих изданиях язык его был довольно сух, то в последнем, если я не ошибаюсь, ситуация как раз обратная. – Холмс взял с письменного стола том. – Итак, вот страница пятьсот тридцать четыре, второй столбец. Здесь большая статья, посвященная… торговле и экономическим ресурсам Британской Индии. Записывайте слова, Ватсон. Тринадцатое – «Маратхи». Боюсь, не самое обнадеживающее начало. Сто двадцать седьмое – «правительство». Тут есть хоть какой-то смысл, хоть к нам и к профессору Мориарти вряд ли применимый. Что ж, попробуем дальше. Чем же занимается правительство Маратхи? М-да! Следующее слово – «щетину». Ничего не вышло, мой дорогой Ватсон. Все кончено!
Голос у него был веселым, но по тому, как густые брови сошлись у него над переносицей, я понял, что мой друг расстроен и недоволен. Признаться, я тоже не был готов к неудаче. Насупившись, я стал смотреть на огонь. Долгое молчание нарушил неожиданный возглас Холмса.
– Ватсон! Все дело в том, что мы с вами живем в ногу со временем и вооружены самыми последними справочниками. Поэтому и поплатились! – снова оживился он. – Сегодня всего лишь седьмое января, а у нас уже имеется свежий ежегодник. Я более чем уверен, что Порлок, составляя шифровку, пользовался предыдущим изданием. Несомненно, он сообщил бы мне об этом, если бы все-таки написал письмо с объяснением. Давайте посмотрим, что нам даст пятьсот тридцать четвертая страница прошлогоднего издания. Тринадцатый номер – «вскоре», и это уже на что-то похоже. Номер сто двадцать семь – «опасность», – глаза Холмса заблестели, длинные худые пальцы крепче впились в книгу. – «Будет», – продолжал он называть слова. – Ха! Ха! Превосходно! Записывайте, Ватсон. «Вскоре опасность будет… грозить… человек… по… фамилии». Потом у нас указано Дуглас. «Сельский… богач… сейчас… проживает… в… Берлстоун… усадьба „Берлстоун“… уверенность… дело… срочно». Ну вот, Ватсон. Что вы теперь скажете о чистой логике и ее возможностях? Надо послать Билли к зеленщику, может, у него имеются в продаже лавровые венки.
Я удивленно рассматривал получившееся послание, которое записывал под диктовку Холмса на листе бумаги, разложенном на моем колене.
– Что за странная манера излагать свои мысли! – заметил я.
– Наоборот, он прекрасно справился с задачей, – возразил Холмс. – Когда тебе необходимо подобрать слова, а в твоем распоряжении имеется всего лишь один столбец текста, нельзя надеяться, что в нем найдется все, что тебе нужно. Хочешь не хочешь, придется полагаться на догадливость своего корреспондента. Смысл послания совершенно ясен. Замышляется определенное преступление, жертвой которого должен стать некто Дуглас, богатый сельский джентльмен, проживающий в указанном поместье. В том, что дело серьезное и срочное, Порлок не сомневается… «Уверенность» – самое близкое по смыслу к «уверен» слово, которое он нашел в тексте. Все встало на свои места! Да, пришлось нам потрудиться!
Холмс приосанился, преисполнился сдержанной гордости, как художник, стоящий рядом со своим лучшим творением, хотя совсем недавно, когда потерпел неудачу, испытывал не меньшее по силе противоположное чувство. Он все еще наслаждался успехом, когда Билли распахнул дверь и в комнату стремительным шагом вошел инспектор Макдональд из Скотленд-Ярда.
Это происходило в самом начале восьмидесятых годов, когда имя Алека Макдональда еще не гремело на всю страну. Тогда это был молодой, подающий надежды детектив, который успешно провел несколько дел. При взгляде на высокого подтянутого молодого инспектора становилось понятно, что он наделен не только исключительной физической силой, но и острым умом, о чем свидетельствовали крупный череп и глубоко посаженные яркие глаза, поблескивающие под густыми бровями. Алек Макдональд был молчаливым, аккуратным человеком, педантичным и упорным, разговаривал с сильным абердинским акцентом.
За свою карьеру он уже дважды обращался к Холмсу за помощью, и оба раза мой друг помогал ему добиться успеха, причем делал это совершенно бескорыстно, поскольку интеллектуальное удовлетворение от работы было для него лучшей наградой. По этой причине шотландец относился к своему коллеге с огромным уважением и восхищением и обращался к нему всякий раз, когда сталкивался с какими-либо трудностями. Посредственность не приемлет ничего выше себя, но талант мгновенно распознает гений, и Макдональд был достаточно талантлив в своей профессии, чтобы понимать, что нет ничего зазорного в том, чтобы принимать помощь от лучшего и опытнейшего специалиста во всей Европе. Нельзя сказать, чтобы Холмс считал его своим другом, но всегда был рад встрече с этим энергичным шотландцем.
– А вы ранняя пташка, мистер Мак! – воскликнул он. – Удачи вам с поиском червячка. Впрочем, боюсь, что вы к нам пожаловали не просто так, а по делу.
– Если бы вы сказали не «боюсь», а «надеюсь», это было бы ближе к истине, мистер Холмс, – улыбнулся в ответ инспектор. – Сегодня утром так холодно, вот я и решил заскочить к вам на секунду немного согреться. Нет, я не буду курить, спасибо. Долго засиживаться у вас тоже не буду – вы же знаете, чем раньше берешься за дело, тем лучше. Но… но…
Инспектор вдруг замолчал и в полном недоумении впился глазами в листок бумаги на столе, тот самый, на котором я записывал загадочное послание.
– Дуглас! – неуверенным голосом, запинаясь произнес он. – Берлстоун! Что это, мистер Холмс? Я не верю своим глазам! Откуда вы об этом знаете?
– А, это мы с доктором Ватсоном прочитали одну шифровку. Но почему… Что произошло с этим Дугласом?
– Только то… – инспектор перевел удивленный взгляд на меня, потом снова посмотрел на Холмса. – Только то, что мистер Дуглас, проживающий в усадьбе «Берлстоун», этой ночью был зверски убит.
Глава 2 Шерлок Холмс рассуждает
Именно ради таких драматических моментов и жил мой друг. Было бы преувеличением сказать, что он был поражен или даже взволнован этим неожиданным известием. Нет, этот удивительный человек не был бездушным, просто долгая жизнь в постоянном нервном возбуждении притупила его чувства. Впрочем, хоть душевные переживания и были чужды ему, в тот миг интеллектуальное возбуждение его достигло предела. Ничего подобного тому ужасу, который испытал я, на его лице не отразилось, скорее, на нем появилось выражение заинтересованности, как у химика, наблюдающего образование кристаллов в перенасыщенном растворе.
– Любопытно, – сказал он. – Очень любопытно!
– Вы, похоже, вовсе не удивлены?
– Скорее заинтересован, чем удивлен, мистер Мак. Чему тут удивляться? Из достоверного, хоть и анонимного источника я получаю предупреждение о том, что определенному человеку угрожает опасность, и не проходит и часа, как я узнаю, что опасность эта материализовалась и человек погиб. Как вы верно заметили, меня это совершенно не удивляет.
Он в нескольких словах рассказал инспектору о письме и шифре. Макдональд слушал его молча, подперев сцепленными ладонями подбородок, его кустистые рыжие брови были напряженно сдвинуты.
– Сегодня утром я собирался ехать в Берлстоун, – сказал он. – К вам я зашел спросить, не хотите ли вы поехать со мной… Вы с доктором Ватсоном. Но теперь мне начинает казаться, что нам полезнее задержаться в Лондоне.
– Я так не думаю, – возразил Холмс.
– Черт подери, мистер Холмс! – вскипел инспектор. – Через день-два все газеты будут трубить о берлстоунской загадке. Но где же тут загадка, если в Лондоне нашелся человек, который предсказал это преступление еще до того, как оно было совершено? Все, что нам нужно, это найти этого человека.
– Несомненно, мистер Мак. Но как вы предлагаете искать этого так называемого Порлока?
Макдональд повертел в руках конверт, который протянул ему Холмс.
– Отправлено из Камберуэлла… Это нам мало поможет. Имя, как вы говорите, вымышленное. Действительно, негусто. Вы, кажется, упоминали, что посылали ему деньги?
– Дважды.
– И как вы это делали?
– Переводом до востребования в Камберуэллское почтовое отделение.
– А вы когда-нибудь узнавали, кто их получал?
– Нет.
Инспектор сильно удивился.
– Но почему?
– Потому что я всегда держу свое слово. Когда он первый раз написал мне, я обещал, что не стану выслеживать его.
– Вы думаете, за ним кто-то стоит?
– Я не думаю, я это знаю.
– Тот профессор, о котором вы как-то упоминали?
– Совершенно верно.
Инспектор Макдональд улыбнулся и бросил на меня многозначительный взгляд.
– Мистер Холмс, я не буду от вас скрывать, мы в управлении считаем, что у вас что-то вроде пунктика по поводу этого профессора. Я сам навел о нем справки. Похоже, это вполне уважаемый и образованный человек, талантливый ученый.
– Я рад, что вы хотя бы признаете его талантливость.
– Да как же не признать-то? После того что вы о нем рассказывали, я посчитал своим долгом встретиться с ним. Мы с ним поговорили о затмениях. Уж я не знаю, как наш разговор на такую тему перешел, но у него там были зеркальный фонарик и глобус, и он вмиг мне растолковал, как это все происходит. Он даже книжку мне всучил, хотя, если честно, я в ней ровным счетом ничего не понял, несмотря на то, что у меня прекрасное абердинское образование. Мне он показался больше всего похожим на какого-нибудь министра: худое лицо, седые волосы, важная манера говорить. Когда мы расставались, он положил мне руку на плечо, как отец, отпускающий сына в большой жестокий мир.
Холмс рассмеялся.
– Великолепно! – воскликнул он, потирая руки. – А скажите, друг мой Макдональд, эта милая трогательная беседа проходила в кабинете профессора?
– Да.
– И, должно быть, это очень неплохая комната, верно?
– Очень неплохая… Действительно, вполне приличная комната, мистер Холмс.
– Он принимал вас, сидя за своим письменным столом?
– Совершенно верно.
– И солнце светило вам в глаза, а его лицо оставалось в тени.
– Ну, это было вечером, но на меня была направлена лампа.
– Разумеется. Вы случайно не обратили внимание на картину на стене над профессорской головой?
– Я на все обращаю внимание, мистер Холмс. Должно быть, у вас этому научился. Да, я видел картину. На ней была изображена молодая женщина, склонившая голову на руки и смотрящая немного в сторону.
– Эта картина кисти Жана Батиста Греза.
Инспектор постарался принять заинтересованный вид.
– Жан Батист Грез, – продолжил Холмс, откинувшись на спинку кресла и соединив перед собой кончики пальцев, – это французский живописец, расцвет которого пришелся на период между тысяча семьсот пятидесятым и тысяча восьмисотым годами. Я, разумеется, имею в виду творческий расцвет. Современные исследователи ценят работы этого мастера намного выше, чем его современники.
Взгляд инспектора сделался рассеянным.
– Может быть, нам бы стоило… – неуверенно произнес он.
– Мы этим и заняты, – оборвал его Холмс. – Все, что я говорю, имеет важное и самое непосредственное отношение к делу, которое вы окрестили «берлстоунской загадкой». Более того, в некотором роде это можно даже назвать его сутью.
Макдональд слабо улыбнулся и посмотрел на меня, как будто ища поддержки.
– Я не поспеваю за вашими мыслями, мистер Холмс. Вы не все объяснили, и я совершенно потерял нить ваших рассуждений. Какое вообще отношение имеет этот давно умерший художник к тому, что произошло в Берлстоуне?
– Для сыщика полезны любые знания, – заметил Холмс. – Даже такой незначительный факт, что в тысяча восемьсот шестьдесят пятом году на аукционе Портали картина Греза «La Jeune Fille a l’Agneu»[13] была продана за один миллион двести тысяч франков, а это больше сорока тысяч фунтов, может направить ваши мысли в нужное русло.
По лицу инспектора было видно, что так и произошло. Его брови поползли вверх.
– Кроме того, могу напомнить вам, – продолжил Холмс, – что профессорский оклад – не тайна. Заглянув в любой справочник, вы увидите, что он составляет семьсот фунтов в год.
– Каким же образом он смог купить…
– Именно! Как он смог?
– Так-так-так. Очень интересно, – задумчиво пробормотал инспектор. – А что вам еще известно, мистер Холмс? Продолжайте, я с удовольствием вас еще послушаю.
Холмс улыбнулся. Искреннее восхищение ему, как и любому великому творцу, всегда доставляло удовольствие.
– А как же Берлстоун? – ядовито спросил он.
– Внизу меня ждет кеб, – сказал инспектор, взглянув на часы, – и до вокзала Виктории ехать от силы минут двадцать, так что время у нас еще есть. Но по поводу этой картины, мистер Холмс… Я помню, вы как-то раз обмолвились, что никогда не встречались с профессором Мориарти.
– Так и есть.
– Тогда откуда же вам известно, как выглядит его кабинет?
– Это уже другой вопрос. В его кабинете я побывал три раза. Дважды я дожидался его под разными предлогами и уходил, не дождавшись. В третий раз… Вообще-то мне бы не стоило рассказывать этого полицейскому инспектору, но в третий раз я позволил себе покопаться в его бумагах… И результаты оказались самыми неожиданными.
– Вы обнаружили что-то компрометирующее?
– Нет, ничего такого там не было. Как раз это и удивило меня больше всего. Но, думаю, вы поняли, почему я обратил ваше внимание на эту картину. Ее наличие в этом кабинете указывает на то, что профессор очень богат. Откуда у него деньги? Он не женат. Младший брат его работает начальником железнодорожной станции где-то на западе Англии. Профессорское кресло приносит ему семьсот фунтов в год. Но в кабинете у него висит Грез!
– И что?
– По-моему, вывод очевиден.
– Вы хотите сказать, что он имеет большие нелегальные доходы?
– Совершенно верно. Разумеется, помимо этого у меня есть и другие причины так думать… Десятки тончайших нитей, ведущих в самую середину паутины, где затаилось хищное ядовитое существо. Я упомянул Греза лишь для того, чтобы вам было легче понять мою мысль.
– Что ж, мистер Холмс, я признаю, то, что вы говорите, весьма любопытно. Даже больше, чем любопытно, просто поразительно, но не могли бы вы все же объяснить, откуда у него деньги? Он что, занимается подлогами? Печатает фальшивые деньги? Или ворует?
– Вы когда-нибудь читали о Джонатане Уайльде?
– Фамилия как будто знакомая. Это из какого-то романа, да? Знаете, я не очень люблю все эти детективные истории, в которых гениальные сыщики с ходу раскрывают любые преступления, даже не объясняя, как это им удается. Все это лишь фантазии писателей, не имеющие к настоящей работе никакого отношения.
– Джонатан Уайльд не был сыщиком и не является литературным персонажем. Он был выдающимся преступником и жил в середине восемнадцатого века.
– В таком случае он меня не интересует. Я человек дела.
– Мистер Мак, самое лучшее дело, которым вы можете занять себя, это запереться дома на три месяца и каждый день по двенадцать часов изучать историю криминалистики. В нашем мире ничто не ново, даже профессор Мориарти. Джонатан Уайльд был мозгом лондонского преступного мира. За пятнадцать процентов от добычи он разрабатывал и организовывал преступления, но сам при этом оставался в тени. Как говорится, свято место пусто не бывает, и теперь его занял наш профессор, ему на смену придет кто-то другой. Я могу вам еще кое-что рассказать о Мориарти.
– Да, прошу вас, расскажите.
– Мне удалось узнать, кто является первым звеном созданной им цепочки. Цепочки, в начале которой стоит сам Наполеон преступного мира, а в конце – бесчисленная армия громил, карманников, шантажистов и шулеров, со всеми мыслимыми преступными профессиями между ними. Глава его штаба – полковник Себастиан Моран, человек столь же осторожный, внимательный и недосягаемый для закона, как и сам Мориарти. Сколько, по-вашему, ему платит Мориарти?
– Хотел бы я знать.
– Шесть тысяч в год. Во столько он ценит его ум… Это американский подход к делу. Мне это стало известно совершенно случайно. Столько у нас не получает даже премьер-министр. Может быть, теперь вы поймете, какие доходы имеет он сам, и осознаете масштаб его деятельности. Еще кое-что: на днях я задался целью проследить кое-какие из чеков Мориарти. Всего лишь безобидные чеки, которыми он оплачивает свои расходы на хозяйство. Так вот, чеки эти выписаны на шесть разных банков. Вам это ни о чем не говорит?
– Довольно странно, конечно! А как вы это объясняете?
– Он всеми силами старается сделать так, чтобы о его богатстве никто не узнал. Ни одна живая душа не должна знать, чем он располагает. Мне доподлинно известно, что у него есть как минимум двенадцать различных банковских счетов. Бóльшая часть его состояния находится за границей, в «Дойч-банке» или «Креди Лионне». Если у вас выдастся свободный год или два, я бы вам посоветовал потратить их на профессора Мориарти.
Разговор все больше и больше захватывал инспектора. Он во все глаза смотрел на Холмса и, казалось, позабыл обо всем на свете. Но вдруг встрепенулся, шотландская практичность заставила его вспомнить о насущном вопросе.
– Ну, с этим можно подождать, – сказал он. – Своим интересным рассказом вы нас увлекли несколько в сторону, мистер Холмс. Сейчас действительно важно то, что вы упомянули о связи между этим профессором и убийством в Берлстоуне. Так вы говорите, что получили предупреждение от некоего Порлока. Можем ли мы для пользы следствия разузнать что-либо еще?
– Мы можем примерно представить себе мотивы преступления. Из ваших слов я понял, что убийство это вам представляется загадочным, по крайней мере необъяснимым, верно? Допустим, что мы не ошибаемся, предполагая, кто за этим стоит. Есть два различных мотива убийства. Во-первых, надо сказать, что Мориарти держит своих людей в ежовых рукавицах. Дисциплина в рядах его подопечных железная. Любое нарушение правил карается одним – смертью. Можно предположить, что убитый (Дуглас, о чьей предстоящей гибели стало известно одному из приближенных короля преступного мира) каким-то образом предал своего главаря. Последовало наказание. Когда об этом узнают его люди, это внушит им должный страх и уважение.
– Допустим. Это один из вариантов, мистер Холмс.
– С другой стороны, можно предположить, что это обычное, так сказать рядовое, преступление, спланированное Мориарти. Из дома было что-нибудь похищено?
– Мне об этом не известно.
– Если было, то это, разумеется, говорит в пользу второй версии. Мориарти мог взяться за разработку этого преступления в обмен на долю добычи, либо же ему просто могли заплатить за подготовку плана. Оба этих варианта возможны. Но если даже мы ошибаемся и в этом случае имела место какая-то другая комбинация, чтобы во всем разобраться, нам нужно отправиться в Берлстоун. Хотя я слишком хорошо знаю этого человека, чтобы надеяться обнаружить там какие-либо улики, указывающие на его участие.
– Итак, едем в Берлстоун! – воскликнул Макдональд и бодро вскочил со стула. – Ого! Уже позже, чем я думал. Джентльмены, на сборы я могу выделить вам лишь пять минут, не больше.
– Нам с Ватсоном этого вполне хватит, – сказал Холмс, снимая халат и надевая сюртук. – Вас, мистер Мак, я попрошу дорогой посвятить меня в подробности дела.
К сожалению, «подробностей дела» оказалось не так уж много, но и их хватило Холмсу, чтобы понять, что то, что произошло в Берлстоуне, заслуживает его самого пристального внимания. Он улыбался и довольно потирал свои худые руки, слушая краткий, но яркий рассказ инспектора. Долгая череда недель вынужденного бездействия осталась позади, наконец-то перед нами возникла задача, достойная применения тех замечательных сил, которые, как и любой не находящий выхода талант, от долгого простоя начинают тяготить своего обладателя. Острый, как лезвие бритвы, разум Холмса без работы тупел и покрывался ржавчиной.
Глаза моего друга заблестели, на бледных щеках выступил румянец, весь лик его озарился внутренним светом, когда он почуял запах работы. В кебе он, подавшись вперед, с жадностью вслушивался в скупой рассказ Макдональда о том, что нас ожидало в Суссексе. Инспектор пояснил, что и сам толком ничего не знает, а рассказ его основан на короткой записке, которую сегодня рано утром ему прислали с первым поездом. Тамошний офицер Уайт Мэйсон – его личный друг, поэтому Макдональд узнал о преступлении намного раньше, чем это происходит обычно, когда в провинции требуется помощь Скотленд-Ярда. Как правило, столичные сыщики попадают на место происшествия слишком поздно, чтобы расследовать дело, что называется, по горячим следам.
«Дорогой инспектор Макдональд, – говорилось в письме, которое он нам прочитал. – Официальный запрос отправлен в отдельном конверте. Эта записка для Вас лично. Телеграфируйте мне, каким утренним поездом Вы сможете приехать в Берлстоун, чтобы я мог Вас встретить или, если буду слишком занят, послать кого-нибудь Вам навстречу. Это дело – настоящая головоломка. Пожалуйста, не теряйте ни минуты, приезжайте как можно скорее. Если удастся заручиться помощью Шерлока Холмса, привезите и его, потому что ему этот случай понравится, я уверен. Если бы не труп, мы бы решили, что все это чья-то чудовищная шутка. Поверьте, такого Вы еще не видели».
– А ваш друг, похоже, неглупый человек, – заметил Холмс.
– Да, сэр, Уайт Мэйсон – довольно смышленый парень.
– Хорошо, что еще в письме сказано?
– Только то, что подробности он изложит при встрече.
– Откуда же вы знаете про мистера Дугласа и про то, что он был зверски убит?
– Из официального доклада. Он был приложен к записке, но в нем, конечно же, не упоминалось слово «зверски», ведь такого термина не существует. Там сообщалось имя убитого, Джон Дуглас, и то, что погиб он в результате выстрела в лицо. Стреляли из дробовика. Еще там указывалось время, когда была поднята тревога (около полуночи), и было сказано, что это, несомненно, убийство, задержанных пока нет и обстоятельства дела кажутся весьма и весьма странными, даже загадочными. Вот все, что мне пока известно, мистер Холмс.
– В таком случае, мистер Мак, с вашего позволения, мы пока прекратим разговоры об этом деле. Искушение строить догадки и предположения на основе недостаточных фактов губительно для нашей профессии. Сейчас я вижу лишь два пункта, которые не вызывают у меня сомнения: великий ум в Лондоне и труп в Суссексе. Связь между ними нам и предстоит выяснить.
Глава 3 Берлстоунская трагедия
Теперь я попрошу читателя позволить мне на время поступиться своей незначительной персоной, чтобы иметь возможность, вооружившись знаниями, полученными нами впоследствии, описать события, происшедшие до того, как мы прибыли на место трагедии, ибо только так я могу рассказать о людях, имевших отношение к этому делу, и странных обстоятельствах, предрешивших их судьбу.
Берлстоун – это крошечная, но очень старая деревенька на северной границе графства Суссекс. Насчитывает она всего несколько коттеджей, сложенных из кирпича и дерева. Испокон веков облик этого места оставался неизменным, и лишь несколько лет назад живописный вид и расположение Берлстоуна стали привлекать к себе богатых людей. В окружающих это место лесах, как грибы после дождя, начали появляться богатые виллы. Надо сказать, что местные жители считают свой лес окраиной великого Уилда, который чем дальше на север, тем становится реже, пока постепенно вовсе не растворяется в меловых низинах. Конечно же, после того как местное население начало увеличиваться, здесь стали появляться многочисленные магазинчики и лавки, и вполне можно ожидать, что скоро Берлстоун, много веков остававшийся деревней, превратится в современный город. Это место является центром весьма обширной территории, поскольку Танбридж-Уэлс, ближайший более или менее крупный город, расположенный милях в десяти-двенадцати на север, относится уже к соседнему графству, к Кенту.
Где-то в миле от деревни посреди старинного парка, знаменитого своими огромными буками, стоит древняя усадьба, которая носит то же имя, что и сама деревня, – «Берлстоун». Часть этого старинного здания относится еще к временам Первого крестового похода, когда Гуго де Капус возвел небольшую крепость посреди своих земель, дарованных ему Рыжим королем. В тысяча пятьсот сорок третьем году она была разрушена пожаром, и ее почерневшие от огня угловые камни были использованы при строительстве кирпичной усадьбы, которая выросла на месте древнего феодального замка уже во времена правления короля Якова Первого.
Сама усадьба с многочисленными фронтонами и небольшими ромбовидными окнами с начала семнадцатого века почти не изменилась. Из двух рвов, которые некогда окружали ее более воинственную предшественницу, внешний давно пересох, и теперь на его месте разводили овощи, но внутренний сохранился. При ширине в сорок футов он был неглубок, всего несколько футов, и опоясывал все здание. Ров питался небольшим ручьем, поэтому вода в нем хоть и была мутная, но не застаивалась и не источала гнилостных испарений. Окна первого этажа усадьбы находились всего в футе от земли.
В усадьбу можно было попасть только через подъемный мост, цепи и ворот которого давно заржавели и вышли из строя. Правда, последние обитатели «Берлстоуна» старательно восстановили механизм, и теперь подъемный мост не только мог действительно подниматься, но и снова, как в былые времена, начал подниматься каждый вечер и опускаться каждое утро. Таким образом, на ночь усадьба превращалась в своеобразный остров, что имело самое непосредственное отношение к загадке, которая в скором времени привлекла к этому месту внимание всей Англии.
Несколько лет дом оставался необитаем, ветшал и грозил превратиться в живописные развалины, пока им не завладели Дугласы. Эта семья состояла всего лишь из двух человек – Джона Дугласа и его жены. Дуглас обладал своеобразными характером и внешностью. На вид ему было лет пятьдесят, его грубо очерченное лицо с квадратной нижней челюстью украшали седоватые усы, глаза у него были серые и удивительно проницательные. Его жилистое, атлетического склада тело с годами не утратило юношеской силы и гибкости. Он был приветлив и общителен, правда, некоторая грубоватость его манер наводила на мысль о том, что в прошлом ему довелось вращаться в гораздо более низких социальных слоях, чем провинциальное общество графства Суссекс.
Впрочем, хоть его более культурные соседи и относились к нему несколько настороженно, очень скоро он сумел завоевать сердца простых односельчан тем, что стал жертвовать значительные суммы на все местные мероприятия, не пропускал проводившихся в деревне праздников и встреч, на которых неизменно радовал жителей деревни исполнением песен, а голос у него, надо сказать, был дивный, редкий по глубине тенор. Похоже, он был богат. В деревне поговаривали, что капитал свой он заработал на золотых приисках в Калифорнии, к тому же он сам не раз упоминал, что они с женой какое-то время жили в Америке.
Хорошее впечатление, которое он произвел на односельчан щедростью и простотой манер, усилилось еще и совершенным пренебрежением к любого рода опасностям. Наездник он был никудышный, но несмотря на это принимал участие во всех проводимых в деревне охотничьих сборах и в своем искреннем желании угнаться за лучшими местными всадниками много раз переживал такие невероятные падения, что те, кто это наблюдал, просто диву давались, как это он ни разу не покалечился. Когда однажды в доме приходского священника случился пожар, он поразил всех тем, что несколько раз входил в горящее здание, чтобы спасти как можно больше вещей, и это после отказа команды пожарных, сославшихся на большую опасность. Таким образом, за пять лет жизни в Берлстоуне Джон Дуглас полюбился всем обитателям этой небольшой деревни.
Все, кто был знаком с его женой, и ее находили весьма приятной особой, хотя по английскому обычаю к тому, кто не был официально представлен местному обществу, не принято было часто ходить в гости. Впрочем, для нее это мало что значило, поскольку человеком она была малообщительным и, судя по всему, предпочитала все свое время тратить на ведение хозяйства и заботу о муже. Было известно, что она англичанка и познакомилась с мистером Дугласом в Лондоне, когда он был вдовцом. Это была красивая высокая брюнетка, стройная, лет на двадцать моложе супруга. Столь существенная разница в возрасте, похоже, нисколько не сказывалась на их семейной жизни.
Только те, кто был знаком с ними ближе всего, порой замечали, что доверие между супругами не было полным, поскольку при общении с ними создавалось такое впечатление, что жена либо предпочитала не вспоминать о прошлой жизни своего мужа, либо – и это казалось более вероятным – попросту не все о ней знала. Кроме того, некоторые особо внимательные люди подметили и потом неоднократно в своем кругу обсуждали тот факт, что в поведении миссис Дуглас наблюдалась нервозность, которая в значительной мере возрастала всякий раз, когда ее супруг где-то задерживался и долго не возвращался домой. В деревенской глуши, где рады любой возможности посудачить, эта слабость хозяйки поместья «Берлстоун» не могла не вызвать живейшего интереса. О ней вспомнили и после тех событий, которые заставили посмотреть на эту странность ее поведения с другой стороны.
Был и еще один человек, который жил под этой крышей. Правда, не постоянно, наездами, но тем не менее его присутствие в доме в то время, когда произошли странные события, о которых сейчас пойдет речь, сделало его имя предметом всеобщего обсуждения. Это был Сесил Джеймс Баркер, проживавший в Хэмпстеде, в «Хейлс-лодж».
Берлстоунцы часто видели на своей главной улице высокую, статную фигуру Сесила Баркера, который был частым и желанным гостем в старинной усадьбе с подъемным мостом. Больше всего он был известен как единственный друг из прошлой, покрытой мраком тайны жизни ее хозяина. Сам Баркер несомненно был англичанином, но, судя по некоторым его высказываниям, с Дугласом познакомился в Америке, там же с ним и сдружился. Похоже, он был богат и в деревне считался холостяком.
Баркер был младше Дугласа, ему от силы было лет сорок пять. Это был долговязый парень с могучей грудью и чисто выбритым лицом профессионального боксера. Под густыми смоляными бровями сверкали такие яростные черные глаза, что, казалось, он мог одним взглядом проложить себе дорогу во враждебно настроенной толпе, даже не пуская в ход своих довольно внушительных кулаков. Он не совершал прогулок верхом и не охотился. Занимался лишь тем, что ходил по улицам деревни с трубкой в зубах или катался со своим хозяином, а если его не было дома, то с хозяйкой по живописной округе. «Общительный и очень щедрый человек, – так отозвался о нем дворецкий Эймс. – Но, честное слово, он не из тех людей, с которыми я хотел бы ссориться». С Дугласом он держался сердечно и по-свойски, да и с женой его был не менее дружен… Что, впрочем, не раз вызывало такое сильное раздражение у мужа, что это замечали даже слуги. Таким был третий персонаж, который находился в старинном поместье, когда там разыгралась трагедия.
Что касается прочих обитателей этого дома, из всего штата слуг достаточно упомянуть строгого, чопорного Эймса и миссис Аллен, пышущую здоровьем жизнерадостную особу, которая помогала леди по хозяйству. Остальные шесть слуг не имеют никакого отношения к событиям ночи шестого января.
Первый сигнал поступил в небольшой местный полицейский участок в одиннадцать сорок пять. В это время дежурил сержант Уилсон. К участку прибежал крайне взволнованный Сесил Баркер и принялся изо всех сил трезвонить в звонок. Срывающимся голосом он сообщил, что в усадьбе произошла страшная трагедия, убит Джон Дуглас, и тут же помчался обратно. Через несколько минут за ним поспешил и сержант. На место происшествия он прибыл чуть позже полуночи, предварительно поставив начальство в известность о том, что произошло нечто серьезное.
Добравшись до усадьбы, сержант увидел, что подъемный мост опущен, в окнах горит свет, а все обитатели дома взволнованы и напуганы. Бледные слуги жались к стене в холле, дрожащий от страха дворецкий стоял, ломая руки, в дверях. Только Сесил Баркер, похоже, еще владел собой и своими чувствами. Он открыл ближайшую ко входу дверь и взмахом руки пригласил сержанта следовать за собой. Как раз в это время прибыл доктор Вуд, расторопный и энергичный деревенский лекарь. Трое мужчин вместе вошли в страшную комнату. За ними последовал и охваченный ужасом дворецкий, который прикрыл дверь, чтобы скрыть ужасную картину от глаз служанок.
Труп лежал в центре комнаты на спине, широко раскинув руки и ноги. Он был в ночной рубашке и розовом халате, из которого торчали голые ноги в домашних тапочках. Доктор взял со стола лампу и опустился на колени рядом с телом. Одного взгляда на жертву было достаточно, чтобы понять, что присутствие врача здесь уже не требуется. Рана была чудовищной. На груди мертвеца лежало необычное оружие – двуствольный дробовик со спиленными в футе от спусковых крючков стволами. Не оставалось сомнения, что стреляли из него. Выстрел был произведен с близкого расстояния, попал жертве прямо в лицо и почти снес голову. Спусковые крючки были связаны, чтобы одновременный выстрел из обоих стволов был как можно более разрушительным.
Деревенский полицейский был испуган и подавлен той огромной ответственностью, которая столь неожиданно легла на его плечи.
– Пока не прибудет мое начальство, мы здесь ничего не будем трогать, – запинаясь, тихо пробормотал он, глядя на изувеченную голову трупа.
– Пока что здесь никто ничего не трогал, это точно, – сказал Сесил Баркер. – Тут все осталось в том виде, в каком я это обнаружил.
– Когда это произошло? – Сержант достал из кармана записную книжку.
– В половине двенадцатого. Спать я еще не ложился. Я сидел у себя в спальне перед камином, когда услышал выстрел. Негромкий… какой-то приглушенный. Я тут же бросился вниз. Думаю, не прошло и тридцати секунд, как я оказался здесь, в этой комнате.
– Дверь была открыта?
– Да, открыта. Бедный Дуглас уже вот так и лежал. На столе в подсвечнике из его спальни горела свеча. Лампу зажег я через несколько минут.
– Вы никого не видели?
– Нет. Я услышал, что спускается миссис Дуглас, поэтому выбежал из комнаты, чтобы не дать ей войти и увидеть эту жуткую картину. Потом пришла миссис Аллен, экономка, и увела ее. Когда пришел Эймс, мы вернулись в комнату с ним.
– Постойте-ка, я же слышал, что мост на ночь всегда поднимается!
– Ну да, он и был поднят. Это я его опустил.
– Каким же образом убийце удалось уйти? Выходит, что мистер Дуглас застрелился?
– Мы тоже сначала так подумали. Но вот, взгляните! – Баркер отодвинул штору, и стало видно, что ромбовидное окно распахнуто настежь. – Обратите внимание и на это! – Он опустил лампу и осветил пятно крови в форме подошвы ботинка, которое четко вырисовывалось на деревянном подоконнике. – Кто-то вылез через это окно.
– Вы хотите сказать, что убийца перешел ров вброд?
– Вот именно!
– Ну, в таком случае, если, как вы говорите, были в комнате через полминуты, он в это время как раз должен был перебираться через воду.
– Я в этом не сомневаюсь. Как жаль, что я сразу не бросился к окну! Но, как видите, штора была задернута, и мне просто не пришло в голову это сделать. А потом я услышал шаги миссис Дуглас. Не мог же я позволить ей увидеть этот кошмар.
– Да уж, кошмар, – согласился доктор, глядя на изувеченную голову и ужасные кровавые следы вокруг нее. – Таких травм я не видел со времени железнодорожной катастрофы, происшедшей у нас под Берлстоуном.
– Я вот что хочу сказать, – заметил не привыкший принимать быстрые решения сельский полицейский, все еще рассматривая раскрытое окно. – Конечно, то, что мы знаем, что убийца перешел ров вброд, очень хорошо. Но кто мне скажет, как он попал в дом, если мост был поднят?
– Я тоже хотел бы это знать, – сказал Баркер.
– В котором часу подняли мост?
– Почти в шесть, – сказал дворецкий Эймс.
– А я слышал, – слегка удивился сержант, – что его обычно поднимают на закате. В это время года это, скорее, ближе к половине пятого, чем к шести.
– Миссис Дуглас принимала гостей, они пили чай, – пояснил Эймс. – Я не мог поднять мост, пока они не ушли. Потом сам лично его поднял.
– Значит, вот что получается, – задумчиво произнес сержант. – Если кто-то проник в дом снаружи… повторяю, если… то он должен был это сделать до шести часов, пока мост был опущен. И до тех пор, пока мистер Дуглас не зашел в эту комнату после одиннадцати, он должен был прятаться где-то здесь.
– Да-да! Мистер Дуглас каждый вечер сначала обходил весь дом, а потом проверял окна. За этим он и пришел сюда. Убийца его дождался, застрелил, потом, бросив ружье, вылез через окно. Скорее всего, так и было. Только так и можно это объяснить.
Сержант наклонился и поднял карточку, лежавшую на полу рядом с телом. На ней грубым почерком были написаны две буквы – «Д. В.», а под ними стояло число 341.
– Что это? – спросил он.
Баркер удивленно поднял брови.
– Я ее не заметил. Наверное, это оставил убийца.
– Д. В. 341. Ничего не понимаю.
Толстыми пальцами сержант покрутил карточку.
– Что такое Д. В.? Может, инициалы? Что там у вас, доктор Вуд?
Медик поднял большой молоток, который лежал на коврике перед камином. Тяжелый рабочий молоток. Сесил Баркер указал на коробку с гвоздями на каминной полке.
– Мистер Дуглас вчера перевешивал картины, – сказал он. – Я сам видел, как он стоял вон на том стуле и вешал на стену большую картину. Наверное, это он молоток здесь оставил.
– Лучше положите его там, где он лежал, – сказал сержант и растерянно почесал в затылке. – Я вижу, это работенка для самых светлых голов в управлении. Как ни крути, придется обращаться в Лондон. – Он взял лампу и стал медленно обходить комнату. – О, смотрите-ка! – неожиданно раздался взволнованный крик сержанта, когда он отодвинул в сторону оконную штору. – В котором часу были задернуты шторы?
– Когда зажгли лампы, – сказал дворецкий. – Где-то в начале пятого.
– Здесь кто-то прятался. – Он опустил лампу, и в углу стали отчетливо видны грязные следы от ботинок. – Похоже, это подтверждает вашу версию, мистер Баркер. Выходит, убийца проник в дом после четырех, когда шторы были уже задернуты, и до шести, когда был поднят мост. Он шмыгнул в эту комнату, потому что она ближе всего ко входу, и встал сюда, за штору, прятаться ведь здесь больше негде. Да-да, скорее всего, так и было. Вероятно, этот человек хотел ограбить дом, но мистер Дуглас его случайно обнаружил, поэтому тот его убил и сбежал.
– Согласен, – кивнул Баркер. – Но не теряем ли мы драгоценное время? Давайте прочешем округу, пока этот мерзавец далеко не ушел.
– Ближайший поезд будет в шесть утра, – подумав, сказал сержант, – так что уехать он не сможет. Если же он пойдет пешком по дороге в таком виде, мокрый и грязный, его обязательно заметят. В любом случае, я не могу уйти с места происшествия, пока меня не сменят, и думаю, что и вам не стоит уходить, пока мы не разберемся, что к чему.
Тем временем доктор, взяв лампу, стал осматривать тело.
– А это что за знак? – спросил он. – Это не может быть как-то связано с преступлением?
Правый рукав халата мистера Дугласа сбился наверх, и его рука была обнажена по локоть. Примерно на середине бледного предплечья темнел странный символ – треугольник внутри круга.
– Это не татуировка, – сказал доктор, всматриваясь в знак через очки. – Никогда ничего подобного не видел. Это самое настоящее клеймо. Его когда-то заклеймили, как корову. Что бы это могло значить?
– Что это значит, я не знаю, – сказал Сесил Баркер, – но за те десять лет, что я был с ним знаком, я много раз видел у него этот знак.
– Я тоже, – вставил дворецкий. – Когда хозяин закатывал рукава, я все время обращал внимание на эту фигуру. И не раз задумывался над ее смыслом.
– Ну, стало быть, к убийству это отношения не имеет, – сказал сержант. – Хотя, конечно же, это довольно странно. Да в этом деле вообще все странно. Что там еще?
Издав удивленный возглас, дворецкий указал на вытянутую руку своего мертвого хозяина.
– С него сняли обручальное кольцо! – ошеломленно вскричал он.
– Что?
– Да-да! Хозяин носил обручальное кольцо на мизинце правой руки. Сверху над ним – вот это кольцо с камешком, а на среднем пальце – плетеное. Эти два кольца на месте, а обручальное исчезло!
– Он прав, – подтвердил Баркер.
– Вы хотите сказать, – уточнил сержант, – что обручальное кольцо находилось под кольцом с камнем?
– Да, он всегда так их носил.
– Что же получается? Убийца, или кто он там был, сначала снял с пальца мистера Дугласа кольцо с камнем, потом его обручальное кольцо, а после этого снова надел ему на палец кольцо с камнем…
– Выходит, что так.
Достойный страж закона покачал головой.
– Сдается мне, чем раньше мы передадим это дело специалистам из Лондона, тем лучше, – обескураженно произнес он. – У нас есть и свой сыщик – Уайт Мэйсон, светлая голова, со всем, что у нас тут происходило, всегда справлялся. И все же без лондонцев здесь, пожалуй, не обойтись. Могу сказать честно, дело это для людей поумнее, чем я.
Глава 4 В потемках
В три часа утра по срочному вызову сержанта Уилсона в Берлстоун из полицейского управления в двуколке, запряженной взмыленным рысаком, примчался главный суссекский следователь. Поездом в пять сорок он отправил депешу в Скотленд-Ярд, а в двенадцать часов уже встречал нас на берлстоунской станции. Уайт Мэйсон оказался немногословным спокойным человеком в свободном твидовом костюме с гладко выбритым красноватым лицом, заметным брюшком и короткими кривыми ногами в гетрах. Похож он был на какого-нибудь фермера или отставного егеря, но только не на офицера полиции.
– Это нечто сногсшибательное, мистер Макдональд! – все повторял он. – Представляю, сколько репортеров сюда понаедет, когда дело получит огласку! Надеюсь, мы успеем доделать свою работу, прежде чем они начнут совать носы во все щели и затопчут все следы. На моей памяти ничего подобного не случалось. Думаю, и вас, мистер Холмс, тут кое-что заинтересует. Да и вас тоже, доктор Ватсон, потому что там и для вашего брата медика работа найдется. Я снял для вас номера в «Уэствилл-армс». Других гостиниц поблизости нет, но, говорят, там достаточно чисто и уютно. Ваши вещи отнесут. Прошу сюда, джентльмены.
Суетливым и добродушным человеком был этот суссекский детектив. Уже через десять минут мы с его помощью разместились в своих номерах, а еще через десять сидели в вестибюле гостиницы и слушали торопливое изложение событий, описанных в предыдущей главе. Макдональд время от времени задавал какие-то вопросы, что-то уточнял, но Холмс слушал молча и неподвижно, на лице его застыло выражение удивления и восторга, как у какого-нибудь ботаника, неожиданно наткнувшегося на редкостное и ценное растение.
– Замечательно! – воскликнул он, когда рассказ был закончен. – В высшей степени замечательно! Один из самых интересных и необычных случаев в моей практике.
– Я знал, что вы так скажете, мистер Холмс, – просиял Уайт Мэйсон. – И у нас в Суссексе иногда происходит что-то интересное. Я рассказал, как обстояли дела до того времени, когда я принял дела от сержанта Уилсона, где-то между тремя и четырьмя часами утра. Да уж… Я так спешил, что чуть не загнал свою старушку кобылу. Правда, выяснилось, что спешить было вовсе не обязательно, потому что все равно никаких срочных мер предпринять я не мог. Сержант Уилсон уже собрал все улики. Я проверил их, добавил еще парочку.
– Какие именно? – тут же спросил Холмс.
– Ну, сперва я осмотрел молоток. Доктор Вуд помог мне. На нем никаких следов мы не нашли. Я надеялся, что, если мистер Дуглас защищался этим молотком, он, прежде чем уронил его на ковер, мог ранить нападавшего. Но на молотке никаких пятен не было.
– Нет, это ничего не доказывает, – заметил инспектор Макдональд. – Сколько раз людей убивали молотком, а на самих молотках никаких следов не оставалось.
– Верно. Это не доказывает, что молоток не был использован. Если бы на нем обнаружились пятна, это могло бы помочь нам. Но их там не оказалось. Потом я осмотрел ружье. Оно было заряжено крупной дробью, и, как заметил сержант Уилсон, спусковые крючки у него были связаны так, чтобы при нажатии на задний крючок выстрел производился одновременно из двух стволов. Тот, кто стрелял, явно не хотел промахнуться. Весь обрез в длину не больше двух футов, поэтому его легко можно спрятать под одеждой. Полного имени изготовителя на нем нет, только на ложе между стволами сохранилось начало надписи: «P E N». Остальная часть отрезана вместе со стволами.
– Большая «P» с вензелем над ней, а «E» и «N» поменьше? – спросил Холмс.
– Да.
– «Пенсильвания-смолл-армс-компани» – это известная американская марка, – сказал Холмс.
Уайт Мэйсон посмотрел на моего друга, как сельский врач смотрит на светило медицины, который с ходу может решить задачу, поставившую его в тупик.
– Это нам очень поможет, мистер Холмс. Конечно же, вы правы. Прекрасно! Прекрасно! Вы что, держите в памяти названия всех производителей оружия в мире?
Холмс нетерпеливым взмахом руки закрыл эту тему.
– Точно, это американское оружие, – продолжил Уайт Мэйсон. – Кажется, я где-то читал, что в некоторых районах Америки укороченные дробовики – распространенное оружие. Я об этом сразу подумал, еще до того, как заметил надпись между стволами. Это говорит о том, что человек, который проник в дом и убил его хозяина, – американец.
– Нет, по-моему, вы слишком спешите с выводами, – покачал головой Макдональд. – Я пока еще не услышал доказательств того, что в доме вообще был кто-то посторонний.
– А открытое окно? А кровь на подоконнике? А странная карточка? А следы ботинок в углу, наконец? К тому же еще этот обрез. Вам этого мало?
– Все это можно подделать. Мистер Дуглас был американцем или долгое время жил в Америке. Так же, как и мистер Баркер. Вовсе не обязательно искать какого-то американца.
– Но дворецкий Эймс…
– Что дворецкий? Ему вообще можно доверять?
– Он десять лет служил у сэра Чарльза Чандоса… Абсолютно надежный человек. С Дугласом он с того дня, как тот въехал в эту усадьбу пять лет назад.
– Стволы дробовика укорочены специально для того, чтобы его легче было прятать. Вообще-то его можно засунуть в любую коробку, и мы не можем с уверенностью сказать, что это оружие не хранилось в доме.
– Может быть, но Эймс утверждает, что раньше этого обреза не видел.
Макдональд упрямо покачал головой.
– Все равно, я не уверен, что в доме был кто-то посторонний. Вы только представьте, – по мере того, как шотландца захватывал разговор, его абердинский акцент становился все заметнее, – только представьте, как сложно человеку со стороны проникнуть в дом и скрываться там так долго! Это просто невообразимо! Это противоречит здравому смыслу! Мистер Холмс, рассудите вы!
– Для начала, мистер Мак, изложите свои соображения, – тоном строгого судьи произнес Холмс.
– Убийца (если, конечно, исходить из того, что это не самоубийство) не был грабителем. Эта манипуляция с кольцами и непонятная карточка указывают на то, что преступление совершено по личным мотивам. Предположим, в дом проникает некто, задумавший совершить убийство. Он знает, что покинуть дом будет непросто, потому что здание со всех сторон окружено водой. Какое он выбрал бы оружие? Здравый смысл подсказывает, что бесшумное, чтобы, сделав дело, незамеченным выбраться через окно, перейти ров и скрыться. Это можно понять. Но можно ли понять, чтобы он, идя на такое дело, выбрал самое громкое из всех существующих видов оружия, применение которого неминуемо приведет к тому, что все обитатели дома со всех ног бросятся на шум и что его, скорее всего, увидят, если он даже и успеет выпрыгнуть в окно? Можно ли посчитать такую версию правдоподобной, мистер Холмс?
– Что ж, звучит весьма убедительно, – задумчиво сказал Холмс. – Позвольте спросить, мистер Уайт Мэйсон, вы осмотрели противоположный берег рва, на котором должны были остаться следы выбравшегося из воды человека?
– Таких следов не было, мистер Холмс. Но этот берег представляет собой каменный уступ, поэтому неудивительно, что мы ничего там не нашли.
– Вообще ничего?
– Совершенно.
– Так-так! Мистер Уайт Мэйсон, вы не возражаете, если мы не будем терять времени и как можно скорее пойдем к дому? Возможно, нам удастся обнаружить еще какую-нибудь важную мелочь.
– Я и сам собирался это предложить, мистер Холмс, но решил, что лучше будет сначала изложить вам все факты. Надеюсь, если у вас появятся какие-нибудь соображения… – Уайт Мэйсон с сомнением посмотрел на сыщика-любителя.
– Я уже работал с мистером Холмсом раньше, – сказал инспектор Макдональд. – Он знает правила игры.
– По крайней мере, в той степени, в которой я ее себе представляю, – улыбнулся Холмс. – Моя задача – помочь свершению правосудия и работе полиции. Если моя связь с официальными властями когда-либо и прерывалась, то по их желанию, не по моему. Я вовсе не ищу славы за чужой счет. В то же время, мистер Уайт Мэйсон, я оставляю за собой право вести собственное расследование и предоставить результаты своей работы тогда, когда сам посчитаю нужным… В полном объеме и сразу, не поэтапно.
– Конечно же. Для нас честь работать рядом с вами, и мы со своей стороны готовы поделиться с вами всем, что станет известно нам, – искренне воскликнул Уайт Мэйсон. – Идемте, доктор Ватсон. Мы все надеемся, что вы и нас упомянете в одной из своих книг.
Мы двинулись по живописной деревенской улочке, по обеим сторонам которой росли аккуратно подстриженные вязы. В самом конце ее стояли два старинных, почерневших от времени замшелых каменных пилона, поддерживающих нечто бесформенное, что когда-то было грозным, стоящим на задних лапах львом с фамильного герба Капуса Берлстоунского. Далее нас ждала небольшая прогулка по извилистой дорожке, петляющей между такими дубами, которые теперь можно встретить только лишь в английской глубинке. Потом неожиданный поворот – и нашим взорам открылись невысокое вытянутое в ширину здание из грязного темно-коричневого кирпича, в стиле короля Якова Первого, и окружавший его с обеих сторон тисовый сад. Деревья были старые, но ухоженные. Направившись к дому, мы увидели и деревянный подъемный мост, и изумительной красоты широкий ров, вода в котором под холодным зимним солнцем казалась неподвижной и сверкала, как ртуть.
Три столетия простояло здесь это здание. Оно было свидетелем множества рождений и возвращений после долгой разлуки, здесь проводились сельские праздники и встречались участники лисьих охот. Как странно, что теперь эти освященные веками стены накрыла тень столь страшного преступления! И все же нужно признать, что эти странные островерхие крыши и причудливые нависшие фронтоны не могли не наводить на мысли о жутких тайнах и коварных интригах. Когда я смотрел на глубоко посаженные окна и широкий, серый, вздымающийся над водой фасад, меня посетила мысль, что место это как нельзя лучше подходит для той трагедии, которая привела нас сюда.
– Вон то окно, – указал Уайт Мэйсон. – Первое от моста справа. Оно до сих пор открыто так же, как ночью.
– Довольно узкое, через него не так-то легко пролезть.
– Значит, убийца не был толстяком. Мистер Холмс, это можно понять и без вашей дедукции, но вы или я протиснулись бы через него.
Холмс подошел к кромке воды и посмотрел через ров. Потом принялся изучать каменный выступ и заросшую травой землю рядом с ним.
– Я тут уже все хорошо осмотрел, мистер Холмс, – сказал Уайт Мэйсон. – Здесь ничего нет. Никаких следов того, чтобы кто-нибудь выбирался из воды. Да и вряд ли он смог бы их здесь оставить.
– Вот именно. Вряд ли. Вода здесь всегда такая мутная?
– Да, это ее обычный цвет. Ручей, который питает ров, приносит с собой глину.
– Насколько здесь глубоко?
– С краю – фута два, посередине – около трех.
– Значит, версию о том, что злоумышленник утонул, перебираясь через ров, можно отбросить.
– Конечно, тут и ребенок не утонет.
Мы перешли мост, дверь открыл странного вида высохший морщинистый старичок, дворецкий Эймс. Бедняга был бледен и весь дрожал от перенесенного потрясения. Деревенский сержант, высокий строгий мужчина с печальным лицом, все еще дежурил в роковой комнате. Врача уже не было.
– Есть новости, сержант Уилсон? – спросил Уайт Мэйсон.
– Нет, сэр.
– Тогда вы свободны. Можете идти домой отдыхать. Если вы нам будете нужны, мы вас вызовем. Дворецкому лучше пока подождать снаружи. Передайте ему, пусть предупредит мистера Сесила Баркера, миссис Дуглас и экономку, что мы, возможно, захотим с ними поговорить. Теперь, джентльмены, думаю, вы позволите для начала мне высказать свое мнение об этом деле. Потом послушаем и вас.
Надо сказать, этот деревенский сыщик произвел на меня большое впечатление. Острый ум, хватка – чувствовалось, что он далеко пойдет в своей профессии. Холмс выслушал его очень внимательно, без тени раздражительности, которая обычно овладевала им при разговоре с представителями официальных властей.
– В первую очередь нам нужно ответить на вопрос, с чем мы имеем дело, с убийством или самоубийством, не так ли, джентльмены? Если мистер Дуглас покончил с собой, то нам нужно признать, что, прежде чем это сделать, он снял с пальца обручальное кольцо и где-то его спрятал. Потом пришел в эту комнату в халате, натоптал в углу грязные следы, чтобы все решили, будто там кто-то его дожидался, после чего открыл окно, оставил пятно крови на…
– Все это настолько дико, что от этой версии мы можем сразу отказаться, – сказал Макдональд.
– Я тоже так думаю. Самоубийство отпадает. Значит, мы имеем дело с хладнокровным и жестоким убийством. В таком случае нам нужно выяснить, кто убил хозяина усадьбы, кто-то из домашних или человек посторонний.
– Давайте рассмотрим улики.
– В обоих случаях это было не так-то просто сделать. И все же каким-то образом это было сделано. Давайте вначале предположим, что преступником является кто-то из тех, кто постоянно находится в доме. Мистера Дугласа застрелили, когда все уже разошлись по своим комнатам, но никто еще не спал. И сделали это самым неподходящим для этой цели оружием, как будто специально хотели, чтобы все услышали, что произошло… Оружием, которого до сих пор никто в доме не видел. Начало не очень многообещающее, не так ли?
– Да уж.
– Далее. Все соглашаются с тем, что не более чем через минуту после того, как поднялась тревога, все, кто находился в доме… кроме мистера Сесила Баркера, хотя он и утверждает, что оказался на месте преступления первым, все, включая дворецкого Эймса, собрались у кабинета. И вы хотите сказать, что за это время убийца успел подделать следы в углу, открыть окно, нанести кровь на подоконник, снять с убитого кольцо и так далее? Это невозможно!
– Звучит убедительно, – заметил Холмс. – Я с вами согласен.
– Теперь рассмотрим следующую версию: убийца – человек со стороны. Здесь тоже много чего непонятного, но, по крайней мере, поддается объяснению. Неизвестный проник в дом между половиной пятого и шестью, другими словами, после того, как стемнело, и до того, как подняли мост. В доме гости, дверь открыта, поэтому ему ничто не мешало это сделать. Это мог быть обычный грабитель, а мог быть и человек, который пришел специально для того, чтобы свести счеты с мистером Дугласом. Поскольку мистер Дуглас бóльшую часть жизни прожил в Америке и дробовик этот, похоже, американского производства, сведение старых счетов кажется наиболее вероятной версией. Преступник спрятался в первой же комнате, в которую можно попасть, войдя в дом. Здесь он встал за занавеской и оставался на этом месте до начала двенадцатого, когда в комнату вошел мистер Дуглас. Разговор их был коротким, если они вообще разговаривали, поскольку миссис Дуглас утверждает, что услышала выстрелы уже через несколько минут, после того как последней видела мужа.
– Это видно и по свече, – добавил Холмс.
– Вот-вот, свеча, новая свеча, только что вставленная в подсвечник, оплавилась не больше, чем на полдюйма. Наверняка он сам поставил ее на стол до того, как в него выстрелили, иначе она лежала бы на полу. Это, кстати, говорит о том, что на него напали не сразу, а через какое-то время после того, как он вошел в комнату. Когда сюда пришел мистер Баркер, свеча горела, а лампа – нет.
– Пока все логично.
– Итак, давайте теперь попробуем восстановить, что же здесь произошло. Мистер Дуглас входит в комнату. Ставит свечу на стол. Из-за шторы выходит человек. В руке у него обрез. Он требует обручальное кольцо… Одному Богу известно зачем, но, скорее всего, именно так и было. Мистер Дуглас снимает кольцо и отдает. Потом то ли хладнокровно, то ли в результате какой-то борьбы (Дуглас мог схватиться за молоток, который мы нашли на ковре) неизвестный стреляет в него и убивает на месте. После этого швыряет на него оружие и эту непонятную карточку «Д. В. 341» и, выбравшись через окно, бросается наутек через ров в тот самый миг, когда Сесил Баркер обнаруживает труп. Что скажете, мистер Холмс?
– Очень интересно, но несколько неубедительно.
– Право же, все это можно было бы назвать совершеннейшей чушью, если бы любые другие объяснения не казались еще более невероятными! – горячо возразил Макдональд. – Кто-то убил хозяина этого дома. Кто убийца, я не знаю, но, кем бы он ни был, я легко могу доказать вам, что это не было заранее спланированное убийство. Почему он сделал это так поздно, когда труднее всего уйти из дома? Почему он стрелял из ружья, хотя тишина была его единственным шансом на спасение? Мистер Холмс, раз уж вы считаете версию мистера Уайта Мэйсона неубедительной, подскажите другую.
Холмс все это время сидел с сосредоточенным видом, напряженно прислушиваясь к каждому слову и время от время посматривая то направо, то налево.
– Для того чтобы строить какие-то версии, мне не хватает еще нескольких фактов, мистер Мак, – сказал он, опускаясь на одно колено рядом с убитым. – Боже мой! Рана просто ужасна. Не могли бы вы позвать дворецкого ненадолго?… Эймс, насколько я понимаю, вы достаточно часто видели этот весьма необычный знак, выжженный на коже треугольник в круге, на предплечье мистера Дугласа?
– Да, много раз, сэр.
– Он никогда не рассказывал, что это означает?
– Нет, сэр.
– Должно быть, тот, кому наносят такой знак, испытывает просто невероятную боль. Скажите, Эймс, я заметил небольшой кусочек пластыря на подбородке мистера Дугласа, вы знаете, откуда он появился?
– Да, сэр, он порезался вчера утром, когда брился.
– А подобное когда-нибудь раньше с ним случалось?
– Нет. Если и случалось, то очень-очень давно, сэр.
– Это много о чем говорит! – многозначительно произнес Холмс. – Конечно же, это может быть простым совпадением, но может и указывать на нервозность, а это уже позволяет предполагать, что у него были причины чего-то опасаться. Вы не заметили ничего необычного в его поведении вчера, Эймс?
– Мне показалось, что он как будто был несколько возбужден или встревожен, сэр.
– Ха! Значит, нападение, возможно, не было для него неожиданным! Что-то начинает проясняться, не так ли? Может быть, вы хотите провести допрос, мистер Мак?
– Нет-нет, мистер Холмс, куда уж мне с вами тягаться.
– Хорошо, тогда перейдем к этой карточке, «Д. В. 341». Это кусочек картона. В доме есть такой картон?
– Не думаю, сэр.
Холмс подошел к столу и капнул по чуть-чуть из каждой чернильницы на промокательную бумагу.
– Нет, это писали не в этой комнате, – сказал он. – На карточке чернила черные, а эти – с легким фиолетовым оттенком. Буквы и цифры написаны широким пером, а тут только тонкие. Нет, определенно, писалось не здесь. Вы не знаете, что может означать эта надпись, Эймс?
– Нет, сэр, даже не догадываюсь.
– А вы что думаете, мистер Мак?
– Меня это наводит на мысль о каком-то тайном обществе. Так же, как и клеймо на руке.
– Да-да, я тоже так думаю, – согласно закивал Уайт Мэйсон.
– Что ж, ничто не мешает нам принять это за рабочую версию и рассмотреть, как это соотносится с нашими трудностями. В дом проникает посланец этой организации, дожидается мистера Дугласа, почти сносит ему голову из дробовика и уходит через ров, оставив рядом с трупом карточку, которая, после того как о ней обязательно упомянут в газетах, укажет остальным членам общества на то, что акт мщения совершен. Как будто все собралось в единую картину. Но почему он выбрал именно это оружие?
– Вот именно.
– И зачем у него забрали кольцо?
– Вот-вот.
– И почему до сих пор никто не арестован? Сейчас уже начало третьего! Я полагаю, сейчас в радиусе сорока миль все констебли заняты тем, что разыскивают неизвестного человека в мокрой одежде?
– Так и есть, мистер Холмс.
– В таком случае уйти ему не удастся. Если, конечно, у него поблизости нет места, где можно отсидеться, или если он не запасся сменной одеждой. И все же пока что он на свободе. – Холмс подошел к окну и теперь рассматривал через лупу кровавый след на подоконнике. – Это отпечаток подошвы туфли. Причем на удивление широкой. Можно предположить у убийцы плоскостопие. Это любопытно, потому что следы в углу мне показались намного более изящными. Впрочем, они настолько неотчетливые, что трудно что-либо сказать с уверенностью. А что это под маленьким столиком?
– Гантели мистера Дугласа, – сказал Эймс.
– Гантель. Там только одна. А где вторая?
– Я не знаю, мистер Холмс. Может быть, второй там и не было, я несколько месяцев не обращал на них внимания.
– Одна гантель… – с серьезным видом хотел что-то сказать Холмс, но в эту секунду в дверь громко постучали.
В комнату заглянул и окинул всех нас пытливым взглядом высокий, загорелый, чисто выбритый мужчина с умными глазами. Я сразу понял, что это Сесил Баркер, о котором уже говорилось.
– Простите, что прерываю ваше совещание, – сказал он, – но есть новости.
– Его арестовали?
– К сожалению, пока нет. Найден его велосипед. Этот негодяй бросил его. Пойдемте, посмотрим. Это рядом, всего в сотне ярдов от дома.
На дорожке несколько конюхов и других зевак с интересом рассматривали велосипед, который вытащили из-за густого куста. Это был старенький «Радж-Уитворт», грязный, как будто на нем отмахали не одну милю, с кожаной сумкой под седлом, в которой оказались гаечный ключ и масленка. Однако ничто не указывало на то, кем мог быть его хозяин.
– Для полиции он может очень пригодиться, – сказал инспектор. – Если все эти штуки имеют номера и зарегистрированы. Но и на том спасибо: если не удастся узнать, куда он ушел, по крайней мере, мы узнаем, откуда он к нам пожаловал. Но какое чудо, скажите на милость, заставило его бросить здесь велосипед? И как ему удалось без него скрыться? Похоже, все только еще больше запуталось, мистер Холмс!
– Вы находите? – задумчиво произнес мой друг. – Посмотрим.
Глава 5 Участники драмы
– Вы еще что-нибудь хотите осмотреть в кабинете? – спросил Уайт Мэйсон, когда мы вернулись в дом.
– Пока нет, – ответил инспектор, Холмс тоже покачал головой.
– Тогда, может быть, вы захотите услышать показания тех, кто находился в доме? Для этого подойдет столовая. Эймс, заходите первым, расскажете нам все, что знаете.
Рассказ дворецкого был кратким и четким, ни у кого не вызвало сомнений то, что он говорил искренно. На работу в этот дом он был принят пять лет назад, сразу после того, как мистер Дуглас приехал в Берлстоун. Он знал, что мистер Дуглас был богатым человеком и что деньги свои он заработал в Америке. Это был добрый и заботливый хозяин… Возможно, не совсем того склада характера, к которому привык Эймс, но разве бывает так, чтобы все было идеально? Нет, он никогда не замечал, чтобы мистер Дуглас чего-то опасался, напротив, это был самый бесстрашный человек, которого он когда-либо знал. Он возобновил работу моста, потому что любил старинные обычаи, а раньше в доме было заведено поднимать его на ночь.
Мистер Дуглас нечасто бывал в Лондоне и вообще покидал деревню, но накануне убийства он ездил за покупками в Танбридж-Уэлс. Ему (Эймсу) показалось, что мистер Дуглас вернулся оттуда слегка взволнованным или обеспокоенным, поскольку вел он себя несколько необычно, спешил, был несдержан. Прошлой ночью дворецкий еще не успел лечь спать, когда бешено затрезвонил звонок. В это время он был в буфетной, в глубине дома, складывал столовое серебро. Выстрела он не слышал, но это и неудивительно, поскольку буфетная, кладовая и кухни расположены в самом дальнем конце дома и от кабинета их отделяет длинный коридор и несколько дверей, которые были закрыты. На звук звонка из своей комнаты вышла экономка, и они вместе поспешили в переднюю часть дома.
Дойдя до лестницы, они увидели, что по ней спускается миссис Дуглас. Нет, она не спешила, и ему не показалось, чтобы она была как-то сильно взволнована. Как только она оказалась внизу, из кабинета выбежал мистер Баркер, он остановил миссис Дуглас и стал просить ее вернуться к себе.
«Умоляю, вернитесь в свою комнату! – кричал он. – Несчастный Джек умер! Ему уже ничем не поможешь. Умоляю, возвращайтесь к себе!»
Не сразу, но ему удалось уговорить миссис Дуглас вернуться. Она не кричала, не рвалась в кабинет. Миссис Аллен, экономка, отвела ее наверх и осталась вместе с хозяйкой в ее спальне. А Эймс с мистером Баркером вернулись в кабинет, где все было точно в таком виде, в котором застала полиция. Свеча не горела, была зажжена лампа. Они выглянули в окно, но ночь была очень темная и им не удалось ничего ни увидеть, ни услышать. Затем они выбежали в холл, Эймс повернул ворот, который опускает мост, и мистер Баркер побежал в полицию.
Такими в общих чертах были показания дворецкого.
Рассказ миссис Аллен в основном повторял его слова. Комната экономки находилась несколько ближе к передней части дома, чем буфетная, в которой работал Эймс. Она уже собиралась лечь спать, когда услышала громкий звонок. Она туговата на ухо и, возможно, поэтому не услышала выстрела, тем более что кабинет находится далеко от ее комнаты. Кажется, она слышала какой-то звук, но посчитала, что это хлопнули двери. Правда, это было намного раньше, примерно за полчаса до звонка. Выйдя из своей комнаты, она столкнулась с мистером Эймсом, и они вместе поспешили в переднюю часть дома. Внизу они увидели мистера Баркера, он был жутко бледен и взволнован, когда вышел из кабинета, чтобы перехватить миссис Дуглас, спускавшуюся по лестнице. Он принялся умолять ее вернуться к себе, и она что-то говорила в ответ, но что именно, миссис Аллен не разобрала.
«Отведите ее наверх! Останьтесь с ней!» – велел ей мистер Баркер.
Она отвела хозяйку в ее спальню и попыталась успокоить. Та была страшно взволнована, вся дрожала, но спуститься больше не порывалась. Она как была в халате, так и села у камина, закрыв лицо ладонями. Большую часть ночи миссис Аллен провела с ней. Что касается остальных слуг, то все уже легли спать, и о том, что случилось, узнали перед самым приходом полиции. Их комнаты расположены в самой глубине дома, поэтому что-либо услышать они не могли.
Ничего больше, кроме слез и причитаний, от экономки мы не добились.
Следующим свидетелем, показания которого мы выслушали, был Сесил Баркер. Относительно ночных событий он мало что мог добавить к тому, что уже рассказал полиции. Лично он не сомневался, что убийца ушел через окно. По его мнению, это доказывало пятно крови на подоконнике. К тому же, поскольку мост был поднят, другого способа покинуть дом не было. Как повел себя убийца, выйдя из дома, или почему он не воспользовался велосипедом, если, конечно же, велосипед принадлежал именно ему, Сесил Баркер предположить не мог. Утонуть, перебираясь через ров, преступник не мог, поскольку глубина воды нигде не превышает трех футов.
Лично он очень хорошо представлял себе, что могло стоять за этим убийством. Мистер Дуглас был скрытным человеком. В его жизни были такие моменты и события, о которых он никогда не говорил. В Америку он переселился, когда был еще очень молодым человеком. Там ему удалось разбогатеть, и Баркер познакомился с ним в Калифорнии, где они на паях взяли в аренду участок земли в месте под названием каньон Бенито и поставили там шахту. Дело их процветало, когда Дуглас неожиданно продал свою долю в деле и уехал в Англию. Дуглас тогда был холостяком. Через какое-то время Баркер обналичил все свои капиталы и переехал в Лондон. Там они возобновили дружбу.
Дуглас производил на него впечатление человека, который чего-то боится. Баркер всегда считал, что его поспешный отъезд из Калифорнии, а также то, что в Англии он поселился в таком тихом месте, как-то было связано с нависшей над ним опасностью. Возможно, какое-то тайное общество, какая-то безжалостная организация преследовала Дугласа и не отступилась бы до тех пор, пока не покончила с ним. На мысль об этом его натолкнули кое-какие высказывания Дугласа, правда, он никогда не рассказывал, что это за организация и чем он перед ней провинился. Можно было только гадать, имеет ли надпись на картонной карточке какое-то отношение к этому тайному обществу.
– Как долго вы были знакомы с Дугласом в Калифорнии? – спросил инспектор Макдональд.
– Всего пять лет.
– И вы говорите, он был холостяком?
– Он был вдовцом.
– Вам известно, кем была его первая жена?
– Нет, но я помню, он как-то сказал, что у нее были немецкие корни. Еще я видел ее портрет. Это была очень красивая женщина. Он умерла от брюшного тифа за год до того, как мы с ним познакомились.
– А где он жил до того, как вы познакомились, вы не знаете?
– Я слышал, как он рассказывал о Чикаго. Он хорошо знал этот город и работал там. Кроме того, он не раз упоминал и разные угледобывающие и железорудные районы. Он в свое время много путешествовал.
– Он не занимался политикой? Возможно, это тайное общество имело какое-то отношение к политике?
– Нет, он совсем не интересовался политикой.
– Может быть, он был как-то связан с преступным миром?
– Что вы, напротив, более честного человека я в жизни не встречал.
– А как он жил в Калифорнии? Никаких странных привычек вы за ним не замечали?
– Он жил и работал на нашем участке в горах. Предпочитал держаться в стороне и по возможности не ходить туда, где собирались люди. Именно это и заставило меня впервые подумать, что он боится преследования. То, что он так неожиданно уехал в Европу, превратило мои подозрения в уверенность. Мне кажется, он получил какое-то предупреждение. Не прошло и недели с его отъезда, как на наш участок явились люди и стали о нем расспрашивать.
– Что это были за люди?
– Их было человек пять-шесть. Довольно сурового вида ребята. Они хотели знать, где он. Я сказал им, что он уехал в Европу, но где его искать, я не знал. Они явно были настроены очень враждебно, это было видно сразу.
– А эти люди, они были американцами? Калифорнийцами?
– Были ли они калифорнийцами, я не знаю, но в том, что они американцы, не сомневаюсь. Но это не шахтеры. Кем они были, я не знаю, но, если честно, у меня отлегло от сердца, когда они убрались с участка.
– Это было шесть лет назад?
– Ближе к семи.
– Ну а если вы к тому времени были знакомы с Дугласом уже пять лет, значит, вся эта каша заварилась никак не меньше одиннадцати лет назад.
– Совершенно верно.
– Он должен был чем-то очень сильно насолить им, чтобы они и через такое долгое время преследовали его. Да, непросто будет докопаться до истины.
– Мне кажется, он всю жизнь не знал покоя и от этого страдал.
– Но если человек знает, что ему угрожает опасность, и знает от кого, почему не обратиться в полицию за помощью?
– Может быть, ему угрожало нечто такое, от чего нельзя было защититься. Вы должны кое-что знать. Он носил при себе оружие. В кармане у него всегда лежал револьвер. Но, к несчастью, вчера ночью он оставил его у себя в комнате и пошел осматривать дом в халате. Наверное, он думал, раз мост уже поднят, бояться нечего.
– Я бы хотел разобраться с датами, – сказал Макдональд. – Дуглас уехал из Калифорнии шесть лет назад. Вы последовали за ним через год, не так ли?
– Да.
– А женился он пять лет назад. Выходит, вы вернулись в Англию примерно тогда же, когда он женился?
– Где-то за месяц до того. Я был шафером у него на свадьбе.
– Вы были знакомы с миссис Дуглас до свадьбы?
– Нет. Меня не было в Англии десять лет.
– Но после этого вы с ней довольно часто виделись.
Баркер бросил на инспектора возмущенный взгляд.
– Я довольно часто виделся с ним, – сказал он. – Если я встречался с ней, то только потому, что нельзя, навещая друга, прятаться от его жены. Если вы считаете, что существует какая-либо связь…
– Я ничего не считаю, мистер Баркер. Я просто задаю вопросы, которые могут иметь отношение к делу, и обижать вас вовсе не собирался.
– Некоторые ваши вопросы весьма бестактны, – зло бросил Баркер.
– Нам нужны лишь факты. И вы, и мы все заинтересованы в том, чтобы во всем как можно скорее разобраться. Мистер Дуглас не был против вашей дружбы с его женой?
Лицо Баркера побледнело, большие крепкие кулаки сжались.
– Кто вам дал право задавать такие вопросы? – вскричал он. – Какое это имеет отношение к делу, которое вы расследуете?
– Я вынужден повторить вопрос.
– Прекрасно. Я отказываюсь на него отвечать.
– Вы имеете на это право, но прошу учесть, что ваш отказ уже является ответом, поскольку, если бы вам нечего было скрывать, вы бы не стали отказываться отвечать.
Баркер на секунду задумался, его брови напряженно сомкнулись, но потом он улыбнулся.
– Что ж, джентльмены, я полагаю, в конце концов вы исполняете свой долг, и я не имею права вам мешать. Я лишь прошу не беспокоить миссис Дуглас вопросами на эту тему. Ей и без того сейчас нелегко. Несчастный Дуглас имел только одну отрицательную черту характера – он был ужасно ревнив. Ко мне он прекрасно относился… мы были настоящими друзьями. И в жене своей он души не чаял. Он любил, когда я приезжал к нему. Если меня долго не было, начинал волноваться и справляться обо мне. И в то же время, если он видел, что мы с его женой разговариваем, или просто замечал, что между нами существует некая симпатия, на него как будто накатывала волна ревности, он тут же выходил из себя и тогда уж за словом в карман не лез. Не раз я отказывался к нему приезжать именно по этой причине, и тогда он слал мне письма с извинениями, писал, как он раскаивается, умолял простить его и приглашал приезжать как можно скорее. Мне ничего не оставалось, и я снова ехал. Но прошу вас верить мне, джентльмены, еще ни у одного мужчины не было такой любящей и преданной жены… Могу добавить, что и мне как другу он мог полностью доверять.
Сказано это было искренне и с глубоким чувством, однако инспектор Макдональд все никак не хотел оставить эту тему.
– Вам известно, что с пальца покойного сняли обручальное кольцо? – спросил он.
– Да, похоже на то, – кивнул Баркер.
– Что значит «похоже»? Это факт.
Баркер слегка смутился.
– Говоря «похоже», – пояснил он, немного подумав, – я имел в виду то, что можно предположить, что он сам снял это кольцо.
– Тот факт, что кольцо исчезло с его пальца – кто бы его ни снял, – естественным образом наводит на мысль, что случившаяся трагедия как-то связана с его браком, вы не находите?
Баркер неуверенно пожал широкими плечами.
– Не берусь сказать, что это означает, – сказал он. – Но если вы хотите намекнуть на то, что здесь каким-то образом затронута честь леди, – глаза Баркера сверкнули, но с видимым усилием ему все же удалось совладать с чувствами, – то вы на ложном пути, так и знайте.
– К вам у меня пока больше вопросов нет, – казенным голосом сказал Макдональд.
– Еще одна деталь, – сказал Шерлок Холмс. – Когда вы вошли в комнату, на столе горела только свеча, верно?
– Да, это так.
– При ее свете вы и увидели, что произошло в кабинете?
– Совершенно верно.
– Вы сразу же позвонили в звонок, чтобы вызвать помощь?
– Да.
– И сразу прибежали слуги?
– Да, не прошло и минуты.
– И все же, зайдя в кабинет, они увидели, что свечка погашена и горит лампа. Мне это кажется очень важным.
Снова на лице Баркера отразилось замешательство.
– Я в этом не вижу ничего важного, мистер Холмс, – подумав, сказал он. – Свечка давала очень мало света, и я первым делом подумал, что нужно осветить все получше. На столе стояла лампа, поэтому я ее и зажег.
– И задули свечку?
– Ну да.
Больше Холмс ничего спрашивать не стал, и Баркер, окинув нас, как мне показалось, вызывающим взглядом, развернулся и вышел из комнаты.
Инспектор Макдональд передал миссис Дуглас, что хотел бы с ней поговорить в ее комнате, но она ответила, что предпочла бы встретиться с нами в столовой. И вот она вошла, высокая красивая женщина лет тридцати, удивительно спокойная и сдержанная, на лице ее не было заметно ни капли волнения. Совсем не та убитая горем, безутешная вдова, какой я ее себе представлял. Да, она была бледна и напряжена, как любой человек, переживший сильнейшее потрясение, но держалась ровно, и изящная рука ее, которую она положила на краешек стола, была столь же тверда, как моя. Печальным вопросительным взглядом она обвела всех нас и вдруг громко, даже как-то с вызовом спросила:
– Вы уже что-нибудь нашли?
Может быть, виной тому мое воображение, но мне показалось, что в ее вопросе было больше страха, чем надежды.
– Делается все от нас зависящее, миссис Дуглас, – сказал инспектор. – Можете быть уверены, мы ничего не упустим.
– Денег не жалейте, – сказала она холодным, ровным голосом. – Я хочу, чтобы было сделано все возможное.
– Возможно, и вы нам поможете пролить свет на это дело.
– Боюсь, что нет. Но я готова рассказать вам все, что мне известно.
– От мистера Сесила Баркера мы знаем, что вы так и не увидели… так и не зашли в комнату, в которой произошла трагедия?
– Да, он встретил меня у лестницы и не позволил войти в кабинет.
– Да, конечно. Вы услышали выстрел и тут же спустились.
– Сначала накинула халат и сразу спустилась.
– Сколько времени прошло с того момента, как вы услышали выстрел, и до того, как мистер Баркер встретил вас внизу?
– От силы пара минут. В такой ситуации тяжело следить за временем. Он стал просить меня вернуться в свою комнату, сказал, что я ничем помочь не смогу. Потом миссис Аллен, экономка, отвела меня обратно наверх. Все это было похоже на кошмарный сон.
– Не могли бы вы приблизительно сказать, сколько ваш муж находился внизу, прежде чем вы услышали выстрел?
– Нет, не могу. Он пошел туда из своей туалетной, и как он оттуда выходил, я не слышала. Он каждый вечер обходил дом – боялся пожара, и, насколько я знаю, это единственное, чего он боялся.
– Это как раз тот вопрос, который я и хотел обсудить, миссис Дуглас. Вы ведь познакомились с мужем в Англии?
– Да, и все эти пять лет вместе прожили здесь, в Англии.
– Он когда-нибудь рассказывал вам о своей жизни в Америке? Может быть, упоминал о чем-нибудь, что могло угрожать ему?
Прежде чем ответить, миссис Дуглас надолго задумалась.
– Да, – наконец сказала она. – Я всегда чувствовала, что ему угрожает какая-то опасность. Но он отказывался обсуждать это со мной. Не то чтобы он не доверял мне… Мы ведь очень любили друг друга, и о недоверии не могло быть и речи… Просто он не хотел, чтобы я волновалась. Он думал, что я больше не смогу быть спокойной, если узнаю о чем-то дурном, поэтому ничего и не рассказывал.
– Как же вы об этом узнали?
По лицу миссис Дуглас скользнула мимолетная улыбка.
– Неужели вы думаете, что муж может всю жизнь прожить с какой-то тайной на душе, а женщина, которая его любит, ничего не заподозрит? Я догадалась об этом по тому, как он отказывался обсуждать со мной отдельные эпизоды своей жизни в Америке. По тому, как настороженно он присматривался к незнакомым людям на улице. По определенным словам, которые порой слетали с его уст. Я была совершенно уверена в том, что у него были могущественные враги, и в том, что он опасался их преследования и хотел защититься от них. Мысли об этом настолько не давали мне покоя, что каждый раз, когда он где-то задерживался, я не находила себе места от страха.
– Позвольте узнать, – сказал Холмс, – а какие именно его слова насторожили вас?
– Долина Ужаса, – ответила леди. – Так он говорил, когда я начинала задавать ему вопросы. «Я жил в Долине Ужаса и все еще не выбрался из нее». «Нам предстоит всю жизнь прожить в Долине Ужаса?» – спрашивала его я, если замечала, что он был более серьезен, чем обычно. «Иногда мне кажется, что да», – отвечал он.
– Конечно, вы спрашивали его, что такое Долина Ужаса.
– Да, но тогда он бледнел и качал головой. «Хватит и того, что один из нас это знает, – говорил он. – Я молю Господа Бога, чтобы ты никогда не узнала, что это такое». Это действительно существующая долина, в которой он когда-то жил и где с ним произошло что-то ужасное, я в этом не сомневаюсь. Но больше мне ничего не известно.
– И никаких имен он не называл?
– Однажды, три года назад, когда он сильно расшибся на охоте, у него была горячка, и в бреду он беспрестанно повторял одно и то же имя. Произносил он его со злостью, но и с оттенком страха. Макгинти… Владыка Макгинти – это имя он повторял. Когда он пришел в себя, я спросила его, кто такой этот Макгинти и чей он владыка. «Слава богу, не мой!» – рассмеявшись, ответил он, но больше ничего вытянуть из него мне не удалось. Между владыкой Макгинти и Долиной Ужаса определенно существует какая-то связь.
– Еще один вопрос, – сказал инспектор Макдональд. – Вы познакомились с мистером Дугласом в Лондоне, в доме, в котором он снимал жилье, не так ли? Там же вы и обручились. В истории вашего знакомства не было ничего романтического, скажем, тайного или загадочного?
– Конечно же, была романтика. В любви всегда есть нечто романтическое и таинственное. Но ничего загадочного у нас не было.
– Может быть, у него был соперник?
– Нет, я была совершенно свободна.
– Вы ведь уже знаете, что у него пропало с пальца обручальное кольцо. Вас это не наводит ни на какие мысли? Если предположить, что какой-то враг из его прошлой жизни настиг его и совершил это преступление, что могло заставить его забрать это кольцо?
Я могу поклясться, что на какую-то долю мгновения на лице женщины появилась едва заметная тень улыбки.
– Нет, тут я ничем вам помочь не могу, – ответила она. – Для меня это такая же загадка, как и для вас.
– Что ж, не смеем больше вас задерживать. Простите, что беспокоим вас в такое время, – сказал инспектор. – Есть еще вопросы, которые мы хотели бы с вами обсудить, но они могут и подождать.
Она встала, и снова я увидел тот же быстрый, слегка удивленный взгляд, которым она окинула нас, как только вошла. «И какое же впечатление произвел на вас мой рассказ?» – я был уверен, именно этот вопрос готов был сорваться с ее уст. Но она лишь поклонилась и выскользнула из комнаты.
– Красивая… Очень красивая женщина, – задумчиво произнес Макдональд, когда за ней закрылась дверь. – Этот Баркер наверняка не просто так здесь столько времени проводил. Он из тех мужчин, которые привлекают к себе женщин. Да он и признает, что убитый ревновал его, хотя вполне может быть, что для ревности были и другие причины, о которых он не стал нам рассказывать. А это обручальное кольцо?! Что-то здесь не так. Если человек срывает с трупа обручальное кольцо… А что вы об этом думаете, мистер Холмс?
До сих пор мой друг сидел, в глубокой задумчивости подперев голову руками, но теперь встал и дернул шнурок звонка для вызова прислуги.
– Эймс, – спросил он явившегося дворецкого, – где сейчас мистер Сесил Баркер?
– Сейчас посмотрю, сэр.
Не прошло и минуты, как он вернулся и доложил, что мистер Баркер в саду.
– Вы не могли бы припомнить, во что был обут мистер Баркер, когда вчера ночью вы вместе с ним зашли в кабинет?
– Могу, мистер Холмс. Ночные тапочки. Я сам принес ему ботинки, когда он собрался идти в полицию.
– Где сейчас эти тапочки?
– Все еще в холле, под стулом.
– Очень хорошо, Эймс. Нам, естественно, очень важно знать, какие из следов могут принадлежать мистеру Баркеру, а какие – преступнику.
– Да, сэр. Я могу сказать, что заметил на его тапочках следы крови… Как и на своих туфлях.
– Ничего удивительного, учитывая, что творилось в комнате. Спасибо, Эймс, если вы нам понадобитесь, мы позвоним.
Через несколько минут мы перешли в кабинет. Холмс по дороге захватил из холла тапочки. Как и говорил Эймс, обе подошвы были черны от крови.
– Странно, – пробормотал Холмс, подойдя к окну и внимательно их изучив. – Очень странно!
Легко наклонившись, он приложил тапочку к кровавому отпечатку на подоконнике. Их контуры совпали в точности. Холмс, не произнося ни слова, повернулся к коллегам и улыбнулся.
Инспектора это открытие преобразило. Сперва он опешил, а потом быстро-быстро затараторил, резко и отрывисто выговаривая слова на шотландский манер.
– Черт! Ну конечно же! Баркер сам оставил след на окне! Отпечаток-то намного шире любого ботинка. Вы говорили о плоскостопии, а оно вот что получается! Но зачем, мистер Холмс? Зачем он это сделал?
– М-да, зачем он это сделал? – задумчиво повторил мой друг.
Уайт Мэйсон довольно засмеялся и потер руки, предвкушая интересную работу.
– Я говорил вам, это нечто сногсшибательное, – торжествующе воскликнул он. – И, как видите, не ошибся.
Глава 6 Тьма рассеивается
Трем детективам нужно было еще обсудить разные мелочи, поэтому я вернулся в скромную сельскую гостиницу один. Но перед этим прогулялся по древнему парку, окружавшему дом. За рядами вековых тисов, которые благодаря рукам садовника отличались самыми причудливыми формами, в глубине сада скрывалась красивая поляна со старинными солнечными часами посередине. Все это выглядело настолько умиротворяющим, что мои несколько расшатанные нервы тут же успокоились.
Здесь, в этой благостной красоте, темный кабинет с распростертой в луже крови мертвой фигурой на полу казался не более чем призрачным воспоминанием о каком-то кошмарном сне. И все же, когда я шел между деревьями, упиваясь тишиной и покоем, со мной произошел странный случай, который снова вернул меня к трагедии и наполнил беспокойством.
Как я уже сказал, сад окаймляли старые тисы. В самом дальнем от дома месте они переходили в густую живую изгородь. У этой изгороди, с наружной стороны, стояла небольшая каменная скамья, невидимая со стороны дома. Проходя мимо этого места, я вдруг услышал приглушенные голоса, низкий мужской голос и короткий женский смех в ответ. В следующее мгновение я обошел край изгороди, и глазам моим предстали миссис Дуглас и Баркер, которые, очевидно, не услышали моего приближения. Вид леди меня поразил. Если в столовой она была сдержанной и скромной, то теперь напускной печали как не бывало. Глаза ее сияли радостью, на лице все еще играла счастливая улыбка, вызванная словами спутника. Он сидел, уперев локти в колени, со сложенными перед собой руками и тоже беззаботно улыбался. Вмиг (но все равно слишком поздно) их лица вновь приняли скорбное выражение. Они обменялись парой торопливых слов, после чего Баркер встал и подошел ко мне.
– Простите, сэр, – сказал он, – я обращаюсь к доктору Ватсону?
Я холодно поклонился. И надеюсь, мой вид в достаточной мере показал, какое впечатление произвела на меня картина, случайным свидетелем которой я стал.
– Мы так и подумали, ведь ваша дружба с мистером Шерлоком Холмсом всем известна. Вы не могли бы уделить нам минуту и поговорить с миссис Дуглас?
С каменным лицом я последовал за ним. Мне вдруг отчетливо представилось изувеченное мертвое тело, лежащее на полу. И вот спустя лишь несколько часов после трагедии его жена и самый близкий друг предаются веселью за кустом в саду, который принадлежал ему!.. Сдержанно я поздоровался с леди. В столовой я разделял ее горе, но теперь ее умоляющий взгляд не встретил сочувствия с моей стороны.
– Боюсь, вы сочтете меня бессердечной и жестокой, – произнесла она.
– Это не мое дело, – равнодушно пожал плечами я.
– Возможно, когда-нибудь вы меня поймете. Если б вы только знали…
– Доктору Ватсону незачем что-либо знать или понимать, – торопливо оборвал ее Баркер. – Как он сам сейчас справедливо заметил, это дело никоим образом его не касается.
– Совершенно верно, – бросил я. – Поэтому с вашего позволения я продолжу прогулку.
– Подождите, доктор Ватсон, – умоляющим голосом вскричала женщина. – Вы единственный человек в мире, к которому я могу обратиться. Мне очень нужно знать ответ на один вопрос. Вы лучше кого бы то ни было знаете мистера Холмса, и вам известно, в каких отношениях он с полицией. Если я ему доверюсь, он обязательно должен будет сообщить обо всем детективам?
– Да, действительно, – подхватил Баркер. – Он действует сам по себе или от их имени?
– Я не уверен, что могу обсуждать с вами этот вопрос.
– Прошу… Умоляю вас, доктор Ватсон! Поверьте, вы очень поможете нам… Поможете мне, если дадите ответ.
В голосе женщины было столько искренности, что на миг я позабыл о ее легкомыслии и поддался желанию помочь ей.
– Мистер Холмс ведет независимое расследование, – сказал я. – Он никому не подчиняется и действует так, как сам считает нужным. В то же время, разумеется, он сотрудничает с представителями официальных властей, которые работают над этим делом, и он не станет утаивать от них ничего, что может помочь изобличить преступника. Это все, что я могу вам сообщить. Если вы хотите узнать что-нибудь еще, обращайтесь к самому мистеру Холмсу.
С этими словами я приподнял шляпу и отправился своей дорогой, оставив их на каменной скамье у тисовых кустов. Дойдя до конца живой изгороди, я оглянулся и увидел, что они о чем-то оживленно разговаривают. Поскольку взоры их были обращены в мою сторону, мне стало ясно, что обсуждали они нашу короткую беседу.
– Мне их откровения ни к чему, – сказал Холмс, когда я сообщил ему об этом происшествии. Весь день он провел в усадьбе, консультируясь с двумя коллегами, и, вернувшись около пяти, жадно набросился на ужин, который я для него заказал. – Ни о каких доверительных отношениях с ними не может быть и речи, Ватсон, потому что это поставит меня в неудобное положение, если дело дойдет до ареста за предумышленное убийство.
– Вы думаете, что идет к этому?
Настроение у Холмса было приподнятое и благодушное.
– Дорогой мой Ватсон, я с удовольствием расскажу вам, как обстоят дела, как только покончу с четвертым яйцом. Нельзя сказать, что это наша основная версия. Вовсе нет, но, когда мы найдем пропавшую гантель…
– Гантель?!
– Ватсон, вы что, до сих пор не поняли, что главное в этом деле – пропавшая гантель? Ну-ну, не вешайте нос. По секрету могу сказать вам, что ни инспектор Мак, ни местный сыщик, по-моему, тоже пока не догадываются об истинной значимости исчезновения этого гимнастического снаряда. Гантель всего одна! Представьте-ка себе атлета с одной гантелью, Ватсон. Подумайте о неравномерном мышечном развитии, о возможном искривлении позвоночника. Ужасно, Ватсон, просто ужасно!
Жуя бутерброд, он с озорным блеском в глазах посмотрел на мое растерянное лицо. Его превосходный аппетит служил доказательством тому, что дело движется к успешному завершению, поскольку я прекрасно помнил, как он, бывало, забывал о еде на несколько дней, когда разум его был сутками напролет занят распутыванием какой-нибудь очередной сложнейшей задачи, и тогда полнейшая умственная концентрация доводила его и без того худое тело до полного истощения. Наконец Холмс закурил трубку, подсел поближе к старому камину и стал излагать суть дела. Речь его лилась неторопливо, порой он неожиданно перескакивал с одной мысли на другую, как человек, который скорее мыслит вслух, чем что-то сообщает.
– Ложь, Ватсон… Сплошная, огромная, чудовищная, наглая, беспардонная ложь, вот с чем нам довелось столкнуться! Это и будет нашей отправной точкой. Все, что рассказал Баркер, – ложь. Но его рассказ подтверждает миссис Дуглас, следовательно, она тоже лжет. Это означает одно – они в сговоре. Вот теперь появился четкий вопрос: почему они лгут и что скрывает их ложь? Давайте попытаемся, Ватсон, вы и я, пробить эту стену лжи и восстановить истину.
Откуда мне известно, что они лгут, спросите вы. Весь их рассказ – не более чем выдумка, причем не очень искусная, которая просто не может быть правдой. Посудите сами. По их словам выходит, что у убийцы после совершения преступления было не более минуты на то, чтобы снять с пальца жертвы кольцо, которое было под другим кольцом, потом вернуть на место второе кольцо (чего в реальности ни один убийца не стал бы делать), да еще и бросить рядом с телом эту непонятную карточку. Я утверждаю, что это невозможно.
Вы могли бы возразить (хотя я слишком уважаю ваш здравый смысл, Ватсон, чтобы ожидать от вас подобного), что кольцо было снято до того, как мистер Дуглас был убит. Свечка горела очень недолго, и это говорит о том, что длинного разговора не было. Мог ли мистер Дуглас, о бесстрашии которого мы наслышаны, согласиться расстаться с обручальным кольцом так быстро? Согласился бы он вообще отдать его? Нет. Нет, Ватсон. Убийца имел возможность провести какое-то более продолжительное время рядом с трупом при зажженной лампе. Это у меня не вызывает сомнений.
Однако причиной смерти был именно выстрел из ружья, и выходит, стреляли несколько раньше, чем было сказано нам. Но ведь в таком вопросе ошибиться невозможно. Следовательно, это означает, что те два человека, которые его слышали, это Баркер и миссис Дуглас, сознательно говорят неправду и находятся в сговоре. Кроме того, я могу доказать, что пятно крови было целенаправленно нанесено Баркером на подоконник, чтобы сбить со следа полицию. Думаю, теперь вы должны признать наличие очень веских улик против него.
Теперь мы должны задать себе вопрос: в какое время убийство было совершено в действительности? До половины одиннадцатого по дому ходили слуги, которые услышали бы выстрел, значит, это произошло позже. Без четверти одиннадцать все уже разошлись по своим комнатам, кроме Эймса, который копался в буфетной. Сегодня, когда вы ушли, я провел парочку экспериментов и убедился, что в буфетной никакие звуки, доносящиеся из кабинета, не слышны, при условии, что все двери между ними закрыты.
Этого нельзя сказать о комнате экономки. Она расположена несколько ближе по коридору, и в ней я смог услышать голоса из кабинета, когда там разговаривали очень громко. Звук выстрела несколько приглушается, когда стреляют с очень близкого расстояния, как это, несомненно, произошло и в нашем случае. Он не был бы очень громким, но, вне всякого сомнения, долетел бы до комнаты экономки. Миссис Аллен сама сказала нам, что немного глуховата, и тем не менее в своих показаниях она упомянула, что слышала какой-то звук, похожий на хлопок двери, примерно за полчаса до того, как была поднята тревога. «Примерно за полчаса» означает без четверти одиннадцать. Я уверен, что на самом деле она слышала выстрел из ружья, и именно в это время был убит мистер Дуглас.
Если это так, то теперь нам предстоит выяснить, чем могли заниматься Баркер и миссис Дуглас, если, конечно, они сами не были убийцами, между десятью сорока пятью, когда звук выстрела заставил их спуститься вниз, и одиннадцатью пятнадцатью, когда они подняли тревогу и собрали слуг. Чем они были заняты в это время и почему не позвали слуг сразу? Ответ на этот вопрос нам и предстоит найти. И, когда это произойдет, мы уже будем недалеки от окончательного раскрытия всего дела.
– Я и сам считаю, что между этими двумя существует некая связь, – сказал я. – Какая же она бессердечная особа, если может смеяться над какими-то шуточками, когда ее муж убит всего несколько часов назад.
– Вот-вот. Даже ее собственный рассказ о том, что случилось, доказывает, что она – не самая образцовая жена. Сам я, как вам известно, не отношусь к страстным поклонникам женского пола, но даже меня жизненный опыт научил, что на свете очень мало любящих жен, которые позволили бы словам другого мужчины встать между собой и мертвым телом мужа. Если я когда-нибудь женюсь, Ватсон, надеюсь, что я смогу внушить своей жене такие чувства, которые не позволят ей дать экономке увести себя, когда мой труп лежит всего в нескольких шагах в соседней комнате. Все это был лишь плохой спектакль. Любого, даже самого неопытного, следователя должно насторожить отсутствие обычных женских завываний и причитаний. Не будь всего остального, одного этого хватило бы, чтобы у меня зародились определенные подозрения.
– Что же выходит? Вы считаете, что это Баркер с миссис Дуглас виновны в убийстве?
– Вы задаете слишком прямые вопросы, Ватсон, – сказал Холмс, качнув трубкой в мою сторону. – Если бы вы спросили, знают ли миссис Дуглас и Баркер правду об убийстве, скрывая ее, я мог бы дать вам искренний ответ. Да, я в этом уверен. Но ваша формулировка не позволяет дать такой же однозначный ответ. Давайте рассмотрим трудности, которые мешают это сделать.
Предположим, что этих двоих соединила преступная любовь и они решили избавиться от человека, который стоит между ними. Само по себе это уже довольно смелое предположение, поскольку показания слуг не подтверждают этого. Напротив, все говорят о том, что Дугласов связывали очень нежные чувства.
– Но этого не может быть! – с глубоким убеждением воскликнул я, вспомнив жизнерадостную улыбку на прекрасном лице в саду.
– По крайней мере, они производили такое впечатление. Как бы то ни было, мы имеем право предположить, что эти двое настолько коварны, что смогли не только провести всех вокруг, но и подготовить убийство мужа. По странному стечению обстоятельств этому человеку и без них что-то угрожало…
– Но об этом нам известно только с их слов.
Холмс призадумался.
– Все ясно, Ватсон. Вы решили придерживаться мнения, что все, абсолютно все, что они нам рассказали, – ложь от начала до конца. По-вашему, никакой угрозы мистер Дуглас не опасался, никакого тайного общества не существует, не было никакой Долины Ужаса, владыки Мак-как-его-там и всего остального. Я бы сказал, что это довольно широкое обобщение. Давайте рассмотрим, что оно нам даст. Значит, все это является плодом их вымысла, цель которого – отвернуть от себя подозрение и направить следствие по ложному следу. Велосипед в саду они подбрасывают, чтобы ни у кого не осталось сомнений в том, что в деле замешан кто-то со стороны. Кровавый след на подоконнике нужен для того же. Как и карточка рядом с телом, которая могла быть заранее подготовлена где-то в доме. Все это укладывается в вашу версию, Ватсон. Но опять возникают все те же краеугольные вопросы: почему для убийства был выбран именно дробовик с укороченными стволами, да еще и американского производства? Откуда они могли знать, что выстрела никто не услышит? Ведь только по чистой случайности миссис Аллен не отправилась проверять, где это там так громко хлопают двери. Почему ваша пара преступников пошла на это, Ватсон?
– Даже не знаю, что и думать.
– К тому же, если уж женщина с любовником решили отправить на тот свет мужа, стали бы они идти на большой риск и снимать с его пальца обручальное кольцо, выставляя тем самым напоказ свои отношения? Вам это кажется правдоподобным, Ватсон?
– Н-нет, не кажется.
– И кроме того, раз уж вы считаете, что велосипед в саду был оставлен специально, неужели им не пришло бы в голову, что любой следователь, даже самый недалекий, поймет, что это очевидная уловка, поскольку велосипед – это именно то, что в первую очередь было необходимо преступнику для того, чтобы скрыться?
– Честно говоря, я не могу этого объяснить.
– А ведь не должно существовать такой комбинации событий, которую нельзя было бы объяснить. Позвольте мне в качестве зарядки для ума, никоим образом не претендуя на то, что все в действительности происходило именно так, предложить вам иную версию. Это не более чем догадки, но не догадки ли являются прародителями истины?
Давайте предположим, что в жизни Дугласа была какая-то тайна, какая-то страшная, позорная тайна. Это приводит к тому, что его убивает человек со стороны, скажем, мститель. Этот мститель по какой-то причине (признаюсь, я до сих пор не понимаю, зачем это понадобилось) снимает с трупа обручальное кольцо. Корни этой вендетты могут уходить еще во времена его первой женитьбы, это объяснило бы исчезновение кольца.
Прежде чем мститель успел покинуть комнату, в ней оказались Баркер и жена убитого. Убийца сумел убедить их, что любая попытка задержать его приведет к огласке каких-то неприятных фактов и к жуткому скандалу. Их это напугало, и они предпочли отпустить преступника. Для этого, возможно, опустили мост, что можно сделать практически бесшумно, и снова его подняли. Преступник уходит, по какой-то причине решив, что безопаснее это сделать пешком, чем на велосипеде, поэтому и оставляет свою машину там, где ее обнаружат, когда он уже будет далеко. Пока что мы не выходим за рамки допустимого, не так ли?
– В общем-то, да, это допустимо, – осторожно согласился я.
– Нельзя забывать, Ватсон, что как бы на самом деле ни развивались события, вся эта история очень и очень необычна. Но вернемся к нашей версии. После того как преступник уходит, пара – вовсе не обязательно преступная пара – начинает понимать, в каком положении они оказались. Ведь на них в первую очередь падет подозрение если не в убийстве, то в пособничестве. Они принимают поспешные и весьма бестолковые меры, чтобы обезопасить себя. Баркер оставляет на подоконнике след крови, чтобы натолкнуть следователей на мысль, как убийца покинул дом. Очевидно, они были единственными, кто слышал выстрелы, и именно это дало им возможность поднять тревогу после того, как они закончили приготовления, спустя полчаса после убийства.
– И как вы предполагаете это доказать?
– Если в деле действительно замешан посторонний человек, его можно выследить и арестовать. Это было бы лучшим доказательством. Если же нет… Что ж, научные ресурсы еще далеко не исчерпаны. Думаю, вечер, проведенный в кабинете без посторонних, в значительной степени поможет мне.
– Вечер?
– Да, я скоро собираюсь туда отправиться. Я заранее договорился об этом с многоуважаемым Эймсом, который недолюбливает Баркера. Для начала я просто посижу в той комнате, глядишь, вдохновение снизойдет. Я, знаете ли, верю в genius loci[14]. Улыбаетесь, Ватсон? Что ж, посмотрим. Да, кстати, вы, кажется, захватили с собой свой большой зонт?
– Да, он здесь.
– Позволите его одолжить?
– Конечно… Но что за странное оружие! Если вы считаете, что вам грозит…
– Ничего серьезного, дорогой Ватсон, иначе я непременно позвал бы вас с собой. Но зонт я возьму. Правда, сперва нужно дождаться возвращения наших коллег, которые отправились в Танбридж-Уэлс, чтобы попытаться установить владельца велосипеда.
На улице уже стемнело, когда вернулись инспектор Макдональд и Уайт Мэйсон. Они привезли с собой важные новости, поэтому были очень возбуждены.
– Надо же, а я уж засомневался, что в деле вообще замешан кто-то со стороны, – воскликнул Макдональд. – Но теперь-то все прояснилось. Мы установили, кому принадлежит велосипед, и получили описание этого человека. Это уже большой шаг вперед.
– Похоже, дело близится к концу, – сказал Холмс. – От всей души поздравляю вас обоих с успехом.
– Я начал с того, что задумался, почему мистер Дуглас за день до убийства вернулся из Танбридж-Уэлса взволнованным. Да потому, что там он узнал о грозящей ему опасности. И совершенно очевидно, что человек, приехавший на велосипеде, скорее всего, приехал именно из Танбридж-Уэлса. Мы взяли велосипед с собой и прошлись по тамошним гостиницам. Распорядитель в «Игл-коммершиал» сразу же признал его. По его словам, велосипед этот принадлежит человеку по имени Харгрейв, который снял у них номер два дня назад. Этот велосипед и небольшой чемодан – все вещи, которые были при нем. В регистрационной книге он написал, что приехал из Лондона, но адреса не указал. Его чемодан был лондонского производства, содержимое – английского, но сам постоялец явно родом из Америки.
– Так-так, – весело воскликнул Холмс, – вы действительно хорошо потрудились, пока я тут сидел и строил теории со своим другом! Вот хороший урок практической работы, мистер Мак.
– Что верно, то верно, мистер Холмс, – довольно произнес инспектор.
– Но это же подтверждает и вашу теорию, – заметил я.
– Возможно. А возможно, и нет. Но рассказывайте, что было дальше, мистер Мак. Вы смогли установить личность этого человека?
– Сведений о нем было так мало, что нам стало ясно, что он намеренно скрывался. В его номере не было никаких бумаг или писем, на одежде меток тоже не было. На столике у кровати лежала карта дорог графства. Из гостиницы он уехал на своем велосипеде вчера утром, сразу после завтрака, и с тех о нем ничего не было слышно.
– Вот это меня и настораживает, мистер Холмс, – сказал Уайт Мэйсон. – Если бы этот парень хотел остаться в тени, он бы вернулся в гостиницу и прикинулся безобидным туристом. А он что делает?! Неужели он не понимает, что управляющий гостиницей обязательно сообщит в полицию о его исчезновении и тогда его наверняка свяжут с убийством?
– Да, это первое, что приходит на ум. Но наш подозреваемый – хитрая бестия, раз он до сих пор еще не схвачен. Однако вы сказали, что узнали, как он выглядит.
Макдональд раскрыл записную книжку.
– Я записал все, что они смогли рассказать. Правда, информации не так уж много, но носильщик, портье и горничная сходятся на том, что рост его примерно пять футов девять дюймов, лет ему около пятидесяти, волосы и усы у него с легкой проседью, а нос крючковатый. Все они в один голос твердят, что у него злое и отталкивающее лицо.
– М-да, кроме выражения лица, под такое описание подошел бы и сам Дуглас, – сказал Холмс. – Ему тоже было немного за пятьдесят, волосы и усы у него были с проседью, да и росту он был примерно такого же. Что-нибудь еще есть?
– Одет он был в плотный серый костюм с двубортным пиджаком, короткое рыжее пальто, на голове – мягкая кепка.
– Что насчет дробовика?
– В длину он меньше двух футов, так что легко мог поместиться в его чемодан. Отправляясь на дело, он мог спрятать его под пальто.
– И как, по-вашему, все это соотносится с делом в общем?
– Мистер Холмс, – сказал Макдональд, – когда мы поймаем этого человека – а вы можете не сомневаться, что я разослал его описание уже через пять минут после того, как узнал, как он выглядит, – ответить на этот вопрос будет намного проще. Но ведь и сейчас известно уже немало. Мы знаем, что два дня назад в Танбридж-Уэлс приехал американец, который назвал себя Харгрейв. С собой он привез велосипед и чемодан. А в чемодане этом лежал укороченный дробовик, и это означает, что целью его приезда было убийство. Вчера утром он на велосипеде выехал сюда, очевидно, спрятав оружие под пальто. Насколько нам пока известно, никто не видел, как он сюда приехал, но, чтобы добраться до ворот в парк, не обязательно ехать через деревню, да и на дорогах здесь полно велосипедистов, так что на него просто могли не обратить внимания. Можно предположить, что, оказавшись на месте, он сразу спрятал велосипед в кусты, там, где его потом и нашли, и сам засел там же, наблюдая за домом и дожидаясь, когда выйдет мистер Дуглас. Дробовик – не самое подходящее оружие для использования в помещении, значит, скорее всего, он намеревался пустить его в дело на улице, где имеется целый ряд преимуществ. Во-первых, промахнуться из него трудно, а во-вторых, здесь ведь кругом охотничьи угодья и на звуки выстрела никто не обратил бы внимания.
– Прекрасно, продолжайте, – сказал Холмс.
– Но мистер Дуглас так и не вышел. Что делать? Тогда он решает, как стемнеет, оставить велосипед в кустах и войти в дом. Да тут еще и мост опущен, и никого рядом. В общем, такой шанс упускать было нельзя. Если бы в доме он кого-то встретил, придумал бы какую-нибудь отговорку, мол, ошибся домом или что-нибудь в этом роде. Но в доме ему никто не встретился. Поэтому он проскальзывает в первую же комнату, которая попадается ему на пути, и прячется там за шторой. Оттуда он видит, как поднимается мост, и понимает, что теперь его единственный путь к спасению лежит через ров. Он продолжает ждать, и в четверть двенадцатого в комнату с обычным вечерним обходом входит мистер Дуглас. Незнакомец стреляет в него из дробовика и уходит из дома так, как запланировал заранее. Понимая, что служители гостиницы опишут его велосипед и это станет против него уликой, он оставляет его в парке, а сам направляется в Лондон или какое-нибудь заранее подготовленное место, чтобы отсидеться там, пока не уляжется шум. Что скажете, мистер Холмс?
– Что ж, мистер Мак, все звучит вполне логично и убедительно. Но я считаю, что преступление было совершено за полчаса до указанного времени; что миссис Дуглас и Баркер состоят в сговоре и что-то скрывают; что они помогли убийце уйти из дома… или, по крайней мере, застали его на месте преступления; что они подделали следы, указывающие на то, что он ушел через окно, хотя, вероятнее всего, сами опустили для него мост. Вот так я представляю себе первую половину этого дела.
Двое детективов переглянулись.
– Мистер Холмс, если это правда, то вместо одной загадки мы получаем другую, – сказал лондонский инспектор.
– И вторая почище первой, – добавил Уайт Мэйсон. – Леди никогда в жизни не была в Америке. Что может связывать ее с убийцей-американцем настолько, что она покрывает его?
– Я признаю, вопросы еще есть, – кивнул Холмс. – Поэтому сегодня ночью я собираюсь провести небольшое расследование, и вполне вероятно, что его итоги будут весьма полезны для общего дела.
– Можем ли мы чем-то помочь вам?
– Нет, нет! Темнота и зонт доктора Ватсона – вот все, что мне нужно. К тому же Эймс, преданный Эймс, наверняка поддержит меня. Все мои мысли сходятся к одному вопросу: почему столь атлетически сложенный человек для тренировок пользовался таким неудобным гимнастическим снарядом, как непарная гантель?
Вернулся Холмс очень поздно. Жили мы в двуспальном номере (это было лучшее, что могла предоставить нам деревенская гостиница), поэтому, когда он вошел, я проснулся и сонным голосом пробормотал:
– Ну что, Холмс, что-нибудь выяснили?
Он какое-то время молча постоял рядом с моей кроватью, держа в руке свечу, потом его высокая худая фигура склонилась ко мне.
– Скажите, Ватсон, – вполголоса произнес он, – вы не боитесь спать в одной комнате с сумасшедшим? С человеком, страдающим размягчением мозга, идиотом, полностью утратившим способность понимать, что происходит вокруг?
– Н-нет, ни капли, – изумленно прошептал я в ответ.
– Тогда все хорошо, – сказал он, и больше в ту ночь не было произнесено ни слова.
Глава 7 Решение
На следующее утро после завтрака мы застали инспектора Макдональда и Уайта Мэйсона оживленно беседующими в тесном кабинете местного сержанта полиции. Стол перед ними был завален многочисленными письмами и телеграммами, которые они внимательно просматривали и, делая записи в тетрадку, раскладывали по стопкам. Три листка были отложены в сторону.
– Поиски неуловимого велосипедиста продолжаются? – весело спросил Холмс. – Есть новости о злодее?
Макдональд мрачно кивнул на кучу бумаг.
– Его уже видели в Лестере, Ноттингеме, Саутгемптоне, Дерби, Ист-Хэме, Ричмонде и четырнадцати других местах. В трех из них, в Ист-Хэме, Лестере и Ливерпуле, его уже арестовали. Похоже, вся страна просто кишит подозрительными типами в рыжих пальто.
– Да-а-а, – сочувственно протянул Холмс. – Послушайте, мистер Мак, и вы, мистер Уайт Мэйсон, я хочу дать вам искренний совет. Как вы помните, я взялся за это дело на том условии, что не стану рассказывать о результатах своей работы до тех пор, пока не буду полностью уверен в правильности моих выводов. По этой причине я пока не рассказываю вам всего, что у меня на уме. Но, с другой стороны, я обещал играть по правилам, и, мне кажется, с моей стороны было бы нечестно не сказать вам, что вы тратите силы на совершенно бесполезную работу. Именно с этой целью я и пришел сюда сегодня утром – дать вам совет. И совет мой очень прост, его можно выразить в двух словах: прекратите расследование.
Макдональд и Уайт Мэйсон в изумлении уставились на своего знаменитого коллегу.
– Вы считаете, что это безнадежно? – обретя дар речи, спросил инспектор.
– Я считаю безнадежным само дело. Я не хочу сказать, что истину установить не удастся.
– Но как же этот велосипедист? Он же не выдумка, у нас есть его описание, его чемодан, его велосипед, наконец. Сам он должен где-то быть. Почему мы не можем его поймать?
– Да, да, конечно, он существует, и рано или поздно мы узнаем, где он. Но не стоит тратить силы на его поиски в Ист-Хэме или Ливерпуле. Я уверен, что до истины можно добраться более коротким путем.
– Вы от нас что-то скрываете. Нехорошо это, мистер Холмс, – начал раздражаться инспектор.
– Вам известны мои методы, мистер Мак. Но я постараюсь сделать так, чтобы вы все узнали как можно скорее. Мне просто необходимо проверить кое-какие мелочи. Это очень легко сделать, а после этого я распрощаюсь с вами и вернусь в Лондон, передав в ваши руки все результаты своей работы. Я не могу поступить иначе, поскольку слишком многим вам обязан – за всю свою карьеру я еще не встречал дела более интересного и необычного.
– Я ничего не понимаю, мистер Холмс. Вчера, когда мы вернулись из Танбридж-Уэлса, мы с вами встречались и вы как будто были согласны с нашей версией. Что могло произойти с того времени, чтобы вы полностью переменили свою точку зрения?
– Раз уж вы спрашиваете, я, как и говорил, ночью провел несколько часов в усадьбе.
– И что же там случилось?
– Пока что я не могу раскрыть вам подробности. Кстати, я тут прочитал краткое, но очень интересное описание одного старого дома, выставленного на продажу местным табачником за весьма скромную сумму – одно пенни.
С этими словами Холмс достал из жилетного кармана небольшую брошюру с неаккуратной гравюрой на обложке, изображающей старинную усадьбу Берлстоун.
– Знаете, мистер Мак, для следователя иногда бывает очень полезно окунуться в атмосферу того места, где ему приходится работать, покопаться в исторических документах… Не делайте кислую мину, уверяю вас, даже такой сухой документ, как это описание, может дать представление о том, что здесь было когда-то. Позвольте, я приведу пример. «Возведенный в пятый год правления короля Якова Первого на месте некогда существовавшего здесь более древнего здания, особняк Берлстоун является одной из красивейших сохранившихся до наших дней и обнесенных рвом жилых построек в стиле первой четверти семнадцатого века…»
– Вы что, смеетесь над нами, мистер Холмс?
– Ну-ну, мистер Мак. Это первый признак несдержанности, который я у вас замечаю. Хорошо, я не буду читать, раз вы так решительно настроены. Но, если я скажу вам, что здесь упоминается, что в тысяча шестьсот сорок четвертом году этот дом был взят парламентскими войсками под командованием полковника, что здесь во время Гражданской войны несколько дней скрывался Карл Первый Стюарт, и наконец, что здесь бывал Георг Второй, вы не станете отрицать, что с этим древним зданием связано немало интересного.
– Я в этом не сомневаюсь, мистер Холмс, но к нашему делу это не имеет никакого отношения.
– Вы так думаете? Широта взглядов, мой дорогой мистер Мак, – вот одно из самых ценных качеств для представителей нашей профессии. Немного воображения и, казалось бы, совершенно не относящиеся к делу сведения начинают приобретать новый смысл, порой становятся решающими. Надеюсь, вас не обижают советы человека, который хоть и является всего лишь криминалистом-любителем, но старше и, возможно, опытнее вас.
– Что вы, я с радостью принимаю их, – искренне признался детектив. – Признаюсь, я понимаю, что вы подходите к сути дела, но почему такими окольными путями?
– Ну ладно, ладно, давайте оставим в стороне историю и обратимся к фактам сегодняшним. Как я и говорил, вчера ночью я ходил в усадьбу. Ни с Баркером, ни с миссис Дуглас я не встречался, у меня не было надобности их беспокоить, но я был рад услышать, что леди пребывала в добром расположении духа и прекрасно поужинала. Единственной целью моего визита была встреча с мистером Эймсом, с которым мы мило побеседовали, после чего он позволил мне провести некоторое время в одиночестве в кабинете.
– Что, рядом с трупом? – изумился я.
– Нет-нет, там уже все убрали. Как мне сказали, вы дали на это разрешение, мистер Мак. Теперь комната снова приняла обычный вид, и четверть часа, которую я провел в ней, не прошла даром.
– Чем же вы там занимались?
– Не буду делать загадки из такой ерунды. Я искал пропавшую гантель. Мне ведь с самого начала казалось, что этот снаряд играет большую роль в этом деле. И в конце концов я ее нашел.
– Где?
– О, здесь мы с вами подходим к границе неизведанного. Дайте мне еще немного времени, совсем чуть-чуть, и я обещаю, что все вам расскажу.
– Хорошо, мы ведь играем по вашим правилам, – сказал инспектор, – но, когда вы советуете нам прекратить расследование… Да почему же, черт побери, мы должны прекращать расследование?
– По той простой причине, дорогой мой мистер Мак, что вы даже не понимаете, что расследуете.
– Мы расследуем убийство мистера Джона Дугласа из поместья «Берлстоун».
– Да, да, это понятно. Но не утруждайте себя поисками загадочного велосипедиста. Уверяю вас, это вам не поможет.
– Так что же вы предлагаете нам делать?
– Я скажу вам, что делать, если вы пообещаете, что сделаете это.
– Э-э-э… Я хочу сказать, что, насколько я знаю, ваши странности раньше всегда оправдывались… Хорошо, согласен, я сделаю то, что вы скажете.
– А вы, мистер Уайт Мэйсон?
Деревенский сыщик какое-то время в нерешительности и даже как-то беспомощно переводил взгляд с Холмса на Макдональда, мой друг и его методы были ему не знакомы, но потом сказал:
– Что ж, если инспектор согласен на это, то и я возражать не стану.
– Превосходно! – воскликнул Холмс. – В таком случае, я порекомендую вам совершить небольшую приятную прогулку. Говорят, с Берлстоунской гряды открываются изумительные виды на Уилд. Не сомневаюсь, в какой-нибудь местной гостинице вы сможете прекрасно пообедать, хотя я, к сожалению, недостаточно хорошо знаком с этой местностью, чтобы порекомендовать вам какое-то определенное заведение. Ну а вечером усталые, но довольные…
– Ну, знаете, это уже переходит все границы! – гневно вскричал Макдональд, вскакивая со стула.
– Ну, успокойтесь, успокойтесь. Я не настаиваю. Проведите день как-то по-другому, – улыбнулся Холмс и потрепал его по плечу. – Делайте что хотите и идите куда хотите. Но вечером будьте здесь. Перед тем как стемнеет, я буду вас ждать… И не опаздывайте, мистер Мак.
– Вот это уже более здравые слова.
– Хотя я бы на вашем месте все же прислушался к моему совету. Но дело ваше. Главное, чтобы вы вовремя были на месте. Прежде чем мы расстанемся, я хочу, чтобы вы написали записку мистеру Баркеру.
– Я готов.
– Если хотите, я могу продиктовать. Готовы? «Дорогой сэр, в ходе расследования возникла необходимость осушить ров. Мы рассчитываем найти на его дне определенные…»
– Но это невозможно! – сказал инспектор. – Я узнавал.
– Дорогой сэр, прошу вас не отвлекаться. Давайте продолжим. «…Мы рассчитываем найти на его дне определенные улики. Я уже дал необходимые распоряжения. Завтра утром прибудут рабочие, они на время отведут в сторону ручей…»
– Это невозможно!
– «…отведут в сторону ручей, о чем я счел необходимым сообщить Вам заранее». Теперь подпишите. Пошлете письмо с посыльным в четыре часа. Сразу после этого мы с вами встречаемся здесь, в этом кабинете. До четырех часов каждый может распоряжаться временем по своему усмотрению – в расследовании начинается перерыв.
Вечер уже вступил в свои права, когда мы снова собрались в кабинете сержанта полиции. Холмс был очень серьезен, меня разбирало любопытство, а оба детектива не скрывали недовольства.
– Итак, джентльмены, – деловито начал Холмс, – теперь я прошу вас полностью довериться мне. Вы сможете сами решить, насколько верны выводы, к которым я пришел на основании собственных наблюдений. Вечер выдался холодным, и мне неизвестно, насколько затянется наша вылазка, поэтому я рекомендую вам одеться как можно теплее. Крайне важно, чтобы мы находились на своих местах еще до того, как окончательно стемнеет, так что, с вашего разрешения, не будем больше терять времени.
Мы прошли вдоль ограждения парка и остановились у того места, где в решетке была брешь. Пробравшись сквозь нее по одному, вслед за Холмсом мы двинулись по направлению к дому и в сгущающихся сумерках подкрались к густым кустам, которые росли почти точно напротив двери и подъемного моста. Мост еще не поднимали. Мой друг, присев на корточки, скрылся за кустами, и мы все последовали его примеру.
– Ну, и что дальше будем делать? – с мрачным видом спросил Макдональд.
– Наберемся терпения и попытаемся шуметь как можно меньше, – ответил Холмс.
– Да чего ради мы вообще сюда пришли? Не пора ли уже раскрыть карты?
Холмс негромко рассмеялся.
– Ватсон утверждает, что из меня вышел бы отличный театральный режиссер. Признаю, мне действительно близка эта профессия и в душе я всегда ощущал тягу к добротным зрелищным постановкам. Вы ведь не станете отрицать, мистер Мак, что наша с вами работа была бы неимоверно скучной, даже неприятной, если бы мы время от времени не имели возможности порадовать себя броскими эффектами? Чего стоит ошеломить подозреваемого прямым обвинением или положить руку на плечо преступника… Но что толку от подобных мелочей? Зато молниеносное умозаключение, искусная ловушка, точнейшее предсказание или триумфальное подтверждение неожиданной версии – это ли не лучшая награда за нашу работу, это ли не предмет особой гордости для сыщика? Вы ведь в эту минуту ощущаете напряжение ситуации? Чувствуете азарт охотника? А если бы я вам все выложил заранее и мы бы действовали как по расписанию, вы что-нибудь подобное испытали бы? Я прошу от вас лишь немного терпения, мистер Мак, очень скоро вам все станет понятно.
– Я надеюсь, мы успеем насладиться этими наградами, предметами особой гордости и всем остальным, прежде чем все околеем тут от холода? – Лондонский сыщик комично поежился.
Мы все желали того же, поскольку дежурство наше затянулось надолго и на улице было действительно очень холодно. Медленно сумерки накрыли мрачное старинное здание. От рва с водой тянуло влажным и зловонным холодом, который пробирал до мозга костей и заставлял нас цокать зубами. Над дверью за мостом светился фонарь, в окне рокового кабинета ровным неярким светом горела лампа, все остальное было черно и неподвижно.
– Долго еще? – в конце концов спросил инспектор. – И вообще, чего мы ждем?
– Сколько еще ждать, я не знаю так же, как и вы, – в голосе Холмса послышались резкие нотки. – Если бы преступники в своих действиях придерживались четкого расписания, как поезда, нам всем, конечно, было бы намного удобнее. Ну а насчет того, чего мы ждем… ВОТ чего мы ждем!
В этот миг желтый свет в кабинете несколько раз перекрылся тенью. Кто-то ходил по комнате. Кусты, за которыми мы лежали, находились прямо напротив окна, не более чем в ста футах. Скрипнув петлями, оно открылось, показался темный мужской силуэт. Неизвестный выглянул в окно и осмотрелся по сторонам. Еще несколько минут он воровато всматривался в темноту, как будто хотел убедиться, что вокруг никого нет и его никто не увидит. Потом он подался вперед, перегнулся через подоконник, и мертвая тишина нарушилась тихим шелестом потревоженной воды. Похоже, у человека в руке был какой-то предмет, которым он водил по рву. Затем неожиданно движением удильщика, вытаскивающего рыбу, он достал что-то из воды, какой-то большой круглый предмет, который перекрыл свет, когда он втягивал его в окно.
– Вперед! – взволнованно крикнул Холмс. – Вперед!
Мы вскочили и на одеревеневших от долгого сидения на холоде ногах бросились следом за ним. Холмс перебежал через мост и принялся изо всех сил звонить в колокольчик у двери. Громыхнули дверные запоры, и в следующую секунду перед нами предстал растерянный Эймс. Не говоря ни слова, Холмс бросился мимо него в дом и ворвался в комнату, где находился человек, за которым мы наблюдали.
Кабинет освещался единственной масляной лампой. Когда мы вбежали, ее держал Сесил Баркер. Он повернулся в нашу сторону и поднял лампу над головой. Тусклый свет озарил его решительное чисто выбритое лицо и темные недобрые глаза.
– Что это значит? – воскликнул он. – Какого дьявола, что вам нужно?
Холмс обвел быстрым взглядом комнату и указал на мокрый перевязанный веревкой сверток, который лежал там, куда его, видимо, поспешно забросили, под письменным столом.
– Вот что нам нужно, мистер Баркер… Этот сверток, утяжеленный гантелью, который вы только что подняли со дна рва.
Брови Баркера изумленно взметнулись вверх.
– Как, черт возьми, вы о нем узнали? – спросил он.
– Очень просто. Я сам его туда положил.
– Вы? Вы положили его туда?
– Пожалуй, лучше было бы сказать «вернул на место», – спокойно произнес Холмс. – Инспектор Макдональд, вы помните, как меня озадачило отсутствие одной гантели? Я указал вам на этот факт, но другие неотложные дела не оставили вам времени обдумать это и сделать соответствующие выводы. Когда, с одной стороны, имеется водоем, а с другой – некое исчезнувшее тяжелое тело, не надо быть гением дедукции, чтобы понять, что груз понадобился для того, чтобы спрятать что-то под водой. По крайней мере, это стоило проверить. И вот с помощью Эймса, который пустил меня в кабинет, и изогнутой ручки зонтика доктора Ватсона вчера вечером я сумел выудить и исследовать этот сверток. Но чрезвычайно важно было выяснить, кто спрятал его на дне рва. Это удалось сделать без особого труда. Весть о том, что завтра ров будет осушен, конечно же, заставила человека, спрятавшего сверток, принять решение незаметно вытащить его, и как можно скорее, то есть как только стемнеет. Человеком этим оказались вы, чему есть как минимум четыре свидетеля, так что, мистер Баркер, теперь слово за вами.
Шерлок Холмс поставил мокрый тюк на стол и развязал веревку. Первым делом он достал гантель и бросил ее в угол, где лежал ее близнец. Потом он вытащил из свертка пару ботинок.
– Как видите, американские, – сказал он, показав на их носки.
Затем он выложил на стол длинный грозного вида нож в ножнах и наконец развернул сам узел, который, как оказалось, состоял из полного комплекта нижнего белья, носков, серого твидового костюма и короткого рыжего пальто.
– Одежда вполне обычная, – заметил Холмс, – а вот пальто намного интереснее. – Он аккуратно развернул его и стал рассматривать. – Видите, здесь имеется очень глубокий внутренний карман, который удобно заходит за подкладку, специально для ношения укороченного огнестрельного оружия. У воротника бирка – «Нил. Одежда и обмундирование. Вермисса, США». Знаете, сегодняшний день я провел в библиотеке приходского священника, там я пополнил свои знания интересным фактом: Вермисса – это процветающий маленький городок, расположенный в долине одного из самых известных угледобывающих и железорудных районов США. Я запомнил, мистер Баркер, что вы упоминали промышленные районы, рассказывая о первой жене мистера Дугласа, и вовсе нетрудно догадаться, что буквы «Д. В.» на карточке, обнаруженной рядом с трупом, могут означать «Долина Вермиссы» и что именно эта долина, рассылающая эмиссаров смерти, и есть та самая Долина Ужаса, о которой мы слышали. Пока все достаточно ясно. Но, мистер Баркер, я, похоже, увлекся, а вы наверняка хотите нам что-то сказать.
Интересно было наблюдать, как менялось выразительное лицо Сесила Баркера во время этого несколько затянувшегося выступления великого детектива. Сначала его исказила злоба, потом появилось удивление, затем испуг и растерянность, а под конец на нем прочно обосновалась насмешливая улыбка.
– Вам так много известно, мистер Холмс! Может быть, мы лучше еще вас послушаем? – хмыкнул он.
– Можете не сомневаться, мистер Баркер, я еще много чего могу рассказать. Но, мне кажется, это все же лучше сделать вам.
– Вы так думаете? Что ж, я могу сказать одно: если здесь и есть тайна, то это не моя тайна и я не намерен ее раскрывать.
– В таком случае, мистер Баркер, – тихо, но внушительно произнес инспектор, – нам придется присмотреть за вами, пока не придет ордер на ваш арест.
– Дело ваше, – с нагловатой ухмылкой бросил Баркер.
Похоже, разговор зашел в тупик, поскольку одного взгляда на его каменное лицо было достаточно, чтобы понять, что и под пыткой он не станет ничего рассказывать. В комнате воцарилась напряженная тишина, которую неожиданно нарушил женский голос. Оказалось, что все это время за полуприкрытой дверью стояла миссис Дуглас. Разумеется, она слышала каждое слово.
– Ты сделал все, что мог, Сесил, – сказала она, входя в кабинет. – Чем бы это ни закончилось, ты сделал все, что мог.
– Все, что мог, и даже больше, – глухо произнес Шерлок Холмс. – Мадам, я хочу, чтобы вы знали, я полностью на вашей стороне, поэтому советую вам проявить благоразумие и положиться на справедливость правосудия. Вам будет лучше оказать содействие полиции и рассказать обо всем добровольно. Возможно, я сам виноват, что не понял ваш намек, который вы передали мне с моим другом, доктором Ватсоном, но я тогда был убежден, что вы напрямую причастны к преступлению. Теперь я уверен, что это не так. В то же время в этом деле остается еще очень много загадок, и я настоятельно советую вам просить мистера Дугласа, чтобы он сам рассказал нам свою историю.
Слова Шерлока Холмса заставили миссис Дуглас вскрикнуть от удивления. Я не поручусь, что мы с детективами не повели себя так же, когда заметили, как в углу, словно из ниоткуда, возник человек и вышел из темноты на освещенную середину комнаты. Миссис Дуглас бросилась ему навстречу и прижалась к его груди. Баркер пожал протянутую руку.
– Так будет лучше, Джек. Так будет лучше, – прошептала его жена.
– Действительно, мистер Дуглас, – сказал Шерлок Холмс. – Я уверен, для вас так будет лучше.
Мужчина стоял неподвижно и поглядывал на нас, щурясь, как человек, внезапно вышедший из темноты на свет. У него было необычное лицо: умные серые глаза, густые коротко стриженные седоватые усы, квадратный выступающий подбородок и добрые пухлые губы. Он внимательно осмотрел всех нас, потом, к моему удивлению, шагнул ко мне и протянул связку бумаг.
– Я слышал о вас, доктор Ватсон, – выговор его не походил ни на английский, ни на американский, но голос у него был спокойный и приятный. – Вы тут вроде историка. Я готов биться об заклад на последний доллар, что такой истории, как эта, в ваши руки еще не попадало. Можете рассказать ее своими словами, только не меняйте факты, и тогда успех у публики будет вам обеспечен. Я два дня просидел взаперти в этой мышеловке и, пока на улице было светло, записывал все, что знаю, на бумагу. Я передаю эти записи вам… и вашим читателям. Это история Долины Ужаса.
– Но все это дело прошлого, мистер Дуглас, – ровным голосом произнес Шерлок Холмс. – Мы хотим услышать от вас рассказ о настоящем.
– Услышите, сэр, – заверил его Дуглас. – Вы позволите мне курить, пока я буду рассказывать? Благодарю вас, мистер Холмс. Насколько я помню, вы и сами курильщик, поэтому поймете, каково это – два дня просидеть с табаком в кармане и не иметь возможности закурить, опасаясь, что запах выдаст тебя. – Он наклонился к камину и с жадностью раскурил сигару, которую дал ему Холмс. – Я о вас слышал, мистер Холмс. Вот уж не думал, что когда-нибудь нам доведется встретиться. Но еще раньше, чем вы разберетесь с этим, – кивнул он на бумаги у меня в руках, – вы поймете, что такого в вашей практике еще не встречалось.
Инспектор Макдональд в величайшем изумлении буравил странного человека глазами.
– Голова идет кругом! – наконец не выдержал и вскричал он. – Если вы – мистер Джон Дуглас из поместья Берлстоун, тогда чье убийство мы расследовали эти два дня? И откуда, объясните, вы сейчас взялись? Мне показалось, вы выпрыгнули просто из пола, как черт из табакерки.
– Эх, мистер Мак, – Холмс погрозил ему пальцем, – вы так и не прочитали ту изумительную брошюру, в которой описывалось, как король Карл скрывался здесь. В те дни люди знали толк в тайниках и потайных комнатах. А то, что использовалось однажды, всегда можно использовать еще раз. Вот я был практически уверен, что мистер Дуглас все еще находится где-то в этом доме.
– И как долго вы от нас это скрывали, мистер Холмс? – с чувством обиды спросил инспектор. – Долго вы наблюдали за тем, как мы тратим все силы на поиски, зная, что это совершенно пустое занятие?
– Что вы, дорогой мистер Мак, я все окончательно понял только вчера. Поскольку мои выводы могли подтвердиться только этим вечером, я и предложил вам с коллегой сегодня устроить выходной. Право же, что еще я мог сделать? Когда я обнаружил тюк с одеждой во рву, у меня тут же зародилось подозрение, что труп, который мы видели, это не мистер Джон Дуглас, а велосипедист из Танбридж-Уэлса. Это был единственный возможный вывод. Следовательно, передо мной встала задача выяснить, где находится сам мистер Дуглас. И, вероятнее всего, он все еще находился в этом доме, который прекрасно оборудован для того, чтобы скрывать здесь беглецов, и дожидался того времени, когда все уляжется и можно будет уйти окончательно. Конечно же, ему помогали жена и друг.
– Да, вы все верно просчитали, – одобрительно кивнул Дуглас. – Я подумал, что мне лучше всего будет исчезнуть, я ведь не понимал, в каком положении нахожусь в глазах вашего британского закона. К тому же я понял, что так раз и навсегда смогу избавиться от этих псов, идущих по моему следу. Я хочу сказать, что не сделал ничего такого, чего мне нужно было бы стыдиться, и ничего такого, чего не сделал бы снова, но вы сами это поймете, когда услышите мой рассказ. Можете не предупреждать, инспектор, я твердо решил рассказать всю правду.
Начну я не с самого начала. Это вы прочитаете там, – показал он на бумаги, которые я держал в руках. – И голову даю на отсечение, что такого вы еще не читали. Если в двух словах, то есть люди, у которых имеются причины ненавидеть меня, и они готовы на все, чтобы отправить меня на тот свет. До тех пор, пока жив я и живы они, спокойной жизни у меня не будет. Они преследовали меня в Чикаго и выследили в Калифорнии. Из-за них мне пришлось уехать из Америки. Но, когда я женился и осел здесь, в этом тихом месте, у меня появилась надежда, что хоть остаток жизни я проведу спокойно. Жену я в свои дела не посвящал, не хотел втягивать ее во все это. Зачем – она бы после этого не смогла жить спокойно, ей бы всюду стала мерещиться опасность. Она, конечно же, о чем-то таком догадывалась, пару раз у меня слетали с языка неосторожные слова, но до вчерашнего дня, до разговора с вами, джентльмены, она не знала, что происходит на самом деле. Она действительно рассказала вам все, что знала, и Баркер, кстати, тоже, ведь в ту ночь, когда это произошло, времени на объяснения не было. Сейчас она знает все, и я жалею, что не доверился ей раньше. Поверь, решиться рассказать тебе все мне было очень трудно, дорогая. – Он на миг сжал ее ладонь. – Я думал, что поступаю правильно.
Так вот, джентльмены, за день до того, что произошло, я ездил в Танбридж-Уэлс, и там на улице случайно увидел одного человека. Я заметил его лишь мельком, краешком глаза, но и этого мне хватило, чтобы узнать его. Это был мой злейший враг, тот, кто все эти годы преследовал меня, как голодный волк карибу. Я понял, что опасность не за горами, поэтому вернулся домой и стал готовиться к встрече. Знаете, я ведь надеялся только на свою удачу, которая меня никогда не подводила. В середине семидесятых в Штатах ходили легенды о том, какой я счастливчик… Ну, в общем, весь следующий день я был начеку. В парк не выходил, потому что понимал, что там он уложит меня из своего дробовика, так что я пикнуть не успею. Когда подняли мост (мне всегда становилось чуточку спокойнее, когда его поднимали на ночь), я успокоился. Мне и в голову не приходило, что он уже как-то проник в дом и поджидает меня внутри. Но когда я в халате стал, как обычно, обходить комнаты, то перед тем, как войти в кабинет, меня как будто кольнуло что-то внутри. Наверное, когда человеку много раз приходилось сталкиваться с опасностью (а я, уж поверьте, как никто знаю, что это такое), у него вырабатывается какое-то шестое чувство. Не знаю как, но я ясно почувствовал, что в кабинете кто-то есть. В ту же секунду я увидел под шторой ботинок, и мне все сразу стало понятно.
У меня в руке была только одна свеча, но в холле ярко горела лампа, так что в кабинете было достаточно светло. Я поставил свечу и бросился к камину за молотком, который лежал на полке. И почти одновременно с этим он выскочил из-за шторы и кинулся на меня. Я заметил, что в его руке блеснул нож, я отмахнулся молотком и, наверное, попал в него, потому что нож со звоном упал на пол. Он, как угорь, скользнул за стол и выхватил свое ружье. Я услышал, как он взвел курки, но, к счастью, успел вцепиться в него до того, как он выстрелил. Я держался за стволы, он – за приклад. С минуту мы боролись, пытаясь вырвать друг у друга оружие.
Он его так и не выпустил, но на какой-то миг опустил приклад вниз. Не знаю, может, это и я спустил курок, может быть, ружье выстрелило само, мы ведь выкручивали его друг у друга из рук, как бы то ни было, он получил двойной заряд прямо в лицо. То, что осталось от Теда Болдуина, рухнуло на пол к моим ногам. Это его я видел в городе и узнал сейчас, когда он выпрыгивал из-за шторы. Правда, теперь его не узнала бы даже родная мать. Я повидал на своем веку многое, но, когда я увидел, во что он превратился, меня чуть не стошнило.
Я все еще стоял над ним, опираясь о стол, когда в кабинет ворвался Баркер. Потом на лестнице раздались шаги жены, и я подбежал к двери, чтобы не дать ей войти. Не годится женщине такое видеть. Я сказал ей, что скоро поднимусь. Когда она ушла, я что-то начал объяснять Баркеру, но он и сам сразу понял, что произошло. Мы уже начали думать, что говорить слугам, которые должны были сбежаться на шум, но никто не шел. Тут-то мы и поняли, что они не могли ничего услышать, и о том, что произошло, кроме нас, никто не знает. И вот именно тогда мне в голову и пришла эта мысль. Я, честно говоря, сам удивился, насколько все удачно сложилось. У трупа один рукав сбился наверх, и на руке его я увидел знак ложи. Такой же, как у меня, смотрите.
Человек, которого мы узнали под именем Дуглас, расстегнул манжету, закатил рукав и показал нам на своем предплечье коричневый треугольник, вписанный в круг, точно такой же, какой мы видели на руке мертвеца.
– Это и натолкнуло меня на эту мысль. Я вмиг понял, как все можно обустроить. Рост у него такой же, как у меня, волосы, фигура – все совпадало. Лица у этого несчастного почти не осталось. Тогда я принес свою одежду, мы с Баркером за пятнадцать минут переодели его и положили так, как вы видели. Его вещи мы скрутили в узел, я сунул в него единственный тяжелый предмет, который нашелся под рукой, и швырнул сверток за окно в воду. Карточка, которую он собирался оставить рядом с моим телом, осталась лежать рядом с ним.
Мы переодели на него мои кольца, но когда дело дошло до обручального, – он вытянул мускулистую руку, – сами видите. Я не снимал его со дня свадьбы, и теперь пришлось бы очень сильно повозиться, чтобы стянуть его с пальца. Да и вряд ли бы я согласился с ним расстаться, а если бы и согласился, не уверен, что это получилось бы. Пришлось обойтись без него, в надежде, что никто такой мелочи не заметит. Зато я принес пластырь, отрезал кусочек и приклеил ему на подбородок в том же месте, что и у меня. Между прочим, мистер Холмс, вы, конечно, человек умный, но тут дали маху. Если бы вы отклеили этот пластырь, вы бы увидели, что под ним нет никакой раны.
Ну вот, такая заварилась каша. Если бы мне удалось отсидеться, потом уехать куда-нибудь со своей «вдовой», у нас бы наконец появилась возможность жить спокойно. Эти дьяволы не оставили бы меня в покое до тех пор, пока я хожу по земле, но вот если бы увидели в газетах, что Болдуин сделал свое дело, тогда моим бедам пришел бы конец. У меня не было времени, чтобы объяснить это все Баркеру и жене, но в общих чертах они поняли, что к чему, и согласились помочь мне. Мне давно было известно, что в комнате есть тайник, прекрасно знал о нем и Эймс, но ему не пришло в голову связать его с убийством, поэтому он туда не заглядывал. Я укрылся в нем, все остальное сделал Баркер.
Думаю, вы и сами понимаете, что именно он сделал. Он открыл окно и оставил на подоконнике след, чтобы все подумали, будто убийца ушел через него. Конечно, все это выглядело очень неправдоподобно, но что поделать, мост уже подняли, поэтому выбора не оставалось. Потом он громко позвонил в звонок. Все, что было после этого, вам известно. Итак, джентльмены, я рассказал вам всю правду, и теперь вы можете поступать так, как считаете нужным, и да поможет мне Бог! Я хочу знать, как мои действия расценивают английские законы.
Наступило молчание. Первым заговорил Холмс.
– Английские законы в основном справедливы. Никто не станет специально сгущать краски, мистер Дуглас. Но вот что я хочу знать: как этот человек узнал, где вы живете, как попасть в дом и где вас дожидаться?
– Понятия не имею.
Лицо Холмса сделалось бледным и глубокомысленным.
– Боюсь, что история эта еще не закончилась, – сказал он. – Вам может грозить опасность пострашнее английского правосудия или даже ваших американских врагов. Зло не оставило вас. Мой вам совет, мистер Дуглас, – все время будьте настороже.
А теперь, мои терпеливые читатели, я прошу вас вместе со мной покинуть Берлстоун и старинную усадьбу, а также и тот год, когда мы совершили эту удивительную поездку в Суссекс, закончившуюся странным рассказом человека, который называл себя Джоном Дугласом. Я хочу перенести вас на двадцать лет в прошлое и на несколько тысяч миль западнее для того, чтобы поведать о событиях настолько фантастических и жутких, что, возможно, вы откажетесь в них верить, даже несмотря на мой рассказ, даже несмотря на то, что все это происходило в действительности.
Не подумайте, что я берусь за новую историю, не доведя до конца предыдущую. Читая дальше, вы убедитесь, что это не так. А когда я изложу вам подробности и вы разгадаете эту загадку прошлого, мы с вами снова встретимся в квартире на Бейкер-стрит, где, подобно множеству других невероятных событий, и закончится эта история.
Часть 2 «Сердитые»
Глава 1 Человек
Было четвертое февраля тысяча восемьсот семьдесят пятого года. В последние месяцы в Гилмертонских горах мело почти не переставая, так что ущелья были завалены снегом чуть ли не до самых вершин. Правда, железнодорожную линию, которая соединяла растянувшиеся на долгие мили поселки шахтеров, добывающих каменный уголь и железную руду, постоянно расчищали паровыми снегоочистителями. Вечерний поезд медленно полз в гору, пробираясь из Стэгвилла в долине до Вермиссы, местного центра, расположенного в изголовье долины с тем же названием – Вермисса. Оттуда путь шел вниз, по направлению к разъезду Бартонс в Хелмдейле и округу Мертон, традиционно сельскохозяйственному району. Эта железная дорога была одноколейной, но на каждой ветке, а их тут было множество, стояли длинные груженные углем и железной рудой составы, свидетельствующие о том скрытом под землей богатстве, которое и привлекло в эту глухомань простой грубоватый люд и наполнило ее кипящей, беспокойной жизнью.
И правда, другого такого глухого места было не сыскать во всех Соединенных Штатах Америки! Вряд ли первый землепроходец, пересекший эту долину, мог представить себе, что прекрасные бескрайние прерии и покрытые буйной растительностью земли не стоят ничего по сравнению с этим краем унылых черных скал и дремучих лесов, где над темными, почти непроходимыми зарослями со всех сторон вздымаются огромные лысые утесы в шапках снега, оставляя в середине длинную излучистую равнину. Вот эту-то равнину и пересекал маленький поезд.
Масляные лампы только что зажглись в первом пассажирском вагоне. Здесь ехало человек двадцать-тридцать, и большей частью это были рабочие, возвращающиеся домой из долины. Около дюжины из них были шахтерами, на что указывали их темные от въевшейся пыли лица и висящие на плечах фонари. Они сидели группой, курили и тихими голосами что-то обсуждали, то и дело посматривая на двух мужчин, сидевших в другом конце вагона, форма и значки которых свидетельствовали о том, что это полицейские.
Кроме них, в вагоне ехало несколько бедно одетых женщин, пара-тройка других пассажиров, возможно мелких местных лавочников и молодой человек, который держался в сторонке. Именно этот человек нас и интересует. Присмотритесь к нему получше, ибо он того стоит.
Выглядит он свежо, особенным ростом или статностью фигуры не отличается, и с виду ему немногим более тридцати. Из-за стекол очков поблескивают большие серые глаза, добрые, но проницательные, которыми он время от времени, помаргивая, с любопытством обводит людей вокруг себя. Легко можно понять, что по натуре он открыт, скорее всего, общителен, дружелюбен со всеми, кто его окружает. Любой, едва взглянув на него, сразу скажет, что рядом с человеком с такой располагающей улыбкой и живым умом никогда не почувствуешь себя скованно или неуверенно. Но тот, кто присмотрится к нему внимательнее, заметит и твердый обвод скул, и строгую линию губ, и поймет, что на самом деле он совсем не так прост и что, в какое бы общество ни попал этот приятный темноволосый ирландец, он непременно оставит в нем свой добрый или недобрый след.
Попытавшись пару раз заговорить с сидящим рядом шахтером и не услышав в ответ ничего, кроме нескольких коротких неприветливых фраз, путешественник угрюмо замолчал и стал смотреть в окно. Пейзажи, на которые пал его взгляд, не были живописными или радостными. В сгущающихся сумерках на склонах холмов пульсировали красными точками горнила. Повсюду были видны огромные шлаковые и угольные горы, над которыми возвышались копры шахт. Иногда мимо проплывали группки жмущихся друг к другу убогих деревянных домишек с тускло освещенными окнами, и все многочисленные полустанки, которые проезжал поезд, были запружены их чумазыми обитателями.
Железорудные и угольные долины Вермиссы – не место для праздных или изнеженных. Здесь повсюду видны мрачные следы безжалостной борьбы за выживание. Здесь нет таких, кому живется легко. Работа здесь тяжелая, и выполняют ее люди сильные и грубые.
Молодой путешественник всматривался в безрадостный пейзаж за окном с отвращением и интересом, что свидетельствовало о том, что в этих краях он впервые. Время от времени он доставал из кармана толстый конверт, вынимал из него письмо, читал и делал на его полях кое-какие заметки. Один раз откуда-то из-за спины он достал предмет, который никак нельзя было ожидать увидеть в руках такого приятного с виду молодого человека. Это был флотский револьвер самого крупного калибра. Когда он повернул его наискосок к свету, в барабане блеснули медными капсюлями патроны – револьвер был полностью заряжен. Он быстро вернул оружие в потайной карман, но не раньше, чем на него обратил внимание рабочий, сидевший на соседней скамье.
– Ого, приятель! – воскликнул шахтер. – Я вижу, ты хорошо подготовился.
Молодой человек неловко улыбнулся.
– Да, – сказал он. – В тех местах, откуда я еду, такие штуки иногда бывают очень кстати.
– Откуда ж ты к нам пожаловал?
– Из Чикаго.
– В наших краях впервые?
– Да.
– Здесь эта игрушка тебе тоже может пригодиться, – заметил рабочий.
– В самом деле? – несколько оживился молодой человек.
– Ты что, не слыхал, что тут творится?
– Нет, ничего такого не слышал.
– Надо же, а я думал, в стране только об этом и болтают! Ну ничего, скоро ты все узнаешь. Так что тебя привело к нам?
– Говорят, здесь всегда есть работа для того, кто не боится руки мозолить.
– Ты состоишь в Союзе?
– Конечно.
– Ну, тогда, я думаю, без работы не останешься. Друзья у тебя есть?
– Пока нет, но я знаю, как их найти.
– Это как же, интересно?
– Я член Великого ордена свободных тружеников. В каждом городе есть своя ложа, а там, где есть ложа, я всегда могу найти друзей.
Это признание произвело неожиданное впечатление на его попутчика. Он с подозрением оглянулся на остальных пассажиров. Шахтеры все еще шушукались, двое полицейских дремали. Мужчина подсел ближе к молодому путешественнику и протянул ему ладонь.
– Держи, – сказал он.
Они пожали руки.
– Вижу, ты говоришь правду, – сказал рабочий, – но всегда неплохо и проверить.
Он поднял правую руку и прикоснулся к правой брови. Путешественник тут же поднял левую руку и прикоснулся к левой брови.
– Темные ночи неприветливы, – произнес рабочий.
– Да, для странников в чужом краю, – ответил сероглазый ирландец.
– Этого хватит. Я брат Сканлан, ложа 341, долина Вермисса. Добро пожаловать в наши края.
– Спасибо. Я брат Джон Макмердо, ложа 29, Чикаго. Владыка – Дж. Х. Скотт. Но я рад, что сразу же встретил брата.
– Вообще-то нас тут много. Нигде в Штатах Орден так не процветает, как здесь у нас, в Вермиссе. Но ты, я вижу, парень хваткий, нам такие нужны. Скажи, а что же ты в Чикаго без работы остался, если ты член Союза?
– Работы было полно, – ответил Макмердо.
– Почему же уехал оттуда?
Макмердо кивнул в сторону полицейских и улыбнулся.
– Я думаю, что эти ребята тоже хотели бы это узнать.
Сканлан понимающе хмыкнул.
– Что, проблемы? – спросил он, понизив голос.
– Большие.
– Каталажка светит?
– Даже хуже.
– Неужто ты пришил кого?
– По-моему, нам еще рано обсуждать такие вопросы, – сказал Макмердо с видом человека, который понял, что сболтнул лишнее. – Я уехал из Чикаго, и у меня были на то причины. На этом все. А с чего тебя это так интересует? – Его свинцовые глаза неожиданно зло блеснули за стеклами очков.
– Да все в порядке, приятель, я не хотел тебя обидеть. Нашим ребятам все равно, что ты там натворил. Так куда ты путь держишь?
– В Вермиссу.
– Это через две остановки на третью. Где ты остановишься?
Макмердо достал конверт и поднес его к грязной масляной лампе.
– У меня тут записано… Джейкоб Шафтер, Шеридан-стрит. Эту гостиницу посоветовал мне один знакомый в Чикаго.
– Такой не знаю. Но я в Вермиссе редко бываю – сам-то я живу в Хобсонс-пэтч. Как раз подъезжаем. Знаешь что, перед тем, как мы распрощаемся, я хочу тебе кое-что посоветовать. Если в Вермиссе возникнут неприятности, иди сразу в Дом Союза, к боссу Макгинти. Он владыка вермисской ложи. Все, что происходит здесь, делается по воле Черного Джека Макгинти. Ну, прощай, приятель. Может, как-нибудь еще увидимся вечером в ложе. Но не забудь: если что – иди к боссу Макгинти.
Сканлан сошел с поезда, и Макмердо снова остался наедине со своими мыслями. За окном наступила ночь, и в темноте гудели и прыгали огни металлургических печей. На фоне этих зловещих огненных языков четко выделялись темные фигуры, которые медленно, натужно сгибались и выпрямлялись, словно в неимоверном усилии крутили колеса невидимых лебедок, и движения их словно были подчинены ритму не имеющего ни начала, ни конца лязга металла и вечному реву огня в горнилах.
– Наверное, примерно так выглядит ад, – произнес чей-то голос.
Обернувшись, Макмердо увидел, что один из полицейских, вытянув шею, смотрит в окно.
– Что там выглядит! – поддержал второй полицейский. – Может статься, что это он и есть. Если в мире и существуют настоящие дьяволы, то живут они именно здесь. Вы, молодой человек, впервые в этих краях?
– Ну, допустим, и что с того? – неприязненно произнес Макмердо.
– Я всего лишь хочу посоветовать вам, мистер, быть внимательным в выборе друзей. На вашем месте я бы не стал начинать с Майка Сканлана или кого-то из его банды.
– А какое вам дело до того, кто мои друзья? – вскричал Макмердо таким голосом, что все, кто был в вагоне, повернулись в его сторону. – Я что, просил мне советовать? Или вы думаете, я такой сопляк, что без вас не разберусь, что мне делать? Если мне понадобятся ваши советы, я сам к вам обращусь, только ждать вам этого придется очень долго!
Он задрал подбородок и осклабился, показав зубы, как рычащий пес.
Полицейские, оба грузные и добродушные, были удивлены таким несдержанным ответом на обычный дружеский совет.
– Никто не собирался обижать вас, – сказал один из них. – Это было просто предупреждение для вашего же блага, вы же сами сказали, что до этого здесь не бывали.
– Не бывал, зато мне уже приходилось встречаться с вашим братом! – зло бросил Макмердо. – Думаю, все вы одинаковые, суетесь со своими советами, когда вас никто не просит.
– Ничего-ничего, может, скоро мы снова встретимся, – один из полицейских усмехнулся. – Вы, я вижу, парень не промах.
– Да, я тоже так думаю, – поддержал его напарник. – Встретимся и познакомимся поближе.
– Только не надо меня пугать, я вас не боюсь, – воскликнул Макмердо. – Я Джек Макмердо… Захотите встретиться – найдете меня у Джейкоба Шафтера на Шеридан-стрит в Вермиссе. Убедились? Я не собираюсь ни от кого прятаться. Можете приходить хоть днем, хоть ночью.
По группе сидящих поодаль шахтеров прокатился одобрительный гул. Полицейские пожали плечами и вернулись к своему разговору.
Через несколько минут поезд остановился у большой полутемной станции. Из вагонов вышли почти все, поскольку Вермисса была самым крупным населенным пунктом на этой железнодорожной линии. Макмердо взял свой саквояж и уже хотел выходить, как к нему обратился один из шахтеров.
– Клянусь Богом, приятель, неплохо ты отшил фараонов, – с уважением сказал он. – Мы тут просто заслушались! Давай свой саквояж, я помогу нести, заодно дорогу покажу. Мне домой как раз мимо Шафтера идти.
С платформы они спускались под одобрительные возгласы остальных шахтеров и дружные пожелания спокойной ночи. Так сорвиголова Макмердо стал известен в Вермиссе еще до того, как ступил на ее землю.
Окрестности города производили гнетущее впечатление, но сам город казался еще более ужасным местом. В долине, в безумной пляске огней и медленном движении бескрайних клубов дыма, хотя бы чувствовалось какое-то грозное величие. Циклопические горы шлака, окружающие каждую шахту, говорили о силе и упорстве людей, которые их создали. Город же мог поразить разве что крайней степенью уродства и нищеты. Движение превратило главную улицу в ужасную кашу из слякоти, перемешанной со снегом, тротуары были узкими и неровными. Тусклый свет многочисленных газовых фонарей только подчеркивал, какими убогими и грязными были дома, выстроившиеся длинными рядами верандами на улицу.
Когда они подошли к центру городка, картина немного освежилась яркими витринами нескольких магазинов. Оказалось, что здесь даже имеются несколько баров и игорных домов, в которых шахтеры расставались со своими, хоть и заработанными тяжким трудом, но все же немалыми деньгами.
– Это Дом Союза, – провожатый указал на один из салунов, почти дотягивающий до уровня гостиницы. – Тут главный Джек Макгинти.
– А кто это? – поинтересовался Макмердо.
– Ты что, никогда не слышал о боссе?
– Ты же знаешь, что я только что приехал, как я мог о нем слышать?
– Ну, я думал, что его по всей стране знают. В газетах о нем постоянно пишут.
– С чего бы это?
– Да так, есть причины, – понизил голос шахтер.
– Какие причины?
– Господи! Чудной ты человек, в самом деле. В здешних краях интересуются только одним. «Сердитыми».
– А, я в Чикаго, кажется, читал о «сердитых». Это ведь банда убийц, верно?
– Тише ты! – шикнул шахтер и тревожно оглянулся по сторонам. – Что ты орешь на всю улицу? Жить надоело? Тут у нас и не за такое могут избить до смерти.
– Да я ничего о них не знаю. Так в газетах пишут.
– Я и не говорю, что в газетах пишут неправду. – Мужчина все беспокойнее всматривался в тени, как будто почувствовал приближение опасности. – Если казнь называть убийством, то да, это убийцы. Только боже упаси тебя, незнакомец, упоминать рядом с этим словом имя Джека Макгинти. Он знает о каждом вздохе на улицах этого города, а уж такое он просто так не оставит, можешь быть уверен. Вон дом, который тебе нужен, вон тот, в глубине улицы. Говорят, старина Джейкоб Шафтер – честный человек.
– Спасибо тебе. – Макмердо пожал руку новому знакомому, дошел до гостиницы и, не выпуская из рук саквояжа, громко постучал.
Дверь распахнулась почти сразу, но, увидев, кто ее открыл, молодой человек удивленно замер. Это была женщина, молодая и необыкновенно красивая. Лицо у нее было германского типа: светлая кожа, белокурые волосы, только прекрасные глаза ее были неожиданно темны. Слегка смутившись, она окинула взглядом гостя. Макмердо показалось, что еще никогда в жизни он не видел ничего более красивого, чем эта девушка, стоящая в потоке света, льющегося на унылую темную улицу из открытой двери. Случись ему найти прекрасную нежную фиалку на одном из тех черных холмов шлаковой массы, которыми усеяна вся долина, он и то удивился бы меньше. Молодой человек был настолько поражен, что стоял и молча смотрел на девушку, пока она сама не заговорила.
– Я думала, это отец, – с приятным, едва заметным немецким акцентом произнесла она. – Вы к нему пришли? Он ушел в город, но должен с минуты на минуту вернуться.
Макмердо еще какое-то время рассматривал прекрасную незнакомку, чем смутил ее еще больше. Не выдержав его прямого взгляда, она потупила глаза.
– Нет, мисс, – наконец сказал он. – Я пришел не для того, чтобы с ним встретиться. Мне посоветовали вашу гостиницу. Я зашел посмотреть, все ли меня здесь устроит… Теперь вижу, что устроит.
– Быстро же вы осмотрелись, – улыбнулась дочь хозяина гостиницы.
– Я же не слепой, – ответил молодой человек, во все глаза глядя на девушку.
– Входите, сэр, – рассмеявшись, сказала она. – Я мисс Этти Шафтер, дочь мистера Шафтера. Мать умерла, поэтому я в доме хозяйка. Вы можете посидеть в гостиной у печи, пока отец вернется… Ах, вот и он! Договаривайтесь с ним.
К дому подошел немолодой плотный мужчина. В нескольких словах Макмердо объяснил ему свое дело. В Чикаго этот адрес дал ему человек по фамилии Мерфи, который в свою очередь узнал его от кого-то еще. Старый Шафтер был рад оказать свои услуги. Приезжий не задумываясь согласился на все условия и о цене спорить не стал. Денег у него, очевидно, хватало, так что, заплатив семь долларов за неделю вперед, он получил полный пансион.
Итак, Макмердо, который, по его же собственным словам, не в ладах с законом, стал жить под одной крышей с Шафтерами. И это был первый шаг, приведший к долгой и мрачной череде событий, закончившихся в далекой стране за тысячи миль отсюда.
Глава 2 Владыка
Макмердо нельзя было назвать неприметным человеком. Где бы он ни появлялся, скоро о нем знали уже все. Не прошло и недели, как он оказался в центре внимания постояльцев гостиницы Шафтера. Кроме него здесь жило еще человек десять-двенадцать, но все это были обычные тихие прорабы или продавцы местных магазинов, которые не шли ни в какое сравнение с молодым ирландцем. По вечерам, когда все они собирались, его шутки вызывали самый радостный смех, его рассказы слушали с наибольшим интересом и его песням аплодировали громче всего. Он был буквально создан для общества. У него был настоящий дар притягивать к себе людей. И все же бывали случаи, когда настроение у него резко менялось, как тогда в вагоне, он неожиданно выходил из себя, и всем, кто его знал, это внушало уважение и даже страх. Он не скрывал глубочайшего презрения к полиции и всему, что с ней связано, чем у одних своих соседей по гостинице вызывал восхищение, а у других – тревогу.
С самого начала он открыто дал понять, что дочь Шафтера с первого взгляда пленила его сердце красотой и нравом. Робким поклонником он не был, так что уже на следующий день сказал ей, что любит ее, и стал повторять это снова и снова, не обращая ни малейшего внимания на ее отговорки или возражения.
– Кто-то другой? – кричал он в ответ. – Так ему же хуже! Пусть пеняет на себя. Я не собираюсь ради кого-то другого отказываться от своего счастья. Можете продолжать говорить «нет», Этти. Когда-нибудь настанет такой день, когда вы ответите мне «да», и я достаточно молод, чтобы дождаться этого.
Он был опасным поклонником. Острым на язык, обходительным и настойчивым. К тому же было в нем и сочетание опытности и загадочности, которые так манят женщин. Он рассказывал о милых его сердцу долинах графства Монахан, откуда он был родом, о далеком прекрасном острове, о невысоких холмах и зеленых лугах, которые здесь, в этом месте, где нет ничего, кроме въевшейся грязи и снега, казались ему еще более прекрасными.
Потом он принимался рассказывать о больших городах Севера, о Детройте, о жизни в поселке лесорубов у великого озера Мичиган, наконец, о Чикаго, где он работал на лесопильне. После этого прозвучал намек на некую тайну, на то, что в этом огромном городе с ним произошли какие-то странные события. Настолько странные и затронувшие такие глубоко личные стороны его жизни события, что о них и рассказывать было нельзя. С тоской в голосе он поведал о том, как ему пришлось поспешно уезжать, сжигая за собой все мосты, о побеге в эту унылую долину, которая кажется ему совершенно незнакомым миром. И Этти слушала, слушала, ее черные глаза начинали блестеть от жалости и сострадания… от тех чувств, которые так незаметно и быстро превращаются в любовь.
Макмердо был хорошо образован и временно устроился на должность счетовода. Почти все свое время он проводил на работе и пока еще не успел представиться главе местной ложи Великого ордена свободных тружеников. Однако вскоре ему об этом напомнили, и сделал это не кто иной, как Майк Сканлан, который однажды вечером зашел к нему в гостиницу. Его давешний попутчик, невысокий дерганый человек с острым лицом и темными глазами, был рад новой встрече. После пары стаканов виски он поведал о цели своего прихода.
– Все просто, Макмердо, – приятельским тоном произнес он, – я запомнил твой адрес, ну и решил наведаться. Знаешь, я удивлен, что ты еще не представился владыке. Ты почему к боссу Макгинти до сих пор не сходил?
– Некогда было, работу искал.
– Ну, уж на него тебе нужно было найти время. Черт возьми, Макмердо, ты совершил большую ошибку, когда не пошел в Дом Союза в первый же день! Если вздумаешь пойти против него… В общем, о таком и не думай.
Макмердо удивился.
– Я состою в ложе больше двух лет, Сканлан, но никогда не слыхал о таких строгостях.
– Это у вас в Чикаго.
– Но здесь-то общество то же.
– Ты думаешь?
Сканлан бросил на него долгий, значительный взгляд. Что-то зловещее было в его глазах.
– А разве нет?
– Поговорим об этом через месяц. Я слышал, ты после того, как мы расстались в поезде, успел и с полицейскими поговорить.
– Откуда ты знаешь?
– Люди говорят… В наших краях новости быстро расходятся.
– Да, поговорил. Я сказал этим псам, что о них думаю.
– Ну ты даешь! Макгинти это оценит.
– Он что, тоже фараонов ненавидит?
Сканлан рассмеялся.
– Тебе нужно с ним встретиться, парень, – сказал он, собираясь уходить. – Если ты этого не сделаешь, он не фараонов, а тебя начнет ненавидеть! Послушай дружеского совета, сходи к нему как можно быстрее!
Случилось так, что в тот же вечер у Макмердо состоялся еще один, более важный разговор, который закончился обсуждением той же темы. Может быть, внимание, которое он оказывал Этти, стало более заметным или просто наступило время, когда добрый Шафтер наконец-то понял, какие отношения завязываются у его дочери и Макмердо, но, какова бы ни была причина, старый немец пригласил молодого человека в свою комнату и без околичностей сразу же заговорил на волнующую его тему.
– Мне кажется, мистер, – сказал он, – что фы сильно уфлечены моей Этти. Это так или я ошибаюсь?
– Да, это так, – ничуть не смутился молодой человек.
– Что же, тогда я должен сказать фам, что фы напрасно тратить фремя. У нее уже есть кафалер.
– Я знаю, она мне об этом говорила.
– Мошете поферить, она гофорить правду. Она сказала фам, кто он?
– Нет. Я спрашивал, но она отказалась признаваться.
– Ну конечно! Наферно, она не хотела фас испугать.
– Испугать? Меня? – Кровь тут же закипела в жилах Макмердо.
– Да-да, мой друг! Но не фолнуйтесь, ф том, чтобы бояться такого человека, нет ничего зазорного. Федь это Тедди Болдуин.
– Что еще за Тедди Болдуин, черт возьми?
– Это помощник босса «сердитых».
– «Сердитых»! Я уже не первый раз слышу о них. Почему все кругом только о них и говорят? И почему всегда шепотом? Чего же вы все так боитесь? Да кто они такие, в самом деле?
Хозяин гостиницы невольно понизил голос, как делали все, кто говорил об этом страшном обществе.
– «Сердитые», – многозначительно произнес он, – это Великий орден свободных тружеников!
Молодой человек оторопел.
– Как! Но я ведь сам – член Ордена.
– Фы?… Фы! Да я, если б об этом знал, никогда не пустил бы фас к себе в дом… Даже если бы фы платили и сто долларов ф неделю.
– Но почему? Ведь Орден служит для того, чтобы оказывать помощь нуждающимся и поддерживать своих членов. Так сказано в уставе!
– Может быть, где-то так и есть, но только не здесь.
– А в чем разница?
– Здесь это общестфо убийц, фот ф чем разница.
Макмердо недоверчиво рассмеялся.
– Как это? Вы что, можете это доказать?
– Доказать? Пятьдесят человек уше убито, фам этого недостаточно? Милман, Фан Шорст, семья Николсонов, а старый мистер Эйм, а малыш Билли Джеймс, а остальные? Доказать! Да ф этой долине фсе об этом знают.
– Послушайте, – твердо сказал Макмердо. – Либо возьмите свои слова обратно, либо докажите, что говорите правду. Я не уйду из этой комнаты, пока вы этого не сделаете. Поставьте себя на мое место. Я в этом городе человек новый. Я являюсь членом совершенно безобидного общества. Его отделения вы найдете в любой точке Соединенных Штатов, и нигде никто не считает его обществом злодеев. А здесь, когда я собираюсь обратиться к своим братьям за поддержкой, вы мне заявляете, что мое общество – это воплощение зла, и утверждаете, что Орден тружеников и банда убийц, которые называют себя «сердитые», – это одно и то же! Вы либо должны извиниться, либо объяснить, что здесь происходит, мистер Шафтер.
– Я могу фам рассказать только то, что и так фсем изфестно, мистер. И тем и другим общестфом упрафляют одни и те же люди. Чем-то не угодите одним, с фами разделаются другие. Мы фидели этому слишком много доказательстф.
– Да это просто… слухи! Мне нужны настоящие доказательства! – воскликнул Макмердо.
– Если пожифете здесь подольше, получите доказательстфа. Но я забыл, фы же один из них. Фы скоро станете таким же, как они. Фам нужно найти другую гостиницу, мистер. Я не хочу, чтобы фы у меня остафались. Мало того, что один из них уфифается за моей Этти, а я не осмеливаюсь отказать ему, так еще терпеть у себя ф гостинице другого! Зафтра же съезжайте!
Итак, приговор был вынесен: Макмердо было отказано в праве занимать свой удобный номер и видеться с девушкой, которую он любил. Тем же вечером он нашел ее в гостиной и рассказал о своих бедах.
– Ваш отец меня выставляет, – сказал он. – Если бы дело касалось только жилья, мне было бы наплевать, но поверьте, Этти, я знаком с вами всего неделю, но вы для меня все. Вы – воздух, которым я дышу! Я не смогу жить без вас!
– Тише, мистер Макмердо! Умоляю, не говорите так! – взволнованно воскликнула девушка. – Я же говорила вам, что вы опоздали. Есть другой человек, я хоть еще и не дала ему слова выйти за него, но не могу обещать этого никому другому.
– А если бы я оказался первым, Этти, у меня была бы надежда?
Девушка закрыла лицо руками и тихо промолвила:
– Я была бы счастлива, если бы первым оказались вы.
Макмердо бросился перед ней на колени.
– Во имя всего святого, Этти, пусть все будет так, как мы хотим! – вскричал он. – Неужели вы погубите и свою, и мою жизнь из-за кого-то! Желанная моя, прислушайтесь к своему сердцу! Это лучший подсказчик!
Он взял ее белую ладонь своими сильными смуглыми руками.
– Скажите, что будете моей, и вместе мы справимся со всеми трудностями!
– Я не могу.
– Можете, можете!
– Нет, Джек! – Он уже прижимал ее к себе. – Я здесь не могу… Ты увезешь меня отсюда?
На лице Макмердо отразилась внутренняя борьба, но лишь на миг.
– Нет, здесь, – твердо сказал он. – Я сумею защитить тебя, Этти. Мы должны остаться здесь.
– Но почему мы не можем уехать вместе?
– Нет, Этти, я не могу отсюда уехать.
– Но почему?
– Я не смогу дышать полной грудью, если буду знать, что нам пришлось от кого-то убегать. К тому же чего нам бояться? Мы же свободные люди и живем в свободной стране. Если мы любим друг друга, кто посмеет встать между нами?
– Ты не знаешь, Джек. Ты слишком мало здесь прожил, чтобы понять, кто такой этот Болдуин. Ты не знаешь ни Макгинти, ни его «сердитых».
– Нет, я их не знаю и не боюсь, и я не верю в них! – сказал Макмердо. – Мне приходилось жить среди жестоких людей, моя дорогая, и не я боялся их, а они всегда боялись меня. Слышишь? Всегда. Это безумие какое-то! Если эти люди, как говорит твой отец, совершили столько преступлений в этой долине и если об этом известно всем, почему до сих пор никого не судили? Ответь мне, Этти!
– Потому что все боятся! Никто не осмеливается давать против них показания в суде. Тот, кто это сделает, не проживет и недели. К тому же у них всегда найдутся люди, которые под присягой покажут, что тот, кого обвиняют, был где-нибудь совсем в другом месте. Но как же так, Джек, неужели ты ничего об этом не читал? Ведь во всех газетах по всем штатам пишут про это.
– Нет, что-то я, конечно, читал. Но я думал, что все это выдумки, что у этих людей, может быть, есть какое-то оправдание, что, может быть, что-то их заставляет так поступать.
– О, не говори так, Джек! Так же и он говорит!
– Болдуин… Значит, вот что он тебе говорит.
– Поэтому я его так и презираю! О Джек, теперь я могу сказать тебе правду. Я презираю и ненавижу его всем сердцем, но я боюсь его. Я боюсь за себя, но еще больше я боюсь за отца. Я знаю, что нас постигнет большое горе, если я осмелюсь вслух сказать то, что чувствую на самом деле. Поэтому я и тяну время, не говоря ему ни «да», ни «нет». На самом деле для нас это единственная надежда. Но, если бы ты согласился бежать со мной, мы бы взяли отца и стали бы жить где-нибудь далеко-далеко, где этот страшный человек не имеет власти.
Опять по лицу Макмердо скользнула тень, но он снова совладал с собой.
– Никто не причинит тебе вреда, Этти… Ни тебе, ни твоему отцу. А что касается этих людей… Может статься, что скоро я сам покажусь тебе страшнее самых страшных из них.
– Нет, нет, Джек! Я верю тебе!
Макмердо горько рассмеялся.
– Боже, как же мало ты обо мне знаешь! Твое чистое, невинное сердце даже не догадывается, что творится у меня в душе. Но постой! Кто это там?
Дверь в гостиную резко распахнулась, и в комнату развязной походкой с хозяйским видом вошел молодой парень. Лощеный, красивый, он был примерно одного возраста и роста с Макмердо. Под широкополой черной фетровой шляпой, которую он не потрудился снять, на красивом лице с хищно изогнутым носом зло блеснули холодные и властные глаза. Он остановился и посмотрел на пару, сидящую у печи.
Этти вскочила и срывающимся от смущения и волнения голосом сказала:
– Рада видеть вас, мистер Болдуин. Я думала, вы будете позже. Прошу, проходите, садитесь.
Болдуин остался на месте. Уперев руки в бока, он смотрел на Макмердо.
– Это кто? – резко спросил он.
– Мой друг, мистер Болдуин. Он наш новый постоялец. Мистер Макмердо, познакомьтесь, это мистер Болдуин.
Молодые люди холодно кивнули друг другу.
– Возможно, мисс Этти рассказала вам о наших отношениях? – спросил Болдуин.
– Насколько я понял, между вами нет отношений.
– Вот как? Ну так сейчас я вам сам растолкую. Эта юная леди принадлежит мне, так что лучше сходите прогуляйтесь, погода сейчас хорошая.
– Спасибо, но у меня настроение не для прогулок.
– Неужели? – В дьявольских глазах молодого человека сверкнули молнии. – Может быть, вы в настроении выяснить отношения прямо сейчас, мистер Постоялец?
– А вот это с удовольствием! – воскликнул Макмердо, вскакивая.
– Господи, Джек! Не надо! – в отчаянии закричала бедная Этти. – Нет, Джек! Нет! Он убьет тебя!
– Ах, он для тебя Джек? – процедил Болдуин и выругался. – Вы уже до этого дошли…
– Тед, образумься… Прошу, ради меня, Тед! Если ты меня любишь, оставь его, прости.
– Этти, я думаю, если ты позволишь нам поговорить наедине, мы сумеем уладить отношения, – спокойным голосом сказал Макмердо. – Или вы, мистер Болдуин, предпочитаете выйти со мной на улицу? Вечер, как вы заметили, хороший, а за соседним домом есть пустырь.
– Я не стану марать руки, – бросил его враг. – Но скоро ты пожалеешь, что попал в этот город. Я еще с тобой разберусь!
– Почему бы не сделать этого прямо сейчас?
– Я сам решу, когда мне это сделать, мистер. Смотри. – Он неожиданно закатил рукав и поднял руку. На его предплечье красовался знак, который, похоже, был выжжен прямо на коже, как тавро: круг с вписанным в него треугольником. – Знаешь, что это значит?
– Не знаю и знать не хочу.
– Ничего, скоро узнаешь, я тебе это обещаю. И это будет последнее, что ты узнаешь в своей жизни. Мисс Этти тебе расскажет, что это значит. А ты, Этти, приползешь ко мне на коленях. Слышишь, девчонка? На коленях, и тогда я решу, какое выбрать для тебя наказание. Посмотрим, кто будет смеяться последним!
Он окинул их испепеляющим взглядом, развернулся и вышел, громко хлопнув дверью.
Несколько мгновений Макмердо и девушка стояли молча. Потом она бросилась ему на грудь.
– О Джек! Какой же ты храбрый! Но это не поможет, теперь тебе нужно бежать! Сегодня же, Джек… Сегодня же! Это твоя единственная надежда. Он убьет тебя. Я увидела это в его жутких глазах. Их придет дюжина, тебе не справиться с ними. Ведь за ними будет стоять и босс Макгинти, и вся ложа.
Макмердо освободился из ее объятий, поцеловал и бережно усадил обратно на стул.
– Тише, тише, милая, успокойся. Не бойся за меня. Я ведь и сам из свободных тружеников. Твоему отцу я уже об этом рассказал. Возможно, я не лучше остальных, так что не делай из меня святого. Теперь, когда я и тебе рассказал, может быть, ты и меня возненавидишь.
– Возненавидеть тебя, Джек? Этого не будет, пока я живу. Я слышала, что в других местах в Ордене состоят обычные люди и в этом нет ничего зазорного. Так почему же мне тебя ненавидеть? Но, Джек, если ты сам труженик, почему тебе не пойти к боссу Макгинти и не подружиться с ним? О Джек, скорее! Ты должен первым с ним поговорить, прежде чем произойдет что-то страшное.
– Я тоже об этом подумал, – сказал Макмердо. – Я пойду и поговорю с ним прямо сейчас. Отцу скажи, что сегодня на ночь я еще останусь здесь, но завтра с утра пойду искать новое жилье.
Бар в салуне Макгинти был, как всегда, переполнен. Публика погрубее предпочитала приходить именно сюда, потому что хозяин заведения всегда был весел и по-свойски приветлив со всеми, умело пряча под этой маской свою истинную суть. Но помимо страха перед этим человеком, которым был охвачен весь город, страха, который расползся по всей тридцатимильной долине и даже за окаймляющие ее с обеих сторон горы, было достаточно причин, чтобы его заведение никогда не пустовало. Никому не хотелось портить с ним отношения.
Этот человек обладал не только негласной безграничной властью. Кроме этого, он занимал высокий пост муниципального советника и возглавлял комиссию по дорожному строительству. Эти должности ему обеспечили голоса бандитов, надеющихся на его благосклонность. Налоги и сборы в городскую казну были непомерными; почти все общественные работы были приостановлены; счета подделывались подкупленными ревизорами; рядовые жители были запуганы до такой степени, что предпочитали расставаться со своими деньгами молча, никто не смел раскрыть рта, чтобы не накликать на себя еще бóльшую беду.
И так длилось годами. Бриллиантовые булавки на галстуках босса Макгинти становились все роскошнее, золотые цепочки на жилетах – все более тяжелыми, костюмы – все более великолепными. Салун его стремительно разрастался и уже угрожал поглотить целую сторону центральной площади.
Макмердо толкнул дверь в салун и чуть не задохнулся, когда в лицо ему ударил спертый воздух, насыщенный густым табачным дымом и едким запахом спиртного. Он стал пробираться сквозь толпу. Бар был прекрасно освещен, огромные, в золоченых рамах зеркала, развешанные на всех стенах, многократно отражали ослепительный искусственный свет ламп.
Несколько барменов в рубашках выбивались из сил, смешивая напитки для посетителей, облепивших широкую, обитую медью стойку. В дальнем конце зала, прислонившись спиной к стойке, в расслабленной позе стоял высокий, крепко сбитый мужчина. В углу рта он держал сигару. Судя по всему, это и был всемогущий Макгинти. Этот гигант с черной густой бородой до глаз и огромной копной смоляных волос был смугл, как итальянец, его непроницаемые угольные глаза, которые к тому же слегка косили, придавали ему необыкновенно зловещий вид.
Все остальное в этом человеке – высоко поднятая голова, приветливое выражение лица и небрежные манеры – все соответствовало тому образу радушного хозяина, который он в данную минуту принял. Весь вид его как будто говорил, что он обычный добродушный и простой парень и, хоть разговаривает несколько грубовато, сердце у него чистое и доброе. И только когда на тебя устремлялись его мертвые черные глаза, бездонные и безжалостные, внутри тебя все сжималось, возникало ощущение, что перед тобой – воплощение извечного, безграничного зла, за которым стоят сила, неустрашимость и коварство, делающие это зло в тысячу раз страшнее.
Присмотревшись со стороны к этому человеку, Макмердо стал проталкиваться к нему. С обычной нагловатой бесцеремонностью он растолкал группку подхалимов, крутящихся вокруг могущественного босса и дружно хохочущих над каждой оброненной им шуткой. Ирландец спокойно выдержал обратившийся на него гипнотизирующий взгляд черноглазого бородача.
– Молодой человек, мне ваше лицо не знакомо.
– Я тут недавно, мистер Макгинти.
– Настолько недавно, что не считаете нужным, обращаясь к человеку, называть его титул?
– Перед вами советник Макгинти, молодой человек, – тут же подсказал сзади чей-то голос.
– Извините, советник. Я еще не знаком с тем, как у вас тут принято себя вести. Но мне посоветовали увидеться с вами.
– Ну, увидели меня? И как я вам? Что скажете?
– По-моему, выводы еще рано делать, но если сердце у вас такое же большое, как тело, а душа такая же прекрасная, как лицо, то большего мне и не надо, – сказал Макмердо.
– Складно говоришь, ирландец! – воскликнул владелец салуна, еще не решивший, стоит ли снизойти до разговора с этим нагловатым молодым человеком. – Так значит, внешность мою ты одобряешь?
– Конечно, – сказал Макмердо.
– И тебя направили ко мне?
– Да.
– Кто же тебя направил?
– Брат Сканлан из ложи 341, Вермисса. За ваше здоровье, советник, и за наше знакомство. – Он поднес к губам бокал, который налил ему один из барменов, и выпил, отставив в сторону мизинец.
Макгинти, не сводивший с него глаз, удивленно поднял брови.
– Ах вот оно что, – проговорил он. – Что ж, тогда придется кое-что проверить, мистер…
– Макмердо.
– Придется кое-что проверить, мистер Макмердо. У нас не принято доверять на слово. И верим мы не всему, что нам говорят. Давайте-ка зайдем вот сюда на минуту.
Оказалось, за баром есть небольшая комнатка. Плотно закрыв за собой дверь, Макгинти уселся на одну из бочек, которые плотными рядами стояли у стен, и, задумчиво пожевывая сигару, окинул внимательным взглядом своего спутника. Минуты две он молчал. Но Макмердо этот затянувшийся осмотр ничуть не смутил. Он стоял, одну руку засунув в карман, а другой покручивая коричневый ус, и даже как будто слегка улыбался. Неожиданно Макгинти чуть-чуть наклонился, и в следующий миг в его руке зловеще блеснул револьвер.
– Вот что я тебе скажу, весельчак, – угрожающим тоном произнес он. – Если мне хоть на секунду покажется, что ты затеял какую-то игру, я в два счета с тобой разделаюсь.
– Как-то странно слышать от владыки ложи свободных тружеников такое приветствие брату, – не моргнув глазом, ответил Макмердо.
– Какой ты брат, мы сейчас проверим, – сказал Макгинти. – И да поможет тебе Бог, если я тебе не поверю! Где тебя принимали?
– Ложа 29, Чикаго.
– Когда?
– Двадцать четвертого июня тысяча восемьсот семьдесят второго года.
– Кто?
– Владыка Джеймс Х. Скотт.
– Как зовут вашего районного управителя?
– Бартоломью Уилсон.
– Хм, отвечаешь довольно уверенно. Что ты здесь делаешь?
– Работаю. Тем же, кем и вы… Только получаю меньше.
– Ты, я вижу, за словом в карман не лезешь.
– Да, отвечать на вопросы я умею.
– А действовать?
– Испытайте меня – узнаете.
– Испытаем. Может быть, даже раньше, чем ты думаешь. Ты что-нибудь о нашей ложе знаешь?
– Слышал, что кого попало вы к себе не принимаете.
– Это точно, мистер Макмердо. А что ж ты из Чикаго уехал?
– Это мое личное дело, и я не буду отвечать.
Макгинти раскрыл глаза от удивления. К таким ответам он не привык. Подобная простоватая наглость ему понравилась.
– Почему ты не хочешь об этом говорить?
– Потому что братьям запрещено говорить друг другу неправду.
– А правда настолько ужасна, что поделиться ею нельзя?
– Можно и так сказать.
– Но ты же должен понимать, что я, как владыка, не имею права принять в ложу человека, за прошлое которого не могу поручиться.
Сперва Макмердо удивился, но потом достал из внутреннего кармана газетную вырезку.
– Надеюсь, в полицию вы с этим не пойдете? – спросил он.
– Что? – взревел Макгинти. – Да ты как со мной разговариваешь?
– Да-да, советник, – кротко склонил голову Макмердо. – Вы правы. Прошу прощения. Я сказал, не подумав. Конечно же, вам можно всецело довериться. Взгляните на вырезку.
Макгинти принял листок и пробежал глазами заметку, в которой рассказывалось о смерти некоего Джонаса Пинто, который был застрелен в салуне «Лейк» на Маркет-стрит в Чикаго в первую неделю тысяча восемьсот семьдесят четвертого года.
– Твоя работа? – спросил он, возвращая вырезку.
Макмердо кивнул.
– За что ты его?
– Я помогал дяде Сэму делать доллары. Может быть, золото в моих долларах было не таким чистым, как в его, но выглядели они точно так же, а делать их было дешевле. Этот Пинто помогал мне сливать их…
– Что помогал?
– Ну, это значит сбывать их. Потом я узнал, что он собирается сдать меня. Может быть, уже сдал. Я не стал дожидаться, чтобы это выяснить наверняка, пришил его и дал деру в шахтерские края.
– Почему именно сюда?
– Потому что об этом районе много в газетах пишут.
Макгинти рассмеялся.
– Значит, ты сначала был фальшивомонетчиком, потом – убийцей, а потом приехал в наш город, думая, что здесь тебя примут с распростертыми объятиями?
– Где-то так, – ответил Макмердо.
– Да, ты, я вижу, далеко пойдешь. Скажи-ка, а доллары делать ты еще не разучился?
Макмердо достал из кармана с полдюжины монет.
– Эти были сделаны не на филадельфийском монетном дворе, – сказал он.
– Неплохо, совсем неплохо! – Макгинти поднес огромную волосатую, как у гориллы, руку к свету, чтобы получше рассмотреть доллары. – Я не вижу разницы. Сдается мне, ты будешь полезным для ложи братом. Я думаю, одного-двух людей с темным прошлым мы все же потерпим в своих рядах, друг мой Макмердо. Нам ведь и самим иногда тяжело приходится. На нас со всех сторон давят, и, если мы не будем работать локтями, нас скоро сотрут в порошок.
– Я готов поработать локтями вместе с остальными ребятами.
– Ты, похоже, парень крепкий. Когда я на тебя револьвер наставил, не вздрогнул даже.
– Опасность-то не мне грозила.
– А кому же?
– Вам, советник, – Макмердо вытащил из кармана куртки револьвер. – Я все время держал вас на мушке. Думаю, что мой выстрел был бы таким же быстрым, как ваш.
– Черт! – сначала Макгинти побагровел от гнева, но потом захохотал. – Да ты сущий дьявол, я такого молодца уже много лет ищу. Думаю, ложа будет гордиться таким членом… Ну ладно, выкладывай, чего ты хочешь? Я что, не могу поговорить с человеком пять минут, чтобы мне никто не мешал?
Последнее восклицание было обращено к бармену, который открыл дверь и испуганно замер на пороге.
– Простите, советник, но вас спрашивает Тед Болдуин. Он говорит, что у него срочное дело.
Впрочем, объяснения эти были излишни, потому что за плечом слуги показалось злое лицо самого Болдуина. Он грубо вытолкнул бармена из комнаты и закрыл дверь.
– Ага, – сказал он, буравя Макмердо глазами, – значит, ты явился сюда первым. Я должен вам кое-что сказать об этом человеке, советник.
– Так говори это прямо сейчас, при мне, – не скрывая неприязни, вскричал Макмердо.
– Я это сделаю тогда, когда посчитаю нужным.
– Ну-ну! – сказал Макгинти, пряча свой револьвер. – Так не пойдет. Это наш новый брат, и нам не годится так принимать его. – Не знаю, что там между вами произошло, но вы должны помириться. Пожмите друг другу руки.
– Ни за что! – Лицо Болдуина перекосилось от ярости.
– Я предлагал ему по-мужски выяснить отношения, если он считает, что я чем-то его обидел, – сказал Макмердо. – Я готов драться без оружия или любым оружием по его выбору. Но, может быть, вы, советник, рассудите нас как владыка ложи?
– Так что вы не поделили?
– Молодую леди. Она имеет право сама выбрать.
– Ничего она не имеет! – зарычал Болдуин.
– Поскольку вы оба братья по ложе, я считаю, что имеет, – сказал босс.
– Это ваше решение?
– Да, Тед Болдуин, – сказал Макгинти, и глаза его сделались ледяными. – Вы хотите его оспорить?
– Вы так просто отмахиваетесь от человека, который все эти пять лет был рядом с вами, ради того, кого видите первый раз в жизни? Вас избрали владыкой не навечно, Джек Макгинти, и, клянусь Господом, когда будут следующие выборы…
Но советник не дал ему договорить. Он, как тигр, накинулся на него, схватил своей огромной лапой за горло и швырнул на одну из бочек. В этом приступе бешенства он бы мог запросто задушить его, если бы не вмешался Макмердо.
– Успокойтесь, советник! Господи Боже, успокойтесь! – закричал он, оттаскивая черногривого гиганта от его жертвы.
Макгинти разжал руку, и Болдуин, с выпученными от страха глазами и дрожа всем телом, привстал с бочки, едва переводя дух, как человек, только что увидевший свою смерть в лицо.
– Ты давно на это напрашивался, Тед Болдуин… И наконец получил свое! – загремел Макгинти, тяжело дыша могучей грудью. – Может, ты метишь на мое место, если меня в следующий раз не изберут владыкой? Так вот, это будет решать ложа. Но, пока я тут главный, я никому не позволю идти против меня и моей воли.
– Я не собирался идти против вас, – прохрипел Болдуин, держась за горло.
– Вот и прекрасно! – неожиданно во весь рот улыбнулся советник. – Значит, все мы снова друзья, и делу конец.
Он снял с полки бутылку шампанского и выкрутил пробку.
– Ну вот что, – продолжил он, наполняя три бокала. – Давайте-ка выпьем за примирение так, как принято у нас в ложе. После этого, как вы знаете, между братьями не может быть вражды. Итак, приложи левую руку к моей шее. Я говорю тебе, Тед Болдуин: в чем обида, сэр?
– Тучи сгустились, – ответил Болдуин.
– Но они развеются.
– И в этом я клянусь!
Они выпили бокалы, потом тот же обряд повторили Болдуин и Макмердо.
– Вот и славно! – воскликнул Макгинти, потирая руки. – Хватит уже грызться. За нарушение правил ложи, брат Макмердо, будешь держать ответ. А рука у нас тяжелая, брат Болдуин не даст соврать… Так что смотри, не напрашивайся!
– Я вовсе не ищу ссоры, – сказал Макмердо и протянул руку Болдуину. – Я быстро завожусь, но и быстро прощаю. Говорят, в этом виновата моя ирландская кровь. Но я уже все выбросил из головы и не держу зла.
Болдуину пришлось пожать протянутую руку дружбы, но, похоже, сделать это его заставил лишь тяжелый взгляд босса – по его брезгливому выражению лица было видно, что откровенность ирландца вовсе не тронула его.
Макгинти хлопнул их обоих по плечам.
– Эх, женщины, женщины! – вздохнул он. – Подумать только, из-за какой-то юбки ссорятся мои ребята! Кто бы мог подумать! Ну да ладно, вопрос этот должна решить сама ваша избранница, потому что в обязанности владыки это, слава богу, не входит. У нас и без женщин дел хватает. Ты будешь принят в ложу 341, брат Макмердо. У нас тут свои порядки и методы, не такие, как в Чикаго. Собираемся мы по субботам вечером. Приходи, и станешь одним из нас, вермиссцев.
Глава 3 Ложа 341, Вермисса
На следующий день после того вечера, полного стольких неожиданных и важных событий, Макмердо переехал из гостиницы старого Джейкоба Шафтера в меблированные комнаты вдовы Макнамара на самой окраине города. Вскоре в Вермиссу приехал Сканлан, тот самый, с которым Макмердо познакомился еще в поезде, и они стали жить вместе. В доме других жильцов не было. Хозяйка, старая простодушная ирландка, к ним наведывалась нечасто, что вполне их устраивало, поскольку, имея общие тайны, они могли спокойно разговаривать, не опасаясь быть услышанными посторонними.
Шафтер снизошел до того, чтобы разрешить Макмердо приходить в свой бар в любое время, поэтому его отношения с Этти никоим образом не прервались. Напротив, с каждой неделей они становились все ближе и связь их крепла.
В таком отдалении от центра города Макмердо, почувствовав себя в полной безопасности, достал и установил в своей спальне штемпель, и многие братья по ложе приходили к нему, чтобы, предварительно дав клятву хранить все увиденное в строжайшей тайне, иметь возможность взглянуть на этот механизм и унести с собой образцы фальшивых монет, выполненные столь искусно, что их можно было безбоязненно тратить в любом месте. То, что Макмердо, владея таким замечательным искусством, все еще продолжал ходить на работу, безмерно поражало его новых знакомых, хотя он и пытался, как мог, объяснить им, что, живя без законного заработка, очень скоро привлек бы к себе внимание полиции.
Надо сказать, что один полицейский им все же заинтересовался, но, к счастью, это принесло молодому фальшивомонетчику намного больше пользы, чем вреда. После первого знакомства с Макгинти Макмердо почти каждый день наведывался в его салун, где сошелся с «ребятами» – таким озорным словом называли себя участники этой грозной банды, которые собирались там. Залихватские замашки и полное отсутствие страха перед кем бы то ни было вскоре сделали его всеобщим любимчиком, а то мастерство и хладнокровие, с которым он отделал своего противника в одной из драк, случившихся в баре, принесли ему и уважение этого грубого общества. Но другой случай еще больше поднял Макмердо в их глазах.
Однажды вечером дверь переполненного салуна открылась и вошел человек в синей униформе и в фуражке шахтерской полиции. Это было специальное подразделение, созданное владельцами железных дорог и шахт в помощь обычной полиции, которая совершенно не справлялась с разгулом организованной преступности в этом регионе. По толпе прошел шумок, и на вновь вошедшего устремилось множество любопытных глаз. Однако кое-где в Соединенных Штатах между полицией и преступниками существуют довольно своеобразные отношения, так что Макгинти, который стоял у стойки, ничуть не смутился, увидев среди своих клиентов полицейского.
– Виски. Вечер сегодня холодный, – сказал полицейский. – Мы с вами до сих пор как будто не встречались, советник?
– Вы, надо полагать, новый капитан? – спросил Макгинти.
– Да. Я капитан Марвин. Мы бы хотели, чтобы вы и другие видные жители города помогли нам наконец навести здесь порядок.
– Знаете, мы справимся с этим делом и без вас, капитан Марвин, – холодно сказал Макгинти. – В городе есть своя полиция, мы не нуждаемся в помощи извне. Тем более в помощи таких, как вы, наемников на содержании богатых капиталистов. Сколько людей, честных работяг, уже пострадало от ваших дубинок и револьверов?
– Что ж, понятно. Спорить с вами на эту тему я не собираюсь, – легкомысленно заметил полицейский. – Мы все выполняем свой долг так, как его понимаем, правда, понимаем-то мы его по-разному. – Он выпил свой виски и уже собрался уходить, как вдруг увидел Джека Макмердо, стоявшего у стойки с хмурым видом недалеко от него. – Кого я вижу! – воскликнул он, окидывая его взглядом. – Старый знакомый!
Макмердо презрительно подался в сторону.
– У меня друзей среди фараонов нет и никогда не было, – сквозь зубы процедил он.
– Знакомый не всегда друг, – широко улыбнулся капитан. – Ты Джек Макмердо из Чикаго, и можешь этого не отрицать.
Макмердо пожал плечами.
– А с чего бы мне это отрицать? – сказал он. – Я своего имени не стыжусь.
– Хотя, может, и следовало бы.
– Что? Какого черта! Что ты хочешь этим сказать? – тут же вспыхнул ирландец, сжимая кулаки, как будто был готов броситься на полицейского.
– Не стоит, Джек, так шуметь, на меня это не действует. Я был офицером полиции в Чикаго еще до того, как приехал в эту чертову угольную дыру, так что на таких, как ты, преступников глаз у меня наметанный.
Макмердо побледнел.
– Только не говори мне, что ты – тот Марвин из центральной полицейской части Чикаго! – несколько взволнованно воскликнул он.
– Да, да. Он самый, старина Тедди Марвин, к твоим услугам. Убийство Джонаса Пинто мы еще не забыли.
– Я не убивал его.
– Неужели? Ну, раз ты так говоришь, это, конечно же, меняет дело… Только вот смерть его была для тебя очень выгодна, иначе ты пошел бы под суд за печатание фальшивых денег. Ну да ладно, забудем об этом. Между нами, хотя, конечно же, говорить тебе об этом права я не имею, но доказательств-то против тебя так и не собрали, так что в Чикаго ты можешь вернуться хоть завтра.
– Мне и здесь неплохо.
– Как знаешь. Но, я думаю, тебе стоило бы поблагодарить меня за эту весть.
– Что ж, ты, конечно, ничего плохого не имел в виду, так что большое спасибо, – не очень любезно отозвался Макмердо.
– Пока ты живешь тихо-мирно, и я поднимать шума не стану, – сказал капитан. – Но смотри, еще раз во что-нибудь вляпаешься, тогда уже просто так не отделаешься, даю тебе слово! Счастливо оставаться. До свидания, советник.
Как только полицейский ушел, по салуну прокатился одобрительный гул. Здесь уже давно ходили слухи о подвигах Макмердо в далеком городе Чикаго. Правда, до сих пор на любые вопросы он с улыбкой на лице отказывался отвечать, как скромный человек, не желающий лишней славы. Но теперь, когда все получило официальное подтверждение, посетители бара окружили его и стали искренне жать руку. Отныне он был, что называется, «принят в общество». Макмердо умел пить не пьянея, но в тот день, если бы рядом не оказалось его приятеля Сканлана, который отвел его домой, новоиспеченный герой наверняка заночевал бы в салуне под барной стойкой.
В субботу вечером Макмердо был принят в ложу. Он думал, что, поскольку в Чикаго однажды уже проходил обряд посвящения, на этот раз обойдется без церемоний, но в Вермиссе существовали свои обычаи, которыми местные вольные труженики очень гордились, и соблюсти их обязаны были все, кто готовился присоединиться к их числу. Собрание проводилось в специальном зале в Доме Союза. Присутствовало всего шестьдесят человек, но это никоим образом не передавало всей мощи вермисской организации, поскольку еще несколько лож существовало в долине и за окружающими ее горами. Все они в случае необходимости объединялись и обменивались членами, чтобы преступление совершали не местные братья, а люди со стороны, не известные в этих местах. Во всем шахтерском районе проживало не менее полутысячи вольных тружеников.
В большом пустом зале собравшиеся расселись за длинным столом. В стороне стоял еще один стол, уставленный бутылками и бокалами, на который кое-кто из присутствующих уже посматривал с нетерпением. Место во главе стола занял Макгинти. Он был в плоской черной бархатной шапочке, из-под которой выбивалась грива спутанных смоляных волос, на плечах у него висела длинная полоса светло-фиолетовой ткани, что делало его похожим на магистра, проводящего какой-то сатанинский ритуал. По правую и по левую руку от него сидели самые важные чины организации. Среди них нельзя было не заметить и жестокое, но красивое лицо Теда Болдуина. На каждом из них был либо шарф, либо медальон, указывающий на его ранг. Большей частью это были мужчины в возрасте, но остальное собрание состояло из молодых парней от восемнадцати до двадцати пяти лет, сильных и смышленых агентов, готовых выполнять любые приказания сверху. По лицам многих старших было видно, какие свирепые, не знающие жалости сердца бьются у них в груди, но, глядя на рядовой состав, трудно было поверить, что все эти энергичные молодые люди с открытыми лицами – участники жестокой банды убийц. Их души были настолько извращены, что то страшное дело, которым они промышляли, являлось для них предметом особой гордости. Наибольшее уважение здесь вызывали те, кто лучше других умел делать «чистую работу», как они это называли.
Для их исковерканных душ не было большего подвига, чем вызваться на дело против человека, который не сделал им ничего плохого и которого они чаще всего никогда раньше и не видели. Вернувшись с дела, они спорили из-за того, кто нанес смертельный удар, и развлекали друг друга и компанию слушателей описанием криков и предсмертных мук жертвы.
Поначалу злодеи готовили и воплощали в жизнь свои темные дела втайне, но к тому времени, которое описывается в этом рассказе, они уже действовали почти в открытую, поскольку беспомощность полиции и полная безнаказанность убедили их, что, с одной стороны, никто не осмелится давать показания против них, а с другой – им легко разыщут множество свидетелей, готовых подтвердить любое алиби, и наймут самых лучших адвокатов в штате. За десять лет насилия и произвола ни одно преступление не закончилось предъявлением обвинения. Единственная угроза для «сердитых» исходила от самой жертвы, которой все же иногда удавалось оставить след на теле кого-либо из нападавших, несмотря на то что те всегда приходили неожиданно и целой группой.
Макмердо предупредили, что его ждет некое испытание, но, у кого он ни спрашивал, никто не стал объяснять, в чем оно заключалось. Двое молчаливых братьев торжественно ввели его в прихожую. Из-за деревянной перегородки доносился приглушенный гул многих голосов. Пару раз он различил свое имя и понял, что сейчас обсуждается его кандидатура. Через какое-то время из зала в прихожую вышел страж в зеленой с золотым перевязи.
– Владыка велит связать ему руки, закрыть глаза и ввести.
Втроем они сняли с Макмердо куртку, закатали правый рукав сорочки, потом обвязали веревкой повыше локтей. Наконец натянули на голову плотный черный колпак так, чтобы он закрывал всю верхнюю часть лица, и ввели в зал.
Под колпаком было совершенно темно и крайне неуютно. Со всех сторон Макмердо слышал шепот и приглушенные разговоры. Потом откуда-то издалека раздался голос Макгинти.
– Джон Макмердо, – торжественно произнес голос, – являешься ли ты членом Великого ордена свободных тружеников?
В знак согласия он кивнул.
– Ты состоишь в ложе номер 29, Чикаго?
Он снова кивнул.
– Темные ночи неприветливы, – сказал голос.
– Да, для странников в чужом краю, – ответил ирландец.
– Тучи сгустились.
– Да, приближается буря.
– Братья удовлетворены? – спросил владыка.
Вокруг согласно загудели голоса.
– Твои ответы удостоверили нас, что ты действительно наш брат, – сказал Макгинти. – Однако сейчас ты узнаешь, что в нашем округе и в других округах в этой части страны существуют определенные обряды и определенные обязанности, поэтому нам нужны надежные люди. Ты готов к испытанию?
– Да.
– Отважное ли у тебя сердце?
– Да.
– Сделай шаг вперед и докажи это.
Как только были произнесены эти слова, Макмердо почувствовал прикосновение. Что-то тонкое и твердое уперлось в его закрытые колпаком глаза, и ощущение было такое, что, сделав любое движение вперед, он лишится их. И все же он набрался мужества и шагнул вперед. И сразу же давление на глаза исчезло. Со всех сторон раздались негромкие аплодисменты.
– У него отважное сердце, – провозгласил Макгинти. – Боишься ли ты боли?
– Не больше других, – ответил он.
– Испытайте его!
Макмердо пришлось изо всех сил сцепить зубы, чтобы не закричать, потому что в эту секунду страшная пронизывающая боль обожгла его предплечье. От неожиданности он чуть не лишился сознания. Закусив губу и сжав изо всех сил кулаки, он все же заставил себя устоять на ногах.
– И это все? – спросил он, отдышавшись.
На этот раз аплодисменты были громче и увереннее. В ложе такого посвящения еще не видели. Посыпались поздравления, его стали одобрительно хлопать по плечам, с головы сдернули колпак. Макмердо стоял в окружении братьев, моргал от неожиданно ударившего в глаза света и улыбался.
– И последнее, брат Макмердо, – сказал Макгинти. – Ты уже давал клятву хранить тайны общества и быть преданным ему. Тебе известно, что за ее нарушение существует одно наказание – немедленная и неминуемая смерть?
– Да, – твердо сказал Макмердо.
– И ты согласен безоговорочно принимать власть владыки?
– Да.
– Тогда от имени ложи 341, Вермисса, я рад приветствовать тебя в наших рядах и приглашаю разделить наши права и обязанности. Неси вино, брат Сканлан, выпьем за здоровье нашего достойного брата.
Макмердо вернули куртку, но, прежде чем надеть ее, он посмотрел на свою правую руку, которая все еще невыносимо болела. На предплечье, в том месте, куда впилось раскаленное железо, прямо на коже пылал красный выжженный круг со вписанным треугольником. Некоторые из сидевших рядом братьев завернули рукава и показали такие же отметины.
– У нас у всех такие знаки, – сказал один из соседей. – Правда, не все перенесли боль так же, как ты.
– Разве это боль? Пустяки, – равнодушно пожал плечами он, хотя на самом деле боль в руке до сих пор была адской.
Когда возлияния по случаю принятия в ложу нового брата закончились, собрание приступило к обычным делам. Макмердо, по чикагской привычке ожидавший чего-то неинтересного и наводящего тоску, наблюдал за тем, что последовало, с вытянувшимся от удивления лицом.
– Итак, первый вопрос на повестке дня – обсуждение следующего письма от мастера Уиндла, главы мертоновского отделения ложи 249. Вот что он пишет: «Дорогой сэр! Необходимо поработать с Эндрю Рэем из нашей местной угольной компании „Рэй-энд-Стермаш“. Несомненно, вы не забыли, о том, что прошлой весной двое наших братьев помогли вам уладить вопрос с патрульным полицейским. Пошлете к нам двух надежных людей, они поступят в распоряжение казначея нашей ложи Хиггинса, адрес которого вам известен. Он и сообщит им, что нужно будет сделать и когда. Ваш брат Дж. У. Уиндл, глава отделения Д. О. С. Т.» Уиндл никогда не отказывал, когда мы просили прислать пару-тройку человек нам в помощь, поэтому и мы не можем ему отказать, – Макгинти замолчал и обвел зал холодным змеиным взглядом. – Есть добровольцы на эту работу?
Руки подняли несколько молодых людей. Владыка одобрительно кивнул.
– Пойдешь ты, Тигр Кормак. Надеюсь, справишься не хуже, чем в прошлый раз. И ты, Уилсон.
– Только у меня оружия нет, – сказал Уилсон, совсем еще мальчишка, не старше двадцати.
– Ты ведь до этого не участвовал в настоящем деле, верно? Ну что ж, когда-нибудь крещение кровью все равно должно состояться. Для тебя это будет прекрасное начало. А оружие, я уверен, тебе дадут. На место явитесь в понедельник, раньше не стоит. Когда вернетесь, мы встретим вас, как полагается.
– А на этот раз что-нибудь заплатят? – спросил Кормак, здоровенный смуглокожий парень со зверским лицом, который получил прозвище Тигр за безграничную жестокость.
– Не думай о деньгах. Думай о том, какая честь выпала тебе. Может быть, когда дело будет сделано, несколько лишних долларов и найдется.
– А что натворил этот парень? – спросил юный Уилсон.
– Это не твое дело. Его уже осудили, и все остальное – не наше дело. От вас требуется только выполнить их поручение. И когда нам понадобится их помощь, они поступят так же. Кстати, на следующей неделе к нам приезжают двое братьев из мертоновской ложи.
– А кто они? – спросил кто-то из собравшихся.
– О, этого лучше не знать. Чем меньше знаешь, тем меньше сможешь разболтать. Но это проверенные люди, и сработают чисто.
– Давно пора навести тут порядок! – воскликнул Тед Болдуин. – Кое-кто у нас тут начинает забывать свое место. Только на прошлой неделе бригадир Блейкер уволил троих наших парней. Он давно напрашивается на неприятности и теперь получит сполна.
– Что он получит? – шепотом спросил у своего соседа Макмердо.
– Увольнение… из дула дробовика! – громко ответил тот и захохотал. – Чем мы, по-твоему, занимаемся, брат?
Похоже, преступная душа Макмердо уже пропиталась флюидами зла, которые носились здесь, в зале для собраний этого страшного общества, членом которого он отныне стал.
– А мне это нравится! – воскликнул он. – Да, это подходящее занятие для парня с характером.
Некоторые из сидевших рядом услышали слова Макмердо и поддержали его аплодисментами.
– Что там у вас? – поинтересовался с дальнего конца стола чернобородый председатель.
– Да тут наш новый брат говорит, как ему у нас нравится, сэр.
Макмердо на секунду привстал.
– Я хочу сказать, великий владыка, что для меня было бы честью оказаться полезным ложе.
На эти слова восторженными рукоплесканиями ответил уже весь зал. Похоже, над горизонтом восходила новая звезда. Однако не все старейшины такую напористость новичка встретили с энтузиазмом.
– Выдвигаю предложение, – произнес секретарь Харрауэй, старый седой бородач с сумрачным лицом, сидевший рядом с владыкой, – чтобы брат Макмердо подождал, пока ложа сама не посчитает нужным воспользоваться его услугами.
– Ну да, я это и хотел сказать. Можете в любое время располагать мною, – сказал Макмердо.
– И твое время придет, брат, – провозгласил председатель. – Мы видим, что ты полон сил и горишь желанием работать, и уверены, что у тебя еще будет возможность проявить себя в наших краях. Ну а пока, если тебе так не терпится, можешь помочь в одном небольшом дельце, которое запланировано на сегодня.
– Я лучше дождусь чего-то стоящего.
– Как хочешь, но все равно приходи сегодня вечером, узнаешь, какие цели преследует наше общество. Объявление я сделаю позже. А пока, – он заглянул в повестку дня, – у нас еще есть несколько пунктов, которые нужно вынести на обсуждение. Во-первых, я прошу казначея отчитаться о состоянии нашего банковского баланса. Что там с вдовой Джима Карнауэя? Он ведь погиб, выполняя задание ложи, так что нужно проследить, чтобы она получила пенсию.
– Беднягу Джима подстрелили в прошлом месяце, когда они пытались убить Честера Уилкокса из Марли-крик, – пояснил Макмердо его сосед.
– На сегодняшний день наши счета в прекрасном состоянии, – доложил казначей, раскрывая перед собой большой гроссбух. – Фирмы начали хорошо платить. «Макс Линдер и Ко» откупилась пятью сотнями. «Братья Уолкер» прислали сотню, но я принял решение вернуть им эти деньги с требованием увеличить сумму в пять раз. Если до среды они не отзовутся, их подъемный механизм может выйти из строя. Напомню, что в прошлом году нам пришлось сжечь их дробилку, чтобы они были посговорчивее. Далее. Угольная компания Западного региона прислала годовой взнос. Денег у нас достаточно для выплат любых обязательств.
– А как насчет Арчи Суиндона? – поинтересовался кто-то из братьев.
– Он продал дело и уехал. Этот старый дьявол еще оставил для нас записку, мол, он лучше станет мести улицы где-нибудь в Нью-Йорке, чем будет крупным горнозаводчиком во власти кучки вымогателей. Клянусь Богом, ему повезло, что он успел сбежать до того, как его письмо попало к нам. Думаю, в этой долине он уже никогда не посмеет показаться.
Немолодой чисто выбритый мужчина с благодушным лицом и открытым широким лбом поднялся с противоположного от председателя края стола.
– Господин казначей, – произнес он, – можем ли мы узнать, кто выкупил собственность у этого человека?
– Да, брат Моррис. Его собственность купила Железнодорожная компания штата и округа Мертон.
– А кто выкупил шахты Тодмэна и Ли, которые по тем же причинам оказались выставленными на продажу в прошлом году?
– Та же самая компания, брат Моррис.
– А как насчет металлургических заводов Мэнсона, Шумана, Ван Деера, Этвуда, которые отказались вести здесь дело?
– Все их купила Уэст-Гилмертонская горная компания.
– Для нас, – сказал председатель, – вряд ли имеет значение, кто их покупает, поскольку они все равно остаются в нашем регионе.
– При всем уважении к вам, великий владыка, я думаю, что это может иметь для нас огромное значение. Этот процесс длится уже долгих десять лет. Мы постепенно выживаем мелких частников. И что в результате? Им на смену приходят такие крупные компании, как Железнодорожная или Горная, директора которых сидят в Нью-Йорке или Филадельфии, и им совершенно наплевать на наши угрозы. Мы можем взять в оборот их местных начальников, но это ничего не даст, на их место просто пришлют новых, но мы же при этом подвергаемся опасности. Мелкие владельцы предприятий нам ничем не угрожают, у них для этого нет ни денег, ни власти. Поэтому до тех пор, пока мы не выжмем из них все до последней капли, они будут подчиняться нам. Но, если крупные компании решат, что из-за нас они лишаются доходов, они ведь не пожалеют ни сил, ни денег, чтобы разделаться с нами и отправить всех нас под суд.
После этих зловещих слов все притихли, лица братьев посерьезнели, в глазах их появилась тревога. До сих пор никто не осмеливался противостоять их безграничной власти, и мысль о возможной расплате никогда не тревожила их. Но то, что они услышали сейчас, заставило похолодеть даже самых беспечных из них.
– Я считаю, – продолжил выступающий, – что мы должны дать небольшое послабление частникам. Потому что в тот день, когда последний из них вынужден будет уехать отсюда, наше общество рухнет.
Горькая правда всегда воспринимается в штыки. Когда выступающий сел, зал наполнился недовольными криками. Помрачневший Макгинти поднялся со своего места.
– Брат Моррис, – произнес он, – ты всегда был брюзгой. До тех пор, пока члены этой ложи будут держаться вместе, им не страшна никакая сила в Соединенных Штатах. Сколько раз мы доказывали это в залах суда? Я думаю, что крупные компании точно так же, как и мелкие, посчитают, что проще платить, чем сопротивляться. А теперь, братья, – Макгинти снял черную бархатную шапочку и фиолетовую ленту с шеи, – я объявляю, что на этом сегодняшнее заседание ложи закрыто. Но прежде чем мы разойдемся, уделим время братскому отдыху и гармонии.
Правду говорят, что душа человека – потемки! Для этих людей убийство стало обычным делом. Не моргнув глазом, они могли лишить семью кормильца, и сердца их оставались совершенно глухими к крикам женщин и плачу беспомощных детей, но вот нежный музыкальный перелив или прочувствованное исполнение песни могло довести их до слез. Макмердо обладал чудесным баритоном, и если до сих пор ему еще не удалось завоевать расположение всех членов ложи, то после того, как он исполнил «Сижу я на крыльце, Мэри» и «На берегах реки Аллан», уже никто не мог противиться его обаянию.
В первый же день новичок стал самым популярным членом братства, никого не оставили равнодушным его целеустремленность и веселый нрав, многие уже готовы были предречь ему большое будущее. Однако для того, чтобы стать настоящим свободным тружеником, кроме компанейского характера, требовались и другие качества, и уже к концу дня он получил возможность узнать, какие именно. Когда бутылка виски уже много раз прошла по кругу, а у братьев раскраснелись лица и зачесались кулаки, снова поднялся владыка.
– Ребята, – обратился он к младшим братьям, – в нашем городе есть один тип, которого нужно немного осадить, и вам решать, как это сделать. Я говорю о Джеймсе Стейнджере из «Геральд». Вы видели, что он опять про нас написал в своей газетенке?
Собравшиеся загудели, кто-то негромко выругался. Макгинти достал из кармана жилета листок бумаги.
– «ЗАКОН И ПОРЯДОК!» – так он это озаглавил. «ЦАРСТВО УЖАСА В ДОЛИНЕ УГЛЯ И ЖЕЛЕЗА. Прошло уже двенадцать лет со времени первых убийств, которые доказали, что в нашем краю существует преступное общество. И с тех пор насилие не прекращается. Кровавый произвол превратил нас в позор для всего цивилизованного мира. Неужели ради этого наша великая страна раскрыла свои объятия, приглашая к себе всех бегущих от европейской тирании? Неужели эти люди сами превратились в тиранов для тех, кто предоставил им кров и дал возможность спокойно жить и трудиться? Неужели власть беззакония и террора установится под священным звездным флагом свободы; та власть, которая, как нам до сих пор казалось, существует только в самой жалкой и загнивающей из восточных монархий; та власть, которая заставляет нас холодеть от ужаса, когда мы читаем о ней в газетах? Имена тех, кто стоит за этим, известны. Они не скрываются, более того, их общество существует вполне легально. Долго ли еще мы будем это терпеть? Неужели мы будем продолжать жить…» Ну хватит. Я больше не могу читать этой дряни! – вскричал председатель и швырнул газетную страницу на стол. – Вы слышали, что он говорит о нас. Теперь я спрашиваю: что мы скажем ему?
– В расход его! – закричали несколько гневных голосов.
– Я возражаю, – заявил брат Моррис, тот самый чисто выбритый мужчина с широким лбом. – Говорю вам, братья, наша рука слишком тяжела в этой долине. Если мы не начнем действовать осторожнее, все эти люди объединятся и пойдут против нас. Джеймс Стейнджер – человек в возрасте. Его уважают в городе и во всем районе. Его газету знают все. Если мы пустим его в расход, во всем штате начнутся волнения, и это закончится гибелью для нас.
– И что же они с нами сделают, мистер Осторожность? – воскликнул Макгинти. – Пойдут в полицию? Но вы же знаете, что половина фараонов нами подкуплена, а вторая боится нас как огня. Или они станут судиться с нами? Мы это уже проходили, и что из этого вышло?
– А если дело попадет в руки судьи Линча? – спросил брат Моррис.
От подобного предположения зал взорвался гневными криками.
– Да мне стоит только поднять палец, – загремел Макгинти, – и здесь соберутся две сотни человек, которые прошерстят этот город от края до края так, что ни одного вонючего пса, который открывает на нас рот, в нем не останется. – Потом, сдвинув брови, он вдруг добавил: – Знаешь что, брат Моррис, я к тебе уже давно присматриваюсь. Мало того, что ты сам труслив как заяц, так ты еще и остальных братьев с толку сбиваешь. Смотри, пожалеешь, когда на очередном заседании твое имя попадет в повестку дня. А я как раз начинаю об этом задумываться.
Моррис побледнел, ноги его подкосились, и он безвольно опустился на стул. Прежде чем ответить, он дрожащей рукой поднял бокал и выпил.
– Прошу прощения у вас, великий владыка, и у всех братьев ложи за то, что сказал больше, чем нужно. Я преданный член общества, вы же все это знаете, и если и говорю тревожные слова, то только потому, что переживаю о безопасности ложи. Я ни на секунду не сомневался в мудрости вашего руководства и обещаю, что больше не стану ставить под сомнения ваши слова.
Взгляд владыки потеплел.
– Что ж, хорошо. Мне и самому было бы очень неприятно, если бы пришлось преподать тебе урок, брат Моррис. Но до тех пор, пока я занимаю это место, наша ложа останется сплоченной как на словах, так и в деле. А теперь, ребята, – он обвел взглядом присутствующих, – я вот что скажу. Если поступить с этим Стейнджером так, как он того заслуживает, могут возникнуть проблемы, которые нам вовсе не нужны. Редакторы всех газет знают друг друга, так что тут же поднимется шум, они сразу побегут в полицию, в общем начнется большая заваруха. И все же мы должны сурово предупредить его. Ты справишься с этим, брат Болдуин?
– Конечно! – с готовностью воскликнул молодой человек.
– Сколько людей тебе нужно?
– Полдюжины и двое, чтобы стеречь дверь. Пойдешь ты, Гоуэр, ты, Мэнсел, и ты, Сканлан. Оба Уиллаби, вы тоже готовьтесь.
– Я обещал нашему новому брату, что он тоже пойдет, – сказал председатель.
Тед Болдуин взглянул на Макмердо, и по глазам его было видно, что он ничего не забыл и не простил.
– Если хочет, может идти, – безразлично бросил он. – Этого хватит. Чем раньше примемся за работу, тем лучше.
Компания расходилась шумно, с криками, взрывами хохота и пьяным пением. Бар все еще был полон засидевшихся посетителей, поэтому многие братья решили остаться. Группка избранных для дела выходила на улицу по двое и по трое, чтобы не привлекать к себе внимания. Ночь была ледяной, на стылом звездном небе ярко горел полумесяц. Мужчины вновь собрались во дворе напротив высокого здания с надписью золочеными буквами между ярко освещенных окон: «Вермисса Геральд». Изнутри доносился лязг печатного станка.
– Эй ты, – обратился Болдуин к Макмердо, – станешь у двери, будешь следить, чтобы никто не сунулся и не помешал нам выйти. С тобой останется Артур Уиллаби. Остальные идут со мной. Бояться нечего, ребята, десяток свидетелей подтвердит, что мы в это время находились в баре Дома Союза.
Время близилось к полуночи, поэтому на улице не было почти никого, лишь пара-тройка запозднившихся гуляк шли домой нетвердой походкой. Компания перешла через дорогу. Болдуин, не останавливаясь, ворвался в здание и вместе со своими людьми помчался вверх по лестнице, которая начиналась прямо от двери. Макмердо с одним из Уиллаби остался внизу. Из кабинета наверху донесся крик, призыв о помощи, после этого послышался топот ног, грохот падающих стульев, и на лестницу выбежал седой старик.
Но прежде чем он успел сделать шаг вниз, его схватили и повалили на пол. Звякнув о пару ступенек, к ногам Макмердо шлепнулись его очки. Лежащего ничком мужчину стали избивать палками. Звук частых глухих ударов слился в жуткую дробь. Несчастный скорчился от боли, его длинные руки и ноги судорожно задергались. Когда через какое-то время остальные наконец оставили жертву, Болдуин со звериной улыбкой на лице продолжал осыпать ударами голову мужчины, у которого теперь едва хватало сил на то, чтобы прикрываться руками. По седым волосам старика струилась кровь, но это, казалось, только распаляло Болдуина. Он все еще стоял над своей жертвой и наносил короткие и мощные удары, как только замечал незащищенное место на голове несчастного, когда Макмердо взбежал по лестнице и оттолкнул его в сторону.
– Хватит! – крикнул он. – Ты убьешь его!
Болдуин не поверил своим глазам.
– Что? – взревел он. – Какого дьявола? Кто ты такой, чтобы вмешиваться? Тебя только сегодня приняли в ложу, а ты будешь указывать мне, что делать? А ну в сторону!
Он замахнулся на него своей палкой, но Макмердо молниеносным движением выхватил из кармана револьвер.
– Сам отойди! – грозно крикнул он. – Еще одно движение в мою сторону, и я тебе рожу разнесу. Что касается ложи… Владыка дал четкое указание не убивать этого человека. А ты хочешь забить его насмерть?
– Он дело говорит, – заметил кто-то из братьев.
– Эй вы там! Пора рвать когти! – раздался крик снизу. – Тут уже шум поднимается, через пять минут здесь будет весь город.
И в самом деле, с улицы доносились крики, у лестницы начала собираться небольшая толпа наборщиков и печатников, уже готовых вступить в драку. Оставив изувеченное и неподвижное тело наверху, преступники сбежали вниз по ступенькам и со всех ног бросились на улицу. Когда добежали до Дома Союза, часть из них смешалась с толпой в салуне Макгинти, кто-то шепнул боссу через стойку, что дело сделано. Остальные рассыпались по переулкам и окольными дорогами разошлись по домам.
Глава 4 Долина Ужаса
Едва открыв глаза на следующее утро, Макмердо тут же вспомнил свое вчерашнее посвящение в ложу. Голова раскалывалась от выпитого, рука с выжженным клеймом горела и распухла. Имея свой тайный дополнительный заработок, на работу он ходил не каждый день и тогда, когда это было удобно ему, поэтому, позавтракав, он остался дома и потратил все утро на сочинение длинного письма другу, после чего взял свежий выпуск «Дейли Геральд». В специальной колонке, вставленной в газету в последний момент, он прочитал: «АКТ НАСИЛИЯ В РЕДАКЦИИ „ГЕРАЛЬД“. ТЯЖЕЛО РАНЕН РЕДАКТОР». Это была короткая статья о ночных событиях, в которых он сам принимал участие. Заканчивалась заметка следующими словами:
«Дело уже взяла в свои руки полиция, но вряд ли от нее можно ожидать лучших результатов, чем в прошлом. Некоторых из участников нападения удалось опознать, поэтому все же есть надежда, что они будут задержаны и наконец предстанут перед судом. Нет нужды говорить, что за нападением стоит все та же печально известная организация, которая уже так давно терроризирует наше общество и которой столь упорно противостоит „Геральд“. Спешим успокоить многочисленных друзей мистера Стейнджера: несмотря на многочисленные раны, в том числе и на голове, жизнь его находится вне опасности».
В самом конце было сказано, что для охраны редакции газеты полиция предоставила специальный отряд, вооруженный винчестерами.
Макмердо отложил газету и стал дрожащими после вчерашнего руками раскуривать трубку, когда в дверь постучали. Это была его хозяйка, она принесла записку, которую только что доставил какой-то парень. Послание было анонимным, и вот что в нем говорилось:
«Необходимо поговорить, только не у вас дома. Встретимся у флагштока в Миллер-хилл. Приходите прямо сейчас. Мне нужно сообщить вам нечто очень важное».
Макмердо в полнейшем недоумении дважды перечитал записку – ему было совершенно непонятно, о чем с ним хотят поговорить и кто автор записки. Если бы почерк был женский, можно было бы подумать, что это начало одного из тех приключений, которых в его прошлой жизни было предостаточно. Но письмо было написано мужской рукой, причем писал явно человек образованный. После некоторого колебания он все же решил пойти на встречу.
Миллер-хилл – это почти заброшенный парк в самом центре города. Летом он превращается в одно из любимых мест отдыха горожан, но зимой туда редко кто заходит. В середине парка имеется холм, с вершины которого видно как на ладони не только весь трудовой, черный от въевшейся сажи город, но и всю извилистую долину с черными пятнами разбросанных по ней шахт и заводов, и окаймляющие ее горы с заснеженными вершинами и лесистыми склонами.
Макмердо шагал по обсаженной кустами дорожке, пока не вышел к ресторану. Летом это заведение неизменно ломилось от толп посетителей, но сейчас было закрыто. Рядом с ним стоял голый флагшток, а под ним – мужчина в низко надвинутой шляпе и пальто с поднятым воротником. Когда он повернулся на звук шагов, Макмердо увидел, что это брат Моррис, тот самый, который вчера навлек на себя гнев владыки. Братья приветствовали друг друга условным сигналом ложи.
– Хотел переброситься с вами парой слов, мистер Макмердо. – Неуверенный взгляд пожилого мужчины указывал на то, что разговор намечается деликатный. – Спасибо, что пришли.
– Почему вы не подписали свое послание?
– Приходится соблюдать осторожность, мистер. Жизнь сейчас такая, что не знаешь, чего ждать. Так же, как не знаешь, кому можно доверять, а кому нельзя.
– Но своим-то братьям по ложе уж можно было бы доверять.
– К сожалению, не всегда, – с чувством воскликнул Моррис. – Все, что мы говорим, становится известно Макгинти. Иногда мне кажется, что он каким-то образом узнает даже то, о чем мы думаем.
– Послушайте! – строго произнес Макмердо. – Вам прекрасно известно, что только вчера вечером я присягнул на верность нашему владыке. Вы что, хотите, чтобы я нарушил клятву?
– Что ж, если вы к этому так относитесь, – с грустью в голосе сказал Моррис, – я могу только попросить у вас прощения за беспокойство. Да, действительно, наступили плохие времена, если двое свободных людей не могут высказать друг другу свои мысли.
Макмердо, который до этого настороженно присматривался к собеседнику, несколько расслабился.
– Я говорил за себя, – сказал он. – Вы же знаете, я в этих краях недавно и еще не привык к местным порядкам. Но вы можете быть уверены, мистер Моррис, что тайны я хранить умею, и, если вы хотите мне что-то сказать, я готов вас выслушать.
– И передать мои слова боссу Макгинти! – горько усмехнулся Моррис.
– Ну, это вы зря! – воскликнул Макмердо. – Я предан ложе, но скажу вам честно: я бы перестал уважать самого себя, если бы превратился в доносчика. Можете быть уверены, все, что вы мне скажете, останется между нами. Только предупреждаю сразу: если вы что-то задумали, помогать вам я не стану, и не надейтесь.
– Я уже давно перестал надеяться на чью-либо помощь, – сказал Моррис. – После того как я вам доверюсь, моя жизнь будет в ваших руках… Вы, как я вчера убедился, не лучше остальных, но, по крайней мере, человек в ложе новый, поэтому сердце ваше еще не успело огрубеть, как у остальных… Именно поэтому я и решился поговорить с вами.
– Так о чем же вы хотели со мной поговорить?
– Если вы меня выдадите, будете прокляты на веки вечные!
– Я же сказал, что не сделаю этого.
– Тогда ответьте мне на такой вопрос: когда вы, вступая в Орден свободных тружеников в Чикаго, клялись соблюдать устав и помогать страждущим, вам приходило в голову, что вы становитесь на дорогу, ведущую к преступлению?
– Если вы называете это преступлением… – ответил Макмердо.
– Называю ли я это преступлением? – дрожащим от волнения голосом вскричал Моррис. – Вы, очевидно, еще мало видели, если называете это как-то иначе! А то, что вчера пожилой человек, который вам в отцы годится, был зверски избит, это не преступление? Вы это называете каким-то другим словом?
– Я бы сказал, что это война, – глухо произнес Макмердо. – Война двух классов. А на войне каждый сражается так, как умеет.
– Хорошо, но вы думали об этом, когда вступали в Орден в Чикаго?
– Нет. Тогда такие мысли мне в голову не приходили.
– Я тоже ни о чем подобном не думал, когда вступал в него в Филадельфии. Там это было благотворительное общество, скорее клуб, где можно было общаться с друзьями. Потом я узнал об этом месте… Будь проклята та минута, когда я впервые услышал его название!.. Надеясь на лучшую жизнь, я переехал сюда. Надо же, на лучшую жизнь! Со мной приехали жена и трое детей. Я открыл бакалейную лавку на Маркет-сквер и стал неплохо зарабатывать. В городе как-то узнали, что я свободный труженик, и меня заставили вступить в местную ложу, так же, как вас вчера. У меня на руке такое же позорное клеймо, но на сердце – кое-что похуже. Оказалось, что теперь я обязан подчиняться приказам этого злодея, я угодил в преступную сеть. Что я мог поделать? Все, что бы я ни говорил, надеясь хоть как-то улучшить положение вещей, принималось за измену, так же как и вчера. Я не могу уехать, потому что кроме моего магазина у меня ничего нет. Выйти из общества я тоже не могу, за это меня ждет смерть, а что станет с моей женой и детьми, только Бог знает. Как же все это страшно… как страшно! – Он закрыл лицо руками, и тело его содрогнулось.
Макмердо пожал плечами.
– У вас слишком добрая душа для такой работы, – сказал он. – Не для вас это все.
– Раньше я считался со своей совестью, я был религиозным человеком, но они превратили меня в преступника. Меня послали на задание. Я знал, что случилось бы со мной, если бы я отказался идти. Может быть, я трус. Может быть, трусом меня делает любовь к моей бедной жене и детям. В общем, я пошел. Наверное, этот кошмар будет преследовать меня до конца жизни. Это был одинокий дом, в двадцати милях отсюда, у горы, вон там. Как и вас вчера, меня оставили у двери, побоялись доверить основную работу. Остальные вошли внутрь. Когда они оттуда вышли, все руки у них были в крови. Мы развернулись, чтобы уйти, и тут в доме закричал ребенок. Понимаете, отца пятилетнего мальчика убили у него на глазах. Я тогда чуть не лишился рассудка от ужаса, но мне нужно было смеяться вместе со всеми, делать вид, что мне все равно, потому что я прекрасно знал, что, если я этого не сделаю, в следующий раз они из моего дома выйдут с окровавленными руками и точно так же будет кричать мой маленький Фред. Тогда я и превратился в преступника, ведь я стал соучастником убийства. С тех пор на этом свете мне нет покоя, и на том свете моей душе покоя не будет. Я ведь ревностный католик… Только священник отказался разговаривать со мной, когда узнал, что я – один из «сердитых», поэтому даже в религии мне нет утешения. Вот так я и живу. И вы, похоже, стоите в начале того же пути. А теперь ответьте мне: что вас ждет в конце этой дороги? Вы хотите превратиться в хладнокровного убийцу или есть другой выход?
– А что вы предлагаете? – резким голосом спросил Макмердо. – Донести на братьев?
– Боже упаси! – испугался Моррис. – Да стоит мне только подумать об этом, и жизнь моя не будет стоить и цента.
– Да, это так, – мрачно сказал Макмердо. – Я думаю, что вы просто слабый человек и неправильно все воспринимаете.
– Неправильно? Поживите здесь подольше – сами увидите. Вот посмотрите на долину! Видите дым десятков труб, который густой тучей навис над ней? Так вот, зло здесь висит над головами людей еще более страшной черной тучей. Это Долина Ужаса, Долина Смерти! Здесь нет ни одного человека, сердце которого по ночам не холодело бы от любого шороха. Со временем вы это сами поймете, молодой человек.
– Что ж, если я что-нибудь пойму со временем, я вам дам знать, – беспечным голосом сказал Макмердо. – Ну а пока что я понимаю только то, что это место не для вас и чем раньше вы продадите свой магазин (если, конечно, вам кто-нибудь заплатит за него хоть что-то) и уедете отсюда, тем для вас будет лучше. О нашем разговоре я никому рассказывать не стану. Но если, не дай бог, я узнаю, что вы – стукач…
– Нет! Нет! – в страхе вскричал Моррис.
– Хорошо. Тогда закончим на этом. Ваши слова я не забуду, и, может быть, когда-нибудь мы вернемся к этому разговору. Надеюсь, вы с добрыми намерениями затеяли этот разговор. Мне пора домой.
– Еще одно слово, прежде чем мы попрощаемся, – сказал Моррис. – Если нас видели вместе, они захотят узнать, зачем мы встречались.
– Хорошая мысль, я об этом как-то не подумал.
– Я предлагал вам работу в своем магазине.
– И я отказался. Об этом мы и говорили. Всего доброго, брат Моррис, и пусть вам больше повезет в будущем.
В тот же день, когда Макмердо сидел у себя дома перед камином и курил, погруженный в какие-то свои мысли, дверь в его комнату неожиданно распахнулась. Повернувшись на звук, Макмердо увидел босса Макгинти. Его могучая фигура заняла почти весь дверной проем. Мужчины обменялись условными знаками приветствия, после чего гигант вошел в комнату и сел напротив молодого человека. Какое-то время он молча смотрел ему в глаза. Макмердо так же молча выдержал этот взгляд.
– Я редко хожу в гости, брат Макмердо, – наконец нарушил молчание великий владыка. – Чаще ходят ко мне. Но для тебя я решил сделать исключение. Дай, думаю, зайду, посмотрю, как ты на новом месте обосновался.
– Это большая честь для меня, советник, – искренне сказал Макмердо, доставая из буфета бутылку виски. – И, честно говоря, неожиданная.
– Как рука? – поинтересовался босс.
Макмердо поморщился.
– Побаливает. Но оно того стоит.
– Да, оно того стоит, – пророкотал Макгинти. – Для тех, кто верен ложе и готов на все ради нее. О чем вы утром разговаривали с братом Моррисом в Миллер-хилл?
Вопрос этот прозвучал так неожиданно, что застал бы Макмердо врасплох, если бы у него не было заранее приготовленного ответа. Он рассмеялся.
– Моррис не знал, что я могу зарабатывать себе на жизнь, не выходя из дома. И не узнает – уж очень он совестливый человек, как по мне. Но вообще-то у старика доброе сердце. Он решил, что я оказался на мели, и захотел помочь мне, предложил работу в своем бакалейном магазине.
– И все?
– Ну да, все.
– И ты отказался?
– Конечно же. Зачем мне это? Я столько же заработаю за четыре часа в своей спальне.
– Это верно. Но все равно я бы тебе не советовал заводить близкое знакомство с Моррисом.
– Почему?
– Да хотя бы потому, что я так говорю. В наших краях для большинства людей этого вполне достаточно.
– Может, для большинства этого и достаточно, но не для меня, советник, – нисколько не смутился Макмердо. – Если вы разбираетесь в людях, вы должны это понимать.
Темноволосый великан бросил на него быстрый взгляд, его волосатая пятерня сомкнулась на бокале, словно он собирался запустить им в голову собеседника. Но потом он рассмеялся, как обычно громко, безудержно и неискренне.
– Интересный ты человек, в самом деле, – сказал он. – Хорошо, если хочешь знать причину, я скажу тебе. Моррис тебя не настраивал против ложи?
– Нет.
– А против меня?
– Нет.
– Ну, это просто потому, что он не решился тебе довериться. На самом деле он не предан ложе. Нам это хорошо известно, поэтому мы за ним следим и ждем случая сделать ему замечание. Я думаю, что это произойдет уже очень скоро. В нашем загоне нет места для паршивой овцы. Но, если ты станешь якшаться с предателем, мы начнем сомневаться, можно ли тебе доверять. Понимаешь?
– Я и не собираюсь с ним заводить дружбу. Этот человек вообще мне не нравится, – ответил на это Макмердо. – А что касается предательства, если бы эти слова сказали не вы, а кто-то другой, он бы об этом сильно пожалел.
– Что ж, хватит тратить время на разговоры, – сказал Макгинти и выпил залпом свой бокал. – Я пришел дать тебе своевременный совет, и ты его получил.
– Я бы хотел знать, – сказал Макмердо, – а как вы узнали, что я встречался с Моррисом?
Макгинти рассмеялся.
– Моя работа и заключается в том, чтобы знать, что творится в этом городе, – ответил он. – Можешь не сомневаться, я знаю все. Ну ладно, мне пора. Осталось только…
Однако прощание было прервано самым неожиданным образом. Дверь в комнату Макмердо с грохотом отлетела в сторону. На пороге стояли трое полицейских с напряженными лицами, из-под козырьков фуражек блестели решительные глаза. Макмердо вскочил и схватился за револьвер, но рука его замерла в воздухе, когда он увидел, что в голову ему целятся два винчестера. В комнату, держа наготове большой шестизарядный револьвер, вошел человек в форме. Это был капитан Марвин из Чикаго, ныне служащий в шахтерской полиции. Глядя на Макмердо, он усмехнулся и покачал головой.
– Я знал, что рано или поздно ты ввяжешься в неприятности, мистер Чикагский Мошенник, – сказал он. – Ты ведь у нас парень бойкий. Бери шляпу, пойдешь с нами.
– Вам это не сойдет с рук, капитан Марвин, – хладнокровно произнес Макгинти. – Я бы хотел знать, по какому праву вы подобным образом врываетесь в дом и арестовываете ни в чем не повинного, законопослушного человека?
– Вас это дело не касается, советник Макгинти, – ответил капитан полиции. – Мы пришли не за вами, а за этим человеком, Макмердо. Вам бы следовало помогать нам, а не мешать выполнять наш долг.
– Этот человек – мой друг, за его поведение я отвечаю, – сказал босс.
– Вы, мистер Макгинти, лучше бы думали о том, что скоро вам придется отвечать за свое поведение, – сказал на это капитан. – Макмердо был преступником еще до того, как приехал в этот город. И остается им до сих пор. Ребята, держите его на мушке, пока я заберу у него оружие.
– Вот мой револьвер, – хладнокровно произнес Макмердо. – Если бы мы, капитан Марвин, встретились с вами один на один, вам бы так легко меня взять не удалось.
– А ордер у вас есть? – спросил Макгинти. – Черт побери, можно подумать, что мы живем не в Вермиссе, а где-нибудь в России! Пока такие люди, как вы, служат в полиции, порядка здесь не будет. Это произвол, и я сделаю все, чтобы вы за это ответили!
– Вы, советник, исполняйте свой долг так, как его понимаете, а мы будем исполнять свой.
– В чем меня обвиняют? – спросил Макмердо.
– В причастности к избиению мистера Стейнджера в редакции «Геральд». И тебе повезло, что это не обвинение в убийстве.
– Ну, если его обвиняют только в этом, – рассмеялся Макгинти, – то вы напрасно тратите свое время, капитан. Бросьте это дело. Когда это произошло, этот человек находился рядом со мной в моем салуне. До самой полуночи он играл в покер. Я могу предоставить дюжину свидетелей.
– Меня это не касается. Завтра расскажете все это на суде. Пока что давай, Макмердо, на выход. И без глупостей, если не хочешь по морде прикладом получить. Отойдите в сторону, Макгинти! Предупреждаю вас, я на службе и не потерплю сопротивления!
У капитана был такой решительный вид, что и Макмердо, и его боссу пришлось смириться с тем, что происходит. Однако прежде, чем ирландца увели, Макгинти успел шепнуть ему пару слов.
– А что с…? – он дернул большим пальцем вверх, имея в виду станок для штамповки денег.
– Все в порядке, – одними губами беззвучно ответил Макмердо. Машинка была спрятана в надежном тайнике под полом.
– Скоро встретимся, – громко произнес босс, и мужчины пожали руки. – Я обращусь к адвокату Рейли и сам прослежу за ходом дела. Можешь поверить, они тебя надолго не задержат.
– Я бы не стал об этом говорить так уверенно. Уведите арестованного. Если он попробует сбежать, стреляйте без предупреждения. А я пока обыщу его квартиру.
Однако обыск не дал никаких результатов. Тайника со станком он не обнаружил. Капитан спустился и вместе со своими людьми повел Макмердо в участок. Уже стемнело, и дул такой пронизывающий ветер, что почти никто из жителей города не решался выходить на улицу, и все же за небольшой процессией увязалось несколько человек. Осмелев от темноты, они осыпали проклятиями заключенного.
– Линчевать этих «сердитых» надо! – кричали они. – Линчевать его!
Когда Макмердо вталкивали в полицейский участок, они смеялись и улюлюкали. После того как дежурный инспектор задал ему несколько формальных вопросов, Макмердо отвели в общую камеру. Там уже сидели Болдуин и еще трое участников вчерашнего «дела». Всех их арестовали днем, и теперь они дожидались суда, который был назначен на завтрашнее утро.
Но оказалось, что даже сюда, в этот бастион правосудия, может проникнуть длинная рука Ордена свободных тружеников. Поздно вечером тюремщик принес им набитые соломой матрацы. Из них заключенные извлекли две бутылки виски, несколько стаканов и колоду карт. Ночь прошла бурно, никто, похоже, не задумывался о том, что ждет их на следующий день.
И, как показало утро, причин для беспокойства у них действительно не было. Магистрат на основании свидетельских показаний не счел возможным передать дело в вышестоящую судебную инстанцию. С одной стороны, наборщикам и печатникам пришлось признать, что освещение было слабое, что они сами были сильно возбуждены и не могут с уверенностью утверждать, что хорошо рассмотрели нападавших, хотя и полагали, что обвиняемые находились среди них. После того как опытный адвокат, нанятый Макгинти, подверг их перекрестному допросу, их показания стали еще путанее и сбивчивее.
Сам потерпевший заявил, что, поскольку нападение произошло так быстро, он не успел никого рассмотреть. Единственное, в чем он был уверен, – это то, что у человека, который нанес первый удар, были усы. К тому же он не сомневается, что это были «сердитые», так как никто другой неприязни к нему не питал, и именно «сердитые» уже давно угрожали ему расправой за те откровенные статьи о них, которые публиковались в его газете. С другой стороны, судья выслушал четкие и слаженные показания шести горожан, в их числе и видного представителя городской власти советника Макгинти, которые утверждали, что все обвиняемые в тот вечер играли в карты в Доме Союза и засиделись там гораздо позднее того времени, когда было совершено нападение.
Не приходится и говорить, что всех задержанных освободили из-под стражи прямо в зале суда, чуть ли не с извинениями за причиненные неудобства. Капитану Марвину и полиции было вынесено замечание за недобросовестную работу.
Когда судья огласил свое решение, присутствующие в зале, среди которых Макмердо увидел и много знакомых лиц, зааплодировали. Братья по ложе улыбались и радостно махали руками, но были здесь и такие, кто наблюдал за освобождением обвиняемых с хмурыми лицами, сведя брови и плотно сжав губы. Один из них, невысокий темнобородый мужчина с решительным лицом, высказал свои мысли и мысли своих товарищей вслух, когда бывшие заключенные проходили мимо него.
– Проклятые убийцы! – с ненавистью в голосе бросил он. – Мы еще до вас доберемся!
Глава 5 Тьма сгущается
Если что и могло еще выше поднять популярность Джека Макмердо среди братьев по ложе, так это его арест и последующее оправдание. За всю историю общества еще не было случая, чтобы прямо в день посвящения новичок совершил нечто такое, за что предстал бы перед судом. К этому времени он уже заслужил репутацию эдакого рубахи-парня, жизнерадостного гуляки, а вдобавок еще и запальчивого человека, который не простит оскорбления никому, даже всесильному боссу. Кроме того, он сумел убедить всех, что, если нужно будет составить какой-нибудь план очередного кровавого преступления, лучше него с этим не справится никто и никто лучше него не воплотит его в жизнь. «Этому парню по плечу выполнить чистую работу», – говорили друг другу старейшины ложи и ждали времени, когда можно будет применить его в деле.
У Макгинти и без того было достаточно талантливых исполнителей, но он понимал, что этот ирландец выгодно выделялся даже на их фоне. Он чувствовал себя как человек, удерживающий на поводке породистую охотничью собаку. Для повседневной работы было полно дворняг, но когда-нибудь настанет тот день, когда он отпустит поводок и натравит это создание на добычу. У некоторых членов ложи, среди них был и Тед Болдуин, столь стремительный взлет новичка не вызывал восторга, наоборот, они ненавидели его за это, однако предпочитали держаться от него подальше, потому что он всегда шел в драку с такой же готовностью, с какой ходил с друзьями в салун.
Впрочем, если среди товарищей по ложе он добился полного успеха, то в другом, более важном для него обществе, все складывалось далеко не так гладко. Теперь отец Этти Шафтер даже имени его слышать не хотел, не говоря уже о том, что запретил ему появляться на пороге своего дома. Сама Этти была слишком сильно влюблена, чтобы полностью отречься от него, но ее здравый смысл подсказывал ей, что брак с человеком, которого считают преступником, ни к чему хорошему не приведет.
Однажды утром, после бессонной ночи, она все же решилась увидеться с ним (может быть, думала она, в последний раз) для того, чтобы попытаться вырвать его из трясины, которая затягивала молодого человека все сильнее. Она пришла к нему домой, о чем он так часто просил ее, и направилась в небольшую гостиную. Макмердо сидел за столом спиной к двери над каким-то письмом. Он не услышал, как она открыла дверь, и, очевидно, от этого ею неожиданно овладело игривое настроение – ведь Этти было всего девятнадцать. Она неслышно, на цыпочках подошла к молодому человеку и легонько положила руку ему на плечо.
Если она хотела заставить его вздрогнуть от неожиданности, ей это в полной мере удалось, да только в следующую секунду ей самой пришлось испугаться не меньше, потому что, стремительно вскочив, он с разворота вцепился одной рукой ей в горло, а другой скомкал лежавший перед ним листок. На миг он замер, но потом удивление и неподдельная радость сменили то жуткое выражение, которое приняло его лицо, то непонятное ей выражение, которое заставило ее отпрянуть, как от какого-то доселе неизвестного ей ужаса, который впервые вторгся в ее безмятежную жизнь.
– Ты! – воскликнул он, проведя рукой по лбу. – Подумать только, ты, отрада моего сердца, пришла ко мне, а я вместо объятий хотел тебя задушить! Но иди же ко мне, дорогая. – Он раскрыл объятия. – Позволь мне исправить свою ошибку.
Однако выражение затаенной вины и страха, которое она только что прочитала в его взгляде, все еще стояло у нее перед глазами. Особое женское чутье подсказывало ей, что человек, просто испугавшийся неожиданного прикосновения, так бы себя не повел. Вина, вот что это было… Вина и страх!
– Что на тебя нашло, Джек? – воскликнула она. – Почему ты так испугался? О Джек, если бы у тебя на душе все было спокойно, ты бы так не вскинулся!
– Ну да, я просто задумался о своем, а ты подкралась так бесшумно своими милыми ножками, и я…
– Нет, нет, это было что-то большее, Джек… – И тут внезапное подозрение охватило ее. – Покажи письмо, которое ты сейчас писал.
– Ах, Этти, я не могу этого сделать.
Ее подозрение тут же превратилось в уверенность.
– У тебя есть другая женщина! – вскричала она. – Я знаю! Что еще ты можешь скрывать от меня? Может быть, ты пишешь своей жене? Откуда мне знать, может, ты женат? Ты же… ты же совсем чужой, о тебе здесь никто ничего не знает!
– Я не женат, Этти. Клянусь! Ты для меня единственная женщина на всем белом свете. Клянусь Крестом Христовым!
Лицо его сделалось таким бледным, он смотрел на нее так искренне, что она не могла не поверить его словам.
– Ну хорошо, – сказала она. – Так ты… не покажешь мне это письмо?
– Поверь, милая, – покачал он головой, – я дал слово никому его не показывать. Как никогда не нарушил бы я клятвы, данной тебе, так же не могу нарушить и это обещание. Письмо это связано с ложей, и даже тебе я не могу раскрыть эту тайну. Понимаешь, когда я ощутил прикосновение к плечу, первым делом я подумал, что это какой-нибудь сыщик.
Этти почувствовала, что он говорит правду, а он обнял ее, прижал к груди и поцелуем заставил позабыть все страхи и сомнения.
– Садись сюда, посиди рядом со мной. Конечно, это не подходящий трон для такой королевы, но это лучшее, что может найти твой бедный поклонник. Но ничего, я думаю, скоро все изменится. Ну что, ты успокоилась?
– Как я могу быть спокойна, Джек, если знаю, что ты сам преступник и общаешься с преступниками? Когда я каждое утро просыпаюсь с мыслью о том, что тебя могут судить за убийство? «Макмердо-сердитый» – вот как тебя назвал вчера один из наших постояльцев. И эти слова резанули меня прямо по сердцу.
– Ну, это всего лишь слова.
– Но он ведь сказал правду.
– Милая, не все так плохо, как ты думаешь. Мы всего лишь бедные люди, которые пытаются по-своему отстоять свои права.
Этти обвила плечи любимого руками.
– Брось их, Джек! Ради меня, ради Господа Бога, брось их! Я ведь пришла сегодня, чтобы просить тебя об этом. О Джек, видишь? Я буду просить тебя на коленях! Я стою перед тобой на коленях и умоляю: брось все это!
Взяв за плечи, он поднял ее и прижал к груди.
– Поверь, дорогая моя, ты не знаешь, чего просишь. Если я это сделаю, я нарушу клятву и предам своих товарищей. Если бы ты узнала, что это все для меня на самом деле значит, ты бы не стала меня об этом просить. К тому же, если бы я захотел, как бы я смог это сделать? Ты же не думаешь, что ложа отпустит человека, которому известны ее тайны!
– Джек, я уже думала об этом. Я уже все спланировала. Отец скопил немного денег. Он уже давно хочет уехать из этого страшного места и готов сделать это в любую минуту. Мы можем вместе уехать куда-нибудь в Нью-Йорк или Филадельфию, где они не смогут нас найти, и мы будем в безопасности.
Макмердо рассмеялся.
– У ложи длинные руки. Ты думаешь, они не достанут до Филадельфии или Нью-Йорка?
– Ну, тогда на Запад, или в Англию, или в Германию, на родину отца… Куда угодно, лишь бы подальше от этой Долины Ужаса!
Макмердо вспомнил старого брата Морриса.
– Я уже второй раз слышу, что эту долину так называют, – сказал он. – Похоже, многих из вас действительно гнетет это место.
– Мы живем здесь, как в аду. Ты думаешь, Тед Болдуин простил нас? Что, по-твоему, с нами было бы, если бы он не боялся тебя? Если бы ты только видел, как он смотрит на меня своими черными голодными глазами!
– Что? Ну, я научу его манерам, если когда-нибудь замечу это! Но послушай, девочка моя, я не могу отсюда уехать. Не могу… Поверь мне. Но, если ты позволишь мне самому во всем разобраться, я попытаюсь с честью, не потеряв лица, выбраться отсюда.
– О чем ты говоришь? Здесь о чести не может быть и речи!
– Это как посмотреть. Дай мне еще полгода, я сделаю так, что смогу оставить это место и мне не стыдно будет смотреть людям в глаза.
Девушка счастливо рассмеялась.
– Шесть месяцев! – воскликнула она. – Ты обещаешь?
– Ну, может быть, семь или восемь. Самое большое – год, и тогда мы уедем из этой долины.
Большего Этти добиться от него не смогла, и все же теперь у нее появилась надежда. Неуверенный, слабый лучик затрепетал в окружающем мраке безысходности. Домой к отцу она вернулась в таком приподнятом настроении, какого у нее еще никогда не было с тех пор, как Джек Макмердо ворвался в ее жизнь.
Поначалу Макмердо считал, что его, как члена ложи, будут ставить в известность обо всех делах общества, но вскоре выяснилось, что устройство организации намного сложнее и масштабнее, чем могло показаться, и не ограничивается одной лишь ложей. Даже босс Макгинти много чего не знал, поскольку в Хобсонс-пэтч, чуть ближе к середине долины, если ехать по железной дороге, жил человек (все его называли окружным делегатом), который возглавлял сразу несколько лож. Надо сказать, управлял он ими довольно жестко, и никто не понимал, какими он руководствовался соображениями, принимая те или иные решения. Макмердо видел его лишь однажды. Это был маленький, по-крысиному юркий человечек с серенькими волосами, мягкой походкой и косым злобным взглядом. Звали его Эванс Потт, и даже великий босс Вермиссы испытывал перед ним нечто наподобие страха и отвращения, как, возможно, гигант Дантон перед невзрачным с виду, но опасным Робеспьером.
Однажды Сканлан, сосед Макмердо, получил письмо от Макгинти. В конверт была вложена записка от Эванса Потта, в которой тот сообщал, что направил в Вермиссу двух надежных людей, Лоулера и Эндрюса, для выполнения определенного задания, правда, чем именно они будут заниматься, в записке сказано не было. Окружной делегат просил владыку подыскать им удобное жилье на то время, пока они будут оставаться в Вермиссе. Макгинти в своем письме добавил: из-за того, что поселить их в Доме Союза невозможно, там слишком много посторонних глаз, он был бы весьма признателен, если бы Макмердо и Сканлан на несколько дней приняли гостей у себя.
Посланцы Эванса Потта прибыли в тот же вечер, у обоих в руках было по саквояжу. Лоулер был пожилым мужчиной, молчаливым и замкнутым, с проницательным взглядом. Одет он был в старый черный сюртук, который в сочетании с мягкой фетровой шляпой и клочковатой седой бородой придавал ему сходство с приходским священником. Его спутник, Эндрюс, был еще совсем мальчишкой. Открытое улыбчивое лицо, ясные глаза, беззаботный взгляд. И вел он себя так, словно приехал в Вермиссу на отдых и был намерен насладиться каждой минутой своего пребывания здесь. Они оба наотрез отказались пить и вообще вели себя как образцовые граждане с той лишь небольшой разницей, что на самом деле были наемными убийцами, одними из лучших в своей организации.
– Именно нас послали на это дело, потому что ни я, ни этот парень не пьем, – пояснил Лоулер, когда все четверо сели ужинать. – Они уверены, что мы не сболтнем лишнего. Не поймите меня неправильно, но мы подчиняемся только приказам окружного делегата.
– Ну понятно, мы же все в одном котле варимся, – сказал Сканлан.
– Да, это верно. Мы можем хоть до утра обсуждать убийство Чарли Вильямса или Саймона Берда либо любую другую предыдущую работу, но об этом задании, пока оно не выполнено, – ни слова.
– Черт возьми, здесь есть полдюжины гадов, с которыми я сам хотел бы перекинуться парой ласковых, – взволнованно воскликнул Макмердо. – Надеюсь, вы не за Джеком Кноксом из Айрон-хилла приехали?
– Нет, на этот раз не за ним.
– И не за Германом Строссом?
– Нет, и не за ним.
– Ну, не хотите говорить – не надо, но все-таки было бы очень интересно узнать.
Лоулер с улыбкой покачал головой. Дело свое он знал.
Несмотря на замкнутость гостей, Сканлан и Макмердо все же решили во что бы то ни стало посмотреть, как будет проходить «веселье», как они это называли. Поэтому однажды рано утром Макмердо, услышав тихие шаги на лестнице, разбудил Сканлана, и они стали одеваться. Когда оделись, оказалось, что Лоулер и Эндрюс уже вышли из дома, оставив дверь открытой. Рассвет еще не наступил, но света фонарей хватило, чтобы рассмотреть вдали две удаляющиеся фигуры. Хозяева пошли следом за своими скрытными гостями, бесшумно ступая по глубокому снегу.
Дом, в котором они жили, находился на самой окраине города, поэтому довольно скоро они вышли в предместье. На одном из перекрестков их поджидали трое мужчин. Они коротко поговорили и дальше пошли вместе. Похоже, работа предстояла серьезная, требующая больших сил. В этом месте от дороги отходило несколько тропинок, ведущих к разным шахтам. Незнакомцы двинулись по той, что вела к «Кроу-хилл», большому предприятию, в котором благодаря жесткой хватке энергичного и бесстрашного управляющего – выходца из Новой Англии Джосайи Х. Данна все еще удавалось поддерживать порядок и дисциплину, несмотря на столь долгое господство страха.
К этому времени уже начало светать, по уходящей черной змейкой вдаль дорожке группами и по одному медленно шли шахтеры. Макмердо и Сканлану было нетрудно затеряться среди них, держа при этом в поле зрения заговорщиков.
Все вокруг было укрыто густым туманом, и откуда-то из самого его чрева неожиданно раздался вопль парового свистка. Этот сигнал означал, что через десять минут клети опустятся под землю и начнется рабочий день.
Когда дошли до открытой площадки у входа в шахту, там уже столпилась сотня шахтеров. Пытаясь хоть как-то согреться, они переступали с ноги на ногу и дышали на окоченевшие пальцы – было очень холодно. Незнакомцы стояли отдельной группкой у машинного здания. Сканлан и Макмердо, чтобы лучше видеть все вокруг, взобрались на кучу шлака. Оттуда они увидели, как из машинного здания вышел горный инженер, огромного роста бородатый шотландец по имени Мензис, и дал сигнал к началу работы.
Как только прозвучал свисток, высокий стройный молодой человек с чисто выбритым сосредоточенным лицом энергичной походкой двинулся ко входу, но, сделав пару шагов, остановился, заметив незнакомцев у машинного здания, которые стояли неподвижно и молча, надвинув на глаза шляпы и пряча лица за поднятыми воротниками. На миг предчувствие смерти холодной рукой сдавило сердце молодого управляющего. Однако в следующую секунду он прогнал это чувство и сделал то, что велел ему долг.
– Кто вы такие? – спросил он, подходя к ним. – Что вам здесь нужно?
Вместо ответа юный Эндрюс сделал шаг вперед и выстрелил управляющему в живот. Никто из сотни шахтеров не пошевелился. Все они стояли, словно парализованные. Управляющий схватился двумя руками за рану и согнулся пополам. Потом он попытался отбежать, но кто-то другой из убийц выстрелил ему в спину. Он упал рядом с кучей шлака, поджал ноги, впился пальцами в землю и замер. Видя, что происходит, шотландец Мензис, взревев, бросился на убийц с железной монтировкой, но, получив две пули в лицо, рухнул замертво к их ногам.
По толпе шахтеров прошло движение, кто-то закричал от ужаса, раздалось несколько невнятных криков возмущения, но двое из нападавших разрядили свои револьверы над головами толпы, и шахтеры бросились врассыпную, кое-кто побежал со всех ног домой, в Вермиссу. Когда несколько самых смелых из них собрались и решили все же вернуться к шахте, банды убийц там уже не было, они растворились в утреннем тумане, и никто из свидетелей не смог бы опознать тех, кто на глазах сотни людей совершил это двойное преступление.
Сканлан и Макмердо поспешили обратно. Сканлан был изрядно подавлен, поскольку это было первое убийство, которое он увидел собственными глазами, и все оказалось не так весело, как об этом рассказывали его бывалые братья. Ужасные крики жены погибшего менеджера преследовали их, пока они торопливо шли к городу. Макмердо был мрачен и молчалив, но никакого сочувствия к слабости спутника не проявлял.
– Это как на войне, – все повторял он. – Да, мы на войне и бьем врага так, как можем.
Вечером в зале Дома Союза было шумно и весело. И не только из-за убийства управляющего и инженера шахты «Кроу-хилл», которое отныне поставит это предприятие в один ряд с остальными запуганными компаниями в этом районе, исправно выплачивающими дань вымогателям. Отмечали также и успешное завершение дела, выполненного руками самой ложи.
Оказывается, окружной делегат, направив в Вермиссу пятерых своих людей, потребовал за это, чтобы вермисская ложа тайно подобрала и прислала ему троих своих бойцов, которые должны были убить Уильяма Хейлса из «Стейк-ройял», одного из самых известных и успешных горнозаводчиков в районе Гилмертон. О нем говорили, что у этого человека во всем мире нет ни одного врага, потому что свои дела он ведет честно и справедливо. Однако от своих работников он всегда требовал строгого соблюдения дисциплины и недавно за пьянство и прогулы уволил нескольких человек, которые оказались членами всемогущего общества. Записки с угрозами, которые вешали ему на дверь, не ослабили его решимости, поэтому этот свободный гражданин цивилизованной страны оказался обречен на смерть.
И вот казнь была приведена в исполнение. Убийство было спланировано Тедом Болдуином, который сейчас сидел, развалившись, на почетном месте рядом с владыкой. Раскрасневшееся лицо, горящие, налитые кровью глаза свидетельствовали о том, что в последнее время он долго не спал и много пил. Прошлую ночь он с двумя друзьями провел в горах. Вернулись они грязные и уставшие, но товарищи приветствовали их как настоящих героев.
Рассказ о том, как прошло дело, быстро расползался по залу, со всех сторон то и дело разносились крики восторга и взрывы грубого смеха. Жертву подстерегли на вершине крутого обрыва, где он по вечерам обычно проезжал на лошади домой. На нем была такая плотная шуба, что он даже не сумел достать из-под нее свой пистолет. Его просто стащили с лошади, бросили на землю и расстреляли. Он кричал, умолял о пощаде, и эти мольбы теперь повторялись под общий хохот собравшихся.
– А ну-ка, давайте еще раз послушаем, как он визжал! – кричали братья.
Никто из них не знал этого человека лично, но убийство всегда действует возбуждающе на толпу, к тому же они показали гилмертонским «сердитым», что и в Вермиссе кое-что умеют и что на них всегда можно положиться.
Правда, во время проведения операции возникло одно непредвиденное осложнение. Продолжая расстреливать из револьверов уже затихшее тело, они увидели на дороге мужчину с женой. Сначала они хотели убить и их, но это были совершенно посторонние, безобидные люди, никоим образом не связанные с шахтами, поэтому их отпустили и велели ехать своей дорогой и держать язык за зубами, если они не хотят, чтобы с ними случилось что-нибудь пострашнее. Оставив залитый кровью труп в назидание другим несговорчивым владельцам шахт, трое «благородных мстителей» поспешили скрыться в скалах, которые нависают над бесчисленными горнами и терриконами долины. И вот они дома, целы и невредимы, работа выполнена, и друзья рукоплещут им.
Это был великий день для «сердитых». Туча над долиной сгустилась еще сильнее. Но, как мудрый полководец, чувствуя, что настало время побеждать, решает удвоить усилия, чтобы сломить противника, пока тот не оправился от очередного удара, так и босс Макгинти, обводя поле битвы хмурым, недобрым взглядом, замыслил еще одну атаку на тех, кто продолжал противиться ему. Когда захмелевшая братия начала расходиться, он хлопнул по плечу Макмердо и провел в ту самую тайную комнату, в которой состоялся их первый разговор.
– Могу тебя обрадовать, – сказал он. – Наконец-то нашлась достойная тебя работа. Разработку и проведение я доверяю тебе.
– О, это честь для меня, – ответил Макмердо.
– Можешь взять двух человек… Мандерса и Рейли. Их уже предупредили. Мы не добьемся полной власти в этом районе, пока не уладим дело с Честером Уилкоксом. Все ложи, существующие в долине, будут благодарны тебе, если ты избавишь нас от этого человека.
– По крайней мере, сделаю все, что в моих силах. Кто он и где мне его найти?
Макгинти вынул изо рта вечную сигару и набросал на листке из записной книжки грубую схему.
– Он старший мастер в «Айрон-Дайк компани». Крепкий орешек, ветеран войны, бывший полковой сержант-знаменщик, весь в шрамах, седой. Мы два раза пытались достать его, но оба раза неудачно. Прошлый раз погиб Джим Карнауэй. Теперь тебе предстоит наконец закончить это дело. Теперь смотри, слушай и запоминай. Вот это его дом… Стоит на отшибе, у перекрестка Айрон-Дайк, видишь, как на карте нарисовано? Других домов рядом нет. Днем туда соваться не стоит – он всегда вооружен и вопросов не задает, стреляет быстро и точно. Но ночью… Живет он с женой, тремя детьми и служанкой. Свидетелей оставлять нельзя. Убить надо всех. Если удастся подложить под дверь мешок пороха с фитилем…
– Что он сделал?
– Ты что, не знаешь? Он подстрелил Джима Карнауэя.
– За что?
– Какого дьявола это тебя интересует? Карнауэй крутился ночью у его дома, он его и застрелил. И мне, и тебе этого достаточно. Ты должен поквитаться с ним.
– А эти две женщины и дети? Их тоже в расход?
– Придется, иначе как мы до него доберемся?
– Довольно жестоко, они-то ни в чем не виноваты.
– К чему эти глупые разговоры? Ты что, отказываешься?
– Тише, советник, тише! Я когда-нибудь говорил или делал что-нибудь такое, что вы могли бы подумать, будто я стану отказываться исполнять приказы владыки собственной ложи? Хорошо это или плохо – решать вам.
– Так ты это сделаешь?
– Конечно же.
– Когда?
– Я думаю, мне понадобится одна-две ночи, чтобы присмотреться к дому, придумать план. Потом…
– Прекрасно, – Макгинти пожал ему руку. – Я на тебя надеюсь. Когда ты принесешь нам добрые вести, для всех нас это будет великий день. После такого удара все наши враги падут на колени.
Макмердо долго и глубоко размышлял над неожиданным заданием. Одинокий дом, в котором жил Честер Уилкокс, находился в глубине долины, милях в пяти от города. В ту же ночь Макмердо сам отправился к дому на разведку и вернулся только утром. На следующий день он поговорил со своими помощниками, Мандерсом и Рейли, легкомысленными молодыми людьми, которые радовались этому заданию, словно им предстояло участвовать в охоте на оленя.
Двумя ночами позже они встретились за городом. Все трое были вооружены, у одного в руках был мешок с порохом, который применяется при горных разработках. К дому подошли в два часа ночи. Ночь была ветреная, через неполный диск луны стремительно проносились рваные облака. Заговорщики знали, что нужно опасаться сторожевых собак, поэтому продвигались очень осторожно, держа наготове револьверы. Но кроме завывания ветра не было слышно ни звука, и нигде не было заметно ни движения, лишь ветки качались у них над головами.
Макмердо подкрался к двери и прислушался. В доме все было тихо. Тогда он положил на порог мешок с порохом, ножом прорезал в нем отверстие, вставил фитиль и поджег. Едва фитиль разгорелся, все трое со всех ног бросились прочь и успели залечь на безопасном расстоянии от дома в неглубоком овраге, когда сперва прогремел оглушительный взрыв, а потом глухой рокот обрушившихся стен здания дал понять им, что дело сделано. Более «чистой» работы за всю свою кровавую историю общество еще не видело.
Но увы, вся эта прекрасно организованная и идеально выполненная работа оказалась напрасной! Зная о судьбе предыдущих жертв и догадываясь, что в покое его не оставят, Честер Уилкокс всего за день до этого переехал вместе с семьей в более безопасное место, под охрану полиции. Взрыв разрушил пустой дом, и суровый отставной сержант-знаменщик по-прежнему продолжал следить за дисциплиной на шахте «Айрон-Дайк».
– Оставьте его мне, – сказал Макмердо. – Я достану этого человека, хоть бы пришлось ждать целый год.
На общем собрании ложи исполнителям были вынесены благодарность и доверие, и на какое-то время дело отложили. Когда через несколько недель газеты сообщили, что Уилкокс был застрелен из засады, не понадобилось объяснять, что это Макмердо сдержал обещание и довел до конца начатое дело.
Вот чем жил Орден свободных тружеников, вот какими приемами «сердитые» насаждали страх в великом и богатом шахтерском районе, обитатели которого так долго страдали от их власти. К чему пятнать эти страницы рассказом об очередных преступлениях? И о людях, и об их поступках сказано уже достаточно.
Все эти события вписаны в историю, желающие узнать подробности могут обратиться к архивам. Там можно прочитать о том, как были застрелены полицейские Хант и Эванс, которые решились арестовать двух членов общества… Это двойное убийство было спланировано в вермисской ложе и хладнокровно воплощено в жизнь, когда жертвы были безоружны и беззащитны. Там же можно прочитать о том, как застрелили миссис Ларби, выхаживавшую своего мужа, которого по приказу босса Макгинти забили чуть не до смерти; об убийстве старшего Дженкинса и о последовавшей в скором времени расправе над его братом; о том, как изувечили Джеймса Мердока; о взрыве, унесшем жизни семьи Степхаусов; о жуткой смерти Стендалов; обо всех тех злодеяниях, которые были совершены в ту кошмарную зиму.
Страх накрыл Долину Ужаса черным крылом. Весна пришла вместе с побежавшими ручьями и распустившимися почками на деревьях. Природа, так долго скованная железной хваткой холода, была полна надежд, но для мужчин и женщин, живущих под игом террора, надежды не было никакой. Никогда еще тучи не сгущались над ними так плотно, как в начале лета тысяча восемьсот семьдесят пятого года.
Глава 6 Опасность
Господство страха достигло своего расцвета. Макмердо уже избрали младшим дьяконом, и многие видели в нем преемника Макгинти на посту владыки. Теперь ни одно собрание ложи не обходилось без него и ничто не делалось без его участия или совета. Однако, чем большим уважением он пользовался среди свободных тружеников, тем большую ненависть питали к нему остальные жители Вермиссы. Когда он проходил по улицам, не было такого лица, которое не омрачилось бы при встрече с ним. Несмотря на страх, горожане начали сплачиваться против ненавистных угнетателей. До ложи дошли слухи о собраниях, проводившихся тайно в помещении редакции «Геральд», о том, что среди законопослушных граждан стали распространять огнестрельное оружие. Впрочем, Макгинти и его людей эти вести волновали мало. Их было много, они были решительны и хорошо вооружены. Противники их были разобщены и слабы. Все это должно было, как и раньше, закончиться бесполезными разговорами, возможно, парой бессмысленных арестов. Так считали Макгинти, Макмердо и остальные стойкие духом братья.
Был май, субботний вечер. Собрания ложи всегда проводились по субботам, и когда Макмердо уже собирался направиться в Дом Союза, к нему зашел брат Моррис, считавшийся в ложе паршивой овцой. Он был очень бледен и тревожно хмурил брови.
– Могу я разговаривать с вами открыто, мистер Макмердо?
– Конечно.
– Я не забыл, что однажды доверился вам и вы не выдали меня, несмотря на то что сам босс приходил к вам и расспрашивал обо мне.
– Я же пообещал сохранить наш разговор в тайне, поэтому не мог поступить иначе. Но это не означает, что я согласен со всем, что вы тогда сказали.
– Я это прекрасно знаю, но вы – единственный человек, которому я могу доверять, не опасаясь за свою жизнь. У меня есть тайна, – приложил он к груди руку. – И она не дает мне покоя, сжигает меня изнутри. Мне бы очень хотелось, чтобы о ней узнал не я, а кто-нибудь из вас, но… Если я раскрою ее, это закончится очередным убийством. Но, если не раскрою, можем погибнуть мы все. Боже, я не знаю, что мне делать!
Макмердо удивленно посмотрел на гостя, тот весь дрожал.
– Выпейте, для таких, как вы, это лучшее лекарство, – он налил в стакан виски и протянул Моррису. – А теперь рассказывайте.
Моррис выпил, и его бледные впалые щеки слегка порозовели.
– Весь рассказ можно уместить в одно предложение, – сказал он. – По нашему следу идет сыщик.
Макмердо недоуменно уставился на него.
– Вы что, с ума сошли? В этом городе полно полиции и сыщиков, но разве когда-нибудь у нас с ними возникали трудности?
– Нет-нет, этот человек не из местных. Своих-то мы всех знаем, и понятно, что нам они ничего не сделают. Но вы когда-нибудь слышали об агентстве Пинкертона?
– Да, что-то читал о них.
– Можете мне поверить, когда за тебя берется кто-то из них – тебе конец. Это не обычные ищейки, которым наплевать, чем все закончится. Это профессионалы, работающие за деньги, и они не отступятся, пока не доведут дело до конца, чего бы это им ни стоило. Если за нас взялся кто-то из них – мы пропали.
– Мы должны убить его!
– Вот вы как думаете! Наверняка в ложе тоже об этом подумали бы в первую очередь. Я же вам говорил, что дело закончится убийством.
– Ну и что? В наших краях этим никого не удивишь.
– О да! Только я не хочу быть наводчиком. Я потом до конца дней своих не буду знать покоя. Но ведь на кону и наши собственные головы! Господи, подскажите, что мне делать? – В отчаянии он схватился руками за голову и стал раскачиваться из стороны в сторону.
Его слова взволновали Макмердо. Было заметно, что он разделяет мнение брата о грозящей им опасности. Он схватил Морриса за плечи и крепко тряхнул.
– Слушайте, хватит сидеть и стонать, как вдова на поминках, – закричал он, едва сдерживаясь. – Давайте разбираться. Кто этот парень? Где он? Как вы о нем узнали? Почему пришли ко мне?
– Потому что вы единственный человек, который может мне посоветовать, как поступить. Я вам когда-то уже рассказывал, что раньше, до переезда сюда, я владел магазином на востоке страны. Там у меня остались хорошие друзья, и один из них работает на телеграфе. Вот это письмо я получил вчера от него. Прочитайте эту часть, вверху страницы.
Вот что прочитал Макмердо:
«Как у вас там с „сердитыми“? У нас о них во всех газетах пишут. Никому не говори, но я очень надеюсь в скором времени получить от тебя ответ. Пять больших корпораций и две железнодорожные компании решили объединиться, чтобы покончить с ними. Дело серьезное, и я не сомневаюсь, что они своего добьются, потому что они наняли Пинкертона, и сейчас этим делом занимается его лучший специалист, Берди Эдвардс. Со дня на день все это должно закончиться».
– А теперь прочитайте постскриптум.
«Разумеется, то, о чем я тебе написал, я узнал случайно на работе – прочитал на одной из тех лент с точками, ярды которых проходят через мои руки за день. Никто, кроме тебя, об этом знать не должен».
Какое-то время Макмердо сидел молча, продолжая держать письмо в ослабевших руках. На миг туман рассеялся, и он понял, какая пропасть разверзлась перед ним.
– Кто-нибудь еще об этом знает? – наконец спросил он.
– Я больше никому не рассказывал.
– А этот человек… ваш друг, он мог сообщить об этом кому-нибудь еще кроме вас?
– Думаю, у него, кроме меня, есть и другие знакомые.
– Из ложи?
– Вполне может быть.
– Я спросил, потому что он мог бы дать нам описание этого Берди Эдвардса… И тогда мы смогли бы вычислить его.
– Это так, но откуда ему знать, как он выглядит? Он же сам случайно о нем узнал. Сам-то он не связан с Пинкертоном.
И тут Макмердо встрепенулся.
– Черт возьми! – вскричал он. – Есть! Я понял! Какой же я болван, что сразу не додумался! Нам повезло, мы выведем его на чистую воду, прежде чем он успеет нам навредить. Послушайте, Моррис, вы позволите мне самому с этим разобраться?
– Конечно, я буду только рад.
– Договорились. Вы отходите в сторону, и за дело берусь я. Даже имя ваше не должно упоминаться. Я все беру на себя, как если бы это письмо получил я. Вас это устроит?
– Об этом я и хотел вас попросить.
– Значит, отныне никому ни слова. А теперь я пойду в ложу, и этот старик Пинкертон пожалеет, что связался с нами.
– Вы не убьете этого человека?
– Чем меньше вы будете знать, друг мой Моррис, тем проще вам будет жить. Не спрашивайте меня ни о чем и доверьтесь мне.
Уходя, Моррис печально покачал головой.
– Я чувствую, что его смерть будет на моей совести, – пробормотал он.
– Самозащита – это ведь не убийство, – улыбнувшись, бросил ему вслед Макмердо. – Либо они нас, либо мы их. Если позволить этому человеку оставаться в долине, он уничтожит нас всех. Знаете, брат Моррис, придется следующим владыкой назначать вас, вы ведь, можно сказать, спасли всю ложу.
И все же поведение Макмердо говорило о том, что это известие он воспринял намного серьезнее, чем хотел показать. Возможно, дело было в его совести, страдающей от сознания вины; возможно, такое впечатление произвело на него упоминание знаменитого агентства Пинкертона или весть о том, что крупные корпорации объединили свои усилия против общества «сердитых», но, как бы то ни было, он повел себя как человек, готовящийся к худшему. Прежде чем выйти из дома, он уничтожил все документы, которые могли навести на него подозрение. Покончив с этим, он вздохнул с облегчением, так, словно посчитал, что теперь ему ничто не угрожает. И все же опасность, должно быть, все еще угнетала его, потому что по пути в ложу он зашел в гостиницу старика Шафтера. Появляться там ему было запрещено, но, когда он постучал в окно, выглянула Этти. Из темных ирландских глаз ее возлюбленного исчезли озорные огоньки – едва увидев его озабоченное лицо, она поняла, что ему угрожает опасность.
– Что с тобой, Джек? – воскликнула она. – Что-то случилось?
– Нет, любимая, пока нет, но будет лучше, если мы не будем терять время.
– Не будем терять время?
– Помнишь, я обещал, что однажды уеду отсюда? Время пришло. Сегодня я получил новость, плохую новость. Приближается беда.
– Полиция?
– Ну, как сказать… Пинкертон. Но тебе, девочка моя, эта фамилия ничего не скажет, ты не поймешь, что это означает для таких людей, как я. Я слишком сильно связан со всем этим, так что мне, может быть, придется убираться отсюда как можно скорее. Ты говорила, что, если я уеду, ты поедешь со мной.
– О Джек, для тебя это единственный шанс спастись.
– Этти, в некоторых вещах я честный человек. Ни за какие сокровища мира я бы не тронул и волоска на твоей прекрасной головке и не посмел бы даже прикоснуться к тому золотому трону на небесах, на котором я тебя всегда представляю. Ты доверишься мне?
Не говоря ни слова, она вложила свою ладонь в его.
– Тогда послушай, что я скажу, и выполни все в точности, потому что для нас действительно нет другого выхода. Эту долину ждут большие перемены. Я чувствую это. Многих может коснуться беда, и я, скорее всего, буду одним из них. Если мне придется отсюда уезжать, ты должна уехать со мной. Когда бы это ни случилось, хоть днем, хоть ночью.
– Я поеду за тобой, Джек!
– Нет, нет, ты должна поехать вместе со мной. Я ведь не оставлю тебя здесь, если сам уже никогда не смогу вернуться в эту долину, и мне, может быть, придется всю жизнь скрываться от полиции и даже лишиться возможности написать тебе. Мы должны уехать отсюда вместе. Там, где я раньше жил, я знаю одну добрую женщину, ты сможешь остаться у нее, пока мы не поженимся. Ну что, поедешь со мной?
– Да, Джек, поеду.
– Благослови тебя Господь! Гореть мне в аду вечным пламенем, если ты когда-нибудь пожалеешь, что доверилась мне. Теперь запомни, Этти, как только ты получишь от меня знак, ты должна будешь бросить все, сразу же пойти на вокзал в зал ожидания и ждать там, пока я не приду за тобой.
– Джек, я сделаю это, обещаю!
Почувствовав некоторое облегчение от того, что подготовка к спасению началась, Макмердо направился в Дом Союза. Заседание уже началось, поэтому попасть внутрь ему удалось только пройдя сложную систему обмена паролями и условными знаками сначала на внешнем, потом на внутреннем посту охраны. При его появлении зал радостно зашумел. Большое, вытянутое в длину помещение было забито людьми. Сквозь густой табачный дым в дальнем конце он рассмотрел спутанную черную гриву владыки, жестокое и надменное лицо Болдуина, секретаря Харрауэя, длинной морщинистой шеей и крючковатым носом напоминающего грифа, и еще с десяток людей из руководства ложи. Он обрадовался, что важную новость можно будет сообщить всем сразу.
– О, рады видеть тебя, брат! – воскликнул председатель. – Мы тут обсуждаем дело, достойное мудрейшего Соломона.
– Это Лэндер и Эган, – пояснил ему сосед, когда он занял свое место. – Они оба претендуют на деньги, которые ложа обещала выплатить тому, кто убьет старика Крэбба из Стайлстауна. Теперь вот не можем решить, кто выстрелил первым.
Макмердо встал и поднял руку. Выражение его лица привлекло к себе общее внимание, зал настороженно притих.
– Великий владыка, – серьезным голосом произнес он. – Прошу предоставить мне слово по неотлагательному делу.
– У брата Макмердо неотлагательное дело, – объявил Макгинти. – Согласно уставу ложи он имеет право выступить вне очереди. Итак, брат, мы слушаем тебя.
Макмердо вытащил из кармана письмо.
– Великий владыка, братья, – начал он. – Сегодня я принес плохие новости. Но хорошо, что мы узнаем о беде заранее и сумеем подготовиться к удару, который может сокрушить нас всех. Я узнал, что самые могущественные и богатые организации нашего штата объединились для того, чтобы уничтожить нас, и что сейчас, в эту самую минуту, в долине орудует один из агентов Пинкертона, некто Берди Эдвардс, он собирает улики, которые многих из нас отправят на виселицу, а всех остальных, присутствующих в этом зале, – за решетку. Вот то неотлагательное дело, которое я хотел вынести на обсуждение.
Стало очень тихо. Молчание нарушил председатель.
– У вас есть доказательства, брат Макмердо? – спросил он.
– Да, они в этом письме, – сказал Макмердо и прочитал вслух нужный отрывок. – Я не могу рассказать, как я получил это письмо, или передать его вам, потому что дал слово не делать этого, но, можете мне поверить, в нем больше нет ничего такого, что затрагивало бы интересы ложи. Как только письмо попало ко мне в руки, я сразу же направился сюда.
– Разрешите сделать замечание, господин председатель, – взял слово один из старейшин. – Мне знакомо имя Берди Эдвардса, он считается одним из лучших в агентстве Пинкертона.
– Кто-нибудь знает его в лицо? – спросил Макгинти.
– Да, – спокойно произнес Макмердо. – Я знаю. – По залу прокатился удивленный ропот. – И я думаю, что он от нас никуда не денется, – продолжил он с торжествующей улыбкой. – Будем действовать быстро и по-умному – уладим это дело. Если вы доверитесь мне и согласитесь помочь, то бояться нам нечего.
– А чего нам, собственно, бояться? Что ему может быть известно о наших делах?
– Если бы все были такими надежными людьми, как вы, советник, то нам действительно нечего было бы бояться. Но за спиной этого человека стоят капиталисты с миллионами долларов на счетах. Вы полагаете, что во всех ложах все братья настолько неподкупны? Он разнюхает наши тайны… Может быть, уже разнюхал. Из этой ситуации есть только один выход.
– Сделать так, чтобы он никогда не покинул эту долину, – зловеще произнес Болдуин.
Макмердо кивнул.
– Молодец, брат Болдуин, – сказал он. – Мы с тобой во многом не сходимся, но сейчас ты произнес слова истины.
– Так где он? Как нам его найти?
– Великий владыка, – уверенно произнес Макмердо, – вы понимаете, что это слишком важный вопрос, чтобы обсуждать его при всех. Нет-нет, ни в ком из присутствующих я не сомневаюсь, но, если до слуха этого человека дойдет хоть одно неосторожное слово, мы его уже никогда не поймаем. Я прошу ложу собрать комитет из доверенных лиц. Я включил бы в него, если позволите, вас, господин председатель, брата Болдуина и еще пятерых. И тогда я смогу рассказать все, что мне известно, и предложу свой план действий.
Предложение было принято, сразу же был избран и комитет. Кроме председателя и Болдуина в него вошли грифоподобный секретарь Харрауэй, жестокий молодой убийца Тигр Кормак, казначей Картер и братья Уиллаби, отчаянные, не верящие ни в бога, ни в черта парни, готовые на все.
Обычная пирушка, которой заканчивались собрания ложи, прошла невесело и скомканно, потому что новость не давала покоя никому из братьев и для многих из них карающий закон впервые закрыл темной тучей безоблачное небо вседозволенности, под которым они так долго жили, не ведая забот. Ужас, который они наводили на других, стал такой неотъемлемой частью их каждодневного существования, что мысль о возможном возмездии давно перестала тревожить их и оттого сейчас поразила их еще больше, когда кара за совершенное зло стала казаться такой близкой. Разошлись рано, оставив своих руководителей решать большие задачи.
– Итак, Макмердо, слушаем тебя, – приступил к делу Макгинти, когда в зале не осталось никого, кроме семи участников комитета, которые сидели на своих местах в застывших позах.
– Как я только что сказал, я знаю Берди Эдвардса, – объяснил Макмердо. – Разумеется, он находится здесь под другим именем. Он храбрый человек, но не сумасшедший. Он называет себя Стивом Уилсоном и снимает квартиру в Хобсонс-пэтче.
– Откуда тебе это известно?
– Потому что я как-то с ним разговаривал. Тогда я об этом не подумал, да и забыл о том разговоре с тех пор, но, когда прочитал это письмо, сразу вспомнил, и теперь я совершенно уверен, что не ошибся. Я встретил его в поезде, когда в среду ездил в Хобсонс-пэтч… Да, сразу видно, он стреляная птица. Назвался репортером из нью-йоркской газеты. Тогда я ему поверил. Он все расспрашивал о «сердитых» и о творящемся у нас «произволе», как он это называл. Само собой, я ничего ему рассказывать не стал. «Я заплачу, – говорил он, – и хорошо заплачу, если добуду что-нибудь такое, что понравится моему редактору». Я наплел ему всякой чуши, чтобы он отстал, и тогда он заплатил мне двадцать долларов и сказал, что заплатит в десять раз больше, если я помогу ему узнать все, что он хочет.
– И что ты ему рассказал?
– Да всякую ахинею, которая в голову пришла.
– Как ты догадался, что он не репортер?
– Он сошел в Хобсонс-пэтче, я тоже. И там я как-то столкнулся с ним в телеграфной конторе. Когда я заходил, он как раз из нее выходил. «Полюбуйтесь, – сказал телеграфист, когда он вышел, – нам бы с него по двойному тарифу нужно брать за такие-то телеграммы». «Это точно», – сказал я, потому что на бланке, который мне показали, была написана какая-то совершенная тарабарщина. «И такое он каждый день шлет, – добавил телеграфист. – Это он так новости для своей редакции шифрует, чтобы другие газеты не перехватили». Так решил телеграфист, и я тогда тоже так подумал. Но теперь я думаю иначе.
– Черт побери, похоже, ты прав! – воскликнул Макгинти. – Так что же ты предлагаешь делать?
– Может, стоит поехать туда прямо сейчас, оторвать ему голову, и дело с концом? – предложил кто-то.
– Да, и чем раньше, тем лучше.
– Я бы сделал это сию же минуту, если бы знал, где там его искать, – сказал Макмердо. – Нам известно, что он в Хобсонс-пэтче, но где он там живет? У меня есть план. Думаю, если вы меня поддержите, он окажется в наших руках.
– Ну так говори!
– Завтра утром я поеду в Хобсонс-пэтч и найду его через телеграфиста, думаю, он должен знать, где живет этот Эдвардс. Я скажу ему, что я сам вольный труженик и что готов продать все тайны ложи за определенную плату. На такую наживку он точно клюнет. Потом я скажу, что все документы хранятся у меня дома, но я не хочу рисковать и приглашать его к себе днем, когда вокруг полно народу, – для меня это слишком опасно. Думаю, он согласится, что это вполне благоразумно. Встречу можно будет назначить на десять вечера. Он приедет, увидит все, что нужно, и это его убедит.
– А дальше?
– Ну а что с ним делать дальше – решайте сами. Дом вдовы Макнамара стоит на отшибе. Она надежный человек, да еще и глухая как пень. В доме, кроме меня и Сканлана, никто не живет. Если мне удастся заставить его дать слово молчать (я вам об этом сообщу позже), вы все семеро соберетесь у меня к девяти, и через час он сам придет к нам в руки. Если после этого ему удастся остаться в живых, что ж, тогда он до конца дней своих может рассказывать всем, что Берди Эдвардс – самый большой везунчик в Штатах!
– Клянусь Богом, скоро у Пинкертона появится вакантное место! Решено! Завтра в девять мы будем у тебя, Макмердо. Тебе нужно будет только впустить его в дом, остальное мы сделаем сами.
Глава 7 Ловушка
Как и сказал Макмердо, дом, в котором он жил, как нельзя лучше подходил для того преступного плана, который был разработан в ложе. Он стоял в глухом, уединенном месте на самой окраине города, вдалеке от дороги. В любом другом случае заговорщики просто подстерегли бы жертву на улице и расстреляли из револьверов, как уже не раз делали раньше, но сейчас было крайне важно предварительно узнать у Эдвардса, как много он успел выведать, каким образом и что уже известно тем, кто его нанял.
Вполне могло оказаться, что они опоздали и пинкертоновский агент уже сделал свое дело. В этом случае они, по крайней мере, могли отомстить ему. Однако они надеялись, что детектив еще не успел разнюхать ничего важного, в противном случае он не стал бы сообщать своему начальству ту чепуху, которую Макмердо, по его словам, наплел ему в поезде. Как бы то ни было, ответы на все эти вопросы они планировали получить от него самого. Когда он попадет к ним в руки, уж они-то найдут способ развязать ему язык – не впервой.
Как и было договорено, Макмердо отправился в Хобсонс-пэтч. В то утро полиция, похоже, проявляла к нему особенный интерес. Капитан Марвин, тот самый, который утверждал, что знал его еще по Чикаго, даже обратился к нему по имени, когда он ждал поезда на станции, но Макмердо просто отвернулся и не стал с ним разговаривать. В Вермиссу он вернулся днем и сразу же направился в Дом Союза, к Макгинти.
– Он приедет, – сообщил Макмердо.
– Хорошо, – сказал Макгинти. Черноволосый гигант был без пиджака, на его жилете поблескивали цепочки с печатками, сквозь косматую черную бороду сверкала бриллиантовая булавка в галстуке. Содержание салуна и политика сделали босса очень богатым и могущественным человеком, и оттого представший вчера перед ним призрак тюрьмы или даже виселицы показался ему еще более ужасным.
– Как думаешь, много он успел вынюхать? – с тревогой в голосе спросил он.
Макмердо мрачно покачал головой.
– Он здесь уже давно работает… Месяца полтора самое меньшее. Не думаю, что он приехал в наши края любоваться природой. Если он все это время работал среди нас, имея за спиной деньги железнодорожников, то, скорее всего, уже достаточно разведал и передал хозяевам.
– В ложе нет изменников! – вскричал Макгинти. – Все ребята – преданные и надежные люди, все до единого! Есть, правда, этот слизняк Моррис. Может, стоит его проверить? Если нас кто-то продал, то это наверняка он. Я сейчас пошлю к нему пару ребят, пусть вышибут из него все, что ему известно.
– Это можно, – кивнул Макмердо. – Скажу честно, мне этот Моррис нравится, и мне будет его жаль. Я пару раз разговаривал с ним о делах ложи, и, хоть он и воспринимает все не так, как вы или я, на предателя он не похож. Но решать, что с ним делать, все равно вам.
– Я раздавлю этого старого черта, – зло бросил Макгинти и выругался. – Я давно за ним наблюдаю.
– Дело ваше, – сказал Макмердо, – только все это нужно будет сделать завтра. Пока не уладится дело с Пинкертоном, нам нужно быть тише воды, ниже травы. Нельзя допустить, чтобы полиция зашевелилась, особенно сегодня.
– Твоя правда, – согласился Макгинти. – Да мы и от самого Берди Эдвардса узнаем, кто нас предал, если даже для этого придется вырезать ему сердце. Он ничего не почуял?
Макмердо рассмеялся.
– Думаю, я нашел его слабое место, – сказал он. – Чтобы узнать побольше о «сердитых», он готов и в ад спуститься. Он уже заплатил мне, – Макмердо ухмыльнулся и достал из кармана пачку долларов. – Обещал дать еще столько же, когда увидит бумаги.
– Какие бумаги?
– Да нет никаких бумаг. Я наплел ему, что у общества существует конституция, книги правил, анкеты для поступающих. Он хочет узнать все до мелочей, прежде чем уезжать.
– Узнает, узнает, – зловеще прищурил глаза Макгинти. – Он не спросил, почему ты не привез бумаги с собой?
– Я что, похож на идиота, который станет носить такие вещи при себе? Тем более что сам сижу у полиции на крючке, да еще утром ко мне этот капитан Марвин подкатывал!
– Да, я слышал об этом, – кивнул Макгинти. – Похоже, для тебя это дело становится опасным. Мы-то можем сбросить тело в старую шахту, но им известно, что Эдвардс жил в Хобсонс-пэтче и что ты туда сегодня ездил.
Макмердо пожал плечами.
– Если мы все сделаем как надо, они не смогут доказать, что его убили, – сказал он. – В это время на улице будет темно, никто не увидит, как он зайдет ко мне. Как покинет мой дом, надеюсь, тем более. Советник, сейчас я вам опишу свой план и попрошу, чтобы вы дали указание остальным придерживаться его. Сначала вы все собираетесь у меня заранее. Отлично, дальше. Он приходит в десять и, как мы с ним договорились, стучит три раза. Я впускаю его в дом. Потом закрываю за ним дверь – и все, он весь наш!
– Все достаточно просто и ясно.
– Да, но теперь нужно решить, что делать дальше. Этот парень не так-то прост, к тому же хорошо вооружен. Я-то мозги ему запудрил, но скорее всего он все равно будет начеку. Он рассчитывает, что я в доме буду один, поэтому, когда я проведу его в комнату, где он увидит семерых, начнется стрельба, кто-нибудь может пострадать.
– Верно.
– К тому же на такой шум сбегутся все полицейские города.
– Это точно.
– Вот что я предлагаю. Вы все будете ждать в большой комнате… в той самой, в которой мы с вами однажды разговаривали. Я открою дверь, впущу его, проведу в гостиную, оставлю там, а сам уйду якобы за бумагами. Заодно появится возможность сообщить вам, как все продвигается. Потом я вернусь с какими-нибудь липовыми бумагами. Когда он начнет их проверять, я наброшусь на него, скручу руки, чтобы он не смог взяться за оружие, и крикну вам. Вы тут же влетаете в комнату и вяжете его, и чем быстрее это сделаете, тем лучше, потому что он не слабее меня и всякое может статься. Но я не сомневаюсь, что пару секунд я сумею его удержать.
– Неплохо придумано, – одобрил Макгинти. – Ложа перед тобой в долгу за это. Я думаю, что знаю, кого буду рекомендовать на свое место, когда наступит время избирать нового владыку.
– Ну что вы, советник, я в ложе-то без году неделя, – сказал Макмердо, но по лицу его было видно, что на самом деле значила для него похвала великого человека.
Вернувшись домой, Макмердо взялся за приготовления к решающему вечеру. Первым делом он почистил, смазал и зарядил свой револьвер марки «Смит-Вессон». Потом осмотрел комнату, в которой планировалось устроить ловушку на сыщика. Это было большое помещение с длинным сосновым столом посередине и большой печью у стены. Окна на остальных стенах были без ставен, они закрывались только легкими шторами. Их Макмердо осмотрел с особым вниманием. Несомненно, жертву насторожит то, что для такой тайной встречи выбрана эта почти незащищенная комната. Хотя до дороги далеко, может, это его и успокоит. Покончив с комнатой, Макмердо поговорил со своим соседом. Сканлан, хоть и состоял в рядах «сердитых», был безобидным малым, которому не хватало духу перечить своим товарищам. Кровавые злодеяния, участником которых ему порой приходилось становиться, в душе ужасали его, но он не осмеливался этого показать. Макмердо в двух словах описал ему, что здесь будет происходить.
– И на твоем месте, Майк Сканлан, я бы не стал сегодня оставаться дома. Ночью здесь прольется кровь.
– Да, Мак, – согласился Сканлан. – Знаешь, мне не хватает не воли, а хладнокровия. Когда я увидел, как на шахте уложили управляющего Данна, меня чуть не вывернуло. Просто не мое это, не такой я человек, как ты или Макгинти. Если в ложе не против, я поступлю так, как ты советуешь.
Остальные пришли, как и было договорено, заранее. С виду это были вполне добропорядочные горожане, прилично одетые, опрятные, но человек, умеющий читать по лицам, по плотно сжатым губам и холодным глазам, понял бы, что для Берди Эдвардса надежды на спасение нет. Среди этих людей не было никого, чьи руки не были бы раньше обагрены кровью по меньшей мере дюжину раз. Каждый из них, убивая человека, испытывал не больше мук совести, чем мясник, режущий овцу.
Самым страшным из них, и ликом и сердцем, был, конечно же, грозный босс. Секретарь Харрауэй, сухой, злобного вида старик с длинной тощей шеей и костлявыми руками и ногами, был кристально честен во всем, что касалось денежных вопросов Ордена, но безжалостен и несправедлив к остальным людям. Казначей Картер, мужчина средних лет с бесстрастным и недобрым лицом и желтой пергаментной кожей, был способным организатором, и почти все злодеяния, совершенные членами ложи, были порождением его изворотливого ума. Братья Уиллаби, высокие, подтянутые, спортивного вида молодые люди с решительными лицами, были одними из самых опытных убийц в ложе, а их товарищ Тигр Кормак, богатырского телосложения смуглый парень, безграничной жестокостью наводил ужас даже на своих товарищей. Вот какие люди в тот вечер собрались в доме Макмердо, чтобы убить одного из лучших детективов агентства Пинкертона.
Хозяин выставил гостям виски, и те поспешили взбодриться перед предстоящей работой. Болдуин и Кормак еще до этого успели где-то порядком набраться, и выпивка распалила их жестокость. Кормак прикоснулся к печи, которая была жарко натоплена, потому что ночи еще были холодные.
– Сойдет, – криво улыбнулся он, отдернув пальцы.
– Ага, – поддакнул Болдуин, сообразив, что его товарищ имеет в виду. – Привяжем его к ней – он у нас быстро заговорит.
– Уж не беспокойтесь, разговорить его мы сумеем, – невозмутимо произнес Макмердо. Похоже, у этого человека были стальные нервы – несмотря на то что успех всей операции зависел от него, он, кажется, не испытывал ни малейшего волнения. Остальные заметили это и, оценив должным образом, зааплодировали.
– Мы тебе доверяем, – с одобрением кивнул босс. – Он ни о чем не должен догадаться, пока ты не возьмешь его за горло. Жаль, что окна здесь без ставен.
Макмердо по очереди обошел окна и зашторил их поплотнее.
– Все, так нас никто не увидит. Он уже скоро должен явиться.
– А что, если он не придет? Может, он почуял опасность? – усомнился секретарь.
– Придет, никуда не денется, – успокоил его Макмердо. – Ему хочется заполучить эти бумаги не меньше, чем вам с ним поквитаться. Тихо!
Все замерли, словно восковые фигуры, кто-то даже не донес стакан с виски до рта. Раздались три громких удара в дверь.
– Тс-с-с! – Макмердо приложил палец к губам. Мужчины обменялись радостными взглядами и взялись за оружие.
– Ни звука! – едва слышно шепнул Макмердо и вышел из комнаты, закрыв за собой дверь.
Убийцы настороженно затихли, вслушиваясь в удаляющиеся по коридору шаги своего товарища. Послышался звук открывающейся двери, слова короткого приветствия. Затем кто-то прошел по коридору, незнакомый голос тихо произнес несколько невнятных слов, в следующую секунду хлопнула дверь и в замке скрежетнул ключ. Все, добыча была в ловушке. Тигр Кормак захохотал, но босс Макгинти мигом закрыл ему рот своей ручищей.
– Тихо, идиот! – просипел он. – Хочешь, чтобы все сорвалось?
В соседней комнате разговаривали, но слов было не разобрать. Притаившимся в засаде убийцам разговор этот показался бесконечным. Но наконец дверь отворилась, и появился Макмердо. Сделав знак молчать, он прошел в комнату, остановился у стола и оглянулся на товарищей. Удивительная перемена произошла с ирландцем. Движения его сделались быстрыми и точными, как у человека, занятого исключительно важным делом. Лицо его словно окаменело. Глаза по-звериному хищно горели за стеклами очков. Теперь он был хозяином положения. Все выжидающе смотрели на него, но он не произносил ни слова, лишь быстро переводил взгляд с одного на другого.
– Ну что? – наконец не выдержал босс Макгинти. – Он здесь? Берди Эдвардс здесь?
– Да. Берди Эдвардс здесь, – медленно произнес Макмердо. – Он перед вами!
Тишина, продлившаяся десять секунд после этой короткой фразы, была такая, что можно было подумать, будто комната опустела. Неожиданно на плите оглушительно засвистел чайник. Семь бледных, скованных беспредельным ужасом лиц были повернуты к этому человеку, который возвышался над ними. И вдруг с громким звоном стекла всех трех окон рассыпались, сорванные шторы полетели на пол и в комнату просунулись блестящие стволы ружей.
Босс Макгинти, взревев, как раненый медведь, вскочил и рванулся к приоткрытой двери, но, увидев направленный ему в голову револьвер и холодные как лед голубые глаза капитана Марвина из шахтерской полиции, попятился назад и снова опустился на свой стул.
– Здесь вам будет безопаснее, советник, – сказал человек, которого они знали под именем Макмердо. – А ты, Болдуин, если не уберешь руку с револьвера, до виселицы не доживешь. Медленно достань его, или, клянусь Создателем… Вот так-то лучше. Вокруг дома сорок вооруженных людей, сами посчитайте, какие у вас шансы. Заберите их оружие, Марвин!
Под дулами ружей сопротивление было совершенно бесполезно. Заговорщиков разоружили. Подавленные, с хмурыми лицами, они молча сидели за столом, затравленно озираясь по сторонам.
– Прежде чем мы расстанемся, я бы хотел сказать вам пару слов, – произнес человек, заманивший их в ловушку. – Думаю, что в следующий раз мы с вами увидимся на суде, когда я буду давать свидетельские показания. Мне бы хотелось, чтобы у вас было над чем подумать на досуге. Теперь, когда вы знаете, кто я, я наконец могу раскрыть карты. Я – Берди Эдвардс из агентства Пинкертона. Мне было дано задание развалить вашу шайку. Это была трудная и опасная игра. Ни одна душа, никто, даже самые близкие и дорогие мне люди, не знали, чем я занимаюсь на самом деле. Об этом было известно только присутствующему здесь капитану Марвину и тем, кто поручил мне это задание. И сегодня я, слава богу, вышел из этой игры победителем.
Семь бледных лиц по-прежнему были обращены к нему. В их глазах отчетливо читалась лютая ненависть. Обведя их взглядом, он сказал:
– Может быть, вы думаете, что игра еще не окончена? Что ж, я готов рискнуть. Но, по крайней мере, некоторые из вас уже вышли из игры, и сегодня же еще шестьдесят человек окажутся за решеткой. Я хочу сказать, что, принимаясь за эту работу, я не верил, что может существовать такое общество, как ваше. Мне казалось, что вся эта шумиха раздута газетами и я смогу доказать это. Мне сказали, что дело напрямую связано с вольными тружениками, поэтому я отправился в Чикаго и стал одним из них. Там я еще больше убедился, что все это – пустая болтовня, потому что в обществе том я не увидел ничего злого, зато нашел много добра.
Но работу нужно было выполнить, поэтому я отправился в шахтерские районы. Попав сюда, я понял, что ошибался и дело обстоит намного серьезнее, чем могло показаться. Поэтому я остался, чтобы во всем разобраться. В Чикаго я никого не убивал. За свою жизнь я не изготовил ни одного фальшивого доллара. Те монеты, которые я вам раздавал, были настоящие, но я никогда в жизни еще не тратил деньги лучше. Понимая, как добиться вашего расположения, я все обставил так, будто меня преследует полиция. Все прошло, как я задумал.
Вскоре я вступил в вашу дьявольскую ложу и стал ходить на собрания. Кто-то может сказать, что я стал таким же. Это их право, но я все-таки вас взял. К тому же что происходило на самом деле? В ту ночь, когда я был принят в ложу, вы избили старика Стейнджера. Предупредить его об опасности я не мог – не было времени, но я остановил тебя, Болдуин, когда ты хотел убить его. Если я что-то и предлагал вам, чтобы утвердиться в обществе, то только если был уверен, что смогу предотвратить зло. Данна и Мензиса я спасти не мог, потому что у меня не было достаточно информации, но, уж поверьте, я прослежу, чтобы их убийц повесили. Честера Уилкокса я предупредил, и когда был взорван его дом, он сам и его семья находились в безопасном месте. Многих преступлений мне не удалось предотвратить, но, если вы вспомните, сколько раз ваши жертвы либо возвращались домой не той дорогой, либо уезжали в город, когда вы приходили за ними, либо оставались дома, когда вы думали, что они будут выходить, вы увидите мою работу.
– Проклятый иуда! – прошипел сквозь стиснутые зубы Макгинти.
– Если вам, Джон Макгинти, от этого легче, можете называть меня как хотите. Вы и подобные вам были в этих местах настоящими врагами Бога и людей. Кто-то должен был встать между вами и теми несчастными мужчинами и женщинами, которых вы держали в своих лапах. Был лишь один способ сделать это, и я им воспользовался. Вы называете меня предателем, но тысячи других назовут меня избавителем, который спустился в ад, чтобы спасти их. Я провел в этом аду три месяца, и ни за какие сокровища в мире не согласился бы прожить еще три таких месяца. Пока дело не было доведено до конца, я не мог уехать отсюда. Я должен был выведать все тайны, узнать все имена, и я ждал бы еще дольше, если бы случайно не узнал, что моя тайна может быть вот-вот раскрыта. В город пришло письмо, которое могло бы раскрыть вам глаза на то, что происходит у вас под носом. И тогда мне пришлось действовать, и действовать быстро.
Больше мне нечего вам сказать, кроме того, что, когда настанет мой час, мне будет легче умирать с мыслью о той работе, которую я провел в этой долине. Все, Марвин, дольше я вас задерживать не стану. Забирайте их.
Мало что еще можно добавить к этой истории. Сканлану было дано поручение отнести запечатанный конверт на адрес мисс Этти Шафтер. Принимая письмо, он подмигнул и понимающе заулыбался. Ранним утром прекрасная женщина и мужчина с поднятым воротником, с лицом, закутанным по самые глаза шарфом, сели в специальный поезд, предоставленный Железнодорожной компанией, и быстро, без остановок уехали из этого опасного края. Больше ни Этти, ни ее возлюбленный в Долину Ужаса не возвращались никогда. Через десять дней они поженились в Чикаго, свидетелем на их свадьбе был старик Джейкоб Шафтер.
Суд над «сердитыми» прошел далеко от тех мест, где их сторонники могли запугать слуг закона. Напрасно они пытались доказать свою невиновность, напрасно в попытке спасти их лились рекой деньги ложи, деньги, которые выжимались шантажом и насилием из всего шахтерского района. Четкие, уверенные и спокойные показания того, кому были известны все подробности их жизни, организации их общества и их преступлений, перевесили уловки и хитрости их защитников. Наконец после стольких лет они были сломлены и получили по заслугам. Страх навсегда покинул долину.
Макгинти встретил свою судьбу на виселице. Перед смертью он умолял пощадить его и скулил от страха. Восемь его главных помощников разделили его судьбу. Пятьдесят с лишним человек получили разные сроки заключения. Работа Берди Эдвардса закончилась успехом.
И все же, как он и предсказывал, игра еще не была окончена. Предстояло разыграть еще партию, потом еще одну и еще. Виселицы удалось избежать, например, Теду Болдуину, братьям Уиллаби и еще нескольким самым жестоким участникам банды. Мир не видел их десять лет, но потом настал день, когда они снова оказались на свободе. Эдвардс, который прекрасно знал этих людей, понимал, что в этот день его спокойная жизнь закончилась. Они поклялись на всем, что для них было свято, отомстить ему за своих товарищей. И они были готовы на все, чтобы сдержать обещание.
Из Чикаго Эдвардсу пришлось бежать после двух покушений, едва не закончившихся для него смертью. Под вымышленным именем он уехал в Калифорнию, и там на какое-то время свет померк для него, когда умерла Этти Эдвардс. Потом он пережил еще одно покушение, от которого ему удалось спастись лишь чудом. После этого, сменив фамилию на Дуглас, он организовал рудник в одном из уединенных каньонов и вместе со своим английским партнером по фамилии Баркер сколотил приличное состояние. Наконец он получил известие, что неумолимые преследователи снова вышли на его след, и едва успел уехать в Англию. Таким образом в графстве Суссекс появился некий джентльмен по имени Джон Дуглас, который повторно женился на достойной женщине и пять лет прожил в тихом местечке Берлстоун, пока не случились странные события, о которых нам уже известно.
Эпилог
Полицейский суд рассмотрел дело Джона Дугласа и передал его в вышестоящую инстанцию. Уголовный суд четвертных сессий его оправдал, установив, что его действия можно квалифицировать как самозащиту.
«Любой ценой увезите его из Англии, – написал Холмс его жене. – Здесь существуют силы более могущественные, чем те, от которых он спасся. Вашему мужу оставаться в Англии опасно».
Прошло два месяца, мы начали постепенно забывать об этом деле, но однажды утром в нашем почтовом ящике оказалось странное короткое письмо. «Ну-ну, мистер Холмс. Ну-ну», – было написано в этом загадочном послании без обратного адреса и подписи. Я рассмеялся, прочитав эту чудную записку, но Холмс неожиданно посерьезнел.
– Это шутка дьявола, Ватсон, – заметил он и потом еще долго сидел, хмуро глядя в камин.
Вчера поздно вечером к нам вошла миссис Хадсон, наша хозяйка, и сообщила, что мистера Холмса хочет видеть какой-то джентльмен по неотложному делу. Вслед за ней явился Сесил Баркер, наш знакомый по берлстоунской усадьбе с подъемным мостом. Вид у него был безрадостный.
– У меня плохая новость… Ужасная новость, мистер Холмс, – мрачно произнес он.
– Я этого и боялся, – сказал Холмс.
– Вы что, тоже получили каблограмму?
– Нет, но я получил письмо от того, кто получил.
– Бедный Дуглас. Мне говорили, что на самом деле его фамилия Эдвардс, но для меня он всегда будет Джеком Дугласом из каньона Бенито. Я ведь говорил вам, что три недели назад они отплыли в Южную Африку на «Пальмире».
– Да.
– Вчера вечером корабль прибыл в Кейптаун, и сегодня утром я получил от миссис Дуглас вот эту каблограмму: «Джека смыло за борт во время шторма у берегов Святой Елены. Айви Дуглас».
– Вот, значит, как это произошло, – словно подумал вслух Холмс и вздохнул. – Не сомневаюсь, все было исполнено идеально.
– Вы хотите сказать, что это не был несчастный случай?
– Никоим образом.
– Его убили?
– Несомненно.
– Я тоже так думаю. Эти адские отродья «сердитые», это гнездо убийц…
– Нет-нет, дорогой сэр, – покачал головой Холмс. – Здесь чувствуется рука мастера. Никаких укороченных дробовиков, никаких неуклюжих револьверов. Настоящего гения можно узнать по мазку кисти. Я вижу здесь работу Мориарти. Это преступление было задумано в Лондоне, а не в Америке.
– Но мотив?
– Мотив очень простой. За этим убийством стоит человек, который не может позволить себе не довести дело до конца, человек, который достиг вершины потому, что все, за что он берется, обязательно должно закончиться успехом. Великий разум и мощь огромной преступной машины были направлены на то, чтобы уничтожить одного человека. Это все равно что колоть орехи паровым молотом… Абсурдное расточительство энергии, но орех-то расколот.
– Но какое отношение Мориарти вообще имеет ко всему этому?
– Я могу лишь сказать, что впервые мы узнали об этом деле от одного из его помощников. Эти американцы поступили мудро. Когда им потребовалось выполнить работу в Англии, они, как и любой иностранный преступник, обратились за консультацией к лучшему специалисту по подобного рода делам. С той минуты их жертва была обречена. Первым делом он направил свои силы на то, чтобы разыскать нужного им человека. Затем помог организовать нападение. Наконец, узнав из газет о неудаче своих партнеров, вступил в игру сам и поставил точку. Помните, я предупреждал Дугласа в Берлстоуне, что в будущем ему грозит опасность намного большая, чем та, которую он пережил. Теперь вы понимаете, что я был прав?
В бессильной злобе Баркер ударил себя кулаком по голове.
– Неужели мы так и будем сидеть сложа руки? Неужели вы хотите сказать, что никто и никогда не управится с этим дьяволом во плоти?
– Нет, я этого не говорю, – задумчиво произнес Холмс, словно вглядываясь в будущее. – Я не говорю, что его нельзя одолеть. Только дайте мне время… Дайте мне время!
Все мы несколько минут сидели молча, пока его вещий взгляд пытался пронзить завесу грядущего.
Гилберт Кийт Честертон
Гилберт Кийт Честертон родился 29 мая 1874 года в лондонском районе Кенсингтон. Получил начальное образование в школе Святого Павла. Затем учился изобразительному искусству в художественной школе Слейда, чтобы стать иллюстратором, также посещал литературные курсы в Университетском колледже Лондона, но обучение не закончил. В 1896 году Честертон начинает работать в Лондонском издательстве Redway и T. Fisher Unwin, где остается до 1902 года. В это же время он становится и журналистом и литературным критиком. В 1901 г. Честертон женится на Фрэнсис Блогг, с ней он проживет всю свою жизнь. В 1902 г. ему доверили вести еженедельную колонку в газете «Daily News», затем в 1905 Честертон начал вести колонку в «The Illustrated London News» – этой работой он занимался в течение 30 лет.
Будучи молодым человеком, Честертон увлекся оккультизмом и вместе с братом Сесилом экспериментировал с доской для спиритических сеансов. Однако позже это увлечение сошло на нет.
У Честертона рано проявилась тяга к творчеству. Он планировал стать артистом, и его писательское мастерство демонстрирует умение воплощать видимые лишь автору сюжеты в конкретные и запоминающиеся события и образы. Даже в его беллетристике скрыты притчи.
Честертон был крупным человеком: его рост составлял 1,93 метра, а весил он около 130 килограммов. Друзья подшучивали над такими выдающимися габаритами писателя. Как-то раз Честертон сказал очень худому Бернарду Шоу: «Если кто-нибудь посмотрит на тебя, то подумает, что в Англии был голод». И тот ответил: «А если посмотрят на тебя, то подумают, что ты был его причиной».
Честертон любил споры, поэтому современникам посчастливилось присутствовать на его дружеских публичных дебатах с Бернардом Шоу, Гербертом Уэллсом, Бертраном Расселом, Кларенсом Дарроу.
Всего Честертон написал около 80 книг. Его перу принадлежат несколько сотен стихотворений, 200 рассказов, 4000 эссе, ряд пьес, романы «Человек, который был Четвергом», «Шар и Крест», «Перелетный кабак» и другие. Широко известен благодаря циклам детективных новелл об отце Брауне и Хорне Фишере, а также религиозно-философским трактатам, посвященным апологии христианства.
Писатель скончался 14 июня 1936 г. в Биконсфилде (графство Бакингемшир).
Сапфировый крест
Между серебряной лентой утреннего неба и искрящейся зеленой лентой моря к Хариджскому причалу пристал пароход. Он выпустил на берег беспокойный рой темных фигур, и человек, за которым мы последуем, ничем не выделялся среди них… Да он и не хотел выделяться. Ничто в нем не привлекало внимания, кроме разве что некоторого несоответствия между нарядностью выходного костюма и официальной строгостью лица. Одет он был в легкий светло-серый пиджак, белый жилет и соломенную шляпу серебристого цвета с пепельно-голубой лентой. Из-за светлой одежды тощее лицо его казалось темнее, чем оно было на самом деле. Короткая черная бородка мужчины придавала ему определенное сходство с испанцем и одновременно наводила на мысль о гофрированных круглых воротниках елизаветинских времен. С сосредоточенностью человека, которому нечем заняться, он курил сигарету. Глядя на него, никто не догадался бы, что под светлым пиджаком скрывается заряженный револьвер, в кармане белого жилета – удостоверение полицейского, а под соломенной шляпой – один из величайших умов Европы, ибо это был сам Валантэн, глава парижской полиции и самый знаменитый сыщик в мире. Он направлялся из Брюсселя в Лондон, чтобы произвести там самый громкий арест века.
Фламбо был в Англии. Полиция трех стран наконец смогла выследить великого преступника, который из Гента переехал в Брюссель, а из Брюсселя перебрался в Хук-ван-Холланд. Было решено, что он захочет воспользоваться суматохой, вызванной евхаристическим конгрессом, чтобы осесть в Лондоне. Вероятно, он путешествовал под видом какого-нибудь неприметного церковнослужителя или секретаря, приехавшего на съезд духовенства, впрочем, полной уверенности в этом у Валантэна, разумеется, не было. Ни в чем нельзя быть уверенным, когда речь идет о Фламбо.
Прошло уже много лет с тех пор, как этот колосс преступности неожиданно перестал держать мир в волнении; и когда он затих (поговаривают, причиной тому была смерть Роланда), на земле воцарилось великое спокойствие. Но в лучшие свои дни (я, конечно же, имею в виду его худшие дни) Фламбо был велик и повсеместно известен не меньше, чем кайзер. Почти каждое утро газеты приносили весть о том, что новое дерзкое преступление позволило ему избежать преследования за предыдущее. Это был отчаянный гасконец огромного роста и богатырского сложения. О шутках этого атлета ходили самые невероятные легенды. Рассказывали, как однажды он перевернул следователя вверх ногами и наступил ему на голову ногой, «чтобы прочистить ему мозги»; как он бежал по рю де Риволи, неся под мышками по полицейскому. Правда, справедливости ради нужно сказать, что огромную силу свою он пускал в ход чаще всего для подобных бескровных, хоть и унизительных для жертвы выходок; он был вором и крал изобретательно и с размахом. Каждая его кража могла стать новым грехом и была настолько неповторима, что заслуживала того, чтобы посвятить ей отдельный рассказ. Это Фламбо организовал в Лондоне знаменитую «Тирольскую молочную компанию», которая не владела ни молочным хозяйством, ни коровами, ни транспортом, ни молоком, зато имела около тысячи клиентов. Их он обслуживал очень простым способом: собирал по улицам стоящие под дверьми маленькие молочные бидоны и расставлял у порогов своих клиентов. Это ему удавалось вести довольно оживленную и откровенную переписку с одной юной леди, вся почта которой перехватывалась и проверялась. Для этого он придумал поразительно ловкий прием: фотографировал свои послания через микроскоп и посылал ей фотографии, уменьшенные до крошечных размеров. Многие его проделки отличала удивительная простота. Говорят, что как-то раз под покровом ночи он перекрасил номера всех домов улицы лишь для того, чтобы заманить в ловушку свою очередную жертву. Доподлинно известно, что это Фламбо изобрел переносные почтовые ящики; он расставлял их в пригородах на тихих улочках в расчете на то, что какой-нибудь случайный прохожий опустит туда почтовый перевод. Помимо всего прочего, он был изумительным акробатом; несмотря на большой рост и могучую фигуру, прыгал он, как кузнечик, и мог взобраться на любое дерево не хуже обезьяны. Поэтому великий Валантэн, отправляясь на поиски Фламбо, не сомневался, что приключения его не закончатся, когда он его разыщет.
Но как его найти? Этого великий сыщик еще не решил.
Фламбо был мастером по части грима и маскировки, но в его внешности было кое-что, чего он не мог скрыть, – это необыкновенный рост. Если бы острый глаз Валантэна углядел высокую торговку яблоками, высокого гренадера или даже подозрительно высокую герцогиню, он мог бы незамедлительно арестовать их. Но среди пассажиров поезда, на который он сел, не было никого, похожего на переодетого Фламбо больше, чем замаскированная кошка может походить на жирафа. В своих попутчиках с парохода он не сомневался, тех же, кто сел в поезд в Харидже или подсаживался на промежуточных станциях, было всего шестеро. Это коренастый железнодорожный служащий, едущий до конечной станции, три невысоких огородника, подсевших на третьей остановке, одна вдова совсем маленького роста, направляющаяся в Лондон из какого-то крохотного городка в Эссексе, и такой же низкорослый католический священник, едущий из какой-то крохотной эссекской деревушки. Увидев последнего, Валантэн махнул рукой и чуть не рассмеялся. Этот маленький священник был живым воплощением скучных серых долин востока Англии, которые проплывали за окном. Лицо у него было круглое и бесцветное, как норфолкская лепешка, а глаза – пустые, как Северное море; он с трудом удерживал несколько коричневых бумажных свертков и пакетов, которые то и дело норовили выпасть у него из рук. Евхаристический конгресс наверняка сорвал с насиженных мест множество подобных существ, слепых и беспомощных, как кроты, которых вытащили из норы. Валантэн по-французски сурово относился к религии и священников не любил. Однако ничто не мешало ему испытывать к ним жалость, а этот мог вызвать жалость у кого угодно. У него с собой был большой потрепанный зонтик, который постоянно падал на пол; он, похоже, даже не знал, что ему делать с билетом. С простодушием идиота он всем рассказывал, что ему нужно быть осторожным, потому что в одном из коричневых бумажных пакетов он везет с собой что-то, сделанное из «чистого серебра с голубыми камнями». Это удивительное смешение эссекского простодушия с воистину святой простотой удивляло француза всю дорогу до Тоттнема, где священник со всеми своими свертками наконец сошел (кое-как) и вернулся за забытым зонтиком. Снова увидев его в вагоне, Валантэн был так добр, что посоветовал священнику не рассказывать всем вокруг о серебре, если он хочет доставить его в целости и сохранности. Впрочем, с кем бы Валантэн ни разговаривал, бдительности он не терял, и глаза его внимательно рассматривали любого, богатого или бедного, мужчину или женщину, чей рост был близок к шести футам, поскольку рост Фламбо был шесть футов четыре дюйма.
Как бы то ни было, на вокзале Ливерпуль-стрит Валантэн сошел в полной уверенности, что пока что не пропустил преступника. Потом он съездил в Скотленд-ярд официально оформить свое пребывание в городе и договориться о том, чтобы в случае необходимости ему предоставили помощь. Выйдя из полицейского управления, он закурил очередную сигарету и отправился бродить по Лондону. Прохаживаясь по улицам и площадям позади Виктории, он неожиданно остановился. Перед ним была старая тихая, словно застывшая, типично лондонская площадь. Высокие плоские дома вокруг казались одновременно богатыми и необитаемыми. Площадка с кустами в самой ее середине напоминала затерянный в Тихом океане зеленый островок. Одна из четырех сторон площади была значительно выше остальных, как кафедра в зале, и эта ровная линия нарушалась зданием, которое казалось здесь совсем не к месту, но придавало всей площади особое очарование. Это был ресторан, выглядевший так, словно каким-то образом случайно переместился сюда из Сохо. Карликовые растения в горшочках, длинные белые в лимонно-желтую полоску шторы – чужеродной красотой своей дом этот притягивал к себе взгляд. Он возвышался над остальными зданиями, и высокая лестница, ведущая к парадной двери, чуть ли не на уровне второго этажа, очень напоминала пожарный выход – еще одна типично лондонская нелепость. Валантэн долго стоял перед этим зданием, курил и рассматривал полосатые занавески.
Самое удивительное в чудесах то, что иногда они случаются. Несколько облаков на небе могут сложиться в форме человеческого глаза. Во время утомительного и скучного путешествия можно увидеть одинокое дерево, выделяющееся на фоне пустынного пейзажа, как вопросительный знак. Я сам не так давно видел и то и другое. Нельсон умирает в миг победы, а человек по фамилии Вильямсон совершенно случайно убивает человека, фамилия которого – Вильямсон… Звучит, как отчет о детоубийстве. Короче говоря, в жизни есть место чудесному совпадению, которое может постоянно ускользать от людей прозаического склада ума. Как прекрасно сказано в парадоксе По, мудрость должна полагаться на непредвиденное.
Аристид Валантэн был настоящим французом, а ум француза – это чистый ум и ничего больше. Нет, он не был «мыслящей машиной», поскольку это бессмысленное понятие – не более чем выдумка современных фаталистов и материалистов. Машина является машиной, как раз потому что не может мыслить. Он был мыслящим человеком, при этом прямым и простым. За его поразительным успехом, казавшимся настоящим чудом, стояла обычная четкая французская мысль и железная логика. Французы удивляют мир не парадоксами, а воплощением в жизнь азбучных истин. Они доводят их до… Вспомните Французскую революцию. Но именно поскольку Валантэн понимал, что такое разум, он понимал и пределы разума. Только человек, не знающий ничего о машинах, может говорить о езде без горючего; только человек, не знающий ничего о разуме, может говорить о мышлении, лишенном крепких, фундаментальных предпосылок. Сейчас у Валантэна крепких предпосылок не было. В Харидже Фламбо не обнаружился, и, если он и находился в Лондоне, то мог быть кем угодно, от долговязого бродяги в Уимблдон-коммон до высокого распорядителя застолья в гостинице «Метрополь». Для таких ситуаций, как эта, когда совершенно непонятно, в какую сторону направляться дальше, у великого сыщика имелся особый метод.
В подобных ситуациях он полагался на случай. Когда действовать разумно было нельзя, он спокойно и методично действовал безрассудно. Вместо того чтобы ходить по «правильным» местам (банки, полицейские участки), встречаться с нужными людьми, он начинал ходить по местам «неправильным», заходил в каждый попавшийся на дороге пустой дом, осматривал каждый cul-de-sac[15], не пропускал ни одной грязной, заваленной мусором улочки, сворачивал во все закоулки, которые бесцельно уводили его в сторону. И этому безумству у него было вполне логическое объяснение. Он говорил, что, если след есть, это худший путь, если же следа нет – это лучший путь, поскольку оставался шанс, что если что-то необычное привлекло внимание преследователя, оно точно так же могло привлечь внимание преследуемого. Откуда-то ведь нужно начинать, и лучше начинать с того места, где другой мог остановиться. Что-то в крутизне лестницы, ведущей к двери, что-то в спокойствии и необычности ресторана тронуло сыщика за душу, и он решил действовать наудачу. Он поднялся по лестнице, сел за столик у окна и заказал чашечку черного кофе.
Было позднее утро, а сыщик еще не завтракал, о чем ему напомнили остатки чужого завтрака на соседнем столике. Добавив к заказу яйцо-пашот, он стал рассеянно сыпать в кофе белый сахар, думая о Фламбо. Валантэн вспоминал, как Фламбо удавалось уходить от преследования: один раз он использовал для этого маникюрные ножнички, а в другой раз поджег дом; однажды сослался на то, что ему нужно заплатить за письмо без марки и улизнул прямо из-под носа, а как-то собрал толпу желающих посмотреть в телескоп на комету, которая могла уничтожить Землю. Глава парижской полиции не сомневался, что его мозг сыщика ничем не хуже мозга преступника, и был прав, но при этом четко осознавал разницу. «Преступник – творец, сыщик – всего лишь критик», – подумал он, горько улыбнулся, медленно поднес чашку кофе к губам и тут же опустил. Вместо сахара он насыпал в напиток соль.
Валантэн посмотрел на сосуд, из которого взял белый порошок. Вне всякого сомнения, это была сахарница. Точно так же предназначенная для сахара, как коньячная бутылка предназначена для коньяка. Почему же в нее насыпана соль? Осмотрев стол, он увидел другие привычные сосуды. Да, вот две солонки, обе полны до краев. Может быть, приправы, находящиеся в солонках, чем-то отличаются? Попробовал – сахар! После этого он со значительно возросшим интересом осмотрелся кругом: нет ли здесь других следов столь оригинального художественного вкуса, который заставил кого-то засыпать сахар в солонки, а соль – в сахарницу? Если не обращать внимания на странное пятно какой-то темной жидкости на белых обоях, ресторан казался самым обычным, чистым и уютным местом. Позвонив в колокольчик, сыщик подозвал официанта.
Когда служитель – растрепанный, со слегка затуманенными в столь ранний час глазами – торопливо подошел, сыщик (который был не чужд простейших форм юмора) попросил его попробовать сахар и сказать, соответствует ли он высокой репутации заведения. Это привело к тому, что официант неожиданно зевнул и проснулся.
– У вас что, принято каждое утро так тонко подшучивать над посетителями? – поинтересовался Валантэн. – Не кажется ли вам, что шутка с подменой сахара солью несколько устарела?
Официант, когда ему стала понятна ирония, заикаясь заверил его, что ни у кого не было намерения делать это специально и что произошла просто нелепая ошибка. Он поднял сахарницу, посмотрел на нее, поднял солонку и так же внимательно повертел ее перед глазами. Удивленное выражение на его лице проступало все отчетливее. Наконец он, коротко извинившись, убежал и вернулся через несколько секунд с хозяином ресторана. Тот тоже осмотрел сначала сахарницу, потом солонку и тоже пришел в удивление.
И вдруг официанта осенило.
– Так это, наверное, – захлебываясь, затараторил он, – это, наверное, те двое священников.
– Какие двое священников?
– Ну, те двое, которые плеснули супом в стену.
– Плеснули супом в стену? – удивленно повторил Валантэн, посчитав, что это, должно быть, какая-то необычная итальянская метафора.
– Да, да! – возбужденно воскликнул официант и указал на темное пятно на белых обоях. – Вон туда на стену плеснули.
Тогда Валантэн перевел вопросительный взгляд на хозяина, и тот пришел на помощь с более подробным рассказом.
– Да, сэр, – сказал он. – Совершенно верно, хотя я не думаю, что это имеет какое-то отношение к сахару и соли. Двое священников сегодня утром, очень рано, как только мы открыли ставни, зашли и заказали бульон. Оба выглядели вполне приличными, спокойными людьми. Потом один расплатился и ушел, а второй (он сразу показался мне копушей) задержался еще на пару минут, вещи свои собирал. Потом и он ушел, только, перед тем как выйти, буквально за секунду до того, как выйти на улицу, взял свою чашку, наполовину полную, и выплеснул ее содержимое на стену. Я тогда был в задней комнате, официант тоже, и когда мы выбежали, в зале уже никого не было, только вот это пятно красовалось на стене. Особого вреда тут нет, но это было проделано настолько нагло, что я выбежал на улицу, чтобы догнать этих людей. Но они оказались уже слишком далеко. Я только успел заметить, что они свернули за угол на Карстарс-стрит.
Сыщик вскочил, надел шляпу и взял трость. Он уже давно решил, что в бездонной тьме неведения ему должно следовать в направлении, обозначенном первым же указующим перстом, каким бы необычным он ни выглядел. Этот перст казался достаточно необычным. Заплатив по счету и хлопнув стеклянной дверью, вскоре Валантэн уже заворачивал за угол на Карстарс-стрит.
К счастью, даже в такие волнительные минуты он не терял бдительности. Когда он торопливо прошел мимо одной из лавок, что-то привлекло его внимание и заставило вернуться. Оказалось, это была лавка торговца фруктами. На открытом прилавке тесными рядами были аккуратно расставлены ящики с разнообразными товарами, каждый из которых снабжен табличкой с названием и ценой. В двух, самых больших, возвышались две горки, одна из апельсинов, другая из орехов. На горке орехов лежала картонная карточка, на которой синим мелом было жирно написано: «Свежайшие апельсины, 2 шт. – пенни». На горке апельсинов красовалось такое же совершенно четкое и однозначное описание: «Лучшие бразильские орехи, 1 унц. – 6 пенсов». Месье Валантэн посмотрел на эти ценники и почувствовал, что уже сталкивался с таким утонченным чувством юмора, и не так давно. Он указал на эту неточность краснощекому продавцу за прилавком, который угрюмо посматривал по сторонам. Торговец ничего не сказал, но резким движением поменял местами карточки. Сыщик, элегантно опираясь на трость, продолжил осмотр прилавка. Наконец он сказал:
– Прошу прощения за то, что отвлекаю вас, сэр, но я бы хотел задать вопрос из области экспериментальной психологии и ассоциативного мышления.
Краснощекий зеленщик смерил его взглядом, не предвещавшим приятной беседы. Но Валантэн, поигрывая тростью, продолжил самым жизнерадостным тоном.
– Каким образом, – спросил он, – два ошибочно расположенных ценника на прилавке торговца фруктами напоминают нам о священнике, приехавшем по делам в Лондон? Или, если я выражаюсь недостаточно понятно, что за мистическая ассоциация связывает идею об орехах, обозначенных как апельсины, с идеей о двух священнослужителях, один из которых высокий, а второй низкий?
Тут глаза торговца полезли из орбит, как у улитки; на секунду показалось, что он бросится на незнакомца. Наконец, едва сдерживая ярость, он заговорил:
– Не знаю я, какое вам до этого дело, но если вы их знаете, можете им от меня передать, что я им их тупые башки поотбиваю, если они еще раз уронят мои яблоки. И мне все равно, попы они или не попы!
– О! – голосом, полным сочувствия, воскликнул сыщик. – Они в самом деле уронили ваши яблоки?
– Один из них, – продолжал горячиться продавец. – По всей улице раскатились! Я бы поймал этого болвана, так яблоки собрать надо было.
– А куда пошли эти попы?
– Вон по той второй дороге налево вверх, а потом через площадь, – быстро ответил краснощекий.
– Спасибо, – бросил Валантэн и растворился в воздухе, будто фея. На дальней стороне следующей площади он увидел полицейского и подбежал к нему. – Это срочно, констебль; вы не видели двух священников в широкополых шляпах?
Полицейский тихо засмеялся.
– Как же не видел? Видел, сэр, и мне показалось, что один из них был пьяный. Он остановился прямо посреди дороги и с таким удивленным видом…
– Куда они пошли? – не дал ему договорить Валантэн.
– Вон там сели на один из тех желтых омнибусов, – ответил постовой. – До Хампстеда.
Валантэн показал ему свое удостоверение и скороговоркой выпалил:
– Я за ними. Найдите двух человек, мне нужна помощь, – и помчался через дорогу так целеустремленно, что дюжий полицейский без лишних вопросов послушно бросился исполнять поручение. Через полторы минуты французского сыщика на противоположной стороне тротуара догнали инспектор и какой-то человек в штатском.
– Итак, сэр, – спросил инспектор, улыбкой давая понять, что осознает всю важность ситуации, – чем мы можем?…
Валантэн выбросил вперед трость.
– В омнибус! Все расскажу на империале, – крикнул он и метнулся к стоянке, ловко лавируя между потоками карет и машин. Когда все трое, тяжело дыша, заняли места на втором этаже желтого омнибуса, инспектор сказал:
– На такси мы бы доехали в четыре раза быстрее.
– Верно, – спокойно ответил их предводитель, – если знать, куда ехать.
– Так куда же мы едем? – не без удивления поинтересовался его помощник.
Нахмурившись, Валантэн сделал несколько долгих затяжек, потом вынул изо рта сигарету и сказал:
– Если знаешь, что у человека на уме, иди на шаг впереди него, но если хочешь угадать, что у него на уме, держись за ним. Он сбивается с пути – и ты сбивайся с пути, он останавливается – и ты останавливайся, он идет медленно – и ты иди медленно. Это даст возможность увидеть то же, что видел он, и действовать так же, как действовал он. Все, что мы сейчас можем, – это смотреть в оба и попытаться не пропустить что-нибудь необычное.
– На что же нам смотреть? – поинтересовался инспектор.
– На все, – ответил Валантэн и снова погрузился в сосредоточенное молчание. Стало ясно, что дальнейшие расспросы не имеют смысла.
Омнибус медленно полз по улицам северного района, как казалось преследователям, уже много часов. Великий детектив дальнейших объяснений не давал, и его спутники, возможно, почувствовали неосознанное и все возрастающее сомнение в правильности своего решения прийти ему на помощь. Возможно, также они почувствовали и неосознанное и все возрастающее чувство голода, поскольку время обеда уже давно прошло, а бесконечные дороги северных лондонских предместий все увеличивались и увеличивались в длину, словно какой-то гигантский телескоп. Это была одна из тех поездок, когда путешественника не покидает мысль о том, что он вот-вот доберется до края белого света, пока не обнаруживает, что всего лишь въезжает в Тафнелл-парк. Лондон с его грязными тавернами и унылыми кустами остался позади, потом каким-то невообразимым образом снова показался впереди, на этот раз в виде оживленных широких улиц и кичливых гостиниц. Это напоминало путешествие по тринадцати разным городам и городишкам, расположившимся рядом друг с другом. Хмурые зимние сумерки уже начали сгущаться над дорогой, но парижский сыщик сидел попрежнему молча и сосредоточенно рассматривал проплывающие по обеим сторонам фасады домов. К тому времени, когда они выехали из Камден-тауна, полицейские уже почти заснули, по крайней мере, они резко встрепенулись, когда Валантэн неожиданно вскочил, схватился за плечи обоих спутников и закричал, чтобы кучер остановился.
Они скатились по ступенькам, не имея понятия, зачем их заставили выходить, и, когда повернулись за объяснениями к Валантэну, увидели, что тот торжествующе указывает пальцем на окно в доме на левой стороне дороги, – большое окно, которое являлось частью роскошного с позолотой фасада гостиницы. Эта часть здания, украшенная вывеской «Ресторан», предназначалась для обедов респектабельной публики. Окно с матовым узорчатым стеклом, как и у всех остальных окон фасада, выделялось лишь одним: прямо посередине на нем зияла большая черная дыра, напоминающая лунку во льду.
– Вот он, наш ключ, наконец-то! – воскликнул Валантэн, размахивая тростью. – Дом с разбитым окном.
– Какое окно? Какой ключ? – растерянно переспросил его главный помощник. – С чего вы взяли, что это может иметь к ним какое-то отношение? Вы можете это доказать?
Валантэн в сердцах чуть не сломал бамбуковую трость.
– Доказать? – вскричал он. – Черт побери, ему нужны доказательства! Ну разумеется, шансы двадцать против одного, что это не имеет к ним никакого отношения. Но что мне остается делать? Неужели вы не понимаете, что мы можем либо ухватиться за этот шанс, либо ехать по домам спать?
С этими словами он решительно направился в ресторан. Его спутники последовали за ним, и вскоре они уже сидели за небольшим столиком, поглощали поздний обед и рассматривали отверстие в стекле с другой стороны. Впрочем, ясности от этого не прибавилось.
– У вас, я вижу, окно разбито, – сказал Валантэн официанту, расплачиваясь.
– Да, сэр, – ответил тот, склонился над столом и принялся усердно пересчитывать мелочь. Когда Валантэн молча положил перед ним солидные чаевые, официант не сильно, но заметно оживился. – Да, сэр, – распрямившись, добавил он. – Очень странная история, сэр.
– Да? А что произошло? – как будто из праздного любопытства поинтересовался сыщик.
– Вошли два господина в черных одеждах, – пояснил официант. – Ну, из тех заграничных священников, которых сейчас полно в городе. Перекусили. Потом один из них расплатился и ушел. Второй как раз тоже направился к выходу, когда я еще раз посмотрел на деньги и обнаружил, что он заплатил в три раза больше, чем следовало. «Постойте, – говорю я тогда этому парню, он уже почти вышел за дверь. – Вы заплатили слишком много». – «В самом деле?» – говорит он спокойно так. – «Да», – говорю и беру чек, чтобы показать ему, гляжу на него и ничего не понимаю.
– Что вы имеете в виду?
– Я готов хоть на семи Библиях поклясться, что на счете я писал «4 пенс.», а теперь там совершенно четко было «14 пенс.»!
– Надо же! – негромко воскликнул Валантэн, но глаза его пылали. – И что потом?
– Священник у двери и глазом не моргнул. «Прошу прощения, что спутал ваши счета, – говорит, – но пусть это будет платой за окно». Я ему: – «Какое окно?» А он мне: – «Которое я сейчас разобью». Берет зонтик и пробивает в стекле эту дырку.
Все трое полицейских изумленно воскликнули, а инспектор тихо произнес: «Мы что, за сумасшедшими гонимся?» Официант, похоже, довольный произведенным эффектом, продолжил удивительный рассказ.
– Меня это так удивило, что на несколько секунд я замер как вкопанный, просто не мог сдвинуться с места. Священник преспокойно вышел, присоединился к своему другу, вместе они свернули за угол и там так припустили на Баллок-стрит, что я, хоть и собирался, ни за что бы их не догнал!
– Баллок-стрит! – вскричал сыщик и устремился на эту улицу, должно быть, с не меньшей скоростью, чем странная пара, которую он преследовал.
Погоня продолжалась. Теперь преследователи шли между голых кирпичных стен по похожим на туннели мрачным пустынным улицам; улицам, на которых почти не было не только фонарей, но даже и окон; бесконечно долгим улицам, которые, видимо, состояли сплошь из тыльных сторон самых разнообразных зданий, собранных со всего города. Смеркалось, и даже лондонские полицейские уже с трудом понимали, в каком направлении они шагают. Инспектор все же был почти уверен, что они должны были выйти на какую-то часть Хампстед-хит. Неожиданно фиолетовые сумерки прорезал свет освещенной газовым фонарем круглой выпуклой витрины, похожей на большой иллюминатор. Оказалось, это кондитерская. Валантэн остановился, постоял пару секунд и вошел в магазин. Походив с серьезным видом между празднично-яркими витринами с пестрым товаром, он тщательно выбрал тринадцать шоколадных трубочек и медленно направился к прилавку. Сыщик явно подыскивал повод завязать разговор, но оказалось, это было излишне.
Нескладную неопределенного возраста продавщицу элегантный француз заинтересовал не больше любого другого покупателя. Лишь профессиональное любопытство заставило ее окинуть его беглым взглядом. Однако, когда в дверях появился инспектор в синей форме, сонная пелена с ее глаз спала.
– Если вы по поводу того пакета, – сказала она, – так я его уже отослала.
– Пакета? – повторил Валантэн; теперь настала его очередь проявить любопытство.
– Ну, того пакета, который оставил джентльмен… Джентльмен-священник.
– Ради всего святого, – весь подавшись вперед, воскликнул Валантэн, впервые проявляя настоящее волнение, – ради всего святого, расскажите подробно, что произошло!
– Ну… – неуверенно начала женщина. – Зашли ко мне два священника, где-то с полчаса назад, купили мятных леденцов, поговорили немного… Ну а потом вышли и пошли в сторону Хампстедхит, но через секунду один из них снова забегает ко мне и говорит, забыл я, мол, тут пакет. Ну, я посмотрела кругом, никакого пакета не нашла. Он тогда и говорит: «Ничего страшного, но если найдется, пошлите его, пожалуйста, по такому-то адресу». Называет мне адрес и дает шиллинг за хлопоты. А потом я, хоть и думала, что везде смотрела, нашла-таки его пакет, в коричневую бумагу завернутый, ну и послала по тому адресу, что он оставил. Адреса я сейчас не вспомню, но это где-то в Вестминстере. Дело-то вроде как важное, вот я и подумала, что за ним полиция пришла.
– Пришла, – коротко согласился Валантэн. – Хампстед-хит далеко отсюда?
– Прямо по улице – пятнадцать минут, – сказала женщина, – и выйдете прямиком в парк.
Валантэн выскочил из магазина и побежал. Его спутники неохотно припустили трусцой следом за ним.
Улица, по которой они бежали, была узкой и темной, поэтому, неожиданно оказавшись под открытым бескрайним небом, они с удивлением обнаружили, что было еще достаточно светло. Идеальный сине-зеленый, как павлинье перо, купол опускался, отсвечивая позолотой, на темнеющие деревья и чернильные дали. Прозрачные зеленые сумерки сгустились как раз настолько, что позволяли заметить на небе кристаллики первых звезд. Остатки дневного света собрались в золотистое свечение по краю Хампстеда и в той популярной среди лондонцев низины, которая зовется Юдолью здоровья. Отдыхающие, которых всегда полно в этом месте, еще не все разошлись; несколько пар все еще темнели на скамейках бесформенными очертаниями; с далеких невидимых каруселей доносились радостные крики девушек. Величие небес сгущалось в сумерки и окутывало тьмой надменную человеческую пошлость. Стоя на краю склона и окидывая взглядом долину, Валантэн узрел то, что искал.
В этой бескрайней дали среди черных расстающихся пар была одна, особенно черная, которая не расставалась… Пара в церковных одеждах. Хоть они и казались не больше муравьев, Валантэн сумел рассмотреть, что один из них был значительно ниже другого. Несмотря на то что второй сутулился, как ученый человек, проведший жизнь за книгами, и поведение его совершенно ничем не привлекало к себе внимания, сыщик определил, что рост его значительно выше шести футов. Сжав челюсти, Валантэн двинулся вперед, нетерпеливо поигрывая тростью. Когда расстояние между ними заметно сократилось и черные фигуры увеличились, будто в огромном микроскопе, он увидел нечто такое, что удивило его, хотя и не оказалось для него полной неожиданностью. Кем бы ни был высокий священник, насчет личности низкого у него не осталось ни малейшего сомнения. Это был его попутчик по хариджскому поезду, неуклюжий маленький кюре из Эссекса, которому он советовал не распространяться о содержимом его коричневых бумажных пакетов.
Итак, наконец-то все сложилось в более-менее понятную картину. Утром, когда Валантэн наводил справки, он узнал, что некий отец Браун из Эссекса везет на конгресс серебряный крест с сапфирами, очень ценную реликвию, чтобы показать его кому-то из заграничных коллег. Несомненно, это и есть «что-то из чистого серебра с голубыми камнями», а отец Браун – это, несомненно, и есть маленький наивный разиня, который ехал с ним в одном вагоне. Нет ничего удивительного в том, что то, что узнал Валантэн, сумел узнать и Фламбо. Фламбо узнал все. К тому же стоит ли удивляться, что Фламбо, проведав о сапфировом кресте, решил похитить его; это так же естественно, как сама естественная история. И уж точно нечего сомневаться в том, что Фламбо запросто обведет вокруг пальца такую овцу, как человек с зонтом и бумажными свертками. Он из тех людей, кого кто угодно может увести за собой на веревке хоть на Северный полюс. Такому актеру, как Фламбо, ничего не стоило, переодевшись священником, заманить его в Хампстед-хит. Пока что преступный замысел был как будто понятен, и если священник своей беспомощностью вызвал у Валантэна лишь жалость, то к Фламбо, который опустился до обмана такой доверчивой жертвы, сыщик теперь испытывал чуть ли не презрение. Однако когда Валантэн подумал обо всем, что случилось за этот день, обо всем, что привело его к триумфу, он понял, что ему еще предстоит поломать голову, дабы понять, что все это значит и какой в этом смысл. Зачем для похищения серебряного с сапфирами креста понадобилось выливать бульон на стену в ресторане? Какой смысл называть орехи апельсинами или сначала платить за окна, а потом разбивать их? Поиски-то он довел до конца, но каким-то образом пропустил середину. Когда ему случалось попасть впросак (что происходило достаточно редко), это обычно означало, что он имел в руках улики, указывающие на преступника, но самого преступника упускал. Сейчас же он был готов схватить преступника, но улик так до сих пор и не получил.
Фигуры, которые они преследовали, ползли, как две черные мухи, по огромному зеленому склону холма. Они явно были увлечены разговором и, возможно, не задумывались о том, куда их несут ноги, но ноги несли их на холмы Хампстед-хит, где людей не было и было намного тише. Преследователям, следующим за ними по пятам, пришлось как каким-нибудь охотникам на оленей прятаться за деревьями, припадать к земле за кустами и даже ползать в высокой траве. Столь неудобный способ передвижения тем не менее позволил охотникам подойти к дичи настолько близко, что они смогли услышать тихое журчание беседы. Однако слов было не разобрать, отчетливо слышалось лишь одно слово – «разум», которое снова и снова повторялось высоким, почти детским голосом. Один раз на краю обрыва, среди густых и беспорядочных зарослей сыщики потеряли из виду две темные фигуры. Следующие десять минут прошли в агонии поисков, но когда следы снова были найдены, они вывели их к подножию огромного холма, который нависал над залитым светом заходящего солнца пустынным естественным амфитеатром. В этом величественном, но заброшенном месте под деревом стояла старенькая покосившаяся скамеечка. На нее и опустились двое увлеченных серьезным разговором священников. Темнеющий горизонт все еще восхитительно отливал зеленью и золотом, но небесный купол теперь постепенно утрачивал павлинью зелень и все больше набирался павлиньей синевы, а звезды все больше и больше походили на сверкающие бриллианты. Молча делая руками знаки своим помощникам, Валантэн каким-то образом исхитрился подползти к большому ветвистому дереву. Заняв позицию за его стволом, затаив дыхание, он прислушался и впервые смог разобрать разговор странных священников.
После полутора минут подслушивания его охватило жуткое сомнение. Может статься, что он затащил двух английских полицейских на просторы ночного парка ради затеи, в которой смысла было не больше, чем в поисках фиг на ветках чертополоха, заросли которого темнели не так далеко. Дело в том, что священники разговаривали так, как и полагается священникам: благочестиво, учено и степенно; обсуждали они бесплотные загадки богословия. Маленький эссекский священник говорил просто и спокойно, подняв круглое лицо к разгорающимся звездам, его спутник отвечал, склонив голову, словно был недостоин на них смотреть. Но более богословской беседы нельзя было услышать ни в белой итальянской церкви, ни в черном испанском соборе.
Первое, что услышал Валантэн, было окончанием замечания отца Брауна, которое звучало так:
– …что они на самом деле имели в виду в Средние века, говоря о непорочности высших сил.
Высокий священник кивнул и сказал:
– Да, эти современные язычники обращаются к их разуму, но разве может кто-то смотреть на эти миллионы вселенных и не чувствовать, что там наверху могут существовать и такие удивительные миры, в которых разум совершенно неразумен?
– Нет, – ответил другой священник, – разум всегда разумен, даже в самых дальних закоулках лимба и на затерянных границах материального мира. Я знаю, люди ставят в укор Церкви, что она якобы преуменьшает значение разума, но на самом деле все обстоит как раз наоборот. На земле лишь Церковь ставит разум превыше всего остального. На земле лишь Церковь утверждает, что сам Бог ограничен рамками разума.
Его собеседник поднял строгое лицо к звездному небу и произнес:
– Но кто знает, быть может, в этой безграничной вселенной…
– Безграничной только физически! – с большим чувством возразил маленький священник, резко повернувшись к собеседнику. – Не безграничной в смысле отступления от законов истины.
За деревом Валантэн в молчаливой ярости впился ногтями в кору ствола. Ему уже слышались смешки английских сыщиков, которых он, доверившись своему чутью, завел так далеко только ради того, чтобы послушать метафизические рассуждения двух тихих служителей Церкви. В нетерпении он выслушал не менее вдохновенный ответ высокого священника, а когда снова начал прислушиваться, опять говорил отец Браун.
– Разум и справедливость царят и на самой дальней и одинокой звезде. Взгляните на эти звезды. Разве они не похожи на алмазы и сапфиры? Вы можете представить любые, самые безумные ботанические или геологические формы. Каменные леса с бриллиантовыми листьями, луну в виде циклопических размеров сапфира… Но не думайте, что подобная безумная астрономия может иметь хотя бы малейшее значение для разума и чувства справедливости. На опаловых равнинах, под утесами из жемчуга на доске объявлений все равно будет начертано: «Не укради».
Валантэн, сраженный первой по-настоящему большой глупостью, совершенной в своей жизни, как раз поднимался, чтобы как можно незаметнее и быстрее удалиться, но что-то в молчании высокого священника заставило его остановиться, чтобы дождаться его ответа. Когда тот наконец заговорил, голова его была низко наклонена, руки лежали на коленях. Он просто произнес:
– Что ж, возможно, иные миры выше нашего разума. Загадка небес непостижима, и я могу лишь склонить перед ней голову. – А потом, все так же не поднимая головы и не меняя интонации, он добавил: – Просто отдайте мне сапфировый крест. Здесь мы совершенно одни, и я могу разорвать вас на куски, как соломенную куклу.
Совершенно не изменившийся голос и полное спокойствие заставили эти неожиданные слова прозвучать особенно зловеще. Но маленький хранитель реликвии всего лишь повернул голову на какую-то долю градуса. Его простодушное лицо было все так же обращено к звездам. Возможно, он просто не понял. Или понял и окаменел от страха.
– Да, – сказал высокий священник все тем же тихим голосом и не шевелясь, – да, я – Фламбо. – Потом, немного помолчав, произнес: – Так что, отдадите крест?
– Нет. – Односложный ответ прозвучал как-то странно.
Совершенно неожиданно Фламбо сбросил с себя маску скромного служителя Церкви. Великий грабитель запрокинул голову и захохотал. Смеялся он негромко, но долго.
– Нет! – воскликнул он. – Вы, горделивый прелат, не отдадите мне его. Вы, мелкий простофиля в сутане, мне его не отдадите. А сказать вам почему? Потому что он уже лежит у меня за пазухой.
Человечек повернул к нему показавшееся в сумерках застывшим лицо и неуверенным голосом личного секретаря, робеющего перед грозным шефом, произнес:
– Вы… уверены в этом?
Фламбо взвыл от удовольствия.
– Честное слово, вы – интереснейший человек! Наблюдать за вами – одно удовольствие, все равно что смотреть трехактный фарс, – голосил он. – Да, болван вы эдакий, я в этом совершенно уверен. Мне хватило ума приготовить фальшивку, и теперь, друг мой, у вас – подделка, а у меня настоящий крест. Это старый трюк, отец Браун… Очень старый.
– Да-да, – промямлил отец Браун и с трудноопределимым выражением лица пригладил рукой волосы. – Да, я слышал о нем.
Гений преступного мира с неожиданным любопытством чуть подался вперед и пристально всмотрелся в маленького деревенского священника.
– Слышали? – спросил он. – От кого?
– Я не имею права назвать вам его имя, – бесхитростно сказал человечек. – Тайна исповеди, понимаете? Но этот человек двадцать лет жил в полном достатке, зарабатывая подделыванием бумажных свертков и пакетов. И, видите ли, когда я начал подозревать вас, мне сразу вспомнился этот несчастный.
– Начали меня подозревать? – повторил преступник, и в его голосе послышались напряженные нотки. – Неужто вам хватило сообразительности что-то заподозрить, когда я завел вас в это пустынное место?
– Нет-нет, – извиняющимся тоном заверил его Браун. – Видите ли, я начал подозревать вас, как только мы встретились. Все дело в небольшой выпуклости на рукаве, там, где вы носите браслет на шипах.
– Дьявол! – вскричал Фламбо. – Откуда вам известно про браслеты на шипах?
– От паствы! – простодушно ответил отец Браун и несколько удивленно приподнял брови. – Когда я служил куратором в Хартлпуле, у меня было трое прихожан, которые носили такие приспособления. Поэтому, конечно же, когда у меня с самого начала возникли подозрения, я сделал все, чтобы с крестом ничего не случилось. Извините, но, боюсь, что я наблюдал за вами. Поэтому когда вы наконец подменили пакет, я это заметил и подменил его снова. Потом нужный пакет я отправил в надежное место.
– В надежное место? – повторил Фламбо, и в его голосе впервые не было слышно ликования.
– Вот что я сделал, – все так же невозмутимо продолжал маленький священник. – Я вернулся в ту кондитерскую, сказал, что забыл там пакет, и оставил адрес, куда его отослать, если он отыщется. Я-то знал, что на самом деле ничего там не забывал, но, перед тем как уйти, специально оставил его, чтобы за мной не мчались с этим ценным предметом, а отослали его моему другу в Вестминстер. – Потом, сокрушенно вздохнув, он добавил: – Этому я тоже научился у того несчастного в Хартлпуле. Он так делал с сумками, которые воровал на вокзалах. Но сейчас он в монастыре. Понимаете, я же священник, я не могу иначе, – добавил он и виновато потер лоб. – Люди рассказывают мне разные вещи.
Фламбо выхватил из внутреннего кармана завернутый в коричневую бумагу пакет и изорвал его в клочья. Внутри не оказалось ничего, кроме бумаги и пары свинцовых слитков. Он вскочил и возвысился над маленьким священником во весь свой огромный рост.
– Я не верю вам! – завопил он. – Не верю я, что такой неотесанный тюфяк мог это провернуть! Нет, я думаю, эта штука все еще у вас, и если вы мне ее не отдадите… Черт побери, вокруг никого нет! Если не отдадите – я заберу ее силой!
– Нет, – просто произнес отец Браун и тоже встал. – Вы не заберете ее силой. Во-первых, потому что у меня ее уже на самом деле нет. И, во-вторых, потому что мы не одни.
Фламбо, который уже двинулся на священника, замер.
– За этим деревом, – указал отец Браун, – двое сильных полицейских и величайший в мире сыщик. Как они сюда попали, спросите вы? Разумеется, это я их сюда привел. Каким образом? Если хотите, могу рассказать. Благослови Господи, работая с преступниками, волей-неволей приходится узнавать такие вещи! Понимаете, я не был полностью уверен, что вы – вор, и меньше всего мне хотелось поднимать шум вокруг ни в чем не повинного служителя Церкви. Поэтому я просто устроил вам проверку: вдруг бы вы себя чем-то выдали? Человек, как правило, возмущается и устраивает небольшую сцену, если вместо сахара в его кофе оказывается соль. Если этого не происходит, следовательно, у него есть причины не привлекать к себе внимания. Я подменил сахар солью, но вы не стали поднимать шум. Человек, как правило, возражает, когда ему дают тройной счет, и если он его оплачивает, это говорит о том, что у него есть повод вести себя так, чтобы на него никто не обращал внимания. Я изменил ваш счет, и вы его оплатили.
Казалось, мир вокруг двух облаченных в сутаны мужчин замер в ожидании тигриного прыжка Фламбо, но он стоял, словно околдованный, и молча, с глубочайшим интересом внимал словам отца Брауна.
– Поэтому, – продолжал маленький сельский священник, – поскольку вы следов для полиции не оставляли, кто-то же должен был это сделать. Во всех местах, куда мы заходили, я делал что-нибудь такое, из-за чего нас потом вспоминали бы там весь день. Большого вреда я не принес – так, пятно на стене, рассыпанные яблоки, разбитое окно, – но крест был спасен, поскольку святой крест всегда будет спасен. Сейчас он уже в Вестминстере. Я, признаться, даже удивлен, что вы не додумались до ослиного свистка.
– Что-что? – не понял Фламбо.
– О, как хорошо, вы не знаете, что это такое! – обрадовался священник. – Это плохая штука. Я уверен, вы – слишком порядочный человек для свистуна. Против свистка я был бы бессилен, даже если бы сам пустил в ход кляксы, – у меня слишком слабые ноги.
– Что вы несете?! – воскликнул его собеседник.
– Я думал, уж про кляксы-то вы знаете! – приятно удивился отец Браун. – Значит, вы еще не совсем испорчены.
– А сами-то вы, черт подери, откуда знаете про всю эту гадость? – вскричал Фламбо.
Тень улыбки скользнула по круглому простоватому лицу церковника.
– Наверное, потому что я – простофиля в сутане, – сказал он. – Неужели вам никогда не приходило в голову, что человек, который почти только тем и занят, что выслушивает рассказы людей об их грехах, должен прекрасно представлять себе зло, на которое способен человек? Но, если честно, не только это помогло мне убедиться, что вы – не настоящий священник.
– А что еще? – обреченно спросил вор.
– Ваши нападки на разум, – сказал отец Браун. – Так себя вести не стал бы ни один богослов.
И когда он повернулся, чтобы собрать свои пакеты, из-за погруженных во тьму деревьев вышли трое полицейских. Фламбо был натурой артистичной и знал правила игры. Сделав шаг назад, он приветствовал Валантэна глубоким поклоном.
– Не кланяйтесь мне, mon ami[16], – любезно сказал Валантэн. – Давайте вместе поклонимся тому, кто этого заслуживает.
И оба склонили головы перед маленьким деревенским священником из Эссекса, который в темноте шарил рукой по скамейке в поисках зонтика.
Таинственный сад
Аристид Валантэн, глава парижской полиции, запаздывал, и некоторые из приглашенных им на обед гостей начали прибывать раньше него. Их встречал его преданный слуга Иван – старик со шрамом на лице, почти таким же белым, как и его усы, – который неизменно сидел за небольшим столом в увешанной оружием прихожей. Усадьба Валантэна была почти так же примечательна и известна, как и его хозяин. Это старое здание с высокими стенами и большими тополями, почти нависающими над Сеной. Но изюминка (а возможно, и главное преимущество, с точки зрения полицейского) архитектуры дома заключалась в следующем: с улицы в него можно было попасть только через парадную дверь, охраняемую Иваном с целым арсеналом под рукой. Несколько дверей из дома вело в большой и густой сад, откуда во внешний мир выходов не было – его окружала высокая гладкая, неприступная стена со специальными острыми выступами наверху. Возможно, неплохой сад для человека, которого клялась убить не одна сотня преступников.
Как Иван объяснял гостям, хозяин сообщил по телефону, что задержится на десять минут. Валантэну нужно было закончить отчеты о последних казнях, дать распоряжения относительно других не менее неприятных дел, и хоть занятия эти всегда вызывали в нем отвращение, он неизменно исполнял их четко и аккуратно. Не щадя себя при розыске преступников, он всегда становился мягким и снисходительным, когда дело доходило до их наказания. Поскольку Валантэн был на голову выше всех французских и почти всех европейских сыщиков, его огромный авторитет служил благородному делу смягчения приговоров и очищению тюрем. Он считался одним из великих французских вольнодумцев-гуманистов, а единственный недостаток таких людей состоит в том, что милосердие их еще холоднее, чем справедливость.
Когда Валантэн прибыл, он был уже в черном вечернем костюме с красной розеткой. Элегантности ему добавляла темная борода с пробивающейся сединой. Он прошел прямиком в свой кабинет, который находился в глубине дома и имел отдельный выход во двор. Дверь в сад была открыта. Тщательно заперев служебный саквояж в сейфе, Валантэн несколько секунд постоял перед открытой дверью, глядя на сад. Яркая луна сражалась с лоскутами и клочьями облаков, которые гонял по небу усиливающийся ветер, и Валантэн смотрел на них с необычным для человека такого научного склада ума томлением. Может быть, люди такого научного склада ума наделены способностью каким-то образом предчувствовать самое большое в жизни испытание, которое готово свалиться им на голову? Как бы то ни было, очень скоро он стряхнул с себя начавшее было охватывать его мистическое настроение, поскольку знал, что опоздал и почти все гости уже собрались. Когда он вошел в гостиную, ему хватило одного взгляда, чтобы понять: главный гость еще не прибыл. Хотя остальные опоры небольшого раута уже собрались: он увидел лорда Галлоуэя, английского посла (желчного старика с лицом красным, как яблоко, и голубой лентой ордена Подвязки). Он увидел леди Галлоуэй, тощую и сухую, с седыми волосами, чувствительным и высокомерным лицом. Он увидел ее дочь, леди Маргарет Грэм, молодую привлекательную особу с чистым торжественным лицом и медно-золотистыми волосами. Он увидел герцогиню Мон Сен Мишель, черноглазую и пышную, а рядом с ней – двух ее дочерей, таких же черноглазых и пышных. Он увидел доктора Симона, типичного французского ученого, в пенсне, с коричневой бородкой клинышком и лбом, изборожденным теми параллельными морщинами, которые возникают в наказание за надменность, поскольку появляются от частого поднимания бровей. Увидел он и отца Брауна из эссекского Кобхоула, с которым недавно познакомился в Англии. Впрочем, возможно, с самым большим интересом он посмотрел на высокого мужчину в военной форме, который поклонился Галлоуэям, но не удостоился сколько-нибудь приветливого ответа и теперь направлялся к хозяину засвидетельствовать почтение. Это был майор О’Брайен из французского Иностранного легиона, подтянутый, но несколько развязный мужчина, чисто выбритый, темноволосый и голубоглазый. Как подобает офицеру этого славного полка, знаменитого своими победоносными поражениями и успешными самоубийствами, вид у него был одновременно блестящий и унылый. Происходил он из благородной ирландской семьи и в молодости был знаком с Галлоуэями, особенно с Маргарет Грэм, но, наделав долгов, покинул родину и теперь выражал полную свободу от британской чопорности, слоняясь по комнате в форме при сабле и шпорах. Когда он поклонился семейству посла, лорд и леди Галлоуэй лишь сухо кивнули, а леди Маргарет отвернулась.
Однако какими бы ни были взаимоотношения этих людей, их славного хозяина они мало занимали. Никто в его глазах не был главным гостем вечера. Валантэн по какой-то известной ему одному причине с наибольшим нетерпением ждал прибытия еще одного гостя, человека всемирно известного, человека, с которым он свел близкое знакомство в Соединенных Штатах. Он ожидал Джулиуса К. Брейна, мультимиллионера, чьи колоссальные, порой ошеломляющие пожертвования небольшим религиозным общинам столько раз служили поводом для легкой иронии и еще более легкого пиетета американских и английских газет. Никто не мог понять, кем был мистер Брейн, – атеистом, мормоном или приверженцем научного христианства, но он с готовностью снабжал деньгами любое средоточие мысли, лишь бы в нем было что-то новое. Одним из его любимых занятий было ожидание появления американского Шекспира. Впрочем, на это занятие тратилось больше выдержки, чем труда. Он искренне восхищался Уолтом Уитменом, но полагал, что Люк П. Таннер из пенсильванского Парижа более «прогрессивен». Он любил все, что казалось ему «прогрессивным». Валантэна он считал «прогрессивным» и не мог быть более несправедливым в своей оценке.
Появление в комнате такой фигуры, как Джулиус К. Брейн, было событием столь же значительным, как звонок к обеду. Он обладал тем редким качеством, которым мало кто из нас может похвастаться: его присутствие было таким же важным, как и его отсутствие. Этот огромного роста толстяк (полнота его поражала не меньше, чем рост) был одет во все черное. Он не носил даже часовой цепочки или перстня, которые могли бы оживить черноту фрака. Его седые волосы на немецкий манер были гладко зачесаны назад. Красное, энергичное и одухотворенное лицо миллионера могло бы показаться детским, если бы не эспаньолка, которая придавала ему вид театральный, даже мефистофельский. Однако недолго собравшиеся в салоне созерцали знаменитого американца, его непунктуальность давно уже стала привычной, поэтому высокого гостя сразу же направили в столовую в сопровождении леди Галлоуэй.
В целом чета Галлоуэев держалась благодушно и открыто, но у них имелся повод и для беспокойства. Когда леди Маргарет не взяла под руку этого проходимца О’Брайена, а благопристойно вошла в столовую с доктором Симоном, отец ее облегченно вздохнул. И все же старый лорд Галлоуэй чувствовал себя не в своей тарелке, а порой едва не срывался на грубость. Во время обеда выдержка не изменяла ему, но, когда после сигар трое молодых мужчин (доктор Симон, священник Браун и этот ужасный О’Брайен, изгой в иностранной форме) исчезли, чтобы поговорить с леди или покурить в оранжерее, английский дипломат совершенно утратил дипломатичность. Каждые шестьдесят секунд его пронзала мысль о том, что проходимец О’Брайен каким-то образом подает Маргарет знаки. Он даже не пытался представить себе какие. За кофе его оставили с Брейном, седовласым янки, который верил всем религиям, и Валантэном, седоватым французом, который не верил ни одной. Они могли спорить друг с другом, но ни тот, ни другой не видели в нем сторонника. Через какое-то время, когда их «прогрессивный» спор перерос в скучные словопрения, лорд Галлоуэй тоже встал и вышел из столовой, намереваясь направиться в гостиную, однако по дороге сбился с пути и минут пять-шесть бродил по длинным коридорам, пока не услышал наконец высокий наставнический голос доктора, потом приглушенный голос священника и взрыв всеобщего смеха. «Наверное, тоже спорят о науке и религии», – со злостью подумал лорд. Однако, едва открыв дверь в салон, он увидел лишь одно – то, чего там не было. Он увидел, что в салоне нет майора О’Брайена и леди Маргарет.
Выйдя из гостиной с тем же нетерпеливым волнением, с каким покинул столовую, лорд Галлоуэй снова прошел по коридору. Желание защитить дочь от этого ирландско-алжирского кривляки стало для него назойливой, даже болезненно-навязчивой идеей. Оказавшись в глубине дома, рядом с кабинетом Валантэна, он удивился, встретив дочь, которая быстро прошла мимо него с бледным лицом и насмешливой улыбкой. Новая загадка! Если она была с О’Брайеном, где сам О’Брайен? Если она была не с О’Брайеном, то где она была? Снедаемый страстным стариковским подозрением, лорд, держась за стену, на ощупь двинулся дальше, в глубину дома, где свет не горел и царил мрак. Наконец он нашел коридор, ведущий в сад. Ятаган луны уже изрубил и разогнал по небу остатки облаков. Сад был освещен призрачным сиянием. Высокая фигура в синем быстро шагала через лужайку к двери в кабинет, и серебристый отсвет на отделке мундира обличил майора О’Брайена.
Он скрылся в доме через стеклянную дверь, оставив лорда Галлоуэя в неописуемой ярости и в то же время неопределенности. Изумрудно-синий сад, похожий на театральную декорацию, словно улыбался ему с той безжалостной нежностью, с которой его мирская власть находилась в состоянии войны. Длина и грациозность шагов ирландца взбесили лорда, будто он был не отцом, а соперником; свет луны сводил его с ума. Словно по волшебству, он попал в сад трубадуров, в сказочную страну Ватто, и, решив, что разговор поможет отделаться от чар всей этой любовной глупости, устремился вслед за врагом. По пути он зацепился ногой за какую-то ветку или камень в траве, раздраженно посмотрел вниз, потом посмотрел еще раз, внимательнее, и в следующий миг луна и высокие тополя увидели необычную картину: престарелый английский дипломат, словно обезумев, со всех ног помчался к дому, оглашая сад отчаянными криками.
На его хриплые вопли из двери кабинета выглянуло бледное лицо. Поблескивающие стекла пенсне, обеспокоенно сдвинутые брови – это был доктор Симон. Он и услышал первые членораздельные слова аристократа. Лорд Галлоуэй кричал:
– Труп! В саду труп! В траве!.. Окровавленный!
Наконец-то О’Брайен полностью вышел у него из головы.
– Нужно немедленно сообщить Валантэну, – сказал доктор, когда старик сбивчиво и задыхаясь описал ему все, что осмелился осмотреть в саду. – Какое счастье, что он здесь. – И как только он это произнес, в кабинет вошел сам великий сыщик, привлеченный шумом. Было даже интересно наблюдать за его преображением. Вошел он с видом хозяина и джентльмена, обеспокоенного мыслью о том, что кому-то из гостей или слуг стало плохо. Но узнав о случившемся, сделался серьезен и инициативен. Что поделать, как бы страшно и грустно это ни звучало, иметь дело с окровавленными трупами было его работой.
– Однако странно, господа, – сказал он, когда они устремились в сад. – Я по всему миру выискиваю загадки, а сейчас обнаруживаю одну из них в своем собственном дворе. Но где это место?
По лужайке они пошли уже не так быстро, поскольку с реки начал подниматься легкий туман, но под руководством потрясенного Галлоуэя вскоре нашли в высокой траве тело… Тело очень плотного и высокого широкоплечего мужчины. Человек лежал ничком, и они могли лишь рассмотреть, что широкая фигура его облачена в черное и что у него большая, почти лысая голова, лишь несколько клочков каштановых волос приклеились к голому черепу, как мокрые пучки морских водорослей. Алая струйка крови змейкой вытекала из-под его лица.
– По крайней мере, – значительно протянул Симон, – он не из нашей компании.
– Осмотрите его, доктор! – довольно резко воскликнул Валантэн. – Может быть, он еще жив.
Доктор склонился над трупом.
– Тело еще не остыло, но, боюсь, он мертв, – констатировал он. – Ну-ка, помогите мне повернуть его.
Они осторожно приподняли тело на дюйм, и подозрение доктора подтвердилось самым однозначным и страшным образом. Голова трупа отпала. Она была полностью отделена от тела: тот, кто перерезал ему горло, сумел перерубить и шейные позвонки. Даже Валантэн был потрясен.
– Для этого нужна сила гориллы, – пробормотал он.
Не без содрогания, хоть и привычный к анатомическим исследованиям, доктор Симон поднял голову. На шее и челюсти имелось несколько порезов, но в целом лицо почти не пострадало. Это было желтое лицо, крупное и худое, с орлиным носом и тяжелыми веками – лицо развращенного римского императора с, возможно, отдаленным сходством с императором китайским. Похоже, никому из присутствующих оно не было знакомо. Больше о трупе нельзя было сказать ничего примечательного, кроме того, что, когда его подняли, на земле осталась окровавленная белая манишка. Как верно заметил доктор Симон, этот человек был не из их компании, но вполне вероятно, собирался к ней присоединиться, поскольку явно был одет для такого случая.
Валантэн опустился на четвереньки и с профессиональной дотошностью осмотрел траву и землю в радиусе двадцати шагов от тела. Доктор, хоть и не так умело, и английский лорд, совсем уж вяло, помогли ему в этом. Однако ползая в траве, они почти ничего не обнаружили, кроме нескольких веточек, поломанных или порубленных на очень мелкие кусочки, которые Валантэн поднял и после секундного осмотра отбросил в сторону.
– Ветки, – мрачно произнес он. – Ветки и неизвестный человек с отрубленной головой – это все, что есть на этом лугу.
Наступила почти зловещая тишина, но тут окончательно лишившийся присутствия духа Галлоуэй закричал пронзительным голосом:
– Что это? Там, возле стены, там кто-то есть!
Маленькая фигура с несуразно большой головой, покачиваясь, медленно приближалась к ним сквозь подсвеченную луной туманную дымку. На короткий миг она показалась им похожей на какого-то духа природы, но это оказался всего лишь безобидный маленький священник, которого они оставили в гостиной.
– Надо же! – со смиренным видом произнес он. – А в саду нет ни одной калитки.
Черные брови Валантэна недовольно сошлись над переносицей, что при виде сутаны случалось с ним постоянно. Но он был достаточно справедливым человеком, чтобы отрицать важность этого замечания в данных обстоятельствах.
– Вы правы, – сказал он. – Прежде чем выяснить, что тут произошло, нам придется понять, как этот человек сюда попал. Послушайте, господа. Если вы не посчитаете это несовместимым с моим положением и долгом, я думаю, все мы согласимся, что совершенно незачем впутывать в это дело определенных высокопоставленных лиц. В доме есть дамы, есть известные люди, иностранный посол. Раз уж мы имеем дело с преступлением, то и отнестись к нему нужно соответственно. До того как начнется официальное расследование, я волен поступать так, как считаю нужным. Я – начальник полиции, лицо настолько официальное, что могу позволить себе действовать частным образом. Сначала я сам проверю всех своих личных гостей, а уж потом вызову людей из управления, чтобы искать кого-то постороннего. Господа, взываю к вашей чести. До завтра вы все должны остаться здесь. Спален на всех хватит. Симон, думаю, вы знаете, где найти моего слугу Ивана, – он в прихожей. Это надежный человек; скажите ему, чтобы он кого-нибудь оставил вместо себя и срочно шел ко мне. Лорд Галлоуэй, я уверен, вы сумеете сообщить леди, что произошло, но так, чтобы не вызвать паники. Им тоже придется задержаться. Мы с отцом Брауном пока остаемся у тела.
Голос начальника, заговоривший в Валантэне, подействовал на всех, как звук охотничьего рожка на собак. Все тут же бросились исполнять его поручения. Доктор Симон направился прямиком в арсенал и вызвал Ивана, частного сыщика на службе у сыщика официального. Галлоуэй прошел в гостиную и поведал леди страшную новость достаточно тактично, так что, когда компания вновь была в сборе, всех уже успели привести в чувство. Тем временем добрый священник и добрый безбожник молча и неподвижно стояли в лунном свете над головой и телом мертвеца, словно статуи, олицетворяющие два различных взгляда на смерть.
Иван, надежный человек со шрамом и усами, вылетел из дома, как пушечное ядро, и бросился через лужайку, как верный пес, к хозяину. Лицо его так и сияло от того, что детективная история разыгралась прямо у них в доме. То нетерпение, с которым он попросил у хозяина разрешения осмотреть труп, могло даже показаться неприятным.
– Да, смотрите, если хотите, – сказал Валантэн, – только недолго. Нужно занести его в дом и заняться делом.
Иван поднял голову и чуть не выронил ее.
– О Боже, – задохнулся он, – это же… Нет, не он. Не может быть. Вы знаете, кто это, сударь?
– Нет, – безразлично произнес Валантэн. – Берите его под руки.
Вдвоем они занесли труп в дом и положили на диван, после чего направились в гостиную.
Сыщик занял место за письменным столом. Он был спокоен, даже умиротворен, только взгляд у него сделался стальным, как у судьи. Он стал что-то быстро писать на бумаге, потом, не поднимая глаз, коротко спросил:
– Все здесь?
– Нет мистера Брейна, – сказала герцогиня Мон Сен Мишель, посмотрев по сторонам.
– Да, – хриплым голосом резко добавил лорд Галлоуэй. – Мистера Нила О’Брайена, я вижу, тоже нет. Я видел этого господина в саду, когда труп был еще теплым.
– Иван, – сказал сыщик, – сходите за майором О’Брайеном и мистером Брейном. Мистер Брейн, должно быть, в столовой докуривает сигару, а майор О’Брайен, скорее всего, в оранжерее, ходит туда-сюда. Если нет – поищите его.
Преданный слуга бросился из комнаты, и, прежде чем кто-нибудь успел пошевелиться или сказать хоть слово, Валантэн продолжил с той же военной четкостью и сухостью:
– Все собравшиеся знают, что в саду обнаружен труп с отрубленной головой. Доктор Симон, вы осматривали тело. Как вы считаете, нужно ли обладать большой силой, чтобы так перерезать горло? Или достаточно иметь очень острый нож?
– Я бы сказал, что ножом так голову не отрежешь, – ответил бледный доктор.
– Можете ли вы предположить, – продолжил Валантэн, – каким инструментом это можно сделать?
– Честно говоря, не могу, – сказал доктор, мученически складывая брови. – Шею перерезать очень непросто, даже если орудовать слишком грубо, а там абсолютно ровный разрез. Современным оружием такого и не сделаешь. Тут понадобился бы боевой топор или топор палача… Может, двуручный меч.
– Боже мой! – истерично вскричала герцогиня. – Но откуда тут взяться двуручным мечам и боевым топорам?
Валантэн все так же не поднимал глаз от письма.
– Скажите, – сказал он, продолжая торопливо писать. – Можно ли это сделать длинной французской кавалерийской саблей?
В дверь тихо постучали, и этот негромкий звук каким-то образом заставил всех похолодеть от ужаса, как стук в «Макбете». В наступившей гробовой тишине доктор Симон сумел выдавить из себя:
– Саблей… да, думаю, можно.
– Спасибо, – сказал Валантэн. – Входите, Иван.
Надежный Иван открыл дверь и впустил майора О’Брайена, который в конце концов отыскался в саду.
Ирландский офицер остановился у порога и обвел несколько растерянным взглядом собравшихся.
– Зачем я вам понадобился?! – довольно дерзко воскликнул он.
– Прошу вас, присядьте, – голосом спокойным и вежливым произнес Валантэн. – А почему вы без сабли? Где она?
– В библиотеке оставил, на столе, – волнение заметно усилило грубоватый акцент ирландца. – Мешала она мне, вот я и…
– Иван, – перебил его Валантэн, – сходите, пожалуйста, в библиотеку и принесите саблю майора. – Когда слуга исчез, он снова обратился к военному: – Лорд Галлоуэй утверждает, что видел, как вы уходили из сада, перед тем как обнаружил труп. Что вы делали в саду?
Майор плюхнулся на стул.
– Оу! – воскликнул он совсем уж по-ирландски. – На луну глядел, матушкой-природой любовался.
Слова его растаяли в тяжелой тишине, которая вновь оборвалась жутким стуком. Опять появился Иван с пустыми ножнами в руках.
– Вот. Все, что нашел, – сказал он.
– Положите на стол, – приказал Валантэн, не поднимая глаз.
И снова в комнате наступила мертвая тишина, подобная той безбрежной мертвой тишине, которая окружает преступника на скамье подсудимых во время вынесения приговора. Слабые восклицания герцогини давно стихли. Безудержная ненависть лорда Галлоуэя была удовлетворена и даже начала остывать. Раздавшийся голос стал для всех неожиданностью.
– Я могу вам сказать, – громко заговорила леди Маргарет тем чистым дрожащим голосом, которым храбрые женщины разговаривают перед людьми, – что делал в саду мистер О’Брайен, потому что сам он ничего не скажет. Мистер О’Брайен делал мне предложение. Я отказала. Я сказала ему, что по семейным обстоятельствам не могу ему ответить ничем, кроме уважения. Его это немного рассердило, кажется, до уважения моего ему не было дела. Интересно, – добавила она со слабой улыбкой, – так ли безразлично оно ему сейчас? Я готова подтвердить где угодно, что он этого не делал.
Лорд Галлоуэй придвинулся к дочери и стал увещевать ее голосом, который, должно быть, представлялся ему шепотом.
– Замолчи, Мэгги, – громогласно зашипел он. – Зачем тебе защищать его? Где его сабля? Где его чертова кавалерийская…
Он не договорил, потому что вдруг увидел взгляд, которым посмотрела на него дочь. Тот огненный взгляд, который словно магнит приковал к себе внимание всех присутствующих.
– Старый дурак! – вполголоса произнесла она тоном, лишенным всякого намека на почтительность. – Что вы хотите доказать? Вы что не поняли? Этот человек не мог этого совершить, когда был рядом со мной. Даже если он виновен, мы ведь были рядом. Если он убил того человека в саду, я, по-вашему, могла этого не заметить?… Я, по-вашему, могла об этом не знать? Вы настолько ненавидите Нила, что готовы собственную дочь…
Леди Галлоуэй вскрикнула. Все остальные с замиранием сердца вдруг ощутили, что перед ними приоткрылась завеса, скрывающая дьявольские хитросплетения в скорбной судьбе двух любовников. Они увидели гордое бледное лицо шотландской аристократки и ее возлюбленного – ирландского проходимца так, словно это были лики на старинных портретах в заброшенном доме. Долгая тишина наполнилась смутными мыслями об убитых мужьях, отравленных кубках и коварных любовницах.
И в самый жуткий миг сгустившейся замогильной тишины как гром среди ясного неба прозвучал невинный голос:
– А что, сигара была очень длинной?
Вопрос был настолько не связан с тем, о чем только что говорилось, что все начали крутить головами, пытаясь понять, кто это сказал.
– Я имею в виду, – донесся из дальнего угла голос маленького священника, – я имею в виду ту сигару, которую докуривает мистер Брейн. Похоже, она длинная, как трость.
Несмотря на неуместность этого замечания, во взгляде поднявшего голову Валантэна было заметно не только раздражение, но и согласие.
– Верно, – резко произнес он. – Иван, сходите еще раз к мистеру Брейну и немедленно приведите его.
Как только за расторопным слугой закрылась дверь, Валантэн обратился к девушке изменившимся голосом.
– Леди Маргарет, – сказал он, – я уверен, все мы вам благодарны и восхищаемся тем, что вы сумели переступить через чувство собственного достоинства, чтобы объяснить поведение майора, но вопрос остается открытым. Насколько я понимаю, лорд Галлоуэй встретил вас в коридоре между кабинетом и гостиной, и прошло какое-то время, прежде чем он выглянул в сад и увидел там майора.
– Не забывайте, – ответила Маргарет с легкой иронией в голосе, – я только что ответила ему отказом, и вряд ли мы могли возвращаться в дом, взявшись за руки. Он же все-таки джентльмен, поэтому чуть-чуть задержался… И попал под обвинение в убийстве.
– Но за те несколько секунд, – рассудительно произнес Валантэн, – он вполне мог…
Снова раздался стук, и в двери появилось испуганное лицо Ивана.
– Прошу простить, – сказал он, – но мистер Брейн покинул дом.
– Покинул! – вскричал Валантэн и впервые за время разговора поднялся со стула.
– Ушел. Удрал. Испарился, – пояснил Иван, смешно подбирая французские слова. – Его шляпа и пальто тоже исчезли, но и это еще не все. Я выбежал на улицу посмотреть, может, там следы какие остались, и нашел один след. Да и не маленький.
– Объясните, – сказал Валантэн.
– Я лучше покажу. – Иван скрылся за дверью и появился вновь со сверкающей кавалерийской саблей, запачканной кровью на конце и на лезвии. Все посмотрели на оружие, словно в комнате сверкнула молния, но бывалый слуга продолжил вполне спокойно: – Я заметил ее в кустах у дороги, – сказал он, – шагах в пятидесяти от дома, как в Париж ехать. Короче говоря, там, куда ваш уважаемый мистер Брейн зашвырнул ее, когда убегал.
Вновь наступила тишина, но на этот раз иного рода. Валантэн взял саблю, осмотрел, ненадолго, но глубоко задумался, после чего повернулся к О’Брайену и с уважением произнес:
– Майор, я надеюсь, если это оружие понадобится полиции для осмотра, вы предоставите его. А пока, – добавил он, со звоном вогнав саблю в ножны, – позвольте вернуть вам вашу саблю.
Сказано и сделано это было с таким военным благородством, что присутствующие с трудом воздержались от аплодисментов.
Для самого Нила О’Брайена этот символический жест стал поворотной точкой его существования. К тому времени, когда он снова вышел в раскрашенный утренними красками таинственный сад, привычная трагическая пустота слетела с его лица, теперь это был человек, у которого было множество поводов для счастья. Лорд Галлоуэй оказался джентльменом и извинился перед ним. Леди Маргарет – больше, чем леди… по крайней мере, обычная женщина, и, когда они перед завтраком прогуливались между старых клумб, принесла ему нечто лучшее, чем извинения. Он не мог не чувствовать, что отношение всей компании к нему переменилось, стало более человечным, поскольку тень подозрения, снятая с него, улетела в Париж вслед за странным миллионером, человеком, которого они почти не знали. Дьявол изгнан из этого дома… Вернее, сбежал сам.
И все же загадка оставалась не разгаданной, и когда О’Брайен уселся на садовую скамейку рядом с доктором Симоном, этот человек науки тут же снова заговорил о ней. Однако О’Брайен в ту минуту был плохим собеседником, потому что мысли его были заняты вещами куда более приятными.
– Меня это не очень интересует, – честно признался ирландец. – Особенно сейчас, когда все, кажется, стало понятно. Очевидно, Брейн по какой-то причине ненавидел этого незнакомца. Он заманил его в сад и убил там моей саблей. Потом дал деру в город, а саблю по дороге просто выбросил, вот и все. К слову, Иван мне сказал, что в кармане убитого нашли американский доллар, так что, выходит, он был земляком Брейна, а значит, все сходится. По-моему, никаких загадок.
– В этом деле – пять огромнейших загадок, – спокойным голосом произнес доктор. – Что-то вроде внутренних тайных комнат в одной большой тайной комнате. Поймите правильно, я не сомневаюсь, что это дело рук Брейна. К тому же его бегство доказывает это. Я говорю о том, как он это сделал. Первая загадка: зачем одному человеку понадобилось убивать другого человека огромной саблей, если он мог сделать это простым ножом, который потом легко можно спрятать в карман? Вторая загадка: почему не было ни шума, ни криков? Неужели человек, видя, что к нему кто-то приближается, размахивая длинной саблей, ничего не произнес и вообще не издал ни звука? Третья загадка: у входа в дом весь вечер дежурил слуга, а сад Валантэна так защищен, что в него и мышь не проскочит. Как туда попал убитый? Четвертая загадка: опять же, как Брейну удалось покинуть дом?
– А пятая? – спросил Нил, не отрывая взгляда от английского священника, который медленно приближался к ним по дорожке.
– Ну, это мелочь, – сказал доктор, – и все же довольно странная. Когда я впервые увидел голову, мне показалось, что убийца отрубил ее несколькими ударами. Но, осмотрев ее внимательнее, я обнаружил много порезов рядом с основным разрезом. Другими словами, они появились там после того, как голова была отсечена. Неужели Брейн так люто ненавидел своего врага, что кромсал его тело в лунном свете, когда в любую секунду его могли заметить?
– Ужасно! – произнес О’Брайен и поежился.
Маленький священник, отец Браун, уже успел подойти и теперь скромно стоял поодаль, дожидаясь, пока они закончат разговор. Потом смущенно сказал:
– Прошу прощения, извините, что прерываю, но меня послали сообщить вам новость.
– Новость? – повторил Симон и боязливо посмотрел на гонца через пенсне.
– Прошу прощения, да, – тихо сказал отец Браун. – Видите ли, произошло еще одно убийство.
Оба мужчины вскочили со скамейки, чуть не опрокинув ее.
– Но самое странное то, – продолжил священник, поглядывая на рододендроны, – что оно совершено тем же отвратительным способом. Отрублена голова. Ее обнаружили в нескольких ярдах от дома рядом с дорогой, по которой Брейн должен был идти в Париж. Она лежала на берегу реки, кровь стекала в воду. Поэтому посчитали, что…
– Черт побери! – воскликнул О’Брайен. – Да что этот Брейн, маньяк, что ли?
– И в Америке знают, что такое вендетта, – бесстрастно произнес священник, а потом добавил: – Вас просят зайти в библиотеку для осмотра.
Майор О’Брайен последовал за остальными в дом, ощущая дурноту. Ему как солдату была отвратительна эта таинственная резня. И когда уже закончатся эти нелепые ампутации? Сначала отрубили одну голову, теперь вторую. Это не тот случай (про себя горько пошутил он), когда одна голова хорошо, а две лучше. Когда он проходил через кабинет, его поразило жуткое совпадение. На столе Валантэна лежало цветное изображение третьей окровавленной головы, и это была голова самого Валантэна. Присмотревшись внимательнее, майор понял, что это всего лишь обложка «Гильотины», газеты партии националистов, которая каждую неделю изображала одного из своих политических противников с закатившимися глазами и искривившимся лицом, так, как бы они выглядели сразу после казни, а Валантэн – известный противник Церкви. Но О’Брайен был ирландцем и даже когда грешил, оставался существом чистым и невинным, поэтому у него вызвала отвращение та врожденная крайняя жестокость, которая отличает французов от всех остальных наций. В этот миг он ощутил весь Париж целиком, от величественно-нелепых готических церквей до неприличных картинок в газетах. Он вспомнил вакханалию веселья Великой революции. Весь огромный город показался ему одним уродливым сгустком отвратительной энергии, от кровожадной карикатуры на столе Валантэна до той высоты, где над скопищем горгулий сам дьявол, улыбаясь, смотрит с собора Парижской Богоматери.
Библиотека оказалась вытянутой темной комнатой с низким потолком; единственный свет, который в нее проникал, шел из-под низко опущенных штор и был все еще по-утреннему розоватым. Валантэн и его слуга Иван ждали их за дальним концом длинного письменного стола с немного наклонной крышкой, на котором лежали бренные останки, в полутьме казавшиеся огромными. Большая черная фигура и желтое лицо человека, найденного в саду, выглядели почти так же, как раньше. Вторая голова, которую этим утром выловили среди камышей, лежала рядом. Вода все еще стекала с нее и собиралась в лужицы на столе. Люди Валантэна разыскивали второй труп, который, как предполагалось, должен был плавать в реке. Отец Браун, который, кажется, вовсе не был подвержен чувствительности, подошел ко второй голове и, часто моргая, внимательно ее осмотрел. Копне белых мокрых беспорядочно спутанных волос ровный красноватый утренний свет придал некоторое сходство с серебристым огненным ореолом; уродливое лиловое, возможно, даже злодейское лицо, пострадало, пока вода носила голову между камнями и корнями деревьев.
– Доброе утро, майор О’Брайен, – спокойно и приветливо поздоровался Валантэн. – Я полагаю, вы уже слышали о последнем упражнении Брейна в отрезании голов?
Отец Браун, все еще склоненный над светловолосой головой, не отрывая от нее глаз, произнес:
– Я полагаю, уже точно установлено, что именно Брейн отрезал эту голову.
– Все указывает на него, – сказал Валантэн, который стоял, засунув руки в карманы. – Способ убийства тот же. Тела нашли почти рядом. К тому же этому бедняге он отрубил голову тем оружием, которое, как мы знаем, унес с собой.
– Да-да, я знаю, – послушно согласился клирик. – И все же, знаете ли, я сомневаюсь, что эту голову мог отрезать Брейн.
– Почему же? – деловито поинтересовался доктор Симон.
– Скажите, доктор, – священник, не разгибаясь, поднял на него взгляд. – Человек может сам себе отрезать голову? Не думаю.
О’Брайену показалось, что сошедшая с ума вселенная обрушилась рядом с ним, но практичный доктор порывисто подскочил к голове на столе и откинул назад мокрые белые волосы.
– Сомнений нет, это Брейн, – спокойно констатировал священник. – У него на левом ухе была точно такая же неровность.
Сыщик, который смотрел на служителя Церкви внимательными блестящими глазами, разжал плотно стиснутые зубы и резко произнес:
– Вам, отец Браун, похоже, много чего о нем известно.
– Да, – просто ответил невысокий человечек. – Я провел рядом с ним несколько недель. Он подумывал присоединиться к нашей Церкви.
Фанатичные искорки сверкнули в глазах Валантэна. Сцепив кулаки, он одним большим шагом приблизился к священнику.
– А может быть, – с насмешливой улыбкой выкрикнул он, – может быть, он подумывал еще и о том, чтобы все свои деньги оставить вашей Церкви?
– Может быть, – ничуть не смутился Браун. – Это вполне возможно.
– В таком случае, – вскричал Валантэн, страшно улыбаясь, – вы и впрямь можете много чего о нем знать. О его образе жизни, о его…
Майор О’Брайен положил ладонь на руку Валантэна.
– Хватит нести бред, Валантэн, – сказал он. – А то в ход опять пойдут сабли.
Но Валантэн под спокойным скромным взглядом священника уже совладал с собой.
– Что ж, – коротко сказал он, – личные мнения могут и подождать. Господа, напоминаю, вы дали слово не покидать дом. Прошу вас не нарушать его… И проследить, чтобы его не нарушили другие. Если вы что-то хотите узнать, обращайтесь к Ивану, он все расскажет. Я пока займусь делом и напишу доклад начальству. Мы больше не имеем права скрывать, что произошло. Будут новости – я у себя в кабинете.
– Есть что-то такое, чего мы не знаем? – обратился к Ивану доктор Симон, когда шеф полиции широкими шагами вышел из библиотеки.
– Думаю, только одно, сударь, – ответил Иван, морща бледное старческое лицо. – Но это тоже по-своему важно. Этот старый черт, которого вы нашли на лугу… – Слуга безо всякого почтения указал на большое черное тело и желтую голову на столе. – Мы выяснили, кто это.
– В самом деле? – изумился доктор. – Кто же это?
– Звали его Арнольд Беккер, – сказал заместитель сыщика, – хотя у него было много кличек и вымышленных имен. Этот мошенник ездил из страны в страну, и в последний раз его видели в Америке, там-то, видать, чего-то они с Брейном и не поделили. Мы им особо не занимались, потому что он больше в Германии орудовал, но с немецкой полицией связь у нас, само собой, имеется. Но самое странное то, что у этого Арнольда был брат-близнец, Луи Беккер. Вот этот нам был хорошо знаком. Только вчера мы решили его гильотинировать. Вы не поверите, господа, но когда я увидел этого парня в саду на траве, у меня чуть сердце из груди не выскочило. Если бы я собственными глазами не видел, как Луи отрубили голову на гильотине, я бы решил, что это он, Луи Беккер, и есть, лежит у нас перед домом. Потом-то я, ясное дело, вспомнил о его немецком близнеце и, сопоставив одно с другим…
Увлекшийся рассказом Иван замолчал, так как вдруг заметил, что его совершенно никто не слушает. И майор, и доктор смотрели на отца Брауна, который встал и крепко прижал к вискам ладони, как человек, испытавший резкую и нестерпимую боль.
– Хватит, хватит, хватит! – закричал он. – Я так не могу! Замолчите хоть на минуту, я понимаю только половину! Господи, придай мне силы. Сумею ли я понять все это? Святые небеса, помогите мне! Когда-то я умел думать, и неплохо. Я ведь даже когда-то мог пересказать любую страницу из Фомы Аквинского. Выдержит ли моя голова… или расколется? Я понимаю только половину… Только половину.
Он уткнулся лицом в ладони и неподвижно замер, будто мысль (а может, молитва) сейчас была для него настоящей пыткой. Остальные трое ошеломленно смотрели на новую загадку, которую принесли им последние двенадцать сумасшедших часов.
Когда руки отца Брауна опустились, показавшееся лицо было свежим и серьезным. Он набрал полную грудь воздуха, выдохнул и сказал:
– Давайте покончим с этим как можно скорее. Поговорим – это самый быстрый способ донести до вас истину. – Он повернулся к доктору. – Доктор Симон, – сказал он, – у вас светлая голова, и сегодня утром я слышал, как вы перечисляли пять самых сложных вопросов, которые имеют отношение к этому делу. Если вы зададите их снова, я на них отвечу.
Доктор в сомнении и удивлении так поднял брови, что пенсне свалилось с его носа, но ответил сразу.
– Ну, первый вопрос – это, э-э-э… Зачем понадобилось совершать убийство таким неудобным орудием, как сабля, если убить человека можно каким-нибудь простым шилом?
– Шилом обезглавить человека невозможно, – хладнокровно ответил Браун, – а в данном случае это было необходимым условием.
– А почему? – поинтересовался О’Брайен, но на этот вопрос отец Браун отвечать не стал, а только сказал:
– Следующий вопрос.
– Почему этот человек не закричал и не позвал на помощь? – спросил доктор. – Человек с саблей в саду – явление все-таки не самое привычное.
– Ветки, – хмуро произнес священник и повернулся к окну, выходившему на место преступления. – Никто не понял значения веток. Как они оказались на этом газоне (взгляните), так далеко от деревьев? Их не отломали, а отрубили. Убийца занял жертву какими-то трюками с саблей, скажем, стал показывать, как он может перерубить подкинутую в воздух веточку или что-нибудь в этом роде. Потом, когда его враг нагнулся, чтобы проверить результат, молча нанес удар саблей, и голова была отрублена.
– М-да, – протянул доктор, – звучит правдоподобно. Но посмотрим, справитесь ли вы с двумя моими следующими вопросами.
Священник в ожидании серьезно смотрел в окно.
– Каким образом, если весь сад был закупорен, как воздухонепроницаемый сосуд, – продолжил доктор, – каким образом туда попал посторонний человек?
Не поворачивая головы, маленький священник ответил:
– Никакого постороннего человека в саду не было.
Комната погрузилась в молчание, но неожиданный заливистый, почти детский смех Ивана разрядил обстановку. Абсурдность замечания отца Брауна заставила старого слугу насмешливо поинтересоваться:
– Значит, не было, говорите?! – воскликнул он. – Значит, и жирного безголового здоровяка мы вчера вечером не тащили на диван? Он, выходит, и в сад не забирался?
– Нет, – задумчиво произнес Браун. – Вернее, не совсем.
– Постойте-ка! – вскричал Симон. – Но человек либо есть в саду, либо его там нет.
– Не обязательно, – священник слегка улыбнулся. – Следующий вопрос, доктор.
– Знаете что, мне кажется, вы нездоровы! – с жаром воскликнул доктор Симон. – Но, если хотите, пожалуйста, следующий вопрос: как Брейн сумел уйти из сада?
– Он не уходил из сада, – ответил священник, по-прежнему глядя в окно.
– Не уходил? – Симон уже не мог сдерживать раздражение.
– Не полностью.
Французская логика Симона не вынесла подобного надругательства, он в бешенстве потряс в воздухе кулаками.
– Человек либо уходит из сада, либо нет! – завопил он.
– Не всегда, – сказал отец Браун.
Доктор Симон порывисто вскочил.
– У меня нет времени выслушивать подобные бредни, – дрожащим от гнева голосом бросил он. – Если вы не понимаете разницы между двумя сторонами забора, мне с вами разговаривать не о чем.
– Доктор, – голос клирика прозвучал очень мягко. – Мы с вами всегда прекрасно понимали друг друга. Хотя бы ради нашей былой дружбы задержитесь, чтобы задать пятый вопрос.
Порывистый Симон опустился на стоящий у двери стул и быстро произнес:
– Голова и плечи были странным образом изрезаны. Похоже, это было сделано после смерти. Почему?
– Вот! – сказал неподвижно стоящий священник. – Это сделано нарочно, чтобы заставить вас прийти к простому ложному выводу, к которому вы и пришли. Это сделано для того, чтобы у вас не возникло сомнения, что голова эта принадлежит именно этому телу.
Та граница разума, за которой обитают все чудовища, с неимоверной скоростью выехала на передний план в гэльском сознании О’Брайена. Он вдруг почувствовал близкое присутствие мужчин-коней, женщин-рыб и всех прочих фантастических существ, которых породило необузданное человеческое воображение. Голос, более древний, чем его праотцы, как будто прошептал ему на ухо: «Не ходи в сад, где растет дерево разноплодное. Избегай нечестивого сада, где умер человек о двух головах». Однако, пока эти постыдные символические образы проносились в древнем зеркале его ирландской души, офранцуженный интеллект офицера оставался настороже. О’Брайен смотрел на странного священника не менее внимательно и недоверчиво, чем все остальные.
Отец Браун наконец повернулся, но остался у окна. Даже через густую тень, скрывающую его лицо, было видно, что оно белое как мел. Тем не менее, когда он заговорил, голос его звучал ровно и уверенно, словно никаких гэльских душ на земле не существовало.
– Господа, – сказал он, – в саду вы не находили странного тела Беккера. В саду не было странных тел. Невзирая на рационализм доктора Симона, я по-прежнему утверждаю, что Беккер присутствовал там лишь частично. Посмотрите! – Он указал на черную громадину загадочного трупа. – Вы считаете, что никогда в жизни не видели этого человека. Так ли это?
Он быстрым движением откатил лысую желтую голову незнакомца, на ее место положил голову с гривой белых волос, и все совершенно ясно увидели, что перед ними лежит не кто иной, как Джулиус К. Брейн собственной персоной.
– Убийца, – спокойно продолжил Браун, – отрубил голову своему врагу, а саблю забросил за стену. Но он был слишком умен и избавился не только от сабли, но и (таким же образом) от головы. После этого ему оставалось всего лишь приставить к телу другую голову, и все решили, что перед ними новый человек.
– Приставить другую голову! – удивился О’Брайен. – Какую другую? Головы, знаете ли, не растут в саду на кустах, не так ли?
– Да, – хрипловатым голосом, глядя себе под ноги, сказал отец Браун. – Есть только одно место, где они растут. Они растут в корзине под гильотиной, рядом с которой шеф полиции Аристид Валантэн находился менее чем за час до того, как было совершено убийство. Друзья мои, прошу вас, послушайте еще одну минуту, прежде чем разорвать меня на части. Валантэн – честный человек, если приступы бешенства при решении спорных вопросов можно назвать честностью. Но, глядя в его серые стальные глаза, вам никогда не приходило в голову, что он безумен? Он готов пойти на все, на все, чтобы разрушить то, что он называет «христианским суеверием». Ради этой цели он сражался, страдал, а теперь пошел на убийство. Сумасшедшие миллионы Брейна до сих пор расходились по многочисленным сектам, поэтому не могли нарушить общее равновесие. Но до Валантэна дошли слухи, что Брейн, как и большинство мечущихся скептиков, стал сближаться с нами, а это уже было намного серьезнее. Брейн сделал бы огромные вливания в обнищавшую, но воинственно настроенную французскую Церковь, он поддержал бы шесть таких националистических газет, как «Гильотина». Это могло перевесить чашу весов, и его битва была бы проиграна. Поэтому фанатик пошел на риск. Он решил уничтожить миллионера, и сделал это так, как можно ожидать от величайшего в мире сыщика, решившегося на единственное в своей жизни преступление. Он взял отрубленную голову Беккера, сославшись на какую-нибудь криминологическую надобность, и принес домой в служебном саквояже. Он в последний раз попытался переубедить Брейна (при этом разговоре присутствовал лорд Галлоуэй, однако окончания его он не дождался), но, когда ему это не удалось, вывел его в сад и завязал разговор об искусстве вести словесную дуэль, использовал для примера веточки и саблю и…
Иван вскочил.
– Вы с ума сошли! – завопил он. – Сейчас же идем к хозяину, и если выяснится, что вы…
– Я и сам к нему собирался, – горько вздохнул Браун. – Я должен просить его сознаться.
Пропихнув вперед несчастного отца Брауна, то ли прикрываясь им, как щитом, то ли собираясь принести его в жертву, они все вместе ворвались в неожиданно тихий кабинет Валантэна.
Великий сыщик сидел за письменным столом, очевидно, слишком поглощенный делами, чтобы услышать их шумное появление. На миг они остановились в нерешительности, но потом что-то в виде этой выпрямленной изящной спины заставило доктора броситься вперед. Оказавшись у стола, он увидел, что рядом с локтем Валантэна стоит маленькая коробочка с пилюлями, а сам Валантэн мертв, и взгляд остекленевших глаз самоубийцы исполнен непреклонностью большей, чем Катонова[17].
Грехи принца Сарадина
Когда Фламбо взял ежемесячный отпуск, чтобы отдохнуть от своей конторы в Вестминстере, он решил провести его на небольшой парусной лодке, которая была до того мала, что бóльшую часть времени шла на гребном ходу. Более того, он намеревался провести отпуск на небольших реках восточных графств, реках таких маленьких, что со стороны казалось, будто волшебная лодочка плывет через луга и поля. Больше двух человек в это суденышко не поместилось бы, да и места в нем хватало только для самого необходимого, поэтому Фламбо и заполнил его теми вещами, которыми его своеобразный разум посчитал необходимыми для подобного путешествия. Если составить их список, он ограничился бы четырьмя пунктами: консервы с лососиной – на тот случай, если ему в пути захочется есть; заряженные револьверы – на тот случай, если у него в пути возникнет желание повоевать; бутылка бренди – вероятно, на тот случай, если в пути ему доведется упасть в обморок; и священник – очевидно, на тот случай, если в пути его настигнет смерть. С этим легким грузом он и отправился потихоньку по мелким норфолкским речушкам, намереваясь добраться до озер и по дороге насладиться прелестью прибрежных садов и лугов, чудесными отражениями подступающих к самой воде особняков или деревень, останавливаясь для тихой рыбалки в прудах и заводях и, в определенном смысле, прижимаясь к берегу.
Как всякий истинный философ, Фламбо, отправляясь в путь, не ставил перед собой какой-то конкретной цели, но как всякий истинный философ, имел для этого повод. У него была своего рода «полуцель», к которой он относился достаточно серьезно, чтобы, в случае, если ему будет сопутствовать успех, она стала достойным завершением всего отпуска, но в то же время настолько легкомысленно, чтобы неудача не испортила впечатления от отдыха. Много лет назад, когда Фламбо был королем воров и самым известным человеком в Париже, он получал множество писем, в которых ему пели дифирамбы, слали проклятия и даже признавались в любви, но лишь одно из них запомнилось ему. Это была всего лишь визитная карточка в конверте с английской маркой. На обратной стороне карточки по-французски зелеными чернилами было написано: «Если вы когда-нибудь уйдете на покой и образумитесь, приезжайте. Я бы хотел с вами встретиться, потому что со всеми остальными великими современниками я уже встречался. Ваша проделка с двумя сыщиками, когда вы заставили одного арестовать другого, – лучшее, что происходило за всю историю Франции». На лицевой стороне карточки четкими буквами было напечатано: «Принц Сарадин, Рид-Хаус[18], Рид-Айленд, Норфолк».
Тогда Фламбо не стал задумываться над приглашением, выяснил только, что принц в свое время был одной из известнейших фигур светского общества Южной Италии и блистал в самых высоких кругах. Поговаривали, что в юности он сбежал с одной знатной замужней женщиной. Это не бог весть какая невидаль для тех кругов, и об этой выходке вскоре бы забыли, но дело осложнилось неожиданным и трагическим обстоятельством: последовавшим самоубийством мужа, который, судя по всему, бросился в пропасть в Сицилии. Какое-то время принц жил в Вене, но последние годы, похоже, проводил в постоянных и непрерывных путешествиях. Но когда Фламбо, как и принц, решив отдалиться от славы, покинул Европу и обосновался в Англии, ему пришло в голову, что он может как-нибудь нагрянуть с неожиданным визитом к именитому изгнаннику, живущему у Норфолкских озер. Он не имел понятия, удастся ли ему разыскать поместье принца, настолько оно было небольшим и уединенным. Но случилось так, что нашел он его намного раньше, чем ожидал.
Однажды вечером их лодка причалила к поросшему густой высокой травой берегу с низкими деревьями. Сон после напряженной работы веслами пришел к ним быстро, и, соответственно, проснулись путешественники рано, еще затемно. Вернее сказать, до того как начался день, поскольку большая лимонная луна проглядывала через лес высокой травы над их головами, а чистое фиалковое небо было хоть и ночным, но светлым. Обоим мужчинам одновременно пришли на ум воспоминания детства, этого сказочного времени, когда в лесу можно встретить настоящего эльфа, когда каждый день сулит новые приключения, а заросли тростника кажутся настоящими джунглями. Если вот так снизу вверх смотреть на ромашки на фоне большой низкой луны, они кажутся гигантскими ромашками, а одуванчики – гигантскими одуванчиками. Каким-то образом это напомнило им узоры на обоях в детской комнате.
Откос берега позволял им видеть корни кустов и трав над собой.
– Боже, – тихо произнес Фламбо. – Как в сказке. Прямо страна фей какая-то.
Отец Браун вдруг сел, выпрямив спину, и перекрестился. Движение его было таким резким, что его друг не без удивления спросил, что случилось.
– Люди, которые сочиняли средневековые баллады, – ответил священник, – знали о сказках и феях больше вас. В сказках происходят не только приятные вещи.
– Ерунда, – сказал Фламбо. – Вы посмотрите, разве может под такой луной происходить что-то плохое? Я предлагаю плыть дальше и посмотреть, что из этого выйдет. Мы можем умереть и сгнить, прежде чем еще раз увидим такую луну и почувствуем такое настроение.
– Хорошо, – согласился отец Браун. – Я не говорил, что нельзя входить в страну фей, я сказал только, что это опасно.
И они медленно поплыли по серебристой реке. Глубокий пурпур неба и бледное золото луны начали увядать и постепенно превратились в ту обесцвеченную бескрайнюю гармонию, на смену которой приходят краски рассвета. Когда первые легкие красные, золотые и серые полосы прорезали горизонт от края до края, их единообразие нарушил черный силуэт какого-то городка или деревни, наседающий на реку прямо впереди. Предрассветный полумрак уже позволял различать предметы на расстоянии, когда они доплыли до нависающих крыш и мостов этого прибрежного поселения. Дома, с их длинными низкими, горбатыми крышами, словно собрались здесь, чтобы напиться из реки, как огромные рыжие и серые коровы. Лишь когда расширившийся и просветлевший рассвет превратился в настоящий день, на пристанях и мостах этого молчаливого городка они заметили первое живое существо. Вскоре они смогли рассмотреть безмятежного цветущего мужчину с лицом круглым, как недавно скрывшаяся луна, и лучиками рыжей бороды вокруг нижнего его полукружия. Он стоял в одной рубашке, прислонясь к столбу, и смотрел на сонное течение реки. Поддавшись какому-то внутреннему побуждению (анализировать которое мы не станем), Фламбо поднялся на качающейся лодке в полный рост и крикнул мужчине, не знает ли он, где находится Рид-Айленд или Рид-Хаус. Цветущая улыбка мужчины слегка увяла, он молча указал на следующий поворот реки. Без дальнейших расспросов Фламбо поплыл дальше.
Лодка миновала несколько одинаковых травянистых поворотов, проплыла по нескольким молчаливым плесам, одинаково поросшим тростником, но прежде чем поиск успел прискучить, они обогнули особенно острую излучину и выплыли на нечто вроде широкого тихого пруда или озера, вид которого тут же приковал к себе их внимание. Дело в том, что прямо посередине этой глади, обрамленный со всех сторон камышом, расположился вытянутый невысокий островок, на котором стоял длинный приземистый дом, или бунгало из бамбука либо какого-то другого прочного тропического растения. Стоящие вертикально ветви бамбука, образующие стены, были бледно-желтыми, покатая крыша, тоже сплетенная из тростника, чуть темнее, красновато-коричневой, и это единственное, что нарушало общее однообразие необычного сооружения. Легкий утренний ветерок шевелил окружавшие островок камыши и свистел в бамбуковых ребрах этой гигантской флейты Пана.
– Господи! – воскликнул Фламбо. – Это же он, наконец-то! Вот вам и настоящий Рид-Айленд, а если где-нибудь и существует Рид-Хаус, то это он и есть. Я думаю, тот толстяк был феей.
– Возможно, – беспристрастно ответил отец Браун. – Если он и был феей, то плохой.
Но когда он это говорил, стремительный Фламбо уже пристал к берегу посреди высоких шуршащих камышей. Они вышли на длинный необычный островок и остановились перед странным погруженным в тишину домом.
Как выяснилось, к реке и единственной пристани дом был повернут задней стороной. Главный вход в него находился с другой стороны, обращенной к саду. Поэтому путешественникам, чтобы добраться до него, пришлось пройти длинной узкой дорожкой вдоль трех стен здания под низкими карнизами крыши. Во время этой прогулки они заглядывали в окна на каждой из трех стен, и все время их взору открывалась одна и та же хорошо освещенная комната, обшитая светлыми деревянными панелями, с множеством зеркал на стенах. Все в ней выглядело так, будто здесь ждали гостей на званый обед. Когда наконец дошли до парадной двери, оказалось, что по бокам от нее стоят два бирюзовых вазона с цветами. Дверь открыл неприветливый дворецкий (высокий, худой, седой и безразличный); он сонным голосом пробормотал, что принца Сарадина сейчас нет дома, но что в скором времени он должен быть и все готово для приема его и его гостей. Визитная карточка с написанным зелеными чернилами приглашением пробудила некоторое подобие жизни в пергаментном лице унылого слуги, и с несколько неуклюжей любезностью он предложил незнакомцам подождать. «Его высочество должны быть с минуты на минуту, – сказал он, – и он будет расстроен, если узнает, что разминулся с кем-то из приглашенных им господ. У нас всегда имеется небольшой холодный завтрак для него и его друзей, и я уверен, что его высочество распорядились бы предложить его вам».
Охваченный некоторым любопытством, Фламбо вежливо согласился и пошел следом за стариком, который церемонно провел гостей в длинный светлый зал. Ничего особенного в нем не было, разве что необычное чередование множества длинных низких окон и продолговатых низких зеркал между ними, что как бы наполняло это место светом и придавало ему ощущение легкости. Пребывание здесь чем-то напоминало обед на природе. В одном углу на стене серела большая фотография очень молодого юноши в форме, во втором висел тусклый набросок красным мелом, изображавший двух длинноволосых мальчиков. Когда Фламбо поинтересовался, не сам ли принц изображен на фотографии, дворецкий коротко ответил, что нет, это младший брат его высочества, капитан Стефан Сарадин. После этого старик неожиданно замолчал, словно воды в рот набрал, и на дальнейшие вопросы не отвечал.
После того как завтрак завершился превосходным кофе и ликерами, гостей провели по саду, библиотеке и представили экономке, смуглой красивой женщине, которая держалась царственно и мрачно, как какая-нибудь повелительница подземного царства. Похоже, она и дворецкий были последними из иностранного сопровождения принца, остальные слуги в доме были набраны в Норфолке из местных жителей самой экономкой. Эту даму звали миссис Энтони, но разговаривала она с легким итальянским акцентом, и у Фламбо не возникло сомнения, что Энтони – это норфолкский вариант какой-то романской фамилии. Мистер Пол, дворецкий, тоже производил впечатление иностранца, но речь его и манеры были такими же английскими, как у всех вышколенных слуг.
Каким бы необычным и красивым ни было это место, в его яркости чувствовалась какая-то странная грусть. Часы тянулись здесь, как дни. Длинные комнаты с множеством окон были полны света, но свет этот казался мертвым, а случайные звуки – разговор за стеной, звон тарелок или шаги слуг – не могли отвлечь от постоянного тоскливого журчания воды в реке, которое слышалось со всех сторон.
– Недобрым был тот поворот, и недоброе это место, – сказал отец Браун, выглядывая в окно на серо-зеленые заросли осоки и серебряную гладь реки. – Но ничего, иногда и в недобром месте можно принести добро.
Маленький отец Браун, хоть и был обычно немногословен, странным образом умел притягивать к себе людей и за несколько бесконечно долгих часов ожидания, сам того не осознавая, проник в секреты Рид-Хауса глубже, чем его профессиональный друг. Священник обладал даром, сохраняя дружелюбное молчание, вызывать окружающих на разговор и, едва ли проронив хоть пару слов, сумел узнать у своих новых знакомых все, что они могли рассказать. Мрачный дворецкий, правда, был от природы человеком необщительным. Он был беззаветно, почти по-собачьи предан своему хозяину, с которым, по его словам, «очень плохо обошлись». Главным обидчиком, похоже, был брат его высочества, от одного имени которого губы старика поджимались, а похожий на клюв попугая нос презрительно морщился. Судя по словам дворецкого, капитан Стефан был никчемным бездельником, который вытянул из своего великодушного брата сотни тысяч и вынудил его покинуть свет и жить затворником в этой глуши. Больше дворецкий Пол ничего не сообщил, но и этого хватило, чтобы понять, насколько безгранична его преданность хозяину.
Экономка-итальянка оказалась несколько разговорчивее, наверное, из-за того, что, как посчитал отец Браун, была менее довольна жизнью. О хозяине своем она говорила тоном язвительным, но и не лишенным некоторой боязни. Фламбо со своим другом стоял в зеркальном зале и рассматривал красный набросок двух мальчиков, когда туда по какому-то делу быстро вошла экономка. Особенностью этого светлого помещения являлось то, что любой, кто входил сюда, сразу же отражался в четырех или пяти зеркалах, поэтому отец Браун, произносивший какое-то критическое замечание по поводу отношений, связывающих принца с братом, на полуслове замолчал, но Фламбо, который наклонился и рассматривал эскиз вблизи, громко произнес:
– Похоже, это братья Сарадины. Оба выглядят так невинно. Трудно даже определить, кто из них хороший брат, а кто плохой.
Потом, заметив присутствие экономки, заговорил о каких-то мелочах и ретировался в сад. Но отец Браун продолжал всматриваться в сделанный красным мелом эскиз, миссис Энтони же продолжала всматриваться в отца Брауна.
Большие трагические карие глаза экономки приглушенно поблескивали на оливковом лице, выражая то опасливое любопытство, которое можно заметить во взгляде человека, пытающегося разгадать незнакомца. То ли сутана священника и его вероисповедание затронули какие-то далекие южные воспоминания об исповеди, то ли ей вдруг подумалось, что ему известно больше, чем ей казалось раньше, но неожиданно тихим голосом заговорщика она сказала ему:
– Кое в чем ваш друг прав. Он говорит, что трудно понять, кто из братьев хороший, а кто плохой. Ох, как это сложно, ужасно сложно выбрать хорошего.
– Я вас не понимаю, – произнес отец Браун и начал отодвигаться.
Женщина шагнула к нему, брови ее грозно насупились; теперь она смотрела исподлобья, словно бык, опустивший рога.
– А хорошего и нет, – прошипела она. – Да, капитан поступал плохо, когда брал эти деньги, но, я думаю, принц, давая их, поступал не намного лучше. Не только у капитана есть грехи.
Лицо отвернувшегося клирика озарилось, губы его уже сложились, чтобы произнести слово «шантаж», но в этот миг женщина резко повернула в сторону сделавшееся белее снега лицо и чуть не упала, потому что дверь в зал беззвучно отворилась и в проеме, словно призрак, возник Пол. Из-за странной особенности зеркальных стен показалось, что сразу пять бледных Полов одновременно вошли через пять дверей.
– Его высочество прибыли, – произнес он.
Тотчас за первым залитым солнцем окном, словно актер по освещенной сцене, прошел человек. Через секунду он прошел за вторым окном, и многочисленные зеркала повторили орлиный профиль и движение быстро шагающего мужчины. Держался он прямо и уверенно, но волосы у него были совершенно седые, а лицо имело странный желтоватый оттенок, напоминающий слоновую кость. Такой короткий с горбинкой римский нос, какой был у мужчины, обычно сочетается с вытянутыми худыми щеками и острым подбородком, но у него эти части лица были прикрыты усами и эспаньолкой. При этом усы были намного темнее бородки, что придавало ему слегка театральный вид, и одет он был столь же ярко: белый цилиндр, в петлице – цветок орхидеи, желтый жилет и желтые перчатки, которыми он на ходу помахивал и похлопывал о раскрытую ладонь. Когда он подошел к парадной двери, чопорный Пол открыл ее и вновь прибывший бодро произнес:
– Как видишь, я приехал.
Суровый Пол строго поклонился и ответил что-то неразборчивым голосом. Несколько минут они о чем-то тихо разговаривали. Потом дворецкий провозгласил: «Все в вашем распоряжении», – и размахивающий перчатками принц Сарадин радостно вошел в зал, чтобы приветствовать гостей, которые снова стали свидетелями необычайного зеркального эффекта: в комнате появилось сразу пять принцев.
Принц поставил белый цилиндр на стол, бросил на него желтые перчатки и радушно протянул руку.
– Ужасно рад видеть вас у себя, мистер Фламбо, – сказал он. – Весьма о вас наслышан. Надеюсь, вы не сочтете это замечание неосмотрительным?
– Что вы! – рассмеялся Фламбо. – Я не настолько тонкокожее существо. Люди редко добиваются известности благодаря одной лишь добродетели.
Принц бросил на него быстрый настороженный взгляд, очевидно желая удостовериться, что подобный ответ не является камнем в его огород, но потом тоже рассмеялся и предложил всем, в том числе и себе, кресла.
– Знаете, а мне здесь нравится, – заметил он между прочим. – Разве что, боюсь, на острове почти нечем заняться, но рыбалка тут отменная.
Какое-то странное чувство преследовало священника, который смотрел на принца внимательно и чуть исподлобья, как ребенок. Что-то такое, чего он пока не понимал. Отец Браун обвел взглядом седые тщательно завитые волосы, изжелта-бледное лицо и худую фатоватую фигуру. Ничего необычного в них не было, разве что просматривалась некоторая нарочитость, как у человека, освещенного светом рампы. Интерес непонятным образом заключался в чем-то другом, в самом контуре лица, возможно. Брауна мучила мысль, что оно было ему смутно знакомо. Этот человек выглядел, как переодетый старый знакомый. Но потом неожиданно Браун подумал о зеркалах и списал разыгравшееся воображение на какой-нибудь психологический эффект, вызываемый умножением человеческих масок.
Принц Сарадин распределял внимание между гостями весело и очень тактично. Узнав, что детектив любит отдых на природе и намерен провести отпуск активно, он сопроводил Фламбо вместе с его лодкой на самое рыбное место на реке, а через двадцать минут уже вернулся в своем каноэ, чтобы присоединиться к отцу Брауну в библиотеке и с не меньшей охотой погрузился в более философские удовольствия. Похоже, он разбирался одинаково прекрасно как в рыбалке, так и в книгах (правда, большей частью в книгах не самого поучительного свойства), знал он пять или шесть языков, хотя в основном в разговорной форме. Несомненно, ему приходилось жить в разных городах и вращаться в разных обществах, потому что самые веселые его рассказы касались подпольных игорных домов и опиумных притонов, жизни беглых каторжников в Австралии и итальянских разбойников. Отцу Брауну было известно, что последние несколько лет некогда блистательный принц Сарадин провел почти в беспрерывных путешествиях, но даже представить себе не мог, что путешествия эти были настолько дискредитирующими и настолько захватывающими.
Хоть принц Сарадин и был наделен чувством собственного достоинства светского льва, все же от глаз такого внимательного наблюдателя, как священник, не укрылось некоторое исходящее от него беспокойство, некая настороженность с его стороны, как будто он подспудно ожидал, что собеседник может усомниться в его словах. Выражение лица его было вполне уверенным, но глаза глядели как-то дико; у него чуть-чуть подрагивали руки, как у человека под воздействием алкоголя или наркотиков, и он совершенно не интересовался (по крайней мере, такое создавалось впечатление) домашними делами. Ведение домашнего хозяйства было полностью сосредоточено в руках двух старых слуг, особенно в руках дворецкого, который явно был главной опорой всего дома. Мистер Пол был не столько дворецким, сколько распорядителем или даже управляющим двором. Обедал он отдельно, и это было событием почти столь же важным, как обед хозяина. Остальные слуги боялись его как огня, и с принцем он разговаривал благопристойно, но, так сказать, совершенно без раболепства, словно был не слугой, а, скорее, каким-нибудь адвокатом. По сравнению с ним угрюмая экономка выглядела скромной тенью. Более того, она словно полностью отрешилась от происходящего и исполняла только поручения дворецкого. И Браун больше не слышал от нее того напористого шепота, которым она поведала ему историю о младшем брате, шантажировавшем старшего. Священник не мог быть полностью уверен, что отсутствовавший капитан действительно попил у принца столько крови, но в Сарадине чувствовался какой-то подвох, какая-то тайна, из-за чего вся эта история не казалась такой уж маловероятной.
Когда они снова вошли в длинный зеркальный зал, за окнами над водой и поросшим ивняком берегом уже золотился вечер; откуда-то издалека донесся голос выпи, словно какой-нибудь эльф начал колотить в свой крошечный барабан. Та же необычная мысль о печальной и недоброй сказочной стране промелькнула в голове священника маленькой серой тучей. «Хоть бы Фламбо вернулся», – пробормотал он.
– Вы верите в судьбу? – неожиданно спросил неугомонный принц Сарадин.
– Нет, – ответил его гость. – Я верю в Судный день.
Принц отвернулся от окна и посмотрел на него с непонятным выражением. Лицо его оказалось в тени.
– Как же вас понимать? – спросил он.
– Я хочу сказать, что наша жизнь – это как обратная сторона гобелена, – ответил отец Браун. – Вещи, которые происходят вокруг, не имеют смысла, они имеют смысл не здесь, а в каком-то другом месте. В ином месте будет наказан виновный. Здесь же наказание часто падает совсем не на того.
Принц издал какой-то неясный, звериный звук, глаза на скрытом тенью лице странно загорелись. Новая и очень ясная мысль вдруг вспыхнула в голове священника. Может быть, странное сочетание яркости принца и его несдержанности имеет другой смысл? Может ли быть, что принц… Может быть, принц не совсем в здравом уме? Граф твердил: «Совсем не на того… Совсем не на того». Он повторил эту фразу намного больше раз, чем было уместно в обычном светском разговоре.
Потом отец Браун с некоторым опозданием обнаружил еще кое-что неожиданное. В зеркальном отражении перед собой он увидел, что дверь в зал открыта и в темном дверном проеме замер как всегда бледный и бесстрастный мистер Пол.
– Я подумал, что лучше сообщить об этом сразу, – произнес он все с той же вежливой сдержанностью семейного адвоката. – У причала остановилась лодка с шестью гребцами. На корме сидит джентльмен.
– Лодка! Джентльмен? – повторил принц и встал.
В зале повисла тишина, нарушаемая только странным голосом прячущейся в осоке птицы. А потом, прежде чем кто-нибудь успел нарушить молчание, новый профиль и новая фигура мелькнула мимо трех залитых солнцем окон, точно так же, как час или два назад там промелькнул сам принц. Но, кроме того что оба профиля имели орлиные черты, между ними не было никакого сходства. Если Сарадин явился в новеньком белоснежном цилиндре, то на голове незнакомца красовался черный цилиндр старого или иностранного фасона. Под его полями виднелось молодое, очень серьезное, до синевы выбритое лицо с решительным подбородком, чем-то напоминающее лицо молодого Наполеона. Сходство усиливало еще и то, что весь костюм его выглядел как-то старомодно и вообще необычно, словно этот человек носил одежду отца и нимало этим не заботился. На нем был потертый синеватый сюртук, красный, чем-то напоминающий военный, жилет и какие-то грубые белые штаны, которые в начале викторианской эпохи посчитали бы модными, хотя сейчас выглядели довольно нелепо. Оливковое лицо юноши, одетого в старье, казалось удивительно молодым и ужасно серьезным.
– Дьявол! – крикнул принц Сарадин, нацепил белый цилиндр, бросился к парадной двери, открывавшейся в залитый заходящий солнцем сад, и сам распахнул ее.
К этому времени вновь прибывший и его сопровождение, точно маленькая театральная армия, уже выстроились на лужайке перед домом. Шесть гребцов притащили свою лодку с собой и теперь стояли рядом с ней с грозными лицами, держа весла вертикально, как копья. Все они были смуглокожими, у некоторых в ушах поблескивали серьги. Один из них, с большим непонятной формы портфелем в руке, вышел вперед и остановился рядом с оливковоликим молодым человеком в красном жилете.
– Вас зовут Сарадин? – спросил молодой человек.
Сарадин небрежно кивнул.
У незнакомца были карие спокойные, как у собаки, глаза – полная противоположность бегающим и блестящим серым глазам принца. Но почему-то у отца Брауна опять возникло ощущение, что ему знакомо это лицо, но снова он вспомнил о зеркальном эффекте зала и списал это совпадение на него. «Чтоб он провалился, этот хрустальный дворец! – проворчал священник. – Видишь одно и то же по десять раз. Как во сне».
– Если принц Сарадин – это вы, – сказал молодой человек, – то я – Антонелли.
– Антонелли, – протянул принц. – Кажется, припоминаю.
– Позвольте представиться, – произнес юный итальянец.
С этими словами он левой рукой учтиво снял старомодный цилиндр, а правой отпустил принцу Сарадину такую звонкую пощечину, что белый цилиндр полетел на ступеньки, а один из бирюзовых вазонов задрожал на подставке.
Кем бы ни был принц, он явно был не робкого десятка. Он тут же вцепился в горло противника и почти повалил его на землю. Но враг его высвободился и с совершенно неуместной вежливостью в голосе быстро произнес:
– Все правильно. – Часто и тяжело дыша, он с трудом подбирал английские слова. – Я нанес оскорбление и готов предоставить сатисфакцию. Марко, откройте футляр.
Мужчина с серьгами в ушах раскрыл большой черный футляр. Из него он извлек две длинные итальянские рапиры с красивыми стальными эфесами и клинками и воткнул их в землю. Странный молодой человек с желтым мстительным лицом, стоящий напротив двери, две рапиры, торчащие из земли, как два креста на кладбище, линия поднятых весел позади – все это напоминало какое-то варварское судилище, но все остальное было неизменным, настолько быстро все произошло. Золото заката все так же мерцало на лужайке, выпь все так же кричала из своего убежища, словно предвещая какую-то страшную беду.
– Принц Сарадин, – сказал человек, назвавшийся Антонелли, – когда я был ребенком, вы убили моего отца и похитили мать. Отцу повезло больше. Вы убили его не в честном поединке, как я убью вас. Вы с моей грешной матерью завезли его на одинокую горную дорогу в Сицилии, сбросили с утеса и скрылись. Я бы мог поступить с вами так же, но поступать так, как вы, слишком подло. Я преследовал вас по всему миру, но вы всегда ускользали от меня. Сегодня я достиг конца пути… И вам сегодня настанет конец. Теперь вы в моих руках, но я даю вам шанс, которого вы не дали моему отцу. Выбирайте рапиру.
Принц Сарадин, слушавший, хищно сдвинув брови, кажется, на секунду заколебался, но в ушах его, должно быть, еще стоял звон пощечины, поэтому он прыгнул вперед и схватился за один из эфесов. Отец Браун тоже прыгнул вперед, намереваясь уладить ссору, но вскоре понял, что его вмешательство только ухудшит дело. Сарадин был франкмасоном и убежденным атеистом, поэтому по закону противоположностей не стал бы его слушать. Что касается его противника, он не стал бы слушать ни священника, ни мирянина, потому что этот молодой человек с лицом Бонапарта и карими глазами был более стоек, чем любой пуританин, он был язычником. Это доисторический убийца-дикарь, человек каменного века… каменный человек.
Оставалась последняя надежда – позвать слуг, и отец Браун бросился в дом. Но там выяснилось, что все они, именно сегодня получив выходной от самовластного Пола, покинули остров, и только угрюмая миссис Энтони беспокойно металась по залам. Однако, как только она повернулась к священнику, одна из тайн зеркального дома для него разрешилась. С мертвенно-бледного лица мисс Энтони на него посмотрели большие карие глаза Антонелли. В тот же миг ему стала понятна добрая половина всего происходящего.
– Ваш сын здесь, – без лишних слов сказал он. – Сейчас либо он, либо принц будет убит. Где мистер Пол?
– Он на пристани, – слабым голосом произнесла женщина. – Он… он… он вызывает помощь.
– Миссис Энтони, – голос отца Брауна зазвучал очень серьезно. – Сейчас не время говорить загадками. Мой друг уплыл на своей лодке на рыбалку. Лодку вашего сына охраняют люди вашего сына. Остается только каноэ. Зачем оно понадобилось мистеру Полу?
– Санта Мария! Я не знаю, – крикнула она и рухнула на ковер.
Отец Браун уложил ее на диван, плеснул на нее водой из кувшина, позвал на помощь и со всех ног побежал на пристань маленького островка. Но каноэ было уже посередине реки, старик Пол орудовал веслом с невероятной для человека такого возраста энергией и ловкостью.
– Я спасу хозяина, – крикнул дворецкий. Глаза его сверкали, как у сумасшедшего. – Я еще успею!
Отцу Брауну оставалось лишь проводить взглядом уплывающую против течения лодочку и надеяться, что старик успеет поднять тревогу в городке.
– Дуэль сама по себе – зло, – пробормотал он, приглаживая растрепанные песочные волосы. – Но, чует мое сердце, что-то с этой дуэлью не так. Но что?
Пока он стоял, глядя на идущее волнами отражение заката, с другой стороны острова донесся негромкий, но безошибочно узнаваемый звук – холодные удары металла о металл. Священник повернулся.
На дальнем выступе длинного узкого острова, на полосе земли за последними кустами роз дуэлянты скрестили клинки. Вечернее небо нависло над ними чистым золотым куполом, и хоть до них было достаточно далеко, отцу Брауну было прекрасно видно все до мелочей. Противники сбросили пиджаки, но желтый жилет и белые волосы Сарадина, красный жилет и белые брюки Антонелли в приглушенном вечернем свете напоминали танец заводных кукол. Два клинка сверкали от кончиков до гард, сверкали, словно две бриллиантовые булавки. Что-то жуткое было в этих фигурах, которые казались такими маленькими и такими радостными. Словно две бабочки пытались насадить друг друга на иглу.
Отец Браун во весь дух бросился к ним, ноги его мелькали, словно спицы колеса, но, когда он добежал до поля боя, было уже слишком поздно и слишком рано: слишком поздно, чтобы остановить поединок, проходивший в тени грозных сицилийцев, опирающихся на весла, и слишком рано, чтобы застать лишь трагический исход схватки. Оба мужчины как противники идеально подходили друг другу, ибо искусство принца заключалось в своего рода циничной напористости, а юный сицилиец защищался с убийственной осторожностью. Не много видели забитые зрителями амфитеатры поединков, более захватывающих, чем тот, который звенел и блестел на Богом забытом островке посреди поросшей камышом реки. Головокружительный бой затянулся так надолго, что у отчаявшегося было священника снова проснулась надежда. Вполне вероятно, что скоро Пол приведет полицию. Помочь могло и возвращение с рыбалки Фламбо, потому что, с физической точки зрения, Фламбо стоил четверых. Однако, как это ни странно, Фламбо все не появлялся, и, что еще более странно, до сих пор не появились ни Пол, ни полиция. На всем острове не осталось ни плота, ни бревна, на котором можно было бы плыть, на этом затерянном клочке суши посреди широкого безымянного пруда они были отрезаны от мира так же, как на камне, торчащем из воды посреди Тихого океана.
Почти сразу после того, как Браун это подумал, звон рапир участился, руки принца взметнулись вверх, и между его лопатками появилось пятнышко. Он резко крутнулся, словно собирался пойти колесом, рапира выскользнула из его руки и, сверкнув падающей звездой, полетела в реку, а сам принц повалился на землю так безжизненно и тяжело, что сломал телом большой розовый куст и при падении поднял в воздух облако рыжей пыли… словно дым языческого жертвенного костра. Сицилиец отплатил за кровь отца.
В тот же миг священник бросился на колени рядом с телом, но убедился, что принц мертв. Пока он в отчаянии пытался найти хоть какие-то признаки жизни, с реки донеслись первые крики, и отец Браун увидел, как к пристани подлетела полицейская лодка с констеблями и другими важными людьми, включая взволнованного Пола. Маленький священник в явном смятении поднялся. «Ну почему, – пробормотал он, – почему он не мог приплыть хоть немного раньше?»
Через семь минут остров был уже полностью оккупирован горожанами и полицейскими. Последние возложили руки на плечи победителя дуэли и, следуя обычному ритуалу, предупредили его, что все, что он скажет, может быть использовано против него.
– Я ничего не скажу, – сказал безумец, лицо которого удивительным образом очистилось и умиротворенно просветлело. – Больше я ничего не скажу. Я счастлив, и мое единственное желание – чтобы меня повесили.
После этого его увели. Поразительно, но это истинная правда, он действительно больше не произнес на этом свете ни единого слова, кроме «виновен» на суде.
Отец Браун наблюдал за стремительно наполнившимся людьми садом, за арестом убийцы, за тем, как врач осмотрел труп и тело унесли, словно досматривал какой-то отвратительный сон. Он стоял неподвижно, будто оцепенел от ужаса. Когда записывали свидетелей, Браун назвал свое имя и адрес, но отказался от предложения сесть в лодку, чтобы переплыть на берег. Потом он остался один в саду и продолжал смотреть на поломанный розовый куст и зеленый театр, в котором развернулась эта стремительная и непостижимая трагедия. Свет над рекой медленно померк, болотистые берега укутались дымкой, над водой стремительно пронеслись несколько запоздалых птиц.
Подсознание (необычно оживившееся) упрямо твердило Брауну, что во всей этой истории еще не все понятно. Ощущение, которое преследовало его весь день, нельзя было полностью объяснить «зеркальным эффектом», который он себе вообразил. Он чувствовал, что увидел не истинную историю, а какую-то игру, пародию. Но люди не отправляются на виселицу и не убивают друг друга ради забавы.
Сидя на ступеньках пристани и размышляя, он заметил высокий темный треугольник паруса, беззвучно плывущий над поблескивающей рекой, и вскочил, ощутив такой душевный порыв, что из глаз его чуть не хлынули слезы.
– Фламбо! – закричал он, вцепился в него обеими руками и стал трясти едва успевшего ступить на берег с рыболовными снастями в руках друга, к немалому его удивлению. – Фламбо! Так вы не убиты?
– Убит? – поразился рыбак. – С чего бы это мне быть убитым?
– Да потому что почти все остальные убиты. – От избытка чувств отец Браун словно потерял голову. – Сарадин убит, Антонелли хочет, чтобы его повесили, его мать лишилась чувств, а сам я не понимаю, на каком свете нахожусь, на этом или на том. Но, слава Богу, вы здесь! – И он схватил Фламбо за руку.
От пристани они повернули к бамбуковой стене невысокого дома и прошли под низко нависшим карнизом крыши, заглянув в одно окно, так же, как в первый раз. Взору их предстала освещенная лампами сцена, как будто специально приготовленная для того, чтобы привлечь к себе внимание. Стол в длинном обеденном зале был накрыт для обеда так же, как и тогда, когда на остров стремительно высадился убийца Сарадина, и, как выяснилось, не напрасно, поскольку сейчас там мирно обедали. За одним концом стола с мрачным видом сидела миссис Энтони, а за другим, напротив нее, расположился мистер Пол, управляющий, который с аппетитом ел и пил. Его затуманенные голубоватые глаза странно выделялись, понять, о чем он думает, по худому лицу было невозможно, но выражение его отнюдь не было лишено удовлетворения.
Движением властным и нетерпеливым Фламбо подергал раму окна, распахнул его и просунул голову в комнату.
– Послушайте, – крикнул он, – я понимаю, что вам нужно взбодриться, но, в самом деле, красть хозяйский обед, когда его тело еще не остыло…
– За всю свою долгую и приятную жизнь я украл много разных вещей, – ответил странный господин совершенно спокойным голосом, – но этот обед – одна из тех немногих вещей, которые я не крал. Видите ли, этот обед, дом и сад принадлежат мне.
По лицу Фламбо скользнула догадка.
– Вы хотите сказать, – начал он, – что принц Сарадин в своем завещании…
– Принц Сарадин – это я, – сказал старик, жуя соленый миндальный орешек.
Отец Браун, который стоял у стены и любовался на птиц в саду, подскочил как ужаленный и тоже просунул в окно бледное лицо.
– Кто? – взвизгнул он.
– Пол, принц Сарадин, а vos ordres[19], – вежливо произнес почтенный старик и поднял бокал хереса. – Живу я тут очень тихо (люблю, знаете, домашний уют) и из скромности предпочитаю называться Полом, чтобы меня не путали с моим несчастным братом Стефаном. Он, кажется, недавно умер… в саду. Разумеется, я не виноват, что враги сумели выследить его и здесь. Вся его жизнь беспорядочна! Он никогда не был домоседом…
Он замолчал и стал смотреть прямо перед собой на противоположную стену над головой мрачной женщины. Теперь они ясно увидели фамильное сходство с человеком, который пал на дуэли. И тут его старые плечи несильно задергались и затряслись, как будто он закашлял, но лицо его не изменилось.
– Господи! – воскликнул Фламбо, изумленно глядя на него. – Да он смеется!
– Пойдемте, – негромко сказал отец Браун, лицо которого сильно побледнело. – Давайте уйдем из этого адского дома. Вернемся в нашу лодку.
Ночь уже опустилась на камыши и реку, когда они отплыли от острова. Согревая себя сигарами, которые в темноте горели как два красных сигнальных огня судна, они плыли вниз по течению тихой реки. Отец Браун вынул изо рта сигару и сказал:
– Думаю, вы уже поняли, что произошло на самом деле. В общем-то, не такая уж и сложная история. У человека было два врага. Человек этот умен, поэтому понял, что иногда два врага бывает лучше, чем один.
– Что-то мне не совсем понятно, – ответил Фламбо.
– О, все действительно очень просто, – возразил его друг. – Просто, но в высшей степени коварно. Оба Сарадина были негодяями, только принц, старший брат, был из тех негодяев, которые попадают наверх, а младший, капитан, был из тех, кто падает на дно. Этот опустившийся офицер из попрошайки превратился в шантажиста и в один прекрасный день решил взяться за собственного брата. Но сделать это было не так-то просто, поскольку принц Пол Сарадин открыто вел беспорядочный образ жизни и обычными в таких случаях угрозами испортить репутацию его нельзя было пронять. Но на совести принца было кое-что и пострашнее, за что он мог попасть на виселицу, и Стефан буквально затянул петлю на шее брата. Каким-то образом он проведал о сицилийском деле и получил доказательства, что это Пол убил старшего Антонелли в горах. Десять лет капитан жил за счет брата, ни в чем себе не отказывая, пока не промотал почти все огромное состояние принца.
Над принцем Сарадином, кроме брата-кровопийцы, тяготело и другое бремя. Он знал, что сын Антонелли, который во время убийства был совсем маленьким, рос в суровых сицилийских условиях с одной лишь мыслью – отомстить за смерть отца, но не отправив его на виселицу (у него, очевидно, не было тех доказательств, какими обладал Стефан), а по старинному обычаю вендетты. Мальчик вырос и довел свое искусство владения оружием до совершенства, и примерно в то время, когда он стал достаточно взрослым, чтобы воспользоваться своим умением, принц Сарадин, как писали газеты, начал путешествовать. В действительности же он просто бежал в страхе за свою жизнь, переезжая с места на место, как преступник, по следу которого идут сыщики, но преследователь его не знал покоя. Положение, в котором оказался принц Пол, завидным не назовешь. Чем больше он тратил на то, чтобы спастись от Антонелли, тем меньше денег у него оставалось на Стефана, который за молчание требовал все больше и больше. И тут проявился его ум… гений, достойный Наполеона.
Вместо того чтобы сопротивляться двум противникам, он неожиданно сдался обоим. Он поддался, как японский борец, и оба врага оказались у его ног. Принц прекратил прятаться по всему миру и сделал так, чтобы его адрес узнал юный Антонелли. Потом он отдал все своему брату. Сначала послал ему достаточно денег, чтобы тот мог приодеться и спокойно, с комфортом путешествовать, добавив письмо, в котором написал: «Это все, что у меня осталось. Ты выжал из меня все. В Норфолке у меня еще есть небольшой дом со слугами и подвалом, поэтому, если тебе еще что-то нужно от меня, приезжай и забирай их, я же буду тихо доживать здесь свой век, как твой друг или агент, или кто-нибудь еще». Ему было известно, что сицилиец никогда не видел братьев Сарадинов, разве что на фотографиях, и еще ему было известно, что у них с братом имелось определенное внешнее сходство – у обоих были седые острые бородки. Тогда он побрился и стал ждать. И ловушка сработала. Несчастный капитан в новеньком костюме явился в дом принцем и попал на рапиру сицилийца.
Случилось лишь одно непредвиденное обстоятельство, но оно говорит о благородстве человеческой природы. Такие отъявленные негодяи, как Сарадин, часто допускают ошибку, забывая о добродетели, присущей человечеству. Он не сомневался, что удар итальянца будет неожиданным, жестоким и безымянным, как и тот, что погубил его отца. Он думал, что жертву зарежут ночью или застрелят из-за кустов, и та умрет, не успев проронить ни слова. Для принца самой страшной была та минута, когда он увидел, что Антонелли повел себя благородно и предложил формальную дуэль, в результате чего могли последовать объяснения и его план мог провалиться. Вот тогда-то я и увидел, как он в страхе уплывал на лодке. Он спасался заранее, до того как Антонелли узнал, кто он на самом деле.
Однако как бы взволнован Пол Сарадин ни был, надежды он не терял, поскольку хорошо знал и авантюрный склад брата, и фанатизм сицилийца. Вполне могло случиться, что Стефан и не стал бы раскрывать карты, настолько большое удовольствие ему доставляло изображать из себя принца. Алчное желание сохранить свой новый уютный дом, вера в удачу и собственное искусство фехтования могли заставить его держать язык за зубами. В том, что фанатик Антонелли не станет никому ничего рассказывать и молча пойдет на виселицу, не посвящая никого в свои семейные дела, можно было не сомневаться. Пол какое-то время прятался на реке, пока не увидел, что схватка закончилась, потом пошел в город, привел полицию, убедился, что навсегда отделался от обоих врагов и в прекрасном настроении, с улыбкой на устах сел обедать.
– Он там смеялся, Боже помоги! – вскричал Фламбо, содрогнувшись всем телом. – Наверное, сам дьявол внушает такие идеи людям!
– Эту идею подсказали ему вы, – ответил священник.
– Что? – взвился Фламбо. – Какого дьявола! Я? Что вы имеете в виду?
Священник достал из кармана визитную карточку и поднес к ней огонек сигары. На карточке стала видна надпись зелеными чернилами.
– Помните это приглашение, – спросил он, – и похвалу, которую вы получили за свои преступные выходки? «Ваша проделка с двумя сыщиками, когда вы заставили одного арестовать другого», написал он. Он всего лишь повторил ваш старый трюк. Когда его с двух сторон зажали враги, он просто отступил, дав им столкнуться и погубить друг друга.
Фламбо вырвал карточку из рук священника и с остервенением разорвал ее на мелкие кусочки.
– Больше я не хочу видеть этот череп со скрещенными костями, – сказал он и швырнул обрывки в темную покачивающуюся воду. – Боюсь только, как бы рыбы не отравились.
Последний кусочек белого картона с зелеными буквами пошел ко дну и скрылся из вида; робкий, мерцающий, похожий на утренний свет наполнил небо, и луна за высокой травой побледнела. Лодка тихо скользила по течению.
– Отче, – неожиданно произнес Фламбо. – Вы думаете, все это было во сне?
Священник покачал головой, то ли сомневаясь, то ли не соглашаясь, но остался безмолвен. Поднявшийся ночной ветер донес запах боярышника и орхидей, а в следующий миг покачнул маленькую лодку, наполнил парус и понес их дальше по извилистой реке к местам более счастливым и домам, где живут честные безобидные люди.
Неверный контур
Некоторые из больших дорог, ведущих на север из Лондона, тянутся далеко за город, почти рассеиваясь, но сохраняя призрачное подобие единой линии. За кучкой магазинов идет огороженное поле или загон, потом какой-нибудь известный трактир, за ним, возможно, чей-то огород или сад, затем большой частный дом, за ним еще одно поле, еще один трактир и так далее. На одной из таких улиц есть дом, который, возможно, привлечет ваше внимание, хотя вы вряд ли сумеете определить, что именно заставило вас бросить на него взгляд. Это длинное приземистое здание, стоящее вдоль дороги, выкрашенное в основном в белый и бледно-зеленый цвета, с террасой и странными навесами, похожими на деревянные зонтики в форме куполов, которые еще можно увидеть на старых домах. Вообще-то здание действительно очень старое, очень загородное и очень английское, в стиле старого доброго зажиточного Клапама. И все же у этого сооружения такой вид, будто его строили для места, в котором большей частью стоит жаркая погода. Когда смотришь на его белые стены и навесы, в голове сами собой возникают смутные мысли о тюрбанах или даже о пальмах. Не знаю, отчего возникает такое ощущение. Может быть, потому что его возвели англо-индийцы?
Любой, кто будет проходить мимо этого дома, не устоит против его чар, почувствует, что с этим местом, должно быть, связана какая-то история. И будет прав, в чем вы сами скоро убедитесь, ибо вот какая история – история странная, но правдивая – произошла здесь в 18… году на Троицу.
Любой, кто проходил мимо этого здания в четверг перед Троицей примерно в половине пятого вечера, наверняка видел, как парадная дверь отворилась и из нее, попыхивая большой трубкой, вышел отец Браун, священник церквушки Святого Манго, в компании с очень высоким французом, своим другом Фламбо, который курил очень маленькую сигарету. Сами эти личности читателю могут быть и неинтересны, но дело в том, что кроме них открывшаяся дверь бело-зеленого дома явила и другие любопытные вещи. У здания этого есть некоторые особенности, о которых следует упомянуть в самом начале, чтобы читатель смог понять не только суть произошедших здесь трагических событий, но и то, что именно явила открывшаяся дверь.
Здание это по форме напоминало букву Т, только с очень длинной горизонтальной частью и очень короткой ножкой. Длинная двухэтажная горизонтальная часть с парадной дверью прямо посередине была фасадом и тянулась вдоль улицы. В ней находились почти все основные комнаты. Короткая ножка «Т» была расположена с задней стороны прямо напротив парадного входа. Эта часть здания была одноэтажной и состояла всего из двух длинных комнат, одна из которых была проходной. Первая из комнат была тем кабинетом, в котором знаменитый мистер Куинтон сочинял свои безумные восточные поэмы и повести. Дальняя комната была оранжереей, полной причудливых тропических растений удивительной и даже жутковатой красоты, которые в такие дни, как тот, купались в необычайно ярком солнечном свете. Поэтому, когда дверь в дом отворялась, иной прохожий мог от восхищения буквально замереть на месте, потому что в перспективе богато обставленного кабинета мог увидеть нечто подобное волшебному превращению, неожиданной смене декораций в праздничном спектакле: фиолетовые облака, золотые солнца и малиновые звезды, которые одновременно были обжигающе реалистичны и в то же время призрачно далеки.
Леонард Куинтон, поэт, потратил много сил на то, чтобы добиться такого эффекта, и весьма сомнительно, что в каком-то из своих стихотворений ему удалось выразить себя так же блестяще, ибо он был человеком, который упивался цветом, купался в цвете, человеком, который в удовлетворении своей страсти доходил почти до полного отрицания формы… Даже идеальной формы. Именно поэтому гений его обратился к восточному искусству и образности, к тем затейливым восточным коврам или ослепительным вышивкам, в которых все существующие цвета словно смешиваются в один счастливый хаос красок, который ничего не изображает и не имеет никакого смысла. Он если и не с великим художественным дарованием, то с завидным воображением и выдумкой творил эпические поэмы и романтические истории, в которых буйствовали безумные, даже беспощадные палитры. То были рассказы о тропическом рае, зажженном пылающим золотом и кроваво-красной медью заката; о восточных героях в многоярусных тюрбанах, на лиловых или зелено-синих слонах; о сверкающих древним таинственным огнем горах сокровищ, которые не под силу поднять и ста невольникам.
Проще говоря, писал он о том восточном рае, который хуже иного западного ада, о тех восточных самодержцах, которых мы скорее назвали бы безумцами, и о тех восточных сокровищах, которые ювелир с Бонд-стрит (если бы сто изнемогающих невольников все-таки дотащили их до его мастерской), вполне возможно, не посчитал бы подлинными. Куинтон обладал гением, пусть даже нездоровым, и пусть даже нездоровость эта больше проявлялась в его жизни, а не искусстве. Сам поэт был человеком хилым и раздражительным, к тому же здоровье его в немалой степени истощилось восточными экспериментами с опиумом. Жена его, красивая и работящая (вернее сказать, со следами постоянной усталости на лице), неодобрительно относилась к опиуму, но еще более неодобрительно она относилась к настоящему индийскому монаху в бело-желтой робе, жившему у них в доме по настоянию ее супруга месяцами и являвшемся для него чем-то вроде Вергилия, который должен был провести его дух через восточные небеса и преисподние.
Вот из этой обители муз и вышли отец Браун и его друг, и, судя по их лицам, покинули они ее с облегчением. Фламбо был знаком с Куинтоном еще с лихих студенческих лет в Париже, и на эти выходные они решили возобновить знакомство, но теперь, ступив на стезю добродетели, он уже не находил былого удовольствия в обществе поэта. Одурманивание себя опиумом и сочинение эротических стишков с последующим записыванием их на пергаменте не было для него образцом поведения джентльмена, желающего скорой встречи с дьяволом. Когда мужчины остановились на пороге, собираясь свернуть в сад, калитка у дороги неожиданно отлетела в сторону и молодой человек в съехавшем на затылок котелке решительно поднялся по ступенькам. Растрепанного вида юноша в крикливом красном галстуке, сбившемся набок и помятом, будто он в нем спал, держал в руке небольшую складную трость, которой нетерпеливо рубил воздух.
– Мне нужен старина Куинтон, – с напором произнес он. – Он еще не ушел?
– Мистер Куинтон дома, – сказал отец Браун, выбивая трубку. – Но я не уверен, что вам к нему можно. У него сейчас врач.
Молодой человек, похоже, не совсем трезвый, чуть пошатнулся и вошел в переднюю, и в тот же миг из кабинета Куинтона вышел врач. Он закрыл дверь и стал натягивать перчатки.
– Повидать мистера Куинтона? – с прохладцей произнес доктор. – Нет, боюсь, вы не можете его повидать. Я бы даже сказал, его ни в коем случае нельзя беспокоить, я только что дал ему снотворное.
– Да нет же, послушайте, дружище, – молодой человек в красном галстуке пытался поймать доктора за лацканы сюртука, – я совершенно на мели, я…
– Бесполезно, мистер Аткинсон, – сказал врач, подталкивая его к выходу. – Если вы сможете отменить действие препарата, я поменяю свое решение. – И с этими словами он спустился с отцом Брауном и Фламбо по ступенькам. Невысокий коренастый доктор имел небольшие усики, бычью шею и производил впечатление человека деловитого, хоть и выглядел в высшей степени заурядно.
Молодой человек в котелке, который, судя по всему, кроме хватания за одежду, других способов привлечения к себе внимания не знал, остался стоять у порога. Он молча провожал трех мужчин таким ошеломленным взглядом, будто его не выпроводили, а вышвырнули на улицу.
– Как я молодца обработал! – рассмеявшись, заметил медик, когда они прошли чуть дальше по залитому солнцем саду. – На самом деле бедному Куинтону снотворное принимать через полчаса, но я не хочу, чтобы его беспокоил этот мелкий проходимец, который занимает у него деньги и никогда не отдает, даже если у него есть такая возможность. Хотя сестра его, миссис Куинтон, – замечательная женщина.
– Да, – подтвердил отец Браун, – она хорошая женщина.
– Давайте погуляем по саду, пока этот субъект не уберется, – предложил доктор. – Потом я вернусь к Куинтону и дам ему лекарства. Аткинсон без нас до него не доберется, потому что я запер дверь на ключ.
– Хорошо, доктор Харрис, – сказал Фламбо. – Давайте тогда пройдемся вокруг оранжереи. Со двора мы в нее не попадем, но на нее стоит взглянуть даже снаружи.
– А я заодно одним глазком взгляну на пациента, – засмеялся доктор, – потому что ему, видите ли, захотелось лежать на оттоманке в дальнем конце этого ботанического сада между кроваво-красными пуансеттиями. У меня от одного их вида мороз по коже продирает. Но что это вы делаете?
Отец Браун остановился, нагнулся и поднял из высокой травы, в которой его почти не было видно, необычный изогнутый восточный кинжал, богато украшенный разноцветными камнями и металлами.
– Что это? – произнес отец Браун, осматривая находку с некоторой неприязнью.
– Да это, наверное, Куинтона вещица, – небрежно произнес доктор Харрис. – У него по всему дому такие китайские безделушки разбросаны. А может, его индус-молчун потерял.
– Какой индус? – осведомился отец Браун, все еще рассматривая находку.
– Да какой-то индийский факир. – Доктор пренебрежительно махнул рукой. – Шарлатан, разумеется.
– Вы не верите в магию? – спросил отец Браун, не поднимая глаз.
– Что вы, какая магия! – презрительно скривился доктор.
– Красивый кинжал, – тихо и задумчиво произнес священник. – Цвета великолепны. Только форма неподходящая.
– Для чего? – изрядно удивился Фламбо.
– Для всего. Неподходящая форма в абстрактном смысле. Вы никогда не замечали этого в восточном искусстве? Цвета такие, что просто диву даешься, но формы искажены и ужасны, причем это делается намеренно. Турецкие ковры меня пугают.
– Mon Dieu! – воскликнул Фламбо со смехом.
– Буквы и знаки языка, которого я не знаю, но это злые слова, я это чувствую, – продолжал священник, и голос его становился все тише и тише. – Эти изгибы идут не в ту сторону, как тело ползущей змеи.
– Черт возьми, о чем вы? – от души рассмеялся доктор.
Вместо священника ответил ему Фламбо:
– На святого отца иногда находит такое загадочное настроение. Только хочу вас честно предупредить: я по своему опыту знаю, когда такое случается – жди беды.
Тут медик издал удивленный возглас, потому что отец Браун вдруг вытянул перед собой руку с кривым ножом так, словно сжимал какую-то сверкающую извивающуюся змею, и мрачным голосом произнес:
– Смотрите! Разве вы не видите его неверный контур? Разве вы не видите, что в него не заложено прямое и честное предназначение. Он не заострен, как дротик, в нем нет изгиба косы. Он не похож на оружие. Он похож на орудие пытки.
– Что ж, раз уж он вам так не нравится, лучше вернуть его владельцу. Дьявол, будет у этой оранжереи конец когда-нибудь или нет? По-моему, это у дома неверный контур.
– Вы не понимаете, – покачал головой отец Браун, – у дома этого просто необычная, даже бестолковая форма, но ничего зловещего в ней нет.
За разговором они подошли к стеклянному изгибу, которым заканчивалась оранжерея, сплошному стеклянному изгибу, лишенному окон и дверей, через которые можно было бы попасть внутрь. Впрочем, стекла были чистыми, а солнце, хоть и начало опускаться, все еще светило ярко, так что снаружи было прекрасно видно не только пышную растительность внутри оранжереи, но и хрупкую фигуру поэта в коричневой бархатной куртке, который в вялой позе развалился на диване, очевидно, задремав над книжкой. Это был бледный худосочный мужчина с вьющимися длинными светло-каштановыми волосами и бородкой, которая странным образом не придавала его лицу мужественности, а наоборот лишала ее. Впрочем, вид его был всем хорошо знаком, но, даже если бы это было не так, вряд ли кто-нибудь в тот миг стал бы смотреть на Куинтона, поскольку их взгляды приковало к себе другое.
На тропе, по которой они шли, стоял высокий человек в длинных, ниспадающих до земли белоснежных одеждах. Его голый коричневый череп, лицо и шея поблескивали в предзакатном солнце, как начищенная бронза. Он смотрел через стекло на спящего и был более недвижим, чем гора.
– Кто это?! – воскликнул отец Браун, отпрянув с громким отрывистым вдохом.
– Да это всего лишь тот индийский проходимец, о котором я говорил, – недовольно произнес Харрис. – Только какого черта он тут околачивается?
– Смахивает на гипноз, – сказал Фламбо, покусывая черный ус.
– И почему люди, не имеющие никакого отношения к медицине, всегда болтают всякий вздор о гипнозе! – вскричал доктор. – Как по мне, так он скорее собирается его ограбить.
– А вот мы сейчас узнаем! – сказал Фламбо, который всегда первым рвался в бой. Одним гигантским шагом он подошел к индусу. С высоты своего роста, безмятежным и нагловатым голосом он поинтересовался:
– Добрый вечер, сэр. Чего-то хотели?
Очень медленно, словно большое судно, заходящее в порт, крупное желтое лицо стало поворачиваться и наконец обратилось к ним над белоснежным плечом. Они были удивлены, увидев, что глаза плотно закрыты, как у спящего.
– Благодарю вас, – произнесло лицо на безукоризненном английском. – Мне ничего не нужно. – Потом, приоткрыв наполовину веки, как будто специально, чтобы показать опаловую полоску белков, лицо повторило: – Мне ничего не нужно. – Потом он широко и как бы удивленно раскрыл глаза, снова произнес: – Мне ничего не нужно, – и ушел, шурша одеждой, в быстро темнеющий сад.
– Христианин скромнее, – пробормотал отец Браун. – Ему что-то нужно.
– Чем он тут занимался? – задумчиво произнес Фламбо, хмуря черные брови.
– Я хочу поговорить с вами, попозже, – сказал отец Браун.
Солнце все еще сияло, только свет его уже сделался по-вечернему багровым, а деревья и густые кусты в саду становились все чернее и чернее. Они обогнули край оранжереи и молча пошли вдоль ее другой стороны обратно. По дороге они словно пробудили что-то: из темного угла между кабинетом и основной частью здания, как потревоженная птица из травы, выскользнул облаченный в белое факир и торопливо пошел по направлению к двери. Однако, к их удивлению, оказалось, что на этот раз он был не один. Компания вынуждена была остановиться и на время позабыть об индусе, когда из густой тени угла им навстречу шагнула миссис Куинтон. Женщина с густыми золотистыми волосами и квадратным бледным лицом выглядела несколько мрачно, но заговорила вполне вежливо.
– Добрый вечер, доктор Харрис, – промолвила она.
– Добрый вечер, миссис Куинтон, – радостно приветствовал ее маленький доктор. – Как раз иду давать вашему мужу снотворное.
– Да, – спокойно произнесла она. – Думаю, сейчас как раз время. – Улыбнувшись, она направилась к двери.
– Эта женщина слишком возбуждена, – заметил отец Браун. – Такие женщины двадцать лет смиренно исполняют свой долг, а потом совершают что-то ужасное.
Медик впервые посмотрел на него с интересом.
– Вам приходилось изучать медицину? – спросил он.
– Вам, врачам, нужно не только знать строение тела, но и понимать душу, – ответил священник. – Нам же полагается не только понимать душу, но и знать кое-что о теле.
– М-да, – произнес доктор. – Пойду-ка я, дам Куинтону лекарство.
Они повернули за угол, прошли вдоль фасада и уже были на крыльце, когда в третий раз столкнулись с индусом. Он шел прямо на дверь со стороны расположенного напротив нее кабинета так, словно только что из него вышел, но этого быть не могло, поскольку дверь в кабинет была заперта.
Отец Браун и Фламбо отметили про себя это странное несоответствие, а доктор Харрис был не из тех людей, которые тратят мысли на то, что невозможно. Он посторонился, пропустил вездесущего факира и вошел в прихожую. Там он натолкнулся на того, о ком уже совершенно позабыл. Скучающий Аткинсон с праздным видом прохаживался по коридору, что-то напевал себе под нос и постукивал по разным вещам своей узловатой тростью. Лицо доктора презрительно искривилось, потом приняло решительное выражение, и он шепнул спутникам:
– Мне придется закрыть за собой дверь, а не то эта крыса пролезет за мной; через две минуты я выйду.
Ловким маневром обойдя невнимательного стража, он быстрым движением отпер дверь, прошмыгнул внутрь и заперся. Молодому человеку в котелке ничего не оставалось, кроме как в расстроенных чувствах опуститься на стоящий в коридоре стул и ждать дальше. Фламбо принялся рассматривать персидский светильник на стене, отец Браун в каком-то оцепенении устремил взгляд на дверь. Примерно через четыре минуты дверь кабинета снова открылась. На этот раз Аткинсон был начеку. Он бросился вперед, придержал приоткрытую дверь и крикнул:
– Куинтон, я хотел…
Из глубины кабинета донесся громкий и отчетливый голос Куинтона, но прозвучал он, как нечто среднее между зевком и усталым смехом.
– Я знаю, чего ты хочешь. Ну и оставь меня в покое. Я пишу песню о павлинах.
Прежде чем дверь закрылась, из проема вылетела монета в полсоверена. Аткинсон в рывке с удивительной ловкостью поймал ее.
– На этом все, – сказал доктор и, резко захлопнув дверь, вышел в сад.
– Бедный Леонард теперь немного успокоится, – сказал он отцу Брауну. – Часика два посидит сам взаперти, чтобы его никто не тревожил.
– Да, – ответил священник, – и голос у него был довольный. – Потом он обвел серьезным взглядом сад, увидел в сиреневых сумерках нескладную фигуру Аткинсона, который поигрывал монетой в кармане, и индуса, сидящего на траве с совершенно ровной спиной лицом к заходящему солнцу, и резко спросил: – А где миссис Куинтон?
– Поднялась к себе, – ответил доктор. – Вон ее тень на шторе видна.
Отец Браун взглянул вверх и с хмурым видом какое-то время смотрел на темный силуэт в окне освещенной газом комнаты.
– Да, это ее тень, – согласился он, отошел на пару ярдов и опустился на садовую скамейку.
Фламбо сел рядом с ним, но доктор был одним из тех людей, которые жизнь проводят на ногах, поэтому, закурив, он ушел в сумерки, и двое друзей остались одни.
– Отец мой, – сказал по-французски Фламбо, – что с вами?
Отец Браун оставался молчалив и недвижим еще с полминуты, а потом произнес:
– Церковь не одобряет суеверия, но в этом месте есть что-то такое… Я думаю, дело в индусе… По крайней мере, частично.
Он снова замолчал, глядя на силуэт индуса, все еще сидевшего в отдалении неподвижно, словно в молитве. С первого взгляда казалось, что он вовсе не шевелится, но отец Браун, наблюдая за ним, заметил, как странный человек ритмично покачивается коротким, едва заметным движением, подобно тому как темные верхушки деревьев покачивались от легкого ветерка, который блуждал по садовым дорожкам и слегка шевелил опавшие листья.
Сад стремительно погружался во тьму, как перед бурей, но все, что в нем находилось, по-прежнему было прекрасно видно. Аткинсон с безразличным выражением стоял, лениво прислонившись плечом к дереву, жена Куинтона все еще маячила в окне, доктор шагал вдоль оранжереи, и его сигара напоминала блуждающий огонек, факир продолжал покачиваться, сидя на траве, но деревья у него над головой закачались, зашумели, видимо, действительно приближалась буря.
– Когда индус заговорил с нами, – негромко продолжил Браун, – у меня было видение. Я видел не только его самого, но и весь его мир. Хотя он всего лишь повторил одну и ту же фразу три раза. Когда он первый раз сказал «мне ничего не нужно», это всего лишь означало, что он неприступен и недостижим, что Азия не откроется первому встречному. Потом он снова произнес «мне ничего не нужно», и я понял, что он самодостаточен, как космос, что ему не нужен Бог и он не признает никаких грехов. А когда он третий раз сказал «мне ничего не нужно», глаза его сверкали, и я понял, что говорит он это в прямом смысле, что у него нет желаний, что ему не нужен дом, что его ничто в этом мире не беспокоит. Этот полный отказ от всего, это полное разрушение всех и вся…
Упали две капли дождя, и Фламбо, почему-то вздрогнув, посмотрел на небо, как будто они ужалили его. И в ту же секунду доктор, который был у конца оранжереи, стремглав бросился бежать обратно, что-то крича на ходу.
Пробежав мимо них, он накинулся на Аткинсона, который направился было к крыльцу, и мертвой хваткой схватил его за шиворот.
– Мерзавец! – закричал он. – Ты что надумал? Что ты с ним сделал?
Священник вскочил и железным командным голосом крикнул:
– Прекратить драку! Мы и так никому не дадим уйти. В чем дело, доктор?
– С Куинтоном что-то не то! – дрожащим голосом воскликнул Харрис, стремительно бледнея. – Я только что видел его через стекло, он лежит как-то не так. По крайней мере, не так, как я его оставил.
– Пройдем к нему, – коротко сказал отец Браун. – Мистера Аткинсона можете оставить в покое, он все время был у меня на виду, после того как мы слышали голос Куинтона.
– Я все равно пока останусь и постерегу его, – торопливо добавил Фламбо. – А вы идите в дом и проверьте.
Доктор со священником метнулись к двери в кабинет, отперли ее и ринулись внутрь. Из-за того что помещение освещалось лишь светом, который давал слабый огонь в камине, по дороге они чуть не налетели на большой стол из красного дерева посередине комнаты, за которым поэт обычно творил. На нем лежал лист бумаги, который явно оставили на самом видном месте, чтобы он бросился в глаза тому, кто войдет. Доктор схватил листок, взглянул на него, передал отцу Брауну и с криком «О Боже, вы только посмотрите!» устремился в комнату со стеклянными стенами, где жуткие тропические цветы, казалось, все еще хранили воспоминание об алом закате.
Отец Браун трижды перечитал слова на бумаге, прежде чем оторваться от нее. Короткая записка гласила: «Я принял смерть от собственной руки, но я – жертва убийства!» Написано это было неповторимым (и практически нечитаемым) почерком Леонарда Куинтона.
Священник с запиской в руке направился к оранжерее, но навстречу ему с застывшим на лице трагическим выражением вышел его друг медик.
– Все кончено, – произнес Харрис.
Вместе они прошли мимо пышущих неестественной красотой кактусов и азалий и увидели Леонарда Куинтона, поэта и романтика, который лежал на оттоманке, свесив голову так низко, что его каштановые кудри рассыпались по полу. Из его груди, с левой стороны торчал тот самый странный кинжал, который они подобрали в саду. Безвольная рука поэта все еще лежала на его рукоятке.
На дом обрушилась буря, налетела, как ночь у Кольриджа. Хлынул дождь, сад и стеклянная крыша сразу потемнели. Отца Брауна записка, похоже, интересовала больше, чем труп. Он поднес бумагу близко к глазам, будто старался разобрать буквы в наступившей полутьме, потом подставил ее под слабый свет, и как только он это сделал, сверкнула молния, и свет ее был таким ярким, что бумага показалась черной.
В наступившей в следующий миг кромешной тьме грянул оглушительный гром. Когда он затих, из темноты раздался голос отца Брауна:
– Доктор, у этой бумаги неправильная форма.
– Что вы имеете в виду? – спросил доктор Харрис и нахмурился.
– Она не прямоугольная, – ответил Браун. – Один из уголков отрезан. Что это означает?
– Откуда, черт возьми, мне знать? – раздраженно бросил доктор. – Бедняга мертв. Давайте его переложим.
– Нет, – сказал священник, продолжая внимательно смотреть на бумагу. – Пока не приедет полиция, пусть так и лежит.
Когда они шли обратно через кабинет, он взял со стола маленькие маникюрные ножницы.
– Ага, – промолвил святой отец, и в голосе его послышалось облегчение. – Вот, значит, чем он это сделал. И все же… – Брови его сдвинулись.
– Хватит с этой дурацкой бумажкой возиться, – строгим тоном произнес доктор. – Это его обычные штучки. У него таких бумажек сотни. Он все их так обрезал. – И он показал на стопку бумаг, еще не использованных, на втором столе меньшего размера. Отец Браун подошел к нему и взял листок. Он был такой же неправильной формы.
– Действительно. А вот и отрезанные уголки, – произнес он и к молчаливому негодованию коллеги принялся их считать. – Сходится, – закончив, с извиняющейся улыбкой промолвил он. – Двадцать три обрезанных листа бумаги и двадцать два уголка. Я вижу, вам не терпится, поэтому давайте вернемся к остальным.
– Надо его жене сказать, – сказал доктор Харрис. – Кто это сделает? Может быть, вы сходите, пока я пошлю слугу за полицией?
– Хорошо, – безропотно повиновался отец Браун и вышел в прихожую.
Там его ожидала еще одна драма, но на этот раз более эксцентричная. Его рослый друг Фламбо стоял в боксерской позе, а на земле под крыльцом растянулся Аткинсон с задранными ногами; его котелок и прогулочная трость разлетелись в противоположных направлениях. Устав от почти отеческого внимания Фламбо, Аткинсон попытался сбить Roi des Apaches[20] с ног, что с его стороны было весьма неразумно, даже несмотря на то, что монарх отрекся от этого престола.
Фламбо уже хотел прыгнуть на врага и скрутить его, но священник легко похлопал его по плечу.
– Оставьте мистера Аткинсона, друг мой, – сказал святой отец. – Попросите друг у друга прощения и попрощайтесь. Нам больше незачем его задерживать. – Затем, когда Аткинсон встал, подозрительно поглядывая на них, поднял шляпу и трость и направился к садовой калитке, отец Браун более серьезно произнес: – Где индус?
Все трое (доктор уже присоединился к ним) невольно посмотрели на поросший травой пятачок между колышущихся деревьев, в сумерках казавшихся фиолетовыми. Но там, где совсем недавно странный коричневый человек сидел, покачиваясь, в немой молитве, никого не было. Индус исчез.
– Вот дьявол! – вскричал доктор и в сердцах топнул ногой. – Теперь точно можно не сомневаться, что это его рук дело.
– Вы, кажется, не верили в магию, – спокойно сказал отец Браун.
– Да черт с ней, с магией! – ярился доктор, бешено вращая глазами. – Я только знаю, что презирал этого желтомордого дьявола, когда считал его шарлатаном, и буду презирать его еще больше, если он окажется настоящим магом.
– В любом случае то, что он пропал, ни о чем не говорит, – заметил Фламбо, – потому что мы и доказать-то ничего не можем. Представьте, что о нас подумают в участке, если мы расскажем там, что самоубийцу околдовали или загипнотизировали!
Отец Браун тем временем вернулся в дом, чтобы сообщить о случившемся жене покойного. Из ее комнаты он вышел с лицом бледным и трагическим, но то, что произошло между ними во время того разговора, так и осталось неизвестным, даже тогда, когда известно стало все.
Фламбо тихо переговаривался с доктором, но, увидев друга так скоро, порядком удивился. Однако Браун не обратил на него внимания, он отвел в сторонку доктора и спросил:
– Вы ведь уже послали за полицией?
– Да, – ответил Харрис. – Через десять минут они будут здесь.
– Вы не могли бы оказать мне услугу? – тихо произнес священник. – Видите ли, я собираю подобные необычные истории, в которых есть такое – как в случае с нашим индийским другом, – о чем вряд ли будет упомянуто в полицейском отчете. Я бы хотел, чтобы вы написали отдельный отчет об этом деле специально для меня, для моего личного пользования. У вас ответственная профессия, – сказал он, внимательно всматриваясь в глаза доктора. – Мне иногда кажется, что вам известно об этом деле кое-что такое, о чем вы не стали бы упоминать полиции. У меня такая же ответственная профессия, как и у вас, и все, что вы напишете, будет сохранено в тайне. Только прошу вас, изложите все, что вам известно.
Доктор, который слушал очень внимательно, немного склонив набок голову, посмотрел на священника, сказал: «Хорошо» и ушел в кабинет, закрыв за собой дверь.
– Фламбо, – обратился отец Браун к другу, – на террасе – скамейка. Пока идет дождь, давайте посидим там, покурим. Вы мой единственный друг в этом мире, и я хочу поговорить с вами… Или помолчать.
Они удобно устроились под навесом, отец Браун против своего обыкновения принял предложенную сигару и стал молча курить, пока неистовый дождь отчаянно грохотал по крыше.
– Друг мой, – наконец заговорил он, – это очень странное дело. Очень странное.
– Да уж, – согласился Фламбо, поежившись.
– И вы, и я, мы оба считаем его странным и все же подразумеваем совершенно противоположное. Разум современного человека неизменно путает два различных понятия: удивительное и сложное. Это наполовину объясняет сложность понимания чудес. Чудо поражает, но суть его проста. Она проста, потому что это чудо. Это сила, идущая непосредственно от Бога (или дьявола), а не опосредованно через природу или волю человека. Вы находите это дело удивительным, потому что видите в нем чудо, магию злого индуса. Поймите, я не говорю, что здесь нет ничего сверхъестественного или дьявольского. Только Господу и дьяволу известно, что заставляет людей грешить, но в отношении того, что случилось сегодня здесь, вот моя точка зрения: если, как вы считаете, во всем виновата магия, то, что произошло, можно считать чудом, однако дело это нельзя назвать таинственным… То есть суть его проста. Но главной особенностью чуда является то, что суть его таинственна, а способ воплощения прост. Способ воплощения нашего дела противоположен понятию простоты.
Приутихший было дождь снова набрал силу, послышались отдаленные раскаты грома. Отец Браун стряхнул пепел с сигары и продолжил:
– Особенности этого дела можно назвать извращенными, жуткими, запутанными, такие качества не присущи прямым ударам небес или ада. Как по петляющему следу узнают змею, так я по запутанному следу вижу человека.
На мгновенье приоткрылся чудовищный белый глаз молнии, потом небеса снова сомкнулись, и священник заговорил снова:
– Из всех неправильностей этого дела самой неправильной неправильностью была форма того листка бумаги. Она была даже неправильнее кинжала, который отнял жизнь у Леонарда Куинтона.
– Вы имеете в виду записку, которую он написал перед самоубийством? – спросил Фламбо.
– Я имею в виду тот лист бумаги, на котором Куинтон написал: «Я принял смерть от собственной руки», – ответил отец Браун. – У этого листа была неправильная форма, мой друг. И более неправильной формы я еще не видел в этом жестоком мире.
– Но у него всего-то был отрезан уголок, – удивился француз. – У Куинтона все бумаги обрезаны подобным образом.
– Это очень странный образ, – промолвил его друг, – и по моему разумению, недобрый. Послушайте, Фламбо, этот Куинтон (упокой, Господи, его душу!) был не самым воспитанным человеком, но в душе он был художником, настоящим художником, и умел обращаться не только с пером, но и с карандашом. Почерк его трудно прочитать, но он был уверенным и красивым. Я не могу доказать того, что говорю, я ничего не могу доказать. Но я голову готов дать на отсечение, что он никогда не отрезал бы от листа бумаги такой маленький отвратительный кусочек. Если бы ему нужно было обрезать бумагу для каких-то целей, скажем, чтобы поместить ее куда-нибудь, или согнуть, не важно, он бы сделал ножницами совсем другой надрез. Вы помните контур? Это был некрасивый, уродливый контур. Неверный контур. Вот такой, помните?
И он стал так быстро чертить в темноте горящей сигарой неправильной формы прямоугольники, что Фламбо они действительно показались похожими на огненные письмена в ночи… Письмена, о которых говорил его друг. Письмена, прочитать которые невозможно. Письмена, которые таят в себе угрозу.
– Но, – промолвил Фламбо, когда его друг опять сунул сигару в рот, откинулся на спинку скамейки и стал смотреть на крышу, – если предположить, что ножницами воспользовался кто-то другой… Как он мог, отрезав уголок от листа бумаги, заставить Куинтона покончить с собой?
Продолжая рассматривать крышу, отец Браун вынул изо рта сигару и произнес:
– Никакого самоубийства не было.
– Как? – изумился Фламбо. – Тогда с какой стати он в нем признался?
Священник снова подался вперед и, уперевшись локтями в колени, посмотрел себе под ноги. Голос его прозвучал тихо, но отчетливо:
– Он не признавался в самоубийстве.
Фламбо вынул изо рта сигару.
– То есть вы хотите сказать, что записку подделали?
– Нет, – сказал отец Браун, – ее написал Куинтон.
– Приехали! – начиная раздражаться, вскричал Фламбо. – Значит, Куинтон написал: «Я принял смерть от собственной руки» собственной рукой на чистом листе бумаги, верно?
– На бумаге неправильной формы, – спокойно уточнил священник.
– Да пропади она пропадом, эта форма! – взорвался Фламбо. – При чем вообще тут форма?
– Там было двадцать три порезанных листа, – нисколько не смутившись, продолжил Браун, – и только двадцать два уголка. Из этого следует, что один уголок был уничтожен. Возможно, уголок от листа с запиской. Вас это не наводит ни на какие выводы?
Фламбо просиял.
– Там было написано что-то еще! – воскликнул он. – Куинтон написал еще несколько слов. Что-то вроде «Вам скажут, что я принял смерть от собственной руки» или «Не верьте, что…».
– Теплее, как говорят дети, – сказал его друг. – Только ширина отрезанного кусочка – полдюйма, не больше. На нем не хватило бы места и для одного слова, что уж говорить о трех. Что по размеру едва ли большее запятой мог захотеть оторвать от текста человек, задумавший зло, чтобы снять с себя подозрения?
– Ума не приложу, – подумав, признался Фламбо.
– Как насчет кавычек? – спросил отец Браун и выбросил сигару. Красный огонек падающей звездой улетел далеко в темноту.
Его друг сидел, словно воды в рот набрал, и отец Браун, терпеливо, как учитель, возвращающийся к азам науки, продолжил:
– Леонард Куинтон был сочинителем и, что называется, витал в облаках. Он писал повесть о восточной магии и гипнозе. Он…
В этот миг дверь у них за спинами быстро открылась, и из нее шагнул доктор. Он был в шляпе. Вложив длинный конверт в руки священника, он сказал:
– Вот документ, который вы просили. А мне пора домой. Прощайте.
– Всего доброго, – произнес отец Браун, провожая взглядом доктора, который торопливым шагом уходил в темноту по направлению к калитке.
Из-за оставшейся открытой двери на террасу падал узкий сноп света от газовой лампы. Отец Браун распечатал конверт, поднес письмо к свету и прочитал следующее:
«Дорогой отец Браун! Vicisti, Galilaee[21]. Иными словами, будьте вы прокляты с вашей наблюдательностью. Неужели во всей этой вашей поповской болтовне действительно что-то есть?
Я – человек, который с детства верил в Природу и во все естественные функции и инстинкты вне зависимости от того, как их называют люди – нравственными или безнравственными. Задолго до того, как стать врачом, еще учась в школе и держа у себя мышей и пауков, я верил, что быть простым животным – это лучшее, что только есть в мире. Но сейчас вера моя пошатнулась – я верил в Природу, а оказалось, что Природа может предать. Возможно ли, чтобы в ваших бреднях в самом деле что-то было? Я уже ничего не понимаю.
Я любил жену Куинтона. Что тут плохого? Природа вселила в меня это чувство, и разве не любовь движет миром? Я искренне верил, что она будет более счастлива с чистым животным, таким как я, чем с этим маленьким, не знающим покоя безумцем. В чем я был не прав? Я всего лишь рассматривал факты, как и полагается человеку науки. Со мной она была бы счастливее.
Моя собственная вера не запрещала мне убить Куинтона (отчего выиграли бы все, в том числе и я). Но как здоровое животное, я не хотел причинять вред себе, поэтому решил, что сделаю это только в том случае, если буду полностью уверен, что выйду сухим из воды. Сегодня утром я увидел такую возможность.
Сегодня я трижды заходил в кабинет Куинтона. Первый раз, когда я к нему зашел, он говорил только о своем новом странном рассказе „Исцеление святого“, в нем один индийский отшельник силой мысли заставил английского полковника наложить на себя руки. Он даже показал мне несколько последних страниц рукописи и прочитал последний абзац, что-то вроде „Покоритель Пенджаба, превратившийся в пожелтевший скелет, хотя все еще огромный, сумел приподняться на локте и прошептать на ухо племяннику: ‘Я принял смерть от собственной руки, но я – жертва убийства!’“ По какой-то невообразимой случайности последние слова оказались написаны наверху новой страницы. Я вышел из кабинета и, охваченный страшным волнением, направился в сад.
Пока мы обходили дом, произошли еще два события, которые были мне на руку. Вы заподозрили в недобрых замыслах индуса и нашли кинжал, которым тот, вполне вероятно, мог воспользоваться. Под благовидным предлогом я завладел кинжалом, вернулся в кабинет Куинтона и напоил его снотворным. Он не хотел разговаривать с Аткинсоном, но я убедил его подать голос и успокоить этого простофилю по одной причине: мне требовалось доказательство того, что Куинтон был все еще жив, когда я выходил из его комнаты во второй раз. Куинтон лег в оранжерее, а я вышел в кабинет. У меня ловкие руки, поэтому через полторы минуты все было готово. Начало рассказа Куинтона я бросил в камин, где бумаги и сгорели. Потом я подумал, что нужно избавиться от кавычек (на предсмертной записке они были не к месту), и попросту отрезал уголок бумаги. Потом для большего правдоподобия так же обрезал остальные листы. После этого я ушел, оставив предсмертную записку на столе в кабинете, а Куинтона, засыпающего, но живого, – на диване в оранжерее.
Последний акт драмы, как вы догадываетесь, был самым сложным. Я притворился, что увидел мертвого Куинтона и бросился в его комнату. Задержав вас фальшивой запиской, я убил Куинтона, пока вы рассматривали документ. Он под воздействием снотворного спал, поэтому я просто вложил ему в руку кинжал и вонзил его в тело. Кстати, у кинжала этого такое кривое лезвие, что только оперирующий хирург мог точно рассчитать нужный угол, чтобы попасть в сердце. Интересно, заметили ли вы это?
Когда я это сделал, случилось необъяснимое. Природа оставила меня. Мне стало дурно. Я вдруг подумал, что совершил что-то нехорошее. Мой мозг как будто был готов разорваться на части. Мне отчаянно захотелось рассказать о своем поступке кому-то, чтобы я не остался один на один с этим воспоминанием, когда женюсь и обзаведусь детьми. Что со мной? Безумие? Или человек действительно может испытывать раскаяние, как в какой-нибудь поэме Байрона? Больше не могу писать.
Джеймс Эрскин Харрис».Отец Браун аккуратно сложил бумагу и положил ее во внутренний карман. У калитки громко звякнул колокольчик, на дороге показались несколько полицейских в мокрых плащах.
Эдгар Аллан По
Эдгар Аллан По родился 19 января 1809 года в Бостоне. Его отец бросил семью, а мать умерла от тяжелой болезни, когда маленькому Эдгару не исполнилось и трех лет… Мальчик был взят на воспитание в семью богатого торговца из Ричмонда Джона Аллана, которая через некоторое время переехала в Англию, где мальчика отдали учиться в престижный пансион. В 1820 году семья Алланов вернулась в Ричмонд, и Эдгар поступил в колледж, который закончил в 1826 году. В этом же году По поступил в университет Вирджинии, где проучился всего год. Тогда же он предпринял попытку тайно обвенчаться со своей возлюбленной – Сарой Ройстер, чем вызвал гнев приемного отца… Эдгар уехал в Бостон, где опубликовал свой первый сборник стихов, который, увы, успеха не имел…
В 1829 году Эдгар познакомился со своими родственниками по отцовской линии, и они помогли ему выпустить еще два сборника стихов, также успеха не имевших. Зато в июне 1833 года его рассказ «Рукопись, найденная в бутылке» занял первое место на конкурсе литературного журнала «Baltimor saturday visitor». По стал востребованным писателем-прозаиком, а в декабре 1835 года – редактором журнала «Southern literary messeger». К нему переехали тетка по отцовской линии Мари Клем и ее тринадцатилетняя дочь Виргиния, с которой Эдгар обвенчался через полгода… Вскоре он отказался от работы в журнале и со своей новоиспеченной семьей переехал в Нью-Йорк, где опубликовал несколько новелл, оплаченных весьма скудно.
В 1838 году По принял предложение занять должность редактора в журнале «Gentelmen’s magazine» и из-за этого переехал в Филадельфию. К 1839 году он накопил достаточное состояние, чтобы выпустить книгу «Гротески и арабески». В Филадельфии писатель прожил шесть лет, за это время он опубликовал около тридцати рассказов и множество литературно-критических статей…
В 1844 году Эдгар возвращается в Нью-Йорк. Но вскоре светлая полоса жизни закончилась, снова пришла нищета… От долгой болезни умерла Виргиния…
От горя и безысходности писатель совсем теряет голову, много пьет, начинает употреблять наркотики… В это время в свет выходит его книга «Эврика» – ее он считал «самым большим откровением, которое когда-либо слышало человечество».
3 октября 1849 года его нашли без сознания на железнодорожных путях, а через четыре дня он умер, так и не придя в сознание…
Золотой жук
Глядите! Хо! Он пляшет, как безумный. Тарантул укусил его… Артур Мерфи. Все не правы[22]Много лет назад я познакомился с неким мистером Вильямом Леграном. Он происходил из древнего рода гугенотов и был богат, но несколько случившихся подряд несчастий ввергли его в нужду. Чтобы отделаться от тягостных воспоминаний о своих бедах, он покинул Новый Орлеан, город своих предков, и переехал в Южную Каролину, на остров Салливана, что недалеко от Чарлстона, где и поселился. Остров этот весьма необычен – три мили сплошного морского песка, отделенные от Большой земли почти невидимым проливом, похожим на вязкое болото из ила и грязи, в густых зарослях тростника, где обитает множество водяных курочек. Ширина этого клочка суши нигде не превышает четверти мили. Понятно, что растительность на нем очень скудная, большей частью карликовая. На всем острове нет ни одного высокого дерева. На западной оконечности острова, где вокруг форта Моултри разбросано несколько жалких каркасных домов, в которых летом городские жители спасаются от пыли и лихорадки, правда, можно найти чахлые заросли пальметто[23]. Но в целом остров, за исключением этой западной точки и белого контура жесткого песка на побережье, покрыт густым миртовым подлеском, столь ценимым английскими садоводами. Эти кусты часто достигают пятнадцати-двадцати футов и образуют почти непроходимые заросли, источающие густой удушливый аромат.
В самом сердце этих зарослей, недалеко от восточного края острова, Легран построил небольшую хижину, где он и жил, когда я совершенно случайно впервые повстречался с ним. Знакомство наше вскоре переросло в дружбу, поскольку отшельник этот вызывал во мне огромный интерес и уважение. Он выглядел человеком хорошо образованным и наделенным необычайно острым умом, зараженным, правда, мизантропией. К тому же он был подвержен резким переменам настроения: то его охватывали приступы необузданного воодушевления, то он впадал в меланхолию. Легран обладал немалым количеством книг, но редко к ним обращался. Главными его развлечениями были ружейная охота и рыбалка либо прогулки вдоль берега или в зарослях мирта, целью которых был поиск раковин или редких видов насекомых. Надо сказать, что его энтомологической коллекции позавидовал бы даже Сваммердам[24]. В этих своеобразных экспедициях его обычно сопровождал старый негр по имени Юпитер, бывший раб, освобожденный еще до того, как на семью его хозяина обрушились неудачи. Ни посулы, ни угрозы тем не менее не смогли заставить негра отказаться от того, что он считал своим правом всюду следовать за «масса Виллом» и заботиться о нем. Нельзя исключать того, что родственники Леграна, сомневаясь в его психической уравновешенности, умудрились каким-то образом специально внушить Юпитеру подобное упрямство с тем, чтобы скиталец не оставался без опеки.
Зимы на широтах острова Салливана редко бывают суровыми, осенью зажженный камин считается редкостью. Однако примерно в середине октября 18… года выдался необычно холодный день. Перед самым закатом я пробился через заросли вечнозеленых растений к хижине своего друга, которого последний раз навещал несколько недель назад – дело в том, что я жил в Чарлстоне, в девяти милях от острова, и в те времена добраться туда было несравненно тяжелее, чем в наши дни. Оказавшись у двери, я постучал, как было условлено, и, не услышав ответа, взял ключ, спрятанный в известном мне месте, открыл дверь и вошел. В очаге полыхал огонь. Это было необычно, но вполне уместно. Сбросив пальто, я сел в кресло рядом с камином, в котором потрескивали поленья, и стал терпеливо дожидаться возвращения хозяев.
Вернулись они затемно и очень мне обрадовались. Юпитер, улыбаясь во весь рот, бросился готовить на ужин водяных курочек. Легран пребывал в состоянии воодушевления. Он обнаружил еще неведомого науке двустворчатого моллюска, к тому же ему посчастливилось с помощью Юпитера изловить какого-то жука, скарабея, как он считал, тоже доселе неизвестного вида. Правда, по поводу последнего он хотел завтра услышать мое мнение.
– Почему же не сегодня? – поинтересовался я, потирая протянутые к огню руки и в душе проклиная все скарабеево племя.
– Эх, если б я знал, что вы здесь! – воскликнул Легран. – Но я вас так давно не видел, мог ли я предположить, что вы решите навестить меня именно сегодня вечером? По пути домой я встретил лейтенанта Дж. из форта и совершил непростительную глупость: отдал ему жука на время, так что до завтра вам никак не удастся его увидеть. Переночуйте у меня, а на рассвете я пошлю за ним Юпа. Может ли что-нибудь быть прекраснее?
– Вы о чем? О рассвете?
– Что за вздор? Нет, конечно. О жуке. Он золотого цвета и сверкает, как бриллиант… Размером с большой орех гикори… На спинке на одной стороне – два черных пятнышка, а на другой – еще одно, немного вытянутое. Усики и голова у него…
– Да нет в нем олова, говорю вам, масса Вилл, – вмешался в разговор Юпитер. – Золотой это жук, весь как есть из чистого золота! И внутри и снаружи, кроме крылышек… Я такого тяжеленного жука в жизни не видывал.
– Хорошо, хорошо, Юп, пусть будет золотой, – ответил Легран, как показалось мне, несколько серьезнее, чем можно было ожидать в подобной ситуации. – Что, из-за этого мы должны есть пригоревшую птицу? Цвет у него, – он снова повернулся ко мне, – в самом деле, такой, что можно поверить Юпитеру. Видели бы вы, каким металлическим блеском сверкают его надкрылья… Но вы сами сможете завтра в этом убедиться. А пока я могу нарисовать вам, как он выглядит.
С этими словами он уселся за небольшой стол, на котором лежало перо, стояла чернильница, но не было бумаги. Легран заглянул в ящик.
– Ладно, – сказал он, не найдя бумаги и там, – воспользуемся этим. – И вынул из кармана жилета какой-то очень грязный листок бумаги, на котором стал делать пером грубый набросок.
Пока он этим занимался, я продолжать сидеть у огня, поскольку все еще не согрелся. Когда рисунок был закончен, он, не вставая, передал его мне. Как только я взял его в руки, раздалось громкое рычание, а потом кто-то стал сильно царапаться в дверь. Когда Юпитер открыл ее, в хижину ворвался огромный ньюфаундленд Леграна, который тут же устремился ко мне, положил лапы мне на плечи и принялся ласкаться – вспомнил, наверное, как я играл с ним, когда приходил раньше. Наконец отделавшись от него, я взглянул на бумагу и, честно говоря, изрядно удивился, увидев то, что изобразил на ней мой друг.
– Хм! – произнес я после того, как несколько минут рассматривал рисунок. – Надо признать, довольно странный жук. Никогда раньше такого не видел. Если бы я не знал, что это жук, я бы решил, что вы нарисовали череп или мертвую голову.
– Мертвую голову! – повторил Легран. – Да… Действительно… На бумаге некоторое сходство несомненно есть. Верхние два пятнышка похожи на глазницы, да? А длинное нижнее – это рот… Да и общий контур тела овальный.
– Возможно, – сказал я. – Но, Легран, боюсь, дело просто в том, что вы – неважный художник. Думаю, мне нужно увидеть ваше открытие своими глазами.
– Право, не знаю, – сказал он, несколько уязвленный моим замечанием. – Я всегда рисовал довольно сносно… По крайней мере, должен рисовать сносно, потому что у меня были прекрасные учителя. Да и болваном себя тоже, знаете ли, никогда не считал.
– Но, дорогой мой, в таком случае вы, очевидно, просто шутите! – воскликнул я. – Ну посмотрите сами, это же вылитый череп, как представляют этот предмет простые люди, не особо сведущие в физиологии… Если ваш жук в самом деле имеет такой вид, то это самый странный жук из всех существующих в природе. Представьте только, как на него должны смотреть суеверные люди! Вам нужно назвать своего жука Scarabaeus caput hominis[25] или как-нибудь в этом роде. В естествознании есть множество похожих названий. Но где же усики, о которых вы говорили?
– Усики? – горячо воскликнул Легран, которого этот разговор, похоже, расстроил. – Неужели вы их не видите? Я нарисовал их точно так, как они выглядят, и, по-моему, этого должно быть вполне достаточно.
– Ну, знаете… – ответил я. – Может быть, вы их и рисовали, но я тем не менее их не вижу. – И я передал ему рисунок без дальнейших комментариев, поскольку не хотел продолжать его огорчать. По правде говоря, меня очень удивило, что разговор наш принял такой оборот. Его дурное настроение озадачило меня… А что касается рисунка, у жука на нем в самом деле не было никаких усиков, и он действительно очертаниями чрезвычайно напоминал обычный череп.
Легран с раздражением взял у меня листок и в сердцах хотел скомкать его и бросить в огонь, но случайно что-то в рисунке привлекло его внимание. Мгновенно лицо его сделалось красным, как вареный рак, а в следующую секунду жутко побледнело. Не вставая с места, он несколько минут сосредоточенно рассматривал рисунок, потом поднялся, взял со стола свечку и уселся на матросский сундучок, стоявший в дальнем углу. Там он еще раз подверг внимательному осмотру бумагу, поворачивая ее во все стороны, крутил и так и этак, за все это время не проронив ни звука. Меня, признаться, сильно удивило подобное поведение, однако, не желая обострять нарастающую раздражительность друга, я посчитал за лучшее воздержаться от каких-либо замечаний и тоже молчал. Наконец он достал из кармана бумажник, аккуратно положил в него листок и спрятал в ящик письменного стола, который запер на ключ. Теперь он держался значительно сдержаннее, но от былой радости не осталось и следа. Впрочем, он был скорее задумчив, чем мрачен, и в течение вечера все больше и больше уходил в себя, как я ни старался вернуть его в прежнее расположение духа. Сначала я собирался остаться на ночь в хижине, как много раз прежде, но, видя настроение своего друга, решил все же покинуть его. Он не стал настаивать на том, чтобы я остался, но на прощание пожал мне руку крепче обычного.
С того дня прошло около месяца (в течение которого я не встречался с Леграном и ничего не слышал о нем), когда ко мне в Чарлстон наведался Юпитер. Никогда я не видел доброго старого негра в таком подавленном настроении и посчитал, что с моим другом стряслась какая-то беда.
– Слушай, Юп, – сказал я, – что случилось на этот раз? Как твой хозяин?
– О, правду вам скажу, масса, совсем нехорошо.
– Нехорошо? Ай-я-яй! На что же он жалуется?
– То-то и оно… Он ни на что не жалуется… Но ему совсем-совсем худо.
– Совсем худо? Юпитер, что же ты сразу не сказал? Он что, прикован к постели? Не может встать?
– Нет, куда там!.. Совсем наоборот… В том-то и дело… Ох, волнуюсь я за бедного масса Вилла.
– Юпитер, я не понимаю, о чем ты. Говоришь, твоему хозяину совсем плохо. Он не сказал тебе, что его беспокоит?
– Я и сам не знаю, что и думать… Масса Вилл не говорит Юпу, что с ним… Да только почему он все время ходит, уткнувшись носом в землю, плечи у него вверх торчат, сам белый, как гусь? И еще считает все время…
– Что делает?
– Считает, цифры какие-то пишет на доске грифельной… Да такие чудные, что я сроду таких не видал. Ох, страшно мне! Боюсь я за него, как бы с нервами у него ничего не приключилось. Недавно, пока я спал, когда еще даже солнце не встало, он сбежал и пропадал весь день! Я решил: вернется – ну и задам же я ему трепку! Уже и палку приготовил, чтоб проучить как следует. Да только дурак старый Юп! Не решился я этого сделать… Он такой несчастный тогда пришел…
– Что?… А-а-а… Ну да! Но не думаю я, что тебе нужно так уж строго с несчастным парнем… Не бей его, Юпитер… Он не перенесет этого… Но неужели ты не знаешь, что вызвало эту болезнь или, вернее сказать, подобную перемену в поведении? Может быть, с тех пор как я в последний раз был у вас, что-нибудь случилось?
– Нет, масса, ничего такого с тех пор не случилось… Боюсь я, что все как раз в тот самый день и началось… Ну, когда вы приходили.
– Что ты имеешь в виду?
– Да как же, жука того, чтоб ему…
– Что?
– Жука… Говорю вам, масса Вилла этот жук золотой в голову укусил…
– И что же тебя, Юпитер, привело к такой мысли, интересно было бы узнать.
– Вот-вот, лапы, да с когтями, масса, и еще пасть его. Никогда раньше Юпитер не видел таких жуков… Он бросается на все и кусает все, что к нему ни приближается. Масса Вилл поймать-то быстро его поймал, да только тут же и выронил… Говорю вам, тогда-то жук и укусил его. Мне пасть его сразу не понравилась, я даже прикасаться к нему не захотел, поймал его бумажкой, которую там рядом нашел. Завернул его в нее и кусок в пасть ему засунул. Так и было!
– И ты думаешь, что тогда твоего хозяина укусил жук и от этого укуса он заболел, верно?
– Ничего я не думаю… Я знаю. Если б золотой жук не укусил его, стало бы золото ему сниться всю ночь? Слышал я про этих жуков.
– Но откуда тебе известно, что ему снится золото?
– Откуда известно? Да он разговаривает во сне и все про него твердит…
– Что ж, Юп, возможно, ты и прав. Но чем все-таки я обязан твоему визиту?
– Что-что, масса?
– Мистер Легран просил мне что-то передать?
– Нет, масса. Я письмо принес.
И Юпитер вручил мне записку следующего содержания:
«Дорогой…
Что же Вы так долго не заходите? Надеюсь, Вы не обиделись на небольшую brusquerie[26] с моей стороны во время нашей последней встречи? Нет, конечно же, нет. С тех пор как мы в последний раз виделись, у меня появилась серьезная причина для беспокойства. Мне нужно кое-что Вам сказать, хотя я даже не представляю, как говорить об этом, и даже не уверен, стоит ли это делать.
На днях мне немного нездоровилось, к тому же бедный старик Юп невыносимо досаждает мне своей заботой. Можете себе представить, он даже недавно огромную палку приготовил, чтобы меня поколотить за то, что я улизнул от него и провел весь день solus[27] на холмах. Боюсь, что избежать наказания мне удалось лишь благодаря своему жалкому виду.
После нашей с Вами встречи я ничем не пополнил свою коллекцию.
В любом случае, если Вас это не затруднит, приходите с Юпитером. Прошу Вас, приходите. Мне бы очень хотелось увидеть Вас сегодня. Дело очень серьезное, поверьте.
Всегда Ваш,
Вильям Легран».Тон этого послания меня сильно взволновал. Такой стиль совершенно не был в духе Леграна. О чем он думал? На какой новый крючок попался этот неспокойный мозг? Что это за «очень серьезное дело», о котором он пишет? Рассказ Юпитера не предвещал ничего хорошего. С ужасом я подумал, что пережитые моим другом несчастья в конце концов сказались на его рассудке, и без промедления стал собираться в дорогу.
Когда мы пришли на причал, я увидел в лодке, на которой нам предстояло плыть, косу и три лопаты, судя по всему, новые.
– Что это, Юп? – поинтересовался я.
– Коса и лопаты, масса.
– Я вижу, но что они тут делают?
– Масса Вилл велел купить их в городе. Ох, и недешево они мне обошлись, скажу я вам!
– Но зачем, во имя всего загадочного, твоему «масса Виллу» понадобились косы и лопаты?
– Не знаю, и пусть меня черти к себе в преисподнюю утащат, если он сам это знает! Да только все это из-за жука проклятого, вот увидите.
Поняв, что Юпитер, у которого все мысли были заняты этим жуком, не сможет ничем мне помочь, я вошел в лодку, и мы отчалили. Дул свежий попутный ветер, и уже скоро мы высадились в небольшой бухточке к северу от форта Моултри; затем, пройдя две мили, достигли хижины. Прибыли мы примерно в три часа пополудни. Легран дожидался нас в необычайном волнении. Он так горячо и нервно стал жать мне руку, что я встревожился не на шутку и мои опасения еще больше возросли. Он был пугающе бледен, а глубоко посаженные глаза его сверкали совершенно неестественно. Осведомившись первым делом о его здоровье, я, не зная, как продолжить беседу, спросил его, забрал ли он у лейтенанта Дж… своего жука.
– О да, – ответил он, густо краснея, – на следующее же утро. Ничто теперь не сможет заставить меня разлучиться с этим скарабеем. А вы знаете, Юпитер оказался прав насчет него.
– В чем именно? – спросил я с недобрым предчувствием.
– В том, что считает этого жука золотым, – ответил он с таким серьезным видом, что у меня упало сердце. – Этот жук принесет мне состояние, – продолжил он, радостно улыбнувшись. – С его помощью я верну утраченное родовое богатство. Так что не удивляйтесь, что я его так ценю. Раз уж судьба решила дать мне его в руки, мне остается только умело воспользоваться ее даром, и он выведет меня к золоту. Юпитер, принеси скарабея!
– Что, жука? Масса, я к этому жуку не прикоснусь… Сами его себе несите.
Легран встал и с важным, преисполненным достоинства видом принес жука, который находился в закрытом стеклянном сосуде. Действительно, жук был на редкость красив, и биологам тогда этот вид был еще не известен… Несомненно, с научной точки зрения, ценность его была неоспорима. На спинке у него красовалось три черных пятна – два круглых с одной стороны и одно вытянутое – с другой. Поразительно твердые и гладкие надкрылья действительно сверкали, как настоящее полированное золото. Вес насекомого тоже был очень необычным. Увидев этого жука своими глазами, я не мог так уж строго судить Юпитера. Однако что заставило Леграна принять точку зрения негра, я, хоть убей, не мог понять.
– За вами я послал, – произнес он торжественным голосом, когда я закончил исследовать жука, – для того, чтобы заручиться вашей поддержкой и помощью в достижении целей, указанных Провидением и жуком…
– Дорогой Легран, – воскликнул я, прерывая его, – вы явно нездоровы, вам нужно лечиться. Давайте, вы ложитесь, а я останусь с вами на несколько дней, пока вам не станет лучше. У вас лихорадка и…
– Проверьте мой пульс, – сказал он.
Я выполнил его просьбу и не обнаружил никаких признаков лихорадки.
– Но можно болеть и без лихорадки. Уж позвольте мне на этот раз дать вам совет. Во-первых, вы должны лечь в постель. Во-вторых…
– Вы ошибаетесь, – перебил он меня. – Я совершенно здоров, если не считать переполняющего меня возбуждения. Если вы действительно хотите мне помочь, помогите мне от него избавиться.
– И как же это сделать?
– Очень просто. Мы с Юпитером отправляемся в экспедицию на Большую землю, в горы, и нам понадобится помощь человека, на которого мы могли бы положиться. Вы – единственный, кому мы доверяем. Независимо от того, чем экспедиция закончится, успехом или провалом, мое возбуждение оставит меня.
– Я с радостью окажу вам любую помощь, – ответил я. – Но не хотите ли вы сказать, что этот чертов жук имеет какое-то отношение к вашей экспедиции?
– Самое непосредственное.
– В таком случае, Легран, я не собираюсь участвовать в этой бессмысленной затее.
– Как жаль… Действительно, очень жаль… потому что тогда нам придется справляться одним.
– Справляться одним! Нет, вы точно сошли с ума!.. Но, погодите… Как долго, по-вашему, продлится ваша экспедиция?
– Возможно, всю ночь. Мы выходим немедленно и вернемся, скорее всего, с восходом.
– И вы клянетесь честью, что, когда этот ваш каприз будет удовлетворен и все это дело с жуком (Боже правый!) закончится, вы вернетесь домой и неукоснительно выполните все предписания, которые я дам как ваш врач?
– Да. Клянусь. А теперь в путь. Время не ждет!
С тяжелым сердцем я вышел из хижины вслед за своим другом. В путь мы двинулись около четырех часов – Легран, Юпитер, собака и я. Косу и лопаты нес Юпитер по собственному желанию: мне кажется, больше из страха доверить эти орудия своему хозяину, а не из вежливости или старательности. Настроение его не изменилось, и единственные слова, которые слетали с его уст в течение всего путешествия, были: «Этот проклятый жук». Мне было доверено нести пару потайных фонарей, а сам Легран нес жука, привязанного к концу тонкой бечевки, которого на ходу поворачивал то в одну, то в другую сторону с видом заправского фокусника. Глядя на это последнее очевидное доказательство помутнения рассудка моего друга, я не мог сдержать слез. Тем не менее я посчитал, что будет разумнее до поры до времени потворствовать его фантазиям, хотя бы до первого подходящего случая, когда понадобится применить какие-нибудь более энергичные меры воздействия. Пока же я осторожно пытался выяснить у него, какова цель нашей экспедиции. Зря старался – добившись от меня согласия сопровождать его, он, похоже, утратил всякое желание поддерживать какие бы то ни было разговоры и на все мои вопросы отвечал лишь: «Посмотрим!»
Пролив мы пересекли на плоскодонке и, высадившись на Большой земле, двинулись в северо-западном направлении через дикие и пустынные земли, где, похоже, никогда не ступала нога человека. Легран уверенно вел нас за собой, останавливаясь лишь ненадолго для того, чтобы свериться с какими-то одному ему известными ориентирами, которые, должно быть, запомнил, побывав здесь прежде.
Так продолжалось примерно два часа, пока на закате мы не добрались до мест более унылых и неприветливых, чем все, что мы видели до сих пор. Это была равнина у подножия казавшейся неприступной горы, густо поросшей деревьями до самой вершины и усеянной огромными валунами, которые лежали прямо на земле, будто готовые в любую секунду скатиться в долину. Многие держались на месте только потому, что упирались в деревья. Длинные ущелья, протянувшиеся во всех направлениях, придавали картине еще большую суровость.
Естественная платформа, на которую мы стали карабкаться, была сплошь покрыта зарослями ежевики, и вскоре стало понятно, что без косы нам их не преодолеть. Поэтому Юпитер по указанию хозяина начал прокладывать нам путь к гигантскому тюльпанному дереву, росшему среди десятка дубов, но превосходившему их и все остальные деревья, которые мне когда-либо приходилось видеть, красотой кроны и ствола, размахом ветвей и царственным величием облика в целом. Когда мы достигли дерева, Легран повернулся к Юпитеру и спросил, сможет ли он взобраться на него. Старика этот вопрос, похоже, удивил. Несколько секунд он молчал, потом приблизился к стволу и, внимательно осматривая его, обошел вокруг. Затем просто сказал:
– Да, масса. Юп еще не видел дерева, на которое не смог бы залезть.
– В таком случае поторапливайся – скоро станет совсем темно.
– Как высоко лезть, масса? – поинтересовался Юпитер.
– Сначала доберись до веток, а там я скажу… Стой, возьми жука.
– Жука, масса Вилл?… Золотого жука? – воскликнул негр и стал пятиться в смятении. – Это зачем? Да провалиться мне сквозь землю, если я возьму его в руки!
– Если ты, Юп, взрослый здоровенный негр, боишься взять в руки безобидного мертвого жука, держи его за эту веревочку… Но если ты не возьмешь его с собой, мне придется проломить тебе башку этой лопатой.
– Да что на вас нашло, масса? – пошел на попятную пристыженный Юп. – Вечно вы старого негра обижаете. Я ведь просто пошутил. Чтоб я жука испугался! Да чего его бояться-то?
Он осторожно взялся за кончик бечевки и, держа ее на вытянутой руке подальше от себя, подошел к дереву и приготовился лезть вверх.
Когда тюльпанное дерево, или Liriodendron tulipiferum, прекраснейшее из американских лесных жителей, молодо, ствол у него ровный и гладкий и часто уходит высоко вверх без поперечных веток, но, когда оно достигает зрелого возраста, кора его становится сучковатой и неровной, а ствол покрывается множеством коротких отростков. Поэтому в данном случае сложность подъема была скорее кажущейся. Обхватив огромный цилиндр руками и коленями, хватаясь за одни сучья и упираясь босыми ногами в другие, Юпитер, дважды чудом избежав падения, наконец втиснулся в первую большую развилку и, похоже, посчитал, что на этом самая сложная часть его задания выполнена. Главная опасность действительно была позади, хотя верхолаз теперь находился футах в шестидесяти-семидесяти над землей.
– Куда теперь, масса Вилл? – спросил он.
– Лезь по самому большому суку… с этой стороны, – сказал Легран. Негр послушно устремился вверх по ветке. Теперь карабкаться ему, похоже, было не так трудно. Через какое-то время его скрюченная фигура исчезла из виду в густой листве, а потом сверху послышался его голос:
– Сколько еще лезть?
– Как высоко ты забрался? – крикнул в ответ Легран.
– Высоко! – отозвался негр. – Вижу небо сквозь верхушку дерева.
– Нечего на небо смотреть, слушай, что я буду говорить. Посмотри вниз и посчитай, сколько боковых веток под тобой с этой стороны. Через сколько веток ты перелез?
– Одна, две, три, четыре, пять… Через пять веток, масса, с этой стороны.
– Тогда поднимись еще на одну.
Через несколько минут голос сверху возвестил, что достигнута седьмая ветка.
– А теперь, Юп, – крикнул Легран, явно очень взволнованный, – лезь по этой ветке как можно дальше. Увидишь что-нибудь необычное – дай мне знать.
К этому времени, если какие-то сомнения насчет сумасшествия моего несчастного друга у меня и оставались, они развеялись окончательно. Его, безусловно, охватило безумие, и я всерьез задумался, как доставить его домой. Пока я размышлял над всем этим, снова раздался голос Юпитера.
– Дальше лезть страшно… Ветка вся сухая!
– Ты сказал сухая, Юпитер? – крикнул Легран дрожащим от волнения голосом.
– Да, масса, совсем-совсем мертвая… Мертвее не бывает…
– Черт возьми, что же делать? – в отчаянии воскликнул Легран.
– Что делать? – я обрадовался подвернувшемуся случаю вставить свое слово. – Отправляться домой и ложиться спать. Пойдемте… Ну же! Поздно уже, к тому же вы слово дали, помните?
– Юпитер, – крикнул он, не обратив на мои слова ни малейшего внимания, – ты меня слышишь?
– Да, масса Вилл, слышу, как же не слышать.
– Попробуй ветку ножом. Что, совсем сгнила?
– Совсем, масса, – ответил негр через несколько секунд. – Но не до конца. Один я еще мог бы чуть-чуть дальше проползти.
– Один? Что ты имеешь в виду?
– Жука! Жук очень тяжелый. Может, я его сброшу, а? Одного негра ветка еще выдержит, не сломается.
– Ах, чтоб тебя черти забрали, мерзавец! – крикнул Легран с явным облегчением. – Что за чепуху ты несешь? Попробуй только бросить жука, я тебе сам шею сверну! Юпитер, слышишь меня?
– Да, масса. Что вы все на бедного негра так кричите!
– Ну, вот что, послушай!.. Если еще дальше проползешь по ветке и не бросишь жука, как только спустишься, получишь от меня в подарок серебряный доллар.
– Хорошо, масса Вилл… Готово! – почти сразу крикнул негр. – Я уже у самого конца.
– У самого конца? – завопил Легран. – Ты что, хочешь сказать, что дальше ползти некуда?
– Нет-нет, масса! Я хотел сказать, до конца совсем близко, рукой уже подать… А-а-а-а! У-у-у-у! Господи всемогущий, что это? Что это такое?
– Ну? – обрадованно крикнул Легран. – Что там?
– Ничего такого. Просто череп!.. Кто-то оставил свою голову на дереве, а вороны склевали все мясо.
– Череп, говоришь… Прекрасно… А как он держится на ветке?… Он чем-то прикреплен?
– Да, масса, прикреплен! Посмотреть надо… Ну дела! Вы не поверите, масса… В черепе здоровенный гвоздь!.. Он им прибит к ветке.
– Так, слушай меня очень внимательно, Юпитер, и делай все точно, как я говорю… Ты слышишь?
– Да, масса.
– Внимательно там!.. Найди левый глаз черепа.
– Э-э-э… Гм… Хорошо, сейчас… А у него совсем глаз нету, масса. Ни одного!
– Тупица! Ты знаешь, где у тебя рука правая, а где левая?
– Знаю… Как же такого не знать… Левой рукой я дрова рублю.
– Точно, ты же левша! Так вот, твой левый глаз находится у тебя с той же стороны, что и левая рука. Ну, теперь-то, надеюсь, ты найдешь левый глаз черепа или то место, где был левый глаз? Нашел?
Ответа не было долго. Наконец раздался голос негра:
– У черепа левый глаз с той же стороны, что и левая рука? Так у черепа совсем рук нету… Но я нашел!.. Нашел, вот он левый глаз. И что мне с ним делать?
– Свесь через него жука, насколько хватает веревки. Только смотри, не отпусти!
– Готово, масса Вилл. Свесить жука через дырку – ничего сложного. Вам снизу видно? Вон на веревочке болтается.
За все время этого диалога Юпитера было совершенно не видно, но жука, которого ему удалось-таки опустить, мы заметили сразу. Он покачивался на конце бечевки и блестел, как начищенный золотой шарик, в последних лучах заходящего солнца, все еще озарявших возвышенность, на которой мы стояли. Жук свободно свисал между веток, и, если бы его отпустили, он упал бы прямо к нашим ногам. Легран тут же схватился за косу и расчистил под ним круглое пространство диаметром три-четыре фута. После этого приказал Юпитеру отпустить бечевку и спускаться.
Вбив в землю колышек в том месте, куда упал жук, мой друг достал из кармана рулетку. Прикрепив один ее конец к стволу дерева в месте рядом с колышком, он протянул мерную ленту до колышка, а потом стал разворачивать ее в направлении, на которое указывали две полученные точки (ствол и колышек), пока не отмерил пятьдесят футов. Заросли ежевики косой расчищал Юпитер. В определенном таким образом месте был вбит в землю еще один колышек, а вокруг него описан круг диаметром около четырех футов. После этого Легран взял лопату, вручил лопаты нам с Юпитером и попросил как можно скорее начать копать.
Откровенно говоря, подобного рода занятия никогда не доставляли мне большого удовольствия, и при других обстоятельствах я отказался бы это делать, тем более что приближалась ночь, да и сказывалась усталость. Однако я не смог придумать способа отвертеться и побоялся своим отказом лишить моего бедного друга душевного равновесия. Если бы я был уверен, что могу положиться на помощь Юпитера, я, несомненно, попытался бы доставить обезумевшего домой силой, но я слишком хорошо знал старого негра, чтобы надеяться на его помощь, если я открыто выступлю против его хозяина. У меня уже не осталось сомнения, что Легран позволил себе увлечься одним из бесчисленных на наших южных берегах преданий о якобы зарытых сокровищах и что фантазии его подогрел жук или, возможно, настойчивые уверения Юпитера, что этот жук золотой. Разум, предрасположенный к безумству, легко поддается подобному влиянию, особенно если оно согласуется с уже имеющимися тайными стремлениями души… Тут я вспомнил и слова бедняги о том, что жук этот приведет его к богатству. Я очень расстроился и не знал, как поступить, но, не видя другого выхода, решил смириться с неизбежным и все-таки взялся за лопату, дабы побыстрее наглядно убедить фантазера в ошибочности его взглядов.
Мы зажгли фонари и приступили к работе с усердием, достойным более разумного применения. Когда неяркий свет упал на нас и наши инструменты, я не мог не подумать, каким живописным выглядит наш небольшой отряд со стороны и как удивило бы наше занятие какого-либо путешественника, забреди он в эти дебри.
Два часа мы упорно копали, без отдыха и почти не разговаривая. Больше всего нам мешал лай пса, у которого наше занятие, похоже, вызвало чрезвычайный интерес. В конце концов он до того разошелся, что мы начали побаиваться, как бы он не привлек какого-нибудь бродягу, околачивающегося поблизости. Вернее, этого опасался Легран, потому что я, наоборот, был бы только рад, если бы нам что-то помешало и я бы смог увести своего друга домой. Но этот назойливый шум наконец прекратил Юпитер, который, неторопливо выбравшись из ямы, снял помочи и просто завязал ими морду животного, после чего, криво усмехаясь, вернулся к работе.
За два часа мы углубились в землю на пять футов, но не обнаружили никаких признаков сокровищ. Последовал перерыв в работе, и я уж начал надеяться, что этот фарс наконец-то завершится, но Легран, хоть и был явно обескуражен, сдаваться, похоже, не собирался. В задумчивости погладив лоб, он снова взялся за лопату. Мы уже выкопали круг диаметром четыре фута, теперь слегка расширили его и углубили яму еще на два фута – все так же безрезультатно. Лишь после этого Легран выбрался из ямы. Величайшее разочарование было написано на лице кладоискателя, он стал медленно и неохотно натягивать свой сюртук, который энергично сбросил, когда мы приступали к работе. Надо сказать, что в ту минуту мне даже стало его искренне жаль, но я почел за лучшее сохранять молчание. Юпитер по сигналу хозяина стал собирать инструменты. Сняв путы с морды собаки, мы молча двинулись домой.
Мы не прошли и дюжины шагов, как вдруг Легран, громко выругавшись, подскочил к Юпитеру и схватил его за воротник. Негр, от изумления распахнув глаза и разинув рот, выронил лопаты и повалился на колени.
– Каналья! – прошипел сквозь стиснутые зубы Легран. – Подлый черный негодяй!.. Говори! Ну!.. Отвечай сию же секунду без уверток!.. Где… где у тебя левый глаз?
– Умереть мне на месте, масса Вилл, вот он, вот! Разве нет? – в ужасе закричал Юпитер, закрыв ладонью свой правый глаз так, будто боялся, что хозяин собирается его выколоть.
– Я так и знал! Ура! – завопил Легран, отпустил негра, в восторге сделал несколько курбетов и пустился в пляс, чем поверг в глубочайшее изумление своего слугу, который молча поднялся с колен, воззрился на хозяина, потом на меня и снова перевел взгляд на хозяина.
– Идемте! Мы должны вернуться. Игра не окончена! – выкрикнул мой друг и устремился в обратном направлении. – Юпитер, – сказал он, когда мы снова подошли к тюльпанному дереву, – иди сюда. Скажи, череп был прибит лицом к ветке или от нее?
– Лицо смотрело от дерева, масса, чтобы воронам легче было глаза выклевывать.
– Хорошо. Так, значит, через какой глаз ты опустил жука, через этот или через этот? – спросил Легран, прикоснувшись сначала к левому, потом к правому глазу Юпитера.
– Через этот, масса… через левый… как вы и велели, – и он указал на свой правый глаз.
– Все понятно… Значит, попытаемся еще раз.
С этими словами мой друг, в безумии которого я теперь начал замечать определенную последовательность, вынул из земли колышек в том месте, куда упал жук, и воткнул его несколькими дюймами западнее. После этого, снова приложив рулетку к стволу дерева, он нашел на нем ближайшую к колышку точку и, продвигаясь по прямой в найденном направлении, отмерил от колышка пятьдесят футов. Новое место оказалось в нескольких ярдах от выкопанной нами ямы.
Начертив новый круг, несколько большего диаметра, мы снова взялись за лопаты. Я совершенно выбился из сил, но во мне произошла какая-то непонятная мне самому перемена. Теперь наше занятие уже не вызывало у меня отвращения, я даже стал испытывать к нему интерес. Даже не интерес, а настоящее волнение. Возможно, некая продуманность или рассудительность в столь странном поведении Леграна оказала на меня такое воздействие. Увлеченно копая, я несколько раз ловил себя на том, что с каким-то вожделением думаю о сокровищах, призрачный блеск которых уже лишил ума моего несчастного приятеля. Когда мы проработали примерно полтора часа и все эти мысленные завихрения захватили меня окончательно, нас снова прервал лай пса. Если в первый раз беспокойство его было вызвано игривостью или капризом, то теперь он завывал заунывно и, похоже, совершенно не был склонен к озорству. Когда Юпитер опять попытался надеть на него самодельный намордник, пес стал яростно сопротивляться, вырвался, прыгнул в яму и принялся изо всех сил грести влажную землю лапами. Не прошло и минуты, как он откопал груду костей, которые оказались двумя человеческими скелетами, перемешанными с металлическими пуговицами и клочками сгнившей шерстяной ткани. Еще пара взмахов лопаты – и перед нами предстал большой испанский нож и несколько золотых и серебряных монет.
Когда Юпитер увидел их, его радости не было предела, но хозяин его явно был разочарован. Все же он потребовал, чтобы мы продолжали, и как только он произнес это, я споткнулся и полетел лицом на землю из-за того, что угодил носком ботинка в большое железное кольцо, обнаружившееся в рыхлой земле.
Это придало нам силы, и я не помню, чтобы когда-нибудь в своей жизни трудился с таким же рвением, как в следующие десять минут. Этого времени хватило нам, чтобы извлечь на поверхность продолговатый сундук, деревянные стенки которого, судя по их удивительной сохранности и необычной твердости, явно подверглись какому-то процессу минерализации, возможно, пропитались двухлористой ртутью. Длина этого сундука была три с половиной фута, ширина – три фута, высота – два с половиной фута. Со всех сторон сундук был обтянут прочными железными лентами с заклепками, чем-то похожими на решетку. Кроме того, ближе к крышке были приделаны железные кольца (всего шесть штук, по три с каждой стороны), за которые могли взяться шесть человек. Как мы ни тужились, нам удалось лишь немного расшевелить сундук на том месте, где он засел в земле. Стало понятно, что такой вес мы не одолеем. К счастью, крышка крепилась всего двумя засовами. Дрожащими руками, задыхаясь от волнения, мы сдвинули их, и в следующий миг нашему взору открылись сокровища неисчислимой ценности. Когда в яму упали лучи фонарей, она вся наполнилась ослепительным сиянием и блеском, исходящими из сундука, доверху набитого золотом и драгоценными камнями.
Даже не буду пытаться описать чувства, охватившие меня, когда я все это увидел. Главным, конечно же, было изумление. Легран от восторга потерял дар речи и смог пробормотать лишь несколько слов. Юпитер побледнел, насколько природа позволяет побледнеть негру. Несколько минут он остолбенело таращился на сокровища, потом упал на колени, запустил свои голые руки по локоть в золото и замер с таким видом, точно наслаждался ванной. Наконец, тяжко вздохнув, он изрек, точно обращаясь к самому себе:
– И все это благодаря золотому жуку! Бедному золотому жучку, которого я так обижал… И не стыдно тебе, старый глупый негр? Отвечай, не стыдно?
Наконец я понял, что пора напомнить хозяину и слуге, что находку нашу хорошо бы как-то доставить домой. Уже было довольно поздно и нужно было решать, как это сделать до наступления утра. Все мы были порядком сбиты с толку, никто не знал, как поступить, поэтому на обдумывание ушло много времени. Наконец мы облегчили сундук, достав из него две трети содержимого, и лишь после этого, и то с огромным трудом, вытащили его из ямы. Вынутые сокровища мы спрятали в зарослях ежевики. Охранять их оставили пса, получившего от Юпитера строгий наказ ни в коем случае ни при каких обстоятельствах не сходить с места и не раскрывать пасть до нашего возвращения. После этого мы поспешили домой с сундуком и без приключений, но совершенно выбившиеся из сил, добрались до хижины примерно в час ночи. При такой усталости не могло быть и речи о том, чтобы немедленно пуститься в обратный путь, поэтому мы отдохнули, часа в два перекусили, после чего отправились назад в горы, прихватив три прочных мешка, которые, к счастью, отыскались в хозяйстве. Почти в четыре утра мы снова были на месте, по возможности поровну разделили остаток нашей добычи на три части и, не закапывая ямы, отправились обратно к хижине, куда пришли с первыми лучами солнца, уже показавшегося над верхушками деревьев.
Ни у кого из нас не осталось сил, но овладевшее нами волнение лишило нас полноценного сна. Часа три-четыре беспокойной дремоты, и мы как по команде поднялись, чтобы наконец внимательно осмотреть наши сокровища. Драгоценности были свалены как попало. Все аккуратно разобрав, мы поняли, что стали обладателями богатства намного большего, чем нам представлялось сначала. Находившиеся в сундуке монеты мы, пользуясь специальными таблицами, оценили больше чем в четыреста пятьдесят тысяч долларов в пересчете на современный курс. Серебра там не было вовсе, сплошное золото, старинное и разнообразное: французские, испанские, немецкие деньги, несколько английских гиней и еще какие-то золотые кружочки, которых мы раньше никогда не видели. Встречались среди них очень большие и тяжелые монеты, до того истертые, что на них невозможно было что-либо прочитать. Американских не было ни одной. Оценить драгоценности оказалось сложнее. Всего мы обнаружили сто десять бриллиантов (в том числе несколько необычайно больших и чистых, но ни одного маленького); восемнадцать рубинов изумительного блеска; триста десять прекрасных изумрудов; двадцать один сапфир и один опал. Все эти камни были извлечены из оправ и просто брошены в сундук. Оправы, найденные нами среди прочих золотых вещей, были специально расплющены молотком, очевидно, чтобы их нельзя было опознать. Помимо этого, там было и огромное количество украшений из чистого золота: почти две сотни крупных колец и серег; тридцать богатых цепочек, если мне не изменяет память; восемьдесят три очень больших и тяжелых распятия; пять золотых кадил огромной ценности; загадочная золотая чаша, украшенная богатым орнаментом в виде виноградных листьев и вакхических фигур; две сабельные рукоятки прекрасной ювелирной работы и еще множество мелких предметов, которых я сейчас даже не вспомню. Общий вес этих драгоценностей превысил триста пятьдесят английских фунтов. Я не включил в этот список великолепные золотые часы, которых мы насчитали сто девяносто семь штук, и трое из них стоили не меньше пятисот долларов. Многие из них были очень старыми и как показатели времени никуда не годились (их механизмы поржавели), но все имели богатые корпуса, инкрустированные драгоценными камнями. В то утро полное содержимое сундука мы оценили в полтора миллиона долларов. Правда, когда мы продали золото и драгоценные камни (кое-что оставили себе на память), выяснилось, что стоимость нашей находки оказалась значительно выше. Когда было покончено с осмотром и наше волнение несколько утихло, Легран, видя, как мне не терпится узнать решение этой поразительной загадки, приступил к подробному рассказу обо всем, что с ней связано.
– Вы, конечно, помните, – сказал он, – тот вечер, когда я нарисовал для вас жука. Наверняка вы не забыли, как я рассердился, когда вы принялись так настойчиво утверждать, что мой набросок похож на мертвую голову. Когда вы сказали об этом в первый раз, я решил, что вы шутите, но потом, вспомнив про необычные пятнышки на спинке насекомого, вынужден был признать, что ваше сравнение не лишено основания. И все же меня укололо то, как вы прошлись по моему художественному таланту (я ведь считаюсь неплохим художником), поэтому, когда вы вернули мне обрывок пергамента, я от злости даже хотел смять его и бросить в огонь.
– Вы хотели сказать клочок бумаги.
– Нет, это было очень похоже на бумагу, и сначала я тоже думал, что это бумага, но, едва начав рисовать, понял, что это пергамент, очень тонкий и грязный, как вы помните. Так вот, когда я комкал его, мой взгляд случайно упал на тот рисунок, который видели вы, и можете себе представить мое изумление, когда на месте, где я рисовал жука, я тоже увидел изображение черепа. На какой-то миг я до того изумился, что просто был не в состоянии думать. Я-то знал, что мой набросок совершенно не был похож на это изображение, просматривалось лишь некоторое сходство в общих очертаниях. Потом я взял свечу, отошел в другой конец комнаты и стал внимательно рассматривать пергамент. Перевернув его, я увидел и свой рисунок в том виде, в каком я его набросал. Сначала я удивился тому, что два разных рисунка действительно оказались так похожи, тому, что на пергаменте, именно на том месте, где я нарисовал жука, только на оборотной стороне, оказалась нарисована мертвая голова, о чем я до этого не знал. Причем голова эта не только размерами но и очертаниями очень походила на мое изображение. Поверьте, неимоверность подобного совпадения на какое-то время повергла меня в полнейшее смятение. Впрочем, это обычная реакция человека на подобные совпадения. Разум лихорадочно пытается найти какую-то связь… некую причинно-следственную последовательность, но, не находя ее, впадает во временный паралич. Но, когда я наконец очнулся, во мне постепенно начала зарождаться уверенность, удивившая меня даже больше, чем само совпадение. Я совершенно отчетливо помнил, что на пергаменте не было никаких других изображений, когда я рисовал на нем жука. Я перестал в этом сомневаться, вспомнив, как в поисках чистого места осмотрел пергамент сначала с одной стороны, а потом – с другой. Если бы череп там был, разумеется, я не мог бы его не заметить. Эту загадку объяснить я был не в силах, но уже тогда в самых потаенных уголках моего сознания забрезжил слабый, похожий на светлячка огонек понимания истины, которое прошлой ночью нашло столь яркое подтверждение. Я тотчас поднялся и, надежно спрятав пергамент, на время выбросил из головы все мысли на этот счет, намереваясь вернуться к ним, когда останусь один.
Когда вы ушли, а Юпитер крепко заснул, я занялся более методичным изучением этого дела. Я восстановил в памяти, каким образом пергамент попал ко мне. Мы нашли жука на берегу Большой земли, примерно в миле на восток от острова и совсем рядом с линией прилива. Когда я взял жука в руки, он сильно укусил меня, отчего я его выронил. Жук подлетел к Юпитеру, но тот, с его врожденной осторожностью, не захотел брать насекомое голыми руками и стал искать какой-нибудь лист или что-нибудь в этом роде. Именно тогда его взгляд, да и мой тоже, упал на этот клочок пергамента. Я принял его за бумагу. Он лежал в песке, и только уголок торчал наружу. Недалеко от места, где мы его обнаружили, я видел остатки корпуса чего-то похожего на корабельную шлюпку. Судя по виду, эти обломки пролежали там очень долго, уже почти полностью утратив сходство с лодкой.
Юпитер взял пергамент, завернул в него жука и отдал мне. Вскоре после этого мы отправились домой и по дороге повстречались с лейтенантом Дж., которому я показал насекомое. Он попросил взять его у меня на время в форт. Когда я согласился, он сунул его в жилетный карман без пергамента, который остался у меня в руке, пока он осматривал жука. Возможно, он испугался, что я передумаю, и решил, что лучше будет побыстрее спрятать его… Вы же знаете его интерес ко всему, что касается естествознания. Я же тем временем, очевидно механически, опустил пергамент в собственный карман.
Возможно, вы помните, как я, собираясь нарисовать жука, подошел к столу и, не найдя бумаги, заглянул в ящик, а затем поискал в карманах, надеясь найти какое-нибудь старое письмо. Тут-то я и нащупал пергамент. Я так подробно все описываю, потому что все эти обстоятельства поразили меня неимоверно.
Наверняка вы сочтете меня мечтателем… Но к тому времени я уже нащупал некую связь. Соединил два звена длинной цепи. Остатки лодки на берегу, недалеко от них – пергамент (заметьте, не бумага, а именно пергамент) с изображением черепа. Вы, разумеется, спросите, где же связь? Я отвечу, что череп, или мертвая голова, – это известный пиратский знак. Они всегда поднимают флаг с мертвой головой, собираясь вступить в бой.
Как я сказал, это была не бумага, а пергамент. Пергамент – материал более прочный, почти вечный. Какие-то неважные вещи редко записывают на пергаменте, тем более что для письма или рисунка лучше подходит бумага. Эта мысль показалась мне важной… Это придавало особое значение изображению мертвой головы. Обратил я внимание и на форму пергамента. Один угол его, вероятно случайно, был уничтожен, но изначально он был продолговатым. На таком листе могла быть какая-нибудь памятная записка… Нечто предназначенное для долгого и бережного хранения.
– Но, – вставил я, – вы ведь сказали, что черепа на пергаменте не было, когда вы на нем рисовали. Как вам пришло в голову усмотреть связь между шлюпкой и черепом… если последний, по вашим же словам, появился там (один Бог знает, как это было сделано и кем) после того, как вы изобразили своего жука?
– Вот тут-то и начинается загадка! Правда, понять, как на пергаменте появился череп, было сравнительно нетрудно. Я знал, где искать, и мои поиски не могли не дать однозначного ответа на этот вопрос. К примеру, я размышлял так: когда я рисовал жука, на пергаменте черепа не было. Закончив рисунок, я отдал его вам и не сводил с вас глаз до тех пор, пока вы не вернули его мне. Следовательно, череп нарисовали не вы, и рядом с нами не было никого, кто мог бы это сделать. Значит, рисунок этот появился без вмешательства человека. И все же он появился.
Придя к этой мысли, я попытался восстановить в памяти все происходившее в тот отрезок времени, который нас интересует. Тот вечер был прохладным (редкостный и невероятно счастливый случай!), и в камине у меня горел огонь. Я тогда был разгорячен прогулкой и сидел за столом, вы же придвинули кресло близко к очагу. Как только я передал вам в руки пергамент и вы начали его осматривать, Волк, мой ньюфаундленд, ворвался в комнату и взгромоздился лапами вам на плечи. Левой рукой вы его сначала погладили, потом отстранили от себя, при этом ваша правая рука, в которой был зажат пергамент, опустилась между колен и оказалась рядом с огнем.
Мне тогда даже показалось, что пергамент загорелся, и я хотел предупредить вас, но, прежде чем я успел раскрыть рот, вы отдернули руку и принялись рассматривать рисунок. Восстановив в памяти эти подробности, я уже ни на секунду не сомневался, что причиной появления на пергаменте черепа стал огонь. Вам ведь прекрасно известно, что с незапамятных времен существуют химические составы, которыми можно писать на бумаге и на пергаменте так, что написанное становится видимым только под воздействием тепла. Иногда для этих целей используют раствор цафры[28] в aqua regia[29], разведенный в четырехкратном объеме воды. Это дает зеленую краску. Королек кобальта, растворенный в нашатырном спирте, дает красные чернила. Когда материал, на котором пишут таким составом, остывает, изображение пропадает, но появляется, если его снова нагреть.
Я стал внимательно рассматривать мертвую голову. Одна сторона рисунка, более близкая к краю пергамента, была видна намного отчетливее, чем остальные. Совершенно очевидно, что тепловое воздействие было недостаточным или неравномерным. Я тут же развел огонь и стал прогревать всю поверхность пергамента. Вначале отчетливее проявился весь череп, но мне этого было мало, и я упорно держал лист над огнем. Через какое-то время в противоположном углу пергамента начало проявляться другое изображение. Вначале я подумал, что это коза, но, присмотревшись, понял, что это козленок.
– Ха-ха-ха! – рассмеялся я. – Я, конечно, не имею права смеяться над вами (полтора миллиона – дело нешуточное), но не хотите же вы сказать, что третьим звеном вашей цепочки… Какая может быть связь между вашими пиратами и козой? Пираты не имеют никакого отношения к козам, скотоводством они никогда не занимались.
– Я только что сказал, что это была не коза, а козленок.
– Ну хорошо, козленок, не велика разница!
– Да, разница не велика, но она есть, – сказал Легран. – Вы слыхали о капитане Кидде? Я сразу сопоставил слово «kid» (козленок) с этой фамилией и понял, что фигурка животного является своего рода каламбуром или иероглифом, заменяющим подпись. Я говорю «подпись», так как само расположение этого рисунка подсказывает, что это именно подпись. А мертвая голова в противоположном углу в свою очередь наводила на мысль о печати. Но меня волновало отсутствие всего остального… главного, что я надеялся найти… самого текста.
– То есть вы думали, что между печатью и подписью должен быть текст.
– Что-то в этом роде. Дело в том, что меня охватило непреодолимое предчувствие… ощущение того, что все это как-то связано с большим богатством. Я даже не могу сказать, почему у меня возникли такие мысли. Возможно, это было скорее подспудное желание, чем подозрение… И, знаете, глупые слова Юпитера о том, что этот жук был на самом деле золотым, тоже запали мне в душу. К тому же эти совпадения… Все было настолько необычно! Вы понимаете, насколько мала была вероятность того, что все эти обстоятельства придутся на единственный, достаточно холодный день в году, когда в камине горит огонь? А вмешательство собаки? Появись она секундой раньше или секундой позже, я, возможно, так и не узнал бы о мертвой голове и не нашел бы сокровища!
– Но что же вы сделали потом? Мне ужасно интересно.
– Вы, конечно же, слышали рассказы… все эти бесконечные смутные предания о сокровищах Кидда и его сообщников, которые они прятали где-то на Атлантическом побережье. Предания эти не могли возникнуть на голом месте. И причина, по которой они не забылись и дошли до наших дней, решил я, заключалась в том, что сокровища до сих пор оставались в земле. Если бы Кидд прекратил заниматься грабежом и забрал их, эти рассказы не дожили бы до наших дней в их нынешней форме. Заметьте, в большинстве из них говорится о поисках сокровищ, а не о том, как они найдены. Если бы наш пират забрал припрятанные денежки, на этом бы все и закончилось. Мне же казалось, что какое-то непредвиденное обстоятельство (скажем, потеряно описание, где их искать) лишило его возможности вернуть их, и об этом стало известно другим пиратам, которые в противном случае даже не знали бы, что сокровища вообще были спрятаны. Их безрезультатные поиски (безрезультатные, потому что искали они вслепую) и породили молву, первые рассказы, разошедшиеся по свету и дожившие до наших дней.
Вы когда-нибудь слышали, чтобы где-то на побережье были найдены более-менее ценные сокровища?
– Нет.
– Тем не менее хорошо известно, что Кидд обладал огромными богатствами. В общем, я решил, что клад все еще в земле, и вряд ли вы удивитесь, если я скажу, что во мне загорелась надежда, почти уверенность, что пергамент, найденный при столь необычных обстоятельствах, должен был содержать указание на то место, где он зарыт.
– И как же вы поступили?
– Я усилил огонь и снова поднес к нему пергамент. Но и это ничего не дало. Тогда я подумал, что, возможно, моя неудача каким-то образом объясняется грязью на пергаменте. Я осторожно промыл его теплой водой, после чего положил на сковороду, нарисованным черепом вниз, и поставил ее на раскаленные уголья. Через несколько минут сковорода сильно нагрелась, я вытащил из нее листок и, к моему неописуемому восторгу, увидел, что в нескольких местах он покрыт чем-то наподобие цифр, написанных в строчку. Я снова опустил пергамент на сковороду, примерно на минуту, после чего он и принял такой вид, который имеет сейчас.
С этими словами Легран нагрел пергамент и вручил мне. Между мертвой головой и козой я увидел знаки, грубо нарисованные чем-то красным. Вот они:
– Ну, знаете, – воскликнул я, возвращая ему листок, – мне бы это ничего не дало. За все сокровища Голконды[30] я не смог бы разгадать эту загадку.
– И все же, – сказал Легран, – решение вовсе не так сложно, как могло показаться на первый взгляд. Эти значки, как можно легко догадаться, представляют собой шифр, другими словами, они передают какой-то смысл. Судя по тому, что нам известно о Кидде, он вряд ли мог изобрести какую-нибудь слишком уж хитроумную тайнопись, поэтому я сразу для себя решил, что шифр этот будет несложным… и в то же время таким, который грубому матросу показался бы совершенно неразрешимым без ключа.
– Неужели вы его разгадали?
– Это оказалось проще простого. Я разгадывал шифры и в тысячу раз сложнее. Благодаря некоторым обстоятельствам и определенному складу ума я в свое время увлекся такими загадками, и, поверьте, ни один человеческий разум не в силах измыслить такую головоломку, которую другой человек, наделенный определенной смекалкой и правильно ее применяющий, был бы не в силах разгадать. Если в руки мне попадает набор знаков и если текст написан без грубых ошибок, для меня уже не имеет значения, насколько сложно их прочитать.
В данном случае (как и всегда, когда приходится иметь дело с тайнописью) первым делом требуется установить, на каком языке написано зашифрованное послание, поскольку принципы решения, особенно когда речь идет о более-менее простых шифрах, разнятся и во многом зависят от общего строя каждого конкретного языка. В общем, у того, кто берется разгадывать шифр, нет другого выхода, кроме как действовать наугад, учитывая различные обстоятельства, перебирать все известные ему языки. В шифре, с которым столкнулся я, эта задача отпала благодаря подписи. Каламбур со словом «кидд» возможен только в английском языке. Если бы не это, я сначала стал бы проверять испанский и французский, как языки, на которых вероятнее всего мог писать пират Испанских морей[31]. А так я с самого начала пришел к выводу, что криптограмма написана на английском.
Вы наверняка заметили, что в документе между словами нет пробелов. Если бы они отделялись друг от друга, задача была бы намного проще. Я бы начал с сопоставления и анализа коротких слов, и, если бы среди них встретилось однобуквенное (например, предлог «а» или местоимение «I» – «я»), я бы посчитал загадку решенной.
Но, поскольку разделения на слова не было, мне прежде всего понадобилось выяснить, какие символы встречаются в письме чаще всего и какие реже всего. Пересчитав их, я составил такую таблицу:
Итак, в английском языке чаще всего встречается буква «е». Далее, в порядке убывания, английские буквы располагаются в следующей последовательности: a, o, i, d, h, n, r, s, t, u, y, c, f, g, l, m, w, b, k, p, q, x, z. Без «е», практически господствующей буквы, невозможно составить какое-нибудь длинное предложение.
Таким образом, с самого начала мы имеем фундамент, который позволяет нам полагаться на нечто большее, чем просто догадки. Как пользоваться данной таблицей, я думаю, объяснять не надо. Но в шифре, с которым имеем дело мы, она нам пригодится лишь вначале. Поскольку самый частый знак у нас «8», примем его за букву «е» английского алфавита. Чтобы проверить это предположение, давайте посмотрим, встречается ли «8» парами, поскольку в английском «е» достаточно часто удваивается, например в таких словах, как «meet», «fleet», «speed», «seen», «been», «agree» и так далее. В нашем шифре таких удвоений не меньше пяти, хотя криптограмма достаточно коротка.
Итак, принимаем знак «8» за букву «е». Идем дальше. Из всех слов в английском языке чаще всего встречается «the». Давайте посмотрим, есть ли в нашем послании часто повторяющееся сочетание трех символов, последним из которых был бы знак «8». Если мы такое обнаружим, можно почти с уверенностью говорить, что это слово «the». Внимательно изучив документ, видим не меньше семи случаев повторения стоящих рядом символов «;48». Это позволяет предположить, что «;» обозначает «t», «4» – «h», а «8», как мы знаем, – «е». Это уже достижение.
То, что мы поняли одно слово, поможет нам сделать еще один, очень немаловажный шаг: теперь мы можем установить начало и конец еще нескольких слов. Давайте, скажем, рассмотрим предпоследний пример употребления сочетания «;48». Мы догадываемся, что знак «;», идущий сразу за «8», является началом следующего слова и что из шести знаков, следующих за этим «the», нам знакомы целых пять. Давайте запишем их в виде букв, оставив пропуск на месте неизвестной, получается: «t eeth». Мы знаем, что «th» не может быть окончанием слова, начинающегося на «t» и состоящего из шести букв: какую бы букву мы ни подставили на место пропуска, слово не получится. Следовательно, наше следующее слово, если отбросить две последние буквы, превращается в короткое «t ee». Можно, как и в предыдущий раз, перебрать все буквы алфавита, и единственным словом с подобным сочетанием букв окажется «tree». Отсюда – еще одна буква «r», которая обозначается символом «(», что вместе с предыдущим словом дает «the tree» (дерево).
Посмотрим немного дальше, здесь мы видим еще одно сочетание «;48» и, приняв его за границу, получаем такой отрывок:
«the tree;4 (‡?34 the».
Подставляем уже известные нам буквы:
«the tree thr‡?3h the».
Теперь, если не известные еще буквы заменить точками, получаем:
«the tree thr…h the».
И тут же напрашивается слово «through» (через), что дает нам три новых буквы: «o», «u» и «g», представленные символами «‡», «?» и «3».
Теперь, если внимательно просмотреть криптограмму в поисках уже известных нам знаков, мы находим недалеко от начала такую комбинацию:
«83 (88»,
то есть «egree», что, разумеется, является окончанием слова «degree» (градус) и дает нам еще одну букву, «d», представленную символом «‡». Через четыре символа после «degree» мы видим такую комбинацию:
«;46 (;88».
Переведя уже известные знаки в буквы и подставив, как и раньше, вместо неизвестной точку, читаем: «th. rtee». Такое расположение сразу заставляет подумать о слове «thirteen» (тринадцать), и мы становимся богаче еще на две буквы: «i» и «n», обозначенные соответственно «6» и «*».
Теперь, обратившись к самому началу криптограммы, мы видим такое сочетание:
«53‡‡†».
Переведя это на язык букв, получаем:
«. good».
Не остается сомнения, что первая буква – «а» и что первые два слова: «A good» (хороший).
Но настало время, чтобы избежать путаницы, расположить наши трофеи в виде таблицы:
5 означает a
† ↔ d
8 ↔ e
3 ↔ g
4 ↔ h
6 ↔ i
* ↔ n
‡ ↔ o
( ↔ r
; ↔ t
? ↔ u
Итак, мы имеем не меньше десяти самых важных букв английского алфавита, и, думается, продолжать объяснять дальше не имеет смысла. Я и так уже достаточно наговорил, чтобы вы поняли общую структуру подобных шифров и убедились, что они легко поддаются расшифровке. Однако повторюсь: такой шифр относится к простейшим. Остается лишь показать вам перевод всего текста, приведенного на этом пергаменте. Вот он:
«A good glass in the bishop’s hostel in the devil’s seat forty-one degrees and thirteen minutes northeast and by north main branch seventh limb east side shoot from the left eye of the death’s-head a bee line from the tree through the shot fifty feet out». (Доброе стекло в подворье епископа на чертовом троне сорок один градус тринадцать минут норд-норд-ост главный сук седьмая ветка восточная сторона стреляй из левого глаза мертвой головы по прямой от дерева через выстрел пятьдесят футов).
– Но, – заметил я, – от этого загадка стала не намного проще. Как, скажите на милость, понимать всю эту тарабарщину насчет «чертовых тронов», «мертвых голов» и «подворий епископа»?
– Должен признать, – ответил Легран, – что с первого взгляда эта задача действительно не кажется простой. Сначала я разделил текст на отдельные предполагаемые смысловые части.
– Вы хотите сказать, что расставили знаки препинания?
– Что-то вроде этого.
– Но как же вам это удалось?
– Я подумал, что тот, кто составлял криптограмму, намеренно решил не разделять слова, чтобы все усложнить. Человек не слишком смышленый, задавшись подобной целью, почти наверняка перестарается и в тех местах, где по содержанию требуется определенный интервал, станет, наоборот, лепить знаки ближе друг к другу. Посмотрите внимательнее. Видите, здесь есть по меньшей мере пять мест, бросающихся в глаза. Руководствуясь этой подсказкой, я разделил текст следующим образом: «Доброе стекло в подворье епископа на чертовом троне – сорок один градус тринадцать минут – норд-норд-ост – главный сук седьмая ветка восточная сторона – стреляй из левого глаза мертвой головы – по прямой от дерева через выстрел пятьдесят футов».
– Даже и это деление мне мало что дало, – признался я.
– Мне сначала тоже, – кивнул Легран. – Первые несколько дней я рыскал в окрестностях острова Салливана, разыскивая место, которое называлось бы «Bishop’s Hotel» – «Двор епископа» (от устаревшего слова «hostel» – «подворье» я, разумеется, отказался), и, не найдя ничего, уже хотел расширить круг поисков и сделать их более систематичными, когда однажды утром мне пришло в голову, что этот «Bishop’s Hostel» может иметь отношение к одному старинному роду, который очень давно владел поместьем на материке милях в четырех к северу от острова. Род этот носил фамилию Бессоп (Bessop). Я поехал на плантацию и стал расспрашивать старых негров, не помнит ли кто такого места. Наконец одна дряхлая старуха вспомнила, что когда-то слышала о месте под названием «Bessop’s Castle» – «Замок Бессоп», но это был не замок и не таверна, а высокая гора, и она еще помнит к ней дорогу.
Я попросил провести меня туда, она отказывалась, но потом, когда я пообещал хорошо заплатить за труды, согласилась. На место мы добрались без приключений. Отправив старуху обратно, я осмотрелся. «Замок» представлял собой нагромождение утесов и скал, и одна из них выделялась своей высотой и каким-то неестественным видом: она выглядела так, будто ее нарочно поставили чуть в стороне от остальных. Я взобрался на самую вершину, но, оказавшись там, честно говоря, растерялся, совершенно не представляя, что делать дальше.
Пока я думал, мой взгляд упал на небольшой выступ на восточной стороне скалы, где-то на ярд ниже места, где я стоял. Эта своеобразная каменная полочка шириной не больше фута выступала дюймов на восемнадцать, а выемка в скале прямо над ней делала ее чем-то похожей на старинное кресло с вогнутой спинкой. Я сразу догадался, что это и есть тот самый «чертов трон», о котором говорится в манускрипте, и окончательно понял, о чем идет речь в шифре.
«Доброе стекло», как я знал, могло означать только одно: подзорную трубу, моряки редко используют это слово в другом смысле. Значит, сообразил я, нужно сесть на «трон» и посмотреть в подзорную трубу в определенном направлении. К тому же у меня не было сомнений, что выражения «сорок один градус тринадцать минут» и «норд-норд-ост» указывают, куда направлять «стекло». Неимоверно взволнованный этими открытиями, я поспешил домой, нашел подзорную трубу и вернулся на то место.
Усевшись на каменный выступ, я обнаружил, что сидеть на нем можно только в одном положении, и это лишний раз подтвердило мою догадку. Итак, я взялся за подзорную трубу. «Сорок один градус тринадцать минут», конечно же, может означать лишь одно – угол подъема над видимым горизонтом, поскольку направление обозначено словами «норд-норд-ост». Нужное направление найти мне было несложно, поскольку я прихватил карманный компас. Далее я поднял подзорную трубу примерно на сорок один градус и стал медленно водить ею вверх-вниз в поисках чего-нибудь такого, что привлекло бы мое внимание. Наконец я заприметил маленький круглый просвет в листве большого дерева, которое возвышалось над остальными растущими рядом. Прямо в середине этого пустого пятачка я увидел какую-то белую точку, но поначалу не смог определить, что это. Наведя резкость, я снова посмотрел туда и понял, что это человеческий череп.
После этого открытия я уже почти не сомневался, что загадка решена, ведь выражение «главный сук седьмая ветка восточная сторона» может означать только положение черепа на дереве. Если речь идет о поиске сокровищ, то и «стреляй из левого глаза мертвой головы» тоже может иметь только одно толкование. То есть нужно бросить пулю из левого глаза черепа, найти точку на стволе дерева, ближайшую к «выстрелу» (то есть к тому месту, куда упадет пуля), провести от нее к «выстрелу» прямую и продлить ее еще на пятьдесят футов. В конце этой прямой и будет зарыт клад, по крайней мере, я на это надеялся.
– Ясно, – сказал я. – Придумано довольно хитро, но описано все очень просто и понятно. А когда вы покинули «Двор епископа», что потом?
– Я отправился домой, предварительно определив положение дерева. И знаете, как только я встал с «чертова трона», круглый просвет в кроне исчез из виду. Как я ни поворачивался, увидеть его с другого места мне так и не удалось. Самая большая хитрость во всем этом, мне кажется, заключается именно в том, что этот просвет можно увидеть только лишь с маленького и узкого выступа на склоне скалы. Я даже еще раз уселся на него и убедился, что это действительно так.
Во время «экспедиции» ко «Двору епископа» меня сопровождал Юпитер, который еще несколько недель назад обратил внимание на мое настроение и старался не оставлять меня одного. Однако на следующий день, встав пораньше, я умудрился выйти из дому, не разбудив его, и отправился в горы на поиски того дерева. С большим трудом я все же нашел его. А когда вечером вернулся домой, представьте, что я увидел: мой собственный слуга хотел задать мне взбучку. Ну, о том, что было дальше, вам известно не хуже меня.
– А ошибка с определением места в первый раз, – сказал я, – надо полагать, объясняется глупостью Юпитера, который спустил жука через правую, а не через левую глазницу черепа.
– Совершенно верно. Эта ошибка дала погрешность примерно в два с половиной дюйма в определении «выстрела», то есть того места, где был установлен первый колышек. Если бы клад был зарыт под самим черепом, это не имело бы значения, но и сам «выстрел» и ближайшая к нему точка на дереве были лишь указателями для определения направления, поэтому отклонение, хоть и незначительное вначале, увеличивалось по мере того, как мы отдалялись от дерева. Поэтому, пройдя пятьдесят футов, мы оказались совсем не в том месте. Если бы не моя уверенность, что сокровища где-то рядом, все наши усилия могли оказаться напрасными.
– Надо полагать, идея с использованием черепа и бросанием пули через глазницу была подсказана Кидду пиратским флагом. Наверняка он чувствовал некую поэтическую логичность в том, что его деньги вернутся к нему с помощью столь зловещих предметов.
– Возможно. Хотя мне больше кажется, что здравый смысл сыграл тут роль не меньшую, чем поэтическая логичность. Сидящий на «троне» мог увидеть указатель на дереве, сам по себе небольшой, только если он был белым, а ничто лучше человеческого черепа не сохраняет и даже усиливает белизну при любых превратностях погоды.
– Но к чему все эти тайны? Почему вы так носились с жуком?… Признаться, все это выглядело чрезвычайно странно! Я был уверен, что вы повредились рассудком. И почему вы решили опускать через череп именно жука, а не пулю?
– Если честно, меня несколько разозлили ваши откровенные подозрения относительно моей вменяемости, и я решил в свою очередь немного проучить вас, для чего и развел всю эту таинственность. Для этого же и привязал жука к веревочке и именно его спустил с дерева. Кстати, на эту мысль меня натолкнуло ваше замечание о его весе.
– Вот как! Ясно… Что ж, теперь мне непонятно только одно: что это за скелеты, которые мы нашли в яме?
– Об этом мне известно не больше вашего. Я вижу лишь одно объяснение… Хотя самому мне трудно поверить, что подобная чудовищная жестокость возможна. Можно не сомневаться, что Кидд (если это действительно Кидд зарыл эти сокровища, в чем лично я совершенно уверен) один не смог бы управиться с таким тяжелым сундуком. Наверняка у него были помощники. И когда с делом было покончено, он решил избавиться от всех, кто знал о его тайне. Возможно, хватило двух ударов мотыгой, чтобы решить судьбу находившихся вместе с ним в яме. Возможно, понадобилась дюжина. Кто теперь скажет?…
Лигейя
И в этом заложена воля, которой несть смерти. Кому ведомы тайны ея и сила ея? Ибо что есть Бог, как не воля великая, наполняющая все сущее провидением своим. Человек не предается до конца ангелам нижé самóй смерти, едино по немощи воли своея.
Джозеф Гленвилл[32]Даже во имя спасения души своей не вспомнить мне, как, когда и даже где впервые повстречал я госпожу Лигейю. Многие годы прошли с тех пор, и память моя ослабела из-за пережитых мук. А быть может, это потому, что характер моей возлюбленной, ее редкостная ученость, ее своеобразная и в то же время безмятежная красота, волнующая и пленительная прелесть ее мягкого певучего голоса проникали в мое сердце столь постепенно, входили в него шагами столь неслышными, что вторжение это осталось незамеченным и неведомым. И все же, кажется мне, что впервые я стал встречать ее (и встречи те были самыми частыми) в каком-то большом стареющем городе близ Рейна. О семье ее… Да, конечно, она рассказывала о своей семье. Род ее был древним, могло ли быть иначе? Лигейя! Лигейя! В изучении природы, занятии, которое более чем что-либо иное избавляет от образов материального мира, одно слово это – Лигейя! – заставляет меня вспомнить, представить, увидеть перед собой ту, кого больше нет. И сейчас, когда я пишу, меня молнией пронзает воспоминание о том, что я никогда не знал фамилии той, кто была моим другом и моей суженой, участницей моих исследований и наконец стала моей женой. Было ли это веселой прихотью моей Лигейи? Или проверкой силы моего чувства, и я не должен был спрашивать ее об этом? А может, причиной тому был мой собственный каприз, безумная романтическая жертва, принесенная на алтарь беззаветной преданности? Я лишь с трудом припоминаю это… Стоит ли удивляться, что я совершенно забыл обстоятельства, ставшие тому причиной или сопутствующие этому? И если она, бледноликая и туманнокрылая Аштофет[33] идолопоклончивого Египта, действительно властвует над браками, которым не суждено стать счастливыми, то нет никакого сомнения, что ее крылья распростерлись и надо мной.
Однако есть одно милое моему сердцу воспоминание, которое память моя сохранила. Это то, какой была Лигейя. Высокого роста, довольно тонкая, а в последние дни даже истощенная. Напрасными были бы мои усилия, если бы я взялся описывать ее царственное спокойствие, тихую невозмутимость или невообразимую легкость и мягкость ее походки. Она приходила и исчезала, как тень. О том, что она появлялась в моем закрытом рабочем кабинете, я узнавал лишь, когда слышал сладкую музыку ее милого тихого голоса и чувствовал прикосновение ее мраморной руки к своему плечу. Красотою ни одна дева не сравнится с ней. То было сияние, которое видит в забытье потребитель опиума, воздушное и возвышенное видение, более божественное, чем фантазии, порождающие образы дремлющих душ дочерей Делоса[34]. Однако черты ее не были подобны той обычной маске, которую научили нас почитать классические труды варваров. «Не существует такой изысканной красоты, – утверждает Бэкон, лорд Верулам[35], говоря о всех формах и видах красоты, – у которой не было бы какой-либо необычности в пропорциях». И все же, хоть я и видел, что черты Лигейи не были классически правильными, хоть и понимал, что красота ее «изысканная», и чувствовал, что в ней немало «необычности», я был не в силах понять, в чем заключена неправильность, так и не смог разобраться, что такое «необычность» в моем собственном понимании. Я рассматривал черты высокого бледного лба – он был безупречен (до чего холодное слово, когда речь идет о величии столь божественном!), чистотой соперничал с лучшей слоновой костью, широкий и величаво спокойный, мягко выпуклый на висках; я рассматривал цвета воронова крыла блестящие, густые, вьющиеся от природы локоны, передающие всю силу гомеровского эпитета «гиацинтовые»! Я смотрел на утонченные очертания носа… Только на прекрасных медальонах иудеев встречал я подобное совершенство. Та же роскошная гладкость, та же почти неуловимая горбинка, те же гармонично изогнутые ноздри, свидетельствующие о свободолюбии. Я разглядывал дивные уста… Венец всего неземного! Величественный изгиб короткой верхней губы и мягкая, чувственная неподвижность нижней; заметные ямочки и выразительный цвет; зубы, с почти невероятным сверканием отражавшие каждый луч божественного света, который попадал на них, когда лицо ее озарялось безмятежной, покойной и в то же время ослепительно-счастливой улыбкой. Я изучал форму подбородка и в нем тоже находил изящную широту, мягкость и благородную одухотворенность эллинов, очертания, которые бог Аполлон лишь во сне явил Клеомену, сыну афинянина[36]. А потом я заглядывал в глаза Лигейи.
Для глаз античность не сохранила образца красоты. Возможно, глаза моей возлюбленной тоже скрывали в себе ту тайну, о которой говорил лорд Верулам. Я должен признать, что они были намного больше, чем глаза, обычные для нашей расы. Они были крупнее, чем самые крупные газельи глаза племени долины Нурджахада[37]. Но лишь изредка, в мгновения величайшего возбуждения, эта особенность Лигейи становилась более чем едва заметной. И именно в такие мгновения – возможно, лишь в моем разгоряченном воображении – проявлялась ее красота, красота существ, не принадлежащих этому миру, красота сказочных турецких гурий. Зрачки ее сверкали самым восхитительным из оттенков черного цвета, а сверху их оттеняли разительной длины ресницы, находившиеся высоко над ними. Брови, слегка неправильной формы, были того же цвета. Однако «необычность», которую я видел в ее глазах, заключалась не в их очертаниях, цвете или великолепии, а в их выражении. О, это бессмысленное слово, за безграничной простотой звучания которого мы скрываем наше полное неведение духовного. Выражение глаз Лигейи! Сколько долгих часов провел я, размышляя о нем. Как всю летнюю ночь напролет силился постичь его! Что это было… то нечто, более глубокое, чем Демокритов колодец[38], что скрывали зрачки моей любимой? Что это было? Я был одержим страстным желанием узнать это. Эти глаза! Эти огромные, эти сияющие, эти божественные очи! Они для меня стали двойными звездами Леды[39], а я для них – увлеченнейшим из астрономов.
Среди многочисленных, самых невообразимых аномалий, известных науке о работе человеческого разума, нет ничего более захватывающего, чем факт (которого, боюсь, никогда не замечают в школах), что часто, мучительно пытаясь вспомнить нечто давно забытое, мы чувствуем, что вот-вот воспоминание всплывет в памяти, но в конце концов оказываемся не в силах вспомнить. Сколько раз, когда я пристально всматривался в глаза Лигейи, мне казалось, что сейчас я сумею наконец осознать и до конца понять их выражение, я чувствовал, что это вот-вот случится… потом ощущение это слабело… и наконец покидало меня вовсе! А еще (удивительная… нет, удивительнейшая из загадок!) в самых простых вещах я замечал некую схожесть с этим выражением. Я хочу сказать, что после того, как красота Лигейи поселилась у меня в душе, стала покоиться там, как святыня в раке, многие сущности материального мира стали вызывать во мне то же чувство, которое всегда пробуждал во мне взгляд этих огромных лучезарных глаз. Но это нисколько не помогло мне понять, что это было за чувство, подвергнуть его анализу или даже спокойно обдумать. Повторяю, я замечал сходство, наблюдая за скорым ростом виноградной лозы, глядя на мотылька, на бабочку, на куколку, рассматривая стремительный водный ручей. Я чувствовал его в океане, в падении метеора. Я чувствовал его во взглядах людей, доживших до необычайно преклонного возраста. А еще есть в небесах пара звезд (особенно одна, звезда шестой величины, двойная и переменная, которую можно увидеть рядом с большой звездой в созвездии Лиры), рассматривая которые в телескоп, я испытывал похожее чувство. Меня наполняли им звуки некоторых струнных инструментов, нередко и отдельные места из книг. Я мог бы привести множество примеров, но особенно мне запомнилось одно место в томике Джозефа Гленвилла, которое (возможно, своей необычностью) неизменно преисполняло меня этим чувством: «И в этом заложена воля, которой несть смерти. Кому ведомы тайны ея и сила ея? Ибо что есть Бог, как не воля великая, наполняющая все сущее провидением своим. Человек не предается до конца ангелам нижé самóй смерти, едино по немощи воли своея».
Годы и последующие размышления позволили мне проследить некоторую отдаленную связь между этими словами английского моралиста и какими-то чертами характера Лигейи. Энергия ее мыслей, действия и речи, возможно, была следствием или, по меньшей мере, признаком той гигантской силы воли, которая за все время нашего долгого знакомства не нашла иного, более непосредственного проявления. Из всех женщин, которых я знал, она, внешне безмятежная и неизменно спокойная, была самой беспомощной добычей беснующихся коршунов безумной страсти. И этой страсти я не мог найти мерила, кроме как в удивительном размере ее огромных глаз, одновременно восхищавших меня и приводивших в смятение; в почти колдовской мелодичности, звучности, ясности и спокойствии ее необыкновенно тихого голоса и в безумной энергии ее речей (сила которых удваивалась благодаря контрасту с ее манерой говорить).
Я упоминал об учености Лигейи, она была безграничной… У других женщин я такой не встречал. Она прекрасно владела классическими языками, и, насколько я мог судить, трудностей с современными европейскими наречиями у нее тоже не было. Да и были ли у нее пробелы в остальных знаниях, считавшихся только из-за своей невразумительности академическими? Каким всеобъемлющим порывом понимание этой грани личности моей жены только сейчас ворвалось в мои мысли… Как это поразило меня! Я говорил, что не встречал у других женщин учености Лигейи… Но существует ли такой мужчина, который пересек, и успешно, все бескрайние просторы нравственных, физических и математических наук? Тогда я не замечал того, что вижу сейчас: познания Лигейи были поразительными… И все же я достаточно хорошо понимал ее бесконечное превосходство, чтобы отдаться с детской доверчивостью ее руководству через хаотический мир метафизических исследований, в которые я с головой ушел в первые годы нашего брака. С каким бесконечным торжеством, с каким упоительным счастьем, преисполнившись всего, что есть божественного в надежде, погружался я, когда она делилась со мной своими знаниями – как бы между прочим, почти незаметно, – в мечты о раскрывающихся восхитительных далях, по великолепным и доселе нехоженым тропам которых я мог устремиться вперед, к плодам мудрости слишком божественной и драгоценной, чтобы не быть запретной.
До чего мучительной была моя скорбь, когда по прошествии нескольких лет я увидел, что все мои упования рассыпаются прахом. Без Лигейи я был точно ребенок в ночи. Ее чтения, одного ее присутствия было достаточно, чтобы озарить ясным светом многочисленные тайны трансцендентализма, в которые мы погружались. Без ее сияющих великолепных глаз искрящиеся золотые письмена стали тусклее Сатурнова свинца[40]. Теперь же ее глаза все реже сияли над страницами, которые я штудировал. Здоровье Лигейи пошатнулось. Безумный взор сиял слишком… слишком ярким блеском, бледные пальцы приобрели могильную восковую прозрачность, а синие вены на широком челе порывисто вздымались и опадали, когда ее охватывало малейшее волнение. Я видел, что она умирает, и в душе я отчаянно боролся с грозным Азраилом[41]. Но борьба моей несчастной супруги, к моему изумлению, была еще более страстной, чем моя. Зная, какая мощная внутренняя сила заключена в ней, я был убежден, что ее смерть не будет ужасной… Но это было не так. Словами не передать, как отчаянно она сопротивлялась Тени. Я сам стонал от адской боли, наблюдая за этой жалкой битвой. Я мог бы попытаться утешить ее, я мог бы воззвать к разуму, но в ее безумном желании жить… – жить… – просто жить! – и утешения, и здравый смысл были совершенно беспомощны. И все же лишь в последний миг, когда ее неукротимый дух уже корчился в последних судорожных конвульсиях, она утратила внешнюю безмятежность. Голос ее стал еще мягче… еще тише… Но я не желал постигать безумный смысл едва слышимых слов, слетавших с ее уст. Разум мой пошатнулся, когда я прислушивался, впав в оцепенение, к печальной похоронной мелодии, к предположениям и порывам, дотоле неведомым ни одному смертному.
В том, что она любила меня, я мог не сомневаться и, конечно, мог бы легко понять, что в сердце, таком, как у нее, любовь была далеко не обычным чувством. Однако близость смерти позволила мне осознать всю силу ее страсти. Долгими часами, удерживая мою руку, она изливала свою душу, открывала тайны сердца, более чем страстная преданность которого граничила с идолопоклонством. Чем заслужил я счастье услышать такие признания?… Чем заслужил я проклятие потерять свою возлюбленную в тот самый час, когда она произносила их?… Об этом я не хочу и не могу говорить. Скажу только, что в такой, более чем женской, преданности любимому, который, увы, не заслуживал и не стоил того, увидел я наконец причину ее страстного желания продлить жизнь, теперь столь стремительно вытекавшую из нее. Это безумное желание, эту испепеляющую жажду жизни… – только жизни – я не в силах описать, да и не существует слов, которые смогли бы передать их.
В ночь своей смерти, когда часы показывали двенадцать, она властным жестом призвала меня и приказала повторить стихотворение, сочиненное ею несколькими днями раньше. Я повиновался. Вот оно:
О! Мрачный маскарад Предсмертных лет. Все, настает Финал. Сонм ангелов, крылат, Сидит и слезы льет В театре, зря на круговерть Отчаяний и вер, Пока оркестр, пророча смерть, Гремит музыкой сфер. Подобье Божье, всякий мим, Едва забормотав, Уж прочь сметен, и вслед за ним — Весь кукольный состав По манию незримых сил, Что правят сценою всегда. Летит с их кондоровых крыл Незримая Беда! О, балагана шумный клич — Ввек не забыть о нем! Толпою алчною настичь Мерцающий Фантом Стремятся, обегают круг — И вновь вершат его В пьесе Безумья, Греха и Мук, Где Страх – устроитель всего. Но замер рой личин и харь, И пляски прервались — Исчадье тьмы, слепая тварь Ползет из-за кулис! Ползет! – ползет! – и в пасть попал Последний жалкий мим… Узрев чудовищный оскал, Заплакал серафим. Свет гаснет, гаснет – и погас! Итак, все кончено. Финал. Как гробовой покров, тотчас Тяжелый занавес упал. И ангелы, белей, чем снег, Встав, тихо молвят меж собой, Что, хоть имя трагедии той – «Человек», В ней лишь Червь-Победитель – герой[42].– О Боже! – пронзительно воскликнула Лигейя, вскакивая и судорожно поднимая широко расставленные руки, когда я дочитал до конца эти строки. – О Боже! Отец Небесный!.. Ужели не может быть иначе? Ужели победитель этот не может быть хоть раз побежден? Мы ли не часть Твоя? Кому – кому ведомы тайны воли и сила ея? Человек не предается до конца ангелам нижé самóй смерти, едино по немощи воли своея.
Потом, словно опустошенная страстным порывом, она уронила свои белые руки и покорно вернулась на смертный одр. И с последним вздохом с ее уст слетел тихий шепот. Наклонившись над ней, я снова разобрал заключительные слова отрывка из Гленвилла: «Человек не предается до конца ангелам нижé самóй смерти, едино по немощи воли своея».
Она умерла… И я, сраженный горем, уже не мог выносить одинокого существования в унылом, стареющем городе близ Рейна.
Тем, что мир зовет богатством, я обделен не был. Лигейя принесла мне еще больше, намного больше, чем обычно выпадает на долю смертных. И вот после нескольких месяцев утомительных и бесцельных странствий я купил и восстановил аббатство, название говорить не стану, в одном из самых пустынных уголков прекрасной Англии. Мрачное и угрюмое величие здания, почти первозданное запустение земель вокруг, множество скорбных и облагороженных временем воспоминаний вполне соответствовали чувству полного одиночества, которое привело меня в этот глухой и безлюдный район страны. Однако если стены аббатства, покрытые гнилостной зеленью, почти не претерпели изменений, то внутри я с детским упрямством, а возможно, и в слабой надежде облегчить скорбь, обустроил все с более чем королевской роскошью. Еще ребенком я увлекся подобными причудами, и теперь они стали возвращаться ко мне, как если бы я от горя впал в детство. Увы, теперь я знаю, сколько зарождающегося сумасшествия может таиться в великолепных и фантастических портьерах, в мрачных египетских камнях, покрытых диковинной резьбой, в нагромождении карнизов и мебели, в безумных узорах ковров с золотыми кистями. Меня опутал своими сетями опиум, и я стал его рабом. Мои труды и мои приказания исходили из моих болезненных снов. Но не стоит тратить время на описание этих бессмыслиц. Лучше я буду говорить об одной, ставшей мне ненавистной, комнате, в которую я в минуту помешательства привел от алтаря как супругу, как преемницу незабвенной Лигейи светлокудрую и голубоглазую леди Ровену Тревенион из Тремейна.
Нет ни одной мельчайшей подробности устройства этого брачного покоя, которая сейчас не стояла бы перед моими глазами. Где были души высокомерных родственников невесты, когда, движимые жаждой золота, они позволили деве, дочери столь любимой, перешагнуть порог комнаты, украшенной подобным образом? Я сказал, что запомнил до мелочей внешний вид стены (хотя, к сожалению, многое несравненно более важное я позабыл), но здесь, в этом причудливом помещении, не было никакого порядка, никакой системы, которая могла бы задержаться в памяти. Комната располагалась в высокой башне аббатства, выстроенного в виде замка, имела форму пятиугольника и была очень большой. Всю южную сторону пятиугольника занимало одностворчатое окно – огромного размера лист небьющегося венецианского стекла, подкрашенного свинцом так, что лучи солнца и луны, проходя сквозь него, придавали всему внутри призрачный блеск. Над верхней частью этого громадного окна выступала решетка, увитая лозой старого винограда, который взобрался на самый верх по массивным стенам башни. Тяжелый сводчатый потолок из мрачного дуба был весь покрыт тонким гротескным полуготическим-полудруидическим узором. Из самой середины этого темного свода поддерживаемый одной золотой цепью с длинными звеньями свисал огромный сарацинский светильник в форме кадила из того же металла, испещренный многочисленными отверстиями, которые складывались в узоры столь затейливые, что разноцветные языки горящего внутри пламени, будто живые огненные змеи, вырывались наружу и вились вокруг него в непрекращающемся танце.
Несколько оттоманок и восточные золотые канделябры были в беспорядке расставлены в разных местах, еще там стояло брачное ложе индийской работы, невысокое, с резными фигурами из цельного эбена, с пологом, напоминающим гробовой покров. В каждом углу находились прислоненные к стене гигантские черные гранитные саркофаги из царских гробниц Луксора[43]. Их древние крышки украшали старинные рисунки. Однако самое фантастическое заключалось в драпировке комнаты. Высокие, огромные даже для такого размера комнаты стены сверху донизу были увешаны многочисленными тяжелыми гобеленами из того же материала, что и ковер на полу, что и покрывала на оттоманках и на эбеновом ложе, что и балдахин над ним, что и богатые спирали занавесей, частично оттенявших окно. Это была роскошнейшая золотая ткань. Всю ее покрывали беспорядочно разбросанные тканые арабески около фута в диаметре и черные как смоль. Однако узоры эти принимали различные очертания, все зависело от того, под каким углом смотреть на них. Благодаря приему, используемому часто в наши дни, но на самом деле придуманному в глубокой древности, они могли менять свои очертания. Входящему в комнату они представлялись безобразными фигурами, но при дальнейшем продвижении их облик начинал постепенно преображаться, и, шаг за шагом меняя свое положение, вошедший оказывался окруженным бесконечным хороводом призрачных фигур, порождений норманнских суеверий или ночных кошмаров монаха. Фантасмагорическое впечатление необычайно усиливалось искусственно созданным сильным непрерывным током воздуха за драпировкой, который оживлял фигуры, делая их еще более беспокойными и жуткими.
В таких залах – в таком брачном покое – проводил я с леди из Тремейна порочные часы первого месяца нашего брака… проводил их, почти не испытывая волнения. Супругу страшило мое неизменно дурное настроение, она сторонилась меня и не любила, чего я не мог не замечать, но что, скорее, доставляло мне удовольствие. Я ненавидел ее и презирал с чувством скорее демоническим, нежели человеческим. Память уносила меня в прошлое (о, до чего горьким было мое сожаление!), к Лигейе, любимой, царственной, прекрасной, мертвой. Я упивался воспоминаниями о ее чистоте, о ее мудрости, о ее тонкой, возвышенной душе, о ее страстной, исступленной любви. Теперь сердце мое горело жарче, чем все огни, сжигавшие ее. В горячке опиумного забытья (я неизменно находился под наркотиком) я выкрикивал ее имя, в ночной тиши или днем среди узких горных долин, словно поддавшись безумному порыву страсти, всепоглощающему огню тоски по ушедшей, которые возвратили бы ее на землю.
С началом второго месяца супружества леди Ровену неожиданно сразила болезнь. Выздоровление было долгим. Жар, снедавший ее, лишил ее ночного покоя, и, пребывая в тревожном полусне, она говорила о звуках и движениях в башне, которые, как я решил, были порождением исключительно ее душевного расстройства или фантасмагорического влияния самой комнаты. Спустя какое-то время здоровье ее поправилось… наконец она выздоровела. Но прошло совсем немного времени – и второй, еще более жестокий удар приковал ее к постели, и от этого приступа она, еще слабая, так и не смогла до конца оправиться. Со временем болезни Ровены становились все более серьезными и все чаще повторяющимися вопреки познаниям и стараниям ее врачей. С усилением хронической болезни, которая уже овладела ею настолько, что не осталось доступных человеку способов справиться с ней, я не мог не замечать, как усиливаются ее раздражительность, вызванная столь банальной причиной, как страх. Она снова заговорила (теперь еще чаще и настойчивее) о звуках… о едва слышных звуках и о необычных движениях среди складок драпировки, пугающих ее.
Однажды ночью, в конце сентября, она настойчивее, чем обычно, пыталась привлечь мое внимание к этому печальному предмету. Она только пробудилась от неспокойного сна, и я с чувством тревоги и смутного страха наблюдал за переменами, происходящими на ее изможденном лице. Я сидел на одной из индийских оттоманок рядом с ее ложем. Она приподнялась и горячо заговорила тихим взволнованным шепотом о звуках, которые услышала, но я не слышал их, о движениях, которые она увидела, но я не заметил. За гобеленами гулял беспокойный ветер, и я решил показать ей (в чем, признаюсь, сам не был полностью уверен), что почти неслышное дыхание и едва заметные колебания изображений на стенах были всего лишь следствием обычного движения ветра. Но мертвенная бледность ее лица показала мне, что попытки мои напрасны. Похоже, она вот-вот лишится чувств, а рядом никого не было. Я вспомнил, где находился графин с легким вином, которое прописали ей врачи, и быстро направился за ним в другой конец комнаты. Но, как только на меня упали лучи светильника, два удивительных обстоятельства привлекли мое внимание. Я почувствовал, что какой-то осязаемый, хоть и невидимый объект беззвучно прошел мимо меня, и еще на золотом ковре в середине круга яркого света, отбрасываемого светильником, я увидел тень… легкую, неясную тень, наподобие ангельской… такую тень, должно быть, отбрасывает бесплотный дух. Но я был слишком возбужден непомерной дозой опиума и не придал этому значения; Ровене тоже ничего не сказал. Найдя вино, я пошел обратно и, до краев наполнив кубок, поднес его к устам больной. Однако к тому времени она уже почти пришла в себя, взяла кубок в руки, а я, не отводя от нее взора, опустился на оттоманку рядом. Тогда-то я совершенно отчетливо услышал мягкие шаги по ковру рядом с ложем. А затем, в тот миг, когда Ровена подносила вино к губам, я увидел (или мне это пригрезилось?), как в бокал, словно из ниоткуда, как будто бы в воздухе находился некий незримый источник, упали три-четыре большие искрящиеся рубиновые капли. Я это заметил, а Ровена – нет. Без колебаний она выпила вино, я же не стал говорить ей о том, что скорее всего было лишь порождением живого воображения, болезненно разгоряченного страхами больной, опиумом и поздним часом.
Однако я не могу вычеркнуть из сознания тот факт, что после тех рубиновых капель здоровье моей супруги стало стремительно ухудшаться, и уже на третью ночь слуги леди Ровены готовили ее к кончине. На четвертую ночь я сидел один рядом с ее завернутым в саван телом в том самом фантастическом покое, в который она вступила моей супругой. Дикие видения, порождения опиума витали передо мной призрачными тенями. Тревожным взором смотрел я на саркофаги в углах комнаты, всматривался в изменчивые узоры на драпировке и на танец разноцветных языков пламени в лампе у себя над головой. Потом, когда я стал вспоминать обстоятельства той ночи, взгляд мой пал на место под светильником, где я видел неясные следы тени. Однако ее там уже не было, и, спокойно вздохнув, я устремил взор на бледную и застывшую фигуру на смертном ложе. И тут тысячи воспоминаний о Лигейе обрушились на меня… на сердце, точно бушующий потоп, снова нахлынула вся та неизмеримая скорбь, с которой смотрел я на нее, убранную так же. Ночь шла, а я, все еще преисполненный горьких мыслей о той единственной, истинно любимой, продолжал взирать на тело Ровены.
В полночь, может быть, раньше или позже, ибо я не обращал внимания на время, меня из задумчивости неожиданно вывел всхлип, негромкий и приглушенный, но совершенно явственный. Мне показалось, что донесся он с эбенового ложа… со смертного одра. Скованный суеверным страхом, я прислушался… Но звук не повторился. Я напряг зрение, пытаясь увидеть какое-нибудь движение трупа… Но он оставался неподвижен. И все же я не мог ошибиться. Каким бы тихим ни был этот звук, я его услышал, и моя душа пробудилась. Я упорно продолжал всматриваться в мертвое тело и вслушиваться в тишину. Немало прошло минут, прежде чем хоть что-то смогло пролить свет на эту тайну. Мало-помалу стало заметно, что очень легкий, едва различимый оттенок цвета проступил на щеках и тонких впалых жилках на веках. Застыв на месте от невероятного ужаса, я почувствовал, что сердце у меня остановилось, а члены мои отказываются мне повиноваться. И все же чувство долга взяло верх и вернуло мне самообладание. Я уже не сомневался, что мы поспешили с приготовлениями… что Ровена еще жива! Нужно было срочно что-то предпринять, но башня находилась далеко от той части аббатства, где жили слуги, и меня никто бы не услышал. У меня не было способа призвать их на помощь, не покидая надолго комнаты, а на это я не мог решиться. Поэтому я сам стал изо всех сил пытаться вернуть в тело дух, витавший поблизости. Но вскоре стало ясно, что она снова впала в прежнее состояние. Щеки и веки стали белее мрамора, губы вдвойне усохли и туго сжались в жуткой смертельной гримасе. Поверхность тела стала омерзительно липкой и холодной, мгновенно наступило обычное окоченение. Содрогаясь, я опустился на ложе, с которого был так стремительно поднят, и снова вернулся к страстным мыслям о Лигейе.
Так минул час, когда я (возможно ли это?) снова услышал тихий звук со стороны смертного одра. В бесконечном страхе я прислушался. Звук повторился – то был вздох. Бросившись к трупу, я узрел – совершенно ясно, – что губы его слегка затрепетали. Прошла минута, и они разомкнулись, обнажив яркую полоску жемчужных зубов. Удивление теперь боролось во мне с сильнейшим страхом, который до этого поглотил меня полностью. Я почувствовал, что в глазах у меня темнеет, разум начинает покидать меня, и лишь неимоверным усилием воли я заставил себя приняться за дело, которого требовало чувство долга. На сей раз слегка порозовели лоб, щеки и шея, ощутимое тепло разлилось по всему телу, даже почувствовалось слабое биение сердца. Ровена жила, и я с удвоенным усердием принялся бороться за ее жизнь. Я растирал и увлажнял ее виски и руки, делал все, что подсказывали опыт и немалая начитанность в медицине. Все попусту. Вдруг с лица ее сошла краска, биение сердца прекратилось, губы снова мертвенно искривились, и через миг все тело похолодело как лед, сделалось серовато-синим, совершенно окоченело, сморщилось и приобрело отвратительные особенности трупа, пролежавшего в могиле много дней.
И снова я стал грезить о Лигейе… И снова (как странно, что я дрожу, когда пишу об этом!) до моего слуха донесся тихий всхлип с эбенового ложа. Но к чему мне описывать все подробности невыразимых кошмаров той ночи? К чему тратить время на пересказ того, как раз за разом, почти до самого рассвета, повторялась эта отвратительная драма оживания… как с каждым новым возвратом признаков жизни смерть все сильнее и увереннее вступала в свои права… как каждая агония напоминала борьбу с невидимым врагом… и как за каждой схваткой происходила неподвластная моему разумению перемена внешнего облика трупа? Лучше я перейду к концу.
Бóльшая часть кошмарной ночи осталась позади, когда мертвая снова зашевелилась – теперь еще заметнее, чем до сих пор, хотя и восставала из разложения куда более страшного, нежели раньше. Я уже давно перестал бороться и неподвижно сидел на оттоманке – беспомощная жертва круговерти неистовых чувств, среди которых благоговейный трепет был, пожалуй, наименее жутким, наименее поглощающим. Труп, я повторяю, пошевелился, и на этот раз заметнее прежнего. Жизненные краски непривычно скоро появились на лице, члены утратили окоченение, и, если бы веки не были сомкнуты, а погребальные одежды и покровы не придавали телу могильный вид, я бы мог решить, что Ровена и в самом деле окончательно сбросила с себя узы смерти. Но, если даже тогда эта мысль еще казалась невозможной, я уже не мог более в том сомневаться, когда, не раскрывая глаз, неверной походкой, едва переставляя ноги, словно во сне, то, что было уготовано для могилы, поднявшись с ложа, вышло на середину комнаты.
Я не дрожал… я не шевелился, ибо множество непередаваемых словами мыслей, связанных с выражением лица, осанкой и поведением фигуры, заполонило мой разум, парализовало меня… обратило в камень. Я не шевелился… но, не в силах оторвать взгляда, смотрел на видение. В мыслях моих царил полный хаос, кромешный ад. Ужели со смертного одра действительно восстала Ровена? Ровена ли это… светлокудрая голубоглазая леди Ровена Тревенион из Тремейна? Что, что может заставить меня усомниться в этом? Тугая повязка стягивала ее уста… Но не эти ли уста источали живое дыхание леди из Тремейна? А щеки – розы на них цвели так же ярко, как в юности, – да, это в самом деле чистые щеки живой леди Ровены. А подбородок с той же ямочкой, такой же, как и во времена ее здоровья, неужели это не ее подбородок?… Но что это? Могла ли она за время болезни стать выше? Что за неизъяснимое безумие внушило мне подобную мысль? Один шаг… и вот я уже у ее стоп! Почувствовав мое прикосновение, она отпрянула, стянула с головы распустившиеся белые погребальные покровы, и из-под них в зыбкий воздух комнаты хлынули пышные волны длинных и буйных локонов… И были они чернее воронова крыла! А потом глаза фигуры, стоящей предо мною, медленно раскрылись.
– Ужели? – вскричал я. – Ужели я ошибаюсь? Но нет! Ведь это, это огромные черные беспокойные глаза… той, которую я потерял… моей любимой… госпожи… ГОСПОЖИ ЛИГЕЙИ.
Удивительная система
Как-то осенью 18… во время путешествия по южным провинциям Франции путь мой пролег в нескольких милях от одного Maison de Sante, или частного дома для умалишенных, о котором я много слышал от своих друзей-медиков в Париже. Раньше я никогда не бывал в подобных местах, поэтому мне подумалось, что такой случай нельзя упускать, и предложил своему спутнику (господину, с которым случайно познакомился за несколько дней до того) свернуть на часок с пути, чтобы осмотреть это заведение. Он отказался, сославшись на то, что, во-первых, спешит, а во-вторых, как любой нормальный человек, боится приближаться к сумасшедшим. Однако сказал, что, если мне так уж любопытно, не хочет, чтобы из-за него я отказывался от своих намерений, и заверил меня, что сам поедет дальше медленно, чтобы вечером или, в крайнем случае, на следующий день я мог нагнать его. Когда мы прощались, мне вдруг пришло в голову, что попасть внутрь заведения может оказаться не так-то просто, и не преминул высказать свои сомнения. Он объяснил, что, если я не знаком с главным врачом, месье Майяром, или у меня нет какого-либо рекомендательного письма, я действительно могу столкнуться с трудностями, поскольку обычно в частных сумасшедших домах придерживаются более строгих правил, чем в государственных. Правда, добавил мой спутник, он знал Майяра лично (познакомился с ним еще несколько лет назад), поэтому мог бы подъехать вместе со мной к двери и представить меня, но не более того – его отношение к самому умопомешательству не позволяло ему войти в здание.
Я поблагодарил его, и мы свернули с дороги на поросшую травой тропинку, которая спустя полчаса почти затерялась в густом лесу, опоясывающем подножие горы. Проехав по сырой и мрачной чаще две мили, мы увидели Maison de Sante. Это был весьма необычный château[44], запущенный, почти не пригодный для жилья из-за старости и отсутствия ухода. Вид его внушил мне страх, и я даже придержал лошадь, думая, не повернуть ли обратно, но вскоре устыдился своей слабости и продолжил путь.
Когда мы подъехали к двери, я заметил, что она слегка приоткрыта и стоящий за ней человек в щелку наблюдает за нами. Однако в следующий миг этот человек вышел из своего укрытия, обратился к моему спутнику по имени, горячо пожал ему руку и предложил спешиться. Это был сам месье Майяр, благообразный, внушительного вида господин старой закалки. Держался он весьма важно, с достоинством. Надо сказать, что все вместе это производило довольно сильное впечатление.
Представив меня, мой друг упомянул о моем желании осмотреть заведение и, получив заверения месье Майяра в том, что он позаботится обо мне, распрощался, и с тех пор мы не встречались.
Когда он уехал, главный врач провел меня в небольшую изящно убранную гостиную, где, помимо прочих свидетельств изысканного вкуса ее владельца, было много книг, картин, цветочных горшков и музыкальных инструментов. В камине весело играл огонь. За роялем сидела молодая, очень красивая женщина и, аккомпанируя себе, пела арию из Беллини. Заметив меня, она замолчала и любезно поздоровалась. Разговаривала она негромко и держалась скованно. К тому же мне показалось, что я заметил следы печали на ее лице, которое было очень бледным, что, впрочем, на мой вкус, ничуть не уменьшало красоты. Облачена девушка была в глубокий траур и вызвала у меня смешанное чувство уважения, любопытства и восхищения.
В Париже я слышал, что в заведении месье Майяра принято то, что обычно и не совсем точно называют «системой умиротворения». Это означает, что здесь избегали всех видов наказаний (даже к ограничению свободы здесь прибегали очень редко) и что пациентам, хоть они и находились под тайным надзором, предоставлялась почти полная свобода действий – они могли ходить по дому и по двору в обычной одежде, как нормальные, здоровые люди.
Помня об этом, разговаривая с юной леди, я держался осторожно, поскольку не был до конца уверен, что она не пациентка, – более того, беспокойный блеск ее глаз вызывал сильное подозрение в обратном. Поэтому разговор наш я ограничил самыми безобидными темами, которые, по моему убеждению, не могли вызвать раздражение или взволновать даже сумасшедшего. На все, что я говорил, она отвечала вполне здраво, собственные ее замечания были вполне разумны, однако долгое знакомство с метафизикой безумства научило меня не доверять подобным признакам вменяемости, и до конца беседы я продолжал соблюдать осторожность.
Некоторое время спустя расторопный лакей в ливрее принес большое блюдо с фруктами, вином и прочей освежающей снедью. Я занялся закусками, а леди в скором времени вышла из комнаты. Когда она удалилась, я посмотрел вопросительно на своего хозяина.
– Нет-нет! – воскликнул он. – Это моя родственница… Племянница. Она настоящая леди.
– Тысяча извинений за подозрения, – ответил я. – Но вы же понимаете… О вашем заведении и о ваших изумительных методах известно в Париже, и я подумал, что, возможно…
– Да, да… Прошу вас, не надо больше об этом. Это, скорее, я вас должен благодарить за то, что вы повели себя так осмотрительно. Сейчас нечасто встретишь столь осмотрительного молодого человека. У нас уже не раз случались неприятные contretemps[45] из-за неосторожности посетителей. Пока у нас действовала прежняя система и моим пациентам разрешалось свободно перемещаться по дому, их часто выводило из себя необдуманное поведение тех, кто приезжал, чтобы ознакомиться с работой заведения. Поэтому мне пришлось ввести строгую систему отбора, и теперь зайти сюда имеет право только тот человек, в благоразумии которого я не сомневаюсь.
– Пока у вас действовала прежняя система! – удивленно повторил я его слова. – Я правильно понимаю, вы хотите сказать, что отказались от «системы умиротворения», о которой я столько слышал?
– Вот уже несколько недель, – ответил он, – как мы решили навсегда отказаться от нее.
– В самом деле? Вы меня поражаете!
– Видите ли, сэр, – вздохнул он, – мы посчитали, что просто необходимо вернуться к прежним методам. Опасность «системы умиротворения» была слишком велика, да и действенность ее, признаться, сильно преувеличили. Уж поверьте, сэр, в этих стенах, как нигде в другом месте, ее можно было справедливо оценить. Мы здесь перепробовали все, что только изобретено человечеством для лечения недугов разума. Жаль, что вы не заглянули к нам раньше, вы бы сами все увидели. Но, насколько я могу судить, вы достаточно хорошо знакомы с приемами умиротворения…
– Не то чтобы хорошо. Все, что я слышал, доходило до меня из третьих, а то и четвертых рук.
– Что ж, в таком случае я могу в общих чертах описать вам систему. Суть ее заключается в том, что к пациентам относятся как к членам семьи. Мы не препятствовали никаким фантазиям, которые приходили в голову сумасшедшим. Напротив, мы не только мирились, но даже потворствовали им, и это действительно помогло многим из наших самых старых пациентов. На немощный разум безумца убедительнее всего действует argumentum ad absurdum[46]. Вот, к примеру, у нас были люди, которые считали себя курицами. Их лечение заключалось в следующем: мы настаивали на том, что это действительно так… Обвиняли пациента в глупости, если он вел себя не совсем так, как подобает курице, и на неделю переводили его на специальную диету – кормили только тем, что едят эти птицы. И, знаете, в таких случаях немного зерна и мелких камешков творили настоящие чудеса.
– И так вы поступали со всеми своими пациентами?
– Ни в коем случае. Мы очень верили в благотворное влияние простых и приятных занятий, таких как музыка, танцы, общие гимнастические упражнения, карты, чтение определенных книг и так далее. Мы каждого нашего пациента лечили так, как при обычном физическом заболевании, и слово «безумие» у нас никогда не звучало. Еще большее значение имело то, что каждый из сумасшедших следил за поведением остальных. Внушите безумцу, что ему доверяют, – и он ваш душой и телом. К слову, таким образом нам удалось избавиться от дорогостоящего штата санитаров.
– И вы не применяли наказаний?
– Совершенно верно.
– И никого из пациентов не сажали под ключ?
– Очень редко. Когда с кем-нибудь случался кризис или приступ бешенства, мы заключали его в тайную камеру, чтобы его расстройство не коснулось остальных, и держали его там до тех пор, пока он не успокаивался. Потом возвращали к друзьям… С буйными помешанными мы справиться не в силах. Таких мы обычно отправляли в государственные больницы.
– А теперь вы от всего этого отказались… И считаете, что это даст лучшие результаты?
– Определенно. У такой системы есть свои минусы, она даже была в некотором роде опасна. Сейчас, к счастью, она изгнана из всех Maisons de Sante Франции.
– Как же так? – удивленно воскликнул я. – А я был уверен, что сейчас во всей стране только ею и пользуются для лечения сумасшествия.
– Вы молоды, мой друг, – ответил мой хозяин. – Но со временем вы научитесь сами судить о происходящем вокруг, не доверяя слухам. Не верьте ничему, что слышите, и половине того, что видите. Ну а что касается нашего заведения, очевидно, какой-нибудь невежда просто ввел вас в заблуждение. Впрочем, после обеда, когда отдохнете (устали, наверное, в седле), я с удовольствием проведу вас по дому, и вы сами сможете все увидеть. Познакомлю вас с системой, которая, и по моему мнению, и по мнению всех, кто наблюдал ее действие, намного эффективнее придуманного до сих пор.
– Ваша? – поинтересовался я. – Одно из ваших собственных изобретений?
– Без лишней скромности могу сказать «да», – ответил мой хозяин. – По крайней мере, до определенной степени.
Так я беседовал с месье Майяром час или два, пока он демонстрировал мне сады и оранжереи вокруг своего заведения.
– Я не хочу пока что показывать вам моих пациентов, – сказал он. – Любой чувствительный человек испытывает нечто вроде потрясения от таких представлений, а я не хочу, чтобы у вас перед обедом пропал аппетит. Сначала мы пообедаем – я угощу вас телятиной а-ля Мену с цветной капустой под соусом велюте, потом выпьем по стаканчику «Кло де вужо» – после этого, думаю, ваши нервы достаточно успокоятся.
В шесть объявили обед, и мой хозяин провел меня в просторную salle à manger[47], где собралась довольно большая компания, человек двадцать пять-тридцать. Судя по всему, это были люди достаточно солидные, породистые, хотя одеяния их я бы назвал слишком уж пышными, своей нарочитой торжественностью они напоминали vieille cour[48]. Я заметил, что по меньшей мере две трети составляли женщины, и некоторые из них выглядели так, что ни один француз в наши дни не назвал бы это хорошим вкусом. К примеру, многие дамы явно за семьдесят были прямо-таки обвешаны всевозможными украшениями – серьгами, браслетами, кольцами, а руки и грудь у них были обнажены до неприличия. Еще я обратил внимание, что очень мало платьев было сшито достаточно хорошо, немногие из них были впору тем, кто их надел. Оглядевшись, я заметил и интересную девушку, которой месье Майяр представил меня в маленькой гостиной, но изумлению моему не было предела, когда я увидел на ней юбку с фижмами, туфли на высоких каблуках и грязный чепец из брюссельского кружева, до того большой, что ее лицо в нем казалось комично крохотным. До этого на ней было строгое траурное платье, которое, признаться, ей очень шло. Короче говоря, в одежде собравшихся чувствовалась некоторая необычность, из-за чего я сначала решил, что здесь все-таки продолжает действовать «система умиротворения», а месье Майяр просто хотел рассказать мне правду после обеда, чтобы во время трапезы я не почувствовал себя неловко из-за соседства с сумасшедшими, но потом я вспомнил, как в Париже меня предупреждали, что южные провинциалы – люди очень эксцентричные и придерживаются устарелых взглядов. А уж после разговора с некоторыми из собравшихся в столовой мои опасения окончательно развеялись.
Саму столовую, хоть она и казалась достаточно уютной и просторной, никак нельзя было назвать изящной. Пол в ней не был покрыт ковром (впрочем, во Франции довольно часто без этого обходятся). На окнах отсутствовали занавески, а закрытые ставни были накрепко заперты диагональными железными пластинами, как в наших магазинах. Этот зал занимал целое крыло здания, поэтому окна здесь располагались на трех сторонах параллелограмма (дверь находилась на четвертой), и всего окон было не меньше десяти.
Стол был накрыт изумительно и прямо-таки ломился от изысканных яств. Изобилие было совершенно варварским. Мяса здесь хватило бы насытить и сынов Енаковых[49]. Никогда в жизни я не видел пиршества столь богатого и столь расточительного. Однако в том, как все это было обставлено, ощущался недостаток вкуса, и мои глаза, привыкшие к неяркому свету, невыносимо страдали от ослепительного сияния бесчисленных восковых свечей, стоявших в серебряных канделябрах на столе и повсюду в комнате. Пирующим прислуживали несколько бойких слуг, а в дальнем конце комнаты за большим столом восседало семь или восемь человек со скрипками, маленькими флейтами, тромбонами и барабаном. Эти люди меня сильно раздражали тем, что во время трапезы то и дело наполняли столовую какофонией, очевидно, полагая, что эта мешанина звуков может считаться музыкой. Правда, всем присутствующим, за исключением меня, это, похоже, доставляло огромное удовольствие.
В общем во всем, что я видел, было слишком много bizarre[50]. Но ведь мир состоит из самых разных людей, с разными привычками и представлениями, как следует себя вести в обществе. К тому же я достаточно много путешествовал и повидал на своем веку, чтобы твердо следовать правилу: nil admirari[51], поэтому совершенно спокойно уселся справа от своего хозяина и с аппетитом принялся уплетать превосходный сыр, который поставил передо мной один из слуг.
Тем временем разговор за столом шел довольно оживленный. Активнее были, как водится, дамы. Вскоре я понял, что почти все в этой компании – люди хорошо образованные, а сам хозяин был настоящим кладезем всевозможных веселых рассказов. Он весьма охотно говорил о своем положении главного врача сумасшедшего дома, да и вообще тема безумства, к моему величайшему удивлению, кажется, была излюбленной для всех собравшихся. За столом прозвучало немало смешных историй, связанных с причудами пациентов.
– У нас тут однажды был один парень, – сказал маленький жирный господин, сидевший справа от меня, – который воображал себя чайником. И, к слову, не правда ли, просто поразительно, до чего часто этот предмет привлекает к себе сумасшедших? Я думаю, в каждой психушке во Франции есть свой живой чайник. Так вот, наш ненормальный представлял себя чайником английского производства и каждое утро неукоснительно натирал себя замшей и мелом.
– А еще не так давно, – подал голос мужчина, сидевший напротив него, – один человек у нас тут втемяшил себе в голову, будто он осел, что, выражаясь фигурально, скажете вы, вполне соответствовало истине. Очень беспокойный пациент. Ну и намучались мы с ним! Долгое время он отказывался есть что-либо кроме чертополоха, но мы его быстро отучили, начав кормить только им. Еще он все время лягался! Вот так, вот так…
– Господин де Кок! Я была бы вам очень благодарна, если бы вы следили за манерами! – заговорила старая дама, сидевшая рядом с говорящим. – Прошу вас, держите свои ноги при себе! Вы мне испортили парчу! Неужели так необходимо столь живо изображать все, о чем вы говорите? Наш друг наверняка и так прекрасно вас понимает. Честное слово, вы сами почти такой же осел, как и тот несчастный, о котором вы говорите. Очень уж у вас похоже получается.
– Mille pardons, мадемуазель! – воскликнул тот, кого назвали господином де Коком. – Тысяча извинений, я не хотел вас обидеть. Мадемуазель Лаплас, месье де Кок почтет за честь выпить с вами вина.
Тут месье де Кок низко поклонился, очень церемонно поцеловал кончики своих пальцев, после чего они вместе припали к бокалам.
– Позвольте, mon ami[52], – обратился ко мне месье Майяр, – позвольте, я положу вам кусочек телятины а-ля Сент-Мену… Поверьте, она бесподобна!
В этот миг трое дюжих слуг наконец-то сумели благополучно разместить на столе огромное блюдо или поднос, на котором покоилось какое-то «monstrum horrendum, informe, ingens, cui lumen ademptum»[53]. Но при ближайшем рассмотрении выяснилось, что это всего лишь маленький теленок, запеченный целиком и лежащий на согнутых коленях с яблоком во рту. Так в Англии принято подавать зайца.
– Спасибо, нет, – ответил я. – По правде говоря, я не очень люблю телятину а-ля Сент-… Как вы ее назвали? Боюсь, она слишком тяжела для моего желудка. Пожалуй, я лучше переменю тарелку и попробую кролика.
На столе стояло несколько подносов поменьше, на которых лежало нечто очень похожее на обычного французского кролика… Превосходное morceau[54], которое могу всем порекомендовать.
– Пьер, – крикнул хозяин, – перемени этому господину тарелку и положи ему боковую часть этого кролика au-chat[55].
– Этого… Что? – воскликнул я.
– Кролика au-chat.
– Э-э-э, спасибо, но, знаете, я, кажется, передумал. Лучше я возьму ветчины.
«Кто его знает, что они тут у себя в провинции едят, – подумал я. – Не собираюсь я есть их кроликов под кота, да и котов под кролика тоже».
– А еще, – подхватил оборвавшуюся нить разговора бледный как смерть господин за дальним концом стола, – еще среди прочих странностей у нас когда-то был пациент, который очень упрямо настаивал, что он – кордовский сыр, и ходил с ножом за своими друзьями, умоляя попробовать кусочек от его ноги.
– Да, это был настоящий сумасшедший, – вставил кто-то, – но даже ему не сравниться с тем человеком, которого все мы (кроме этого странного господина) знаем. Я имею в виду типа, который считал себя бутылкой шампанского и то и дело хлопал и шипел вот так…
Тут говоривший очень неприличным, на мой взгляд, жестом сунул себе в рот большой палец и резко выдернул его со звуком, напоминающим хлопок пробки, а после, быстро водя языком по зубам, стал шипеть, как пенящееся шампанское. Так продолжалось несколько минут, и я заметил, что подобное поведение было довольно неприятно месье Майяру, но он ничего не сказал, и разговор продолжался. На этот раз заговорил тощий маленький человечек в огромном парике.
– А вот еще был один полоумный, – сказал он, – который считал себя лягушкой. Кстати, он и внешне был на нее весьма похож. Жаль, что вы не видели, как он ее изображал, – теперь говоривший обращался ко мне. – Вы бы испытали истинное наслаждение, если бы увидели, как искренне и естественно это у него получалось. Знаете, если тот человек не был настоящей лягушкой, об этом можно только пожалеть. Квакал он вот так: ква-а-а-а, ква-а-а-а! Это был прекраснейший в мире звук… Си-бемоль. А когда он вот так ставил на стол локти… после пары-тройки стаканов вина… надувал щеки (вот так), закатывал глаза и начинал быстро-быстро моргать… Уж поверьте, вы бы глаз оторвать от него не смогли, восхищаясь таким гением.
– Не сомневаюсь, – отозвался я.
– А еще, – сказал кто-то со стороны, – был у нас Пети Гальяр[56], который считал себя понюшкой табаку и очень расстраивался из-за того, что не мог сам себя взять пальцами.
– А еще тут был Жюль Дезульер (настоящий гений!), который сошел с ума оттого, что стал считать себя тыквой. Он все донимал повара, умоляя его напечь из себя пирогов, хотя тот с самого начала с негодованием отказался это делать. Что касается меня, то я нисколько не сомневаюсь, что тыквенный пирог а-ля Дезульер был бы просто объедение!
– Поразительно! – воскликнул я и в ожидании разъяснений взглянул на месье Майяра.
– Ха-ха-ха! – захохотал тот во все горло. – Хе-хе-хе! Хи-хи-хи! О-хо-хо!.. Ух-ху! Прелестно!.. Не удивляйтесь, mon ami, наш друг – великий шутник… и выдумщик. Не понимайте его слова буквально.
– А еще Буффон Ле Гран[57], – сказал кто-то другой, – тоже по-своему весьма примечательная личность. Он помешался от любви и вообразил, что у него две головы, причем одна была головой Цицерона[58], а вторая состояла из двух частей: Демосфена[59] от макушки до рта, а ниже рта до подбородка – лорда Брума[60]. Может быть, он и ошибался, но уж он-то смог бы убедить вас в своей правоте, если бы вы послушали его, потому что это был величайший оратор. Риторикой владел от и до. Красноречие было его страстью, и он не мог не поддаваться ей. Бывало, запрыгнет на стол, вот так… и как начнет…
Тут сосед говорившего положил ему руку на плечо и что-то прошептал на ухо, после чего тот неожиданно замолчал, уселся на свое место и недовольно надулся.
– А еще Буллар-волчок, – громко заговорил тот, кто шептал. – Я называю его волчком, потому что им овладела довольно забавная, но не лишенная здравого смысла фантазия, будто он стал волчком. Вы бы лопнули со смеху, если бы увидели, как он кружится. Он мог часами вращаться на одном каблуке, вот таким манером… и…
Тут его друг, которого он только что успокоил шепотом, проделал то же самое с ним самим.
– Ваш месье Буллар, – вдруг завопила одна старуха, – был сумасшедшим, к тому же совершенно бестолковым: кто, позвольте узнать, поверит, что человек может быть волчком? Вздор! Вот мадам Жуаез[61] была куда благоразумнее, как вам известно. Она тоже не без фантазии, но это было влечение, основанное на здравом смысле, к тому же оно доставляло удовольствие всем, кто имел честь быть с нею знакомым. Хорошенько поразмыслив, она поняла, что из-за какого-то стечения обстоятельств стала петушком. Ну и после этого не переставала вести себя соответственно: хлопала крыльями… вот так, вот так… А кукарекала просто изумительно. Кукареку! Кукареку! Кукареку! Ку-у-у-у!..
– Мадам Жуаез, я был бы вам весьма признателен, если бы вы следили за собой! – прервал ее наш хозяин, в голосе которого послышались раздраженные нотки. – Либо ведите себя, как подобает даме, либо немедленно покиньте стол. Выбирайте сами.
Дама (которую, к моему безмерному удивлению, назвали мадам Жуаез, хотя она сама только что описывала некую мадам Жуаез) вспыхнула и пристыжено скрючилась. Вжав голову в плечи, она больше не произнесла ни звука. Однако разговор подхватила другая женщина – моя юная красавица из маленькой гостиной.
– О, мадам Жуаез была просто дурой! – воскликнула она. – Вот во взглядах Эжени Сальсафетт действительно присутствовал здравый смысл. Она была прекрасной и ужасно скромной девушкой, которая считала обычный способ носить одежду совершенно неприличным и всегда хотела одевать себя не снаружи, а внутри. Это, между тем, вовсе не сложно. Для этого достаточно лишь сделать так… а потом так… так, так и вот так… потом так… так… а потом…
– Mon dieu![62] Мадемуазель Сальсафетт! – вскричало несколько голосов разом. – Что вы задумали? Довольно! Мы все уже прекрасно понимаем, как это делается!.. Прекратите! Прекратите!
Несколько человек уже вскочили из-за стола, чтобы помешать мадемуазель уподобиться Венере Медицейской[63], но ее остановили не они, а несколько пронзительных криков или даже воплей откуда-то из глубины центральной части château.
У меня от этих звуков душа ушла в пятки, но, когда я посмотрел на остальную часть компании, мне их стало просто жаль. Никогда в жизни я не видел, чтобы здоровые, разумные люди так боялись. Все они жутко побледнели, отчего стало казаться, будто за столом восседает компания мертвецов. В ужасе вжавшись в стулья, они, дрожа и стуча зубами, прислушивались, ожидая повторения звуков. И звуки эти повторились, на этот раз громче и ближе. Потом снова закричали, очень громко, и снова, правда тише и уже не так отчаянно. Как только стало понятно, что крики стихают, к сидевшим за столом тут же вернулась прежняя бодрость. Снова загалдели оживленные голоса, послышался смех. Я поинтересовался, чем вызвано неожиданное волнение.
– Сущие пустяки, – ответил месье Майяр. – Мы уже привыкли к этому и почти не обращаем внимания. Сумасшедшие иногда устраивают нам концерты. Начинает один, второй подхватывает и так далее, так собаки, бывает, по ночам воют. Однако иногда случается, что за такими завываниями следует попытка вырваться на свободу, а это уже может представлять некоторую угрозу.
– А сколько у вас пациентов?
– Сейчас не больше десяти.
– И в основном женщины, надо полагать?
– Нет-нет, одни мужчины… И все крепкие парни, могу вас уверить.
– В самом деле? А я всегда был убежден, что к безумству больше склонен слабый пол.
– В основном так и есть, но не всегда. Не так давно у нас было около двадцати семи пациентов и среди них не меньше восемнадцати женщин, но потом, как видите, ситуация сильно изменилась.
– Да… Как видите, сильно изменилась, – неожиданно поддержал его господин, который, брыкаясь, едва не переломал ноги мадемуазель Лаплас.
– Да… Как видите, сильно изменилась! – дружным хором повторила остальная компания.
– Придержите языки! Это всех касается! – заорал мой хозяин клокочущим от бешенства голосом, после чего в столовой почти на минуту воцарилась мертвая тишина. Одна из женщин даже восприняла слова месье Майяра буквально: высунув на удивление длинный язык, она взяла его обеими руками и сидела так до конца обеда.
– А эта достойная дама, – шепотом спросил я, наклонившись к месье Майяру, – женщина, которая сейчас говорила и кукарекала, надеюсь, ее не стоит бояться?
– Бояться? – неподдельно изумился он. – Что вы имеете в виду?
– Ну, она всего лишь слегка тронутая, да? – сказал я и постучал себя пальцем по голове. – Не буйнопомешанная? Я уверен, что не буйно.
– Mon dieu! Что вы себе вообразили? Эта дама, мадам Жуаез, – моя давняя и близкая подруга! Она так же нормальна, как и я. Да, у нее есть свои маленькие причуды, но все женщины в возрасте… все женщины в очень преклонном возрасте немного чудаковаты!
– Да, разумеется, – пробормотал я. – Конечно… А все эти остальные дамы и господа…
– Мои друзья и служители заведения, – оборвал меня на полуслове месье Майяр, принимая строгий вид. – Мои очень хорошие друзья и помощники.
– Как? Все? – изумился я. – И эти женщины, и все остальные?
– Конечно же, мы не можем обойтись без женщин, – ответил он. – Женщины – лучшие в мире сиделки для ухода за душевнобольными. У них это от природы. Их яркие глаза производят замечательное воздействие… Что-то наподобие взгляда змеи.
– Разумеется, – произнес я. – Разумеется! Но они какие-то странные… Ведут себя как-то необычно… Вы не находите?
– Странно! Необычно! Да с чего вы вообще это взяли? Мы тут на юге люди простые… К разным церемониям, знаете ли, не привыкли. Живем в свое удовольствие и делаем то, что хочется… Наслаждаемся жизнью и все такое…
– Разумеется, разумеется, – согласился я.
– Да и потом это «Кло де вужо», может быть, слишком уж того… сердитое… Ну, вы понимаете, да?
– Разумеется, – ответил я, – разумеется. Да, кстати, месье, если я правильно понял, система, которую вы у себя ввели, отказавшись от знаменитой «системы умиротворения», отличается крайней строгостью?
– Ни в коем случае. Наши пациенты ограничены в передвижениях, это вызвано необходимостью, но лечение – я имею в виду медицинское лечение – согласовывается с самим пациентом.
– И эту новую систему изобрели вы?
– Не совсем так. Некоторый вклад внес профессор Смоль (это имя наверняка вам знакомо), и, кроме того, за определенные изменения мне нужно поблагодарить знаменитого Перье, с которым, если я не ошибаюсь, вы имеете честь быть знакомым лично.
– Должен признаться, – ответил я, – я никогда даже не слышал об этих господах.
– Как!!! – вскричал мой хозяин, резко отодвинув стул и всплеснув руками. – Не ослышался ли я? Не хотите же вы сказать, что… Что только сейчас впервые услышали об ученейшем докторе Смоле и о знаменитом профессоре Перье?
– Мне стыдно признавать свою невежественность, – ответил я, – но правда превыше всего. Честное слово, мне ужасно стыдно, я готов сквозь землю провалиться, но в самом деле не знаком с работами этих, без сомнения, великих ученых. Я обязательно разыщу их сочинения и изучу их самым внимательным образом. Месье Майяр, право, мне ужасно, ужасно стыдно. Я просто повержен в прах!
И я говорил совершенно искренне.
– Довольно, довольно, мой юный друг, – ласково сказал он, похлопывая меня по руке. – Давайте-ка выпьем сотерна.
Мы выпили. Остальная компания с воодушевлением последовала нашему примеру. Они болтали, они обменивались шутками, они смеялись, они несли глупости и чудили; визжали скрипки, грохотали барабаны, тромбоны ревели, словно целое стадо медных быков Фаларида[64], и по мере того как лилось вино, все это действо постепенно принимало все более и более необузданный характер, пока не превратилось в какую-то вакханалию in petto[65]. Тем временем мы с месье Майяром придвинули к себе несколько бутылок сотерна и вужо. При этом нам приходилось в буквальном смысле перекрикивать шум, ибо сказанное обычным голосом имело не больше шансов быть услышанным, чем голос рыбы со дна Ниагарского водопада.
– Скажите, месье Майяр, – прокричал я ему в самое ухо, – до обеда вы упомянули что-то об опасности старой «системы умиротворения». Что вы имели в виду?
– Да, – ответил он, – иногда немалая опасность действительно существует. Никогда не знаешь, что придет на ум сумасшедшим, и, по моему мнению (и в этом доктор Смоль и профессор Перье со мной согласны), небезопасно оставлять их полностью без присмотра. Безумца можно на какое-то время что называется «умиротворить», но в конце концов это может привести его к буйству. Кроме того, общеизвестно, какой хитростью и коварством наделены душевнобольные. Если сумасшедший что-то задумал, он будет скрывать свои планы чрезвычайно изобретательно. Сноровка, с которой он может дать сто очков вперед любому человеку в здравом уме, для метафизика представляет собой одну из величайших загадок в изучении разума. Если сумасшедший начинает вести себя, как совершенно здоровый человек, самое время надевать на него смирительную рубашку.
– Но дорогой месье, а разве опасность, о которой вы говорите, судя по вашему опыту… по опыту управления этим домом… Вам приходилось на практике сталкиваться с какой-нибудь угрозой, возникшей из-за свободы, которой здесь пользовались ваши пациенты?
– Здесь? По моему опыту? Разумеется. Например, не так давно именно в этом доме произошел один необычный случай. Как вам известно, здесь раньше практиковалась «система умиротворения» и пациентов было намного больше. Все как один вели себя просто изумительно. До того смирно, что любому здравомыслящему человеку одного этого было достаточно, чтобы заподозрить, что они замыслили какой-то дьявольский план. И точно, в одно прекрасное утро они скрутили по рукам и ногам всех надзирателей, бросили их в камеры и стали держать их там, как сумасшедших, а сами тем временем захватили все здание и начали выдавать себя за надзирателей.
– Боже правый, не может быть! В жизни не слыхивал ничего более странного!
– Да-да, так и было, верьте или нет… И все это случилось по вине одного болвана… сумасшедшего… которому почему-то пришло в голову, что он изобрел лучшую систему управления, чем все, существовавшие до того… Я имею в виду систему, когда правят сумасшедшие. Думаю, он хотел испытать свое изобретение, для чего и подговорил остальных пациентов принять участие в заговоре и свергнуть существующую власть.
– Неужели ему это удалось?
– Можете не сомневаться. Вот так надзиратели и поднадзорные поменялись местами. Вернее, не совсем, поскольку сумасшедшие-то жили свободно, а надзирателей они закрыли в камерах и обращались с ними, как это ни печально, не слишком любезно.
– Но, надо полагать, вскоре произошла контрреволюция? Такое положение вещей не могло ведь долго продолжаться. Люди, живущие вокруг, гости, посещающие больницу, – они наверняка подняли бы тревогу.
– Тут-то вы и ошибаетесь. Предводитель повстанцев был слишком хитер. Он вовсе перестал принимать посетителей… Лишь однажды сделал исключение для одного молодого человека, с виду весьма недалекого, бояться которого у него не было причин. Он впустил его – просто так, для разнообразия, чтобы посмеяться. А после того как достаточно с ним натешился, отпустил его на все четыре стороны.
– И как долго продлилась власть этого безумца?
– О, очень долго. Месяц, самое меньшее… Насколько дольше, не могу точно сказать. А сумасшедшие тем временем веселились вовсю, о да! Они сняли с себя свои обноски и переоделись в одежду и фамильные драгоценности, которые хранились в château. Подвалы здесь забиты вином, а эти сумасшедшие по части выпить – сущие дьяволы. Поверьте, жили они припеваючи.
– А лечение? Какое все-таки лечение применил вождь повстанцев?
– Что касается этого, сумасшедший ведь не всегда глуп, о чем я уже говорил, и лично я совершенно искренне уверен, что предложенное им лечение гораздо лучше прежнего. Это была действительно превосходная система: простая, четкая, никаких хлопот… Словом, просто изумительная система.
Тут рассказ хозяина был прерван очередной серией криков, таких же, как те, что смутили нас в прошлый раз. Правда, сейчас, похоже, кричавшие стремительно приближались.
– Боже милосердный! – воскликнул я. – Это наверняка сумасшедшие. Они вырвались на свободу!
– Боюсь, что вы правы, – смертельно побледнев, ответил месье Майяр.
Не успел он это произнести, как крики, сопровождавшиеся громогласной бранью, раздались за окнами, и стало понятно, что какие-то люди пытаются ворваться в обеденный зал. Дверь сотрясалась, будто в нее били кувалдой, ставни ходили ходуном и грохотали под напором яростных ударов снаружи.
Переполох, который начался в комнате, трудно описать. Месье Майяр, к моему величайшему изумлению, бросился под буфет. От столь здравого человека я, признаться, ожидал большей решительности. Музыканты, уже с четверть часа слишком пьяные, чтобы заниматься своим делом, разом вскочили, схватили инструменты, взгромоздились на свой стол и грянули «Янки-Дудл»[66]. И хотя исполнение их и не было слаженным, все то время, пока длилась эта свистопляска, играли они с поистине нечеловеческой энергией.
Тем временем на основной стол прямо между бутылок и стаканов вскочил господин, которого с таким трудом удалось удержать раньше. Едва укрепившись на этой позиции, он начал произносить речь, вне всякого сомнения, превосходную, жаль только, что за шумом нельзя было разобрать ни слова. В тот же миг человек, имевший склонность вертеться волчком, принялся кружиться по всей столовой, расставив руки под прямым углом к телу, причем он предавался этому занятию с таким поразительным усердием и двигался так быстро, что действительно стал напоминать волчок и буквально сбивал с ног всякого, кто попадался ему на пути. Наблюдая за ним, я слышал частые хлопки и пенное шипение открываемых бутылок шампанского, но, ненароком оглянувшись, увидел, что производит эти звуки тот господин, который изобразил бутылку этого изысканного напитка за обедом. Человек-лягушка квакал так, будто спасение его души зависело от каждой взятой им ноты. Однако весь этот гвалт перекрывали непрекращающиеся ослиные крики. Что же до моей старой знакомой мадам Жуаез, я мог только пожалеть несчастную старушку. Она казалась такой растерянной, забилась в уголок около камина и непрерывно оглашала столовую истошными «кукареку-у-у-у!».
Наконец наступила кульминация, трагический исход этой драмы. Поскольку никакого сопротивления, кроме криков, воплей и кукареканий, ломящимся извне оказано не было, очень скоро почти одновременно все десять окон были взломаны. Но до конца дней моих не забыть удивления и ужаса, которые я испытал в тот миг, когда через эти окна, прыгая, размахивая руками, топая, царапаясь и завывая, беспорядочной толпой в столовую, а потом и на нас хлынула целая армия фигур, которых я принял за шимпанзе, орангутангов или огромных черных павианов с мыса Доброй Надежды.
Получив сильнейший удар, я упал, откатился под диван и замер. Пролежав там четверть часа, настороженно прислушиваясь к тому, что творится в комнате, я наконец постиг смысл происходящего. Оказалось, что месье Майяр, рассказывая мне о сумасшедшем, склонившем своих товарищей к бунту, просто-напросто описывал собственные проделки. Этот господин действительно года два-три назад был главным врачом этого заведения, но потом сам сошел с ума и перешел в разряд пациентов. Спутник, с которым я путешествовал, представивший меня ему, об этом не знал. Одолев надзирателей, которых было всего десять человек, сумасшедшие сначала хорошенько обмазали их смолой, затем аккуратно вываляли в перьях, после чего заперли в подземных камерах. Там они находились больше месяца, и все это время месье Майяр щедро снабжал их смолой и перьями (в чем, собственно, и заключалась его «система»), некоторым количеством хлеба и в изобилии водой, которой их ежедневно поливали из насосов. Наконец кто-то из них сумел выбраться из камеры через сточную трубу и освободил остальных.
«Система умиротворения» с некоторыми существенными изменениями была восстановлена в château, хотя я не могу не согласиться с месье Майяром, что его способ «лечения» был очень действенным. Как он справедливо заметил, система его была простой, четкой и не доставляла никаких хлопот… ни малейших.
Остается лишь добавить, что, хотя в поисках работ доктора Смоля и профессора Перье я перерыл все европейские библиотеки, до сегодняшнего дня мне так и не удалось найти ни единого их сочинения.
Стук сердца
Да! Я нервничал… Я очень, очень нервный… Ужасно нервный… И тогда я нервничал, и сейчас нервничаю, но разве это значит, что я сумасшедший? Просто болезнь обострила мои чувства. Ведь не уничтожила же, не притупила. И более всего у меня обострился слух. Я слышал все, что творится на земле и на небе. И многое из того, что происходит в преисподней. Разве сумасшедший на это способен? Выслушайте меня и заметьте, каким здравым, каким спокойным будет мой рассказ.
Как эта мысль впервые пришла мне в голову, я не могу сказать, но, как только это случилось – все, она уже не покидала меня ни днем, ни ночью. Никакой особой причины у меня не было. Никаких вспышек ярости. Я любил старика. Он меня никогда не обижал. Ничего плохого я от него не видел. Золото его мне было не нужно. Я думаю, это все его глаз! Да, глаз. Представьте глаз грифа: бледно-голубой, закрытый пленкой. Каждый раз, когда этот глаз смотрел на меня, во мне кровь стыла. И вот постепенно у меня и появилось желание лишить старика жизни и навсегда избавить себя от этого взгляда.
Я это вот к чему веду. Вы думаете, я сумасшедший? Но сумасшедшие-то не понимают, что творят. А видели бы вы меня! Видели бы вы, как я готовился, как все продумывал… С какой осторожностью действовал… С какой предусмотрительностью. О, а как я за работу взялся! Меня бы в жизни никто не заподозрил! Никогда еще я не был так добр к старику, как всю последнюю неделю до того, как убил его. И каждую ночь, около полуночи, я поворачивал ручку его двери и медленно открывал ее… Очень, очень аккуратно. Потом, когда она открывалась настолько, что могла пройти моя голова, я просовывал внутрь руку с фонарем, плотно закрытым, чтобы из него не просочился ни один лучик света, а потом просовывал голову. О, вы бы хохотали до упаду, если б видели, как медленно я это проделывал. Я просовывал ее осторожно, очень, очень осторожно, чтобы не побеспокоить сон старика. У меня час уходил только на то, чтобы полностью просунуть голову внутрь и увидеть его лежащим на кровати. Ха! Покажите мне сумасшедшего, у которого хватит ума на такое! А потом, когда голова моя оказывалась внутри полностью, я начинал медленно открывать фонарь. Осторожно-осторожно (петли у него поскрипывали) я открывал его ровно на столько, чтобы один, только один луч из него падал на этот грифов глаз. И это я проделывал семь длинных ночей подряд… Каждую ночь, ровно в полночь… Но глаз всегда оказывался закрытым, поэтому я не мог свершить то, зачем приходил туда, потому что ведь не сам старик выводил меня из себя, а его дьявольский глаз. И каждое утро, когда поднималось солнце, я, как ни в чем не бывало, входил в его комнату и начинал разговаривать с ним, причем без капли волнения или страха, называл его по имени (спокойненько так, даже с улыбочкой), спрашивал, как он провел ночь. Так что, будь этот старик хоть семи пядей во лбу, он бы и то не догадался, что каждую ночь, ровно в полночь, я прихожу и смотрю на него, пока он спит.
На восьмую ночь я открывал дверь даже осторожнее, чем обычно. Минутная стрелка на часах двигается быстрее, чем шевелилась моя рука. Никогда до той ночи я не представлял себе полностью, насколько велика моя сила… моя проницательность. Меня всего колотило от восторга. Я с трудом сдерживался! Вот ведь подумать: я открываю дверь в его комнату – медленно, понемногу, – а он даже и не догадывается ни о чем. Я даже чуть усмехнулся, и он, видно, услышал это – шевельнулся в кровати, будто вздрогнул. Думаете, я тут же отскочил и закрыл дверь? Нет. В комнате у него было темно, как в шахте (ставни-то были наглухо закрыты от воров), так что я знал, он не увидит, как я открываю дверь, поэтому продолжал медленно приоткрывать ее.
Я уже просунул голову и собирался открыть фонарь, но тут мой палец соскользнул с оловянного крепления. Старик тут же подскочил в кровати и крикнул: «Кто здесь?»
Я и тут не дрогнул, притаился, знай себе молчу. Целый час я так простоял, и ни один мускул у меня не дрогнул, но только я не слышал, чтобы он снова лег. Он продолжал сидеть в кровати и прислушиваться… Так, как и я до этого каждую ночь прислушивался к тиканью часов на стене, отмеривающих час смерти.
А потом я услышал негромкий стон и понял, что это стон смертельного ужаса. Это не был стон боли или печали… О нет!.. То был тихий, сдавленный звук, который вырывается из самой глубины души, скованной жутким страхом. Мне этот звук был знаком прекрасно. Сколько ночей, ровно в двенадцать, когда весь мир спит, он рвался из моей груди, своим жутким эхом сгущая мучившие меня страхи. Я хорошо знал этот звук, уж поверьте. Я знал, что старик чувствовал тогда, мне даже стало его немного жаль, хотя на душе у меня было необыкновенно радостно. Я знал, что он лежит там не в силах сомкнуть глаз с той самой секунды, когда вздрогнул, услышав первый слабый шум. И все это время страх его растет, пожирает его. Он пытается убедить себя, что бояться нечего, что это ему померещилось, но не может. Он говорил себе: «Это всего лишь ветер в дымоходе… Мышь по полу пробежала» или «Это просто сверчок застрекотал и умолк». О да, наверняка он пытался успокоить себя такими предположениями, да только ничего не помогало. Ничего не помогало, потому что Смерть уже подкралась к нему и окутала жертву своею тенью. Эта жуткая и неосязаемая тень и заставила его ощутить (хоть он ничего не видел и не слышал) присутствие в комнате моей головы.
Простояв достаточно долго и так и не услышав, чтобы он лег, я решил чуть-чуть, на самую малость приоткрыть дверцу фонаря. И стал приоткрывать… Вы представить себе не можете, как осторожно и медленно я ее приоткрывал, пока наконец один тусклый, тоненький, как паутинка, луч света не выскользнул из щелки и не упал на хищный глаз.
Он был открыт. Распахнут. Во всю ширь. И, когда я это увидел, у меня внутри все прямо заклокотало от ярости. Я видел его совершенно отчетливо… этот бледно-голубой зрачок, закрытый мерзкой пленкой, от которой меня пробирало до мозга костей. Но кроме этого глаза, я не видел больше ничего, ни лица старика, ни его тела, потому что луч как будто специально упал прямиком на эту проклятую точку.
А дальше… Разве не говорил я вам, что то, что вы считаете безумством, – на самом деле всего лишь обостренное чувство? До моего слуха донесся тихий, глухой и частый звук – если часы завернуть в вату, они будут так тикать. Этот звук мне тоже был хорошо знаком. Это билось стариковское сердце. И оно только разожгло горевший во мне огонь, как барабанный бой распаляет храбрость солдат.
Но даже тогда я сдержался и не шелохнулся. Я почти не дышал. Фонарь у меня в руке даже не дрогнул. Я решил проверить, как долго я смогу не сводить луч с этого глаза. А адский стук сердца тем временем нарастал. Оно билось все быстрее и быстрее, с каждой секундой все громче и громче. Старик, должно быть, испытывал жуткий ужас. Я не шучу, сердце его колотилось все сильнее. Помните, я говорил, что нервный? Так и есть. А тогда, глухой ночью, в адской тишине этого старого дома, слушая этот странный звук, я испытывал непреодолимый ужас. И все же еще несколько минут я сдерживался и стоял, точно окаменел. Но биение становилось громче, громче! Мне показалось, что его сердце сейчас лопнет. И тут меня будто осенило: этот адский звук услышат соседи! И час старика пробил! Громко крикнув, я раскрыл фонарь и прыгнул в комнату. Он вскрикнул раз… Всего один раз. Я мгновенно стащил его на пол и привалил тяжелой постелью. Поняв, что дело сделано, я радостно улыбнулся. Но еще долго сердце продолжало приглушенно биться. Но это уже не тревожило меня – за стеной этого не услышат. Наконец звук стих. Старик умер. Я стащил с него постель и осмотрел труп. Да, он был мертв, абсолютно. Я приложил руку к его груди, на сердце, и держал ее там несколько минут. Биения не было. Признаков жизни он не подавал. Его глаз больше не побеспокоит меня.
Если вы все еще думаете, что я – сумасшедший, я опишу вам, как мудро я избавился от тела, и вы перестанете так думать. Близилось утро, поэтому я работал быстро, но тихо. Во-первых, я расчленил труп. Отрезал голову, руки и ноги.
Затем прямо в той комнате снял три половицы и сложил все аккуратненько в нишу. После этого уложил доски обратно, да сделал все так тщательно, так точно, что ни один человеческий глаз (даже его!) ничего не заметил бы. И смывать было нечего – нигде ни единого пятнышка не осталось. Ни от крови, ни от чего. Уж я за этим проследил! Все ушло в ванну. Ха-ха!
Я покончил со всем в четыре утра, но на улице было еще совсем темно, не светлее, чем в полночь. Как только прозвонил колокол, в уличную дверь постучали. Я пошел открывать с легким сердцем – чего мне теперь бояться? На пороге стояли трое, они вежливо представились, сообщив, что из полиции. Ночью кто-то из соседей услышал какой-то вскрик и заподозрил неладное. Об этом сообщили в полицейский участок, и их (офицеров) направили осмотреть дом.
Я улыбнулся – бояться-то мне было нечего! – и пригласил войти. Про крик я сказал, что это я сам вскрикнул во сне. Старик, упомянул я мимоходом, уехал за город. Я провел своих гостей по всему дому. Говорю: пожалуйста, обыскивайте, ищите где хотите. Потом и в его комнату их завел. Показал им его богатства, вот, мол, они, целехонькие, никто к ним и пальцем не прикасается. Я до того был уверен в себе, что даже притащил в комнату пару стульев и предложил им посидеть, отдохнуть, а самого такое торжество охватило, что свой стул я поставил прямехонько над тем самым местом, где лежал труп.
Офицеры были удовлетворены. Мое поведение убедило их: держался-то я совершенно непринужденно и расслабленно. Они сели и давай болтать о всяких пустяках, о том, о сём, о работе, я, знай себе, сижу, поддакиваю с улыбочкой. Но вскоре чувствую: начинаю бледнеть. Мне захотелось, чтобы они ушли. Голова даже разболелась, и в ушах звенеть начало. А они все сидят себе и разговаривают. Звон в ушах стал сильнее… Не прекращался ни на секунду, только явственнее становился… Тогда я и сам стал больше говорить, чтобы избавиться от этого чувства… Но оно не уходило и делалось только отчетливее, а потом наконец меня осенило, что это вовсе не в ушах у меня звенит.
Наверняка я тогда очень побледнел. Теперь я уже говорил вовсе без умолку, да еще и очень громко. Но этот звук все усиливался… Что я мог поделать? Глухой быстрый звук, как часы, завернутые в вату. Я уже начал задыхаться, а офицеры его будто и не слышали. Я заговорил еще быстрее, уже захлебывался словами, но звук все нарастал. Я вскочил, уже чуть ли не криком кричу, руками размахиваю, а звук все громче и громче. Что же они не уходят? Я стал расхаживать по комнате, но они как будто и не собирались уходить, и это меня бесило… А звук все нарастал. О боже, что мне было делать? Я метался по комнате, я клокотал от бешенства, я ругался! Я схватил свой стул и громыхнул им об пол, но тот звук заглушал уже все остальные и продолжал усиливаться. Становился громче – громче – громче! А полицейские все болтают как ни в чем не бывало, улыбаются. Неужели они не слышат? Господь всемогущий! Нет! Нет! Они слышат!.. Они подозревают!.. Они потешаются надо мной и моим ужасом!.. Так я думал тогда и сейчас так же думаю. Я уже был согласен на все, лишь бы избавиться от этой агонии! Все, что угодно, лишь бы не слышать эти насмешки! Я больше не мог видеть эти притворные улыбки! Я почувствовал, что если сейчас не закричу – я умру! И снова этот звук! Да! Да! Еще громче! Громче! Громче! Громче!
– Изверги! – завопил я. – Хватит притворяться! Я признаюсь!.. Это я! Я! Срывайте доски!.. Здесь, здесь!.. Это бьется его жуткое сердце!
Эдгар Уоллес
Один из самых популярных писателей начала ХХ века, Эдгар Ричард Горацио Уоллес родился в 1875 году в Гринвиче в актерской семье. Бросив школу в 12 лет, он до 18 переходил с одной работы на другую, после чего поступил на службу в армию. В 1896 году Эдгар уехал в Южную Африку, где служил в медицинских частях. Здесь под влиянием друзей-писателей Реверенда и Мэрион Кальдекотт он начал писать стихи. После демобилизации работал корреспондентом агентства «Рейтер» и лондонской газеты «Daily Mail». Тон и содержание его статей не устраивали армейское руководство, и ему запретили писать вплоть до начала Первой мировой войны.
Первые романы Уоллеса, которые он публиковал в собственном издательстве, не окупали финансовых затрат. Коммерческий успех пришел к нему в 10-е годы, а в 20-е он уже стал самым издаваемым английским писателем (каждая четвертая вышедшая в Великобритании книга была его романом). Своим успехом он был обязан колоссальной работоспособности – Уоллес надиктовывал свои произведения на диктофон, прерываясь только на сон, потом правил перепечатанный секретарем материал. Он написал 173 романа, 23 пьесы, более 1000 рассказов. При этом Эдгар не прерывал журналистскую деятельность. Сегодня сюжеты его романов интересными не кажутся. Расследование в них заметно уступает описанию погонь и невероятных приключений. Но его творчество продолжает оставаться феноменом кинематографа – по произведениям Уоллеса поставлено 170 фильмов!
Умер писатель в 1932 году в Голливуде во время работы над сценарием знаменитого «Кинг-Конга». В 1969 году дочь писателя Пенелопа основала международное общество Уоллеса, которым в настоящее время руководит внучка писателя.
Люди в крови
Казалось, ничто вокруг не предвещало трагедии, но она вот-вот должна была разыграться в стенах этого дома. Сад был тих и прохладен. Фиалки и нарциссы благоухали. Но над всем сущим нависла незримым мрачным облаком чудовищная тень преступления. Преступления необычного, странного… В нем все сплелось – любовь и ненависть, великодушие и алчность, человеческое мужество и человеческая жестокость. Недаром судьи позднее назовут этот громкий процесс преступлением века.
В то памятное утро старший полицейский инспектор Патрик Минтер, известный в профессиональных кругах под прозвищем Сюпер, спешил к адвокату мистеру Гордону Кардью, хотя и догадывался, что Кардью в этот час уже сидит в своем бюро в Сити.
Подъехав к дому Гордона Кардью, Минтер оставил мотоциклет у входа в парк и с наслаждением вдохнул аромат цветов.
– А здесь действительно недурно! – пробормотал он и, сорвав фиалку, воткнул ее в петлицу мундира.
Сюпер был высокого роста и немного угловат. Его открытое загорелое лицо, внимательный взгляд серых глаз и седеющие усы производили внушительное впечатление. Но вот мундир… Перелицованный, многократно чищенный, еще довоенного образца, он вызывал скептическое недоумение окружающих. Впрочем, это мало волновало Сюпера.
«Мисс Дженни, кажется, как всегда, не в духе», – отметил инспектор, увидев у подъезда к дому полненькую, чуть приземистую мисс Шоу. Ей было уже сорок, но она неплохо сохранилась. В черных волнистых волосах не было ни одного седого волоска. Ее лицо можно было бы назвать красивым, если бы не выражение плохо скрытого раздражения и угрюмости. Мрачный вид подчеркивали темные платья, которые она предпочитала.
– Сегодня чудный день! И какой свежий воздух! – воскликнул Сюпер, поздоровавшись с мисс Шоу. – Мне нужен мистер Кардью. Я сейчас расследую ограбление банка, и совет адвоката оказался бы мне весьма кстати…
Мисс Шоу с пренебрежением оглядела поношенный мундир Сюпера.
– Мистера Кардью нет дома, – холодно произнесла она. – А что касается ограбления банка, то это дело полиции. Вот вы этим и занимайтесь!
– Но, миссис Шоу… – начал было Сюпер.
– Мисс Шоу, – раздраженно поправила его женщина.
– О, простите! Я всегда считал вас девицей. Совсем недавно я сказал своему сержанту: «Странно, что такая молодая очаровательная особа не выходит замуж…»
– Мне недосуг болтать с вами, сэр, – нетерпеливо прервала его мисс Шоу.
– Патрик Минтер, – вежливо уточнил Сюпер.
– Пусть так, это ничего не меняет. Если у вас все, тогда прощайте!
Через полчаса Сюпер был уже в своем кабинете. Его помощник сержант Леттимер доложил ему, что задержан некий Салливен, бродяга, пытавшийся ограбить дом Стивена Эльсона.
– Я арестовал бродягу, потому что нашел его неподалеку от места взлома. Он спал, – доложил сержант. – Не хотите ли допросить его? – добавил он.
Когда бродяга был допрошен, выяснилось, что он действовал не один. Оказалось, что его напарник – довольно странный грабитель: бродяжничает, распевает песни, знает иностранные языки…
– Думаю, где-то у моря у него есть берлога, – сказал Салливен. – Когда я предложил ему ограбить дом этого американца, он набросился на меня чуть ли не с кулаками. Он сумасшедший! Этот идиот чуть не погубил меня, когда я хотел открыть окно в доме американца. Вначале сам указал точное место, где клиент хранит деньги, а когда дело дошло до взлома…
Старый мотоциклет Сюпера был известен всем в округе. Каждую весну инспектор разбирал эту рухлядь, чинил и красил. «Адская машина» Сюпера со страшным треском носилась по предместьям, веселя ребятишек и пугая птиц.
Сюпер ехал в Хиль-Броу – так называлось имение того самого Эльсона, которого надумали ограбить бродяги. Судя по всему, Эльсон был богатым американцем, ищущим в Англии покоя и уюта. Большой дом, три автомобиля, двадцать слуг…
Подъехав к парку, с которого начиналась усадьба Эльсона, Сюпер остановился. Он прислонил мотоциклет к дереву и, пройдя через парк, подошел к дому, поднялся по широкой лестнице и оказался в большом холле.
Там было пусто, но Сюпер услышал голоса, доносящиеся из соседней комнаты. Он стал искать кнопку звонка, но вдруг дверь приоткрылась и чьи-то пальцы ухватились за ручку…
– Только брак, Стивен! Я слишком долго ждала, чтобы и дальше верить обещаниям, слышишь? И знаешь, я не дура… Я не желаю больше слушать сказки… Деньги? Мне не нужны деньги, я богаче вас…
В этот момент дверь распахнулась и на пороге показалась женщина. Сюпер узнал ее, хоть она и стояла к нему спиной. Это была Дженни Шоу.
Прежде чем мисс Шоу успела его заметить, инспектор бросился вниз по лестнице.
Он запустил мотор только после того, как пробежал полмили. Сюпер очень не хотел обратить на себя внимание мисс Шоу и выдать свое присутствие в Хиль-Броу.
Идя по направлению к Кинг-Бенг-Уолк, мистер Джим Ферраби вдыхал весенний воздух, наслаждаясь видом роскошных парков и фонтанов, окружавших храм. Адвокаты обычно замедляют ход, приближаясь к садам, как бы желая вознаградить себя за часы, проведенные в душных кабинетах Кинг-Бенг-Уолк. Джим, которому было всего тридцать лет, насвистывал какую-то веселенькую арию. Приблизившись к лестнице, он обернулся, чтобы еще раз взглянуть на светло-серебристую реку, и медленно поднялся по темной лестнице.
Остановившись у массивной темно-коричневой двери, Джим вынул из кармана ключ и повернул его в замке. В этот момент неожиданно открылась дверь напротив. Джим обернулся и увидел девушку. Она улыбалась. Это была секретарша Кардью.
– Доброе утро, мисс Лейдж! – приветливо произнес Джим.
– Здравствуйте, мистер Ферраби!
У мисс Лейдж был очень нежный, благозвучный голос. Ее лицо было достойно кисти художника. Серые лучистые глаза пытливо смотрели на Джима. Молодые люди познакомились год назад на этой же пыльной лестнице. Знакомство было поверхностным, и их отношения не выходили за рамки случайных, мимолетных бесед.
– Надеюсь, ваше выступление в суде увенчалось успехом и несчастный уже сидит за решеткой? – поинтересовалась девушка.
Джим и Эльфа стояли в открытых дверях, их голоса гулко отдавались в большом коридоре…
– Увы, «несчастный», наверное, сидит сейчас в пивной и плюет на закон, – небрежно заметил Джим.
Эльфа смущенно посмотрела на него.
– Ах… мне очень жаль… – пробормотала она. – Мистер Кардью сказал, будто подсудимый разоблачен. Неужели защита предъявила новые улики по этому делу?
– Нет, защита оказалась бессильной. Салливен был оправдан потому, что это я выступал в качестве обвинителя. Странно, мисс Лейдж, не правда ли? Но я не мог ничего с собой поделать: я слишком мягок и вникаю в психологию преступника. Я произнес обвинительную речь… Это было мое первое выступление в роли прокурора и, кажется, последнее… Судья заявил, что моя обвинительная речь скорее похожа на оправдательную. Салливен рассчитывал отдохнуть, по крайней мере, год в тюрьме. Теперь же он разгуливает на свободе и ворует уток.
– Уток? А я думала, он намеревался совершить кражу со взломом.
– Я настаивал на том, чтобы бродягу оправдали. Моя карьера окончена, мисс Лейдж! Отныне я опять буду безымянным чиновником прокуратуры!
Эльфа тихо рассмеялась, услышав столь трагическое заявление. В этот момент на лестнице послышались тяжелые шаги и Джим увидел мистера Кардью.
Мистер Кардью больше не занимался адвокатской практикой. Никто, собственно говоря, не знал, почему Кардью, которому минуло пятьдесят восемь лет, содержал бюро на Кинг-Бенг-Уолк. До войны у него была богатая и знатная клиентура, он занимался куплей и продажей недвижимости, сотрудничал с крупными трестами. Во время войны Кардью решил снять с себя ответственность за ведение громких процессов и передать своих клиентов более молодому и деятельному адвокату. Итак, мистер Кардью отказался от адвокатской практики, и теперь в его большом бюро на Кинг-Бенг-Уолк заключались частные сделки.
У Кардью было приятное лицо со значительным выражением. Светлые глаза внимательно и дружелюбно смотрели на окружающих. Он одевался весьма элегантно, носил цилиндр. По внешнему виду и по манере говорить можно было предположить, что Кардью близок к аристократическим кругам.
– Здравствуйте, Ферраби. Я слышал, ваш подсудимый оправдан?
– Плохие вести быстро разлетаются по городу, – мрачно заметил Джим. – Мой начальник рвет и мечет.
– Ну, еще бы! – По лицу Кардью скользнула тонкая улыбка. – Я только что встретил Джебинга, тайного советника из министерства финансов. Он сказал… Впрочем, я не хочу сплетничать. Здравствуйте, мисс Лейдж! Нет ли важных писем? Мистер Ферраби, прошу вас пройти в мой кабинет.
Джим вошел в элегантный кабинет Кардью. Хозяин вынул ящик с сигарами и предложил их молодому коллеге.
– Вы не созданы для того, чтобы изобличать преступников, – произнес Кардью, снисходительно улыбаясь. – И поэтому вам не стоит выступать в роли прокурора. Но на вашем месте я бы не стал впадать в отчаяние. Конечно, меня интересует попытка совершить кражу со взломом в доме Стивена Эльсона, ведь он – мой сосед… Хотя Эльсон – высокомерный, невоспитанный американец, все же он человек с добрым сердцем. Несомненно, он будет огорчен вашей неудачей.
Джим беспомощно пожал плечами.
– Со мной творится что-то неладное, – с отчаянием в голосе произнес он. – Когда я сижу в канцелярии, все мои симпатии на стороне закона и порядка и я рад каждой улике, которая содействует разоблачению преступника. Но стоит мне очутиться в зале суда, как я начинаю искать оправдание действиям преступника… Я ищу аргументы, которые привел бы, если бы сам оказался на месте обвиняемого.
Мистер Кардью с оттенком презрения посмотрел на молодого юриста и сказал:
– Когда государственный прокурор заявляет судье о том, что сомневается в правильности проведения дактилоскопии…
– Неужели я это сказал? – виновато спросил Джим и покраснел. – Ах, боже мой, какое позорное фиаско!
– Я тоже так думаю, – заметил Кардью. – Гм… Вы пьете по утрам портвейн?
Ферраби отрицательно покачал головой. Кардью, открыв шкаф, вынул темную пыльную бутылку и налил в стакан великолепное красное вино.
– Я интересуюсь Салливеном еще и по другим причинам, – сделав большой глоток, продолжал Кардью. – Как вам известно, я увлекаюсь антропологией. Наверное, из меня бы вышел хороший детектив, если бы не адвокатская практика. Когда видишь, что полицией руководят люди без таланта и опыта, так и хочется крикнуть им: уступите место образованным и способным! В моем участке, например, есть полицейский, который… – Кардью вдруг запнулся. Он пожал плечами и замолчал.
Джим, который отлично знал старшего инспектора Минтера, невольно улыбнулся. Всем было известно: Сюпер презирает доморощенных детективов-любителей. Когда речь заходила об антропологии, он становился резок и вступал в яростную дискуссию. Мистер Кардью называл Сюпера неуклюжим мужиком. «Сэр, вы наивны, как ребенок!» – сказал однажды Сюпер адвокату, когда тот заметил, что пронзительный взгляд и резкий голос выдают в человеке склонность к преступлениям. Кардью очень оскорбился и втайне возненавидел Сюпера.
Джим Ферраби был удивлен, когда Кардью вдруг позвал его к себе в кабинет. Хотя Джим знал адвоката и раньше, он впервые посетил сегодня его частное бюро. По поведению Кардью Ферраби понял, что приглашение было не случайным. Адвокат казался нервным и озабоченным. Он торопливо шагал взад-вперед по кабинету и наконец произнес:
– Мне необходимо посоветоваться с вами… Вы знаете мою экономку Дженни Шоу?
– Хмурую особу, которая мало говорит и всех пронизывает недобрым взглядом?
– Да, Дженни – не подарок. Она действительно плохо приняла вас, когда вы были у меня в последний раз, – подхватил Кардью. – Конечно, она ядовита, как скорпион, но в остальном я ею доволен. Не забудьте, она досталась мне, так сказать, по наследству от покойной жены. Моя супруга взяла мисс Шоу из сиротского приюта, и девочка воспитывалась у нас. Я готов, пожалуй, сравнить мисс Шоу с фокстерьером, который кусает всех, за исключением хозяина.
Немного помолчав, Кардью вынул бумажник, достал оттуда лист бумаги и положил его на стол.
– Я доверяю вам, Ферраби, – сказал адвокат, закрывая бюро на ключ. – Вот, прочтите это!
Это был обычный лист бумаги, без адреса и без даты. Содержание записки составляли три строки, написанные чьей-то рукой:
«Я уже дважды предупреждал Вас. Это – последнее предостережение. Вы довели меня до отчаяния.
Большая Нога».– «Большая Нога»? Кто это? – спросил Джим, дважды прочитав таинственную записку. – Наверное, кто-то угрожает вашей экономке? Это она передала вам это письмо?
– Нет, оно попало ко мне весьма необычным образом, – ответил Кардью. – Каждое первое число месяца Дженни кладет на стол в моем кабинете счета за хозяйственные расходы, и я выписываю чеки для торговцев и слуг. Обычно Дженни носит счета с собой в кожаном бумажнике, а затем отдает их мне. Эту бумагу я нашел среди счетов, она попала туда случайно.
– А вы говорили об этом письме со своей экономкой?
– Нет, – медленно произнес Кардью, наморщив лоб, – я этого не сделал. Однако мимоходом, осторожно, дал ей понять, чтобы она поделилась со мной своими горестями и печалями, если таковые имеются… Но в ответ Дженни только пробормотала нечто невразумительное. – Кардью тяжело вздохнул. – Мне трудно привыкать к новым людям, и было бы скверно, если бы Дженни ушла от меня. Буду с вами откровенен: я не хочу сообщать ей, что эта записка попала мне в руки. Мы с Дженни как-то поспорили из-за ее глупой шутки, и с тех пор у нас довольно натянутые отношения. Еще одна стычка – и она уволится… Так что же вы скажете об этой записке?
– Похоже, кто-то пытается шантажировать вашу экономку, – предположил Джим. – Письмо написано левой рукой, чтобы нельзя было распознать почерк. По-моему, вы все же должны потребовать у мисс Шоу объяснений.
– Что? Поговорить с ней? – Кардью нервно вздрогнул. – Нет, это невозможно! В таком случае я должен улучить момент, когда Дженни будет в хорошем настроении, а это бывает крайне редко – пару раз в году.
– А почему бы вам не заявить об этом в полицию?
Кардью презрительно улыбнулся.
– Минтеру? – холодно поинтересовался он. – Этому бездарному невоспитанному полицейскому? Вы это серьезно, Ферраби? Нет, в случаях, когда дело касается дедукции, я сам отлично могу справиться с задачей. Но… кроме этого письма есть еще одна тайна.
Кардью снова взглянул на дверь, за которой работала его миловидная юная секретарша.
– Вам известно, Ферраби, что в Паузей Бей на берегу у меня есть небольшая вилла, которую я купил за бесценок еще во время войны. Раньше я неплохо проводил там время, но теперь бываю на вилле редко. Обычно этим домиком-виллой пользуются мои служащие. В прошлом году мисс Лейдж проводила там отпуск со своими подругами. Сегодня утром мисс Шоу неожиданно попросила у меня разрешения пожить на вилле несколько дней, хотя уже много лет там не бывала. Еще на прошлой неделе она как-то заметила, что ненавидит Паузей Бей. Теперь мне интересно, не связана ли эта внезапная поездка на побережье с таинственным письмом.
– Поручите детективам следить за мисс Шоу, – посоветовал Джим.
– Я уже размышлял над этим, – задумчиво произнес Кардью, – но это крайне нежелательно. Подумайте, ведь Дженни служит у меня более двадцати лет. Естественно, я разрешил ей поехать в Паузей Бей, но меня беспокоит, что из этого выйдет. Обычно мисс Шоу любит разъезжать по окрестностям на старом «форде», мой шофер научил ее водить машину. Выходит, она отправляется в Паузей Бей не для того, чтобы отдохнуть… Я плачу Дженни хорошее жалованье, и она может поселиться в любом приличном отеле. По-моему, моя экономка едет в Паузей Бей, чтобы встретиться с таинственной «Большой Ногой». Знаете ли, иногда мне кажется, что Дженни… не в себе.
Джим был удивлен: зачем адвокат Кардью доверил ему свою тайну? Но тот сразу же все объяснил:
– В пятницу в Баркли-Стек у меня будут гости, и я очень прошу вас оказать мне честь своим присутствием и понаблюдать за Дженни Шоу. Возможно, вы заметите то, что ускользнет от моего взгляда.
Джим начал лихорадочно обдумывать благовидный предлог для отказа, но Кардью опередил его:
– Вы не хотели бы увидеть мисс Лейдж? Она занята составлением каталога для моей новой библиотеки.
– Буду весьма рад, – обреченно вздохнул Джим Ферраби, поднимаясь.
– Вы знаете мистера Эльсона?
Джим Ферраби хорошо знал Эльсона и испытывал к нему антипатию. Американец был главным свидетелем на процессе Салливена и то, что бродягу оправдали, счел личным оскорблением. Джима также раздражало то, что Эльсон открыто ухаживал за мисс Лейдж. Ферраби поведение Эльсона казалось нахальным, и ему хотелось думать, что и девушка не жалует наглеца. Мисс Лейдж, собственно, еще не вошла прочно в жизнь Джима, она была для него скорее лишь молодой красивой секретаршей из бюро Кардью. Девушка была хорошо воспитана, к тому же просто обворожительна и добра. Но Джим восхищался ею издали, испытывая к ней исключительно романтические чувства.
Ферраби был неприятно удивлен, увидев Эльсона среди приглашенных. Кардью тотчас же заметил это.
– Я забыл вам сказать, Ферраби, что вы его здесь встретите. Мне самому неприятно, но Дженни настаивала, чтобы он был в числе гостей.
Джим рассмеялся.
– Мне все равно, здесь он или нет, хотя после судебного приговора Эльсон вел себя по-хамски. И вообще – кто он такой? Почему поселился в Англии?
– Пока не знаю, но в один прекрасный день мне это станет известно. Убежден, что Эльсон богат. – Кардью бросил взгляд на широкоплечего американца, флиртующего с мисс Лейдж. – Они, кажется, ладят между собой. Все-таки земляки, – ядовито добавил адвокат.
– Неужели мисс Лейдж американка? – изумился Джим.
– Да. Я думал, вы знаете об этом. Ее отец погиб на войне, он был крупным чиновником американского казначейства. Кажется, бóльшую часть жизни он провел в Соединенных Штатах, где и воспитывалась его дочь. Я не знал Лейджа лично. Я принял мисс Лейдж на службу по рекомендации из американского посольства.
Джим с интересом наблюдал за Эльфой. Черное платье удивительно шло ей, оно как бы подчеркивало ее красоту и особое, нежное обаяние.
– Никогда бы не подумал, что она американка, – пробормотал он.
А в это время девушка в черном продолжала разговаривать с Эльсоном.
– Я полагал, вы англичанка, – говорил Эльсон. – Удивительно, как это я сразу не догадался, что вы – янки.
– Я из Вермонта, – кивнула Эльфа.
У Эльсона было красное лицо с неприятными грубоватыми чертами. Казалось, он весь пропах виски и сигарами.
– А я родом с Запада, – оживленно продолжал он. – Слыхали про Сент-Пол? Красивый, типично американский город… Скажите, мисс Лейдж, а что здесь понадобилось этому господину? – неожиданно прервал самого себя Эльсон, кивнув в сторону Джима.
Ферраби заметил, что речь идет о нем, и дорого бы дал за то, чтобы услышать ответ Эльфы.
– Мистер Ферраби считается одним из самых деятельных чиновников государственной прокуратуры, – сдержанно пояснила девушка.
– Это кто – он деятельный? – презрительно хмыкнул американец, но тотчас же насторожился: – Вы сказали, он чиновник государственной прокуратуры? А что это за учреждение?
Мисс Лейдж объяснила.
– Ферраби, возможно, неплохой адвокат, но едва он попадает в зал заседаний, как тотчас оказывается никудышным прокурором, – упрямо гнул свое Эльсон.
– Вы старый друг мистера Кардью? – поинтересовалась Эльфа, желая сменить тему разговора.
– Гм… он мой сосед… Кардью выдающийся адвокат, не так ли? – И без того красное лицо американца зарделось от удовольствия.
– Но он больше не практикует, – заметила Эльфа.
Эльсон рассмеялся.
– Зато всякие интересные истории по-прежнему являются его слабостью. Никогда не видел взрослого человека, который увлекался бы такими глупостями.
Стремясь освободиться от назойливого говоруна, девушка с мольбой посмотрела на Джима. Тот внял ее призыву и поспешил на помощь.
Мистер Кардью был в плохом настроении. Казалось, он совершенно позабыл, зачем пригласил Джима. Время от времени адвокат поглядывал на часы, затем украдкой – на дверь. Наконец дверь открылась и появилась экономка. Она казалась еще мрачней, чем обычно. Мисс Шоу холодно доложила хозяину, что кушать подано. Кардью снял пенсне и с мольбой произнес:
– Нельзя ли, Дженни, подождать еще несколько минут?… Я пригласил одного хорошего знакомого – старшего инспектора.
Мисс Шоу бросила на Кардью уничтожающий взгляд, но ничего не сказала.
– Я встретил его сегодня… Он был очень любезен, – пролепетал адвокат, будто извиняясь. – Я не вижу причин для ссоры…
Он пробормотал что-то невнятное. Было странно видеть, как хозяин Баркли-Стек оправдывается перед экономкой. Для Джима это не было новостью, но Эльфа не скрывала удивления. Мисс Шоу с высокомерным видом покинула комнату, не удостоив никого взглядом. Кардью казался крайне смущенным.
– Боюсь, Дженни не уважает нашего друга… Мне очень неприятно, – растерянно бормотал он.
Прошло еще несколько томительных минут, и в дверях снова показалась мисс Шоу.
– Долго ли еще ждать, мистер Кардью? – бесцеремонно, с вызовом бросила она.
– Да, да, мы идем к столу… Наш друг, очевидно, задержался, – с угодливой поспешностью согласился Кардью.
За столом Эльфа сидела рядом с Джимом. С другой стороны стоял стул для инспектора Минтера.
– Бедный мистер Кардью! – вздохнула Эльфа.
Джим усмехнулся. Но когда он бросил взгляд на мисс Шоу, его лицо вытянулось. Экономка так злобно смотрела на Эльфу, что у Джима перехватило дыхание.
После того как был подан суп, появился Сюпер, одетый более чем скромно. Джим решил, что костюм достался Сюперу по наследству от давно умершего родственника или куплен по случаю у какого-нибудь кельнера.
– Прошу прощения, леди и джентльмены, – произнес инспектор, оглядывая присутствующих. – Я привык ужинать исключительно дома и вспомнил о приглашении мистера Кардью, только когда ложился спать. Добрый вечер, мисс Шоу!
– Здравствуйте, господин инспектор, – холодно ответила экономка.
Эльфа впервые увидела Сюпера и невольно почувствовала симпатию к инспектору в поношенном фраке. Его сорочка была старомодной, на галстуке пестрели два ржавых пятна. Но манеры у Минтера были весьма изысканными.
– Я очень редко бываю в гостях, – продолжал он, – поэтому плохо разбираюсь в правилах хорошего тона. Я всегда говорю, что нам, полицейским, недостает воспитания. Неплохо было бы облачиться в новый фрак и отправиться к одному из нуворишей, чтобы научиться этикету. Еще сегодня я сказал своему сержанту: «У нас нет настоящих детективов-любителей. Нам нужны люди, умеющие надевать фрак не только тогда, когда они собираются на карнавал».
Мистер Кардью с подозрением взглянул на своего гостя.
– Служба в полиции имеет твердо установленный регламент, – холодно заметил адвокат. – Единственное, в чем мы не сходимся, милейший инспектор, так это в том, что некоторые криминальные случаи требуют более тщательного расследования и больше познаний в психологии.
– Да, психология – очень полезная наука, – согласился Сюпер. – После антропологии она более всего нужна детективу. Но я должен подчеркнуть, что талант в нашем деле тоже необходим. Разве вы не опускаете шторы на ночь, мистер Кардью?
Большие окна салона были прикрыты только прозрачными занавесками.
– Нет, – удивленно ответил Кардью, – а зачем их опускать? С улицы все равно не видно, что делается внутри. Улица в четверти мили от дома.
– Простите, я редко бываю в домах, подобных вашему. Я живу в небольшом домике и всегда опускаю шторы, когда ем. Так уютнее. Сколько у вас садовников?
– Четыре или пять, точно не знаю.
– У вас есть помещения, где они могли бы переночевать?
– Они не ночуют здесь. Главный садовник живет в отдельном домике недалеко от дороги… Итак, чтобы улучшить методы работы криминальной полиции…
Но Сюпер не намерен был и далее слушать об антропологии и о психологии. Его взор был устремлен на кусты дерна, видневшиеся в окне.
– Я думал, ваши садовники по ночам поливают цветы и ловят кротов.
Кардью почувствовал себя оскорбленным.
– Я не понимаю вас, инспектор.
Неожиданно Сюпер вскочил и бросился к двери. В тот же миг в комнате погас свет.
– Немедленно отойдите от стола и встаньте у стены! – повелительно крикнул Сюпер. – Там, в тени кустов, скрывается какой-то субъект с револьвером.
Через мгновение инспектор бесшумно вышел в сад и бросился к кустам. Стояла тишина, только шелест листьев нарушал ночное безмолвие. Сюпер обшарил все кусты, но никого не обнаружил.
За цветочными грядками росли клены, обозначавшие южную границу владений мистера Кардью. Направо был небольшой ельник. Сюпер решил, что злоумышленник скрылся там, поэтому осторожно передвигался от дерева к дереву, прислушиваясь к малейшему шороху. Пройдя несколько шагов, он вдруг услышал невдалеке пение:
– Мавританский король проезжал по королевскому городу Гранаде. Au mu Alhama!
На мгновение Сюпер был тронут испанской песней, пронизанной отчаяньем и безнадежностью, но потом опомнился и бросился туда, откуда слышалось пение. В роще царил непроглядный мрак: деревья росли так густо, что ничего не было видно. Роща отделяла парк Баркли-Стек от маленькой фермы. На лугу Сюпер тоже никого не заметил, но на всякий случай крикнул:
– Выходи, бездельник!
Эхо было единственным ответом.
Сюпер повернул обратно и вскоре столкнулся с Джимом Ферраби.
– Хелло, Минтер. Кто же это был?
– Какой-то бродяга. Довольно неосторожно с вашей стороны выходить из дома без оружия.
– Но здесь никого нет!
– Естественно, – хмуро заметил Сюпер. – Давайте вернемся в дом.
Миновав лужок, они пошли по тропинке и вскоре увидели кучку напуганных гостей во главе с мистером Кардью.
– Вы заметили кого-нибудь? – робко поинтересовался он. – Просто невероятно… Вы напугали дам… Я, по крайней мере, никого не видел.
– Возможно, Минтеру все это почудилось, – заметил Эльсон. – Допускаю, что он мог заметить человека, однако оружие при столь слабом освещении уж никак нельзя было разглядеть.
– Но уверяю вас, я видел оружие! – настаивал Сюпер. – Перед моими глазами блеснул ствол пистолета. Есть ли у кого-нибудь из вас электрический фонарик?
Мистер Кардью побежал в дом и вернулся с лампой.
– Вот здесь он стоял, – показал Сюпер, освещая траву. – Почва слишком твердая, чтобы мы могли заметить следы. Возможно, что…
Инспектор вдруг наклонился, поднял длинный темный предмет и удовлетворенно присвистнул.
– Что это? – спросил Кардью.
– Обойма с патронами сорок второго калибра. Она выпала из оружия злоумышленника.
Джим заметил, что Кардью побледнел. Очевидно, адвокат впервые в жизни столкнулся с реальным фактом покушения на чью-то жизнь. До сих пор, подумал Джим, он читал об этом только в книгах. Стивен Эльсон, открыв рот, смотрел на патроны.
– И злоумышленник все время стоял здесь с пистолетом? – спросил Кардью, дрожа всем телом. – Неужели вы его видели?
– Успокойтесь, – заметил Сюпер почти с участием. – Если бы я его увидел, я бы непременно его поймал. Мне нужно позвонить.
Вместе с Кардью Сюпер вошел в его кабинет.
– Алло! Это вы, Леттимер? Обыщите немедленно наш участок и задержите всех подозрительных субъектов, особенно бродяг. Потом приезжайте в Баркли-Стек. Захватите с собой оружие и фонари!
– Что случилось, господин инспектор?
– Я потерял запонку, – бесстрастно пояснил Сюпер и повесил трубку. Потом перевел взгляд с бледного лица Кардью на книжные шкафы и произнес: – В этих книгах, наверное, имеется масса ценных указаний относительно того, как арестовать слабоумного бродягу. Но я вынужден прибегнуть к более простым методам. Не исключено, что мы его так и не поймаем.
Кардью заметил пятна на галстуке Сюпера и посмотрел на его изъеденный молью фрак. Это позволило адвокату вернуть свою обычную самоуверенность.
– Да, вмешательство полиции в данном случае будет не лишним, – заметил он. – Но думаю, не такая уж трудная задача обнаружить вооруженного бродягу.
– Пожалуй, – согласился Сюпер, а затем покачал головой. – Гм… но только в том случае, если он следил за Эльсоном.
– Что? – изумленно спросил Кардью.
– Эльсон ждал появления неизвестного. Не потому ли он носит при себе оружие?
– Вот как? У Эльсона есть оружие? Откуда вы знаете?
– Я убедился в этом, когда приблизился к нему. Оружие лежит в его заднем кармане. Я хлопнул Эльсона по плечу и незаметно прислонился к карману. Интересно, что говорит по этому поводу антропология?
Кардью в ответ смущенно хмыкнул.
– Зачем вы выскочили за инспектором в сад? Ведь это опасно! – не унималась мисс Лейдж.
Джим и Эльфа стояли вдвоем на площадке, покрытой дерном. Дженни с американцем куда-то исчезли.
– Я рисковал не больше, чем Сюпер, – небрежно заметил Джим. – К тому же мне показалось, что инспектору просто что-то почудилось. Я забыл: старый детектив видит сквозь стены… Скажите, мисс, вам нравится Эльсон? – внезапно поинтересовался он.
– Эльсон? Нет… Но почему вы спрашиваете?
– Потому что он американец, а я думал, что соотечественники всегда рады друг другу, – смущенно пояснил Джим.
– Выходит, если бы я была англичанкой и встретила в Нью-Йорке английского негодяя, то непременно должна была бы броситься ему на шею от радости? – язвительно поинтересовалась девушка.
– Негодяя? Значит, вы считаете Эльсона негодяем?… – начал обрадованный Джим.
Эльфа внимательно посмотрела на него.
– Да, Эльсон негодяй, я не могу придумать для него другого эпитета, – тихо произнесла она.
– Не подозревал, что вы американка, – продолжал Джим, идя рядом с Эльфой по тропинке, окруженной кустами дерна.
– Никогда не думала, что моя скромная особа представляет для вас интерес, – с некоторым вызовом заметила девушка. – Ведь я для вас – стенотипистка[67] из Кинг-Бенг-Уолк, и только. Вы решили пофлиртовать со мной?
Джим покраснел. Он не ожидал такой прямолинейности от столь юной девушки.
– Ну что вы! – смущенно ответил он.
– Ну, тогда я возьму вас под руку, – весело заявила Эльфа, и ее кисть легла на его руку.
Ферраби церемонно держал свой локоть, крепко прижав его к туловищу, и мисс Лейдж невольно улыбнулась, заметив, как он старается соблюдать приличия.
– Вы смело можете опустить локоть, – немного кокетливо заявила она, – вот так, хорошо! Просто я чувствую себя увереннее, опираясь на руку мужчины… любого мужчины, кроме мистера Эльсона.
– Понимаю, – немного угрюмо заметил Джим. Он хотел быть сдержанным, но приятный смех мисс Лейдж заставил его расслабиться.
– Я не люблю деревенскую жизнь, – сказала Эльфа. – Моему бедному отцу почему-то нравилось жить в деревне и спать под открытым небом, даже если было ветрено и холодно.
– Ваш отец умер во время войны?
– Да, – еле слышно шепнула девушка, остановившись.
Потом они опять зашагали по тропинке. Эльфа доверчиво опиралась на руку Джима.
– Вы еще надолго останетесь здесь? – спросил он.
– Завтра в полдень я еду в город, мне нужно закончить работу над каталогом. Мистер Кардью не хотел бы, чтобы я здесь оставалась, в то время как его экономка уедет.
– Что вы думаете о мисс Шоу?
Эльфа медлила с ответом.
– При более близком знакомстве она кажется довольно милой особой, – осторожно заметила девушка.
В дверях показалась фигура Сюпера.
– Советую войти в дом, прежде чем духи схватят вас, Ферраби, – произнес он. – А вас, мисс Лейдж, искал мистер Кардью.
Эльфа поспешила в здание. Джим хотел последовать за ней, но Сюпер удержал его.
– Прогуляемся немного, Ферраби. Случилось нечто из ряда вон выходящее: мой сержант впервые точно исполнил мое приказание и явился на дежурство вовремя. Бедняга ленив и больше всего на свете любит поспать. Но давайте поговорим о психологии и об антропологии… Эльсон сегодня ночью отправился домой, – заметил Сюпер. – Думаю, вооруженный бродяга будет за ним следить. Дело довольно сложное и таинственное: один американец собирается убить другого.
– Вы думаете, неизвестный в саду – американец?
– У него был американский пистолет. Кроме того, мне кажется, что он певец…
– Почему? – удивленно спросил Джим.
– Потому что я слышал его пение. Скажите, Ферраби, вы когда-нибудь играли в карты? Я дам вам хороший совет. Если будете играть, знайте: простое подглядывание в карты соседа гораздо ценнее, чем все расчеты. Делать умозаключения – хорошее дело, но наблюдать и слушать намного полезнее. Нет ли у вас чего-нибудь против Эльсона?
– Нет, насколько я помню, ничего. Я как раз заведую отделом иностранцев.
– Никогда не называйте американцев иностранцами, их это возмущает. Точно так же англичане возмущаются, когда по приезде в Нью-Йорк с них в порту взимают пошлину, – заметил Сюпер.
Джим обдумывал, доверить ли Сюперу тайну мисс Шоу, и наконец решился:
– Сюпер, вы уверены, что незнакомец ждал в саду именно Эльсона?
– Да. Но я охотно выслушаю другое мнение.
Джим вкратце рассказал о записке, которую ему вчера показал Кардью. Инспектор внимательно выслушал его.
– «Большая Нога»? Это напоминает имена индейцев с Дикого Запада. Да, это очень важная новость и в корне меняет положение вещей! – воскликнул Сюпер.
– Господа, войдите в дом, закончим ужин! – послышался голос Кардью.
– Идем! – Сюпер взял Джима за руку и шепнул: – Запаситесь терпением, пока я сделаю логические и психологические сопоставления. Итак, вы сказали, что мисс Шоу отправляется в отпуск… гм… Я знаю виллу в Паузее. Это пустынное место у самого берега, там бродят голодные собаки. Скалы с многочисленными пещерами контрабандистов… Дом стоит на старой почтовой улице, ведущей к порогам, но ею не пользуются с тех пор, как проложили новую дорогу над скалами. Там вообще опасно жить. Часть каменной стены обвалилась как раз тогда, когда я там прогуливался. Кардью еще спорил с жителями Паузея, из-за того что те не очистили улицу от камней.
– Господа, войдите же наконец! – настойчиво позвал Кардью.
– Не проговоритесь о том, что я вам рассказал, – шепнул Джим Сюперу.
– Ну, понятное дело, – кивнул инспектор.
Они направились к дому. Кардью снова обрел привычную самоуверенность и поражал всех своей веселостью. Он уже придумал объяснение эпизоду в ночном саду.
– Я перелистывал сочинения Каррилона и нашел в одной главе, что существуют преступники, которые под влиянием темной силы вынуждены стрелять из-за угла или под покровом ночи…
Сюпер в этот момент был занят жареным рябчиком, но все-таки был удивлен: почему столь ученый муж не связывает случай в саду с запиской, в которой угрожают его экономке.
…Часы показывали половину второго ночи, когда Джим постучал в дверь рабочего кабинета Кардью, чтобы попрощаться.
– Войдите, Ферраби. Инспектор уже ушел?
– Да. Мы только что попрощались.
Кардью со вздохом закрыл книгу.
– Минтер практичный человек, но сомневаюсь, чтобы он серьезно относился к своим служебным обязанностям. Работа полицейских все больше сводится к рутине. Они расставляют патрули на улицах, уведомляют провинциальные участки и в конце концов арестовывают несколько невиновных граждан. Полицейские действуют так глупо, что нужно их нещадно критиковать. Чем больше я изучаю старые методы работы полицейских, тем больше сожалею о том, что моя участь – заседать в залах суда… Скажите, Ферраби, каково ваше мнение о Дженни? Ее поведение не вызывает у вас подозрений?
– Она все это время сохраняла спокойствие. По крайней мере, внешне, – заметил Джим.
Кардью изменился в лице.
– Удивительно… Как это я не подумал, что письмо можно связать с появлением неизвестного бродяги?… Я действительно разучился мыслить логически, – пробормотал он.
– Я тоже удивлен, – многозначительно ответил Ферраби.
– Мне даже в голову не пришло связывать появление человека в саду с запиской, – задумчиво произнес Кардью. – Очень странно… Нужно поговорить об этом с Минтером.
– Позвоните ему, – посоветовал Джим.
Мистер Кардью снял телефонную трубку, но тотчас же повесил ее обратно.
– Я должен все хорошенько обдумать. Если я позвоню Минтеру, он тотчас же явится сюда и устроит мисс Шоу сцену. А мне и так уже от нее досталось. Нет, отложим это на завтра или на другой день. Спокойной ночи, мистер Ферраби!
Часы пробили два, когда Джим выключил свет и улегся в постель. Однако уснуть он не мог. Он был взволнован событиями в Баркли-Стек, и его мысли перебегали от мисс Лейдж к мистеру Кардью, потом кружили вокруг мисс Шоу, чтобы затем опять вернуться к мисс Лейдж. Джим полчаса ворочался в постели. Наконец он встал, приблизился к столу, зажег трубку и подошел к окну.
Луна почти скрылась за тучами, лишь тонкий бледный серп виднелся на небе. Джим заметил, что одно из окон во флигеле справа освещено. По комнате, в которой светилось окно, передвигался чей-то силуэт. Когда глаза Джима привыкли к свету, он узнал мисс Шоу. Она была в дорожном костюме и усердно паковала лежащий на кровати чемодан. Легкий ночной ветерок время от времени приподнимал занавеску. У кровати мисс Шоу стояли еще два открытых чемодана. Она извлекла из шкафа все свои платья.
Джим наморщил лоб. Приготовления мисс Шоу были более тщательными, чем он мог предположить. Она вела себя так, будто собиралась в длительное путешествие. Джим наблюдал за ней в течение часа. Когда приготовления были окончены, свет в комнате мисс Шоу погас. Джим почувствовал усталость и улегся в постель.
Но едва он закрыл глаза, как его слух уловил странную мелодию. Джиму показалось, будто он грезит. Но он ясно слышал: кто-то пел. Голос доносился из маленькой рощи.
– Мавританский король проезжал по королевскому городу Гранаде. Au mu Alhama!
Певец! Человек, который был вечером в саду! В тот же миг Джим набросил пальто и побежал вниз по лестнице.
После некоторых усилий ему удалось открыть дверь в сад. Воздух был насыщен пряным цветочным ароматом. Было свежо, и трава была покрыта росой.
Джим стоял неподвижно. Вдруг он услышал за спиной шепот:
– Тише, тише, Ферраби, не спугните моего певца, он мне нужен для антропологических исследований.
Это был не кто иной, как Сюпер.
– Идите наверх и оденьтесь как следует, – продолжал он шепотом. – Мне нужна ваша помощь. Все мои полицейские обыскивают Фернхем, и вскоре певец будет задержан. Если по возвращении вы не найдете меня здесь, ждите.
Джим поспешил наверх. Утро было холодным, и он дрожал.
Через пять минут он вернулся, но инспектора уже не было. Джим прождал двадцать минут, прежде чем из рощи показался Сюпер.
– Певец опять скрылся, – недовольно проворчал инспектор. – Наверное, он успел вас заметить, когда вы выходили из дома.
– Он удрал, но как?!
– Роща тянется до пограничной стены Баркли-Стек. С той стороны растет кустарник. Я слышал, как молодчик крался под деревьями. Я хочу обследовать главную улицу, но он хитер, как лисица. Что новенького?
– Дженни Шоу оставляет Баркли-Стек, – сообщил Джим и рассказал Сюперу все, что видел ночью.
Инспектор почесал затылок.
– Клянусь, Кардью не догадывается, что она уходит навсегда. Он будет приятно удивлен, узнав об этом, потому что втайне желает от нее избавиться. Я бы только хотел увидеть молодого соблазнителя. – Сюпер с печальным видом покачал головой. – Нет ли у вас автомобиля, Ферраби?
– Есть, но не здесь. Я приехал поездом.
– Ладно. Не сможете ли вы заехать за мной завтра на автомобиле? Едва стемнеет… Я намерен побывать в Паузее. Прошу вас сопровождать меня и вместе со мной изучить этот случай с психологической точки зрения. Одному мне сложновато разобраться в этой науке.
Сюпер весело глянул на Джима и рассмеялся.
Они попрощались, и Джим вернулся в свою комнату. Никто в доме не слышал пения загадочного бродяги.
Теперь о сне уже не могло быть и речи. Джим побрился и переоделся. Едва рассвело, как он уже был в саду и прогуливался вокруг дома. Потом направился в парк.
С Баркли-Стек можно было увидеть Хиль-Броу – владения Эльсона: красные стены, изящно построенную башню.
Что заставило американца поселиться тут, в местности, которая ему не нравилась? Джим не мог бы этого объяснить. Американец вышел из низов, благодаря своей энергии и напористости достиг положения в обществе, но остался неотесанным плебеем.
Вернувшись на тропинку, окруженную кустами дерна, Джим увидел стройную фигурку в сером платье. Его сердце учащенно забилось.
– Доброе утро! Я рано встал, не мог уснуть, – радостно заговорил он.
Эльфа с улыбкой подала ему руку. Джим никогда не видел ее в столь ранний час, когда не многие женщины решились бы попасть под придирчивый мужской взгляд. Но мисс Лейдж выглядела великолепно.
– Я тоже плохо спала, – отозвалась она, – но чувствую себя бодрой. Моя комната расположена рядом с комнатой мисс Шоу. Она всю ночь возилась.
Джим мог бы подтвердить эти слова.
– Я очень рада, что вернусь в свою маленькую квартирку, – продолжала секретарша. – Баркли-Стек действует мне на нервы. Я провела здесь как-то одну ночь… это было в прошлом году. И пережила неприятные минуты. Хотите, расскажу?
– Готов слушать вас все утро, мисс Лейдж.
– Ну, слушайте же. Мисс Шоу была тогда в еще более скверном настроении, чем обычно. Она не разговаривала ни со мной, ни с бедным мистером Кардью, закрылась в своей комнате и не обедала с нами. По словам мистера Кардью, она сердилась из-за того, что он якобы не уделял ей должного внимания. Но затем мисс Шоу выкинула такое! Когда утром я проснулась и выглянула в окно, то увидела на траве большую латинскую букву «L», выложенную из каких-то бумажек. Я спустилась вниз, чтобы выяснить, в чем дело. Длинными черными булавками к земле были приколоты около пятидесяти стодолларовых банкнот.
Джим с изумлением взглянул на рассказчицу.
– Кардью об этом знал?
– Да, он видел это в окно и был очень возмущен.
– Кто еще жил здесь тогда?
– Эльсон. Его дом ремонтировали, и мистер Кардью пригласил соседа пожить в Баркли-Стек до окончания ремонта. Кажется, с тех пор и до вчерашнего вечера Эльсон тут не бывал. Он рассказал, что это мисс Шоу потребовала, чтобы Кардью пригласил его.
– Но почему вы решили, что это она выложила букву на траве? Ведь это могло быть глупой шуткой Эльсона. Он вполне способен на такое…
Эльфа покачала головой.
– Это сделала мисс Шоу. Потом она собрала деньги. Кардью потребовал от нее объяснений…
Джим вспомнил, что адвокат рассказал ему о глупой выходке экономки.
– Кажется, она немного не в себе, – продолжала Эльфа, – вот почему я не хотела ехать в Баркли-Стек. Я приняла приглашение мистера Кардью только потому, что он мне сказал…
Она внезапно запнулась, и Джим радостно вспыхнул, его сердце забилось сильнее.
…Во время завтрака мисс Шоу сохраняла самообладание. Глядя на ее лицо, нельзя было бы сказать, что она провела бессонную ночь. Кардью же, напротив, был раздражен и придирчив. Он всегда был таким во время завтрака.
– Не уверен, что этот тупица не выкинул какой-нибудь фокус. Лично я ничего не видел, хотя с моим зрением все в порядке. Если у изгороди стоял человек, как это утверждает Сюпер, почему его не заметил кто-нибудь еще? – ворчал адвокат. – Что же касается обоймы с патронами, не исключено, что это чья-то глупая выходка. Если честно, мне редко доводилось иметь дело с подобными вещами, но я участвовал в процессе о крупном банкротстве. Один из моих клиентов скрыл свое имущество от должников. Я так ревностно защищал его, что получил выговор от судьи. Не так ли, мисс Лейдж?
Мисс Лейдж, которая уже сотни раз слышала эту историю, кивнула.
– Когда вы уезжаете, Дженни? – спросил Кардью, взглянув на свою бесстрастную экономку.
– В одиннадцать.
– Вы поедете в своем автомобиле? Джонсон сказал, что верх нуждается в починке…
– Меня он устраивает, значит, должен устраивать и Джонсона, – раздраженно прервала его экономка.
У Кардью тут же пропало желание продолжать расспросы.
– После завтрака я поеду в город. Не подвезти ли вас, Ферраби, на вашу квартиру? – обратился он к гостю.
Джим поблагодарил Кардью и поспешил к мисс Лейдж, которая уже работала в кабинете адвоката. На столе лежала груда книг. Эльфа с отчаянием взглянула на Джима.
– Мистер Кардью хочет, чтобы я закончила каталог, до того как отправлюсь домой. Но я вижу, работы здесь на два дня… Я ни за что не хотела бы провести еще одну ночь в этом ужасном доме. Вы едете в город?
Джим понял, что Эльфе нужна его поддержка.
– Да, еду, – сказал он. – Прошу вас, дайте мне ваш адрес. Я должен знать, что вы благополучно добрались домой.
Мисс Лейдж написала несколько слов на листочке, и Джим сунул его в карман.
– Мистер Кардью разрешил мне вернуться в город в четыре часа, даже если работа не будет закончена и он не успеет к этому времени вернуться, – заметила девушка.
– Я нанесу вам визит…
– Нет… На листке я написала номер своего телефона… Может быть, потом вы сможете зайти ко мне. Чтобы сопровождать меня в театр… Если, конечно, вас это не скомпрометирует. Я слышала, вы занимаете высокий пост в прокуратуре…
– Уверяю вас, мисс, я уже скомпрометировал себя. Единственная возможность для меня вновь занять видное положение – бывать в хорошем обществе.
Джим держал руку девушки дольше обычного и уехал, полный радужных надежд.
Сидя с Кардью в автомобиле, Джим совершенно не слушал его сентенций. Молодой человек парил в облаках. Когда же Кардью завел речь об истории с мисс Шоу, Джим вернулся с небес на землю.
– Я долго обдумывал создавшееся положение и пришел к выводу, что дальше так продолжаться не может, – говорил Кардью. – Я долго терпел выходки Дженни: у нее добрая душа. Но теперь я понял, как моя жизнь зависит от ее капризов и настроений. К тому же еще эта дьявольская тайна, а я не люблю тайн… Кроме того… между Дженни и Эльсоном что-то произошло. Это странно, не правда ли?
Ферраби согласился, что это странно. Сюпер еще не рассказал ему всего, что знал. Кардью продолжал:
– Я видел, как они обменялись взглядами. Однажды, беседуя на углу, моя экономка и Эльсон заметили меня и решили улизнуть. Они полагают, что я их тогда не видел. Не знаю, кто такой Эльсон: ученый, женатый миллионер или преступник, но он пренеприятный малый… Сомневаюсь, что он влюблен в Дженни: такие типы слишком эгоистичны. Но я твердо решил: Дженни должна уйти из моего дома! – Кардью стукнул зонтиком, чтобы придать вес своим словам. – Она действует мне на нервы! Я согласен дать ей тысячу фунтов, лишь бы она сменила место работы.
– А вам известно, что она упаковала все свои вещи? – поинтересовался Джим.
– Все вещи? Откуда вы знаете?
– Я видел это ночью в окно. Дженни не пыталась скрыть это от посторонних. Она вынула все платья из шкафа и уложила их в чемоданы.
Кардью долго молчал, наморщив лоб. Наконец он задумчиво произнес:
– Вряд ли это означает решительный шаг с ее стороны. Дженни и тогда, после нашей ссоры, упаковала чемоданы, а я, старый идиот, на коленях умолял ее остаться. Но на сей раз… – Кардью покачал головой, и в его глазах вспыхнул недобрый огонек.
Он высадил Джима возле Уайтхолла.
Два часа Джим разбирал бумаги, накопившиеся за время его отсутствия. В три часа работа была закончена, и он отправился на Пэл-Мэл, чтобы посидеть в клубе. Джим устал, работа не ладилась и заняла больше времени, чем обычно. Перед его взором то и дело появлялся образ очаровательной девушки с серыми глазами. Час назад секретарь вернул Ферраби одну из бумаг, спросив, кто такая Эльфа. Смущенный Джим увидел, что окрестил этим именем известного вора-рецидивиста… Положение действительно было серьезным.
Взглянув на телефон Эльфы, Джим понял, что она живет в Бломсбери. Он навел справки и узнал ее точный адрес.
Выйдя из клуба, Джим сел в таксомотор и через некоторое время подъехал к дому, в котором жила Эльфа. Этот дом почти ничем не отличался от других зданий на этой улице, но Джим испытал приятное чувство, представив, что за окном с маленькими белыми занавесками сейчас мелькнет дорогое ему лицо. Уже потом он узнал, что комната Эльфы находится во флигеле и ее окна не видны с улицы.
Когда Джим позвонил мисс Лейдж по телефону, ее еще не было дома. В пять часов он опять позвонил, но никто не ответил. Возможно, она задерживалась в Баркли-Стек? В половине шестого Джим уже готов был ехать в Баркли-Стек, чтобы спасти мисс Лейдж от якобы грозящей ей опасности. Позвонив в четвертый раз, он был безумно рад, услышав сдержанный голос Эльфы.
– Да, я вернулась… Нет, мистер Кардью еще не приехал. Он позвонил мне по телефону и сказал, что этой ночью останется в городе.
– Разрешите пригласить вас на чай, мисс Лейдж.
– О нет, – рассмеялась в ответ Эльфа. – Я хочу спокойно провести вечер у себя. Здесь так уютно и мило.
– Я в этом не сомневаюсь, – произнес восторженно Джим. – Везде, где вы находитесь…
В тот же миг что-то щелкнуло. Эльфа повесила трубку. И все же, несмотря на это, Джим вернулся домой в прекрасном настроении.
В передней его шофер – и лакей одновременно – сообщил, что в гостиной ждет посетитель. К великому изумлению Джима, это был мистер Кардью.
– Ваш слуга сказал, что сегодня вечером вас не будет дома, – с легким упреком начал адвокат. – Я пришел, чтобы пригласить вас в оперу. Я купил два билета. Вы не откажетесь пойти со мной?
– Мне очень жаль, но я уже условился встретиться с одним господином…
– Не хотите ли, по крайней мере, поужинать со мной в ресторане?
– Простите бога ради, но при всем желании я не могу этого сделать…
– Жаль, очень жаль, Ферраби. Мне не остается ничего иного, кроме как вернуться в Баркли-Стек, – произнес Кардью с подавленным видом. – Дорого бы я дал, чтобы узнать, что там творится…
Было уже темно и фонари освещали улицы, когда Джим Ферраби мчался в своем автомобиле по предместью. Он остановил машину у полицейского участка.
Сюпер был там. Он с аппетитом ел паштет, запивая его горячим какао. Инспектор указал рукой на стул.
– Садитесь, Ферраби!
Окончив трапезу, Сюпер вытер губы видавшим виды платком и вынул из ящика стола коробку сигар.
– Благодарю, Минтер, я не курю! – отказался Джим.
– Что с вами? – обиженно спросил Сюпер. – Это единственные в своем роде сигары!
– Не сердитесь, просто мне не хочется курить.
– Хе-хе-хе… Отказываться от такой сигары грех! – Сюпер зажег сигару с удушливым дымом. – Слабый теперь народ пошел… Такая сигара стоит в Америке десять центов… Она свалила с ног уже не одного человека… К ней нужно привыкнуть! Наш участковый врач утверждает, что даже козел не может жить ближе чем за милю от дыма такой сигары. А еще один врач, переживший газовую атаку во время войны, сказал, что дым сигары Сюпера очень напоминает ему немецкие удушливые газы…
Инспектор покашлял, с отчаянием взглянул на сигару и бросил ее в камин.
– Бог с ней, закурим трубку, – сказал он и набил трубку табаком. – Скоро поедем, Ферраби. – Сюпер посмотрел на часы. – Я послал вперед Леттимера. Славный парень, но любит поспать. Я его обожаю, но держу на расстоянии. Молодые люди становятся невыносимыми, когда с ними хорошо обращаются…
Сюпер встал и надел пальто. Джим рассказал ему историю о букве «L», составленной из банкнот. Сюпер с огромным интересом выслушал его.
– Эльсон был в ту ночь там? – спросил инспектор. – Это интересное совпадение. Дженни симпатизирует Эльсону и, кроме того… держит его в ежовых рукавицах. Мы должны быть бдительными. Нам предстоит понять все, что мы увидим там этой ночью… Я хотел бы, чтобы мистер Кардью тоже при этом присутствовал.
– А вы нашли бродягу?
– Нет, это совсем не так просто, как кажется на первый взгляд…
Сюпер вышел на улицу, взглянул на небо и, вернувшись в комнату, постучал по старому барометру.
– Вероятно, будет дождь. Вы захватили с собой дождевик?
– Да, он лежит в автомобиле.
– Хорошо, он вам пригодится.
Лунный свет еле-еле пробивался сквозь тучи, когда Джим и Сюпер ехали вдоль Хорзеам-Род. Не успели они проехать и двенадцати миль, как далеко на юге заблистали молнии и маленькие пыльные столбы завертелись в лучах автомобильных фар. Сюпер сидел, скорчившись, рядом с Джимом, не говоря ни слова.
Когда они оставили Хорзеам-Род позади, послышались раскаты грома и полил дождь. Джим остановил машину, чтобы поднять непромокаемый верх.
– Красивая гроза, – сказал Сюпер. – Ничего замысловатого в ней нет… гром и молния – факты, не нуждающиеся в психологическом исследовании. Это вроде того, когда застают человека на месте преступления.
Машина покатила вдоль Уертинг-Род.
– Когда женщине, которой перевалило за сорок, хочется выйти замуж, она так же благоразумна, как волк в мясной лавке. Хотел бы я знать, что означала буква «L», – заговорил Сюпер.
– Наверное, в этом замешана «Большая Нога».
Огромная молния прорезала облака. Сюпер выждал, пока не стих оглушительный гром.
– «Большая Нога»? Да, возможно! Как вы думаете, почему я избрал для поездки такую бурную ночь? Неужто для того, чтобы удовлетворить свое любопытство и узнать, что делает мисс Шоу? Нет, Ферраби, не ради этого я рискнул своим здоровьем… Кстати, и вашим тоже. – Он говорил медленно. – Я хочу раскрыть тайну, слышите? Я хочу раскрыть тайну!
– Но в чем же тайна? В поведении мисс Шоу? – весело осведомился Джим.
– Не смейтесь, Ферраби. Я занят расследованием одной тайны, – торжественно произнес Сюпер. – Уже шесть с половиной лет я занят мыслью о тайне одной несостоявшейся встречи…
Джим удивленно посмотрел на него.
– Но это очень странно, Сюпер.
– Ничего странного в этом нет, просто голый факт – такой же, как гром небесный. Шесть с половиной лет – долгий срок. Так вот, шесть лет назад сэр Джозив Брикстон, городской советник из Сити, пригласил меня однажды к себе в Челмор. Его уже нет в живых. Когда я приехал к нему, его не было дома. Не знаю, правда ли это, но его слуга вышел ко мне и заявил, что хозяина нет дома. Он передал мне письмо, в котором сэр Брикстон благодарил меня за то, что я пришел к нему и оказал ему якобы услугу. К письму были приложены две банкноты по двадцать фунтов каждая, которые я употребил на благотворительные цели.
– Но какая тут связь с нашей дикой авантюрой в эту грозовую ночь? – поинтересовался Джим, в сотый раз вытирая защитное стекло.
– Самая прямая, Ферраби. Я рад, очень рад нашей поездке… Надеюсь, Леттимер тоже захватил с собой дождевик.
– Но зачем, почему Джозив Брикстон послал за вами? – спросил Джим.
– Я это знаю. Мне также известно, почему его не было дома, или, по крайней мере, он сделал вид, будто его там нет.
…Дождь лил как из ведра, молнии поминутно бороздили тьму, и Джиму не пришлось включать яркий свет. Он свернул с почтовой дороги на боковую улицу, ведущую в Большой Паузей. Автомобиль ехал мимо густых кустов дерна в сторону набережной.
Большой Паузей лежит в десяти километрах от Малого Паузея. Когда-то маленький рыбачий поселок, Малый Паузей со временем превратился в великолепный курорт с роскошными отелями и садами. Электрическая реклама курорта теперь видна за несколько миль. Малый Паузей получил позднее название собственно Паузея, а Большой Паузей так и остался маленьким поселком.
Две дороги связывают Паузей с поселком с таким же названием. Одна дорога ведет к скалам через дюны, другая проходит параллельно набережной. Первая в прекрасном состоянии и хорошо освещена, вторая, наоборот, – совершенно запущена, изрыта ямами и завалена щебнем. Уже давно ведется спор между местным органом самоуправления и военным министерством о том, кому надлежит исправить дорогу, но вопрос остается открытым.
– Черт возьми, какая скверная дорога! – сказал Сюпер, когда автомобиль проезжал по рытвинам, то и дело подпрыгивая. – Мы остановимся у старой каменоломни, если вы ничего не имеете против.
– Вы здесь уже были? Ах да, я забыл, вы же говорили…
– Я утром изучал эту местность по карте. Дом находится в ста пятидесяти метрах от подошвы холма и в четырех километрах от Паузея. Мы должны найти здесь Леттимера… Выключите свет, Ферраби!
Леттимер стоял под защитой отвесной скалы, закутанный в совершенно мокрый дождевик. Сюпер не заметил бы его, если бы Леттимер не вышел из своего убежища.
– Никто еще не вошел в дом, господин инспектор, – доложил сержант, когда они вышли из автомобиля.
– Странно! Ведь мисс Шоу выехала еще утром, – заметил Джим.
– Меня бы удивило, если бы она сюда явилась, – сказал Сюпер. – Я знаю, что она не приедет в этот дом.
Джим был озадачен.
– Это мое умозаключение, – с гордостью заметил Сюпер. – Логическое умозаключение и… немного психологии.
– Но откуда вам известно, что мисс Шоу не приехала сюда сегодня утром? – не сдавался Джим.
– Потому что Леттимер сообщил мне об этом по телефону час назад. Это простая полицейская уловка: поставить караульного в нужном месте, чтобы он говорил с вами по телефону. Ну а теперь, Ферраби, выключите-ка все огни!
Хотя гроза и прекратилась, дождь все еще лил как из ведра. Трое мужчин двинулись по улице во главе с сержантом, освещавшим путь.
Вилла мистера Кардью называлась Бич-коттедж. Она возвышалась между улицей и взморьем. Это был невысокий квадратный каменный дом, окруженный кирпичной стеной с несколькими воротами.
– Вы уверены, что в доме никого нет, сержант?
– Абсолютно. Дверь закрыта снаружи на висячий замок.
– А что это за здание там, позади? Гараж?
– Нет, это сарай. Раньше там была гребная лодка, но затем Кардью ее продал.
Сюпер исследовал дверь и окна дома, но ничего не обнаружил.
– Очевидно, что мисс Шоу не могла проникнуть в дом, – сказал Джим. – Вероятно, ее задержала непогода.
– Наоборот, непогода могла только содействовать ее планам, – возразил Сюпер.
Джим впервые видел такое запущенное здание.
– В скалах полно пещер, – сказал сержант, – но в большинство из них невозможно проникнуть.
Они направились к месту, где стоял автомобиль.
– Меня удивляет, что есть люди, которым нравится вилла Кардью, – произнес Джим.
– Ничего странного, – не согласился Сюпер. – Я с удовольствием поселился бы здесь, выйдя в отставку. Держу пари, при солнечном свете эта местность великолепна. Ночью, конечно, мрачновато…
Инспектор плотнее закутался в дождевик и посмотрел на светящийся циферблат своих часов.
– Уже одиннадцать… Подождем до двенадцати. Если к тому времени ничего не случится, мы вернемся в город и я попрошу у вас прощения за беспокойство, Ферраби.
– Но что вы рассчитывали здесь найти? – удивленно пожал плечами Джим.
– Это трудно объяснить, – сказал Сюпер. – Видите ли, когда перезрелая девица начинает угрожать предмету своих вожделений местью, если он не женится на ней, это настораживает. Возможно, я преувеличиваю… Тише!
Вдруг Сюпер схватил Джима за руку и потянул его в сторону.
– Поскорее к скалам! – скомандовал он.
В тот же миг из-за угла сверкнули автомобильные фары.
Джим, спотыкаясь, бросился к скале. Сюпер – за ним. Леттимер подполз к инспектору. Автомобиль быстро приближался. Когда он промчался мимо, Сюпер заметил темный силуэт женщины в широкополой шляпе.
Через мгновение автомобиль замедлил ход, въехал в одни из ворот и остановился у входа в дом.
– Она открывает дверь, – шепнул Джим.
Сюпер молчал. Лишь когда раздался стук захлопнувшейся двери, он направился к дому.
– Не разговаривать! – шепнул он своим спутникам.
Автомобиль стоял у самой двери. Сюпер оставил Джима и сержанта у стены и направился к машине. Он пощупал радиатор и удовлетворенно хмыкнул. Потом обошел дом со всех сторон. Оттуда не доносилось ни звука. Оказавшись опять у двери, Сюпер приложил к ней ухо, но ничего не услышал. Тогда он вернулся к своим спутникам.
– Сюда должен прибыть кто-то еще, – сообщил он. – Мисс Шоу не останется здесь на ночь, она не выключила мотор. Ей предстоит важная встреча.
Мужчины вернулись к скалам.
Через полчаса они услышали, что дверь отворилась, потом снова захлопнулась, и висячий замок опять загремел.
– Мисс Шоу уезжает. – Сюпер был изумлен и разочарован. – Она включает рефлекторы!
На секунду вспыхнули два ослепительных снопа света. Потом все погрузилось во тьму и автомобиль выехал через ворота на улицу. Когда он проезжал мимо скалы, инспектор и его спутники снова увидели силуэт в широкополой шляпе. Вскоре автомобиль исчез из виду.
– Прошу прощения, Ферраби, – сказал Сюпер упавшим голосом. – Логика и психология ничего не стоят, если они вводят в заблуждение и факты им противоречат. Подумайте: женщина входит в дом, потом выходит оттуда и исчезает, оставляя нас в дураках. Никто не знает, откуда она приехала и куда направляется. Поскорее в автомобиль! Попытаемся догнать ее, чтобы не потерять след!
Они бросились к автомобилю Джима. Но случилась маленькая заминка: лопнула шина. Пришлось менять колесо. Когда автомобиль помчался вперед, старого «форда» уже простыл и след.
В Большом Паузее Сюпер изумил местного полисмена своими вопросами. Тот действительно видел два автомобиля, ехавших к берегу, но ни один из них еще не проезжал мимо поста, заявил он.
– Я оставлю вас здесь, Леттимер, – сказал Сюпер. – Мне нужен надежный постовой. Беру на себя ответственность за превышение власти.
Джим и Сюпер помчались через Хорзеам-Род и прибыли к первому участку. Джим изнемогал от усталости.
– Зайдем ко мне и выпьем по чашке кофе, – предложил Сюпер, молчавший всю дорогу. – Мне жаль, что я напрасно вас потревожил. «Большая Нога»… гм… Кажется, мы ее упустили.
Они вошли в участок. Сюпер сел, и его лицо приняло суровое выражение.
– Все это очень странно. Женщина за рулем не поехала в Паузей. Я внимательно наблюдал за дорогой. Она не проезжала и через Большой Паузей, ведь полисмен на посту не видел ее автомобиля. Готов поклясться, она не вернулась через Паузей – мы ведь доехали до самого конца улицы. Она хорошо освещена, и следов шин на мокрой дороге видно не было. Да, кстати, Леттимер обещал позвонить, если будут новости.
В эту минуту вошел дежурный полицейский.
– Господин старший инспектор, вас просят к телефону.
Сюпер встал и направился к старомодному аппарату, стоящему на столе.
– Алло… Сюпер? Это я, Леттимер! Я нашел «форд», – послышался голос в трубке.
– Где?
– Наверху, под самой скалой… Наверное, он свернул с дороги, ведущей вниз к морю. Пункт называется Сихилль.
– Рефлекторы были включены или нет? – торопливо поинтересовался Сюпер.
– Они были выключены… Но я заметил другое – сзади на автомобиле мелом написано «Большая Нога».
– «Большая Нога»? А был ли кто-нибудь возле автомобиля?
– Никого.
Сюпер лихорадочно размышлял.
– Разбудите местного полицейского сержанта и позвоните начальнику полиции в Паузей. Обыщите улицу, идущую вниз вдоль берега. Я скоро приеду. Вы наблюдали за домом? Хорошо.
Инспектор повесил трубку и передал Джиму содержание разговора с сержантом.
– Я должен немедленно выехать туда, но вначале мне нужно заручиться согласием Скотленд-Ярда. Будьте добры, Ферраби, поезжайте к Кардью и попросите у него ключи от дома. И поскорее возвращайтесь сюда!
…У мистера Кардью была небольшая квартира возле Регент-парка, где он ночевал, когда оставался в городе.
Обычно двери таких домов ночью закрыты. Не имея ключа, трудно попасть в здание, не разбудив других жильцов. Но Джиму посчастливилось: компания молодых людей как раз возвращались из клуба, и он смог войти в вестибюль.
Поднявшись на третий этаж, он постучал в дверь мистера Кардью.
У адвоката был острый слух: после второго стука послышались шаги. Дверь приоткрылась, насколько позволяла предохранительная цепочка.
– Боже ты мой… Ферраби! – воскликнул Кардью, сняв цепочку. – Что привело вас ко мне в такой час?
Джим вкратце рассказал ему о ночных похождениях мисс Шоу и добавил:
– Надеюсь, учитывая обстоятельства, вы простите мне, что я рассказал Минтеру о письме с угрозами. Он считает дело весьма серьезным.
Мистер Кардью возбужденно провел рукой по всклокоченным волосам.
– Мисс Шоу приехала только в полночь? – смущенно спросил он. – Но ведь она выехала из Баркли-Стек еще утром – в половине двенадцатого. Где же она теперь?
– Именно это Минтер и хочет узнать, – ответил Джим. – «Форд» найден у скалы. Сзади написано два слова – «Большая Нога». Сюпер предполагает, что это сделано для того, чтобы ввести сыщиков в заблуждение. Местная полиция сейчас обыскивает набережную и скалы в поисках трупа мисс Шоу.
– Что вы говорите? Это невозможно, это ужасно! Я не могу поверить! Ключи от дома лежат в моем бюро в Кинг-Бенг-Уолк. Подождите, я оденусь… Вы на автомобиле или нужно нанять таксомотор?
– Я приехал на автомобиле.
Через несколько минут Кардью появился в дорожном костюме.
– Я непременно поеду с вами, – твердо заявил он. – Я должен знать, что произошло с Дженни.
Автомобиль помчался к адвокатскому бюро мистера Кардью.
Хозяин вошел вовнутрь и вернулся со связкой ключей. Джим развернул автомобиль и поехал в участок.
Увидев расстроенного мистера Кардью, Сюпер удивился, но быстро овладел собой.
– Леттимер сообщил, что ни внизу, ни наверху ничего не найдено. Дайте мне ключи, мистер Кардью.
Адвокат вынул ключи.
– У вас есть запасные?
– Нет, у меня остались только эти. Один комплект ключей всегда был у тех, кто жил на вилле, а другой лежал в моем бюро. Этими ключами никогда не пользовались…
Отозвав Джима в сторону, Сюпер шепнул ему:
– Я пошлю агента в Хиль-Броу, чтобы он нашел Эльсона. Вчера в девять вечера американец ушел из дома и до сих пор не вернулся. Сел в двухместный «ролс-ройс» и уехал.
Спустя несколько минут автомобиль с тремя мужчинами несся вниз вдоль Хорзеам-Род. Гроза закончилась, и на небе зажглись звезды.
Поездка заняла более часа. Наконец машина остановилась у домика сельского полицейского сержанта. Сержант ждал их с двумя сыщиками из Паузея.
– Мы ничего не нашли, – доложил он, – но один из местных жителей видел, как женщина спускалась с холма по дороге.
– Когда это было?
– Около двух часов тому назад. Женщина шла от станции Паузей. Последний поезд из Лондона останавливается именно там, но я не смог найти начальника станции в такое время.
– Мисс Шоу не вернулась со станции, – заключил Сюпер. – Наверное, она хотела замести следы. Вы всегда пользуетесь этой остановкой, мистер Кардью?
– Я сделал там остановку только один раз во время войны. Когда я путешествую на поезде, то доезжаю до конечной станции или пользуюсь почтовой каретой.
– А мисс Шоу ездила когда-нибудь по железной дороге, отправляясь в Бич-коттедж?
– Нет. После 1918 года мы больше не приезжали сюда на поезде.
Сюпер внимательно осмотрел брошенный автомобиль. Теперь стало ясно, почему «форд» нельзя было увидеть с дороги в Паузей – чуть спустившись с откоса, автомобиль оставили на небольшом холме.
Включив фонарь, Сюпер тщательно исследовал машину. Надпись его мало интересовала.
– Писали не белым, а зеленым бильярдным мелом, – заметил Кардью.
– В таком случае мисс Шоу, очевидно, нужно искать в бильярдном салоне, – пробормотал иронически Сюпер. – Остается только обнаружить кий.
Кардью ничего не ответил. Инспектор исследовал каждый дюйм капота. Потом осветил автомобильный салон.
– На сиденье царапины… И на ковре тоже. Но он чистый. Педали и сцепление также чистые. Пока никаких выводов сделать нельзя.
Все вернулись к автомобилю Джима.
– Вы были возле дома, сержант? – спросил Сюпер.
– Да, там никого нет. Это место все время охранялось. И сейчас там стоит постовой.
Сюпер, Джим и Кардью сели в автомобиль, а сержант с местным полицейским примостились на подножках. Автомобиль спустился с холма и поехал вдоль пляжа к дому Кардью.
– Как здесь мрачно! – воскликнул Кардью, когда все вышли из автомобиля. – Я никогда не замечал, как тут все запущенно…
Рефлекторы осветили дверь дома.
– Мисс Шоу оставила что-нибудь из своих вещей, мистер Кардью? – спросил Сюпер.
– Нет…
– Может быть, она оставила что-то в комоде или в шкафу? – настаивал детектив.
– Насколько я знаю, ничего.
Сюпер открыл дверь и осветил темное помещение. Они оказались в маленьком коридоре, ведущем к двери со стеклянной вставкой.
– Оставайтесь здесь, – приказал Сюпер своим спутникам. – Я должен обыскать дом.
Сперва он осмотрел две комнаты с правой стороны. Это были хорошо меблированные спальни. Потом Сюпер направился в комнату, расположенную с левой стороны. Там была столовая. Сюпер не заметил ничего особенного и поэтому пошел в кухню, дверь в которую была заперта. Инспектору пришлось вернуться к ожидавшим его спутникам.
– У вас есть ключ от кухни, мистер Кардью?
– Нет! Разве он не торчит в замке?
Сюпер попробовал еще раз нажать на ручку кухонной двери, но та не поддалась. Он заметил что-то и крикнул:
– Ферраби, вы чувствуете запах?
– Кордит[68]! – крикнул Джим, втягивая носом воздух. – Здесь стреляли из пистолета, и… совсем недавно.
– Я так и понял, – сказал Сюпер. – Дверь заперта изнутри.
Они направились в столовую. В одной из стен было отверстие, закрытое подвижным ставнем. Очевидно, через него подавались кушанья из кухни в столовую. Ставень был заперт на ключ. Сюпер позвал Кардью.
– Да, – сказал адвокат, – ставень закрывался на ключ, но я не знаю, куда он подевался. Ключ был здесь, когда тут гостила моя секретарша мисс Лейдж. Замок пружинный и открывается только ключом. У меня не было запасного. Вы не можете попасть в кухню?
– Нет, она заперта изнутри.
– Тогда нужно взломать ставень, – заявил Кардью.
Он пошел с сержантом в сарай и принес пару ржавых инструментов, среди которых была и отвертка. Сюпер взял отвертку и, вставив ее между ставнем и рамой, с силой нажал на рукоятку. Через минуту замок треснул и ставень отскочил. Острый запах кордита распространился по столовой.
– Чем это пахнет? – спросил испуганный Кардью.
Сюпер не ответил. Перегнувшись через отверстие, он осветил кухню фонарем. Узкий луч медленно скользил по полу до двери. Неожиданно Сюпер увидел туфлю, потом другую и край черного платья…
Женщина сидела, опираясь спиной на дверь. Ее голова была опущена на грудь, как будто она была пьяна. Едва взглянув на нее, Сюпер понял, что это мисс Шоу. Лужа крови на полу свидетельствовала о том, что экономка мертва.
Сюпер медленно высунул голову из отверстия.
– Все должны оставаться здесь. Сержант, немедленно приведите врача. Мистер Ферраби, никуда не уходите.
Сюпер шепнул что-то сержанту на ухо, и тот быстро уехал на машине.
– Что же случилось? – спросил Кардью, дрожа от страха. – Боже мой… это ведь не Дженни?
– Боюсь, это она, мистер Кардью, – заявил Сюпер.
– Она ранена или… мертва?
– Мертва. Оставайтесь тут, а вы, Ферраби, следуйте за мной.
С необычайным проворством Сюпер забрался через отверстие в кухню. Джим с трудом последовал за ним.
– Закройте ставень, я зажгу лампу!
Сюпер зажег керосиновую лампу, стоявшую на столе, и осторожно осветил безжизненное тело женщины.
– Самоубийство? – спросил Джим с подавленным видом.
– Думаю, что нет, – ответил Сюпер.
Он нагнулся и взглянул на бледное лицо мисс Шоу.
– Она не покончила с собой, а была убита, – заявил он. – Дверь заперта снаружи – видите ключ? Ставень в столовой тоже был заперт, ключ от него торчит в замке с этой стороны… Как проник сюда убийца? Окно во двор защищено тяжелыми ставнями, внутренние засовы задвинуты…
На столе лежал ридикюль. В нем, очевидно, что-то искали: по столу были разбросаны косметика и деньги.
– Две тысячи долларов и пятьдесят фунтов, – сказал Сюпер, сосчитав деньги. – А что означает этот кирпич?
Красный обожженный камень лежал на полу. Рядом валялось резиновое кольцо со шнуром.
– Весь пол устлан красным кирпичом, – сказал Джим.
– Да… я тоже это заметил.
Сюпер взял лампу, нагнулся и исследовал пол. Под столом, точно посередине, было отверстие, соответствовавшее размеру кирпича.
– Кольцо служило для того, чтобы поднимать кирпич, – задумчиво сказал Сюпер.
Он тщательно осмотрел отверстие.
– Здесь было что-то спрятано, и мисс Шоу явилась сюда, чтобы это забрать. Вот почему она задержалась недолго.
– Но как она снова сюда попала? Входная дверь была заперта снаружи.
– Не знаю, но факт остается фактом: мисс Шоу явилась сюда за каким-то предметом.
Сюпер наклонился над трупом. Потухшая трубка торчала у инспектора в зубах; он еще сильнее нахмурил лоб.
– Я не имею права сдвигать тело с места до прихода врача, – сказал Сюпер, поднявшись. – Мисс Шоу застрелили с близкого расстояния… Убийца стоял вот здесь, у стола… Очевидно, он стрелял из автоматического пистолета, хотя гильзы нигде не видно. Мисс Шоу стояла справа, у дверей… Видите следы пули на стене? Потом мисс Шоу сделала шаг вперед и упала у порога. Пуля, вероятно, прошла сквозь сердце. Часто бывает, что мертвые по инерции успевают сделать еще один-два шага. Левая перчатка на руке, правая снята. Мисс Шоу не думала тут оставаться. Не замечаете ли вы некоторых довольно странных обстоятельств, Ферраби?
Джим беспомощно покачал головой.
– Здесь так много странностей, что мне трудно разобраться.
– Мистер Кардью сразу заметил бы одно важное обстоятельство: пальто и шляпа убитой исчезли. Их нигде не видно… Посмотрите, Ферраби, вы ничего не замечаете на полу под вешалкой?
– Вода, – сказал Джим.
– Она стекла с дождевика убитой. Мисс Шоу повесила его, явившись сюда. Где же она оставила пальто и шляпу?
– По всей вероятности, в другой комнате.
– Нет, Ферраби, хоть я и не обыскал как следует весь дом, пальто и шляпы мы тут не найдем. У меня слишком зоркий глаз. Ага, вот и врач, – добавил Сюпер. – Если он довольно толстый, ему будет нелегко пролезть через эту дыру в кухню.
Но врач оказался молодым и стройным. Он без малейшего труда забрался в кухню.
– Да, женщина мертва, – констатировал он. – Не могу сказать точно, когда наступила смерть, но, во всяком случае, это произошло более часа тому назад. Я вызвал по телефону карету секционной камеры. Сержант Леттимер рассказал мне все.
Часы показывали половину четвертого. Через пять минут прибыла карета, и труп увезли. В доме остались только Сюпер и Джим. Мистер Кардью, совершенно подавленный происшедшим, куда-то уехал, а Леттимер отправился вместе с врачом для составления протокола. Сюпер отодвинул засовы и открыл окно.
– Еще темно и накрапывает дождь, но на улице тепло. Настоящая летняя ночь, – сказал он.
Потом инспектор обернулся и положил на стол длинный желтый конверт.
– Взгляните, Ферраби, вот что я нашел под телом мисс Шоу, когда ее подняли.
Джим осмотрел конверт. Он оказался пустым. На конверте был адрес, напечатанный на пишущей машинке:
«Доктор Джон В. Милс,
врач секционной камеры Западного Суссекса.
Хэйлсхем, Суссекс».
– Кто это? – спросил Джим.
– Ферраби, доктор Милс умер пять лет назад, я хорошо помню его похороны. Адрес, очевидно, написан уже давно… во всяком случае, это сделала не мисс Шоу, – задумчиво произнес Сюпер.
– Но кто же написал его?
– Этого я вам пока не могу сказать, – таинственно ответил Сюпер.
Джим наблюдал за тем, как Сюпер обследовал кухню, обыскивал печи, открывал шкафы, осматривал выдвижные ящики. Только теперь Ферраби понял, что случилось. Происшествие было столь неожиданным, что он не сразу постиг значение того, чему был свидетелем. Джим вдруг вспомнил о мисс Лейдж, которая, наверное, очень испугается, узнав о смерти экономки.
– Здесь произошло неординарное убийство, – сказал Сюпер со вздохом, сжимая свою трубку. – Я рад, что поговорил предварительно с комиссаром Скотленд-Ярда. Он толковый парень, и не исключено, что он поручит расследование этого убийства мне. Если это дело будет передано кому-то другому, убийство останется нераскрытым. Ни оружия, ни улик не найдено. Только пустой конверт, который еще нужно исследовать…
Тщательно осмотрев стену, Сюпер вытащил из нее пулю сорок второго калибра. Однако делать выводы было рано. Автоматические пистолеты тогда изготовлялись только в двух калибрах, и трудно было допустить, что мисс Шоу имела такой пистолет. Женщины боятся оружия…
– Куда уехал Кардью? – спросил Джим.
– В «Гранд-отель» Паузея. – Сюпер рассмеялся. – Когда этот детектив-теоретик сталкивается с фактами, он теряет голову. А здесь факт налицо – насильственная смерть. Сидеть на мягком стуле и выдумывать криминальные теории – одно, а сталкиваться с кровью и ужасами жизни – совсем другое…
Вдруг Сюпер вытянул шею и стал прислушиваться. Через окно доносился шум прибоя. Инспектор взял лампу и направился к двери.
– Там кто-то возится, – шепнул он.
Джим тоже услышал шорох, и ему стало не по себе. Кто-то ощупывал дверь с другой стороны и нажимал на ручку. Сюпер знáком велел Джиму открыть дверь. Тот медленно подошел к двери, быстро повернул ключ и распахнул ее.
На пороге стояла стройная девушка. Она была вся мокрая и еле держалась на ногах.
– Спасите меня! – крикнула она и упала без чувств на руки Джима.
Это была мисс Лейдж.
– Не двигайтесь! Слушайте! – шепнул Сюпер на ухо Джиму.
Тот стоял неподвижно, держа девушку в объятьях. Из темноты доносилось заунывное пение:
– Мавританский король проезжал по королевскому городу Гранаде. Au mu Alhama!
– Проклятие! – воскликнул Сюпер и бросился вон из дома в непроглядный мрак ночи.
Светало, когда Сюпер вернулся и сообщил о своей неудаче.
– Он пел где-то на вершине скалы, – пробормотал инспектор. – Не сдобровать этому бродяге музыканту, когда он попадет ко мне в руки. Что с мисс Лейдж?
– Я привел ее в чувство, разжег камин в спальне, и она немного пришла в себя.
– Вы рассказали ей об убийстве?
– Нет, я предпочел оставить мисс Лейдж в покое. Она, очевидно, пережила ужасные минуты.
Девушка услышала разговор и приоткрыла дверь.
– Мистер Минтер уже вернулся? Я сейчас выйду.
Через минуту она появилась на пороге. На ней было пальто Джима, а старые найденные в шкафу туфли выглядели странно на ее изящных ножках.
– Где мисс Шоу? Что вы тут делали? – забросала мисс Лейн мужчин вопросами.
– Мы хотели осмотреть виллу, – спокойно пояснил Сюпер. – Я намеревался провести здесь летний отпуск.
– Где мисс Шоу? – не унималась Эльфа.
– Она ушла.
Девушка перевела внимательный взгляд с инспектора на Джима и сказала:
– Здесь что-то случилось.
– Кажется, мисс Лейдж, с вами действительно что-то случилось, – произнес Сюпер. – Каким образом вы попали сюда ночью?
– Мисс Шоу вызвала меня телеграммой.
Сюпер и Джим изумленно переглянулись. Эльфа пошла в спальню и вернулась с длинной телеграммой. Сюпер надел пенсне и прочел ее. Телеграмма была адресована Эльфе на Кубит-стрит:
«Прошу вас сделать мне одолжение и прибыть немедленно после того, как получите телеграмму, на виллу мистера Кардью, расположенную на набережной Паузея. Если меня там еще не будет, будьте любезны подождать. Даже если телеграмму доставят с опозданием, вы должны туда приехать. Я до сих пор никогда не обременяла вас просьбами. Ваш приезд окажет большое влияние на мою дальнейшую жизнь. Я хочу иметь вас в качестве свидетельницы по очень важному делу и прошу вас о помощи, как женщина женщину.
Дженни Шоу».Телеграмма была отправлена из Гильдфорда в шесть часов вечера накануне страшных событий.
– Я получила ее в четверть восьмого, – сказала Эльфа, – и не знала, как быть. То, что мои отношения с мисс Шоу оставляли желать лучшего, еще более все усложняло. После долгих колебаний я все-таки решила ехать и села на последний поезд, который отправляется в десять вечера. Я вышла из вагона и пошла…
– Значит, жители поселка видели вас, когда вы шли со станции, – перебил ее Сюпер. – Это разрешает загадку. Продолжайте, мисс Лейдж!
– От берега ведет знакомая тропинка, – сказала девушка. – Я знаю эту местность очень хорошо, излазила все здешние скалы. К тому же у меня был фонарик. Я пошла по тропинке, потому что было очень ветрено, а скалы защищали меня от дождя. Но я не знала, что летом прошлого года здесь произошел обвал. Тропинка оборвалась, я наступила на скользкий камень и упала вниз. Мне показалось, будто я сломала шею. Но потом я пришла в себя и поняла, что лежу на краю меловой горы. Я не могла сдвинуться с места и лежала так, пока не заметила два автомобиля. Первый, который подъехал к дому, был хорошо виден со скалы, второй остановился у каменоломни. Я звала на помощь, но ветер заглушал мой голос. Вы можете представить себе мое отчаяние, когда автомобили уехали и я опять осталась одна во мраке.
Эльфа вздрогнула, вспомнив о пережитом.
– И вы никого не заметили? Бродягу или иного подозрительного субъекта? – расспрашивал Сюпер.
– Нет. Я молча лежала и смотрела на дом. Часа через два к нему подъехала карета. В отчаянии я попыталась слезть с обрыва, но мне это не удалось, я скользила все дальше и дальше… Это было ужасно. Но все оказалось не так уж плохо, как я думала вначале. Я очутилась внизу, в нескольких метрах от дома, не получив никаких ранений. Сама не помню, как я оказалась у дверей.
Сюпер еще раз прочел телеграмму и почесал лоб.
– Вы нужны мне как свидетельница по очень важному делу, – заявил он.
– А где мисс Шоу? – повторила девушка.
Она прочла ответ в глазах Сюпера и побледнела.
– Она… она… умерла?
– Да, ее застрелили здесь, в этой кухне. Успокойтесь, мисс Лейдж, вы будете ценной свидетельницей, ведь вы всю ночь пролежали на скалах и наблюдали за домом. Не подъезжал ли сюда еще один автомобиль, кроме тех двух, о которых вы говорили?
– Нет, я в этом уверена.
– Вы не заметили кого-нибудь на улице?
– Трудно сказать, ведь было темно…
Сюпер казался обескураженным.
– Гм… Все зависит от начальства. Если оно поручит расследование мне, то я раскрою преступление. Если же дело будет поручено одному из этих теоретиков, убийца останется безнаказанным. Теперь я знаю местность как свои пять пальцев…
Джим Ферраби было известно: полномочия Скотленд-Ярда распространялись только на Лондон и вопрос о привлечении детектива Сюпера к расследованию убийства мисс Шоу зависит от местной полиции Паузея. Но здешние полицейские обратятся за помощью к Скотленд-Ярду только в случае, если сами не смогут успешно провести расследование…
Эльфа сидела молча, подавленная страшной новостью: мисс Шоу убита! Это было невероятно.
– Когда ваше платье высохнет, мисс Лейдж, мистер Ферраби отвезет вас домой, – сказал Сюпер. – Кажется, больше вы не сможете сообщить нам ничего важного.
– Больше я ничего не знаю, – прошептала она. – Ах, как ужасно, как ужасно!
– Скажите, мисс, это вы напечатали текст на машинке? – спросил Сюпер и показал конверт, найденный возле тела убитой.
– Нет, не я. Текст напечатан не на моей машинке. Кажется, у мисс Шоу была старая пишущая машинка. Однажды она спросила, не знаю ли я какое-нибудь руководство, которое поможет ей научиться печатать.
Уже совсем рассвело и дождь прекратился, когда Сюпер и Джим вышли из дома и направились к скалам.
– Видите, Леттимер был прав: в скалах полно пещер, – сказал Сюпер, указав на зловещие черные провалы, видневшиеся между меловыми горами. – Я попрошу начальника местной полиции обследовать нижние пещеры.
Выйдя на улицу, они увидели автомобиль Джима. За рулем сидел Леттимер.
– Я нашел кое-что интересное, господин старший инспектор! – крикнул, подъехав, сержант. – Вот, посмотрите!
И он вынул из кармана миниатюрный кожаный мешочек, висевший на золотой цепочке.
– Я обнаружил это рядом с автомобилем, когда рассвело, – пояснил сержант и передал находку Сюперу.
Тот открыл мешочек и вынул оттуда золотое кольцо.
– Похоже на обручальное, – заметил инспектор. – А свидетельства о браке вы не нашли?
– Нет. Никаких документов там не было.
– Занятно! Новое обручальное кольцо, – пробормотал Сюпер, осматривая находку со всех сторон. – Интересно, носила ли она его. По-видимому, нет. Во всяком случае, человек, надевший ей на руку это кольцо, знает об убийстве больше, чем мы.
Они прогуливались по набережной. Прилив усиливался. Небо заволокло тучами.
– Здесь действительно довольно мрачно, – согласился Сюпер. – Вчера я говорил, что не прочь поселиться тут, когда выйду в отставку, но это вряд ли…
Далеко в море виднелся пароходный дымок. У набережной мелькали красные парусники рыбаков, причалившие к бухте Паузея.
За домом мистера Кардью был маленький садик с поломанным забором. Ворота валялись на траве. Там, где хозяин когда-то пытался разбить цветочные клумбы, теперь пышно росли сорняки.
– И все-таки эта местность не так уж плоха для любителя морских купаний, – подумав, упрямо сказал Сюпер.
Они направились к воротам.
– Проклятье! – неожиданно воскликнул инспектор.
Он заметил на песке след, наполовину размытый дождем, но все же довольно отчетливый. То был отпечаток чьей-то большой босой ноги.
– Христофор Колумб! – произнес Сюпер, как зачарованный глядя на отпечаток.
Он бросился по следам вниз к морю и медленно пошел вдоль берега. Следы вели к дому.
– «Большая Нога»! – выдохнул инспектор.
– Что? «Большая Нога»? – повторил Джим.
Следы вдруг затерялись, и Сюпер со спутником направились к воде. В небольшой песчаной рытвине, образованной прибоем, следы появились снова. Сюпер взглянул на Джима и спросил:
– Ну, что скажете?
– Признаюсь, пока сказать нечего, – пожал плечами тот.
– Сержант, поезжайте в город за инструментами! – приказал Сюпер.
Леттимер вернулся из города с материалом для изготовления слепка. Работа продолжалась около часа.
Они даже не заметили, что все это время за ними следил смуглый мужчина с окладистой бородой. Он сидел у входа в одну из пещер, среди меловых скал. Странный мужчина блуждающим взором смотрел на сыщиков, мурлыча себе под нос песню о королевском городе Гранаде.
Джим Ферраби изнемогал от усталости, сидя за рулем автомобиля, мчащегося по направлению к Паузею. Бессонная, полная тревог ночь, однако, нисколько не отразилась на Сюпере, который сидел рядом с Джимом и не умолкал ни на минуту. Инспектор был бодр, и Джим удивлялся его выдержке и свежему виду.
– Нужны годы, чтобы сделаться хорошим детективом, – рассуждал Сюпер. – Возьмем, к примеру, Леттимера. Можно допустить, что он отлично знает свое дело, хотя это и не так. Эти молодые слишком полагаются на психологию и дедукцию и не умеют наблюдать. Что с вами, вы устали?
– Ужасно устал, – признался Джим.
– А вы вообразите себе, что напротив, бодры, – посоветовал Сюпер. – Представьте, что танцуете со своей избранницей…
…Фешенебельные кафе и красивые домики Паузея купались в ярком солнечном свете. Желтое взморье было переполнено отдыхающими, а по тротуарам шли толпы оживленных ярко одетых людей.
Джим остановил машину у «Гранд-отеля». Портье в блестящей ливрее бросился к автомобилю, чтобы помочь Сюперу выйти, и отвел прибывших в номер мистера Кардью.
Кардью еще лежал в постели, но уже не спал.
– У вас есть новости? – спросил он у Сюпера, едва тот успел войти.
Инспектор рассказал об обручальном кольце, и Кардью сел на кровати.
– Что? Дженни была замужем? Это невозможно! – воскликнул он. – Вздор! Я знаю точно: она никогда не сочеталась браком!
– Откуда вам это известно, мистер Кардью?
Бледное лицо адвоката исказилось. Прошло несколько минут, прежде чем он успокоился и заговорил.
– Я уже давно являюсь поверенным мисс Шоу, она ничего от меня не скрывала. То, что она испытывала к кому-то симпатию, еще не значит, что она сочеталась с ним браком. Дженни не могла выйти замуж без моего разрешения.
– Но почему? – спросил изумленный Сюпер.
– Умирая, моя жена назначила ей значительную годовую ренту с условием, что Дженни не выйдет замуж без моего разрешения. Моя бедная покойная супруга не могла допустить, чтобы я остался один, без хозяйки в доме.
– А насколько велика была ежегодная рента?
– Двести фунтов. Для Дженни это была значительная сумма, и она осталась служить в моем доме. Она ничего не скрывала от меня, за исключением… одной тайны. Три года назад Дженни передала мне на хранение большой запечатанный конверт. Я, конечно, спросил, что за документы в нем лежат, но она резко ответила, что это ее личное дело и я не смею об этом спрашивать. Я не хотел вмешиваться в ее жизнь, и без того довольно тяжелую. Как я уже говорил, моя покойная жена взяла Дженни из сиротского приюта и ее происхождение было окутано тайной. Я знал, что Дженни пыталась узнать хоть что-то о своих родных. Полагаю, конверт содержит документы, которые могут пролить свет…
– Да, все это интересно, – сказал Сюпер, – и я должен увидеть конверт. Где он?
– В моем бюро на Кинг-Бенг-Уолк, – ответил Кардью. – Если вы туда поедете, то найдете конверт в маленьком японском полированном ящике, на крышке которого выгравированы буквы «Д. Ш». Там еще лежит, если не ошибаюсь, нотариально заверенная копия завещания моей супруги, письма директора сиротского приюта, метрическое свидетельство Дженни и другие документы.
Кардью вынул из кармана своих брюк, лежавших рядом с ним на стуле, связку ключей и передал ее Сюперу.
– Вот ключи от бюро… Вы не узнали ничего нового?
– Нет. Как мисс Шоу попала в дом, который Леттимер охранял у самого порога, остается для меня загадкой, граничащей с чудом. До сих пор ни одно убийство не происходило при столь загадочных обстоятельствах.
– Леттимер все время был возле дома? – быстро спросил Кардью.
– Да, – твердо ответил Сюпер.
– У меня есть своя теория на этот счет, но я не хочу пока говорить о ней, – многозначительно произнес адвокат.
Увидев, как тонкая улыбка скользнула по губам Сюпера, он раздраженно добавил:
– Вы, конечно, не доверяете моим теориям, но как убийца улизнул из кухни, я знаю точно…
– Так изложите же свою версию, – холодно предложил Сюпер.
– Дженни и убийца вошли в кухню. Один из них запер дверь снаружи, то есть он или она…
– Правильно, – кивнул Сюпер.
– Он убил ее, и она упала прямо у двери. Убийце не хватило мужества поднять тело, и он решил бежать через маленькое окошко в стене. Очутившись в столовой, убийца должен был закрыть ставень, снабженный пружинным замком…
Сюпер хлопнул себя по колену и вскричал:
– Ну, конечно же, так оно и было! Ведь ставень автоматически закрывается без ключа. Вы выдвинули превосходную теорию, и я нисколько не удивлюсь, если она окажется верной. Однако каким путем убийца проник в дом и как ему удалось выбраться оттуда незаметно для Леттимера?
– Но ведь есть дверь черного хода…
– Она была заперта на засов, – возразил Сюпер. – Все окна снабжены подвижными ставнями и железными стержнями. Если убийца вышел через заднюю дверь, то как ему удалось запереть ее изнутри? Нет, мистер Кардью, это неверный вывод.
– Допустим, вы правы, – не сдавался Кардью. – Признаюсь, я сам пока не вполне уверен в своей теории. Возможно, я еще сообщу вам о гипотезе, которая убедит вас, господин инспектор.
Когда Сюпер и Джим спустились по лестнице, инспектор сказал:
– Гипотеза? Ого! Это нечто новенькое для меня! Когда эти образованные субъекты начинают переходить на латынь, я теряю голову. Но адвокат верно описал, как убийца вышел из кухни. Я от него такого не ожидал. Я думал, он станет излагать теории о подземных ходах, потайных дверях, похожих на шкафы, которые при нажатии пружины открывают выход на лестницу, ведущую в пещеру…
– Минтер, вы наверняка увлекаетесь бульварными романами, – весело заметил Джим.
– Нет, я читаю только газеты.
Джим больше не чувствовал усталости. Он сел за руль, и они поехали в Лондон. Общество Сюпера действовало на Ферраби благотворно.
Через некоторое время забрызганный грязью автомобиль остановился у Кинг-Бенг-Уолк. Джим, хорошо знавший здание, повел инспектора по лестнице к большой входной двери. В Кинг-Бенг-Уолк каждое бюро снабжено двойными дверьми. Когда наружная дверь закрыта, это признак того, что владелец не желает принимать посетителей. В приемные часы дверь обычно открыта. Через внутреннюю дверь можно войти независимо от того, открыта она или закрыта. Когда Сюпер вставил ключ в замок, он почувствовал, что наружная дверь поддалась: она была не заперта.
– Дверь не закрыта, – сказал Сюпер.
Они вошли в узкий проход. Справа была комнатка мисс Лейдж. Дверь в нее была заперта. А вот дверь в кабинет мистера Кардью была распахнута настежь.
– Кажется, мы опоздали, – сказал Сюпер, осмотрев комнату.
Ящики лежали на полу, их содержимое было всюду разбросано. Стол мистера Кардью был выпотрошен, выдвижные ящики вскрыты…
– Кто-то опередил нас! – воскликнул Джим, указывая на ящики. – Вот коробка с инициалами «Д. Ш»… Она пуста!
– Да, черт возьми, – буркнул Сюпер, – мы опоздали!
Он медленно осмотрелся. Его взор упал на каминную решетку с обгорелыми бумагами и пеплом. Многие листы были полностью сожжены. Сюпер собрал остатки бумаг и исследовал их. Но ни конверта, ни каких-либо документов, которые могли бы пролить свет на смерть мисс Шоу, он не нашел.
Инспектор взял в руки коробку с инициалами «Д. Ш.» и поставил ее на стол.
– Коробка не повреждена, ее открыли ключом, – заметил он.
Потом Сюпер снова метнулся к камину и тщательно осмотрел пепел. Через десять минут он поднялся с запыленными коленями. Затем снова нагнулся, исследуя пол. В руках у него была спичка.
– Можно, конечно, узнать, кто изготовил эту спичку и сколько людей пользуется такими спичками, – заметил он угрюмо, – но все, что я могу сказать сейчас – это что бумаги были подожжены с помощью спички.
Сюпер потянул за шнур на оконной шторе. Когда штора поднялась, на пол упал листок бумаги. Сюпер поднял его и увидел, что это квитанция на незначительную сумму.
– Очевидно, в ветреный день этот клочок бумаги был прижат к шторе, когда та была опущена, – произнес он задумчиво. – Нужно сообщить обо всем полиции и поговорить в спокойной обстановке с мистером Кардью. Он очень нервничает и потрясен убийством мисс Шоу. Конечно, он будет поражен, узнав о взломе в его бюро и о похищении важных документов. Для адвоката большой удар потерять документы.
Джим отвез Сюпера в Скотленд-Ярд и вернулся домой. Он был рад, что может наконец раздеться и поспать.
Только после захода солнца он проснулся. Его первая мысль была об Эльфе. Джим не решился звонить ей по телефону и поехал в таксомоторе на Кубит-стрит. Ему посчастливилось встретить Эльфу в тот момент, когда она спускалась по лестнице.
– Вы видели мистера Минтера? – спросила она. – Он только что вышел из моей квартиры.
– Он, наверное, вообще никогда не спит, наш неутомимый детектив, – сказал Джим. – Он уже рассказал вам о взломе в бюро Кардью?
– Да, мистер Минтер пришел ко мне после обеда и сообщил обо всем, – сказала Эльфа, идя рядом с Джимом. – Взломщики не тронули мою комнату, потому что дверь в нее была заперта. А вы знаете что-нибудь о «Большой Ноге»? – неожиданно спросила она.
Джим был удивлен тем, что Сюпер рассказал Эльфе о таинственной «Большой Ноге», хотя и скрывал это от Кардью.
– Мистер Минтер хотел узнать, не знакомо ли мне это прозвище, – объяснила Эльфа. – Но я никогда о нем не слышала. Что все это значит, мистер Ферраби?
Джим рассказал ей все, что знал.
– Все это так таинственно! Я не могу поверить, что мисс Шоу мертва. Как это ужасно! – повторяла Эльфа.
Они направились в Холбурн. Джиму хотелось бы узнать, зачем девушка вышла вечером из дома. На углу Кингсвей Эльфа приостановилась.
– Я должна доверить вам маленький секрет, – сказала она с легкой улыбкой. – Дело идет о столь ничтожной тайне, что мне, собственно, не следовало бы и просить у вас помощи.
– Чем меньше тайна, тем более полезным я могу быть, – возразил Джим с интересом.
– Речь идет о моем квартиранте, – объяснила девушка. – Вы удивлены, не правда ли? От отца мне достался дом, в котором мы жили. Это небольшое здание, но оно все же слишком велико для меня. Поэтому я сдала дом одному господину. Доход, несмотря на его незначительность, все-таки важен для меня. Но в последнее время мой бедный жилец стал очень уж нервным из-за яиц и намерен переехать в другое место.
– Из-за яиц? – с изумлением спросил Джим.
– Не удивляйтесь, мистер Ферраби, именно из-за яиц, картофеля, а иногда и капусты. Но главным образом из-за яиц…
– Я вас не понимаю, мисс Лейдж!
– Слушайте дальше. Мистер Леттимер вначале принял это за шутку, но потом…
– Мистер Леттимер? – перебил ее Джим. – Он родственник бравого сержанта?
– Это его дядя. Я только сегодня из уст сержанта узнала, что Болдервод Леттимер – богатый торговец продовольственными продуктами и холостяк. Кажется, он не разговаривает с племянником. Во всяком случае, между ними натянутые отношения, поскольку сержант сказал мне, что он никогда не был у дяди на Эдуард-сквер. Дядя сердит на племянника, из-за того что тот поступил на службу в полицию. Племянник, считает дядя, роняет этим достоинство семьи.
– Но, пожалуй, расскажите мне историю о яйцах.
– И о картофеле, – добавила Эльфа. – Это звучит как шутка, и я сочла всю историю абсурдной, когда услышала ее впервые. С тех пор как Болдервод Леттимер поселился в моем доме на Эдуард-сквер, сто семьдесят восемь, на пороге каждое утро появляются яйца, иногда красная редька, цветная капуста и прочие овощи. Одним словом, странные «подарки». Часто Леттимер находит дюжину картофелин, завернутых в грязную бумагу. Летом дары сопровождаются букетом цветов. В пятницу утром слуга мистера Леттимера открыл дверь и нашел спаржу и целый куст сирени. Таинственные регулярные подарки действуют моему квартиранту на нервы. Это продолжается уже довольно долго, чтобы считать это шуткой или чьей-то глупой выходкой. Я очень рада, что вы пришли. Может, вы разрешите эту загадку?
Болдервод Леттимер вышел навстречу посетителям. Он был маленького роста, коренастый, лысый, с красным лицом. Джиму показалось, что перед ним – церковный служка, любитель красного портвейна.
– Очень рад видеть вас, мисс Лейдж, – сказал мистер Леттимер, вежливо поклонившись Джиму. – Вы получили мое письмо? Мне жаль, что я вас побеспокоил, но все это действительно стало для меня невыносимым.
Они вошли в комнату, обставленную довольно старомодно. Ковры с пестрым рисунком не гармонировали с мебелью, обитой плюшем.
– Я уже хотел было обратиться в полицию, – сказал мистер Леттимер. – До сих пор я принимал эти знаки внимания за шутку, а иногда и за благодарность со стороны какого-то человека, которому я, возможно, оказал когда-то услугу.
Мистер Леттимер говорил с очень важным видом. Желая подчеркнуть то или иное слово, он размахивал своим пенсне, которое держал в руках.
– Теперь я пришел к выводу, что нужно предпринять решительные меры. Это регулярное подбрасывание к дверям моего жилища разных овощей – просто подлое оскорбление человека, которому желают напомнить о том, что он торговец. Человек, которому везет, всегда имеет врагов. Некоторые люди, которых я не хочу называть, очень злы из-за того, что я избран гласным в Кенсингтонскую думу. Так вот, торжественно заявляю: я всего лишь коммерсант и никто более. Ничего предосудительного в торговле нет, и незачем меня оскорблять!
– Разрешите представить вам мистера Ферраби из государственной прокуратуры, – решилась прервать этот словесный поток Эльфа.
– Очень приятно… мистер Болдервод Леттимер, член думы Кенсингтона… и коммерсант.
– Когда именно неизвестный субъект кладет на лестницу продукты? – спросил Джим.
– Между полуночью и тремя часами утра. Я дежурил по ночам, чтобы поймать негодяя на месте преступления и потребовать от него объяснений, но ничего не вышло.
– Мне кажется, оскорбление все же довольно невинное, – заметил Джим, улыбаясь. – Вы получаете продукты, которые нужно покупать на рынке за деньги…
– Да, но эти продукты могут быть отравлены! – холодно возразил Болдервод. – Я уже послал часть овощей в государственный институт для химического исследования. Правда, никаких признаков яда там обнаружено не было, но не исключено, что это – хитрая уловка, дабы усыпить мою бдительность.
– Не верю, чтобы кто-то хотел причинить вам зло, – не сдавался Джим. – Вы уже сообщили об этом в полицию?
– Официально я еще не жаловался в полицию. Я только говорил с двумя дежурными полицейскими, рассказал им суть дела. Просил их поймать злоумышленника частным порядком.
– Не лучше ли было поговорить об этом с вашим племянником, сержантом Леттимером? – спросил гость.
Болдервод нахмурил брови.
– Мы с ним в натянутых отношениях и почти не встречаемся. Когда он был еще юношей, я предложил ему стать коммерсантом. И, представьте, племянник отклонил мое предложение и поступил на службу в полицию. Конечно, полицейские нужны, без них плохо, но это еще не значит, что мой племянник должен был избрать для себя такую карьеру.
– Но это почетно, – заметил Джим.
Мистер Леттимер пожал плечами.
– Не думаю, что обращусь за советом к племяннику, – продолжал он упрямо. – Я потому пригласил мисс Лейдж, чтобы она разрешила эту загадку. Ведь вы, мисс Лейдж, несколько лет прожили в этом доме.
Болдервод Леттимер вопросительно взглянул на девушку, но та покачала головой.
– Я могу лишь посоветовать вам заявить о случившемся в полицию, – сказала она.
– Получаете ли вы продукты в больших количествах? – поинтересовался Джим.
– Нет, обычно я получаю столько, сколько человек может унести в карманах. Большой букет сирени был необычным подарком. Я как-то читал, что преступные банды делают таинственные предупреждения своим предполагаемым жертвам. Вы, мистер Ферраби, как человек опытный, как юрист, знаете: и в данном случае не исключено, что это действует шайка преступников…
Джим с трудом удержался от смеха.
– Нет, не думаю, чтобы здесь были замешаны преступники. Но лучше все же обратиться в полицию…
Мистер Леттимер презрительно усмехнулся.
– Я хорошо себя чувствую в этом доме и не хотел бы переезжать. Мисс Лейдж знает, что я неоднократно предлагал ей продать мне этот дом. Но в последнее время я думаю, что лучше мне переселиться в другое место.
– Однако это не самый разумный выход из положения, – смеясь, заметил Джим. – Это все равно что человек решает сжечь дом, чтобы поджарить жаркое. Не сопровождаются ли подарки иногда и записками?
– Нет, никогда. Правда, тот букет сирени был завернут в бумагу, на которой было написано карандашом несколько слов. Но я не смог сделать из этого никакого вывода и найти ключ к разгадке.
– Сохранилась ли эта бумага? – спросил Джим, которого неожиданно заинтересовала эта деталь.
– Посмотрю. Может быть, и сохранилась…
Мистер Леттимер вышел и долго не возвращался.
– Вы думаете, кто-то действительно шутит над ним? – спросила Эльфа.
– Похоже на шутку. Но это продолжается слишком долго…
Леттимер вернулся в комнату и сообщил, что «ключ к разгадке» употреблен для разведения огня.
Беседа подошла к концу. Джим и Эльфа сели в автомобиль. Джим хранил молчание, и это беспокоило девушку.
– Скажите, вы думаете, что за историей с продуктами таится нечто ужасное? – не выдержала она.
Джим очнулся от дум.
– Ужасное? – переспросил он. – Нет, вряд ли. Но история очень странная…
Сюпер обладал качеством истинного профессионала: он мог спать в любом месте и в любое время. Полчаса сна в вагоне или час-другой на стуле в участке было для него достаточно, чтобы чувствовать себя бодрым и свежим.
Церковные колокола звонили к вечерне, когда Сюпер разговаривал с сержантом Леттимером, который с усталым видом слушал его.
– Я только что беседовал по телефону с мистером Ферраби, и он сообщил, что кто-то заваливает вашего дядю овощами, яйцами и букетами сирени… Готов побиться об заклад, что ваш дядя впервые получил цветы.
– Надеюсь, выстрелы попадут в цель, – сердито сказал Леттимер. – Мой дядя – ханжа. Он высокомерен, как герцог, и бесчувствен, как печка.
– Но он милый старикан, – возразил Сюпер. – Ах да, забыл вам сказать: Эльсон вернулся, – спохватился инспектор. – Эльсон приехал в Хиль-Броу в пять пятьдесят три. Его автомобиль был забрызган грязью, а один из рефлекторов и предохранительное крыло повреждены.
Наступила пауза. Сюпер продолжил:
– Лучше мне самому им заняться. На молодежь нельзя положиться…
Он вздохнул и поднялся со стула.
– Я еду в Хиль-Броу. Вы останетесь здесь, чтобы принимать сведения из Паузея. Мне официально поручено заняться расследованием убийства мисс Шоу. Два часа назад комиссар Скотленд-Ярда сообщил мне об этом по телефону. Передайте инспектору криминальной полиции Паузея, чтобы он не вмешивался…
Сюпер укатил на своем старом мотоциклете в Хиль-Броу. Грохот его «адской машины» веселил детей, игравших на тихих улочках, и нарушал болтовню служанок у ворот.
Инспектор был изумлен, когда слуга Эльсона открыл ему дверь и сказал:
– Мистер Эльсон ждет вас. Соблаговолите пройти в его кабинет.
Поднявшись по широкой дубовой лестнице, Сюпер в сопровождении слуги прошел по коридору, устланному красными коврами.
Кабинет Эльсона находился в конце коридора. Из его окна были видны окрестности Хиль-Броу и улица.
Эльсон с хмурым видом полулежал в кресле. Его небритое лицо было еще более неприятным, чем обычно. Пластырь тянулся от виска к подбородку. Когда Сюпер вошел, Эльсон держал в руке большой стакан с виски.
– Подойдите поближе, мистер Минтер, – слабым голосом позвал американец. – Я хочу поговорить с вами. Что произошло с мисс Шоу? Она убита? Я читал об этом в утренней газете…
– Если вы читали об этом в утренней газете, то хотел бы я увидеть репортера, который описал это убийство, – невозмутимо заявил Сюпер. – Мы нашли тело мисс Шоу только сегодня на рассвете…
– Но я где-то читал об убийстве… А может быть, только слышал, – сказал Эльсон, указав дрожащей рукой на стул. – Присядьте, выпейте стакан виски.
– Я с рождения трезвенник, – заявил Сюпер, удобно усевшись на стул. – Так от кого же, позвольте узнать, вы услышали об убийстве?
– Право, не знаю, – пробормотал Эльсон. – По-моему, я все же читал об этом в лондонской газете. Но почему вы спрашиваете? – добавил он.
– Вы ведь почти не знали мисс Шоу… – начал Сюпер.
– Я видел ее в доме мистера Кардью… и только, – отрезал Эльсон.
– Ну, предположим, это не совсем так. Дженни бывала у вас в гостях, – заметил Сюпер. – Экономки любят посещать соседей, чтобы попросить у них кое-что из недостающей посуды…
– Ну, допустим, – согласился Эльсон. – Но откуда, собственно, вам это известно?
– Я видел своими глазами, как мисс Шоу выходила из дверей вашего дома, – пояснил Сюпер.
Эльсон подозрительно посмотрел на него.
– Она пришла сюда, чтобы спросить… – Эльсон сделал паузу. – Чтобы спросить… Она пришла только один раз, чтобы обсудить одну коммерческую сделку. Если кто-то из слуг сплетничал, будто она была здесь несколько раз, он попросту лжет.
– Я не разговаривал со слугами, – оскорбился Сюпер. – Я никогда не расспрашиваю слуг о делах их хозяев. Итак, мисс Шоу была у вас. Вы говорили о какой-то сделке. Что это за сделка?
– Частное дело, – пробормотал Эльсон, выпив одним духом остаток виски в стакане. – Так где же она была убита?
– В Паузее. Мисс Шоу хотела провести там уик-энд… и умерла.
– Каким образом?
– Она была застрелена.
– В доме?
– Да, в доме мистера Кардью… это что-то вроде летней виллы. Вы знаете этот дом?
Эльсон провел языком по сухим губам.
– Да, знаю, – ответил он.
Вдруг он, к вящему изумлению Сюпера, вскочил на ноги и, сжав кулаки, прислонился к окну.
– Проклятье! Если бы я только знал…
Но поймав направленный на него взгляд старшего инспектора, Эльсон запнулся.
– Готов держать пари, что дело приняло бы иной оборот, если бы вы об этом знали, – глухо пробормотал он.
– Если бы знал о чем?
– Ни о чем, – отрезал Эльсон. – Посмотрите на мои руки… они дрожат… Ах, черт побери! Я совсем раздавлен… Убита, застрелена. Как бешеная собака… застрелена!
Он стал ходить по комнате взад-вперед, ломая руки.
– Если бы я знал!.. – хрипло крикнул он.
– Где вы были прошлой ночью? – спросил Сюпер.
– Я? – Эльсон обернулся к инспектору. – Я? Насколько помню, я был пьян. Это иногда со мной случается. Я где-то спал… кажется, в Оксфорде: по улицам шагали сотни студентов в мундирах и со шпагами. Да, это было в Оксфорде!
– Зачем вы туда поехали?
– Не знаю… Взял да и поехал на поезде… Я должен был куда-нибудь уйти… Ах, боже, как я ненавижу эту страну! Я отдал бы руку и треть своего состояния, лишь бы опять оказаться в Сент-Поле.
– Почему же вы не вернетесь туда?
Эльсон зло взглянул на Сюпера.
– Потому что не хочу! – бросил он.
Инспектор подкрутил усы.
– В каком отеле Оксфорда вы провели ночь?
– Что вы, собственно, от меня хотите? – спросил Эльсон. – Неужели вы думаете, я знаю что-нибудь об убийстве мисс Шоу? Говорю вам, я был в Оксфорде или… в Кембридже. Я ехал по степи. Там какой-то ипподром… Мэркт, что ли…
– Нью-Мэркт, – уточнил Сюпер. – Итак, вы были в Кембридже?
– Пусть будет Кембридж.
– Значит, вы поселились в большом шикарном отеле и сняли номер на свое имя? Не правда ли, мистер Эльсон?
– Возможно, что я так и поступил… – огрызнулся Эльсон, – не могу вспомнить. Скажите же наконец, как была убита мисс Шоу? Кто нашел ее?
– Ее нашли я, мистер Кардью и сержант Леттимер, – сказал Сюпер.
Лицо Эльсона исказилось.
– Она была уже мертва, когда…
Сюпер кивнул. Эльсон опять зашагал по комнате.
– Я ничего не знаю об убийстве, – уже спокойнее сказал он. – Я, конечно, встречался с мисс Шоу. Она пришла ко мне за советом, и я дал ей совет, какой мне подсказала моя совесть. Какой-то мужчина хотел на ней жениться. Хотя скорее это она хотела выйти за него замуж. Я не знаю, кто он, но полагаю, что мисс Шоу познакомилась с ним во время автомобильной прогулки.
– Вот как? – Сюпер сделал вид, будто рассказ Эльсона очень заинтересовал его. – Во время автомобильной прогулки? Я как раз выдвигал по поводу убийства много теорий и почему-то сразу предположил, что мисс Шоу познакомилась с мужчиной во время прогулки.
– Значит, вы кое-что об этом знаете? – спросил Эльсон.
– Очень мало. Кстати, мистер Эльсон, у вас очень красивый сад. Почти такой же, как у мистера Кардью.
Американец, обрадовавшись тому, что неприятная беседа закончилась, поспешил к окну.
– Да, сад действительно хорош, – заметил он, – но горожане приходят сюда и воруют цветы. Недавно один субъект нарвал огромный букет сирени.
Эльсон указал на куст, но Сюпер даже не посмотрел в этом направлении: его мозг усиленно работал.
– Букет сирени? – пробормотал он. – Странно!
Когда Сюпер удалился, Эльсон пошел в гардеробную, снял дорожный костюм, побрился и принял горячую ванну. Он немного перекусил (обычно он любил плотно поесть) и спустился в сад. Эльсон шагал взад-вперед, засунув руки в карманы.
В половине десятого он подошел к калитке, остановился и прислушался. Раздался тихий стук. Эльсон отодвинул засов и открыл зеленую калитку. Вошел сержант Леттимер.
– Что вы там, черт возьми, наговорили Сюперу? Что вы рассказали ему о букете сирени? – раздраженно спросил Леттимер, когда Эльсон запер калитку.
– Ах, оставьте меня в покое! – пробормотал американец. – Пойдемте наверх, я налью вам виски. Не бойтесь, слуги вас не заметят.
Приезд начальника лондонской полиции в канцелярию прокуратуры был сюрпризом для Джима Ферраби. Ему выпала честь принимать высокого гостя. Обер-прокурор болел, а его помощник уехал в Эрфорд на заседание суда, так что Джим их замещал.
Сюпер часто упоминал имя начальника полиции Ленгли со снисходительной улыбкой, называя его «длинноносым начальником». Ленгли же редко вспоминал о Минтере, но если уж ему приходилось говорить об инспекторе, то он непременно восхищался его талантом. Итак, конфликт между Скотленд-Ярдом и Сюпером существовал только в воображении самого Сюпера.
– Сюперу чертовски везет, – заявил, усаживаясь, Ленгли. – К тому же он талантлив. Когда он попросил меня перевести его на первый участок, я подумал, что он рехнулся.
– Но он говорил, что его насильно перевели на этот участок, – заметил Джим.
– Сюпер лжет, – спокойно констатировал Ленгли. – С какой стати мы стали бы лишаться первоклассного сыщика? Он сам ушел от нас. Конечно, мы были отчасти рады, когда он получил перевод: работать с Сюпером – не мед. Очень уж тяжелый у него характер. Но ушел он сам, забрав с собой Леттимера… А теперь, Ферраби, поговорим об убийстве мисс Шоу. Сюпер сообщил, что вы тоже были в Паузее после убийства. Вчера у нас в Скотленд-Ярде состоялось заседание, и мы были поражены результатом следствия. Отпечатки большой ноги, фотографии и оттиски, которые доставил нам Сюпер, – это, правда, еще не доказательства. Но это уже немало. Дом был закрыт, когда вы прибыли в Паузей в полночь, а Леттимер несколько часов стоял на посту. На дверях висел замок, что подтверждают Сюпер и Леттимер. Дверь черного хода заперта изнутри, окна наглухо закрыты, шторы опущены. Пробраться в дом через окно невозможно. Камин слишком узок, чтобы нормальный человек мог им воспользоваться как лазом.
В полночь мисс Шоу приехала на старом «форде», отперла висячий замок, открыла дверь и вошла. Сюпер в это время попытался открыть дверь, но оказалось, что она заперта. Через пятнадцать минут мисс Шоу вышла из дома, закрыла дверь и уехала… Здесь, Ферраби, я хочу обратить ваше внимание на один факт. Если предположить, что мисс Шоу днем раньше вошла в дом со спутником, не исключено, что это она заперла дом. Но полиция Паузея имеет неоспоримые доказательства того, что мисс Шоу не было там в течение всего дня и что до прихода Леттимера в доме никто не прятался. Вечером, накануне убийства, полицейский объезжал на велосипеде все уединенные виллы и остановился у Бич-коттеджа. Он осмотрел дверь. Это делается затем, чтобы бродяги не могли свить себе гнездо на заброшенной вилле. Полицейский заметил какого-то типа, карабкавшегося на одну из верхних скал. Он употребил испытанное средство. Как и все полицейские патрульные, он имел при себе деревянные гвозди и черную нитку. Гвозди крепятся к незаметным отверстиям или трещинам в доме, а нить проходит через окна и двери. Только те, кто знаком с этим трюком, могут заметить гвозди. Если нить порвана, значит, что кто-то пытался проникнуть в дом. Вечером того же дня полицейский после захода солнца опять проезжал мимо Бич-коттеджа. Нить была цела, значит, в дом никто не проникал. Леттимер в это время уже стоял на посту.
– Итак, моя версия о том, что убийца спрятался в доме заранее, отпадает, – заметил Джим.
– Безусловно. Но слушайте дальше. Мисс Шоу вышла из дома, выехала на улицу, повернула к холму и исчезла. Автомобиль был найден среди скал, а пальто и шляпа были обнаружены полицейскими на кусте неподалеку от брошенного автомобиля.
– Когда это все нашли?
– Сегодня утром. Мы предполагаем, что мисс Шоу назначила мужчине свидание в этом доме, но вдруг обнаружила, что за ней наблюдают. Она, быть может, заметила ваш автомобиль или вас с Леттимером, когда вы пытались укрыться за скалой. Одним словом, она решила отвлечь ваше внимание, поэтому свернула к скалам, вышла из автомобиля и вернулась к дому по маленькой тропинке. Таких тропинок там видимо-невидимо. Не исключено, что мужчина ждал ее у того места, где она оставила автомобиль, и проводил до дома.
– Но почему мисс Шоу сняла пальто и шляпу? – спросил Джим.
– Пальто и шляпа были светлыми, а платье под пальто – черным. По-видимому, мисс Шоу сняла верхнюю одежду, чтобы не быть замеченной. Это вполне логичное предположение, ведь вещи найдены возле одной из тропинок.
Джим покачал головой.
– Вы забываете, что Леттимер опять вернулся к дому, чтобы следить за ним.
– Я тоже подумал об этом. Но Леттимер сказал, что был отпущен на пост только в Большом Паузее, расположенном на некотором расстоянии от Бич-коттеджа. Иными словами, Леттимер вернулся на свой пост через полчаса. Этого вполне достаточно, чтобы женщина и ее спутник смогли пробраться в дом. Согласен, объяснение довольно простое, но ведь в подобных случаях простые объяснения чаще всего оказываются ближе к истине. Я по телефону высказал свое мнение Сюперу, и хотя он был со мной вежлив, я почувствовал, что он возмущен. Он говорил, что смешно утверждать, будто мисс Шоу успела в течение получаса спуститься со скалы. Конечно, это спорный вопрос! А теперь, Ферраби, мы подошли к загадке «Большой Ноги». Кто скрывается за этим прозвищем? За сутки до убийства Кардью устроил вечеринку, где присутствовали и вы. Сюпер в тот вечер заметил бродягу, стоявшего в тени кустов с револьвером в руке. Позже Сюпер слышал, как этот бродяга пел испанскую песню. После убийства Сюпер опять услышал песню бродяги. Он исполнял ту же песню, что и в роще Баркли-Стек. Этого-то бродягу певца мы и ищем.
– А что думает по этому поводу Сюпер? – осторожно спросил Джим.
– Сюпер? Гм… вы догадываетесь, что мнение Сюпера не совпало с точкой зрения главного полицейского управления. Инспектор работает по собственному методу и идет по другому следу. Вчера вечером он потребовал, чтобы мы навели справки в кембриджской полиции о том, действительно ли Эльсон провел там ночь, когда было совершено убийство. Это удивило нас. Сюпер утверждает, что Эльсон был в дружеских отношениях с убитой… Инспектор, по-видимому, решил действовать на свой страх и риск и послал Леттимера навести справки об Эльсоне. Один из моих агентов сообщил, что видел Леттимера по дороге на Кембриджшир…
Джим был изумлен, когда в полдень на обратном пути из Кембриджа Леттимер заехал к нему. Он решил, что сержант пришел по поручению Сюпера.
– Я слышал, мистер Ферраби, что вам интересно знать, сможет ли мистер Эльсон доказать свое алиби, – сказал Леттимер.
– Разве его подозревали? – с улыбкой спросил Джим.
– Да, подозрение пало на него. Если Сюпер вобьет себе что-нибудь в голову, его трудно переубедить. Эльсона не было дома с субботы после полудня до вечера воскресенья. Он сказал, что пьянствовал всю ночь в одном из отелей Кембриджа, но я нашел владельца гаража, утверждающего, что Эльсон оставил машину у него. Возможно, Эльсон провел ночь в частном доме.
– Но это ненадежное алиби, – сказал Джим.
Леттимер изменился в лице.
– Надеюсь, Сюпер удовлетворится этим. Я не спал с субботы и падаю от усталости. Кажется, Сюпер вообще не спит, он уже с зарей на ногах. Он думает, что я смогу за ним угнаться.
– Что нового в Паузее?
– Вряд ли там будут новости. Нам удалось найти пальто и шляпу убитой. Вещи висели на кусте у самой скалы. Конечно, Сюпер ожидал найти все это в другом месте.
– Где именно? – удивленно спросил Джим.
– Не знаю. Думаю, Сюпер тоже этого не знает.
– Вы надолго отлучались с поста, когда мы высадили вас в Паузее? – спросил Джим.
– Не более чем на пятнадцать минут. Сюпер считает, что мисс Шоу не могла вернуться в дом за это время. А по-моему, она вполне могла успеть это сделать. Возможно, мисс Шоу, как и мисс Лейдж, соскользнула со скалы и потеряла при этом шляпу и пальто.
Но бесполезно доказывать это Сюперу. Когда я сказал ему, что Бич-коттедж находится там, где раньше жили контрабандисты, и не исключено, что под домом есть подземный ход, Сюпер начал так браниться, что я удивился. Он вообще считается только с фактами… И он прав.
– Вот как?!
Джиму хотелось продолжить разговор, но гость, торопливо попрощавшись, вышел.
Мисс Эльфа Лейдж рано лишилась матери, поэтому очень любила своего романтичного и немного беспомощного отца. Во время войны Джон Кеннет Лейдж был офицером и осуществлял связь между английским и американским казначействами. Когда Соединенные Штаты вступили в войну, Джон Лейдж был прикомандирован к армии, и Эльфа не видела отца больше года. Поездки по океану были сопряжены с большой опасностью из-за подводных лодок. Когда Эльфа получила трагическую весть о том, что американский пароход «Ленглан» пошел ко дну и в числе погибших значится ее отец, она была убита горем и не хотела верить в случившееся. Пароход, как гласило сообщение, затонул у южного побережья Англии, подорвавшись на мине. Джон Лейдж возвращался на нем из Вашингтона, где принимал участие в совещании американских финансистов.
Отчаяние Эльфы было огромным, но она мужественно перенесла горе и вынуждена была начать новую жизнь. Она сдала дом на Эдуард-сквер и переехала на Кубит-стрит.
У Эльфы были родственники в Америке, но она предпочла остаться в Лондоне, который был дорог ей благодаря воспоминаниям об отце. Постепенно девушка освоилась со своим положением сироты. На стенах ее маленькой квартиры красовались картины из коллекции отца. Он собирал их с любовью, хотя и не был знатоком живописи. Старое кресло отца стояло на почетном месте у окна, а его сабля висела на стене. Эльфа любовно хранила вещи дорогого покойника.
У мисс Лейдж не было подруг, кроме двух-трех знакомых дам. Она была замкнутой по натуре и не любила принимать гостей. Исключение составил Сюпер. Когда прислуга доложила Эльфе о приходе инспектора, девушка немедленно велела пригласить его. Он вошел с растерянной улыбкой на лице.
– Простите, мисс, я старею, – сказал Сюпер, кладя шляпу на пианино и тяжело дыша. – Раньше я преодолевал три лестничных марша одним махом, а теперь приходится делать остановки на площадках. Да, время дает о себе знать…
Эльфа не знала, зачем пришел Сюпер. По его поведению трудно было понять, что ему нужно. У него была манера говорить преимущественно о мелочах, мимоходом касаясь важных вопросов.
– У вас чудесная комната, мисс Лейдж. Она со вкусом обставлена. Играете ли вы на пианино?
– Да, иногда, – ответила Эльфа.
– Это важно для девушки. Включать граммофон куда легче… Хорошо, что ужасная ночь осталась позади? Вот-вот! Если бы я пролежал ночь на скале под дождем, то мне бы пришел конец. Но вы еще молоды и отделались лишь ревматизмом.
– Слава богу, у меня нет ревматизма.
– Он у вас есть… Но вы заметите это только через двадцать лет…
Сюпер расхаживал по комнате, рассматривая картины и книги.
– Очень милые полотна, но трудно угадать, оригиналы это или копии…
– Это работы великого французского мастера, – с гордостью заметила Эльфа.
– Французы умеют рисовать. Впрочем, это не так уж и трудно. Нужно только правильно накладывать краски на определенные места… Это под силу каждому, кто этому учился… Ого! – воскликнул инспектор. – У вас отличная библиотека! А нет ли у вас чего-нибудь по антропологии или психологии? Чего-нибудь с криминальным уклоном…
– Меня не интересует криминалистика, а это – книги моего отца.
– Вашего отца? Я его знал.
– Вы знали моего отца? – оживилась девушка. – Он был лучшим отцом в мире!
– Приятно слышать, когда дети так хорошо говорят о родителях. Всякий раз, когда они говорят плохо, я радуюсь, что остался холостяком.
– Вы не женаты?
– Нет. У меня был всего один роман. Я познакомился с жизнерадостной вдовой, имевшей троих детей. Я, как вам известно, человек темпераментный, такой же была и вдова. Двум темпераментным людям тесно под одной крышей… К тому же дети оказались довольно подвижными шалунами и требовали, чтобы завтрак им подавали в постель… В общем, я отверг мысль о женитьбе… А был ли мистер Кардью сегодня в бюро? – вдруг спросил Сюпер.
– Нет. Он сообщил мне по телефону, что вернулся в Баркли-Стек. Наверное, сидит в своем кабинете и читает.
– Опять выдвигает версии и делает психологические заключения, – мрачно заметил Сюпер. – Утром я побывал у него. Мистер Кардью сидел за столом, изучал антропологию, социологию, психологию и логику. Перед ним лежал план его виллы, который он измерял циркулем и линейкой. Мистер Кардью высчитал, что от кухонной двери до главного входа девять метров. Я не заметил микроскопа и химических реторт, но, возможно, когда я ушел, он вынул эти приборы из шкафа. Я попросил у мистера Кардью план дома, но он не дал мне его. К тому же я заметил, что адвокат, имея при себе пробу морского песка, высчитал время приливов и высоту скал… Ох-хо-хо! Сегодня вечером мы наверняка узнаем, кто убийца, если уж сам Кардью взялся за работу, – иронически закончил свою тираду Сюпер.
Несмотря на сарказм, звучавший в голосе гостя, мисс Лейдж рассмеялась:
– Вы не являетесь приверженцем теоретических методов…
– Напрасно вы считаете, что я не уважаю науки, – возразил Сюпер. – Я приверженец логики и психологии, мисс Лейдж. Вот пример: дама покупает шляпу в торговом доме Астора на Хай-стрит в Кенсингтоне. Она требует именно эту шляпу, хотя та уже вышла из моды. Не странно ли, когда женщина покупает вышедшую из моды шляпу?
Переход от криминалистики к дамским шляпкам был настолько неожиданным, что Эльфа широко открыла глаза:
– Вы имеете в виду мисс Шоу? Какую же шляпу она купила?
– Большую шляпу из желтой соломки, с вуалью. Она купила ее в субботу вечером. Продавщица честно сказала, что шляпа ей не идет, но мисс Шоу заявила, что шляпа ей нравится и она ее купит. Я не говорил об этом мистеру Кардью, такие новости выводят его из равновесия. Он сделает вывод, что экономка купила шляпу, чтобы поехать на континент, и, чего доброго, еще станет измерять расстояние до Парижа своими циркулем и линейкой.
Сюпер опять начал ходить взад-вперед по комнате и вдруг спросил:
– Получил ли этот мистер… как его зовут… яйца и картофель?
– На Эдуард-сквер? Я больше не говорила с мистером Болдерводом Леттимером.
– Не могу понять, почему он зовет себя Болдерводом. Какое-то сумасшедшее имя… Вы любите цветы, мисс Лейдж?
– Очень люблю, – рассмеялась Эльфа.
– Я обожаю цветы… Фиалки, сирень и колокольчики приводят меня в восхищение. Вам нравится мистер Эльсон? Он ведь тоже американец…
– Да, он американец, но он мне не нравится.
– Ничтожный человек. Он с трудом читает, а писать не умеет вовсе. Он держит секретаршу для корреспонденции.
– Вот как? Это странно!
Эльфа вышла, чтобы распорядиться насчет чая. Когда она вернулась, Сюпер опять стоял у этажерки с книгами.
– Буквы на титульном листе книги – это инициалы вашего отца, мисс Лейдж?
– Да. Джон Кеннет Лейдж…
– Хороший человек… Он так и не нажил себе врагов.
– Да, у него не было врагов. Его все любили.
– Чего нельзя сказать обо мне. Все меня ненавидят, все завидуют моим успехам. Я мог бы заполнить эту книгу именами тех, кто меня не любит.
– Мне кажется, вы несколько преувеличиваете, – заметила Эльфа, наливая инспектору чай.
– Если пока меня еще любят, то скоро я стану одним из самых нелюбимых людей в Скотленд-Ярде, – заявил Сюпер. – Вот увидите, мисс Лейдж, это случится в ближайшие дни.
Выйдя из квартиры мисс Лейдж, Сюпер направился в Скотленд-Ярд. Он провел там два неприятных часа в спорах с начальством, но зато был вознагражден: с необычайным красноречием и жаркой убедительностью он разбил более двадцати версий относительно убийства мисс Шоу. Сюпер сопровождал свои доводы такими едкими замечаниями, что руководство было счастливо, когда дверь за ним захлопнулась.
А Сюпер отправился в кино. Нет, его привлекал не сюжет фильма и не похождения киногероев, а возможность хорошенько выспаться. Инспектор два часа дремал, опустив голову на грудь и подперев ее руками, пока служащий не разбудил его и не попросил уступить место какой-то толстой даме. Сюпер поднялся и вышел в фойе, где выпил чашку кофе и съел кекс. Почувствовав себя свежим и бодрым, инспектор отправился в кафе «Фрегетти».
Хотя «Фрегетти» находилось не в самой фешенебельной части Лондона, но роскошью отделки оно не уступало «Риц-Карлтон-отелю». Кафе «Фрегетти» слыло одним из лучших в Лондоне.
Сюпер сел у столика и стал ждать. Элегантные автомобили то и дело подъезжали к стеклянным дверям кафе, из них выходили одетые с иголочки мужчины и шикарные дамы.
Пробило четверть десятого, когда появились двое господ, которых поджидал Сюпер. Одним из них был мистер Эльсон в смокинге и блестящем цилиндре, другим – Джон Леттимер, сержант первого участка. Инспектор удовлетворенно хмыкнул.
В зале царил приятный полумрак, лампы были под особыми абажурами. Эльсон ненавидел яркое освещение. Он быстро, хотя и не очень уверенно, прошел к столику в конце зала. Сержант был в элегантном вечернем костюме.
– Надеюсь, вы останетесь довольны ужином, – заметил Эльсон. – Вы выглядите свежо и не похожи на усталого человека. А где вы оставили этого старого дурака? – спросил он.
– Вы имеете в виду Сюпера? – спросил Леттимер. Он вынул сигару из золотого портсигара Эльсона и закурил. – Не беспокойтесь о Сюпере, этот не пропадет.
– Если вы думаете, что я беспокоюсь о Сюпере, то жестоко ошибаетесь, – захихикал Эльсон. – Я не уважаю английскую полицию.
– Благодарю вас, – холодно сказал Леттимер.
Американец улыбнулся и позвонил кельнеру. Тот принес заказанные блюда.
– Итак, чего вы хотите? – тихо спросил Эльсон, когда кельнер удалился.
– Мне нужно еще пятьсот, – ответил Леттимер.
– В долларах это немного, но в фунтах – огромная сумма. Я дал вам вчера сто фунтов, что же вы сделали с ними?
– Вы одолжили мне сто фунтов, и я дал вам вексель, – холодно оборвал его сержант. – Вас не касается, как я распорядился деньгами, это мое дело. Теперь мне нужно пятьсот.
Лицо американца потемнело от злости.
– И долго вы намерены вымогать у меня деньги? – поинтересовался он. – Если я отправлюсь к старому ослу и расскажу ему…
– Вы этого не сделаете, – мягко заметил сержант. – Не знаю, почему вы так волнуетесь. Будет лучше, если мы будем жить в мире. Я избавил вас от неприятностей и охотно помогу еще, если это не вы совершили убийство…
– Почему вы заговорили об убийстве? – испугался Эльсон. – Я дам вам пятьсот не потому, что должен, а потому, что сам хочу их вам дать. Мне нечего бояться полиции…
– За исключением полиции Сент-Пола, – перебил его Леттимер, – именно там вас разыскивают по подозрению в грабеже с покушением на убийство. Вы уже дважды отбывали наказание за всякие шалости, и когда войдет в силу закон о выдаче преступников, будет нетрудно опять водворить вас на «старую квартиру», но, – добавил с улыбкой Леттимер, – лично я против вас ничего не имею.
– Вы типичный вымогатель! – взорвался Эльсон.
– А вы дурак! – весело заявил Леттимер. – Видите ли, мистер Эльсон, или мистер Альстейн, как вы прежде назывались, я могу быть вам полезен, поскольку Сюпер…
– Он знает о Сент-Поле? – перебил его Эльсон.
– Даже если знает, у него нет доказательств, чтобы выдать вас Соединенным Штатам… Но, мистер Эльсон, я и так чересчур много вам сказал! Не бойтесь, пока я не захочу, вас не вышлют из Англии. – Леттимер наклонился через столик и произнес, понизив голос: – Эльсон, поговорим о более важном: о Дженни Шоу! Сюпер послал меня в Кембридж, чтобы узнать, действительно ли вы были там в ночь убийства. Я вернулся к нему с сообщением, будто нашел гараж, где стояла ваша машина. На самом деле никакого гаража я не находил и в Кембридже вы не были!
– Откуда я могу знать, где я был? Я был пьян и помню только, что находился где-то рядом с учебным заведением. Это все.
Леттимер испытующе посмотрел в сердитое лицо американца и сказал:
– Выйдем на улицу, Эльсон, вам есть что мне рассказать!
– Мне нечего вам рассказывать, – резко бросил тот. – Если вы все знаете, зачем спрашиваете?
– Кто убил Дженни Шоу? – спросил сержант.
– А вы разве не знаете? Не знаете, где она была в день убийства?
– Откуда мне это знать? – равнодушно протянул Леттимер.
– Ха-ха-ха! Он не знает. Бедный сержант! Разве не вы встретили мисс Шоу на углу после захода солнца? Разве не вы сели в ее автомобиль и не вы совершили с ней прогулку? – спрашивал Эльсон, не сводя с Леттимера глаз. – Я уверен, Сюперу об этом ничего неизвестно!
– Да, неизвестно! – холодно подтвердил сержант.
– Конечно, неизвестно! Вы были хорошо знакомы с Дженни, так что напрасно вы меня расспрашиваете. Она рассказала мне о вас несколько компрометирующих историй. Вы долгие месяцы вели игру с мисс Шоу. И ни Сюпер, ни Кардью этого не знают. Мне известно, что у мисс Шоу было четыреста тысяч долларов, которые потом исчезли. По крайней мере, в утренних газетах сказано, что в комнате экономки денег не найдено. Не знаю, откуда у нее взялись эти деньги, но они у нее были. Где же они теперь?
Сержант не ответил, и Эльсон продолжил:
– Вы, Леттимер, готовы на все ради денег. За неделю до убийства Дженни сказала мне, что вы, дескать, согласны на все, лишь бы получить десять тысяч долларов.
– Закажите еще бутылку вина и поговорим о более приятных вещах! – сказал Леттимер.
Далеко за полночь автомобиль Эльсона медленно подъехал к его дому. Американец вышел из автомобиля и, покачиваясь, добрался до двери. С большим трудом ему удалось открыть парадную дверь и подняться по лестнице.
Войдя в комнату, Эльсон упал на диван и уснул, но твердый воротничок и тесный костюм мешали ему. Он проснулся под утро с головной болью и начал поспешно срывать воротничок. Все лампы горели, и Эльсон потушил их. Воцарился полумрак, лишь слабый свет пробивался через окно. Эльсон снял смокинг и сорочку, налил себе стакан виски с содовой, выпил его одним глотком и почувствовал, что сон прошел.
Утро было довольно теплое. Эльсон раздвинул шторы, открыл окно и начал жадно вдыхать воздух. Вдруг он заметил, что какой-то человек движется возле цветочных клумб, то и дело останавливаясь, чтобы сорвать цветы. В левой руке неизвестного был большой букет.
– Хелло! – крикнул Эльсон. – Вы что тут делаете?
Неизвестный оглянулся, но ничего не ответил.
– Кто вы такой? – грубо спросил Эльсон.
Неизвестный перепрыгнул через тропинку и побежал по цветочным грядкам к воротам.
– Я тебя поймаю, ворюга! – заорал в бешенстве Эльсон.
Вдруг из соседнего сада донеслось пение:
– Мавританский король проезжал по королевскому городу Гранаде. Au mu Alhama!
С минуту Эльсон стоял неподвижно. Его лицо посерело. Дрожа всем телом, он повалился на пол и начал хрипло кричать. Он кричал от страха. Ему показалось, что он услышал голос из потустороннего мира.
Но в тени сада скрывался еще один человек, поджидавший певца. Он бросился за ним вдоль улицы, когда певец пересек ее. Раздался оглушительный треск мотоциклета: Сюпер погнался за ночным певцом. Бродяга заметил его и помчался по полю, надеясь спрятаться в ближайших кустах. Сюпер повернул, с молниеносной быстротой пересек улицу и рванул в сторону поля. Вот он – таинственный певец! Бродяга держал в руках букет. Когда Сюпер был уже рядом с ним и хотел заглушить мотор, неизвестный перепрыгнул через канаву и бросился к ближайшему лугу. Сюпер опять поехал по главной улице, замедлил ход и повернул на широкую тропинку. Он знал, что она идет параллельно лугу. Маневр Сюпера увенчался успехом, и путь бродяге был отрезан. Тот, очевидно, выбился из сил. Когда он опять выбрался на боковую улицу, Сюпер, спрыгнув с мотоциклета, побежал за ним. Догнав, инспектор схватил певца за шиворот и повалил на землю.
– Не бойся, друг! – шепнул Сюпер.
Бородатый бродяга посмотрел на сыщика со странной улыбкой.
– Мне жаль, сэр, что я причинил вам столько хлопот, – сказал он, будто извиняясь. У него был акцент образованного американца, и это не удивило Сюпера.
– Я не устал, – дружелюбно заметил инспектор. – Вы можете встать?
Бродяга неуверенно поднялся на ноги.
– Лучше пойдем со мной на станцию, чтобы подкрепить свои силы завтраком. Вот так-то, живее!
Придерживая мотоциклет, Сюпер зашагал рядом с незнакомцем.
– Если бы вы попали в мои руки раньше, я бы хуже обращался с вами. Я думал, вы плохой человек.
– Я не плохой, – сказал бродяга.
– Не сомневаюсь в этом. Я много размышлял о вас и выдумал целую теорию. Теперь я вижу, что не ошибся. Мне известно, как вас зовут.
– У меня много имен, – заметил, смеясь, певец, – я сам не знаю своего настоящего имени.
– А я знаю, – сказал Сюпер. – Я вычислил ваше имя с помощью логики и дедукции. Вы – Джон Кеннет Лейдж, чиновник по особым поручениям при казначействе Соединенных Штатов!
Мистер Гордон Кардью отодвинул свой компас в сторону, снял пенсне и, открыв рот, смотрел на Сюпера, сообщившего ему сенсационную новость.
– Но я… я думал… Мисс Лейдж сказала, что ее отец погиб во время войны!
– Он жив и сейчас в больнице.
– Я очень рад… чрезвычайно рад! Я часто читал о подобных историях, но никогда бы не подумал, что мне придется самому столкнуться с этим. Теперь я понимаю, почему мисс Лейдж не явилась сегодня на работу. Удивительная история!
Кардью бросил взгляд на план дома, лежавший на столе, потом – на Сюпера, как бы желая понять, стоит ли прерывать работу из-за сенсационной новости.
– Несомненно, это мистер Лейдж пел в ночь убийства, – сказал Сюпер. – Он жил в пещере на высокой скале. Поднимался туда и спускался по веревочной лестнице. Что-то в этом роде он мне рассказал.
– Вот бездельник! Не он ли стоял тогда в саду во время нашего ужина?
– Да, это он стоял вечером с пистолетом в руках.
– Но… отец мисс Лейдж – бродяга! Просто невероятно! Что же он делал?
Сюпер пожал плечами.
– Что мог делать бродяга? Брал все то, что попадалось ему под руку. Я думаю, он имел весьма туманное представление о том, как живет его дочь. Мистер Лейдж считал, что она голодает, поэтому собирал яйца и картофель и клал их на лестнице своего старого дома. Он считал, что дочь живет там. Иногда мистер Лейдж оставлял на ступеньках букеты цветов.
– Он сумасшедший? – покосился на инспектора Кардью.
– И да, и нет, – ответил Сюпер. – Врач полагает, что его мозг пострадал после удара по черепу. На голове у мистера Лейджа большой рубец. Кто-то ударил его так сильно, что он до сих пор не может прийти в себя.
Адвокат опустил голову.
– Скорее всего, это осколок гранаты… так бывает, – пробормотал Кардью. – Но я не могу понять, как этот человек стал бродягой. Мисс Лейдж, наверное, очень обрадовалась, узнав, что ее отец жив. Надеюсь, вы деликатно сообщили ей эту новость…
– Да, я подготовил ее… Действовал осторожно, тактично. Я сделал все, чтобы с ней не случился удар.
– Не связываете ли вы имя Лейджа с убийством? – спросил Кардью. – Кажется, вы думали, будто он и есть «Большая Нога».
– Я никогда так не думал! – возмутился Сюпер. – Это всего лишь ваша версия. – Инспектор взглянул на план дома, вдоль и поперек испещренный карандашными линиями. – Ну что, вы уже разработали новую версию? – иронически спросил он. – Убийство совершил человек с одной ногой, не правда ли?
Кардью снисходительно улыбнулся.
– Не смейтесь, я узнал от городского сторожа Паузея важную новость. Он сказал, что моя вилла построена на месте, где раньше стояло другое здание. Без сомнения, под кухней есть погреб…
– Оставьте, сэр, историю с погребом! Не убежал ли убийца через погреб? Я не могу это слышать! Знаю я эти истории о тайных пружинах, которые, когда к ним прикасаешься, переворачивают весь дом, как мышеловку!
– Но я убежден: нужно произвести раскопки. Я готов понести расходы. Этот дом – моя собственность, и я могу делать с ним все, что угодно.
– Знаете ли вы моего сержанта Леттимера? – неожиданно спросил Сюпер.
– Да, знаю, – удивился Кардью. – Он был у меня по делу.
– Не пытался ли он войти с вами в дружеские отношения?
– Нет… Мне не хотелось бы говорить о нем с его прямым начальником, но…
– Но что?
– Однажды сержант Леттимер намекнул мне, что хотел бы занять у меня денег.
– Вот как? – проворчал Сюпер. – Это правда? И вы ему дали?
– Нет. Мне это не понравилось. Полицейский из Скотленд-Ярда – и вдруг пускается в авантюры! Я не рассказывал об этом, потому что не хотел, чтобы у сержанта возникли неприятности.
Сюпер опять взглянул на план дома и сказал:
– Итак, вы хорошо разработали вашу версию?
– Мне безразличны ваши колкости, – добродушно усмехнулся Кардью, – думаю, вы говорите так не по злобе. И все же готов держать пари: я ближе к правде, чем вы. Что, вы уже уходите?
– Да, я спешу. Мистер Эльсон заболел. Врач говорит, что с ним случился припадок. Американец пьет, как слон. Я спросил у врача, не начинается ли у Эльсона белая горячка, но он мне не ответил. У врачей свои тайны…
– А где ваш бродяга?
– Мистер Джон К. Лейдж, чиновник американского казначейства, – сказал Сюпер, – лежит в больнице.
– А его дочь?
– Мисс Эльфа Генриетта Лейдж находится при отце и ухаживает за ним. Она пытается добиться от него объяснений, но он все время поет песню о мавританском короле, которая мне не нравится, хоть она красивая и благозвучная. Это его любимая песня. В квартире мисс Лейдж я нашел на пианино ноты испанских песен и книги об испанских поэтах… До свидания, мистер Кардью! Если вы изобретете новую версию убийства, не забудьте позвонить мне. Я недавно получил сообщение из Скотленд-Ярда, о том что следствие о взломе вашего бюро не дало результатов.
– Странно, – сухо заметил Кардью. – Связь между убийством и сожжением документов мисс Шоу очевидна. Ведь сыщики должны бы об этом догадаться.
– Ничего они не знают, – резко сказал Сюпер и удалился.
Мистер Лейдж находился в больнице на Вимут-стрит. Когда Сюпер прибыл туда, он нашел Эльфу в приемной. Ее глаза сияли, хотя на ресницах дрожали слезы.
– Он спит, – сообщила она.
– Он узнает вас? – спросил Сюпер.
– Не совсем, ведь за последние шесть лет я изменилась. Он спросил меня, знаю ли я его маленькую девочку. – Эльфа тихо заплакала. – Спасибо вам, мистер Минтер, за то что вы нашли моего отца. Я так счастлива! – Она стиснула руку сыщика. – Только вы могли догадаться, что песню распевал мой отец. Я ведь тоже слышала пение, когда лежала на берегу, но мне показалось, что я грежу. Я представить себе не могла, что мой отец жив. Да, все это время он помнил обо мне. Мысль обо мне жила в его подсознании. Вот откуда овощи на лестнице… Не понимаю, почему он скрывался от меня столько лет.
Сюпер рассмеялся, обнажив желтые зубы.
– А я давно это понял!
Врач, который обследовал Лейджа, жил недалеко от больницы. Сюпер отправился к нему, чтобы узнать о состоянии здоровья его нового пациента.
– Я не считаю его слабоумным, хоть он и не может нести ответственность за свои действия. Все симптомы указывают на то, что пострадал мозг. Бедняга снова станет нормальным, если сделать ему операцию. Нельзя поручиться за успех, но давление на мозг должно быть устранено. Я получил письмо от американского консула. Он обещает взять на себя расходы на операцию и лечение.
– Когда вы сделаете операцию?
– Не знаю. Сейчас пациент еще слаб. Нужно укрепить его организм.
– Через шесть недель я еду в отпуск, и мне хотелось бы закончить расследование убийства мисс Шоу. Не можете ли вы поспешить с операцией? – напрямик спросил Сюпер.
– Посмотрим, – уклончиво ответил врач.
– Я позвоню вам на днях, – сказал инспектор на прощанье.
Через несколько минут Сюпер был уже в полицейском участке на Мерлебон-лейн, где его принял дежурный сержант.
– Сержант, нужно поставить пост у дома номер пятьдесят девять на Вимут-стрит. Там находится бывший сотрудник американского казначейства мистер Лейдж. Вот список лиц, не имеющих права посещать его. – Сюпер подал ему бумагу. – Я распорядился, чтобы больному выдавали пищу только из больничной кухни. Нельзя допустить, чтобы ему приносили со стороны конфеты или фрукты. Я требую от постового полицейского, чтобы с наступлением темноты он не пускал в здание посторонних.
Хотя сержант и был удивлен решительным тоном старшего инспектора из другого участка, но он знал Сюпера и поэтому тотчас же выполнил его приказание. Сюпер объяснил важность его миссии в связи с поисками убийцы мисс Шоу.
Только после этого инспектор смог наконец отправиться к Джиму Ферраби. Он знал его привычки и нашел его в клубе.
– Я пытался поговорить с вами еще утром, Сюпер, но нигде не мог вас найти! – воскликнул Джим. – Мисс Лейдж сообщила мне по телефону о том, что ее отец жив. Потом я еще раз позвонил ей, но мне никто не ответил. Неужели правда, что ее отец – тот самый бродяга? Это уму непостижимо!
– Я редко выдвигаю версии, но если уж выдвигаю, то они безошибочны, – с гордостью заметил Сюпер.
После обеда они перешли в курительную комнату. Сюпер снова заговорил:
– Испанская песня – это, конечно, только толчок для создания версии. Я сразу же понял, что этот бродяга не похож на других. Я следил за ним и наводил о нем справки в полицейских участках. В Кентербери он уже сидел в тюрьме за бродяжничество. Только когда мне рассказали о подарках, которые находил у двери Болдервод Леттимер, я всерьез заинтересовался этим делом. Я решил, что продукты мог оставлять лишь тот, кто симпатизировал мисс Лейдж, а Болдервод тут ни при чем. Даритель ведь не знал, что девушка уже не живет в этом доме. Это мог быть только человек, одержимый безумной идеей, будто она недоедает. «Кто же он?» – рассуждал я. Единственным, кто мог заботиться о мисс Лейдж, был ее отец. Я посетил квартиру девушки, осмотрел книги и вещи ее отца и установил сходство бродяги с мистером Лейджем. Врач говорит, что операция может его вылечить, и тогда мы узнаем массу интересных подробностей…
– И что же именно? – спросил Джим.
– Вы уже забыли о городском советнике Брикстоне?
– Ах да, вспомнил. Джозеф Брикстон, советник из Сити…
– Он был довольно подлым субъектом, – заметил Сюпер.
– Вот как? Но причем тут он? Он имеет отношение к бродяге?
– Да, и еще он имеет отношение к убийству мисс Шоу.
Сюпер вынул из кармана бумажник, открыл его и достал сложенный вчетверо конверт.
– Вы помните это?
– Да, конверт, найденный в ночь убийства на кухне.
– Только вы и мисс Лейдж знают о нем. Даже Леттимеру я ничего не сообщил о конверте. Тот, кто написал письмо, лежащее в нем, и есть убийца мисс Шоу. Это ясно для меня, как то, что меня называют Сюпером. Не знаю, выбрался ли автор письма через камин, спустился ли в подземелье или через потайные выходы, одно для меня очевидно: человек, написавший это послание – убийца! Бедная Дженни! Может, для нее даже лучше, что она освободилась от тягот жизни, лежавших камнем на ее душе.
– Я вас не понимаю, Сюпер, – сказал удивленный Джим.
– Ладно, объясню в другой раз… Вы заказали ликер? Лучше уж старого коньяку! Сладкий ликер мне не по вкусу!
Сюпер дал Джиму адрес больницы, а сам отправился в гараж Скотленд-Ярда, чтобы вывести свой мотоциклет, который вызывал бурный интерес у молодых сыщиков, и со страшным треском помчаться в свой участок. Леттимера там не было, поскольку Сюпер отправил его в Паузей для того, чтобы тот провел дополнительное расследование.
На следующий день должно было состояться заседание комиссии, производившей осмотр трупа и передавшей дело следователю.
Сыщики и свидетели были вызваны для дачи показаний. Сюпер сел за стол и долго обдумывал, что же можно предать огласке на предварительном следствии. Пока что многое должно было оставаться в тайне. Временами Сюпер отрывался от работы и желчно усмехался. Этому теоретику Кардью, кажется, все-таки придется подняться со стула, чтобы не один час помучиться в душном кабинете следователя, отвечая на неприятные вопросы.
Леттимер вернулся только к вечеру и отчитался:
– Я исследовал тропинку, которая расположена к югу от Паузея на расстоянии трех миль. Автомобиль никак не мог там скрыться: тропинка узкая и в двух местах перегорожена плетнем. Она действительно спускается к Лондо-Лью-роуд…
– Ну, это я знал и без вас, – прервал его Сюпер. – Итак, автомобиль не мог проехать по этой дорожке. Было бы странно, если бы мог.
– А я думал, вы…
– Повторяю, я был бы удивлен, если бы автомобиль мог проехать по этой дорожке, – с нажимом произнес Сюпер. – Кстати, Эльсону стало лучше.
– Я не знал, что он болен.
– Да, он болен, если белую горячку вообще можно назвать болезнью. Теперь ему лучше, и потому сходите к нему завтра утром и задайте несколько вопросов. И завтра же вы мне нужны на предварительном следствии.
Рядом с первым полицейским участком стоит маленький домик, к которому примыкает садик. Домик в несколько этажей. На одном из них живет Сюпер, занимающий три комнаты. За домиком – поле, где разгуливают великолепные куры Сюпера, кормящиеся не за счет хозяина, а за счет владельцев соседних садов и огородов. Все было бы хорошо, если бы однажды ночью Сюпер не обнаружил, что появились черно-бурые лисицы, бессовестно поедающие его славных кур. Вскоре инспектор смастерил ловушку с автоматическим приспособлением для стрельбы.
Было темно, когда Сюпер вернулся домой и направился в сарайчик, где стоял его мотоциклет. Инспектор решил починить мотор и почистить фонарь.
Хотя Сюпер отлично видел, все же он имел привычку касаться рукой электрического провода, проложенного между домом и сараем. На сей раз он по обыкновению дотронулся рукой до провода и ахнул. Провод был разорван. Инспектор поднял конец провода и осмотрел его. Сомнений не было: провод был перерезан. Чтобы удостовериться в этом, Сюпер снял провод с изолятора и пошел в комнату. Конец провода указывал на то, что он перерезан щипцами.
– Проклятье! – выругался Сюпер. – Неужели кто-то пошутил надо мной? Здесь что-то не так!
Он пошел в спальню, вынул из ящика, стоявшего под кроватью, большой пистолет и полицейский электрический фонарик. Потом опять спустился во двор и бесшумно прошмыгнул к сарайчику. Кругом была тишина.
Электрический выключатель находился снаружи под выступом крыши. Дверь никогда не закрывалась. Злоумышленнику ничего не стоило пробраться туда.
Сюпер осторожно двинулся вдоль стены, освещая путь фонариком и держа наготове пистолет. Наконец он подошел к двери и дернул за ручку. Раздался оглушительный взрыв и звон разбитых стекол.
Когда дым рассеялся, Сюпер заглянул в дверную щель. Это выстрелила его ловушка. Но он поставил ее не так, как она стояла теперь – дулом, направленным к двери. И Сюпер никогда не привязывал шнур ловушки к дверной ручке…
Из дома послышался крик: «Сюпер, Сюпер!»
Сюпер побежал в комнату и нашел там Леттимера.
– Я слышал взрыв… Что произошло? – спросил испуганный Леттимер. – Слишком громкий выстрел для ловушки.
– Подойдите поближе, сержант! Это прекрасная возможность для молодых сыщиков, желающих изучить свое дело.
– Вы потерпели убыток?
– Да. Три стекла разбиты и… двадцать пять кур разбужены. Это все.
Дым стелился по саду, чувствовался запах горелого пороха. Леттимер пошел за Сюпером в сарайчик и осмотрел ловушку.
– Это вы так поставили ловушку в сарайчике? – спросил сержант.
– Ну конечно, – иронически сказал Сюпер. – Я хотел сам себя поймать… У меня часто бывают сумасшедшие идеи!
Леттимер рассмеялся.
– Но кто же поставил ее так?
– Кто поставил? Тот, кого называют «Большой Ногой». Он знал, что я включаю свет, прежде чем открыть дверь, поэтому перерезал провод, чтобы я не заметил ловушку у дверей. Гм… Если бы Эльсон лежал в кровати и на него была надета смирительная рубашка, моя ловушка до сих пор стояла бы среди кустов.
– Вы думаете, это сделал Эльсон?
– Нет, я этого не сказал, сержант. Не приписывайте мне слов, которых я не говорил! Я только сказал, что если бы Эльсон сидел за решеткой, мне не пришлось бы покупать на свои кровные деньги новые стекла. Вы уже собирались спать?
– Нет, Сюпер. Я закурил трубку и вдруг услышал взрыв.
– Идите спать, а то у вас испортится цвет лица.
Когда Леттимер ушел, Сюпер тщательно обыскал двор, сарайчик и соседние огороды, но почва была сухой и твердой, и он не смог найти никаких следов.
На следующее утро, когда Сюпер брился, вошел Леттимер.
– Знаете ли, сержант, что мне нужно? – обратился к нему инспектор. – Я должен купить хорошую собаку. У каждого сыщика есть собака. И потом, с ней безопаснее…
– Неужели вы думаете, что на вас кто-то покушался? Скорее всего, это глупая шутка соседей, – усмехнулся сержант.
– Хорошая шутка! После такой шутки Сюпер уже вознесся бы на небеса. Предположим, я открыл бы дверь, не зная, что она соединена с автоматическим аппаратом для стрельбы. Что сказали бы люди? Они сказали бы, что старый сумасшедший Сюпер оставил ловушку, забыв, что она должна находиться в другом месте. Коронер поставил бы диагноз: «Смерть по неосторожности, выразить соболезнование вдове». А поскольку я холостяк, то и этого бы не было. В газете напечатали бы заметку в три строки петитом о смерти старшего инспектора Сюпера. Другое дело, если бы я пал от руки преступника! Тогда были бы торжественные похороны и газетные статьи в целый столбец, а то и в два. Когда я думаю о негодяе, поставившем ловушку у моей двери, я дрожу от бешенства. Ведь от взрыва пострадала краска на ручке мотоциклета, и теперь я должен покрасить ее заново. Каково ваше мнение, сержант, темно-оранжевый цвет подходит для ручки?
– Да, это очень красивый цвет, – ответил Леттимер.
Все утро Сюпер был в великолепном настроении, и трудно было предположить, что накануне он избежал верной смерти. Он сыпал шутками направо и налево.
Джим Ферраби, вызванный в качестве свидетеля на объединенное заседание судебного следователя и полицейских властей, прибыл в своем автомобиле на первый участок, чтобы ехать вместе с Сюпером и Леттимером. Инспектор в это время читал нотацию дежурному письмоводителю, и Джиму пришлось ждать его, сидя за рулем. Неожиданно к участку подъехал в своем большом лимузине мистер Гордон Кардью.
– Поедем вместе, мистер Ферраби? – любезно предложил адвокат.
– Нет, я обещал Сюперу отвезти его в Паузей на заседание следственных властей, – ответил Джим.
– Надеюсь, я буду иметь удовольствие ехать вместе с вами обратно, – заметил, горько усмехнувшись, адвокат. – Думаю, что сумею описать, как произошло убийство… Чем больше я размышлял об этом, тем яснее для меня становилось, что мои выводы – единственно верные. Это удивительно, но я случайно нашел в старом календаре описание преступления, совершенного в 1769 году. Оно чрезвычайно похоже на убийство мисс Шоу. Там сказано, что некий Штарки…
Но Джим вынужден был извиниться и сказать, что не может уделить ему время: Сюпер уже появился в дверях. Кардью нажал на педаль и тронулся в путь.
– Одна перчатка ýже другой, – заметил Сюпер, усаживаясь рядом с Джимом. – Я всегда теряю левую перчатку. Удивляюсь, почему никто не догадался торговать перчатками для левой и правой руки по отдельности. Это могло бы принести неплохой доход… Посмотрите, впереди нас едет Кардью. Его голова набита версиями и гипотезами!
– Он уже выбрал версию, которую изложит вам, – заметил Джим, когда они обогнали лимузин.
– Это не первая и не последняя его версия, – скривился Сюпер. – Я знаю их все заранее. Кардью начнет рассказывать о погребах и потайных ходах и так запутается, что договорится до того, что это мисс Лейдж убила мисс Шоу…
– Что вы болтаете?! – испуганно вскрикнул Джим, который чуть было не угодил в канаву.
– Не беспокойтесь, это шутка! Уж и пошутить нельзя? Я знаю, Кардью выдвигал такую версию: мисс Шоу встретилась с мисс Лейдж, ведь она ей телеграфировала, между ними возник спор, и мисс Лейдж застрелила свою соперницу. Она вышла из дома, заперла дверь на замок… затем забралась на скалы…
– Но ведь это сумасшедшая ложь!
– Конечно, ложь, – удовлетворенно хмыкнул Сюпер. – Однако столь романтичный человек как Кардью непременно даст именно такое объяснение случившемуся.
– Не похоже, чтобы Кардью был романтиком, – сказал Джим.
– Он очень романтично настроен, поскольку читает детективы, а более романтичных книг не существует.
Потом Сюпер вкратце рассказал Джиму историю с ловушкой.
– Жаль трех стекол и новой краски для мотоциклета. – Он оглянулся на лимузин Кардью. – Этот адвокат любит общаться с репортерами, и завтра его имя будет пестреть в газетах. Меня же, скромного инспектора, никто даже не вспомнит. По правде говоря, я избегаю газетчиков. В «Сарри Комит» однажды напечатали: «Старший инспектор Минтер любит работать в тени». Я вам покажу эту газету, она хранится у меня в шести экземплярах.
Когда Сюпер и Джим вошли в зал заседаний, он был полон репортерами и свидетелями. Джим увидел, как репортеры обступили Сюпера, и тот стал оживленно беседовать с ними.
– Я поболтал с молодежью и предупредил, чтобы они не писали обо мне в газетах, – как бы извиняясь, сообщил инспектор, подходя к Джиму.
Но уже вечером Джим прочел в газетах длинный отчет о допросе свидетелей. То и дело упоминалось имя Сюпера. Было отмечено, что его показания более логичны, чем остальные. При этом подчеркивались талант и ловкость полицейского инспектора, который продолжает разыскивать таинственного убийцу.
После окончания заседания Сюпер сказал Джиму:
– Вы слышали, что говорил Кардью? Он заморочил следователя уймой измерений и теорий в противоположность мне, излагавшему свои мысли кратко и просто. Следователь был так рад, когда Кардью закончил свою речь, что даже поблагодарил его. Но тот ничего не понял и зарделся от удовольствия.
– Но, дорогой друг, вы говорили не меньше его, хотя и опирались строго на факты, – иронично заметил Джим.
Прежде чем отправиться в город, Сюпер, Джим и Леттимер вошли в отель выпить чаю. Каково же было их удивление, когда Кардью последовал за ними и подсел к их столику.
– Я еще утром хотел изложить мистеру Ферраби свою разгадку убийства мисс Шоу, а теперь выслушайте меня все трое.
– Леттимер! – громко сказал Сюпер. – Слушайте внимательно версию мистера Кардью. Вы молодой сыщик, и вам не помешает поучиться у великого теоретика. Если даже некоторые теории бесполезны, все же не плохо бы их знать. Мы вас слушаем, мистер Кардью!
– Насколько я понял из ваших показаний у судебного следователя, – начал Кардью, – вы втроем прятались на прибрежной улице и видели, как мисс Шоу подъехала к дому. Вы разглядели ее силуэт в автомобиле и узнали ее шляпу. Вы видели, как она остановилась у двери, но вы не видели, как она вышла из дома.
– Браво! – воскликнул Сюпер. – Вы сделали вывод, которым можете гордиться.
– Итак, – продолжал Кардью, – вы не видели, как она выходила из дома, а значит, не видели человека, спрятавшегося в задней части автомобиля. Не исключено, что этот человек незаметно забрался в автомобиль, когда Дженни вышла, чтобы открыть дверь. Потом он внезапно набросился на нее, оглушил и втащил в дом. То, что кухня была заперта, доказывает, что она служила преступнику местом заключения мисс Шоу; затем он толкнул дверь ногой, и она захлопнулась. Тогда убийца застрелил бедную Дженни…
– И что он сделал потом? – спросил Сюпер.
Кардью в упор посмотрел на инспектора.
– Что сделал? Он надел пальто и шляпу мисс Шоу, вышел из дома, закрыл дверь и сел в автомобиль. Он включил фары… Ведь вы сами сказали, что они загорелись на несколько секунд и снова погасли. Все ясно: если бы он не выключил фары, они осветили бы стены дома, а также салон. И вы смогли бы заметить, что за рулем не женщина, а мужчина. Да, да, именно так – мужчина в женской шляпе!
Сюпер весь превратился во внимание и напрягся.
– И вот преступник поехал в автомобиле по улице, – продолжал Кардью, видимо, довольный тем, что его объяснения вызвали такой интерес. – Он направился наверх к скалам, повесил пальто и шляпу на куст, оставил автомобиль мисс Шоу и пошел пешком к своему автомобилю, ждавшему его где-то поблизости… Скорее всего, это была маленькая машина, которую легко можно спрятать.
Сюпер посмотрел на Кардью широко открытыми глазами.
– Гром и молния! – крикнул он. – Вот это версия!
Джим понял, что Сюпер говорит серьезно.
– Это самая интересная версия из всех, которые вы изложили, мистер Кардью. И вы оказались правы!
За столом воцарилась мертвая тишина. Наконец Сюпер поднялся и протянул адвокату руку.
– Поздравляю вас, – искренне произнес он.
Кардью удалился с торжествующей улыбкой.
На обратном пути в город Сюпер не произнес ни слова. Он сидел, съежившись на заднем сиденье рядом с Леттимером. Только на прощание инспектор сказал:
– Я вынужден изменить свое мнение о Кардью. До сих пор я думал, что адвокат годится только на то, чтобы взыскивать по неуплаченным счетам, но теперь я должен признать, что он проделал работу, которая не всякому по силам. Да, Ферраби, он укрепил во мне уверенность в себе. Кардью ведь как нельзя лучше подтвердил мою собственную версию. И все же я оказался умнее его.
– Но как так вышло, что вы умнее? – поинтересовался Джим.
– Кардью ни словом не упомянул о «Большой Ноге». Не удивляйтесь, Ферраби, я знаю, кто такой «Большая Нога». Я знаю это безо всяких версий и гипотез. Я мог бы даже представить вам «Большую Ногу», но пока это преждевременно.
– Убийцу? – вздрогнул Джим.
– Да! Именно «Большая Нога» убил мисс Шоу.
– Он забрался в дом через черный ход?
– Да. Но это не значит, что он не пользовался другими выходами. Кстати, Дженни умерла еще до появления «Большой Ноги».
– Сюпер, я вас не понимаю! Только что вы сказали, что он убил ее, а теперь говорите, что она умерла еще до его прихода.
– Так оно и было, – таинственно произнес Сюпер, открыв дверь в свой участок. – Погодите, скоро вы увидите, что я прав… Сержант, подайте мне газеты! Посмотрим, что пишут эти патентованные газетные лгуны.
Джим Ферраби был счастлив: он удостоился привилегии, которой до сих пор пользовался лишь Сюпер. Эльфа разрешила ему пробыть полчаса в ее квартире и рассказала о своем отце.
– Администрация больницы не разрешила мне остаться рядом с ним на ночь, и, может быть, это правильно. Отец чувствует себя хорошо, и он счастлив. Мне все это кажется сном. Я с ужасом вспоминаю о тех годах, когда мой бедный отец странствовал по белу свету…
Джим уже успел побывать у врача, знаменитого хирурга, который должен был оперировать мистера Лейджа. Врач и его ассистент были убеждены, что операция пройдет успешно.
– Этот доктор считается лучшим хирургом. Консульство не жалеет средств для отца, – сказала Эльфа. – Я получила в свое распоряжение некоторую сумму, так что мне больше не придется возвращаться к мистеру Кардью.
– Вы недавно говорили с ним?
– Да, сегодня утром он позвонил мне. Мистер Кардью был весьма любезен, хоть и рассеян. Мне кажется, загадка убийства мисс Шоу настолько захватила его, что он не способен интересоваться моими делами. Впрочем, он вежливый и милый человек.
– Кто, Кардью? – спросил Джим. – По крайней мере, инспектор не разделяет вашего мнения… Кстати, я тоже…
– Что касается Сюпера, он вообще большой оригинал. У него на все свой взгляд. Он так много сделал для меня, и я очень ему благодарна. Это правда. Но мне кажется, что иногда Сюпер бывает резок, даже грубоват, – сказала Эльфа задумчиво.
– Сюпер – один из старейших сыщиков Скотленд-Ярда. Он только с виду такой. Но этот человек многолик, у него богатый внутренний мир… – произнес Джим.
Зазвонил телефон. Эльфа сняла трубку.
– Что? Пирог? Нет, я ничего не посылала… Конечно, нет! Пожалуйста, не давайте ему ничего… Я сейчас приду.
Она повесила трубку. Ее лицо омрачилось.
– Этого я не могу понять, – сказала она. – Заведующая больницей спросила, посылала ли я отцу вишневый пирог. Ясно, что это не от меня. Посыльный принес его вместе с письмом, и в больнице подумали, будто писала я.
Джим присвистнул.
– Это очень странно!
В то время как Эльфа переодевалась в другой комнате, он позвонил Сюперу. Тот с интересом выслушал новость.
– Передайте в больницу, чтобы они сохранили пирог до моего прихода, – попросил инспектор. – Ждите меня у входа в лечебницу. Если вас задержит сыщик в штатском, скажите ему, что вы ждете Сюпера.
Из разговора Джим понял, что больница охранялась. Когда он и мисс Лейдж прибыли туда, заведующая пригласила их к себе в кабинет. На столе был пирог и письмо.
– Я не хотела давать пирог вашему отцу, не убедившись в том, что это вы послали ему гостинец, – сказала она. – Инспектор Минтер запретил мне принимать какие бы то ни было передачи для мистера Лейджа.
Эльфа взяла письмо и тотчас же воскликнула:
– Это не мой почерк!
В верхнем левом углу стоял адрес ее квартиры на Кубит-стрит. В письме она якобы просила передать пирог отцу…
– Вам знаком этот почерк? – спросил Джим.
– Нет, незнаком… Но почему прислали пирог? Неужели… – проговорила Эльфа дрожащим голосом.
– Может быть, кто-то из друзей хотел оказать вам внимание, – сказал Джим, желая ее успокоить.
– Действительно, зачем кому-то причинять зло моему отцу? – повторяла Эльфа, испуганно глядя на пирог.
– Так что же мне делать с пирогом? – спросила заведующая.
– Уничтожьте его! – громко посоветовал Джим, но потом украдкой шепнул ей: – Сохраните пирог до прихода Минтера!
– Мистер Ферраби, я слышала ваш разговор с Минтером, – сказала Эльфа, когда они ехали на Кубит-стрит. – Мне кажется, только он способен разобраться в этой путанице. Вы увидите его сегодня?
– Да, инспектор будет в городе, и я с ним встречусь. Только не волнуйтесь напрасно, Эльфа.
– Я не лягу спать. Можете вы сообщить мне по телефону, что думает Сюпер о пироге и о таинственном письме? – попросила девушка на прощанье.
Джим обещал позвонить и, попрощавшись, вернулся к входу больницы. Из темноты вынырнула фигура сыщика, стоявшего на страже. Из-за угла раздался оглушительный треск мотора, и через несколько секунд Сюпер соскочил с мотоциклета.
– Я ехал со скоростью сорок миль в час, – сообщил он, – хотя это – запрещенная скорость, и полицейский у железнодорожного узла пытался меня задержать.
Сюпер с Джимом вошли в комнату, где стоял пирог.
– Ого! Чудный пирог! Я возьму его с собой. Не помните ли, миссис, из какого района прибыл посыльный с пирогом?
– Кажется, из Трафальгар-сквер, – ответила заведующая.
Сюпер и Джим поехали в полицейский участок. Инспектор передал дежурному сержанту пирог и приказал доставить его на следующее утро в государственную лабораторию.
Сюпер собирался ехать на своем мотоциклете в Трафальгар-сквер, но Джиму удалось уговорить его оставить «адскую машину» в участке. Они поехали на автобусе в бюро посыльных, где им сообщили, что пакет с письмом, адресованный в больницу мистеру Лейджу, был доставлен неизвестным, выполнявшим поручение какого-то солидного господина.
– Какой-нибудь бродяга, нанятый за пару пенсов, – предположил Сюпер. – Без объявления в газетах мы его не найдем, к тому же он, скорее всего, не отзовется на наше объявление; такие типы боятся следствия, как огня.
Они вышли из бюро. Сюпер остановился на краю тротуара и задумчиво осмотрел памятник Нельсону.
– Пойду искать Леттимера, он где-то в городе. Только он сумеет найти бродягу… он легко входит в доверие к проходимцам, потому что близок им по духу…
Они расстались, договорившись о встрече, и Джим зашел в телефонную будку, чтобы позвонить Эльфе.
– Вы думаете, что пирог отравлен?! – воскликнула она.
– Сюпер еще не уверен в этом. Но завтра все будет известно.
Когда Джим опять встретился с Сюпером в условном месте, сыщик сказал:
– Будет лучше, если я вернусь в полицейский участок не на своей «адской машине», а на вашем автомобиле. Где он?
– В гараже недалеко отсюда. Я охотно вас подвезу…
Сюпер явно что-то задумал, но Джим решил не расспрашивать его. Они поехали с Трафальгар-сквер в полицейский участок, где стоял мотоциклет. Сюпер привязал его к автомобилю, и Джим тронулся в путь.
– Зайдемте, Ферраби, – сказал Сюпер, стоя на пороге участка. – Я только справлюсь, нет ли новостей.
Он не ошибся. Дежурный сообщил ему, что пятнадцать минут назад в участок явился мотоциклист и заявил, что, когда он проезжал по шоссе, кто-то дважды стрелял в него.
Сюпер удовлетворенно хмыкнул.
– Но стрелок ведь не попал в цель? Я думаю, он промахнулся, потому что не сумел определить скорость, с которой ехал мотоциклист… А вот если бы по шоссе проехал я, стрелок не промахнулся бы, потому что преступники хорошо знают скорость «адской машины» Сюпера.
– Вот как? – спросил изумленный Джим. – Вас хотели застрелить из засады?
– Да, хотели. Отсюда – блестящая идея ехать в вашем автомобиле, а не на моем мотоциклете. Вот так-то! Не одного Кардью осеняют блестящие идеи…
Только теперь Джим понял, почему Сюпер предпочел ехать на автомобиле. Если тот, кто подстроил хитрый трюк с ловушкой, преследовал цель убить Сюпера, не исключено, что «Большая Нога» попробует подстрелить сыщика из-за угла, тем более что мотор Сюпера слышно за версту.
– Я нисколько не удивлюсь, если в один прекрасный день меня отправят в лучший мир, – с философским спокойствием заявил Сюпер. – Но вынужден признать: «Большая Нога» работает безукоризненно… Леттимер уже вернулся?
– Нет, – ответил дежурный полицейский, – он еще в городе.
Бедный полицейский ошибался. В этот момент Леттимер сидел на плетне возле кустов в глухой части лондонского шоссе. В руках у него был большой автоматический пистолет…
Джим Ферраби решил, что будет вполне естественно отправиться на следующий день к мисс Лейдж, чтобы отвезти ее в больницу. Ему показалось, что дорога между ее домом и Вимут-стрит слишком коротка. Он с удовольствием продлил бы время пути, чтобы подольше побыть рядом с этой очаровательной девушкой, на долю которой выпало так много страданий.
Сестра милосердия сообщила, что мистер Лейдж провел день хорошо, однако ночью не спал.
– Он, по-видимому, привык спать днем и странствовать по ночам, – сказала она. – Кажется, после обеда он узнал меня. Смотрел на меня с таким удивлением, будто пытался что-то вспомнить. Утром мистер Лейдж спросил, не могу ли я отвести его к морю, так как он должен присматривать «за тремя и четырьмя». Заведующая говорила: то же самое он вчера спрашивал и у нее. Совершенно непонятно, что имел в виду мистер Лейдж…
– Оставим это для Сюпера, он найдет объяснение, – сказал Джим. – Нас сейчас интересует мнение врача после вчерашнего осмотра…
– Врач повторил, что есть надежда на полное выздоровление. Операция назначена на субботу.
Когда Джим и Эльфа вышли на улицу, девушка снова заговорила о пироге. Еще до поездки в больницу Джим сообщил ей, что в лаборатории не нашли яда в пироге. Эльфа не поверила.
– Но я был у Сюпера, и он прямо заявил мне, что яда не обнаружено, – настаивал Джим.
– Я все утро думала о том, не стал ли мой отец свидетелем какой-нибудь сцены, связанной с убийством мисс Шоу, – призналась Эльфа. – Может быть, он заметил преступника? Утром я поехала в Кинг-Бенг-Уолк, чтобы увидеть мистера Кардью. Он сказал: возможно, моего отца хотели отравить, потому что он знает, что происходило на вилле. Ведь отец жил в пещере, откуда отлично виден Бич-коттедж. Сюпер говорил, что полиция обследовала пещеру. Возможно, отец провел там несколько лет. Обычно он спускался вечером со скалы по веревочной лестнице и возвращался в пещеру с рассветом, каждый раз поднимая лестницу за собой. Она была так испачкана мелом, что даже Сюпер не заметил бы ее среди бела дня.
У дверей дома Эльфы на Кубит-стрит Джим был разочарован: он ждал, что девушка пригласит его на чашку кофе, но мисс Лейдж сказала:
– Я буду сегодня негостеприимной и не приглашу вас в дом. Я очень устала и чувствую себя нехорошо.
– Стакан чая в парке и музыка быстро снимут усталость. Разрешите пригласить вас…
– Нет, мистер Ферраби, благодарю вас. Я хотела бы хорошенько отдохнуть. Я предчувствую какую-то опасность… Думаю, случится нечто ужасное…
– По-моему, вам действительно следовало бы выпить стакан чая в парке, – сказал Джим с улыбкой.
Эльфа улыбнулась и пожелала ему спокойной ночи.
Был чудный вечер. Джиму не хотелось ужинать одному. Он повернул автомобиль на запад к первому участку, но не нашел там ни Сюпера, ни Леттимера. Тогда он поехал в Баркли-Стек.
Мистер Кардью разгуливал по саду, заложив руки за спину. Его лоб был нахмурен. Адвокат казался озабоченным. Услышав шум мотора, Кардью обернулся и, узнав Джима, приветливо помахал ему рукой.
– Добро пожаловать, мистер Ферраби! Вас я рад видеть больше, чем всех остальных… Никак не могу прийти в себя после смерти несчастной Дженни, все кажется мне нереальным; мне часто чудится ее голос… Бедная Дженни! – Он тяжело вздохнул.
Они дошли до конца площадки, покрытой дерном, и повернули на маленький лужок справа. Отсюда был хорошо виден Хиль-Броу, владение Эльсона. Из трубы большого камина поднимался белый дым.
– Сегодня слишком тепло, чтобы топить камин! – заметил Кардью. – Интересно знать, зачем он топит камин в такой теплый вечер?
Кардью и Джим молча стояли, глядя на дым.
– Может быть, слуги сжигают хворост, – предположил Ферраби.
– Нет, для этого есть специальная печь в саду. Кроме того, сейчас весна, и сад давно очищен от хвороста и сухих листьев. Вероятно, он сжигает свои старые бумага, – произнес Кардью, немного подумав, – я тоже поступаю так каждый год…
Адвокат многозначительно хмыкнул:
– Я не особенно хорошо знаю Эльсона, но он слишком ленив, чтобы самому уничтожать старые бумаги… Интересно знать, что же он сжигает?
Кардью оглянулся и позвал садовника.
– Погодите, я напишу письмо, а вы передадите его мистеру Эльсону, – сказал он.
Через минуту Кардью появился с конвертом в руках. Садовник направился к дому американца.
– Видите ли, мистер Ферраби, я пригласил мистера Эльсона к завтрашнему ужину не потому, что рад видеть его в своем доме. Просто мне интересно, застанет ли мой садовник его в комнате одного, когда передаст это письмо.
– Но зачем это?
– Интересно, отослал ли Эльсон слуг, чтобы остаться в одиночестве. А теперь, мистер Ферраби, я покажу вам кое-что интересное.
Джим прошел за адвокатом в его рабочий кабинет. Увидев на столе некий предмет, завернутый в бумагу, он догадался, что мистер Кардью имеет в виду под этим «кое-чем». Адвокат сорвал обертку, и Джим увидел модель Бич-коттеджа.
– Я заказал мастеру эту модель, которую он изготовил в течение одного дня, – произнес Кардью с гордостью. – Вот я снимаю крышу. – Сказав это, он снял крышу, и показались маленькие комнаты. – Мастер еще не окрасил модель, но это не важно… Вот здесь кухня! – Кардью указал карандашом на одну из комнат. – Вы можете даже заметить дверные болты… Вот отверстие между кухней и столовой, то есть небольшое оконце, закрываемое ставнем. Я должен обратить ваше внимание на важный факт. С того момента, как Дженни Шоу вошла в дом, и до того, когда она или кто-то другой вышел оттуда, прошло пять минут. Теперь ясно: она или они оба тотчас вошли в кухню… Спрашивается, зачем?
– Чтобы захватить с собой письмо.
Кардью смущенно взглянул на Джима.
– Письмо? – быстро спросил он. – Что вы хотите этим сказать?
– Ну, письмо, адресованное врачу секционной камеры Западного Суссекса. Сюпер нашел конверт и кирпич под кухонным столом, под которым лежало это письмо.
– Письмо? Вот этого я не понимаю! – Глаза адвоката забегали. – Об этом на последнем заседании следственных властей Сюпер не сказал ни слова. К тому же это не вписывается в мою версию. Было бы лучше, если бы Сюпер не запаздывал со своими сообщениями.
– Я уже жалею, что рассказал вам о письме…
Кардью мрачно посмотрел на модель дома.
– Но письмо еще можно согласовать с моей версией, – сказал он, помолчав. Джим заметил, что голос адвоката дрогнул. – Я не хотел допустить какого-то иного мотива для убийства, кроме… Вы сказали, письмо было адресовано врачу секционной камеры? В таком случае, возможно, это самоубийство?
– Нет, Сюпер уверен, что это убийство, – сказал Джим и тотчас же пожалел о своей чрезмерной болтливости.
– Да, я должен опять начать все сначала, – продолжал Кардью, – но я решу эту загадку во что бы то ни стало. Я уважаю Минтера, несмотря на все его недостатки. Но я убежден, что в данном случае он не окажется победителем…
Кардью взял с письменного стола фальцбейн[69] и стал перелистывать страницы своего манускрипта. Джим был поражен трудоспособностью и усердием этого человека. Одна страница была полностью испещрена цифрами и датами. На другой красовался эскиз части дома, примыкающей к морю. Эскиз пересекали вертикальные линии, указывая на силу прилива в разное время суток. На столе лежало множество негативов с изображением разных частей дома. Географическая карта Суссекса была усеяна красными линиями. Джим решил, что линии обозначают дороги, по которым мог убежать убийца. В этот момент в комнату вошел садовник.
– Я передал мистеру Эльсону ваше письмо, сэр, – доложил он хозяину.
– Он сам открыл вам дверь? – спросил адвокат.
– Да. Я ждал довольно долго, пока он спустится в коридор. Слуг нигде не было видно.
Кардью с тонкой усмешкой откинулся на спинку кресла.
– Как он был одет? Вы заметили выражение его лица? Как выглядели его руки?
– У него были черные руки, – сообщил садовник. – Похоже, что он чистил каминную трубу. Он был в одной сорочке, и его лицо покраснело от жары.
Кардью снова улыбнулся.
– Благодарю вас, можете идти! – Он многозначительно хмыкнул. – Я знал: там что-то происходит, – продолжал он, когда дверь за садовником закрылась. – Теперь спрашивается: что общего между странным поведением Эльсона и смертью Дженни? Вы знаете, что они были хорошо знакомы… Со слов прислуги, Дженни часто навещала Эльсона в Хиль-Броу. После этого зловещего случая американец пьет запоем. Он все время пьян. Эльсон пил и раньше, но сейчас полностью утратил контроль над собой. Прислуга отказывается у него работать. По ночам Эльсон разгуливает по дому и, умирая от страха, кричит на весь дом.
Кардью встал, закрыл модель крышкой и завернул ее в бумагу.
– До сих пор мое расследование носило абстрактный характер, но теперь я займусь конкретным делом…
– Что вы хотите этим сказать? – поинтересовался Джим.
– Я раскрою тайну Хиль-Броу…
Сержант Леттимер вышел из своей квартиры лишь с наступлением темноты. Он добирался до Хиль-Броу окольным путем: пролез через дыру в изгороди, которую хорошо знал; пройдя сквозь чащу, дошел до маленькой зеленой калитки в стене; открыв калитку ключом, тщательно запер ее и, оглянувшись, осторожно пошел по посыпанной щебнем дорожке к парадному входу. Потом торопливо вынул из кармана белую бумагу, покрытую с одной стороны гуммиарабиком, намочил ее и наклеил на дверную панель. Затем обогнул дом и подошел к французскому окну, выходившему на площадку, покрытую дерном. Леттимер тихо постучал. Ответа не было. Сержант постучал громче. Наконец за тяжелой занавеской показалось испуганное лицо Эльсона.
– Это вы?! – прорычал он.
– Да, я! Спрячьте свой револьвер, никто вас не тронет.
Эльсон поднял шторы. Леттимер впрыгнул в комнату, опустил шторы, сел на стул и взял сигару из ящика.
– Сюпер поехал в город, – сообщил он, закуривая.
– Пусть он едет хоть в ад! – зло бросил Эльсон.
Леттимер заметил, как изменилось лицо американца. Губы Эльсона дрожали. У него был вид человека, страдающего от сильного запоя.
– Сюпер не просто поехал в город, – с нажимом произнес сержант, – он поехал в город по весьма интересному делу.
– Да пусть он катится к черту! – взорвался Эльсон.
– Тише! – испуганно прошептал Леттимер. – Ну что за крик? Сюпер подозревает и меня. Вчера он прочел мне целую лекцию о пользе чистосердечного признания в должностных преступлениях.
– Но при чем здесь мы? Какое отношение мы имеем к убийству этой несчастной старой девы? – пожал плечами Эльсон.
– Не будем об этом, – уклончиво произнес Леттимер. – Что за пожар вы устроили сегодня ночью?
– Пожар? Я вас не понимаю.
– Я видел, как из трубы вашего дома поднимался дым.
– Я сжег массу ненужных вещей.
Следующие пять минут прошли в молчании. Оба курили.
– Вы были сегодня утром в городе, – наконец произнес Леттимер.
Эльсон сердито глянул на него.
– Мне хотелось выбраться из этого проклятого гнезда. Я что, не имею права выехать в город?
– И какую каюту вы заказали?
Эльсон вскочил как ужаленный.
– Что? Послушайте, вы…
– Вы взяли билет прямо до Нью-Йорка?
– А вам откуда это известно?
– Ниоткуда. Я давно это предчувствовал. Мне, видите ли, жаль лишаться выгодного клиента.
– Кажется, вы называли мои деньги «ссудой», – ядовито заметил Эльсон. – Не знаю, почему я вообще давал их вам…
– Я был вам полезен. В следующую субботу я сумею быть вам еще более полезным. Конечно, вам неприятно, что мне известно о вашем намерении оставить Лондон. В Канаде вы, пожалуй, будете в безопасности.
– Я везде в безопасности! – снова взорвался Эльсон.
– Тогда почему же вы спешите поскорее уехать из Англии?
– Потому что Англия мне надоела, – мрачно заявил американец. – После смерти Дженни мои нервы расстроены. Скажите, Леттимер, что стало с бродягой-певцом?
– Которого поймал Сюпер? Он где-то в городе. А что?
– Ничего, я просто так спросил. Он был в моем саду, когда Сюпер его схватил. Он слабоумный, что ли?
– Немного. По крайней мере так думает Сюпер…
– Послушайте, Леттимер, – произнес Эльсон глухим и хриплым голосом. – Вы ведь знаете английские законы… Никто не обратит внимания на слова сумасшедшего бродяги. Я имею в виду судей. На случай, если бродяга начнет болтать… станет оскорблять людей или делать что-нибудь еще в этом роде… судьи ведь не поверят сумасшедшему?
Леттимер испытующе посмотрел на него.
– Что это вы так разволновались?
– Я разволновался? Ну, вот еще! Кажется, я видел этого бродягу где-то в Америке. По-моему, в Аризоне. Я тогда был фермером. Я обругал его… и хорошенько ему врезал…
Эльсон лгал, и Леттимер не сомневался в этом.
– Не думаю, что судьи обратят внимание на показания сумасшедшего, – сказал сержант, – но бродяга скоро не будет слабоумным. Сюпер сказал, что Лейджу предстоит операция и есть надежда на его полное выздоровление.
Эльсон вздрогнул, его лицо исказилось.
– Неправда, он не выздоровеет! – закричал американец, обхватив голову руками. – О боже, если бы я знал, если бы я знал!..
Леттимер спокойно наблюдал за ним.
– Я давно догадывался, что Джон Лейдж держит вас в своих руках. Но будьте спокойны, он не скоро заговорит, – произнес сержант со значением.
Эльсон внимательно посмотрел на него.
– Допустим, он не настолько ненормален, – сказал сержант, – как вы предполагаете. Рассказывают, будто Лейдж жил в пещере неподалеку от Бич-коттеджа. И не исключено, что он находился возле дома, когда там была мисс Шоу. Что скажете по этому поводу? – продолжал Леттимер и, расхохотавшись, выпустил к потолку облако дыма.
– Что скажу? Ничего. Вы ошибаетесь, полагая, что у меня есть что-либо общее с Лейджем. Я его никогда не знал и прежде не видел, – упрямо заявил Эльсон. Потом вдруг дал рукой знак молчать и прислушался. Вынул часы и посмотрел на них.
– Слуга вернулся, – сказал американец.
– Он войдет сюда?
– Нет. Он входит, только когда я звоню.
Раздался стук в дверь. Леттимер быстро встал и спрятался за шторой. Эльсон открыл дверь. Это был слуга.
– Извините, сэр, я не хотел вас беспокоить…
– Хорошо, но зачем же вы тогда побеспокоили меня? – спросил раздраженно Эльсон.
– Я должен вам кое-что сообщить… Не знаю, читали ли вы надпись на дверях… Я хотел сорвать записку, но это оказалось непросто…
– Надпись на дверях? – уставился на слугу Эльсон. – Вы о чем? Какая записка?
Американец торопливо вышел за слугой в коридор, освещенный большой лампой. У парадных дверей тоже горел свет. Эльсон долго читал записку. Он не верил своим глазам.
«Джени Шоу умерла, за ней последуете Вы.
Большая Нога».Эльсон схватился за голову. На миг он оцепенел. Да, это не сон, а реальность. Эльсон хотел было закричать, но вместо этого издал сдавленный стон. Потом со всех ног бросился в рабочий кабинет, захлопнул дверь и запер ее на замок.
– Леттимер! Леттимер!
Американец подбежал к шторам, но сержант уже исчез тем же путем, каким и явился.
Мотоциклет Сюпера, славившийся по всей округе, рано утром лежал в разобранном виде на кухонном столе инспектора, усердно чинившего мотор, который испортил только благодаря своему «инженерному искусству». Рядом стоял младший сержант и, засучив рукава, помогал начальнику ремонтировать «адскую машину», поскольку обладал некоторыми техническими познаниями. Младший сержант был весьма работоспособным и аккуратным полицейским. Он почтительно наблюдал за действиями начальника и во всем с ним соглашался. Пожалуй, только благодаря этому Сюпер терпел его присутствие.
– Я не променяю свою «огненную стрелу» на десять новых мотоциклетов, – говорил инспектор. – Владелец соседнего кинотеатра взял однажды мой мотоциклет напрокат, чтобы сопровождать фильм о войне орудийными залпами. Моя «стрела» блестяще выполнила эту задачу. Друзья и сослуживцы собрали довольно крупную сумму, чтобы купить мне ко дню рождения новенький бесшумный мотоциклет. Я охотно принял подарок, а через неделю он исчез. Я опять сел на свой старый мотоциклет. На удивленные вопросы я отвечал, что подарок сломался. На самом же деле я продал его, а на вырученную сумму купил инкубатор и заново покрасил свой старый мотоциклет… Ну, а остаток положил в банк, понятное дело. Я не бросаю деньги на ветер.
– Однако шум и грохот невыносимы, сэр…
– Шум есть шум, милый сержант, – сказал Сюпер, завинчивая гайку. – Вы слышали, чтобы какой-то инженер изобрел глушитель для грома?
– Нет, не слышал…
– Когда овца блеет, корова мычит, – засмеялся Сюпер.
– Но вам нужен хороший глушитель для мотора…
– Не стоит попусту тратить деньги. Все люди любят треск моего мотоциклета. Они ворочаются ночью в постелях и произносят: «Все в порядке, Сюпер объезжает участок».
– Однако если вор услышит этот шум, он ведь удерет?
– Никогда! Шум моего мотора подобен разговору чревовещателя. Вор думает, будто мой мотоциклет едет справа, а в это время я подъезжаю слева. Но, милый сержант, что с вами сегодня? Вы спорите со мной, не даете мне слова вставить.
Леттимер послушно замолчал. Сюпер закончил работу, проверил мотор, закурил трубку и, взглянув на небо, нашел, что погода великолепная.
Он направился в сарайчик и вытащил оттуда мешок ячменя. Осмотрев курятник, инспектор накормил кур, собрал яйца и занес их в дом.
Сюпер как раз переодевался, когда появился Леттимер.
– Где вы были ночью? – спросил Сюпер, ожесточенно водя щеткой по мундиру.
– У меня была свободная от дежурства ночь.
– Когда я был молод, у меня не было свободных ночей, – ядовито заметил старый сыщик. – Принесите мне почту!
Леттимер ушел и вернулся с пачкой писем. Сюпер рассортировал их.
– Вот счет, вот приказ об аресте, вот жалоба жителей на шум мотоциклета, вот письмо от хитрого Алекса из министерства финансов, – бормотал Сюпер, быстро разбирая письма. – А вот письмецо, которое мне нужно.
– Гм! – произнес Сюпер, прочтя письмо. – Вы слышали что-нибудь об аконите, сержант?
– Нет. Что это, яд?
– Да, это ядовитое вещество… Доза величиной с булавочную головку могла бы вас убить, Леттимер. А для меня она была бы совершенно безвредна, поскольку я сильнее и выносливее вас и не провожу ночи в джаз-банд-чарлстонах, танцуя сразу с дюжиной барышень.
– Что это за письмо, сообщение от присяжного-химика? – поинтересовался Леттимер, уже привыкший к нравоучительным лекциям.
– Да. Для начала необходимо узнать, не покупал ли кто-нибудь аконит. Обычно это вещество не отпускается частным лицам в аптеках. Наведите справку в Скотленд-Ярде. Вы на самом деле ничего не слышали об аконите? – спросил Сюпер, поправляя воротник.
– Ну конечно же нет…
– Готов биться об заклад, что старый Кардью, этот знаменитый теоретик-любитель, расскажет вам с десяток случаев, когда люди были отравлены аконитом.
– Не сомневаюсь, – сказал Леттимер.
– Я ненавижу отравителей, слышите? – с нажимом произнес Сюпер, завязывая галстук. – Это самый низкий род преступников. Кроме того, они никогда не сознаются в совершенном преступлении, даже если веревка уже надета им на шею. Вам известно это, Леттимер?
– Нет, – спокойно ответил тот.
– Готов держать пари, что старый Кардью это знает. Более чем уверен: у него масса книг о таких ядах и таких отравителях, что волосы станут дыбом! Надо бы и мне выписать парочку подобных книжек, чтобы не отставать от времени…
Расправившись с утренней почтой, Сюпер сел на мотоциклет и отправился на центральную телефонную станцию, чтобы допросить заведующего. Потом пробыл два часа в полицейском участке на Хай-стрит и успел за это время ознакомиться с различными сортами писчей бумаги, водяными знаками и прочими занятными вещами. Он также побывал в магазине, где торгуют пишущими машинками разных систем.
Спускаясь на мотоциклете по боковым улицам, прилегающим к взморью, Сюпер подумал, что самое главное только начинается.
Когда инспектор проехал по одной из улиц, его заметил Джим Ферраби, ехавший с Эльфой по направлению к Грин-парку. Эльфа настояла на том, чтобы он повернул и догнал мотоциклет Сюпера.
– Мы едем в Кенсингтон-гарденс, не хотите ли с нами? – спросила Эльфа инспектора.
– Не думаю, чтобы мое присутствие оказалось теперь кстати, – улыбнулся Сюпер, взглянув на Джима. – Я никогда не был настолько глуп, чтобы мешать молодым влюбленным приятно проводить время.
– Мы будем очень рады, если вы к нам присоединитесь, – заверил инспектора Джим.
– Очень любезно с вашей стороны. Но у молодежи свои законы, – произнес Сюпер, – а у меня свои. Кстати, замечу, я так никогда и не был влюблен, – добавил он. – У меня было нечто вроде романа с энергичной вдовой… Но, кажется, я уже рассказывал об этом…
– Да, она была потрясена разлукой с вами, – в тон ему продолжил Джим.
– Вот-вот, совершенно потрясена. Но постепенно она к этому привыкла. Это было трудно, особенно когда она вспоминала о тарелке, которую однажды запустила мне в голову. Правда, тарелка не попала в цель…
Эльфа рассмеялась.
– Сегодня вы в ударе, Сюпер, – сказал Джим, улыбаясь.
– Разве? Ну что ж, в таком случае поехали…
Они направились к Бисуотер-роуд, к полицейскому участку, где Сюпер оставил свой мотоциклет. Потом втроем поехали в ближайший ресторан и заказали чай.
– Я ездил в город по служебным делам, – сообщил Сюпер. – Известно ли вам, мисс Лейдж, что в пироге была специальная начинка?
– Яд? – спросила она и побледнела.
Сюпер кивнул.
– Да. По-видимому, у вашего отца есть враг, который не хочет, чтобы он выздоровел. Думаю, мистер Лейдж видел из своей пещеры слишком много, раз от него хотят отделаться. А может быть, это связано с давними событиями, когда он еще был здоров…
Взгляд Сюпера вдруг остановился на угловом столике и будто замер. Джим проследил за ним.
– Это вы велели Леттимеру прийти сюда? – спросил он.
Сюпер покачал головой.
– Он заметил вас? Зачем он пришел? – не унимался Джим.
– Да, заметил. У него острый взгляд, как у мифологического паука с миллионами глаз.
Но хотя Леттимер и видел Сюпера, он не показал этого. И даже преспокойно продолжал есть мороженое, когда инспектор подошел к его столику и сел напротив. Джим увидел, что Сюпер язвительно что-то говорит своему подчиненному, а тот сидит с непроницаемым лицом.
Когда Сюпер вернулся к своим спутникам, Леттимер уплатил кельнеру и мгновенно исчез.
– Я приказал ему не уходить из участка, а он сидит здесь и спокойно ест мороженое, как мальчик! У вас есть часы? У меня нет. Мне давно обещали выдать часы, но этого так и не произошло. Который час, Ферраби?
Джим посмотрел на часы, и Сюпер поднялся.
– Всего хорошего. Мне пора…
Столик, за которым сидели Эльфа и Джим, стоял у большого окна, откуда были видны улица и мост через реку. Джим заметил: когда Сюпер вышел из ресторана, за ним на почтительном расстоянии последовал какой-то человек. Джим навел бинокль и узнал Леттимера.
– Очень странно! – пробормотал он. – Сюпер приказал ему отправиться обратно в участок, а он, кажется, не спешит…
Джим и Эльфа просидели в ресторане еще около получаса. Потом они вышли к автомобилю, ожидавшему их у входа. Джим хотел уже запустить мотор, когда услышал чей-то возглас.
– Извините, мистер Ферраби!
Он оглянулся и увидел странного субъекта. По грязной соломенной шляпе и рваным сапогам можно было определить, что это – бродяга.
– Разве вы не помните меня? Я Салливен, тот, против кого вы выступали в качестве обвинителя.
– Черт возьми! – процедил Джим, – вы – тот преступник, которого следовало посадить за решетку?
– Да, это я, – ответил Салливен, нисколько не смущаясь. – Не дадите ли вы мне немного денег, чтобы уплатить за ночлег? Я уже провел семь ночей под открытым небом.
Заметив улыбку на лице Эльфы, Джим смущенно пояснил ей:
– Это тот самый бедняга, о котором мы недавно говорили. Помните, я выступал против него с обвинением…
В этот момент из-за угла показался конный полицейский. Салливен тоже его заметил.
– Дайте мне пару шиллингов, – настойчиво попросил бродяга, – сжальтесь надо мной! Я не могу больше ночевать на улице! За неделю я заработал всего один шиллинг: доставил пирог по нужному адресу.
Джим крепко схватил Салливена за руку.
– Погоди, дружище. Это очень важно! Что за пирог ты отнес? Кто тебе его дал?
– Незнакомый господин. Он остановил меня на берегу Темзы и спросил, не хочу ли я заработать шиллинг. Я обрадовался и отнес пакет с пирогом в бюро посыльных на Трафальгар-сквер.
– А ты помнишь, как выглядел этот господин?
– Не помню…
Полицейский придержал лошадь и смотрел на бродягу. Джим вышел из автомобиля, представился полицейскому и сообщил, что бродяга – именно то лицо, которое старший инспектор Патрик Минтер разыскивает по делу о попытке отравления.
Обратившись к Салливену, полицейский приказал:
– Следуй за мной! Если попробуешь сбежать, застрелю!
В тот же вечер Салливен был отправлен на допрос к Сюперу. Показания бродяги мало что дали. Он заявил, что не успел рассмотреть лицо господина, вручившего ему пакет, не помнит, как тот был одет и какого он возраста…
– Этот господин так разговаривал со мной, – говорил бродяга, – что я принял его за сыщика.
– Объясни, что ты имеешь в виду, – мягко сказал Сюпер. – Он что, говорил не так, как остальные смертные? Он вел себя, как сыщик? Ну, говори же!
– Да, вручая мне пакет и письмо, он говорил таким образом, что я именно так и подумал, – продолжал объяснять растерянный Салливен.
Сюпер помолчал и решительно произнес:
– Мне сообщили, что ты просил денег на ночлег. На эту ночь ты получишь кров, притом бесплатный. Сержант, отведите его в камеру!
Мистер Гордон Кардью очень много читал. Он посвятил науке долгие годы. Через его руки прошли сотни книжных томов. Кардью читал даже по ночам, потому что страдал бессонницей. Уже с рассветом он, лежа в постели, часто снова принимался за прерванное коротким сном чтение. Кардью считал, что антропология – самая интересная наука на свете, а бесстрастные описания умерших преступников более занимательны, чем захватывающий современный роман.
Кардью еще лежал в постели и читал трактат по физиогномике, который написал знаменитый криминалист Мантегацца[70], когда раздался стук в дверь и вошла горничная. Она принесла утренний чай. Горничная поставила чашку на столик у кровати.
– Мистер Минтер ждет внизу, сэр, – сообщила она.
– Минтер? – спросил Кардью, встрепенувшись. – А который час?
– Половина восьмого, сэр.
– Минтер пришел так рано? Гм… Скажите ему, что я выйду через несколько минут.
Кардью накинул халат, надел домашние туфли и спустился по лестнице в зал, где сидел Сюпер. Поздоровавшись, Сюпер объяснил цель своего прихода.
– У меня в камере сидит субъект по фамилии Салливен. Вы не помните его? Не так давно он пытался взломать дом Эльсона…
– Вот как? Я хорошо помню обстоятельства взлома. Ведь против этого человека выступал обвинителем мистер Ферраби.
– Поэтому-то Салливен и вышел на свободу, – сердито сказал Сюпер. – Вчера он опять попал в наши руки. Я пришел к вам не потому, что обеспокоен судьбой этого бродяги. Дело в том, что вы ученый адвокат, а я всего лишь старый необразованный человек. Мне кажется, Салливен что-то от меня скрывает, не хочет говорить. А он знает больше, чем сказал. Я пробовал и так и эдак заставить его быть поразговорчивее, но все бесполезно. Я не принимал ваших идей, ведь я старомодный полицейский, отдающий предпочтение проверенным методам розыска. Микроскопы и сонаты Шопена ничего для меня не значат. Но я дальновидный человек и никогда не перестаю учиться у сведущих людей…
Сюпер сделал паузу и посмотрел на Кардью, чтобы понять, какое впечатление произвели его слова.
– Хорошо, но причем тут я? – удивился тот.
– Вы адвокат, – сказал Сюпер. – Вы привыкли иметь дело с подобными субъектами и добиваться от них признания…
– Вы хотите, чтобы я взял на себя допрос этого бродяги? Но ведь это странно! Почему вы не обратитесь к мистеру Ферраби?
– Он обвинял этого преступника, а его оправдали, – презрительно заметил Сюпер. – Конечно, никто не сможет заставить вас допросить Салливена, просто эта мысль пришла мне в голову прошлой ночью. Удивительно, но хорошие идеи всегда рождаются ночью.
– Совершенно верно, – живо подхватил Кардью. – Моя теория об убийстве Дженни тоже пришла мне в голову в два часа ночи. Итак, мистер Минтер, если вы считаете необходимым, чтобы я допросил бродягу, я приду в участок. Но предупреждаю вас: я всего лишь теоретик…
Сюпер облегченно вздохнул: его маневр удался.
– Многие думают, – с подчеркнутым смирением продолжал он, – что я не могу унизить себя, обратившись за советом к знатоку.
Но я не самодур и понимаю: пытливый ум практика должен ценить идеи теоретика.
Кардью был польщен, но чутьем угадывал что-то неладное.
– Однако скажите, почему арестован этот бродяга, что вы хотите от него узнать? – спросил он.
– Он арестован за соучастие в покушении на жизнь человека, – начал объяснять Сюпер. – Салливен взял у какого-то господина на берегу Темзы маленький вишневый пирог. Пирог вместе с письмом был доставлен в бюро посыльных на Трафальгар-сквер, а оттуда посыльный принес все это в больницу на Вимут-стрит. В пироге нашли яд – аконит. Салливен утверждает, что не помнит человека, поручившего ему отнести пирог, но он врет как сивый мерин!
Лицо мистера Кардью исказилось. Наступила пауза.
– Необычный случай! – наконец произнес он. – Поразительно! Вы на самом деле хотите, чтобы я допросил Салливена? Вы не подшучиваете надо мной?
– Подшучиваю? Я не способен на это, мистер Кардью.
Адвокат подпер руками подбородок и задумчиво уставился в угол.
– Необычная история… она даже звучит неправдоподобно… – заговорил он. – Неужели такая история действительно произошла в нашей цивилизованной стране? Ну, хорошо, Минтер, я приду, чтобы допросить Салливена, хотя и не обладаю большими познаниями в практической криминалистике. Вы связываете все это с убийством Дженни?
– Да, безусловно, – сказал Сюпер.
Потом инспектор отправился в участок и разбудил Салливена.
– Вставай, сын человеческий, пробил твой последний час на этой грешной планете! Не падай духом, дружище!
Салливен встал с твердой скамьи и протер глаза.
– Который час? – спросил он.
– Для тебя не существует времени, бродяга, – грозно заявил Сюпер. – Сейчас придет первоклассный адвокат, который перевернет твое нутро. Только не лги ему, дружище! Он гений-психолог и будет читать все твои мысли. Тогда, братец мой, ты расскажешь всю правду о человеке, который дал тебе пакет на берегу Темзы.
– Я не помню этого человека! – воскликнул перепуганный Салливен. – Я бы сразу сказал вам, если бы запомнил его!
Сюпер покачал головой.
– Рассказывай сказки своей бабушке, а не мне. Полицейского ты замечаешь за милю, а лица господина, что дал тебе шиллинг, не запомнил?
– Идите вы к черту вместе с вашим адвокатом! – закричал Салливен. – Я ничего не знаю и знать не хочу!
– Смотри, бездельник, как бы тебе не болтаться на веревке! – сказал Сюпер и захлопнул дверь.
Он шел к входу в участок; вдруг из-за угла показался лимузин Кардью. Машина подъехала к воротам, шофер затормозил и со всех ног бросился к инспектору.
– Мистер Минтер, скорее! Мистер Кардью усыплен хлороформом… он лежит в своей комнате. Скорее за мной!
– Почему вы сразу же не позвонили мне? – в бешенстве заорал Сюпер, запрыгивая в лимузин.
– Телефонные провода перерезаны, – ответил шофер.
– Ого! «Большая Нога» предусмотрел все, – заметил Сюпер с мрачной улыбкой.
Кардью лежал на оттоманке. Комната была насыщена приторным запахом хлороформа. Адвокат был бледен как смерть. Он очнулся за несколько минут до появления Сюпера.
– Что случилось? – спросил сыщик.
– Я, наверное, спал… не знаю, что со мной было, – пробормотал Кардью. – Когда вы ушли, я вернулся в свою комнату и прилег, чтобы обдумать ваше странное предложение… Ночью я спал плохо и потому задремал… Слуга случайно вошел в комнату и увидел меня лежащим с куском полотна на лице. Его шаги, по-видимому, помешали преступнику. Окно было открыто. Злоумышленник бежал…
Сюпер подошел к окну и выглянул в сад. Он заметил на цветочной грядке какой-то блестящий предмет. Сыщик бросился вниз по лестнице и поднял его. Это была разбитая бутылочка с надписью «Хлороформ Б. П.». Бутылочка была, видимо, недавно открыта, и там, где она лежала, завяли цветы.
Инспектор поднял голову и посмотрел на открытое окно. Нетрудно было спуститься из окна в сад. Никаких следов на маленькой грядке под окном не было, но если бы кто-то прыгнул в окно, он мог, минуя грядку, приземлиться на дорожку, посыпанную щебнем.
Сюпер посмотрел на бутылочку. Внизу стояли начальные буквы названия фирмы, продавшей хлороформ, но из этого, конечно, трудно было заключить, кто же купил его.
Телефонный провод тянулся вдоль стены на высоте человеческого роста. Он действительно был перерезан. «Перерезан теми же щипцами, что и мой провод у сарайчика», – отметил Сюпер.
Он вернулся к адвокату, который уже пришел в себя и сидел на стуле.
– Вы никого не заметили в саду? Где же был ваш садовник? – спросил Сюпер.
– Он в сарае, с самого утра занят пересадкой цветов. Я слышал шорох, когда лежал в постели, но не обратил на него внимания.
– Окно было открыто?
– Наполовину открыто и закреплено крючком, который легко поднять. Когда же слуга вошел, окно было распахнуть настежь.
Сюпер исследовал кусок сложенного полотна. Хотя хлороформ испарился быстро, полотно у изгибов было еще мокрым. Сюпер поднял подушку, на которой лежал Кардью, и нагнулся, чтобы заглянуть под кровать.
Мистер Кардью слабо улыбнулся.
– Не улыбайтесь, я не ожидал найти здесь вашего врага, – заметил Сюпер. – Мне вдруг показалось, будто я кое-что обнаружил. Вы не поцарапали себе руки?
– Поцарапал руки? Что вы такое говорите…
Сюпер тщательно осмотрел пальцы Кардью.
– Я думал, вы поцарапали себе пальцы. – Инспектор казался разочарованным. – Итак, отпала еще одна моя версия… У меня они слишком быстро рождаются… Этим должен заняться сыщик, мистер Кардью, и у меня есть на примете один первоклассный…
– Напрасно тревожитесь, – отозвался адвокат. – Я сам могу себя защитить.
– Ну, в этом я не сомневаюсь, – сказал Сюпер.
– Алло! Мистер Ферраби? Прошу вас немедленно прибыть ко мне в участок. Я вам объясню все при встрече… Да, это очень важно!
Сюпер повесил трубку и принялся разбирать почту.
Через двадцать минут Джим Ферраби уже сидел рядом с ним в участке. Сюпер объяснил ему, что он как чиновник прокуратуры должен заменить Кардью и добиться признания у Салливена.
– Но, Сюпер… вы, конечно, не успокоитесь, пока этот проклятый бродяга меня не замучит; раньше я скомпрометировал себя из-за него на суде, потом возился с ним во время ареста, а теперь еще должен допросить его… Нет, дорогой друг, не могу.
– Да, я не успокоюсь, пока на виселице не окажется некто по кличке «Большая Нога», – невозмутимо заявил Сюпер. – Я бы не тревожил вас напрасно, но «Большая Нога», величайший преступник Лондона, усыпил величайшего теоретика и антрополога нашего века как раз в тот момент, когда последний хотел выжать из вора Салливена всю правду.
– Вы говорите о Кардью? Что с ним? – спросил Джим.
– Хитрый дьявол – «Большая Нога» – напал на мистера Кардью. Мозг этого негодяя работает не хуже его ноги. По-видимому, он подслушал мой разговор с Кардью. Я заранее знал, что с адвокатом что-то произойдет. Даже если бы я окружил Кардью целой армией сыщиков, «Большая Нога», живущий идеями Ломброзо[71], был бы неуловим.
Джим недоверчиво взглянул на Сюпера. Он не знал, говорит инспектор серьезно или насмехается над Кардью.
– Но скажите же, что случилось? – настаивал Джим.
Сюпер подробно рассказал ему о несчастном случае с Кардью и о перерезанном телефонном проводе. И Джим в конце концов согласился допросить Салливена.
Но это ничего не дало. Через час Ферраби вернулся к Сюперу и сообщил ему о результатах допроса.
– Я и не ожидал, что вы заставите его говорить, – успокоил его Сюпер. – В вашем присутствии Салливен чувствует себя уверенно, ведь однажды он уже выскользнул из ваших рук безнаказанным. Я знал, что так оно и будет…
– Но Салливен говорит правду, – раздраженно произнес Джим. – Мне нужно идти, Сюпер.
– Не уходите, Ферраби, вы мне очень нужны.
– Я ухожу. Честное слово, не знаю, зачем вы меня опять сюда вызвали. Салливен не может говорить о том, чего не знает.
Сюпер посмотрел на часы. Они показывали четыре.
– Я три часа боролся с собой. Во мне боролись справедливость и честолюбие, и справедливость победила! Вот зачем я вас вызвал, Ферраби!
Инспектор вынул синий ордер и заполнил его. Джим наблюдал за ним и ждал, что будет дальше.
– Не уходите, Ферраби! Вы чиновник государственной прокуратуры и должны подписать вот этот документ.
Джим посмотрел на бумагу. Это был ордер на арест мистера Стивена Эльсона за незаконное владение имуществом.
– Вы всерьез хотите, чтобы я это подписал?
– Да. Единственной мерой пресечения для Эльсона является арест. Завтра этот документ будет передан мировому судье, но пока что нужна ваша подпись. Завтра этот ордер может оказаться бесполезным.
– Но ведь по этому обвинению я не могу подписать ордер на арест.
– Я сам еще точно не знаю, какое обвинение ему предъявить, пока он не сидит у меня под замком, – сказал Сюпер. – Мистер Ферраби, я рискую своей должностью, но я должен крепко держать Эльсона в своих руках. Потом я расскажу вам все подробно. А сейчас подпишите ордер на арест Эльсона.
Джим подумал с минуту, потом взял перо и поставил свою подпись.
– Отлично! Справедливость победила! Поедем со мной, Ферраби, вы увидите кое-что интересное! – возбужденно блестя глазами, заявил Сюпер.
Когда Джим отвозил Сюпера в Хиль-Броу, он не знал еще, зачем нужен этот ордер. Только потом ему стало об этом известно.
Горничная Эльсона открыла им дверь и пригласила в зал. Потом она поднялась наверх и постучала в комнату хозяина. Через минуту горничная спустилась к посетителям.
– Мистера Эльсона нет в комнате, – сообщила она. – Он, должно быть, гуляет по саду. Если вам угодно подождать…
– Ничего, мисс, не беспокойтесь, я сам найду вашего хозяина. Я знаю здесь все уголки, – сказал Сюпер.
Эльсона действительно не было в доме. Прислуга высказала предположение, что хозяин на пустоши, где раньше бродил какой-то бездомный певец.
Пустошь находилась рядом с холмиком за красной кирпичной стеной. С возвышения можно было озирать окрестности: кустарник был довольно низок.
– Я не верю, что Эльсон бежал, – сказал Сюпер.
– Но зачем он нужен вам именно сейчас? – вопрошал Джим, который все еще ничего не понимал.
– Он мне нужен, и это все! – будто не слыша вопроса, повторял Сюпер.
– Вы подозреваете, что Эльсон причастен к убийству?
– Да, но не к убийству мисс Шоу…
– Тогда почему вы хотите арестовать его именно сегодня?
– Потом, потом все узнаете!
Сюпер подбежал к пустоши, поднялся на холм и огляделся.
– Вон там есть тропинка, – сказал он Джиму. – Скорее по ней, туда, где заканчиваются владения Эльсона!
То, что Сюпер назвал тропинкой, было не больше, чем чьими-то следами, проложенными зигзагообразно между канавами. Наконец следы пошли параллельно изгороди.
– Не верю, что он здесь, – сказал Джим. – Неужели вы думаете, что он удрал?
Сюпер свирепо взглянул на него.
– Что вы пристаете ко мне с вопросами? – гаркнул он. – Разве вы не видите, в каком я состоянии?!
– Но я только хотел узнать ваше мнение, – растерянно пробормотал Джим.
– Тс… Тс!.. – свистящим шепотом произнес Сюпер, прижав палец к губам.
Со стороны пустоши донесся странный звук: «Хлоп, хлоп, хлоп!»
– Падают деревья, – сказал Джим.
Сюпер не удостоил его ответом.
Они побежали и через пять минут были в конце дорожки, ведущей к круглой лощине. Чтобы продвигаться вперед, нужно было продираться через кусты. Сюпер шел первым и придерживал ветви. Сначала Джим подумал, что это – проявление вежливости, но, перегнувшись через плечо инспектора, вдруг увидел скорчившееся тело, лежащее в луже крови.
Это был Эльсон. Сюпер подошел к нему и перевернул его на спину. Потом нагнулся и покачал головой.
– Тремя пулями наповал. Ах, Эльсон, Эльсон! Если бы я арестовал тебя утром, ты был бы жив! – сказал Сюпер, становясь на колени перед бездыханным телом.
– Господи, кто это сделал? – в ужасе спросил Джим.
– Кто сделал? – Голос Сюпера вдруг понизился до шепота, и Джиму пришлось напрячь слух. – Это сделал тот, кто убил Дженни Шоу, кто прислал мистеру Лейджу отравленный пирог, кто усыпил Кардью, одним словом, одна и та же рука, одна и та же воля. Он очень последователен, этот дьявол «Большая Нога», он сверхъестественно ловок. Он ничего не забывает… Во имя всех святых, не выпрямляйтесь, Ферраби! Я опустился на колени не потому, что хочу помолиться за Эльсона, а затем, чтобы быть в безопасности. По крайней мере, один из нас должен, в интересах справедливости, вернуться отсюда живым.
Холодная дрожь пробежала по телу Джима.
– Он здесь… в кустарнике? – прошептал Ферраби, и у него на лбу выступил холодный пот.
– Да. Убийство было совершено минут семь-восемь назад. Вы помните звук, который мы услышали, когда были у изгороди? Вы думали, это падают деревья, но это были выстрелы из пистолета, снабженного глушителем.
Во время их еле слышного разговора Сюпер зорко следил за тем, что происходило вокруг. Он старался уловить за шелестом листьев малейший шорох. Джим увидел, как взгляд Сюпера вдруг остановился на желтом кустарнике. Инспектор еще больше нагнулся и указал рукой на куст, который рос слева.
– Быстрей направо! – крикнул он и, когда Джим вне себя от страха прыгнул в укрытие, припал к земле.
Хлоп, хлоп, хлоп!
Что-то прожужжало рядом с ухом Джима. Он услышал треск веток и шуршание листьев. В тот же миг Сюпер прыгнул к нему за куст.
– Мчитесь что есть мочи, но, ради бога, не выпрямляйтесь!
Они бросились бежать по тропинке, но через несколько метров опять нырнули в кусты, потому что вновь раздался приглушенный пистолетный выстрел. Выждав несколько секунд, Джим и инспектор побежали к кустам, которые находились в отдалении.
– Теперь мы можем сбавить темп, он не последует за нами, – сказал Сюпер. – Я не видел его, я следил за птицей, которая хотела сесть на тот куст, но, испугавшись, метнулась в сторону. Я понял: птица улетела, заметив кого-то под кустом. Знаете ли, Ферраби, я утром нашел в своем инкубаторе двадцать новых цыплят; они, конечно, не из-под наседки, зато я получаю за них хорошие деньги.
Джим менее всего был расположен сейчас говорить о птичьем дворе Сюпера.
– Где же теперь «Большая Нога»? – спросил Ферраби, оглянувшись назад.
– Этот дьявол? О, он уже в безопасности! Он убежал после того, как выстрелил. Мне тоже следовало бы иметь такой пистолет, но у меня его нет. Я постараюсь сделать так, чтобы Кардью с сегодняшнего вечера находился под защитой полиции. Мне давно следовало позаботиться об этом.
– Вы полагаете, ему грозит опасность?
– Несомненно. Я понял это уже тогда, когда он начал публично излагать теории относительно убийства мисс Шоу. Его версия не совсем точна, но все-таки настолько близка к истине, что стала опасной для кого-то.
Они добрались до холмика. Сюпер остановился и оглянулся. Он поднялся выше и осмотрел место за кустарником.
– Убийца удрал, – сообщил сыщик.
Сюпер и Ферраби направились в дом Эльсона.
Инспектор в течение десяти минут отдавал распоряжения по телефону и вел какие-то беседы. Потом он сел на стул, закурил трубку и стал задумчиво смотреть вдаль, бормоча что-то себе под нос.
В это время в Хиль-Броу уже прибыли на мотоциклетах и автомобилях полицейские. Вскоре подоспел новый отряд вместе с каретой «скорой помощи». Сюпер взял с собой несколько констеблей и направился с ними к тому месту, где лежал Эльсон. Сюпер хорошо помнил, как лежало тело и что карманы на одежде Эльсона были в порядке. Теперь же карманы убитого были вывернуты, а положение тела было изменено.
– Мы помешали молодчику в его работе, и он спрятался в кустах, – констатировал Сюпер. – Ого! Ловкий парень, нечего сказать! Вы видели Леттимера? – добавил он вдруг.
– Его не было в участке, когда я оттуда уехал, – ответил дежурный сержант. – Я оставил записку, чтобы он немедленно прибыл сюда.
Сюпер ничего не ответил. Он обогнул кустарник и начал изучать землю под ним. Вскоре инспектор обнаружил гильзы от патронов, но продолжал рыскать в кустах, как гончая собака.
– У меня тонкий нюх, – похвастался он Джиму. – Вы не чувствуете запаха?
– Нет, кроме аромата зелени, ничего не чувствую.
Между тем прибыл коронер, и Сюпер с Джимом вернулись к тому месту, где лежал труп. Коронер осмотрел убитого и приказал увезти его.
– Пойдемте за мной, Ферраби, – сказал Сюпер. Он дошел до можжевельника и указал на место между двумя кустами. – Вот здесь стоял убийца. Он ушел в этом направлении. Идите за мной, я покажу вам его след…
Джим чувствовал себя совершенно разбитым. Он был настолько подавлен случившимся, что еле передвигал ноги. Зато с Сюпером все обстояло иначе. Он был заряжен энергией, как молодая гончая.
– Кажется, Ферраби, и вас придется взять под защиту полиции, – заметил инспектор, – но больше всего, по-видимому, в защите нуждаюсь я. Уже в третий раз я избежал смерти от рук «Большой Ноги». Но я откажусь от защиты. Ведь у меня есть шансы поймать преступника в самое ближайшее время, может, еще до того, как прооперируют мистера Лейджа.
– Неужели результат операции может повлиять на поиски убийцы мисс Шоу? И от этого зависит, поймают ли «Большую Ногу»? – недоумевал Джим.
– Если мистер Лейдж выздоровеет и снова обретет память, весь таинственный клубок будет настолько легко распутать, что даже начинающий сыщик сумеет схватить «Большую Ногу». Но сейчас, когда Лейдж еще болен, это нелегко… У меня есть только подозрения, но нет доказательств. Да, Ферраби, у меня нет доказательств, а судьи всегда требуют наличия безупречных свидетелей, видевших убийцу в тот момент, когда он совершал убийство. Им желательно предоставить чуть ли не четкую фотографию сцены убийства. Да, судьи в некотором отношении правы, ведь дело идет о жизни и смерти… Знаете ли вы палача? – вдруг спросил Сюпер, идя по лесной тропинке.
– Не имел удовольствия с ним познакомиться, – отозвался Джим невыразительным голосом.
– Это чудесный человек. У него нет комплексов. Я знал палача, который требовал для себя самых изысканных блюд, но тот, о котором я говорю, – само воплощение скромности. Этот человек любит пиво с сыром. Он очень миролюбив и содержит парикмахерскую в Ланкшире. Он часто брил меня.
Джим невольно вздрогнул. Сюпер продолжил:
– Если бы криминальные расследования строились только на подозрениях, этот палач смело мог бы сидеть в своей парикмахерской и брить людей, вместо того чтобы вешать их. Он жаловался как-то, что ремесло парикмахера не дает большого заработка. Ведь углекопы, живущие в том районе, бреются только раз в неделю. Кроме того, еще эта мода на безопасные бритвы… Так вот, я бы охотно предоставил ему материал для побочного заработка…
Джим уже изучил Сюпера, говорившего о страшных вещах с философским спокойствием. Он знал также, что инспектор болтает без остановки, когда его мозг усиленно работает над тем, что не имеет с предметом разговора ничего общего.
– Удивительно, что все люди убеждены: совершив преступление, человек обязательно должен лишиться рассудка. Они представляют себе «Большую Ногу» сумасшедшим садистом с пеной у рта… А вот здесь он повернул в другую сторону, – вдруг оборвал себя Сюпер, отодвинув ветку молодой яблони.
Добравшись до поляны, они увидели забор из проволоки. Сюпер перегнулся через него и взглянул на дорогу, тянущуюся вдоль границы между владениями Кардью и Эльсона.
– Эта поляна принадлежит Кардью, – сказал Сюпер. – Она не столь запущена, как Хиль-Броу… Хотел бы я знать, жив ли еще Кардью?
– Вы ведь не думаете, что… – Джим не закончил фразу.
– Этого никто не может знать, – сердито буркнул Сюпер.
Потом он перелез через забор и осторожно пошел по крутому спуску к пыльной улице. Джим поплелся за ним.
– Дорога узкая, значит, можно перепрыгнуть через нее. Если убийца пошел по траве… Но кто это?
Человек медленно шел по улице. Его шляпа была сдвинута на затылок, во рту торчала сигара.
– Видите ли, Ферраби, Леттимер тоже явился на работу, – резко бросил Сюпер. – Бедный сержант, он, наверное, проспал тревогу, объявленную полчаса назад, как тот соня, который не слышал фабричного гудка и пришел на работу в полдень. Здравствуйте, мой бравый сержант! – произнес инспектор, когда Леттимер подошел к нему. – Вы что, были на свадьбе?
– Нет, – смущенно ответил Леттимер, – но я слышал, что здесь произошла неприятная история.
– Вот как? Вы только теперь услышали об этом? – желчно осведомился Сюпер. – Потому-то вы и прибежали сюда так быстро?
– Я думаю, мне незачем было спешить, – холодно возразил Леттимер. – Один из слуг Эльсона рассказал мне, в чем дело, и я решил пойти по этой дороге, чтобы сэкономить время. К тому же я рассчитывал найти след. Ведь ясно, что убийца вышел из кустов на эту дорогу.
– На улице много пыли, не хотите ли собрать ее для исследования? – мрачно спросил Сюпер. – Идите к дому мистера Кардью и посмотрите, что там творится. Не отходите от него, пока я вас не сменю. Не упускайте адвоката из виду и установите ночную охрану у его дома. Вы поняли?
– Да. Должен ли я сообщить мистеру Кардью, что он находится под защитой полиции?
– Скажите ему все, что сочтете нужным. Если Кардью заметит вас, когда вы будете сидеть на ступеньках его дома, он догадается, в чем дело. Если мистер Кардью выразит желание провести измерения кустарника, можете ему это разрешить. Но дайте ему в провожатые несколько полицейских или других надежных людей. Одного его вы не должны выпускать из дома. Я возлагаю ответственность за его жизнь лично на вас. Если Кардью будет найден мертвым в своей комнате, отвечать будете вы.
– Слушаюсь, сэр, – сказал Леттимер и зашагал обратно той же дорогой, по которой пришел.
Джим наблюдал за ним, пока сержант не скрылся из виду.
– Леттимер неплохой парень, – сказал Сюпер, – но у него слабо развит инстинкт. Все животные, включая полицейских сержантов, обладают инстинктом, но всякий инстинкт надо развивать…
– Вы слишком доверяете Леттимеру, – холодно произнес Джим.
– Я никому не доверяю, – неожиданно ответил Сюпер. – Я только делаю вид, будто доверяю Леттимеру. Пусть и он в это верит. Если хотите стать хорошим сыщиком, вы не должны верить никому, даже своей жене. Вот почему сыщикам не следует жениться…
Они медленно направились в Хиль-Броу. Сюпер обыскал рабочий кабинет Эльсона. Кроме билета на пароход тут была найдена весьма большая сумма денег. Но никаких документов в письменном столе Эльсона не было, за исключением нескольких счетов и купчей на право владения Хиль-Броу. Сюпер допросил секретаршу покойного – растерянную женщину средних лет.
– Мой шеф почти не вел корреспонденцию, – сказала она, – он с трудом читал и писал. И никогда не посвящал меня в свои частные дела.
– Может, у него вообще не было никаких занятий? – пробормотал себе под нос Сюпер.
Большой ящик для пепла у камина был переполнен. Джим понял, что подозрения Кардью были не напрасны. Сюпер исследовал пепел от сожженных бумаг и нашел остатки двух обгорелых конторских книг, однако написанного нельзя было разобрать.
– Эльсон сжег массу документов, – сказал инспектор. – Несомненно, у него были какие-то акты, написанные если не им самим, то другим лицом. Он спешил уничтожить их, поскольку готовился к бегству. Да, Ферраби, мои теории оправдались на практике!
Прежде чем вернуться в город, Джим Ферраби поднялся к мистеру Кардью, чтобы поделиться с ним впечатлениями о событиях в Хиль-Броу. Джим убедился, что Кардью сейчас куда меньше уверен в своей безопасности, чем прежде. Адвокат, бледный и расстроенный, сидел в библиотеке, нервно вздрагивая при малейшем шорохе. Он был убит горем, узнав от Леттимера о смерти Эльсона.
– Одна трагедия за другой! – глухо пробормотал Кардью, когда Джим вошел. – Это ужасно, Ферраби, ужасно! Кто бы мог подумать, что бедный Эльсон… – Он не окончил фразу. – Вам ведь известно, что он получил предупреждение, будто ему грозит смерть. Сержант Леттимер рассказал мне, что бумага с предупреждением была прикреплена прошлым вечером к двери Эльсона.
Очевидно, это предупреждение беспокоило Кардью больше, чем сама смерть соседа. Он постоянно возвращался к истории с таинственной угрозой. Джим не знал о записке, прикрепленной к двери Эльсона, и был удивлен, почему Сюпер до сих пор ничего не сообщил ему об этом. «Загадочный человек этот Сюпер, но что стоит за его умением молчать?» – подумал Ферраби.
– Видите ли, мистер Кардью, эта записка, наверное, имела связь с предполагаемым арестом Эльсона, – задумчиво произнес Джим.
– Что? Эльсона хотели арестовать?! – не своим голосом вскричал Кардью, и в его глазах появилось выражение ужаса. – Но что он сделал?
– Он, должно быть, что-то украл, или в его руках было краденое имущество. Я лично подписал ордер на его арест. Я сделал это весьма неохотно, но Сюпер настаивал. Наверное, он имел на то особые основания. Сюпер прибыл в Хиль-Броу, чтобы арестовать Эльсона, но нашел его убитым в кустарнике.
– Как, Эльсона должны были арестовать? – повторял Кардью, потрясенный этой новостью. – Этого я не могу понять… Боже мой, я еле держусь на ногах, мои мысли путаются. Какой ужас! Надеюсь, на сей раз при осмотре трупа следственными властями мои показания не понадобятся? Ах, я совершенно разбит этим новым несчастьем. – Он зашагал по комнате, заложив руки за спину…
Когда Джим вышел из дома, Леттимер сидел в саду на стуле под тутовым деревом. Он дремал и встрепенулся, когда Джим с ним заговорил.
– Слава богу, что это вы, а не Сюпер, – сказал сержант. – Он прочитал бы мне нотацию. Здесь такой усыпляющий воздух!
Джим заметил, что со своего места Леттимер мог наблюдать за входом в Баркли-Стек и в то же время видеть окна рабочего кабинета Кардью.
– Вы так же, как и Сюпер, считаете, что мистеру Кардью грозит опасность? – спросил Джим.
Леттимер пожал плечами.
– Если Сюпер говорит, что Кардью грозит опасность, значит, так оно и есть. Сюпер никогда не ошибается…
Джиму показалось, что в голосе Леттимера прозвучала ирония.
– Вы были вместе с Сюпером, когда он нашел труп Эльсона? – поинтересовался сержант. – Как он был убит? Его застрелили?
– Да, – ответил Джим. – Слава богу, что мы не разделили его участь. Только благодаря чутью Сюпера мы спаслись от смерти.
Леттимер посмотрел на него широко открытыми глазами.
– Правда? Разве убийца Эльсона стрелял также и в вас? Черт возьми, этот «Большая Нога» обладает стальными нервами! А вы разве не видели убийцу? – добавил он вдруг.
– Нет, – ответил Джим.
Вопрос Леттимера показался ему странным.
– Сюпер также его не заметил, – продолжал сержант. – А может быть, он все же видел его? Сюпер видит за милю, хоть и утверждает, что близорук. Два года назад он вдруг заявил, что совершенно оглох, и начальство готово было поверить ему, хотя он попросту смеялся над ними. – Помолчав, Леттимер испытующе взглянул на Джима и добавил: – Теперь я понимаю, почему Сюпер взял мистера Кардью под защиту полиции. «Большая Нога» – ловкий парень! – Он подавил зевок. – Простите, я простоял прошлую ночь в карауле, – объяснил сержант, вынимая платок.
Джим почувствовал запах духов.
– Никогда бы не подумал, что вы такой щеголь, – добродушно заметил он.
– Вы имеете в виду духи? – Леттимер понюхал батистовый платок. – Моя хозяйка всегда кладет душистые прослойки между моими платками. Но я запретил ей делать это…
Джим вдруг вспомнил сцену убийства Эльсона и способ, с помощью которого Сюпер обнаружил след убийцы. Он уже хотел было задать Леттимеру еще один вопрос, но тот вдруг заговорил сам.
– Сюпер устроил бы скандал, если бы почувствовал запах духов. У него нюх, как у гончей собаки. – Сержант опять зевнул. – Я бы с удовольствием лег сегодня пораньше.
Когда Джим Ферраби возвратился в канцелярию прокуратуры, его начальник еще сидел в своем кабинете, хотя официальные часы приема уже закончились. Джима вызвали в кабинет главного прокурора.
– Кажется, в последнее время вы принимаете участие в расследовании какого-то убийства, – начал сэр Ричард. – В чем, собственно, заключается эта история?
Джим рассказал ему все, что знал. Сэр Ричард слушал его внимательно. Потом сказал:
– Делом руководит старший инспектор Патрик Минтер. Трудно найти лучшего сыщика для раскрытия этого преступления. Однако не слишком ли много секретности?
– Сюпер необычайно скрытен. Несмотря на его словоохотливость, я ничего от него не узнал, – заметил Джим.
Сэр Ричард рассмеялся.
– Раз так, можно быть уверенным в успехе дела. Если Сюпер говорит о каком-то преступлении открыто, значит, убийца неуловим.
Окончив работу, Джим отправился на Кубит-стрит, чтобы повидаться с Эльфой, но не застал ее: она была в больнице.
Джим поджидал ее у порога. У Эльфы был усталый вид.
– Операция состоится только в конце следующей недели, – сообщила она. – Я получила от мистера Кардью срочную телеграмму. Он просит меня прибыть к нему в Баркли-Стек. У него есть для меня важная, неотложная работа.
– Вы не поедете к мистеру Кардью, – решительно заявил Джим. – Он сам сейчас под защитой полиции, и я не могу допустить, чтобы вы подвергались опасности.
Эльфа уже знала из вечерних газет об убийстве Эльсона, но тревога за отца всецело поглотила ее и она просто не могла думать о других вещах.
– Я очень мало знала Эльсона, – только и сказала девушка. – Но как ужасно умереть такой смертью! И все-таки мне придется поехать в Баркли-Стек. Я очень устала, но не могу отказать мистеру Кардью.
– Кардью может подождать, – твердо сказал Джим.
Но, очевидно, Кардью ждать не мог. Когда Джим и Эльфа вошли в квартиру, раздался телефонный звонок. Звонил Кардью. Джим подошел к телефону и снял трубку.
– Алло… Да, это я, Ферраби! Я только что вошел с мисс Лейдж в ее комнату. Она слишком устала, чтобы ехать сегодня вечером в Баркли-Стек.
– Будьте добры, мистер Ферраби, попросите ее, чтобы она все-таки приехала сюда, – настойчиво произнес Кардью. – Я прошу вас не отказать в любезности проводить ее до Баркли-Стек. Буду рад, если кто-то будет находиться в моем доме, тогда я буду чувствовать себя увереннее.
– Неужели дело не терпит отлагательств?
– Да, промедление смерти подобно… Я не могу ждать.
Джим уловил в тоне Кардью беспокойство.
– Мне необходимо немедленно привести в порядок мои дела, а без мисс Лейдж это невозможно.
– Вы полагаете, что вам грозит опасность?
– Увы, я в этом уверен. Мне нужно срочно урегулировать все вопросы. Минтер запретил мне покидать дом… Умоляю вас, приезжайте вместе с мисс Лейдж!
Кардью просил так настойчиво, что Джим обратился к Эльфе с вопросом, зажав рукой трубку, чтобы Кардью ничего не услышал.
– Неужели дело настолько серьезно? Никогда бы не подумал, что адвокат проявит такое малодушие.
– Мне кажется, дело действительно серьезное, – кивнула Эльфа. – Думаю, нельзя ему отказать. Не хотите ли проводить меня?
Перспектива продолжительной вечерней автомобильной поездки вместе с мисс Лейдж и предстоящая ночь под одной крышей с ней казались Джиму весьма заманчивыми. И все-таки, несмотря на это, он пытался удержать Эльфу от поездки, хоть и не очень настойчиво, и Эльфа моментально отметила это своим женским чутьем.
– Передайте мистеру Кардью, что я приеду, – сказала она. – Перемена обстановки пойдет мне на пользу, к тому же мой приезд его успокоит.
Джим обещал Кардью приехать и повесил трубку.
– Я должна сохранять мужество. А в последнее время я начала терять самообладание… Идите, мистер Ферраби, к автомобилю. Я упакую чемодан и сразу же спущусь.
Эльфа еще не ужинала, но она не хотела откладывать поездку. Джим был счастлив, видя рядом с собой любимую девушку.
Когда они прибыли в Баркли-Стек, Кардью был в библиотеке. Он нервно шагал взад-вперед с заложенными за спину руками. Эльфа испугалась, увидев, как разительно изменилось его лицо с тех пор, как она была здесь в последний раз. Адвокат, казалось, постарел, по крайней мере, лет на десять.
– Очень мило с вашей стороны, что вы приехали, – сказал Кардью, пожимая руку Эльфе. – Я не садился за стол в ожидании приятных гостей. Вы ведь еще не ужинали? Я почувствую себя лучше, если что-нибудь съем. По-моему, я сегодня вообще ничего не ел. Прошу в столовую!
Обычно Кардью не пил вина за ужином, но на сей раз на столе стояла бутылка красного портвейна. Выпив, Кардью опять стал бодрым и обрел обычную самоуверенность.
– У меня нервы ни к черту, – признался он грустно. – Столько всего свалилось на голову. А тут еще эта «защита полиции», как называет ее Минтер. – Он сделал паузу, держа бокал в руке. Потом, отпив глоток, продолжил: – Как теоретик-криминалист я не считаю, что мне грозит опасность, но как старый адвокат должен быть готов к любым неожиданностям. Сегодня я вдруг вспомнил, что не составил завещания и не привел в порядок прочие документы. Фактически я так же не готов ко всяким случайностям, как и любой профан-обыватель. Моя последняя воля уже выражена. Когда мисс Лейдж сделает две копии, я попрошу вас, мистер Ферраби, просмотреть их и подписать в качестве свидетеля. Один из моих слуг будет вторым свидетелем.
Эльфа хотела что-то сказать, но Кардью любезно добавил:
– К сожалению, вы, мисс Лейдж, не можете быть вторым свидетелем, поскольку я решил сделать вас наследницей большей части своего состояния.
Изумленная Эльфа приподнялась, чтобы выразить свои чувства, но Кардью снова опередил ее, сделав плавный жест рукой.
– Я уже старый человек. Я еще никогда не чувствовал себя столь одиноким, как сегодня, – произнес он. – У меня нет родственников, только несколько друзей. Очень немногие из них достойны моей благодарности. – Адвокат улыбнулся. – Я завещал старшему инспектору Минтеру, по крайней мере, ради приличия, свою криминалистическую библиотеку, а также некоторую сумму на покупку домика, где он мог бы разместить библиотеку и держать мотоциклет, который к тому времени, надеюсь, уже не будет так грохотать и нарушать мирный сон граждан…
После ужина Кардью и мисс Лейдж отправились в библиотеку, а Джим спустился в сад, чтобы выкурить сигару. Но не успел он пройти и двух шагов, как из темноты вынырнула чья-то фигура.
Оказалось, это был сыщик, которого Джим уже видел однажды в участке Сюпера. Джим поговорил с ним о погоде, об автомобилях, о предстоящих гонках на ипподроме… В то время как они медленно расхаживали вдоль дома, шторы в библиотеке Кардью были подняты, и можно было видеть, что происходит внутри. У стола сидели Кардью и Эльфа. Девушка писала что-то под диктовку.
– Не слишком ли это неосторожно? – сказал Джим. – Ведь оба они хорошо видны со стороны сада…
– Да, лучше им опустить шторы и подвижные ставни, – согласился сыщик.
Джим не хотел беспокоить Кардью и послал с камердинером записку. Он вздохнул с облегчением, когда ставни наконец опустились.
– Странно, почему мистер Кардью сам не догадался об этом? – удивился сыщик. – Ведь он уже давно и постоянно занимается делами, связанными с преступлениями. Теперь же, когда опасность грозит ему…
Поднявшись наверх в свою спальню, Джим распаковал чемодан. Потом опять вышел в сад. Каково же было его удивление, когда он увидел, что ставни в библиотеке Кардью снова были подняты, а силуэты адвоката и его секретарши были видны довольно отчетливо.
– Сюпер сказал, что необходимо наблюдать за всем, что происходит в комнате. За закрытыми ставнями тоже многое может случиться, – объяснил ему сыщик.
– Разве здесь был Минтер?
– Да, он заскочил на минуту, – ответил сыщик, – а потом куда-то уехал.
Ферраби и сыщик болтали до тех пор, пока Эльфа не вышла из библиотеки и не пригласила Джима в кабинет Кардью.
– Мы все привели в порядок. Ужасно сложная работа, – сообщила Эльфа устало. – Мистер Кардью завещал мне огромную сумму. Я возражала, но он отказался изменить текст завещания.
Кардью и Джим подписали документ. Кардью позвонил камердинеру, который тоже подписал бумагу.
– Я прошу вас, мистер Ферраби, сохранить это завещание у себя, – сказал адвокат. – По крайней мере, оставьте его у себя до завтра. Потом я положу его в надежное место. Мы с мисс Лейдж действительно неплохо поработали, и я рад, что все закончено.
У Кардью был спокойный вид. Он даже повеселел.
– Вы очень устали, мисс Лейдж, – сказал адвокат. – Прислуга проводит вас в приготовленную для вас комнату, где вы уже останавливались раньше.
Девушка пожелала спокойной ночи и ушла к себе. Вскоре она уже крепко спала.
Леттимер, дежуривший на пустоши, видел, как погас свет в комнате Эльфы. Он медленно приблизился к дому и лег в траву.
– Тук, тук, тук!
Эльфа беспокойно повернулась в постели и опять задремала.
– Тук, тук, тук!
Девушка проснулась, подняла голову и оперлась на локти. Было ясно, что стучали в окно. Ночь была тиха и безветренна. Эльфа подошла к окну и отодвинула тяжелые шторы. Кругом царил мрак. Окно было открыто настежь. Ставни были закреплены так, что они не могли стучать…
Выглянув в окно, Эльфа услышала хруст щебня на дорожке. Сердце ее часто забилось от страха, но потом она вспомнила, что дом охраняется сыщиком.
– Это вы, мисс Лейдж? – спросили снизу тихим голосом.
– Да. Это вы стучали в окно?
– Нет, – удивился сыщик. – Наверное, вам почудилось.
Эльфа снова легла, но не могла уснуть. Прошло несколько минут, и опять раздался стук:
– Тук, тук, тук…
Девушка встала и прислушалась. Было по-прежнему тихо. Эльфа осторожно высунулась из окна и стала всматриваться в темноту, но ничего не заметила, только за деревьями мерцала горящая точка. Эльфа подумала, что это папироса сыщика. Кто же стучал в окно? Ведь на этот раз она четко слышала ритмичный стук. Девушка еще больше перегнулась через подоконник. Вдруг что-то упало ей на голову и обвило ее шею.
Прежде чем Эльфа успела опомниться, петля стала все туже и туже затягивать ее горло. Эльфа инстинктивно подняла руку, схватила шнур, грозивший задушить ее, и изо всех сил потянула его вниз. Но шнур вырвали из ее руки, и он взлетел кверху. Эльфа попыталась крикнуть, но звук застрял в горле. Девушка судорожно ухватилась руками за оконную раму, ногами зацепившись за умывальник. Умывальник с грохотом упал на пол. В тот же миг в саду вспыхнул яркий свет. Шелковый шнур ослабел, и Эльфа без сознания упала возле кровати. Петля все еще обвивала ее шею.
Сыщик подбежал к окну, подпрыгнул, ухватился за карниз, забрался на подоконник, вскочил в комнату и включил свет. Он снял петлю с шеи девушки и положил Эльфу на кровать. Потом бросился к окну и засвистел в полицейский свисток.
Джим Ферраби услышал свист и полуодетый выскочил из своей комнаты. Он понял, что свистели из комнаты Эльфы. Но ее дверь была заперта. Джим налег на дверь изо всех сил, и замок с треском поддался. Дверь распахнулась, и Джим вбежал в комнату. Сыщик, с которым он разговаривал вечером в саду, стоял возле Эльфы и вытирал ей лицо губкой.
– Приведите девушку в чувство, – сказал он, передавая губку Джиму, а сам выбежал из комнаты и бросился вверх по лестнице.
Джим лихорадочно суетился вокруг Эльфы. Через некоторое время он услышал шаги сыщика в комнате наверху. Чей-то голос из сада спросил:
– Слушай, что-то случилось?
Это был голос Сюпера. Сыщик что-то отвечал сверху.
Эльфа пришла в себя. Джим подбежал к окну, и Сюпер крикнул ему:
– Скорее спуститесь вниз и откройте мне дверь!
Джим уже бежал по лестнице, когда Кардью вышел из своей комнаты с пистолетом в одной руке и со свечой в другой. Джим не остановился на его окрик, чтобы объяснить, что случилось. Он отодвинул засов на двери парадного входа и впустил Сюпера в дом.
Когда они вдвоем вошли в комнату Эльфы, та уже сидела на кровати, накинув на плечи пеньюар. У девушки кружилась голова и болело горло. Она дрожала и время от времени откашливалась. Ей с трудом удалось объяснить Сюперу, что произошло.
Между тем вернулся сыщик. В руках у него была длинная бамбуковая палка.
– Наверху чердак, – сказал он. – Оттуда есть ход на крышу. Я кроме этой палки ничего не нашел. Преступник, видимо, стучал ею по ставням.
Сыщик постучал, и Эльфа вздрогнула: она узнала звук. Сюпер не обратил внимания на палку.
– Итак, он постучал в окно, мисс Лейдж открыла его и высунулась наружу, а злоумышленник накинул ей петлю на шею, – бормотал Сюпер. – Он знал, что на чердаке есть дверь, через которую можно удрать. Я уже говорил, что этот дьявол предусмотрителен и ничего не забывает. Итак, скорее на крышу, по его следам! У вас есть пистолет? Стреляйте в этого черта, если заметите его…
Кардью постучал в дверь. Сюпер вышел к нему в коридор и рассказал о случае с мисс Лейдж. Адвокат был потрясен.
– Ужасно, просто ужасно! Одна драма за другой! Страшно подумать, что я живу в этом доме. Теперь я понимаю, почему вы взяли меня под свою защиту. Да, он мог спрятаться наверху, на чердаке.
Сюпер внимательно взглянул на него.
– Вы знаете, что это за шнур? – спросил он у Кардью.
Тот покачал головой.
– Я никогда его не видел. Какой-то старомодный шнур для звонка. Он очень старый. У меня в доме только электрические звонки…
– Я сразу это заметил, – перебил его Сюпер. – Впрочем, такой шнур можно купить в любом магазине. Вам уже лучше, мисс Лейдж?
Девушка кивнула, стараясь улыбнуться.
– Господа, выйдем из комнаты, чтобы мисс Лейдж могла одеться, – сказал Сюпер. – Я полагаю, лучше ей спуститься вниз. Уже три часа. Рано вставать никому не повредит.
Вошел сыщик. Он доложил Сюперу, что на крыше никого нет.
– Где Леттимер? – спросил инспектор.
– Он дежурит в саду.
Сюпер ничего не ответил и вышел из комнаты.
Когда Эльфа спустилась вниз, Сюпер направился в сад. Джим поспешил за ним.
Из темноты вынырнул Леттимер. Он подошел ближе. Его одежда была в пыли, брюки на колене порваны: не хватало куска ткани. Руки были в грязи.
– Что случилось, Леттимер? – осведомился инспектор.
– Я упал… Я очень спешил, – спокойно объяснил тот.
– Вы заметили кого-нибудь или что-нибудь?
– Нет, я услышал шум в доме, но знал, что вы где-то здесь поблизости, и решил ждать снаружи.
Джим думал, что Сюпер забросает Леттимера вопросами, но, к его удивлению, тот шепнул сержанту что-то на ухо и направился в рабочий кабинет Кардью. Эльфа была уже там.
Джим был недоволен поведением Сюпера и решил узнать причину появления Леттимера в таком подозрительном виде. Войдя в коридор, он взял большой фонарь и начал обыскивать двор. Тут он сделал интересное открытие. У задней части дома стояла прислоненная к стене лестница. Когда Джим поднял фонарь, то увидел, что лестница доходит до самой крыши. У края лестницы что-то висело. Джим поднялся на несколько перекладин и увидел лоскут ткани, нацепленный на гвоздь. Леттимер был в темно-сером полосатом костюме, и этот лоскуток был не только такого же цвета, но и соответствовал дыре на колене его брюк.
Джим положил кусочек ткани в карман, вернулся в дом и, подозвав Сюпера, шепотом рассказал о своей находке. Инспектор внимательно выслушал его и пошел с ним туда, где стояла лестница.
– Все это довольно странно, – пробормотал Сюпер. – Но, возможно, Леттимер поднялся по лестнице совсем с иной целью. Например, чтобы найти на крыше преступника.
– Но он даже не упомянул о лестнице!
– Да, нужно этим заняться, – озабоченно сказал Сюпер. – Только вы, Ферраби, никому не рассказывайте об этом. Это довольно подозрительно, но думаю, что Леттимер обязан был обследовать как лестницу, так и все остальное.
– Но ведь он шел к нам не со стороны лестницы, а со стороны сада! – упорно настаивал Джим.
Сюпер почесал подбородок.
– Это довольно странно, но вы никому об этом не говорите, – повторил он. – Я обязательно расследую этот случай. Я встречаю препятствия, которых не мог предвидеть. Не могу понять, откуда они взялись. Когда человек катится по наклонной плоскости, его уже не остановить. Через полчаса начнет светать…
Сюпер отправился в кабинет, где Эльфа угостила его горячим кофе. Инспектор плюхнулся в низкое кресло.
– Я вам сейчас расскажу кое-что, что вас обрадует, – заявил он.
– Расскажите, и поскорее, мистер Минтер, – попросила Эльфа.
– Операция прошла успешно.
Девушка вскочила на ноги. Ее глаза засияли от радости, она покраснела, но тотчас же побледнела.
– Операция уже… состоялась?… Но она… но они ведь назначили ее на следующую неделю?
– Ее сделали вчера, – сказал Сюпер. – Я сговорился с врачами, чтобы вы ничего не знали, пока операцию не сделают. Однако я полагал, что вам уже известно об операции. Заведующая больницей сказала, что вы оставили для своего отца письмо, которое он должен прочесть, как только будет в состоянии это сделать.
– Но я не оставляла никакого письма, – нервно возразила Эльфа. – Я ведь понятия не имела, что операция должна была состояться вчера вечером.
Сюпер был поражен.
– Вы… вы не оставляли…
Он бросился к телефону, снял трубку и позвонил в больницу.
– Алло… мисс Мад еще спит? Разбудите ее, пожалуйста, и передайте, что полицейский инспектор Минтер хочет срочно с ней поговорить.
Сюпер ждал у аппарата. Эльфа заметила, как изменилось выражение его лица.
– Алло… Это вы, мисс Мад? Будьте любезны вскрыть письмо, оставленное мисс Лейдж для ее отца, и прочесть его содержание… Прошу извинить меня за беспокойство… Нет, нет, все в порядке, она разрешила мне это сделать. Мисс Лейдж здесь, в комнате, откуда я звоню.
Сюпер продолжал ждать. Эльфа увидела, как он кивнул головой.
– Слушаю… Да, очень интересно. Благодарю вас, – наконец сказал он. – Да, будьте любезны сохранить письмо до моего прибытия в больницу… Всего доброго!
Он повесил трубку.
– Что там, в письме? – испуганно спросила Эльфа.
– Наверное, кто-то пошутил. В письме была одна строчка: «Сердечный привет. Любящая тебя Эльфа».
Но… Сюпер говорил неправду. Письмо действительно состояло только из одной строки. Но она гласила:
«Ваша дочь найдена прошлой ночью задушенной».
Сюпер был потрясен: «„Большая Нога“ ни о чем не забывает», – повторял он про себя.
Мистер Кардью принял решение запереть дом, уволить слуг, снять квартиру в городе и в конце лета уехать за границу.
– Это великолепная идея, и вы должны осуществить ее немедленно, – согласился Сюпер, когда Кардью изложил ему свой план. – По-моему, вам следовало бы оставить дом уже сегодня вечером.
Адвокат покачал головой. Он колебался.
– Вряд ли я сумею сегодня выехать из дома, у меня еще не упакованы вещи.
– Я могу дать вам в помощь нескольких полицейских.
– Я проведу эту ночь здесь, – сказал Кардью, подумав с минуту. – Не будете ли вы столь добры поужинать сегодня со мной?
– К сожалению, не могу. Я условился о встрече с одним из моих друзей.
– Так возьмите его с собой и приходите ко мне.
Сюпер колебался.
– Но мне кажется, это неудобно для вас. Мой приятель недостаточно воспитан, чтобы сидеть с вами за одним столом. Однако это отличный парень – простой, искренний и не любит философствовать…
– Сюпер, нам о многом нужно поговорить, – заявил Кардью. – Приводите вечером своего друга сюда, если вы не можете отложить вашу встречу. Мистер Ферраби тоже обещал прийти к ужину.
– И мисс Лейдж также будет? – спросил Сюпер.
– Нет, она проведет сегодняшний вечер у постели отца. Мы с Ферраби сняли для нее комнату в больнице.
Сюпер кивнул и продолжил:
– Вы спрашиваете, составил ли я окончательное мнение о случившемся? Трудно ответить. Конечно, у меня есть определенное мнение, но еще нет доказательств. А доказательства я не могу найти, потому что не знаю причин, которые толкнули «Большую Ногу» на такие страшные преступления. Не только ученому-криминалисту, но и любому простому смертному ясно, что «Большая Нога» убивает людей не только потому, что имеет страсть к убийствам, но и потому, что они ему мешают. Только в фантазиях захудалых бульварных романистов существуют преступники, для которых убийство – потребность. «Большая Нога» душит девушку не потому, что ему нравится убивать, а для того, чтобы ее отец опять лишился рассудка. Когда человек начинает лгать, он вынужден бесконечно плести сеть лжи, чтобы выпутаться из затруднительного положения.
– Вы хотите сказать: «Когда человек начинает обманывать…»
– Это одно и то же, – нетерпеливо прервал адвоката Сюпер. – Ложь – это обман, а обман – ложь. Именно это и случилось с «Большой Ногой»: он начал обманывать и вынужден был плести бесконечную сеть лжи. Всякий раз, когда он видел, что его тайна может быть раскрыта, он прибегал к помощи маленького пистолета, которым устранял с пути опасного человека. Я возьму на себя смелость утверждать, что, за исключением сумасшедших, никто не убивает ради удовольствия. Человек совершает убийство тогда, когда у него нет другого выхода. Он делает это по тем же соображениям, по которым неряшливый школьник позволяет вымыть ему шею, иначе его не пустят в школу. За всеми преступлениями кроется одна причина – желание жить в красивом доме, ездить на автомобиле, иметь возможность пить шампанское и ужинать с танцовщицами, одним словом, – наслаждаться всеми благами жизни. Я знаю человека, отравившего свою жену только потому, что она не позволяла ему курить в помещении. И это – факт! Сходите в Олд-Бел и прочтите обвинительный акт по делу Эрметронка вместе с протоколом врачей. А еще я знаю человека, убившего брата, чтобы выиграть пари у приятеля. Убийство – единственное преступление, которое люди никогда не совершают по собственному желанию. Вот тут-то и ловушка: легко скрыть убийство, но трудно утаить мелкие преступления, которые довели до убийства… Пришел мистер Ферраби?
– Да, – ответил Кардью.
– Это очень мило с его стороны.
– Я хотел бы еще кое о чем спросить у вас, Сюпер, – вдруг заговорил Кардью. – Мой садовник сказал, что вы нашли следы от приставной лестницы. Она так сильно примяла траву, что их нельзя было не заметить.
– К задней стене дома была приставлена лестница, – осторожно сказал Сюпер. – Я унес ее утром, чтобы никого не напугать. Не знаю, откуда она взялась, ведь у вас не могло быть такой длинной лестницы… Да, кстати, что касается моего друга, то он не джентльмен: не умеет правильно держать ложку, проливает суп на скатерть и ест, громко чавкая.
– Вы запугиваете меня, чтобы я его не приглашал, – рассмеялся Кардью. – Но мне безразлично, какие у него манеры. Приводите его сюда, я буду рад.
– Его зовут Уэлс, – сказал Сюпер, пристально взглянув на Кардью. Инспектор ждал вопросов, но Кардью не интересовался личностью Уэлса.
Вдруг Сюпер ударил себя по лбу.
– Каким же я стал забывчивым! Я ведь пригласил к себе и Леттимера, чтобы он познакомился с моим другом!
– Так приходите вместе с Леттимером, – мягко сказал Кардью. – Этот, по крайней мере, знает, как обращаться с ложкой. Мне всегда казалось, что он получил хорошее воспитание… может, даже слишком хорошее…
– Пожалуй, поэтому он не совсем подходит для полицейской службы. Видите ли, Леттимеру предстоит сделать блестящую карьеру: он уже кое-что понимает в антропологии, психологии и тому подобных хитрых науках. Леттимер знает, сколько пальцев у лошади, и он вам охотно скажет, какая разница между отверстиями от револьверных выстрелов и следами от доисторических динамитных взрывов.
– Ну, дорогой инспектор, вы опять начали подтрунивать надо мной! Я вам не могу этого позволить! – добродушно заметил Кардью.
Сказав, что отправляется после обеда в город, адвокат вынужден был согласиться на предложение Сюпера, который настоял на том, чтобы Кардью сопровождал полицейский. Теперь полисмен неотлучно стоял у входа в Кинг-Бенг-Уолк, пока Кардью приводил в порядок свои дела. Адвокат написал несколько писем и, подумав с минуту, позвонил в больницу. Эльфу пригласили к аппарату.
– Алло! Мисс Лейдж? Как вы себя чувствуете?
– Я очень устала. Только что прилегла, но меня позвали к телефону. Вы в городе, мистер Кардью?
– Да, я занят в своем бюро, но к вечеру вернусь в Баркли-Стек. Завтра я запираю свой дом и переезжаю в Лондон, где останусь на пару дней. К сожалению, наша совместная работа окончена, и я позволил себе послать вам чек. Вы помните о ночном взломе в бюро? Мне кажется, будто с тех пор прошел целый год.
– Но ведь это было всего лишь на прошлой неделе!
Поговорив с Эльфой, Кардью вышел на улицу, опустил письма в почтовый ящик и сел вместе с полицейским в свой автомобиль. Адвокат даже не заметил, что за ним следит Леттимер. Сержант сопровождал Кардью от Кинг-Бенг-Уолк до Баркли-Стек. Леттимер следовал в маленьком автомобиле за машиной Кардью. Сержант не доехал до дома и, свернув в поле, спрятал свою маленькую машину во ржи. Потом направился к дому Кардью и продолжил наблюдение.
Леттимер равнодушно шагал по дорожкам, покрытым дерном. Полицейский, провожавший Кардью в город, дружелюбно окликнул его:
– Здорово, сержант! Сюпер искал вас!
– Я никуда не исчезал, – ответил Леттимер. – Теперь вы можете идти.
Сержант взял стул и сел в тени тутового дерева. Кардью увидел его из окна кабинета и послал ему с камердинером коробку сигар. Леттимер улыбнулся и кивнул в знак благодарности.
– Разрешите представить вам мистера Уэлса! – торжественно произнес Сюпер.
Маленький мужчина почтительно встал со стула и протянул руку. Это был тихий, скромный человек с рыжими зачесанными на пробор волосами. На толстой серебряной цепи от его часов красовались брелки. Джиму Ферраби показалось, что в новом воротничке мистер Уэлс чувствует себя неуютно.
– Что он собой представляет? – спросил Джим, когда они остались наедине с Сюпером.
– Он должен послужить символом, – уклончиво ответил Сюпер. – Мистер Уэлс является козырной картой в моей игре. – Глаза инспектора загадочно блестели. – Не исключено, что меня ждут неприятности из-за того, что я осмелился пригласить к ужину этого господина, но другого выхода у меня нет.
– Он сыщик? – спросил Джим.
– Нет, он не сыщик, он мой друг. Я уже рассказал Кардью, кто такой Уэлс.
– Зачем вы берете его с собой на ужин? – удивился Джим.
– Я вам скажу зачем. Когда я пригласил к себе Уэлса, я еще не знал, что Кардью устроит для нас ужин. Но теперь мне известно, что адвокат изложит нам свою теорию об убийстве Эльсона. Кстати, Ферраби, послезавтра вам опять придется давать показания следственным властям по поводу убийства Эльсона… Итак, я отношусь с уважением к версиям Кардью, но хочу указать ему на его ошибки. Уэлс и должен напомнить адвокату, в чем они заключаются.
Джим вынужден был удовлетвориться этим странным объяснением. Ему не хотелось ехать, но Кардью настойчиво упрашивал его быть к ужину, и Ферраби согласился провести еще одну ночь в Баркли-Стек.
– Это прощальный ужин мистера Кардью, – сказал Сюпер. – Завтра, если он еще будет жив…
– Вы ждете сегодня вечером чего-то необычного? – испуганно спросил Джим.
– Да. Если завтра Кардью еще будет жив, он захочет переехать в город, а потом – вон из Англии. «Большая Нога» расстроил его нервы, и адвокат спешит уехать…
Джим Ферраби явился первым на ужин к мистеру Кардью, который просил его не утруждать себя переодеванием в смокинг, поскольку гостей будет мало.
– Должен вам сообщить, что я пригласил Сюпера, который приведет с собой сержанта Леттимера и еще какого-то друга… Вы уже видели этого друга?
– Да, я видел его у Сюпера, – ответил Джим, улыбаясь. – У него немного странный вид.
– Если он приятель Сюпера, нет ничего удивительного в том, что он выглядит странно, – сухо заметил Кардью. – Да, мистер Ферраби, я вынужден оставить Баркли-Стек, но только сейчас я понял, как тяжело мне это сделать. Я когда-то провел здесь счастливые дни, – добавил он тихим голосом.
– Но вы ведь вернетесь сюда, когда минует опасность?
– Нет. Я продам имущество. Я уже написал маклерам и просил их найти покупателя. Очевидно, я поселюсь в Швейцарии и, если позволит здоровье, обогащу своими трудами криминалистическую литературу…
– Вы уверены, что вам действительно грозит опасность? – спросил Джим.
– Я уверен, что опасность, притом большая, грозит мне в ближайшие два дня.
Кардью глянул в окно и увидел Леттимера на наблюдательном посту.
– Я не выношу этой полицейской охраны. Можно с ума сойти от этих телохранителей… А теперь, мистер Ферраби, расскажите мне о странном друге Сюпера.
– Вряд ли он будет создавать непринужденную обстановку на нашем ужине, – высказал предположение Джим.
Сюпер и его рыжий друг мистер Уэлс прибыли на мотоциклете с опозданием на десять минут. Это было очень смешно: Сюпер и его маленький толстый друг, который держал инспектора за талию, чтобы не упасть с мотоциклета.
– Мистер Кардью, разрешите представить вам мистера Топпера Уэлса! – торжественно произнес Сюпер.
Кардью с отвращением протянул гостю руку.
– Господа, – сказал Кардью. – Прошу к столу!
Все направились в столовую. Кардью указал каждому его место. Прислуга разливала гостям суп, рядом с приборами лежали белоснежные салфетки. Рыжий Уэлс с укором украдкой поглядывал на Сюпера: он не очень уютно чувствовал себя за богато сервированным столом. Инспектор взглядом подбадривал Уэлса.
– Джентльмены! – произнес торжественно Сюпер. – Прежде чем мы приступим к прощальному ужину, я должен выразить удивление. Никто из вас не удосужился узнать, кто же такой мистер Уэлс!
– Признаюсь, я был бы рад это выяснить, – сказал мистер Кардью.
– Встаньте, мистер Уэлс, и подайте правую руку адвокату и антропологу мистеру Гордону Кардью! А вы, мистер Кардью, извольте подать руку мистеру Топперу Уэлсу… палачу Англии!
Кардью резко отдернул протянутую было руку. На его лице были написаны ужас и отвращение. Джим во все глаза смотрел на маленького, но крепенького Уэлса. Леттимер вопросительно взглянул на Сюпера. Выдержав паузу, инспектор произнес:
– Джентльмены! Не притрагивайтесь к супу! Это опасно!
– Что вы хотите этим сказать? – спросил смертельно побледневший Кардью.
– Суп отравлен!
Адвокат отодвинул стул, и Джим заметил на его лице выражение отчаяния, смешанного с ужасом.
– Что?! Суп отравлен?
– Да! Итак, мистер Кардью, подайте руку мистеру Уэлсу – палачу…
Прежде чем Сюпер успел понять намерения Кардью, тот двумя прыжками очутился у двери, выскочил и щелкнул ключом.
– Скорее в окно! – крикнул инспектор. – Леттимер, разбейте стекло стулом! Готов держать пари, ставни заперты на замок.
Сержант схватил тяжелый стул и бросил его в окно. Раздался оглушительный звон, стекло разбилось вдребезги, и ставни поддались. После второго удара ставни были выбиты, и сержант выпрыгнул в сад.
– Скорее, ко второй половине дома! – крикнул ему вслед Сюпер.
Сюпер, Джим и Уэлс тоже выскочили в сад. Джим растерянно бегал взад-вперед, не понимая, что происходит.
Инспектор бросился во двор. Он распахнул калитку и увидел дорожку, ведущую к боковой улочке. По ней к дому доставлялись продукты для кухни.
Неожиданно Сюпер заметил Кардью. Инспектор выхватил пистолет и послал ему вдогонку несколько пуль, но безуспешно. Фигура Кардью еще раз мелькнула за изгородью, а потом исчезла, будто провалилась сквозь землю.
– Он удрал на мотоциклете! – крикнул Сюпер Джиму, прибежавшему на выстрелы. – На этом же мотоциклете он исчез после того, как убил мисс Шоу. Потому-то ему удалось уехать из Бич-коттеджа, минуя Паузей. Кардью прошел по проселочной дороге, перетащил мотоциклет через изгородь, пробежал полмили пешком и укатил на мотоциклете. Мистер Ферраби, где ваш автомобиль? Уэлс, за мной!
Сюпер бросился в библиотеку Кардью. Но едва он поднял телефонную трубку, как понял, что провода перерезаны.
– Проклятье! – выругался Сюпер. – Кардью ничего не забывает. Он, должно быть, перерезал провода еще до начала ужина. Он был уверен, что отправит всех нас в лучший мир!
Все выбежали к подъездной дорожке. Леттимер уже садился за руль автомобиля. Джим и Уэлс устроились позади него.
– Скорее, скорее! – воскликнул Сюпер, прыгнув на подножку автомобиля.
На первом перекрестке они встретили полицейский патруль, но патрульные не видели мотоциклиста.
– Он ввел нас в заблуждение и повернул обратно, – сказал Сюпер, взглянув на небо. – Скоро стемнеет, и его трудно будет задержать.
Кардью мог бежать по трем дорогам. Первая вела прямо через Айлуорт, вторая – через Кингстон к Ричмонд-парку. Третья же могла быть одной из многочисленных проселочных тропинок.
Через десять минут Сюпер был уже в своем кабинете и отдавал распоряжения. Все дороги были взяты под контроль. Инспектор навел по телефону справки обо всех частных бюро аэродромов.
– Кардью заказал на сегодняшнюю ночь аэроплан, чтобы улететь из Кройдона в Париж, – сообщил Сюпер Джиму. – Но он подозревает, что мы догадались об этом и, наверное, откажется от аэроплана. Он все же надеется выбраться из Лондона, и это может у него получиться. Говорю вам, Кардью обладает мощным интеллектом и необычайной дальновидностью. Ясно, что он уже в Лондоне, но, во всяком случае, остановился не на своей городской квартире и не в адвокатском бюро. Он укроется где-нибудь в глухом предместье. Поскольку его фотографии и особые приметы уже разосланы во все полицейские участки, он не воспользуется ни автомобилем, ни железной дорогой. Готов держать пари, Кардью не полетит также и аэропланом…
…Они опять сели в автомобиль и поехали в город. Первым делом Сюпер удвоил охрану больницы, где лежал Джон Лейдж, а потом поехал на квартиру Кардью. Конечно же, там никого не было. Сюпер позвонил в участок. Леттимер сообщил, что в адвокатском бюро Кардью тоже нет.
Воспользовавшись передышкой, Джим пригласил Сюпера подкрепиться в ближайшем ресторане. Они сели за столик. Джим был потрясен.
– Это Кардью убил мисс Шоу? – спросил он.
– Да, он. Кардью смертельно ненавидел ее. Она держала его в своих руках и требовала, чтобы он на ней женился. Ей в руки попало письмо Кардью, которое он написал шесть с половиной лет назад. Дженни угрожала передать это письмо в полицию, поэтому Кардью вынужден был дать согласие на женитьбу. Я однажды подслушал у дверей дома Эльсона угрозы в адрес Кардью, если тот не женится на Дженни. Кардью женился на Дженни в день ее убийства. Запись о браке сохранилась в регистрационном офисе Ньюбери, Кардью записан под вымышленной фамилией Линес. Ловкий адвокат вовремя раздобыл нужные документы. Дженни не огорчило, что он женился на ней под фальшивым именем. Она хотела стать его женой во что бы то ни стало. Но она также хотела, чтобы он открыто признал ее своей супругой, поэтому вызвала телеграммой в Бич-коттедж мисс Лейдж, чтобы та была свидетельницей их брака. Ценой женитьбы Кардью получил свое письмо обратно, но едва оно оказалось в его руках, как он убил Дженни. Он так ловко все обставил, что после венчания они встретились в Бич-коттедже…
– Но он ведь был у меня и пригласил меня в оперу!
– То, что Кардью пригласил вас в оперу, было ловким маневром. Он хотел иметь свидетеля, чтобы доказать свое алиби на случай неудачи. Кардью легко было ввести вас в заблуждение, ведь он не сомневался, что вы не пойдете в оперу. Он знал, что вы условились с кем-то встретиться, но не знал, что вы поедете со мной в Паузей. – Сюпер глотнул кофе, закурил и продолжал: – Кардью уже давно умел управлять мотоциклетом, в отдельном помещении в Баркли-Стек стоял его мотоциклет. Вы часто говорили мне, что я, должно быть, не сплю по ночам. Это отчасти верно. Однажды я потратил целую ночь, чтобы обнаружить местонахождение его мотоциклета. Я заметил на стене царапины от руля… Итак, Кардью условился встретиться с Дженни в полночь. Они поехали в Бич-коттедж вместе, но каким-то образом адвокату удалось уговорить Дженни, чтобы она разрешила ему сесть на заднее сиденье. Он так прижался к сиденью, что его никто не мог заметить. Кардью все предвидел, он весьма изобретателен. Пальто и шляпа тоже были взяты им на вооружение, и когда он застрелил Дженни, то снял с нее пальто и шляпу и надел их. Дженни сказала ему о том, что должна приехать мисс Лейдж, и он боялся, как бы она не увидела его.
– Но зачем он это сделал? Зачем, черт возьми, Кардью убил свою экономку, раз он был богачом?! – воскликнул Джим.
– Богачом? Не думаю, чтобы он был богат, – сказал Сюпер. – У него были деньги… Я расскажу вам эту историю. Я уже давно следил за Кардью и Эльсоном. Я терпелив, поэтому мои поиски увенчались успехом. Готов спорить на что угодно: мистер Джон Лейдж по выздоровлении подтвердит мои догадки. Конечно, если бы Лейдж был сейчас здоров, я бы тотчас отправился в отпуск и поручил бы Леттимеру окончить дело. Но американец еще не пришел в себя. Итак, я продолжаю… Мистер Лейдж был чиновником казначейства. Незадолго до окончания войны он сопровождал на пароходе, идущем из Америки в Англию, четыре ящика золота. Ящики были пронумерованы. Вот почему больной Лейдж все время бредил цифрами три и четыре. Пароход во время шторма напоролся у южного побережья Англии на мину. На помощь прибыл военный истребитель, и ему удалось спасти только два ящика золота. Пароход боролся со штормом три дня и не мог добраться до гавани, не мог связаться с побережьем, поскольку радиотелеграф на борту был испорчен. Наконец пароход оказался в бухте Паузея, где и взорвался на мине. Кроме части экипажа, никого не удалось спасти. Пассажиры утонули.
Сюпер сделал паузу и снова заговорил:
– К тому времени Кардью был в отчаянном материальном положении. Он проиграл на легкомысленных спекуляциях все деньги своих клиентов. Один из них даже угрожал обратиться в уголовную полицию. Это был Джозеф Брикстон, городской советник из Сити. Когда Кардью не вернул ему деньги в положенный срок, тот написал письмо в Скотленд-Ярд, пожелав сделать важное заявление. Я был послан к Брикстону, чтобы его выслушать. Я уже догадывался, какого характера будет заявление. Из других источников я узнал, что Кардью оказался в затруднительном положении. Но тут произошло нечто необычайное: когда я пришел к Брикстону, то получил от него через камердинера извещение, что ему не о чем заявлять. Я уже говорил вам о том, что в моих руках тайна Брикстона. Потом я понял, в чем дело: Кардью сполна уплатил Брикстону, и тот изменил свое решение. Хотите знать, откуда Кардью взял деньги? Сейчас я вам объясню.
Докурив трубку, Сюпер выпил залпом стакан пива.
– В ту ночь, когда затонул пароход, – продолжал он, – Кардью находился в своем доме на взморье. Он решил покончить жизнь самоубийством: выехать на лодке в море и утопиться. Но как аккуратный адвокат Кардью прежде написал письмо врачу секционной камеры доктору Милсу. В письме он во всем признался и назвал сумму растраченных им денег. Когда Кардью садился в лодку, он услышал взрыв. В какой-то момент в нем проснулось сострадание, и он отчалил от берега, чтобы оказать помощь утопающим. Подплывая к месту трагедии, Кардью заметил двух мужчин, которые цепко держали два ящика, скрепленных досками. Когда Лейдж выздоровеет, вы услышите из его уст подтверждение того, что ящики с золотом были попарно скреплены досками. Первый и второй ящики были доставлены на борт истребителя, а третий и четвертый упали в воду во время взрыва. Кардью спас обоих мужчин и привязал ящики к лодке. Одним из мужчин был Лейдж. Он находился в бессознательном состоянии. Вторым был Эльсон – торговец скотом, который поступил на службу к капитану судна, чтобы сбежать от преследования американской полиции. Эльсону было известно о содержимом ящиков, и он рассказал об этом Кардью. Они вытащили ящики на сушу. Лейдж стал приходить в себя. Эльсон знал, что ящики с деньгами находились под наблюдением Лейджа, и для того чтобы овладеть ими, нужно убить чиновника. Поэтому Эльсон ударил Лейджа тяжелым предметом по голове и бросил его в воду. Я не могу сказать вам, каким образом Лейдж спасся. Долгое время о нем не было никаких сведений. Скорее всего, он был вытащен из воды моряками и доставлен на песчаный берег Паузея, где в то время находился военно-морской госпиталь. Там-то Лейдж и пролежал целый год. Я видел в архивах адмиралтейства документы, свидетельствующие о том, что в госпитале находился на излечении неизвестный человек с глубокой раной на голове. Врачи признали его душевнобольным. Потом Лейдж был перевезен в дом для выздоравливающих, откуда бесследно исчез. Не знаю, участвовал ли Кардью в покушении на убийство Лейджа, но деньги были доставлены в его дом на берегу. Дженни Шоу жила там и вела хозяйство. Она стала невольной свидетельницей похищения. Эльсон и Кардью вынули деньги из ящиков и поделили их между собой, причем значительную сумму они вынуждены были отдать Дженни. Ящики с досками были сожжены. В то же время Дженни узнала об ужасном положении, в котором оказался Кардью. Я думаю, что он написал письмо доктору Милсу за несколько часов до взрыва парохода. Кардью оставил письмо на столе, чтобы полиция передала его врачу. В то время, когда Кардью был на море, Дженни заметила письмо и спрятала его в укромном месте. По-видимому, Кардью потом совершенно позабыл о письме.
– Но это ведь только ваши догадки?
– Думаю, Лейдж подтвердит все это. Конверт, адресованный Милсу, дал мне возможность вести расследование ускоренными темпами. Я потратил много сил, чтобы установить личность бродяги-певца. Мне уже не раз приходилось иметь дело с самоубийствами и расследовать их причины. У Кардью был дом в Баркли-Стек, заложенный в банке за долги. Адвокат выкупил дом, рассчитался с кредиторами и клиентами и прекратил адвокатскую деятельность. Теперь у него было достаточно денег. Ему, быть может, удалось бы спокойно дожить свой век, если бы не тщеславие Дженни, пожелавшей стать его женой и занять место покойной миссис Кардью. Она не давала Кардью ни минуты покоя и отравляла ему существование. Однажды Дженни составила из банкнот первую букву названия погибшего парохода. Этим она хотела напомнить Кардью о своей власти над ним.
– Мисс Лейдж тоже говорила об этом…
– Да, в этой запутанной истории меня, главным образом, интересовал Эльсон. Я хотел знать, что сделает этот человек, если в его бычьей башке родится мысль, будто Кардью убил Дженни. Три месяца назад я поручил Леттимеру войти в доверие к Эльсону и выведать у него все, что можно. Леттимер одолжил у Эльсона деньги, чтобы дать ему понять: тот всецело в его руках и сержант может выдать его американским властям, которые разыскивали его. Я надеялся, что когда Эльсон напьется и у него развяжется язык, он расскажет Леттимеру историю своих отношений с Кардью. Леттимер должен был принимать участие в попойках и прикидываться подлецом, чтобы не возбудить подозрений. И сержант блестяще сыграл свою роль. Он только дважды позволил себе самоуправство и то лишь затем, чтобы спасти мою жизнь. В первый раз Леттимер с пистолетом в руке спрятался в кустах, чтобы выследить Кардью, который из засады стрелял по мотоциклисту, намереваясь убить меня. Во второй раз Леттимер пошел за мной в ресторан, где вы его видели. Он усердно опекал меня. Леттимер знал, что Кардью намерен расправиться со мной.
– Боже, а я думал, что «Большая Нога» действует заодно с сержантом! – схватился за голову Джим. – Значит, это Кардью хотел задушить мисс Лейдж? – простонал он.
– Да. Когда я узнал, что вы с мисс Лейдж приняли приглашение Кардью и прибыли в Баркли-Стек, мы с Леттимером немедленно приехали туда же. Как только наступила ночь, я посадил сержанта на крышу. Мы привезли длинную лестницу и поставили ее у задней стены дома. Никто этого не заметил, поскольку сыщик никого не выпускал из здания. Ночью Леттимер слышал стук у окна, но он не мог видеть с крыши, что там происходило, пока наружная дверь не открылась. Леттимер ждал, что кто-то вылезет на крышу, но никого не было, и он понял, что это стучал Кардью.
Джим был ошеломлен. Он нервно стискивал в руке платок, его бросало в жар. Он, чиновник прокуратуры, чувствовал себя мальчишкой! Милый, добрый старый Кардью способен на такие трюки! Нет, это не укладывалось в его голове!
– А зачем вы спрашивали Кардью, не поцарапал ли он руки, когда его нашли под действием хлороформа?
– Хотите знать, почему его нашли под действием хлороформа? – ухмыльнулся Сюпер. – Кардью прибегнул к обычному трюку. Он нашел на берегу Темзы бродягу и послал его в бюро посыльных с отравленным пирогом. Только благодаря счастливой случайности вы задержали Салливена и мы смогли посадить его под замок. Потом я отправился рано утром к Кардью и рассказал ему вымышленную историю о Салливене. Попросил, чтобы он как известный теоретик допросил бродягу. Кардью попался на удочку и согласился провести допрос. Но когда я сказал ему, что это тот самый человек, который отнес в бюро посыльных пирог, адвокат изменился в лице. Он понял, что это и есть тот самый Салливен, который узнал бы его, если не по лицу, то по голосу. Вот почему я так настойчиво просил Кардью прийти в участок. У адвоката оставался единственный выход: инсценировать покушение на его жизнь. Дома у него всегда было много медикаментов и ядов. Кардью смочил кусок ткани хлороформом, выбросил флакон в окно, лег на оттоманку и вдохнул хлороформ. У Кардью было слабое сердце, и его жизнь была на волоске. Когда я исследовал его пальцы, то понял, что он сам открыл флакон. У меня тонкое обоняние. Даже в тот день, когда Кардью стрелял в нас из-за кустарника, я еще мог различить запах хлороформа. Многие скажут, что запах хлороформа улетучивается в течение минуты. Но вы слушайте, что вам говорит инспектор Патрик Минтер, знающий не только теорию, но и практику. Кардью тонко изучил детективное искусство, и я больше никогда не буду смеяться над детективами-любителями. Теперь я буду уважать науки вроде антропологии и психологии и немедленно после отпуска приступлю к их изучению. Хитрый Кардью предвидел все! Он инсценировал взлом своего бюро и сжег все бумаги мисс Шоу. Адвокат действовал в темноте, он не опускал штору и не включал свет. Помните, я обнаружил старый счет за шторами?
Сюпер поставил стакан на стол и ударил себя по лбу.
– Я совсем позабыл о палаче! Он сидит один в участке и ждет меня.
– На кой черт вы впутали в эту историю еще и палача? Вы сказали, что он – козырная карта в вашей игре.
– Вот именно! Это было бы моим триумфом. Я думал этим совершенно расшатать нервы Кардью. Но я недооценил его ловкость…
– Значит, он убил и Эльсона?
– Да. Я попытался напугать Эльсона, чтобы тот заговорил. Для этого Леттимер прикрепил к его двери предостережение от имени «Большой Ноги». Но мы возлагали на это слишком большие надежды. Эльсон был на грани отчаяния, но все-таки ничего не сказал. Когда он услышал возле своего дома пение Лейджа, с ним случился припадок, но он пришел в себя и по глупости своей сообщил Кардью по телефону, что певец-бродяга и есть тот самый Лейдж, которого они бросили в море. Эльсон узнал его по голосу, потому что провел с ним на пароходе две недели. Кардью и Эльсон часто беседовали по телефону. Мои агенты следили на центральной станции за их разговорами. Этим Эльсон и погубил себя. Когда Кардью узнал, что я арестовал Лейджа, он решил убить меня, Эльсона и Лейджа. Адвокат в ту же ночь забрался в мой сарайчик и поставил ловушку. Но я спасся, и тогда Кардью застрелил Эльсона, боясь, что тот попадет в мои руки и разоблачит его. Мы опоздали с арестом Эльсона. Покушение на жизнь Лейджа тоже не удалось. Кардью хотел задушить Эльфу, чтобы весть о смерти дочери поразила ослабевшего после операции Лейджа. Что и говорить, Кардью – «Большая Нога» – опасный преступник!
– Кардью – «Большая Нога»? – повторил потрясенный Джим.
– Конечно, он – «Большая Нога»! Он один из величайших преступников, поскольку имел глубокие познания в криминалистике. Кардью никогда ничего не забывал и все предвидел. Он уже давно продумал этот трюк с большими ногами, чтобы сделать на взморье следы на песке и всех водить за нос. Я покажу вам его большие сапоги, которые стоят у меня в комнате под кроватью. Кардью купил их у торговца театральным реквизитом на Кетрин-стрит. Здесь-то адвокат и совершил ошибку: он забыл эти сапоги под сиденьем автомобиля Дженни Шоу, а я их нашел. Дженни никогда не получала писем с угрозами от «Большой Ноги». Все это придумал Кардью. Он показал вам это письмо, чтобы вы были его свидетелем.
Джим Ферраби оперся на спинку стула и, открыв рот, смотрел на Сюпера.
– Вы гений! – произнес он с восхищением.
– Пока это только версия, – скромно заметил сыщик. Потом вскочил и ударил себя по лбу. – Ну что за мысль! Она только что пришла мне в голову! Кажется, я понял, как бежал Кардью!
…Часы пробили половину второго. На большом лондонском фарватере царило спокойствие. Большие дуговые лампы освещали туманный горизонт. Моторная лодка, пользуясь отливом, спокойно плыла вниз по реке. Ее зеленые и красные огни отражались в воде. Лодка медленно двигалась вперед, ее экипаж, по-видимому, не спешил.
Когда лодка достигла Грейвсенда, она прибавила ходу и повернула налево, чтобы обогнуть стоявший на якоре пароход. И в этот момент из тени незаметно вынырнула шлюпка и поплыла следом за моторной лодкой.
– Эй! Вы кто такие? – прозвучал голос из темноты.
– Судовладелец граф фон Фризлак на лодке «Цецилия». Держу направление на Брюгге, – таким был ответ.
Шлюпка все ближе подплывала к моторке и наконец оказалась рядом с ней. Как вы, наверное, догадались, в шлюпке сидели полицейские. Лодка рванулась вперед, но было поздно. Шлюпка зацепилась за нее крюком, и старший инспектор Сюпер был первым, кто прыгнул на борт с пистолетом в руке.
– Мне и впрямь чертовски везет, мистер Гордон Кардью! Никогда бы не поверил, что мне удастся арестовать вас сегодня ночью! – сказал инспектор.
– Да, Сюпер, наверное, и вы чего-то стоите, – мрачно усмехнулся Кардью, когда холодная сталь наручников щелкнула на его запястьях.
Седьмого декабря 1929 года мистер Кардью, приговоренный к смертной казни через повешение, снова встретился с палачом Англии, но уже не в своей гостиной, а при более печальных обстоятельствах. Мистер Уэлс теперь не подал ему руки, а просто накинул ему на шею веревку, положившую конец жизни «Большой Ноги».
Морис Леблан
Не очень известный даже в свое время прозаик и драматург, Морис Леблан добился всемирной славы как детективный писатель благодаря патриотическим устремлениям своего редактора. Страна должна иметь героя, желательно не уступающего по своей популярности и по своим возможностям Шерлоку Холмсу, и сотворить такого героя было поручено Морису Леблану для нового журнала Пьера Лаффита «Я знаю все». Жан-Поль Сартр первым отметил, что нужда в подобном герое возникает у читателя в те времена, когда страна переживает кризисный период. Для Франции этот период тянулся со времен поражения во франко-прусской войне 1871 года. Морис Леблан родился в Руане 11 декабря 1864 года. С детства мечтал стать писателем, но под влиянием отца был вынужден начать работать на фабрике по производству текстильного оборудования. На открытии памятника Флоберу пытался завести знакомство с Мопассаном, Золя и Эдмоном Гонкуром, но безуспешно. В 1885 году Морис уговорил отца отпустить его в Париж, где жила его сестра Жоржет (известная актриса, возлюбленная Мориса Метерлинка). Он написал несколько романов и пьес, но известность пришла к нему только в 1905 году – после появления в печати рассказа «Арест Арсена Люпена». Прообразом Люпена стал анархист Мариус Иакова, совершивший 150 краж со взломом и осужденный на 23 года тюрьмы. Джентльмен-вор Арсен Люпен стал главным персонажем Леблана, и успех сопровождал автора вплоть до смерти в Перпиньяне, куда писатель с семьей переехал из оккупированного Парижа. Морис Леблан умер 6 ноября 1941 года и похоронен на кладбище Монпарнас.
Арест Арсена Люпена
Странное у нас получилось путешествие! А ведь оно так хорошо начиналось! Мне, по крайней мере, не приходилось еще ни разу пускаться в путь при таких добрых предзнаменованиях. Быстроходный, комфортабельный трансатлантический лайнер «Прованс» уходил в этот рейс под командой любезнейшего из капитанов. На пароходе собралось изысканнейшее общество. Завязывались знакомства и дружеские отношения, устраивались всевозможные развлечения. Все испытывали чудесное ощущение полной оторванности от привычного мира, замкнутости в узком кругу на неведомом доселе острове, и это вынуждало нас, естественно, искать близости друг с другом…
И мы деятельно сближались между собой…
Приходилось ли вам когда-нибудь задумываться над тем, сколько необычного и непредвиденного ожидает человека в сообществе душ, еще вчера не подозревавших о существовании друг друга, но которым предстоит прожить несколько дней в интимнейшей близости, бросая дружный вызов сердитому океану, устрашающим ударам волн, притворному спокойствию задремавших на время вод?
В сущности, прожитая в своеобразном трагическом резюме, это сама жизнь, с ее величием и бурями, во всей ее многогранности и разнообразии; именно поэтому, вероятно, с такой лихорадочной поспешностью, с таким обостренным удовольствием наслаждаешься подобным недолгим путешествием, конец которого легко предвидеть в самом его начале.
С течением времени, однако, волнения такого плавания странным образом усиливаются. Малый плавучий остров на самом деле не утрачивает зависимости от большого мира, от которого ты, казалось, надолго освободился. И если одна из этих связей в открытом океане постепенно развязывается, она же, в том же водном пространстве, понемногу завязывается опять. Это – беспроволочный телеграф. Вызовы из того, большого мира, известия с оставленных тобой берегов с его помощью самым таинственным образом поступают к тебе. И воображение тут бессильно; нельзя даже представить себе невидимые, неосязаемые провода, по которым к тебе доносится незримое послание. Тайна от этого выглядит еще более непроницаемой, еще более романтичной, и только крылья ветра способны объяснить тебе такое чудо.
Вот так, на всем протяжении плавания, мы чувствовали, как преследует, сопровождает, опережает даже нас далекий голос, приносивший то одному, то другому несколько слов – вроде бы ниоткуда. Двое друзей поговорили таким образом со мной. Десять или двадцать других послали нам сквозь пространство, улыбаясь или грустя, слова прощания и напутствия. И вот, на второй день путешествия, в пяти сотнях миль от французских берегов, в непогоду, разыгравшуюся после полудня, беспроволочный телеграф доставил нам депешу следующего содержания: «Арсен Люпен у вас на борту, первый класс, светлые волосы, рана на правом предплечье, путешествует в одиночестве, под именем Р…» В ту самую минуту под темным небом прокатился сильный раскат грома. Потоки электромагнитных волн оборвались, и окончание депеши до нас не дошло. От имени, под которым скрывался Арсен Люпен, нам досталась только первая буква.
В отношении любой другой новости, несомненно, тайна была бы тщательно сохранена – как работниками судовой телеграфной службы, так и комиссаром и командиром судна. Но есть происшествия, с которыми, по-видимому, не сладить и самой строгой секретности. В тот же день самым необъяснимым образом все узнали о том, что знаменитый Арсен Люпен находится среди нас.
Арсен Люпен среди нас! Неуловимый взломщик, чьи подвиги долгими месяцами расписывались на страницах всех газет! Таинственная личность, с которой старик Ганимар, наш лучший полицейский, затеял решительный поединок, перипетии которого разворачивались самым увлекательным образом! Арсен Люпен, джентльмен с оригинальным воображением, действующий исключительно в аристократических салонах и замках, который, проникнув однажды ночью к барону Шорманну, удалился с пустыми руками, оставив свою визитную карточку со следующей надписью: «Арсен Люпен, взломщик-джентльмен, вернется в этот дом, когда мебель будет в нем подлинной». Арсен Люпен – человек под тысячью масок – то шофер, то тенор, то букмекер, сынок из богатого семейства, юноша, старец, марсельский коммивояжер, русский врач, испанский тореадор! Следует хорошенько уяснить: Арсен Люпен, прогуливающийся на сравнительно узком пространстве атлантического лайнера, более того – на пятачке первых классов, в этом вот салоне, в этой столовой, в этой курительной комнате! Арсен Люпен, может быть – вон тот господин… Либо тот… Либо ваш сосед по общему столу… По каюте… «И так будет еще пять раз по двадцать четыре часа! – воскликнула на следующий день мисс Нелли Ундердоун. – Это невозможно вынести! Надеюсь, его скоро арестуют». И, обращаясь ко мне: «Послушайте, мистер д’Андрези, вы уже на короткой ноге с капитаном; неужели вам ничего не известно?» Мне очень хотелось признаться, хоть что-нибудь узнать, чтобы доставить удовольствие мисс Нелли. Это восхитительное создание было одним из тех, которые, где бы они ни находились, притягивают к себе все взоры. Их красота ослепляет с той же силой, что и их богатство. Вокруг них всегда образуется собственный двор, толпятся свои поклонники, свои фанатики. Воспитанная в Париже матерью-француженкой, она ехала к отцу, богатейшему мистеру Ундердоуну, в Чикаго. Старшая подруга, некая леди Джерленд, сопровождала ее. С первого же часа я выставил свою кандидатуру на флирт. Однако, в быстро складывающейся интимной обстановке совместного путешествия, ее очарование так покорило меня, что я чувствовал себя чересчур, пожалуй, взволнованным для простого флирта, едва ее большие черные глаза встречались с моими. Мое ухаживание, однако, встречало довольно снисходительный прием. Она благоволила смеяться, когда я острил, с интересом выслушивала мои анекдоты. Несколько туманная симпатия, казалось, была ответом на мое неотступное внимание. И только один соперник мог, пожалуй, вызывать у меня тревогу; это был довольно красивый молодой человек, элегантный и сдержанный, молчаливый нрав которого она, казалось, предпочитала порой моим несколько вольным манерам истинного парижанина. Этот юноша стоял как раз среди поклонников, окружавших мисс Нелли, когда она задала мне свой вопрос. Мы сидели на палубе, с удобством вытянувшись в шезлонгах. Вчерашний шторм расчистил небо от туч. Погода стояла прекрасная.
– Ничего определенного сказать не могу, мадемуазель, – ответил я. – Но разве мы не могли бы провести свое собственное следствие, не хуже, пожалуй, чем старина Ганимар, личный враг Арсена Люпена?
– Ох-ох! Не будем много на себя брать!
– Почему же? Разве проблема так сложна?
– По-моему, весьма.
– Вы, видимо, забыли, что у нас имеется для ее решения.
– Что же именно?
– Первое: Люпен называет себя мсье Р…
– Довольно туманный признак.
– Второе: путешествует в одиночестве.
– Если это кажется вам достаточным…
– Третье: он светловолос.
– И что же?
– А то, что нам остается только просмотреть список пассажиров и действовать путем исключения.
Список, вручаемый всем путешествующим на лайнере, был у меня в кармане. Я вынул его и принялся исследовать.
– Отметим вначале, что только тринадцать лиц по первой букве своей фамилии могут привлечь внимание.
– Всего тринадцать?
– В первом классе – лишь они. Из тринадцати господ Р… как легко убедиться, девять сопровождаются женами, детьми или слугами. Остаются четверо: маркиз де Равердан…
– Секретарь посольства, – вставила мисс Нелли, – я с ним знакома.
– Майор Раусон…
– Мой дядя, – уточнил кто-то.
– Г-н Ривольта…
– Здесь! – воскликнул один из нас, итальянец, чье лицо полностью закрывала борода великолепного черного цвета.
Мисс Нелли расхохоталась.
– Мсье не очень похож на блондина!
– Тогда, – продолжил я, – придется согласиться, что виновник – последний в нашем списке.
– То есть?
– То есть мсье Розэн. Знает ли кто-нибудь мсье Розэна?
Все умолкли. А мисс Нелли, обращаясь к молодому человеку, чьи ухаживания за нею так досаждали мне, с улыбкой спросила:
– Что случилось, мсье Розэн? Вы онемели?
Все повернулись к нему. Он был блондин. Признаться честно, в глубине души я почувствовал нечто вроде шока. И неловкое молчание, установившееся среди нас, свидетельствовало о том, что остальные испытывали внезапное удушье, подобное моему. Положение казалось совершенно нелепым; ничто в поведении этого господина не давало повод его подозревать.
– Почему я молчу? – спросил тот. – Да потому, что из-за своего имени, положения одинокого пассажира, к тому же – цвета моих волос, я, проведя такое же следствие, пришел к аналогичному выводу. И полагаю, таким образом, что меня следует немедленно арестовать.
Говоря это, он выглядел странно. Тонкие, словно две негнущиеся черты, губы стали еще тоньше и побледнели. Кровавые отблески мелькнули в глазах. Он, конечно, шутил. Но его поведение, выражение лица произвели на нас глубокое впечатление. Мисс Нелли не без наивности спросила:
– А раны у вас нет?
– Действительно, – ответил он, – не хватает только раны.
Резким движением он подтянул рукав и обнажил руку. Но тут меня осенило. Мои глаза встретились с глазами мисс Нелли: он показал левую руку. И я, честное слово, чуть не сделал по этому поводу замечание, когда новое происшествие отвлекло наше внимание. Леди Джерленд, приятельница мисс Нелли, бегом приближалась к нам. Она была потрясена. Все столпились вокруг нее, и только после долгих усилий она сумела проговорить:
– Мои драгоценности, жемчуга!.. Всё, всё забрали…
Украли у нее не всё, как мы узнали впоследствии; дело обстояло еще интереснее – взяли с выбором. Из бриллиантовой звезды, из подвески с крупными рубинами, из ожерелий и сломанных браслетов изъяли не самые большие, но наиболее изысканные, ценные камни; взяли те, которые, можно сказать, обладали наибольшей стоимостью, занимая наименьшее место. Изуродованные оправы валялись там же, на столе. Я видел их, все мы видели их, лишенных лучшего, что в них содержалось, словно цветы, у которых оторвали прекраснейшие, самые яркие и многоцветные лепестки. Чтобы справиться с такой работой в течение того часа, когда леди Джерленд пила чай, следовало среди бела дня, в многолюдном коридоре взломать дверь каюты, отыскать небольшую сумку, намеренно спрятанную на дне коробки из-под шляпки, открыть ее и выбрать то, что подошло вору.
Все дружно вскрикнули. Мнение пассажиров, когда узнали о краже, было единым: это сделал Арсен Люпен. И действительно, это была его манера – сложная, таинственная, непонятная, и все-таки – логичная, ибо, если было затруднительно сбыть громоздкий груз всех драгоценностей, насколько легче сделать это с малыми, не связанными друг с другом жемчужинами, изумрудами, сапфирами! Во время обеда два места рядом с Розэном, слева и справа, остались пустыми. А вечером стало известно, что его вызывал к себе капитан. Его арест, в котором все были уверены, вызвал истинное облегчение. Все наконец вздохнули. Вечером состоялись игры. Танцы. Мисс Нелли в особенности была охвачена заразительным весельем, которое убедило меня, что, если вначале заигрывания Розэна могли прийтись ей по душе, теперь она о нем даже не вспоминала. Ее очарование покорило меня окончательно. К полуночи, при ясном лунном свете, я признался ей в моей преданности с волнением, которое не вызвало у нее неудовольствия. А на следующий день, к всеобщему изумлению, стало известно, что, за недостаточностью улик, Розэн остался на свободе. Сын уважаемого негоцианта из Бордо, он предъявил документы, оказавшиеся в полном порядке. К тому же его руки не носили ни малейшего следа ранения.
– Документы! Свидетельства о рождении! – воскликнули недоброжелатели Розэна. – Арсен Люпен представит их вам в любом количестве! Что касается раны, ее у него не было вовсе… Либо он уничтожил след!
Им возражали, что в тот час, когда произошла кража, Розэн – и это было доказано – прогуливался на палубе. На что следовал ответ:
– Разве человек со способностями Люпена должен непременно быть на месте кражи, которую совершает?
Наконец, независимо от прочих соображений, был пункт, по которому сходились даже мнения крайних скептиков. Кто еще, кроме Розэна, путешествовал один, был светловолос и носил фамилию, начинавшуюся на «Р»? На кого могла указывать телеграмма, кроме как на Розэна? И когда Розэн, за несколько минут до завтрака, с чрезмерной смелостью направился к нашей группе, мисс Нелли и леди Джерленд встали и удалились. Воцарился настоящий страх. Час спустя рукописный циркуляр стал передаваться из рук в руки среди пароходных служащих, матросов, пассажиров всех классов: господин Луи Розэн обещал сумму в десять тысяч франков тому, кто разоблачит Арсена Люпена либо обнаружит того, кто завладел украденными камнями. «И если никто не придет ко мне на помощь в борьбе против этого бандита, я справлюсь с ним сам», – объявил капитану Розэн. Розэн против Арсена Люпена или, в согласии с шуткой, которая тут же родилась, Арсен Люпен против Арсена Люпена! Борьба обещала стать интересной. Продолжалась она всего два дня. Розэна видели снующим туда и сюда, смешивающимся с персоналом, расспрашивающим, выискивающим. По ночам видели, как повсюду бродит его тень. Со своей стороны, капитан проявил самую деятельную энергию. Все закоулки «Прованса» были обследованы, сверху донизу. Обыски провели во всех каютах без исключения, под тем справедливым предлогом, что искомые предметы могли быть спрятаны в любом месте, кроме каюты самого виновного.
– Рано или поздно что-нибудь все-таки найдут, не так ли? – спросила меня мисс Нелли. – Каким бы он ни был волшебником, он не может сделать невидимыми алмазы и жемчужины.
– Ну да, – отвечал я, – иначе придется исследовать подкладку наших шляп, наших курток, да и все, что мы носим на себе. И, показывая ей свой «кодак», 9Х12, которым я неустанно снимал ее в самых разных позах, добавил:
– Не думаете ли вы, что даже в таком аппарате, не больше этого, нашлось бы место всем драгоценным камням леди Джерленд? Ты притворяешься, будто снимаешь им, и все тебе верят.
– Но я все-таки слышала, что нет на свете вора, который бы за собою не наследил.
– Есть такой: это Арсен Люпен.
– Почему?
– Почему? Потому, что он думает не только о краже, которую совершает, но также о всех тех обстоятельствах, которые могли бы его выдать.
– Вначале вы больше верили в его поимку.
– Но после увидел его работу.
– И посему, ваше мнение?
– По-моему, время тратят понапрасну.
И действительно, розыск не давал никаких результатов. Хуже того, вопреки всем усилиям, вскоре были похищены часы капитана. Прийдя в ярость, хозяин судна удвоил рвение и усилил наблюдение за Розэном, с которым у него состоялось несколько встреч. Но на следующий же день – очаровательная ирония! – часы были найдены среди накладных воротничков его помощника. Все это отдавало чудесами и ясно свидетельствовало об остроумных повадках Арсена Люпена, бесспорно – взломщика, но также дилетанта. Он работал, конечно, по призванию и склонности, но еще и для собственного развлечения. И казался человеком, который забавляется спектаклем, устроенным им самим, и который, прячась за кулисами, хохочет во все горло над смешными ситуациями и ходами, которые сам и придумал. В своем жанре он, конечно, был артистом; и, наблюдая за Розэном, упорным и мрачным, думая о двойной роли, которую, несомненно, играла эта любопытнейшая личность, я не мог говорить о нем без восхищения. Но в предпоследнюю ночь вахтенный офицер услышал вдруг стоны, доносившиеся из самого темного угла на палубе. Он приблизился. Там лежал человек, голова которого была обернута толстым серым шарфом, а кисти рук стянуты тонким шнуром. Его освободили от пут. Подняли, оказали ему помощь. Этот человек был Розэн. Это был, действительно, господин Розэн, подвергшийся нападению во время одной из своих экспедиций, сбитый с ног и ограбленный. На визитной карточке, приколотой к его платью, можно было прочитать: «Арсен Люпен с благодарностью принимает десять тысяч франков мсье Розэна». Отнятый же у того бумажник на самом деле содержал двадцать купюр по тысяче. Несчастного, конечно, обвинили в том, что он симулировал нападение на самого себя. Но, не говоря о том, что он никак не смог бы себя таким образом связать, установили, что почерк на карточке был совершенно иным, чем почерк Розэна, и полностью был схож – ошибка тут исключалась – с почерком Люпена, каким его воспроизводила старая газета, найденная на пароходе. Таким образом, Розэн перестал быть Арсеном Люпеном. Розэн был отныне Розэном, сыном негоцианта из Бордо! Присутствие на судне Арсена Люпена этой грозной акцией подтверждалось еще раз. Воцарился ужас. Никто не решался оставаться в одиночестве в каюте, тем более – забираться в слишком уединенные места. Пассажиры осторожно собирались в группы людей, хорошо знакомых друг с другом, хотя инстинктивное недоверие установилось и между самыми близкими. Ибо угроза исходила не от определенного, а значит – менее опасного лица. Арсен Люпен теперь был… всеми. Возбужденное воображение приписывало ему волшебную, неограниченную власть. Его считали способным прибегать к любым маскировкам, надевать самые неожиданные личины, становиться по очереди респектабельным майором Раусоном или аристократичным маркизом де Раверданом, либо, поскольку на указующем инициале уже не останавливались, тем или иным всем известным лицом с женой, детьми и слугами. Последующие депеши по беспроволочному телеграфу не доставили ничего нового. По крайней мере, капитан ничего нам не сообщил. А его молчание не могло нас успокоить. Последний день показался нам нескончаемым. Все жили в тревожном ожидании несчастья. На сей раз, мол, произойдет не простая кража, не обычное нападение; будет совершено серьезное преступление, может быть – убийство. Никто не допускал даже мысли, что Арсен Люпен ограничится двумя незначительными правонарушениями. Полный хозяин судна, на котором власти оказались бессильными, все было ему дозволено, он мог распоряжаться и жизнями, и имуществом. Сладостные часы для меня, сказать по правде, так как они принесли мне доверие мисс Нелли. Под впечатлением стольких событий, беспокойная по характеру, она невольно искала у меня покровительства, безопасности, которую я был счастлив ей обеспечить. Я благословлял, в сущности, Арсена Люпена. Разве не он способствовал нашему сближению? Разве не благодаря ему я мог позволить себе самые сладостные мечты? Любовные грезы, все менее химерические, почему бы в этом не признаться? Род Андрези – благородного пуатвэнского корня, но герб наш несколько потускнел, и было вполне достойно дворянина вернуть своему имени утраченный блеск. И мои грезы, я это чувствовал, не оскорбляли Нелли. Ее сияющие глаза давали мне на них дозволение. И слышавшаяся в ее голосе нежность разрешала мне надеяться. До последних минут, когда черта американских берегов покачивалась уже перед нашими взорами, облокотившись о фальшборт, мы оставались рядом. Обыски прекратились. Все ждали. С первых классов до нижних палуб, где кишели эмигранты, все ждали завершающего мгновения, когда разрешится наконец непроницаемая загадка. Кто был Арсен Люпен? Под чьим именем, под какой маской скрывался знаменитый Арсен Люпен? И это мгновение настало. Проживи я сто лет – ни одна мельчайшая его подробность не потускнеет в моей памяти.
– Как вы бледны, мисс Нелли, – сказал я своей спутнице, которая опиралась о мою руку, совершенно обессиленная.
– А вы! – отозвалась она. – Вы тоже так изменились!
– Но подумайте сами! Эти минуты так волнующи, и я так счастлив, что провожу их рядом с вами, мисс Нелли; смею думать, в ваших воспоминаниях тоже иногда…
Она не слушала, тяжело дыша, словно в лихорадке. Спустили трап. Но перед тем, как мы смогли им воспользоваться, на борт поднялись таможенники, какие-то люди в формах, почтовые служащие. Мисс Нелли проговорила:
– Сейчас, может быть, выяснится, что Арсен Люпен во время плавания сбежал; меня бы это не удивило.
– Он мог предпочесть позору смерть и броситься в Атлантический океан, чтобы не быть задержанным.
– Не смейтесь, – с раздражением сказала она. Внезапно я вздрогнул и, спрошенный ею о причине, пояснил:
– Видите невысокого пожилого человека там, в конце трапа?
– При зонтике, в зелено-оливковом сюртуке?
– Это Ганимар.
– Ганимар?
– Да, знаменитый сыщик, тот, который поклялся, что Арсен Люпен будет арестован им лично. Ах! Теперь мне ясно, почему с этого берега океана не поступало никаких вестей. Ганимар был здесь. Он не любит, когда его делишками занимается кто-нибудь другой.
– Тогда Арсен Люпен будет наверняка пойман?
– Кто знает? Ганимар никогда его не видел, разве что, кажется, под гримом, с измененной внешностью. Если только ему не известно его заемное имя…
– Ах, – сказала она с чуточку жестоким женским любопытством, – если бы я могла присутствовать при аресте!
– Потерпим немного. Арсен Люпен наверняка заметил уже своего противника. Он постарается сойти среди последних, когда зрение старика будет утомлено.
Исход пассажиров начался. Опираясь на зонтик, с равнодушным видом, Ганимар, казалось, не обращал внимания на толпу, теснившуюся между обоими поручнями. Я заметил, что один из судовых офицеров, стоя позади него, время от времени что-то ему сообщал. Маркиз де Равердан, майор Раусон, итальянец Ривольта прошли, за ними – многие другие… И тут я заметил подходившего к нам Розэна. Бедняга Розэн! Казалось, он не пришел в себя от своих злоключений!
– Может быть, это все-таки он? – шепнула мне мисс Нелли. – Как вы думаете?
– По-моему, было бы весьма заманчиво запечатлеть на одном и том же фото Ганимара и Розэна. Подержите мой аппарат, на мне столько груза… Я передал ей «кодак», но слишком поздно, чтобы она могла им воспользоваться. Розэн спускался уже по трапу. Офицер наклонился к уху Ганимара, тот слегка пожал плечами, и Розэн прошел. Кто же тогда, о Господи, был Арсеном Люпеном?
– Да, – промолвила рядом она, – кто же это?
Оставалось не более двадцати человек. Мисс Нелли разглядывала их по очереди с туманным недоверием; ведь он мог оказаться среди этих двадцати. Я ей сказал:
– Мы не можем более ждать.
Она двинулась вперед. Я – за ней. Но мы не прошли и десяти шагов, когда Ганимар преградил нам путь.
– Что такое? – воскликнул я.
– Минуточку, сударь, Вы очень спешите?
– Я сопровождаю мадемуазель.
– Минуточку, – повторил он повелительно.
Ганимар внимательно в меня всматривался. Затем, глядя прямо в глаза:
– Арсен Люпен, не так ли? – Я рассмеялся.
– Нет, только Бернар д’Андрези.
– Бернар д’Андрези умер три года назад в Македонии.
– Если Бернар д’Андрези умер, значит меня нет на свете. А это не так. Вот мои документы.
– Это его бумаги. О том, как они к вам попали, я с удовольствием расскажу вам сам.
– Вы сошли с ума! Арсен Люпен сел на пароход под именем некоего Р.!
– Еще один из ваших трюков, ложный след, по которому вы пустили их там, на судне. Ах, милый мой, вы сильны! На сей раз, однако, судьба повернулась к тебе спиной. Давай, Арсен Люпен, играть надо честно!
Еще мгновение я колебался. Резким движением он ударил меня по правому предплечью. Я вскрикнул от боли. Он попал в плохо зажившую рану, о которой и говорилось в телеграмме. Надо было смириться. Я повернулся к мисс Нелли. Она слушала, смертельно побледнев, пошатываясь. Ее взор встретился с моим и опустился на «кодак», который я ей вручил. Она сделала быстрое движение, и мне показалось, я был уверен даже, что сразу все поняла. Да, именно там, между узкими стенками из черного шагрена, в сердцевине небольшого предмета, который я предусмотрительно отдал в ее руки перед тем, как Ганимар меня арестовал, – именно там находились двадцать тысяч франков Розэна, бриллианты и жемчуга леди Джерленд. Ах! Клянусь, в ту торжественную минуту, когда Ганимар и его пособники меня окружили, все было безразлично – арест, внезапная враждебность окружающих, все на свете, кроме одного: решения, которое мисс Нелли примет насчет того, что я ей доверил. Получат ли они против меня такое решающее вещественное доказательство, – об этом я и не думал; но отдаст ли мисс Нелли его моим врагам? Предаст ли она меня? Погубит ли? Поступит ли как враг, который не прощает, или как женщина, которая помнит, презрение которой смягчается хотя бы каплею сочувствия, малой толикой невольной симпатии? Она прошла мимо меня. Я поклонился ей низко, без слов. Смешавшись с толпой пассажиров, она прошла к трапу, держа мой «кодак». Я тогда подумал: она не решилась сделать это у всех на виду. Через час, через несколько минут, может быть, она его отдаст. Но, дойдя до середины трапа, притворно неловким движением она уронила аппарат в воду, между стенкой причала и бортом судна. И я увидел, как она уходит. Ее изящный силуэт пропал в толпе, снова появился и исчез. Все было кончено, кончено навсегда. На мгновение я застыл, опечаленный и в то же время – растроганный. Затем, к великому удивлению Ганимара, вздохнул:
– Иногда приходится пожалеть, что ты не честный человек.
Вот так, в один зимний вечер, Арсен Люпен рассказал мне историю своего ареста. Перипетии происшествий, о которых я когда-нибудь напишу, протянули между нами нити… дружбы, можно ли так сказать? Да, смею верить, Арсен Люпен оказал мне честь своею дружбой и по велению дружбы порой неожиданно появляется у меня, внося в тишину моего рабочего кабинета молодую жизнерадостность, доброе настроение человека, которому судьба уготовила только милости и улыбки. Его портрет? Как мог бы я его изобразить? Я видел Арсена Люпена раз двадцать, и двадцать раз передо мной представал другой человек… либо, скорее, все тот же, от которого двадцать разных зеркал донесли до меня столько же искаженных отражений. В каждом были другие глаза, особые очертания фигуры, свойственные только данному образу жесты, силуэт, характер… «Я и сам, – сказал он мне как-то, – не ведаю уже толком, кто я такой; глядя в зеркало, не узнаю самого себя…». Это, конечно, была шутка, рожденная парадоксом. Но не без правды для тех, кто встречался с ним и знает его бесконечные возможности, его терпеливость, искусство преображения, его чудодейственную способность менять в себе все, вплоть до пропорций лица, до взаимного соотношения отдельных черт.
«Почему, – спрашивает он иногда, – у меня должна быть какая-нибудь определенная внешность? Что мешает человеку избежать опасности обладать неизменной личностью? Мои дела достаточно свидетельствуют о том, кто я есть». И уточняет, не без гордости: «Тем лучше, если никто не может с уверенностью сказать: „Перед нами – Арсен Люпен“. Главное, чтобы могли заявить без боязни ошибиться: это сделал Арсен Люпен».
Ряд его дел, некоторые из его приключений я и пытаюсь восстановить по тем признаниям, которые он благоволил мне доверить в долгие зимние вечера в тишине моего рабочего кабинета.
Арсен Люпен в тюрьме
Нет на свете туриста, достойного этого звания, который не знает берегов Сены и не замечал между развалинами Жумьежа и руинами Сэн-Вандрила странный маленький средневековый замок Малаки, гордо сидящий на своей скале, в самой середине реки. Арка моста связывает его с дорогой. Основания его мрачных башен сливаются с гранитом, на котором он стоит, – огромным блоком, оторвавшимся от невесть какой горы и выброшенным на это место каким-то невероятным катаклизмом. Вокруг него, со всех сторон, тихие воды играют среди камышей и стебли трав колышутся над мокрыми грудами речной гальки.
История Малаки сурова, как его имя, и причудлива, как его силуэт. То была непрерывная череда сражений, осад, штурмов, грабежей и резни. На посиделках в деревнях округи Kо с дрожью вспоминают преступления, которые были в нем совершены. Рассказывают таинственные легенды. Говорят о знаменитом подземном ходе, который вел когда-то из него к аббатству Жумьеж и к замку Агнессы Сорель, любовницы Карла VII.
В этом старом пристанище героев и разбойников живет теперь барон Кагорн, Барон Сатана, как его не так давно звали на бирже, где он несколько поспешно разбогател. Разорившимся владельцам Малаки пришлось продать ему, чуть ли не за кусок хлеба, старинное жилище предков. Барон привез в замок собранные им замечательные коллекции картин и мебели, фарфора и деревянных резных панно. И живет здесь один, с тремя старыми слугами. Никто в эти стены теперь не проникает. Никто ни разу не любовался под сводами этих древних залов тремя полотнами Рубенса, которыми владеет барон, двумя Ватто, кафедрой работы Жана Гужона и другими чудесами, взмахами банковских билетов вырванными прямо из рук богатейших завсегдатаев публичных аукционов.
Барон Сатана боится. Не за себя – за сокровища, собранные с такой неизменной страстью, с интуицией любителя, которого самые дошлые торговцы не могли ни разу надуть. Он любит их. Любит их жестокой любовью скупца и ревнивой – супруга.
Каждый вечер, к закату, четыре окованные железом двери, поставленные в начале и конце моста и перед въездом на парадный двор, запирают на засовы. Электрические звонки готовы зазвучать в тишине при малейшем толчке. Со стороны Сены опасаться нечего: скала там круто обрывается вниз.
И вот, в одну из сентябрьских пятниц, к мосту подошел, как обычно, почтальон. И, как обычно, барон сам приоткрыл тяжелую дверь.
Он осмотрел прибывшего так подробно, как если бы не знал уже, причем – не первый год, эту веселую, добродушную физиономию с насмешливым взором старого крестьянина, человека, который со смехом ему сказал:
– Это снова я, господин барон. Не другой, надевший мою блузу и фуражку.
– Кому можно нынче верить? – пробормотал Кагорн. Почтальон вручил ему ворох газет. Затем добавил:
– Есть для вас и нечто новое, господин барон. Нечто новое.
– Новое?
– Письмо… Заказное к тому же…
Отрезанный от мира, не имея никого, кто мог бы проявить к нему интерес, барон никогда не получал писем. И это сразу показалось ему плохим предзнаменованием, причиной для беспокойства. Кто был неизвестный, который решился нарушить его уединение?
– Распишитесь вот тут, господин барон…
Он расписался, ворча. Потом, взяв письмо, подождал, когда почтальон исчез за поворотом, и, побродив немного взад-вперед, прислонился к парапету и разорвал конверт. Внутри оказался сложенный вчетверо листок бумаги, надписанный поверху от руки:
«Тюрьма Санте, Париж»! Он бросил взгляд на подпись: «Арсен Люпен». И с удивлением прочитал:
«Господин барон, в галерее, которая соединяет две Ваши гостиные, имеется картина Филиппа Шампенья, прекрасная работа, которая мне очень нравится. Ваши Рубенсы, как и меньший из Ваших Ватто, тоже соответствуют моему вкусу. В той гостиной, что справа, хочу отметить сервант в стиле Людовика XIII, гобелены из Бове, столик ампир работы Джакоба и сундук в стиле Ренессанс. В той, что слева, – всю витрину с драгоценностями и миниатюрами.
На первый раз я готов удовольствоваться перечисленными предметами, реализация которых, полагаю, не будет трудной. А посему прошу Вас распорядиться, чтобы они были должным образом упакованы и отправлены на мое имя (с предварительной оплатой) на Батиньольский вокзал не позднее, чем через восемь дней… В противном случае буду вынужден самолично произвести их отправку в ночь со среды 27 на четверг 28 сентября. И, как того требует справедливость, не ограничусь уже вышеуказанными предметами.
Прошу извинить за причиняемое беспокойство и принять выражения совершеннейшего почтения.
Арсен Люпен.
P. S. Особо прошу не присылать большего из Ваших Ватто. Хотя Вы уплатили за него в Доме распродаж тридцать тысяч франков, это всего лишь копия; оригинал картины в годы Директории был сожжен Баррасом во время ночной оргии. Можно справиться по неизданным мемуарам Гарата.
Не стану также претендовать на дамскую цепочку в стиле Людовика XV, подлинность которой представляется сомнительной».
Письмо потрясло барона Кагорна. За любой другой подписью оно бы его глубоко обеспокоило; но это подписал сам Люпен!
Усердный читатель газет, всегда в курсе всего, что случалось в мире и что касалось преступлений и воровства, он не оставался в неведении подробностей похождений адского взломщика. Барон, конечно, знал, что Люпен, арестованный в Америке своим врагом Ганимаром, несомненно сидел за решеткой и что готовился – с какими трудами! – его процесс. Но он знал также, что от этого человека можно было ожидать всего. А точное знание замка, размещения картин и мебели к тому же было весьма грозным предостережением. Кто мог снабдить его сведениями о вещах, которые никто не видел, кроме самого барона?
Кагорн окинул взором суровый силуэт Малаки, его крутые обрывы, окружающие его глубокие воды, и пожал плечами. Нет, решительно опасности не могло быть. Никто в целом свете не мог бы пробраться в неприкосновенное святилище его драгоценных собраний.
Никто, допустим; но Арсен Люпен? Разве для Арсена Люпена существуют двери, подъемные мосты, крепостные стены? К чему наилучшим образом устроенные препятствия, самые тщательные предосторожности, если Арсен Люпен решил их преодолеть?
В тот же вечер он написал государственному прокурору Руэна. Послал ему письмо с угрозами Люпена, потребовав помощи и защиты.
Ответ не заставил себя ждать: Арсен Люпен в данное время содержится в тюрьме Санте, под строгим надзором, лишен возможности писать письма, послание может быть только делом рук мистификатора. Все говорило об этом, – как логика вещей, так и несомненность фактов. Тем не менее из предосторожности к исследованию почерка был привлечен эксперт. И этот специалист заявил, что, несмотря на некоторые совпадения, данный почерк не принадлежал названному заключенному.
«Несмотря на некоторые совпадения» – барон остановился лишь на этих обескураживающих словах, где ему виделось наличие сомнения, которого, по его мнению, было достаточно для вмешательства правосудия. Страхи его обострились; он без конца читал и перечитывал письмо. «Буду вынужден самолично произвести их отправку…» И точная дата: ночь со среды 27 на четверг 28 сентября!
Молчаливый и подозрительный, барон не решился доверить дело слугам, преданность которых отныне не казалась ему безупречной. Однако, впервые за несколько лет его мучила потребность с кем-нибудь поговорить, посоветоваться. Оставленный на произвол судьбы местной полицией, не надеясь на собственные возможности, он был готов поспешить в Париж, чтобы молить о содействии кого-нибудь из отставных полицейских.
Прошло два дня. На третий, читая газеты, барон чуть не подскочил от радости. В «Пробуждении Кодбека» была напечатана следующая заметка:
«Мы счастливы объявить, что в нашем городе, тому скоро три недели, находится главный инспектор Ганимар, один из ветеранов Сюрте. Мсье Ганимар, которому арест Арсена Люпена – его последнее достижение – обеспечил европейскую известность, отдыхает от долгих трудов, приманивая на свой крючок уклейку и пескаря».
Ганимар! Вот он, наконец, тот союзник, который требуется барону Кагорну! Кто еще, кроме терпеливого, хитроумного Ганимара, сумеет расстроить козни Люпена?
Барон не стал медлить. Шесть километров отделяли замок от городка Кодбека. Он прошел их быстрым шагом человека, ведомого надеждой на спасение.
После нескольких бесплодных попыток узнать адрес главного инспектора он направился к редакции «Пробуждения», находившейся на середине набережной. Нашел там сотрудника, готовившего заметку к печати, и тот, подойдя к окну, воскликнул:
– Ганимар? Вы наверняка увидите его на берегу, с удочкой в руках. Там состоялось наше знакомство – я случайно увидел его имя, вырезанное на удилище. Вот он, тот низенький старичок, который виден там, под деревьями аллеи.
– В сюртуке и соломенной шляпе?
– Точно! Ах! Какой странный субъект, неразговорчивый и угрюмый!
Пять минут спустя барон подошел к знаменитому Ганимару, представился и попытался завязать разговор. Не добившись успеха, он взял быка за рога и откровенно изложил свое дело.
Тот выслушал в полной неподвижности, не теряя из виду рыбу, которую подстерегал, затем повернулся к нему, смерил его с ног до головы с выражением глубочайшей жалости, и произнес:
– Милостивый государь, людей, которых хотят ограбить, не принято предупреждать. Арсен Люпен, в частности, не совершает подобных ошибок.
– И все-таки…
– Будь у меня малейшие сомнения, сударь, будьте уверены, удовольствие посадить снова в кутузку дражайшего Люпена перевесило бы у меня любые иные соображения. К сожалению, однако, сей молодой человек находится за решеткой.
– Но если он сбежит?…
– Из тюрьмы Санте не убегают.
– Но он…
– Он – не более, чем другой.
– И все-таки…
– Отлично, если он сбежит, тем лучше, я его снова схвачу. Покамест же – спите сном младенца и перестаньте пугать уклейку, которая, кажется, собирается клюнуть на мой крючок.
Разговор был окончен. Барон возвратился домой, несколько успокоенный беспечностью Ганимара. Он проверил запоры, обнюхал слуг, и прошло еще сорок два часа, в течение которых ему почти удалось убедить себя, что страхи его беспочвенны. Нет, решительно нет, как сказал ему Ганимар: людей, которых хотят ограбить, об этом не предупреждают. Назначенное число приближалось. Утром 27-го ничего особенного не случилось. Но в три часа дня позвонил какой-то малец.
Он доставил телеграмму.
«На вокзале Батиньоля никаких отправлений нет. Приготовьте все на завтра.
Арсен».Барона опять охватило смятение. До такой степени, что он стал подумывать, не уступить ли настояниям Люпена.
Он бросился в Кодбек. Ганимар удил рыбу на прежнем месте, сидя на складном стуле. Не говоря ни слова, барон протянул ему телеграмму.
– Ну и что? – произнес инспектор.
– Как ну и что? Ведь все случится завтра!
– Что именно?
– Кража со взломом! Разграбление моих коллекций!
Ганимар положил удочку, повернулся к нему и, скрестив руки на груди, нетерпеливо воскликнул:
– И вы вообразили, что я займусь такой нелепой историей!
– Какое вознаграждение угодно вам назначить за то, чтобы провести ночь с 27-го на 28-е в моем замке?
– Ни единого су, и не морочьте мне голову.
– Назначьте цену; я богат, я очень богат.
Внезапность этого предложения, видимо, сбила с толку Ганимара, который продолжал уже спокойнее:
– Я здесь провожу отпуск и не вправе во что-либо встревать.
– Никто об этом не узнает. Обязуюсь, что бы ни случилось, хранить молчание.
– О! Ничего и не произойдет.
– Хорошо, предлагаю три тысячи франков. Достаточно?
Инспектор принял понюшку табака, подумал и проронил:
– Согласен. Но должен объявить честно: деньги пропадут зазря.
– Меня это не тревожит.
– В таком случае… Наконец, в чем можно быть уверенным, имея дело с таким дьяволом, как Люпен! В его подчинении может быть целая банда… Вы уверены в своих слугах?
– Как сказать…
– Не будем, стало быть, на них рассчитывать. Я предупрежу телеграммой двух здоровяков из моих приятелей – с ними дело будет вернее. А теперь – ступайте, нас не должны видеть вместе. До завтра, в девять часов.
На следующий день, в назначенный Ганимаром срок, барон Кагорн приготовил свой арсенал, наточил оружие и совершил прогулку вокруг замка Малаки. Ничто подозрительное не привлекло его внимания.
Вечером, в восемь тридцать, он отпустил свою прислугу. Они жили во флигеле, выходившем фасадом на дорогу, но в некотором отдалении от нее, у оконечности замка. Оказавшись в одиночестве, барон осторожно открыл все четыре двери. Мгновение спустя кто-то тихо подошел.
Ганимар представил двоих своих помощников, крепких ребят с бычьими шеями и могучими руками. Затем потребовал некоторых разъяснений. Разобравшись, где что находится, от тщательно запер и забаррикадировал входы, через которые можно было проникнуть в находившиеся под угрозой залы. Осмотрел стены, приподнял ковры, затем поставил своих агентов в центральной галерее.
– Никаких глупостей, братцы. Мы здесь не для того, чтобы спать. При малейшей тревоге открывайте окна, выходящие во двор, и зовите меня. Поглядывайте и в сторону реки – десять метров обрывистой скалы вряд ли испугают таких чертей.
Он запер их, забрал ключи и сказал барону:
– А теперь – на наш пост!
Инспектор избрал для ночлега каморку, вырубленную в толще оборонительной стены, между двумя главными входами, где раньше было место дозорного. Одно смотровое окошко открывалось на мост, другое – во двор. В углу виднелось нечто вроде отверстия колодца.
– Как вы меня заверили, господин барон, этот колодец служил единственным входом в подземелья и, насколько помнят живущие, он заделан?
– Да.
– Таким образом, если не существует другого выхода, неизвестного для всех, кроме Арсена Люпена, мы можем быть спокойны.
Он поставил в ряд три стула, с удобством на них растянулся, зажег свою трубку и вздохнул:
– Сказать правду, господин барон, надо было очень захотеть надстроить этаж над домиком, в котором я собираюсь окончить свои дни, чтобы взяться за такую примитивную работу. Расскажу об этом когда-нибудь своему приятелю Люпену: он будет держаться за бока от смеха.
Барон, однако, не смеялся. Чутко прислушиваясь, он с растущей тревогой вопрошал тишину. Время от времени он наклонялся над колодцем и погружал в разверстый люк беспокойный взор. Пробило одиннадцать часов, полночь, час ночи. Внезапно барон схватил за локоть Ганимара, который вздрогнул, просыпаясь.
– Слышите?
– Конечно.
– Что это такое?
– Это я храпел.
– Да нет же, послушайте…
– А! Прекрасно, это рожок автомобиля.
– Так что?
– Так вот, не следует полагать, что Люпен воспользуется автомобилем как тараном для того, чтобы разрушить ваш замок. И на вашем месте, господин барон, я бы просто заснул… как сделаю, с вашего позволения, я сам. Спокойной ночи.
Это был единственный повод для тревоги. Ганимар смог продолжить прерванный сон, и барон не услышал ничего, кроме его звучного и размеренного храпа.
На рассвете они вышли из своей каморки. Ясная тишина, утреннее спокойствие, какое бывает у берегов прохладных вод, обнимало замок. Кагорн – сияя от радости, Ганимар – по-прежнему невозмутимый поднялись по лестнице. Не слышалось ни звука. Ничего подозрительного.
– Что я говорил вам, господин барон? В сущности, мне не следовало соглашаться… Мне неловко…
Он взял ключи и вошел в галерею.
На двух стульях, скорчившись, с повисшими руками, оба агента спали.
– Гром и молния! Черт возьми! – проворчал инспектор. И тут же раздался крик барона:
– Картины!.. Сервант!..
Он заикался, задыхался, протягивая руки к пустым местам, к опустевшим стенам, из которых торчали гвозди, где еще висели теперь ненужные веревки. Ватто – исчез! Рубенсы – похищены! Гобелены – сняты! Витрины для драгоценностей – опустошены!
– И мои канделябры в стиле Людовика XV в… И подсвечник регентства!.. И Богородица двенадцатого столетия!..
Он перебегал с места на место в растерянности, в отчаянии. Называл уплаченные цены, подводил итоги потерям, нагромождал числа, и все это – вперемешку, нечленораздельно, неоконченными фразами. Он топал ногами, корчился, сходя с ума от ярости и страдания. Словно вконец разоренный человек, готовый пустить себе пулю в лоб.
И если что-нибудь могло его утешить, то только изумление, охватившее Ганимара. Не в пример барону, инспектор не был в состоянии пошевелиться. Словно окаменев, он блуждающим взором окидывал окружающее. Окна? Заперты. Замки на дверях? Не тронуты. И никаких проломов в потолке. Следов взлома в полу? Все было в полнейшем порядке. Все, очевидно, исполнено методически, по безошибочному, логичному плану.
– Арсен Люпен… Арсен Люпен… – бормотал он в полнейшей подавленности.
Он подскочил к обоим агентам, словно гнев его вдруг подхлестнул, яростно встряхнул их, стал ругать. Ни один, однако, не проснулся.
– Их усыпили!
– Но кто?!
– Вот еще! Он, черт его возьми! Либо его банда, под его руководством. Это – в его манере. Его почерк, ошибки не может быть.
– В таком случае я погиб, все пропало.
– Да, все пропало.
– Но это же ужасно! Чудовищно!
– Жалуйтесь в полицию.
– К чему?
– Дьявольщина! Надо попытаться, у правосудия – свои возможности.
– Правосудие! Поглядите хотя бы на себя… В эту самую минуту вы могли бы поискать улики, обнаружить что-нибудь, а вы ни с места…
– Обнаружить что-нибудь, имея дело с Арсеном Люпеном! О чем вы, милейший, Арсен Люпен никогда не оставляет следов. У него не бывает случайностей. Я спрашиваю себя порой, не по своей ли воле он дал мне задержать себя там, в Америке!
– Значит, мне придется отказаться от своих полотен, от всего! Но ведь он украл жемчужины моих коллекций! Я отдал бы целое состояние, чтобы их вернуть. Если против него ничего нельзя предпринять, пусть он хотя бы назовет цену!
Ганимар пристально взглянул на барона.
– Пожалуй, в этом есть смысл… Вам это не кажется?
– Нет, нисколько. Что вы имеете в виду?
– Эту мысль, которая ко мне пришла.
– О какой мысли речь?
– Мы еще к этому вернемся, если следствие ничего не даст… Только смотрите, ни слова обо мне, если хотите, чтобы дело мне удалось.
И добавил сквозь зубы:
– В сущности, хвастать мне пока нечем.
Оба агента между тем постепенно приходили в себя с тем пришибленным видом, с которым пробуждаются от гипнотического сна. С удивлением осматривались, пытались понять, где они. Ганимар задал им несколько вопросов; они ничего не помнили.
– И все-таки, вы должны были хоть кого-нибудь заметить!
– Нет.
– Вспомните!
– Да нет же…
– Вы что-нибудь выпили?
Они поразмыслили. Затем один сказал:
– Да, я выпил немного воды.
– Из этого вот графина?
– Да.
– Я тоже, – объявил второй.
Ганимар понюхал сосуд, попробовал содержимое. У воды не было ни особого привкуса, ни цвета.
– Так вот, мы теряем время зря. Не за пять минут решают загадки, заданные Арсеном Люпеном. Но, черт возьми, я клянусь, что он мне еще попадется. Второй тур выигран им. Но уж третий останется за мной!
В тот же день жалоба по поводу квалифицированной кражи была направлена бароном Кагорном против Арсена Люпена, содержавшегося в тюрьме Санте.
Барону не раз пришлось, однако, об этом пожалеть, когда он увидел замок Малаки наводненным жандармами, прокурорами, следователями, журналистами, всеми любопытствующими, проникавшими во все углы, в которые им вовсе не полагалось соваться.
Дело взволновало общественное мнение. Все произошло при столь необычных обстоятельствах, имя Арсена Люпена настолько возбуждало воображение людей, что самые невероятные истории заполоняли колонки газет, и публика встречала их с доверием.
Но первоначальное письмо, которое опубликовало «Эхо Франции» (и никто никогда не узнал, кто сообщил газете этот текст), послание, которым барон Кагорн был нахально предупрежден насчет того, что его ожидало, вызвало чрезвычайное волнение. Были предложены самые фантастические объяснения. Напомнили о существовании знаменитых подземелий. И следствие, поддавшись влиянию, направило розыск по этому пути.
Замок обшарили снизу доверху. Допросили каждый камень. Исследовали деревянные обшивки стен, дымоходы, рамы зеркал и потолочные балки. При свете факелов осмотрели огромные погреба, в которых феодальные владетели Малаки некогда складывали свое оружие и припасы. Заглянули в самые недра скалы. Все было напрасно. Не удалось обнаружить малейшего признака подземного хода. Потайного хода просто не было.
Пусть так, – отвечали на это со всех сторон, – но предметы меблировки и картины не испаряются сами собой, подобно призракам. Такие вещи уходят только через двери или окна, и люди, которые ими завладевают, пробираются внутрь и выходят тоже через двери или окна. Кто же эти люди? Как они забрались туда? И как оттуда выбрались?
Органы правосудия Руана, убедившись в своем бессилии, обратились за помощью к парижским сыщикам. Господин Дюдуа, начальник Сюрте, направил к ним лучших розыскников своей железной бригады. Да и лично провел в Малаке сорок восемь часов. Это тоже ни к чему не привело.
Тогда он и вызвал инспектора Ганимара, чьим услугам ему приходилось так часто давать высокую оценку.
Ганимар внимательно выслушал наставления своего начальника; затем, покачав головой, молвил:
– По-моему, упорные поиски в самом замке не были правильным решением. Выход совсем в другом месте.
– В каком же?
– Там, где Люпен.
– Там, где Люпен! Думать так – значит допустить его участие!
– Я его вполне допускаю. Более того, считаю несомненным.
– Послушайте, Ганимар, это ведь нелепо! Арсен Люпен – в тюрьме!
– Арсен Люпен в тюрьме, допустим. Он под наблюдением, согласен. Но будь у него на ногах кандалы, на руках – веревки и во рту – кляп, я не изменил бы своего мнения.
– Почему вы так упорствуете?
– Потому что Арсен Люпен и только он способен соорудить такую масштабную махинацию и настолько ее усовершенствовать, чтобы она удалась… Как оно и вышло на самом деле.
– Слова, Ганимар, слова!
– Отражающие действительность. Но в этом деле не было ни подземных ходов, ни поворачивающихся на своей оси каменных плит, ни других подобных нелепостей. Наш человек не пользуется такими устарелыми способами. Он весь в сегодняшнем, вернее – уже в завтрашнем дне.
– И каков из этого ваш вывод?
– Мой вывод привел к тому, что я прошу у вас по всей форме разрешения провести с ним час.
– В его камере?
– Вот именно. Возвращаясь из Америки, во время переезда, мы поддерживали самые лучшие отношения, и смею полагать, что он испытывает некоторую симпатию к тому, кто сумел его арестовать. Если он сможет что-нибудь для меня прояснить, не ставя себя под удар, он без колебаний избавит меня от лишнего путешествия.
Было чуть позднее полудня, когда Ганимар вошел в камеру Арсена Люпена. Арестант, лежавший на своей койке, издал возглас радости.
– Какая приятная неожиданность! Мой дорогой Ганимар у меня в гостях!
– Собственной персоной.
– Хотелось бы очень многого в том тихом прибежище, которое я временно для себя избрал… И все-таки я ничего не желал бы себе более, чем подобной встречи.
– Ты слишком любезен.
– Да нет же, нет! Мое уважение к тебе вполне искренне.
– Я этим горжусь.
– Я неизменно утверждал: Ганимар – лучший из наших детективов. Он почти равен – видишь, я говорю откровенно, – он почти равен Шерлоку Холмсу. И я в отчаянии, что не могу предложить тебе ничего более достойного, чем этот табурет. И ничего освежающего – даже бокала пива. Уж ты прости, ведь задержался я здесь мимоходом.
Ганимар сел, улыбаясь, и заключенный продолжал, радуясь возможности поболтать:
– Боже, как это приятно, когда твой взор может отдохнуть на лице честного человека! Мне до чертиков надоели физиономии стукачей и легавых, которые по десять раз на день проверяют мои карманы и эту скромную камеру, чтобы убедиться, что я не готовлюсь к побегу. И кто бы мог подумать, что правительство так мною дорожит!
– У него есть на это основания.
– Ну нет! Какое было бы счастье, если бы мне позволили спокойно пожить в своем уголке!
– На чужие средства.
– Не правда ли? Все было бы так просто! Но я заболтался, наговорил кучу глупостей, а ты, может быть, торопишься. Приступим к делу, Ганимар! Чему обязан чести такого посещения?
– Делу Кагорна, – прямо заявил сыщик.
– Стоп! Одну минутку! У меня ведь столько разных дел! Поищу-ка в памяти досье дела Кагорна… Ах, вот оно, наконец. Дело Кагорна, замок Малаки, департамент Нижняя Сена. Два Рубенса, один Ватто и несколько мелких предметов.
– Вот именно, мелких.
– Ох! Ей-богу, все это не так уж важно. Бывает лучше. Но история тебя, вижу, заинтересовала, и для меня этого достаточно… Я слушаю тебя, Ганимар.
– Надо ли тебе говорить о том, как продвигается розыск?
– Нет смысла, я читал утренние газеты. Позволю себе даже сказать, что продвигаетесь вы довольно медленно.
– Именно поэтому я прибегаю к твоей любезности.
– Весь к твоим услугам!
– Для начала: дело действительно направлялось тобой?
– От А до Я.
– Письмо с предупреждением? Телеграмма?
– От твоего покорного слуги. Должны быть, кажется, кое-какие квитанции.
Люпен раскрыл ящичек столика из некрашеного дерева, который, вместе с табуретом и койкой, составлял всю обстановку камеры, извлек из него два клочка бумаги и протянул их инспектору.
– Вот так штука! – воскликнул тот. – Я-то думал – с тебя не спускают глаз, тебя постоянно обыскивают. На самом же деле ты почитываешь газеты, коллекционируешь почтовые квитанции…
– Ба! Эти люди так недалеки! Они вскрывают подкладку моего пиджака, исследуют подметки моих ботинок, простукивают стены этой каморки, но никому и в голову не приходит, что Люпен не настолько прост, чтобы избрать столь доступный их взорам тайник. На этом и основывался мой расчет.
Ганимар, развеселившись, воскликнул:
– Странный парень! Ты меня просто ставишь в тупик. Расскажи мне все, как было.
– Ох-ох, какой же ты быстрый! Раскрыть тебе мои тайны… Мои маленькие хитрости… Это очень серьезный шаг.
– Разве я ошибся, рассчитывая на твое доброе расположение?
– Вовсе нет, Ганимар… Поскольку ты настаиваешь…
Арсен Люпен сделал несколько шагов по камере, потом, остановившись, спросил:
– Что ты думаешь о моем письме барону?
– Что ты хотел подразвлечься, повеселить малость публику.
– Ну вот еще! Подразвлечься! Уверяю тебя, Ганимар, я был о тебе лучшего мнения. Стоит ли терять время на такие детские шалости мне, Арсену Люпену! Разве я стал бы сочинять подобное письмо, если мог ограбить барона, не написав ему? Поймите же, и ты, и прочие, что письмо было необходимейшей отправной точкой, той пружиной, которая привела в движение всю машину. Давай поступим по порядку и подготовим вместе, если не возражаешь, ограбление замка Малаки.
– Слушаю.
– Итак, представим себе основательно запертый замок, забаррикадированный, каким было жилище барона Кагорна. Стану ли я отказываться от предприятия и говорить «прощайте» сокровищам, которыми хочу завладеть, по той причине, что замок, где они содержатся, для меня недоступен?
– Очевидно, нет.
– Прибегну ли я к штурму замка, как в далекую старину, во главе шайки авантюристов?
– Ребячество!
– Либо попытаюсь незаметно в него проникнуть?
– Невозможно.
– Остается средство, по-моему, единственное: сделать так, чтобы владелец замка сам меня в него пригласил.
– Оригинальный способ.
– Причем весьма легкий! Предположим, что в один прекрасный день хозяин замка получает письмо, предупреждающее его о том, что задумал против него некий Арсен Люпен, известный взломщик. Как он поступит?
– Обратится к прокурору.
– Который над ним посмеется, ибо названный Арсен Люпен в настоящее время находится за решеткой. Отсюда – паника в душе нашего приятеля, готового призвать на помощь даже первого встречного, не так ли?
– Несомненно.
– И если он случайно прочтет, хотя бы на капустном листке, что некий знаменитый сыщик проводит отпуск в соседнем населенном пункте…
– Он поспешит к этому сыщику.
– Ты сам сказал. С другой стороны, однако, допустим, что в предвидении этого неизбежного демарша Арсен Люпен попросит кое-кого из самых ловких своих друзей поселиться в Кодбеке, войти в контакт с сотрудником «Пробуждения», газеты, на которую подписан барон, и дать ему понять, что он и есть такой-то, сиречь – знаменитый полицейский? Что тогда произойдет?
– В газете будет объявлено о присутствии названного сыщика в городе Кодбек.
– Отлично. Теперь – одно из двух: либо рыбка – то есть Кагорн – на это не клюнет, и тогда ничего не случится. Либо – и это наиболее вероятно – он прибежит, весь дрожа; и вот уже Кагорн умоляет одного из моих друзей помочь ему – против меня же.
– Все более любопытно.
– Разумеется, мнимый полицейский вначале откажет ему в содействии. За этим последует телеграмма от Арсена Люпена. Припадок ужаса у барона, который опять молит моего приятеля о помощи и предлагает ему щедрую плату за свое спасение. Указанный приятель наконец соглашается, приводит с собой двоих молодцов из нашей шайки, которые за ночь, проведенную бароном на глазах у его защитника, извлекают наружу через окно известное число вещей, осторожно опустив их на веревках в шлюпку, приготовленную для этого заблаговременно. Просто, как Люпен.
– Все это прямо-таки замечательно! – воскликнул Ганимар. – Трудно переоценить и смелость замысла, и продуманность его деталей. Но не представляю, какой полицейский достаточно знаменит для того, чтобы его имя до такой степени привлекло, заворожило барона.
– Такой есть, причем – единственный.
– Кто же он?
– Известнейший из известных, личный враг Арсена Люпена, короче – инспектор Ганимар.
– Я сам?
– Ты, Ганимар, ты, и вот в чем тут изюминка: если ты туда отправишься и барон решится дать показания, тебе в конце концов станет ясно, что твоя обязанность – арестовать самого себя, точно так же, как в Америке ты арестовал меня. Ха-ха! Мой реванш не без юмора: заставить Ганимара арестовать Ганимара!
Арсен Люпен от души смеялся. Инспектор, глубоко задетый, прикусил губу. Ему шутка не показалась такой смешной.
Появление надзирателя дало ему время прийти в себя. Тюремщик принес обед, который Арсен Люпен, по особому разрешению, заказывал в соседнем ресторане. Поставив на стол поднос, тот удалился. Арсен устроился поудобнее, преломил свой хлеб, поел немного и продолжал:
– Но будь спокоен, дорогой Ганимар, тебе не придется туда отправляться. Считаю своим долгом сделать сообщение, которое немало тебя удивит: дело Кагорна будет вскоре прекращено.
– Как то есть?
– Прекращается дело, говорю тебе.
– Вот еще, я только что побывал у начальника Сюрте!
– Ну и что? Разве г-н Дюдуа знает больше, чем я, о том, что меня касается? Ты узнаешь, что Ганимар, прости – мнимый Ганимар, сохранил наилучшие отношения с бароном. Последний же – и тут кроется главная причина того, что он не дал показаний, – поручил ему деликатнейшую миссию сторговаться со мной по поводу соглашения. Так что к этому времени, уплатив определенную сумму, барон, вероятно, опять вступил во владение милых его сердцу безделушек. В ответ на что он отзовет свою жалобу. Стало быть, не будет и кражи. Следовательно, прокуратуре придется закрыть дело…
Ганимар обратил на заключенного изумленный взор.
– Но как ты обо всем узнал?
– Получил телеграмму, которую ожидал.
– Ты получил телеграмму?
– Только что, дорогой друг. Только из учтивости не стал читать ее в твоем присутствии. Но, если позволишь…
– Ты надо мной смеешься, Люпен?
– Изволь осторожно снять скорлупу с вот этого яичка всмятку. И ты убедишься сам, что я над тобой нисколечко не насмехаюсь.
Ганимар машинально повиновался, разбив яйцо лезвием ножа. И не сдержал возгласа удивления. В пустой скорлупе был спрятан листок голубой бумаги. По просьбе Люпена, он его развернул. Это была телеграмма, точнее – часть телеграммы, от которой оторвали данные почтового отделения. Он прочитал:
«Соглашение заключено. Сто тысяч шариков выплачены. Все идет как надо».
– Сто тысяч шариков? – повторил он.
– Ну да, сто тысяч франков. Маловато, конечно, но времена нынче тяжкие… У меня такие накладные расходы! Знал бы ты мой бюджет!.. Бюджет большого города!
Ганимар поднялся. Плохое настроение у него развеялось. Он ненадолго призадумался, окинул мысленным взором случившееся, чтобы обнаружить в нем слабую сторону. Затем произнес тоном, в котором слышалось восхищение знатока:
– Нам еще везет, что такие, как ты, не рождаются дюжинами, иначе пришлось бы прикрыть нашу лавочку.
Арсен Люпен скромно опустил глаза и ответил:
– Право! Надо ведь человеку развлечься, употребить на что-то свой досуг. Тем более, если дело могло выгореть только благодаря тому, что я сидел в тюрьме.
– Вот еще! – воскликнул Ганимар. – Твой процесс, твоя защита, следствие – всего этого еще мало, чтобы доставить тебе развлечение?
– Нет, ибо я принял решение не присутствовать на суде.
– Ох, ох!
Арсен Люпен твердо повторил:
– Я не буду присутствовать на процессе, Ганимар.
– Действительно?!
– А как же, дорогой! По-твоему, я буду гнить на сырой соломе? Ты меня просто обижаешь. Арсен Люпен остается в тюрьме лишь то время, которое устраивает его самого, ни минутой больше.
– Было бы разумнее, для начала, не попадать в нее, – ироническим тоном заметил инспектор.
– Вот как! Милостивый государь надо мной подтрунивает! Милостивый государь напоминает, что именно он имел честь обеспечить мой арест! Знай же, досточтимый друг, что никто, и ты – не более, чем другие, не смог бы меня схватить, если бы в решающую минуту меня не сковало во много раз более важное обстоятельство.
– Ты меня удивляешь.
– На меня смотрела женщина, Ганимар, а я ее любил. Можешь ли ты понять, что значит чувствовать на себе взор женщины, которую любишь? Все остальное мало значило для меня, клянусь. Вот почему я сегодня здесь.
– И довольно давно, позволь тебе это напомнить.
– Вначале мне хотелось все забыть. Не надо смеяться, приключение было чудесным, я с волнением вспоминаю до сих пор о нем. С другой стороны, у меня ведь не железные нервы. У жизни в наши дни такой лихорадочный темп! И надо уметь в подходящие моменты устраивать себе, так сказать, курс лечения одиночеством. А для такого режима подобное место – просто находка. Лечение «Санте» – по всем правилам медицины![72]
– Арсен Люпен, – заметил Ганимар, – ты опять бросаешь мне вызов.
– Ганимар, – отозвался Люпен, – сегодня у нас – пятница. В следующую среду я приду выкурить сигару к тебе домой, на улицу Перголезе, в четыре часа пополудни.
– Арсен Люпен, я буду ждать.
Они обменялись рукопожатиями, как старые друзья, ценящие друг друга по истинному достоинству, и сыщик направился к двери.
– Ганимар, – тот обернулся.
– Что такое?
– Ганимар, ты забыл у меня часы.
– Мои часы?
– Ну да, они зачем-то забрели в мой карман.
Люпен возвратил часы, притворно извиняясь.
– Уж ты прости… Дурная привычка… У меня, правда, забрали мои, но это не повод для того, чтобы я завладел твоими… Тем более что у меня теперь есть хронометр, на который грешно жаловаться, ибо служит он мне отлично.
Он вынул из того же ящичка большие золотые часы, массивные и удобные, дополненные тяжелой цепью из того же металла.
– А эти – из чьего они кармана? – осведомился Ганимар. Арсен Люпен небрежно присмотрелся к инициалам, вырезанным на крышке хронометра.
– «Же-Бе»… Что бы это могло, черт возьми, означать? Ах да, вспоминаю. Жюль Бувье, наш милый следователь, прекрасный человек.
Побег Арсена Люпена
Когда Арсен Люпен, закончив обед, вынул из кармана роскошную сигару с золотым ободком и принялся любовно ее разглядывать, дверь камеры отворилась. Он едва успел бросить ее в ящик стола и отскочить в сторону. Вошедший надзиратель объявил, что заключенному пора на прогулку.
– Я ждал тебя, милый друг! – воскликнул Люпен, не теряя прекрасного расположения духа.
Они вышли. И не успели скрыться за поворотом коридора, как в камеру проскользнули два инспектора и приступили к тщательному осмотру. Одного из них звали Дьёзи, другого – Фольанфан.
Нужно было покончить со всей этой историей. Сомнений не оставалось: Арсен Люпен поддерживает связь с внешним миром, переписывается с сообщниками. Как раз накануне «Большая газета» опубликовала несколько строк, обращенных к ее собственному судебному обозревателю:
«Сударь, в одной из своих недавних статей вы позволили себе в мой адрес выражения, которым не может быть извинения. За несколько дней до открытия слушания по моему делу я предъявлю вам за это счет. С наилучшими пожеланиями,
Арсен Люпен».Почерк оригинала не оставлял сомнений в том, что автором послания был Арсен Люпен. Следовательно, он отправлял письма. И получал их. Отсюда можно было заключить, что он и впрямь готовил побег, о котором с таким вызовом сообщалось в записке.
Нельзя было более терпеть подобную наглость. Заручившись поддержкой следователя, глава сыскной полиции, мсье Дюбуи, собственной персоной отправился в Санте, чтобы вместе с директором тюрьмы обсудить и принять необходимые меры. А тем временем отправил двух своих подчиненных для осмотра камеры Люпена.
Они перевернули все плитки на полу, разобрали постель, короче говоря, сделали все, что полагается делать в подобных случаях, но ровным счетом ничего не обнаружили. И уже собирались уйти ни с чем, когда в камеру ворвался запыхавшийся надзиратель:
– Ящик… загляните в ящик стола! Когда я сюда входил, мне показалось, что он задвигал его.
Полицейские последовали его совету. Дюбуи воскликнул:
– Ну, теперь-то он попался!
Фольанфан остановил его:
– Не спеши, малыш, пусть начальник тюрьмы сам сделает опись.
– Но ведь эта роскошная сигара…
– Оставь сигару в покое и ступай за начальником.
Через две минуты мсье Дюбуи приступил к осмотру ящика. Прежде всего, он обнаружил в нем кипу газетных вырезок, отобранных агентством «Аргус», в которых шла речь об Арсене Люпене, затем кисет с табаком, трубку, стопку тончайшей бумаги и, наконец, пару книг.
Он взглянул на корешки. То было английское издание «Культа героев» Карлейля и прелестный эльзевир в старом переплете, немецкий перевод «Учебника Эпиктета», вышедший в Лейдене в 1634 году. Полистав книги, он заметил, что их страницы были сплошь усеяны подчеркиваниями, пометками, засечками от ногтей. Что это такое? Условные знаки или просто свидетельство внимательного чтения?
– Мы еще успеем в этом разобраться, – решил мсье Дюбуи.
Он осмотрел кисет и трубку, потом схватил пресловутую сигару с золотым ободком:
– Черт побери, наш подопечный совсем недурно устроился! Самому Анри Клею не уступит!
Машинальным движением курильщика он поднес сигару к уху, повертел ее между пальцами и чуть не вскрикнул. «Гавана» треснула. Он всмотрелся в нее повнимательней и обнаружил, что между табачными листьями что-то белеет. С помощью булавки он осторожно извлек из сигары тоненький, не толще зубочистки, свиток бумаги. Это была записка. Он развернул ее и вгляделся в бисерный женский почерк:
«Корзину заменили. Восемь на десять приготовлены. При нажатии на внешнюю ступеньку пластинка поднимается.
От двенадцати до шестнадцати ежедневно. Н. Р. будет ждать. Но где? Отвечай немедленно. Не беспокойтесь, ваш друг следит за вами».
Немного поразмыслив, мсье Дюбуи изрек:
– Все это довольно ясно… корзина… восемь отделений… с двенадцати до шестнадцати, то есть от полудня до четырех…
– А что это за Н. Р.?
– Н. Р. в данном случае означает автомобиль. Н. Р., horse power, значит по-английски «лошадиная сила». Так на спортивном жаргоне обозначается мощность мотора. Например, 24 Н. Р. – это машина в двадцать четыре лошадиные силы.
Мсье Дюбуи поднялся и спросил у надзирателя:
– Заключенный кончал обедать, когда вы вошли?
– Да.
– И поскольку он еще не прочел эту записку, как видно из состояния сигары, значит, он ее только что получил.
– Но каким образом?
– Сигара была спрятана среди провизии, в куске хлеба, например, или в картофелине.
– Это невозможно. Мы разрешили ему получать провизию из ресторана только затем, чтобы поймать его с поличным, но пока нам ничего не удалось найти.
– Сегодня вечером нам придется поискать ответ Люпена. А пока подержите его вне камеры. Я отнесу записку следователю, и, если он со мной согласится, мы переснимем ее, а через час подсунем в ящик стола новую сигару той же марки с оригиналом послания. Люпен ни о чем не догадается.
Когда Дюбуи в сопровождении инспектора Дьёзи вернулся вечером в тюремную канцелярию, его разбирало любопытство. В углу, на печке, громоздились три грязные тарелки.
– Он успел поужинать?
– Да, – ответил директор.
– Дьёзи, потрудитесь-ка измельчить остатки макарон и раскрошить кусочки хлеба… Ничего?
– Ровным счетом ничего.
Мсье Дюбуи обследовал тарелки, вилку, ложку и нож, обычный тюремный нож с тупым лезвием. Повертел его рукоятку влево и вправо. Она поддалась и стала отвинчиваться. Рукоятка оказалась полой, и там был клочок бумаги.
– Не очень-то хитрая уловка для такого плута, как Арсен. Но не будем терять время. Вам, Дьёзи, придется сходить в ресторан и навести там кое-какие справки.
Потом он прочел:
«Я полагаюсь на вас, Н. Р. будет следовать на некотором расстоянии каждый день. Я выйду навстречу. До свидания, мой дорогой и нежный друг».
– Наконец-то можно считать, – воскликнул Дюбур, потирая руки, – что дело сдвинулось с места. Небольшое содействие с нашей стороны – и побег удастся… в той мере, в какой это необходимо для поимки сообщников.
– А что, если Арсен Люпен выскользнет у нас из рук? – возразил директор.
– У нас будет достаточно людей, чтобы этого не случилось. А если он окажется чересчур прытким, то, черт возьми, тем хуже для него. Что же касается его шайки, то, если главарь молчит, мы заставим разговориться сообщников.
Арсен Люпен и впрямь предпочитал держать язык за зубами. Уже который месяц следователь Жюль Бувье бился над ним, но все понапрасну. Допросы превратились в пустую перепалку между следователем и мэтром Данвалем, одним из светил адвокатуры, который, впрочем, знал о своем подзащитном не больше, чем другие.
Время от времени Арсен Люпен снисходительно бросал:
– Не стану отпираться, господин следователь: ограбление Лионского банка, кража на Вавилонской улице, выпуск поддельных банкнот, история со страховыми полисами, кражи со взломом в замках Армениль, Гуре, Амблевен, Малаки и Гроселье – все это дело рук вашего покорного слуги.
– В таком случае не могли бы вы объяснить…
– Не нахожу это возможным. Я признаюсь сразу во всем и даже в том, о чем вы и не подозреваете.
Доведенный до отчаяния, судья перестал его допрашивать. Но узнав о двух перехваченных записках, возобновил допросы. И теперь Арсена Люпена ежедневно, в полдень, доставляли из тюрьмы в префектуру полиции в тюремной карете, вместе с несколькими другими заключенными. Они возвращались в Санте часам к трем-четырем.
И вот однажды Арсену пришлось проделать обратный путь в одиночку, потому что остальных заключенных еще не успели допросить. Он поднялся в пустую карету.
Эти тюремные колымаги, называемые в просторечии «корзинками для салата», разделены внутри продольным коридором, в который открываются двери десяти отсеков – пять слева и пять справа, – отделенных друг от друга параллельными перегородками. В каждом отсеке – узкое сиденье для одного узника. Муниципальный надзиратель, сидящий в конце коридора, наблюдает за всеми отсеками.
Арсена поместили в третью клетушку справа, и тяжелая повозка тронулась. Он понял, что они миновали Часовую набережную и сейчас проезжают мимо Дворца правосудия.
Подождав, когда карета окажется посреди моста Сен-Мишель, он попробовал нажать правой ногой на заднюю перегородку своего отсека. Тотчас же раздался щелчок, и перегородка мало-помалу сдвинулась в сторону. Арсен увидел, что он находится как раз между двух колес.
Он выжидал, все время поглядывая в образовавшийся проем. Колымага поднималась по бульвару Сен-Мишель. На перекрестке Сен-Жермен ей пришлось остановиться – впереди пала кляча, запряженная в подводу. Движение застопорилось, фиакры и омнибусы запрудили проезжую часть.
Арсен Люпен просунул голову в проем. Рядом стояла еще одна полицейская карета. Он подался вперед, нащупал ногой спицу большого колеса и спрыгнул на землю. Заметив его, кучер соседнего экипажа расхохотался, а потом опомнился и поднял крик. Но голос его потонул в грохоте экипажей, которые возобновили движение. Впрочем, Арсен Люпен был уже далеко.
Пробежав несколько шагов по левому тротуару, он огляделся по сторонам, словно выбирая нужное направление. Потом, решившись, сунул руки в карманы и с беззаботным видом не спеша зашагал вверх по бульвару.
Стояла благодатная и свежая осенняя пора. Кафе были переполнены. Он уселся на веранде одного из них.
Заказал пива и пачку сигарет. Потихоньку осушил кружку, выкурил одну сигарету, начал другую. Потом поднялся и попросил гарсона позвать управляющего.
Когда тот подошел, Люпен сказал ему достаточно громко, чтобы слышали все окружающие:
– Весьма сожалею, сударь, но я забыл бумажник дома. Быть может, вам знакомо мое имя и вы могли бы предоставить кредит на несколько дней? Я – Арсен Люпен.
Управляющий уставился на него, приняв все это за шутку. Но Арсен повторил:
– Я – Арсен Люпен, заключенный тюрьмы Санте, в настоящее время нахожусь в бегах. Смею надеяться, что мое имя внушает вам полное доверие. – И удалился под смех собравшихся. С него и не подумали требовать денег.
Он перешел наискосок улицу Суффло и, свернув на улицу Сен-Жак, не спеша зашагал по ней, останавливаясь перед витринами и покуривая сигареты. Но, добравшись до бульвара Пор-Рояль, огляделся, спохватился и пошел прямо к улице Санте. Вскоре перед ним замаячила высокая и неприветливая тюремная ограда. Пройдя вдоль нее, он направился к стоящему на часах стражнику и, сняв шляпу, спросил:
– Это и есть тюрьма Санте?
– Ну да.
– Я хотел бы вернуться к себе в камеру. Я вышел из тюремной повозки по дороге и не хотел бы злоупотреблять случившимся…
– Идите своей дорогой, – проворчал стражник, – нечего вам тут задерживаться.
– Прошу прощения! Дело в том, что моя дорога лежит как раз через эти ворота. И если вы не пропустите в них Арсена Люпена, вам это может дорого обойтись, друг мой.
– Арсена Люпена? Что за чушь вы порете?
– К сожалению, у меня нет с собой визитной карточки, – сказал Арсен, хлопая себя по карманам.
Ошарашенный стражник смерил его взглядом. Потом, ни слова не говоря, дернул за шнурок звонка. Железные ворота приоткрылись.
Спустя несколько минут в тюремную канцелярию ворвался директор. Он размахивал руками и задыхался от притворного гнева. Арсен улыбнулся.
– Послушайте, господин директор, не разыгрывайте передо мной эту комедию. Подумать только! Меня словно бы по случайности оставляют одного в карете, подстраивают небольшой затор и воображают, будто я тут же во всю прыть помчусь к моим друзьям. А как же быть с двумя десятками переодетых полицейских, которые сопровождали меня пешком, в фиакрах и на велосипедах? Что они мне готовили? Да я бы из их рук не вышел живым! Так что скажите мне, господин директор, не на это ли вы рассчитывали? – Он пожал плечами и продолжал: – Попрошу вас, господин директор, больше обо мне не беспокоиться. Когда я сочту нужным бежать, мне не потребуется ничья помощь.
На следующей день «Эхо Франции», и впрямь превратившееся в официальный рупор подвигов Арсена Люпена, – поговаривали, будто он был одним из главных совладельцев этой газеты, – опубликовала подробный отчет о неудавшейся попытке бегства. Текст записок, которыми обменялись заключенный и его таинственная знакомая, обстоятельства этой переписки, пособничество полиции, прогулка по бульвару Сен-Мишель – все это было преподнесено жителям как на блюдечке. Сообщалось также, что опрос, произведенный инспектором Дюбуи среди служащих ресторана, не дал никаких результатов. А кроме того, выяснилось поразительное обстоятельство, говорившее о безграничности средств, которыми обладал заключенный: колымага, в которой его в тот раз перевозили, оказалась подставным экипажем: шайка Люпена заменила им одну из шести настоящих тюремных карет.
Предстоящий побег Люпена уже ни у кого не вызывал сомнений. Да и сам он, впрочем, говорил о нем, как о решенном деле, что явствовало хотя бы из его ответа мсье Бувье на следующий день после описанных событий. Следователь принялся потешаться над его неудачей, но Арсен оглядел его и холодно сказал:
– Выслушайте меня хорошенько, сударь, и поверьте моим словам: эта попытка побега являлась всего лишь частью моего плана.
– Я вас не понимаю, – ухмыльнулся следователь.
– И никогда не поймете, – отрезал заключенный.
А когда следователь вновь вернулся к допросу, стенограмма которого, кстати говоря, немедленно появилась на страницах «Эха Франции», Люпен воскликнул, скорчив усталую мину:
– Господи Боже мой, к чему это все? Ваши вопросы не имеют ни малейшего смысла.
– Как это так – не имеют смысла?
– Да вот так. Представьте себе, что я не собираюсь присутствовать на собственном процессе.
– Не собираетесь присутствовать?…
– Таково мое твердое и безоговорочное решение. Никто не сумеет меня переубедить.
Подобная самоуверенность и необъяснимая бестактность, проявлявшиеся каждый день, раздражали следователя и одновременно сбивали его с толку. Здесь крылась какая-то тайна, ключом к которой обладал только Арсен Люпен, – и, стало быть, только он мог раскрыть ее. Но как вырвать у него признание?
Люпена перевели в другую камеру, на нижний этаж. Одновременно следователь поставил точку в деле и передал его для подготовки обвинительного заключения. Наступила пауза.
Она длилась два месяца. Арсен Люпен провел их, лежа на койке лицом к стене. Судя по всему, перемена камеры сломила его. Он отказывался принимать адвоката. И едва обменивался несколькими словами с надзирателями.
Но за две недели до начала процесса он вроде бы ожил. Стал жаловаться на нехватку воздуха. По утрам, едва рассветет, двое конвоиров выводили его гулять на тюремный двор.
Любопытство публики, однако, не ослабевало. Каждый день все ждали сообщения о его побеге. И, можно сказать, желали ему удачи, настолько он нравился толпе – остроумный, веселый, многоликий, изобретательный, таинственный. Арсен Люпен должен был осуществить побег. Это было неизбежно, неотвратимо. Все только диву давались, отчего он так медлит. Каждое утро префект полиции спрашивал своего секретаря:
– Ну как, он еще не сбежал?
– Нет еще, господин префект.
– Стало быть, сбежит завтра.
А накануне процесса некий субъект явился в редакцию «Большой газеты», спросил судебного обозревателя и, бросив ему в лицо визитную карточку, поспешно удалился. На карточке значилось:
«Арсен Люпен всегда верен своим обещаниям».
Вот при таких-то обстоятельствах и открылось слушание дела. Наплыв народа был громадный. Всем хотелось взглянуть на знаменитого Арсена Люпена, все заранее предвкушали, как он будет потешаться над председателем суда. Адвокаты и судьи, хроникеры и полицейские, художники и светские дамы – словом, весь Париж теснился на скамьях зала суда.
Было пасмурно, за окнами лил дождь, так что лицо Арсена Люпена, введенного конвоирами, едва можно было различить. Он вошел, тяжело ступая, неуклюже плюхнулся на скамью и застыл на ней, неподвижный, ко всему равнодушный. Все это не могло расположить к нему публику. Уже несколько раз его адвокат – один из секретарей мсье Данваля, который посчитал зазорным для себя самолично взяться за это дело, – обращался к нему с вопросами. Но тот лишь качал головой и отмалчивался.
Секретарь зачитал обвинительный акт, после чего председатель суда произнес:
– Обвиняемый, встаньте. Ваши фамилия, имя, возраст и профессия?
Не получив ответа, он повторил:
– Ваша фамилия? Я спрашиваю, как ваша фамилия?
– Бодрю, а зовут Дезире.
По залу пробежал шепоток. Председатель продолжал:
– Дезире Бодрю? А, понимаю: ваше новое перевоплощение. Но поскольку это уже восьмое имя, под которым вы выступаете, и так как оно, без сомнения, такое же вымышленное, как и все остальные, то позвольте нам все-таки называть вас Арсеном Люпеном. Ведь именно под этим именем вы завоевали себе всеобщую известность. – Председатель полистал свои заметки и продолжал: – Ибо несмотря на все наши усилия, нам не удалось установить ваше подлинное имя. В современном обществе вы являетесь довольно оригинальным примером человека без прошлого. Мы не знаем, кто вы такой, откуда взялись, где прошло ваше детство, – короче говоря, ровным счетом ничего. Три года назад вы внезапно появились Бог весть откуда под именем Арсена Люпена, человека, в котором диковинным образом сочетаются ум и извращенность, аморальность и щедрость. Данные, которыми мы располагаем о вашей прошлой жизни, можно считать скорее предположениями.
Вполне возможно, что некий Роста, лет восемь назад служивший подручным у фокусника Диксона, был не кем иным, как Арсеном Люпеном. Возможно также, что некий русский студент, шесть лет назад работавший в лаборатории доктора Альтье при больнице Святого Людовика и частенько поражавший своего руководителя замысловатостью бактериологических гипотез и смелостью опытов по кожным болезням, был не кем иным, как Арсеном Люпеном. Не исключено, что Арсен Люпен был тем самым учителем японской борьбы, который обосновался в Париже задолго до того, как заговорили о джиу-джитсу. И тем велосипедистом, что, выиграв главный приз на Всемирной выставке, забрал свои десять тысяч франков и был таков. Арсен Люпен мог быть и тем ловкачом, который спас стольких людей во время пожара на благотворительной распродаже, а потом… обчистил их и скрылся. – Председатель сделал паузу и перешел к заключительной части своей речи: – Таковы факты, относящиеся к тому периоду вашей жизни, который был для вас лишь временем тщательной подготовки к борьбе против общества, временем ученичества, позволившим вам довести до высшей степени совершенства вашу силу, энергию и ловкость. Признаете ли вы подлинность изложенных фактов?
Во время этой речи обвиняемый сидел, заложив ногу за ногу, ссутулившись, уронив руки. При свете зажегшихся ламп было видно, что он страшно худ: впалые щеки, выступающие скулы, землистый цвет лица, покрытого красноватой сыпью и обрамленного редкой клочковатой бородой. Тюрьма явно надломила и состарила Люпена. Куда девалась его стройная фигура и свежее лицо, знакомые публике по снимкам в газетах!
Он, казалось, не слышал обращенного к нему вопроса. Его пришлось повторить дважды. Тогда он поднял глаза, задумался и наконец с явным усилием пробормотал:
– Бодрю, а зовут Дезире.
Председатель не мог удержаться от смеха:
– Я не совсем понимаю выбранный вами способ защиты, Арсен Люпен. Если вам вздумалось разыгрывать из себя дурачка, воля ваша. Что же касается меня, я приступлю к делу, не обращая внимания на ваше кривлянье.
И он принялся во всех подробностях описывать преступления, вменяемые в вину Люпену. Иногда он задавал вопрос обвиняемому. Тот либо ворчал что-то невнятное, либо вовсе не отвечал.
Приступили к допросу свидетелей. Одни из них давали серьезные показания, другие говорили о пустяках, причем все без исключения противоречили друг другу. Эта атмосфера неясности царила в зале суда до тех пор, пока не был вызван главный инспектор полиции Ганимар, чье появление возбудило всеобщий интерес.
Впрочем, сначала старый полицейский несколько разочаровал публику. Вид у него был не то чтобы робкий – ему доводилось участвовать и не в таких процессах, – но какой-то беспокойный, неуверенный. Он то и дело с явным смущением оборачивался в сторону обвиняемого. Вцепившись обеими руками в трибуну, он рассказывал о происшествиях, с которыми ему пришлось столкнуться, о погоне через всю Европу, о прибытии в Америку. Его слушали с такой жадностью, будто он повествовал о каких-то необыкновенных приключениях. Но в конце показаний, уже намекнув на свои беседы с Арсеном Люпеном, он дважды запнулся, словно не решаясь продолжать речь.
Было ясно, что его одолевает какая-то подспудная мысль. Председатель суда сказал ему:
– Если вы чувствуете себя неважно, не лучше ли вам прервать показания?
– Нет, нет, вот только…
Он снова запнулся, внимательно оглядел человека, сидящего на скамье подсудимых, и продолжал:
– Я прошу позволения рассмотреть обвиняемого поближе, мне кажется, что здесь что-то неладно.
Он подошел поближе, посмотрел на него еще внимательней, еще сосредоточенней и, обернувшись к членам суда, торжественным тоном произнес:
– Господин председатель, я утверждаю, что человек, сидящий вот здесь, напротив меня, не является Арсеном Люпеном.
После этих слов в зале воцарилась полная тишина. Озадаченный председатель крикнул:
– Что за ерунду вы мелете? Вы с ума сошли?
Инспектор спокойно продолжал:
– Не спорю, с первого взгляда можно обмануться: какое-то сходство между этим человеком и Люпеном существует. Но достаточно как следует приглядеться – и вы увидите, что нос, рот, волосы, цвет кожи – все это принадлежит не Люпену. А глаза! Да это же глаза алкоголика! А Люпен никогда не был пьющим.
– Хорошо, хорошо, но объяснитесь толком. К чему вы клоните?
– Да разве я знаю? Он подсунул вместо себя какого-то пропойцу, которому вы собираетесь вынести приговор. Добро, если бы он оказался хотя бы его сообщником!
Со всех сторон зала послышались возгласы, крики и смех – столь неожиданный поворот дела изрядно взбудоражил публику. Председатель велел пригласить следователя, директора тюрьмы и надзирателя и на время прервал заседание.
Когда же оно возобновилось, мсье Бувье и директор, всмотревшись в обвиняемого, заявили, что они находят лишь отдаленное сходство между ним и Арсеном Люпеном.
– Но кто же тогда этот человек? – вскричал председатель. – Откуда он взялся? Как попал в руки правосудия?
Ввели двух надзирателей Санте. И те, ко всеобщему удивлению, признали в нем заключенного, которого поочередно стерегли и выводили на прогулку.
Председатель облегченно вздохнул. Но один из надзирателей уточнил:
– Да, да, мне кажется, что это он.
– Вам кажется или вы уверены?
– Да я его, черт побери, едва видел. Мне передали его вечером, и с тех пор он два месяца только и делал, что лежал лицом к стене.
– А что было перед этим?
– Перед этим он занимал камеру № 24.
Директор тюрьмы пояснил:
– После попытки побега мы перевели заключенного в другую камеру.
– А вы сами, господин директор, видели его в течение этих двух месяцев?
– У меня не было в этом необходимости… он вел себя спокойно.
– И этот человек не является тем заключенным, который был вам передан?
– Нет.
– Тогда кто же он?
– Этого я не могу сказать.
– Стало быть, мы можем констатировать подмену, осуществленную два месяца назад. Как вы ее объясняете?
– Это невозможно.
– Что же дальше?
Председатель в отчаянии обернулся к обвиняемому и заискивающим тоном произнес:
– Вы не могли бы объяснить мне, каким образом вы очутились в руках правосудия?
Судя по всему, этот благожелательный тон смягчил недоверие незнакомца или вывел его из сонного оцепенения. Он попытался дать ответ. Подвергнутый терпеливому и мягкому допросу, он сумел с грехом пополам связать пару фраз, из коих явствовало, что два месяца назад его доставили в префектуру полиции. Он провел там ночь, а наутро его отпустили, предварительно снабдив суммой в 75 сантимов. Но едва он вышел во двор, двое агентов подхватили его под руки и втолкнули в полицейскую колымагу. С тех пор он обитал в камере № 24, не чувствуя себя особенно несчастным… кормят там неплохо, дают выспаться… так что оснований для жалоб у него не было.
Все это казалось вполне правдоподобным. Среди всеобщего смеха и возбуждения председатель отложил слушание дела до следующей сессии суда, чтобы собрать дополнительные сведения по данному вопросу.
Следствие тут же установило следующий факт, занесенный в полицейские протоколы: два месяца назад некий Дезире Бодрю и в самом деле провел ночь в префектуре полиции. Его освободили в два часа пополудни на следующий день. Как раз в это время Арсен Люпен после очередного допроса должен был покинуть префектуру в полицейской карете.
Неужели надзиратели сами допустили такую оплошность и, обманутые сходством обоих лиц, по невнимательности сунули в колымагу этого пьянчугу вместо своего подопечного? Но подобная небрежность с их стороны вряд ли совместима с их служебным долгом.
А может быть, подмена была подготовлена заранее? Но, во-первых, двор префектуры – самое неподходящее место для ее осуществления, а во-вторых, в таком случае следовало бы предположить, что Бодрю был в сговоре с Люпеном и дал себя задержать с единственной целью занять его место. Каким же образом мог осуществиться этот план, основанный исключительно на стечении невероятных случайностей, немыслимых совпадений и поразительных упущений?
Дезире Бодрю был подвергнут антропометрическому обследованию; карточки, соответствующей его описанию, в архиве обнаружено не было. Тем не менее его следы отыскались довольно легко. Этого бродягу знали в Курбевуа, Аньере и Левалуа. Он клянчил там милостыню и ночевал в халупах тряпичников, громоздящихся за заставой Терн. Впрочем, последний год он пропал из виду.
Неужели Арсен Люпен подкупил его? Никаких доказательств этому не было. Да если бы они и были, они ничего не прояснили бы в обстоятельствах побега заключенного. Чудо продолжало оставаться чудом. Для его объяснения было выдвинуто десятка два гипотез, но ни одна из них не выдерживала критики. В чем не оставалось сомнения, так это в самом факте побега – непостижимого и впечатляющего, в котором как публика, так и вершители правосудия усматривали основательную подготовку, совокупность тщательно продуманных и взаимосвязанных действий, развязка которых вполне оправдывала горделивое предсказание Арсена Люпена: «Я не собираюсь присутствовать на собственном процессе».
Целый месяц прошел в кропотливых поисках, а загадка так и оставалась загадкой. Нельзя было, однако, до бесконечности держать в заключении беднягу Бодрю. Процесс по его делу был бы смехотворным: какие обвинения можно было ему предъявить? Следовательно, пришлось подписать приказ о его освобождении. Но глава сыскной полиции велел установить за ним тщательное наблюдение.
Эту мысль подсказал ему Ганимар. С его точки зрения, Бодрю не был ни жертвой случая, ни сообщником Люпена, а всего лишь инструментом, которым тот воспользовался с присущей ему поразительной ловкостью. А когда Бодрю окажется на свободе, он может навести на след если не самого Люпена, то хотя бы кого-нибудь из его шайки.
В помощь Ганимару отрядили инспекторов Фольанфана и Дьёзи, и вот однажды, туманным январским утром, ворота тюрьмы распахнулись наконец перед Дезире Бодрю.
Поначалу он казался растерянным и шагал вперед неуверенно, словно бы соображая, куда же ему податься и что делать. Улица Санте привела его на улицу Сен-Жак. Там он остановился перед лавкой старьевщика, разоблачился до пояса, спустил владельцу жилет за несколько сантимов, а куртку снова надел и двинулся дальше по мосту через Сену. Возле Шатле с ним поравнялся омнибус. Он хотел было вскочить в него, но там не оказалось свободных мест. Кондуктор посоветовал ему взять билет и посидеть в зале ожидания.
Тут Ганимар подозвал к себе обоих своих подручных и, поглядывая на станцию омнибусов, приказал:
– Остановите фиакр… нет, лучше два, так будет благоразумнее. Я сяду с одним из вас, и мы последуем за ним.
Приказание было выполнено. Но Бодрю не появлялся. Ганимар заглянул в зал ожидания: там не было ни души.
– Ну и дурак же я, – пробормотал он, – забыл про второй выход.
И в самом деле, внутренний коридор соединял станцию с улицей Сен-Мартен. Ганимар бросился туда. И выбежал наружу как раз в тот самый миг, когда Бодрю вскочил на империал омнибуса, следовавшего по маршруту Батиньоль – Ботанический сад и как раз заворачивавшего за угол улицы Риволи. Он помчался вслед за ним и успел вскочить на подножку, но оба его помощника отстали, так что ему пришлось продолжать преследование в одиночку.
Вне себя от ярости, он хотел было без всяких церемоний схватить бродягу за шиворот. Как ловко этот мнимый идиот обвел его вокруг пальца и оторвал от помощников! Он взглянул на Бодрю. Тот подремывал, сидя на скамейке, его голова моталась из стороны в сторону. Рот был слегка приоткрыт, на лице застыло выражение невероятной тупости. Нет, такой противник не способен тягаться со старым Ганимаром. Он воспользовался случаем, только и всего.
На перекрестке у магазина Галери Лафайет бродяга пересел из омнибуса в трамвай, идущий в Мюэтт. Они проехали по бульвару Оссмана, по проспекту Виктора Гюго. Бодрю сошел на последней остановке. И вразвалочку направился в сторону Булонского леса.
Там он принялся слоняться взад и вперед по аллеям, то возвращаясь на те места, где уже был, то забираясь вглубь. Чего он искал? Какую цель преследовал?
Проплутав так целый час, он, видимо, порядком уморился. Высмотрел себе лавчонку, стоявшую на берегу небольшого пруда, обсаженного деревьями, в совершенно пустынном месте неподалеку от Отейля. Потеряв терпение, Ганимар решил поговорить с Бодрю. Присел рядом с ним на лавочку, закурил сигарету, поводил концом трости по песку и наконец обронил:
– А сегодня довольно прохладно, вы не находите?
Бодрю не отозвался. И внезапно в тишине грянул раскат смеха, радостного, счастливого смеха – так хохочет ребенок, захлебываясь, не в силах совладать с собой. Ганимар почувствовал, что волосы у него на голове встают дыбом. Как знаком ему был этот смех, этот сатанинский смех!
Он вцепился в лацканы бродяги, всмотрелся в него еще внимательней, еще пристальней, чем в зале суда. Нет, перед ним был вовсе не жалкий побирушка, а тот, другой, настоящий… Или оба они вместе.
Сыщик продолжал всматриваться – и у него на глазах лицо бродяги преображалось, с него как бы спадала обветшавшая маска, сквозь которую проступали свежая кожа, искрящийся взгляд, губы, не обезображенные горькой складкой. Это были глаза Люпена, губы Люпена, это было его выражение лица – острое, живое, насмешливое, умное, ясное и молодое!
– Арсен Люпен, Арсен Люпен, – бормотал полицейский.
И внезапно, вне себя от ярости, он схватил его за горло, попытался повалить на землю. Несмотря на свои пятьдесят лет, он еще был полон сил, а его противник выглядел таким хилым. Вот будет здорово, если ему удастся вернуть беглеца!
Схватка оказалась короткой. Арсен Люпен почти не защищался, но Ганимар был вынужден выпустить добычу столь же неожиданно, как он схватил ее. Его правая рука плетью повисла вдоль тела.
– Если бы ты брал уроки джиу-джитсу на набережной Дезорфевр, – заметил Люпен, – ты знал бы, что этот прием называется по-японски «уни-ши-ги». – И холодно добавил: – Еще секунда – и я сломал бы тебе руку, впрочем, именно этого ты и заслуживаешь. Как ты мог злоупотребить моим доверием – ты, мой старый друг, которого я настолько уважаю, что решился открыть перед тобой свое инкогнито… Ах, как нехорошо! И что это с тобой?
Ганимар молчал. Этот побег, который он сам же подстроил, – ведь разве не он своим заявлением ввел суд в заблуждение? – этот побег казался ему постыдным концом его карьеры. По седым усам сыщика скатилась слеза.
– Господи Боже, да не убивайся ты так, Ганимар! Если бы ты не поторопился со своим заявлением, я подстроил бы так, чтобы выступил кто-то другой. Сам посуди: мог ли я допустить, чтобы этому Дезире Бодрю был вынесен несправедливый приговор?
– Так это ты был там? – пробормотал Ганимар. – А теперь оказался здесь?
– Ну конечно же.
– Возможно ли это?
– Никакого чуда в этом нет. Милейший председатель суда совершенно верно заметил, что десятка лет тщательной подготовки вполне достаточно для того, чтобы достойно встретить любые превратности судьбы.
– А твое лицо? А глаза?
– Тебе ли не понимать, что я проработал полтора года в больнице Святого Людовика с доктором Альтье не только из чистой любви к медицине. Я решил, что тот, кому некогда выпадет честь называться Арсеном Люпеном, не должен зависеть от естественных законов, определяющих личность и внешность человека. Ибо что такое внешность? Ее можно перекроить на любой лад. Подкожная инъекция парафина заставит ваше лицо вздуться в нужном месте. Пирогалловая кислота превратит вас в краснокожего. Сок большого чистотела украсит великолепными лишаями и опухолями. Одно химическое вещество повлияет на рост бороды и волос, другое изменит тембр голоса. Прибавьте ко всему этому двухмесячный тюремный рацион в камере № 24 и ежедневные упражнения, позволяющие изменить мимику, посадку головы, осанку, не забудьте закапать в глаза атропин, придающий им диковатое и растерянное выражение, – и дело в шляпе.
– Но я не понимаю, как надзиратели…
– Превращение было постепенным. Они не могли заметить перемен, накапливающихся изо дня в день.
– А как же Дезире Бодрю?
– Он существует на самом деле. Я повстречался с этим полоумным год назад и заметил, что мы и впрямь несколько похожи. Предвидя возможный арест, я поместил его в надежное место и принялся наблюдать за ним, выискивая в его обличье прежде всего те черты, которые не свойственны мне самому, чтобы затем воспроизвести их на собственном лице. Мои друзья устроили так, что ему пришлось провести ночь в префектуре, которую он покинул в то же время, что и я, это совпадение легко обнаружить. Заметь, что в префектуре должны были сохраниться следы его пребывания, иначе правосудие задалось бы вопросом, кто же я такой. А поскольку я подсунул ему эту великолепную приманку, оно должно было неизбежно – ты понимаешь, неизбежно польститься на нее и, несмотря на всю неправдоподобность подмены, признать ее в качестве свершившегося факта. Иначе ему пришлось бы расписаться в собственной некомпетентности.
– Да, да, так оно и есть, – пробормотал Ганимар.
– К тому же, – воскликнул Арсен Люпен, – в руках у меня был потрясающий козырь, припрятанный с самого начала: всеобщая уверенность в том, что я должен осуществить побег. Вот здесь-то все блюстители правосудия, не исключая и тебя, сделали грубый промах в развернувшейся между вами азартной игре, ставкой в которой была моя свобода: вы в который раз внушили себе, что я просто-напросто бахвалюсь, что я, словно какой-нибудь желторотый юнец, потерял голову от собственных успехов. Но Арсену Люпену не свойственны подобные слабости. Как и во время следствия по делу Кагорна, вы сказали себе «Раз Арсен Люпен на все лады трезвонит о предстоящем побеге, значит, у него есть основания для этого». Да пойми же, черт побери, что для того, чтобы совершить побег, не покидая стен тюрьмы, нужно заранее убедить всех в его неизбежности.
Нужно, чтобы все уверовали в него, чтобы этот предстоящий побег стал непреложной истиной, всеобщим убеждением. И я сумел внушить всем эту истину: Арсен Люпен сбежит, Арсен Люпен не собирается присутствовать на собственном процессе! И когда ты заявил на суде, что «этот человек не является Арсеном Люпеном», все тут же поверили в правоту твоих слов. Да если бы хоть кто-то усомнился в этом, хоть кто-то высказал робкое возражение, я в ту же минуту проиграл бы всю партию! Достаточно было как следует непредвзято приглядеться ко мне, несмотря на все мои уловки, я был бы опознан. Но я был спокоен. И логически, и психологически такое простейшее предположение не могло прийти в голову никому.
Внезапно он схватил Ганимара за руку:
– Признайся, Ганимар, что через неделю после нашего свидания в тюрьме Санте ты ждал меня у себя дома в четыре часа, как я обещал.
– А как же твоя тюремная карета? – спросил Ганимар, пропустив его слова мимо ушей.
– То был чистейший блеф! Мои друзья отыскали и привели в порядок эту старую колымагу, чтобы попытаться осуществить побег. Я понимал, что он не может удасться без необыкновенного стечения обстоятельств, но счел нужным довести дело до конца, чтобы затем придать ему самую широкую огласку. Блистательно задуманная первая попытка придавала второй характер заведомо удачного предприятия.
– Так что сигара…
– …была моим собственным изобретением. Равно как и нож с полой рукояткой.
– А записки?
– Я писал их сам.
– А ваша таинственная корреспондентка?
– Она была всего лишь одной из моих ипостасей. Я способен подделать любой почерк.
Немного подумав, Ганимар полюбопытствовал:
– Как могло получиться, что антропометрическая служба, заполняя карточку Бодрю, не заметила, что его данные совпадают с данными Арсена Люпена?
– Карточки Арсена Люпена не существует.
– Полноте!
– Или, по крайней мере, она фальшива. Я много занимался этим вопросом. Система Бертильона включает прежде всего словесное описание – ты сам убедился, сколь оно несовершенно, – а затем следуют различные обмеры: головы, пальцев, ушей и т. д. С этим ничего не поделаешь.
– И как же ты поступил?
– Мне пришлось раскошелиться. Еще до моего возвращения из Америки один из сотрудников антропометрической службы за приличную мзду проставил неверную цифру в самом начале обмеров. Этого было достаточно, чтобы и остальные данные сместились, так что вся карточка вовсе не соответствует действительности и не совпадает с карточкой Бодрю.
После некоторой паузы Ганимар задал еще один вопрос:
– А что же ты собираешься делать теперь?
– Теперь, – воскликнул Люпен, – я собираюсь отдохнуть, как следует подкормиться и мало-помалу прийти в себя. Нелегко, конечно, побывать в шкуре Бодрю или еще кого-нибудь, сменить свою личность, как рубашку, выбрать новую внешность, голос, взгляд, почерк. Но наступает момент, когда за всем этим ты перестаешь видеть самого себя, – и тебе становится весьма грустно. Сейчас я испытываю те самые чувства, которые, должно быть, томили человека, потерявшего свою тень. Я отправлюсь на поиски своей тени… я должен ее отыскать.
Он встал и принялся расхаживать взад и вперед по аллее. Начинало смеркаться. Наконец он остановился перед Ганимаром:
– Как по-твоему, нам нечего больше друг другу сказать?
– Хотелось бы мне знать, – ответил инспектор, – собираешься ли ты поведать всему свету правду о своем побеге… Ведь допущенная мною оплошность…
– О, никто и никогда не узнает, что сегодня на свободу был отпущен не кто иной, как Арсен Люпен. Мне выгодно, чтобы клубящийся вокруг меня таинственный мрак не рассеивался, чтобы мой побег навсегда остался в памяти людей этаким волшебным трюком. Так что не бойся ничего, мой добрый друг, и прощай. Я сегодня ужинаю в городе, мне надо успеть переодеться.
– А я-то думал, что ты собираешься отдохнуть.
– Увы! Существуют светские обязательства, которыми невозможно пренебречь. Отдыхать я начну только завтра.
– И где же ты ужинаешь?
– В английском посольстве.
Нат Пинкертон
Почти сто лет прошло с тех пор, как в Петербурге в последний раз были изданы рассказы о знаменитом американском сыщике Нате Пинкертоне.
Никто до сих пор так и не знает, кто их автор, да и был ли у этих захватывающих, наивных и жутких историй один автор, или разные литераторы состязались в выдумке, выдавая американскому читателю начала ХХ века все новые и новые похождения бесстрашного Пинкертона…
В наше время читатель может улыбнуться над этими творениями, может принять иные из них за пародию на великого Шерлока Холмса, но все-таки эти рассказы увлекательны уже хотя бы тем, что позволяют ощутить неведомый нам мир приключенческой литературы начала ХХ века.
Алан Пинкертон, прообраз Ната, был американским детективом и шпионом, прославившимся созданием первого детективного агентства США.
Пинкертон родился в Глазго, в Шотландии в 1819 году. В возрасте 23 лет эмигрировал в США. В 1849 году Пинкертон стал первым детективом в Чикаго. За долгую карьеру он разработал несколько методов ведения следствия, которые используются и сегодня – среди них слежка за подозреваемым, навыки «перевоплощения». Во время Гражданской войны в США Пинкертон помешал убийству Линкольна, обеспечив ему охрану на пути к инаугурации. Пинкертон был настолько известен, что в течение многих десятилетий после его смерти его фамилия была обозначением любого частного детектива. Более того, литература, описывающая нелегкий труд детективов, получила обобщенное имя «пинкертоновщины».
В 1923 году Николай Бухарин опубликовал статью в газете «Правда», в которой призвал советских писателей создать «красного Пинкертона» – приключенческую литературу для пропаганды революционных идей. Как ответ на этот призыв было написано несколько романов: «Месс-Менд, или Янки в Петрограде» Мариэтты Шагинян (1923), «Трест Д. Е. История гибели Европы» (1923) Ильи Эренбурга, «Иприт» Всеволода Иванова и Виктора Шкловского (1925) и др.
Тигр соборного праздника
Глава 1 В поезде
Нат Пинкертон занимал купе второго класса в поезде, который вышел в полдень из Берлина в Гамбург. В Германии он пробыл недолго. Он завершил замечательное дело о брачном аферисте Спенсере, в погоне за которым и прибыл из Нью-Йорка в Берлин, и теперь возвращался на родину, где его ждали новые загадки.
В купе кроме Пинкертона был только один пассажир, усердно читавший газету. Резкие черты его лица выдавали в нем полицейского чиновника, а поза и подчеркнуто прямая фигура говорили о том, что он – бывший военный.
Незнакомец все время молчал, не имея, по-видимому, охоты вступать в беседу. Молчал и Пинкертон.
Наконец незнакомец сложил газету, огляделся и заговорил:
– Удивительный случай произошел в Берлине! Вы слышали о сенсационном аресте, совершенном знаменитым американским сыщиком Пинкертоном в берлинском ресторане «Кайзеркеллер»?
– Конечно! – улыбаясь, ответил Пинкертон. – Я даже подробнейшим образом осведомлен об этом происшествии.
– Этот Пинкертон поистине замечательный человек. Из Нью-Йорка он пускается в погоню за преступником, преследует его по пятам в Германии и хватает в тот самый момент, когда под руководством этого негодяя должно было совершиться отвратительное преступление. К счастью, оно было предупреждено своевременным появлением знаменитого сыщика. Это просто удивительно!
– Ничего особенного я здесь не вижу, – заметил Пинкертон. – Следы, которые вели в Берлин, были слишком отчетливы!
Незнакомец иронически посмотрел на своего собеседника. Его забавляло, что профан осмеливается так легко судить о трудновыполнимой задаче.
– Простите, – сказал он, – но мне кажется, нельзя так скоропалительно высказывать свои суждения! Когда знакомишься с каким-либо событием по газетам, все кажется простым и ясным. Читатель понятия не имеет о том, сколько сил, энергии, изобретательности, ума должен приложить сыщик, прежде чем он раскроет все обстоятельства преступления, кажущиеся при чтении такими простыми и несомненными.
– В данном случае вы совершенно правы! – заметил Пинкертон.
– В настоящее время, например, – продолжал незнакомец, – в Гамбурге произошел целый ряд загадочных преступлений: на местном соборном празднике какой-то негодяй, а может быть, и целая банда совершает нападения и грабежи. И никто из злодеев до сих пор не пойман!
– Думаю, что вам удастся арестовать виновника, господин инспектор, – с улыбкой заметил Пинкертон.
Незнакомец изумленно взглянул на своего собеседника:
– Вы назвали меня инспектором? Но разве вы меня знаете?
– Я заключил это из ваших же слов, – сказал сыщик.
– Меня это крайне удивляет! Судя по вашему произношению, вы – англичанин или американец. Как же вы смогли сразу определить мое звание?
– Ну, это не так уж трудно. Путешествуя и присматриваясь к окружающим, я научился узнавать людей…
– Вы угадали. Я действительно инспектор гамбургской полиции Гельман. Частые преступления, совершаемые в последнее время на соборном празднике, заставили меня съездить в Берлин. Я надеялся разыскать там знакомого сыщика, который помог бы мне напасть на след негодяев.
– И он отказался сопровождать вас?
– Он уехал на юг Германии, где его ждали неотложные дела, касающиеся раскрытия одного весьма важного преступления. И вот я возвращаюсь в Гамбург один. Досадно! Если бы я знал наверняка, что знаменитый американский сыщик Пинкертон поедет через Гамбург, я бы обратился к нему. Он-то уж переловил бы преступников! Не знаю только, согласился бы он помочь нам. Он, верно, спешит обратно в Нью-Йорк!
– Нат Пинкертон никогда не отказывает в помощи никому, тем более что он может сейчас уделить вам достаточно времени… Вы бы спросили его самого!
Инспектор принужденно засмеялся.
– Благодарю за совет! – воскликнул он. – К сожалению, я не знаю, где находится в данный момент Пинкертон.
– Он недалеко от вас, – с хитрой улыбкой заметил сыщик.
Гельман остолбенел. Он внимательно оглядел своего собеседника и произнес:
– Не знаю, правильно ли я вас понял… Может быть, вы сами и есть…
Сыщик, улыбаясь, достал свой бумажник, вынул оттуда визитную карточку и подал ее инспектору. Пораженный, тот вскочил с места:
– А, так вы действительно Нат Пинкертон! Очень приятно, от всей души рад!
Лицо чиновника сияло. Он сердечно тряс руку американца и беспрестанно уверял его, что страшно рад этой неожиданности и благословляет счастливый случай, который свел его со знаменитым сыщиком.
– Так вы согласны помочь нам?! – воскликнул он.
– Ну конечно! – сказал Пинкертон. – Пароход, на котором я еду обратно в Нью-Йорк, отходит через несколько дней, а до тех пор я могу посвятить себя вашему делу. Посмотрим, удастся ли нам обезвредить преступника – или преступников! Не расскажете ли вы мне сейчас, в чем, собственно, дело?
Инспектор с живостью заговорил:
– На гамбургском соборном празднике, как я вам уже докладывал, были совершены и совершаются поныне преступления. Для пояснения замечу, что гамбургский соборный праздник – это народное гулянье, которое продолжается обыкновенно с первого декабря до Сочельника. На большой площади устанавливают карусели, палатки, выставляют лотки с разными сластями. Туда устремляется народ для веселого времяпрепровождения: ежедневно там собирается огромная толпа. Жители Гамбурга охотно ходят на это гулянье и оставляют там немало денег… И вот в течение последних десяти дней на этой площади совершено несколько преступлений. Есть основания предполагать, что все они являются делом одних и тех же рук. Это – серия грабежей, совершенных в праздничной толпе. Нападению подвергались, главным образом, девушки, по какой-либо причине отдалившиеся от толпы. Грабитель подкрадывается к жертве сзади, наносит удар и валит ее на землю. Как правило, удар так силен, что потерпевшая теряет сознание, и тогда грабитель очищает карманы своей жертвы. Таких случаев было более десяти, а самый страшный произошел позавчера вечером. В этот день, несколько в стороне от праздничных балаганов, была найдена девушка с глубокой колотой раной в груди. Несчастная лежала без сознания, и только сегодня утром, перед моим отъездом, она пришла в себя…
– И что же она сообщила?
– Мы надеялись, что она видела преступника, но выяснилось, что нет. Вообще никому из пострадавших не удалось увидеть преступника в лицо, ибо негодяй нападает сзади, а в момент ограбления жертва уже находится без сознания…
– Так что и на этот раз пострадавшей не удалось разглядеть преступника? – спросил Пинкертон.
– Нет, – сказал Гельман. – Когда девушка отошла немного в сторону от центральных построек, кто-то неожиданно и сильно ударил ее по голове, отчего она упала. Преступнику не удалось оглушить ее, так как меховая шапочка, которая была на девушке, несколько смягчила удар. Пострадавшая пронзительно закричала и хотела подняться, но была снова брошена на землю, и тотчас же ей в грудь вонзили нож. Девушка потеряла сознание. В ту же ночь ее нашли окровавленную, лежащую в глубоком обмороке.
– Останется ли она в живых?
– Да, рана, к счастью, не опасна, хотя и потеряно много крови.
– А в тот момент, когда девушка пыталась подняться, ей тоже не удалось увидеть преступника? – осведомился Пинкертон.
– Она вообще ничего не видела. От удара ее сознание совершенно помутилось. Пострадавшая утверждает только, что у преступника была большая собака, голову которой она будто бы видела.
– Последнее заявление весьма значительно! При определенных обстоятельствах собака могла бы навести на след.
– Вначале и я так думал, – сказал Гельман, – но именно присутствие этой собаки еще более запутывает дело. Оказывается, до сих пор на площади никто ни разу не видел человека, у которого была бы с собой большая собака. У многих владельцев палаток, правда, есть собаки, но ни на кого из них не может падать подозрение, поскольку в каждом случае они могут доказать свое алиби. Впрочем, один из них находится под нашим тайным надзором. Однако я не думаю, чтобы он совершил это преступление.
– Надеюсь, что вся эта местность находится под вашим пристальным надзором, – сказал Пинкертон.
– Конечно. По всей площади расставлены агенты тайной полиции, за всеми уединенными местами, где могло бы совершиться преступление, негласно наблюдают, но негодяй, по-видимому, осведомлен обо всех наших действиях. Его грабительские нападения всегда происходят там, где на данный момент нет охраны, и действует он замечательно быстро. Я уверен, что разбойнику достаточно одной минуты, чтобы повалить и ограбить свою жертву. Публика напугана. Народное празднество уже не посещается так усердно, как прежде, и торговцы жалуются на убытки. Этому преступнику, наводящему панику на весь Гамбург, уже присвоили прозвище «Тигр соборного праздника».
Пинкертон протянул инспектору руку и сказал ему спокойно и уверенно:
– Вот вам моя рука, господин инспектор! Я обещаю, что поймаю и предам правосудию «Тигра гамбургского соборного праздника». Надеюсь, что мы обрежем когти этому чудовищу!
– Не слишком ли вы уверены в себе, господин Пинкертон? – спросил инспектор. – Из моего рассказа нельзя заключить ничего определенного. Нить к раскрытию этого загадочного преступления найти нелегко…
Пинкертон улыбнулся:
– Однако из вашего рассказа, господин инспектор, я понял, что в данном случае мы имеем дело не с бандой, а только с одним преступником. Целой банде было бы трудно действовать на этой площади, раз она находится под строгим надзором агентов тайной полиции. Кроме того, мне кажется, что я даже напал на след!
– Что же могло послужить вам нитью? – напряженно спросил инспектор.
– Собака!
– Но ведь именно эта история с собакой и запутывает дело!
Пинкертон пожал плечами.
– А может быть и нет, – сказал он. – Я, собственно, уверен, что собаки-то вовсе и не было.
Инспектор был совершенно сбит с толку. Сыщик хотел напасть на след преступника с помощью собаки, которой не существовало! Этого уж инспектор никак не мог уразуметь.
– Я совершенно вас не понимаю, – признался он наконец. – Но не хочу расспрашивать. Я от души рад, если вы действительно составили себе определенное представление об этом деле.
К вечеру оба путешественника прибыли в Гамбург и немедленно отправились на соборную площадь, где ярмарка была уже в полном разгаре.
Глава 2 Странный выстрел
Соборная площадь была полна народу. Гуляющие теснились около балаганов и палаток; рокот каруселей, звуки, издаваемые шарманками и музыкальными инструментами, смешивались, наполняя воздух неимоверным шумом.
Дойдя до полицейской палатки, Гельман и Пинкертон вошли в контору, устроенную на время праздника.
Здесь собралось несколько полицейских агентов; один из них сидел за письменным столом и записывал показания бледной девушки, которая, вся дрожа, сидела тут же на стуле. При виде инспектора в сопровождении незнакомого господина полицейские вежливо поклонились.
Гельман обратился к своему спутнику:
– Мне кажется, господин Пинкертон, перед нами новая жертва.
При имени «Пинкертон» дежурный полицейский поднял голову. Другие агенты также с удивлением оглянулись: утренние газеты были полны сообщений о происшествии в берлинском ресторане «Кайзеркеллер».
Предложив сыщику стул, Гельман занял место дежурного за письменным столом. Один из полицейских доложил:
– Эта девушка только что подверглась нападению. Повторилась старая история!
– Где произошло нападение?
– В узком проходе между двумя балаганами.
– Расскажите нам, сударыня, как было дело, – сказал инспектор. – Ваше имя, как видно из протокола, Мария Вайзе?
Девушка утвердительно кивнула.
– Я отправилась, – начала она, – вместе с подругой на площадь и, потеряв свою спутницу в толпе, стала ее искать. При этом я очутилась в другом ряду построек и, желая вернуться на прежнее место, решила сократить путь и проскользнуть между двумя балаганами, где был узкий проход. Было уже темно, и я бежала очень быстро, но едва я достигла середины прохода, как кто-то сильно ударил меня сзади по голове. В ушах у меня зашумело, я потеряла сознание и упала на землю. Когда я очнулась, голова у меня так сильно болела, что я даже не сразу смогла сообразить, где нахожусь. Но вскоре я вспомнила о «Тигре соборного праздника» и, охваченная ужасом, вскочила и бросилась к людному месту. Тут уже я заметила, что у меня нет золотых часов, цепочки и сумки, где лежал кошелек. Моя бледность, растрепанные волосы, грязное платье привлекли ко мне внимание публики. Меня обступила целая толпа, люди стали задавать вопросы. Затем появился полицейский и, узнав о случившемся, привел меня сюда.
Нат Пинкертон подошел к пострадавшей.
– Будьте любезны ответить мне на несколько вопросов, сударыня, – учтиво сказал он. – Вы не заметили, кто именно напал на вас?
– Нет! От удара я лишилась сознания.
– Имеете ли вы хотя бы смутное представление о том, каким орудием вам был нанесен удар?
– Это должен быть очень твердый предмет, – сказала девушка.
– Позвольте мне взглянуть на то место, куда был нанесен удар. Может быть, мне удастся узнать, чем именно его нанесли.
Девушка сняла шляпу и показала Пинкертону вспухший кровоподтек около виска. Взглянув на рану, сыщик проговорил:
– Я думаю, что в данном случае был пущен в ход металлический кастет. Все указывает на то, что человек, нанесший удар, отличается большой физической силой. Подобным ударом можно и убить… А теперь, – обратился он к пострадавшей, – проводите меня, пожалуйста, к тому месту, где на вас было совершено нападение. Я хотел бы его осмотреть.
Но едва Нат Пинкертон поднялся, чтобы направиться к месту происшествия, как его внимание привлекли вновь пришедшие люди.
Это был полицейский в сопровождении рыдающей женщины. У нее были грубые черты лица, а дешевые юбка и кофточка отличались кричащей пестротой. Из раны на правой руке сочилась кровь, которой был запачкан весь рукав.
– Что случилось? – спросил изумленный инспектор.
– Снова нападение! В эту женщину стреляли! – доложил полицейский.
– А преступник?…
– К сожалению, скрылся.
– Как это произошло?
– Я шел по шестому ряду, – начал полицейский. – Лишь только я поравнялся с палаткой, где показывают «волосатого человека» Вильяма, как услышал выстрел и затем – отчаянные вопли. Я поспешил туда и на лестнице, ведущей в фургон, где живут владельцы упомянутой палатки, увидел эту женщину: она плакала и держалась за плечо. На мои расспросы она не отвечала, продолжая плакать и стонать. Вдруг из задней двери палатки выбежал «волосатый человек» Вильям и взволнованно воскликнул: «Что случилось, черт возьми?!» Увидев женщину в крови, он удивился и сказал: «Боже! Да в нее стреляли!» Тогда она тоже закричала: «Да, да, в меня стреляли! Негодяй удрал!» Большего я от нее не мог добиться, вот и привел ее сюда, чтобы она здесь дала показания.
– А она не хотела идти сюда? – вмешался Пинкертон.
– Нет! Она заявила, что не может идти, потому что ей надо быть возле кассы, но поскольку я настаивал, то и «волосатый» стал гнать женщину сюда. Вообще он был взбешен и все время ругал ее.
Нат Пинкертон, казалось, был весьма заинтересован этим происшествием. Инспектор заметил это и спросил:
– Думаете ли вы, господин Пинкертон, что и этот случай следует приписать «Тигру»?
Лицо Пинкертона было весьма загадочным.
– Возможно, – сказал он, – хотя вряд ли: тот негодяй, по-моему, не решился бы перейти от кастета и ножа к револьверу. Последний не так-то просто использовать на площади, полной народу.
– Я того же мнения. В данном случае мы, по-видимому, имеем дело с другим преступником, не имеющим ничего общего с «Тигром».
– Об этом пока нельзя сказать ничего определенного, – заметил Пинкертон. – Позвольте мне, господин инспектор, взять показания у раненой!
– Хорошо, – ответил Гельман. – А я буду записывать.
Женщине между тем перевязали руку, и она сидела возле письменного стола. Ее красное лицо слегка побледнело, а глаза беспокойно бегали по сторонам. Сыщик взял стул, уселся напротив женщины и во время допроса не сводил с нее взгляда. Это, видно, было ей весьма неприятно, и она избегала смотреть ему в лицо.
– Как ваше имя? – начал он свой допрос.
– Мария Вильям!
– «Волосатый человек» Вильям – ваш муж?
– Нет, он мой брат…
– Давно вы разъезжаете с ним по ярмаркам?
– Пять лет! – ответила женщина и раздраженно добавила: – А зачем вы об этом спрашиваете? Это вас вовсе не касается!
– Вы заблуждаетесь! – холодно возразил ей Пинкертон. – Сыщик должен знать все второстепенные обстоятельства дела, чтобы раскрыть преступление. Вот почему я прошу вас отвечать на все вопросы, иначе вынужден буду принять самые решительные меры.
Женщина вскочила.
– Это уже слишком! Вы обращаетесь со мной, как с преступницей, тогда как я сама стала жертвой преступления!
– Сидите спокойно и не волнуйтесь! – сказал ей Пинкертон сурово.
Женщина тотчас уселась и только злобно посмотрела на него.
Инспектор и другие чиновники удивленно глядели на Пинкертона. Они не могли понять, почему он так странно обращается с раненой. Он же делал вид, что ничего не замечает, и продолжал:
– Расскажите-ка, только правдиво, как было совершено нападение на вас.
Раненая медлила. Ей не нравился метод допроса, выбранный Пинкертоном, однако она стала рассказывать:
– Мы содержим нашу палатку вдвоем с братом. Поскольку в то время никого из зрителей в палатке не было, я оставила свое место у кассы и направилась к фургону, в котором мы живем, чтобы сделать себе бутерброд. Я крикнула брату, что сейчас вернусь, вышла из палатки и поднялась по ступенькам, чтобы войти в фургон. В тот самый момент, когда я взялась за ручку двери, раздался выстрел и я почувствовала сильную боль в правом плече. Я вскрикнула и, оглянувшись, заметила тень фигуры, быстро скрывшейся между рядами фургонов, за палатками.
– Вы хотели открыть дверь в тот момент, когда в вас выстрелили?
– Да…
– Это неправда! – сказал холодно и уверенно Пинкертон.
Женщина вскочила, побледнев.
– Значит, по-вашему, я лгу?!
– Да, лжете! Неправда, что вы хотели открыть дверь!
Мария Вильям в бешенстве затопала ногами, сжала кулаки и закричала:
– Теперь мне остается только замолчать! Я даю самые правдивые показания, говорю, как было дело, а вы мне не верите! Что же мне сказать в таком случае? Я не намерена вам больше отвечать, если вы сомневаетесь в моих словах!
Странная улыбка мелькнула на губах Пинкертона.
– Если дело обстоит именно так, как вы говорите, то выстрел был какой-то необыкновенный! Я объясню вам, почему ваши слова не соответствуют истине. Когда вам перевязывали раненую руку, я видел рану, и фельдшер, сделавший вам перевязку, подтвердит, что пуля, попавшая в вас, была выпущена спереди, а не сзади. Если бы вы действительно в тот момент открывали дверь, пуля попала бы сзади; это вам и самой ясно, и даже маленькому ребенку не пришлось бы этого объяснять.
Полицейские громко выразили свое изумление. Фельдшер подтвердил слова Пинкертона. Мария Вильям еще сильнее побледнела и крикнула:
– Да, может быть, я, прежде чем открыть дверь, оглянулась назад! И вообще, я не могу помнить всех подробностей!
– Это странно, – сухо заметил Пинкертон. – Услышав шум, вы должны были повернуться всем корпусом. В таком случае, по меньшей мере, странно, что вы не помните этого обстоятельства…
Раненой было явно не по себе от такого строгого допроса. Она не знала, что ответить, и сказала:
– Я сама не знаю, как это все произошло, у меня кружилась голова. Оставьте меня в покое!
Сыщик поднялся. Его сухость сразу исчезла, и он вполне дружелюбно сказал:
– Неудивительно, что у вас закружилась голова от такого ужасного происшествия. Идите в медицинский пункт. Там извлекут пулю и снова перевяжут рану.
Мария Вильям облегченно вздохнула. Видимо, она была рада, что допрос наконец окончен. Когда она вместе с фельдшером покинула контору, инспектор обратился к Пинкертону.
– К какому выводу вы пришли относительно этого странного выстрела? – спросил он.
– Пока трудно сказать, – ответил Пинкертон. – Во всяком случае, я уверен, что покушения на эту женщину не было. Здесь что-то другое… И я постараюсь добраться до сути!
– Но что же произошло на самом деле?
– Позвольте мне пока ничего не говорить. Вы знаете, что человеку свойственно ошибаться… Пойдемте, сударыня, укажите мне место, где вы подверглись нападению!
Нат Пинкертон вежливо поклонился и вышел из конторы в сопровождении Марии Вайзе, которая все это время удивленно следила за происходящим.
Глава 3 Таинственный фургон
Площадь все еще кипела жизнью, когда Пинкертон с Марией Вайзе подошли к месту, где она подверглась нападению.
Они протолкались через толпу, дошли до зверинца, обогнули его и очутились в узком проходе между зверинцем и другим балаганом. Этот маленький проход соединял два больших и был погружен в темноту – вполне подходящее место для нападения.
Сыщик зажег электрический фонарь и стал внимательно изучать место происшествия. Девушка тем временем показывала ему, в каком направлении она шла и в каком месте ей был нанесен удар. Как только она указала на это место, Пинкертон заметил большой разрез, сделанный острым ножом в полотне палатки, служившей зверинцем. Он раздвинул щель и увидел, что с внутренней стороны, у самого разреза, нагромождены ящики.
– Видите, сударыня? Держу пари, что преступник скрывался именно за этими ящиками. Он сделал этот разрез и поджидал здесь свою жертву, словно паук, подстерегающий в паутине мух.
Пинкертон внимательно разглядывал землю в надежде заметить хоть какие-нибудь следы, но ничего примечательного не обнаружил.
Войдя в зверинец через разрез, он также ничего особенного не увидел. Тем не менее неудача его не огорчила, и сыщик пробормотал себе под нос:
– У меня есть еще один путь, идя по которому, я обязательно достигну цели… – Он обратился к девушке: – А вы, сударыня, можете отправляться домой. Надеюсь, вы оставили в полиции свой адрес? От всей души желаю вам получить обратно украденные вещи!
Девушка поблагодарила его и удалилась, а Нат Пинкертон смешался с толпой.
Он стал разыскивать палатку «волосатого человека» Вильяма, который показывал себя публике, беря по десять пфеннигов с человека.
Искать пришлось недолго. Третья палатка принадлежала Вильяму.
Раненой Марии Вильям еще не было за кассой. Дела у них, по-видимому, шли плохо. Толпа мало интересовалась «волосатым человеком». Люди равнодушно проходили мимо его палатки; никто не задерживался. Пинкертон стал прохаживаться взад-вперед, пока не заметил в толпе фигуру Марии Вильям. Она проталкивалась сквозь массу народа, рука ее висела на перевязи. Увидев женщину, Пинкертон тотчас же скрылся в боковом проходе и подошел к палатке Вильяма с другой стороны. Через щель он мог видеть внутренность палатки. Убранство ее отличалось чрезвычайной простотой. Там стоял ряд простых деревянных скамеек, а перед ними висела занавеска, которая раздвигалась в обе стороны. За занавеской было сделано небольшое возвышение, с которого Вильям, очевидно, и показывал себя публике.
Пинкертон ждал недолго. Через несколько минут в палатку вошла Мария Вильям, просунула голову за занавеску и тихо позвала:
– Эдуард, ты здесь?
Занавеска колыхнулась, и показалась голова, напоминающая скорее обезьянью, чем человеческую. Шея, щеки, лоб были покрыты густыми темно-каштановыми волосами, а глаза горели, как два угля. Этот удивительный человек был, видимо, сильно взволнован. Хриплым обеспокоенным голосом он спросил:
– Ты уже вернулась, Мария? Как дела?
– Все благополучно! – ответила она. – Можешь быть спокоен. Позже я все тебе расскажу. А пока молчи, говорить опасно: здесь и у стен есть уши.
Голова Марии исчезла, а «волосатый» продолжал ворчать:
– Счастье, что все так закончилось, не то попомнила бы ты свою неосторожность…
Нат Пинкертон обернулся и стал издали разглядывать принадлежащий Вильяму фургон, куда хозяева, видимо, перебирались на ночь. Погруженный в глубокое раздумье, сыщик долго стоял на месте.
Он думал о выстреле, который был нацелен в Марию Вильям. Из допроса раненой Пинкертон понял, что она солгала, утверждая, будто пуля попала в нее именно тогда, когда она собиралась открыть дверь фургона. Но если и в самом деле, как он думал, покушения на эту женщину не было, то откуда взялась рана? Почему Мария не хотела идти в полицию и почему волосатый Вильям только что ругал ее за какую-то неосторожность? Как это все увязать вместе и объяснить?
Вдруг Пинкертон ударил себя по лбу и воскликнул:
– Патрон-самострел!
Такое заключение было весьма логичным. Если предположить, что Вильям, охраняя имущество от непрошеных гостей, установил у дверей и окон своего жилища автоматически срабатывающие патроны, то понятно: пуля попала в Марию в тот момент, когда она отворяла дверь. И конечно, неосторожность ее была непростительна, раз она знала об этом устройстве.
Все это было похоже на правду, ведь никто не мог запретить Вильяму охранять таким образом свое имущество. Вместе с тем было подозрительно: зачем ему вообще понадобилась такая охрана? Странствующие по ярмаркам балаганщики не возят с собой ценностей, которые приходилось бы оберегать столь изощренным способом. Странно и то, что Мария и «волосатый» пытались объяснить выстрел чьим-то нападением. Если бы все было чисто, зачем им скрывать правду?
Какие тайны могли храниться в этом фургоне, доступ в который был защищен автоматическими патронами? За этим наверняка что-то кроется. И сыщик, рассуждая логически, пришел к выводу, что брат и сестра связаны с так называемым «Тигром соборного праздника».
Если бы «волосатый» действительно был искомым преступником и складывал бы добычу в свой фургон, тогда выстрел был бы объясним… Тут Пинкертон вспомнил, что, по словам пострадавшей девушки, у преступника была большая собака!
Правда, с самого начала он считал, что никакой собаки не было, просто негодяй надел на себя собачью маску.
Теперь сыщик увидел, что «волосатый» не нуждался ни в какой маске! Любой человек, находящийся в полубессознательном состоянии, принял бы его лицо за собачью или обезьянью морду.
К таким выводам пришел Нат Пинкертон, и то, что ранее казалось ему лишь предположением, стало ясным и очевидным. Он решил продолжать расследование именно в этом направлении. Но прежде Пинкертон хотел убедиться, что его гипотеза насчет автоматических патронов соответствует действительности.
Между палатками и фургонами лежали доски и шесты. Пинкертон взял шест, лег на землю, чтобы в него не попала пуля, если произойдет выстрел, и стал осторожно нажимать шестом на окошко фургона. Вначале его действия не имели никакого результата. Но вот рама окошка стала подаваться, – и в тот же момент раздались один за другим два выстрела.
С быстротой молнии Пинкертон вскочил, бросил шест и спрятался за грудой ящиков в нескольких шагах от фургона.
Едва он достиг своего убежища, как показался крайне обеспокоенный Вильям. «Волосатый человек» выскочил из палатки и обежал вокруг фургона. Никого не обнаружив, он отворил дверь и осмотрел фургон внутри. Убедившись, что и там все в порядке, Вильям снова вышел и стал искать причину выстрелов. Не найдя ничего, он, по-видимому, успокоился и направился обратно в свою палатку.
Пинкертон покинул наблюдательный пост. План действий у него уже был готов, и сыщик, не теряя времени, отправился в гостиницу, в которую отослал с вокзала свои вещи.
Полчаса спустя он вышел из гостиницы через черный ход. Никто не узнал бы знаменитого сыщика в облике спившегося забулдыги. На нем был грязный рваный пиджак; ярко-рыжий парик украшал голову Пинкертона. Добавьте к этому багровое лицо и застывший, отсутствующий взгляд…
Было уже около одиннадцати. Жизнь на площади стала замирать, и шум толпы понемногу затихал. Народ расходился по домам, и только запоздалые бездельники еще шатались по площади.
Рыжий бродяга миновал несколько проходов, затем исчез за рядом деревянных построек и очутился позади палатки, принадлежащей «волосатому Вильяму». Осмотревшись по сторонам, бродяга вполз под кузов фургона и стал искать, нет ли где-нибудь щели между досками пола.
Долго его поиски были тщетными. Наконец он нашел то, что искал, и начал осторожно действовать маленьким ломиком, захваченным специально для этой цели. Некоторые гвозди сильно проржавели снизу, и доски стали понемногу подаваться. Скоро Пинкертону удалось вынуть одну из них, так что уже нетрудно было приподнять и соседние половицы. В результате образовалась дыра, через которую он проник внутрь.
Пинкертон на секунду включил электрический фонарь и быстро обвел взглядом внутреннее убранство фургона. Обстановка была нехитрая: узкие походные койки в два этажа, шкафчики, дорожные корзины, хозяйственная утварь, в углу – вешалка с целой кипой одежды.
Оставалось только открыть шкафы и корзины и осмотреть спрятанные там вещи. Пинкертон хорошо сознавал опасность затеянного им предприятия и предвидел все возможные случайности, а потому не испугался, когда щелкнул замок, дверь открылась и в фургон вошел «волосатый Вильям» с ярко горящей лампой в руках.
Рыжий пьяница уже сидел, удобно расположившись на одной из корзин, с холодной усмешкой направляя на вошедшего дуло револьвера.
Вильям настолько перепугался, что вскрикнул и подался назад, едва не выронив лампу из рук.
– Что это значит?! – воскликнул он в бессильной злобе. – Как вы сюда попали?!
Рыжий рассмеялся, подошел к Вильяму, оттолкнул его от двери и плотно ее затворил. «Волосатый» был парализован ужасом.
– Что, не ожидал меня здесь увидеть? – заговорил рыжий по-английски. – Я слышал, что ты американец, и поэтому решил навестить тебя!
Вильям все еще не мог прийти в себя. Тяжело дыша, он бессильно опустился на одну из корзин и простонал:
– Но как же ты вошел сюда?
– Это было чертовски трудно! – проговорил рыжий. – Твой фургон отлично защищен. Я в этом убедился сегодня вечером, когда хотел пролезть к тебе через окно. Пришлось избрать другой путь и забраться снизу.
Пинкертон все еще держал револьвер в руке.
– Во-первых, не озирайся по сторонам, тебе все равно не удрать от меня. Если ты хочешь воспользоваться своими дьявольскими патронами, то учти: не успеешь ты прицелиться, как я отправлю тебя на тот свет… А так – можешь вполне мне довериться: ты ведь знаешь, что ворон ворону глаз не выклюет.
«Волосатый» несколько овладел собой и махнул рукой:
– Не беспокойся, я не собираюсь защищаться. Только спрячь оружие и скажи, чего тебе от меня надо?
– Денег! – хриплым голосом сказал Пинкертон.
«Волосатый» подскочил на месте.
– Ты спятил! Ты ворвался в мое жилище, и если я позову на помощь, тебя немедленно арестуют, убьешь ты меня при этом или нет!
– Верно! Только ты не будешь звать на помощь, – заметил Пинкертон. – Постыдился бы выдавать своего друга и товарища!
– Ты, оборванец и вор, – мой друг и товарищ?! – закричал «волосатый».
– А ты-то чем лучше? – сказал насмешливо Пинкертон. – Думаешь, я не вижу тебя насквозь?
– Как ты смеешь?! – злобно воскликнул Вильям. – Тебе не в чем упрекнуть меня, за мной нет никакой вины, ты ничего не докажешь!
Пинкертон похлопал его по плечу.
– Конечно! – сказал сыщик. – Но ведь и ты мне не докажешь, что бедный балаганщик, живущий на жалкие гроши, добываемые на ярмарках, нуждается в такой надежной защите, какую ты устроил в своем фургоне, если не хранит что-нибудь особенное! Хотелось бы мне знать, что спрятано в этих ящиках и корзинах! Уверен, что там лежат неплохие штучки, а за то, что они добыты исключительно благодаря твоей волосатой роже, я готов голову дать на отсечение!
«Волосатый» весь съежился при этих словах рыжего, который небрежным жестом указывал на сундуки и корзины.
В этот момент дверь открылась и в фургон вошла Мария.
Она испугалась не меньше, чем ее брат, и в ужасе застыла. Пинкертон снова поднял свой револьвер и любезно сказал:
– Подойдите-ка поближе, миледи, и закройте за собой дверь. Не задавайте пока никаких вопросов. Ваш уважаемый супруг, или кем он вам там приходится, расскажет вам потом обо всем подробно.
Выражение лица рыжего и нацеленный револьвер подтвердили, что это не пустые слова. Мария вошла в фургон, заперла за собой дверь и уселась рядом с братом.
– Итак, давайте делиться! – воскликнул Пинкертон. – Открывайте быстренько ваши ящики, я посмотрю, что в них. Все, что понравится, я возьму себе.
Хозяева кипели от злости.
– Как только у тебя язык поворачивается?! Мы не собираемся ни с кем делиться!
– Хватит! – загремел Пинкертон. – Выполняйте приказание, или я отправлю на тот свет и эту старую волосатую обезьяну, и ее дражайшую половину!
Курок револьвера зловеще щелкнул.
Этого было достаточно: Вильям и Мария встали и выполнили требование рыжего.
Пинкертон все время зорко следил за ними. Он видел, как неохотно они принялись за дело. Каждую минуту от них можно было ожидать какой-нибудь подлости… Все случилось даже раньше, чем предполагал сыщик.
Мария сделала шаг вперед и сильно толкнула ногой ящик, на котором стояла лампа. Пинкертон рванулся, чтобы подхватить ее, но было поздно – лампа упала. При падении она не потухла, а разбилась. Вскоре весь фургон был в огне: старое сухое дерево горело как порох.
Пинкертон быстро выскочил наружу. За ним последовали Вильям с сестрой. На улице поднялся шум, сбежалась толпа, а через несколько минут явилась пожарная команда, дежурившая тут же, на площади.
В горящий фургон впрягли лошадей и вывезли его на открытое место. От него остался только железный остов. Сгорели и ящики, и корзины вместе со всем содержимым. Вильям и Мария были в отчаянии. Они как безумные метались в толпе. Причем Вильям со своим обезьяньим лицом выглядел до того комично, что среди собравшихся слышались шутки и смех.
Из-за пожара, уничтожившего все вещи Вильяма, Пинкертон лишился возможности доказать его вину: улик – награбленных ценностей – больше не было.
Приходилось искать другие пути для уличения преступника, и Пинкертон тотчас сообразил, что это за пути. Сыщику было ясно, что «волосатый» теперь снова примется за грабежи, чтобы возместить убытки, нанесенные пожаром.
Надо было только позаботиться о том, чтобы Вильям не позже завтрашнего вечера смог снова спокойно приняться за дело, уверенный в своей безопасности.
Глава 4 Тигр пойман
Инспектор Гельман, присутствовавший на пожаре, только что вернулся в свою контору. Не успел он закрыть за собой дверь, как снаружи раздался сердитый голос дежурного полицейского:
– Что вам здесь надо?! Убирайтесь вон! Или вам захотелось провести ночь в участке? Слышите? Я вам говорю!
– Зачем – убирайтесь? Мне надо в контору, – бормотал в ответ чей-то пьяный голос. – Мне нужен господин инспектор Гельман…
– Подите прочь! Если вы сейчас же не уйдете, я вас арестую!
– А я все-таки войду!
При этих словах дверь распахнулась. Гельман и прочие, сидевшие в конторе, увидели рыжего оборванца, нахально ломившегося в помещение. Его преследовал полицейский.
– Что это значит? – воскликнул инспектор. – Как вы смеете врываться сюда?!
Вошедший не испугался сурового тона начальника и, смеясь, протянул ему руку:
– Добрый вечер, господин инспектор! Как поживаете?
Гельман был вне себя. Такого бесстыдства он не встречал ни разу за свою службу.
– Посадите этого негодяя под арест! – велел инспектор своим людям. – Я проучу его за дерзость!
Полицейские сделали движение, чтобы арестовать рыжего. Но тот весело расхохотался и заговорил другим голосом:
– Разве вы меня не узнаéте, господин инспектор?!
Полицейские и Гельман вытаращили глаза. Они были сильно смущены.
– Черт возьми! – воскликнул Гельман. – Судя по голосу, вы – Нат Пинкертон!
– Так оно и есть, господин инспектор! Очень рад, что вы наконец узнали меня.
– Ваш грим поразителен! – сказал восхищенный инспектор. – Никто не узнал бы вас. Должен выразить свой полный восторг… Ну что, удалось вам чего-нибудь добиться?
– Пока немногого. Но я напал на серьезный след и явился к вам с просьбой.
– В чем она заключается? – спросил инспектор, любезно предлагая Пинкертону стул.
– Прошу вас написать одну заметку и позаботиться о том, чтобы завтра утром она появилась во всех газетах.
Инспектор согласно кивнул, взял бумагу и перо, и Пинкертон продиктовал ему следующее:
«„Тигр гамбургского соборного праздника“ пойман! Благодаря усилиям полиции прошлой ночью удалось наконец схватить знаменитого „Тигра“, безнаказанно совершавшего в течение многих дней свои преступления. Им оказался обслуживающий карусели Штейнер. Хотя преступник и отрицает свою вину, но улики очевидны, и вина его несомненна. Публика может свободно вздохнуть. Кроме того, не нужен строгий надзор на площади: теперь снова можно чувствовать себя в безопасности. Преступник арестован и заключен в тюрьму».
Гельман кончил писать и изумленно посмотрел на Пинкертона.
– Вы всерьез считаете, что эту заметку необходимо поместить во всех газетах, мистер Пинкертон? – спросил он.
– Непременно! – сказал сыщик. – Это ловушка, в которую завтра негодяй обязательно попадется.
– Хорошо, будь по-вашему!
Инспектор сделал необходимые распоряжения, а затем произнес:
– Вы, господин Пинкертон, вероятно, видели сегодня пожар, в результате которого сгорел фургон «волосатого Вильяма». Владелец фургона – брат той женщины, в которую сегодня вечером стреляли. Теперь я еще больше убеждаюсь, что здесь замешана личная месть. Не исключено, что у брата и сестры есть какой-нибудь общий враг, который покушается и на их жизнь, и на их имущество.
– Вполне возможно… Однако меня удивляет, господин инспектор, как вы до сих пор не догадались, что это был за выстрел!
Инспектор пожал плечами:
– Должен признаться, я пока не уяснил себе…
– Но ведь вы, если не ошибаюсь, были на площади, когда горел фургон, – сказал сыщик. – Разве вы не слышали взрывов?
– Как же, слышал. Но владелец фургона объяснил мне, что там у него были хлопушки.
– Этот Вильям – отъявленный дурак! Он вполне мог бы признаться, что у дверей и окон у него в фургоне были установлены патроны-самострелы.
Гельман крайне удивился:
– Странно! За этим что-нибудь кроется!
– Да, за этим нечто кроется, господин инспектор! Сказать вам, что именно?
– Пожалуйста, очень прошу вас!
Гельман напряженно ждал ответа.
– Хорошо, – серьезно произнес Пинкертон. – Но я убедительно прошу вас и всех присутствующих хранить пока что об этом полное молчание. Итак, короче говоря, «волосатый Вильям» и «Тигр соборного праздника» – одно и то же лицо.
– Нельзя ли его сейчас же арестовать? – заторопился инспектор.
– Нет! У нас недостаточно улик. Они были бы у нас в руках, если бы не сгорело жилище Вильяма.
– Так вы хотите поймать его завтра на месте преступления?
– Конечно. Желая возместить потерю, он снова примется за свое. Завтра он прочтет, что «Тигр» будто бы пойман, а надзор с площади снят, и наверняка воспользуется благоприятными обстоятельствами, чтобы наверстать упущенное! Значит, завтра надзор с площади мы снимаем, а за палаткой Вильяма буду наблюдать я один.
– И вы надеетесь справиться с этим негодяем?
Пинкертон нахмурился:
– Я был бы просто заурядным сыщиком и мне нечем было бы похвастаться, если бы я не мог справиться с такой задачей! Поэтому позвольте мне действовать в одиночку! Я обещаю вам завтра же доставить сюда этого мерзавца и прошу не предпринимать ничего такого, что могло бы вызвать подозрение Вильяма.
На другой день Нат Пинкертон отправился на соборную площадь. Строгий надзор был полностью снят, во всех утренних газетах появилась заметка о поимке «Тигра». Народу на площади было больше, чем в предыдущие дни. Казалось, известие об аресте преступника совершенно успокоило публику.
Пинкертон снова исчез за палаткой Вильяма, возле которой уже не было фургона. На его месте был нагроможден целый штабель ящиков, вероятно, приготовленных Вильямом для своего убогого инвентаря. Это было на руку сыщику. Быстро подняв крышку одного из ящиков, он забрался туда и, оставив маленькую щель, стал внимательно наблюдать за палаткой.
Было уже около десяти часов вечера, когда полотно палатки медленно раздвинулось и показалась голова Вильяма. Он осторожно озирался по сторонам, и прошло немало времени, прежде чем «волосатый» решился вылезти, убедившись, что поблизости никого нет. Он бесшумно прокрался между ящиками, пригибаясь, как хищник. Едва он прошел мимо Пинкертона, как сыщик выскочил из ящика и последовал за Вильямом, демонстрируя изумительную ловкость. «Волосатый человек» часто оглядывался, но ему ни разу не удалось заметить даже тени своего преследователя. Вильям крался вдоль палаток, пока не достиг довольно широкой темной площади, на которой не было никаких построек. Здесь он спрятался за какой-то повозкой и стал поджидать добычу… Вдруг Вильям вскочил и устремился вперед, размахивая тяжелым железным прутом.
Намеченной жертвой была девушка, случайно очутившаяся вдали от людного прохода. Прежде чем Нат Пинкертон подбежал на помощь несчастной, негодяй ударом прута повалил ее на землю. Но на этот раз Вильяму не удалось оглушить свою жертву. Девушка тихо застонала и попыталась подняться, напрягая последние силы. Вильям с проклятьем вытащил остро отточенный нож, намереваясь вонзить его жертве в грудь. В этот момент Пинкертон схватил преступника за шиворот и ловким движением опрокинул на землю.
Бросок сыщика был так силен, что Вильям потерял сознание. Пинкертон немедленно защелкнул на его руках стальные наручники.
Когда преступник наконец очнулся, Пинкертон доставил его и девушку в полицию.
В ту же ночь была арестована и Мария Вильям как соучастница преступлений своего брата. Он был приговорен к пятнадцати годам заключения, а его сестра отделалась семью годами.
Через несколько дней Нат Пинкертон уехал в Нью-Йорк, провожаемый восхищенным инспектором Гельманом.
Ошибка Пинкертона
Глава 1 Исчезновение Сюзанны Гренье
Было светлое, солнечное утро… Нат Пинкертон сидел в садике снятого им на лето особняка, расположенного на одной из оживленнейших улиц Балтимора. Стояла жара, и сыщик откинулся на спинку плетеного кресла, в сладкой истоме закрыв глаза.
– Вы спите, шеф? – послышался в этот момент чей-то голос, и из-за высоких кустов акации появился его помощник Боб Руланд.
– Нет, – ответил знаменитый сыщик. – А в чем дело?
– Вас хочет видеть один молодой человек, некто Христофор Винклер.
– Барон Христофор Винклер? – переспросил Пинкертон.
– Нет, он, кажется, не барон, просто Винклер.
– Проси его в сад и не забудь сказать Тому, чтобы он подал сюда кофе.
– Хорошо, будет сделано, шеф, – произнес Боб Руланд и направился к особняку.
«Христофор Винклер… – думал тем временем знаменитый сыщик. – Если он барон, то, несомненно, тот самый, которого я встретил несколько месяцев назад в Питтсбурге, на балу у графини Клервиль. Будучи миллионером, он намеревался вступить в брак с девушкой из очень бедной семьи».
Вскоре вернулся Руланд, сопровождая белокурого молодого человека с бледным лицом и задумчиво-выразительными глазами.
Нат Пинкертон сделал несколько шагов ему навстречу и, обменявшись рукопожатием, предложил сесть в кресло.
– Если не ошибаюсь, имею честь беседовать с бароном Винклером? – первым заговорил сыщик.
– Да, я барон Винклер, – немного удивившись, ответил молодой человек и тихо добавил: – А вы разве меня знаете?
– Совсем недавно я видел вас на балу в Питтсбурге.
Услышав это, Винклер изменился в лице, хотел что-то сказать, но промолчал, поскольку появился какой-то человек. Это был негр Том, лакей Пинкертона, который принес кофе. Добродушное лоснящееся лицо слуги расплывалось в улыбке, сверкающей белизной крепких зубов.
– Не угодно ли, сэр, чашечку кофе? – спросил сыщик Винклера и, не дожидаясь ответа, продолжил: – Вы, может быть, не привыкли пить кофе в такую жару, но совсем недавно доктора выяснили, что холодная вода, а тем более виски менее полезны человеческому организму во время зноя, нежели горячий кофе.
Винклер молча, слегка кивнув головой, придвинул к себе чашку кофе. Когда Том ушел, барон сначала неуверенно, а потом довольно бойко заговорил:
– После бала у графини Клервиль в моей жизни произошел перелом. Дело в том, что раньше я был влюблен, безумно влюблен, признаюсь вам, в одну русскую девушку, которая поселилась со своей матерью в Соединенных Штатах всего два года назад. Эта девушка из бедной семьи, но хорошо образованна, говорит на трех языках и великолепно воспитана. Имя ее… Впрочем, оно вам ни о чем не скажет.
– Анна Любимова, – произнес сыщик.
– Однако вы хорошо осведомлены, мистер Пинкертон! Итак, мы любили друг друга, и мне казалось, что я никогда не смогу променять Анну на другую. Но питтсбургский бал доказал обратное. Там меня познакомили с некой Сюзанной Гренье, которая темпераментом и внешностью была полной противоположностью Анне. Правда, они обе хороши, но каждая по-своему. Анна тиха, скромна, если хотите, даже немного наивна. Сюзанна довольно пылкая женщина, и ее пикантность свела с ума не одного мужчину. Анна голубоглазая блондинка, Сюзанна – жгучая брюнетка, типичная дочь Южной Франции. И так далее. Стоит ли говорить, что я попал под очарование Сюзанны, забыв обо всем на свете и думая только о ней. Конечно, вы можете решить, что у меня непостоянный характер. Да, скорее всего, так оно и есть, но в этом нет ничего удивительного: мой отец по происхождению англичанин, но мать – француженка. Впрочем, ближе к делу. За очень короткое время я близко сошелся с Сюзанной Гренье, и дело шло к свадьбе, но вдруг неделю тому назад она бесследно исчезла…
На последних словах голос Винклера дрогнул, и, чтобы скрыть смущение, барон небрежно начал что-то чертить на песке, напевая веселенький мотивчик. Разумеется, Нат Пинкертон великолепно понимал, что происходило у него на душе.
– И это все? – спросил сыщик.
– Нет, это не все, – ответил Винклер и дрожащими руками вынул из бумажника фиолетовый конвертик, в котором было письмо.
В этот момент Боб Руланд незаметно наклонился к Пинкертону и шепнул ему на ухо:
– Уокинг!
Пинкертон кивнул головой и взял у Винклера письмо. Оно было следующего содержания:
«Многоуважаемый барон!
Если Вы хотите увидеть свою невесту и вновь быть с ней, ровно через две недели после получения сего письма опустите конверт с пятью тысячами долларов в дупло старой сосны у часовни близ города Линкольн в штате Небраска.
Уважающий Вас Уокинг.
P. S. Вмешательство полиции будет бесполезным, уверяю Вас. Вы должны об этом помнить, если питаете хотя бы немного любви к своей невесте!»
– Когда вы получили это письмо? – спросил сыщик.
– Позавчера утром.
– Несмотря на постскриптум, вы все же обратились ко мне. Что заставило вас это сделать?
– Мне посоветовал так поступить один старичок, попутчик, с которым я оказался в тот день в одном купе и которому поведал о своем горе.
– Кто из вас первым заговорил: вы или он?
– Он. Старичок спросил, почему у меня печальный вид.
– Вы хорошо сделали, что пришли ко мне. У меня к вам еще один вопрос: где и с кем жила Сюзанна Гренье?
– Она жила одна в снятом ею особнячке на Музейной площади, рядом с недавно построенным театрам «Палас».
– Я очень благодарен вам, сэр, за сведения. Я немедленно дам вам знать, как только начну действовать.
Сыщик и барон распрощались.
Каково же было удивление Винклера, когда, вернувшись домой, он снова увидел на столе фиолетовый конверт.
Распечатав его, молодой человек прочел:
«Многоуважаемый барон!
Несмотря на постскриптум в моем первом письме, Вы все же обратились за помощью к известному сыщику Нату Пинкертону. Дело несколько осложнилось. Впрочем, поставленные Вам условия остаются в силе.
С нижайшим почтением, Уокинг».
Глава 2 Освобождение узницы
Когда ушел барон Винклер, Нат Пинкертон обратился к Бобу Руланду со следующими словами:
– Итак, известный авантюрист Джеймс Уокинг, совершивший весьма ловко и довольно смело (надо отдать ему должное) кражу редчайшего калифорнийского слитка золота в горном музее города Регина, теперь перенес арену своих действий к нам, в Балтимор. В городе Регина полиции не удалось его поймать, но, тем не менее, при совершенно необычных обстоятельствах, о которых я как-нибудь потом расскажу тебе, был сделан слепок пальцев его левой руки. Сейчас он находится у меня и может стать хорошей уликой в раскрытии преступления, связанного с Сюзанной Гренье. Слепок хранится в сейфе моего рабочего кабинета и является одной из ценнейших реликвий в моей криминалистической коллекции.
– Конвертики Уокинга фиолетового цвета. Вы, конечно же, обратили на это внимание, шеф?
– Еще бы. Ну-с, итак, Уокинг в Балтиморе.
– Что вы решили предпринять, шеф?
– Займусь поиском невесты барона Винклера, пропавшей без вести Сюзанны Гренье… Меня интересует, что ты думаешь о господине, попутчике барона?
– Честно говоря, затрудняюсь сказать что-либо определенное, патрон.
Нат Пинкертон ничего не ответил на это, быстро встал и направился к дому, насвистывая мелодию своего любимого вальса из «Принцессы долларов»[73].
Навстречу сыщику вышел его второй помощник – Гайнц Мориссон. Было видно, что он чем-то сильно озабочен.
– Я должен сообщить вам нечто чрезвычайно важное, мистер Пинкертон.
– В чем дело, Гайнц?
– Уокинг в Балтиморе!
– Это нам уже известно, дорогой мой, – сказал, смеясь, Боб Руланд.
– Ну, рассказывай, в чем дело, – перебил Боба Пинкертон.
– Сегодня в поезде я вздремнул немного, а проснувшись на какой-то остановке, увидел рядом с собой сгорбленного старичка в сером клетчатом пальто, который обратился ко мне со словами: «Вы меня не узнаете, мистер Мориссон?» – «Нет, – ответил я. – Кто же вы?» – «Я Уокинг», – и с этими словами он залился громким раскатистым смехом. Я быстро вынул револьвер и бросился к нему, но меня отвлек страшный треск разбитого стекла, как потом выяснилось, – результат брошенного кем-то камня. Когда я обернулся, Уокинга и след простыл. Я уже ничего не мог сделать, потому что поезд тронулся.
– Сыщик всегда должен быть начеку, – нравоучительно заметил Пинкертон.
На следующий день к великому сыщику опять пришел барон Винклер. Он принес два письма: одно было получено от Уокинга вчера, второе только что пришло от Сюзанны Гренье. В нем она писала:
«Дорогой Христофор!
Я нахожусь в подвале часовни возле города Линкольн, как я случайно узнала. За мной постоянно наблюдает мой похититель. Благодаря счастливому стечению обстоятельств мне удалось передать эту записку через крестьянского мальчика-пастуха. Дай Бог, потом смогу все рассказать подробно. Выручай.
Твоя Сюзанна».– Что тут можно предпринять, мистер Пинкертон? – спросил барон сыщика.
– Вы должны остаться в Балтиморе, чтобы Уокинг или его сообщники, следя за вами, не смогли догадаться, что вы получили от Сюзанны Гренье, вашей невесты, письмо. Я же с Бобом Руландом немедленно отправляюсь в Линкольн. Мориссон переоденется и будет повсюду сопровождать вас, так что вы можете не волноваться за свою жизнь.
– Но объясните мне, пожалуйста, одно обстоятельство: откуда он узнал, что я обратился к вам за помощью? – спросил Винклер.
Нат Пинкертон улыбнулся.
– Старичок в сером клетчатом пальто, с которым вы встретились в поезде, и был Уокинг, известный авантюрист.
– И в руках этого негодяя моя невеста! – еле слышно прошептал Винклер.
Через час великий сыщик и Боб Руланд уже сидели в купе скорого поезда, несущегося в город Омаха; там они должны были пересесть в дилижанс, чтобы попасть в Линкольн, поскольку этот город еще не имел железнодорожного сообщения с другими населенными пунктами. Добравшись до окрестностей Линкольна, сыщики покинули дилижанс и, переодевшись в небольшом сосновом лесочке в одежду рабочих, продолжили путь пешком. У первого же прохожего они спросили, где находится часовня. Тот не замедлил указать на нее.
Часовня стояла у подножия обрывистой скалы. Подойдя ближе, сыщики увидели бурную, порожистую речушку, впадавшую в Платт, приток Миссури. Перейти ее вброд было нельзя, и потому они стали искать переправу. Шагах в ста от часовни находился подвесной мостик, по которому сыщики перебрались на другой берег.
Пинкертон и Руланд подошли к часовне. Она была наглухо закрыта. Штукатурка на покосившихся стенах во многих местах осыпалась, и вообще часовня имела убогий вид, наполовину развалилась и уже мало напоминала церковное строение.
Местность вокруг часовни была пустынная и скалистая. Лишь неподалеку возвышались сосны, одна из которых выделялась своей причудливой формой и зияющим дуплом.
– Вероятно, это и есть та самая сосна, – шепнул Пинкертону Боб Руланд.
Нат Пинкертон в знак согласия кивнул головой и стал осматривать часовню. Вдруг он тихо присвистнул, заметив на одной из заплесневелых досок, которыми было забито окно, свежий отпечаток мужской руки. Пинкертон сразу заключил, что он, несомненно, принадлежал Уокингу.
Затем знаменитый сыщик сделал еще одно не менее важное открытие. Дверь часовни открывалась довольно странным способом: сначала ее надо было приподнять, повернуть ручку, а потом отодвинуть в сторону.
Нат Пинкертон оставил Боба снаружи, а сам, лишь слегка приоткрыв дверь, вошел в часовню. Стены внутри были голыми, лишь на одной из них перед большой иконой висела старая, украшенная узорчатой чеканкой лампада.
Знаменитый сыщик внимательно осмотрел стены, подсвечивая себе электрическим фонариком, стал изучать каменный пол и заметил в углу люк. Пинкертон бросился к нему и открыл его.
Вниз вела каменная лестница. Когда Пинкертон стал спускаться по ней, наверху вдруг что-то щелкнуло и люк захлопнулся. Сыщик посмотрел вниз и увидел поразительной красоты женщину, забившуюся в угол грязного и темного помещения, в котором сильно пахло гнилью.
Это была Сюзанна Гренье.
– Не бойтесь, – сказал сыщик, – я друг Христофора Винклера. Я пришел освободить вас.
Пинкертон кратко рассказал Сюзанне обо всем и принялся осматривать помещение. Стены и пол, как и в часовне, были выстланы каменными плитами, а в стене напротив люка виднелось небольшое квадратное окошко.
За этим окошком, скорее всего, был подземный ход в пещеру, расположенную в одной из скал, находившихся возле часовни.
– Через это окошко я получаю скудную пищу, – сообщила Сюзанна Гренье.
– Вас привели сюда через часовню? – спросил сыщик.
– Не знаю. Человек в маске, который привез меня на автомобиле к часовне, завязал мне глаза платком и втащил сюда. По какому пути он шел, мне неизвестно, – ответила бедная Сюзанна.
В это время в подвале зажегся электрический свет и в окошке показалась молодая, чисто выбритая физиономия.
Сюзанна бросилась к Пинкертону, обняла его дрожащими руками и прошептала:
– Спасите, спасите меня, ради Бога, мистер Пинкертон! Это он!
– Добрый день, дорогой Нат! – крикнул сыщику незнакомец. – И вы, если я не ошибаюсь, не прочь провести время в заточении?
Нат Пинкертон, бросившись к люку, попытался открыть его, но безуспешно.
В этот момент электричество погасло; темноту теперь рассеивал лишь тускловатый свет фонаря сыщика.
– Не трудитесь, мой дорогой, – продолжал между тем незнакомец, – люк открывается лишь сверху, не будь я Уокингом! А пока прощайте! Я направляюсь в Балтимор.
– Что же нам теперь делать? – спросила в испуге несчастная девушка.
– Ждать, – хладнокровно ответил сыщик, надеясь на Руланда, находившегося возле часовни.
«Надо ему дать знать о нас», – подумал Пинкертон. Но наверху уже послышался лязг, люк приоткрылся, и на фоне слабых солнечных лучей показалась голова Боба Руланда.
– Не спускайся сюда! – крикнул великий сыщик, а затем помог Сюзанне Гренье взобраться по лестнице.
– Какая миленькая, – сказал Боб Пинкертону, когда увидел девушку.
– Ты отлично поступил, поторопившись освободить нас, – ответил ему сыщик. – Там, внизу, не очень-то хорошо.
Что же касается Уокинга, то оба сыщика решили пока не пускаться на его поиски, поскольку несчастную девушку надо было срочно доставить к ее жениху – барону Христофору Винклеру.
Глава 3 Неожиданный финал
Когда все трое подошли к речушке, подвесного мостика на месте не оказалось. Очевидно, кто-то разобрал его! Сыщикам ничего не оставалось, кроме как искать другую переправу.
Они пошли вверх по течению и часа через четыре, утомленные ходьбой по холмистой местности, добрались до деревушки. Оба сыщика привели себя в пристойный вид, надев приличные костюмы, которые были у Боба Руланда в дорожном саквояже.
В лучшей гостинице, расположенной на большой живописной горе, они сняли два номера, чтобы переночевать, поскольку Сюзанна Гренье после пережитых волнений и трудной дороги очень нуждалась в отдыхе.
На следующее утро, когда горничная вошла в номер Сюзанны, девушки, увы, там не оказалось. Горничная немедленно сообщила об этом сыщикам.
Все их попытки найти несчастную девушку оказались напрасными – обыск гостиницы и сада ни к чему не привел, и они вынуждены были вернуться в Балтимор с пустыми руками. Более того, когда они вышли из поезда на вокзале в Балтиморе, Пинкертон воскликнул:
– Черт возьми! Боб, ты не знаешь, где мои ключи?
– Право, не знаю, шеф.
– Куда же я мог их подевать, в самом деле?
После тщательных поясков Нат Пинкертон пришел к выводу, что его ключи бесследно пропали.
– Какая непростительная оплошность с моей стороны! В утерянной связке находились ключи от моего кабинета и сейфа.
Вскоре они подкатили на автомобиле к особняку Ната Пинкертона. Неожиданно Боб громко вскрикнул и показал на дом. Дверь была открыта. Когда сыщики вошли в переднюю, они увидели на столике связку ключей и фиолетовый конверт.
Пинкертон распечатал его и прочитал:
«Великий сыщик!
Не хочу оставлять Вас в неведении, поэтому сообщаю, что негр Том, мой сообщник (кто бы мог подумать!), помог мне проникнуть в Вашу квартиру. Дверь Вашего кабинета, которая всегда на замке, равно как и сейф, была открыта ключами, изъятыми у Вас в подвале и тогда же переданными мне Сюзанной, также моей сообщницей. Признайтесь, мой дорогой Нат, ведь недурную мы сыграли с Вами шутку? Не правда ли? Впрочем, стоит ли Вам отчаиваться, ведь и великим людям свойственно ошибаться.
Кроме всего прочего должен сообщить Вам, что в сейфе я ничего не взял, за исключением слепка моей руки, который я разбил на мельчайшие кусочки там же, у Вас в кабинете. Следовательно, Вы не можете сказать, что я Вас ограбил, в мои планы в данном случае входило лишь уничтожение слепка, мешавшего мне действовать дальше, что я и сделал.
В заключение прошу Вас передать Вашему помощнику Бобу Руланду привет от Сюзанны Гренье. Он ей очень понравился.
Уважающий Вас Уокинг».Тома, лакея великого сыщика, дома не оказалось. Он действительно исчез. Кроме слепка руки Уокинга, все оказалось на месте.
Пинкертон, весьма озадаченный и раздосадованный случившимся, многозначительно заметил, что его борьба с Уокингом только начинается.
Тем не менее он чувствовал себя побежденным, да и авторитет гениального сыщика несколько упал в глазах его помощника.
Как бы там ни было, вечером того же дня Нат Пинкертон отправился к барону Винклеру и скрепя сердце рассказал ему обо всем… умолчав лишь о том, что его невеста, хорошенькая Сюзанна, оказалась сообщницей известного авантюриста Джеймса Уокинга.
Прошло полгода…
Однажды в солнечный день в одном из лучших кафе города Балтимора, расположенном на пляже под открытым небом, встретились два господина. Один из них был Гайнц Мориссон, другой – барон Винклер.
– Здравствуйте, Мориссон!
– Здравствуйте, барон! Какими судьбами? Ведь вы, если не ошибаюсь, хотели покинуть Балтимор?
– Да, но вышло иначе. Присядем за столик, я все вам расскажу подробно.
– А знаете что? Я предлагаю поехать в казино и провести вечер там.
– При всем желании не могу: меня ждет жена.
– Как, вы женаты?! – воскликнул Мориссон.
– Представьте себе – да! И угадайте на ком?
– Никто не приходит на ум.
– На Анне Любимовой. Все же давайте присядем.
Они сели за отдельный столик и заказали виски, после чего Винклер продолжил разговор:
– После сообщения Ната Пинкертона о его неудаче я получил от Уокинга записку, в которой он уведомил меня, что если я хочу увидеть свою невесту, то в назначенный день должен прийти в Большой музей, где она будет ждать меня на диванчике малинового цвета, который стоит под известной картиной «Избрание Вашингтона». Но предварительно я должен выполнить условия, изложенные в первом его письме, содержание которого вам хорошо известно.
Так я и сделал.
Я отправился в Линкольн, отыскал там часовню и сосну, положил в дупло пять тысяч долларов, а когда в назначенное время, кажется, дня два спустя, пришел в музей, еще издали увидел у картины «Избрание Вашингтона» женщину. Но это была не Сюзанна Гренье… Это была Анна Любимова!
Сначала у меня мелькнула мысль обратиться в бегство, но потом какая-то неосознанная сила повлекла меня к ней.
Я подошел и поклонился.
Не стану описывать вам нашего разговора, тем более что он был довольно бессодержательным, но не могу обойти молчанием следующее обстоятельство: Анна Любимова, как оказалось, получила накануне нашей встречи письмо, написанное якобы моей рукой, в котором я просил ее прийти в музей именно сейчас, то есть в указанное мне Уокингом время.
Тут же вспомнились слова Пинкертона о том, что Сюзанна, по его мнению, для меня навеки потеряна, и какое-то внутреннее чувство заставило меня поверить этому.
Вновь встретившись с Пинкертоном, я узнал подробности о Сюзанне Гренье и пережил глубокое потрясение. Но меня спасла старая любовь. Я женился на Анне Любимовой.
Все, слава Богу, кончилось хорошо. На судьбу мне жаловаться грешно.
Ник Картер
Ник Картер – коллективный псевдоним ряда американских писателей (Д. Р. Корнелл – создатель, Т.Ч. Харбо, Ф. ван Дей и другие). Ник, потрясающий по активности и изобретательности герой, стал любимцем миллионов читателей не только в США, но и во всем мире.
Ник Картер сравним по известности с Натом Пинкертоном. Он был и «участником» радиопостановки, которая также была достаточно известна. Однако время шло и популярность произведений Ника стала сходить на нет. После успеха книг о Джеймсе Бонде персонаж был обновлен в соответствии с духом времени и превратился в секретного агента.
О Нике Картере писало несколько авторов, поэтому романы о нем отличаются различным стилем. Их герои были и туповатыми полицейскими, и проницательными копами, превращались в подобие «благородных разбойников», которые во имя высоких целей не гнушались «низкими» средствами.
Рассказы о Нике Картере напоминали известные новеллы о Буффало Билле, бывшие весьма популярны в США. Картер – весьма обаятелен, авантюрен и деловит. Он очень одаренный детектив, действует в стиле всех великих сыщиков и детективов, раскрывая даже самые сложные и громкие дела.
На основе романов о Нике Картере было снято несколько популярных фильмов. На радио Ник появился в 1943 году и «выступал» там более 10 лет.
Упоминание о Нике Картере можно найти во многих книгах, где рассказывается о жизни молодежи или детей – для них Ник, Пинкертон, Холмс и другие были объектом для подражания, и после прочтения книг о них не один ребенок мечтал о карьере детектива.
Многомиллионные тиражи и более 1200 созданных и победно шествующих по западным страницам комиксов – лучшее тому подтверждение.
Грабительница больших дорог
Глава I Горничная-самозванка
Пассажирский поезд, шедший из Нью-Йорка, только что остановился у перрона маленькой станции Бильтман. Около вокзала стояло четыре деревенских экипажа, на козлах которых понуро сидели кучера. Кроме них, насколько хватало глаз, не было видно ни одной живой души.
В окно одного из вагонов первого класса выглянуло миловидное женское личико… Глаза пассажирки пытливо осматривали окрестность, а в маленькой головке созревал план бегства. Гладковыбритый широкоплечий господин, севший в вагон вместе с ней в Нью-Йорке, вышел в отделение для курящих и, таким образом, не мог наблюдать за действиями соседки по вагону.
Быстро решившись, пассажирка выскочила на платформу станции, названия которой она даже не знала, несмотря на то что была хорошо знакома с той частью Америки, в которой находилась в настоящее время, то есть с западом штата Коннектикут. Но так как она садилась в поезд без определенной цели, ей было все равно, где выйти.
Не ускоряя шага, чтобы не обратить на себя внимания, странная пассажирка обратилась к ближайшему кучеру.
– Я хотела бы… – начала она.
– Очень жаль, мисс, – последовал ответ, – что я не могу исполнить вашего желания. Я и трое моих товарищей ждем горничных из замка. Они должны приехать скорым поездом. Я, например, повезу горничную миссис Кеннан.
– Ну, значит, вам больше нечего и ждать, – с обворожительной улыбкой произнесла пассажирка, – я и есть эта горничная.
– Вы – горничная? – изумленно проговорил кучер, молодой двадцатидвухлетний парень, с восторгом смотря на стоявшую около экипажа красавицу.
– Я, кажется, вам уже сказала об этом, – нетерпеливо заявила «горничная».
– Черт возьми! – галантно осклабился деревенский Адонис. – Что за прелестный цыпленочек! Вы кто же будете – Мари или Фанни?
– Фанни, – коротко объявил «цыпленочек».
С этими словами она вскочила в экипаж и удобно уселась на кожаное сиденье.
Кучер щелкнул бичом, и экипаж покатился.
Пассажирка лениво обернулась в сторону станции и увидела, что отошедший тем временем поезд уже почти скрылся за поворотом. Ни на платформе станции, ни на дороге не было видно ни одного человека. Не было и того гладковыбритого мужчины, которого пассажирка, как она теперь вспомнила, часто встречала в Нью-Йорке.
Вздох облегчения вырвался из ее груди, а коралловую нижнюю губку закусили ослепительно белые зубы.
– А! Теперь я знаю, кто это был, – вполголоса произнесла она. – Это был Дик, двоюродный брат и главный помощник Ника Картера! Да! Да! Несмотря на грим, я теперь его узнала. Но я, однако, ловко ускользнула у него между пальцев!
Довольная усмешка мелькнула на ее губах.
Во время дороги «горничная» часто оборачивалась назад и зорко всматривалась вдаль, в придорожные кусты и деревья… Но нигде не было видно ни одного человека.
Прежде чем самозваная горничная составила себе план, как ей действовать дальше, экипаж повернул на широкую, усыпанную гравием аллею и остановился у подъезда замка.
«Интересно знать, куда я попала?» – мелькнуло в голове авантюристки, в то время как глаза ее перебегали с предмета на предмет. Все вокруг говорило о роскоши и избалованных вкусах владельцев замка.
Едва она успела выскочить из экипажа, как перед ней оказался лысый, одетый в черный фрак, камердинер с часами в правой руке. «Горничная» оглянулась по сторонам, как бы заранее высматривая лазейку на случай бегства, затем решила выжидать событий и пошла навстречу камердинеру.
– Не ожидал, что вы прибудете так скоро, мисс, – обратился к ней старик. – Вы можете сейчас же следовать за мной.
И повернувшись к ней спиной, он торжественно направился внутрь дома.
На одно мгновение в голове ее мелькнула мысль о бегстве, но затем она отбросила эту мысль как не соответствующую обстоятельствам и последовала за камердинером, тем более что экипажа у подъезда уже не было, а работавшие в парке садовники очень скоро догнали бы ее.
– Миссис Кеннан уже несколько раз о вас осведомлялась, – говорил по дороге камердинер. – Ага! Вот уж и автомобиль готов. (Снаружи действительно слышался шум мотора.) – У вас есть еще время, и вы можете одеть вашу госпожу. Она со своим супругом и с моими хозяевами, мистером и миссис Грегам, отправляется сегодня на бал к мистеру Брейтону.
«Вот так штука! – пронеслось в голове „горничной“. – Если эта Кеннан знает свою прислугу, то я попалась!»
– Пожалуйте, теперь направо, – предупредительно заявил старик-камердинер. – Мои господа предоставили именно этот флигель в пользование своих гостей, мистера и миссис Кеннан.
С этими словами он открыл массивную дубовую дверь, ведшую в широкий коридор, по обеим сторонам которого были расположены комнаты. Приостановившись на минуту, камердинер взял двумя пальцами новую «горничную» за подбородок и повернул ее лицо к свету.
– Однако, Фанни, вы прехорошенький чертенок! – плотоядно ухмыльнулся он.
«Горничная» резким движением отклонилась в сторону и гордо закинула голову назад. Но это продолжалось одно мгновение… Потом она сообразила, что гораздо выгоднее для нее – позволить некоторую фамильярность с собой старому ловеласу, но зато выпытать у него кое-какие сведения, которые впоследствии могут ей очень и очень пригодиться.
– Здесь, кажется, принято ласкать горничных? – с кошачьей улыбкой повернула она лицо к камердинеру. – Боюсь, что это будет мне сильно не по душе!
Камердинер вместо ответа слегка подтолкнул ее вперед, и самозванка оказалась в громадной комнате, уставленной роскошной мебелью. Она еще не успела оглядеться в ней, как из-за портьеры послышался густой, сочный женский голос.
– Подойдите сюда, милая! Вы пришли как раз вовремя, чтобы помочь мне одеться. Ах! Это большое неудобство – не иметь при себе собственной горничной! Ну, да делать нечего – на даче уже не до того! Ну, идите же скорее сюда!
«Однако, чем я рискую? – ободряла себя тем временем „Фанни“. – Ведь, в конце-то концов, самое большее, что со мной могут сделать, – это вышвырнуть меня вон!»
Приняв это решение, она смело вошла за портьеру, заранее готовясь услышать возглас удивления.
Но ничего подобного не произошло. Миссис Кеннан, величественная дама в белом атласном бальном платье, казалось, даже не обратила внимания на ее внешность. Хозяйка была почти готова: волосы уже причесаны парикмахером, туфли и платье надеты; только несколько пуговок на спине не были застегнуты.
– Вы, вероятно, горничная миссис Грегам? – спросила дама, увидев совершенно незнакомое лицо. – Значит, Фанни все еще нет! Да, – с легким вздохом прибавила миссис Кеннан, – аккуратность не принадлежит к числу ее добродетелей.
– Да, madame, – бойко заявила «горничная», – я служу у миссис Грегам.
Авантюристка готова была назваться чьей угодно горничной, только бы выйти из того положения, в которое попала из-за преследования ее Ником Картером.
– Ты, кажется, расторопная девушка. Фанни, например, постоянно путается с теми крючками, которые ты так ловко сейчас застегнула. Ты довольна местом у миссис Грегам?
– Я не сказала бы этого, madame, – почтительно поклонилась авантюристка.
И она говорила правду: положением своим она совсем не была довольна, так как каждую минуту боялась, что обман будет открыт.
– Так, так, – растерянно произнесла миссис Кеннан. – А я думала, что у Грегам хорошо служить. Так что ты не прочь переменить место?
– О, я была бы очень рада улучшить свое положение, – последовал вполне искренний ответ.
– Тогда зайди ко мне завтра утром, конечно, после завтрака, и мы поговорим. Должна тебе сказать откровенно, что ты нравишься мне гораздо больше Фанни!
В это время портьера раздвинулась. Авантюристка невольно вздрогнула: каждую минуту могла приехать настоящая Фанни, и тогда обман вышел бы наружу. Страх, однако, быстро сменился полнейшим спокойствием, когда она услышала голос миссис Кеннан:
– А! Это ты, Жорж! Ты можешь остаться! – обратилась дама к самозванке, видя, что та хочет удалиться. – Входи, входи! Я совсем уже одета, Жорж!
И Жорж вошел. Это был типичный «человек-мопс», кругленький, маленький и снабженный одышкой. На нем был безукоризненно сшитый, дорогой фрак, а в руках он нес маленький черный ящичек.
– Ну вот, я и приехал, – заговорил он с остановками, как все астматики. – Ну и гнал же Самсон автомобиль! Это была какая-то бешеная скачка! С этими драгоценностями, которые так дороги, что их нужно держать в банке, чистая мука! Эге, – прервал он сам себя, взглянув на «горничную», – это кто же у нас?
– Это горничная миссис Грегам, – равнодушно заявила дама.
– Черт возьми! Красивая рожица, – пробормотал Жорж, еще раз взглянув на девушку, стоявшую в стороне и скромно опустившую глаза.
Тем временем миссис Кеннан вынула из своего письменного стола золотой ключик и отперла шкатулочку. Она была так поглощена своим занятием, что совершенно не замечала горящих взглядов мужа, устремленных на хорошенькую «горничную». Та, в свою очередь, не отрываясь, следила за действиями дамы. Авантюристка едва сдержала возглас восторга, когда миссис Кеннан вынула из ящичка великолепную жемчужную нить, которую начала примерять при свете электрической лампочки.
Одна эта нить стоила несколько десятков тысяч долларов! А в шкатулке были, как это хорошо видела самозванка, и другие драгоценности.
– Тебе не трудно будет, Жорж, после бала отвезти шкатулку снова в банк? – обратилась миссис Кеннан к мужу, кладя жемчужную нить на место. – Я надену украшения уже у Брейтонов. Пока подержи ящичек у себя. Видишь ли, я не хочу затруднять Грегамов и просить их прятать шкатулку в сейф.
– Ты готов? Да? – продолжала она. – Что, этот ужасный мотор, в котором каждую минуту что-нибудь портится, в порядке? Самсон не забыл налить бензин, как в прошлый раз? Тогда пойдемте! Ничего, если мы приедем немножко раньше – мне все равно необходимо отдохнуть перед обедом: эта езда на моторе всегда очень вредно сказывается на моих нервах! Подай мне накидку, – обратилась миссис Кеннан уже к «горничной». – Да не эту, а вон ту!
Авантюристка сняла с вешалки подбитую мехом накидку и ловко набросила ее на плечи дамы. Миссис Кеннан подобрала шлейф платья и вышла из комнаты, не удостоив девушку ни одним взглядом.
Не так поступил ее муж. Он, выходя из будуара жены, послал «горничной» довольно неуклюжий воздушный поцелуй и скорчил влюбленную физиономию, причем стал неподражаемо похож на старую обезьяну.
Оставшись одна, авантюристка некоторое время стояла как вкопанная. Ее глаза горели, как глаза тигра, грудь высоко поднималась, зубы крепко закусили нижнюю губу, а руки были сжаты в кулаки, так что хрустели пальцы.
Что это? Судьба посылает ей богатую наживу! Решиться или нет? Найдет ли она в себе достаточно мужества, сообразительности и энергии, чтобы довести до благополучного конца представляющееся ей заманчивое предприятие?
Глава II Женщина-бандит
Миссис Кеннан, по обычаю всех светских женщин, оставила все помещения отпертыми, а вещи разбросанными. Пудреницы, флаконы для духов, коробки для мыла, зеркальца, несессеры. Все это дорогое, из массивного серебра, с золотыми монограммами. Все эти вещи стоили не одну тысячу долларов!
В другое время авантюристка не задумалась бы собрать все эти bijuox[74], набить ими карманы и бесследно скрыться. Но теперь, когда она видела шкатулку с драгоценностями, она мысленно назвала разбросанные вещи «дрянью». У нее в голове было другое: она решила завладеть шкатулкой. В успехе она была почти уверена.
«Твердое решение – половина дела», – говорит народная мудрость.
Где-то недалеко скрипнула дверь. Авантюристка сообразила, что это идет горничная Фанни, прибывшая, очевидно, со скорым поездом, и поняла, что ей необходимо бежать. На одном из стульев лежал резиновый плащ, так называемый макинтош, вероятно, самого мистера Кеннана. Самозваная горничная перекинула его на руку и вышла в ту самую дверь, в какую незадолго до того ее втолкнул камердинер.
К счастью для нее, в коридоре никого не было.
Быстро спустившись по лестнице, она осмотрелась и увидела полуотворенную дверь, ведущую во двор. Теперь она могла быть спокойна: никто не нашел бы ничего подозрительного в том, что горничная идет по двору с господским плащом на руке.
Только тут она вспомнила, что забыла в будуаре свою шляпу, и пожалела о том, что не вырвала подкладку, на которой была напечатана фирма магазина: эта ошибка могла в будущем очень дорого ей стоить. Но возвращаться назад было уже поздно.
– Ну, что сделано, то сделано, – пробормотала смелая авантюристка. – После окончания дела я сумею основательно замести следы!
Начинало смеркаться, и лежащие за домом холмы уже покрылись тенью. Только далеко на западе заходящее солнце ярко золотило пробегавшие облака.
Дойдя до конюшен, самозванка огляделась по сторонам и убедилась в том, что ее никто не видел. Со стороны фасада дома послышалось пыхтение мотора. Это вслед за Кеннанами уезжали Грегамы. До сих пор судьба берегла авантюристку! Садовники были заняты работой, и вряд ли кто-нибудь из них зайдет во двор.
Очутившись в конюшне, самозваная горничная прошлась вдоль ясель, опытным взглядом оценивая достоинства каждой лошади. Недаром она провела свое детство и юность в Кентукки, местности, которая по справедливости считается поставщицей лучших лошадей не только для Америки, но и почти для всего земного шара.
Авантюристка остановила свой выбор на великолепной вороной лошади, с тонкими ногами и длинной шеей. Увидев незнакомого человека, благородное животное заложило уши назад и скосило в сторону глаза. Но самозванка, очевидно, хорошо знала дело: в мгновение ока лошадь была взнуздана и оседлана, а затем выведена через заднюю дверь из конюшни.
Очутившись за решеткой, окружавшей двор, авантюристка зорко осмотрелась: кругом никого не было видно.
– Счастье, видимо, покровительствует мне, – довольно усмехнулась она, закутываясь в плащ. – Хорошо, что этот Кеннан так неприлично толст: это дает мне возможность сесть в седло по-мужски и закрыть, кроме того, свое платье полами макинтоша.
Легким прыжком вскочила она в седло, передернула поводья, и лошадь помчалась, как стрела, пущенная из лука опытной рукой.
Роскошные волосы авантюристки от быстрой езды скоро выбились из-под капюшона плаща и растрепались по ветру. Время от времени наездница оглядывалась назад, каждую минуту ожидая погони, но ничего похожего на это не было. Лошадь неслась легко, как ветер. Все, казалось, благоприятствовало замыслу, как вдруг на дороге встретилось препятствие в виде высокого забора. У ворот стоял какой-то старик, раскуривавший трубку.
Забор был около пяти футов высотой, но авантюристка решила перепрыгнуть его, доверяя силе лошади, если бы сторож задумал остановить ее. Но старику это и в голову не пришло и вот по какой причине.
Маленькая фигурка авантюристки, ее разгоревшееся от быстрой езды личико и пышные волосы, развевавшиеся по ветру, сделали ее очень похожей на младшую, четырнадцатилетнюю дочь Грегамов, очень любившую быструю езду и совершавшую поездки именно на той самой лошади, которую выбрала для выполнения своего замысла самозваная горничная.
Поэтому сторож широко растворил ворота, снял шляпу и вежливо поклонился мнимой барышне. А авантюристка, довольная таким счастливым оборотом дела, все мчалась и мчалась. Места эти она знала очень хорошо, знала, что до замка Брейтонов по прямой верст десять, а по сильно извивающейся дороге около двадцати, знала, что дорогу эту можно сократить до восьми, если ехать по тропинке, знала, наконец, и то, что тропинка эта не годилась для шестидесятисильного автомобиля.
Но зная некоторые преимущества своего положения, она не забывала и его минусы; так, например, она понимала, что автомобиль Грегамов ехал следом за машиной Кеннанов и что ей необходимо закончить все «дело» прежде, чем автомобили поравняются.
Отломив на ходу гибкую ветвь, она сильно ударила ею лошадь. Благородное животное, не привыкшее к хлысту, взвилось на дыбы, но затем перешло в бешеный карьер. Прошло еще четверть часа в безумной скачке, и тропинка повернула на дорогу. Теперь авантюристка мчалась прямо навстречу автомобилю.
Оторвав кусок от своей черной юбки, всадница сделала себе из него некоторое подобие маски и закрыла ею лицо.
Едущие впереди мистер и миссис Кеннан первые увидели мчавшуюся им навстречу наездницу.
– Что это такое? – произнесла миссис Кеннан, приблизив к глазам черепаховый лорнет. – Кто-то едет нам навстречу, а мужчина это или женщина – не разобрать.
– Ну, если это мужчина, – пробасил Жорж, – то он обладает довольно длинной шевелюрой. Это, по всей вероятности, Буффало Билль, – пошутил он.
– Брось свои глупые шутки, – отозвалась жена толстяка. – Я готова держать пари, что это младшая дочь Грегамов. Во-первых, это ее фигура, а, во-вторых, только она одна проделывает всевозможные экстравагантности!
– Весьма возможно, – слегка зевнул Жорж. – Я люблю эту девочку – в ней видна порода! Но поручиться за то, что это она, не могу: лица совершенно не видно.
– Господи! Да у нее совсем нет лица!
– Или если и есть, то оно черно, как лицо негра, – подтвердил мистер Кеннан, сильно обеспокоенный.
Проговорив это, он слегка дотронулся указательным пальцем до плеча Самсона. Шофер понял этот знак и сбавил ход, чтобы окончательно остановить машину. К тому же и его любопытство было сильно возбуждено. Вид наездницы в длинном плаще, с маской на лице и с волосами, спускающимися до конца стремян, был более чем оригинален.
Было самое время остановить автомобиль, чтобы избежать столкновения с быстро мчавшейся лошадью.
У самого мотора авантюристка осадила лошадь. В руке ее появился отделанный перламутром, изящный револьвер, дуло которого она направила на пассажиров экипажа.
– Руки вверх! – звонко проговорила она.
Несмотря на мелодичность, голос звенел очень решительной нотой. Все повиновались.
– Мистер Кеннан, – продолжила всадница, – не вздумайте доставать ваш револьвер, потому что тогда вам придется испытать на себе силу моего оружия, а стреляю я довольно прилично! Мне нужен ваш бумажник, а не револьвер – прошу твердо это запомнить! Затем предупреждаю миссис Кеннан, что, если она еще раз крикнет, я вынуждена буду прибегнуть к крайним мерам… Итак, начинаю с шофера. Самсон! Давайте ваш бумажник.
Самсон, великолепно знавший, что его богатый хозяин вернет ему потерю, нашел возможным даже пошутить:
– Грабительница на большой дороге – это новость! Очевидно, что дело женского равноправия идет вперед очень быстрыми шагами! – произнес он.
Затем, вынув тоненькую пачку банковских билетов, добавил:
– Я обыкновенно не вожу с собой менее миллиона, но сегодня, к несчастью, захватил несколько меньше!
Он бросил сверток всаднице, которая ловко подхватила его на лету и опустила в карман плаща.
– Великолепно! – похвалила она. – Теперь вы, мистер Кеннан! Благодарю вас! – продолжала грабительница, подхватывая объемистый бумажник толстяка.
– Наконец, – с напускным спокойствием добавила она, – я требую безделицу: тот черный ящичек, который стоит на коленях у миссис Кеннан.
Несколько секунд Кеннан смотрела на разбойницу широко раскрытыми глазами и вдруг издала резкий, тревожный крик. В ту же минуту раздался выстрел. Пуля пролетела в миллиметре от головы дамы и впилась в обитую сафьяном спинку сиденья.
Кеннан вскрикнула снова, упала на пол экипажа и спрятала голову под сиденьем шофера.
– Это предупреждение, – холодно заявила авантюристка. – Следующая пуля будет пущена в голову или сердце! Ну-с, мистер Кеннан, я жду шкатулки!
Толстяк наклонился, поднял упавшую на пол мотора шкатулку и дрожащими руками передал грабительнице, которая для этого поставила лошадь бок о бок с автомобилем.
– Очень вам благодарна! Теперь все… Или нет! – спохватилась она. – Шофер! Поверните машину так, чтобы она стала поперек дороги. Я отъезжаю… Готово… Раз, два, три!
– Интересно посмотреть, что она заставит нас делать еще? – проворчал Самсон, поворачивая руль так, чтобы автомобиль описал дугу и стал поперек дороги.
Авантюристке пора было торопиться: издалека доносилось уже пыхтение автомобиля Грегамов и басистые звуки сигнального рожка…
Раздалось два револьверных выстрела… За каждым из них следовал разрыв шины задних колес автомобиля…
На этот раз вскрикнули мистер и миссис Кеннан, уверенные в том, что выстрелы предназначались им.
Грабительница достигла своей цели! Автомобиль был испорчен и совершенно не мог двигаться, дорога была загорожена, и машина Грегамов должна была остановиться волей-неволей, так как объезда не было: с одной стороны дороги тянулся глубокий ров, с другой – только что вспаханные поля, езда по которым была совершенно невозможна…
– До свидания, джентльмены! – насмешливо крикнула авантюристка, поворачивая лошадь. Минуты через три она скрылась из вида, и тут на повороте дороги показался автомобиль Грегамов…
Глава III Бегство
Девушка поехала в восточном направлении, зная, что дорога эта приведет ее в город Перривиль, находившийся в десяти минутах ходьбы от станции. Благодаря своей остроумной тактике, она сделала немедленное преследование невозможным, а в том, что ее будут преследовать, она нисколько не сомневалась. Но… не ранее, чем через час, а через час она будет уже далеко!
Грабительница поправила, как могла, прическу, подобрав свои чудные косы и скрепив их несколькими шпильками, и сбросила маску.
Остановившись в поле, не доезжая до города, авантюристка соскочила с седла на землю, сняла плащ, так великолепно скрывавший ее фигуру, и переложила все награбленные вещи в карманы своего платья. Затем она завязала в послужившую ей маской материю шкатулку с драгоценностями. Плащ она перебросила через седло, повернула лошадь и слегка ударила ее веткой. Получив свободу, лошадь сделала несколько скачков, потом остановилась и с наслаждением принялась щипать траву, росшую по краям дороги…
Смело войдя в город, авантюристка медленно пошла по улице, заглядывая во дворы домов, будто что-то искала… Наконец она нашла то, что ей было нужно! Во дворе одного дома на туго натянутой веревке сушилось белье и между всем прочим кружевная черная шаль. Шмыгнув в ворота, грабительница огляделась, быстро сорвала с веревки шаль и так же неслышно, как вошла, удалилась. Пройдя несколько домов, она приостановилась, покрыла голову шалью и уже быстрее продолжала путь…
Теперь она могла быть спокойна: в маленьком городке, каким был Перривиль, никто не обратит внимания на девушку, вышедшую за покупками и потому надевшую на голову не шляпу, а шаль. Но шляпа все же была необходима для отъезда: появление ее в шали на станции железной дороги могло вызвать подозрение.
Дойдя до единственной площади города, грабительница вынула из кармана небольшое зеркало и осмотрела себя в него. Все было в порядке: платье нисколько не пострадало от быстрой езды, а наскоро сделанная прическа даже шла ей. Выбрав один из магазинов, авантюристка вошла в него, заранее решив быть немой как рыба на все расспросы, несомненно, любопытной, как все провинциалки, хозяйки.
Владелица магазина сидела в небольшой комнатке, находившейся рядом с магазином, и кормила своего любимца – кота. Услышав скрип двери, она вскочила и бросилась к прилавку…
– Скажите, как можно ошибиться! – начала она. – Я была уверена, что это мисс Куннингем – у нее точно такая шаль, как на вас. Чем могу служить?
Авантюристка спросила шляпу и долго рылась, прежде чем нашла более или менее подходящую среди груды каких-то блинов, с прицепленными к ним громадными ярко-зелеными бантами и пучками помятых искусственных цветов. Заплатив за покупку, грабительница удалилась, а хозяйка магазина весь вечер ломала себе голову над решением вопроса: кем могла быть покупательница, так равнодушно заплатившая за шляпу десять долларов, как будто это была покупка пачки шпилек?
Зайдя за первый попавшийся забор, авантюристка сбросила шаль и надела шляпу. Затем она вошла в магазин обуви, где купила баночку крема, несколько шнурков для ботинок и выпросила картонку из-под сапог. Очутившись снова на улице, она тщательно уложила шкатулку в коробку и завязала ее шнурком, так что получилась видимость, будто девушка несет купленную ею обувь. Теперь она смело могла идти на станцию. Но поезда? Когда идут поезда? Этого она не знала, а между тем это был очень важный вопрос, потому что если автомобиль Грегамов явится на станцию раньше – все ее «труды» окажутся напрасными!
Следы нужно было замести как можно тщательнее, а для этого, прежде всего, не следовало покупать билета, так как в руках преследователей оказалась бы лишняя путеводная нить. Садиться без билета – значит попасть в историю, а для авантюристки главное было в том, чтобы на некоторое время не привлекать к себе внимания.
Дойдя до станции, она заглянула в окошко… Начальник станции, он же кассир, рыжеволосый молодой человек, лет двадцати двух, стоял перед осколком зеркала, прибитым к стене, и с упоением занимался накручиванием жиденьких усиков, осенявших толстую верхнюю губу…
«Я, похоже, произведу впечатление на этого деревенского донжуана!» – усмехнулась грабительница, в голове которой уже сложился план действий.
Войдя в помещение станции, она не обратила ни малейшего внимания на ее начальника, а подошла к висевшему на стене «расписанию поездов» и начала изучать его. Оказалось, что минут через пять должно было пройти два скорых поезда: один в Нью-Йорк, другой из него. Поезд в Нью-Йорк шел раньше. Нащупав в кармане всегда имевшийся при ней флакон с хлороформом, она убедилась в том, что он полон, и приступила к выполнению намеченного плана.
– Ах! – томно заговорила она, бросая обворожительный взгляд на чиновника. – Я ничего не понимаю в этих расписаниях! Не поможете ли вы мне разобраться?
Он, конечно, помог. Выскочив из угла, в который забился было при появлении красавицы, юноша с жаром объяснил ей все, что она просила. Само собой понятно, что авантюристка расспрашивала о тех поездах, которые ей были не нужны. Решив ехать на восток, она требовала подробностей о поездах, шедших на запад.
Все чары кокетства были пущены в ход с целью воспламенить юношу. Это оказалось очень легким делом. Поместившись против красавицы, у двери, влюбленный в свои усы начальник станции не спускал глаз с прелестного лица своей собеседницы.
Она пожаловалась на духоту, и он кинулся отворять окна. Когда он повернулся спиной к авантюристке, она быстро откупорила флакон и зажала горлышко пальцем, готовясь к последнему действию.
Когда начальник станции, кончив свое дело, вернулся к красавице пассажирке, она держала у носа какой-то флакончик и, казалось, с наслаждением нюхала…
– Что это? Вам нехорошо? – обеспокоился юнец. – Это, вероятно, нюхательная соль?
– Н-е-е-е-т, – кокетливо улыбнулась красавица. – Это кое-что гораздо лучшее.
Тут произошло нечто совершенно неожиданное: красавица схватила левой рукой шею чиновника, а правой плотно прижала к его носу флакончик… Затем она закинула ему голову назад и заставила, таким образом, невольно вдохнуть в себя ядовитый запах хлороформа… Через минуту юный начальник станции уже лежал распростертым на полу, без сознания.
Вдали послышался свисток паровоза… Надо было торопиться!
Авантюристка, прижимая носовой платок к носу и ко рту, чтобы не дышать хлороформом, подбежала к кассе, вынула из ящика билет до Нью-Йорка, проштемпелевала его и вышла на перрон…
Дрогнув всем своим составом, поезд остановился… Отсутствие начальника станции, очень частое на американских железных дорогах, никого не удивило… Кондуктор выскочил из служебного отделения и прокричал:
– Поезд до Нью-Йорка! Пассажиры есть?
Через минуту поезд двинулся дальше… Авантюристка сидела в купе первого класса, в полной безопасности… Затем она вышла из вагона, и когда снова вернулась в него, на губах ее мелькала довольная усмешка: драгоценности хранились в карманах ее платья, а шкатулка покоилась на дне небольшой речки, через которую проехал поезд.
– Итак, я выиграла игру! – самодовольно улыбнулась грабительница. – Следы заметены! Через час я буду в моем милом Нью-Йорке, и пусть меня поищут там Ники и Дики Картеры, да, пожалуй, и все полицейские ищейки!
Глава IV Кеннан у Ника Картера
Прошло восемь дней… Ник Картер сидел в своем рабочем кабинете за письменным столом, а перед ним стоял его лакей Иосиф, ожидая ответа относительно только что переданной визитной карточки.
– Итак, Иосиф, – говорил Картер, – это толстый, низенького роста мужчина? На нем кричащего цвета жилет? Так? Бриллианты в кольце и галстучной булавке настоящие?
Иосиф кивнул в знак согласия…
– Ты не помнишь: был у нас когда-нибудь этот господин?
– Нет, мистер Картер, не был никогда.
– Гм… Это, наверное, какой-нибудь частный сыщик, намеревающийся выудить у меня нужные ему сведения.
– Позволю себе заметить, – произнес Иосиф, – что господин не похож на сыщика. Для этого лицо его слишком интеллигентно. Я не хочу этим сказать – глупо. Нет, напротив: лукавство и хитрость ярко отражаются на нем.
– Браво, Иосиф! – засмеялся Ник. – Лет через сто ты будешь светилом сыскного дела! Ну, позови сюда этого Кеннана!
Слуга вышел, но через минуту вошел снова и громко доложил:
– Мистер Жорж Кеннан!
Картер сразу узнал в нем дельца, несколько лет тому назад совершившего под другой фамилией не совсем чистые операции и, благодаря этому, очень быстро обогатившегося. Хотя столкновений с судом у Кеннана не было, но лица, подобные ему, были занесены Ником Картером в «черный список»… Сыщик всегда говорил, что такие дельцы стоят на границе дозволенного и недозволенного. Стоило не удаться какой-нибудь операции, и господа, подобные Кеннану, не побрезгуют и незаконными путями.
– М-р Кеннан? – приподнялся Картер.
– К вашим услугам, – неуклюже раскланялся толстяк.
С этими словами он подошел к сыщику и протянул ему руку, которую Картер, однако, не пожал, а просто сделал жест правой рукой, приглашая гостя садиться. Кеннан даже не заметил этого рассчитанного игнорирования и спокойно опустился в мягкое кресло. Теперь он был ярко освещен солнцем и Картеру было очень легко наблюдать за его лицом.
Кеннан, идя к Картеру, был уверен, что встретит в нем заурядный тип частного сыщика: беспокойно ласкового, услужливого, приторно любезного. Но поведение Картера невольно импонировало ему, и он начал очень смущенным тоном:
– Меня послал к вам мистер Малорей. Он сказал, что советует мне обратиться именно к вам. Вы знаете мистера Малорея?
– Знаю, – спокойно произнес Картер. – И даже считаю его одним из лучших своих друзей. Итак, вас послал ко мне Джеймс?
Кеннан поиграл перстнями на руках, чтобы блеск бриллиантов бросился в глаза сыщику, и продолжал:
– Я до сих пор думал, что для раскрытия моего дела достаточно простого заявления в полицию.
– Рекомендую вам так и поступить, – послышался спокойный ответ.
– Нет уж! Я обращаюсь к вам! Полиция в этом деле только оскандалилась!
– Возможно, – лаконично произнес сыщик.
Этот лаконизм ответов коробил Кеннана: ему было немного не по себе.
– Скажите мне, дорогой Картер… – начал толстяк.
– Мистер Картер, – поправил его сыщик.
– А… да… Э… – замялся Кеннан. – Итак, дорогой мистер Картер, вы позволите выкурить у вас сигару?
Тут он вынул из кармана массивный золотой портсигар.
– Сделайте одолжение! Прошу выкурить одну из моих, – любезно отозвался Картер, подвигая гостю сигарный ящик.
– Не откажусь, не откажусь, – потянулся Кеннан к великолепным сигарам, любимой марке сыщика. – Не откажусь, тем более что свои сигары я получил в подарок от человека, о котором до сих пор не знаю: друг он мне или враг.
– Итак, какое у вас дело? – перебил его Картер.
– О, со мною приключилась такая история, что я шлю проклятия небу каждый раз, как вспоминаю о ней!
– Охотно вам верю, мистер Кеннан, – сухо отозвался Ник Картер. – Но… поторопитесь с вашим рассказом, так как времени у меня в распоряжении немного.
– О, мой рассказ будет недолог: у моей жены украдены все бриллианты и драгоценности!
– Обыкновенное явление, – отозвался Картер.
– Да, это для вас! – загорячился толстяк. – А я потерял пятьдесят тысяч долларов! Да и то только потому, что это было куплено по случаю у одной разорившейся графини! Знаете, когда тебя умоляют купить, нет духу отказать, ведь жалко человека. Ну, я и купил!
– За четверть стоимости, – брезгливо произнес сыщик. – Недурной гешефт! Все расчет, и один только расчет!
– О, я всегда великолепно рассчитываю! – похвалил себя толстяк, совершенно не понявший тона, которым с ним говорили. – Итак, драгоценности моей жены исчезли, а наша тупоголовая полиция, провозившись с делом целую неделю, объявила мне, что украденного не вернуть и что не стоит и пытаться раскрыть это дело! Ну, скажите, разве это не возмутительно?!
– Значит, драгоценности украдены? – рассеянно вставил Ник, закуривая сигару.
– Это я уже говорил вам! – недовольным тоном произнес Кеннан. – Но как украдены? Самым наглым образом! Нас ограбили на большой дороге, чуть ли не на виду у всего города! Ну, потерю денег я еще переживу как-нибудь! Слава тебе, Господи, не разорюсь я от потери пятидесяти тысяч долларов! Но ведь это еще не все! Во-первых, жена моя от нервного потрясения захворала и лежит теперь больная; во-вторых, мы из-за этой истории поссорились с Грегамами (знаете их, мистер Картер? Это великолепное семейство!), а у меня с самим Грегамом наклевывалось дельце, на котором я бы заработал не менее ста тысяч долларов. И это вы называете обыкновенным явлением? Это насилие, наглость и больше ничего!
– Может быть. Однако, рассказывайте дальше!
– Сейчас, сейчас! Ведь за этим я и пришел к вам, мистер Картер! Видите ли, мы нарочно не сообщали ничего о деле, чтобы не напугать кого не нужно. Но нападение на таком людном месте, как дорога в Перривиль…
– Как? Перривиль? Перривиль в Коннектикуте? – живо переспросил Картер, внезапно крайне заинтересовавшийся делом.
– Ну, конечно! Вы, вероятно, слышали что-нибудь об этом деле? Хуже всех досталось бедному начальнику станции. Никто не хочет верить, что он сделался жертвой негодяйки, все говорят, что он всю штуку с хлороформом устроил сам, чтобы заинтересовать собою общественное мнение. А я уверен, что он прав! – стукнул Кеннан кулаком по столу. – Авантюристка применила хлороформ, чтобы без помехи взять билет на один из двух, проходивших в этот час, поездов. Так, между прочим, объяснили это дело и агенты главного полицейского управления!
– Расскажите мне лучше, как было дело, – прервал Картер поток слов своего посетителя.
– Ага! Вы уж извините, что я несколько уклонился от темы, – произнес Кеннан, уже свободно, не спрашивая, закурил сигару из поставленного сыщиком ящика. – Я и моя жена находились в гостях, в имении Грегамов. Имение это находится недалеко от станции Бильтман. Это было в субботу, ровно неделю тому назад, мы получили приглашение на бал от мистера Брейтона. Великолепный человек, надо вам сказать. Его оценивают миллионов на десять! Правда, толкуют что-то о торговле рабами, ну да это все пустяки. Ну-с, итак, Грегамы и я с женой отправились. Я с женой ехал на автомобиле, Грегам тоже, выехав минут через пятнадцать после нас. Наш автомобиль… Ах! Мистер Картер! Это чудо техники, наш автомобиль! Это великолепный, шестидесятисильный «мерседес»! Я с женой сидел в глубине экипажа, а шофером был мой Самсон. Ах! Что за человек этот Самсон! Днем с огнем не найдешь такого! Это, знаете ли…
– Нельзя ли рассказать покороче? – перебил Кеннана сыщик, взглянув на часы.
– С удовольствием! Я, видите ли, не мастер рассказывать и постоянно перескакиваю с одного предмета на другой. Ну-с, итак, мы едем. Проехали половину дороги, как вдруг из темноты – а уже начало смеркаться – вынырнула какая-то женская фигура. Фигура сидела верхом на лошади, по-мужски, на лице ее была черная маска, а платье было скрыто под плащом – моим собственным макинтошем, мистер Картер. К слову сказать, великолепный у меня макинтош! Ну, короче говоря, эта госпожа ограбила нас по всем правилам искусства и, держа револьвер наготове, потребовала от меня выдачи ящичка, в котором лежали драгоценности жены и который я только что перед этим взял из нью-йоркского банка.
– Но ведь вас было двое сильных мужчин против одной женщины! – презрительно проговорил Картер. – Как это вы допустили, чтобы вас дочиста ограбили?
– Вам хорошо говорить, мистер Картер, – обидчиво отозвался толстяк, – а эта девочка, к слову сказать, восхитительный чертенок, великолепно владела револьвером. Когда жена издала крик, то она выстрелила, причем пуля пролетела на расстоянии миллиметра от головы! Затем грабительница велела Самсону поставить автомобиль поперек дороги. Ему оставалось только повиноваться. А когда он исполнил требование, то она двумя меткими выстрелами прострелила задние шины, и наш экипаж не мог двинуться с места ни на один дюйм!
– Каким же образом грабительница оказалась одетой в ваш макинтош? – задал вопрос Ник.
– Да! Это тоже целая история! – произнес Кеннан, почесывая за ухом. – Ну-с, все это оттого, что я начал вам рассказ с середины, да и вы меня еще торопите. Благодаря своей остроумной стрельбе по шинам негодяйка имела полную возможность удрать. Пока мы натягивали новые шины, пока доехали до города, оттуда до станции – времени прошло немало. Последние два поезда, шедшие один на восток, а другой на запад, давным-давно уже были в конечных пунктах. В помещении станции, словно выброшенный на берег кашалот, лежал отравленный хлороформом начальник, а в каморке воняло, словно в десяти аптеках, вместе взятых! Ну-с, вернулись мы к Грегамам… Тут началась новая история! Жены наши, что называется, вцепились друг другу в волосы, и Мари кричала хозяйке, чтобы та вернула ей похищенные вещи. Надо вам сказать, что у Грегамов есть четырнадцатилетняя дочь, сорвиголова, из-за которой уже застрелился один юноша и которая очень любит всякие экстравагантности. Вот жена и подумала, что вся эта история – глупая шутка этой девочки! Миссис Грегам, конечно, вознегодовала – и началась баталия. Я не могу быть в претензии на жену за такое предположение, потому что негодяйка была именно на той лошади, на которой обыкновенно ездила эта девица. Той, конечно, не трудно было доказать свое алиби, и в итоге пришлось извиниться! Ну, вы ведь знаете: можно всяко извиниться! Одним словом, жена это сделала в такой оскорбительной форме, что нам пришлось уехать от Грегамов и мое дело с Биллем не состоялось!
– А вы не знаете, – внутренне смеясь, спросил сыщик, – кто была эта грабительница? Может быть, она похожа вот на эту?
С этими словами Картер вынул из лежавшего на столе альбома фотографию и показал ее толстяку.
От изумления Кеннан выронил сигару и развел руками…
– Ну, уж, признаюсь! – оторопело произнес он. – Это, однако, черт знает что такое! Ну, да, конечно, это она, как вылитая! Она, она! Скажите, мистер Картер, разве это не прелестный чертенок, и… разве не следует ее повесить за ее наглость?
Глава V Ник Картер отказывается от расследования
– Значит, – усмехнулся Картер, захлопывая альбом, в который небрежно бросил карточку, – это и есть ограбившая вас девушка?
– Безусловно, она! Даю голову на отсечение, что это она! Такие лица не забываются!
– Я нахожу в вашем рассказе маленькое противоречие, мистер Кеннан. Вы мне говорили, что грабительница была в маске и в то же время легко узнаете ее по карточке. Кроме того, вы упоминали о том, что на ней был ваш плащ.
– Да, да! Сейчас! Видите ли, все это оттого, что я начал рассказ с середины. Когда я приехал домой, я нашел в женином будуаре вот эту самую красивую мушку, – ткнул Кеннан по направлению альбома пальцем. – На мой вопрос, кто это, жена ответила, что это горничная миссис Грегам, пришедшая помочь ей одеться. Надо вам сказать, что мы ожидали приезда нашей горничной Фанни, но та запоздала. Вот эта прелестная негодяйка и сказала поджидавшему Фанни кучеру, что он ее-то и должен доставить в замок. Так-то и случилось, что она попала к нам. Ну, а Мари, как я уже сказал, приняла ее за горничную Грегамов. Понятно, что она видела ящичек с драгоценностями. Когда мы с женою вышли, она схватила мой плащ, затем оседлала лошадь и пустилась нагонять нас. Но, должен сказать, что местность она знала превосходно, потому что поехала по тропинке, сокращавшей дорогу почти наполовину. Это, вероятно, не первый ее подвиг, мистер Картер? Я говорю так потому, что вижу ее карточку в вашем альбоме преступников.
– Ошибаетесь, мистер Кеннан! Я, напротив, уверен, что она новичок в этом деле, да и полиции о ней, наверное, ничего не известно. Фотография была снята моим помощником, сидевшим недалеко от нее.
– Вот счастье-то! – обрадовался Кеннан. – Значит, вы знаете ее местопребывание?
– К сожалению, ничего подобного. Знаю только, что меня она крайне интересует, но этот интерес не имеет ничего общего с вашим делом. Это очень опасный экземпляр!
– Вполне с вами согласен, – пробормотал толстяк.
– Так вот, о ней я знаю столько же, сколько и вы! Должен вам сказать, что, по моему мнению, эта барышня с похищенными у вашей жены драгоценностями, наверное, очень далеко от Нью-Йорка. Трудно также изловить и ее сообщников, если таковые были.
– Нет, нет! – замахал руками Кеннан. – Ручаюсь вам головой, что все было выполнено ею одной. Но, как бы то ни было, вы, вероятно, скоро получите возможность схватить негодяйку. Вы ведь, конечно, беретесь за мое дело?
– Очень жаль, мистер Кеннан, – произнес Картер, вставая, – но я категорически отказываюсь от этого дела. Оно, по моему мнению, настолько запутано, что я не хочу и пытаться раскрыть его!
На лице Кеннана ясно проступило разочарование…
– Но, послушайте, дорогой мистер Картер, – заговорил он, тоже вставая и закладывая руки в карманы, – как же это так? Неужели вы отказываете мне? Я должен вам сказать, что за деньгами я не постою! Наконец, ведь и мистер Малорей почти ручался мне в том, что вы…
– Еще раз: очень сожалею, что обманул ожидания ваши и Малорея, – перебил его сыщик, – но взяться за это дело не могу – оно слишком трудное!
– Но ведь вы знаете негодяйку! У вас даже есть ее фотография!
– Если желаете, я могу подарить ее вам, – сухо произнес сыщик.
Он подошел к столу, вынул оттуда карточку и протянул ее мистеру Кеннану.
– Но я готов заплатить вам десять тысяч долларов! Такие гонорары вы получаете ведь не каждый день.
– Я не возьмусь за это дело и за миллион! – резко ответил Картер.
– Черт знает что такое! – вспылил Кеннан. – Человек заставляет меня надрывать легкие длиннейшим рассказом, выспрашивает, допытывается, а как только доходит до дела – отказывается! Это безобразие!
– Я вас очень прошу быть повежливее, – спокойно произнес Ник Картер. – Я вашего дела не беру, и принудить меня взяться за расследование не может никто!
Сыщик нажал кнопку электрического звонка и сказал вошедшему лакею:
– Иосиф, этот господин хочет уйти. Проводите его до двери.
Кеннан с удовольствием излил бы свое недовольство в грубых, вульгарных выражениях, но один взгляд на спокойное, серьезное лицо Картера подсказал ему, что такой образ действий не остался бы безнаказанным. Поэтому он ограничился тем, что вышел из комнаты, даже не поклонившись хозяину.
* * *
На другой день после неудачного визита мистера Кеннана к знаменитому нью-йоркскому сыщику в газете «New-York-Herald» появилась следующая, коротенькая по обычаю американцев, заметка:
«Картер. Вчера скончался внезапно, от разрыва сердца, Николай Картер, пятидесяти лет от роду. Перевозка тела покойного в фамильный склеп, в Ричмонд, состоится во вторник, в 12 ч. дня. Согласно воле покойного, просят не присылать венков».
Глава VI Новые лица
Через философию всех времен и народов красной нитью проходит учение о том, что человек – существо далеко не свободное, что еще до рождения ему предопределена судьба, которой он не может ни избегнуть, ни изменить. Все то, что мы принимаем обыкновенно за «случайности», есть по этому учению не что иное, как события, заранее предназначенные нам судьбой. Яснее всего учение о предопределении выражается в исламе, где очень глубоко разработана философская тема о фатализме, то есть о бесцельности борьбы с судьбой.
Вероятно, подобные мысли мелькали в голове Ника Картера после ухода от него тщеславного толстяка Кеннана. Сыщик не счел нужным говорить своему посетителю о том, что лицо, ограбившее его и его жену, стоит в тесной связи с целым рядом событий, уже давно занимавших все его мысли.
Для того чтобы сделать читателю понятным все те события, которые разыгрались после отказа Картера от расследования дела, нам придется вернуться несколько назад и рассказать о том, что именно так сильно занимало великого сыщика.
* * *
Была дождливая холодная апрельская ночь. По одной из глухих улиц западной части Нью-Йорка медленно шли два пешехода. Один из них был старик, с большой белой как снег бородой и глубоко сидящими, серьезными глазами, почти мрачно глядевшими из-под нависших густых бровей. Он шел молча, изредка только отвечая на вопросы спутника или, наоборот, задавая ему односложные вопросы.
Другой пешеход – молодой, очень элегантно одетый мужчина был, очевидно, сильно взволнован.
– Могу сказать только одно, – говорил он с дрожью в голосе, – скоро я останусь как рак на мели! Положение мое прямо-таки отчаянное! Должен сознаться, как это мне ни больно, что я всецело завишу от моего деда. Если он умрет, не оставив завещания или не упомянув в нем обо мне, то я, право, даже не знаю, что со мной будет. По окончании гимназии я не готовился ни к чему и так и остался ни на что не годным тунеядцем! Рос я трутнем, совершенно не умеющим работать! Оставь меня дед – и мне остается либо купить себе веревку, либо идти просить милостыню. А что тогда будет с моей матерью и сестрами – об этом и подумать страшно! Я умею только тратить деньги; приобретать их я совершенно не способен. Отец и дед радовались за меня, когда я тратил огромные суммы. Оба они состарились, накопляя свои миллионы, и так как сами уже не могут пользоваться благами жизни, то радуются тому, что их потомки получают на накопленные ими, стариками, деньги все удобства. Раньше мой дед был очень бережлив, почти скуп, но только по отношению к самому себе. Мать и сестер он всегда снабжал, чем только можно. Обо мне нечего и говорить: лучшего удовольствия я не мог доставить ему, как рассказывая о том, сколько денег я проиграл или сколько бутылок вина могу выпить за один вечер. Тогда он хлопал в ладоши и радовался, как маленький ребенок!
– Он, вероятно, ненормален? – спросил серьезный старик.
– Был ли он ненормален раньше, не знаю, – грустно проговорил молодой человек, но что теперь у него «не все дома» – факт несомненный! Но, знаете ли, сажать в сумасшедший дом человека, на средства которого жил все время, духу не хватает! Брать его под опеку – не имеет смысла. Ведь он еще не так стар – ему всего шестьдесят восьмой год, он еще бодр и силен. А если бы вы поговорили с ним о финансовых или торговых делах, вы бы изумились! И как горячится он иногда из-за двух-трех долларов! Словом, он гораздо разумнее своего внука, – со вздохом докончил молодой человек.
– Почему же вы теперь уверились в его ненормальности?
– Потому что у него появилась странная идея фикс. Он, видите ли, убежден в том, что профессор Аддисон – светило, сделавшее открытие мировой важности. Я, правда, многого не понимаю из этих разговоров, но все-таки уловил, что речь идет о теософии, спиритизме, гипнозе, раздвоении личности, переселении душ и телепатии. Я лично абсолютно не верю в то, что один человек может заставить другого видеть то, что случилось или случится с каким-нибудь третьим лицом зачастую за тысячи верст. Аддисон называет этот будто бы возможный фокус «раздвоением личности» и указывает на своего медиума – девушку, такую же обманщицу и негодяйку, как и он сам, – как на феномен, обладающий этой способностью. «Раздвоение личности» – ведь придумал же такое название! В своих рекламах этот негодяй говорит, что если бы он жил лет за триста до нашего времени, то его сожгли бы на костре, как колдуна. По-моему, его и теперь следует повесить на первом попавшемся фонарном столбе, чтобы он не выуживал денег из карманов доверчивых дураков!
– Вероятно, Аддисон хочет выманить известную сумму денег у вашего деда? – осведомился старик.
– Он, правда, не говорит об этом, – последовал ответ, – но я уверен, что это ему удастся. Этот, с позволения сказать, профессор нарисовал такую заманчивую картину, что возбудил алчность в старике. Видите ли, на свой капитал дедушка получает шесть, семь и даже восемь процентов, но этого ему мало! Аддисон же уверил старика, что открыл способ, посредством которого можно чуть ли не за неделю удвоить состояние. Конечно, это не более чем шантаж. Я далеко не умен, но мои мозги все же работают достаточно, чтобы видеть, что этот Аддисон перворазрядный плут.
– В чем состоит способ Аддисона? – спросил старик.
– Ах! Тут все дело, видите ли, в этом самом раздвоении личности! Мерзавец убедил дедушку, что при помощи своего медиума он может заранее предугадывать повышение и понижение курса. Вы можете себе представить, как ухватился за это дед? И вот он хочет все свое состояние пустить на эту игру. А его состояние заключает в себе больше миллионов, чем у меня пальцев на руках.
Лично мне безразлично – потеряет ли дед капитал или нет! Я уже достаточно пожил жизнью тунеядца и завидую людям, умеющим приобретать и зарабатывать. Но меня охватывает ужас, когда я представлю себе сестер! Что ожидает их? Все их образование не позволит им заработать себе щепоть соли к хлебу! Они умеют только хорошо одеваться и есть! Горе тем, кто женится на них! Если у них нет состояния или если дедушка не снабдит внучек «приличным» приданым – жизнь этих несчастных будет адом. Насколько они не знают жизни, показывает следующий факт. Несколько дней назад я увидел счет. За две блузки и такое же количество шляпок для одной из сестер следовало уплатить ни много ни мало как восемьсот пятьдесят долларов! Я отозвал сестру в сторону и заявил ей, что если дедушка умрет, не написав завещания, то нам придется чуть ли не голодать и уж во всяком случае забыть и думать о такой безумной расточительности. Вы знаете, что мне на это ответила сестра? «Ах, боже мой! – возразила она. – Если у меня не будет денег, то будет большой кредит!» Вот вам плоды полученного ею, да и всеми нами, воспитания и образования.
Я повторяю: меня охватывает ужас при мысли о матери и сестрах. И я так рад, так счастлив, что, когда в клубе я подошел к вам, вы согласились выслушать меня и помочь мне, если можно.
– Все это так, – задумчиво произнес старик. – Но буду ли я в состоянии помочь вам, это большой вопрос. Во всяком случае, сделаю все, что могу.
– В таком случае я, значит, все же в большой выгоде. Счастье уже и то, что нам удалось получить два билета на спиритический сеанс этого Аддисона. Конечно, сеансы эти совершаются под видом самых безобидных собраний в частном доме… Но и они приносят мерзавцу громадный доход, ведь каждый билет стоит ровно двадцать долларов. Многие говорят так: «Э! если все эти усыпления и ясновидения и обман, то все же одна возможность полюбоваться медиумом стоит двадцати долларов». Девчонку эту в Нью-Йорке уже прозвали «прелестный жучок». Она изящна, как лилия, глаза ее – как горное озеро… Где он подцепил ее, я не знаю, но абсолютно не верю в то, что вся та чушь, которую она городит будто бы во сне, есть откровение свыше. Это не более чем перепев того, что заранее напоет ей негодяй!
– Н-е-ет. Я бы этого не сказал, – задумчиво произнес старик. – Есть действительно в природе некоторых людей нечто необъяснимое, до чего пока еще наука додуматься не может.
– Может быть, это и так, но только не в данном случае. Я стою на своем: Аддисон плут, затеявший все свои сеансы исключительно для того, чтобы ловить на удочку простаков вроде моего дедушки.
– А вот мы и у цели, – закончил он, останавливаясь. – По всей вероятности, входных билетов будет достаточно, чтобы попасть на спиритический сеанс мистера Аддисона.
Глава VII Спиритический сеанс
Оба пешехода стояли у подъезда четырехэтажного дома старинной архитектуры. Ни в одном из окон не видно было света, и только вестибюль был слабо освещен.
Поднявшись по небольшой наружной лестнице, Роберт Брент (так звали молодого человека) нажал кнопку электрического звонка. Дверь слегка приотворилась, и из-за нее выглянуло чье-то совершенно черное лицо. Но отворивший дверь не был негром, так как черты его лица не соответствовали особенностям этой расы. Вернее всего, это был араб или марокканец.
Когда он открыл рот, чтобы задать вопрос «что вам угодно?», старику, пришедшему вместе с Брентом, бросился в глаза недостаток многих передних зубов, тогда как негры обладают великолепными зубами, сохраняющимися у них до глубокой старости. Было очевидно, что за дверью стоит белый, тщательнейшим образом выкрасивший себе лицо, шею и руки.
Брент вынул входные билеты и передал их в отверстие двери. Ложный негр тщательно проверил их и сравнил со списком, лежавшим около дверей, на стуле. Только после этого он отстегнул дверную цепочку.
Вновь пришедшие сняли шляпы и пальто и поднялись по лестнице на второй этаж дома. При этом было заметно, что молодому, как говорят, было несколько «не по себе», тогда как старик держал себя совершенно свободно.
Наверху вошедших встретил другой слуга, который и провел их в зал. Зал этот имел очень мрачный, неприветливый вид. На окнах были опущены тяжелые, не пропускающие света шторы, а газовые рожки, висевшие на стенах, были настолько привернуты, так что места отыскивать приходилось чуть ли не ощупью.
Сам зал был сделан путем разборки стен нескольких комнат.
В момент прибытия Брента и старика в зале было человек пятьдесят.
Через полчаса, однако, все места в зале были заняты и, несмотря на то что никто не разговаривал, по комнате носился тот шум, который всегда бывает там, где сойдется много народа, – нечто среднее между шорохом и стуком.
Внезапно на эстраде, устроенной в одном конце зала, появился одетый во все черное мужчина. Сидевшие в зале сразу затихли. Свет в зале совершенно потух, а на эстраде зато вспыхнул яркий электрический прожектор, лучи которого посредством рефлектора невидимая рука направила на Аддисона.
Вид «профессора» был оригинален: его бледное, до прозрачности, белое лицо обрамляли черные вьющиеся волосы. Усов не было, а острая, а-ля Генрих IV, бородка[75] придавала профессору какое-то мефистофельское выражение. Покрой его черной одежды напоминал собой тогу средневековых алхимиков, недоставало только остроконечной шапки и цепи на груди, да из-под балахона вместо туфель виднелись лакированные ботинки.
Поклонившись публике, Аддисон заговорил.
Его манера и само содержание речи сильно напоминали ярмарочные завывания бродячих цирковых артистов… Он утверждал, что обладает властью читать в умах и сердцах молодых людей и что при помощи своего медиума может узнать, что было и что будет, даже если речь идет об отдаленной местности…
– Особенно для последнего опыта, блестяще мной выполняемого, мне и нужен медиум, – распространялся «профессор». – Гипнотическая сила, выходящая из меня, делает для медиума возможным видеть все, что я захочу, что невозможно увидеть при каких бы то ни было иных условиях! Достать хорошего медиума необычайно трудно. Но благодаря моим, недосягаемым для других гипнотизеров, знаниям и опытности, мне удалось достать великолепного медиума, который очень быстро реагирует на флюиды, истекающие из моих пальцев. Это молодая дама – мисс Нора Бригтон. Сейчас вы познакомитесь с ней, а затем увидите нечто невероятное, сверхъестественное, нечто такое, что могу вам дать только я, сильнейший гипнотизер нашего времени!
Закончив свою хвастливую речь, Аддисон хлопнул в ладоши, и на эстраде появилась девушка лет девятнадцати, одетая во все белое…
Она медленно направилась вперед… Походка ее была плавной и бесшумной: она как бы скользила. Проходя мимо «профессора», она слегка кивнула ему головкой, а публике сделала поклон, нисколько не уступающий тем, которые полагаются по придворному этикету… Дойдя до переднего края эстрады, она грациозно опустилась в кресло и кокетливым жестом подобрала шлейф своего платья…
Затем начались манипуляции Аддисона. Он не употреблял обыкновенно применяемых гипнотизерами движений, он просто-напросто коснулся пальцами век медиума и вперил в девушку сосредоточившийся на одной мысли взгляд…
– Ты спишь? – наконец спросил он.
– Не совсем, – шепотом дала ответ гипнотизируемая.
При царившей в зрительном зале тишине этот шепот долетел до последних рядов.
– Не сопротивляйся одолевающей тебя потребности сна, – предупредил «профессор», – иначе мне крайне трудно вызывать твое пробуждение.
Девушка в ответ на это лишь улыбнулась… Но улыбка была полусонная: видно было, что медиум не совсем ясно отдает себе отчет в том, что совершается и говорится вокруг нее… Наконец глаза ее закрылись…
– Ты спишь? – громко спросил Аддисон.
Ответа не последовало… Спящая не сделала никакого движения, только равномерно поднимающаяся грудь свидетельствовала о том, что жизнь не покинула прекрасное тело девушки… «Профессор» взял правую руку загипнотизированной и снова произнес:
– Скажи, ты теперь спишь?
– Да. Я сплю, – тихо произнесла спящая.
– Открой глаза! – произнес Аддисон.
Девушка повиновалась… Теперь глаза ее ничего не выражали – это были прекрасные по форме, но совершенно не одухотворенные глаза сомнамбулы.
– Что ты видишь? – прозвучал вопрос.
– Я вижу… океан, – монотонным, убийственно действующим на нервы голосом начала Бригтон.
– Он покоен или на нем буря?
– На нем буря… Страшная, небывалая буря! Я вижу водяной смерч. С самого дна океана поднимает ураган воду, и она пенящимися каскадами падает на корабль.
– Ты, значит, находишься на борту судна?
– Да. Я на бриге. Он идет от тропиков.
– Почему ты это знаешь? – спросил «профессор».
– Я вижу на подводной его части массу мелких раковин, приросших к килю… Наш бриг выдержал уже несколько бурь, потому что его такелаж и мачты починены ровно настолько, чтобы доплыть до хорошего дока… Но сегодняшняя буря – самая ужасная из всех, которые перенес наш бриг.
– Рассказывай все, что ты видишь.
– Я вижу человека, сидящего на сломанном бугшприте… Этот бугшприт похож на руку тонущего, то появляющуюся над водой, то исчезающую в бездне… Человек этот что-то чинит… Работать он может только тогда, когда бугшприт появляется из воды. Это не простой матрос, а офицер, взявшийся за работу, от которой все отказались, ввиду ее опасности…
Вот корабль приподнят громадной волной к небесам, вот он брошен в пучину… И вдруг – на наш бриг несется водяная гора!.. Острый гребень ее, находящийся на уровне мачтовых верхушек, покрыт пеной, ее ребра отливают зловещим зеленовато-черным цветом. Всей своей массой обрушивается волна на судно, как бы желая раздавить его своей тяжестью… Сидящий на бугшприте теряет равновесие и падает в море…
– Но что это? Сброшенный за борт снова вынесен волной на поверхность моря!
При этих словах загипнотизированная поднялась со своего места и медленным движением протянула свою руку к публике… Зал замер… Сердца бились сильнее обыкновенного… Невольная дрожь пробегала по спине каждого зрителя… Слишком необычно было то, что происходило теперь на эстраде…
Широкоплечий мужчина в зеленом, точнее, цвета морской волны костюме был особенно сильно увлечен рассказом ясновидящей… Он приподнялся в своем кресле, широко раскрыл глаза, приоткрыл рот и застыл в этой позе. По лицу его катились слезы…
– Да, да! Море возвращает свою добычу, – продолжала ясновидящая. – Вот… он все ближе и ближе… Вот волна промчала его вдоль всего судна! Не за что ухватиться, удержаться… Несчастный проносится мимо!..
– Ага! – в каком-то экстазе закончила девушка. – На пути трепещется на воде сорванный бурей парус, с обрывками канатов… Несчастный из последних сил гребет туда, в этот маленький пруд, образованный взгорбившейся холстиной!.. Вот он уже на нем! Теперь спасение близко! С корабля ему бросают канат. Он обвязывает его вокруг пояса… Матросы тащат его наверх… Большая волна поднимает его на уровень с обер-деком… Последнее усилие – и он на корабле! Полумертвый, обессиленный, окровавленный, но он спасен!
Произнеся эти слова, Бригтон в изнеможении упала в кресло и снова закрыла глаза…
– Но это невозможно! – взволнованно произнес мужчина в костюме цвета морской волны. – Это точная передача того, что случилось со мной во время последней навигации!
Аддисон обернулся к залу…
– Я покорнейше прошу публику не говорить громко и тем самым не мешать сеансу, – проговорил он. – Это затрудняет мне мою работу, нарушая общение между мной и медиумом. Говоривший, вероятно, моряк?
– Да! Я второй штурман брига «Клементина»! Нет еще полных десяти часов, как мы стали здесь на якорь. Мы прибыли с Явы… Прошу извинить, если я помешал вашему опыту, – закончил штурман, утирая лоб красным платком…
– Конечно, если это так, то ваш возглас вполне извинителен, – любезно поклонился «профессор». – Однако, мы отвлеклись, нам предстоит еще один опыт. Сейчас ясновидящая заглянула в прошлое одного из присутствующих; теперь она сделает то же самое с будущим. Оговариваюсь, опыт может не удаться, но я во всяком случае попытаюсь.
С этими словами Аддисон подошел к мисс Бригтон и снова взял ее правую руку, бессильно лежавшую у нее на коленях…
Глава VIII «Раздвоение личности»
На вопрос «профессора», спит ли она, ясновидящая произнесла усталым голосом:
– Ах! Я так устала, так устала!
– Ну еще немного, Нора, – ободрил «профессор». – Открой глаза и начинай. Я приказываю тебе заглянуть теперь в будущее одного из нас… Ну? Что ты видишь?
Некоторое время ясновидящая молчала… Затем она встала, провела несколько раз рукой по лбу, как бы отгоняя какие-то мысли, и начала медленно, словно взвешивая каждое слово:
– Я вижу… старика… старого, седого мужчину… Он немного хромает, а потому ходит с палкой с золотым набалдашником… Он носит либо очки, либо пенсне, это я вижу по красным полосам на носу… Но теперь ни очков, ни пенсне у него нет – их у него отобрали, так как он слаб в ногах, может упасть и порезаться… Ему не дают носить при себе острых вещей, все по той же причине…
– Как это «не дают» – разве можно ему запретить? – задал вопрос «профессор».
– Таков порядок в доме, – послышался ответ ясновидящей.
– Каков порядок, Нора? Говори!
– О, там, где живет старик, железная дисциплина! Несчастный старик в сумасшедшем доме! Это так ужасно – быть в сумасшедшем доме!
– Разве этот джентльмен помешанный?
– Нет, – проговорила Нора тихо. – Он так же нормален, как вы, я и все присутствующие, но он скоро сойдет с ума, если останется в доме умалишенных, куда его отправили против его желания!
Последние слова ясновидящая почти прокричала… В задних рядах произошло какое-то движение: молодой человек привстал, как бы готовясь что-то сказать, но его снова усадил на место сидевший радом с ним старик, по виду лет шестидесяти-семидесяти.
– Ты мне можешь сказать, кто так жестоко обошелся с этим стариком? – каким-то каркающим голосом спросил Аддисон медиума.
– Это молодой человек, глава заговора, направленного против старика! Он это сделал потому, что за это ему обещана крупная сумма денег! А старик еще осыпал его благодеяниями! Бедный старик! Он пригрел змею у себя на груди… Я вижу и этого молодого человека: ему года двадцать два – двадцать три, он блондин с чудными голубыми глазами! Его открытое лицо так симпатично, что никому не придет в голову предполагать в его обладателе черную душу!
В зале раздался крик негодования, сорвавшийся с губ Роберта Брента.
Быстрым движением, напоминающим скачок хищника, Аддисон повернулся в сторону зала.
– Я прошу соблюдать полнейшую тишину, – сдержанно заявил он. – Всякий шум мешает успеху сеанса… Довольно о внешности молодого человека, – обратился он снова к Норе. – Я вовсе не хочу устраивать здесь семейного скандала! Но в целях предупреждения старика скажи, какие шаги сделаны молодым человеком в этом направлении? Ведь все, что ты говоришь, дело будущего. Итак, что предпринял молодой человек для того, чтобы упрятать своего благодетеля в сумасшедший дом?
– Всего я не вижу, – с трудом переводя дыхание, дала ответ Нора, – но я вижу, он говорил и говорит об этом со многими людьми… Я слышу слова «пансионат», «дом умалишенных»…
В зале снова послышался шум, но Аддисон уже не обратил на него внимания…
– Дальше, дальше! – торопил он.
– Молодой человек, – мерным тоном докладывала ясновидящая, – пользуется услугами одного человека… Я вижу и его. Плотный, коренастый, с проницательными глазами и таким же умом. Этот человек – гроза всех преступников! Ради высокого вознаграждения он стал на сторону юноши…
– Что же, этот сообщник – сыщик?
– Да! И он об этом сильно хлопочет. Помимо помещения старика в сумасшедший дом, он хлопочет и о том, чтобы совершенно разлучить его с преданными старику друзьями!
– А этого сыщика ты видишь или нет?
– Вижу! – твердо произнесла ясновидящая. – Но теперь у него не бритое лицо, а обросшее белой, длинной бородой. Лоб, щеки и подбородок изрыты морщинами. Все это есть, но ничего этого нет.
– Как же это: есть и нет? – деланно удивился престидижитатор.
– Он переодет и загримирован, – был ответ.
– Где он, здесь?
– Пятый ряд, третий стул, правый проход, – скороговоркой произнесла Нора. – С ним и тот, кто хотел лишить свободы своего деда.
– Имя переодетого! – резко прокаркал Аддисон.
– Трудно прочесть. Буквы стоят вверх ногами. Ага. Читаю… Его имя… Ни-ко-лай… Кар-тер!
– Дайте свет! – топнул ногой «профессор».
Зал моментально был освещен. Все вытянули шеи, заглядывая в задние ряды, на которые указывала ясновидящая.
– Джонсон! – обратился Аддисон к геркулесу-негру, стоявшему у двери. – Подойди к джентльмену с приклеенной бородой и в парике и попроси его немедленно покинуть зал! Он проник сюда под вымышленной фамилией, обманным путем получив входной билет!
– Будет выполнено! – проговорил негр, направляясь к пятому ряду.
Роберт Брент вскочил со своего места.
– Негодяй! – загремел он на весь зал. – Я сумею прекратить твои гнусные проделки!
Он, наверное, кинулся бы на Аддисона, если бы его спутник силой не удержал его.
В это время поднялся со своего места еще один зритель: лысый старик, опиравшийся на палку с золотым набалдашником. Он оперся левой рукой о спинку кресла, а правую с угрозой протянул по направлению к своему внуку.
– Прочь с глаз моих, негодяй! – старчески злобно взвизгнул он. – Ты хотел запереть своего старого дедушку в дом умалишенных?! Этого я тебе никогда не прощу!
Скандал готов был разгореться. Ник Картер (спутник Брента был не кто иной, как знаменитый нью-йоркский сыщик) схватил его за руку и насильно вывел из зала. Спустившись по лестнице вниз, они надели свои пальто и шляпы и, даже не взглянув на негра, провожавшего их, вышли на улицу.
* * *
Картер привел дрожавшего от негодования Роберта к себе на квартиру.
– Не стоит волноваться, мистер Брент, – начал он, сидя в комнате, где он обыкновенно гримировался, и тщательно смывая краску. – Вот вы выходите из себя. Что же мне-то прикажете делать? Ведь мне нанесен еще более тяжелый удар, чем вам! Я так тщательно, так искусно загримировался – и меня узнали! Сознайтесь: вы бы ведь не узнали меня под гримом?
– Ни за что, мистер Картер! – с живостью подтвердил Брент. – В этом парике, с бородой, горбом и бесчисленными морщинами вы были неузнаваемы! Ну, кто угодно, только не Ник Картер! Ведь вы изменили даже выражение своих глаз! Я уверен, что вас не узнали бы даже ваши помощники!
– Так оно и было, мистер Брент, – улыбнулся Картер. – Я увидел на улице, едучи уже к вам, моего помощника Дика. Желая проверить, насколько мне удался грим, я вышел из автомобиля, прошелся раза два перед самым носом своего двоюродного брата, как бы нечаянно наступил ему на ногу и извинился. И вот, Дик не узнал меня, а Аддисон раскрыл мое инкогнито сразу.
– Но ведь не верите же вы в раздвоение личности, телепатию и тому подобную чепуху? – с беспокойством спросил Брент.
– Как вам сказать? – пожал сыщик плечами. – Не… знаю. Может быть, в негодяе действительно есть запас магнетизма. Но если только медиум не спит, а все ее фокусы – притворство, то она губит свой талант, потому что в таком случае она гений сценического искусства!
– Я никогда бы не поверил, чтобы вы, Ник Картер…
– Подождите же! Дайте мне досказать до конца! Во всем этом «раздвоении личности» нет смысла или его очень мало. Но я готов допустить, что она действительно спала. Тогда она, значит, говорила то, что ей внушал Аддисон. Я иду даже дальше и говорю: она действительно видела те сцены, о которых говорила с эстрады! Все это достигается внушением!
– Ну, а история с бригом? Ведь не подлежит ни малейшему сомнению, что рассказ правдив с начала до конца!
– С начала до конца – это сплошной обман! – твердо проговорил Картер. – Весьма просто объясняется вся эта эффектная сцена! Аддисон имеет агентов: один из них подслушал рассказ моряка сегодня утром и передал его «профессору». Тогда он постарался, чтобы штурман «Клементины» получил входной билет на его сеанс, и феерия была готова. Второй номер был предназначен для нас с вами, мистер Брент! Я уверен даже, что входные билеты нам с вами были ловко всучены самим Аддисоном. Затем ему уже нетрудно было через того же негра узнать, где мы сидим. Этот гипнотизер – достойный соперник, и мы с ним будем биться не на жизнь, а на смерть. Во что бы то ни стало уговорите вашего дедушку не отдавать Аддисону денег – это будет для старика равносильно гибели! Повторяю: «профессор белой и черной магии» – опасный преступник. В негре, впускавшем нас, я узнал одного из известных грабителей, бежавшего из тюрьмы в Труа. Я сегодня же или завтра обыщу дом Аддисона, и тогда мы прольем свет на все это дело!
– А что из себя представляет, по вашему мнению, эта Нора? – задал вопрос Брент.
– Ну, она тоже стоит на покатой плоскости, хотя, может быть, для нее исправление еще возможно! Впрочем, все это не то! Я хотел бы знать: какими путями узнал Аддисон, что старик, бывший с вами, – я?!
Глава IX Изумительное решение
Верный своему слову, Картер на другой же день обыскал весь дом Аддисона. Вместе с «профессором» были схвачены и его слуги, из которых двое оказались опасными преступниками, бежавшими из тюрьмы… Нора Бригтон предпочла куда-то скрыться.
Однако «профессор белой и черной магии» недолго сидел в тюрьме. Благодаря связям, влиянию и деньгам ему удалось заручиться покровительством одного из коронных судей, и через три дня он был выпущен за неимением достаточных оснований к обвинению. Единственной карой Аддисону были выговор и предупреждение: впредь не устраивать где бы то ни было никаких спиритических сеансов.
В семье старика Брента долго еще не налаживалось дело спасения его капитала. Только после долгих усилий Нику Картеру и друзьям старика удалось убедить его не вверять своих денег Аддисону и не подозревать своего внука в жестоком желании – упрятать своего благодетеля в дом умалишенных.
Дела Ника Картера вдруг пошли страшно плохо: ни одно дело ему не удавалось. Казалось, кто-то невидимо читает все его мысли, проникает во все его намерения и расстраивает все его планы. Как ни наблюдал сыщик сам за «профессором», как ни выслеживали его Дик и Патси – все было напрасно. Не отыскивалось ни одного факта, ни одного намека на что-либо такое, основываясь на чем, можно бы было привлечь его к суду. А торжествующий Аддисон, знавший об этих напрасных усилиях, только улыбался при встрече с Картером и насмешливо раскланивался с ним на улице.
К этому-то времени и относилось неудачное выслеживание Диком помощницы Аддисона, Норы Бригтон, когда авантюристке удалось бежать из вагона и совершить ограбление Кеннанов.
Все эти неудачи так повлияли на Ника Картера, что он решил придумать нечто совершенно особенное для борьбы с Аддисоном. Поэтому, когда за помощью к сыщику обратился Жорж Кеннан, он категорически отказался, будучи уверен, что в случае его согласия это станет так или иначе известно «профессору» и все труды снова пропадут даром. Но в душе Картер решил употребить все свое искусство на то, чтобы передать в руки правосудия ловкого преступника.
«Я должен придумать что-нибудь небывалое! – рассуждал, ходя взад и вперед по кабинету, Картер. – Я имею дело с необыкновенным негодяем, а потому и средства борьбы с ним нужно выбирать необыкновенные. Еще посмотрим, кто останется победителем! „Хорошо смеется тот, кто смеется последним“, – говорит французская пословица. Вы бросили мне перчатку, мистер Аддисон, – я ее поднимаю! Вызов принят!»
События последнего времени и осведомленность Аддисона относительно всего, предпринимаемого против «профессора», убедили Ника Картера в том, что даже в его собственном доме есть пособники негодяя, а потому он решил изложить Дику свой план в более безопасном месте. С этой целью на другой день после посещения Кеннана он с утра ушел вместе с Диком в Центральный парк, изобилующий совершенно уединенными уголками.
Выбрав один из них, сыщик зорко осмотрел окрестности, вплотную подошел к Дику и произнес совершенно спокойным тоном:
– Завтра меня уже не будет в живых, Дик, и на тебя я возлагаю обязанность похоронить меня не позднее полудня среды в нашем фамильном склепе, в Ричмонде.
– Господи, – ужаснулся Дик, – что ты задумал? Неужели ты говоришь это серьезно?
– Вполне серьезно, дорогой Дик. Я прошу только точнейшим образом выполнить мои распоряжения. Итак, завтра утром я, по всей вероятности, буду уже покойником. Наш домашний врач констатирует разрыв сердца. Тебе известно, что последние годы у меня «пошаливает» сердце, и поэтому, что же удивительного в том, что человек такого слабого сложения, как я, погибнет от этого недуга? А, как ты полагаешь?
При таких словах Картер весело подмигнул своему кузену…
– А! Теперь я начинаю понимать, в чем дело! – радостно воскликнул Дик, у которого сразу стало легко на душе. – Только, Ник… ты играешь в опасную игру! И зачем ты так напугал меня вначале? – с упреком закончил он.
– А я, видишь ли, хотел посмотреть, обрадует ли тебя моя смерть. Ведь ты получишь в наследство мое дело и все мое состояние.
– Как тебе не совестно, Ник! Вот это уже гнусность! – полушутя-полусерьезно произнес Дик.
– Однако, шутки в сторону! – серьезно заговорил Ник. – Еще раз обращаю твое внимание на то, что мои распоряжения должны быть выполнены пунктуально, иначе все труды пропадут даром! Помни: моя смерть, погребение и все связанное с этим должны быть в глазах всех наидействительнейшими фактами, а для этого необходимо не упустить ни одной мелочи, какой бы ничтожной она ни казалась!
– Вот тут и пойми, – покачал головой Дик. – Слушай, Ник, ты просто пугаешь меня всем этим!
– Этого-то я и добиваюсь, – усмехнулся Картер, – то есть пугать тебя мне нет смысла, но я хочу ужаснуть некоторых моих, с позволения сказать, друзей. Вот они порадуются-то! Как ты думаешь? Но… дело все в том, что Ник Картер должен умереть, должен бесследно исчезнуть с лица земли.
Проговорив это, Картер понизил голос до шепота и, наклонившись к уху Дика, продолжал давать распоряжения. Время от времени Дик кивал головой в знак согласия. Иногда он также таинственно спрашивал о чем-то сыщика. Беседа продолжалась около часа.
Решено было посвятить в тайну домашнего доктора и владельца бюро похоронных процессий, личного друга Ника Картера.
– Бальзамировать тебя, однако, мы не будем, – серьезно произнес Дик.
– Ну, это можно пока оставить, – в тон ему возразил Картер, – тем более что я слышал однажды, будто бальзамирование отражается несколько вредно на живом человеке.
– А что, если вместо тебя в гроб положить восковую куклу? – предложил Дик.
Картер отрицательно покачал головой.
– Этим мы наших врагов не обманем. Шутка эта слишком избитая для того, чтобы на нее поймать Аддисона, против которого я веду войну. Нет, дорогой мой Дик! Необходимо устроить так, что, когда Аддисон так или иначе проберется на похороны, он найдет настоящего, самого настоящего Ника Картера лежащим в гробу!
– Но, повторяю, Ник, это адски рискованная игра!
– И все-таки иначе ничего не поделаешь, – твердо произнес Ник, – я должен лежать в гробу, и я должен быть похоронен заживо! Я даже настаиваю на следующем: перед тем как опустить гроб в землю, необходимо еще раз открыть крышку гроба, чтобы все видели, что я по-прежнему лежу на подушках.
Дик с сомнением покачал головой.
– Это вещь невозможная, Ник! – решительно заявил он. – Даже ты не сумеешь так симулировать смерть, чтобы подлога не заметил врач, которого, несомненно, подошлют враги. А погребение! Ник, повторяю: такая симуляция невозможна!
– И все-таки она возможна! – весело проговорил Картер. – Возможна потому, что это будет… это будет… не симуляция!
Дик досадливо махнул рукой и отвернулся…
Ник Картер подошел к своему главному помощнику и снова начал шептать ему что-то на ухо. По мере того, как сыщик говорил, лицо Дика все прояснялось и прояснялось.
– Ну, что же? По рукам? – усмехнулся Ник. – Необходимо одно – точнейшее соблюдение моих распоряжений!
– Будь спокоен, все будет исполнено!
– А что, если мы сейчас приступим к делу? – предложил Картер после небольшого размышления. – Все необходимое при мне.
– Как хочешь, – лаконично дал ответ Дик.
Затем оба вышли из парка и направились на Бродвей, главную артерию Нью-Йорка.
Глава X «Смерть» Ника Картера
Войдя в один из лучших ресторанов, сыщики заняли столик и спросили себе по стакану грога. Осмотревшись кругом и убедившись в том, что никто за ними не следит, Ник Картер вынул из кармана небольшой пузырек и вылил его содержимое в свой стакан. Во все время этой операции сыщик с самым беззаботным видом вел с Диком ничего не значащий разговор, так что со стороны можно было подумать, что за столиком сидят люди, не замышляющие ничего серьезного.
Медленно поднес Ник стакан ко рту, выпил большими глотками грог и взглянул на часы.
– Через пять минут наступит действие, – произнес он. – Итак, Дик, ты все помнишь и все исполнишь.
Молодой сыщик молча кивнул головой. Он боялся за своего двоюродного брата и учителя, к которому был привязан всеми фибрами своей души, на сердце у него было тяжело.
Надев шляпы и захватив свои трости, сыщики двинулись дальше. Идя по улице, Ник продолжал громко разговаривать о последних скачках, как вдруг остановился и схватился за сердце. Вот он побледнел, зашатался, болезненная судорога передернула его лицо, и он, как подкошенный, упал на тротуар. Дик быстро наклонился над ним, отнес его в сторону и расстегнул пиджак и жилет.
Около тела Картера собралась толпа народа. Один из зевак опустился на колени перед «трупом» и приложил ухо к его груди.
– Я врач, – объяснил он Дику свое поведение. – Это, несомненно, ваш близкий родственник?
– Да. Это мой двоюродный брат, – печально вздохнул Дик.
Опытной рукой врач расстегнул рубашку лежавшего Ника Картера, приложил ухо к груди и внимательно начал выслушивать, затем он проверил, есть ли пульс, и, поднимаясь с колен, серьезно произнес, пожимая плечами:
– Человеческая помощь здесь бессильна. Ваш двоюродный брат умер от разрыва сердца. Видите, пульса уже нет, а глаза начинают стекленеть.
При этом голос говорившего так ясно выдавал сдерживаемую радость и глаза его так блестели, что Дик сразу понял: перед ним один из шпионов Аддисона.
Молодой сыщик великолепно сыграл пришедшего в отчаяние человека. Видя его как бы невольно навертывающиеся на глаза слезы, слыша те тяжелые вздохи, которые вылетали из его груди, никто бы не сказал, что перед ним талантливый драматический артист – и не больше…
Одетый в голубой с иголочки мундир, полисмен протиснулся сквозь толпу.
– Назад! Идите, господа, по своим делам! Разойдитесь! – покрикивал он своим грубоватым голосом. – Что здесь такое? – обратился он уже к Дику. – Что за человек лежит здесь? Он болен или пьян?
– Ни то, ни другое, – печально вздохнул Дик, – он умер!
В это время взгляд полисмена упал на лицо лежавшего на тротуаре.
– Боже мой! Да это мистер Картер! – тоном искреннего сожаления воскликнул полисмен. – А вы, вероятно, мистер Дик Картер? – вежливо обратился он к Дику.
– Да, это я.
– Прикажете позвать карету скорой помощи и отвезти мистера Картера в приемный покой? – участливо произнес полисмен.
– Нет, благодарю вас! Мне нужен закрытый экипаж, чтобы перевезти тело моего кузена на квартиру.
– Будет исполнено! – приложил полисмен руку к козырьку шлема.
Тело Картера было перенесено в ближайший дом и положено на носилки. Затем, когда приехала фура, покойника осторожно вынесли на улицу, вместе с носилками поставили в верхнее отделение фуры, в нижнем поместился Дик, и фура медленно двинулась к квартире сыщика. Когда экипаж остановился у подъезда, Дик выскочил, захлопнул дверцу и быстро взбежал наверх. Там он посвятил в подробности Иду Картер, двоюродную сестру Ника Картера, Патси и Иосифа, предупредив их, чтобы они не показывали и вида, что знают о разыгрываемой комедии.
* * *
Тело Ника Картера лежало в гробу, и никому из приходивших проститься с «покойником» не приходило и в голову, что через сорок восемь часов «мертвец» встанет из гроба, не ощущая никаких последствий своей «смерти». Средство, принятое Ником, состояло из сока какого-то индийского растения. Само средство доставил «покойнику» один из его друзей, живший неподалеку от Нью-Йорка доктор, много лет проведший в Индии и сумевший выпытать несколько секретов у факиров.
Когда Картера перенесли из фуры на кровать, в квартиру был позван домашний врач, доктор Полинг, уже посвященный в суть дела. Осмотрев Ника, доктор задумчиво покачал головой.
– Никогда бы не подумал, – медленно произнес он, – что передо мной живой человек! Эти признаки смерти – поразительны! Да! Индусы во многом опередили нас! Однако, что я должен теперь сделать?
– Видите ли, – начал Дик, – собственно говоря, от вас надо бы получить свидетельство о смерти, но я решил поступить иначе. Знаете, это набросит впоследствии известную тень на ваше реноме врача. Судите сами: за знания врача не говорит тот факт, что он подписал свидетельство о смерти того человека, который потом будет свободно разгуливать по городу. Пусть это свидетельство напишет другой! Я уверен, что к вам явится некий врач! Он будет просить у вас разрешения освидетельствовать тело! Пожалуйста, допустите его к осмотру! Это очень важно для нас!
Доктор Полинг согласился и скоро ушел домой.
Согласно распоряжению Ника Картера была отправлена шифрованная телеграмма тому самому врачу, от которого исходило и индийское средство. В телеграмме, после подробной передачи всего случившегося, была просьба – приехать в Нью-Йорк. Доктор Менлов, живший в Рочестере, тотчас же согласился и уже на следующее утро дал знать, что он остановился в гостинице «Вальдорф-Астория». Дик немедленно приехал туда и встретил статного, сильного старика с ослепительно белой бородой и проницательным взглядом умных светло-карих глаз.
– Я знал, что моему другу может понадобиться препарат, – заговорил он, пожимая Дику руку. – Поэтому я и не был поражен, получив вашу телеграмму. Ну, расскажите мне, как произошло усыпление.
Дик передал все, чему был сам свидетель.
Через полчаса Менлов уже стоял у постели Ника и тщательнейшим образом исследовал тело своего друга. Кончив осмотр, он довольно улыбнулся.
– Все обстоит именно так, как и следовало ожидать, – объяснил он. – Я был уверен, что здоровый организм Ника легко перенесет этот эксперимент. Ваш брат по пробуждении не испытает даже легкой головной боли.
В это время в коридоре раздался звонок, и через минуту в комнату вошел доктор Полинг в сопровождении незнакомца, назвавшегося доктором Адамсом.
– Мистер Адамс, специалист по сердечным болезням, – представил Полинг своего спутника. – Он просил меня разрешить ему осмотр тела мистера Картера.
Перезнакомившись, врачи приступили к осмотру… Впрочем, осмотр производил один Адамс, и производил очень тщательно. Наконец он чуть ли не радостно объявил, что мистер Картер скончался от разрыва сердца, и вызвался написать свидетельство о смерти… Когда оно было готово, три врача покинули дом, оживленно беседуя о различных случаях из практики… Со стороны было видно, что в разговоре участвуют три больших знатока своего дела…
Затем Дик отправился к знакомому гробовщику и заказал ему специальный гроб, со многими, незаметными для глаз отверстиями для притока воздуха и с особенным механизмом, который давал возможность Нику по пробуждении открыть гроб простым нажимом спрятанной под изголовьем кнопки…
Когда гроб привезли на квартиру – он оказался коротким, так что пришлось делать другой… Это была военная хитрость, изобретенная все предусмотревшим Ником Картером… Оказавшийся коротким гроб был самого обыкновенного устройства и не заключал в себе никаких механизмов… Его оставили на некоторое время в квартире Картера, и Дик имел удовольствие наблюдать, как некоторые из посетителей интересовались гробом настолько, что простукивали его пальцами и ощупывали его обивку…
Второй гроб был уже тот самый, в который должно было быть положено тело «умершего»…
Перевозка тела в Ричмонд была обставлена так скромно, что вызвала удивление со стороны всех знакомых сыщика… В ответ на расспросы домашние пожимали плечами и ссылались на волю «покойного»…
На кладбище при опускании гроба в могилу присутствовали и три загадочных туриста, приехавших на автомобиле…
Дик многозначительно переглянулся с доктором Менловом… Для них было понятно, что под видом туристов скрываются шпионы Аддисона…
Перед тем как опустить гроб, крышку его открыли еще раз, так что все видели покоящееся на белом атласе тело «покойника»… Теперь сомнений в том, что похоронен именно Ник Картер, ни у кого не могло быть…
В самый день похорон Патси исчез из Нью-Йорка… Вернулся он через два дня, веселый, сияющий…
– Ну что? – спросил его Дик, разбиравший почту…
– Все в полном порядке, – с живостью отозвался Патси, – начальник «восстал из мертвых», вышел с кладбища под видом могильщика и отправился, как и было условлено, в Рочестер.
Глава XI Доктор Менлов
Через неделю после описанных событий на имя Дика пришла телеграмма, в которой Менлов просил его и Патси приехать в «Вальдорф-Асторию». Конечно, оба сыщика немедленно отправились в отель. Доктор встретил их очень любезно и пригласил к завтраку…
Дик и Патси горели нетерпением узнать что-нибудь о Нике Картере, но Менлов молчал… Понимая, что старик имел на это причины, сыщики не допытывались, а ожидали, когда доктор сам начнет разговор…
Завтракали наверху – в комнате, занимаемой доктором… Когда лакей унес посуду, оставив на столе только бутылку «Генри Клай», доктор Менлов подвинулся ближе к Дику и сказал совершенно другим голосом:
– Сделай одолжение, Дик, запри эту дверь, чтобы сюда никто не вошел.
Дик и Патси в буквальном смысле слова остолбенели… Они смотрели на говорившего во все глаза, не веря тому, что происходит перед ними. Наконец Дик нашел в себе силы спросить:
– Ник! Это ты или твой дух?
– Я, я, мой дорогой Дик! – весело рассмеялся Картер. – Всю эту комедию я разыграл для того, чтобы убедиться в совершенстве моего грима! Но помните: я теперь для вас «впредь до изменения», как пишут в официальных бумагах, – доктор Менлов. Нет ничего удивительного в том, что вы меня не узнали, дети, – продолжал Ник. – Меня до сих пор не узнают его слуги, поселившиеся здесь же в отеле. Видите ли, как мы устроили дело: в день моего «воскрешения из мертвых» доктор Менлов, переодетый старой дамой, уехал на запад, а я остался в Рочестере под видом доктора. Если бы мне пришлось остаться в Рочестере, где у Менлова сотни знакомых, я был бы в большом затруднении, но по предварительному уговору доктор сообщил заранее, что он уезжает надолго в Нью-Йорк, и таким образом, я очутился здесь. Розыски мои идут пока удачно. Один из моих друзей записал номер автомобиля, на котором приезжали на кладбище «туристы», в результате я смог узнать, что это были сам Аддисон, его помощник и Нора Бригтон, медиум «профессора». Ограбление Кеннанов она провернула сама, даже без ведома своего «шефа». Благодаря тому что я могу быть спокойным, не чувствуя преследования и выслеживания, я узнал еще одну новость: между Аддисоном и Норой произошел разрыв. Он потребовал доли из награбленного у Кеннанов, на что негодяйка ответила категорическим отказом. Они разъехались. Из-за того что Аддисон не причастен к краже, у меня исчез последний предлог для его ареста. Но это не беда; думая, что я мертв, он, несомненно, начнет свою преступную деятельность – и попадется! Старик Брент, кажется, образумился: по крайней мере, он ни одного цента на сделки Аддисона не дает.
– А как обстоит дело с медиумом? – осведомился Дик.
– А! Это дело совершенно самостоятельное. После разрыва с Аддисоном грабительница уехала от него и живет отдельно. Так как ты, Дик, несколько потерпел от нее и неоднократно был ею обманут, то я думаю, что именно тебе следует отправиться к ней с визитом. Арестовав ее, приступи к обыску. Драгоценности еще не проданы, она, вероятно, хочет оставить их для себя, конечно, предварительно изменив вид украшений. Итак, Нора Бригтон – твоя добыча, Дик.
– Ты дивный человек, Ник! – восторженно воскликнул молодой сыщик. – Знаешь, мне несколько раз уже снилось, что я арестовываю негодяйку и отнимаю у нее похищенные драгоценности!
– Ну вот, твой сон и сбывается, – рассмеялся Картер.
– А где же теперь Нора? – спросил Дик.
– Да! Это не легко было установить, – улыбнулся Ник. – Если бы я попросил тебя выяснить это, тебе потребовалось бы немало времени. Итак, слушай: живет она в Нью-Рошеле, в одном из лучших пансионов, под видом француженки (впрочем, она, насколько я понимаю, на самом деле француженка) Ины Коррет. В настоящее время она тратит те деньги, которые были в бумажнике мистера Кеннана. Сделай все умненько, Дик, – пошутил Картер. – Не следует делать огласки. До Нью-Рошеля поезжай в автомобиле: это займет не более четырех часов.
– Великолепно! – радостно вскричал Дик. – Завтра утром я арестую барышню! Это для меня такое удовольствие, такое удовольствие, что ты и представить себе не можешь!
Глава XII Арест грабительницы
На другой день утром автомобиль привез Дика Картера в Нью-Рошель. Остановившись в лучшей гостинице города, молодой сыщик разузнал, где живет богатая иностранка Ина Коррет, и, приказав шоферу ждать его за углом фешенебельного пансиона, вошел в подъезд большой красивой виллы.
– Черт возьми! Удобно устроилась, – пробормотал он. – Я и сам не отказался бы от житья в таком отеле.
На звонок сыщика вышла кокетливая горничная, заявила, что мисс Коррет дома, и, увидев, что посетитель одет очень элегантно, впустила его в гостиную. Здесь Дик вручил ей визитную карточку, конечно, с вымышленной фамилией. Горничная удалилась и, вернувшись через несколько минут, пригласила его следовать за собой. Дойдя до двери красного дерева, горничная указала на нее и скрылась.
Дик постучал в дверь одним пальцем.
– Entrez! – послышалось за дверью.
«Ну, если бы ты знала, кто я, ты бы так легко не впустила меня», – подумал сыщик.
Войдя в комнату, он увидел Ину Коррет, прежнюю Нору Бригтон. Она стояла у стола, слегка опершись на него рукой и удивленно смотрела на входящего мужчину.
– Вы желали видеть меня? – обратилась к нему грабительница. – Простите, где мы познакомились? Я не припомню вашей фа… Дик Картер! – внезапно перебила она себя истерическим криком.
Она положила правую руку на грудь, как бы желая сдержать сильное биение сердца, а левой рукой быстро расстегнула ворот платья. Ей стало душно.
– К вашим услугам, – насмешливо поклонился Дик. – Вы, конечно, понимаете, что вам ничего не остается, как последовать за мной?
В голове авантюристки мелькнул смелый план: она решила либо разжалобить сыщика либо увлечь его кокетничаньем. Быстро прижав батистовый платок к своим красивым глазам, она разрыдалась.
– Боже! – простонала она, падая на диван. – Всему, всему конец! И это именно в то время, когда я решила покончить с прежней жизнью, когда я мечтала стать порядочной женщиной. Пощадите меня! – опустилась она на колени перед Диком. – Я вам отдам похищенные драгоценности, но только не арестовывайте меня, не сажайте в тюрьму!
Дик невольно смутился. Слишком искренние ноты звучали в мольбе авантюристки, слишком болезненным надрывом отзывались обильно струившиеся по щекам грабительницы слезы и… слишком хороша была она сама, с ее лихорадочно блестевшими глазами, судорожно сжатыми губками и всей гибкой, очаровательной фигуркой. А она, словно угадывая, что происходит в душе сыщика, уже вынула из-за корсажа какой-то пакет.
– Вот, возьмите! – молила она. – Это бумага Германского банка в Нью-Йорке. Из нее вы увидите, что драгоценности хранятся там, в безопасном ящике.
Дик напряг всю свою силу воли, чтобы не поддаться искушению. И ему удалось справиться с минутной слабостью. А рассказ о бумаге из банка показался весьма сомнительным. Чем он был гарантирован от того, что в банке находились всего лишь ничего не стоящие побрякушки, тогда как настоящие драгоценности были спрятаны совсем в другом месте? Наконец, он просто не имел права выпускать преступницу – данная ему Ником инструкция требовала совершенно иного поведения.
– Нет! – твердо произнес он. – Ни в какие сделки с вами вступать я не могу! Вы должны немедленно последовать за мной! От вас зависит, чтобы ваш арест остался неизвестным для ваших соседей.
Авантюристка поняла, что ее выпад не удался, и закусила губу.
– Нечего делать, – произнесла она. – Придется повиноваться. Но, надеюсь, вы позволите мне переодеться?
В эту примитивную ловушку не мог попасться сыщик, подобный Дику.
– Никаких переодеваний, мисс, я допустить не могу, – слегка поклонился он.
Авантюристка бросила на Дика злобный взгляд, но ничего более не сказала. Молча надела она пальто и шляпу, молча подала руку сыщику, молча ехала всю дорогу. В пять часов дня за ней уже захлопнулась дверь тюремной камеры.
Дик был прав: по справке в банк оказались положенными ничего не стоящие браслеты и кольца с фальшивыми бриллиантами, тогда как сокровища миссис Кеннан были найдены в каминной трубе комнаты, где произошел арест авантюристки.
Удивлению Кеннанов не было границ, когда в одно прекрасное утро они получили по почте ящичек с драгоценностями и бумажник, из содержимого которого оказалось истраченным совсем немного.
А Нику Картеру еще очень долгое время пришлось скрываться под именем доктора Менлова. Противник, которого преследовал знаменитый сыщик, похоже, был неуловим. Не уступая своему преследователю в энергии, знании и уме, Аддисон проскальзывал между пальцами, исчезал именно тогда, когда его гибель казалась неминуемой, и несколько раз загонял Картера в весьма опасные ситуации, из которых сыщик выходил достойно только потому, что не ведал, что такое страх, и не терял присутствия духа даже в самые критические моменты.
Эмиль Габорио
Эмиль Габорио родился 9 ноября 1832 г. В 1860 году опубликовал свою первую книгу «Знаменитые балерины», в 1863 вышли «Обожаемые артистки», за которыми последовал ряд гораздо менее удачных произведений. Литературная карьера бытописателя нравов Парижа и его театров не удалась Габорио, и он обратился к жанру детективного романа, приключенческую канву для которого воспринял из книг Э. По, Эжена Сю, Александра Дюма и Поля Феваля, секретарем которого был одно время.
Первый же опыт – роман «Дело вдовы Леруж», опубликованный в «Pays» в 1866 году, имел огромный успех: он вызвал живой отклик в обществе, искавшем «ангела-хранителя» в лице умного и ловкого сыщика. С этого времени писательская карьера Габорио пошла в гору: были опубликованы «Преступление в Орсивале» (1867), «Дело № 113» (1867), «Рабы Парижа» (1869), «Господин Лекок» (1869) и т. д.
Влияние Габорио на европейскую литературу несомненно. Оно объясняется удивительным обаянием образа «благородного сыщика», который появляется неизменно в самую последнюю и напряженную минуту. «Господин Лекок» Габорио лег в основу произведения «Лунный камень» Уилки Коллинза, Стивенсон подражал ему в своих детективных новеллах (особенно в «Бриллианте раджи»), прославленный Конан Дойл целиком вырос из творчества Габорио, Эдгар Уоллес питался наследием Габорио, не говоря о бесчисленных ныне забытых подражателях. Романы Габорио переведены на многие языки и начиная с 1914 года не раз экранизировались.
Умер Эмиль Габорио 1 ноября 1873 года.
Дело Леруж
I
В четверг 6 марта 1862 года, на второй день Великого поста, в полицию Буживаля явились пять женщин из деревни Ла-Жоншер.
Они заявили, что их соседку, вдову Леруж, одиноко живущую в домике на отшибе, вот уже два дня никто не видел. Несколько раз к ней стучались, но тщетно. Внутрь не заглянуть – дверь заперта, окна плотно закрыты ставнями. Исчезновение хозяйки и тишина в доме насторожили соседок. Заподозрив несчастный случай, а то и преступление, они попросили, чтобы представители закона ради спокойствия соседей соблаговолили взломать дверь и проникнуть в жилище вдовы.
Буживаль – очаровательное местечко, по воскресеньям сюда стекается множество любителей и любительниц прогулок на лодках; здесь порой совершаются всякие правонарушения, но настоящие преступления редки. Поэтому комиссар сначала отказывался выполнить просьбу женщин. Но те столь долго и упорно настаивали, что он наконец махнул рукой и сдался. Вызвав бригадира жандармерии с двумя жандармами и прихватив слесаря, он вместе с ними последовал за соседками вдовы Леруж.
Деревня Ла-Жоншер приобрела некоторую известность благодаря изобретателю железнодорожной стрелки, на протяжении многих лет скорее настойчиво, чем успешно демонстрирующему публике работу своей системы. Эта захолустная деревушка раскинулась на склоне холма, возвышающегося над Сеной между Мальмезоном и Буживалем. От нее минут двадцать ходьбы до большой дороги, которая, проходя через Рюэйль и Пор-Марли, соединяет Париж с Сен-Жерменом. Ведет в деревню крутой проселок, о котором министерство путей сообщения и слыхом не слыхивало.
Кучка людей с жандармами во главе двинулась по большой дороге, которая в этом месте подходит вплотную к Сене, и вскоре свернула вправо на проселок, прорезанный на склоне холма и защищенный с обеих сторон каменной кладкой. Еще несколько минут, и экспедиция подошла к жилищу вдовы Леруж, более чем скромному, но с виду вполне приличному. Этот домик или, скорее, хижину построил, вероятно, какой-нибудь парижский лавочник – большой любитель природы, поскольку все деревья вокруг были тщательно вырублены. Узкий по фасаду, но зато вытянутый в глубину двора одноэтажный домик состоял из двух комнат и чердака. Вокруг раскинулся запущенный сад, защищенный от воров метровой оградой, сложенной из плоских камней и местами уже обвалившейся. В сад вела деревянная решетчатая калитка, подвешенная на проволочных петлях.
– Это здесь, – объявили женщины.
Комиссар полиции остановился. По пути его свита изрядно пополнилась за счет окрестных ротозеев и бездельников. Окружало его уже человек сорок.
– В сад никого не пускать, – приказал он и, выставив для верности у калитки двух жандармов, пошел к дому в сопровождении бригадира и слесаря.
Набалдашником своей залитой свинцом трости он несколько раз громко постучал сперва в дверь, затем поочередно в ставни. После каждого удара внимательно прислушивался, но, не дождавшись ответа, велел слесарю:
– Открывайте.
Тот расстегнул сумку с инструментами и достал все необходимое. Не успел он вставить отмычку в замочную скважину, как зеваки загалдели:
– Ключ! Вот ключ!
Оказывается, игравший с приятелем мальчуган лет двенадцати заметил в придорожной канаве огромный ключ, выудил его оттуда и с победным видом принес к дому.
– Давай его сюда, мальчик, – сказал бригадир, – сейчас проверим.
Ключ подошел. Комиссар и слесарь переглянулись, полные самых мрачных предчувствий.
– Худо дело, – проворчал бригадир, и они вошли в дом.
У калитки, с трудом сдерживаемая жандармами, волновалась толпа; люди вытягивали шеи, влезали на стену, только бы хоть что-нибудь увидеть.
Заподозрившие преступление, к несчастью, не ошиблись: едва ступив на порог, комиссар в этом убедился. Первая комната мрачно и красноречиво свидетельствовала о том, что в ней побывали злоумышленники. Комод и два сундука были взломаны и разворочены. Во второй комнате, служившей спальней, царил еще больший беспорядок. Казалось, здесь неистовствовал какой-то безумец и перевернул все вверх дном.
У камина, уткнувшись лицом в золу, распростерлось бездыханное тело вдовы Леруж. Щека и волосы у нее обгорели, лишь чудом огонь не перекинулся на одежду.
– Ох, негодяи! – пробормотал бригадир. – Не могли просто ограбить, обязательно нужно было убить!
– Но куда же ее ударили? – спросил комиссар. – Я не вижу крови.
– Сюда, господин комиссар, между лопаток, – ответил жандарм. – Какие две раны, черт побери! Клянусь моими нашивками, она и охнуть не успела.
Он нагнулся и притронулся к телу.
– Да она совсем холодная! Окоченение, похоже, уже проходит – видимо, убийство произошло около двух суток назад.
Комиссар, кое-как пристроившись на краешке стола, писал протокол осмотра места преступления.
– Нужно не разглагольствовать, а искать виновных, – заметил он бригадиру. – Сообщите мировому судье и мэру. Кроме того, необходимо доставить в Париж в прокуратуру это письмо. Следователь сможет быть здесь часа через два. А пока я займусь предварительным расследованием.
– Письмо отвезти мне? – спросил бригадир.
– Нет. Пошлите кого-нибудь из своих людей, а вы мне понадобитесь здесь – будете сдерживать любопытных и приводить свидетелей. Тут ничего не трогать, я расположусь в соседней комнате.
Посланный жандарм поспешил на станцию в Рюэйль, а комиссар немедленно приступил к предписанным законом предварительным опросам. Кто такая была вдова Леруж, откуда родом, чем занималась, на что и как жила? Какие были у нее привычки, характер, знакомства? Имелись ли враги, не слыла ли она скупой, не могли ли ее убить из-за денег? Это и пытался узнать комиссар.
Однако свидетели, хотя и многочисленные, осведомленностью похвастаться не могли. Показания соседей были бессодержательны, отрывочны и туманны. Вдова была не здешней, никто о ней ничего не знал. Вдобавок многие приходили не затем, чтобы что-то сообщить, а скорее в надежде поживиться известиями. Только садовница, водившая дружбу с вдовой Леруж, да хозяйка молочной, у которой покойная делала покупки, дали кое-какие не особенно важные, но, во всяком случае, точные сведения.
В конце концов после трех часов утомительных допросов, выслушав все местные пересуды и собрав воедино самые противоречивые показания и нелепые сплетни, комиссар располагал некоторыми более или менее достоверными фактами.
Два года назад, в начале 1860 года, г-жа Леруж прибыла в Буживаль с фургоном, полным мебели, белья и прочего скарба. Остановившись в гостинице, она объявила о своем намерении обосноваться в этих местах и сразу же начала присматривать дом. Найдя жилище по своему вкусу, она, не торгуясь, сняла его за 320 франков с уплатой вперед за полгода, однако арендный договор подписать отказалась.
В тот же день она въехала и почти сто франков истратила на ремонт дома. Вдове Леруж было года пятьдесят четыре – пятьдесят пять, она неплохо сохранилась и отличалась отменным здоровьем. Почему она поселилась в местах, где решительно никого не знала, – неизвестно. Предполагали, что родом она из Нормандии, так как по утрам ее часто видели в хлопчатом чепце. Пристрастие к этому ночному головному убору нисколько не мешало ей днем одеваться весьма кокетливо. Обычно она носила нарядные платья и шляпки со множеством лент, а также увешивала себя уймой украшений. Без сомнения, в свое время она жила где-то на побережье, потому что море и корабли не сходили у нее с языка.
О своем муже говорить она не любила. По ее словам, он погиб при кораблекрушении. Больше никаких подробностей о нем она не сообщала. Только однажды при трех посторонних сказала молочнице: «Ни одна женщина не была так несчастлива в браке, как я». В другой раз бросила: «Что ново, то и мило: покойный любил меня всего год».
Вдова Леруж слыла богатой или по крайней мере зажиточной, но скупой не была: однажды ссудила женщину из Мальмезона шестьюдесятью франками, не назначая срока, и с возвратом не торопила. А еще как-то дала взаймы двести франков рыбаку из Пор-Марли. Она жила в свое удовольствие, много тратила на еду, вино же заказывала целыми бочонками. Ей нравилось угощать знакомых, обеды у нее были превосходны. Когда ей делали комплименты по поводу ее богатства, она особенно не протестовала. Люди слышали, как она говорила: «Купоны я не стригу, но и не бедствую. Если мне понадобится, у меня будет больше».
Ни разу не обмолвилась она, хотя бы намеком, о своем прошлом, о родине, о семье. И хоть была чрезвычайно разговорчива, ни разу ни единого доброго слова не сказала о ком-нибудь из ближних. Можно предположить, что она повидала и жизнь, и мир. Была очень подозрительна и дома у себя запиралась, словно в крепости. По вечерам никуда не выходила; все знали, что за ужином она изрядно напивается и сразу ложится спать. Посторонних у нее видели редко: раз пять даму с молодым человеком и однажды двух мужчин – старика с орденом и юношу. Эти приезжали в роскошной карете.
В общем и целом, мнение о вдове Леруж сложилось невысокое. Речи ее частенько бывали малопристойными и странными для женщины ее возраста. Однажды слышали, как она давала молодой девушке советы самого гнусного свойства. Тем не менее колбасник из Буживаля, дела которого пошатнулись, попытался посвататься к ней. Однако она дала ему от ворот поворот, сказав, что с нее вполне довольно и одного замужества. Соседи не раз видели, как к ней приходили мужчины. Сначала это был молодой человек, похожий на железнодорожного служащего, потом высокий пожилой брюнет в блузе, отличавшийся необычайно свирепой наружностью. Полагали, что тот и другой – ее любовники.
Комиссар продолжал расспросы и записывал свидетельские показания; за этим и застал его судебный следователь. Он привез с собой начальника уголовной полиции вместе с одним из его помощников.
Следователь г-н Дабюрон, тот самый, который впоследствии, к удивлению друзей, подал в отставку и удалился на покой как раз тогда, когда перед ним открывалась карьера, был статный мужчина тридцати восьми лет, весьма привлекательной наружности, с добрым и немного печальным лицом. Это печальное выражение осталось у него после тяжелой болезни, случившейся два года назад и чуть было не сведшей его в могилу.
Исполняя должность судебного следователя с 1859 года, он очень скоро приобрел блестящую репутацию. Трудолюбивый, терпеливый, одаренный здравым и острым умом, он с редкой проницательностью умел распутать самое сложное дело, из тысячи нитей выбрать единственную, путеводную. Обладая железной логикой, он был непревзойденным мастером решать труднейшие задачи, в которых искомой величиной является преступник. Легко восходя от известного к неизвестному, он в совершенстве владел искусством собирать факты и превращать ничтожные, на первый взгляд несущественные обстоятельства в неопровержимые улики.
Однако, несмотря на все эти редкие качества, нельзя было сказать, что он рожден для подобной деятельности. Он занимался ею с содроганием и с превеликой осторожностью пользовался своей огромной властью. Ему не хватало дерзости для рискованных приемов, в результате которых проявляется истина. Г-н Дабюрон с трудом приспосабливался к иным методам, используемым без зазрения совести наиболее суровыми из его собратьев. Ему, к примеру, претило обманывать обвиняемого и ставить ему ловушки. В прокуратуре о г-не Дабюроне отзывались: «Трусоват». А все дело было в том, что при одном воспоминании об известных судебных ошибках волосы у него вставали дыбом. Ему нужны были не внутренняя убежденность, не предположения, пусть самые правдоподобные, а только самые непреложные доказательства. Он не давал себе отдыха вплоть до дня, когда обвиняемый склонит голову перед уликами. Товарищ прокурора, смеясь, даже упрекал его, что он ищет не столько преступников, сколько невиновных.
Начальником уголовной полиции в ту пору был прославленный Жевроль, которому еще предстоит сыграть важную роль в драме наших героев. Человек он был, несомненно, способный, однако ему недоставало настойчивости, а кроме того, его частенько ослепляло невероятное упрямство. Потеряв след, он не желал в этом признаваться, а тем более возвращаться назад. Он обладал замечательной отвагой и хладнокровием, и ничто не могло привести его в замешательство. Тая в сухощавом теле поистине геркулесову силу, Жевроль, не колеблясь, выходил один на один с самыми опасными преступниками.
Но главной его особенностью, гордостью и величайшим достоинством была выдающаяся, необычайная память на лица. Достаточно ему было в течение пяти минут посмотреть на человека – и все: тот навсегда запечатлевался в его памяти. Отныне Жевроль мог узнать его где угодно и когда угодно. Ни самое невероятное окружение, ни самое немыслимое стечение обстоятельств не способны были сбить его с толку. Он уверял, что, глядя на человека, запоминает только его глаза. Людей он узнавал по взгляду, не обращая внимания на черты лица.
Несколько месяцев назад в Пуасси был проведен опыт. На троих арестантов набросили покрывала, чтобы скрыть особенности сложения каждого, на головы надели плотные капюшоны с вырезами для глаз и в таком виде показали Жевролю. Он тут же, ничуть не колеблясь, назвал трех своих бывших подопечных. Только ли случай помог ему в этом?
Помощником Жевроля в ту пору был ставший на праведный путь бывший правонарушитель – великий пройдоха и весьма искусный в сыскном деле молодчик, к тому же люто завидовавший начальнику полиции, которого он считал посредственностью. Звали его Лекок.
Комиссар, начавший уже тяготиться ответственностью, встретил следователя и двух полицейских как избавителей. Он вкратце изложил факты и прочел составленный им протокол.
– Вы действовали совершенно правильно, сударь, – заявил судебный следователь, – все сделано безукоризненно, однако кое о чем вы забыли.
– О чем, господин следователь? – переполошился комиссар.
– Когда вдову Леруж видели в последний раз и в котором часу?
– Сейчас дойду и до этого. Ее видели вечером во вторник в пять двадцать. Она возвращалась из Буживаля с корзиной съестного.
– Господин комиссар, а вы уверены, что время указано точно? – поинтересовался Жевроль.
– Вполне, поскольку имеются совпадающие показания двух свидетелей – госпожи Телье и бочара, которые живут неподалеку. Они сошли с омнибуса, отправляющегося из Марли каждый час, и заметили на проселочной дороге вдову Леруж. Прибавив шагу, они догнали ее и беседовали с нею до самого ее дома.
– А что было у нее в корзине? – осведомился г-н Дабюрон.
– Этого свидетели не знают. Им известно только, что она несла две запечатанные бутылки вина да литровую бутыль водки. Вдова жаловалась на головную боль и сказала, что, хотя в канун поста принято веселиться, она собирается лечь спать.
– Ну что ж! – воскликнул начальник полиции. – Я знаю, где следует искать.
– В самом деле? – промолвил г-н Дабюрон.
– Черт возьми, да это же яснее ясного. Нужно найти высокого брюнета в блузе. Водка и вино предназначались ему. Вдова ждала его к ужину. Вот он и пришел, любезный воздыхатель.
– Однако, – осторожно вмешался явно несогласный с ним бригадир, – она ведь была нехороша собой и довольно стара.
Жевроль с насмешкой взглянул на честного жандарма.
– Да будет вам известно, бригадир, – сказал он, – что женщина при деньгах молода и мила всегда, когда ей это нужно.
– Быть может, в этом что-то есть, – отозвался следователь, – однако меня, скорее, заставляют задуматься слова вдовы Леруж: «Если мне понадобится, у меня будет больше».
– Я тоже обратил на них внимание, – поддержал его комиссар.
Но Жевроль уже не давал себе труда слушать. Словно взяв след, он принялся кропотливо изучать все уголки комнаты. Потом вдруг подскочил к комиссару.
– Не во вторник ли, – спросил он, – изменилась погода? Две недели подмораживало, а потом полило. В котором часу пошел здесь дождь?
– В половине десятого, – ответил бригадир. – Я поужинал и решил обойти танцевальные заведения, и как раз на Рыбачьей улице меня застиг ливень. За десять минут на дороге образовался слой воды с полдюйма.
– Отлично! – сказал Жевроль. – Стало быть, если этот субъект явился сюда после половины десятого, башмаки у него были в грязи; в противном случае он пришел раньше. Нашли тут чьи-нибудь следы, господин комиссар?
– Должен признаться, мы не обратили внимания.
– А вот это весьма досадно, – с неудовольствием отозвался Жевроль.
– Погодите, – сказал комиссар, – мы можем проверить, нет ли их в другой комнате. Там ничего не трогали. Мои следы и следы бригадира отличить легко. Давайте-ка посмотрим.
Комиссар отворил дверь, и Жевроль первым делом остановил г-на Дабюрона:
– Прошу вас, господин следователь, позволить мне произвести тщательный осмотр, прежде чем туда кто-либо войдет. Мне это крайне важно.
– Ну, разумеется, – согласился г-н Дабюрон.
Жевроль встал в дверях, остальные столпились у него за спиной. С этого места они могли обозреть место преступления. Все здесь, как и докладывал комиссар, было перевернуто вверх дном.
Посреди комнаты возвышался стол, накрытый тонкой белоснежной скатертью. На нем стояли изящный бокал граненого хрусталя, фарфоровая тарелка и лежал очень красивый нож. Была там и початая бутылка вина, а также бутылка водки, из которой отпили лишь несколько рюмок.
У правой стены по обе стороны окна помещались два великолепных шкафа орехового дерева с бронзовыми накладками изящнейшей работы. Шкафы были пусты, их содержимое – скомканные платья и белье – валялось по всей комнате.
В глубине у камина зиял распахнутый настежь стенной шкаф с посудой. По другую сторону камина стоял взломанный старинный секретер с треснувшей мраморной доской, в котором кто-то явно обшарил все до последнего уголка. Оторванная откидная полка болталась на одной петле, вытащенные ящики были брошены на пол.
Слева находилась развороченная постель. Даже тюфяк был вспорот.
– Никаких следов, – проворчал раздосадованный Жевроль. – Он явился до половины десятого. Теперь можно смело входить.
Начальник полиции перешагнул порог и, подойдя к трупу вдовы Леруж, опустился на колени.
– Ничего не скажешь, чистая работа, – пробормотал он. – Убийца явно не новичок. – Затем, оглянувшись по сторонам, он добавил: – Ого! Бедняжка стряпала, когда ей нанесли удар. Сковородка, ветчина, яйца – все на полу. Мерзавец не дождался ужина. Он, видите ли, торопился и убил натощак. Да, оправдаться тем, что за столом он выпил лишнюю рюмку, ему не удастся.
– Все ясно, – обратился комиссар полиции к следователю. – Убийство совершено с целью ограбления.
– Надо думать, – насмешливо ответил Жевроль. – Именно поэтому на столе и нет никакого серебра.
– Глядите-ка, в этом ящике золотые монеты! – воскликнул Лекок, который тоже шарил по всем углам комнаты. – Целых триста двадцать франков!
– Вот те на! – протянул несколько сбитый с толку Жевроль, но быстро оправился от удивления и продолжал: – Он про них забыл. Иной раз и не такое случается. Я сам видел однажды преступника, который, совершив убийство, настолько потерял голову, что забыл, зачем пришел, и убежал, так ничего и не взяв. Вероятно, наш молодчик разволновался. А может, ему помешали? Кто-то мог, например, постучать в дверь. И вот что заставляет меня в это поверить: негодяй не поленился задуть горевшую свечу.
– Да будет вам! – прервал Лекок. – Это ничего не доказывает. Может, он просто бережливый и аккуратный человек.
Полицейские обшарили весь дом, но самые тщательные их поиски не увенчались успехом: они не нашли ничего – ни единой улики, ни малейшей зацепки, которая могла бы служить отправной точкой для следствия. К тому же все документы вдовы Леруж, если таковые у нее и были, исчезли. Ни письма, ни листка бумаги – решительно ничего. Жевроль время от времени бранился и ворчал.
– Ловко! Первоклассная работа. Этот негодяй – малый не промах.
– Итак, господа? – спросил наконец г-н Дабюрон.
– Нас обставили, господин следователь, – отозвался Жевроль, – и ловко обставили! Злодей принял все возможные меры предосторожности. Но от меня он не уйдет. Уже к вечеру дюжина моих людей будет искать его. К тому же деваться ему некуда. Он ведь унес деньги и драгоценности – это его и погубит.
– При всем том, – ответил г-н Дабюрон, – с утра мы не очень-то продвинулись.
– Ну уж не знаю! Сделано все, что можно, – проворчал Жевроль.
– Черт побери! – вполголоса произнес Лекок. – А почему не позвали папашу Загоню-в-угол?
– Ну и чем бы он нам помог? – возразил Жевроль, бросив на подчиненного неприязненный взгляд.
Лекок молча опустил голову, радуясь про себя, что задел начальника за живое.
– Кто такой этот папаша Загоню-в-угол? – поинтересовался следователь. – Кажется, это прозвище я уже где-то слышал.
– Ну, ему палец в рот не клади! – воскликнул Лекок.
– Это бывший служащий ссудной кассы, богатый старик, его настоящая фамилия Табаре, – пояснил Жевроль. – В полиции он служит по той же причине, по какой Анселен стал торговым приставом, – из любви к искусству.
– И ради умножения доходов, – добавил комиссар.
– Вот уж нет! – возразил Лекок. – Он считает этот труд делом чести и нередко тратит на расследование собственные деньги. В сущности, для него это развлечение. Мы прозвали его Загоню-в-угол, потому что он вечно повторяет эту фразу. О, это дока! В деле с женой того банкира именно он догадался, что она инсценировала кражу, и доказал это.
– Верно, но он же чуть не отправил на гильотину беднягу Дерема, портняжку, которого обвиняли в убийстве жены-потаскухи, тогда как он был невиновен, – парировал Жевроль.
– Мы теряем время, господа, – прервал спор следователь и, обращаясь к Лекоку, попросил: – Разыщите этого папашу Табаре. Я много о нем наслышан и хотел бы увидеть его в деле.
Лекок убежал, Жевроль же почувствовал себя оскорбленным.
– Господин следователь, – начал он, – вы, конечно, имеете право привлекать к расследованию кого вам заблагорассудится, однако…
– Не будем ссориться, господин Жевроль, – сказал г-н Дабюрон. – Я знаю вас не первый день и высоко ценю, но сегодня наши мнения разошлись. Вы упорно настаиваете, что преступление совершил тот черноволосый, я же убежден, что вы на ложном пути.
– Полагаю, что я прав, – ответил начальник полиции, – и надеюсь доказать это. Я найду негодяя, как бы хитер он ни был.
– Именно это мне и надо.
– Только позвольте, господин следователь, дать вам, – как бы так выразиться, чтобы это не выглядело неуважительно, – дать вам совет.
– Слушаю вас.
– Так вот: я призываю вас, господин следователь, не слишком доверяться папаше Табаре.
– Вот как! И почему же?
– Он чересчур увлекается. В сыскном деле ему важен лишь успех – точь-в-точь как какому-нибудь сочинителю. А поскольку он тщеславен, как павлин, то запросто может поддаться порыву и попасть впросак. Столкнувшись с преступлением, к примеру, таким, как это, он сочтет, что способен все объяснить, не сходя с места. И впрямь, он тут же сочинит историю, которая как нельзя лучше будет соответствовать обстоятельствам. Этот Табаре воображает, что может по одному факту восстановить сцену убийства, – ну, вроде как тот ученый, что по одной кости восстанавливал облик допотопных животных[76]. Порой он угадывает верно, но частенько и ошибается. Вот, например, в деле портного, этого несчастного Дерема, если бы не я…
– Благодарю за предупреждение, – прервал его г-н Дабюрон, – не премину принять его во внимание. А сейчас, господин комиссар, нужно обязательно попытаться узнать, откуда родом эта вдова Леруж.
Вновь потянулась – на сей раз уже перед следователем – вереница свидетелей, вызываемых бригадиром. Однако они не сообщили ничего нового. По-видимому, вдова Леруж отличалась исключительной скрытностью: из всех ее речей – а почесать язык она любила – в памяти окрестных кумушек не задержалась ни одна существенная деталь.
Все допрошенные лишь старательно излагали следователю собственные предположения и доводы. Общее мнение явно склонялось на сторону Жевроля. Все в один голос обвиняли высокого черноволосого мужчину в серой блузе. Кому и быть убийцей, как не ему? Люди вспоминали его свирепый вид, наводивший страх на всю округу. Многие, пораженные его подозрительной внешностью, благоразумно его избегали. Однажды вечером он якобы угрожал женщине, в другой раз ударил ребенка. Имена женщины и ребенка назвать никто не мог, но тем не менее эти жестокие поступки были известны всем.
Г-н Дабюрон уже отчаялся внести в дело хоть какую-нибудь ясность, когда к нему привели тринадцатилетнего мальчика и бакалейщицу из Буживаля, у которой покойная покупала съестное; оба, похоже, знали что-то важное.
Первой вошла торговка. Она сказала, что слышала, как вдова Леруж говорила о своем сыне.
– Вы в этом уверены? – усомнился следователь.
– Не сойти мне с этого места! – ответила торговка. – Помню даже, что в тот вечер – это случилось вечером – она была, с позволения сказать, малость под хмельком. Просидела у меня в лавке больше часа.
– И что же она говорила?
– Как сейчас вижу, – продолжала женщина, – стоит, облокотившись о прилавок, рядом с весами, и шутит с рыбаком из Марли, папашей Юссоном, – он может вам подтвердить, – дразнит его «горе-моряком». «Вот мой муж, – сказала она, – тот был в самом деле моряк, потому что уходил в море на целые годы и всегда привозил мне кокосовые орехи. Мой сын – тоже моряк, как покойный отец, плавает на военном корабле».
– Она не упомянула, как зовут сына?
– Говорила, но не в тот раз, а в другой, когда была, не побоюсь сказать, и вовсе пьяна. Все твердила, что его зовут Жак и что она очень давно с ним не виделась.
– Не отзывалась ли она дурно о муже?
– Никогда. Говорила только, что покойный был ревнивец и грубиян, но, в сущности, добрый малый и что жилось ей с ним несладко. Умом он был слаб и вечно воображал себе невесть что. К тому же чересчур был честен – сущий простофиля.
– Навещал ли ее сын, после того как она поселилась в Ла-Жоншер?
– Мне она ничего об этом не говорила.
– Она тратила у вас много денег?
– Когда как. В месяц покупала у нас франков на шестьдесят, иногда больше – когда требовала выдержанный коньяк. Платила всегда наличными.
Больше торговка ничего не знала, и ее отпустили. Сменивший ее мальчик оказался весьма общительным. Для своих лет он выглядел высоким и крепким. У него был смышленый взгляд и живая, любопытная физиономия. Перед следователем он, казалось, вовсе не робел.
– Ну, так что же тебе известно, мальчик? – спросил следователь.
– На той неделе, в воскресенье, сударь, я видел у садовой калитки госпожи Леруж какого-то мужчину.
– В какое время дня?
– Рано утром, я как раз шел в церковь к заутрене.
– Понятно, – сказал следователь. – И мужчина этот был высокий, черноволосый, в серой блузе…
– Нет, сударь, напротив, маленький, приземистый, очень толстый и довольно старый.
– Ты не ошибаешься?
– Вот еще! – обиделся мальчик. – Я с ним разговаривал и видел его, как вас.
– Ну-ка, ну-ка, расскажи.
– Я как раз, сударь, шел мимо, когда увидел у калитки этого толстяка. Он был злющий-презлющий – просто ужас. Весь красный, даже макушка багровая. Я хорошо разглядел: он был без шляпы и почти лысый.
– И он заговорил с тобой?
– Да, сударь. Он меня заметил и окликнул: «Эй, малыш!» Я подошел. «Скажи-ка, – спросил он, – ты легок на ногу?» Я ответил: «Да». Тогда он взял меня за ухо, но не больно и сказал: «Коли так, сослужи-ка мне службу, а я дам тебе десять су. Беги к Сене. Возле пристани увидишь большое пришвартованное судно, зайдешь на него и спросишь патрона Жерве. Не беспокойся, он будет там; скажи, чтобы собирался отплывать, я готов». После этого он сунул мне в руку десять су, и я ушел.
– Как было бы приятно, – пробормотал комиссар, – если бы все свидетели были такие, как этот мальчишка.
– А теперь расскажи, как ты справился с поручением, – попросил следователь.
– Пошел на судно, сударь, нашел хозяина и передал, что было велено, – вот и все.
Жевроль, слушавший с самым живым вниманием, наклонился к уху г-на Дабюрона.
– Господин следователь, – прошептал он, – не позволите ли мне задать парнишке несколько вопросов?
– Разумеется, господин Жевроль.
– Скажи, мой юный друг, – спросил полицейский, – узнаешь ты этого человека, если увидишь снова?
– Еще бы, конечно!
– Значит, в нем было что-то особенное?
– Ну да – лицо кирпичного цвета.
– И все?
– Все, сударь.
– Но ты видел, как он был одет. На нем была блуза?
– Нет, куртка с большими карманами. Из одного торчал уголок платка в голубую клетку.
– А какие были на нем штаны?
– Не помню.
– А жилет?
– Погодите-ка, – задумался мальчик. – Жилет? По-моему, жилета не было. Да, не было, потому что… Ну конечно, вспомнил: он был без жилета, но в галстуке, концы которого были продеты в большое кольцо.
– А ты, малыш, не дурак, – с удовлетворением сказал Жевроль. – Держу пари, что, хорошенько подумав, ты вспомнишь еще что-нибудь.
Мальчик молча опустил голову. По морщинам на его юном лбу можно было догадаться, что он отчаянно напрягает память.
– Точно! – вдруг воскликнул он. – Вспомнил!
– Ну?
– Этот человек носил большие серьги.
– Браво! – вскричал Жевроль. – Примет вполне достаточно. Я его разыщу, а вы, господин следователь, можете заготовить для него вызов в суд.
– Я полагаю, что показания этого мальчика, пожалуй, самые важные, – отозвался г-н Дабюрон и, обратившись к пареньку, спросил: – Не скажешь ли, мой юный друг, что за груз был на судне?
– Вот этого не знаю, сударь: судно-то было палубное.
– Оно шло вверх или вниз по Сене?
– Но оно ведь стояло, сударь.
– Это понятно, – пояснил Жевроль. – Господин следователь спрашивает, в какую сторону был повернут нос судна: к Парижу или к Марли?
– Оба конца судна показались мне одинаковыми.
Начальник полиции разочарованно развел руками.
– Но ты, – обратился он к мальчику, – мог заметить название судна: ты ведь умеешь читать? Следует всегда смотреть, как называется судно, на которое заходишь.
– Я не видел названия, – ответил парнишка.
– Если судно стояло в нескольких шагах от причала, – вмешался г-н Дабюрон, – на него могли обратить внимание жители Буживаля.
– Господин следователь прав, – поддержал комиссар.
– Верно, – согласился Жевроль. – Да и матросы наверняка сходили на берег и заглядывали в трактир. А этот патрон Жерве, как он выглядел?
– Как все здешние речники, сударь.
Мальчик собрался уходить, но следователь остановил его.
– Прежде чем уйти, мой мальчик, скажи: говорил ты кому-нибудь об этой встрече?
– В воскресенье, вернувшись из церкви, я все рассказал матери, сударь, и даже отдал ей десять су.
– А ты ничего от нас не скрыл? – продолжал следователь. – Утаивать истину от правосудия – тяжкий проступок. Оно все равно до всего дознается, и должен тебя предупредить, что для лгунов существуют страшные наказания.
Юный свидетель покраснел как помидор и опустил глаза.
– Вот видишь, ты от нас что-то скрыл. Разве ты не знаешь, что полиции известно все?
– Простите, сударь! – воскликнул мальчик, заливаясь слезами. – Простите, не наказывайте меня, я никогда больше не буду!
– Говори же, в чем ты нас обманул?
– Сударь, этот человек дал мне не десять, а двадцать су. Десять я отдал матери, а десять оставил себе, чтобы купить шарики.
– Мой юный друг, – успокоил его следователь, – на этот раз я прощаю тебя. Но пусть это послужит тебе уроком на всю жизнь. Ступай и запомни: скрывать правду бесполезно, она всегда выйдет наружу.
II
Последние показания, добытые следователем, давали хоть какую-то надежду. Ведь и ночник во мраке сияет, словно маяк.
– Господин следователь, я хотел бы сходить в Буживаль, если вы не возражаете, – сообщил Жевроль.
– Вероятно, вам лучше немного подождать, – ответил г-н Дабюрон. – Этого человека видели в воскресенье утром. Давайте узнаем, как вела себя в тот день вдова Леруж.
Позвали трех соседок. Они в один голос заявили, что все воскресенье она провела в постели. Когда одна из соседок осведомилась у вдовы, что с ней произошло, та ответила: «Ах, этой ночью случилось нечто ужасное». Тогда этим словам никто не придал значения.
– Человек с серьгами становится для нас все важнее, – сказал следователь, когда женщины ушли. – Его необходимо найти. Это относится к вам, господин Жевроль.
– Не пройдет и недели, как я его отыщу, – ответил начальник полиции. – Сам обшарю все суда на Сене – от истока до устья. Хозяина зовут Жерве – хоть какие-то сведения в управлении судоходства я о нем добуду.
Речь его была прервана появлением запыхавшегося Лекока.
– А вот и папаша Табаре, – объявил он. – Я встретил его, когда он выходил из дома. Что за человек! Даже не захотел дождаться поезда. Уж не знаю, сколько он дал кучеру, но мы домчались сюда за четверть часа.
Быстрее, чем на поезде!
Вслед за Лекоком на пороге появился некто, чья внешность, надо признать, никоим образом не отвечала представлению о человеке, которого полиция почтила разрешением работать на нее.
Было ему лет шестьдесят, и возраст, похоже, уже давал о себе знать.
Невысокий, сухопарый и сутуловатый, он опирался на трость с резным набалдашником слоновой кости.
С его круглого лица не сходило выражение тревожного изумления; комики из Пале-Рояля сколотили бы себе состояние на такой физиономии, как у него. Маленький подбородок вошедшего был тщательно выбрит, пухлые губы свидетельствовали о простодушии, а неприятно вздернутый нос напоминал раструб инструмента, изобретенного г-ном Саксом[77]. Крохотные тускло-серые глазки с покрасневшими веками не выражали решительно ничего, однако раздражали невероятной подвижностью. Редкие прямые волосы не закрывали больших оттопыренных ушей и ниспадали челкой на покатый, точно у борзой, лоб.
Одет он был добротно и опрятно: ослепительной белизны белье, на руках шелковые перчатки, на ногах гамаши. Длинная, чрезвычайно массивная золотая цепь, на редкость безвкусная, трижды обвивалась вокруг его воротничка и скрывалась в жилетном кармане.
Папаша Табаре по прозвищу Загоню-в-угол поклонился прямо в дверях, согнув дугой свой старый позвоночник, и смиренно спросил:
– Благоволили послать за мной, господин судебный следователь?
– Да, – ответил г-н Дабюрон и подумал: «Может, он человек и способный, но по виду этого не скажешь».
– Я всецело в распоряжении правосудия, – продолжал г-н Табаре.
– Надеюсь, – сказал следователь, – вы окажетесь удачливее нас и найдете какую-либо улику, которая поможет напасть на след убийцы. Сейчас мы вам все объясним.
– Мне известно вполне достаточно, – прервал его папаша Табаре. – Лекок по дороге рассказал, что тут произошло. Я знаю столько, сколько мне нужно.
– И все-таки… – недовольно произнес комиссар.
– Положитесь на меня, господин следователь. Приступая к делу, я предпочитаю не знать подробностей и больше доверяться собственным впечатлениям. Когда тебе известно чужое мнение, волей-неволей поддаешься ему и… Впрочем, я начну расследование вместе с Лекоком.
Глазки у папаши Табаре разгорелись и сверкали, словно карбункулы. Лицо светилось от внутреннего ликования; казалось, оно лучится каждой морщинкой. Он выпрямился и стремительно ринулся во вторую комнату.
Пробыв там около получаса, он так же бегом вылетел обратно. Потом снова скрылся в ней, выскочил еще раз и почти сразу же куда-то убежал.
Следователь не преминул заметить про себя, что старик беспокоен и резв, словно гончая, идущая по следу. Его вздернутый нос вздрагивал, словно пытаясь уловить еле слышный запах убийцы. Носясь туда и сюда, папаша Табаре беспрерывно жестикулировал и говорил сам с собой: то отчитывал и бранил себя, то подбадривал, то издавал торжествующие возгласы. Лекоку он не давал ни секунды покоя и все время что-то просил у него: сперва бумагу и карандаш, потом лопату, а то вдруг потребовал немедленно добыть гипс, воду и бутылку масла.
Приблизительно через час следователь, уже начинавший проявлять признаки нетерпения, осведомился о своем добровольном помощнике.
– Трудится, – ответил бригадир. – Лежит на животе в грязи и размешивает в тарелке гипс. Говорит, что почти закончил и скоро придет.
И верно, почти тут же папаша Табаре вернулся – радостный, торжествующий, помолодевший лет на двадцать. За ним вошел Лекок, с большою осторожностью неся вместительную корзину.
– Все совершенно ясно, – заявил старичок следователю. – Теперь загнать его в угол проще простого. Лекок, дитя мое, поставь корзину на стол.
В комнату вошел Жевроль и тоже с весьма удовлетворенным видом.
– Я напал на след человека с серьгами, – сообщил он. – Судно шло вниз по реке. У меня есть точные приметы хозяина судна Жерве.
– Слушаю вас, господин Табаре, – произнес следователь.
Тот выложил на стол содержимое корзины: большой ком жирной глины, несколько больших листов бумаги и несколько еще не засохших комков гипса. Стоя перед столом, он представлял собой фигуру почти гротескную и сильно напоминал тех господ, которые выманивают на ярмарках у зрителей деньги, показывая фокусы. Одежда папаши Табаре сильно пострадала: он был весь в грязи.
– Я начинаю, – произнес он наконец с притворной скромностью. – Убийство, которым мы занимаемся, не имело своей целью ограбление.
– Напротив! – пробормотал Жевроль.
– Я докажу это с полной очевидностью, – продолжал папаша Табаре. – Я также выскажу свои скромные соображения о причине убийства, но это позже. Итак, убийца прибыл сюда до половины десятого, то есть перед дождем. Я, как и господин Жевроль, грязных следов не нашел, однако под столом, куда преступник ставил ноги, обнаружил немножко пыли. Стало быть, время мы установили. Вдова Леруж не ждала посетителя. Когда он постучал, она уже начала раздеваться и как раз заводила часы с кукушкой.
– Вот так подробности! – воскликнул комиссар.
– Установить их нетрудно, – охотно пояснил полицейский. – Осмотрите часы над секретером. Завода у них хватает часов на четырнадцать-пятнадцать, не больше – я в этом убедился. Значит, вдова, скорее всего, заводила их вечером перед сном. Как же могло случится, что они остановились на пяти часах? Вдова их трогала. Когда к ней постучались, она начала подтягивать гирю. В подтверждение моей догадки мне хотелось бы обратить ваше внимание на стул, стоящий под часами: на его обивке ясно виден отпечаток ноги. Теперь взгляните на одежду жертвы: лиф ее платья расстегнут. Торопясь открыть, она не стала его застегивать, а просто набросила на плечи старый платок.
– Черт побери! – воскликнул явно заинтригованный бригадир.
– Вдова знала пришедшего, – продолжал старик. – Об этом свидетельствует поспешность, с какой она ему открыла, и все прочее подтверждает наше предположение. Итак, убийцу сразу же впустили. Человек этот еще молод, роста немного выше среднего, изящно одетый. В тот вечер на нем был цилиндр, в руках зонтик; он курил гаванские сигары, причем с мундштуком…
– Ну извините! – воскликнул Жевроль. – Это уже слишком!
– Возможно, и слишком, – отвечал папаша Табаре, – но тем не менее правда. Если вы не отличаетесь скрупулезностью, ничем не могу помочь, но я-то человек добросовестный. Я ищу и нахожу. Вы говорите: «Это слишком»? Отлично! Благоволите бросить взгляд на эти влажные куски гипса. Это слепки с каблуков убийцы; их отпечатки, очень четкие, я обнаружил у канавы, где был найден ключ. Видите эти листы бумаги? На них перерисованный мною след целиком. Снять с него слепок я не смог: он был на песке. Взгляните: высокий каблук, крутой подъем, маленькая узкая подошва, одним словом, элегантная обувь для ухоженных ног. Поискав, вы встретите на дороге такой отпечаток дважды. Кроме того, он пять раз повторяется в саду, куда никто не заходил. Это, между прочим, доказывает и то, что убийца постучал не в дверь, а в ставень, через который пробивался свет. Входя в сад, человек перепрыгнул через грядку – на это указывает более глубокий отпечаток носка. Убийца легко преодолел почти двухметровую высоту, значит, он ловок и, следовательно, молод.
Папаша Табаре говорил негромко, но четко и решительно; взгляд его перебегал с лица на лицо, как бы следя за отражавшимся на них впечатлением.
– Вас удивила шляпа, господин Жевроль? – продолжал он. – Обратите внимание на правильный круглый след на мраморной доске секретера, которая была покрыта тонким слоем пыли. Вас поразило, что я определил рост этого человека? Потрудитесь посмотреть на верх шкафа, и вы увидите, что убийца шарил там рукой. Следовательно, он гораздо выше меня. И не говорите, что он вставал на стул: в этом случае ему было бы все видно и не пришлось бы шарить по шкафу. Вас привел в изумление зонт? Этот ком глины сохранил прекрасный отпечаток не только его острия, но и деревянного кольца, которым закреплена ткань. Может, вас озадачивает сигара? Вот окурок, подобранный мною в золе. Конец его изжеван, сохранил следы слюны? Нет. Следовательно, куривший пользовался мундштуком.
Лекок беззвучно аплодировал, даже не пытаясь скрыть восхищения.
Комиссар тоже, казалось, был восхищен, лицо следователя выражало восторг. Физиономия Жевроля заметно вытянулась. Что же до бригадира, тот просто окаменел.
– А теперь, – снова заговорил папаша Табаре, – слушайте внимательно. Молодой человек вошел. Как он объяснил свой приход в такой час, я не знаю. Ясно одно: он сказал вдове Леруж, что еще не ужинал. Славная женщина обрадовалась и тут же принялась за стряпню. То, что мы видели, она стряпала не для себя. В шкафу я нашел остатки ее ужина – она ела рыбу, и вскрытие это подтвердит. К тому же вы видите, что на столе только один бокал и один нож. Но что это за молодой человек? Вдова, очевидно, относилась к нему с почтением. В стенном шкафу есть еще чистая скатерть. Но постелила ли она ее? Нет. Для гостя она достала самое лучшее, белоснежное столовое белье. Ему она подала этот чудесный бокал, несомненно, кем-то подаренный. И наконец, совершенно очевидно, что сама она обычно не пользовалась этим ножом с ручкой из слоновой кости.
– Все верно, – пробормотал следователь, – совершенно верно.
– Вот молодой человек уселся. Пока вдова ставила сковороду на огонь, он для начала выпил бокал вина. Затем, чтобы собраться с духом, попросил водки и выпил несколько рюмок. Минут десять молодой человек боролся с собой – столько времени нужно, чтобы поджарить ветчину и яйца; как мы видим, они успели поджариться; потом встал и подошел к вдове, которая, наклонившись вперед, сидела на корточках, и нанес ей два удара в спину. Умерла она не сразу. Она привстала и схватила убийцу за руки. А он, рванувшись, резко приподнял ее и оттолкнул туда, где она сейчас и лежит. Положение трупа свидетельствует, что произошла короткая борьба. Иначе, получив удар в спину, сидевшая на корточках женщина упала бы навзничь. Убийца воспользовался острым и тонким предметом, это был, если не ошибаюсь, кусок клинка рапиры, с которого сняли наконечник и заточили. Вытерев оружие о юбку убитой, преступник оставил нам его отпечаток. На самом же убийце следов борьбы не осталось. Жертва вцепилась ему в руки, но так как своих серых перчаток он не снимал…
– Роман, да и только! – воскликнул Жевроль.
– Вы осмотрели ногти вдовы Леруж, господин начальник полиции? Нет. Так вот, осмотрите, а потом скажите, ошибаюсь ли я. Итак, женщина мертва. Что нужно убийце? Деньги, ценности? Нет, нет и еще раз нет! Он хочет найти и забрать бумаги, которые, насколько ему известно, хранятся у жертвы. Чтобы разыскать их, он переворачивает все вверх дном, обшаривает шкафы, вышвыривает белье, взламывает секретер, поскольку ключа у него нет, и даже вытряхивает матрас. В конце концов он их находит. И знаете, что он делает с этими бумагами? Сжигает, но не в камине, а в маленькой печурке в первой комнате. Цель достигнута. Что же дальше? Он убегает, захватив с собою все ценное, что смог найти, чтобы, инсценировав ограбление, направить расследование по ложному пути. Завернув добычу в салфетку, которой он пользовался за обедом, и задув свечу, убийца уходит, запирает дверь и выбрасывает ключ в канаву. Вот и все.
– Господин Табаре, – отозвался следователь, – расследование вы провели превосходно, и я уверен, что вы совершенно правы.
– Ну, что я говорил! – вскричал Лекок. – Папаша Загоню-в-угол просто великолепен!
– И неподражаем! – иронически заметил Жевроль. – Только я думаю, что этот молодой человек чувствовал себя не очень-то ловко с узелком из белой салфетки – ее ведь видно издалека.
– Ну, узелок он далеко не унес, – ответил папаша Табаре. – Поймите, он не дурак, чтобы ехать до железнодорожной станции омнибусом. Он пошел туда пешком и короткой дорогой – по берегу. А дойдя до Сены, первым делом незаметно выбросил свою ношу – если только он не хитрее, чем я предполагаю.
– Вы уверены, папаша Загоню-в-угол? – спросил Жевроль.
– Могу держать пари. Я даже послал трех человек, чтобы они под наблюдением жандарма обшарили поблизости дно Сены. Если они найдут узелок, то получат вознаграждение.
– Из вашего кармана, неугомонный старик?
– Да, господин Жевроль, из моего.
– Да только найдут ли? – пробормотал следователь.
В этот миг вошел жандарм.
– Вот, – сказал он, протягивая мокрую салфетку, в которую было завернуто столовое серебро, деньги и золотые украшения. – Это люди нашли в Сене. Они просят обещанные сто франков.
Папаша Табаре достал из бумажника банкноту и отдал жандарму.
– Что вы теперь думаете, господин следователь? – спросил он, снисходительно и гордо взглянув на Жевроля.
– Думаю, что благодаря вашей необычайной проницательности мы близки к тому…
Закончить ему помешали: явился врач, приглашенный для вскрытия.
Покончив со своими неприятными обязанностями, он смог лишь подтвердить предположения и догадки папаши Табаре. Положение трупа врач объяснил точно так же и тоже полагал, что убийству предшествовала борьба. Более того, он обнаружил на шее жертвы чуть посиневшую странгуляционную полосу – по всей вероятности, убийца схватил вдову за горло. И наконец, врач сообщил, что ела вдова Леруж примерно за три часа до смерти.
Теперь оставалось лишь собрать кое-какие вещественные доказательства, чтобы впоследствии предъявить их обвиняемому.
Папаша Табаре с необычайной тщательностью осмотрел ногти убитой и с величайшими предосторожностями извлек из-под них несколько крошечных лоскутков перчаточной кожи. Самый большой не достигал в длину и двух миллиметров, однако цвет его был хорошо различим. Сыщик отложил в сторону и лоскут юбки, о который убийца вытер оружие. Это, а также найденный в Сене сверток и обнаруженные г-ном Табаре отпечатки было все, что оставил после себя преступник.
Этого было мало, но и такая малость в глазах г-на Дабюрона приобретала величайшую ценность: она давала надежду на успех. Камень преткновения при расследовании таинственных преступлений – ошибка в установлении мотива. Если поиски принимают неверное направление, то следствие все больше и больше отдаляется от истины. Следователь был почти убежден, что теперь – благодаря папаше Табаре – уже не собьется с пути.
Настал вечер, в Ла-Жоншер следователю больше делать было нечего.
Жевроль, испытывавший неукротимое желание изловить человека с серьгами, объявил, что остается в Буживале. Он пообещал обойти до ночи все кабачки и постараться откопать новых свидетелей.
После того как комиссар и прочие откланялись, г-н Дабюрон предложил папаше Табаре ехать вместе.
– Я собирался сам просить вас оказать мне эту честь, – ответил старик.
Они вышли вместе и, естественно, заговорили о занимавшем обоих преступлении.
– Узнаем мы или нет о прежней жизни этой женщины? – произнес папаша Табаре. – Это очень важно.
– Узнаем, если бакалейщица говорила правду, – отвечал следователь. – Если муж убитой плавал, а сын тоже моряк, морское министерство быстро сообщит нам недостающие сведения. Сегодня же вечером я туда напишу.
Они добрались до станции Рюэйль и сели в поезд. Им посчастливилось: в их распоряжении оказалось целое купе первого класса.
Однако папаша Табаре приумолк. Он думал, строил догадки, сопоставлял; по его лицу можно было прочитать все движения мысли. Следователь с любопытством наблюдал за ним: его занимал характер этого необыкновенного человека, которого привела на службу на Иерусалимскую улицу такая, прямо скажем, своеобразная страсть.
– Господин Табаре, – внезапно спросил он, – скажите, вы давно служите в полиции?
– Девять лет, уже девять лет, господин следователь. Я, признаюсь, несколько удивлен, что вы до сих пор ничего обо мне не слышали.
– Нет, я, конечно, знал о вас понаслышке, но не больше, – отвечал г-н Дабюрон. – Мне хотелось дать вам возможность проявить ваши способности, потому-то мне и пришла в голову столь удачная мысль привлечь вас к этому делу. И все же интересно, что толкнуло вас на этот путь.
– Тоска, господин следователь, одиночество, скука. Я, знаете ли, далеко не всегда был счастлив.
– Мне сказали, вы богаты.
Ответом был тяжкий вздох, свидетельствовавший о скрытых от всего мира жестоких разочарованиях.
– Да, живу я в достатке, но так было не всегда, – отвечал он. – До сорока пяти лет жизнь моя была сплошное самоотречение, я терпел нелепые и бессмысленные лишения. Мой отец загубил мою молодость, испортил мне жизнь и сделал из меня жалкого неудачника.
Есть профессии, отрешиться от которых до конца невозможно. Вот и г-н Дабюрон всегда и во всем оставался немножко следователем.
– Как, господин Табаре! Виновник всех ваших несчастий – отец? – удивился он.
– Увы, это так. В конце концов я его простил, но в свое время проклинал. Да, некогда, вспоминая отца, я осыпал его всеми проклятьями, какие только может внушить самая жестокая ненависть. Это было, когда я узнал… Вам я могу довериться. Мне было двадцать пять, я зарабатывал в ссудной кассе две тысячи франков в год, и вдруг как-то утром ко мне явился отец и поведал, что он разорен и остался без средств. Он был в отчаянии, говорил о самоубийстве. Я любил отца. Разумеется, я стал его утешать и, несколько приукрасив свое положение, постарался убедить его, будто зарабатываю недурно и он не будет ни в чем нуждаться, а для начала объявил, что мы будем жить вместе. Сказано – сделано, и на двадцать лет я взвалил на себя обузу, этого старого скрягу…
– Неужели вы раскаиваетесь в своем благородном поступке, господин Табаре?
– Еще бы мне не раскаиваться! Да как только у него мой хлеб в глотке не застрял!
Г-н Дабюрон не сумел скрыть удивления, и это не ускользнуло от внимания папаши Табаре.
– Погодите меня осуждать, – продолжал он. – Представьте себе: с двадцати пяти лет мне пришлось терпеть по милости родного отца невероятные лишения. У меня не было ни друзей, ни любовных приключений, одним словом, ничего. По вечерам для приработка я переписывал бумаги у нотариуса. Отказывал себе даже в табаке. Делал все, что мог, но старик без конца ныл, оплакивал былой достаток, требовал денег на то, на се. Я лез из кожи вон, а он все равно был недоволен. Одному Богу известно, как я мучился! Не затем же я родился, чтобы жить и состариться в одиночестве, словно пес. Я создан для семейных радостей. Я мечтал жениться, любить свою милую жену, стать отцом и радоваться, глядя на резвящихся вокруг меня славных ребятишек. Ну да полно… Когда от таких мыслей у меня сжималось сердце и на глазах выступали слезы, я брал себя в руки. Я говорил себе: «Дружище, раз ты зарабатываешь всего три тысячи франков в год и у тебя на руках любимый старик отец, придется тебе задушить все чувства и остаться холостяком». И тут я повстречал девушку! Это случилось тридцать лет назад. Видите, я и сейчас не могу спокойно вспоминать! Она была хороша собой и бедна… Но, увы, я уже был старик, когда умер мой отец, этот изверг, этот…
– Господин Табаре! – укоризненно остановил его следователь.
– Уверяю вас, господин следователь, я простил его. Однако вы должны понять мой гнев. В день его смерти я нашел у него в столе бумаги на ренту в двадцать тысяч франков!
– Так он был богат?
– Да, очень богат, но и это еще не все. Неподалеку от Орлеана у него было поместье, приносившее шесть тысяч франков годового дохода. Кроме того, ему принадлежал дом – тот, в котором я живу. Мы жили в нем вместе, и я – глупец, дурень, олух царя небесного – каждые три месяца вручал привратнику квартирную плату.
– Невероятно! – вырвалось у г-на Дабюрона.
– Не правда ли? Он попросту воровал деньги у меня из кармана. Верхом насмешки было его завещание: в нем он клялся Богом, что поступил так ради моего же блага. Он написал, что хотел приучить меня к порядку и бережливости, удержать от безрассудных поступков. А мне было уже сорок пять, в течение двадцати лет я ругал себя за каждый бесцельно потраченный грош. Он просто воспользовался моим добросердечием, просто… Клянусь вам, это убило во мне всякие сыновние чувства.
Вполне оправданный гнев папаши Табаре был столь комичен, что следователь с огромным трудом удерживался от смеха, несмотря на всю горестную суть услышанного.
– Но хоть наследство-то принесло вам радость? – поинтересовался он.
– Да нет, господин следователь. Я получил его слишком поздно. Что за радость иметь вдоволь хлеба, когда не осталось зубов? Время жениться уже прошло. Я подал в отставку, чтобы уступить место тому, кто беднее меня. Через месяц я уже умирал от скуки, а поскольку никаких привязанностей у меня не было, я решил предаться какому-нибудь пороку, какой-нибудь страсти, увлечению. Я принялся собирать книги. Вы, должно быть, полагаете, что для этого необходимы определенные познания?
– Думаю, господин Табаре, что для этого нужны прежде всего деньги. Я знавал одного знаменитого библиофила, который, похоже, умел с грехом пополам читать, но уже написать собственное имя был не в состоянии.
– Это вполне возможно. Но я умею читать и прочитывал все книги, которые приобретал. Признаюсь, собирал я только то, что имеет какое-либо отношение к полиции, – мемуары, сообщения, памфлеты, трактаты, всякие рассказы, романы, – и все буквально проглатывал. Понемногу я стал чувствовать, что меня притягивает та таинственная сила, которая из недр Иерусалимской улицы наблюдает и оберегает общество, проникает повсюду, приоткрывает самые плотные завесы, изучает подоплеку всевозможных заговоров, угадывает то, что желают скрыть, знает подлинную цену человеку, цену совести и копит в своих зеленых папках самые страшные и постыдные тайны. Читая мемуары знаменитых сыщиков, захватывающие, как самые занимательные сказки, я восхищался этими людьми, наделенными острым чутьем; людьми тонкими, как шелк, упругими, как сталь, прозорливыми и коварными, всегда готовыми изобрести какой-нибудь неожиданный трюк; они преследуют преступника именем закона, пробираясь сквозь его хитросплетения, подобно индейцам Купера, идущим по следу врага в дебрях американских лесов. Мне захотелось стать винтиком этой великолепной машины, сделаться ангелом-хранителем, который помогает посрамлению злодейства и торжеству добродетели. Я попробовал и, кажется, не ошибся в выборе профессии.
– И она вам нравится?
– Я обязан ей, господин следователь, самыми радостными минутами. Сменив охоту за книгами на преследование себе подобных, я распростился со скукой. Ах, как это прекрасно! Я лишь пожимаю плечами, когда вижу, как какой-нибудь простофиля платит двадцать пять франков за право подстрелить зайца. Разве это добыча? Вот охота на человека – другое дело! Тут нужно проявить все свои способности, и это не бесславная победа. Какова дичь, таков и охотник: оба умны, сильны и хитры, оружие у них почти равное. Ох, если бы люди знали, как волнует эта игра в прятки, в которую играют преступник и полицейский, то все бы ринулись наниматься на Иерусалимскую улицу. Жаль одного: это искусство мельчает и исчезает. Настоящие преступления стали редки. Могучая порода дерзких злодеев уступила место заурядным жалким мошенникам. Несколько жуликов, которые время от времени заставляют говорить о себе, столь же глупы, сколь и трусливы. Они подписываются под совершенным преступлением и только что не оставляют свою визитную карточку. В том, чтобы их поймать, никакой заслуги нет. Убедись в самом факте преступления, а потом иди и арестовывай, кого следует.
– Мне кажется, однако, – прервал, улыбнувшись, г-н Дабюрон, – что наш убийца не так уж неловок.
– Он – исключение, господин следователь, и тем приятнее мне будет его разоблачить. Я приложу к этому все усилия, а если придется, рискну и своим добрым именем. Должен признаться, – прибавил старик с некоторым смущением, – что перед друзьями я не хвалюсь своими подвигами. Напротив, я их старательнейшим образом скрываю. Узнай мои знакомые, что Загоню-в-угол и Табаре одно и то же лицо, может случиться, что их рукопожатия станут не такими дружелюбными.
Незаметно разговор вернулся к преступлению. Собеседники условились, что назавтра папаша Табаре обоснуется в Буживале. Он взялся в течение недели опросить всех местных жителей. Следователь со своей стороны обещал сообщать ему все, что узнает нового. И как только добьется, чтобы дело вдовы Леруж было передано ему, призовет его под свое начало.
– Для вас, господин Табаре, – сказал он напоследок, – доступ ко мне всегда открыт. Когда у вас появится нужда поговорить со мной, приходите без стеснения хоть днем, хоть ночью. Я почти нигде не бываю. Вы непременно найдете меня или дома, на улице Жакоб, или в кабинете во Дворце правосудия. Я распоряжусь, чтобы вас пропускали ко мне беспрепятственно.
Поезд подъехал к перрону. Г-н Дабюрон нанял фиакр и предложил в нем место папаше Табаре, но тот отказался.
– Не стоит, – ответил он. – Как я уже имел удовольствие сообщить, я живу неподалеку отсюда на улице Сен-Лазар.
– В таком случае до завтра! – попрощался г-н Дабюрон.
– До завтра! – ответил папаша Табаре и добавил: – Мы его отыщем.
III
Дом папаши Табаре и в самом деле располагался не далее чем в четырех минутах ходьбы от вокзала Сен-Лазар. Это красивое здание содержалось в превосходном порядке и приносило, по-видимому, недурной доход, хотя плату с жильцов брали вполне умеренную.
Сам папаша Табаре жил в свое удовольствие. Он занимал большую квартиру на втором этаже с окнами на улицу; расположение комнат было прекрасное, они были хорошо обставлены, а главным их украшением стало собрание книг. Хозяйство в доме вела старая служанка, которой, когда в том была нужда, помогал привратник.
О причастности хозяина к полиции никто в доме и понятия не имел, тем паче, что, судя по внешности, он был начисто лишен той пусть небольшой доли сметливости, какой должен обладать любой, даже самый последний полицейский.
Папаша Табаре был настолько рассеян, что все принимали это за первые признаки старческого слабоумия.
Однако странности его поведения не остались незамеченными. Вечные отлучки из дому окружили его ореолом таинственности и эксцентричности. Никакой молодой гуляка не вел столь безалаберную и беспорядочную жизнь.
Папаша Табаре часто не возвращался домой к обеду или ужину, ел когда попало и что попало. Он уходил из дому в любое время дня и ночи, часто ночевал неизвестно где, а то и пропадал по целым неделям. Вдобавок к нему приходили странные личности: то в его дверь позвонит какой-то шут гороховый с манерами, не внушающими доверия, то сущий разбойник.
Столь сомнительный образ жизни до некоторой степени поколебал уважение к папаше Табаре. В нем подозревали ужасного распутника, который проматывал состояние, таскаясь по непотребным местам. «Для человека его возраста это просто срам», – говорили о нем. Он знал о сплетнях, но только посмеивался. Правда, все это не мешало многим жильцам искать общества и расположения папаши Табаре. Его приглашали отобедать, однако он почти всегда отказывался.
Он навещал в доме лишь одну особу, и с нею его связывала такая тесная дружба, что он чаще бывал у нее, чем у себя. То была вдова г-жа Жерди, уже более пятнадцати лет занимавшая квартиру на пятом этаже. Жила она вместе с сыном по имени Ноэль, в котором души не чаяла.
Ноэлю было тридцать три года, но выглядел он старше своих лет. Он был высок и хорошо сложен, черноглаз, с черными кудрявыми волосами; черты его лица были проникнуты умом и благородством. Он слыл одаренным адвокатом и уже приобрел некоторую известность. Работал он упорно, хладнокровно, вдумчиво и, будучи страстно предан своей профессии, придерживался, быть может, несколько нарочито, весьма строгих правил.
У г-жи Жерди папаша Табаре чувствовал себя как дома. К ней он относился как к родственнице, а к Ноэлю как к сыну. Не раз у него возникала мысль попросить руки очаровательной вдовы, невзирая на то что ей уже стукнуло пятьдесят; удерживал его не столько вполне возможный отказ, сколько страх перед последствиями. Сделав предложение и получив отказ, он испортил бы добрые отношения, которыми так дорожил. Между тем в завещании, составленном по всем правилам и хранившемся у нотариуса, он объявил молодого адвоката единственным своим наследником с одною лишь оговоркой: ежегодно выдавать премию в две тысячи франков тому полицейскому, который сумеет «загнать в угол» самого хитроумного преступника.
Дорога до дома заняла у папаши Табаре добрых четверть часа, хотя жил он рядом с вокзалом. Расставшись со следователем, он вновь погрузился в размышления; спешившие по своим делам прохожие со всех сторон толкали его, так что, продвигаясь к дому на один шаг, он удалялся от него на два. В который раз он повторял про себя переданные молочницей слова вдовы Леруж: «Если мне понадобится, у меня будет больше».
– В том-то все дело, – бормотал он. – Вдова Леруж знала тайну, которую какие-то богатые и высокопоставленные люди очень хотели бы скрыть. Она держала их в руках – вот источник ее доходов. Шантажировала их, но, видать, перегнула палку, и они ее убрали. Но что это за тайна и откуда она ее знала? Возможно, в молодости она служила в богатом доме. И там увидела, услышала или подметила что-то. Что? Очевидно, в этом замешана женщина. Быть может, вдова была соучастницей любовных приключений своей хозяйки? Почему бы и нет? В таком случае дело усложняется. Нужно отыскать не только эту женщину, но и ее любовника – ведь он-то и нанес смертельный удар. Если я не ошибаюсь, этот человек из дворян. Буржуа – тот просто нанял бы убийц. Этот же не отступил, совершил убийство сам, обойдясь таким образом без болтливых или глупых сообщников. Человек этот – крепкий орешек. Он дерзок и хладнокровен: убийство исполнено превосходно. Малый не оставил никаких более или менее серьезных следов. Без меня Жевроль уверовал бы в ограбление и все завел бы в тупик. На счастье, неподалеку оказался я… Нет, нет, – продолжал размышлять сыщик. – Все не так. Тут не просто любовная интрига, тут хуже. Супружеская неверность! Да нет, слишком много времени прошло…
Папаша Табаре вошел в парадную дома. Привратник, сидевший у окна своей каморки, увидел его в свете газового рожка.
– Смотри-ка, – сказал он, – хозяин вернулся.
– Сдается мне, – отозвалась его жена, – нынче вечером прелестница не пустила его на порог: вид у него удрученный, как никогда.
– Стыд и срам! – высказал суждение привратник. – Экий он растерзанный да помятый. Вот до чего довели его красотки! В один прекрасный день наденут на него смирительную рубашку и упрячут в сумасшедший дом.
– Гляди, гляди! Торчит столбом! – воскликнула жена.
Почтенный господин Табаре стоял без шляпы и, жестикулируя, бормотал:
– Нет, нить я еще пока не поймал… Уже тепло, но это не то.
Он поднялся по лестнице и позвонил, забыв, что в кармане у него ключ, подходящий ко всем дверям в доме. Отворила экономка Манетта.
– Это вы? Так поздно!
– А? Что? – встрепенулся папаша Табаре.
– Я говорю, уже половина девятого, – отвечала экономка. – Я уж думала, вы сегодня не вернетесь. Вы хоть обедали?
– Еще нет.
– Хорошо, что я держала обед на плите, можете садиться за стол.
Папаша Табаре сел и налил себе супу, однако тут же задумался и замер с ложкой в руке, пораженный только что пришедшей мыслью.
«Ей-ей, у него не все дома, – подумала экономка. – Сидит дурак дураком. И то сказать, разве человек в своем уме станет вести такую жизнь?»
Она коснулась его плеча и крикнула, точно глухому:
– Что же вы не едите? Вы не голодны?
– Голоден, голоден, – забормотал папаша Табаре, машинально стремясь избавиться от голоса, гудевшего у него над ухом, – я хочу есть, потому что с утра мне пришлось…
Он вдруг замолк, да так и остался сидеть с открытым ртом; взор его блуждал в пространстве.
– Что пришлось?… – переспросила Манетта.
– Разрази меня гром! – завопил старик, воздев сжатые кулаки к потолку. – Нашел, разрази меня гром!
Его жест был столь внезапным и стремительным, что экономка несколько струсила и попятилась к двери.
– Ну разумеется, – продолжал папаша Табаре. – Какие тут сомнения? У них был ребенок!
Манетта поспешно приблизилась и спросила:
– Ребенок?
Тут старик вдруг заметил, что служанка все слышит.
– Ах, это вы? – сердито проговорил он. – Что вам здесь нужно? Как вы осмелились торчать здесь и подслушивать, что я говорю? Сделайте одолжение, отправляйтесь на кухню и не появляйтесь, пока не позову.
«Осерчал», – подумала Манетта и мгновенно исчезла.
Папаша Табаре снова сел к столу и принялся поспешно глотать вконец остывший суп.
– Как же я об этом не подумал? – говорил он вслух. – До чего же слаб человек! Мой ум состарился и притупился. Между тем дело ясно как день. Обстоятельства совершенно очевидны.
Он позвонил в стоящий перед ним колокольчик; вошла служанка.
– Жаркое, – потребовал он, – и оставьте меня одного. Да, – продолжал он, яростно разрезая баранью ногу. – Наверняка у них был ребенок. Дело же было так. Вдова Леруж служит у богатой высокопоставленной дамы. Муж дамы, возможно, моряк, отправляется в дальнее плавание. У дамы есть любовник, она, забеременев от него, доверяется вдове Леруж и с ее помощью тайно разрешается от бремени.
Тут папаша Табаре снова позвонил:
– Манетта! Десерт, и – вон отсюда.
Нужно признаться, что такой хозяин, как папаша Табаре, не заслуживал столь искусной кухарки. Он затруднился бы сказать, что ему подавали на обед или хотя бы что он ест сию минуту, а между тем это был грушевый компот.
– Но ребенок! – продолжал он вполголоса. – Что стало с ребенком? Быть может, его убили? Нет, если бы вдова Леруж принимала участие в детоубийстве, она не представляла бы опасности. Любовник пожелал, чтобы ребенок жил, и его поручили заботам вдовы, которая его воспитала. Возможно, потом ребенка у нее отобрали, однако остались доказательства его рождения и существования. Тут я попал в цель. Отец – это мужчина в карете, а мать – та женщина, что приезжала к вдове с красивым молодым человеком. Не сомневаюсь, что ловкая вдовушка ни в чем не испытывала недостатка. Есть тайны, которые стоят фермы в Бри. Она шантажировала двух человек. Понятно, что если она позволяла себе такую роскошь, как любовник, то расходы ее с каждым годом росли. Слаб человек! Сердцу не прикажешь! Но шантажистка перестаралась, и все пошло прахом. Она стала угрожать, родители ребенка испугались и решили, что с нею пора покончить. Но кто взялся исполнить это? Отец? Нет, он слишком стар. Черт побери, конечно, сын! Хотел спасти мать, милый мальчик. И вот вдова – хладный труп, а доказательства преданы огню.
Манетта же приникла ухом к замочной скважине и слушала, затаив дыхание. Время от времени до нее доносились отдельные слова, восклицания, удары кулака по столу – и все.
«Понятное дело, – думала она, – ему все женщины покоя не дают. Пытаются убедить его, что он стал отцом».
Снедаемая любопытством, она не выдержала и рискнула приотворить дверь.
– Вы просили кофе, сударь, – робко произнесла она.
– Не просил, но принесите, – ответил папаша Табаре.
Он попытался выпить кофе одним глотком, но обжегся, и боль мгновенно вернула его к действительности.
– Горячо, черт возьми! – проворчал он. – Проклятое дельце совсем вывело меня из равновесия. Верно, я принимаю все слишком близко к сердцу. Но кто, кроме меня, может, пользуясь только логикой, восстановить все, что произошло? Уж, конечно, не бедняга Жевроль! То-то он будет посрамлен, то-то будет злиться! А не навестить ли мне господина Дабюрона? Нет, рано еще. Нынче ночью я должен обдумать некоторые обстоятельства, привести мысли в порядок. С другой стороны, ежели я останусь здесь в одиночестве, вся эта история приведет мою кровь в движение, а после столь плотной еды это грозит несварением желудка. Пойду-ка проведаю госпожу Жерди – эти дни ей нездоровилось, поболтаю с Ноэлем и немного развеюсь.
Папаша Табаре встал, надел сюртук, взял шляпу и трость.
– Вы уходите? – спросила Манетта.
– Да.
– Вернетесь поздно?
– Возможно.
– Но все же вернетесь?
– Понятия не имею.
Минуту спустя папаша Табаре звонил к своим друзьям.
Квартира г-жи Жерди была во всем под стать хозяйке. Г-жа Жерди располагала средствами, а труды Ноэля, у которого уже появилось немало клиентов, должны были в скором времени превратить эти средства в целое состояние.
Жила г-жа Жерди крайне уединенно, и, если не считать друзей, которых иногда приглашал к обеду Ноэль, в доме у нее бывало совсем немного посетителей. Папаша Табаре, который запросто заглядывал к ней уже лет пятнадцать, встречал там лишь приходского священника, старого учителя Ноэля да брата г-жи Жерди, отставного полковника.
Когда все эти гости собирались вместе, что случалось нечасто, составлялась партия в бостон. В другие дни играли в пикет или империал.
Ноэль в гостиной не сидел. После обеда он уходил в кабинет – его кабинет и спальня имели отдельный вход – и погружался в дела. За работой он засиживался очень поздно. Зимою лампа у него иногда не гасла до рассвета.
Мать и сын жили лишь друг для друга. Все их знакомые охотно это повторяли. Ноэля любили и почитали за ту заботу, какой он окружал мать, за беспредельную сыновнюю преданность, за жертвы, на которые, по мнению многих, он шел, живя в свои годы, словно старик. Обитатели дома с удовольствием противопоставляли поведение столь серьезного молодого человека поведению папаши Табаре, этого неисправимого старого шута, этого мышиного жеребчика.
Что до г-жи Жерди, она за сыном света белого не видела. Со временем ее любовь к нему превратилась в обожание. Она считала Ноэля воплощением физических и духовных совершенств. Он казался ей каким-то высшим существом. Стоило ему заговорить, она умолкала и слушала. Любое его слово было для нее приказом. Любое его мнение она воспринимала как веление промысла Божьего. Заботиться о сыне, изучать его вкусы, угадывать его желания, окружать его нежной теплотой – в этом заключался смысл ее существования. Она была прежде всего мать.
– Госпожа Жерди принимает? – осведомился папаша Табаре у служанки, открывшей ему дверь, и, не дожидаясь ответа, вошел, как к себе, уверенный, что его появление будет не в тягость, а в радость.
В гостиной горела лишь одна свеча и заметен был беспорядок. Маленький столик с мраморной столешницей, стоявший всегда посередине комнаты, был сдвинут в угол. Большое кресло г-жи Жерди стояло у окна. На полу валялась развернутая газета. Добровольный сыщик одним взглядом охватил всю эту картину.
– Что-то случилось? – спросил он у служанки.
– И не говорите, господин Табаре; ну и страху мы натерпелись, ну и натерпелись…
– В чем дело? Говори же!
– Вы знаете, что уже месяц хозяйка сильно хворает. Она почти не ест. Сегодня утром она мне говорила…
– Ладно, ладно, что произошло вечером?
– После обеда хозяйка, как обычно, отправилась в гостиную. Села в кресло и взяла одну из газет господина Ноэля. Только начала читать и вдруг закричала, страшно закричала. Мы прибежали: хозяйка лежит на полу, словно мертвая. Господин Ноэль взял ее на руки и отнес в спальню. Я хотела сходить за врачом, но он мне сказал, что не надо, он, мол, знает, в чем дело.
– А как она сейчас?
– Пришла в себя. Во всяком случае, я так думаю, потому что господин Ноэль услал меня. Я знаю только, что она сию минуту разговаривала, и даже довольно громко, так что мне было слышно. Ах, господин Табаре, как все это странно!
– Что странно?
– То, что она говорила господину Ноэлю.
– Так вы, красавица, подслушиваете под дверьми? – насмешливо спросил папаша Табаре.
– Нет, клянусь вам, но госпожа кричала криком, что, мол…
– Дочь моя! – строго проговорил папаша Табаре. – Запомните, подслушивать под дверью скверно, можете спросить у Манетты.
Смущенная служанка принялась оправдываться.
– Хватит, – прервал старик. – Возвращайтесь к своим занятиям. Беспокоить господина Ноэля не нужно, я подожду его здесь.
С этими словами папаша Табаре, довольный преподанным уроком, поднял газету и устроился в уголке у камина, поставив свечу поудобнее. Не прошло и минуты, как он подскочил в кресле, вскрикнув от удивления и безотчетного страха. Дело в том, что в глаза ему бросилась следующая заметка: «Страшное преступление повергло в ужас деревню Ла-Жоншер. Некая вдова Леруж, пользовавшаяся всеобщим уважением и любовью, была убита в собственном доме. Своевременно предупрежденные представители правосудия прибыли на место преступления; есть все основания надеяться, что полиция напала на след преступника, совершившего это гнусное убийство».
– Разрази меня гром! – пробормотал папаша Табаре. – Неужели госпожа Жерди…
Это было как вспышка молнии. Пожав плечами, старик снова опустился в кресло и, устыдившись, заговорил сам с собою:
– Нет, решительно, на этом деле я совсем свихнулся. Только о вдове Леруж и думаю, она мерещится мне повсюду.
Однако неосознанное любопытство заставило его пробежать глазами газету. Кроме этих нескольких строчек, он не нашел в ней ничего, что могло бы стать причиной обморока, крика или даже малейшего волнения.
«Странное все же совпадение», – подумал неуемный сыщик. Только теперь он заметил, что газета слегка надорвана и смята, словно ее судорожно сжала чья-то рука.
– Странно! – повторил он.
В этот миг дверь, ведущая из спальни г-жи Жерди в гостиную, отворилась и на пороге появился Ноэль. Внезапная болезнь матери, бесспорно, сильно отразилась на нем: он был чрезвычайно бледен; его обычно бесстрастное лицо выдавало большое волнение. При виде папаши Табаре он, казалось, удивился.
– Ах, дорогой Ноэль! – воскликнул старик. – Развейте мое беспокойство и скажите, как чувствует себя ваша матушка?
– Госпожа Жерди чувствует себя неплохо, насколько это возможно.
– Госпожа Жерди? – изумленно повторил старик, однако продолжал: – Я вижу, вы пережили жестокое потрясение.
– В самом деле, – ответил адвокат, усаживаясь, – мне был нанесен ужасный удар.
Ноэль явно прилагал большие усилия, чтобы спокойно слушать старика и отвечать на его вопросы. Папаша Табаре, находясь в сильном волнении, ничего этого не замечал.
– По крайней мере, дитя мое, – попросил он, – расскажите, как это произошло.
Молодой человек помедлил, как бы обдумывая что-то. Он не был готов к заданному в лоб вопросу и колебался, не зная, как отвечать. Наконец он сказал:
– Госпожу Жерди страшно поразило известие в газете о том, что женщина, которую она любила, убита.
– Вот так так! – вскричал папаша Табаре.
Старик был до такой степени потрясен, что чуть было не проговорился о своей тесной связи с полицией. Еще немного, и он воскликнул бы: «Как! Ваша матушка знала вдову Леруж?» По счастью, он сдержался. Больших трудов стоило ему скрыть свое удовлетворение:
он был рад, что безо всяких трудов узнает что-то о прошлом жертвы преступления в деревне Ла-Жоншер.
– Эта женщина была верной служанкой госпожи Жерди. Она была настолько предана ей душой и телом, что бросилась бы за нее в огонь и воду.
– А вы, друг мой, знали эту почтенную женщину?
– Я очень давно ее не видел, – отвечал Ноэль, в голосе которого сквозила глубокая печаль, – но знал ее и знал хорошо. Должен признаться, я ее очень любил – она была моей кормилицей.
– Она? Эта женщина? – запинаясь, проговорил папаша Табаре.
На этот раз он пребывал в совершенном ошеломлении. Вдова
Леруж – кормилица Ноэля! Ну и повезло же ему! Само провидение выбрало его своим орудием и направляло его руку. Теперь он узнает все, что ему нужно, все сведения, которые полчаса назад он отчаялся где-либо добыть. Онемев от изумления, папаша Табаре сидел перед Ноэлем. Вскоре, однако, он понял, что должен сказать хоть что-нибудь, чтобы не ставить себя в неловкое положение.
– Большое горе, – пролепетал он.
– Не знаю, как для госпожи Жерди, – мрачно сказал Ноэль, – но для меня это огромное горе. Удар, нанесенный бедной женщине, поразил меня в самое сердце. Ее смерть, господин Табаре, развеяла в прах все мои мечты о будущем и разрушила вполне законные надежды. Я собирался отомстить за жестокую обиду, а смерть эта выбила у меня из рук оружие и ввергла в бессильное отчаяние. Ах, как я несчастен!
– Вы? Несчастны? – воскликнул папаша Табаре, которого глубоко тронула печаль его дорогого Ноэля. – Боже мой, отчего же?
– Я страдаю, – тихо сказал адвокат, – и притом жестоко. Не только из страха, что справедливость не восторжествует, но и оттого, что остался беззащитен перед клеветой. Теперь обо мне могут сказать, что я мошенник, честолюбивый интриган без стыда и совести.
Папаша Табаре не знал, что и думать. Он не видел ничего общего между честью Ноэля и преступлением, совершенным в деревушке Ла-Жоншер. В голове у него роились тысячи смутных и тревожных мыслей.
– Успокойтесь, дитя мое, – произнес он. – Никакая клевета не в силах вас запятнать. Смелее, черт возьми, разве у вас нет друзей? Разве я не с вами? Доверьтесь мне, расскажите, что вас печалит, и, дьявол меня раздери, если мы вдвоем…
Адвокат резко встал, воспламененный внезапным решением.
– Хорошо! – прервал он старика. – Вы узнаете все. Я и впрямь устал уже хранить эту тайну, я задыхаюсь. Роль, которую я вынужден играть, тягостна и оскорбительна. Мне нужен друг, способный утешить меня. Я нуждаюсь в советчике, который мог бы меня ободрить. Человек ведь не судья себе, а это преступление ввергло меня в бездну сомнений.
– Вы же знаете, – просто ответил папаша Табаре, – что я полностью в вашем распоряжении, вы мне как сын. Располагайте мною без стеснения.
– Так знайте же… – начал адвокат. – Но нет, не здесь. Я не хочу, чтобы нас услышали, пройдемте ко мне в кабинет.
IV
Когда Ноэль и папаша Табаре, плотно затворив за собою дверь, уселись в комнате, где работал адвокат, старик забеспокоился.
– А вдруг вашей матушке что-нибудь понадобится? – спросил он.
– Если госпожа Жерди позвонит, придет служанка, – сухо ответил молодой человек.
Это равнодушие, это холодное презрение озадачили папашу Табаре, привыкшего, что сын и мать всегда нежны и предупредительны друг к другу.
– Бога ради, Ноэль, успокойтесь, – заговорил он, – не давайте волю раздражению. Вы, как я вижу, немного повздорили с матушкой – назавтра все позабудется. Оставьте же этот ледяной тон, которым вы говорите о ней. Отчего вы с таким упорством называете ее госпожой Жерди?
– Отчего? – переспросил адвокат глухо. – Отчего?
Он встал, прошелся по кабинету и, вновь усевшись рядом со стариком, проговорил:
– Оттого, господин Табаре, что она мне не мать.
Для старого сыщика эта фраза прозвучала как гром среди ясного неба. Он был потрясен.
– Что вы! – произнес папаша Табаре тоном, каким отвергают непозволительное предложение. – Что вы! Подумайте, что вы говорите, дитя мое. Возможно ли, вероятно ли это?
– Да, это невероятно, – ответил Ноэль с некоторой напыщенностью, – в это невозможно поверить, и тем не менее это так. Тридцать три года, с самого моего рождения, эта женщина играет поразительную постыдную комедию ради блага сына – а у нее есть сын – и в ущерб мне.
– Друг мой… – начал папаша Табаре, перед которым замаячил призрак вдовы Леруж.
Но Ноэль не слушал и, казалось, утратил способность что-либо понимать.
Этот молодой человек, столь хладнокровный, сдержанный и скрытный, не прятал более своего гнева. Слова, которые срывались с его губ, подгоняли его, как подгоняет добрую лошадь звон бубенчиков на ее сбруе.
– Ни один человек на свете, – продолжал он, – не ошибался столь жестоко, как я, и не был столь гнусно одурачен! Я так любил эту женщину, так изощрялся, чтобы выразить ей свою привязанность, я принес ей в жертву свою молодость. Как она, должно быть, смеялась надо мной! Ее гнусное преступление началось в тот день, когда она впервые взяла меня на руки. И все эти годы она играла свою отвратительную роль, не выходя из нее ни на минуту. Ее любовь ко мне была лицемерием, преданность – притворством, ласки – ложью! А я обожал ее! Почему я не могу взять назад всю нежность, которой отвечал на ее поцелуи? Сколько героических усилий, сколько хлопот употребила она на обман, на двоедушие! А цель ее была – побеззастенчивей предать меня, обобрать, ограбить, чтобы ее внебрачный сын получил все, что принадлежало мне: благородное имя, огромное состояние…
«Дело идет к развязке», – подумал папаша Табаре, в котором проснулся сотрудник Жевроля. Вслух же он произнес:
– Все это весьма серьезно, дорогой Ноэль, чрезвычайно серьезно. Приходится допустить, что госпоже Жерди присущи дерзость и предприимчивость, какие редко бывают свойственны женской натуре. Поэтому у меня возникает предположение, что ей кто-то советовал, помогал, кто-то ее, быть может, склонял на это. Кто ее соучастники? Ведь не могла же она действовать в одиночку! Возможно, ее муж…
– Ее муж! – прервал адвокат с горьким смешком. – Вы тоже попались на удочку со вдовством. Никакого мужа никогда не было, блаженной памяти господина Жерди не существовало в природе. Я незаконнорожденный, дорогой господин Табаре: Ноэль, сын девицы Жерди и неизвестного отца.
– Господи! – воскликнул старик. – Так, значит, поэтому четыре года назад расстроился ваш брак с мадемуазель Левернуа?
– Да, мой друг, именно поэтому. Как я страдал, что не могу жениться на девушке, которую любил! Однако тогда я не досадовал на ту, что называла себя моей матерью. Она плакала, винилась, сокрушалась, а я, простодушный, утешал ее, как мог, осушал ей слезы, оправдывал ее в ее собственных глазах. Нет, мужа у нее не было… Разве у таких женщин, как она, бывают мужья? Она была любовницей моего отца; пресытившись, он ее бросил, швырнув триста тысяч франков – плату за доставленные ему удовольствия.
Ноэль, наверное, еще долго продолжал бы свои неистовые обличения, не останови его папаша Табаре. Старик чувствовал: история эта точь-в-точь похожа на ту, что он сам недавно вообразил, и, весь во власти суетного нетерпения, жаждал узнать, правильно ли он угадал, а между тем прежде всего надо было подумать о несчастном Ноэле.
– Дитя мое, – сказал он, – не будем отдаляться от предмета нашего разговора. Вы спрашивали у меня, что делать. Быть может, я единственный, кто способен дать вам действительно добрый совет. Ближе к делу. Как вы узнали об этом? Есть ли у вас доказательства и где они?
Решительный тон старика должен был бы насторожить Ноэля, но тот не обратил на это никакого внимания. Времени остановиться и поразмыслить у него не было. Он поспешил ответить:
– Я знаю об этом уже три недели. Открытие это я сделал случайно. У меня есть серьезные косвенные улики, но косвенные улики ничего не решают. Одно слово вдовы Леруж, одно только ее слово сделало бы их неопровержимыми. Ее убили, и она не сможет повторить это слово, но мне она его сказала. Я знаю, теперь госпожа Жерди будет все отрицать, даже стоя на эшафоте. Отец, разумеется, будет свидетельствовать против меня… Я уверен в своей правоте, у меня есть доказательства, однако это преступление обесценивает мою уверенность и разбивает в прах все мои доказательства.
– Расскажите-ка мне лучше все по порядку, – после минутного раздумья произнес папаша Табаре, – понимаете, все. Старики могут дать порой хороший совет. Посмотрим.
– Три недели назад, – начал Ноэль, – мне понадобились кое-какие старые документы, и я открыл секретер госпожи Жерди. Задев нечаянно полку, я рассыпал бумаги, среди которых оказалась связка писем. Не знаю, что побудило меня развязать ее, но, снедаемый необоримым любопытством, я прочел первое попавшееся письмо.
– И напрасно, – неодобрительно отозвался папаша Табаре.
– Согласен, но как бы то ни было, я его прочел. Первых десяти строчек оказалось достаточно, чтобы я понял: это письма моего отца, имя которого госпожа Жерди, несмотря на все мои увещевания, скрывала от меня. Вы должны понять, что я почувствовал. Я забрал связку, заперся в кабинете и прочел всю переписку от начала до конца.
– И вы жестоко наказаны за это, мое бедное дитя!
– Это верно, но кто бы смог устоять? Письма эти разбили мне сердце, но в них я нашел доказательства того, о чем только что рассказал вам.
– Вы, я надеюсь, их сохранили?
– Они здесь, господин Табаре, – ответил Ноэль. – Чтобы дать мне совет, вы должны знать суть дела, поэтому я прочту их вам.
Адвокат выдвинул ящик письменного стола, нажал в глубине скрытую пружину и достал связку писем из потайного отделения, устроенного в столешнице.
– Разумеется, – продолжал он, – я не стану знакомить вас с несущественными подробностями, хотя и они кое-что добавляют к общей картине. Я прочту лишь самое важное, непосредственно относящееся к делу.
Сгорая от нетерпения, папаша Табаре устроился в кресле поудобнее. Глаза и все его лицо выражали напряженное внимание. Адвокат довольно долго перебирал письма и, выбрав наконец одно, начал читать; хотя он старался хранить спокойствие, голос его временами дрожал.
– «Любимая моя Валери!» Валери, – пояснил он, – это госпожа Жерди.
– Знаю, знаю, не останавливайтесь.
Ноэль продолжал:
Любимая моя Валери!
Сегодня счастливый день. Утром я получил твое письмо, моя милая; я покрыл его поцелуями, перечел сто раз, и теперь оно заняло свое место там же, где и другие, – у меня в сердце. Я чуть не умер от радости, друг мой. Значит, ты все же не ошиблась, значит, это правда! Наконец милостивое небо увенчало нашу страсть. У нас будет сын. У меня будет сын от моей обожаемой Валери, ее живой образ! Ах, почему нас разделяет столь огромное расстояние? Отчего у меня нет крыльев? Я прилетел бы к тебе, упал бы в твои объятия, опьяненный сладостным влечением! Никогда еще я не проклинал так злополучный союз, навязанный мне жестокими родителями, которых не смогли тронуть мои слезы. Я не в силах сдержать свою ненависть к этой женщине, что вопреки моей воле носит мое имя, к этой невинной жертве наших бесчеловечных родителей. И в довершение моих мук она тоже собирается сделать меня отцом. Как описать ту боль, что я испытываю, ожидая появления на свет этих детей?
У одного из них, сына той, к которой я отношусь столь нежно, не будет ни отца, ни даже отцовской фамилии, поскольку закон, беспощадный к чувствительным душам, не позволяет мне признать его. В то же время другой, рожденный ненавистной мне супругой, будет единственно благодаря своему рождению богат, знатен, окружен любовью и уважением и займет высокое положение в свете. Мне невыносима мысль о столь ужасающей несправедливости.
Но что сделать, чтобы исправить ее? Не знаю, но уверен, что я ее исправлю.
Желанная, дорогая, любимая, тебе должна достаться лучшая доля; так будет, потому что я этого хочу.
– Когда написано это письмо? – поинтересовался папаша Табаре, хотя содержание давало об этом некоторое представление.
– Взгляните, – отвечал Ноэль и протянул старику листок.
Тот прочел: «Венеция, декабрь 1828 года».
– Вы, конечно, понимаете, – продолжал адвокат, – всю важность этого первого письма. В нем кратко изложены все обстоятельства. Отец, которого принудили вступить в брак, обожает свою любовницу и питает отвращение к жене. Примерно в одно и то же время обе женщины оказываются беременны, и чувства отца к детям, которые должны родиться, вполне ясны. В конце письма у него возникает замысел, который позже, вопреки всем законам божеским и человеческим, он не побоится осуществить.
Адвокат заговорил красноречиво, словно в суде, но папаша Табаре поспешил его прервать.
– Нет смысла в это углубляться, – сказал он. – Из того, что вы прочитали, все достаточно ясно. Я не дока в подобных материях и слушал, как если бы был простым присяжным; тем не менее мне все совершенно понятно.
– Несколько писем я пропущу, – отозвался Ноэль, – и перейду к датированному двадцать третьим января тысяча восемьсот двадцать девятого года. Письмо очень длинное и в большей части не имеет отношения к тому, чем мы занимаемся. Однако я нашел два отрывка, которые характеризуют медленную и непрерывную работу мысли моего отца.
Рок, более могущественный, нежели мое желание, удерживает меня здесь, но я с тобой, любимая Валери. Вновь и вновь мысль моя возвращается к обожаемому сыну, свидетельству нашей любви, который трепещет у тебя под сердцем. Пекись, друг мой, пекись о своем здоровье – оно теперь драгоценно вдвойне. Тебя умоляет об этом твой возлюбленный, отец твоего ребенка.
Последняя страница твоего ответного письма пронизала болью мое сердце. Как ты ко мне несправедлива, когда беспокоишься о судьбе нашего ребенка! Боже всемогущий! Ты же меня любишь, знаешь и все равно беспокоишься!
– Я пропущу две страницы любовных признаний, – сообщил Ноэль, – и прочту несколько последних строк.
Беременность графини становится все невыносимее для меня. Несчастная! Я ненавижу ее и вместе с тем жалею. Мне кажется, она догадывается о причинах моей печали и холодности. Своею робкой покорностью, неизменной нежностью она словно просит прощения за наш союз. Бедная жертва! Быть может, и она до венца отдала свое сердце другому. В таком случае наши судьбы схожи. Надеюсь, ты с твоим добрым сердцем простишь мне эту жалость.
– Это он о моей матери, – дрожащим голосом произнес адвокат. – Святая! А он еще просит прощения за жалость, которую она вызывала. Бедняжка! – Ноэль провел ладонью по глазам, как бы смахивая слезы, и добавил: – Ее уже нет в живых.
Несмотря на сжигавшее его нетерпение, папаша Табаре не посмел произнести ни слова. К тому же он искренне сочувствовал глубокому горю своего молодого друга и уважал это горе. После долгого молчания Ноэль поднял голову и снова взялся за письма.
– Из следующих писем явствует, – сказал он, – что отец был озабочен судьбой своего незаконнорожденного сына. Читать их я, однако, не стану. Но вот что поразило меня в письме, посланном из Рима 5 марта 1829 года:
Мой сын, наш сын! Вот моя единственная и неотступная забота. Как обеспечить ему то будущее, о каком я мечтаю? В прежние времена у знати таких забот не было. Я пошел бы к королю, и одно его слово обеспечило бы ребенку положение в обществе. Сегодня же король, с трудом управляющий мятежными подданными, не может ничего. Дворянство утратило все права, и к благороднейшим людям относятся, как к последним мужикам.
– А вот, немного ниже:
Мне радостно представлять себе, каким вырастет наш сын. От матери он унаследует душу, ум, красоту, очарование, всю ее прелесть. От отца – гордость, мужество, все признаки высокого рода. Каким будет другой? Я содрогаюсь, думая об этом. Ненависть может порождать лишь чудовищ. Силой и красотой Господь наделяет только детей, зачатых среди восторгов любви.
– Чудовище – это я! – воскликнул адвокат со скрытым гневом. – А другой… Но хватит об этом, все это лишь предшествовало ужасному деянию. Я только хотел показать вам, какие уродливые формы приобрела страсть отца. Мы уже близки к цели.
Папашу Табаре изумляла пылкость любви, пепел которой ворошил Ноэль. Быть может, он принял эту историю так близко к сердцу потому, что вспомнил свою молодость. Он понимал, насколько неодолима может быть такая страсть, и содрогался, угадывая, что последует дальше.
– А вот, – заговорил Ноэль, держа в руке листок бумаги, – уже кое-что другое: не новое бесконечное послание, вроде тех, отрывки из которых я вам читал, а короткое письмецо. Отправлено оно в начале мая, на нем штемпель Венеции. Оно лаконично и тем не менее решительно.
Дорогая Валери!
Сообщи мне, по возможности поточнее, когда могут произойти роды. Жду твоего ответа с нетерпением, которое, полагаю, тебе понятно, если ты догадалась, какие планы я строю относительно нашего ребенка.
– Не знаю, – сказал Ноэль, – поняла ли госпожа Жерди. Во всяком случае, ответила она без промедления: вот что писал отец четырнадцатого числа:
Твой ответ, моя дорогая, таков, что о лучшем и мечтать нельзя. Теперь я вижу, что задуманный мною план вполне осуществим. Я понемногу начинаю обретать спокойствие и уверенность. Наш сын будет носить мое имя, и мне не придется с ним разлучаться. Он будет воспитываться подле меня, в моем доме, у меня на глазах, я буду сажать его на колени, брать на руки. Достанет ли у меня сил вынести столь безграничное счастье? Душа моя приучена к горю, привыкнет ли она к радости? О моя обожаемая, о мое драгоценное дитя, не бойтесь ничего, в сердце у меня хватит места для вас обоих! Завтра я отправляюсь в Неаполь, откуда напишу тебе более подробно. Что бы ни случилось, даже если мне придется пожертвовать доверенными мне важными делами, к торжественному часу я поспею в Париж. Присутствие мое удвоит твое мужество, сила моей любви уменьшит твои страдания…
– Прошу извинить, что прерываю вас, Ноэль, – заговорил папаша Табаре, – но скажите, какие серьезные причины удерживали вашего отца за границей?
– Мой отец, – ответил адвокат, – несмотря на свой возраст, был другом и доверенным лицом Карла Десятого, который поручил ему секретную миссию в Италии. Мой отец – граф Рето де Коммарен.
– Черт возьми! – воскликнул старик и, словно для того, чтобы лучше запомнить, несколько раз повторил: – Рето де Коммарен.
Ноэль замолчал. Он, казалось, обуздал свою ярость и впал в уныние, словно человек, который принял решение примириться с судьбой и не отражать нанесенный ею удар.
– В середине мая, – продолжал он, – мой отец находился в Неаполе. Именно там этот осмотрительный, благоразумный человек, достойный дипломат, дворянин осмеливается, поддавшись безрассудной страсти, доверить бумаге свой чудовищный план. Слушайте хорошенько.
Моя любимая!
Это письмо передаст тебе Жермен, мой старый камердинер. Я посылаю его в Нормандию с весьма щекотливым поручением. Он из тех слуг, которым можно безоглядно доверять.
Пришло время открыть тебе планы, касающиеся моего сына. Самое позднее через три недели я буду в Париже. Если я не обманываюсь в своих предположениях, вы с графиней разрешитесь от бремени в одно и то же время. Несколько дней разницы никоим образом не повлияют на мои замыслы.
Вот что я решил. Оба моих ребенка будут предоставлены попечениям кормилиц из N., где находятся почти все мои имения. Одна из этих женщин, за которую Жермен ручается и к которой я его посылаю, будет посвящена в наши планы. Ей мы и поручим заботы о нашем сыне. Обе женщины покинут Париж в один день, при этом Жермен поедет с той, что будет опекать сына графини.
Заранее подстроенное происшествие заставит обеих женщин заночевать в пути. Жермен устроит так, что спать им придется на одном постоялом дворе и даже в одной комнате. Ночью наша кормилица подменит детей в колыбели.
Я предусмотрел все меры предосторожности, чтобы наша тайна не обнаружилась. Проезжая через Париж, Жермен должен заказать совершенно одинаковые пеленки для обоих новорожденных. Помоги ему советом.
Твое материнское сердце, милая Валери, быть может, обливается кровью при мысли о том, что ты будешь лишена невинных ласк своего ребенка. Пусть же тебя утешит мысль о судьбе, которая ему уготована благодаря твоей жертве. Никакая, даже самая пылкая материнская нежность не заменит ему грядущих благ. Что же до другого ребенка, я знаю твою добрую душу, ты полюбишь его. Разве не будет это еще одним доказательством твоей любви ко мне? К тому же участь его вовсе не так плачевна. Он ни о чем не будет знать, и поэтому ему не о чем будет жалеть; он получит все, что сможет дать ему его состояние.
Не говори, что замысел мой преступен. Нет, любимая моя, нет. Ведь для того, чтобы наш план удался, нужно столь невероятное стечение обстоятельств, столько совпадений, независимых от нашей воли, что без явного покровительства провидения нас постигнет неудача. Если же наше предприятие увенчается успехом, значит, само небо на нашей стороне. Уповаю на это.
– Этого я и ожидал, – пробормотал папаша Табаре.
– И этот негодяй еще взывает к провидению! – вскричал Ноэль. – Ему нужно заполучить в соучастники самого Господа Бога!
– А как ваша матушка, то есть, извините, госпожа Жерди, отнеслась к этому предложению? – спросил старик.
– Кажется, сначала отказалась: вот здесь граф на двадцати страницах убеждает ее, уговаривает решиться. О, эта женщина!
– Послушайте, дитя мое, – мягко проговорил папаша Табаре, – не будем чрезмерно пристрастны к ней. По-моему, вы обвиняете ее одну, гневаетесь на нее одну. А ведь, по совести, граф заслуживает вашего гнева гораздо больше.
– Да, – безжалостно прервал его Ноэль, – да, граф виноват, очень виноват. Он выдумал всю эту позорную интригу, и все же я не питаю к нему ненависти. Он совершил преступление, но его можно извинить: им двигала страсть. К тому же мой отец не лгал мне, как эта женщина, каждую минуту на протяжении тридцати лет. И наконец, господин де Коммарен был столь жестоко наказан, что сейчас я могу лишь простить его и пожалеть.
– Так, значит, он был наказан? – заинтересовался старик.
– Да, ужасно, вы об этом еще узнаете; однако позвольте мне продолжать. К концу мая, даже скорее к началу июня, граф, судя по тому, что переписка прекратилась, прибыл в Париж. Он повидался с госпожой Жерди, и они уточнили последние подробности заговора. Вот записка, которая устраняет всяческие сомнения по этому поводу. В тот день граф дежурил в Тюильри и не мог оставить свой пост. Он писал в кабинете короля, на его бумаге. Взгляните на герб. Все готово: женщина, согласившаяся привести в исполнение план отца, уже в Париже. Отец уведомляет свою любовницу:
Дорогая Валери!
Жермен сообщил, что кормилица твоего сына, нашего сына, приехала. Днем она придет к тебе. На нее можно положиться; прекрасное вознаграждение станет порукой ее молчания. Тем не менее не говори ей ни о чем. Ей дали понять, что ты ничего не знаешь. Я хочу, чтобы вся ответственность лежала на мне – так будет благоразумнее. Женщина эта из N. Она родилась в нашем поместье и даже, можно сказать, у нас в доме. Муж ее – храбрый, честный моряк; ее зовут Клодина Леруж. Смелее, любовь моя! Я прошу у тебя самой большой жертвы, какую только возлюбленный может просить у матери своего ребенка. Не сомневайся, небо покровительствует нам. С этой минуты все зависит от нашей ловкости и осмотрительности, а значит, мы добьемся успеха.
По крайней мере один вопрос для папаши Табаре прояснился. Заполучить сведения о прошлом вдовы Леруж не представляло теперь никакого труда. Он не смог сдержать возгласа удовлетворения, который, однако, Ноэль пропустил мимо ушей.
– Эта записка, – сообщил адвокат, – последнее письмо графа.
– Как! – удивился старик. – У вас ничего больше нет?
– Есть еще десяток строк, написанных много лет спустя. Они, конечно, тоже имеют некоторое значение, но, это, пожалуй, чисто косвенная улика.
– Какая жалость! – пробормотал папаша Табаре.
Ноэль положил на стол письма, которые держал в руках, и, повернувшись к своему старому другу, пристально взглянул на него.
– Предположим, – медленно проговорил адвокат, делая ударение на каждом слоге, – предположим, это все, что мне известно. Представьте на секунду, что я знаю столько же, сколько и вы. Что вы можете сказать обо всем этом?
Папаша Табаре несколько минут молчал, прикидывая в уме, какие выводы можно сделать из писем г-на Коммарена.
– По-моему – так подсказывают мне сердце и совесть, – вы не сын госпожи Жерди, – ответил он наконец.
– И вы правы, – с нажимом произнес адвокат. – Вы, разумеется, полагаете, что я отыскал Клодину. Эта бедная женщина, вскормившая меня своим молоком, любила меня и мучилась от ужасной несправедливости, жертвой которой я стал. Нужно ли говорить о том, как она страдала от мысли, что участвовала в этом преступлении; к старости угрызения совести сделались особенно тяжелы. Я повидался с нею и расспросил ее, она во всем призналась. Простой и безупречный план графа легко осуществился. Все совершилось через три дня после моего рождения: меня, несчастного, бедного ребенка, предал, ограбил, лишил всего тот, кто должен был стать моим защитником, – мой отец. Несчастная Клодина! Она обещала, что будет свидетельствовать в мою пользу, когда я решу восстановить себя в правах.
– Но она умерла и унесла тайну с собой, – с сожалением в голосе тихо проговорил старик.
– И все же у меня есть еще надежда, – ответил Ноэль. – У Клодины было несколько писем, которые писали ей и граф, и госпожа Жерди, писем неосторожных и недвусмысленных. Они будут найдены и, без сомнения, сыграют решающую роль. Эти письма я держал в руках, я их читал; Клодина непременно хотела, чтобы я их забрал, но я, увы, ее не послушал.
Нет, и тут надеяться было не на что: папаша Табаре знал это лучше, чем кто бы то ни было. Именно за этими письмами убийца и явился в Ла-Жоншер. Он нашел их и сжег вместе с другими бумагами в маленькой печке. Старый сыщик-любитель начинал понемногу все понимать.
– Зная о состоянии ваших дел, которые мне знакомы, как мои собственные, я полагаю, что граф не вполне сдержал свои щедрые обещания обеспечить ваше будущее, о которых упоминал в письме к госпоже Жерди.
– Совсем не сдержал, мой друг.
– Но это же еще бесчестнее всего остального! – с негодованием вскричал старик.
– Не обвиняйте моего отца, – мрачно промолвил Ноэль. – Его связь с госпожой Жерди длилась еще долго. Я помню, что в коллеже меня иногда навещал надменный господин – это явно был граф. Но потом наступил разрыв.
– Естественно, – с насмешкой сказал папаша Табаре, – аристократ…
– Не спешите с выводами, – прервал адвокат, – у господина де Коммарена были свои причины. Он узнал, что любовница ему изменяет, и в справедливом негодовании порвал с нею. В десяти строках, о которых я упоминал, как раз об этом и говорится.
Ноэль довольно долго рылся в разбросанных по столу бумагах и наконец нашел листок, более других выцветший и измятый. По тому, как он был обтрепан на сгибах, можно было догадаться, что его перечитывали не один раз. Некоторые буквы стерлись.
– Взгляните, – сказал адвокат с горечью. – Госпожа Жерди уже не обожаемая Валери.
Друг, жестокий, как все истинные друзья, раскрыл мне глаза. Я не поверил. За Вами стали следить, и теперь у меня, увы, нет сомнений. Вы, которой я отдал больше, чем жизнь, изменили мне, причем уже не в первый раз. Увы! Теперь у меня даже нет уверенности в том, что я отец Вашего ребенка!
– Но ведь эта записка – доказательство! – воскликнул папаша Табаре. – Неопровержимое доказательство! Для графа не так уж важно было бы, отец он или нет, если бы он не принес в жертву внебрачному сыну своего законного наследника. Да, вы правы, его постигла суровая кара.
– Госпожа Жерди, – продолжил рассказ Ноэль, – пробовала оправдаться. Она писала графу, но он возвращал ей письма нераспечатанными. Пыталась увидеться с ним, но ей это не удалось. В конце концов она прекратила бесплодные попытки. Поняла она, что все кончено, когда управляющий графа принес ей бумаги на ренту в пятнадцать тысяч франков на мое имя. Ее сын занял мое место, а его мать меня разорила…
Негромкий стук прервал рассказ Ноэля.
– Кто там? – не вставая, спросил он.
– Сударь, – послышался за дверью голос служанки, – хозяйка хочет поговорить с вами.
Адвокат, казалось, замялся.
– Ступайте, дитя мое, – посоветовал папаша Табаре, – не будьте безжалостны, не уподобляйтесь святошам.
С видимой неохотой Ноэль встал и направился к г-же Жерди.
«Бедный мальчик, – подумал папаша Табаре, оставшись один. – Какое ужасное открытие! Как он, должно быть, страдает! При его-то благородстве и чистом сердце узнать такое! Он так честен и порядочен, что даже не заподозрил, откуда пришла постигшая его беда. По счастью, мне не занимать прозорливости, и в тот самый миг, когда он отчаялся, я прихожу к уверенности, что сумею восстановить справедливость. Благодаря ему я на верном пути. Теперь и ребенку стало бы ясно, чья рука нанесла удар. Но как это произошло? Ноэль и сам не заметит, как все мне расскажет. Ах, если бы мне удалось получить эти письма хотя бы на день! Но тогда придется объяснить ему – зачем. Короче, попросив его об этом, я выдам, что связан с полицией. Лучше просто взять украдкой какое-нибудь письмо, чтобы сравнить почерк».
Едва письмо исчезло в кармане папаши Табаре, вошел адвокат. Сильный характер помогал молодому человеку мужественно сносить удары судьбы. Постоянная скрытность, эта броня всех честолюбцев, закалила его дух.
Вот и сейчас невозможно было догадаться, что произошло между ним и г-жой Жерди. Ноэль был невозмутим и совершенно спокоен, словно находился у себя в приемной, где выслушивал бесконечные излияния клиентов.
– Ну, как она? – поинтересовался папаша Табаре.
– Ей хуже, – отвечал Ноэль. – Бредит и несет бог знает что. Она осыпала меня градом всевозможных оскорблений, обращалась со мной, как с последним негодяем. Порой кажется, что она сошла с ума.
– Это случается и по менее серьезным причинам, – заметил папаша Табаре. – Думаю, следует вызвать врача.
– Я уже послал за ним.
Адвокат сидел за столом и собирал разбросанные письма, складывая их по датам. Казалось, он и думать забыл о том, что обратился к старому другу за советом, и не выказывал ни малейшего расположения продолжить начатый разговор. Видимо, он полагал, что папаши Табаре это не касается.
– Чем больше я размышляю над вашей историей, дорогой мой Ноэль, – начал старик, – тем больше она меня поражает. Сказать по правде, я не знаю, какое бы принял решение и как бы поступил на вашем месте.
– Да, друг мой, – печально промолвил адвокат, – тут станет в тупик и более опытный человек, чем вы.
Старый сыщик с трудом сдержал лукавую улыбку.
– Смиренно признаю вашу правоту, – ответил он, не без удовольствия прикидываясь простачком. – А вы-то как поступили? Первым делом, надо полагать, попросили объяснений у госпожи Жерди?
Ноэль вздрогнул, но папаша Табаре, занятый тем, чтобы направить разговор в нужное русло, не заметил этого.
– Да, я с этого и начал, – ответил адвокат.
– И что она вам сказала?
– Что она могла сказать? Ее же уличали факты.
– Как? Она не пыталась оправдаться?
– Почему? Пыталась, но безуспешно. Пробовала объяснить эту переписку тем, что… Да мало ли что она говорила? Все это было лживо, нелепо, гнусно.
Адвокат закончил собирать письма, так и не заметив пропажи. Аккуратно перевязав, он спрятал их в потайной ящик.
– Да, она пыталась меня одурачить. – Ноэль вскочил и быстро заходил взад и вперед по кабинету, словно движение могло умерить его гнев. – Как будто это возможно при тех доказательствах, которыми я располагаю! Но она обожает своего сына. При мысли, что его заставят вернуть то, что он у меня похитил, у нее сердце разрывается. А я-то – глупец, болван, трус – вначале даже не хотел ни о чем ей говорить. Еще убеждал себя: «Нужно ее простить, она же меня любит, в конце концов». Любит – как же! Она бы не пролила и слезинки, глядя, как меня пытают, – лишь бы ни один волос не упал с головы ее сыночка.
– Возможно, она сообщила графу, – перебил папаша Табаре, который продолжал гнуть свою линию.
– Не исключено. Но если даже и так, пользы от этого не будет: графа нет в Париже уже больше месяца, и приедет он не раньше, чем к концу недели.
– Откуда вы знаете?
– Я хотел встретиться со своим отцом, объясниться…
– Вы?
– Да, я. Вы что же, считаете, что я не буду протестовать? Полагаете, что я, которого обокрали до нитки, ограбили, предали, буду помалкивать? Что может меня удержать, кого мне щадить? Своих прав я добьюсь. Что вы находите в этом странного?
– Решительно ничего, друг мой. Так, значит, вы были у господина де Коммарена?
– О, я не сразу решился на это, – продолжал Ноэль. – Поначалу из-за этого открытия я чуть было не потерял голову. Мне нужно было все обдумать. Меня раздирали тысячи противоположных чувств. Я и хотел и не хотел, гнев ослеплял меня, мне не хватало смелости, я колебался, я не мог решиться, я был во власти сомнений. Меня ужасала огласка, которую неизбежно вызовет это дело. Я страстно желал, да и сейчас желаю вернуть свое имя, тут все ясно. Но я не хотел чернить его, еще не успев даже получить. Размышлял, как бы уладить все тихо, без скандала.
– И наконец решились?
– Да. После двух недель борьбы и терзаний, после двух ужасных недель. О, как я страдал эти дни! Я забросил все дела, перестал работать. Днем стремился утомить себя ходьбой, надеясь, что ночью засну от усталости. Напрасные усилия! С тех пор как я обнаружил эти письма, мне ни разу не удалось заснуть дольше чем на час.
Адвокат рассказывал, а папаша Табаре время от времени незаметно поглядывал на часы. «Господин следователь скоро ляжет спать», – думал он.
– Наконец однажды утром, – рассказывал Ноэль, – после нестерпимо мучительной ночи я сказал себе: пора с этим покончить. Я был в отчаянии, подобно игроку, который после непрерывных проигрышей ставит все, что у него осталось, на одну карту. Я взял себя в руки, послал за фиакром и отправился в особняк Коммаренов.
Старый сыщик испустил вздох облегчения.
– Это один из самых великолепных особняков Сен-Жерменского предместья, роскошная обитель, подобающая высокородному вельможе-миллионеру. Сначала входишь на широкий двор. Направо и налево размещаются конюшни с двумя десятками лошадей, каретные сараи и службы. В глубине высится дом с величественным и строгим фасадом, огромными окнами и мраморным крыльцом. За домом простирается большой сад, я бы даже сказал – парк, где растут самые, быть может, старые в Париже деревья.
Это вдохновенное описание невероятно раздражало папашу Табаре. Но что делать, как поторопить Ноэля? Неосторожное слово могло пробудить в нем подозрения, открыть, что говорит он не с другом, а с сыщиком, работающим на Иерусалимскую улицу.
– Стало быть, вас пригласили в дом? – спросил старик.
– Нет, я сам посетил его. Узнав, что я единственный наследник Рето де Коммаренов, я навел справки о своей новой семье. Я ознакомился в библиотеке с ее родословной – о, это блистательная родословная! В тот вечер я бродил в лихорадочном возбуждении вокруг жилища моих предков. Ах, мои чувства вам не понять! «Здесь, – говорил я себе, – я родился, должен был расти, мужать, здесь я должен был бы сегодня быть хозяином!» Я упивался той несказанной горечью, что сжигает изгнанников. Я сравнивал свою печальную жизнь бедняка со счастливым уделом незаконнорожденного, и меня охватил гнев. Во мне возникло безрассудное желание взломать дверь, ворваться в гостиную и крикнуть самозванцу, сыну девицы Жерди: «Вон отсюда, ублюдок, вон! Здесь я хозяин!» Только уверенность, что я буду восстановлен в правах, удержала меня от этого. Да, теперь я знаю обиталище моих отцов! Я люблю его старинные статуи, высокие деревья, даже мостовую двора, по которой ступала нога моей матери. Люблю все, вплоть до герба над парадным входом, гордо бросающего вызов нынешним дурацким идеям о всеобщем равенстве.
Последняя фраза настолько не соответствовала взглядам адвоката, что папаша Табаре отвернулся, чтобы скрыть насмешливую улыбку. «Слаб человек! – подумал он. – Вот он уже и аристократ».
– Подъехав к дому, – продолжал Ноэль, – я увидел у дверей швейцара в роскошной ливрее. Я спросил господина графа де Коммарена. Швейцар ответил, что господин граф путешествует, а господин виконт у себя. Это нарушало мои планы, и все же я настойчиво потребовал, чтобы мне разрешили поговорить вместо отца с сыном. Швейцар не спеша осмотрел меня с ног до головы. Он только что видел, как я вылез из наемного фиакра, и оценивал, что я за человек. Его одолевали сомнения, не слишком ли я ничтожен, чтобы иметь честь предстать перед господином виконтом.
– Но вы же могли все ему объяснить.
– Прямо так, с места в карьер? О чем вы говорите, дорогой господин Табаре! – с горькой насмешкой ответил адвокат. – Похоже, экзамен этот я выдержал: моя черная пара и белый галстук сделали свое дело. Швейцар подвел меня к разряженному слуге, с которым мы пересекли двор и вошли в пышный вестибюль, где на банкетках зевало несколько лакеев. Одному из них меня препоручили. Он повел меня по роскошной лестнице, по которой проехала бы карета, по длинной, увешанной картинами галерее, через просторные тихие комнаты, где под чехлами дремала мебель, и наконец передал с рук на руки камердинеру господина Альбера. Так зовут сына госпожи Жерди, на самом же деле это мое имя.
– Понимаю, понимаю.
– Я выдержал осмотр, теперь мне предстояло подвергнуться допросу. Камердинер пожелал узнать, кто я, откуда, чем занимаюсь, что мне нужно и прочее. Я просто ответил, что виконт меня не знает, но мне нужно пять минут побеседовать с ним по неотложному делу. Он предложил мне сесть и подождать, а сам ушел. Я прождал более четверти часа, пока он не появился снова. Его хозяин милостиво согласился меня принять.
Нетрудно было догадаться, что этот прием тяжким грузом лег на сердце адвоката, который счел его за оскорбление. Он не мог простить Альберу лакеев и камердинера. Ноэль позабыл, с каким ядом некий знаменитый герцог сказал: «Я плачу своим слугам за наглость, чтобы избавить себя от дурацкой и докучной необходимости быть наглым самому». Папаша Табаре был удивлен, что столь пошлые и заурядные подробности так огорчают его молодого друга.
«Какая мелочность! – подумал он. – И это у столь одаренного человека! Быть может, верно, что именно в высокомерии слуг следует искать корни ненависти простолюдинов к любезным и учтивым аристократам».
– Меня провели, – продолжал Ноэль, – в небольшую, просто обставленную гостиную, единственным украшением которой являлось оружие всех времен и народов, развешанное по стенам. Никогда еще я не видел в таком маленьком помещении столько ружей, пистолетов, шпаг, сабель и рапир. Можно было подумать, что находишься в оружейной учителя фехтования.
Старому сыщику, естественно, тут же пришло на ум оружие, которым была убита вдова Леруж.
– Когда я вошел, – Ноэль говорил уже спокойнее, – виконт полулежал на диване. Одет он был в бархатную куртку и такие же брюки, вокруг шеи у него был повязан большой платок из белого шелка. Я отнюдь не питаю зла к этому молодому человеку; сам он не причинил мне ни малейшего вреда, о преступлении своего отца не знал, поэтому я хочу быть к нему справедливым. Он хорош собою, полон достоинства и с благородством носит имя, которое ему не принадлежит. Он моего роста, черноволос, как я, и, если бы не носил бороду, был бы похож на меня с той лишь разницей, что выглядит на несколько лет моложе. Эту моложавость нетрудно объяснить. Ему не пришлось трудиться, бороться, страдать. Он из тех счастливчиков, которые имеют с рождения все и катят по жизни в экипаже, раскинувшись на подушках, не испытывая ни малейшей тряски. Завидев меня, он поднялся и вежливо поклонился.
– Вы, я полагаю, были крайне взволнованы? – спросил папаша Табаре.
– Пожалуй, меньше, чем сейчас. Две недели мучений, что ни говори, притупляют чувствительность. Я сразу начал со слов, вертевшихся у меня на языке: «Господин виконт, вы меня не знаете, да и неважно, кто я такой. Я пришел к вам с чрезвычайно печальным и серьезным делом, оно затрагивает честь вашего имени». Он, конечно, мне не поверил, так как довольно грубо осведомился: «Это надолго?» Я только кивнул.
– Прошу вас, – вмешался папаша Табаре, весь превратившийся во внимание, – не упускать никаких, даже незначительных подробностей. Вы же понимаете, насколько это важно.
– Виконт явно забеспокоился, – продолжал Ноэль. – «Беда в том, – сказал он, – что я весьма спешу. В этот час я должен быть у девушки, на которой намерен жениться, у мадемуазель д’Арланж. Не могли бы мы отложить наш разговор?»
«Хорошенькое дело! Еще одна женщина!» – подумал старик.
– Я ответил виконту, что наше объяснение не терпит отлагательств, и, увидев, что он собирается выставить меня, достал из кармана письма графа и протянул ему одно из них. Узнав почерк отца, виконт смягчился. Он заявил, что поступает всецело в мое распоряжение, и лишь попросил позволения уведомить тех, кто его ждет. Быстро написав несколько слов, он отдал записку камердинеру и приказал немедленно доставить ее маркизе д’Арланж. После этого мы прошли в соседнюю комнату – библиотеку.
– Одно только слово, – прервал рассказ сыщик. – Увидев письма, он смешался?
– Ничуть. Плотно прикрыв дверь, он указал мне на кресло, сел сам и сказал: «Теперь, прошу вас, объяснитесь». В прихожей у меня было время подготовиться к разговору. Я решил рубить сплеча. «Господин виконт, – произнес я, – дело это весьма тягостное. Я собираюсь открыть вам нечто невероятное. Умоляю, не отвечайте, пока не познакомитесь с этими письмами. Кроме того, заклинаю вас, не пытайтесь прибегнуть к насилию, это ничего не даст». Он удивленно взглянул на меня и ответил: «Говорите, я слушаю». Я поднялся и проговорил: «Знайте, господин виконт, что вы – внебрачный сын господина де Коммарена. Доказательство – в этих письмах. Законный наследник жив, он и послал меня сюда». При этом я неотрывно смотрел на виконта и заметил, как глаза его вспыхнули гневом. На секунду я даже подумал, что он схватит меня за горло, но он быстро с собой справился. «Где письма?» – спросил он. Я протянул связку.
– Как? – вскричал папаша Табаре. – Подлинные письма? Но это же безрассудство!
– Почему?
– Он мог их… Да он мог сделать с ними все, что угодно!
Адвокат положил старику руку на плечо.
– Я ведь был там, – глухо ответил он. – Уверяю вас, никакой опасности не было.
Лицо у Ноэля вспыхнуло такой яростью, что папаша Табаре даже немного испугался и инстинктивно отодвинулся. «Да он убил бы его!» – подумал старик.
Адвокат продолжил рассказ:
– Я сделал для виконта Альбера то же, что сделал сегодня вечером для вас, мой друг. Я избавил его от чтения, по крайней мере в тот раз, всех ста пятидесяти шести писем. Я посоветовал ему ознакомиться лишь с теми, что помечены крестиком, и обратить особое внимание на строки, подчеркнутые красным карандашом. Тем самым я сокращал его муки… Виконт сидел за маленьким столиком, таким хрупким, что на него даже нельзя было облокотиться, я же стоял спиной к горящему камину. Я следил за всеми его движениями и наблюдал за лицом. Да, никогда в жизни я не видел ничего подобного; проживи я хоть тысячу лет, этой сцены мне не забыть. Меньше чем за пять минут лицо виконта изменилось настолько, что его не узнал бы даже собственный камердинер. Он схватил носовой платок и время от времени машинально подносил его ко рту. Прямо на глазах он побледнел, а губы его могли сравниться белизной с платком. На лбу у него сверкали крупные капли пота, глаза потускнели, словно покрылись какой-то пленкой. Но кроме этого – ни возгласа, ни слова, ни вздоха, ни жеста – ничего. Был миг, когда мне стало его так жаль, что хотелось вырвать у него письма, бросить их в огонь, обнять его и воскликнуть: «Ты – мой брат! Забудем же все, останемся каждый на своем месте и станем любить друг друга!»
Папаша Табаре взял руку Ноэля и крепко пожал.
– Узнаю вас, мое благородное дитя! – проговорил он.
– Я не сделал этого только потому, что спросил себя: «Если письма сгорят, признает ли он меня своим братом?»
– Совершенно справедливо.
– Примерно через полчаса виконт кончил читать. Он поднялся и встал передо мною. «Вы правы, – сказал он мне. – Если это письма отца, в чем я не сомневаюсь, то все сходится на том, что я не сын графини де Коммарен». Я молчал. «Но это лишь предположения. Есть ли у вас другие доказательства?» К возражениям я, разумеется, был готов. «Жермен сможет подтвердить», – сказал я. Он ответил, что Жермен скончался несколько лет назад. Тогда я напомнил ему о кормилице, вдове Леруж, и объяснил, что найти и расспросить ее будет нетрудно. Потом добавил, что живет она в Ла-Жоншер.
– И что он на это ответил? – поспешно спросил папаша Табаре.
– Сперва молчал и, казалось, размышлял. Потом вдруг стукнул себя по лбу и сказал: «Ну конечно, я ее знаю! Отец трижды ездил к ней вместе со мной и давал ей большие деньги». Я заметил, что это еще одно доказательство. Он не ответил и принялся мерить шагами библиотеку. Наконец он подошел ко мне и спросил: «Вы знаете законного наследника господина де Коммарена?» – «Это я». Он опустил голову и прошептал: «Так я и думал». Потом взял меня за руку и добавил: «Брат мой, я не держу на вас зла».
– Мне кажется, – проговорил папаша Табаре, – по справедливости не ему бы вас прощать, а вам его.
– Нет, друг мой, ведь это его, а не меня настигло несчастье. С высоты упал не я, а он…
Старик сыщик лишь покачал головой, не желая высказывать вслух обуревавшие его мысли.
– После долгого молчания, – продолжал Ноэль, – я спросил, каково будет его решение. «Послушайте, – проговорил он, – отец вернется через неделю с небольшим. Вы мне дадите эту отсрочку, не так ли? Как только он приедет, я объяснюсь с ним, и справедливость восторжествует, даю вам слово чести. Заберите письма и оставьте меня. Я чувствую себя так, словно у меня из-под ног уходит земля. В один миг я потерял все: знатное имя, которое всегда старался носить достойно, прекрасное положение, громадное состояние и, самое главное, быть может, женщину, которую люблю больше жизни. Правда, взамен я обрету мать. Мы будем утешать друг друга. Я постараюсь, сударь, чтобы она вас забыла: она ведь любит вас и станет оплакивать».
– Он в самом деле сказал это?
– Почти слово в слово.
– Негодяй! – проворчал сквозь зубы старик.
– Что вы сказали? – переспросил Ноэль.
– Я говорю, что он достойный молодой человек, – отвечал папаша Табаре, – я был бы счастлив с ним познакомиться.
– Я не показал ему письмо, в котором отец порывает с госпожой Жерди, – добавил Ноэль, – ему лучше не знать о ее падении. Я предпочел обойтись без этого доказательства, чтобы не усугублять горе виконта.
– А что теперь?
– Теперь я жду возвращения графа. Буду действовать в зависимости от того, что он скажет. Завтра пойду в прокуратуру и попрошу разобрать бумаги Клодины. Если письма найдутся, я спасен, если же нет… Но, как я уже говорил, я не могу судить беспристрастно, пока не выясню, кто убийца. К кому мне обратиться за советом?
– Любой совет требует долгих размышлений, – ответил старик, который мечтал уйти. – Бедный мальчик, как вам чудовищно тяжело было все это время!
– Невыносимо! И добавьте еще денежные затруднения.
– Да вы же так мало тратите!
– Пришлось кое-что заложить. Разве я могу прикоснуться к нашим общим деньгам, которыми распоряжался до сих пор? Мне и подумать-то об этом страшно.
– Верно, этого делать не следует. Послушайте-ка, вы очень кстати заговорили о деньгах, так как можете оказать мне услугу.
– Охотно. Какую же?
– Понимаете, у меня в столе лежат не то двенадцать, не то пятнадцать тысяч франков, которые меня страшно стесняют. Я стар, я не отличаюсь храбростью, и если про эти деньги кто-нибудь прознает…
– Боюсь… – возразил адвокат.
– И слышать не хочу! – прервал его старик. – Завтра я вам их принесу.
Однако вспомнив, что он собирается к г-ну Дабюрону и, возможно, не будет располагать своим временем, папаша Табаре добавил:
– Нет, не завтра, а сегодня же, сейчас. Эти проклятые деньги не проведут у меня больше и ночи.
Он поднялся наверх и вскоре появился, держа в руке пятнадцать тысячефранковых банкнот.
– Если этого не хватит, – сказал он, протягивая деньги Ноэлю, – есть еще.
– Все же мне хотелось бы, – предложил адвокат, – написать расписку.
– Да зачем? Можно завтра.
– А если я сегодня ночью умру?
– Тогда я еще получу от вас наследство, – ответил старик, вспомнив о своем завещании. – Доброй ночи. Вы спрашивали у меня совета? Мне нужна ночь, чтобы все обдумать, а то сейчас у меня мозги набекрень. Я, может, даже пройдусь. Если я сейчас лягу, мне будут сниться кошмары. Итак, друг мой, терпение и отвага! Кто знает, быть может, в этот миг провидение работает на вас.
Папаша Табаре ушел; Ноэль оставил дверь приоткрытой, прислушиваясь к затихающим на лестнице шагам. Вскоре возглас «Отворите!», обращенный к привратнику, и стук двери возвестили о том, что старик вышел из дома.
Ноэль подождал еще немного и прикрутил лампу. Затем достал из ящика стола маленький сверток, сунул в карман деньги, данные стариком, и вышел из кабинета, который запер на два оборота ключа. На площадке он остановился и прислушался, словно до него мог долететь стон г-жи Жерди. Ничего не услышав, Ноэль на цыпочках спустился вниз. Через минуту он был на улице.
Кроме квартиры на четвертом этаже, г-жа Жерди снимала также помещение на первом, служившее некогда каретным сараем. Она устроила там нечто вроде кладовой, куда сваливала всякое старье: ломаную мебель, негодную утварь, короче, всякий ненужный хлам. Там же хранились запасы дров и угля на зиму.
В этом помещении имелась давно заколоченная дверь, выходившая на улицу. Несколько лет назад Ноэль втихомолку починил ее и врезал новый замок. С тех пор он мог выходить из дома и входить в него в любое время без ведома привратника, а значит, и остальных жильцов.
В эту-то дверь адвокат и вышел на сей раз, отворив и затворив ее с величайшей осторожностью.
Оказавшись на улице, он несколько мгновений постоял, как бы решая, куда направиться. Затем медленно двинулся в сторону вокзала Сен-Лазар и тут увидел свободный фиакр. Ноэль сделал извозчику знак, и тот, придержав лошадь, подогнал экипаж к тротуару.
– На улицу Фобур-Монмартр, угол Провансальской, – приказал адвокат, влезая, – да поживей!
Добравшись до места, он вылез и расплатился с извозчиком. Когда тот отъехал достаточно далеко, Ноэль пошел по Провансальской улице и, пройдя шагов сто, позвонил в один из самых красивых домов.
Дверь тотчас же отворилась.
Когда Ноэль проходил мимо каморки привратника, тот поздоровался с гостем почтительно, покровительственно и дружелюбно в одно и то же время; так парижские привратники здороваются лишь с теми жильцами, которые им по душе, людьми великодушными и щедрыми.
Поднявшись на третий этаж, адвокат остановился, достал из кармана ключ и вошел, словно к себе домой, в среднюю квартиру. Хотя ключ в замке повернулся почти беззвучно, этого оказалось достаточно, чтобы навстречу Ноэлю выбежала горничная: довольно молодая, довольно хорошенькая, с дерзким взглядом.
– Ах, это вы, сударь! – воскликнула она.
Восклицание было как раз той громкости, какая необходима, чтобы его услышали в глубине квартиры и восприняли как предупреждение. С таким же успехом горничная могла просто крикнуть: «Берегись!» Ноэль, казалось, не обратил на это внимания.
– Хозяйка дома? – спросил он.
– Да, сударь, и очень на вас сердита. Сегодня утром она хотела послать за вами, а недавно собиралась сама к вам поехать. Насилу я отговорила ее не нарушать ваши указания.
– Это хорошо, – сказал адвокат.
– Хозяйка в курительной, – продолжала горничная. – Я готовлю ей чай. Может, вы тоже выпьете?
– Да, – ответил Ноэль. – Посветите мне, Шарлотта.
Он прошел через великолепную столовую, сверкающую позолотой гостиную в стиле Людовика XIV и оказался в курительной.
В этой просторной комнате был очень высокий потолок. Казалось, она находится за тысячи миль от Парижа, во владениях какого-нибудь богатого подданного Поднебесной империи. Мебель, ковры, картины, обои – все здесь было явно привезено прямо из Гонконга или Шанхая.
Стены и двери были задрапированы расписным шелком. На сценках, изображенных киноварью, перед зрителями предстала вся Срединная империя: пузатые мандарины среди фонариков, одурманенные опиумом ученые, спящие под зонтами, девушки, стыдливо опустившие взгляд на свои туго перебинтованные ноги.
Цветы и плоды на ковре – секрет изготовления таких ковров в Европе неизвестен – были вытканы с искусством, которое обмануло бы и пчелу. На шелковой драпировке потолка какой-то великий китайский художник нарисовал на лазурном фоне фантастических птиц с распростертыми золотыми и пурпурными крыльями. Драпировка удерживалась лаковыми рейками, изысканно инкрустированными перламутром; такие же рейки украшали углы комнаты. Подле одной стены стояли два причудливых сундука. Все помещение было заставлено мебелью самых прихотливых очертаний, столиками с фарфором, шкафчиками из драгоценных пород дерева. Были там и этажерки, купленные у Лин-Ци в городе художников Сучжоу, множество редких и дорогих безделушек – от палочек из слоновой кости, что заменяют китайцам наши вилки, до фарфоровых чашек тоньше мыльных пузырей, чудес династии Цин[78].
Посередине комнаты стоял широкий и низкий диван с грудой подушек, обтянутых тою же тканью, что и стены. Окно было огромно, словно витрина магазина, с двойными открывающимися рамами. Пространство между рамами с метр шириной было уставлено редкостными цветами. Вместо камина комната была снабжена отдушниками, расположенными таким образом, чтобы поддерживать температуру, необходимую для выведения шелковичных червей, вполне гармонировавшую с обстановкой.
Когда Ноэль вошел, молодая женщина, свернувшись клубком на диване, курила сигарку. Несмотря на тропическую жару, она была закутана в кашемировую шаль.
Она была невысока ростом, но ведь только миниатюрные женщины могут обладать всеми совершенствами. Женщины, рост которых выше среднего, – просто ошибка природы. Как бы красивы они ни были, у них всегда найдется какой-нибудь изъян, словно в творении скульптора, пусть даже талантливого, но впервые взявшегося за слишком большое изваяние.
Да, ростом она была невелика, однако ее шея, плечи и руки поражали плавностью линий. Пальцы ее с розовыми ногтями напоминали драгоценные вещицы, за которыми тщательно ухаживают. Ноги в шелковых, похожих на паутинку чулках были само совершенство. При взгляде на них вспоминались не ножки сказочной Золушки в хрустальных башмачках, но вполне живые, вполне осязаемые ножки банкирши, любившей, чтобы ее почитатели заказывали с них копии из мрамора, гипса или бронзы.
Женщину нельзя было назвать красивой, ни даже хорошенькой, однако лицо ее принадлежало к тем, что поражают, словно удар грома, и никогда не забываются. Лоб у нее был чуть выше, чем нужно, рот чуть великоват, хотя губы пленяли своей свежестью.
Брови, казалось, были нарисованы китайской тушью, но художник, пожалуй, слишком нажимал на кисточку: когда она забывала за собой следить, они придавали ей суровый вид. Зато лицо у нее было великолепного светло-золотистого цвета, черные бархатные глаза обладали необычайной магнетической силой, зубы сияли перламутровой белизной, а в удивительно густых черных волосах, тонких и волнистых, мерцали голубоватые отблески.
Увидев Ноэля, откинувшего шелковую портьеру, женщина оперлась на локоть и приподнялась.
– Наконец-то, – произнесла она недовольным тоном. – Вы очень кстати.
Адвокату стало душно в африканской атмосфере курительной комнаты.
– Какая жара! – сказал он. – Здесь можно задохнуться.
– Вы находите? – отозвалась женщина. – А я вот стучу зубами. Мне так плохо. Ожидание невыносимо для меня, я места себе не нахожу, а вы заставляете себя ждать со вчерашнего дня.
– Но я никак не мог прийти, просто никак! – объяснил Ноэль.
– Вам же прекрасно известно, – продолжала дама, – что сегодня подошли сроки платежей и что платить мне нужно много. Набежали поставщики, а у меня за душой ни гроша. Принесли счет от каретника – денег нет. Этот мошенник Клержо, которому я задолжала три тысячи франков, устроил мне ужасный скандал. Как это все неприятно!
Ноэль понурил голову, словно школьник, которому учитель выговаривает за невыученный урок.
– Но ведь задержка-то всего на один день, – пробормотал он.
– По-вашему, это пустяки? – отозвалась молодая женщина. – Уважающий себя человек, друг мой, может позволить опротестовать свой вексель, но никогда – вексель своей любовницы. Да за кого вы меня принимаете? Неужели вам не известно, что мое положение в обществе зависит прежде всего от денег? Стоит мне не заплатить по векселям – и все, конец.
– Жюльетта, дорогая… – ласково начал адвокат.
Она резко его прервала:
– Ну, разумеется: «Жюльетта, дорогая, обожаемая». Пока вы здесь, все очаровательно, но только выйдете за порог, вас не дозовешься. Наверное, и не вспомните даже, что есть такая Жюльетта…
– Это несправедливо! – возразил Ноэль. – Вы же знаете, я постоянно думаю о вас, я тысячу раз вам это доказывал. А сейчас докажу снова.
Он достал из кармана пакетик, взятый им из стола, развернул его и показал прелестную бархатную коробочку.
– Это браслет, что так понравился вам неделю назад на витрине у Бограна.
Мадам Жюльетта, не поднимаясь, протянула руку за коробочкой, открыла ее небрежно и безразлично, взглянула на браслет и неопределенно хмыкнула.
– Тот самый? – спросил Ноэль.
– Да, но у торговца он нравился мне гораздо больше.
Она закрыла коробочку и бросила ее на столик.
– Не везет мне сегодня, – проговорил адвокат с досадой.
– А что?
– Я вижу, браслет вам не по душе.
– Ну почему же? Он прелестен. И кроме того, он довершает вторую дюжину.
Теперь в свою очередь хмыкнул Ноэль. Жюльетта промолчала, и он добавил:
– Что-то не верится, чтобы вы были ему рады.
– Вот оно что! – воскликнула дама. – Вам кажется, что я недостаточно жарко выражаю свою признательность. Вы принесли мне подарок и считаете, что я тут же должна отплатить сполна: наполнить дом радостными криками, прыгнуть к вам на колени, называя вас щедрым и великодушным повелителем.
Ноэль не смог сдержать нетерпеливого жеста, который не ускользнул от Жюльетты и привел ее в полный восторг.
– Этого будет достаточно? – продолжала она. – Или вы хотите, чтобы я позвала Шарлотту и похвасталась ей этим замечательным браслетом, памятником вашему благородству? А может, нужно пригласить привратника и кухарку, чтобы сказать им, как я счастлива, имея столь щедрого любовника?
Адвокат пожал плечами с видом философа, который не обращает внимания на проказы ребенка.
– К чему эти язвительные шутки? – произнес он. – Если вы и в самом деле обижены на меня за что-то, скажите прямо.
– Ладно же, будем говорить прямо, – ответила Жюльетта. – Вот что я хочу вам сказать: лучше бы вы забыли об этом браслете и принесли мне вчера вечером или сегодня утром восемь тысяч франков, которые мне так необходимы.
– Я не мог прийти.
– Значит, надо было прислать: посыльные на улицах еще не перевелись.
– Раз я их вам не принес и не прислал, значит, у меня их не было, мой друг. Прежде чем я их нашел, мне пришлось побегать, да и то мне их обещали только завтра. Те деньги, что я принес, достались мне по чистой случайности, на которую я не рассчитывал еще час назад; я просто схватился за них, рискуя поставить себя в неудобное положение.
– Бедняжка! – сказала Жюльетта с насмешливой жалостью. – И вы осмеливаетесь мне говорить, что с трудом достали десять тысяч франков!
– Да, осмеливаюсь.
Молодая женщина посмотрела на любовника и разразилась хохотом.
– В роли бедного юноши вы неподражаемы!
– Это не роль.
– Вы только так говорите, дорогой мой, а сами все-таки явились. Это ваше милое признание лишь предисловие. Завтра вы объявите, что весьма стеснены в средствах, а послезавтра… Вас просто снедает скупость. Раньше вы были лишены этой добродетели. Быть может, вы испытываете угрызения совести из-за денег, что мне дали?
– Вот дрянь! – пробормотал в сердцах Ноэль.
– В самом деле, – продолжала дама, – мне вас жаль, и весьма. Злополучный любовник! Может, мне устроить подписку в вашу пользу? На вашем месте я обратилась бы в комитет общественного призрения.
Несмотря на все усилия остаться спокойным, Ноэль взорвался.
– Вы полагаете, это шутки? – воскликнул он. – Знайте же, я разорен, у меня кончились последние сбережения. Я совсем потерял голову!
Глаза у молодой женщины засверкали, она с нежностью взглянула на любовника:
– Ах, если бы это была правда, котик! Если бы я могла тебе поверить!
Для Ноэля ее взгляд был как нож острый. Сердце его разрывалось. «Она поверила, – подумал он, – и до смерти рада. Она ненавидит меня». Он ошибался. Мысль о том, что мужчина любит ее до такой степени, что разорился из-за нее без слова упрека, приводила ее в восторг. Она чувствовала, что готова любить этого впавшего в нищету человека, который был ей ненавистен, пока был богат и горд. Однако выражение ее глаз очень скоро изменилось.
– Ну и дурочка я! – вскричала она. – Уже и поверила, уже и пожалела. У него, видите ли, деньги текут сквозь пальцы. Рассказывайте кому другому, мой дорогой! Сейчас ведь все мужчины считают денежки не хуже ростовщиков. Разоряются лишь немногие олухи – тщеславные мальчишки да иногда сластолюбивые старички. Вы же – очень хладнокровны, серьезны и, уж конечно, очень сильны.
– Но не с вами, – прошептал Ноэль.
– Довольно! Оставьте меня наконец в покое, вы ведь прекрасно знаете, что делаете. У вас ведь вместо сердца двойное зеро, как на рулетке в Хомбурге[79]. Заполучив меня, вы сказали себе: «Я буду платить за любовь как таковую». И слово свое вы сдержали. Такое помещение капитала не хуже любого другого; каждый имеет свою выгоду. Вы способны на любые безумства по твердой цене – четыре тысячи франков в месяц. А если выйдет дороже, хотя бы на двадцать су, вы заберете под мышку сердце и шляпу и отправитесь туда, где вам не придется переплачивать.
– Верно, – холодно ответил адвокат, – считать я умею, и это весьма полезно. Я точно знаю, куда и как идут мои деньги.
– В самом деле? – с издевкой спросила Жюльетта.
– Да, и могу рассказать вам, дорогая моя. Поначалу вы были не слишком требовательны. Но аппетит приходит во время еды. Вам захотелось роскоши, и вы ее получили: у вас есть квартира, прекрасная обстановка, невообразимые туалеты – я не отказывал вам ни в чем. Вы захотели иметь карету и лошадь – пожалуйста. Я не говорю уже о тысяче ваших прихотей. Не считаю ни этой китайской комнаты, ни двух дюжин браслетов. Все вместе стоило четыреста тысяч франков.
– Вы уверены?
– Как человек, у которого они были, а теперь нет.
– Ровно четыреста тысяч? Без сантимов?
– Ровно.
– Ну а если я представлю вам счет, мой друг, то вы еще останетесь мне должны.
Горничная, которая принесла чай, прервала этот любовный дуэт, коему предшествовала уже не одна репетиция. При виде Шарлотты адвокат замолчал.
Жюльетта хранила молчание ради любовника, у нее не было секретов от Шарлотты, которая служила ей уже три года и которой она охотно прощала все, даже красавца-любовника, обходившегося довольно дорого.
Г-жа Жюльетта Шаффур была парижанкой. Она родилась в 1839 году где-то на Монмартре от неизвестного отца. Все ее детство представляло череду равно неистовых ласк и взбучек. Питалась она скверно – одними конфетами да подпорченными фруктами, но ее желудку ничто не могло повредить. В двенадцать лет была она худа, как щепка, зелена, как незрелое яблоко, и порочна, как все обитательницы Сен-Лазара[80] вместе взятые. Г-н Прюдом[81] сказал бы, что эта юная особа начисто лишена нравственных начал.
У нее не было ни малейшего представления об этом абстрактном понятии. Она полагала, что весь мир состоит из порядочных людей, живущих, как ее матушка, друзья ее матушки и ее собственные друзья. Она не боялась ни Бога, ни черта, однако опасалась полицейских. Кроме того, ее страшили некие таинственные и жестокие личности, которые, судя по разговорам, жили где-то в окрестностях Дворца правосудия и испытывали злобную радость, причиняя горе хорошеньким девочкам.
Поскольку она не обещала стать красавицей, ее решили определить в магазин, но тут некий почтенный старик, знававший некогда ее мамашу, взял ее под свое покровительство. Благоразумный и предусмотрительный, как все старики, он был знатоком и понимал: что посеешь, то и пожнешь. Поэтому он решил сперва придать своей протеже лоск образованности. Он нанял ей учителей, она стала брать уроки музыки, танцев и меньше чем за три месяца научилась писать, немного бренчать на рояле и овладела первыми началами искусства, которое вскружило голову не одному любителю танцев.
Единственное, чего старик ей не дал, это любовника. Его она выбрала сама: то был художник, не научивший ее ничему новому, но похитивший ее у старика; он предложил ей половину того, что имел, то есть ничего. Наскучив им через три месяца, она покинула гнездышко первой любви, унеся с собой весь свой гардероб, завернутый в носовой платок.
В течение следующих четырех лет Жюльетта жила по преимуществу теми надеждами, какие никогда не оставляют женщину, сознающую, что она хороша собой. Она то опускалась на дно, то вновь выплывала на поверхность. Дважды рукой в дорогой перчатке в дверь к ней стучалась удача, однако Жюльетте не хватало присутствия духа ухватить гостью за полы пальто.
С помощью некоего актера она дебютировала в театре и даже стала уже довольно бойко декламировать роли, когда совершенно случайно ее встретил Ноэль, влюбился и взял на содержание.
Поначалу «мой адвокат», как она его называла, особого неудовольствия у нее не вызывал, однако через несколько месяцев надоел. Он раздражал ее мягкостью и учтивостью, светскими манерами, благовоспитанностью, плохо скрываемым презрением ко всему низкому и подлому и в особенности неизменным, неистощимым терпением. Ее весьма огорчало то, что он не был весельчаком и наотрез отказывался водить ее в славные местечки, где царит веселье без предрассудков. Чтобы развлечься, Жюльетта начала сорить деньгами. И по мере того как росли ее амбиции и умножались жертвы любовника, возрастала ее неприязнь к нему.
Она сделала его несчастнейшим из людей и обращалась с ним, как с собакой, причем не из врожденной зловредности, а намеренно, из принципа. Она была убеждена, что чем больше огорчений причиняет, чем больше зла приносит, тем сильнее ее любят.
Жюльетта не была злой и очень жалела себя. Она мечтала, чтобы ее любили какой-то особенной любовью, и даже чувствовала, как именно, но объяснить не могла. Для своих любовников она была лишь игрушкой или предметом роскоши, понимала это и, поскольку пренебрежение было ей невыносимо, приходила в ярость. Ей хотелось, чтобы возлюбленный был ей предан и многим для нее жертвовал, чтобы он опускался до ее уровня, а не стремился поднять до своего. Но она уже отчаялась встретить такого человека.
Безумные траты Ноэля оставляли ее холодной как лед; она полагала, что он весьма богат, а саму ее, как это ни странно, деньги занимали мало, хотя алчность была ей не чужда. Возможно, Ноэль покорил бы ее, если бы прямо, без обиняков раскрыл ей глаза на свое положение; потерял же ее он из-за своей сдержанности и даже скрытности, поскольку никогда не упоминал о жертвах, на которые шел ради нее.
Он ее обожал. До рокового дня их встречи Ноэль жил целомудренно. Первая страсть выжгла его, и после этой катастрофы уцелела одна лишь оболочка. Остались четыре стены, но внутри дом весь выгорел. У всякого героя есть уязвимое место: Ахилл погиб, пораженный в пяту; даже у самого искусного воина в броне есть изъяны.
Ноэль покорился Жюльетте и шел на бесчисленные уступки. Этот образцовый молодой человек, адвокат с незапятнанной репутацией, этот суровый моралист спустил на нее за четыре года не только свое состояние, но и состояние г-жи Жерди.
Он любил Жюльетту неистово, безрассудно, безмерно, слепо. При ней он забывал осторожность и все говорил напрямик. У нее в будуаре он сбрасывал маску привычной осторожности, и тут все его недостатки выступали наружу. Ему так нравилось быть перед нею робким и податливым, что он и не пытался бороться. Она стала его владычицей. Иногда он пробовал сопротивляться ее безумным прихотям, но она сгибала его, словно ивовый прут. Он чувствовал, что под взглядом черных глаз этой девчонки его решимость тает быстрее, чем снег под апрельским солнцем. Она терзала его, но умела и утешить улыбкой, слезами или поцелуем.
Временами, когда он находился вдали от обольстительницы, к нему возвращался рассудок, и в минуты просветления он говорил себе: «Она не любит меня, она мною играет!» Однако верность пустила у него в сердце столь глубокие корни, что вырвать их он не мог. Ноэль безмерно ревновал, но удерживался от напрасных проявлений этого чувства. Веские причины сомневаться в верности любовницы бывали у него не раз, и все же ему всегда не хватало смелости высказать открыто свои подозрения. «Если я окажусь прав, – думал он, – придется либо уйти от нее, либо принимать все как есть». Мысль о том, чтобы бросить Жюльетту, повергала его в ужас; он чувствовал: страсть его столь раболепна, что ради нее он примет любые унижения.
Горничная довольно долго расставляла чайные принадлежности, и Ноэль успел тем временем собраться с мыслями. Он смотрел на Жюльетту, и гнев его улетучивался. Адвокат даже начал спрашивать себя, не слишком ли он был с нею резок.
Когда Шарлотта ушла, он сел рядом с любовницей на диван и обнял ее.
– Что-то ты сегодня сердита, – сказал он ласково. – Если я в чем-то и провинился, ты меня уже наказала. Поцелуй меня и помиримся.
Жюльетта раздраженно оттолкнула его и холодно промолвила:
– Оставьте меня. Сколько раз вам повторять: я сегодня плохо себя чувствую.
– Плохо себя чувствуешь, друг мой? Что с тобою? – спросил адвокат. – Хочешь, я пошлю за врачом?
– Не утруждайтесь. Я знаю, что у меня за болезнь: это скука. Вы вовсе не тот врач, который мне нужен.
Ноэль с унылым видом встал и сел за чайный стол напротив любовницы. Его покорность говорила о том, насколько он привык к таким грубым отказам. Жюльетта обходилась с ним дурно, а он все возвращался, словно несчастный пес, который целыми днями ждет, когда на его ласки обратят внимание. А ведь он слыл суровым, вспыльчивым, своенравным! И в сущности, это так и было.
– Последние месяцы вы часто говорите, что я вам наскучил, – продолжал он. – Что же мне для вас сделать?
– Ничего.
– Ну, а все-таки?
– У меня теперь не жизнь, а сплошная зевота, – ответила молодая женщина, – и вовсе не по моей вине. Думаете, быть вашей любовницей весело? Да посмотрите вы на себя! Есть ли на свете создание более печальное и унылое, чем вы, более беспокойное, подозрительное, да вдобавок еще и постыдно ревнивое?
– Вы так встречаете меня, – отважился вставить Ноэль, – что и впрямь пропадет всякая охота радоваться и откровенничать. К тому же где любовь, там и опасения.
– Хорошенькое дело! Тогда нужно подыскать женщину по себе, по своей мерке, запереть ее в подвале и выпускать раз в день, после обеда, на десерт вместе с шампанским – чтобы поразвлечься.
– Лучше бы мне вовсе не приходить, – пробормотал адвокат.
– Ну конечно! А я сиди здесь одна и утешайся сигаркой да какими-то книжонками, от которых только спать хочется! Ну что это за жизнь – торчать безвылазно дома?
– Так живут все порядочные женщины, которых я знаю, – сухо ответил адвокат.
– Благодарю! В таком случае я, по счастью, не отношусь к порядочным женщинам, и мне надоело жить взаперти и любоваться лишь вашей физиономией, словно жене какого-нибудь турка.
– Это вы-то живете взаперти?
– Разумеется, – продолжала Жюльетта все более едко. – Скажите, вы хоть когда-нибудь приводили сюда своих приятелей? Нет, вы изволите меня прятать. Когда вы предлагали мне пойти прогуляться? Никогда: ваше достоинство может пострадать, если вас увидят вместе со мною. У меня есть карета: часто ли мы в ней катались? Да и то вы опускали занавески. Я выезжаю одна, гуляю одна…
– Старая песня, – прервал Ноэль, которым опять начал овладевать гнев, – без конца одни и те же беспричинные оскорбления. Будто вы не знаете, почему все так.
– Мне прекрасно известно, – гнула свое молодая женщина, – что вы стыдитесь меня. Однако я знаю людей и познатнее вас, которые не стесняются своих любовниц. Вы изволите бояться, что я запятнаю прекрасное имя Жерди, а между тем отпрыски самых знатных фамилий не боятся показаться в ложе в обществе кокоток.
На этот раз к большому удовольствию г-жи Шаффур Ноэль взбесился.
– Хватит упреков! – воскликнул он, вскочив. – Если я скрываю наши отношения, то лишь потому, что это необходимо. На что вы жалуетесь? Я предоставил вам свободу, и вы пользуетесь ею столь широко, что я понятия не имею о вашем времяпрепровождении. Вы мне пеняете на пустоту, которую я создал вокруг вас? А кто виноват? Разве это мне наскучила покойная и скромная жизнь? Мои друзья могли бы прийти в пристойную зажиточную квартиру, но как я приглашу их сюда? Увидев вашу роскошь, это бесстыдное свидетельство моего безрассудства, они тут же зададут себе вопрос: откуда у меня столько денег? Я могу содержать любовницу, но у меня нет права швырять на ветер состояние, которое мне не принадлежит. Если завтра станет известно, что вас содержу я, мне конец. Какой клиент доверит свои дела дураку, разорившемуся ради женщины, о которой говорит весь Париж? Я – не аристократ, я не рискую ни прославленным в веках именем, ни громадным состоянием. Я Ноэль Жерди, адвокат, все, что у меня есть, – это моя репутация. Она ложна – пусть так. Но какова бы она ни была, я должен ее беречь, и я ее сберегу.
Жюльетта, знавшая Ноэля как облупленного, решила, что зашла слишком далеко, и принялась его успокаивать.
– Хорошо, хорошо, мой друг. Я не хотела причинить вам боль, – сказала она ласково. – Имейте снисхождение, просто сегодня я что-то очень раздражительна.
Такая перемена пришлась адвокату по душе, и он почти успокоился.
– Своею несправедливостью вы меня просто с ума сводите, – вздохнул он. – Я из сил выбиваюсь, чтобы хоть чем-то порадовать вас! Вы все упрекаете меня за серьезность, а ведь и двух дней не прошло, как мы с вами так повеселились на карнавале. В тот вторник я резвился, точно студент. Мы ходили в театр, на бал в Оперу, я нарядился в домино, пригласил двух друзей отужинать с нами.
– Да уж, то-то было весело! – произнесла молодая женщина, надув губы.
– По-моему, было.
– Вы так считаете? Не слишком-то вы разборчивы! Мы были на водевиле, верно, но только, как всегда, по отдельности: я одна на галерке, вы в партере. На балу у вас был такой вид, словно вы на похоронах. За ужином ваши друзья сидели с кислыми физиономиями. Вы велели, чтобы я притворилась, будто едва с вами знакома. Сами же пили как лошадь, а я даже не могла понять, под хмельком вы или нет.
– Это доказывает, – прервал Ноэль, – что никогда нельзя себя принуждать. Поговорим о чем-нибудь другом. – Он прошелся по комнате и вытащил часы. – Через час, друг мой, я вас покину.
– Разве вы не останетесь?
– Нет. К величайшему сожалению, моя мать серьезно заболела.
Ноэль выложил на стол и пересчитал деньги, взятые у папаши
Табаре.
– Маленькая моя Жюльетта, – произнес он, – здесь не восемь тысяч, а десять. Вы не увидите меня несколько дней.
– Вы уезжаете из Парижа?
– Нет, но я буду занят делом, которое имеет для меня первостепенную важность. Первостепенную! Если оно удастся, моя милая, наше будущее обеспечено, и ты узнаешь, как я тебя люблю.
– Ох, Ноэль, дорогой, расскажи!
– Не могу.
– Ну, прошу тебя! – воскликнула молодая женщина и, обняв любовника за шею, приподнялась на цыпочках так, что губы их сблизились.
Адвокат поцеловал ее, решимость его пошатнулась.
– Нет! – выговорил он наконец. – В самом деле, не могу. Не стану радовать тебя раньше времени. А теперь, дорогая, слушай меня внимательно. Что бы ни произошло – понимаешь? – ни в коем случае не приходи ко мне, как ты имела неосторожность это делать, даже не пиши. Если не послушаешься, сильно навредишь мне. Если вдруг с тобой что-нибудь случится, отправь мне записку с этим старым чудаком Клержо. Я увижусь с ним послезавтра, у него мои векселя.
Жюльетта отступила и шаловливо погрозила Ноэлю пальчиком.
– Значит, ты так-таки ничего мне не скажешь?
– Сегодня нет. Скоро, – отвечал адвокат, смешавшись под взглядом любовницы.
– Вечно какие-то тайны! – воскликнула Жюльетта, раздосадованная, что ее нежность оказалась бессильна.
– Клянусь, это в последний раз.
– Ноэль, голубчик, – снова, уже серьезно, принялась убеждать молодая женщина, – ты что-то от меня скрываешь. Ты же знаешь, я тебя насквозь вижу, последнее время ты сам не свой. Ты очень переменился.
– Клянусь тебе…
– Не нужно клясться, все равно не поверю. Только предупреждаю: никаких фокусов, я сумею за себя постоять.
Адвокат явно чувствовал себя не в своей тарелке.
– Да ведь дело может и не выгореть, – пробормотал он.
– Хватит! – прервала его Жюльетта. – Все будет по-твоему, обещаю. А теперь, сударь, поцелуйте меня, я собираюсь лечь.
Не успел Ноэль уйти, как Шарлотта уже сидела на диване подле хозяйки. Останься адвокат за дверью, он услышал бы, как Жюльетта говорит:
– Нет, я решительно не намерена больше его терпеть. До чего несносен! Ах, если бы он не нагонял на меня такого страху, я бросила бы его. Но он способен меня убить!
Горничная пыталась защищать Ноэля, но тщетно: молодая женщина, ничего не слушая, продолжала:
– Почему я так редко его вижу, что он затевает? С какой стати он исчез на целую неделю? Это подозрительно. Уж не собрался ли он случаем жениться? Ах, если бы знать! Ты опостылел мне, мой милый, и в одно прекрасное утро я тебя брошу, но не потерплю, чтобы ты оставил меня первый. Неужели он женится? Этого я не вынесу. Нужно бы разведать…
Однако Ноэль не подслушивал за дверью. Он выскочил на Провансальскую улицу, добрался до дому и вошел тем же путем, что и выходил, – через бывший каретный сарай. Не пробыл он у себя в кабинете и пяти минут, как в дверь постучали.
– Сударь, – послышался голос прислуги, – сударь, отзовитесь, во имя неба!
Ноэль открыл дверь и раздраженно воскликнул:
– Ну что там еще?
– Сударь, – проговорила служанка, заливаясь слезами, – я стучалась уже три раза, а вы все не отвечаете. Пойдемте, умоляю вас. Боюсь, госпожа умирает.
Адвокат поспешил вслед за служанкой в комнату г-жи Жерди. Больная так страшно переменилась, что он содрогнулся.
Накрытая одеялами, она тряслась в лихорадке, лицо ее сделалось таким бледным, словно в жилах у нее не осталось ни капли крови; глаза, горевшие мрачным огнем, казалось, подернулись тонкой пленкой. Распущенные волосы обрамляли лицо и спускались на плечи, отчего г-жа Жерди выглядела еще ужасней. Из груди у нее порой вырывался слабый стон, иногда она что-то неразборчиво бормотала. Временами при сильных приступах она вскрикивала: «Больно! Больно!» Ноэля она не узнала.
– Видите, сударь, – сказала служанка.
– Кто же мог предположить, что болезнь будет развиваться столь стремительно? Быстрее бегите к доктору Эрве: пусть встает и немедленно идет сюда. Скажите, я просил.
Распорядившись, Ноэль сел в кресло лицом к больной.
Доктор Эрве был старым другом Ноэля, его соучеником и товарищем по Латинскому кварталу. История доктора Эрве – это история одного из тех молодых людей, которые без денег, без связей, без протекции осмеливаются посвятить себя самой трудной, самой сомнительной профессии, какая существует в Париже. Увы, нередко случается, что молодые талантливые врачи ради пропитания вступают в сговор с самыми бесчестными аптекарями. Человек поистине замечательный и знавший себе цену, Эрве, закончив учение, сказал себе: «Нет, я не стану прозябать в деревенской глуши, я останусь в Париже, стану знаменит, сделаюсь главным врачом больницы и кавалером ордена Почетного легиона».
Чтобы вступить на этот путь, в конце которого маячила ослепительная триумфальная арка, будущий академик залез в долги на двадцать тысяч франков. Нужно было снять и обставить помещение, а это стоит недешево. Затем, вооружившись долготерпением и неукротимой волей, он стал бороться и ждать. Но кто может себе представить, что значит ждать в таких условиях? Чтобы понять, нужно пройти через все это. Умирать от голода – во фраке, свежевыбритым и с улыбкой на губах! Современная утонченная цивилизация придумала эту муку, и перед ней бледнеют самые жестокие пытки дикарей. Начинающий врач пользует бедняков, которым нечем платить. А больные – народ неблагодарный. Выздоравливая, они прижимают врача к груди и называют своим спасителем. Выздоровев, они смеются над медиками и с легкостью забывают о гонораре.
После семи лет героических усилий у Эрве образовалась, наконец, приличная практика. Все это время он платил чудовищные проценты по долгу, но тем не менее ему удалось приобрести известность. Несколько брошюр и премия, полученная без особых интриг, привлекли к нему внимание.
Увы, это был уже не тот жизнерадостный молодой человек, которого в день первого визита переполняли надежды и уверенность в будущем. Он еще хотел, и сильнее, чем когда бы то ни было, добиться своего, преуспеть, однако радости от преуспеяния уже не ждал. Слишком много он мечтал об успехе вечерами, когда ему не на что было пообедать. За свое будущее богатство, сколь бы оно ни оказалось велико, он уплатил с лихвой. Преуспеть для него теперь означало лишь взять реванш. В свои тридцать пять лет он познал столько разочарований и обманутых надежд, что ни во что не верил. Под его напускной доброжелательностью таилось безмерное презрение. Проницательность, обострившаяся за годы нужды, мешала ему, поскольку людей прозорливых обычно опасаются, и он старательно скрывал ее под маской добродушия и беспечности. Вместе с тем он был добр и преданно любил друзей.
Одетый кое-как, он вошел в спальню г-жи Жерди и спросил:
– Что случилось?
Ноэль молча пожал ему руку и вместо ответа указал на постель. Доктор взял лампу, осмотрел больную и подошел к другу.
– Что с ней было? – отрывисто спросил он. – Мне необходимо знать.
Услышав вопрос, адвокат вздрогнул.
– Что знать? – пробормотал он.
– Все! – отвечал Эрве. – У нее воспаление головного мозга, сомнений тут нет. Болезнь эта встречается не так часто, хотя мозг есть у каждого человека и работает в течение всей его жизни. Ее причины? Нет, отнюдь не повреждение мозга, не травма черепа, но жестокие душевные потрясения, сильное огорчение, какая-нибудь внезапная катастрофа…
Ноэль жестом прервал приятеля и отвел к окну.
– Да, мой друг, – тихо заговорил он, – госпожа Жерди испытала недавно сильное потрясение, она в страшном отчаянии. Послушай, Эрве, я полагаюсь на твою честь и дружбу и хочу доверить тебе нашу тайну: госпожа Жерди мне не мать, ради своего сына она лишила меня состояния и имени. Три недели назад я открыл этот недостойный обман; она знает об этом, последствия привели ее в ужас, и с тех пор она медленно умирает.
Адвокат ожидал, что его друг вскрикнет от удивления, станет задавать вопросы. Однако врач принял это известие, не моргнув глазом, просто как сведения, необходимые ему для лечения.
– Три недели, – пробормотал он, – все ясно. У нее были какие-нибудь недомогания в это время?
– Она жаловалась на жестокие головные боли, головокружения, нестерпимую боль в ухе, но все это относила на счет мигрени. Не скрывай от меня ничего, Эрве, прошу тебя, скажи: это серьезно?
– Настолько серьезно, друг мой, настолько опасно, что медицине известны лишь единичные случаи выздоровления.
– Боже мой!
– Тебе ведь хотелось знать правду – ты ее услышал. Я решился сообщить ее только потому, что бедная женщина тебе не мать. Да, она погибла, если только не случится чуда. Но мы должны надеяться на чудо. И можем помочь ему совершиться. А теперь за работу!
* * *
Часы на вокзале Сен-Лазар пробили одиннадцать, когда папаша Табаре, распростившись с Ноэлем, вышел из дома, потрясенный всем услышанным. Вынужденный сдерживаться во время разговора, он наслаждался теперь свободой, с какой мог обдумать свои впечатления. Первые шаги по улице он проделал, шатаясь, точно пьяный, который вышел на свежий воздух из душной харчевни. Он сиял от радости, но вместе с тем был ошеломлен непредвиденной стремительностью событий, которые, как он надеялся, приближали его к установлению истины.
И хоть папаша Табаре спешил поскорее добраться до дома следователя, фиакр он брать не стал. Он чувствовал, что ему нужно пройтись, так как был из тех, кому движение проясняет ум. При ходьбе мысли у него укладывались на свои места, одна к другой, словно зерна пшеницы в кувшине, который хорошенько встряхнули.
Не торопясь, он добрался до улицы Шоссе-д’Антен, пересек бульвар, сияющий огнями кафе, и вышел на улицу Ришелье. Он шагал, отрешившись от внешнего мира, спотыкался на выбоинах тротуара, поскальзывался на грязной мостовой. Правильную дорогу он выбирал только благодаря инстинкту, какой руководит животными. Мысленно он рассматривал возможные повороты дела, следуя сквозь мрак за таинственной нитью, незримый конец которой он ухватил в Ла-Жоншер.
Как все, кто испытывает сильное волнение, папаша Табаре не замечал, что говорит вслух, совершенно не заботясь о том, что его восклицания и обрывки фраз можно подслушать. В Париже на каждом шагу попадаются подобные люди, которых отделяет от толпы какое-либо сильное чувство, они выбалтывают во всеуслышание самые свои сокровенные тайны, подобно треснувшим вазам, из которых вытекает содержимое. Этих бормочущих себе под нос чудаков прохожие часто принимают за безумцев. Иногда за ними следуют зеваки, забавляющиеся их странными излияниями. Именно из-за болтливости такого рода стало известно о разорении богатейшего банкира Роскары. Так же выдал себя и Ламбрет, убийца с Венецианской улицы.
– Какое везение! – бормотал папаша Табаре. – Какая невероятная удача! Что бы там ни говорил Жевроль, случай – вот величайший сыщик. Кто бы мог выдумать подобную историю? А все же я был недалек от истины. Я чуял, что за всем этим кроется ребенок. Но разве возможно было предполагать, что детей подменили? Прием столь избитый, что им уже не пользуются даже бульварные писаки. Это доказывает, что полиции опасно иметь предвзятые мнения. Она страшится невероятного, а оно-то и оказывается правдой. Она отступает перед нелепостью, а ее-то и надо развивать. Все возможно. Ей-богу, этот вечер мне дороже, чем тысяча экю. Одним выстрелом я убиваю двух зайцев: нахожу виновного и помогаю Ноэлю восстановить свои права. Вот уж кто поистине достоин выпавшего ему счастья! На сей раз я не сожалею: повезло молодому человеку, прошедшему школу несчастий. А впрочем, он будет не лучше других. Богатство вскружит ему голову. Разве он не заговаривал уже о своих предках? Слаб человек – я едва удержался, чтобы не расхохотаться… Но больше всего меня поражает эта Жерди. Женщина, которой я дал бы причастие без всякой исповеди! Когда подумаю, что я чуть было не попросил ее руки… Бр-р!
При этой мысли старик содрогнулся. Он представил себе, что уже женился, и вдруг открывается прошлое г-жи Табаре, и вот он уже замешан в скандальный процесс, скомпрометирован, выставлен на посмешище.
– Подумать только, – продолжал он, – Жевроль рыщет в поисках человека с серьгами! Бегай, мой мальчик, бегай, движение на пользу молодым. Вот раздосадуется-то он, когда узнает! Разозлится на меня до смерти. А я немного посмеюсь над ним. Если же он начнет строить мне козни, меня защитит господин Дабюрон. Я как-нибудь выведу его из лабиринта! У него, небось, глаза сделаются словно блюдца, когда я скажу ему: «Я знаю преступника!» А уж как он мне будет обязан! Этот процесс прославит его, если только на свете существует справедливость. Его должны сделать по меньшей мере кавалером Почетного легиона. Тем лучше! Он мне нравится, этот следователь. Если он спит, я сделаю его пробуждение приятным. Да он засыплет меня вопросами! Захочет знать все до тонкости, станет вникать во всякую мелочь.
Тут папаша Табаре, который как раз переходил через мост Святых Отцов, резко остановился.
– А ведь деталей-то я и не знаю, мне известна лишь суть дела! – воскликнул он, но снова двинулся вперед, продолжая: – Вообще-то, они, конечно, правы: слишком увлекаюсь, меня «заносит», как говорит Жевроль. Когда я беседовал с Ноэлем, мне нужно было вытянуть из него все необходимые сведения, а я и не подумал даже. Мне не терпелось, я хотел, чтобы он побыстрей все рассказал. Да оно и естественно: когда преследуют оленя, не останавливаются, чтобы подстрелить дрозда. Тем паче, я не знал, как вести допрос. А будь я настойчивее, я мог бы пробудить подозрительность Ноэля, быть может, он даже догадался бы, что я служу на Иерусалимской улице. Разумеется, краснеть мне не приходится, я даже горжусь своей работой, а все-таки лучше, чтобы никто о ней не подозревал. Люди так глупы, что терпеть не могут полицию, которая их бережет и охраняет. А теперь – спокойствие и выдержка: мы уже пришли.
Г-н Дабюрон уже отошел ко сну, однако оставил соответствующие распоряжения прислуге. Едва папаша Табаре назвал себя, как его тут же провели в спальню следователя. Завидев своего добровольного сотрудника, тот сразу же стал одеваться.
– Что-нибудь случилось? – спросил он. – Вы что-нибудь обнаружили, какие-то следы?
– Берите выше, – ответил сыщик, улыбаясь во весь рот.
– Ну, ну!
– Я знаю, кто преступник!
Папаша Табаре остался доволен произведенным эффектом: следователь так и подскочил на постели.
– Как! Уже? Не может быть! – воскликнул он.
– Имею честь повторить господину судебному следователю, – произнес старик, – мне известно, кто совершил преступление в Ла-Жоншер.
– В таком случае, – заявил следователь, – вы самый искусный полицейский всех времен! Отныне все расследования я провожу только с вами!
– Вы слишком добры, господин следователь. Моя заслуга невелика, просто случай…
– Не скромничайте, господин Табаре: случай любит людей сильных. Это-то и возмущает глупцов. Но садитесь же, прошу вас, и рассказывайте.
Старый сыщик очень точно и кратко, на что он, казалось, был неспособен, пересказал следователю все, что узнал от Ноэля. Он даже почти дословно приводил на память отрывки из писем.
– Письма эти я видел, – добавил он. – Мне удалось даже стащить одно, чтобы проверить почерк. Вот оно.
– Да, господин Табаре, – произнес следователь, – вам известен преступник. Тут все ясно и слепому. Так уж установлено Богом: одно преступление порождает другое. Вина отца сделала сына убийцей.
– Я не называл имен, сударь, – заметил папаша Табаре, – мне хотелось прежде узнать ваше мнение.
– Можете назвать, – нетерпеливо прервал следователь, не подозревая, как он будет поражен. – Каково бы ни было их положение, правосудие во Франции покарает их.
– Знаю, сударь, но люди они в самом деле высокопоставленные. Так вот, отец, променявший законного сына на внебрачного, – граф Рето де Коммарен, а убийца вдовы Леруж – его незаконнорожденный сын виконт Альбер де Коммарен.
Папаша Табаре, как прирожденный артист, произнес имена нарочито медленно, ожидая, что они произведут огромное впечатление. Результат превзошел все его ожидания. Г-н Дабюрон был потрясен. Он замер, глаза его расширились от изумления. Он сидел и, словно заучивая новое слово, машинально повторял:
– Альбер де Коммарен! Альбер де Коммарен!
– Да, – подтвердил папаша Табаре, – благородный виконт. Я понимаю, в это невозможно поверить.
Заметив, однако, как изменилось выражение лица следователя, он, немного испугавшись, подошел к постели:
– Вам нехорошо, господин следователь?
– Нет, – отвечал г-н Дабюрон, не очень-то соображая, что говорит, – я чувствую себя прекрасно, но все это так неожиданно…
– Понимаю вас, – отозвался старик.
– Простите, мне нужно немного побыть одному. Но вы не уходите, нам предстоит долгий разговор об этом деле. Благоволите перейти ко мне в кабинет, камин еще горит, а я вскоре к вам присоединюсь.
Г-н Дабюрон встал, набросил халат и уселся или, скорее, упал в кресло. Его лицо, которому он, исполняя свою суровую службу, научился придавать холодность мрамора, отражало на сей раз жестокое волнение, глаза выдавали охватившую его смертельную тоску.
Дело в том, что неожиданно прозвучавшее имя Коммаренов пробудило в нем мучительнейшие воспоминания и разбередило едва зарубцевавшуюся рану. Это имя напомнило ему события, которые погубили его молодость и разбили жизнь. Словно для того, чтобы вновь вкусить всю изведанную им горечь, он невольно перенесся в минувшее. Еще час назад ему представлялось, что все прошло, кануло, однако одного слова оказалось достаточно, чтобы воскресить пережитое. Сейчас ему чудилось, что события, к которым имел касательство Альбер де Коммарен, произошли лишь вчера. А с тех пор минуло уже два года!
Пьер Мари Дабюрон принадлежал к одному из самых старинных семейств в Пуату. Несколько поколений его предков занимали важные должности в этой провинции. Тем не менее он не унаследовал от них ни титула, ни герба. Поговаривают, что отец следователя скупил более чем на восемьсот тысяч франков прекрасных земель по соседству с безобразным современным замком, в котором он жил. Со стороны матери, урожденной Котвиз-Люксе, он принадлежал к старинному дворянству Пуату, да что там, к одной из лучших, как всем известно, фамилий во Франции.
Когда г-н Дабюрон получил назначение в Париж, его родственные связи тотчас открыли ему двери нескольких аристократических салонов, и он не замедлил расширить круг своих знакомств.
Однако он не обладал ни одним из тех ценных качеств, которые создают основу и обеспечивают успех салонной репутации. Он был холоден, серьезен и даже угрюм на вид, сдержан и к тому же крайне робок. Ему недоставало блеска и легкости; он не отличался находчивостью и часто терялся. Ему было совершенно недоступно милое искусство болтать ни о чем; он не умел ни лгать, ни изящно ввернуть плоский комплимент. Как все живо и глубоко чувствующие люди, он не мог выразить свои впечатления тотчас же. Для этого ему требовалось хорошенько поразмыслить и критически оценить их.
Вместе с тем знакомства с ним искали, но за качества более основательные: благородство чувств, характер, верность. Те, кто узнавал его достаточно близко, вскоре отмечали здравость и глубину его суждений, высказываемых легко и остро. Под его холодноватой наружностью друзья обнаруживали горячее сердце, необычайную чувствительность и почти женственную мягкость. И если в салоне, где находились люди безразличные и пустые, он не был заметен, то в узком кружке друзей он блистал, ободренный сочувственной атмосферой.
Мало-помалу он привык много выезжать, не считая это напрасной тратой времени. Он полагал и, быть может, не без оснований, что представитель судейского сословия не должен все время сидеть взаперти у себя в кабинете в обществе уложений и кодексов. Он думал, что человек, призванный судить других людей, должен их знать, а следовательно, изучать. Внимательный и осторожный наблюдатель, он следил за игрой интересов и страстей вокруг себя, учась распознавать нити, приводящие в движение окружающих его марионеток, и по необходимости управлять ими. Он, если можно так выразиться, деталь за деталью пытался разобрать замысловатый и сложный механизм, именующийся обществом, за исправной работой которого он призван был наблюдать, управляя его пружинами и колесиками.
И вдруг в начале зимы 1860/61 года г-н Дабюрон исчез. Друзья принялись его искать, но нигде не могли найти. Что случилось? Стали расспрашивать, выяснять и узнали, что все вечера он проводит у маркизы д’Арланж. Это вызвало изрядное и вполне естественное удивление.
У вдовствующих особ, собирающихся в салоне принцессы де Сутне, маркиза слыла, вернее, слывет, поскольку и поныне пребывает в добром здравии, весьма старомодной ретроградкой. Безусловно, она являет собой самое необычное наследие, оставленное нам XVIII веком. Как, каким чудесным образом удалось ей сохраниться такой, какой мы ее видим? Тщетно мы будем ломать себе голову над этой загадкой. Никто не удивился бы, если б оказалось, что вчера она была на вечере у королевы, где к неудовольствию Людовика XVI шла чересчур крупная игра и знатные дамы, не скрываясь, напропалую плутовали. Обычаи, язык, привычки и даже туалеты – все сохранила она с тех времен, о которых насочинено столько нелепых выдумок. Один ее внешний вид может поведать о той эпохе куда больше, чем длинная статья в журнале, а из часового разговора с нею удастся почерпнуть не меньше, чем из толстенного тома.
Родилась маркиза в крохотном немецком княжестве, куда ее родители бежали от карающей руки мятежного народа. Она выросла и воспитывалась среди старых эмигрантов в каком-то старинном раззолоченном салоне, напоминавшем кабинет редкостей. Ум ее развивался под шелест допотопных разговоров, воображение питалось разглагольствованиями не убедительнее тех, что высказывали бы глухие, собравшиеся обсудить творения Фелисьена Давида[82]. Там она черпала мысли, которые в современном обществе звучат столь же нелепо, сколь мысли человека, ребенком заключенного в музей ассирийской культуры и проведшего там лет двадцать.
Империя, Реставрация, Июльская монархия, Вторая республика, Вторая империя прошествовали мимо ее окон, которые она не давала себе труда даже открыть. Все, что произошло после 1789 года, она считает недействительным. Для нее это не более, чем ночной кошмар, и она ждет пробуждения. Она на все смотрела и смотрит сквозь волшебные очки, которые продаются у торговцев иллюзиями и через которые видно только то, что хочется видеть, а не то, что есть на самом деле.
В свои шестьдесят восемь лет маркиза крепка как дуб и ни разу еще не болела. Она невероятно подвижна, деятельна и способна оставаться на одном месте лишь в двух случаях: когда спит или играет в свой любимый пикет. Ест она четыре раза в день, причем на аппетит не жалуется, и обильно орошает еду вином. Питает нескрываемое презрение к изнеженным женщинам нашего века, которым хватает на целую неделю одной куропатки, сдобренной высокими чувствами, излитыми в витиеватых фразах.
Во всем она всегда была, да и теперь остается весьма рассудочна. Речь ее находчива и образна. Говорит она смело и за словом в карман не лезет. Если ее слова оскорбляют чей-нибудь деликатный слух, тем хуже! Больше всего на свете она презирает лицемерие. Маркиза верует в Бога, но верует и в г-на Вольтера, так что ее благочестие весьма сомнительно. Однако же с местным священником отношения у нее прекрасные, и подчас она даже оказывает ему честь пригласить его на обед. Должно быть, она считает его чем-то вроде чиновника, который может оказаться полезен для спасения ее души и открыть ей двери в рай.
Из-за всего этого от нее бегают, словно от чумы. Люди боятся ее высокомерия, бестактности и бесцеремонности, с какою она выпаливает им в лицо все гадости, которые приходят ей в голову.
Из родственников у нее осталась лишь дочь ее рано умершего сына.
Свое некогда очень значительное состояние она промотала; сохранилась только двадцатитысячная рента, тающая с каждым днем. Неподалеку от Дома Инвалидов у нее есть особнячок, в котором она и живет; к нему примыкают тесный дворик и обширный сад.
При всем том она считает себя несчастнейшим созданием на земле и половину дня проводит в жалобах на нищету. Время от времени, после очередного безумства, она признается, что боится умереть в больнице для бедных.
И вот однажды приятель г-на Дабюрона представил его маркизе д’Арланж.
Как-то, будучи в хорошем расположении духа, приятель этот увлек его за собой, пообещав:
– Пойдемте, я покажу вам феномен – призрак во плоти.
В первый же раз, когда следователь явился засвидетельствовать маркизе свое почтение, она показалась ему весьма занимательной. Во второй раз она его позабавила, и он пришел еще. Вскоре она перестала его забавлять, и все же он стал постоянным и преданным посетителем бледно-розового будуара, в котором она проводила все время. Г-жа д’Арланж записала его в свои друзья и, упоминая о нем, рассыпалась в похвалах.
– Что за восхитительный человек этот молодой судейский! – говорила она. – Такой тонкий, такой чувствительный! Какая жалость, что он низкого рода. Однако принимать его все же можно: его родители были весьма порядочные люди, а мать – урожденная Котвиз, хоть потом она и опустилась. Я желаю ему добра и употреблю все свое влияние, чтобы ввести его в свет.
Самым большим доказательством ее расположения к Дабюрону было то, что она правильно произносила его имя. У нее сохранилась комичная привычка не запоминать имен худородных людей, которые для нее просто не существовали. Она так привыкла коверкать их имена, что, если ей случалось произнести их правильно, она тут же спохватывалась и, поправляясь, перевирала еще пуще. Первое время, к неизменному удовольствию следователя, она искажала его имя на тысячу ладов, называя то Табюроном, то Дабироном, то Малироном, то Лалироном, то Ларидоном. Однако по прошествии трех месяцев она уже четко и ясно произносила имя Дабюрон, словно он был каким-нибудь герцогом, владельцем огромных поместий.
Порою она пыталась ему доказать, что он дворянин или обязан стать таковым. Ей очень хотелось, чтобы он обзавелся титулом и поместил на своих визитных карточках дворянский шлем.
– Как же вашим предкам, деятелям, известным в судейском сословии, не пришло в голову выйти в люди, купить дворянство? – спрашивала она. – Вы были бы дворянином, человеком, достойным уважения.
– Мои предки были умны, – отвечал г-н Дабюрон, – и предпочитали быть первыми среди мещан, нежели последними среди дворян.
После таких слов маркиза принималась втолковывать ему, что между самыми достойными мещанами и самыми захудалыми дворянчиками лежит такая пропасть, какую не преодолеть с помощью всех денег на свете.
Однако те, кто удивлялся постоянству г-на Дабюрона по отношению к маркизе, не были знакомы с ее юной воспитанницей или же забывали о ней. Она так редко выходила к гостям! Старая дама не любила обременять себя, как она говорила, обществом юной шпионки, мешавшей ей болтать и рассказывать анекдоты.
Клер д’Арланж только-только исполнилось семнадцать. Это была милая грациозная девушка, прелестная в своем наивном неведении жизни. Густые пепельные волосы, которые она имела обыкновение распускать, тяжелыми волнами небрежно ниспадали на ее точеную шею. Пока еще немного худощавая, лицом она напоминала божественные образы Гвидо Рени[83]. Особенно восхитительны были ее синие глаза, оттененные длинными ресницами, несколько более темными, чем волосы.
Редкое очарование мадемуазель Клер усиливалось благодаря присущему ей ореолу необыкновенности, которым она была обязана маркизе. Люди восхищались чуть старомодными манерами девушки. Она была даже остроумнее бабки, достаточно образованна и имела вполне ясные понятия о мире вокруг нее.
Образование, а также кое-какое представление о жизни Клер почерпнула от гувернантки, на которую маркиза переложила заботы о своей «соплячке». Эту гувернантку, мадемуазель Шмидт, взяли не глядя, и по чистой случайности оказалось, что она кое-что знает, да к тому же еще и честна. Она была из тех женщин, каких часто можно встретить по ту сторону Рейна: романтичная и вместе с тем рассудочная, сентиментальная, но в то же время весьма строгих правил. Эта достойная женщина вывела Клер из царства фантазий и химер, куда завлекла ее маркиза, и в своих уроках обнаружила много здравого смысла. Она открыла ученице всю смехотворность причуд ее бабки и научила, как от них избавиться, сохраняя к ним уважение.
Каждый вечер, приехав к г-же д’Арланж, г-н Дабюрон был уверен, что найдет мадемуазель Клер сидящей подле бабки; ради этого он и приезжал. Рассеянно слушая брюзжание старой дамы вперемежку с анекдотами времен эмиграции, он смотрел на Клер, словно фанатик на своего идола. Его восхищали ее длинные волосы, прелестный рот, глаза, которые он находил самыми прекрасными на свете.
Часто случалось, что в упоении он забывал, где находится. Он совершенно не помнил о маркизе, не слышал ее фальцета, вонзавшегося в барабанные перепонки, словно вязальная спица. В таких случаях он отвечал невпопад, совершал самые невероятные промахи, которым потом пытался придумать оправдания. Но это было ни к чему. Маркиза д’Арланж не замечала рассеянности своего любимца. Вопросы, которые она задавала, отличались такой пространностью, что ее уже мало заботили ответы на них. Ей было достаточно иметь слушателя; главное, чтобы время от времени он подавал признаки жизни.
Когда приходило время садиться за стол для игры в пикет (следователь про себя называл его галерой), он проклинал и игру, и мерзкого ее изобретателя. Играл он невнимательно, постоянно ошибался: бросал карту не глядя и забывал бить козырем. Старая дама пеняла ему за рассеянность и беззастенчиво ею пользовалась. Она подглядывала в снос, меняла карты, которые ее не устраивали, дерзко записывала себе фантастические очки, а в конце без всякого стыда и угрызений клала в карман выигранные деньги.
Г-н Дабюрон был чрезвычайно робок, Клер держалась неприступно, поэтому молодые люди почти не разговаривали. За всю зиму судья не обратился к девушке и десяти раз. Вдобавок перед каждым разговором он затверживал наизусть слова, которые намерен был произнести, зная, что без этой подготовки язык у него прилипнет к гортани.
Зато он хотя бы видел ее, дышал с нею одним воздухом, слышал ее голос, мелодичный и чистый, как хрустальный колокольчик, вдыхал веявший вокруг нее нежный аромат, казавшийся ему воистину небесным благоуханием. Он, разумеется, не смел спросить у нее, как называются ее духи, но после бесконечных поисков, из-за которых он прослыл в нескольких парфюмерных магазинах сумасшедшим, г-н Дабюрон наконец их обнаружил. Этими духами он опрыскал у себя дома все вплоть до папок с делами, громоздившихся на столе.
Он так долго созерцал ее глаза, в которых ему виделось нечто неземное, что в конце концов изучил все перемены в их выражении. Ему казалось, что он читает каждую мысль той, которую обожает, и через эти глаза, словно через распахнутые окна, постигает ее душу. Он говорил себе: «Сегодня ей весело», – и его переполняла радость. В другой раз думал: «Сегодня что-то ее огорчило» – и тут же впадал в уныние.
Не раз г-ну Дабюрону приходила мысль попросить руки Клер, но он не решался. Житейские принципы маркизы были ему известны, он знал, что она помешана на знатности и непреклонна по отношению к мезальянсу; он был уверен, что, стоит ему заговорить, она прервет его ледяным «нет» и никогда уже не позволит ему вернуться к этой теме. Осмелиться на предложение значило без малейшей надежды на успех подвергать опасности нынешнее счастье, которым он бесконечно дорожил, потому что любовь довольствуется малым.
«Если мне откажут, – рассуждал он, – двери их дома закроются для меня. Тогда прощай блаженство, которое дано мне в этой жизни, тогда мне конец». С другой стороны, он ясно понимал, что юную мадемуазель д’Арланж может встретить другой, которому ничто не помешает влюбиться, посвататься и получить ее в жены.
Как бы то ни было, отважится ли он просить руки или будет медлить, ему неминуемо грозило ее потерять. В начале весны Дабюрон решился. Погожим апрельским днем он отправился в особняк маркизы д’Арланж, и мужества ему на это понадобилось не меньше, чем солдату, идущему в атаку на вражескую батарею. Г-н Дабюрон тоже твердил: «Победить или погибнуть». Маркиза сразу после завтрака уходила и только что вернулась. Она была в неописуемой ярости и кричала на весь дом.
А случилось вот что: месяцев восемь – десять тому назад маркиза заказала маляру, жившему по соседству, кое-какие работы. Сто раз с тех пор маляр являлся в надежде получить по счету, и столько же раз его спроваживали, предлагая зайти позже. Наконец ему надоело ходить и ждать, и он подал жалобу мировому судье на высокородную и сиятельную маркизу д’Арланж.
Вызов в суд поверг маркизу в ярость, однако она никому не сказала об этом, решив, с присущей ей мудростью, что воспользуется приглашением с единственной целью: просить у правосудия защиты и призвать мирового судью сделать соответствующее внушение бесстыдному маляру, посмевшему беспокоить ее из-за какого-то пустяка, из-за ничтожной суммы.
Нетрудно угадать, к чему это привело. Мировому судье пришлось распорядиться, чтобы упрямую маркизу удалили из его кабинета. Потому она и была в такой ярости.
Г-н Дабюрон застал ее в бледно-розовом будуаре. Полуодетая, совершенно растрепанная, красная, как пион, она сидела среди осколков фарфора и хрусталя, подвернувшегося ей под руку в первую минуту. В довершение несчастья Клер с гувернанткой куда-то ушли. Вокруг незадачливой маркизы хлопотала горничная, пичкая ее всевозможными снадобьями для успокоения нервов.
Старая дама встретила следователя, словно посланца небес. Более получаса, перемежая повествование воплями и проклятиями, она рассказывала ему свою одиссею.
– Вообразите себе этого судью! – восклицала она. – Какой-то бешеный якобинец, плоть от плоти тех фанатиков, что обагрили руки в крови нашего короля! Друг мой, я вижу, на вашем лице написаны оторопь и негодование… Подумать только, этот судья принял сторону бесстыдного прохвоста, которому я дала работу и тем самым возможность заработать кусок хлеба! А когда я стала сурово ему выговаривать, как велело мне чувство долга, он приказал выставить меня за дверь. Меня! За дверь!
При этом мучительном воспоминании она угрожающе взмахнула рукой, задела флакон, который держала горничная, – великолепный флакон отлетел в угол и разбился.
– Дура! Неумеха! Растяпа! – завопила маркиза.
Г-н Дабюрон, поначалу несколько оглушенный, попытался немного утихомирить г-жу д’Арланж. Но она перебила его после первых же слов.
– Как это кстати, что вы пришли, – заявила она. – Я знаю вашу преданность. Надеюсь, вы предпримете надлежащие шаги и, употребив свое влияние, обратившись к друзьям, добьетесь того, чтобы мерзавец маляр и преступный судья очутились за решеткой; уж в тюрьме-то их научат относиться к таким, как я, с должным уважением.
В ответ на эту неожиданную просьбу следователь не позволил себе даже намека на улыбку. Он и прежде слышал из уст маркизы немало несообразностей, но никогда не потешался над ними: маркиза была бабкой Клер, следовательно, он любил ее и почитал. Он воздавал ей хвалу за внучку, как иногда человек, гуляя, воздает хвалу небу за душистый лесной цветок, который сорвал под кустом.
Гнев старой дамы был ужасен и долго не утихал. Его, как гнев Ахилла[84], можно было бы описывать на протяжении доброго десятка глав. Однако на исходе часа она, судя по всему, совершенно успокоилась. Горничная поправила ей прическу, привела в порядок ее туалет и убрала черепки.
Ярость наконец истощила самое себя, и маркиза простерлась в кресле, оглашая гостиную жалобами.
Эта волшебная перемена, изумившая горничную, произошла с ней благодаря г-ну Дабюрону. Чтобы добиться столь поразительного успеха, он призвал на помощь все свое хитроумие, пустил в ход ангельское терпение и удесятерил обходительность.
Победа его была тем более достойна восхищения, что он был совершенно не готов к этой битве. Нелепый случай с маркизой нарушил его планы. В кои-то веки набрался он решимости, чтобы заговорить, но события обернулись против него. Ему пришлось примириться с неизбежным.
Вооружившись отменным судейским красноречием, г-н Дабюрон обрушил на голову раздражительной маркизы холодный душ. В огромных дозах использовал он нескончаемые периоды, которые, подобно клубку ниток, умеют разматывать товарищи прокурора, стяжая себе этим немалую славу. При этом у него хватило ума не перечить ей, напротив, он гладил ее только по шерсти.
Он был то патетичен, то насмешлив. О революции упомянул надлежащим образом, проклял ее заблуждения, осудил ее злодеяния и посетовал на пагубные последствия, которые она принесла порядочным людям. От нечестивца Марата искусно перешел к прохвосту мировому судье. Не стесняясь в выражениях, заклеймил возмутительное поведение этого судейского крючка и втоптал в грязь мерзавца маляра. Однако, по его суждению, от тюрьмы их все же следовало избавить. Его выводы клонились к тому, что, пожалуй, разумнее, мудрее и даже благороднее будет уплатить.
Не успел он вымолвить это злополучное слово «уплатить», как г-жа д’Арланж вскочила на ноги и надменно выпрямилась.
– Уплатить? – вскричала она. – Чтобы эти злодеи коснели в своей испорченности? Поощрить их преступной слабостью? Никогда!
– Речь идет всего-то о восьмидесяти семи франках, – возразил следователь.
– По-вашему, это пустяк? – отвечала маркиза. – Легко вам говорить, сударь. Сразу видно, у вас денежки водятся. Ваши предки были ничтожества, революция пронеслась высоко над ними, никак их не задев. Кто знает, может быть, они даже нажились на ней. А у д’Арланжей революция отняла все. Что мне будет, если я не уплачу?
– Да что угодно, госпожа маркиза. Вы разоритесь на судебных издержках, вам будут присылать письма на гербовой бумаге, придут судебные исполнители, на ваше имущество будет наложен арест.
– Увы! – возопила почтенная дама. – Революция не кончилась! Она доберется до каждого из нас. Вам хорошо, вы сами из черни. Вижу, мне придется уплатить, не откладывая, и это весьма прискорбно: ведь у меня ничего нет, и ради внучки я вынуждена идти на величайшие жертвы.
Г-н Дабюрон изучил маркизу как свои пять пальцев. Слово «жертвы» в ее устах до того его изумило, что, не удержавшись, он переспросил вполголоса:
– Жертвы?
– Разумеется, – отвечала г-жа д’Арланж. – Если бы не она, разве я жила бы, во всем себе отказывая, чтобы свести концы с концами? Да ни за что! Покойный маркиз часто со мной заговаривал о тонтинах[85], учрежденных г-ном де Калонном[86], вложенные в них деньги дают большую прибыль. Такие тонтины, по-видимому, существуют и поныне. Если бы не внучка, я бы вложила туда все, что у меня есть, без остатка, чтобы пользоваться пожизненной рентой. Тогда бы мне хватало на хлеб. Но я никогда не решусь на это. Слава Богу, мне известно, в чем состоит родительский долг, и все мое состояние в целости и сохранности перейдет малютке Клер.
Это признание так поразило г-на Дабюрона, что он не нашелся, что сказать в ответ.
– Это милое дитя доставляет мне ужасные мучения, – продолжала маркиза. – Вам-то я могу признаться, Дабюрон: когда я размышляю, как ее пристроить, мне худо становится.
Следователь покраснел от радости. Счастливый случай стремительно приближался, еще немного – и он окажется совсем рядом, остается только покрепче его ухватить.
– А мне кажется, – пробормотал он, – что пристроить мадемуазель Клер вовсе не трудно.
– К сожалению, вы заблуждаетесь. Она, конечно, лакомый кусочек, хоть и худышка, но что толку! Мужчины стали так расчетливы, что просто слов нет. Их интересуют только деньги. Я не знаю среди них ни одного, кому достало бы порядочности жениться на девушке из рода д’Арланжей, у которой всего приданого – красивые глазки да манеры.
– Полагаю, вы преувеличиваете, сударыня, – робко заметил г-н Дабюрон.
– Ничуть. Верьте моему опыту, я живу на свете дольше вас. К тому же, если я выдам Клер замуж, зять мой причинит мне кучу неприятностей – так утверждает мой нотариус. По-видимому, мне придется дать ему отчет – как будто я вела счета! Ах, если бы у малышки Клер было доброе сердце, она ушла бы в какой-нибудь монастырь. А я уж в лепешку разбилась бы, чтобы собрать ей необходимый вклад. Но она совершенно меня не любит и не жалеет.
Г-н Дабюрон понял, что пришло его время. Он пришпорил свою отвагу, как всадник пришпоривает лошадь перед прыжком через ров, и решительно заговорил:
– Ну что ж, госпожа маркиза, по-моему, я знаю подходящую партию для мадемуазель Клер. Я знаю порядочного человека, который любит ее и сделает все на свете, чтобы составить ее счастье.
– Ну, без этого вообще не может быть разговора, – откликнулась маркиза.
– Человек, о котором я говорю, еще молод, – продолжал следователь. – Он обладатель изрядного состояния. Он был бы счастлив получить мадемуазель д’Арланж в жены без всякого приданого. Он не только не станет требовать у вас отчета, но будет умолять вас, чтобы вы распоряжались своим состоянием, как вам угодно.
– Черт возьми, а вы не дурак, дорогой мой Дабюрон! – воскликнула старая дама.
– Если бы у вас возникли трудности с переводом вашего состояния в пожизненную ренту, ваш зять мог бы помочь вам, внеся недостающую сумму.
– Ах, мне худо! – перебила его маркиза. – Что же это – вы, имея на примете подобного человека, никогда мне о нем не говорили! Надо было давно уже мне его представить.
– Я не смел, сударыня, я опасался…
– Скорее же, кто этот изумительный зять? Где гнездится эта белая ворона?
Сердце у г-на Дабюрона сжалось от невыносимой тревоги. На карту было поставлено его счастье.
Наконец, словно пугаясь своих слов, он пролепетал:
– Это я, сударыня…
Его голос, взгляд, вся его фигура умоляли о снисхождении. Он был в ужасе от собственной дерзости, потрясен тем, что сумел все-таки преодолеть свою робость. Он готов был пасть к ногам маркизы.
Старая дама покатилась со смеху. Она хохотала до слез и, пожимая плечами, повторяла:
– Нет, что за шутник этот любезный Дабюрон! Ей-богу, он меня уморит! Ну и потешник!
Но вдруг, в разгаре приступа веселья, она замолчала и с достоинством спросила:
– Следует ли принимать ваши слова всерьез?
– Я сказал чистую правду, – пролепетал следователь.
– Значит, вы в самом деле богаты? – осведомилась маркиза.
– Сударыня, от матери я унаследовал почти двадцать тысяч ренты. В прошлом году умер мой дядя, оставив мне в наследство чуть больше ста тысяч экю. У отца моего около миллиона. Если я попрошу у него половину, он даст мне ее хоть завтра. Если бы от этого зависело мое счастье, он отдал бы мне все свое состояние и вполне удовольствовался бы ролью управляющего.
Г-жа д’Арланж знаком велела ему замолчать и по меньшей мере минут на пять погрузилась в раздумья, сжав руками лоб. Затем она подняла голову и заговорила:
– Послушайте меня. Если бы вы посмели сделать подобное предложение отцу Клер, он велел бы своим людям вышвырнуть вас за дверь. Во имя чести нашего рода мне следовало бы поступить так же, но я не могу решиться. Я стара и всеми брошена, я бедна, я беспокоюсь за судьбу внучки – вот мои оправдания. Ни за что на свете я не стала бы предлагать Клер этот чудовищный мезальянс. Не отговаривать ее – вот все, что я могу вам обещать. Довольно с вас и этого. Попытайтесь же, откройте ваши чувства мадемуазель д’Арланж, упросите ее. Если она от всего сердца ответит «да», я не скажу «нет».
Окрыленный г-н Дабюрон хотел расцеловать руки маркизе. Она казалась ему добрейшей, милейшей женщиной на свете; при этом он и внимания не обратил на то, с какой легкостью уступила ему эта столь высокомерная дама.
Он был как в бреду, он совсем потерял голову.
– Погодите, – продолжала маркиза, – ваше дело еще не выиграно. Ваша матушка, хоть я и не могу одобрить ее крайне неудачное замужество, как-никак была Котвиз, но отец ваш – сьер Дабюрон. Это имя, дитя мое, звучит просто смехотворно. Как вам кажется, легко ли уговорить девушку, которая до восемнадцати лет звалась д’Арланж, стать госпожой Дабюрон?
Эти соображения, судя по всему, не слишком заботили следователя.
– Впрочем, – продолжала старая дама, – женился же ваш батюшка на одной из Котвизов, так почему бы вам не получить руку одной из д’Арланжей? Быть может, Дабюроны, беря в двух поколениях подряд в жены девушек из благородных родов, в конце концов и сами облагородятся. И последнее, о чем я вас предупреждаю: Клер кажется вам робкой, покорной, мягкой? Знайте же: внешность обманчива. Хоть с виду она и неженка, на самом деле она отважна, горда и упряма, точь-в-точь покойный маркиз, ее отец – тот был упрям как мул. Итак, вы предупреждены. Имеющий уши да услышит. Мы обо всем условились, не так ли? Кончим же этот разговор. Я почти желаю вам успеха.
Эта сцена так живо представилась следователю, что и теперь, спустя месяцы, у себя дома, сидя в кресле, он, казалось, слышал голос маркизы д’Арланж, и в ушах у него звенели слова: «Желаю успеха».
В тот день он ушел из особняка д’Арланжей торжествующим, хотя входил со смятенным сердцем. Он уходил с гордо поднятой головой, с ликованием в душе, дыша полной грудью. Как он был счастлив! Небо казалось ему синим, как никогда, солнце сияло ярче обычного. Ему, суровому правоведу, хотелось броситься на шею прохожим на улице и закричать:
– Неужели вы не знаете? Маркиза согласна!
Он шел, и ему чудилось, будто земля приплясывает у него под ногами, а сам он от переполняющего его ликования стал до того невесом, что вот-вот взовьется к звездам.
Какие воздушные замки возводил он на обещании старой маркизы! Он подаст в отставку, построит на Луаре, неподалеку от Тура, прелестную виллу. Он так и видел эту виллу: живописную, обращенную фасадом на восход, всю в цветах, в тени высоких деревьев. Он отделывал это жилище волшебными тканями, которые изготовили феи. Когда он станет обладателем драгоценной жемчужины, он сумеет создать для нее подобающую оправу. Он уже был в этом уверен, сияющий горизонт его надежд не омрачался ни единым облачком сомнений, и внутренний голос не шепнул ему в этот миг: «Берегись!»
С того дня г-н Дабюрон стал еще более частым посетителем дома д’Арланжей. Он почти переселился туда. Сохраняя всю почтительность и сдержанность по отношению к Клер, он искусно и настойчиво старался отвоевать себе место в жизни девушки. Истинная любовь изобретательна. Г-н Дабюрон преодолел свою застенчивость, чтобы говорить с любимой, чтобы вовлекать ее в беседы, пробуждать в ней интерес к нему. Ради нее он гонялся за новинками, читал все подряд, чтобы отбирать книги, которые потом можно будет предложить ей.
Мало-помалу, благодаря деликатной настойчивости, ему удалось, так сказать, приручить эту дикарку. Он стал замечать, что кое-чего уже достиг: ее нелюдимость исчезла почти бесследно. Теперь, встречая его, она не напускала на себя тот ледяной, высокомерный вид, которым прежде, должно быть, надеялась держать его на расстоянии. Он чувствовал, что она, сама того не замечая, доверяет ему все больше и больше. Разговаривая с ним, она по-прежнему краснела, но теперь уже отваживалась первая вступать в беседу.
Часто она спрашивала у него о чем-нибудь. Например, при ней похвалили какую-то пьесу, и она пожелала узнать, о чем там речь. Г-н Дабюрон поспешил посмотреть спектакль и прислал девушке по почте подробный отчет. Подумать только: он написал ей письмо! Несколько раз она давала ему небольшие поручения. Радость бегать по ее делам он не променял бы и на пост посланника в России!
Однажды он расхрабрился и послал ей роскошный букет. Она приняла этот букет, но удивилась, попеняла и попросила впредь не делать ей подобных подношений. Дабюрон огорчился до слез. В тот раз он уходил от нее в полном отчаянии.
«Она меня не любит, – думал он, – и никогда не полюбит». Он приуныл, однако три дня спустя она попросила его отыскать для ее жардиньерки какие-то цветы, которые были в большой моде. Он послал ей столько цветов, что ими можно было бы завалить дом от чердака до погреба.
– Она меня полюбит! – в восторге убеждал он себя.
Эти маленькие происшествия, столь важные для него, не отменяли партий в пикет. Но теперь девушка внимательнее следила за игрой. Почти всегда она принимала сторону следователя против маркизы. Правил она не знала, но, когда старая картежница плутовала чересчур уж дерзко, Клер, видя это, со смехом говорила:
– Вас грабят, господин Дабюрон, вас грабят!
А он отдал бы на разграбление все, что имел, лишь бы слышать ее милый голос, слышать, как она за него заступается.
Было лето. Часто по вечерам она брала его под руку, и под бдительным оком маркизы, сидевшей в большом кресле на крыльце, они неторопливо гуляли вокруг лужайки по аллее, посыпанной столь мелким песком, что подол ее платья, волочившийся по дорожке, заметал их следы. Она весело щебетала с ним, словно с любимым братом, и для него пыткой было удерживаться от того, чтобы не поцеловать эти белокурые волосы, пушистые и разлетавшиеся под ветерком, как хлопья снега.
И в конце этой прелестной тропы, с обеих сторон усаженной цветами, ему виделось счастье.
Он попытался заговорить с маркизой о своих надеждах.
– Вы помните наш уговор, – отвечала она. – Ни слова. И так уж совесть упрекает меня в том, что я уступила бесчестному искушению. Подумать только, моя внучка будет, быть может, зваться госпожой Дабюрон! Чтобы получить разрешение на перемену ее фамилии, мой милый, придется писать прошение королю.
Не будь г-н Дабюрон так упоен мечтами, ему, столь проницательному и тонкому наблюдателю, удалось бы лучше изучить характер Клер. Возможно, тогда он был бы начеку. Но где ему было даже думать об этом?
И все же от него не укрылись странные перемены в ее настроении. В иные дни она была беззаботна и весела, а потом на целые недели погружалась в уныние и тоску. Наутро после бала, на который Клер сопровождала бабка, он осмелился спросить у девушки о причине ее грусти.
– Ах, вот вы о чем! – ответила она с глубоким вздохом. – Это моя тайна. Ее не знает даже бабушка.
Г-н Дабюрон всмотрелся в Клер. Ему показалось, что на ее длинных ресницах блеснула слеза.
– Когда-нибудь, быть может, – продолжала она, – я вам откроюсь. Может быть, это будет необходимо.
Следователь был по-прежнему слеп и глух.
– У меня тоже есть тайна, – отвечал он, – и я тоже надеюсь когда-нибудь открыться вам.
Уходя в первом часу ночи, он сказал себе: «Завтра я ей во всем признаюсь». Вот уже два месяца он неизменно повторял себе: «Завтра».
Был августовский вечер; весь день продержалась гнетущая жара, к ночи поднялся ветерок, листва зашелестела, в воздухе чувствовалась близость грозы. Они оба сидели в глубине сада, в беседке, увитой экзотическими растениями; сквозь ветви им был виден развевающийся пеньюар маркизы, которая прогуливалась после ужина. Они долго сидели молча, завороженные природой, опьяненные разлитыми в воздухе ароматами цветов на лужайке. Г-н Дабюрон осмелился взять девушку за руку. Это было впервые, и, коснувшись нежной шелковистой кожи, он испытал ужасное потрясение; кровь бросилась ему в голову.
– Мадемуазель Клер! – пролепетал он.
Она в изумлении остановила на нем взгляд своих прекрасных глаз.
– Простите меня, – продолжал он, – простите… Прежде чем дерзнуть заговорить с вами, я говорил с вашей бабушкой. Разве вы не понимаете о чем?… Одно слово из ваших уст решит мою судьбу. Клер, мадемуазель Клер, не отталкивайте меня, я вас люблю!
Пока юрист говорил, мадемуазель д’Арланж смотрела на него так, словно не знала, верить ли зрению и слуху. Но на словах «Я вас люблю!», произнесенных с трепетом подлинной страсти, она поспешно отняла руку и чуть слышно вскрикнула.
– Вы, – прошептала она, – так, значит, вы…
Г-н Дабюрон онемел: он не выговорил бы ни слова, даже если бы речь шла о его жизни. Сердце его тисками сжало предчувствие огромного горя. А уж что стало с ним, когда Клер разразилась слезами!
– Как я несчастна! Как несчастна! – повторяла она, закрыв лицо руками.
– Вы несчастны? – вскричал следователь. – Из-за меня? Клер, это жестоко! Заклинаю вас, объясните, чем я провинился? В чем дело? Все, что угодно, только не эта неизвестность, которая меня убивает!
Он упал перед ней на колени и вновь хотел завладеть ее рукой. Она мягким движением отстранила его.
– Дайте мне поплакать, – отвечала она, – мне так больно. Знаю, вы возненавидите меня. Быть может, даже станете презирать, а между тем клянусь вам, я не знала того, что вы мне сейчас сказали, даже не подозревала об этом.
Г-н Дабюрон так и застыл на коленях в ожидании удара, который его добьет.
– Да, – продолжала Клер, – вы заподозрите меня в постыдном кокетстве. Теперь я все понимаю. Если бы вы не любили меня, разве вы могли бы относиться ко мне с такой преданностью – да и кто бы мог на вашем месте? Увы, я не слишком-то опытна, я радовалась, что мне посчастливилось иметь такого друга, как вы. Ведь я одна на свете, я – как путешественник, заблудившийся в пустыне. Я доверилась вам бездумно и неосторожно, словно заботливому, снисходительному отцу.
Последнее слово приоткрыло несчастному следователю всю бездну его заблуждения. Словно чугунный молот, раздробило оно на тысячи кусков хрупкое строение его надежды. Он медленно поднялся и голосом, в котором сквозил невольный упрек, повторил:
– Словно отцу…
Мадемуазель д’Арланж поняла, как опечалила, как ранила она человека, любившего ее больше, чем она могла себе вообразить.
– Да, – вновь заговорила она, – да, я любила вас как отца, как брата, как всех родных, которых у меня больше нет. Когда я видела, что вы, такой суровый, такой важный, становитесь при мне мягким и ласковым, я благодарила Бога, что он послал мне защитника, заменившего моих усопших родных.
У г-на Дабюрона вырвалось рыдание, сердце его было разбито.
– Одно слово, – продолжала Клер, – одно ваше слово рассеяло бы все недоразумения. Зачем вы его не произнесли! Мне было так сладко чувствовать вашу опеку, словно ребенку – заботу матери. С тайной радостью я говорила себе: «Я знаю, что есть человек, который мне предан, которому я могу излить душу». Ах, почему я не доверялась вам еще больше? Зачем хранила от вас свой секрет? Тогда мы были бы избавлены от этого тягостного объяснения. Я должна была вам признаться, что я более не принадлежу себе, что по доброй воле и с радостью отдала свое сердце другому.
Внезапно упасть наземь с небес! Страдания следователя были неописуемы.
– Да, лучше бы вы сказали мне, Клер, – отвечал он, – а может быть, нет. Благодаря вашему молчанию я полгода питал сладостные иллюзии, полгода предавался волшебным мечтам. Вероятно, это и было счастье, отпущенное мне на земле.
Еще не совсем стемнело, и он ясно видел мадемуазель д’Арланж. Ее прекрасное лицо было бледно и неподвижно, как мрамор. Крупные слезы беззвучно струились по ее щекам. Г-ну Дабюрону казалось, что он видит плачущую статую.
– Вы любите другого, – заговорил он наконец, прервав молчание, – другого! И ваша бабушка не знает об этом. Клер, человек, которого вы избрали, не может быть недостоин вас. Почему же маркиза его не принимает?
– Тому есть препятствия, – прошептала Клер, – и боюсь, эти препятствия останутся навсегда. Но я из тех, кто любит лишь единожды в жизни. Такие, как я, выходят замуж за того, кого любят, а если нет… Тогда монастырь.
– Препятствия… – глухим голосом проговорил г-н Дабюрон. – Есть человек, которого вы любите, он знает об этом, и ему мешают какие-то препятствия?
– Я бедна, – откликнулась мадемуазель д’Арланж, – а его семья страшно богата. Отец его – человек черствый и неумолимый.
– Отец! – воскликнул следователь с горечью, которой и не думал скрывать. – Отец! Семья! И это для него преграды! Вы бедны, он богат – и это его останавливает! И он знает, что любим вами!.. Ах, если бы я был на его месте! Я восстал бы против целого света! Разве жертвы, приносимые любви, как я ее понимаю, могут быть слишком велики? Впрочем, это и не жертвы вовсе. Чем огромнее жертва, тем огромнее радость от нее. Страдать, бороться и все-таки надеяться, надеяться, несмотря ни на что, самозабвенно отдать всего себя – вот что значит любить.
– Так люблю я, – просто сказала мадемуазель д’Арланж.
Этот ответ добил юриста. Он понимал ее. Все кончено, ему не оставалось ни малейшей надежды. Но он испытывал мучительную потребность продлить свои терзания, испить всю горечь до конца, чтобы еще больше убедиться в собственном несчастье.
– Скажите, – настойчиво спросил он, – откуда вы его знаете? Где и когда могли с ним говорить? Ведь маркиза никого не принимает.
– Признаюсь вам, сударь, во всем, – с достоинством отвечала Клер. – Мы уже давно знакомы. Впервые я встретила его в гостях у приятельницы моей бабки, старой мадемуазель де Гоэлло, которая приходится ему дальней родственницей. Мы заговорили, потом встретились там же еще раз…
– Да, помню, – подхватил г-н Дабюрон в каком-то внезапном озарении, – теперь вспомнил. Когда вам предстояло идти к мадемуазель де Гоэлло, перед тем вы дня три или четыре бывали веселей, чем обычно. А возвращались частенько в печальном настроении.
– Это потому, что я видела, как он страдает, сознавая свое бессилие перед препятствиями.
– Значит, его семья столь знатна и богата, – мрачно проговорил юрист, – что отвергает союз с вашим домом?
– Я расскажу вам все и без ваших вопросов, сударь, – отвечала мадемуазель д’Арланж, – все вплоть до его имени. Его зовут Альбер де Коммарен.
В эту минуту маркиза, нагулявшись, собралась возвращаться в нежно-розовый будуар. Она приблизилась к беседке.
– Блюститель правосудия, – воскликнула она своим оглушительным голосом, – пора садиться за пикет!
Следователь, не отдавая отчета в своих действиях, поднялся и пробормотал:
– Иду, иду.
Клер удержала его за руку:
– Я не предупредила вас, что все сказанное мною должно остаться между нами.
– Ах, мадемуазель! – с упреком воскликнул юрист, уязвленный таким недоверием.
– Я знаю, – продолжала Клер, – что могу на вас положиться. Но как бы ни повернулись события, покой мой утрачен.
Г-н Дабюрон вопросительно посмотрел на нее, он был удивлен.
– Можно не сомневаться, – пояснила Клер, – что если я, юная и неопытная девушка, могла чего-то не заметить, то бабка моя заметила все; раз она продолжает вас принимать и ничего мне не сказала, значит, она желает вам успеха, молчаливо поощряет ваши намерения, которые, можете мне поверить, я нахожу чрезвычайно для себя лестными.
– Я вам сказал об этом с самого начала, мадемуазель, – отвечал следователь. – Госпожа маркиза не отвергла моих надежд.
И он пересказал вкратце свой разговор с г-жой д’Арланж, деликатно обойдя денежные проблемы, игравшие для старой дамы столь важную роль.
– Я не ошиблась, – печально заметила Клер, – теперь мне придется худо. Когда бабка узнает, что я не приняла вашего предложения, она будет вне себя от ярости.
– Плохо же вы меня знаете, сударыня, – перебил юрист. – Я ничего не собираюсь рассказывать госпоже маркизе, я исчезну без всяких объяснений. Она сделает вывод, что по зрелом размышлении я…
– О, я знаю, вы добры и великодушны!
– Я удалюсь, – продолжал г-н Дабюрон, – и скоро вы позабудете самое имя бедняги, который сегодня расстался с надеждой на счастье.
– Я надеюсь, вы не верите в то, что говорите? – пылко перебила девушка.
– Нет, это правда. Последнее мое утешение – мысль о том, что когда-нибудь вы вспомните обо мне не без доброго чувства. Пройдет время, и вы скажете себе: «Этот человек любил меня». Поверьте, мне хотелось бы, несмотря ни на что, остаться вашим другом, да, преданнейшим вашим другом.
Клер порывисто схватила руки г-на Дабюрона.
– Вы правы, – сказала она, – мы должны остаться друзьями. Забудем, что произошло, забудьте то, что вы мне сейчас сказали, станьте для меня, как прежде, лучшим, самым снисходительным из братьев.
Стало темно, она уже не могла разглядеть его лицо, но догадалась, что он плачет; недаром он медлил с ответом.
– Да разве это возможно? – прошептал он наконец. – Разве возможно то, о чем вы меня просите! Вы призываете меня все забыть. У вас-то достанет силы на это. Неужели вы не видите, что я люблю вас в тысячу раз сильнее, чем любите вы… – Он осекся, не смея произнести имя Коммарена, и только добавил: – Я вечно буду вас любить.
Они уже удалились на несколько шагов от беседки и были недалеко от крыльца.
– Теперь, сударыня, – вновь заговорил юрист, – разрешите мне откланяться. Отныне вы будете редко видеть меня. Я стану навещать вас не чаще, чем это требуется, чтобы не создавать видимости разрыва. – Голос его дрожал и был почти невнятен. – Что бы ни случилось, помните: есть на свете несчастный, который принадлежит вам душой и телом. Если когда-нибудь вам понадобится преданность друга, обратитесь ко мне. Ну, вот и все. Я не отчаиваюсь, мадемуазель Клер. Прощайте же!
Она была почти в таком же смятении, что и он. Безотчетно она подставила ему лоб для поцелуя, и г-н Дабюрон коснулся холодными губами лица той, которую так любил.
Они под руку поднялись на крыльцо и вошли в розовый будуар, где маркиза поджидала свою жертву, начиная уже терять терпение и яростно постукивая картами по столу.
– Где же вы, неподкупный страж порядка? – воскликнула она.
Но г-н Дабюрон был, казалось, на грани смерти. Он не в силах был взять карты в руки. Промямлив какую-то нелепость в оправдание, упомянув о каких-то неотложных делах, срочной работе, внезапном недомогании, он вышел, держась за стены.
Его уход возмутил старую картежницу. Она обернулась к внучке, которая, чтобы скрыть свое смятение, держалась как можно дальше от свечей, горевших на карточном столе, и спросила:
– Да что это сегодня с Дабюроном?
– Не знаю, сударыня, – пролепетала Клер.
– Сдается мне, – продолжала маркиза, – этот следователишка возомнил о себе и слишком много стал себе позволять. Надо будет поставить его на место, а то он вообразит себя с нами на равной ноге.
Клер попыталась оправдать г-на Дабюрона. Ей, дескать, показалось, что он плохо выглядел, да он и жаловался нынче вечером на недомогание. Уж не заболел ли он?
– Ну что ж, – отрезала маркиза, – в этом случае ему следовало бы в благодарность за честь находиться в нашем обществе сделать над собой некоторое усилие, не правда ли? По-моему, я рассказывала тебе историю нашего двоюродного деда герцога де Сент-Юрюжа. Он был приглашен играть в карты за королевским столом после охоты, играл весь вечер и весьма учтиво проиграл двести двадцать пистолей. Все собрание отметило его веселость и отменное настроение. Лишь на другой день узнали, что на охоте он упал с лошади, сломал ребро и тем не менее играл с его величеством в карты. Такое проявление почтительности выглядело настолько естественным, что никто особенно не ахал. Пусть этот следователишка и заболел: будь он человеком порядочным, он бы умолчал об этом и остался сыграть со мной в пикет. По-моему, он такой же больной, как и я. Кто знает, в какой притон он помчался.
V
Покинув особняк д’Арланжей, г-н Дабюрон не пошел домой. Всю ночь он блуждал неведомо где, пытаясь хоть чуть-чуть остудить пылающую голову и изнурить себя усталостью, которая принесла бы ему немного покоя.
– О, я безумец! – твердил он себе. – Лишь безумец мог верить, надеяться, что когда-нибудь будет любим ею. Какое безрассудство было мечтать о том, чтобы завладеть этим воплощением грации, благородства, красоты! Как прекрасна она была нынче вечером с лицом, залитым слезами! В ней было что-то ангельское! Каким возвышенным чувством озарились ее глаза, когда она говорила о нем! Да, она его любит. А меня почитает как отца. Она сама сказала: «Как отца». Да разве могло быть иначе? Поделом же мне! Разве могла она увлечься угрюмым и суровым правоведом, унылым, как его неизменный черный сюртук? Что за преступный замысел был соединить ее девичью чистоту с моим отвратительным знанием жизни! Грядущее для нее – страна прекрасных иллюзий, а для меня давно уже поблекли все радужные упования. Она молода, как сама невинность, а я стар, как порок.
В самом деле, несчастный следователь был жалок сам себе. Он понимал Клер и не осуждал ее. Он корил себя за то, что не сумел скрыть от нее свою невыносимую боль, за то, что омрачил ее жизнь. Не мог себе простить, что вообще затеял это объяснение. Разве не обязан он был предвидеть, что она отвергнет его и он лишится небесной радости видеть ее, слышать, молча обожать?
«Юная девушка, – размышлял он, – должна мечтать о возлюбленном. Должна видеть в нем идеал. Она радуется, украшая его самыми блистательными достоинствами, воображая его благороднейшим, отважнейшим, великодушнейшим из смертных. А что Клер могла бы думать обо мне, когда меня нет рядом? Воображение нарисовало бы ей меня в зловещей судейской мантии, в мрачной тюремной камере, в единоборстве с каким-нибудь негодяем и отщепенцем. Не в том ли состоит мое ремесло, чтобы опускаться на самое дно общества, копаться в грязи преступлений? Да, я обречен во тьме стирать грязное белье нашего развращенного общества. Что и говорить, некоторые профессии метят особой метой тех, кто ими занимается. Юрист, подобно священнику, должен бы приносить обет безбрачия. Ведь и тот и другой все знают, все слышат. Они даже одеваются похоже. Но священник в складках своей черной сутаны несет людям утешение, а судья ужас. Первый воплощает милосердие, второй – кару. Вот о чем она думает, вспоминая обо мне, между тем мой соперник, мой соперник…»
И несчастный продолжал бесконечно и бессмысленно кружить по пустынным набережным. Он был без шляпы, глаза его блуждали. Чтобы легче было дышать, он сорвал с себя галстук и бросил его на землю.
Изредка навстречу ему попадался одинокий прохожий, но он не замечал никого. Прохожий останавливался и с жалостью смотрел вслед горемычному безумцу.
В безлюдном месте недалеко от улицы Гренель к нему подошли полицейские и попытались выяснить, кто он такой и что ему надо. Он оттолкнул их, но как-то машинально, и сунул им визитную карточку. Прочитав, они отпустили его, уверенные, что он пьян.
На смену первоначальному смирению пришла безумная ярость. В сердце его зародилась ненависть, которая даже была сильней и неукротимей, чем любовь к мадемуазель д’Арланж.
Ах, попадись ему этот соперник, этот счастливчик, благородный виконт, которому все на свете дается даром!
Г-ну Дабюрону, гордому, благородному человеку, самоотверженному судебному следователю, открылась вся непреодолимая сладость мщения. Сейчас он понимал тех, кто от ненависти хватается за кинжал, кто, притаившись в темном углу, подло, исподтишка наносит удар – в грудь или в спину врага, как придется, лишь бы ударить, убить и с радостью увидеть кровь жертвы.
Как раз в эти дни он расследовал преступление жалкой уличной женщины, которую обвиняли в том, что она ударом ножа расправилась с одной из своих товарок. Она ревновала к этой товарке, пытавшейся отбить у нее любовника, грубого пьянчугу солдата.
Теперь г-ну Дабюрону было жаль эту презренную женщину, которую он накануне начал допрашивать. Она была безобразна, вызывала отвращение, но ему припомнилось выражение ее лица в ту минуту, когда она заговорила о своем солдате.
«Она любит его, – думал следователь. – Если бы каждый присяжный перенес те же страдания, что и я, она была бы оправдана. Но многие ли испытали в жизни страсть? Дай Бог, один человек из двадцати».
Он поклялся себе призвать суд к снисходительности и, насколько удастся, смягчить кару за преступление. Он и сам был готов решиться на преступление. Г-н Дабюрон замыслил убить Альбера де Коммарена.
До самого утра он все больше укреплялся в своем замысле, приводя сотни безумных доводов, казавшихся ему вполне основательными и бесспорными, в пользу необходимости и законности мщения. К семи утра он очутился на одной из аллей Булонского леса недалеко от озера. Он добрался до заставы Майо, нанял экипаж и велел отвезти себя домой.
Ночной бред продолжался, – но страдание унялось. Он не испытывал ни малейшей усталости. Одержимый навязчивой идеей, он действовал спокойно и методично, словно сомнамбула. Он раздумывал, рассуждал, но разум его бездействовал. Дома он тщательнейшим образом оделся, как в те дни, когда собирался в гости к маркизе д’Арланж, и вышел. Сперва он заглянул к оружейнику и купил маленький револьвер, который по его просьбе тут же зарядили. Сунув револьвер в карман, он отправился навещать тех знакомых, которые, по его мнению, могли знать, в каком клубе состоит виконт. Он разговаривал и держался настолько естественно, что никто не заметил, в каком странном состоянии духа он находится.
И только под вечер один его молодой приятель назвал ему клуб, который посещает г-н де Коммарен-сын, и, будучи сам членом этого клуба, предложил г-ну Дабюрону сводить его туда. Юрист пылко поблагодарил друга и принял приглашение.
По дороге он исступленно сжимал в кармане рукоять револьвера. Думал он только об убийстве, которое собирался совершить, да о том, как бы не промахнуться.
«Поднимется чудовищный шум, – хладнокровно размышлял он, – особенно если мне не удастся сразу пустить себе пулю в лоб. Меня арестуют, посадят в тюрьму, будут судить. Пропало мое доброе имя! Ах, не все ли равно: раз Клер меня не любит, какое мне дело до прочего? Отец умрет от горя, знаю, но мне нужно отомстить».
В клубе приятель показал ему молодого черноволосого человека, который читал журнал, облокотившись на стол; г-ну Дабюрону показалось, что у него высокомерный вид. Это был виконт.
Г-н Дабюрон, не вынимая револьвера, пошел прямо на него, но когда тот был уже в двух шагах от виконта, решимость изменила ему. Он резко повернулся и бросился прочь, оставив приятеля в глубоком недоумении относительно сцены, которую он не в силах был истолковать. Никогда еще за всю свою жизнь г-н Альбер де Коммарен не был так близок к смерти, как в тот день.
Выйдя на улицу, г-н Дабюрон почувствовал, что земля уходит у него из-под ног. Перед глазами все поплыло. Он хотел крикнуть, но не мог. Судорожно взмахнув руками, он покачнулся и грузно осел на тротуар. Сбежались люди, помогли полицейскому его поднять. В кармане у него нашли адрес и доставили его домой.
Придя в сознание, он обнаружил, что лежит в постели, а в ногах у него стоит отец.
– Что со мной было?
Ему со множеством предосторожностей рассказали, что полтора месяца он был между жизнью и смертью. Теперь врачи считают, что он спасен. Он уже начал поправляться, ему лучше.
Пятиминутный разговор изнурил его. Он закрыл глаза и попытался собраться с мыслями, которые метались в беспорядке, как осенняя листва, подхваченная ветром. Прошлое, казалось, тонуло в непроглядном тумане, но все, что касалось мадемуазель д’Арланж, виделось ему четко и ярко. Все, что он делал после того, как поцеловал Клер, стояло у него перед глазами, словно на залитой светом картине. Он вздрогнул, его бросило в пот. Он едва не стал убийцей!
Но он уже в самом деле поправлялся, и его умственные способности восстановились; поэтому его мыслями завладел один вопрос уголовного права.
«Если бы я совершил убийство, – рассуждал он, – осудили бы меня? Да. Но был бы я на самом деле ответствен за свое преступление? Нет. Не есть ли преступление форма умственного расстройства? Что со мной было? Безумие? То особое состояние, которое должно предшествовать покушению на человеческую жизнь? Сможет ли кто-нибудь мне на это ответить? Почему не дано каждому судье перенести подобный необъяснимый приступ? Но расскажи я о том, что со мной было, разве мне поверят?»
Несколько дней спустя, немного окрепнув, он во всем открылся отцу, который пожал плечами и стал убеждать, что все это ему привиделось в бреду. Дабюрон-отец был человек добрый, история печальной любви сына растрогала его, но никакой непоправимой беды он в этом не усмотрел. Он посоветовал сыну вести более рассеянный образ жизни, заверил, что тот волен распоряжаться всем его состоянием, и, главное, принялся уговаривать его жениться на какой-нибудь богатой наследнице из Пуату, доброй, веселой и здоровой, которая подарит ему прекрасных детей. Затем он отбыл в провинцию, поскольку имение страдало без его присмотра.
Через два месяца судебный следователь вернулся к прежнему времяпрепровождению и трудам. Но прошлого не вернуть: что-то в нем надломилось, он это чувствовал и ничего не мог с собой поделать.
Однажды ему захотелось повидать свою старую приятельницу маркизу. Увидев его, она испустила вопль ужаса: он так изменился, что она приняла его за привидение. Поскольку мрачные лица внушали ей отвращение, она поспешила его спровадить.
Клер неделю была больна после того, как повидала г-на Дабюрона. «Как он любил меня! – думала она. – Ведь он чуть не умер. Способен ли Альбер так любить?»
Она не решалась ответить на этот вопрос. Ей хотелось утешить г-на Дабюрона, поговорить с ним, попытаться ему помочь. Но он больше не приходил.
Однако г-н Дабюрон был не из тех, кто сдается без борьбы. Он решил, следуя совету отца, вести рассеянный образ жизни. Устремившись на поиски радостей, он обрел отвращение, но ни о чем не забыл. Порой он был близок к тому, чтобы удариться в самый настоящий разгул, но всякий раз небесный образ Клер в белом платье преграждал ему дорогу.
Тогда он стал искать забвения в работе. Он обрек себя на каторжный труд, запрещая себе думать о Клер, подобно тому, как чахоточный запрещает себе думать о своем недуге. Его усердие и лихорадочная деятельность стяжали ему репутацию честолюбца, который далеко пойдет. Ничто в мире его не задевало.
Со временем к нему пришло если не спокойствие, то отупение, наступающее вслед за непоправимыми катастрофами. Он начал забывать, начал исцеляться.
Обо всех этих событиях напомнило г-ну Дабюрону имя Коммарена, произнесенное папашей Табаре. Следователь думал, что события эти погребены под пеплом времени, но вот они снова предстали перед ним, подобно буквам, написанным симпатическими чернилами, которые проступают, если поднести бумагу к огню. В одно мгновение эти события развернулись с волшебной быстротой перед его взором, словно во сне, для которого ни время, ни пространство не существуют.
Несколько минут он, словно раздвоившись, смотрел со стороны на собственную жизнь. Он был одновременно и актер, и зритель, он был у себя дома, в своем кресле, но в то же время и на подмостках; он играл роль и оценивал себя в этой роли.
Первым его ощущением, надо признаться, было ощущение ненависти, вслед за которым пришло отвратительное чувство удовлетворения. Волей случая у него в руках оказался человек, которого предпочла Клер. И человек этот уже не надменный вельможа, обладатель огромного состояния и потомок прославленных предков, а незаконнорожденный, сын доступной женщины. Чтобы сохранить за собой украденное имя, он совершил самое подлое преступление на свете. И г-ну Дабюрону, судебному следователю, невыразимо сладко было представлять себе, как он поразит своего недруга мечом правосудия.
Но длилось это всего одно мгновение. Тут же восстала и властно заговорила совесть этого порядочнейшего человека. Что может быть чудовищней соединения двух несовместимых понятий – ненависти и правосудия! Может ли юрист сознавать, что преступник, чья судьба находится в его руках, является его врагом, и не испытывать к себе более жгучего презрения, чем к самым бесчестным из подсудимых? Имеет ли право судебный следователь употреблять свою чудовищную власть против обвиняемого, питая к нему в глубине души хоть каплю неприязни?
Г-н Дабюрон снова повторил себе то, с чего весь последний год начинал каждое расследование: «Я и сам едва не запятнал себя страшным злодейством». И вот теперь ему предстояло отдать приказ об аресте, а потом допрашивать и предать суду человека, которого он в свое время твердо намерен был убить.
Разумеется, никто не знал об этом преступлении, которое так и осталось замыслом, намерением, но мог ли он сам об этом забыть? И разве не следовало ему уклониться от этого дела, отойти в сторону? Разве не его долг – отстраниться и умыть руки, предоставив кому-нибудь другому обязанность отомстить за него именем общества?
– Нет! – произнес он. – Это было бы трусостью, это было бы недостойно меня.
Тут на ум ему пришла мысль, исполненная безумного великодушия.
– Что, если я его спасу? – пробормотал следователь. – Что, если ради Клер я сохраню ему жизнь и честное имя? Но как его спасти? Для этого надо не дать ходу сведениям, обнаруженным папашей Табаре, и вовлечь его в заговор молчания. Тогда придется добровольно пойти по ложному пути и вместе с Жевролем устремиться на поиски воображаемого убийцы. Осуществимо ли это? Вдобавок выгородить Альбера – значит развеять надежды Ноэля; это значит оставить безнаказанным гнуснейшее из предательств. И наконец, это означает вновь принести правосудие в жертву собственной страсти.
Следователь терзался. Легко ли принять решение, когда все так запутано, когда тебя раздирают противоречивые желания? Он растерянно метался между взаимоисключающими намерениями, бросаясь из крайности в крайность.
Что делать? Испытав новое неожиданное потрясение, рассудок его тщетно искал точку опоры.
«Отступиться? – размышлял следователь. – Это было бы малодушием. Я всегда должен оставаться представителем закона, недоступным ни страстям, ни лицеприятию. Неужели я настолько слаб, что, надевая мантию, не могу отбросить все личные предубеждения? Неужели не в силах, сосредоточившись на настоящем, отстранить от себя минувшее? Мой долг – расследовать преступление. Сама Клер велела бы мне сохранять верность долгу. Да и захочет ли она принадлежать человеку, запятнанному подозрением? Ни за что. Если он невиновен, его ждет оправдание; если виновен – смерть».
Ход его мыслей, казалось, был безупречен, но в глубине души он терзался тысячью сомнений, жаливших, как шипы. Ему необходимо было чем-то подкрепить свое решение.
«Неужели я еще питаю ненависть к этому человеку? – думал он. – Нет, конечно, нет. Клер предпочла его мне, он меня даже не знает, значит, я должен винить не его, а ее. Моя ярость была просто-напросто приступом безумия. И я докажу это. Я хочу, чтобы во мне он нашел не столько судебного следователя, сколько советчика. Если он невиновен, я помогу ему воспользоваться для доказательства своей правоты всем арсеналом средств и всем превосходным полицейским механизмом, который находится в распоряжении прокуратуры. Да, я вправе заниматься этим делом: Богу, который читает в глубине наших душ, ведомо, что любовь моя к Клер так велика, что я искренне, от всего сердца желаю ее возлюбленному оказаться невиновным».
И только тут г-н Дабюрон очнулся и понял, что прошло уже немало времени. Было уже около трех часов ночи.
– О боже! – воскликнул он. – Папаша Табаре заждался. Наверно, он заснул.
Но папаша Табаре не спал и, подобно г-ну Дабюрону, не замечал, как бежит время.
Ему хватило десяти минут, чтобы составить в уме опись всего, что было в кабинете г-на Дабюрона, просторном и обставленном дорогой, но строгой мебелью соответственно состоянию и общественному положению хозяина.
Вооружившись канделябром, он подошел к шести картинам кисти первоклассных мастеров, оживлявшим наготу деревянных панелей, и оценил прекрасную живопись. С любопытством осмотрел он и несколько бронзовых статуэток на камине и на столике с гнутыми ножками, с видом знатока исследовал книжный шкаф.
Затем, взяв со стола вечернюю газету, он опустился в глубокое кресло у камина. Не успел он пробежать и треть передовой статьи, которая, как все тогдашние передовые парижских газет, была посвящена исключительно римскому вопросу[87], как выпустил листы из рук и погрузился в размышления. Навязчивая идея, не контролируемая волей, интересовавшая его куда больше политики, неодолимо влекла его в Ла-Жоншер, к трупу вдовы Леруж. Подобно человеку, который тысячи раз раскладывает пасьянс и вновь перемешивает карты, он выстраивал и вновь разрушал цепь своих рассуждений.
Да, в этом печальном деле для него все ясно. Он полагал, что ему известно все, с начала до конца. Он уже знал, как действовать, и был уверен, что г-н Дабюрон разделяет его точку зрения. И все же сколько еще трудностей впереди!
Ведь между судебным следователем и обвиняемым стоит высший суд, замечательное учреждение, которое служит всем нам порукой и призвано умерять суровость власти, – суд присяжных. А этот суд, слава Богу, не довольствуется логическими умозаключениями.
Любые, самые убедительные построения, как бы они ни поразили и ни потрясли присяжных, не заставят их вынести вердикт: «Да, виновен». Присяжные находятся на нейтральной полосе между обвинением, которое выдвигает свои аргументы, и защитой, которая гнет свою линию, и они требуют вещественных доказательств, настаивают на таких уликах, которые можно было бы потрогать. Там, где юристы с легким сердцем вынесли бы обвинительный приговор, суд присяжных предпочитает оправдать обвиняемого, чтобы не взять греха на душу, поскольку очевидных улик все-таки нет. Печально известная казнь Лезюрка[88] повлекла за собой наверняка не одно преступление, оставшееся безнаказанным, и следует признаться, в этом есть своя логика.
В сущности, если не считать случаев, когда преступника застали на месте преступления или когда он сам сознался в содеянном, для прокуратуры каждое преступление оказывается более или менее загадочным. Иногда сомнения, которые не удалось рассеять в ходе следствия, так беспокоят прокуратуру, что она сама о них предупреждает. Почти во всех тяжких преступлениях для правосудия и для полиции остается нечто таинственное, непостижимое. Талант адвоката в том и состоит, чтобы нащупать это «нечто» и сосредоточить на нем свои усилия. Пользуясь этой неясностью, он разжигает сомнения. Какой-нибудь спорный эпизод, умело поданный на судебном заседании, может в последний момент изменить весь ход процесса. Этой неуверенностью в исходе дела и объясняется ожесточенный характер, какой принимают подчас судебные прения.
И чем выше уровень развития общества, тем нерешительнее и боязливее ведут себя присяжные, особенно в сложных случаях. Они несут бремя ответственности со все возрастающей тревогой. Многие из них уже вообще не хотят выносить смертные приговоры. А если все же приходится, то они пытаются так или иначе снять со своей совести этот груз. Недавно присяжные подписали ходатайство о помиловании, а о ком они хлопотали? Об отцеубийце. Любой присяжный, удаляясь на совещание, думает не столько о том, что он сейчас услышал, сколько о том, что ему самому грозит всю жизнь терзаться угрызениями совести. И многие из них предпочтут отпустить на свободу три десятка злодеев, лишь бы не осудить одного невиновного. Поэтому обвинение должно располагать полным набором улик и выступать перед присяжными, так сказать, во всеоружии. А выковать оружие, добыть улики – задача судебного следователя. Дело это тонкое, подчас весьма долгое и трудное.
Если обвиняемый сохраняет хладнокровие и уверен, что не оставил следов на месте преступления, то, сидя в тюрьме, в одиночной камере, он бросает вызов всем ухищрениям следствия. Это жестокая борьба, которая тем ужаснее, что человек, запертый в камере, лишенный поддержки и защиты, может ведь оказаться и невиновным. Сумеет ли судебный следователь остаться глух к доводам внутреннего голоса?
Нередко правосудию приходится признать себя побежденным. Оно уверено, что нашло преступника: на него указывает логика, здравый смысл, но от судебного преследования приходится отказаться за неимением улик. К сожалению, многие тяжкие преступления остаются безнаказанными. Некий бывший товарищ прокурора однажды признался, что он лично знал трех убийц – богатых, счастливых, уважаемых людей, которые, за отсутствием неопровержимых улик, скончались в своей постели, окруженные родными, и были преданы земле со всеми почестями, а могилы их украшены высокопарными эпитафиями.
При мысли о том, что убийца может уйти от наказания, у папаши Табаре кровь вскипала в жилах, словно при воспоминании о тяжком оскорблении. Такое безобразие, по его мнению, возможно лишь из-за глупости должностных лиц, причастных к расследованию, бестолковости полицейских и бездарности или попустительства судебного следователя.
– Уж я-то не упущу добычу, – самодовольно бормотал он. – Нет такого преступления, которое нельзя было бы раскрыть, разве что преступник – сумасшедший, чьи поступки не поддаются логическому анализу. Я готов искать виновного всю жизнь, я готов свернуть себе на этом шею, но никогда не признаю себя побежденным, как это столько раз бывало с Жевролем.
Благодаря счастливому случаю на сей раз папаша Табаре вновь преуспел. Но какие доказательства представить следствию и проклятущему суду присяжных, этим дотошным и трусливым крючкотворам? Что придумать, чтобы заставить раскрыться этого энергичного человека, который держится начеку и надежно защищен как своим высоким положением, так и мерами предосторожности, которые он наверняка принял? Какую западню ему приготовить, к какой новой и надежной военной хитрости прибегнуть?
Добровольный сыщик ломал себе голову, изобретая хитроумные, но неосуществимые уловки, и всякий раз его останавливали соображения этой чертовой законности, чинящей такие препоны доблестным рыцарям с Иерусалимской улицы.
Он так углубился в свои построения, то весьма изобретательные, то несколько неуклюжие, что не слышал, как отворилась дверь в кабинет, и совершенно не заметил появления судебного следователя. Из задумчивости его вывел голос г-на Дабюрона, который взволнованно произнес:
– Простите меня, господин Табаре, что я так долго заставил вас ждать.
Папаша Табаре вскочил и согнулся в почтительном поклоне не меньше чем на сорок пять градусов.
– Право, сударь, – отвечал он, – я и не заметил, что жду.
Г-н Дабюрон пересек комнату и уселся напротив полицейского, перед круглым столиком, на котором лежали бумаги и документы, имевшие отношение к убийству. Он выглядел крайне утомленным.
– Я много размышлял над этим делом… – начал он.
– Я тоже, – перебил папаша Табаре. – Когда вы вошли, сударь, я с тревогой думал, как поведет себя при аресте виконт де Коммарен. На мой взгляд, это главное. Вспылит? Попытается нагнать страху на полицейских, пригрозит вышвырнуть их за дверь? Такова обычная тактика преступников из хорошего общества. Но мне кажется, он будет держаться холодно и невозмутимо. Преступление всегда вытекает из характера преступника. Вот увидите, этот человек продемонстрирует нам изумительное самообладание. Скажет, что явно стал жертвой недоразумения. Будет настаивать на скорейшем свидании с судебным следователем – тогда, мол, все сразу разъяснится.
Папаша Табаре высказывал свои предположения с такой незыблемой уверенностью, таким непререкаемым тоном, что г-н Дабюрон не удержался от улыбки.
– До этого еще дело не дошло, – заметил он.
– Не дошло, так дойдет через несколько часов, – живо возразил сыщик. – Полагаю, что, как только рассветет, господин судебный следователь выдаст ордер на арест виконта де Коммарена.
Следователь содрогнулся, словно больной, который видит, как хирург, войдя к нему в комнату, раскладывает на столике свои инструменты. Настало время действовать. Ему открылось неизмеримое расстояние, отделяющее мысль от поступка, решение от его исполнения.
– Вы слишком спешите, господин Табаре, – произнес он. – Вы не представляете себе, какие препятствия стоят перед нами.
– Но ведь он убил! Скажите, господин следователь, кто, как не он, мог совершить это убийство? Кому было выгодно уничтожить вдову Леруж, ее свидетельства, бумаги, письма? Ему, только ему. Мой Ноэль, такой же глупец, как все порядочные люди, предупредил его, вот он и принял меры. Если его вина не будет доказана, он так и останется Коммареном, а моему адвокату до гроба придется носить имя Жерди.
– Да, но…
Папаша Табаре изумленно уставился на следователя.
– Господин следователь усматривает какие-то трудности? – спросил он.
– Еще бы! – отвечал г-н Дабюрон. – Это дело из тех, которые требуют предельной осмотрительности. В случаях, подобных нашему, удары следует наносить только наверняка, а мы располагаем лишь предположениями… Да, разумеется, весьма убедительными, но все же предположениями. А вдруг мы заблуждаемся? К сожалению, правосудие никогда не может полностью исправить свою ошибку. Длань его, несправедливо опустившись на невинного, оставляет на нем несмываемое клеймо. И пусть правосудие признает, что оно заблуждалось, пусть оно объявит об этом во всеуслышание – тщетно. Бессмысленное, тупое общественное мнение не простит человека, который подозревался в убийстве.
Папаша Табаре выслушивал эти рассуждения, испуская тяжкие вздохи. Его-то не остановили бы столь ничтожные доводы.
– Наши подозрения имеют под собой почву, – продолжал следователь, – я в этом убежден. Но что, если они несправедливы? Тогда наша поспешность обернется для этого молодого человека ужасным несчастьем. Вдобавок огласка, скандал! Подумали вы об этом? Вы не представляете себе, какой урон подобный промах может нанести правосудию, а ведь его сила зиждется на всеобщем к нему уважении. Ошибка вызовет разговоры, привлечет всеобщее пристальное внимание и возбудит недоверие к нам, и это в наши-то времена, когда все умы и так слишком предубеждены против законной власти.
И, облокотившись на столик, г-н Дабюрон, казалось, ушел в размышления.
«Вот не везет, – думал папаша Табаре. – Я нарвался на труса. Надо действовать, а он болтает. Надо подписать постановление, а он теории разводит. Мое открытие его оглушило, и он испугался. Я-то думал, когда бежал к нему, что он будет в восторге. Ничуть не бывало. Он с удовольствием выложил бы луидор из собственного кармана, лишь бы устроить так, чтобы меня не привлекали к этому делу: тогда бы он ничего не знал и спокойно спал в неведении. И так всегда: всем им хочется, чтобы к ним в сети угодил косяк мелкой рыбешки, а крупной рыбы им и даром не надо. Крупные рыбы опасны, их лучше выпустить на волю».
– Быть может, – вслух произнес г-н Дабюрон, – быть может, довольно будет постановления на обыск и вызова в суд?
– Тогда все пропало! – вскричал папаша Табаре.
– Почему же?
– Ах, господин следователь, вы, наверно, понимаете это лучше, чем я, жалкий старик. Мы имеем дело с самым что ни на есть хитроумным и тонким предумышленным убийством. Счастливая случайность навела нас на след преступника. Если мы дадим ему время опомниться, он от нас ускользнет.
Вместо ответа следователь кивнул головой, что можно было истолковать как согласие.
– Каждому ясно, – продолжал папаша Табаре, – что наш противник человек незаурядной силы, поразительного хладнокровия, изумительной ловкости. Этот негодяй несомненно все предусмотрел, абсолютно все, вплоть до совершенно невероятной возможности, что на него падет подозрение. Уж он-то обо всем позаботился. Если вы, господин следователь, ограничитесь повесткой в суд, негодяй спасен. Он предстанет перед судом, как ни в чем не бывало, невозмутимый, словно речь идет о дуэли. Он запасется таким надежным алиби, что не подкопаешься. Докажет, что провел вечер и ночь с вторника на среду в обществе самых высокопоставленных лиц. Выяснится, что обедал он с графом таким-то, играл в карты с маркизом имярек, ужинал с герцогом как-бишь-его; причем баронесса такая и виконтесса сякая глаз с него не сводили… И все будет сыграно как по нотам и рассчитано с такой точностью, что нам придется распахнуть перед ним двери, да еще с извинениями провожать его по лестнице. Победить его можно только одним способом: застигнуть врасплох, чтобы он не успел опомниться и приготовиться. Надо упасть как снег на голову, застать его спящим, увести прежде, чем он опомнится, и сразу же допросить, еще тепленького. Это единственный способ пролить свет на преступление. Эх, стать бы мне на один денек судебным следователем!
Папаша Табаре осекся, опасаясь, не проявил ли он неуважения к следователю. Но г-н Дабюрон, казалось, нисколько не обиделся.
– Продолжайте, – поощрительно произнес он, – продолжайте.
– Допустим, – подхватил старый сыщик, – я стал судебным следователем. Я посылаю арестовать этого типа, и через двадцать минут он уже у меня в кабинете. Я не стану терять время, предлагая ему всякие вопросы с подвохом. Нет, я пойду напролом. Прежде всего обрушу на него всю тяжесть своей уверенности. Изрядный груз! Я докажу ему, что знаю все, докажу с такой ясностью, очевидностью, так непреложно, что он сдастся, – ему просто ничего больше не останется. И допрашивать я его не стану. Не дам ему и рта раскрыть, а заговорю первый. И вот что я ему скажу. «Вы, любезнейший, представляете мне алиби? Превосходно! Но мы это средство знаем, имели с ним дело. Испытанный прием! Время смотрят по часам, которые спешат или отстают. Ладно, согласен, сотня человек не спускала с вас глаз. А вы между тем действовали вот как: в восемь часов двадцать минут вы ловко исчезли. В восемь тридцать пять сели в поезд на вокзале Сен-Лазар. В девять вышли из вагона на вокзале в Рюэйле и пошли по дороге, ведущей в Ла-Жоншер. В девять пятнадцать постучались в окошко вдовы Леруж, она вам отворила, и вы попросили у нее поесть и, главное, выпить. В девять двадцать пять вы вонзили ей между лопаток остро заточенный кусок клинка, перевернули весь дом вверх дном и сожгли некие бумаги, сами знаете какие. Затем, завернув все ценности в салфетку и прихватив ее с собой, чтобы создать видимость ограбления, вы вышли и заперли дверь на два оборота. Дойдя до Сены, вы бросили узелок в воду, пешком вернулись на станцию и в одиннадцать часов преспокойно уехали. Все прошло как по маслу. Вы не учли только двух противников: хитреца сыщика по прозвищу Загоню-в-угол и другого, еще более опасного, имя которому – случай. Эти-то двое вас и погубили. Вдобавок вы совершили промах, оставшись в чересчур изящных ботинках, в жемчужно-серых перчатках и не избавившись от шелкового цилиндра и зонтика. А теперь сознавайтесь, так будет быстрее, а я разрешу вам дымить в тюрьме вашими любимыми превосходными сигарами, которые вы всегда курите с янтарным мундштуком».
Папашей Табаре овладело такое вдохновение, что, казалось, он вырос дюйма на два. Он взглянул на следователя, словно ожидая увидеть у него на лице одобрительную улыбку.
– Вот так я ему и сказал бы, – продолжал он, переведя дыхание. – И если только этот человек не окажется в тысячу раз сильнее, чем я думаю, если только он не из бронзы, не из мрамора, не из стали, я повергну его во прах и добьюсь признания.
– А если он окажется из бронзы? Если не повергнется во прах? Что вы будете делать?
Этот вопрос явно озадачил полицейского.
– Проклятие! – пробормотал он. – Ну, не знаю… Посмотрю, подумаю… Да нет, он признается!
После изрядно затянувшегося молчания г-н Дабюрон взял перо и поспешно черкнул несколько строк.
– Сдаюсь, – произнес он. – Решено, господин Альбер де Коммарен будет арестован. Но понадобится время на всякие формальности, на обыск, да и мне тоже необходимо кое-что сделать. Я хотел бы прежде допросить его отца, графа де Коммарена, и этого молодого адвоката, вашего друга, господина Ноэля Жерди. Мне нужны письма, которыми он располагает.
При имени Жерди лицо папаши Табаре омрачилось и на нем обозначилось выражение самого комичного беспокойства.
– Черт бы меня побрал! – воскликнул он. – Этого-то я и боялся.
– Чего же? – удивился г-н Дабюрон.
– Что вам понадобятся письма Ноэля. Естественно, он узнает, кто навел полицию на след преступника. Хорошо же я буду выглядеть! Разумеется, его права будут признаны благодаря мне, не правда ли? Как по-вашему, будет он мне благодарен? Да ничуть не бывало! Он проникнется ко мне презрением! Он станет меня избегать, едва узнает, что господин Табаре, рантье, и сыщик Загоню-в-угол – одно и то же лицо. Слаб человек! Через неделю мои ближайшие друзья перестанут подавать мне руку. Как будто это не великая честь – служить правосудию!.. Придется мне переехать в другой квартал, сменить имя…
Огорчение его было так велико, что он чуть не плакал. Г-н Дабюрон был тронут.
– Успокойтесь, дорогой господин Табаре, – произнес он. – Лгать я не стану, но поведу дело так, чтобы ваш любимец, ваш приемный сын ничего не узнал. Я дам ему понять, что на его след меня навели бумаги, найденные в доме вдовы Леруж.
Окрыленный папаша Табаре схватил руку следователя и поднес ее к губам.
– Ах, благодарю вас, сударь, – вскричал он, – тысячу раз благодарю! Вы так великодушны, вы… А я-то недавно еще… Но довольно! Если позволите, я буду присутствовать при аресте; хотелось бы принять участие в обыске.
– Я и сам думал вас об этом просить, господин Табаре, – отвечал следователь.
Лампы чадили, свет их потускнел, крыши домов побелели. Занимался день. Вдали уже слышался шум утренних повозок. Париж просыпался.
– Раз мы решили действовать, – заметил г-н Дабюрон, – нельзя терять ни минуты. Сейчас я должен повидаться с императорским прокурором, даже если ради этого мне придется поднять его с постели. От него поеду прямо во Дворец правосудия. Я буду там к восьми часам. Приезжайте туда к этому же времени, господин Табаре, и ждите моих распоряжений.
Сыщик поблагодарил и стал прощаться. Но тут вошел слуга г-на Дабюрона.
– Этот пакет, сударь, – сказал он хозяину, – доставил только что буживальский жандарм. Он ждет ответа в прихожей.
– Превосходно, – отвечал следователь. – Узнайте у него, не нужно ли ему чего, да угостите стаканом вина. – С этими словами он вскрыл пакет и воскликнул:
– Глядите-ка, письмо от Жевроля!
Письмо гласило:
Господин судебный следователь!
Имею честь уведомить вас, что напал на след человека с серьгами. Узнал я о нем у хозяина винной лавки, где засиживаются местные пьянчуги. В воскресенье утром, выйдя от вдовы Леруж, в эту лавку заглянул человек, которого мы ищем. Сначала он взял две литровые бутылки вина и расплатился. Потом хлопнул себя по лбу и сказал: «Ну и болван! Совсем забыл, что завтра именины корабля». И тут же купил еще три бутылки. Я справился в календаре, корабль называется «Сен-Марен». Еще я выяснил, что он гружен зерном. Одновременно с этим письмом пишу в префектуру, чтобы в Париже и Руане были предприняты поиски. Они наверняка принесут плоды. Примите, милостивый государь…
– Бедняга Жевроль! – воскликнул папаша Табаре, разразившись хохотом. – Он точит саблю, а сражение уже выиграно. Не хотите ли, господин следователь, положить конец его поискам?
– Ни в коем случае! – отвечал г-н Дабюрон. – Пренебрежение к мелочам нередко оборачивается непоправимой ошибкой. Кто может знать, какие новые сведения сообщит нам этот человек?
VI
В тот же самый день, когда было обнаружено преступление в Ла-Жоншер, в тот самый час, когда папаша Табаре проводил осмотр комнаты убитой, виконт Альбер де Коммарен садился в экипаж – он ехал на Северный вокзал встречать отца.
Виконт был страшно бледен. Обострившиеся черты лица, мрачный взгляд, бескровные губы свидетельствовали либо о невыносимой усталости, либо о чрезмерных излишествах в наслаждениях, либо о безумной тревоге.
Впрочем, в особняке вся прислуга обратила внимание, что вот уже пять дней, как молодой хозяин совершенно переменился. Разговаривал он через силу, почти ничего не ел и настрого запретил входить к нему. Камердинер виконта заметил, что эта перемена, слишком стремительная, чтобы не бросаться в глаза, произошла утром в воскресенье после визита некоего сьера Жерди, адвоката, проведшего в библиотеке почти три часа. Виконт, до прихода этого человека веселый, как скворец, после его ухода стал бледнее смерти, и эта чудовищная бледность больше не сходила с его лица.
Отправляясь на вокзал, он, казалось, и передвигался-то с трудом, по каковой причине Любен, камердинер, упорно уговаривал его не выходить из дому. Выйти на холод – это же страшная неосторожность. Гораздо разумнее лечь в постель и выпить чашечку липового отвара.
Но граф де Коммарен крайне ревностно относился к внешним проявлениям сыновнего долга. Этот человек скорей простил бы сыну самые невероятные безрассудства, самую гнусную распущенность, нежели то, что он именовал непочтительностью. О своем прибытии он оповестил за сутки телеграммой, которая должна была поднять по тревоге всех обитателей особняка, и отсутствие Альбера на вокзале возмутило бы его сильней, чем самое непристойное оскорбление.
Минут пять виконт прохаживался по залу ожидания, наконец колокол возвестил о прибытии поезда. Двери, выходящие на перрон, распахнулись, и через них потоком пошли пассажиры.
Как только сутолока чуть уменьшилась, появился граф в сопровождении слуги, который нес огромную дорожную шубу из дорогого меха. Граф де Коммарен выглядел лет на десять моложе своего возраста. В бороде и все еще густых волосах лишь кое-где поблескивала седина. Был он высок и сух, ходил, ни капли не горбясь, высоко неся голову, но в нем не было ничего от той неприятной британской чопорности, которой так завистливо восхищаются наши юные «джентльмены». У него были благородная осанка и легкая поступь. Такие сильные и очень красивые руки бывают только у человека, чьи предки в течение веков привыкли орудовать шпагой. Тот, кто стал бы изучать правильное лицо графа, обнаружил бы в нем странный контраст: черты его дышали добродушием, на устах играла улыбка, но светлые глаза пылали яростной гордыней. Этот контраст объяснял тайну его натуры.
Столь же нетерпимый, как маркиза д’Арланж, граф шел в ногу с веком или по крайней мере делал вид, будто идет в ногу. Так же, как и маркиза, он презирал всех, кто не был дворянского рода, только презрение свое выражал по-другому. Маркиза демонстрировала пренебрежение надменно и грубо, граф прикрывал его утонченной, прямо-таки чрезмерной и унижающей вежливостью. Маркиза с радостью бы «тыкала» своим поставщикам. А вот в доме графа его архитектор как-то уронил зонтик, и граф поспешно кинулся его поднимать.
Старая маркиза прожила жизнь с завязанными глазами, с заткнутыми ушами, у графа же в этом смысле было отличное зрение, и видел он очень хорошо, притом обладал не менее тонким слухом. Она была глупа и совершенно лишена здравого смысла; он был умен, имел, можно сказать, широкие взгляды и определенные идеи. Она мечтала о возврате своих несуразных прав, о реставрации монархических нелепостей, полагая, что время можно прокрутить назад, как стрелки часов; он стремился к практическим целям, например, к власти, и был искренне убежден, что его партия еще сможет вновь захватить и сохранить ее, а затем медленно, незаметно, но окончательно восстановить все утраченные привилегии.
Но, в общем-то, они поладили бы друг с другом. Иначе говоря, граф являл собой приукрашенный портрет определенной части общества, маркиза была карикатурой на нее. Следует добавить, что при общении с равными себе г-н де Коммарен избавлялся от своей уничижительной вежливости. Именно тогда проявлялся его подлинный характер – надменный, упрямый, неуступчивый; на любое противоречие граф реагировал, как племенной жеребец на укус слепня. Дома он был сущий деспот.
Увидев отца, Альбер поспешил к нему. Они обменялись рукопожатиями, поцеловались с видом столь же величавым, сколь и церемонным, а потом с минуту еще обменивались приветствиями и банальными фразами касательно поездки и возвращения. И, похоже, только после этого г-н де Коммарен заметил, какая разительная перемена произошла в облике его сына.
– Виконт, вы больны? – поинтересовался он.
– Нет, – лаконично ответил Альбер.
Граф произнес: «А!» – и дернул головой; это движение, ставшее у него чем-то вроде тика, выражало крайнюю степень недоверия. После этого он повернулся к своему слуге и отдал несколько коротких распоряжений.
– А теперь, – вновь обратился он к сыну, – едем скорей в особняк. Мне не терпится почувствовать себя дома, да и поел бы я с удовольствием. У меня сегодня во рту ни крошки не было, если не считать чашки отвратительного бульона в каком-то буфете.
Граф де Коммарен приехал в Париж в убийственном настроении. Поездка в Австрию не принесла тех результатов, на какие он надеялся. Ко всему прочему он навестил по дороге одного из своих старинных друзей и имел с ним такой жаркий спор, что они расстались, не подав друг другу руки.
Отец и сын уселись в карету, лошади взяли в галоп, и граф тут же обратился к теме, не дававшей ему покоя.
– Я порвал с герцогом де Сермезом, – сообщил он Альберу.
– Мне кажется, – отвечал Альбер без малейшего намека на насмешку, – это происходит всякий раз, стоит вам пробыть вместе больше часа.
– Верно, но на сей раз это окончательно. Я прожил у него четыре дня в состоянии крайнего раздражения. Отныне я перестал его уважать. Вы представляете, виконт, Сермез продает Гондрези, едва ли не лучшие свои земли на севере Франции. Он сводит лес, выставляет на продажу с торгов замок, в котором живет. Обитель принцев станет сахарным заводом! Он все превращает в деньги, чтобы увеличить, как он заявляет, свой доход, чтобы купить ренту, акции, облигации.
– И это причина вашего разрыва? – спросил не слишком удивленный Альбер.
– Разумеется. По-вашему, она неосновательна?
– Но вы же знаете, у герцога большая семья, и он далеко не богат.
– Ну и что из того? – прервал его граф. – Какое это имеет значение? Другие во всем ограничивают себя, живут на своей земле тем, что она приносит, ходят всю зиму в сабо, дают образование только старшему сыну, но землю не продают. Друзья должны говорить друг другу правду, даже если она горькая. Я высказал Сермезу все, что думаю. Дворянин, продающий родовые земли, совершает гнусность, он предает свою партию.
Альбер попытался возразить.
– Я сказал «предает», – с горячностью продолжал граф, – и стою на этом слове. Запомните навсегда, виконт: власть принадлежала, принадлежит и всегда будет принадлежать тем, кто владеет собственностью, в первую очередь – землей. Люди девяносто третьего года прекрасно понимали это. Разорив дворянство, они разрушили его престиж гораздо надежнее, нежели отменой титулов. Принц, который ходит пешком и не имеет лакеев, такой же человек, как все. Министр Июльской монархии, сказавший буржуа: «Обогащайтесь!»[89] – был не дурак. Он дал им магическую формулу власти. Буржуа не поняли его, им захотелось скорого богатства, и они ударились в спекуляции. Сейчас они богаты. Но в чем оно, их богатство? В биржевых ценностях, в содержимом бумажников, в акциях, одним словом, в бумажках. В своих несгораемых шкафах они хранят дым, видимость. Они предпочитают движимость, так как она приносит почти восемь процентов, виноградникам и лесам, которые не дают даже трех. А вот крестьянин не так глуп. Чуть только у него появляется клочок земли величиной с носовой платок, как ему уже хочется со скатерть, а потом с простыню. Крестьянин медлителен, как вол, которого он запрягает в телегу, но у крестьянина есть цепкость, неторопливая энергия, упорство. Он идет прямиком к цели, стойко влачит ярмо, и ничто его не остановит, не своротит с пути. Ради того, чтобы стать собственником, он туже затягивает пояс, а дураки хохочут. А когда он устроит свой восемьдесят девятый год, кто больше всех изумится? Буржуа и банковские бароны, финансовые феодалы.
– Ну, и… – начал виконт.
– Вы не понимаете? Дворянство обязано действовать так же, как крестьянин. Если дворянин разорился, его долг восстановить свое состояние. Коммерция для него исключается. Пусть. Зато ему остается сельское хозяйство. Вместо того чтобы полвека по-дурацки негодовать и влезать в долги, пытаясь поддержать жалкий и скудный уровень жизни, дворянство обязано было засесть по своим замкам в провинции и там трудиться, во всем ограничивать себя, экономить, покупать землю, увеличивать свои владения, потихоньку прибирать все к своим рукам. Если бы оно приняло такое решение, ему уже принадлежала бы вся Франция. Оно обладало бы огромными богатствами, потому что цены на землю растут с каждым днем. За тридцать лет я без всяких усилий удвоил свое состояние. Бланвиль, который в тысяча восемьсот семнадцатом году обошелся моему отцу в сто тысяч экю, теперь стоит больше миллиона. И потому я пожимаю плечами, когда слышу, как дворянство жалуется, плачется, кого-то обвиняет. У всех доходы растут, говорит оно, а у него остаются неизменными. А кто в этом виноват? С каждым годом дворянство становится беднее и беднее. То ли еще ждет его. Скоро оно пойдет по миру, и те несколько аристократических фамилий, что у нас еще остались, в конце концов окажутся не более чем вывеской. И это будет конец. Меня утешает одно: крестьянин, став хозяином наших владений, будет всесилен и запряжет в свою телегу всех этих буржуа, которых ненавидит так же, как я презираю.
В этот миг экипаж остановился во дворе, описав перед домом полукруг совершенной формы, гордость кучера, хранителя старых добрых традиций. Граф вышел первым и, поддерживаемый под локоть сыном, поднялся по ступеням парадного крыльца.
В обширном вестибюле выстроилась в ряд почти вся прислуга в парадных ливреях. Граф на ходу обвел их взглядом, точь-в-точь как офицер, осматривающий солдат перед смотром. Судя по выражению лица, он остался доволен их видом и проследовал в свои апартаменты, находившиеся на втором этаже над парадными комнатами. Ни в одном доме, нигде и никогда, не было такого великолепного порядка, как в огромном особняке графа де Коммарена, которому состояние позволяло содержать его с таким великолепием, какое не снилось иному германскому князьку.
Граф обладал совершенным талантом, можно даже сказать, искусством, в наше время гораздо более редким, чем представляется многим, управлять целой армией слуг. По мнению Ривароля[90] существует манера сказать лакею: «Ступайте!», которая свидетельствует о породе куда лучше, чем сто фунтов дворянских грамот. Многочисленные слуги не доставляли графу ни неудобств, ни забот, ни затруднений. Они были ему необходимы и служили, как хотелось ему, а не как хотелось бы им. Он был неизменно взыскателен, всегда готов сказать: «Я, кажется, ясно приказал», – и тем не менее ему очень редко приходилось прибегать к выговорам.
Все у него было заранее предусмотрено, даже – и главным образом – непредвиденное, все отрегулировано, установлено загодя и навсегда, так что ему ни о чем не приходилось беспокоиться. Внутренний механизм был так совершенно отлажен, что действовал без скрипа, усилий и остановок на ремонт. Ежели недоставало одного колесика, его заменяли, почти даже не замечая этого. Новичок втягивался в общее движение, и через неделю он либо притирался, либо его увольняли.
Итак, хозяин возвратился из путешествия, и сонный особняк пробудился, словно по мановению волшебной палочки. Каждый стоял на своем посту и был готов снова приняться за труды, прервавшиеся полтора месяца назад. Все знали, что граф весь день провел в вагоне, но он мог оказаться голоден, и приготовление обеда было ускорено. Все слуги, вплоть до последнего поваренка, твердо помнили первую статью основного закона этого дома: «Прислуга существует не для того, чтобы исполнять приказания, а для того, чтобы не возникала нужда их отдавать».
Г-н де Коммарен привел себя в порядок после дороги, переоделся, и тотчас же появился дворецкий в шелковых чулках с сообщением, что «кушать подано». Объявив об этом, он тут же спустился вниз, а через несколько минут отец и сын встретились у дверей столовой.
То был большой зал с очень высоким, как на всем первом этаже, потолком, меблированный с восхитительной простотой. Каждый из четырех буфетов, украшающих его, заполнил бы собой любую из тех просторных квартир, какие миллионеры последнего разлива снимают на бульваре Мальзерб за пятнадцать тысяч франков. Коллекционер остолбенел бы, доведись ему бросить взгляд на эти буфеты, битком набитые драгоценной эмалевой посудой, великолепным фаянсом и фарфором, при виде которого саксонский король[91] позеленел бы от зависти.
Сервировка стола, который был накрыт в центре зала и за который сели граф и Альбер, вполне соответствовала этой безумной роскоши. Он ломился от серебра и хрусталя.
Граф был великий чревоугодник. Порой он даже хвастался своим огромным аппетитом, который какой-нибудь бедняк воспринимал бы как величайший физический недостаток. Он любил вспоминать великих людей, отличавшихся к тому же и чудовищным обжорством. Карл V поглощал горы мяса. Людовик XIV за каждой трапезой запихивал в себя столько, сколько съедало шестеро обычных людей. За столом граф с удовольствием развивал мысль, что о человеке вполне можно судить по объему его желудка, и приводил сравнение с лампами, сила света которых зависит от количества потребляемого масла.
Первые полчаса обеда прошли в молчании. Г-н де Коммарен с чувством насыщался, не замечая или не желая замечать, что Альбер держит вилку и нож в руках скорей для вида, не притронувшись ни к одному из кушаний, которые ему клали на тарелку. Но за десертом настроение старого аристократа, подогретое бургундским определенной марки, которое он уже много лет предпочитал остальным винам, исправилось. К тому же он был не прочь излить после обеда чуть-чуть желчи, полагая, что не слишком жаркий спор способствует пищеварению. Письмо, которое он получил по приезде и успел уже пробежать глазами, послужило ему отправным пунктом.
– Я приехал всего час назад, но уже получил от Бруафрене целую проповедь, – сообщил он сыну.
– Да, он много пишет, – заметил Альбер.
– Чересчур много. Он разорится на чернилах. И опять планы, прожекты, надежды – сущее ребячество. Честное слово, они все утратили разум. Желают перевернуть мир, да только им не хватает рычага и точки опоры. Хоть я их и люблю, но, право, глядя на них, можно умереть от смеха.
И в течение минут десяти граф осыпал своих лучших друзей самой язвительной бранью и самыми колкими насмешками, похоже, даже не подозревая, что добрая половина их смешных черт свойственна и ему.
– Если бы еще, – уже более серьезно продолжал он, – они хотя бы верили в себя, проявили хотя бы чуточку отваги! Так нет же! Именно веры-то им и недостает. Они вечно рассчитывают на других, на кого угодно, только не на себя. Любой их шаг свидетельствует о бессилии, любая декларация остается жалким недоноском. Я все время вижу, как они мечутся в поисках кого-нибудь, кто сидит на коне и согласится, чтобы они пристроились у него за спиной. И, никого не найдя, несмотря на все свои старания, они возвращаются, словно к первой своей любви, к духовенству. В нем, думают они, спасение и будущее. Да уж, прошлое тому блистательное доказательство. Как же, они такие ловкачи! В сущности, духовенству мы и обязаны крахом Реставрации. И теперь во Франции аристократия и ханжество – синонимы. Для семи миллионов избирателей дальний потомок Людовика XIV может шествовать лишь во главе армии черноризцев, с эскортом проповедников, монахов, миссионеров и штабом, состоящим из аббатов, несущих горящие свечи. А надо сказать, что француз отнюдь не святоша и ненавидит иезуитов. Вы согласны со мной, виконт?
Альберу ничего не оставалось, как кивнуть в знак согласия. Но г-н де Коммарен уже продолжал:
– Бог мой! Торжественно объявляю: мне надоело плестись у них в хвосте. Я начинаю беситься, когда вижу, как они ведут себя с нами, когда слышу, какую цену требуют за союз с ними. Они и раньше-то не были такими уж большими вельможами: при дворе епископ был совершенно незначительной фигурой. А сегодня они чувствуют, что стали необходимы. Морально мы только ими и держимся. Какую же роль мы играем ради их выгод? Мы – ширма, за которой они разыгрывают свою комедию. Потрясающее надувательство! Получается, что наши интересы – это их интересы. Да они заботятся о нас, как о прошлогоднем снеге. Их столица – Рим, именно там восседает на троне их единственный монарх. Сколько лет – я уже со счету сбился – они кричат о преследованиях, но поистине никогда еще не были так могущественны. Судите сами. У нас нет ни гроша, они безмерно богаты. Законы, ударившие по состояниям частных лиц, их не затронули. У них нет наследников, которые поделят их богатства, а потом будут делить до бесконечности. Они обладают терпением и временем, которые по песчинке возносят горы. Все, что попадает к духовенству, духовенству же и остается.
– Тогда порвите с ними, – произнес Альбер.
– Возможно, виконт, так и нужно бы поступить. Но какая нам будет польза от разрыва? А главное, кто в это поверит?
Принесли кофе. Граф знаком велел слугам удалиться и продолжал:
– Никто не поверит. К тому же это означало бы войну и измену в наших же собственных домах. Наши жены и дочери являются заложницами этого союза, и духовенство благодаря им держит нас в руках. Для французской аристократии я вижу одну только спасительную соломинку: крохотный закон, вводящий майорат[92].
– Вы его никогда не добьетесь.
– Вы так полагаете? – поинтересовался граф де Коммарен. – Может, вы тоже против него?
Альбер знал по опыту, в какой ожесточенный спор пытается втянуть его отец, и промолчал.
– Ладно, пусть я мечтаю о несбыточном, – согласился граф. – В таком случае дворянство обязано исполнить свой долг. Пусть все дочери и младшие сыновья в знатных родах принесут себя в жертву. Пусть они согласятся в течение пяти поколений оставлять целиком родовые поместья старшему в семье и удовлетворятся ста луидорами ренты. Таким способом удастся еще восстановить крупные состояния. Семьи уже не будут раздирать противоположные интересы и эгоизм, их объединит общая цель. У каждого рода будет свой государственный интерес, так сказать, собственное политическое завещание, которое станут передавать друг другу старшие сыновья.
– К сожалению, – заметил виконт, – нынешние времена не способствуют самопожертвованию.
– Знаю, – отпарировал граф. – Очень хорошо знаю, и даже в своем доме имею тому доказательство. Я, ваш отец, просил, заклинал вас отказаться от женитьбы на внучке этой старой дуры маркизы д’Арланж. Чего же я добился? Да ничего! И после трех лет борьбы я вынужден был уступить…
– Но, отец… – пробормотал Альбер.
– Все, все, – прервал его граф. – Вы получили мое слово, и кончим на этом. Но запомните мое предсказание. Вы наносите смертельный удар нашему роду. Вы будете одним из богатейших людей во Франции, у вас родится четверо детей, и они станут, дай Бог, просто богатыми. Если же у каждого из них будет такое же потомство, ваши внуки, вот увидите, окажутся в весьма стесненных обстоятельствах.
– Отец, вы все видите в черном свете.
– Естественно, и это мой долг. Это способ избегнуть разочарований. Вы толковали мне о счастье всей вашей жизни. Да что за глупости! Человек поистине благородный прежде всего думает о своей фамилии. Мадемуазель д’Арланж хороша собой, обворожительна, можете присоединить еще кучу эпитетов, но у нее нет ни гроша. А я выбрал для вас богатую наследницу…
– Которую я не смогу полюбить.
– Хорошенькое дело! Она принесла бы вам в переднике четыре миллиона. Да нынче ни один король не дает такого приданого своим дочерям! Я уж не говорю о надежде на…
Разговор на эту тему мог затянуться до бесконечности, но виконт, вопреки явным усилиям отца, мыслями был далек от начавшегося спора. Лишь иногда, и то, только чтобы не играть роль безмолвного наперсника, он выдавливал из себя несколько слов.
Это отсутствие сопротивления бесило графа куда сильней, чем упрямое несогласие. И он прилагал все силы, чтобы побольней уколоть сына. Это была его обычная тактика. Однако тщетно он расточал язвительные замечания и злобные намеки. Вскоре он до того разгневался на Альбера, что после какого-то лаконичного ответа совершенно вышел из себя.
– Да черт побери! – вскричал он. – Сын моего управляющего и тот рассуждал бы не так, как вы. Чья кровь течет в ваших жилах? Я нахожу, что вы ведете себя как плебей, а не виконт де Коммарен!
Бывают состояния души, когда любой разговор оказывается бесконечно тягостным. Уже почти целый час, выслушивая отца и отвечая ему, Альбер испытывал невыносимые муки. Наконец терпение, которым он вооружился, лопнуло.
– Ну что ж, – ответил он, – если я плебей, то, вероятно, тому есть основательные причины.
Взгляд, которым виконт сопроводил эти слова, был настолько красноречив и недвусмыслен, что граф даже вздрогнул. У него совершенно пропала охота продолжать спор, и он нерешительно поинтересовался:
– Что вы хотите этим сказать, виконт?
Альбер уже успел пожалеть, что не удержался. Но отступать было поздно.
– Мне нужно поговорить с вами, – произнес он с некоторым смущением, – о весьма серьезных вещах. На карту поставлена моя и ваша честь, честь нашего рода. Я хотел объясниться с вами и думал отложить это до завтра, не желая волновать вас в день приезда. Но если вы настаиваете…
Граф слушал сына с плохо скрываемым беспокойством.
– Можете мне поверить, – продолжал Альбер, с трудом подыскивая слова, – я никогда, что бы вы ни сделали, не позволю себе обвинять вас. Ваша неизменная доброта ко мне…
Этого г-н де Коммарен вынести не смог.
– Обойдемся без предисловий, – прервал он сына. – Хватит слов, говорите о фактах.
Альбер молчал несколько секунд. Он думал, как и с чего начать. Наконец он произнес:
– Покуда вас не было, я ознакомился со всей перепиской между вами и госпожой Валери Жерди. Да, со всей, – повторил он, делая упор на этом слове, и без того весьма многозначительном.
Граф не дал Альберу продолжать. Словно ужаленный ядовитой змеей, он так резко вскочил, что стул его отлетел на несколько шагов.
– Ни слова больше! – грозно крикнул он. – Ни звука! Я запрещаю вам!
Но, очевидно, граф устыдился первой своей реакции, потому что тут же обрел обычное хладнокровие. С неестественно спокойным видом он поднял стул и уселся за стол.
– Пусть теперь кто-нибудь попробует утверждать, что предчувствий не существует! – промолвил он, пытаясь придать голосу легкую насмешливую интонацию. – Два часа назад на вокзале, заметив вашу бледность, я заподозрил, что произошло что-то скверное. Я догадался, что вам стала известна вся или хотя бы малая часть этой истории. Я это чувствовал, был уверен в этом.
Затем настало долгое молчание, крайне тягостное для обоих собеседников, вернее, противников: каждый собирался с мыслями, прежде чем приступить к опасному объяснению. По молчаливому соглашению отец и сын опустили глаза, стараясь не смотреть друг на друга, не встретиться взглядами, которые могли оказаться весьма красноречивыми.
Услышав за дверью какой-то шорох, граф подошел к Альберу.
– Вы сказали: главное – честь. Нам следует определить линию поведения и немедленно. Благоволите следовать за мной.
Граф позвонил, в тот же миг появился лакей.
– Предупредите, – приказал граф, – что ни меня, ни виконта ни для кого нет.
VII
Разоблачение не столько изумило графа де Коммарена, сколько разгневало.
Стоит ли говорить, что вот уже двадцать лет он боялся, что истина когда-нибудь откроется. Он знал: как ни охраняй тайну, она может выплыть наружу, тем паче если из четырех человек, знающих ее, трое еще живы.
Он не забывал, что совершил величайшую глупость, доверив ее бумаге, как будто ему не было известно: существуют вещи, о которых не пишут. Как мог писать о таких вещах он, осмотрительный дипломат, политик, привычный к предосторожностям? И как, написав, спокойно позволил существовать этим разоблачительным письмам? Почему не уничтожил чудовищные улики, которые в любой момент могли быть обращены против него? Это можно объяснить лишь безумной страстью, слепой, глухой и не думающей о последствиях.
Сущность страсти в том, что она верит, будто никогда не кончится, и даже перспектива вечности для нее коротка. Полностью погруженная в настоящее, она нисколько не заботится о будущем. Какой мужчина думает о том, что следует остерегаться женщины, которую он любит? Влюбленный Самсон вечно подставляет без всякого сопротивления свои волосы ножницам Далилы.
Графу, когда он был любовником Валери, и в голову не приходила мысль потребовать свои письма у обожаемой сообщницы. Если бы такая мысль и пришла, он тут же отверг бы ее как оскорбительную для его ангела. Что за причины могли заставить его усомниться в сдержанности любовницы? Не было их. Скорее уж он мог полагать, что она больше его заинтересована в исчезновении малейшего свидетельства о том, что произошло. В сущности, разве не она извлекла пользу из этого гнусного обмана? Кто получил чужое имя и состояние? Не ее ли сын?
И только восемь лет спустя, когда граф, сочтя себя обманутым, порвал связь, которая составляла счастье его жизни, он подумал, что надо бы забрать эти опасные письма. Но он не представлял, каким образом это осуществить. Тысячи причин мешали ему действовать. А главная была та, что он ни за что не хотел вновь встретиться с этой женщиной, которую когда-то любил. Он не слишком был уверен ни в своем гневе, ни в своей решимости не поддаваться ее слезам, без которых встреча явно не обойдется. Сумеет ли он устоять перед умоляющим взглядом прекрасных глаз, что так долго владычествовали над его душой?
Встретиться с возлюбленной юных лет означало подвергнуться опасности простить ее, а его гордость и чувства были ранены настолько жестоко, что даже сама мысль о возвращении к ней стала для него неприемлема.
С другой стороны, довериться женщине из третьего сословия тоже было совершенно невозможно. Граф не предпринимал никаких шагов, в нерешительности откладывая их на потом.
«Я повидаюсь с ней, – говорил он себе, – но только когда вырву ее из сердца, когда она станет мне совершенно безразлична. Я не доставлю ей радости увидеть мое горе».
Проходили месяцы, годы, и наконец граф убедил себя, что уже слишком поздно. И впрямь, пробуждать иные воспоминания – неосторожно. Несправедливое недоверие подчас может натолкнуть на непоправимый шаг. Потребовать от вооруженного, чтобы он бросил оружие, – не значит ли подать ему мысль воспользоваться им? А прийти спустя столько лет с требованием возвратить письма – это же почти объявление войны. К тому же сохранились ли они? Кто это может сказать? Кто поручится, что г-жа Жерди не сожгла их, поняв, какую они представляют опасность, и сознавая, что лишь их уничтожение обеспечит ее сыну узурпированные им права?
Граф де Коммарен ничуть не заблуждался, просто он был в тупике, решил, что высшей мудростью будет предоставить все на волю случая, и оставил на старость отворенную дверь для неизбежно приходящего гостя, имя которому – несчастье.
В продолжение более чем двадцати лет не было ни одного дня, когда бы он не проклинал непростительное безумие своей страсти. Он не мог заставить себя забыть, что у него над головой на тоненьком волоске, который может порвать любая случайность, висит опасность пострашнее дамоклова меча. Сегодня этот волосок порвался.
Много раз, размышляя о возможной катастрофе, он задавал себе вопрос, как отразить этот смертоносный удар. Часто спрашивал себя: «Что можно будет сделать, если все раскроется?» Множество планов задумывал он и тут же отбрасывал, убаюкивая себя, подобно людям с мечтательным воображением, самыми несбыточными прожектами. Случившееся застало его врасплох.
Альбер почтительно остался стоять, а граф сел в массивное, украшенное гербом кресло, установленное под монументальной рамой, в которой раскинуло свои многочисленные ветви генеалогическое древо прославленного рода Рето де Коммаренов.
Старый аристократ постарался не показать, какой жестокий страх он испытывает. Лишь во взгляде его было чуть больше пренебрежительного высокомерия, презрительной уверенности и невозмутимости, чем обычно.
– Объяснитесь же, виконт, – недрогнувшим голосом обратился он к Альберу. – Я не стану говорить вам о чувствах отца, вынужденного краснеть перед сыном, вы сами должны понять их и исполниться сочувствием. Будем же щадить друг друга, поэтому постарайтесь сохранять спокойствие. Расскажите, каким образом вы ознакомились с моими письмами.
У Альбера тоже было время собраться с мыслями и подготовиться к поединку; этого разговора он ждал со смертельной тревогой уже четыре дня. При первых словах волнение покинуло его, он держался достойно и благородно. Изъяснялся он четко и внятно, не вдаваясь в подробности, бесполезные, когда дело касается серьезных вещей: в таких случаях подробности лишь бессмысленно удаляют от цели.
– Утром в воскресенье, – начал он, – когда явился молодой человек, объявивший, что у него есть дело чрезвычайной важности, которое должно остаться в тайне. Я принял его. Он-то мне и открыл, что я, увы, всего лишь побочный ребенок, которым вы из любви подменили законного сына, рожденного вам графиней де Коммарен.
– И вы не приказали вышвырнуть его за дверь! – возмутился граф.
– Нет. Разумеется, я собирался ответить, и весьма резко, но он протянул мне пачку писем и попросил, прежде чем что-то сказать, прочесть их.
– Надо было бросить их в огонь! – воскликнул де Коммарен. – Полагаю, камин у вас горел? Как же так! Они были у вас в руках и остались целы? О, если бы на вашем месте был я!
– Граф! – с упреком произнес Альбер, припомнив, как Ноэль встал перед камином, как зорко следил за ним, пока он усаживался за стол. – Эта мысль пришла мне, когда ее уже нельзя было осуществить. К тому же я с первого взгляда узнал ваш почерк. Я взял письма и прочел их.
– А потом?
– Потом я вернул их этому молодому человеку и попросил неделю отсрочки. Нет, не затем, чтобы все обдумать, в этом не было нужды, а потому что решил: я должен поговорить с вами. И вот я умоляю вас сказать: в самом ли деле произошла подмена?
– Да! – с яростью выкрикнул граф. – Да, к несчастью, произошла! И вам это отлично известно, потому что вы прочли письма, которые я писал госпоже Жерди, вашей матери.
Альбер заранее знал, что ответ будет именно таким, ждал его и тем не менее был сражен.
– Прошу меня простить, – промолвил он, – у меня была улика, но не формальное подтверждение. В письмах, которые я прочел, ясно говорилось о вашем замысле, там был подробно разработан весь план, но ни в одном я не нашел доказательства, что план этот был исполнен.
Граф с глубочайшим изумлением взглянул на сына. Он до сих пор хранил все письма в памяти и припомнил, что по крайней мере в двух десятках из них ликовал по поводу успешного осуществления их замысла и благодарил Валери за то, что она исполнила его волю.
– Виконт, это значит, что вы не дошли до конца, – ответил он. – Вы их все прочли?
– Все и, как вы понимаете, весьма внимательно. Могу сказать, что в последнем, какое я прочел, госпоже Жерди сообщалось о приезде Клодины Леруж, кормилицы, которой поручалось совершить подмену. Больше ничего не было.
– Фактически никаких доказательств, – пробормотал граф. – Задумали план, долго его лелеяли, а в последний момент отказались. Такое случается достаточно часто.
Он уже корил себя, что ответил так скоро. У Альбера были всего лишь подозрения, а он, его отец, только что обратил их в уверенность. Какая оплошность!
«Ну разумеется, – думал граф. – Валери уничтожила письма, которые я писал потом и которые могли стать доказательством и представлять опасность. Но почему она оставила остальные, тоже весьма компрометирующие, и как, сохранив, выпустила их из рук?»
Альбер все так же стоял, не двигаясь, ожидая, что скажет граф. Что будет с ним? Ведь сейчас в мозгу старика графа решалась его судьба.
– Вероятно, она умерла! – громко произнес г-н де Коммарен.
И при мысли, что Валери мертва, а он так и не повидался с нею, у графа что-то дрогнуло в душе. Даже после двадцати лет разлуки сердце его сжалось: он так и не смог вырвать из него первую юношескую любовь. Когда-то он проклинал свою возлюбленную, но теперь простил. Да, она обманула его, но ведь она же и подарила ему годы счастья, единственные в его жизни. Разве знал он после разлуки с нею хоть миг радости, упоения, забвения? В том состоянии духа, в каком он сейчас находился, его сердце затопили только счастливые воспоминания, оно было словно ваза, которую однажды наполнили драгоценными благовониями и которая будет хранить их аромат, пока не разобьется.
– Бедняжка, – прошептал он и глубоко вздохнул.
Он несколько раз сморгнул, словно сгоняя слезу. Альбер смотрел на него с тревожным любопытством. Впервые в жизни виконт увидел на лице отца отражение человеческого чувства вместо привычной властности или оскорбленной либо торжествующей гордыни. Но г-н де Коммарен был не из тех, кто позволяет себе долго предаваться сантиментам.
– Виконт, вы не сказали, кто прислал этого вестника несчастья.
– Он пришел от своего имени, не желая, как он мне сказал, никого вмешивать в это печальное дело. Этот молодой человек, чье место я занял, – ваш законный сын Ноэль Жерди.
– Да, да, – вполголоса произнес граф, – его имя Ноэль. Помню, помню. – И с явной нерешительностью спросил: – А о своей, то есть вашей матери он что-нибудь говорил?
– Почти ничего. Единственно он сказал, что ей о его приходе сюда ничего не известно и что тайну, которую он мне открыл, узнал совершенно случайно.
Г-н де Коммарен ничего не ответил. Все, что можно, он уже выяснил и сейчас размышлял. Наступал решительный момент, и граф видел только один способ отодвинуть его.
– Почему вы стоите, виконт? – произнес он ласковым голосом, чем совершенно поразил Альбера. – Сядьте рядом со мной и поговорим. Объединим наши усилия, чтобы избегнуть, если это возможно, большого несчастья. Говорите со мной совершенно откровенно, как сын с отцом. Вы уже думали о том, как поступить? Приняли уже какое-нибудь решение?
– Мне кажется, сомнений тут быть не может.
– Как вас понять?
– Отец, как мне кажется, то, что я должен сделать, предопределено. Я обязан уступить место вашему законному сыну – уступить без сетований, хоть и не без сожаления. Пусть он придет, я готов отдать ему все, что, сам того не зная, так давно у него отнял, – отцовскую любовь, состояние, имя.
Услыхав столь благородный ответ, старый аристократ не сумел сохранить спокойствие, хотя в самом начале разговора просил об этом сына. Лицо его налилось кровью, и он яростно, изо всей силы стукнул кулаком по столу. Всегда такой уравновешенный, в любых обстоятельствах соблюдающий приличия, он в бешенстве выкрикнул ругательство, какого постеснялся бы даже старый кавалерийский вахмистр.
– А я, сударь, объявляю вам: того, что вы задумали, не будет! Не будет никогда, даю вам слово! Что сделано, то сделано. Запомните, что бы ни произошло, все останется, как было. Такова моя воля. Вы – виконт де Коммарен и останетесь им, хотите того или нет. Останетесь им до вашей смерти или по крайней мере до моей: пока я жив, ваш дурацкий план не осуществится.
– Но… – робко промолвил Альбер.
– Вы посмели прервать меня? – возмутился граф. – Я заранее знаю ваши возражения. Вы ведь скажете мне, что это чудовищная несправедливость, гнусный грабеж, не так ли? Я согласен с вами и страдаю от этого не меньше вашего. Уж не думаете ли вы, что лишь сегодня я вспомнил о роковой ошибке юности? Знайте же, уже двадцать лет я сожалею о своем законном сыне, двадцать лет проклинаю несправедливость, жертвой которой он стал. Тем не менее я умел скрывать горечь и укоры совести, не дававшие мне спать по ночам. А вы с вашим идиотским смирением одним махом хотите обессмыслить мои многолетние муки! Нет. Это вам не удастся.
Граф увидел, что Альбер собирается что-то сказать, и грозным взглядом остановил его.
– Уж не думаете ли вы, – продолжал он, – что я не плакал, вспоминая, что обрек своего законного сына всю жизнь бороться с бедностью? Не испытывал жгучего желания все исправить? Бывали дни, когда я готов был отдать половину своего богатства лишь за то, чтобы поцеловать ребенка, рожденного женщиной, которую я слишком долго переоценивал. Меня удерживал только страх бросить тень подозрения на обстоятельства вашего рождения. Я обрек себя в жертву чести фамилии де Коммарен, которую ношу. Я получил ее от своих родителей незапятнанной, и такой же вы передадите ее своему сыну. Первое ваше душевное движение было прекрасно, благородно, рыцарственно, и все-таки о нем нужно забыть. Подумайте, какой поднимется скандал, если наша тайна станет известна. Неужто вам не пришло в голову, какая радость охватит наших врагов, эту шайку выскочек, вьющихся вокруг нас? Я дрожу при мысли, сколько злобы, сколько насмешек обрушится на нашу фамилию. Гербы многих родов уже запятнаны грязью, и я не хочу, чтобы такое случилось с нашим.
Г-н де Коммарен умолк на несколько минут, но Альбер не осмелился заговорить: он с детства привык чтить любые прихоти своего грозного отца.
– Мы ничего не придумаем, – сказал наконец граф, – никакое соглашение невозможно. Могу ли я завтра отречься от вас и представить Ноэля как своего сына, заявив: «Извините, на самом деле виконт не тот, а вот этот»? Ведь потребуется прибегнуть к услугам суда. Для того, кто зовется Бенуа, Дюран или Бернар, это не имеет значения. Но если ты хотя бы день носил фамилию де Коммарен, это накладывает обязательства на всю жизнь. Законы нравственности не для всех одинаковы, потому что у всех разные обязанности. При положении, которое занимаем мы, ошибку исправить нельзя. Вооружитесь же мужеством и покажите, что вы достойны фамилии, которую носите. Надвигается буря, так поспорим с нею.
Раздражение г-на де Коммарена еще усилилось от безучастности Альбера. Приняв незыблемое решение, виконт слушал, словно исполняя долг, и на лице его не отражалось никаких чувств. Граф понял, что не поколебал его.
– И что же вы мне ответите? – спросил он.
– Мне кажется, вы даже не подозреваете обо всех опасностях, какие предвижу я. Трудно укротить возмущенную совесть.
– Действительно, – насмешливо прервал его граф, – ваша совесть возмущена. Только выбрала она для этого неподходящий момент. Угрызения пришли к вам слишком поздно. Пока вы считали, что унаследуете от меня блистательный титул и двенадцать миллионов, вы не думали отказываться от наследства. Но сегодня вы узнали, что оно обременено тяжелым проступком, если угодно, преступлением, и соглашаетесь принять его лишь при условии, что вам не придется уплачивать мои моральные долги. Отбросьте эту безумную мысль. Дети несут ответственность за родителей, и так оно и останется, покуда будут чтить сыновей великих людей. Волей-неволей вы станете моим сообщником и понесете бремя, которое я взвалил вам на плечи. Но как бы вы ни страдали, поверьте, это и в малой мере не сравнится с тем, что вытерпел за эти годы я.
– Но послушайте! – воскликнул Альбер. – Ведь это же не я, грабитель, намерен подать в суд, но ограбленный! И надо уговаривать не меня, а Ноэля Жерди.
– Ноэля? – переспросил граф.
– Да, вашего законного сына. Вы рассуждаете так, словно исход дела зависит только от моего желания. Не воображаете ли вы, что г-н Жерди так легко согласится молчать? А если он заговорит, неужто вы надеетесь тронуть его соображениями, которые высказали мне?
– Я не боюсь его.
– И совершенно напрасно, позвольте вас заверить. Я понимаю, вы наделяете этого молодого человека столь возвышенной душой, что уверились, будто он не претендует на ваше имя и состояние, и все-таки представьте, сколько горечи скопилось у него в сердце. Он просто не может не испытывать злобного ожесточения из-за чудовищной несправедливости, жертвой которой стал. Должно быть, он страстно жаждет мести, то есть признания своих прав.
– Никаких доказательств нет.
– Есть ваши письма.
– Они ничего не доказывают, вы же мне сами сказали.
– Да, правда, и все-таки они убедили меня, в чьих интересах не верить им. К тому же, если ему потребуются свидетели, он их отыщет.
– Кого же, виконт? Разумеется, вас?
– Нет, граф, вас. Стоит ему пожелать, и вы нас выдадите. Что вы ответите, когда он вызовет вас в суд и там вас попросят, нет, потребуют сказать правду под присягой?
При этом вполне естественном предположении лицо графа омрачилось еще сильней. Казалось, он обращается за советом к столь сильному в нем чувству чести.
– Я буду спасать имя своих предков, – наконец выдавил он.
Альбер с недоверием покачал головой.
– Ценою лжи под присягой? Нет, отец, этому я никогда не поверю. Давайте рассуждать дальше. Он обратится к госпоже Жерди.
– За нее я могу ручаться! – воскликнул граф. – В ее интересах оставаться нашей союзницей. Если нужно будет, я повидаюсь с ней. Да, – решительно объявил он, – я пойду к ней, поговорю, и я заверяю вас: она нас не предаст.
– А Клодина, – продолжал молодой человек, – тоже будет молчать?
– Если заплатить, она будет молчать, а я дам ей, сколько она пожелает.
– И вы, отец, доверитесь купленному молчанию? Можно ли верить продажной совести? Кого купили вы, того может перекупить другой. Крупная сумма заткнет ей рот, еще более крупная откроет.
– Но я сумею припугнуть…
– Отец, вы забываете, что Клодина Леруж была кормилицей господина Жерди, она его любит, хочет, чтобы он был счастлив. А вдруг он уверен в ее содействии? Она живет в Буживале. Помню, я ездил туда с вами. Несомненно, он часто видится с нею, и, возможно, это она навела его на ваши письма. Господин Жерди говорил о ней так, словно был уверен, что она станет свидетельствовать в его пользу. Он почти предложил мне съездить поговорить с нею.
– Увы, – вздохнул граф, – почему умер мой верный Жермен, а не Клодина!
– Как видите, одной Клодины Леруж вполне достаточно, чтобы все ваши планы рассыпались прахом, – заметил Альбер.
– Нет, я все равно найду выход.
В своем ослеплении старый аристократ упорно не желал замечать очевидное. Да, он заблуждался, но заблуждался совершенно искренне. Гордость, бывшая у него в крови, парализовала обыкновенно свойственное ему здравомыслие, помрачила его ясный и трезвый ум. Граф считал унизительным, позорным и недостойным признать свое поражение перед жизненными обстоятельствами. Он не мог припомнить, чтобы когда-нибудь в своей долгой жизни встретился с необоримым сопротивлением, с непреодолимым препятствием. Он был подобен всем тем геркулесам, которые, не имея случая испытать свои силы, уверены, что могут горы своротить, ежели им взбредет такая фантазия.
Кроме того, ему не чужд был недостаток всех людей, наделенных слишком богатым воображением, который заключается в слепой вере в собственные фантазии и в их осуществимость, как будто достаточно лишь очень сильно захотеть, и мечтания претворятся в реальность.
Угрожающее затянуться молчание прервал на сей раз Альбер:
– Я понимаю, вы опасаетесь огласки этой прискорбной истории. Вас приводит в отчаяние возможность скандала. Знайте же: если мы станем упорствовать и бороться, поднимется чудовищный шум. Стоит только довести дело до суда, и дня через четыре о нашем процессе будет гудеть вся Европа. О нем будут писать газеты, и один Бог знает, какими комментариями они его сопроводят. Если мы решимся бороться, то, как бы дело ни пошло, нашу фамилию станут склонять все газеты мира. И если б у нас еще была надежда победить! Но мы обречены на поражение, отец, мы проиграем. И представьте, какой тогда поднимется вой! Подумайте, как заклеймит нас общественное мнение!
– Я думаю об одном, – отозвался граф. – О том, что говорить, как вы, значит не питать ни капли любви и уважения ко мне.
– Нет, отец, мой долг показать вам все беды, каких я опасаюсь, показать, пока еще есть время избегнуть их. Господин Ноэль Жерди – ваш законный сын. Так признайте его, удовлетворите его справедливые претензии. Пусть он придет. Мы можем без особого шума внести исправления в записи гражданского состояния. Можно будет заявить, к примеру, что виной всему – ошибка кормилицы Клодины Леруж. Если все стороны придут к соглашению, не возникнет ни малейших трудностей. А потом, кто помешает новому виконту де Коммарену оставить Париж, уехать с глаз долой? Он может лет пять путешествовать по Европе, а к концу этого срока все обо всем забудут, и никто уже не вспомнит обо мне.
Однако граф де Коммарен не слушал сына, он размышлял.
– Но, виконт, можно же обойтись без процесса, можно полюбовно договориться, – сказал он наконец. – Письма можно откупить. Чего хочет этот молодой человек? Положения и денег? Я обеспечу ему и то, и другое. Я дам ему, сколько он пожелает. Дам миллион, а если надо, два, три, половину того, что у меня есть. Поверьте, когда предлагают деньги, много денег…
– Пощадите его, он ваш сын.
– К несчастью. Но я, черт побери, так решил! Я потолкую с ним, и он пойдет на соглашение. Если он не дурак, то поймет, что ему не тягаться со мной.
Граф потирал руки. Его захватила мысль о соглашении. Это воистину спасительный выход, и в мозгу графа уже сложилось множество аргументов в пользу нового плана. Да, он заплатит и вернет себе нарушенный покой.
Однако Альбер, похоже, не разделял уверенности отца.
– Вы рассердитесь на меня, – печально произнес он, – но я вынужден разрушить ваши иллюзии. Не убаюкивайте себя мечтой о полюбовном соглашении – пробуждение будет слишком жестоким. Отец, я видел господина Жерди, и он не тот человек, которого можно запугать. Если есть на свете решительные люди, то он один из них. Господин Жерди поистине ваш сын, и в его взгляде, как и в вашем, чувствуется железная воля, которую можно сломить, но нельзя согнуть. Я до сих пор слышу его голос, дрожащий от ожесточения, вижу его глаза, горящие мрачным огнем. Нет, с ним не договориться. Ему нужно либо все, либо ничего, и я не стану его винить. Если вы окажете сопротивление, он нападет на вас, и его не удержат никакие соображения. Уверенный в своих правах, он с ожесточением вцепится в вас, затаскает по судам и отстанет лишь после окончательного поражения или после полной победы.
Граф, привыкший к совершенному, чуть ли не слепому повиновению сына, был поражен его нежданным упорством.
– Ну, и к чему же вы клоните? – поинтересовался он.
– К тому, что я презирал бы себя, если бы не уберег вашу старость от величайшего бедствия. Ваше имя больше не принадлежит мне, я возьму свое. Я ваш побочный сын и уступлю место законному. Позвольте же мне удалиться с чувством честно и свободно исполненного долга, позвольте не дожидаться вызова в суд, который с позором вышвырнет меня отсюда.
– Как! – изумился граф. – Вы меня бросаете, отказываетесь поддержать, идете против меня, признаете вопреки моей воле его права?
Альбер кивнул.
– Мое решение окончательно. Я ни за что не соглашусь ограбить вашего сына.
– Неблагодарный! – воскликнул г-н де Коммарен.
Гнев его был так велик, что его уже невозможно было излить в проклятьях, и потому граф перешел на насмешки.
– Ну что ж, – промолвил он, – вы великолепны, благородны, великодушны. Ваш поступок крайне рыцарственный, виконт, то есть я хотел сказать, любезный господин Жерди, и вполне в духе героев Плутарха[93]. Итак, вы отказываетесь от моего имени, моего состояния и покидаете меня. Отряхнете прах со своих башмаков на пороге моего дома и уйдете в раскрывшийся перед вами мир. У меня всего один вопрос: на что, господин стоик, вы намерены жить? Может быть, вы знаете какое-нибудь ремесло, как Эмиль, описанный сьером Жан-Жаком?[94] Или вы, благороднейший господин Жерди, делали сбережения из тех четырех тысяч, что я давал вам на карманные расходы? Может быть, играли на бирже? Ах, вот что! Вам показалось слишком тягостным носить мое имя, и вы с облегчением сбрасываете его! Видно, грязь имеет для вас большую притягательность, коль вы так спешно выскакиваете из кареты. А может быть, общество равных мне стесняет вас, и вы торопитесь скатиться вниз, чтобы оказаться среди себе подобных?
– Я и без того несчастен, а вы еще больше повергаете меня в горе, – ответил Альбер на град издевательств.
– Ах, вы несчастны! А кто в этом виноват? И все же я возвращаюсь к своему вопросу: как и на что вы намерены жить?
– Я вовсе не столь романтичен, как вы пытаетесь представить меня. Должен признаться, я рассчитываю на вашу доброту. Вы так богаты, что пятьсот тысяч франков существенно не повлияют на ваше состояние, а я на эти деньги смогу прожить спокойно, если не счастливо.
– А если я откажу?
– Вы не сделаете этого – я достаточно вас знаю. Вы слишком справедливы, чтобы заставить меня, одного меня, искупать ошибки, которых я не совершал. Будь я предоставлен самому себе, у меня в этом возрасте было бы какое-то положение. Сейчас мне уже поздно его добиваться. Тем не менее я попробую.
– Великолепно! Просто великолепно! – прервал его граф. – Вы прямо герой из романа, мне о таких и слышать не доводилось. Римлянин чистой воды, стойкий спартанец. Нет, право, это прекрасно, как всякая античность. И, однако, скажите, чего вы ждете за столь потрясающее бескорыстие?
– Ничего.
– Да, скромная компенсация! – бросил граф. – И вы хотите, чтобы я вам поверил? Нет, сударь, столь благородные поступки не совершаются ради собственного удовольствия. Чтобы поступать так высоконравственно, у вас должна быть какая-то скрытая причина, но я не могу найти ее.
– Нет никакой другой причины, кроме тех, что я вам изложил.
– Значит, надо понимать так, что вы от всего отказываетесь? Даже от надежд на брак с мадемуазель Клер д’Арланж, от которого я в течение трех лет тщетно пытался вас отговорить?
– Нет. Я виделся с мадемуазель Клер и рассказал ей об ужасной беде, которая на меня обрушилась. Она мне поклялась, что будет моей женой, что бы ни произошло.
– И вы полагаете, что маркиза д’Арланж отдаст свою внучку сьеру Жерди?
– Мы надеемся. Маркиза так помешана на знатном происхождении, что предпочтет отдать внучку побочному сыну аристократа, нежели сыну почтенного промышленника. Но если она откажет, что ж, мы подождем ее смерти, хоть и не станем желать, чтобы она пришла поскорей.
Спокойный тон Альбера окончательно вывел из себя графа де Коммарена.
– И это мой сын? – воскликнул он. – Не может быть! Сударь, чья кровь течет в ваших жилах? На это могла бы ответить лишь ваша достойная матушка, если бы она только знала…
– Граф, – прервал его угрожающим голосом Альбер, – думайте, что говорите! Она моя мать, и этого достаточно. Я ее сын, а не судья. Никому, даже вам, я не позволю непочтительно отзываться о ней при мне. А от вас тем более не потерплю неуважения к ней.
Граф делал поистине героические усилия, сдерживая свой гнев и не давая ему вырваться за определенные пределы. Но поведение Альбера довело его до крайней степени ярости. Как! Этот мальчишка взбунтовался, посмел бросить ему вызов, посмел угрожать? Старик вскочил с кресла и кинулся к сыну, словно намереваясь влепить ему пощечину.
– Вон! – возмущенно взревел он. – Вон отсюда! Немедля уходите в свои комнаты и не смейте покидать их без моего позволения. Завтра я сообщу вам свою волю.
Альбер почтительно поклонился, но глаз не опустил и медленно пошел к дверям. Он уже отворял их, но тут в настроении графа де Коммарена произошла перемена, как это часто случается у вспыльчивых людей.
– Альбер, – позвал он. – Вернитесь, выслушайте меня.
Молодой человек подошел к отцу, явно тронутый новой интонацией, прозвучавшей в его голосе.
– Подождите, – продолжал граф, – я хочу сказать все, что думаю. Сударь, вы достойны быть наследником великого рода. Я могу негодовать на вас, но не могу не уважать. Вы – честный человек. Альбер, дайте мне руку.
То был сладостный миг для них обоих, миг, какого, пожалуй, еще не бывало в их жизни, подчиненной унылому этикету. Граф испытывал гордость за сына и мысленно говорил себе, что и он был таким в его годы. А до Альбера только сейчас стал доходить смысл того, что произошло между ними. Они долго стояли, не разжимая рук, словно у них не было на это сил, и оба молчали. Наконец г-н де Коммарен вновь уселся под генеалогическим древом и тихо сказал:
– Альбер, я прошу вас оставить меня. Мне нужно побыть одному, чтобы все обдумать и немного привыкнуть к чудовищному удару. – А когда молодой человек затворил дверь, граф тихо проговорил, как бы отвечая своим тайным мыслям: – Господи, что будет со мною, если он, на которого я возлагал все свои надежды, покинет меня? И каким окажется тот, другой?
Когда Альбер вышел от графа, на его лице еще отражались следы бурных переживаний нынешнего вечера. Слуги, мимо которых он проходил, внимательно приглядывались к нему, тем паче что до них донеслись отзвуки особенно бурных эпизодов ссоры.
– Ну вот, – произнес старый ливрейный лакей, три десятка лет прослуживший в доме, – господин граф опять устроил сыну достойный сожаления скандал. Старик прямо как бешеный.
– Я почуял недоброе уже за обедом, – сообщил графский камердинер, – господин граф сдерживался, чтобы не начинать при мне, но глаза у него так и сверкали.
– А с чего это они?
– Кто их знает? Ни с чего, из-за дури какой-нибудь. Господин Дени, перед которым они не сдерживаются, говорил мне, что они, бывает, часами, точно псы, грызутся из-за вещей, которые он даже в толк взять не может.
– Ха! – воскликнул юный шалопай, которого натаскивали, чтобы в будущем он мог служить в комнатах. – Будь я на месте виконта, я своему папаше так бы ответил…
– Жозеф, друг мой, – наставительно произнес ливрейный лакей, – вы просто дурак. Натурально, вы можете послать своего папашу к черту, но ведь вы не надеетесь получить от него даже пяти су и к тому же легко умеете добыть себе пропитание. А вот господин виконт… Вы можете мне сказать, на что он годен и что умеет делать? Бросьте-ка его в Париже с условием, что единственным его капиталом будет пара холеных рук, и тогда посмотрим!
– Ну и что? У него же есть поместья, оставленные матерью, – возразил, как истый нормандец, Жозеф.
– И потом, я не понимаю, – удивился камердинер, – чем господин граф недоволен? У него примерный сын. Будь у меня такой, мне просто не на что было бы сердиться. Вот когда я служил у маркиза де Куртивуа, там совсем другое дело. У маркиза были все основания каждое утро быть недовольным. Его старший сын – он приятель виконта и несколько раз приезжал сюда – чистая прорва в смысле денег. Свернуть шею тысячефранковому билету ему проще, чем Жозефу выкурить трубку.
– Так ведь маркиз не больно-то богат, – вступил низенький старичок, принятый на место недели две назад. – Сколько у него может быть? Тысяч шестьдесят ренты, не больше.
– Потому-то он и бесится. Каждый день его старший что-нибудь выкидывает. В городе у него квартира, он то там, то здесь, ночи напролет пьет и играет, а уж с актрисками такое устраивал, что приходилось вмешиваться полиции. Не говоря уж о том, что официанты сотни раз привозили его в фиакре из ресторанов мертвецки пьяного, и мне приходилось тащить его на себе в спальню и укладывать в постель.
– Черт! – с восторгом произнес Жозеф. – Быть в услужении у него, наверно, не так уж плохо!
– Это как посмотреть. Выиграв в карты, он спокойно отвалит тебе целый луидор, да только он все время проигрывает, а когда напивается, распускает руки. Правда, надо отдать ему справедливость, сигары у него превосходные. Одним словом, сущий разбойник. В сравнении с ним господин виконт просто скромная барышня. Да, за упущения он спрашивает строго, но никогда не разозлится и не изругает человека. И потом он щедр, тут ничего не скажешь. Нет, по мне, он куда лучше многих, и господин граф не прав.
Таково было мнение слуг. А вот мнение общества было, надо полагать, не столь благосклонным.
Виконт де Коммарен не относился к тем заурядным людям, что обладают незавидным и не слишком лестным преимуществом нравиться всем. Мудрый отнесется с недоверием к тем, кого в один голос превозносит молва. Стоит к ним присмотреться поближе, и частенько обнаруживается, что человек, пользующийся известностью и успехом, – самый обычный глупец и единственным его достоинством является совершеннейшая заурядность. Никого не задевающая благопристойная глупость, благовоспитанная посредственность, не способная потревожить ничье тщеславие, – вот он, бесценный дар нравиться и преуспевать.
Бывает, встретишь человека и начинаешь мучиться: «Знакомое лицо. Где я его видел?» А дело в том, что это просто рядовая, ординарная физиономия. То же самое можно сказать и о нравственном облике многих людей. Только они заговорят, и тебе уже известен их образ мыслей, ты словно уже слышал их, наизусть знаешь все, что они скажут. Таких всюду принимают с радостью, так как в них нет ничего своеобычного, а своеобычность, особенно в высших классах, возмущает и раздражает. Непохожесть ненавистна.
Альбер был своеобычен, и потому суждения о нем были крайне спорны и противоречивы. Его упрекали за совершенно противоположные черты, приписывали недостатки настолько полярные, что, казалось, они исключают друг друга. К примеру, находили, что идеи у него слишком либеральные для человека его круга, и в то же время сетовали на его спесь. Обвиняли в том, что он с оскорбительным легкомыслием относится к наиважнейшим проблемам, и корили за чрезмерную серьезность. Существовало мнение, что в обществе его не любят, а меж тем ему завидовали и боялись его. В салонах у него бывал крайне хмурый вид, и в этом усматривали дурной вкус. Вынужденный по причине своих и отцовских связей много выезжать, он отнюдь не развлекался в свете и совершал непростительную ошибку, позволяя догадываться об этом. Возможно, ему были противны знаки внимания и несколько назойливая предупредительность, с какой относились к благородному наследнику одного из богатейших землевладельцев Франции. Имея все необходимое, чтобы блистать в обществе, он пренебрегал своими возможностями и даже не пытался никого обворожить. И – величайший недостаток! – он не злоупотреблял ни одним из своих преимуществ. За ним не числилось никаких любовных похождений.
Говорят, некогда он чем-то очень задел г-жу де Прони, самую, пожалуй, уродливую и – уж совершенно точно – самую злую даму предместья[95], и это предрешило все. Было время, матери, имеющие дочерей на выданье, вступались за него, но вот уже два года, с тех пор как его любовь к мадемуазель д’Арланж стала общеизвестным фактом, они превратились в его ненавистниц.
В клубе посмеивались над благоразумием Альбера. Нет, он тоже прошел через пору сумасбродств, но очень скоро охладел к тому, что принято называть наслаждениями. Благородное ремесло прожигателя жизни показалось ему крайне ничтожным и обременительным. Он не мог понять, что за удовольствие проводить ночи за картами, и ничуть не ценил общества нескольких доступных дам, которые в Париже делают имя своим любовникам. Он имел смелость утверждать, будто для дворянина ничуть не зазорно не выставлять себя на всеобщее обозрение в одной ложе с распутными женщинами. И наконец, друзья так и не смогли привить ему страсть к скаковым лошадям.
Поскольку праздная жизнь тяготила Альбера, он попробовал, словно какой-нибудь выскочка, придать ей смысл ни больше, ни меньше как трудом. Альбер собирался впоследствии принять участие в общественной деятельности, а так как его поражало крайнее невежество иных людей, достигших власти, он не хотел уподобиться им. Он занимался политикой, и это было причиной всех его ссор с отцом. Любое либеральное слово вызывало у графа корчи, а после одной статьи, опубликованной виконтом в «Ревю де Ле Монд», он заподозрил сына в либерализме.
Но взгляды ничуть не препятствовали Альберу жить соответственно своему положению. Он с величайшим достоинством тратил содержание, назначенное ему отцом, и даже чуть больше того. Его жилье, отделенное от комнат графа, было поставлено на широкую ногу, как и подобает апартаментам молодого и очень богатого дворянина. Ливреи его слуг не оставляли желать лучшего, а лошади и экипажи были предметом завистливых толков. В свете соперничали из-за приглашений на большие охоты, которые он ежегодно устраивал в конце октября в Коммарене, великолепном поместье, окруженном необъятными лесами.
Любовь Альбера к мадемуазель д’Арланж, любовь глубокая и прочувствованная, немало способствовала тому, что он отдалился от образа жизни, который вели его элегантные и симпатичные друзья-бездельники. Высокое чувство – наилучшее лекарство от порока. Борясь с намерениями сына, г-н де Коммарен сделал все, чтобы эта запретная страсть стала более глубокой и постоянной. Для виконта она оказалась источником живейших и острейших переживаний. Благодаря ей из жизни его была изгнана скука. Мысли его обрели четкое направление, действия – ясную цель. Стоит ли останавливаться и глазеть направо-налево, коль в конце пути видишь желанную награду? Виконт поклялся, что не женится ни на ком, кроме Клер; отец решительно противился их браку; перипетии этой захватывающей борьбы придавали смысл каждому дню жизни Альбера. В конце концов после трех лет стойкого сопротивления он победил: граф сдался. И вот теперь, когда он переполнен счастьем одержанной победы, является, словно неумолимый рок, Ноэль с проклятыми письмами.
И сейчас, пока Альбер поднимался по лестнице в свои покои, мысли его были обращены к Клер. Чем она занята? Наверное, думает о нем. Ей известно, что сегодня вечером или, самое позднее, завтра состоится решающий разговор. Вероятней всего, она молится. Альбер чувствовал себя совершенно разбитым, ему было плохо. Он находился в полуобморочном состоянии, голова словно раскалывалась. Он позвонил и попросил принести чаю.
– Господин виконт совершенно напрасно отказались послать за врачом, – заметил ему камердинер. – Мне не надо было слушаться господина виконта.
– Это бесполезно, врач мне не поможет, – грустно ответил Альбер и добавил, когда камердинер уже стоял в дверях: – Любен, не говорите никому, что я болен. Я позвоню, если почувствую себя хуже.
В этот миг ему казалось невыносимым видеть кого-нибудь, слышать чужой голос, отвечать на вопросы. Ему нужна была тишина, чтобы разобраться в себе. После тягостных волнений, вызванных объяснением с отцом, Альбер даже думать не мог о сне. Он распахнул окно в библиотеке и облокотился на подоконник.
Погода наладилась, все было залито лунным светом. В этом мягком трепетном ночном полусвете сад казался бескрайним. Верхушки высоких деревьев сливались, закрывая соседние дома. Клумбы, окруженные зелеными кустами, выглядели огромными черными пятнами, а на аллеях, посыпанных песком, поблескивали обломки раковин, крохотные осколки стекла и отполированные камешки. Справа, в людской, еще горел свет, слышно было, как там ходят слуги; по асфальту двора простучали сабо конюха. В конюшне с ноги на ногу переступали лошади, и, напрягши слух, можно было различить, как цепочка недоуздка одной из них трется о перекладину стойла. В дверях каретного сарая вырисовывался силуэт экипажа, который весь вечер держали наготове на случай, если графу вздумается куда-нибудь поехать.
Взору Альбера открывалась картина его блистательного существования. Он глубоко вздохнул.
– Неужели все это придется оставить? – пробормотал он. – Если бы речь шла только обо мне, я не стал бы сожалеть обо всей этой роскоши, но меня приводит в отчаяние мысль о Клер. Я так мечтал создать для нее счастливую безмятежную жизнь, но без огромного состояния это невозможно.
На колокольне церкви Св. Клотильды пробило полночь, и Альбер, если бы захотел, мог бы, чуть высунувшись, увидеть сошедшиеся стрелки на часах. Он вздрогнул: стало прохладно. Молодой человек захлопнул окно и сел у камина, где горел огонь. Надеясь отвлечься от мыслей, он взял вечернюю газету – ту, в которой сообщалось об убийстве в Ла-Жоншер, но не смог читать: строчки прыгали перед глазами. Тогда он решил написать Клер. Он сел за стол и вывел: «Клер, любимая…» Но дальше не двинулся: возбужденный мозг не подсказал ему ни одной фразы.
На рассвете усталость все-таки одолела его. Он прилег на диван, и тут его сморил сон, тяжелый, полный кошмаров.
В половине десятого утра Альбер внезапно проснулся от стука резко распахнутой двери. Ворвался перепуганный слуга; он мчался по лестнице через две ступеньки, запыхался и едва смог выговорить:
– Господин виконт, скорей бегите, прячьтесь, спасайтесь, здесь…
В этот миг в дверях библиотеки появился комиссар полиции, перепоясанный трехцветным шарфом. Его сопровождало множество людей; среди них был и папаша Табаре, старавшийся выглядеть как можно незаметней.
Комиссар приблизился к Альберу.
– Вы – Ги Луи Мари Альбер де Рето де Коммарен? – спросил он.
– Да, я.
И тогда комиссар, протянув к нему руку, произнес сакраментальную фразу:
– Господин де Коммарен, именем закона вы арестованы.
– Я? Арестован?
Грубо вырванный из тяжелого сна, Альбер, казалось, не понимал, что происходит. У него был такой вид, будто он спрашивает себя: «Проснулся я или все еще сплю? Может быть, это продолжается кошмар?» Он переводил недоумевающий, исполненный удивления взгляд с комиссара на полицейских, с полицейских на папашу Табаре, стоявшего как раз напротив него.
– Вот постановление на арест, – сообщил комиссар, разворачивая бумагу.
Альбер машинально пробежал глазами несколько строк.
– Клодина убита! – воскликнул он и уже тише, но не настолько, чтобы не смогли услышать комиссар, один из полицейских и папаша Табаре, произнес: – Я погиб.
Пока комиссар заполнял протокол предварительного допроса, который положено производить незамедлительно после ареста, его спутники разошлись по комнатам и занялись тщательным обыском. Они получили приказ исполнять распоряжения папаши Табаре, и он-то и руководил ими, веля шарить в ящиках и шкафах, перетряхивать вещи. Было изъято большое число предметов, принадлежащих виконту документов, бумаг, толстая связка писем. Папаше Табаре повезло обнаружить некоторые важные улики, каковые и были занесены в протокол обыска:
«1. В первой комнате, служащей прихожей и украшенной всевозможным оружием, за диваном найдена сломанная рапира. Эта рапира имеет особый эфес, не встречающийся в оружейных магазинах. На нем изображена графская корона и инициалы А. К. Рапира сломана пополам, и конец ее не обнаружен. На вопрос, куда делся отломанный конец рапиры, г-н де Коммарен ответил, что не знает.
2. В чулане, служащем гардеробной, обнаружены брюки из черного сукна, еще влажные, со следами грязи или, верней, земли. На наружной стороне одной из штанин пятна, оставленные зеленым мхом, какой растет на стенах. На штанинах следы потертостей и в области колена прореха длиной десять сантиметров. Вышепоименованные брюки не висели на вешалке, а были засунуты, словно с целью спрятать их, между двумя большими сундуками, где хранятся предметы одежды.
3. В кармане вышепоименованных брюк найдена пара перчаток жемчужно-серого цвета. На ладони правой перчатки имеется большое зеленое пятно, оставленное травой либо мхом. Концы пальцев перчатки изношены от трения. На тыльной стороне обеих перчаток следы, возможно, оставленные ногтями.
4. Две пары ботинок, одна из которых, хоть и вычищена, еще достаточно влажная. Зонтик, недавно еще бывший совершенно мокрым, на конце которого имеются пятна грязи беловатого цвета.
5. В большой комнате, именуемой „библиотека“, обнаружена коробка сигар, называемых „трабукос“, а на камине несколько мундштуков из янтаря и морской пенки…»
Как только в протокол был занесен последний пункт, папаша Табаре подошел к комиссару и шепнул ему:
– У меня есть все, что необходимо.
– Я тоже закончил, – отозвался комиссар. – Этот парень не умеет держаться. Слышали? Он же просто выдал себя. Вы, конечно, скажете: нет привычки.
– Днем он был бы куда тверже, – все так же шепотом ответил папаша Табаре. – Но утром, спросонок… Людей надо брать тепленькими, пока они еще не встали с постели.
– Я тут велел потолковать с некоторыми слугами. Их показания крайне интересны.
– Отлично! Ладно, я помчался к господину следователю, который, наверно, сгорает от нетерпения.
Альбер постепенно начал приходить в себя от потрясения, в какое поверг его приход комиссара полиции.
– Сударь, – попросил он, – вы позволите мне сказать в вашем присутствии несколько слов господину графу де Коммарену? Я стал жертвой ошибки, которая вскоре разъяснится.
– Как всегда, ошибка… – буркнул папаша Табаре.
– Я не имею права выполнить вашу просьбу, – возразил комиссар. – У меня относительно вас имеются особые, самые строгие распоряжения. Отныне вам не дозволяется общаться ни с одной живой душой. Внизу вас ждет карета, так что благоволите спуститься во двор.
Проходя через вестибюль, Альбер обратил внимание на смятение, охватившее слуг. Казалось, они совсем потеряли голову. Г-н Дени повелительным голосом отдавал короткие распоряжения. Уже в дверях Альберу послышалось, как кто-то сказал, будто у графа де Коммарена только что случился апоплексический удар.
Альбера почти внесли на руках в полицейскую карету, и две клячи, впряженные в нее, потрусили ленивой рысцой. Папаша Табаре, севший в наемный фиакр, который везла лошадка порезвей, обогнал их.
VIII
Тот, кто попытается найти дорогу в лабиринте переходов и лестниц Дворца правосудия, поднявшись на четвертый этаж левого крыла, попадет в длинную галерею с очень низкими потолками, тускло освещаемую узкими оконцами и через равные промежутки прорезаемую небольшими дверьми; все вместе весьма напоминает коридор какого-нибудь министерства или недорогой гостиницы.
Здесь трудно сохранять хладнокровие; воображение окрашивает эти своды в самые мрачные и унылые тона. Понадобился бы новый Данте, чтобы составить подобающую надпись над ступенями, ведущими сюда. С утра до вечера по плитам грохочут тяжелые сапоги жандармов, сопровождающих арестованных. Здесь можно увидеть только угрюмые лица. Это родные или друзья обвиняемых, свидетели, полицейские. В этой галерее, вдали от людских взглядов, находится судейская кухня. Это своего рода кулисы Дворца правосудия, зловещего театра, где разыгрываются самые реальные драмы, замешенные на настоящей крови.
Каждая из низких дверей, на которых черной краской проставлены номера, ведет в кабинет судебного следователя. Кабинеты похожи один на другой: кто видел один из них, имеет представление об остальных. В них нет ничего мрачного, ничего зловещего, а все-таки у того, кто туда входит, сжимается сердце. Здесь почему-то делается зябко. Кажется, в этих стенах было пролито столько слез, что сами стены отсырели. Мороз продирает по коже при мысли о признаниях, которые были здесь исторгнуты, об исповедях, прерываемых рыданиями.
В кабинете судебного следователя правосудие отнюдь не использует тот арсенал, к которому прибегнет позже, чтобы поразить воображение толпы. Здесь оно держится запросто и даже не без добродушия. Оно говорит подозреваемому:
– У меня есть веские основания считать тебя виновным, но докажи мне свою невиновность, и я тебя отпущу.
В этом можно убедиться в первом же кабинете. Обстановка самая примитивная, как и должно быть в таком месте, где никто надолго не задерживается и где бушуют слишком сильные страсти. Какое значение имеют столы и стулья для того, кто преследует преступника, или для того, кто совершил преступление?
Заваленный папками письменный стол следователя, столик для протоколиста, кресло да несколько стульев – вот и вся мебель в этом преддверии уголовного суда. Стены оклеены зелеными обоями, шторы зеленые, на полу скверный ковер того же цвета. На кабинете г-на Дабюрона красовался номер пятнадцать.
Хозяин кабинета пришел сюда к девяти и теперь ждал. Приняв решение, он не терял ни минуты, поскольку не хуже папаши Табаре понимал необходимость незамедлительных действий. Он встретился с императорским прокурором и побеседовал со служащими уголовной полиции. Покончив с постановлением на арест Альбера, он отправил повестки о немедленном вызове к следователю графу де Коммарену, госпоже Жерди, Ноэлю и нескольким слугам Альбера. Он полагал крайне важным допросить всех этих людей до того, как будет доставлен подозреваемый. По его приказу в дело ринулись десять полицейских, а сам он засел в кабинете, похожий на полководца, который только что разослал своих адъютантов с приказом начать сражение и теперь надеется, что его план принесет победу.
Ему частенько доводилось вот так с утра ждать у себя в кабинете при подобных же обстоятельствах. Совершено преступление, он полагает, что обнаружил преступника, отдал приказ о его аресте. Это его ремесло, не правда ли? Но никогда прежде он не испытывал такого трепета. А ведь ему нередко приходилось выписывать постановления на арест, не имея и половины тех улик, какие собраны на этот раз. Он твердил себе это снова и снова, но никак не мог сладить с тревожной озабоченностью, заставлявшей его метаться по кабинету.
Господину Дабюрону казалось, что подчиненные слишком долго не возвращаются. Он ходил взад и вперед, считал минуты, три раза за пятнадцать минут вынул из кармана часы, чтобы сверить их со стенными. Когда в галерее, в это время безлюдной, раздавались шаги, он невольно подходил к двери и прислушивался.
В кабинет постучали. Пришел протоколист, за которым он посылал. Во внешности протоколиста не было ничего примечательного, он был не столько высокий, сколько долговязый, и тощий как щепка. У него были степенные манеры, размеренные жесты и лицо бесстрастное, словно вырезанное из желтого дерева. Ему минуло тридцать четыре года, и тринадцать из них он писал протоколы допросов, которые проводили четыре судебных следователя, сменившие друг друга на этом посту. А это означало, что он ко всему привык и умел, не поморщившись, выслушивать самые чудовищные признания. Один остроумный правовед дал такое определение протоколисту: «Перо судебного следователя. Человек, который нем, но говорит, слеп, но пишет, глух, но слышит».
Протоколист г-на Дабюрона соответствовал всем этим условиям, да вдобавок еще и звался Констан, что значит «постоянный». Он поклонился и попросил извинения за опоздание. Он, дескать, был в торговом доме, где по утрам прирабатывал счетоводством, и жене пришлось за ним посылать.
– Вы подоспели вовремя, – сказал ему г-н Дабюрон. – Приготовьте пока бумагу: у нас будет много работы.
Пять минут спустя судебный пристав ввел г-на Ноэля Жерди. Адвокат вошел с непринужденным видом человека, который чувствует себя во Дворце правосудия как дома. Нынче утром он ничем не походил на друга папаши Табаре. Еще меньше угадывался в нем возлюбленный мадам Жюльетты. Он совершенно преобразился, вернее, вошел в свою обычную роль. Теперь это было официальное лицо, почтенный юрист, каким его знали коллеги, пользующийся уважением и любовью в кругу друзей и знакомых. Глядя на его безукоризненный наряд и спокойное лицо, невозможно было догадаться, что после вечера, полного тревог и волнений, он нанес мимолетный визит любовнице, а затем провел ночь у изголовья умирающей. Не говоря уж о том, что умирающая эта была его матерью или по крайней мере той, что заменила ему мать.
Какая разница между ним и следователем!
Г-н Дабюрон тоже не спал – но это сразу было видно по его вялости, по печати заботы на лице, по темным кругам под глазами. Сорочка на груди была как жеваная, манжеты несвежие. Душу его так захватил поток событий, что он совсем позабыл о бренном теле. А гладко выбритый подбородок Ноэля упирался в девственной белизны галстук, на воротничке не было ни морщинки, волосы и бакенбарды были тщательнейшим образом расчесаны. Он отдал следователю поклон и протянул повестку.
– Вы меня вызвали, сударь, – произнес он, – я в вашем распоряжении.
Судебный следователь прежде встречался с молодым адвокатом в коридорах суда, лицо его было ему знакомо. К тому же он вспомнил, что слышал о мэтре Жерди как об одаренном юристе, который подавал надежды и уже успел заслужить прекрасную репутацию. Поэтому он приветствовал его как человека своего круга – ведь от прокуратуры до адвокатуры рукой подать, – и предложил сесть.
Покончив с формальностями, предшествующими опросу свидетеля, записав имя, фамилию, возраст, место рождения и т. д., следователь, отвернувшись от протоколиста, которому диктовал, обратился к Ноэлю:
– Мэтр Жерди, вам рассказали о деле, по поводу которого мы побеспокоили вас вызовом в суд?
– Да, сударь, речь идет об убийстве этой несчастной старухи в Ла-Жоншер.
– Совершенно верно, – подтвердил г-н Дабюрон.
И, чрезвычайно кстати вспомнив об обещании, данном папаше Табаре, добавил:
– Мы поспешили обратиться к вам потому, что ваше имя часто упоминается в бумагах вдовы Леруж.
– Это меня не удивляет, – отвечал адвокат. – Нам была небезразлична эта славная женщина: она была моей кормилицей, и я знаю, что госпожа Жерди нередко ей писала.
– Прекрасно! Значит, вы можете дать нам кое-какие сведения.
– Боюсь, сударь, что они будут весьма скудны. Я, в сущности, ничего не знаю о бедной мамаше Леруж. Меня увезли от нее, когда я был совсем мал, а с тех пор, как стал взрослым, я не имел с ней никаких дел, только посылал время от времени скромное вспомоществование.
– Вы никогда ее не навещали?
– Отчего же. Навещал, и не раз, но оставался у нее несколько минут, не дольше. А вот госпожа Жерди частенько с ней виделась, вдова делилась с ней всеми своими новостями, поэтому она могла бы вам рассказать о ней лучше, чем я.
– Надеюсь, – заметил следователь, – увидеть госпожу Жерди. Она, должно быть, получила мою повестку.
– Знаю, сударь, но она не в состоянии вам ничего рассказать: она больна и не встает с постели.
– Тяжело больна?
– Настолько тяжело, что благоразумнее будет, как мне кажется, не рассчитывать на ее свидетельство. По мнению моего друга доктора Эрве, недуг, поразивший ее, никогда не щадит своих жертв. Это нечто вроде воспаления мозга, энцефалит, если не ошибаюсь. Если она и выживет, рассудок к ней уже не вернется.
Эти слова привели г-на Дабюрона в явное замешательство.
– Как это некстати! – пробормотал он. – И вы полагаете, уважаемый мэтр Жерди, что она ничего не сумеет нам сообщить?
– Об этом нечего и мечтать. Умственные способности ее совершенно расстроены. Когда я уходил, она была в таком тяжелом состоянии, что не знаю уж, переживет ли она нынешний день.
– Когда она заболела?
– Вчера вечером.
– Внезапно?
– Да, сударь, во всяком случае, обнаружилось это вчера. Правда, я по некоторым признакам предполагаю, что ей нездоровилось уже по меньшей мере три недели. А вчера, вставая из-за стола, за которым почти не притронулась к пище, она взяла газету и, как на грех, взгляд ее упал на заметку, в которой сообщалось об этом убийстве. Она издала душераздирающий вопль, без сил откинулась на спинку кресла и соскользнула с него, упав на ковер и шепча: «О несчастный! Несчастный!»
– Вы хотите сказать «несчастная»?
– Нет, сударь, именно так, как я сказал. Это определение, несомненно, не могло относиться к моей бедной кормилице.
При этих словах, имеющих столь грозный смысл и произнесенных самым невинным тоном, г-н Дабюрон внимательно посмотрел на свидетеля. Адвокат опустил голову.
– А затем? – спросил следователь после минутной паузы, во время которой делал кое-какие записи.
– Это были последние слова, сударь, произнесенные госпожой Жерди. С помощью служанки я перенес ее в постель, вызвал врача, и с тех пор она не приходит в сознание. Да и врач…
– Хорошо, – перебил г-н Дабюрон. – Вернемся к этому позже. А что знаете вы сами, мэтр Жерди? Были у вдовы Леруж враги?
– Мне об этом неизвестно.
– Значит, не было? Ладно. А скажите, ее смерть может быть кому-нибудь выгодна?
Задавая этот вопрос, судебный следователь смотрел прямо в глаза Ноэлю, не давая ему отвести или опустить взгляд. Адвокат вздрогнул; было видно, что вопрос не на шутку его взволновал. Он был растерян, он колебался, в душе его явно происходила борьба. Наконец дрогнувшим голосом он произнес:
– Нет, никому.
– В самом деле? – настаивал следователь, сверля его пристальным взглядом. – Вы не знаете никого, кому эта смерть выгодна или могла бы быть выгодна, совершенно никого?
– Я знаю одно, сударь, – отвечал Ноэль, – эта смерть причинила мне самому непоправимый вред.
«Наконец-то, – подумал г-н Дабюрон, – вот мы и добрались до писем, ничем не скомпрометировав папашу Табаре. Мне было бы жаль причинить даже малейшую неприятность этому славному и хитроумному человеку».
– Непоправимый вред? – переспросил он. – Я надеюсь, уважаемый мэтр Жерди, вы объясните, что это значит.
Ноэль явно чувствовал себя все неуютнее.
– Я знаю, сударь, – отвечал он, – что не только не должен вводить правосудие в заблуждение, но обязан сообщить ему всю правду. Тем не менее в жизни существуют обстоятельства столь деликатные, что совесть порядочного человека не может не считаться с ними. И потом, как это тягостно – против своей воли приподымать завесу над мучительными тайнами, разоблачение которых может подчас…
Г-н Дабюрон остановил его движением руки. Следователя тронула печаль в голосе Ноэля. Заранее зная то, что ему предстояло услышать, он страдал за молодого адвоката. Он повернулся к протоколисту.
– Констан! – произнес он со значением.
Эта интонация служила условным знаком: долговязый протоколист неторопливо поднялся, заложил перо за ухо и степенно удалился. Ноэль оценил деликатность судебного следователя. На лице его выразилась живейшая признательность, он бросил на г-на Дабюрона благодарный взгляд.
– Я бесконечно обязан вам, сударь, – борясь с волнением, проговорил он, – за ваше великодушное внимание. То, что мне придется рассказать вам, крайне для меня тягостно, но вы облегчаете мне задачу.
– Ни о чем не беспокойтесь, – отозвался следователь, – я запомню из ваших показаний только то, что покажется мне совершенно необходимым.
– Я чувствую, сударь, что плохо владею собой, – начал Ноэль, – будьте же снисходительны к моему замешательству. Если у меня вырвутся слова, на ваш взгляд, слишком горькие, не обессудьте, это получится невольно. До недавних пор я полагал, что я незаконнорожденный. Я не постыдился бы признаться в этом, если бы так оно и было. История моя проста. Я не лишен честолюбия, трудолюбив. Кто не имеет имени, должен уметь его сделать. Я жил в безвестности, замкнуто, во всем себе отказывая, как и следует человеку из низов, желающему подняться наверх. Я обожал ту, которую почитал своей матерью, и был убежден, что она меня любит. Пятно моего рождения было причиной некоторых унижений для меня, но я их презирал. Сравнивая свой удел с участью многих и многих, я полагал, что и в моей судьбе есть кое-какие преимущества, но тут волею провидения в руки мне попали письма, которые мой отец, граф де Коммарен, писал госпоже Жерди, которая была в то время его любовницей. Прочитав эти письма, я убедился, что я не тот, кем себя считал, и госпожа Жерди мне не мать.
И, не давая г-ну Дабюрону вставить слово, он повторил все то, что несколько часов назад рассказывал папаше Табаре. Это была та же история, содержавшая описание тех же событий, изобилующая теми же точными и убедительными подробностями, но тон рассказа изменился. Насколько накануне, сидя у себя дома, молодой адвокат был выспрен и необуздан, настолько сейчас, в кабинете судебного следователя, он оставался сдержан и скуп на громкие слова.
Казалось, он точно рассчитал, как преподнести свой рассказ каждому из слушателей, чтобы сильнее поразить обоих. Папаше Табаре с его обывательскими представлениями о жизни предназначалось показное неистовство, г-ну Дабюрону, человеку утонченного ума, – показное смирение. И если накануне он возмущался несправедливой судьбой, то теперь смиренно склонял голову перед слепым роком. С истинным красноречием, в самых уместных и ярких выражениях описал он все, что пережил наутро после своего открытия, – горе, растерянность, сомнения. Чтобы увериться окончательно, он нуждался в несомненном подтверждении. Мог ли он надеяться получить его от графа или г-жи Жерди, сообщников, заинтересованных в сокрытии истины? Нет. Но он рассчитывал на свидетельство кормилицы, бедной старухи, которая его любила и на склоне дней была бы рада избавиться от мучительного бремени, тяготившего ее совесть. После ее смерти письма обратились в бесполезный хлам.
Потом он перешел к объяснению, которое имел с г-жой Жерди. Тут он был щедрее на подробности, чем в разговоре со стариком соседом. Из его рассказа следовало, что сперва она все отрицала, но под градом вопросов, перед лицом непреложных фактов дрогнула и созналась, хотя и объявила, что ни при каких условиях не повторит этого признания и будет ото всего отпираться, потому что страстно желает сохранить за родным сыном богатство и высокое положение. После этого объяснения, как полагал адвокат, у бывшей любовницы его отца и начались первые приступы болезни.
Кроме того, Ноэль поведал о своем свидании с виконтом де Коммареном. В его повествовании проскользнули, пожалуй, легкие неточности, впрочем, столь незначительные, что едва ли можно было поставить их ему в вину. К тому же в них не было ничего порочащего Альбера. Напротив, адвокат настаивал на том, что этот молодой человек произвел на него наилучшее впечатление.
Разоблачения Ноэля он, правда, выслушал с некоторым недоверием, но в то же время с благородной твердостью и мужественно, как человек, готовый склониться перед законом. Ноэль с воодушевлением описал своего соперника, которого не испортила беспечная жизнь и который расстался с ним без единого злобного взгляда; он сказал, что чувствует сердечное расположение к Альберу, ведь, в сущности, они – братья.
Г-н Дабюрон выслушал Ноэля с напряженным вниманием, ни единым словом, ни жестом, ни движением бровей не выдавая своих чувств. Когда рассказ был окончен, следователь заметил:
– Но как же вы можете утверждать, сударь, что смерть вдовы Леруж, по вашему мнению, никому не была выгодна?
Адвокат не ответил.
– Мне кажется, что теперь позиция господина виконта де Коммарена становится почти неуязвима. Госпожа Жерди лишилась рассудка, граф будет все отрицать, письма, которые есть у вас, ничего не доказывают. Надо признать, что убийство пришлось этому молодому человеку как нельзя кстати и совершилось чрезвычайно вовремя.
– Что вы, сударь! – воскликнул Ноэль, протестуя от всей души. – Это подозрение чудовищно!
Следователь испытующим взглядом впился в лицо адвоката. Что это – искреннее великодушие или притворство? В самом ли деле Ноэль ничего не заподозрил? Но молодой адвокат, ничуть не смутившись, тут же продолжал:
– Какие опасения, какие причины могли быть у этого человека бояться за свое положение? Я не угрожал ему даже намеком. Разве я появился перед ним как разъяренный ограбленный наследник, который желает, чтобы ему сразу же, немедленно вернули все, чего он был лишен? Нет, я просто изложил Альберу все факты и сказал: «Что вы об этом думаете? Как мы с вами рассудим? Решайте!»
– И он попросил у вас время на размышления?
– Да. Я ему, можно сказать, предложил съездить вместе к мамаше Леруж, чтобы ее свидетельство рассеяло все сомнения, но он как будто меня не понял. А ведь он прекрасно ее знал, он ездил к ней вместе с графом, который, как я выяснил уже потом, давал ей немалые суммы денег.
– Вам эта щедрость не показалась странной?
– Нет.
– У вас есть какое-либо объяснение тому, что виконту явно не захотелось съездить к ней с вами вместе?
– Разумеется. Он сам мне сказал, что предпочитает прежде поговорить с отцом, который сейчас в отъезде, но через несколько дней должен вернуться.
Правду всегда узнаешь: лгуна выдает фальшь в голосе; все на свете это знают и не устают повторять. У г-на Дабюрона не оставалось ни малейшего сомнения в чистосердечии свидетеля. Ноэль продолжал с простодушной искренностью честного человека, чье сердце никогда не задевало своим совиным крылом подозрение:
– Я тоже склонялся к тому, что сначала следует поговорить с отцом. Я не желал никакой огласки, больше всего мне хотелось бы прийти к полюбовному соглашению. Будь у меня сколько угодно доказательств, я и то не стал бы затевать судебный процесс.
– Вы не подали бы в суд?
– Никогда, сударь, ни за какие сокровища! Неужели, – прибавил он гордо, – желая вернуть себе имя, которое мне принадлежит, я начал бы с того, что обесчестил его?
На сей раз г-ну Дабюрону не удалось скрыть самое искреннее восхищение.
– Поразительное бескорыстие, сударь! – произнес он.
– Мне кажется, – отвечал Ноэль, – что это просто самое разумное решение. Допустим, на худой конец я решился бы уступить Альберу принадлежащий мне титул. Спору нет, Коммарен – громкое имя, но я надеюсь, что лет через десять мое имя тоже станет известным. Я лишь потребовал бы денежного возмещения. У меня ничего нет, и нужда частенько мешала моей карьере. Почти все, чем госпожа Жерди была обязана щедрости моего отца, уже прожито. Большую часть средств поглотило мое образование, а заработок мой лишь недавно начал превосходить расходы. Мы с госпожой Жерди живем весьма скромно. К сожалению, хоть вкусы у нее самые умеренные, но она не умеет экономить, деньги текут у нее сквозь пальцы, и трудно даже представить себе, сколько средств поглощает наше хозяйство. В конце концов, будь что будет: мне не в чем себя упрекнуть. Поначалу я не в силах был обуздать свой гнев, но теперь избавился от недобрых чувств. А узнав о смерти кормилицы, я мысленно попрощался со своими надеждами.
– И напрасно, дорогой мэтр Жерди, – возразил следователь. – Теперь уже я вам скажу: надейтесь. Быть может, еще сегодня вы вступите в свои законные права. Не стану скрывать от вас: правосудие полагает, что ему известно, кто убил вдову Леруж. К этому времени виконт Альбер должен уже быть арестован.
– Как! – вскричал Ноэль вне себя от изумления. – Неужели? Не ослышался ли я, господин следователь? Боюсь, что я неправильно вас понял.
– Нет, вы поняли правильно, мэтр Жерди, – перебил г-н Дабюрон. – Благодарю вас за ваши правдивые, чистосердечные ответы, они значительно упрощают мою задачу. Завтра, поскольку нынче у меня до минуты занят весь день, мы оформим ваши показания. Займемся этим вместе, если не возражаете. А теперь мне остается лишь попросить у вас письма, которые находятся в вашем распоряжении; они мне необходимы.
– Часу не пройдет, как они будут у вас, сударь, – отвечал Ноэль.
И он вышел, высказав господину судебному следователю самую живейшую признательность. Не будь он так поглощен своими мыслями, он заметил бы в конце галереи папашу Табаре, который радостно несся во весь опор, спеша поскорей выложить новости.
Не успел фиакр остановиться перед решеткой Дворца правосудия, как папаша Табаре выскочил, миновал двор и ринулся в здание. Видя, как он проворнее любого юного помощника письмоводителя взлетает по крутой лестнице, ведущей на галерею судебных следователей, невозможно было поверить, что ему уже давно перевалило за пятый десяток. Он и сам сейчас усомнился бы в этом. Он не помнил, как провел ночь; никогда еще он не чувствовал себя столь бодрым, крепким, веселым. Казалось, ноги сами несли его. В два прыжка он пронесся по галерее и, как пушечное ядро, влетел в кабинет судебного следователя, толкнув по дороге степенного протоколиста, который проделывал уже сотый круг в зале ожидания. Вопреки своей обычной вежливости папаша Табаре даже не извинился.
– Доставлен! – закричал он с порога. – Взят, схвачен, изловлен, сцапан, заточен, заперт, упрятан! Он у нас в руках!
Сейчас папаша Табаре как никогда соответствовал своему прозвищу Загоню-в-угол: его пылкая жестикуляция, его необычные ужимки были так забавны, что тощий протоколист ухмыльнулся, за что, впрочем, выбранил себя вечером, укладываясь спать. Но г-на Дабюрона, который был еще под впечатлением от признаний Ноэля, покоробило от этого неуместного ликования, которое, правда, добавляло ему уверенности. Он сурово глянул на папашу Табаре и произнес:
– Тише, сударь, тише, ведите себя благопристойнее, умерьте свои восторги.
В другое время сыщик пришел бы в отчаяние от того, что навлек на себя выговор, но радость делала его неуязвимым для огорчений.
– Хвала Богу, – отвечал он, – я не в состоянии сдерживаться и не стыжусь этого. В жизни не видывал ничего подобного! Мы нашли все, о чем я вам говорил. И сломанная рапира, и жемчужно-серые перчатки, и мундштук – все отыскалось. Все это будет вам доставлено, сударь, и еще многое сверх того. Что ни говори, у моей скромной системы есть свои достоинства. Это победа моего индуктивного метода, над которым зубоскалит Жевроль. Я дал бы сто франков, чтобы он сейчас был здесь. Но увы, наш Жевроль охотится за человеком с серьгами. Право слово, с него станется изловить этого незнакомца. Бравый парень наш Жевроль, великий ловкач и молодец! Интересно, сколько ему платят в год за его ловкость?
– Будет вам, дорогой господин Табаре, – вмешался г-н Дабюрон, как только ему удалось вставить слово, – давайте, по возможности, оставаться серьезными и действовать по заведенному порядку.
– Чего уж там, – возразил сыщик, – теперь-то с этим делом все ясно. Когда к вам приведут арестованного, покажите ему только кусочки кожи, изъятые из-под ногтей убитой, и его собственные перчатки, и с ним покончено. Бьюсь об заклад, что он немедля признается. Ставлю свою голову против его, хотя над его головой и нависла изрядная опасность. Впрочем, жизни его ничто не грозит. Эти мокрые курицы, присяжные, способны признать, что у него были смягчающие обстоятельства. У меня бы он не отделался так дешево! Ах, все эти проволочки пагубны для правосудия! Если бы все думали, как я, наказание мерзавцев не затягивалось бы так надолго. Схватили, повесили, и все тут.
Г-н Дабюрон смирился и ждал конца словоизвержения. Он приступил к расспросам не раньше, чем возбуждение сыщика немного улеглось. И все-таки ему не без труда удалось добиться точных подробностей ареста, которые должен был подтвердить протокол комиссара полиции. Следователя поразило, что, увидев постановление на арест, Альбер произнес: «Я погиб!»
– Это страшная улика, – заметил он.
– Разумеется! – подхватил папаша Табаре. – Будь он в спокойном расположении духа, у него ни за что не вырвались бы эти слова, которые в самом деле выдают его с головой. Хорошо, что мы застигли его, когда он еще по-настоящему не проснулся. Он был не в постели. Когда мы приехали, он спал неспокойным сном на канапе. Я постарался проскользнуть вперед и вошел к нему сразу за лакеем, который был в таком ужасе, что, глядя на него, и хозяин перепугался. Я все рассчитал. Но не беспокойтесь, он подыщет благовидное объяснение своему злополучному восклицанию. Должен добавить, что возле него, на полу, мы обнаружили скомканную вчерашнюю «Газетт де Франс», там было напечатано сообщение об убийстве. Впервые газетная заметка помогла схватить виновного.
– Да, – задумчиво пробормотал следователь, – да, господин Табаре, вы сущий клад. – И добавил уже громче: – Я имел случай в этом убедиться: только что от меня ушел господин Жерди.
– Вы виделись с Ноэлем! – воскликнул сыщик.
Всю его тщеславную радость как рукой сняло. По его румяной веселой физиономии скользнула тень беспокойства.
– Ноэль был здесь! – повторил он. И робко спросил: – Он не знает?
– Ничего не знает, – отвечал г-н Дабюрон. – У меня не было никакой надобности вас упоминать. И потом, разве я не обещал вам, что ничем вас не скомпрометирую?
– Тогда все хорошо! – воскликнул папаша Табаре. – А что вы, господин следователь, думаете о Ноэле?
– Убежден в его благородстве и порядочности, – сказал следователь. – Человек он сильный и в то же время добрый. Он обнаружил – вне всякого сомнения, искренне, – такой образ мыслей, который изобличает в нем возвышенную душу, какие в наше время являются, к прискорбию, редчайшим исключением. В жизни я нечасто встречал людей со столь располагающими манерами. Понимаю, что его дружбой можно гордиться.
– Я же говорил вам, господин следователь! И такое впечатление он производит на всех. Я люблю его как сына, и, как бы там ни было, он унаследует мое состояние. Да, я оставлю ему все, так и записано у меня в завещании, которое хранится у моего нотариуса, мэтра Барона. Есть там запись насчет госпожи Жерди, но я ее вычеркну, и не откладывая.
– Сударь, госпоже Жерди скоро ничего не будет нужно.
– Почему? Что такое? Неужели граф…
– Она умирает и едва ли переживет нынешний день. Так сказал господин Жерди.
– О боже! – воскликнул старик. – Да что вы говорите! Умирает… Ноэль будет в отчаянии. Да нет, она ему не мать, так не все ли ему равно. Умирает! Раньше я глубоко уважал ее, но потом это чувство уступило место презрению. Слаб человек! Нынче роковой день для всех виновных в этом преступлении; я забыл сообщить вам, что, уходя из особняка Коммаренов, слышал, как один слуга рассказывал другому, что у графа, когда он узнал об аресте сына, случился удар.
– Для господина Жерди это будет ужасным несчастьем.
– Для Ноэля?
– Я рассчитывал на свидетельство господина де Коммарена, чтобы возвратить господину Жерди все причитающееся ему по праву. Но если ни графа, ни вдовы Леруж нет в живых, а госпожа Жерди лишилась рассудка и умирает, кто же подтвердит, что в письмах содержится правда?
– В самом деле! – пролепетал папаша Табаре. – В самом деле! А я-то и не подумал об этом. Какая неудача! Нет, я не ошибся, я ясно слышал…
Он не договорил. Дверь в кабинет г-на Дабюрона отворилась, и на пороге возник граф де Коммарен собственной персоной: чопорный, словно фигура на старинных портретах, застывшая в ледяной неподвижности в своей золоченой раме. Старый аристократ сделал знак, и двое слуг, которые провожали его, поддерживая под руки, до самого кабинета, удалились.
IX
Да, это был граф де Коммарен, вернее, его тень. Его гордая голова склонилась на грудь, он сгорбился, глаза его потухли, красивые руки дрожали. Разительный беспорядок его платья делал происшедшие с ним перемены еще заметнее. За ночь он постарел лет на двадцать. Крепкие старики, подобные ему, похожи на огромные деревья, сердцевина которых искрошилась, так что ствол держится только благодаря коре. Они кажутся несокрушимыми, они словно бросают вызов времени, но ураган валит их наземь. Этот человек, вчера еще гордившийся своей несгибаемостью, был разбит. Он дорожил своим именем, в этом и заключалась вся его сила, и теперь, униженный, он был уничтожен. Все в нем как-то сразу надломилось, все подпорки рухнули. В его безжизненном тусклом взгляде застыли тоска и смятение. Он являл собой столь полное воплощение отчаяния, что при виде его судебный следователь содрогнулся. Папаша Табаре не в силах был скрыть свой ужас, и даже сам протоколист был тронут.
– Констан, – поспешно сказал г-н Дабюрон, – сходите-ка вместе с господином Табаре в префектуру, узнайте новости.
Протоколист вышел вместе с сыщиком, покидавшим кабинет с явным сожалением. Граф не обратил внимания на их присутствие, не заметил он и того, что они ушли. Г-н Дабюрон придвинул ему стул, и он сел.
– Я чувствую такую слабость, – произнес он, – что ноги меня не держат.
Граф извинялся перед ничтожным судейским! Да, миновали достойные сожаления времена, когда знать чувствовала себя, да, в сущности, и была выше закона. Ушло в небытие царствование Людовика XIV, когда герцогиня Бульонская смеялась над господами из парламента и великосветские отравительницы обливали презрением членов «Огненной палаты»[96]. Нынче правосудие всем внушает уважение и отчасти страх, даже если представлено оно добросовестным и скромным судебным следователем.
– Вам, по-видимому, нездоровится, господин граф, – сказал следователь, – и едва ли я вправе просить у вас разъяснений, в надежде на которые вас пригласил.
– Мне уже лучше, – отвечал г-н де Коммарен, – благодарю вас. Для человека, получившего такой жестокий удар, я чувствую себя вполне сносно. Когда я узнал об аресте сына и услышал, в чем он обвиняется, меня как громом поразило. Я, полагавший себя сильным человеком, был повержен во прах. Слугам показалось, что я умер. Мне и в самом деле лучше бы умереть! Врач говорит, что меня спас мой крепкий организм, но я полагаю, что Бог судил мне остаться в живых, чтобы до конца испить чашу унижения.
Он замолчал, ему сдавило горло. Следователь, не смея шевельнуться, замер возле своего стола. Через несколько мгновений графу, по-видимому, стало легче; он продолжал:
– Разве не следовало мне, злосчастному, быть готовым к тому, что произошло? Рано или поздно все тайное становится явным! Я наказан за гордыню, толкнувшую меня на грех. Я возомнил себя выше молний и навлек грозу на свой дом. Альбер – убийца! Виконт де Коммарен на скамье подсудимых! Ах, сударь, карайте меня тоже – это я много лет назад совершил злодеяние. Пятнадцать веков незапятнанной славы угаснут вместе со мной в бесчестии.
Г-н Дабюрон полагал, что грех графа де Коммарена непростителен и отнюдь не намерен был щадить надменного аристократа. Он ожидал появления высокомерного и неприступного старика и дал себе слово, что собьет с него спесь. Возможно, он, плебей, которого так свысока третировала в свое время маркиза д’Арланж, затаил, сам того не ведая, недоброе чувство против аристократии. В уме он подготовил краткое и весьма суровое назидание, которое должно было открыть глаза старому вельможе и образумить его. Однако при виде столь безмерного раскаяния его возмущение перешло в глубокую жалость, и теперь он мучительно искал способа умерить эту скорбь.
– Запишите, сударь, – продолжал граф с горячностью, которой трудно было от него ожидать десять минут назад, – запишите мои признания, ничего не опуская. Я не нуждаюсь более ни в милости, ни в снисхождении. Чего теперь бояться? Разве не ожидает меня публичный позор? Разве не придется через несколько дней мне, графу де Рето де Коммарену, предстать перед судом, чтобы возвестить о бесчестье, постигшем наш дом! Ах, теперь все потеряно, даже честь! Пишите, сударь, я желаю, чтобы все знали: я виноват более всех. Но пусть узнают и то, что я уже страшно наказан и это последнее, смертельное испытание было чрезмерным.
Граф остановился, напрягая память. Затем он продолжал уже более твердым голосом, постепенно приобретавшим прежнюю звучность:
– Когда мне было столько лет, сколько сейчас Альберу, родители, пренебрегая моими мольбами, заставили меня жениться на благородной и чистой девушке. Я сделал ее несчастнейшей из жен. Я не мог ее любить. В то время я питал самую пылкую страсть к женщине, которая была добродетельна, пока не отдалась мне, и наша любовь длилась несколько лет. Мне представлялось, что она прелестна, чистосердечна, умна. Ее звали Валери. Все умерло во мне, сударь, но, когда я произношу это имя, оно волнует меня по-прежнему. Я не мог смириться и порвать с ней даже после женитьбы. Должен сказать, она хотела этого. Мысль, что приходится делить меня с другой, была ей невыносима. Не сомневаюсь, что тогда она меня любила. Наша связь продолжалась. Жена моя и любовница почти одновременно почувствовали наступление беременности. Это совпадение заронило во мне пагубную мысль принести законного сына в жертву незаконнорожденному. Я поделился этим замыслом с Валери. К моему величайшему удивлению, она об этом и слышать не хотела. В ней уже пробудился материнский инстинкт, она не желала расставаться со своим ребенком. Как памятник собственному безумию я сохранил письма, которые она писала мне в ту пору; нынче ночью я их перечел. Как я устоял перед ее доводами и мольбами? Должно быть, у меня помутился разум. Она словно предчувствовала несчастье, которое обрушилось на меня сегодня. Но я приехал в Париж, а власть моя над ней была безгранична; я грозил, что брошу ее, что она никогда меня не увидит, и она покорилась. Произвести преступную подмену было поручено Клодине Леруж и моему слуге. И вот теперь титул виконта де Коммарена носит сын моей любовницы, который час назад был арестован.
Г-н Дабюрон и не надеялся получить столь определенное признание, да притом так скоро. В душе он порадовался за молодого адвоката, чей благородный образ мыслей произвел на него большое впечатление.
– Итак, господин граф, – задал он вопрос, – вы признаете, что господин Ноэль Жерди рожден в законном браке и что он единственный, кто имеет право носить ваше имя?
– Да, сударь. Увы, когда-то я радовался исполнению своего замысла, словно одержал великую победу! Дитя моей Валери было здесь, рядом со мной, и радость до того опьяняла меня, что я обо всем забыл. Я перенес на него любовь, которую питал к его матери, а вернее, если такое возможно, я любил его еще больше. Мысль о том, что он будет носить мое имя, унаследует все мое состояние в ущерб другому ребенку, приводила меня в восторг. А другого я ненавидел, я не желал его видеть. Я не помню, чтобы когда-нибудь поцеловал его. Доходило до того, что сама Валери, добрая душа, упрекала меня в черствости. И только одно омрачало мое счастье. Графиня де Коммарен обожала ребенка, которого считала своим сыном, и буквально не спускала его с колен. Не могу передать, как я страдал, видя, что жена покрывает поцелуями дитя моей возлюбленной. Я старался, когда только можно было, удалять от нее мальчика, а она не понимала, в чем дело, и воображала, будто я не хочу, чтобы сын любил ее. Она скончалась с этой мыслью, сударь, отравившей ее последние дни. Она умерла от горя, но умерла, как святая, – не жалуясь, не ропща, произнеся слова прощения и простив меня в душе.
Невзирая на спешку, г-н Дабюрон не смел прервать графа и перейти к короткому допросу относительно фактов, имеющих прямое отношение к делу. Он думал о том, что неестественное возбуждение графа вызвано только лихорадкой и вот-вот может смениться полным изнеможением; опасался, что, если перебьет старика, у того уже не хватит сил возобновить рассказ.
– Я не пролил по ней ни единой слезы, – продолжал граф. – Что она внесла в мою жизнь? Горе и угрызения совести. Но Божье правосудие покарало меня прежде людского. Однажды мне сообщили, что Валери уже давно обманывает меня, что она неверна мне. Сперва я не хотел верить; это казалось мне диким, противоестественным. Я скорей усомнился бы в себе самом, чем в ней. Я взял ее из мансарды, где она за тридцать су гнула спину по шестнадцать часов в день. Она была всем обязана мне. Я так давно привык считать ее своей собственностью, что рассудок мой отвергал саму мысль о ее измене. Я не мог позволить себе ревновать. Тем не менее я навел справки, приставил людей наблюдать за ней, унизился до слежки. Да, мне сказали правду. У этой несчастной был любовник, причем давно уже, лет десять. Кавалерийский офицер. Он навещал ее, соблюдая величайшую осторожность. Как правило, уходил он около полуночи, но время от времени оставался на ночь и покидал ее на рассвете. Когда его посылали в гарнизоны, расположенные далеко от Парижа, он брал отпуск, чтобы ее повидать, и во время отпуска безвылазно оставался у нее дома. Однажды вечером мои соглядатаи донесли, что он у нее. Я бросился туда. Мой приход ее не смутил. Она приняла меня, как обычно, бросилась мне на шею. Я уже думал, что меня обманули, и готов был все ей рассказать, как вдруг на рояле заметил замшевые перчатки, какие носят военные. Я сдержал себя, потому что не знал, как далеко может увлечь меня ярость, и удалился, не проронив ни слова. Больше я ее не видел. Она писала мне, но я не распечатывал писем. Она пыталась ко мне пробраться, попасться мне на пути, но напрасно: слугам были даны указания, которые они не смели нарушить.
Трудно было поверить, неужели и впрямь сам граф де Коммарен, всегда отличавшийся ледяным высокомерием, презрительной сдержанностью, произносит эти слова, без утайки рассказывает всю свою жизнь, и кому? Человеку, совсем ему незнакомому. Для графа настал час отчаяния, близкого к безумию, когда отказывает всякая осторожность, потому что чрезмерно сильному чувству нужен выход. Какой теперь смысл хранить тайну, которую он так бдительно сберегал долгие годы? И вот он избавился от нее, подобно несчастному, который изнемог под бременем непомерно тяжелой ноши и бросает ее на землю, не думая ни о том, где ее оставляет, ни о том, что она возбудит алчность прохожих.
– Ничто, – продолжал он, – ничто не сравнится с тогдашними моими страданиями. Я любил эту женщину всем своим существом. Она была частью меня самого. Расставшись с ней, я словно с кровью оторвал ее от себя. Не могу передать, какой гнев вскипал во мне, стоило мне ее вспомнить. Я с равным неистовством и презирал и желал ее, и проклинал и любил. Ее ненавистный облик неотступно следовал за мной. Никакими силами я не мог заставить себя забыть ее. Я так и не утешился в этой потере. Но это не все. Меня одолевали чудовищные сомнения при мысли об Альбере. В самом ли деле я его отец? Вы понимаете, как мучительно мне было думать: «Быть может, я принес своего сына в жертву чужому!» Этот незаконнорожденный, носивший имя Коммаренов, внушал мне ужас. На смену нежной дружбе пришло непобедимое отвращение. Сколько раз в ту пору я боролся с безумным желанием убить его! Позже я сумел обуздать свое отвращение, но окончательно преодолеть его мне так и не удалось. Альбер был примерным сыном, сударь, и все же между нами всегда стояла невидимая стена, а он не понимал, в чем дело. Часто я порывался обратиться в суд, во всем признаться, объявить, кто мой законный наследник; меня удерживала мысль о репутации нашего столь чтимого рода. Я не решался пойти на скандал. Я боялся покрыть наше имя позором, навлечь на него насмешки, ведь спасти его от бесчестья было бы не в моих силах.
На этих словах голос старика аристократа пресекся. Он в отчаянии закрыл лицо руками. По его морщинистым щекам скатились две крупные слезы и тут же высохли.
Тем временем дверь кабинета приотворилась и в щели возникло лицо протоколиста. Г-н Дабюрон подал ему знак сесть на место.
– Сударь, – обратился он к г-ну де Коммарену голосом, смягчившимся от сочувствия, – вы совершили огромную ошибку, нарушив законы божеские и человеческие, и сами видите, сколь пагубны ее последствия. Ваш долг, так же как наш, состоит в том, чтобы исправить ее.
– Таково и мое намерение, сударь. Да что я говорю! Мое пламенное желание!
– Я могу быть уверен, что вы поняли меня? – настаивал г-н Дабюрон.
– Да, сударь, – отвечал старик, – да, я вас понял.
– Для вас послужит утешением, – добавил следователь, – узнать, что господин Ноэль Жерди во всех отношениях достоин высокого положения, которое вы ему возвратите. Быть может, вы признаете, что его характер закалился куда сильнее, чем если бы он воспитывался при вас. Нужда – самый искусный учитель. Это человек весьма одаренный, притом один из самых порядочных и благородных. У вас будет сын, достойный своих предков. И в конце концов, виконт Альбер – не Коммарен, так что никто из членов вашей семьи не покрыл себя бесчестьем.
– Не правда ли? – оживился граф и добавил: – Настоящий Коммарен не остался бы в живых ни часу: бесчестье смывается кровью.
Услышав рассуждение старого аристократа, следователь погрузился в глубокое раздумье.
– Значит, вы, сударь, не сомневаетесь, – спросил он, – в том, что виконт виновен?
Г-н де Коммарен устремил на следователя взгляд, в котором читалось удивление.
– Я только вчера вечером вернулся в Париж, – отвечал он, – и не знаю, что произошло. Знаю только, что человеку, занимающему столь высокое положение, как Альбер, не предъявляют необоснованных обвинений. Уж если вы его арестовали, значит, вы располагаете не только подозрениями, но и неопровержимыми уликами.
Г-н Дабюрон прикусил язык, не в силах скрыть досаду. Осторожность изменила ему, он чересчур поспешил. Уповая на то, что мысли графа находятся в полном смятении, он чуть было не пробудил в нем недоверие. Подобного промаха подчас не исправить при всей хитрости и осторожности. Под конец допроса, в решающую минуту, он может свести на нет все усилия. Свидетель, который все время начеку, – не тот свидетель, на которого можно положиться: он боится себя скомпрометировать, оценивает важность вопросов и взвешивает каждое свое слово.
С другой стороны, правосудие, равно как и полиция, имеет склонность во всем сомневаться, всех подозревать и строить любые предположения. В самом ли деле граф не имел никакого отношения к убийству в Ла-Жоншер? Еще несколько дней назад он наверняка сделал бы все возможное, чтобы выручить Альбера, хотя и не был уверен, что тот – его сын. Как явствовало из его рассказа, он считал это необходимым для спасения своей чести. Не из тех ли он людей, которые любой ценой устраняют нежелательных свидетелей? Об этом и размышлял г-н Дабюрон.
Наконец, он не вполне понимал, каковы в этом деле истинные интересы графа, и эта неясность тоже его беспокоила. Все это вместе не на шутку удручало следователя, и оттого г-н Дабюрон испытывал недовольство собой.
– Сударь, – спокойнее заговорил он, – когда вам стало известно, что ваша тайна раскрыта?
– Вчера вечером мне сообщил об этом сам Альбер. Он поведал мне всю эту прискорбную историю с каким-то странным видом: я не понял, что у него на уме. Разве только…
Граф осекся, словно ошеломленный неправдоподобностью предположения, которое готово было сорваться у него с языка.
– Что разве только? – жадно переспросил следователь.
– Сударь, – отозвался граф, уклоняясь от прямого ответа. – Не будь Альбер преступник, он был бы герой.
– Значит, господин граф, – живо подхватил следователь, – у вас есть основания верить в его невиновность?
В голосе г-на Дабюрона столь явственно слышалась досада, что г-н де Коммарен не мог не воспринять это как оскорбление. Он выпрямился, явно уязвленный, и произнес:
– Я не являюсь свидетелем защиты, точно так же как не являюсь свидетелем обвинения. Я вижу свой долг в том, чтобы помочь восстановить истину, вот и все.
«Ну вот, – подумал г-н Дабюрон, – теперь я еще и обидел его. Сколько же еще ошибок я наделаю!»
– Факты таковы, – продолжал граф. – Вчера вечером Альбер рассказал мне об этих проклятых письмах; начал он с того, что расставил мне ловушку, потому что у него еще были сомнения: к господину Жерди попали не все мои письма. Между мной и Альбером вспыхнул весьма жаркий спор. Он заявил мне, что решился уступить все права Ноэлю. Я, напротив, стоял на том, что необходимо во что бы то ни стало заключить полюбовное соглашение. Альбер посмел мне перечить. Как ни старался я склонить его на свою точку зрения, все было бесполезно. Напрасно я пытался играть на самых, как мне казалось, чувствительных струнах его сердца. Он твердо объявил, что откажется даже вопреки моей воле и удовлетворится теми скромными средствами существования, которые я соглашусь ему обеспечить. Я предпринял еще одну попытку переубедить его, говоря, что этот шаг сделает невозможной женитьбу, которой он пылко желает уже несколько лет, но он отвечал, что уверен в чувствах своей невесты мадемуазель д’Арланж.
Для следователя это имя прозвучало, как пушечный выстрел. Он так и подскочил в кресле. Чувствуя, что краснеет, он схватил со стола первую попавшуюся папку и, чтобы скрыть смущение, поднес ее к самому лицу, словно пытаясь прочитать неразборчиво написанное слово. Теперь он начинал понимать, за какую задачу взялся. Он чувствовал, что волнуется, как ребенок, что обычное спокойствие и проницательность изменили ему. Он сознавал, что способен совершить какой угодно промах. И зачем он ввязался в это расследование? Он хотел сохранить беспристрастие, но разве это зависит от его желания, разве это в его власти? Он был бы рад отложить беседу с графом, но это уже было невозможно. Опыт следователя подсказывал ему, что это обернется новой ошибкой. Поэтому он продолжил тягостный разговор и задал вопрос:
– Итак, господин виконт обнаружил, вне всякого сомнения, весьма благородные чувства, и все же не упоминал ли он в разговоре с вами о вдове Леруж?
– Упоминал, – отозвался граф, который, казалось, внезапно вспомнил некую подробность, прежде представлявшуюся ему незначительной, – определенно упоминал.
– Должно быть, он утверждал, что свидетельство этой женщины сделает всякую борьбу с господином Жерди бесполезной.
– Именно, сударь. Не говоря уже о его собственном желании, он отказывался исполнить мою волю, ссылаясь как раз на Клодину.
– Прошу вас, господин граф, со всей возможной точностью передать мне ваш разговор с виконтом. Будьте добры, напрягите память и постарайтесь пересказать как можно точнее его слова.
Г-н де Коммарен без особых затруднений последовал этой просьбе. К нему уже начало возвращаться спасительное спокойствие. Пульс, участившийся из-за перипетий допроса, стал ровным, как прежде. Мысли графа прояснились, и сцена, разыгравшаяся накануне вечером, припомнилась ему до мельчайших подробностей. У него в ушах еще звучали интонации Альбера, он еще видел выражение его лица. Во время рассказа, необычайно живого, точного и ясного, убеждение г-на Дабюрона все крепло. Следователя восстанавливало против Альбера именно то, что накануне вызвало восхищение графа.
«Поразительная комедия! – думал он. – Решительно, папаша Табаре видит людей насквозь. Этот молодой человек обладает не только немыслимой дерзостью, но и дьявольской изворотливостью. Поистине его вдохновлял гений злодейства. Это чудо, что мы сумели его разоблачить. Как он все предвидел и подготовил! Как искусно провел разговор с отцом, чтобы ввести графа в заблуждение на случай, если произойдет непредвиденное! Каждая его фраза, тщательно обдуманная, должна отвести от него подозрение. И как тонко он осуществил свой замысел! Как позаботился о деталях! Не упустил ничего, даже изысканного дуэта с любимой женщиной. Неужели он в самом деле предупредил Клер? Возможно. Я мог бы это узнать, но придется встречаться, разговаривать с ней… Бедняжка! Полюбить подобного человека! Но теперь его замысел просто очевиден. Спор с графом – это его спасительная соломинка. Он и ни к чему не обязывает, и позволяет выиграть время. Вероятно, Альбер еще немного поупрямился бы, а потом сдался бы на уговоры отца. Еще и поставил бы себе в заслугу свою уступчивость, потребовал бы вознаграждения за то, что снизошел к просьбам графа. А когда Ноэль явился бы со своими обличениями, он столкнулся бы с господином де Коммареном-старшим, который все дерзко отрицал бы и вежливо спровадил его, а если бы понадобилось, то и велел бы выгнать взашей, как самозванца и обманщика».
Поразительно, хотя и объяснимо, то, что г-н де Коммарен, рассказывая, пришел к тому же, что и следователь, к таким же или весьма близким выводам. В самом деле, почему Альбер так настойчиво поминал Клодину? Граф прекрасно помнил, что в запальчивости бросил ему: «Нет, сударь, столь благородные поступки не совершаются ради собственного удовольствия». Теперь это благородное бескорыстие разъяснилось.
Когда граф завершил рассказ, г-н Дабюрон заключил:
– Благодарю вас, сударь. Не могу пока сообщить ничего определенного, но у правосудия есть весьма основательные причины предполагать, что во время описанной вами сцены виконт Альбер, как искусный комедиант, сыграл заранее заученную роль.
– И прекрасно сыграл, – прошептал граф. – Ему удалось меня обмануть…
Его прервало появление Ноэля, который вошел, держа в руках черный шагреневый портфель с монограммой. Адвокат поклонился старому аристократу, а тот встал и отошел в другой конец комнаты, чтобы не мешать разговору.
– Сударь, – вполголоса обратился Ноэль к следователю, – все письма вы найдете в этом портфеле. Прошу вашего позволения удалиться как можно скорее, потому что госпоже Жерди час от часу делается все хуже.
Последние слова Ноэль произнес несколько громче, и граф их услышал. Он вздрогнул; ему стоило невероятных усилий удержаться от вопроса, рвущегося у него из самого сердца.
– И все же, господа, вам придется уделить мне минуту, – отвечал следователь.
Г-н Дабюрон поднялся с кресла и, взяв адвоката за руку, подвел его к графу.
– Господин де Коммарен, – произнес он, – имею честь представить вам господина Ноэля Жерди.
Вероятно, г-н де Коммарен готов был к подобному повороту событий, потому что ни один мускул у него на лице не дрогнул, он остался невозмутим. Что до Ноэля, то у него был такой вид, словно на него обрушился потолок: он пошатнулся, и ему пришлось опереться на спинку стула.
Отец и сын застыли друг перед другом; со стороны могло показаться, что каждый думает о своем, но в действительности оба хмуро и недоверчиво приглядывались друг к другу, и каждый пытался проникнуть в мысли другого.
Г-н Дабюрон ждал большего от театрального эффекта, задуманного им, когда граф вошел в его кабинет. Он льстил себе надеждой, что это внезапное знакомство повлечет за собой бурную патетическую сцену, которая не оставит его клиентам времени на размышления. Граф распахнет объятия, Ноэль бросится ему на грудь, и для полного признания отцовства останется лишь дожидаться официального решения суда.
Его надежды были развеяны чопорностью графа и смятением Ноэля. Поэтому он счел своим долгом вмешаться.
– Господин граф, – с упреком произнес он, – вы сами только что признали, что господин Жерди – ваш законный сын.
Г-н де Коммарен не отвечал; казалось, он не слышал. Ноэль, собравшись с духом, осмелился заговорить первым.
– Сударь, – пролепетал он, – я не в обиде на вас…
– Вы можете обращаться ко мне «отец», – перебил надменный старик голосом, в котором не звучало ни намека на волнение или нежность.
Затем, обратившись к следователю, он спросил:
– Я еще нужен вам, сударь?
– Вам остается выслушать ваши показания, – отвечал г-н Дабюрон, – и подписать, если вы сочтете их записанными точно. Читайте, Констан.
Долговязый протоколист совершил полуоборот на стуле и начал читать. У него была совершенно неповторимая манера бубнить то, что запечатлели его каракули. Читал он страшно быстро, частил, не обращая внимания ни на точки, ни на запятые, ни на вопросы, ни на ответы. Он просто тараторил, пока хватало дыхания, затем набирал в грудь побольше воздуха и опять принимался за свое. При его чтении все невольно представляли себе ныряльщика, который время от времени высовывает голову из воды, вдыхает воздух и снова погружается. Никто, кроме Ноэля, не вслушивался в это чтение, словно бы нарочито неразборчивое. Ноэль же извлек из него много важных для себя сведений.
Наконец Констан произнес сакраментальные слова «в удостоверение чего и т. д.», завершающие все протоколы во Франции. Он поднес графу перо, и тот без колебаний, молча поставил свою подпись. Затем старый аристократ обернулся к Ноэлю.
– Я не вполне здоров, – сказал он. – Посему придется вам, сын мой, – на этих словах он сделал ударение, – проводить вашего отца до кареты.
Молодой адвокат торопливо приблизился и, просияв, подставил руку отцу, на которую тот оперся.
Когда они вышли, г-н Дабюрон не удержался и дал волю любопытству. Он подбежал к двери, приотворил ее и выглянул в галерею. Граф и Ноэль еще не дошли до конца галереи. Шагали они медленно. Граф тяжело, с трудом передвигал ноги; адвокат шел рядом маленькими шажками, слегка склонившись к старику, и в каждом его движении сквозила забота. Следователь не покидал своего наблюдательного пункта, пока они не исчезли из виду за поворотом галереи. После этого с глубоким вздохом вернулся за стол. «Как бы то ни было, – подумал он, – я содействовал счастью одного человека. Не так уж безнадежно плох этот день».
Но предаваться раздумьям было некогда, часы летели. Ему хотелось как можно скорее допросить Альбера, а кроме того, следовало выслушать показания нескольких слуг из особняка Коммаренов и доклад комиссара полиции, производившего арест.
Слуги, уже давно ждавшие своей очереди, были без промедления введены, один за другим, в кабинет. Им было почти нечего сказать, однако каждое свидетельство добавляло новые улики. Нетрудно было понять, что все верили в виновность хозяина. Поведение Альбера с начала этой роковой недели, малейшее его слово, самый незначительный жест – все было отмечено, растолковано и истолковано. Человек, живущий в окружении тридцати слуг, – это все равно что насекомое в стеклянной банке под лупой натуралиста. Ни один его шаг не ускользнет от наблюдения, ему едва ли удастся сохранить что-либо в секрете, а если и удастся, то все равно окружающие будут знать, что у него есть какой-то секрет. С утра до вечера он остается мишенью для тридцати пар глаз, жадно следящих за мельчайшими движениями его лица.
Итак, следователь в изобилии получил те мелкие подробности, которые на первый взгляд кажутся незначительными, но самая пустячная из которых в судебном заседании может вдруг обернуться вопросом жизни и смерти. Комбинируя, сравнивая и сопоставляя показания, г-н Дабюрон проследил жизнь подозреваемого час за часом, начиная с воскресного утра.
Итак, утром, едва Ноэль ушел, виконт позвонил и отдал распоряжение отвечать всем без различия посетителям, что он отбыл в деревню. С этой минуты весь дом заметил, что хозяину, как говорится, не по себе: не то он не в духе, не то захворал. Днем он не выходил из библиотеки и приказал подать обед туда. За обедом съел только овощной суп да кусочек камбалы в белом вине. За едой сказал дворецкому: «Велите повару в другой раз положить побольше пряностей в этот соус». Потом бросил как бы в сторону: «Впрочем, к чему это?» Вечером отпустил всех собственных слуг, сказав им: «Сходите куда-нибудь, развлекитесь!» Категорически запретил входить к нему в покои, если только он не позвонит.
На другой день, в понедельник, он встал лишь в полдень, хотя обыкновенно поднимался очень рано. Жаловался на сильнейшую головную боль и тошноту. Все же выпил чашку чая. Велел подать карету, но тут же отменил свое распоряжение. Любен, его камердинер, слышал, как хозяин сказал: «Сколько можно колебаться!» – а несколько мгновений спустя: «Пора с этим покончить». Затем виконт сел писать.
Любену было поручено отнести письмо мадемуазель Клер д’Арланж и отдать либо ей в собственные руки, либо ее наставнице мадемуазель Шмидт. Второе письмо вместе с двумя тысячефранковыми купюрами было передано Жозефу для доставки в клуб. Имени получателя Жозеф не запомнил, никакими титулами оно не сопровождалось.
Вечером Альбер ел только суп и закрылся у себя.
Во вторник рано утром он был уже на ногах. Бродил по особняку как неприкаянный, словно с нетерпением чего-то ожидая. Затем вышел в сад, и садовник спросил, как разбивать газон. Виконт ответил: «Спросите у господина графа, когда он вернется». Позавтракал он так же, как накануне.
Около часу дня он спустился в конюшни и с удрученным видом приласкал свою любимую кобылу Норму. Гладя ее, произнес: «Бедное животное! Бедная моя старушка!» В три часа явился посыльный с номерной бляхой, принес письмо. Виконт схватил это письмо, торопливо развернул. Он стоял около цветника. Два лакея явственно слышали, как он произнес: «Она не откажет мне». Затем он вернулся в дом и сжег письмо в большом камине в вестибюле.
В шесть часов, когда он садился обедать, двое его друзей, г-н де Куртивуа и маркиз де Шузе, прорвались к нему вопреки запрету принимать кого бы то ни было. Судя по всему, это его крайне раздосадовало. Друзья хотели во что бы то ни стало увезти его поразвлечься, но он отказался, сославшись на то, что у него назначено свидание по весьма важному делу. Пообедал он несколько плотнее, чем в предыдущие дни. Даже потребовал бутылку шато-лафита и всю выпил. За кофе он выкурил в столовой сигару, что было вопиющим нарушением правил, заведенных в особняке.
В половине восьмого, если верить Жозефу и двум лакеям, или в восемь, как утверждали швейцар и Любен, виконт вышел из дому пешком, прихватив с собой зонтик. Вернулся он в два часа ночи и отослал камердинера, который в соответствии со своими обязанностями дожидался хозяина.
Войдя в среду в комнаты виконта, лакей был поражен состоянием хозяйской одежды. Она была мокрая и перепачкана в земле, брюки разорваны. Он позволил себе что-то заметить по этому поводу, и Альбер отрезал: «Бросьте это тряпье в угол, возьмете, когда вам скажут». В этот день, казалось, он чувствовал себя лучше. Завтракал с аппетитом, и дворецкий нашел, что он повеселел. Днем виконт не выходил из библиотеки, жег там какие-то бумаги.
В четверг ему, похоже, опять сильно нездоровилось. Он с трудом поехал встречать графа. Вечером, после объяснения с отцом, Альбер вернулся к себе в самом плачевном состоянии. Любен хотел сбегать за врачом, но хозяин запретил ему не только звать врача, но и говорить кому бы то ни было о его недомогании.
Таково было краткое содержание двадцати страниц, которые исписал долговязый протоколист, ни разу не подняв головы, чтобы взглянуть на сменявших друг друга ливрейных свидетелей. Г-ну Дабюрону удалось собрать все эти показания менее чем за два часа. Все слуги, хотя и отдавали себе отчет в важности своих показаний, тем не менее были крайне болтливы и многословны. Остановить их было нелегким делом. И все-таки из того, что они наговорили, бесспорно следовало, что Альбер был очень хорошим хозяином, в меру требовательным и добрым. Но странное дело, из всех опрошенных от силы трое, судя по всему, не обрадовались страшному несчастью, постигшему хозяев. По-настоящему опечалились двое. Г-н Любен, пользовавшийся особым благоволением виконта, к числу их явно не относился.
Настал черед комиссара полиции. В нескольких словах он дал отчет об аресте, о котором уже рассказал папаша Табаре. Не забыл комиссар отметить и восклицание «Я погиб!», вырвавшееся у Альбера; с его точки зрения, оно было равносильно признанию. Затем он перечислил все вещественные доказательства, изъятые у виконта де Коммарена. Судебный следователь внимательно осмотрел эти предметы, тщательно сравнивая с уликами, привезенными из Ла-Жоншер. По-видимому, результаты осмотра обрадовали его больше всего. Он своими руками разложил их на письменном столе и прикрыл сверху несколькими большими листами бумаги, какой оклеивают папки для судебных дел.
Время бежало, но до темноты г-н Дабюрон еще успевал допросить обвиняемого. Да и с какой стати откладывать? В руках у него более чем достаточно доказательств, чтобы отправить под суд, а оттуда прямиком на площадь Рокетт[97] десяток человек. В предстоящей борьбе он будет располагать столь сокрушительным оружием, что Альберу, если только он не сошел с ума, нечего и думать о защите. И все же в этот час своего торжества следователь чувствовал, что силы его иссякли. Быть может, ослабела воля? Или изменила обычная решительность?
Совершенно случайно он вспомнил, что ничего не ел со вчерашнего дня, и срочно послал за бутылкой вина и бисквитами. По правде сказать, ему нужно было не столько подкрепиться, сколько собраться с духом. И пока он отхлебывал из бокала, в мозгу у него сложилась странная фраза: «Сейчас я предстану перед виконтом де Коммареном». В другое время он посмеялся бы над подобным вывертом мысли, но сейчас в этих словах увидел волю провидения.
– Что ж, – решил он, – это будет мне карой.
И, не оставляя себе времени на раздумья, распорядился, чтобы к нему привели Альбера.
X
Альбер, можно сказать, мгновенно перенесся из особняка Коммаренов в одиночную камеру тюрьмы. Грубый голос комиссара, возгласившего: «Именем закона вы арестованы», – вырвал его из тягостных сновидений, и теперь потрясенному рассудку Альбера требовалось время, чтобы обрести равновесие. Все события, последовавшие за арестом, представлялись ему неясными, подернутыми густым туманом, словно сцены сновидений, которые в театре играют за занавесом из четырех слоев газа. Ему задавали вопросы, он отвечал, не слыша собственных слов. Потом двое полицейских свели его, поддерживая под руки, вниз по лестнице. Сам бы он не смог сойти: ноги у него стали как ватные и подгибались. Голос слуги, оповестившего об апоплексическом ударе, случившемся с графом, – вот единственное, что поразило его тогда. Но и об этом Альбер тоже забыл. Его буквально втащили в полицейскую карету, стоявшую во дворе у самого крыльца, и посадили на заднюю скамейку. Двое полицейских сели на переднюю, третий – на козлы рядом с кучером. По пути Альбер так и не осознал происходящего. Он трясся на грязном, засаленном сиденье кареты, как куль. Старые скверные рессоры почти не смягчали толчков, и на каждом ухабе Альбера швыряло из стороны в сторону, а голова моталась так, словно у него порвались шейные мышцы. Альбер вспоминал вдову Леруж. Мысленным взором он видел ее такой, какой она была, когда он с отцом приезжал в Ла-Жоншер. Дело было весной, цвел боярышник. Пожилая женщина в белом чепце стояла у садовой калитки и с искательным выражением лица что-то говорила. Граф хмуро выслушал, потом вынул из кошелька несколько золотых и протянул ей.
Из кареты Альбера вынесли чуть ли не на руках. Пока в мрачной и смрадной тюремной канцелярии исполнялись формальности, связанные с записью в книгу арестованных, Альбер механически отвечал на вопросы, а сам с нежностью думал о Клер. Он вспоминал время, когда только-только влюбился и еще не знал, суждено ли ему счастье разделенного чувства. Встречались они у мадемуазель де Гоэлло. У этой старой девы был известный всему левому берегу желтый салон, производящий самое несуразное впечатление. На мебели и даже на камине возлежала в разнообразных позах дюжина, если не полтора десятка собак всевозможных пород, вместе либо поочередно скрашивавших своей хозяйке путь через пустыню безбрачия. Она любила рассказывать об этих своих верных друзьях, об их неизменной преданности. Альберу все они казались нелепыми и даже уродливыми. Особенно один пес, кудлатый и безобразно толстый, который, казалось, вот-вот лопнет. Сколько раз, глядя на него, они с Клер смеялись чуть не до слез.
В этот миг его стали обыскивать. Подвергшись этому последнему унижению, чувствуя, как по его телу шарят чужие грубые руки, Альбер стал приходить в себя, в нем шевельнулся гнев. Однако с формальностями уже было покончено, и его повели по темным коридорам с грязными и скользкими каменными полами. Открылась какая-то дверь, его втолкнули в камеру. Он услыхал за спиной лязг засова и скрежет замка. Теперь он был арестант, притом содержащийся на основании особого распоряжения в одиночной камере.
Первым его чувством было облегчение. Он остался один. Больше он не услышит шушуканья, злых голосов, назойливых вопросов. Его объяла тишина, подобная безмолвию небытия. Казалось, что отныне и навсегда он отделен от людей, и это было приятно. Тело его испытывало ту же невыносимую усталость, что и мозг. Альбер поискал взглядом, куда бы сесть, и справа, напротив зарешеченного окошка с нависающим над ним козырьком, обнаружил узкую койку. Он обрадовался ей, наверно, так же, как утопающий радуется спасительной доске. Альбер с наслаждением растянулся на ней. Укрывшись грубым шерстяным одеялом, он уснул тяжелым, свинцовым сном. В коридоре два полицейских, один совсем еще молодой, а второй уже с сединою, попеременно приникали то глазом, то ухом к глазку в двери. Они подслушивали и подглядывали за арестантом, следили за каждым его движением.
– Господи, экая тряпка этот новенький! – пробормотал молодой. – Коль у тебя нервы слабые, оставайся лучше честным человеком. Уж этот-то, небось, не станет изображать гордеца, когда его утром поведут брить голову. Верно я говорю, господин Балан?
– Как знать, – задумчиво отвечал старый полицейский. – Поглядим. Лекок мне сказал, что это крепкий малый.
– Гляди-ка! Никак укладывается! Он что, спать собрался? В первый раз такое вижу.
– Это потому, что до сих пор вы имели дело с мелкими жуликами, друг мой. Все знатные прохвосты – а у меня в руках, слава богу, побывало их много – ведут себя точно так же. Сразу после ареста – спокойной ночи, никого нет, и сердце у них успокаивается. Вот они и спят до следующего дня.
– А ведь и вправду заснул! Да он и впрямь злодей!
– Нет, дружище, это вполне естественно, – наставительно заметил старик. – Я убежден, что, совершив преступление, этот парень потерял покой, его все время точил страх. Теперь он знает, что его игра сыграна, и потому спокоен.
– Ну, вы шутник, господин Балан! Ничего себе спокойствие!
– А как же! Самая страшная казнь – это мучиться беспокойством, хуже этого ничего нет. Будь у вас хотя бы тысяч десять ренты, я указал бы вам способ проверить правоту моих слов. Я сказал бы вам: «Езжайте в Хомбург и поставьте разом все свое состояние на красное или черное». А потом вы рассказали бы мне, что испытывали, пока катился шарик. Это, знаете, все равно как если тебе раскаленными щипцами вытащили спинной мозг, а вместо него в позвоночник льют расплавленный свинец. Такая мука, что, даже когда все проигрываешь, чувствуешь облегчение и радостно вздыхаешь. Говоришь себе: «Фу, слава Богу, кончилось!» Ты разорен, проигрался, остался без гроша, но зато все уже позади.
– Можно подумать, господин Балан, что вы прошли через это.
– Увы! – вздохнул старый надзиратель. – Тому, что я составляю вам компанию у этого глазка, вы обязаны моей любви к даме пик, несчастной любви. Однако наш подопечный проспит часа два. Не спускайте с него глаз, а я пойду во двор покурю.
Альбер проспал четыре часа. Когда же проснулся, голова у него прояснилась – такой она не была ни разу после встречи с Ноэлем. Это были ужасные минуты: он впервые смог трезво представить себе свое положение.
– Сейчас главное, – прошептал он, – не падать духом.
Ему страшно захотелось увидеть кого-нибудь, поговорить. Пусть его допросят, он все объяснит. Он даже решил постучать в дверь, но потом подумал: «Не стоит. Когда надо будет, за мной придут». Альбер хотел посмотреть, который час, но обнаружил, что у него отобрали часы. Эта мелочь особенно его задела. Значит, к нему относятся как к последнему преступнику. Он полез в карманы, но они были пусты. Тут он представил себе, в каком он виде, и, сев на койку, привел в порядок одежду. Почистил ее от пыли, поправил пристежной воротничок, с грехом пополам перевязал галстук. Потом смочил водой уголок носового платка, протер лицо и промокнул глаза: к векам было больно прикасаться. Попытался пригладить волосы и придать бороде обычную форму. Альбер и не подозревал, что находится под неусыпным надзором.
– Ну вот, наш петушок проснулся и чистит перышки, – пробормотал молодой надзиратель.
– Я же говорил, – заметил г-н Балан, – что он был просто пришиблен. Тс-с! Кажется, что-то говорит…
Однако они не заметили отчаянных жестов, не услышали бессвязных слов, что невольно вырываются у людей слабых, охваченных страхом, или у неосторожных, полагающихся на уединенность одиночной камеры. Только однажды до слуха обоих шпионов долетело произнесенное Альбером слово «честь».
– Поначалу у всех прохвостов из высшего общества это слово не сходит с языка, – шепотом пояснил г-н Балан. – Больше всего их беспокоит мнение десятка знакомых и сотен тысяч тех, кто читает «Судебную газету». О своей голове они начинают думать после.
Когда пришли жандармы, чтобы препроводить Альбера к следователю, он сидел на краешке койки, опершись ногами на решетку, а локтями на колени и спрятав лицо в ладони. Чуть только открылась дверь, он встал и двинулся им навстречу. Однако горло у него пересохло, и он понял, что не сможет произнести ни слова. Он попросил повременить секунду, подошел к столику и выпил подряд две кружки воды.
– Я готов! – заявил он, поставив кружку на стол, и твердым шагом пошел в сопровождении жандармов по длинному переходу, ведущему во Дворец правосудия.
У г-на Дабюрона на душе было скверно. Ожидая подследственного, он метался по кабинету. В который раз за утро он сожалел, что позволил втянуть себя в это дело.
«Будь проклято нелепое тщеславие, которому я поддался! – думал он. – Какую же я сделал глупость, когда сам себя убедил софизмами и даже не попробовал их опровергнуть! Ничто на свете не может изменить моего отношения к этому человеку. Я ненавижу его. Я – его следователь, но ведь это его я хотел убить. Я почти держал его на мушке – почему же не нажал на спуск? Не знаю. Какая сила удержала мой палец, когда достаточно было едва ощутимого усилия, чтобы раздался выстрел? Не могу сказать. Что было нужно для того, чтобы он оказался следователем, а я убийцей? Если бы намерение каралось так же, как исполнение, мне должны были отрубить голову. И я еще смею его допрашивать!»
Подойдя к двери, г-н Дабюрон услышал на галерее тяжелую поступь жандармов.
– Ну вот! – громко произнес он и, поспешно усевшись в кресло за стол, склонился над папками, словно пытаясь спрятаться.
Если бы долговязый протоколист был наблюдательней, он мог бы насладиться необычайным зрелищем: следователь волнуется больше, чем обвиняемый. Но он был слеп и в ту минуту думал только о погрешности в пятнадцать сантимов, которая вкралась в его счета и которую он никак не мог обнаружить.
В кабинет следователя Альбер вошел с высоко поднятой головой. Лицо его носило следы сильной усталости и долгой бессонницы, оно побледнело, но глаза были ясны и чисты.
Формальные вопросы, с которых начинается любой допрос, дали г-ну Дабюрону возможность собраться с духом. К счастью, утром он выкроил часок, чтобы обдумать план допроса, и теперь оставалось только следовать этому плану.
– Вам известно, сударь, – с отменной учтивостью спросил он, – что вы не имеете права на фамилию, которую носите?
– Да, я знаю, что я побочный сын господина де Коммарена, – отвечал Альбер. – Более того, мне известно, что мой отец не мог бы признать меня, даже если бы захотел, так как я родился, когда он состоял в браке.
– Каковы же были ваши чувства, когда вы об этом узнали?
– Я солгал бы вам, сударь, если бы заявил, что не испытал безмерного огорчения. Когда стоишь так высоко, падение ужасно и очень болезненно. Но ни на единый миг у меня не возникло мысли оспаривать права господина Ноэля Жерди. Я принял решение уступить ему и так и заявил господину де Коммарену.
Г-н Дабюрон ждал такого ответа, и он ничуть не поколебал его подозрений. Уж не является ли он частью подготовленной системы защиты? Теперь нужно найти способ разрушить эту защиту, а не то обвиняемый замкнется в ней, как в раковине.
– Вы и не могли ничего сделать, не могли помешать признанию господина Жерди, – заметил следователь. – На вашей стороне оказались бы граф и ваша мать, но у господина Жерди имелась свидетельница вдова Леруж, против которой вы были бессильны.
– Я ничуть в этом не сомневался, сударь.
– Ну что ж, – протянул следователь, пытаясь стереть с лица выражение настороженного внимания. – У правосудия есть причины предполагать, что вы с целью уничтожения единственного существующего доказательства убили вдову Леруж.
Страшное обвинение, да еще так грозно произнесенное, ничуть не смутило Альбера. Он держался с той же уверенностью, и ни одной складки не прибавилось у него на лбу.
– Господом и всем самым святым на свете клянусь вам, сударь, что я невиновен! – промолвил он. – Я теперь арестант, сижу в одиночке и лишен возможности общаться с людьми, то есть совершенно беспомощен, и надеюсь лишь на то, что ваша беспристрастность поможет мне очиститься от подозрений.
«Экий актер! – подумал г-н Дабюрон. – До чего упорно стоит на своем!» Он стал просматривать дело, перечитывая отдельные предыдущие показания и загибая уголки листов, на которых содержались нужные ему сведения. Внезапно он задал вопрос:
– Когда вас арестовывали, вы воскликнули: «Я погиб!» Что вы имели в виду?
– Помнится, сударь, я действительно произнес эти слова, – отвечал Альбер. – Услышав, в каком преступлении меня обвиняют, я был потрясен и, словно при вспышке молнии, увидел, что меня ждет. За долю секунды я постиг, какая опасность надо мной нависла, понял, насколько серьезно и правдоподобно обвинение и как трудно мне будет защищаться. В ушах у меня прозвучало: «Кто же еще заинтересован в смерти Клодины?» И это восклицание вырвалось у меня, оттого что я осознал, сколь неотвратима угроза.
Объяснение было вполне вероятное, возможное и даже правдоподобное. У него было еще то преимущество, что, отталкиваясь от него, можно было перейти к вопросу настолько естественному, что он давно сформулирован в форме правила: «Ищи, кому выгодно преступление». Табаре предвидел, что обвиняемого не так-то просто будет захватить врасплох. Г-н Дабюрон восхитился присутствием духа и изобретательностью испорченного ума Альбера.
– Да, действительно, – заметил г-н Дабюрон, – по всей видимости, вы более, чем кто-либо, заинтересованы в смерти этой женщины. К тому же мы уверены, понимаете, совершенно уверены, что убийство было совершено отнюдь не с целью грабежа. Найдены все вещи, брошенные в Сену. Нам известно также, что в доме были сожжены все бумаги. Компрометируют ли они кого-нибудь, кроме вас? Если вам известно такое лицо, назовите его.
– Сударь, я никого не могу вам назвать.
– Вы часто бывали у этой женщины?
– Раза три-четыре вместе с отцом.
– А один из ваших кучеров утверждает, что возил вас туда по меньшей мере раз десять.
– Он ошибается. Впрочем, какое имеет значение число поездок?
– Вам было известно расположение комнат? Вы помните его?
– Прекрасно. В доме две комнаты, Клодина спала во второй.
– Само собой разумеется, вдова Леруж вас знала. Если бы вы вечером постучались к ней в окно, как думаете, она открыла бы вам?
– Разумеется, сударь, и без промедления.
– Последние дни вы были больны?
– Во всяком случае, чувствовал себя очень нехорошо. Под бременем испытаний, слишком тяжелых для меня, телесные мои силы ослабли. Но не душевные.
– Почему вы запретили своему камердинеру Любену сходить за врачом?
– Сударь, а чем бы врач помог моей беде? Разве вся его ученость в силах превратить меня в законного сына господина де Коммарена?
– Люди слышали, как вы вели какие-то странные речи. Создавалось впечатление, будто в доме вас больше ничто не интересует. Вы уничтожали бумаги, письма.
– Сударь, я решил покинуть этот дом, и мое решение должно вам все объяснить.
На вопросы следователя Альбер отвечал быстро, уверенно, без малейшего замешательства. Его приятный голос ни разу не дрогнул, в нем не было и тени волнения. Г-н Дабюрон решил, что разумней будет изменить тактику допроса. Имея столь сильного противника, он выбрал явно неверный путь. Неразумно заниматься мелкими частностями: этого обвиняемого не запугаешь и не запутаешь с их помощью. Надо нанести сильный удар.
– Сударь, расскажите, пожалуйста, как можно точнее и подробнее, – неожиданно попросил следователь, – что вы делали во вторник с шести вечера до полуночи.
Альбер, похоже, впервые смешался. До сих пор он смотрел на следователя, но сейчас отвел взгляд.
– Как я провел вторник?… – повторил он, словно пытаясь выиграть время.
«Попался!» – вздрогнув от радости, подумал г-н Дабюрон и подтвердил:
– Да, с шести вечера до полуночи.
– Должен признаться, сударь, мне трудно ответить на ваш вопрос, – проговорил Альбер. – Я не уверен, что помню…
– Быть не может! – запротестовал следователь. – Я понял бы вашу неуверенность, если бы попросил вас сказать, что вы делали в такой-то вечер и такой-то час три месяца назад. Но речь-то идет о вторнике, а сегодня у нас пятница. Тем более это был последний день карнавала. Может быть, это обстоятельство поможет вашей памяти?
– Я выходил в тот вечер, – пробормотал Альбер.
– Давайте уточним. Где вы обедали?
– Дома, как обычно.
– Ну, не совсем как обычно. Под конец обеда вы попросили принести бутылку шато-лафита и всю ее выпили. Очевидно, для исполнения ваших планов вам необходимо было придать себе решимости.
– У меня не было никаких планов, – явно неуверенно ответил обвиняемый.
– Ошибаетесь. К вам перед самым обедом зашли двое ваших друзей, и вы им сказали, что у вас неотложное свидание.
– То была всего лишь вежливая отговорка, позволившая мне не пойти с ними.
– Почему?
– Неужели вы не понимаете, сударь? Я смирился, но не утешился. Я пытался свыкнуться с этим жестоким ударом. Разве при сильных потрясениях человеку не свойственно искать одиночества?
– Следствие подозревает, что вы хотели остаться один, чтобы поехать в Ла-Жоншер. Днем вы произнесли: «Она не сможет отказать». О ком вы говорили?
– Об особе, которой я накануне писал и которая прислала мне ответ. Очевидно, я произнес это, держа письмо, которое мне только что вручили.
– Письмо было от женщины?
– Да.
– И что вы с ним сделали?
– Сжег.
– Эта предосторожность вынуждает предположить, что письмо было компрометирующим.
– Ни в коей мере, сударь. Оно было личным.
Г-н Дабюрон был уверен, что письмо это пришло от мадемуазель д’Арланж. Так что же делать: уцепиться за него и заставить обвиняемого произнести имя Клер? Г-н Дабюрон решился и, наклонясь к столу, чтобы Альберу не видно было его лица, задал вопрос:
– От кого было письмо?
– От особы, имя которой я не назову.
– Сударь, – строго сказал следователь, – не стану скрывать, что положение ваше крайне скверное. Не ухудшайте же его преступным умолчанием. Вы здесь для того, чтобы отвечать на все вопросы.
– О делах моих, но не о касающихся других лиц, – сухо ответил Альбер.
Он был оглушен, ошеломлен, обессилен стремительным и все усиливающимся темпом допроса, не дававшим ему возможности перевести дыхание. Вопросы следователя падали один за другим, словно удары молота на раскаленное железо, которому кузнец торопится придать форму.
Возмущение, проскользнувшее в голосе обвиняемого, серьезно обеспокоило г-на Дабюрона. К тому же он был крайне изумлен тем, что не подтверждается предсказание папаши Табаре, которому он верил, как оракулу. Табаре предсказал, что будет предъявлено неопровержимое алиби, а обвиняемый все не выкладывает его. Почему? Неужели у него есть что-то получше? Что он прячет за пазухой? Надо полагать, у него в запасе какой-то непредсказуемый ход, возможно, даже неотразимый. «Спокойней, я его еще не прижал по-настоящему», – подумал следователь и сказал:
– Ладно, продолжим. Что вы делали после обеда?
– Вышел.
– Ну, не сразу. Выпив бутылку вина, вы сидели в столовой и курили, и, поскольку это было необычно, на это обратили внимание. Какой сорт сигар вы обычно курите?
– «Трабукос».
– И при курении пользуетесь мундштуком?
– Да, – отвечал Альбер, удивленный этой серией вопросов.
– В котором часу вы вышли?
– Около восьми.
– Зонтик с собой взяли?
– Да.
– И куда направились?
– Я гулял.
– Один, без всякой цели, весь вечер?
– Да.
– Тогда опишите мне ваш точный маршрут.
– К сожалению, сударь, это будет весьма затруднительно. Я вышел, чтобы выйти, чтобы пройтись, чтобы вырваться из оцепенения, в котором пребывал последние три дня. Не знаю, вполне ли вы представляете мое состояние, но я потерял голову. Я шел, куда несут ноги, – бродил по набережным, по каким-то улицам…
– Всё это крайне неправдоподобно, – прервал его следователь.
Однако г-ну Дабюрону полагалось бы помнить, что это правдоподобно и даже очень. Разве он сам не пробродил, как безумный, целую ночь по Парижу? Что бы он ответил, если бы утром его спросили: «Где вы ходили?» «Не знаю», – потому что и вправду не знал. Но он забыл, а страхи, мучавшие его в самом начале, испарились. Начался допрос, и его охватила лихорадка поисков, увлекло волнение борьбы, обуял профессиональный азарт. Г-н Дабюрон вновь превратился в судебного следователя. Вот так фехтмейстер, взявшийся поупражняться с лучшим другом, упивается звоном стали, распаляется, забывает обо всем и убивает его.
– Значит, вы не встретили никого, кто мог бы прийти сюда и подтвердить, что видел вас? Ни с кем не разговаривали? Никуда не заходили – ни в кафе, ни в театр, ни даже в табачную лавку, чтобы закурить сигару?
– Нет, я никуда не заходил.
– Что ж, сударь, это крайне прискорбно для вас, я сказал бы, безмерно прискорбно, потому что вынужден вам сообщить: именно во вторник между восемью вечера и полуночью была убита вдова Леруж. Поэтому, сударь, я еще раз, в ваших же интересах, прошу вас подумать, напрячь память.
Услышав про день и время убийства, Альбер, казалось, был потрясен. Жестом отчаяния он поднес руку ко лбу и тем не менее недрогнувшим голосом произнес:
– Мне очень жаль, сударь, но я ничего не могу вспомнить.
Следователь был безмерно удивлен. Как! Неужели у него нет алиби? Нет, никакая это не уловка и даже не система защиты. Да впрямь ли уж так силен этот человек? Нет, разумеется. Просто-напросто его захватили врасплох. Он даже не думал, что до него доберутся. Правда, для этого понадобилось едва ли не чудо. Г-н Дабюрон неторопливо снял большие листы бумаги, прикрывавшие изъятые у Альбера вещественные доказательства.
– А теперь перейдем к рассмотрению обвинений, выдвинутых против вас. Подойдите, пожалуйста, сюда. Вы узнаете принадлежащие вам вещи?
– Да, сударь, это все мои вещи.
– Прекрасно. Начнем с рапиры. Кто ее сломал?
– Я, когда фехтовал с господином Куртивуа. Он может это засвидетельствовать.
– Его допросят. А куда делся отломанный конец?
– Не знаю. Об этом следовало бы спросить моего камердинера Любена.
– Совершенно верно. Он заявил, что искал его, но не нашел. Хочу вам заметить, что жертва была заколота заточенным обломком рапиры, с которой сняли предохранительный наконечник. Доказательством тому – вот этот кусок ткани, которым убийца вытер оружие.
– Я прошу вас, сударь, распорядиться, чтобы как следует поискали. Не может быть, чтобы обломок рапиры не нашли.
– Хорошо, я дам распоряжение. На этом листе точный отпечаток следа убийцы. Я накладываю на него один из ваших ботинок, и, как сами видите, его подошва точно совпадает с отпечатком. Этот гипс – отливка следа, оставленного каблуком убийцы. Прошу заметить, он в точности похож на каблук вашего ботинка. Более того, и тут и тут в одном и том же месте выступает сапожный гвоздь.
Альбер внимательнейшим образом наблюдал за всеми действиями следователя. Было заметно, что он пытается превозмочь растущий страх. Может быть, он подавлен ужасом, охватывающим преступников, когда они видят, что изобличены? На все замечания следователя он хрипло отвечал:
– Верно, совершенно верно.
– Именно так, и все же потерпите еще немного, – продолжал г-н Дабюрон. – У преступника был зонтик. Конец зонтика отпечатался на влажной глинистой почве. Деревянное кольцо, которым закреплена ткань, снаружи полое. Перед вами кусок глины, с величайшими предосторожностями взятый на месте преступления, а вот ваш зонтик. Сравните форму колец. Похожи они или нет?
– Сударь, – попытался возразить Альбер, – но ведь эти вещи производятся в огромных количествах.
– Хорошо, оставим эту улику. Взгляните на окурок сигары, обнаруженный на месте преступления, и ответьте, какой это сорт и как ее курили.
– «Трабукос», и курили ее с мундштуком.
– Как эти, не так ли? – заметил следователь, указывая на сигары и мундштуки из янтаря и морской пенки, которые были обнаружены в библиотеке на камине.
– Да, – пробормотал Альбер. – Странное, ужасное совпадение!
– Подождите, это еще не все. На убийце вдовы Леруж были перчатки. В агонии жертва цеплялась за руки преступника, и под ногтями у нее остались кусочки кожи. Их оттуда извлекли, и можете удостовериться: они жемчужно-серого цвета. А это вот перчатки, которые вы надевали вечером во вторник. Они тоже серые и поцарапаны. Сравните эти лоскутки кожи со своими перчатками. Тот же цвет, та же кожа, не так ли?
Да, тут невозможно было ни отрицать, ни изворачиваться, ни придумывать отговорки. Это был факт, и очевидность его бросалась в глаза. Г-н Дабюрон, делая вид, будто занят исключительно лежащими на столе уликами, не выпускал из поля зрения обвиняемого. Альбер был в ужасе. Пот выступил у него на лбу и медленно стекал по щекам. А руки так дрожали, что не слушались. Сдавленным голосом он повторял:
– Чудовищно! Чудовищно!
– И наконец, – не останавливался неумолимый следователь, – вот брюки, которые были на вас в вечер убийства. По ним видно, что они промокли, и на них есть не только пятна грязи, но и следы земли. Вот, видите. Более того, на колене они разодраны. В крайнем случае я могу на минуту поверить вам, что вы не помните, где гуляли. Но как прикажете понимать ваше утверждение, будто вы не знаете, где порвали брюки и поцарапали перчатки?
Такому натиску невозможно было противиться. Твердость и стойкость обвиняемого были почти исчерпаны. Силы оставили его. Он рухнул на стул, шепча:
– Я схожу с ума!
– Вы признаете, что вдова Леруж не могла быть убита никем иным, кроме вас? – задал вопрос следователь, впившись взглядом в Альбера.
– Я признаю, – отвечал тот, – что стал жертвой одного из тех страшных совпадений, которые заставляют усомниться в собственном рассудке. Но я невиновен.
– Тогда ответьте, где вы провели вечер вторника?
– Но для этого, сударь, придется… – воскликнул обвиняемый, однако, спохватившись, упавшим голосом закончил: – Все, что мог, я уже сказал.
Г-н Дабюрон встал. Настала пора для решительного удара.
– В таком случае я позволю себе освежить вашу память, – начал он с едва заметной иронией. – Напомню вам, что вы делали. Во вторник в восемь вечера, после того как выпитое вино придало вам решимости, вы вышли из особняка. В восемь тридцать пять на вокзале Сен-Лазар сели в поезд, а в десять вышли на вокзале в Рюэйле…
И г-н Дабюрон, без зазрения совести присвоив мысли папаши Табаре, почти слово в слово повторил все то, что прошлой ночью наговорил в порыве вдохновения старик сыщик. Да, он имел все основания восхищаться проницательностью папаши Табаре. Еще ни разу в жизни красноречие г-на Дабюрона не производило такого потрясающего воздействия. Каждое слово, каждая фраза били в цель. И без того уже поколебленная уверенность обвиняемого рушилась, подобно стене, которую непрестанно бомбардируют ядрами. Альбер был похож – и г-н Дабюрон это видел – на человека, который, скатываясь в пропасть, понимает: ничто – ни ветки, ни камни – не способно замедлить его падение, и все препятствия и неровности, с которыми он сталкивается, лишь причиняют ему лишнюю боль.
– А теперь, – заключил следователь, – позвольте дать вам разумный совет. Не упорствуйте и не пытайтесь отрицать то, что отрицать невозможно. Поймите: все, что необходимо знать правосудию, оно знает. Так что постарайтесь признанием заслужить снисхождение у суда.
Г-ну Дабюрону и в голову не приходило, что обвиняемый решится упорствовать. Он уже мысленно видел, как тот, раздавленный, уничтоженный, валяется у него в ногах, умоляя о милосердии. Однако г-н Дабюрон ошибся. Сколь ни безмерно, казалось, был подавлен Альбер, он собрал всю свою волю и нашел в себе достаточно силы, чтобы выпрямиться и решительно ответить печальным и в то же время твердым голосом:
– Вы правы, сударь. Все доказывает мою виновность. На вашем месте я говорил бы то же, что вы. И тем не менее клянусь вам: я невиновен.
– Но послушайте… – начал было следователь.
– Я невиновен, – перебил Альбер. – Повторяю это без всякой надежды хоть в чем-то поколебать вашу уверенность. Да, все свидетельствует против меня, все, вплоть до моего поведения здесь. Да, перед такими невероятными, странными, страшными совпадениями я дрогнул духом. Я подавлен, потому что не в силах доказать свою невиновность. Но я не отчаиваюсь. Мои жизнь и честь в руке Божией. И хоть сейчас вы убеждены, что я погиб, все равно, сударь, я верю и не отвергаю возможности оправдания. Более того, я жду и надеюсь.
– Что вы хотите этим сказать? – поинтересовался следователь.
– Только то, что сказал.
– Итак, вы упорно все отрицаете?
– Я невиновен.
– Но это же безумие!
– Я невиновен.
– Ну, хорошо, – сказал г-н Дабюрон, – на сегодня достаточно. Сейчас вам прочтут протокол, а затем отведут в камеру. Предлагаю вам подумать. Может быть, ночью вы все-таки решитесь раскаяться. Если у вас появится желание побеседовать со мной, в котором бы часу это ни было, скажите, чтобы меня позвали, и я приду. Я распоряжусь на этот счет. Читайте, Констан.
Когда жандармы увели Альбера, г-н Дабюрон пробормотал вполголоса:
– Ну и упрямый негодяй!
Само собой разумеется, у него не было и тени сомнения. Он верил, что Альбер – убийца, как если бы получил его признание. Даже если обвиняемый до конца следствия будет упорствовать и отрицать свою вину, на прекращение уголовного дела при имеющихся уликах нет ни малейшего шанса. Г-н Дабюрон был уверен, что доведет его до суда, и готов был поставить сто против одного, что присяжные на все вопросы ответят утвердительно.
Тем не менее, оставшись один, г-н Дабюрон не испытывал того внутреннего и, надо признать, тщеславного удовлетворения, какое у него бывало всякий раз после хорошо проведенного допроса, в результате которого он, как сегодня Альбера, прижимал «своего обвиняемого» к стенке. Внутри что-то грызло его и раздражало. В глубине души он ощущал непонятное беспокойство. Да, он победил, но победа принесла ему лишь чувство неловкости, уныния и недовольства собой. А еще больше испортила ему настроение мысль, настолько элементарная, что он просто не понимал, как она сразу не пришла ему в голову, и даже злился на себя за это.
«Что-то ведь подсказывало мне, – думал г-н Дабюрон, – что, если я соглашусь участвовать в этом деле, к добру это не приведет. И теперь я наказан за то, что не послушался внутреннего голоса. Нужно было уклониться. Виконт де Коммарен все равно был бы арестован, заключен в тюрьму, допрошен, уличен, предан суду и, вероятней всего, казнен. Но тогда я, непричастный к следствию, мог бы вновь оказаться возле Клер. Она будет в безмерном отчаянии. Оставшись ее другом, я мог бы сочувствовать ее горю, смешивать с ее слезами свои, смягчать ее скорбь. Со временем она утешилась бы, возможно, даже забыла. И уж конечно, испытывала бы ко мне признательность и даже… Кто знает!.. А теперь, что бы ни случилось, я буду внушать ей только ужас. Мой вид станет ей ненавистен. Я навсегда останусь для нее убийцей ее возлюбленного. Я собственными руками вырыл между ней и собой пропасть, которую не заполнить и за тысячелетие. Я потерял ее во второй раз по собственной неисправимой глупости».
Несчастный следователь клял себя, как только мог. Он был в отчаянии. И никогда еще он не испытывал такой ненависти к Альберу, этому негодяю, преступнику, закрывшему ему дорогу к счастью. И еще г-н Дабюрон на все лады проклинал папашу Табаре. Без настояний сыщика он бы не согласился так скоро. Он бы подождал, все обдумал и, несомненно, сумел предвидеть все те минусы, которые открылись ему сейчас. А этот старик, охваченный, как плохо выдрессированная ищейка, своей дурацкой страстью, увлек его, ошалевшего, обманутого, разгорячившегося, прямо в омут.
Именно этот не самый удачный момент папаша Табаре выбрал, чтобы появиться у следователя. Ему как раз сообщили, что допрос закончился, и вот он примчался, сгорая от нетерпения узнать, как все прошло, задыхаясь от любопытства и напряженного ожидания и в то же время лелея сладостную надежду на исполнение своих предсказаний.
– Ну, что он? – выпалил Табаре, не успев затворить дверь.
– Разумеется, виновен, – ответил следователь с несвойственной ему резкостью.
Папаша Табаре был озадачен тоном г-на Дабюрона. Он-то спешил сюда за похвалами! Поэтому он довольно робко и нерешительно предложил свои услуги:
– Я пришел узнать, нет ли у господина судебного следователя необходимости в каком-либо дополнительном расследовании, чтобы опровергнуть алиби, предъявленное обвиняемым?
– Нет у него алиби, – сухо отрезал г-н Дабюрон.
– Как! – воскликнул сыщик. – Нет алиби? – И тут же добавил: – Господи, какой я недогадливый! Вы сделали ему мат в три хода, и он во всем признался.
– Да нет же, ни в чем он не признался, – отвечал раздосадованный следователь. – Он согласился, что доказательства неопровержимы, не смог сказать, как провел тот вечер, но заявил, что невиновен.
Папаша Табаре, застывший с разинутым ртом и вытаращенными глазами посреди кабинета, являл собой настолько комичное зрелище, что это не могло не вызвать удивления. У бедняги буквально опустились руки.
Г-н Дабюрон, несмотря на раздражение, не удержался от улыбки, и даже Констан скорчил гримасу, которая у него соответствовала приступу безудержного хохота.
– Чтобы у этакого прохвоста и ни алиби, ни оправданий… – бормотал папаша Табаре. – Непостижимо! Не может быть! Нету алиби! Значит, мы ошиблись, значит, он не совершал преступления. Значит, это не он…
Судебный следователь подумал, что, должно быть, его добровольный помощник либо дожидался завершения допроса в кабачке на углу, либо у него что-то с головой.
– К сожалению, – сообщил он, – мы отнюдь не ошибаемся. Более чем определенно доказано, что господин де Коммарен – убийца. Впрочем, если вам это может доставить удовольствие, попросите у Констана протокол допроса и ознакомьтесь с ним, а я пока наведу хоть какой-то порядок в своих бумагах.
– Ну-ну, поглядим, – с какой-то лихорадочной поспешностью бросил папаша Табаре.
Он сел на место Констана и, опершись локтями на стол и запустив пальцы в волосы, буквально проглотил протокол. Закончив чтение, папаша Табаре поднялся растерянный, бледный, расстроенный.
– Сударь, – сдавленным голосом обратился он к судебному следователю, – я явился невольной причиной чудовищного несчастья. Этот человек невиновен.
– Ну, перестаньте, – бросил г-н Дабюрон, продолжая наводить на столе порядок перед уходом. – Вы просто сошли с ума, дорогой господин Табаре. Как после всего того, что вы прочитали, можно…
– Да, сударь, именно после того, что я прочитал, умоляю вас: остановитесь, иначе к горестному списку судебных ошибок мы прибавим еще одну. Перечитайте спокойно, с ясной головой этот протокол: в нем нет ни одного ответа, который не оправдывал бы беднягу, ни одного слова, которое не являлось бы лучом света. Он в тюрьме, в одиночке?
– И останется там, – отвечал следователь. – Как вы можете так говорить после всего, что рассказали мне прошлой ночью, когда я сомневался?
– Но, сударь, я же вам говорил то же самое! – вскричал сыщик. – Ах, несчастный Табаре! Все пропало, тебя не поняли! Простите, господин следователь, но, невзирая на все уважение, которое я обязан испытывать к вам как к чиновнику судебного ведомства, я заявляю: вы не постигли моего метода. А ведь он так прост! Имея преступление со всеми его обстоятельствами и деталями, я по кусочкам строю план обвинения и передаю его вам лишь тогда, когда он готов целиком и полностью. Если к некоему человеку этот план приложим в точности и во всех подробностях, преступник найден. Если нет, значит, арестован невинный. Недостаточно совпадения каких-то отдельных эпизодов. Нет – либо все, либо ничего. Это непреложное условие. Как я здесь добирался до преступника? Методом индукции – от известного к неизвестному. Я анализировал преступление и представил себе того, кто его совершил. Кто получился у нас в ходе логического рассуждения? Решительный, дерзкий и осторожный негодяй, хитрый, как каторжник. И вы полагаете, что такой человек забыл о предосторожностях, которыми не пренебрег бы даже мелкий воришка? Это неправдоподобно. Вы хотите, чтобы ловкач, оставивший настолько незаметные следы, что они ускользнули даже от наметанного глаза Жевроля, запросто обрек себя на провал, исчезнув на целую ночь! Нет, такого быть не может. Я верю в свою систему, как в таблицу умножения, потому что она подтверждается. У убийцы из Ла-Жоншер есть алиби. Альбер не представляет его, значит, он невиновен.
Г-н Дабюрон смотрел на старого сыщика с тем насмешливым любопытством, с каким созерцают проявление нелепой навязчивой идеи. Когда же тот умолк, он возразил:
– Вы, дражайший господин Табаре, допускаете лишь одну ошибку. Вас подводит чрезмерное хитроумие. Вы слишком щедро наделяете этого человека свойственной вам незаурядной сметливостью. Он же пренебрег осторожностью, так как считал себя вне подозрений.
– Нет, сударь, тысячу раз нет! Мой преступник, то есть истинный преступник, которого мы не поймали, всего боялся. Да посмотрите сами: разве Альбер защищался? Нет. Он подавлен, так как понял: эти чудовищные совпадения бесповоротно губят его. Пытается ли он оправдываться? Нет. Он просто говорит: «Это ужасно». И тем не менее, прочитав протокол от начала до конца, я чувствую: он о чем-то умалчивает, но не могу этого объяснить.
– А я могу и потому совершенно спокоен, как если бы он признался. У меня вполне достаточно доказательств.
– Ах, сударь, что такое доказательства? Против арестованного всегда есть доказательства. Они были против всех невинно осужденных. Да я сам представил, и еще какие, против бедняги портного Кайзера…
– В таком случае, – нетерпеливо прервал его следователь, – кто же убил как не он, лицо заинтересованное? Может быть, граф де Коммарен, его отец?
– Нет, убийца был молод.
Г-н Дабюрон покончил с бумагами, взял шляпу и вышел из-за стола.
– Да полно вам, господин Табаре, – промолвил он. – Позвольте мне откланяться и постарайтесь избавиться от химер, которые вас преследуют. Завтра мы переговорим обо всем, а сегодня я валюсь с ног от усталости. Констан, – обратился он к протоколисту, – оставьте в канцелярии распоряжения на случай, если арестованный Коммарен захочет поговорить со мной.
Г-н Дабюрон направился к двери, но папаша Табаре встал у него на пути.
– Сударь, богом заклинаю вас, выслушайте меня, – умоляюще произнес он. – Альбер невиновен, клянусь вам! Помогите мне найти преступника. Подумайте, какие угрызения будут терзать вас, если из-за нас ему отрубят голову…
Но следователь, не желая больше ничего слушать, проскользнул мимо папаши Табаре и пошел по галерее. Старик сыщик повернулся к Констану, намереваясь убедить его, доказать. Тщетные старания! Долговязый протоколист торопливо собирался домой, мечтая о супе, который наверно уже остывает.
Выдворенный из кабинета, папаша Табаре очутился в полном одиночестве на галерее, где в этот час уже царил полумрак. Во всем Дворце не слышалось ни звука: можно было подумать, что находишься в каком-то гигантском некрополе. Старик сыщик в отчаянии рвал на себе волосы.
– Горе мне! – приговаривал он. – Альбер невиновен, а подставил его под удар я! Я, старый дурак, вбил в тупую голову следователя мысль, которую теперь не вырвешь оттуда и клещами. Альбер невиновен и терзается самыми чудовищными страхами. А вдруг он покончит с собой? Сколько несчастных, несправедливо обвиненных, в отчаянии накладывали на себя руки в тюрьме. Слаб человек! Но я его не брошу. Я его погубил, я его и спасу. Мне нужен преступник, и я найду его. И он дорого заплатит за мою ошибку!
XI
Выйдя от судебного следователя, Ноэль Жерди подсадил графа де Коммарена в экипаж, стоявший на бульваре напротив ограды Дворца правосудия, и сделал вид, будто собирается уходить. Придерживая дверцу кареты приоткрытой, он низко поклонился и спросил:
– Господин граф, когда я смогу иметь честь засвидетельствовать вам свое почтение?
– Садитесь, – бросил г-н де Коммарен.
Изогнувшийся в поклоне адвокат забормотал извинения. Оправдываясь в необходимости уйти, он приводил весьма веские причины: ему нужно срочно быть дома.
– Садитесь, – тоном, не терпящим возражений, повторил граф.
Ноэль подчинился.
– Вы нашли отца, но предупреждаю, одновременно вы теряете свободу, – вполголоса произнес г-н де Коммарен.
Экипаж тронулся, и только тогда граф заметил, что Ноэль скромно присел на переднее сиденье. Его приниженность очень не понравилась г-ну де Коммарену.
– Сядьте же рядом со мной! – приказал он. – Вы что, с ума сошли? Разве вы не мой сын?
Адвокат, ни слова не говоря, уселся рядом с грозным стариком, стараясь занимать как можно меньше места. Он претерпел жестокое потрясение в кабинете г-на Дабюрона, и обычная самоуверенность и то несколько чопорное хладнокровие, под которым он скрывал чувства, покинули его. К счастью, по дороге у него было время перевести дух и несколько прийти в себя. На всем пути от Дворца правосудия до особняка отец и сын не обменялись ни словом.
Когда карета остановилась у крыльца и граф, поддерживаемый под руку Ноэлем, вышел из нее, на прислугу это произвело впечатление взрыва. Правда, слуг было не слишком много, едва ли полтора десятка, так как почти всех лакеев вызвали во Дворец правосудия. Но едва граф и адвокат поднялись наверх, все они, как по мановению волшебной палочки, собрались в вестибюле. Они сбежались из сада и конюшни, из подвала и кухни. Каждый был в своей рабочей одежде, а один молодой конюх притопал в сабо, выстеленных соломой, и, надо сказать, выглядел он на мраморных плитах пола точь-в-точь как кудлатая дворняга на персидском ковре. Кто-то признал в Ноэле воскресного визитера, и этого оказалось достаточно, чтобы еще сильней разжечь любопытство этих любителей скандалов.
Впрочем, уже с самого утра происшествие в особняке Коммаренов возбуждало безмерное волнение на всем левом берегу. Появились тысячи версий, одни совершенно несуразные, другие попросту дурацкие; их дополняли, исправляли и раздували злоба и зависть. Десятка два соседей, безмерно благородных и столь же спесивых, сочли возможным послать своих наиболее сметливых слуг навестить людей графа с единственной целью хоть что-то выведать. Короче, никто ничего не знал, и тем не менее все все знали.
Пусть, кто пожелает, попытается объяснить часто встречающийся феномен: совершено преступление, приезжают представители правосудия, окружив себя ореолом тайны; полиция еще почти ничего не знает, однако по городу уже кружат совершенно точные сведения.
– Выходит, этот длинный брюнет с бакенбардами – настоящий сын графа, – задумчиво произнес кухонный слуга.
– Истинная правда, – ответил ему лакей, сопровождавший г-на де Коммарена. – А тот, другой – такой же его сын, как Жан, который толчется здесь в своих рубленных топором башмаках и которого вышвырнут за дверь, ежели увидят.
– Вот так история! – воскликнул Жан, ничуть не напуганный грозящей ему опасностью.
– Как это получилось?
– Да очень просто! Говорят, однажды покойная госпожа графиня пошла погулять с шестимесячным сыном, а ребенка возьми и укради цыгане. Бедная женщина, которая и без того боялась мужа, как огня, совсем перепугалась. И что же она делает? Да просто-напросто покупает младенца у проходившей мимо уличной торговки. Все шито-крыто, и господин граф ничего не знает.
– А убийство-то с чего?
– Так это же проще простого. Торговка увидела, что сынок ее хорошо устроен, стала его шантажировать и доигралась, что он ее кокнул. У господина виконта ни гроша на себя не оставалось. Вот он и решил с нею покончить.
– А этот длинный брюнет кто такой?
Рассказчик собирался было дать самые достоверные сведения на этот счет, но ему помешал Любен, возвратившийся вместе с юным Жозефом из Дворца правосудия. Общее внимание обратилось к Любену – вот так заурядный певец добивается аплодисментов лишь до тех пор, пока на сцену не выйдет прославленный тенор. Собравшиеся повернулись к камердинеру Альбера и умоляюще уставились на него. Вот кто все знает! Поняв, что он – хозяин положения, Любен не стал злоупотреблять своим преимуществом и томить жаждущих новостей.
– Нет, каков негодяй! Ну и гнусный же злодей этот Альбер! – воскликнул он, решительно отбросив и «господин», и «виконт», надо признать, при общем одобрении. – Впрочем, я всегда относился к нему настороженно. Не очень-то он мне был по нраву. Вот с чем связана наша профессия, и это весьма огорчительно. Следователь не скрывал этого от меня. «Господин Любен, – сказал он, – я прекрасно понимаю, каково было такому человеку, как вы, в услужении у этакого мерзавца». Ведь вы же знаете, кроме старухи восьмидесяти четырех лет, он убил еще и двенадцатилетнюю девочку. И эту девочку, сказал мне следователь, он разрубил на мелкие куски.
– Тут уж надо быть полным дураком, – вмешался Жозеф. – Зачем, ежели ты богач, самому делать такие дела, когда есть столько парней, которые рады подзаработать?
– Вот увидите, он выйдет сухим из воды! – уверенно заявил Любен. – Все богачи стоят друг за друга.
– А я вот, – вступил в разговор повар, – отдал бы свое месячное жалованье за то, чтобы превратиться в мышь и прокрасться послушать, о чем говорят наверху господин граф и этот длинный брюнет. Может, вправду постоять под дверью?
Но предложение не получило поддержки. Тем, кто служил во внутренних покоях, по опыту было известно, что, когда дело касается важных вещей, подслушивать бесполезно. Г-н де Коммарен слишком хорошо знал прислугу, так как имел с нею дело с детства. Его кабинет был полностью защищен от всяческого любопытства. Самое чуткое ухо, приникшее к замочной скважине наружной двери, не смогло бы ничего услышать, даже если бы графа обуял гнев и голос его гремел подобно грому. Один лишь Дени, или, как его называли, «господин старший слуга», имел возможность кое-что увидеть и услышать, но ему платили за то, чтобы он не болтал, и он держал язык за зубами.
А в это время г-н де Коммарен сидел в том самом кресле, по которому вчера, слушая Альбера, в ярости колотил кулаком. Едва старый аристократ ступил на подножку своей кареты, как к нему тут же вернулась вся его надменность. Он чувствовал себя пристыженным из-за своего поведения у судебного следователя, безмерно корил себя за непростительную, как он считал, слабость и оттого держался еще чопорней и неприступней. Он поражался, как он смог опуститься до такой податливости, как позволил себе так по-плебейски бурно и откровенно выражать свое отчаяние. Вспоминая о признаниях, вырвавшихся у него в минуту помрачения рассудка, он краснел и мысленно осыпал себя самыми страшными ругательствами.
Ноэль, как вчера Альбер, полностью владел собой и спокойно стоял в почтительной, но ничуть не униженной позе. Отец и сын обменивались взглядами, отнюдь не выражавшими ни симпатии, ни приязни. Они обменивались испытующими взглядами, чуть ли не примеривались друг к другу, словно фехтовальщики, которые оценивают силу противника, прежде чем скрестить оружие.
– Сударь, – произнес наконец граф, – отныне этот дом ваш. С этой минуты вы – виконт де Коммарен и полностью вступаете в права, которых были лишены. Нет, погодите меня благодарить. Я с самого начала хочу избавить вас от любых изъявлений признательности. Запомните, не будь этих прискорбных событий, я никогда не признал бы вас своим сыном. Альбер остался бы тем, кем я его сделал.
– Я вас понимаю, сударь, – отвечал Ноэль. – Убежден, сам я никогда не решился бы на то, на что пошли вы, лишив меня всего принадлежащего мне по праву. Тем не менее заявляю: если бы я имел несчастье совершить подобное, то вел бы себя точно так же, как вы. Вы занимаете слишком видное положение, чтобы позволить себе произвольно менять решение. Стократ лучше страдать от скрытой несправедливости, нежели дать злым языкам трепать свое имя.
Этот ответ удивил графа, но, надо признаться, и обрадовал. Адвокат высказывал его собственные мысли. Однако г-н де Коммарен не позволил себе обнаружить удовлетворение и еще более суровым голосом, чем прежде, заметил:
– Сударь, я не имею ни малейшего права на ваши чувства, ничуть не претендую на них, однако требую неизменного и самого глубокого почтения. В нашем семействе существует традиция: если отец говорит, сын не смеет его прерывать. А вы сейчас прервали меня. Сыновья не высказывают суждений о родителях, как вы сейчас. Когда мне было сорок лет, мой отец впал в детство, но я не помню, чтобы я хоть раз повысил на него голос. Итак, продолжаю. Я покрывал весьма значительные расходы по содержанию жилища Альбера, полностью отделенного от моего, так как у него были свои слуги, выезды, лошади. Сверх того я давал ему четыре тысячи франков в месяц. Чтобы избежать дурацких толков, я решил поставить ваш дом, насколько это от меня зависит, на более широкую ногу. Но это уже моя забота. Кроме того, я увеличиваю ежемесячную сумму на ваши карманные расходы до шести тысяч франков и прошу вас тратить эти деньги как можно достойнее, стараясь не быть посмешищем. И еще призываю вас к величайшей осмотрительности. Следите за собой, взвешивайте каждое слово, обдумывайте любой, самый незначительный шаг. За вами будут наблюдать тысячи наглых бездельников, из которых слагается свет: любой ваш промах доставит им радость. Вы когда-нибудь держали в руках шпагу?
– Я неплохо фехтую.
– Отлично. Верхом ездите?
– Нет. Но за полгода я либо стану хорошим наездником, либо сломаю себе шею.
– Постарайтесь научиться, не сломав шеи. Но продолжим. Разумеется, жить вы будете не в комнатах Альбера. Я велю их замуровать, как только избавлюсь от полицейских. Слава богу, места в особняке достаточно. Вы будете жить в другом крыле, и вход к вам будет с другой лестницы. Слуги, лошади, экипажи, мебель, короче, все, что принадлежало или чем пользовался виконт, будет заменено в течение сорока восьми часов. Нужно, чтобы в тот день, когда вас увидят здесь, все выглядело так, будто вы всегда жили в этом особняке. Скандал, конечно, разразится чудовищный, но я не вижу способа избежать его. Благоразумный отец отослал бы вас провести несколько месяцев при австрийском или русском дворе, но в наших обстоятельствах благоразумие было бы безумием. Лучше уж большой шум, который скоро кончится, чем вечный тихий шепоток. Так что не будем пугаться общественного мнения; через неделю все комментарии будут исчерпаны, и разговоры об этой истории станут выглядеть провинциальными толками. Итак, за дело! Сегодня вечером здесь будут рабочие. А для начала я представлю вас людям.
Граф потянулся уже к сонетке, но Ноэль остановил его. С самого начала этого разговора адвокат чувствовал себя так, словно перенесся в страну «Тысячи и одной ночи», да еще с волшебной лампой в руках. Самые блистательные его мечты меркли в сравнении с чудесной действительностью. Слушая графа, он ощущал нечто вроде помрачения рассудка и изо всех сил старался справиться с головокружением от сыплющихся на него богатств. Он чувствовал, как в нем, словно по мановению волшебной палочки, рождаются тысячи новых, неведомых ощущений. Мысленно Ноэль уже облачался в пурпур и купался в золоте. Однако адвокат умел хранить невозмутимость. Он научился владеть своим лицом, и на нем не отражались страсти, бушевавшие у него в душе. Все его чувства были напряжены до предела, но внешне он слушал графа со сдержанной грустью и даже чуть ли не безучастно.
– Сударь, – обратился Ноэль к графу, – позвольте мне при всем глубочайшем почтении к вам высказать некоторые соображения. Я безмерно тронут вашей добротой и все-таки прошу повременить. Возможно, мои доводы покажутся вам справедливыми. Мне думается, теперь от меня требуется величайшая скромность. Презирать общественное мнение – это прекрасно, но не следует бросать ему вызов. Можете быть уверены, что судить меня будут крайне сурово. И что же скажут все, если я чуть ли не с налету поселюсь у вас? Я буду выглядеть как победитель, который по пути к цели ступает на труп поверженного противника. Меня станут упрекать, что я сплю в постели, еще не остывшей после другого вашего сына. Будут ядовито насмехаться над тем, с каким нетерпением я рвусь к радостям жизни. Наверняка меня станут сравнивать с Альбером, и сравнение окажется не в мою пользу: ведь я буду выглядеть торжествующим в то самое время, когда наш род постигло величайшее несчастье.
Граф слушал без всякого видимого недовольства, пораженный, вероятно, справедливостью суждений сына. Ноэль догадывался, что суровость графа скорей напускная, чем действительная, и эта догадка придавала ему отваги.
– И еще, сударь, я умоляю вас, – продолжал он, – потерпеть немного с переменой моего образа жизни. Если я не стану показываться в свете, все злые слова канут в пустоту. Тем самым я позволю людям свыкнуться с мыслью о грядущей перемене. Очень важно не возмутить свет поспешностью. Немного выдержки, и, когда вы меня представите, я не буду выглядеть узурпатором, наглым самозванцем. Не выставляясь напоказ, я получу преимущество, какое с течением времени обретает всякий новый человек, сумею снискать одобрение всех, кто завидовал Альберу, превращу в своих защитников людей, которые завтра напали бы на меня, если бы мое возвышение возмутило их своей внезапностью. Наконец, благодаря отсрочке я сумею свыкнуться с новой судьбой. В вашем мире, который теперь станет моим, мне нельзя прослыть выскочкой. Нельзя, чтобы моя фамилия стесняла меня, как новый фрак, сшитый не по моей мерке. И последнее: это даст возможность без шума и, в сущности, конфиденциально внести исправления в записи актов гражданского состояния.
– Да, пожалуй, так будет разумней, – пробормотал г-н де Коммарен.
Столь легко добытое согласие удивило Ноэля. Ему-то казалось, что граф хотел испытать, проверить его. Но как бы там ни было, одержал ли он победу благодаря красноречию или просто избежал ловушки, Ноэль торжествовал. Его уверенность возросла, и он уже полностью владел собой.
– Должен добавить, сударь, – продолжал он, – мне и самому нужно некоторое время. Прежде чем заняться теми, с кем я встречусь наверху, я обязан позаботиться о тех, кого оставляю внизу. У меня есть друзья и клиенты. Все произошло, когда я начал пожинать плоды десятилетних упорных трудов. До сих пор я только сеял, лишь собираясь приступить к жатве. Я выбился из неизвестности, завоевал пусть небольшое, но влияние. Без всякого смущения признаюсь, что до сих пор я исповедовал взгляды и идеи, которые покажутся неуместными в особняке де Коммаренов, но в один день невозможно…
– А, так вы либерал? – насмешливо прервал его граф. – Это модная болезнь. Альбер тоже был большим либералом.
– Сударь, я исповедовал идеи, которые присущи любому умному человеку, стремящемуся пробиться в жизни. К тому же разве все партии не преследуют единственную и одинаковую цель – власть? А различаются они лишь средствами, какими добиваются ее. Больше на эту тему я не стану распространяться. Но можете быть уверены, сударь, что я сумею носить свою фамилию, сумею думать и поступать соответственно своему положению.
– Я тоже так считаю и надеюсь, что никогда не буду иметь поводов сожалеть об Альбере, – сказал г-н де Коммарен.
– Как бы там ни было, если такое случится, то не по моей вине. Но раз уж вы произнесли имя этого несчастного, смиритесь с тем, что нам придется заняться его судьбой.
Граф с величайшим недоверием глянул на Ноэля и поинтересовался:
– Но что мы сможем сделать для Альбера?
– Сударь! – пылко воскликнул Ноэль. – Неужели вы хотите отступиться от него сейчас, когда у него не осталось ни единого друга на целом свете? Ведь он ваш сын, мой брат и более тридцати лет носил фамилию де Коммарен. Члены одной семьи должны стоять друг за друга. Виновный или невиновный, он имеет право рассчитывать на нас, и мы обязаны ему помочь.
Вот и еще одно свое соображение граф услышал из уст сына, и ему это было приятно.
– И на что же вы надеетесь, сударь? – поинтересовался он.
– Спасти его, если он невиновен, а я предпочитаю верить, что так оно и есть. Я как-никак адвокат и хочу стать его защитником. Мне не раз говорили, что у меня есть способности, и в этом деле я проявлю их сполна. Как бы тяжки ни были обвинения против него, я отведу их, я рассею сомнения, голос мой прольет свет, я найду новые интонации, чтобы внушить свою убежденность судьям. Я спасу его, и это будет моей последней защитительной речью в суде.
– Но если он признается, если он уже признался? – настаивал граф.
– Тогда, сударь, – с опечаленным видом отвечал Ноэль, – я окажу ему последнюю услугу, какую сам потребовал бы у брата, попади я в такое же положение: дам ему средство не дожидаться процесса.
– Прекрасно сказано, сударь! Прекрасно, сын мой! – произнес граф и протянул руку Ноэлю, которую тот, согнувшись в поклоне, пожал с почтительной благодарностью.
Адвокат вздохнул с облегчением. Наконец-то он нашел путь к сердцу надменного аристократа, завоевал его, угодил ему.
– Вернемся же, сударь, к нашим делам, – сказал граф. – Доводы, которые вы только что высказали, вполне убедили меня. Так и будем поступать. Однако воспринимайте мою уступчивость как исключение. Я никогда не возвращаюсь к однажды принятому решению, даже если мне докажут, что оно неверно и противоречит моим интересам. Вы не можете немедленно поселиться у меня, однако ничто не мешает вам обедать вместе со мною. Сейчас мы с вами пойдем посмотрим, где вы будете располагаться, когда официально займете комнаты, которые приготовят для вас.
Ноэль вновь осмелился прервать г-на де Коммарена:
– Сударь, когда вы велели мне поехать с вами, я подчинился, поскольку это был мой долг. А сейчас иной священный долг призывает меня. Госпожа Жерди при смерти. Могу ли я отсутствовать у смертного ложа той, которая воспитала меня как мать?
– Валери… – прошептал граф.
Он спрятал лицо в ладони, и перед его мысленным взором поплыли картины далекого прошлого.
– Она причинила мне много зла, – промолвил он, отвечая собственным мыслям, – погубила мою жизнь, но я не могу быть беспощаден. Она умирает, оттого что на Альбера, нашего сына, обрушилось тяжкое обвинение. Я желал ей смерти, но теперь, в ее последний час, одно мое слово может дать ей безмерное утешение. Я еду с вами!
Услышав это, Ноэль вздрогнул.
– Сударь, умоляю вас, избавьте себя от горестного зрелища! К тому же это будет бесполезно. Госпожа Жерди, вероятно, еще не умерла, но разум ее угас. Она не сумела перенести столь жестокого удара. Она не способна ни узнать вас, ни ответить.
– Ну что ж, поезжайте один, – вздохнул граф. – Ступайте, сын мой.
Слова «сын мой», выделенные к тому же интонацией, прозвучали для Ноэля как победная труба, хотя и не ослабили ни его сдержанности, ни осторожности.
Он поклонился, прощаясь, но граф сделал ему знак не уходить и сообщил:
– Тем не менее ваш прибор ежедневно будут ставить на стол. Я обедаю ровно в половине седьмого и буду рад вас видеть.
После этого граф позвонил и приказал явившемуся «господину главному слуге»:
– Дени, приказ никого не принимать не относится к этому господину. Предупредите людей. Он здесь у себя дома.
Адвокат вышел. Оставшись один, г-н де Коммарен испытал безмерное облегчение. С самого утра события разворачивались так стремительно, что он с трудом мог уследить за ними. Теперь наконец появился случай обдумать происходящее.
«Итак, это мой законный сын, – размышлял он. – В том, что он мой сын, я совершенно убежден. Я совершил бы ошибку, не признав его: в нем я узнаю себя – таким, каким был в тридцать лет. Да, Ноэль хорош во всех отношениях. Лицо его свидетельствует в его пользу. Он умен и тонок. Умеет держаться скромно, но без приниженности, непреклонно, но без вызова. Нежданное состояние не вскружило ему голову. Предвижу, что он не ошалеет от богатства. У него разумный образ мыслей, и он будет с гордостью носить нашу фамилию. Однако я не питаю к нему ни малейшей симпатии и, похоже, сожалею о бедняге Альбере. Увы, я не оценил его. Бедный мальчик! Совершить столь гнусное преступление… Он явно сошел с ума. Не нравится мне взгляд у этого, слишком уж ясный. Меня уверяют, что этот молодой человек – совершенство. Так или иначе, он выказывает самые возвышенные и благопристойные чувства. Он добр и тверд характером, великодушен, благороден, стоек. В нем нет злопамятства, и он готов посвятить себя мне в благодарность за то, что я для него сделал. Он прощает госпожу Жерди, он любит Альбера. Вот это-то и возбуждает недоверие. Впрочем, нынешние молодые люди все таковы. О, мы живем в счастливое время! Наши сыновья рождаются свободными от заблуждений отцов. Они лишены их пороков, страстей, порывов. Эти скороспелые философы, образцы благоразумия и добродетели, не способны ни на какое безумство. Увы, Альбер тоже был совершенством и все-таки убил Клодину! А что выкинет этот?» Завершая раздумья, граф бросил вполголоса:
– И все же следовало поехать с ним…
И хотя адвокат уже добрых десять минут как ушел, г-н де Коммарен подошел к окну в надежде увидеть во дворе Ноэля и окликнуть его. Однако Ноэль был уже далеко. Выйдя из особняка, он взял на Бургундской улице фиакр и велел везти его на улицу Сен-Лазар. Подъехав к дому, он бросил вознице пять франков и чуть ли не бегом поднялся к себе на пятый этаж.
– Меня кто-нибудь спрашивал? – первым делом поинтересовался он у служанки.
– Никто, сударь, – ответила та.
Похоже, ответ обуздал его тревогу, и Ноэль уже спокойнее задал вопрос:
– А доктор?
– Он приходил утром, когда вас не было, и, кажется, состояние хозяйки ему очень не понравилось. Сейчас он опять здесь.
– Прекрасно. Я переговорю с ним. Если кто-нибудь спросит меня, проводите его в кабинет и дайте мне знать. Вот вам ключ.
Войдя в спальню госпожи Жерди, Ноэль с первого же взгляда понял, что, пока он отсутствовал, никакого улучшения не наступило. Больная лежала на спине, глаза у нее были закрыты, лицо искажено. Ее можно было бы принять за мертвую, если бы время от времени тело ее не сотрясала конвульсивная дрожь. Над головой г-жи Жерди висел небольшой сосуд с охлажденной водой, которая по каплям падала на мраморно-бледный лоб больной, испещренный синеватыми пятнами. Стол и каминная доска были заставлены баночками, обвязанными розовыми шнурками, пузырьками с микстурами и полупустыми стаканами. У изножья кровати валялась белая холстина, пропитанная кровью и свидетельствующая о том, что больной только что ставили пиявки.
У горящего камина стояла монахиня ордена, основанного св. Венсаном де Полем[98], ожидая, когда закипит чайник. То была молодая еще женщина с полным лицом белее, чем ее нагрудник. Ее спокойные застывшие черты и тусклый взгляд свидетельствовали, что она отринула все мирское и отреклась от способности мыслить. Юбки из грубого серого полотна топорщились на ней тяжелыми, безобразными складками. При каждом ее движении длиннющие четки из крашеного самшита с подвешенными к ним крестиком и медными медалями вздрагивали и стукались об пол, звякая, словно цепи.
В кресле у постели больной сидел доктор Эрве и, казалось, внимательно следил за приготовлениями сестры. Завидев вошедшего Ноэля, он стремительно вскочил и, тряся ему руку, воскликнул:
– Ну, наконец-то!
– Знаешь, задержали во Дворце правосудия, – сообщил адвокат, словно чувствуя себя обязанным объяснить свое отсутствие. – Можешь представить, я там сидел как на угольях.
Он наклонился к доктору и тревожным голосом тихо спросил:
– Ну, как она?
– Еще хуже, – огорченно опустив голову, сказал доктор. – Приступы следуют один за другим почти без промежутков.
Вдруг адвокат схватил его руку и крепко сжал. Г-жа Жерди чуть пошевельнулась и слабо застонала.
– Она услышала тебя, – шепнул Ноэль.
– Если бы… – отвечал врач. – Я был бы безмерно счастлив. Но ты ошибаешься. Впрочем, взгляни сам.
Он приблизился к г-же Жерди и, нащупав пульс, стал его считать. После этого кончиком пальца поднял ей веко.
Глаз был тусклый, безжизненный, погасший.
– Подойди, убедись. Возьми ее за руку, скажи что-нибудь.
Ноэль, весь дрожа, подошел к кровати, наклонился, так что почти коснулся губами уха больной, и пробормотал:
– Матушка, это я, Ноэль, твой Ноэль. Скажи мне хоть слово, сделай знак, что ты меня слышишь.
Но она не шелохнулась, не подала знака, даже лицо у нее не дрогнуло.
– Ну, видишь? Я же говорил, – заметил врач.
– Бедная, – вздохнул Ноэль. – Она страдает?
– Сейчас нет.
К постели подошла монашка и сообщила:
– Господин доктор, все готово.
– Кликните служанку, сестра, пусть она поможет: мы поставим больной горчичники.
Пришла служанка. Когда обе женщины поднимали г-жу Жерди, казалось, будто они обряжают покойницу. Ее неподвижность была сродни неподвижности трупа. Видно было, что бедная страдалица болела уже давно: она до такой степени исхудала, что на нее было страшно смотреть. Сестра и та была тронута, хотя и привыкла к виду чужих немощей. Сколько больных испустили последний вздох у нее на руках за те пятнадцать лет, что она провела у изголовья чужих постелей!
Ноэль в это время стоял у окна, прижавшись пылающим лбом к стеклу. О чем думал он в двух шагах от умирающей, от той, что дала ему столько доказательств материнской любви и чистосердечной преданности? Жалел ли он ее? Или, может быть, мечтал о великолепной, роскошной жизни, которая ждет его на другом берегу, в Сен-Жерменском предместье? Он резко повернулся, услышав слова доктора:
– Ну вот и все. Подождем действия горчичников. Если она почувствует их, это хороший признак. Ну, а если они не помогут, попробуем банки.
– А если и банки не помогут?
Врач ответил пожатием плеч, что должно было обозначать полную беспомощность.
– Ясно, Эрве, – пробормотал Ноэль. – Ты же сказал мне: она безнадежна.
– С точки зрения науки, да. Но знаешь, с год назад тесть одного моего приятеля выкарабкался, а случай был сходный. Да нет, что я говорю, – у него было гораздо хуже, началось уже гноеотделение.
– Главное, мне больно, что она все время без сознания, – вздохнул Ноэль. – Неужели она так и умрет, не очнувшись? Не узнает меня, не промолвит ни слова?
– Ничего не могу ответить. Эта болезнь, старина, создана, чтобы опровергать все предсказания. В любой момент симптомы могут измениться, смотря какую часть мозга затронет воспаление. Сейчас у нее период утраты сознания, утраты всех умственных способностей, забытья, паралича, но вполне возможно, что завтра начнутся конвульсии, сопровождаемые невероятным возбуждением всех функций мозга, безумным бредом.
– И тогда она заговорит?
– Несомненно, но это не изменит ни природы, ни тяжести болезни.
– А… рассудок она обретет?
– Возможно, – отвечал доктор, пристально глядя на друга. – Но почему ты об этом спрашиваешь?
– Ах, дорогой Эрве, мне так необходимо услышать от госпожи Жерди одно слово, всего одно слово!
– А, это из-за твоего дела, да? Знаешь, тут я ничего не могу тебе сказать, ничего не обещаю. У тебя столько же шансов за, сколько и против. Лучше всего никуда не уходи. Если рассудок и вернется к ней, это будет всего лишь проблеск, так что попытайся воспользоваться им. Ну, а я лечу дальше. Мне нужно сделать еще три визита.
Ноэль проводил друга и уже на площадке спросил:
– Сегодня еще заглянешь?
– В девять вечера. Раньше мне делать нечего. Все зависит от сиделки. По счастью, я выбрал тебе настоящее сокровище. Я ее знаю.
– Так это ты прислал эту монашку?
– Да, не спросив тебя. Ты недоволен?
– Да нет, что ты. Хотя, признаюсь…
– Как! Ты еще капризничаешь? Неужели политические взгляды запрещают тебе доверить уход за твоей матерью, извини, госпожой Жерди, сестре милосердия, монашке?
– Видишь ли, Эрве…
– Ясно, ясно. Сейчас я услышу от тебя извечную песню: они коварны, они втируши, они опасны – я уже столько раз это слышал. Да, если бы дело касалось старого дядюшки, собирающегося оставить мне наследство, я поостерегся бы приводить их к нему. Порой этих монашек обвиняют в довольно странных поступках. Но тебе-то чего ее бояться? Оставь эту болтовню глупцам. Если не иметь в виду наследства, монашки – лучшие в мире сиделки, и я желаю тебе, чтобы у твоего смертного ложа сидела одна из них. А на сем привет, я тороплюсь.
Ничуть не заботясь о солидности, доктор ринулся вниз по лестнице, а Ноэль в задумчивости, с лицом, на котором читалось беспокойство, возвратился в квартиру. На пороге спальни г-жи Жерди его поджидала монашка.
– Сударь! – окликнула она его. – Сударь!
– Что вам угодно, сестра?
– Сударь, служанка велела мне обратиться к вам за деньгами. У нее кончились, и лекарства у аптекаря она взяла в долг.
– Извините, сестра, что я не подумал об этом: у меня голова кругом идет, – с явно раздосадованным видом ответил Ноэль и, вынув из бумажника стофранковый билет, положил его на камин.
– Спасибо, сударь, – поблагодарила монашка. – Все траты я буду записывать. Мы так всегда делаем, чтобы не причинять лишних хлопот родственникам. Когда кто-то в семье болен, близкие так горюют! Вот и вы, например, не подумали, наверно, о том, чтобы дать несчастной даме сладость утешения нашей святой веры? На вашем месте, сударь, я не мешкая послала бы за священником.
– Сейчас? Но, сестра, вы же видите, в каком она состоянии! Жизнь в ней, можно сказать, еле теплится. Она даже меня не услышала.
– Это неважно, сударь, – возразила монахиня, – вы просто исполните свой долг. Вам она не ответила, но откуда вы знаете, не ответит ли она священнику? Ах, вы даже не представляете себе, какой властью обладает последнее причастие! Сколько умирающих обретали сознание и силы, чтобы исповедаться и причаститься святым телом Господа нашего Иисуса Христа. Родственники часто говорят, что, дескать, не хотят пугать больного, что вид служителя Божьего может внушить ему страх и ускорить конец. Это глубокое заблуждение. Священник вовсе не пугает, он ободряет, укрепляет душу перед переходом в иной мир. От имени Господа он произносит слова утешения, чтобы спасти, а не погубить. Я могла бы рассказать вам множество случаев, когда больные исцелялись от одного лишь помазания святым миром.
Голос у монашки был такой же тусклый, как и взгляд. Похоже, она произносила слова, совершенно не вкладывая в них душу. Она как бы повторяла затверженный урок. А затвердила она его, надо думать, давно – как только постриглась. В ту пору она еще выражала в какой-то мере то, что чувствовала, делилась своими мыслями. Но с тех пор она столько раз повторяла одно и то же родственникам больных, что в конце концов перестала вслушиваться в то, что говорит. Она просто произносила привычные слова, как будто перебирала зерна четок. Слова превратились в часть ее обязанностей сиделки наряду с приготовлением отваров и компрессов.
Ноэль не слушал ее, мысли его витали далеко.
– Ваша матушка, – продолжала сестра, – эта почтенная дама, которую вы так любите, очевидно, верующая. Неужели вы хотите погубить ее душу? Если бы она, несмотря на ужасные страдания, могла говорить…
Адвокат собирался ей ответить, но тут служанка доложила, что какой-то господин, не пожелавший назвать свою фамилию, просит принять его по делу.
– Иду, – живо ответил Ноэль.
– Сударь, так что вы решили? – не отставала монахиня.
– Даю вам полную свободу, сестра. Поступайте, как сочтете необходимым.
Монахиня забубнила заученные слова благодарности, но Ноэль уже исчез, и почти в ту же секунду она услышала из прихожей его голос:
– Наконец-то, господин Клержо! Я уже отчаялся увидеть вас.
Посетитель, которого ждал адвокат, был личностью, широко известной на улице Сен-Лазар, в окрестностях Провансальской улицы и церкви Лоретской Богоматери, а также на внешних бульварах от улицы Св. Мучеников до круглой площади бывшей заставы Клиши. Ростовщиком г-н Клержо является ничуть не в большей степени, чем отец г-на Журдена[99] купцом. Просто у него имеются лишние деньги, и он предлагает их своим друзьям, поскольку он крайне любезен, а в качестве награды за подобную услугу удовлетворяется получением процентов, которые могут меняться в пределах от пятидесяти до пятисот.
Превосходный человек, он любит свое занятие, и порядочность его не подлежит сомнению. Он никогда не требует описать имущество должника, а предпочитает годами неустанно преследовать его и по крохам выдирать то, что жертва ему задолжала.
Проживает он где-то в начале улицы Победы. Не имея ни магазина, ни лавки, он тем не менее торгует всем, что можно продать, и даже кое-чем, что закон товаром не признает. И все это только ради того, чтобы услужить ближнему. Иногда он заявляет, что не очень богат. Это вполне правдоподобно. Господин Клержо – человек своеобразный; его причуды иной раз берут верх над жадностью, притом он никого и ничего не боится. Когда его просят, он легко лезет в карман, однако, ежели человек не имел чести понравиться ему, может не дать и пяти франков под какой угодно заклад. Впрочем, деньги свои он ставит на самые рискованные карты.
Клиентура его по преимуществу слагается из особ легкого поведения, актрис, художников и храбрецов, избравших профессию, которая представляет ценность только для тех, кто ею занимается, вроде адвокатов и врачей. Он ссужает женщин под их красоту, мужчин под их талант. Какое зыбкое обеспечение! Однако следует признать, что его чутье пользуется прекрасной репутацией. Оно редко его подводит. Если Клержо обставил квартиру хорошенькой девице, можно быть уверенным, она далеко пойдет. Для актера ходить в должниках у Клержо – рекомендация куда более предпочтительная, чем самая пылкая хвалебная статья.
Ноэль свел полезное и почетное знакомство с г-ном Клержо благодаря своей возлюбленной мадам Жюльетте. Зная, насколько этот достойный человек чувствителен к изъявлениям вежливости и как обижается, когда не получает их, Ноэль прежде всего пригласил его сесть и поинтересовался здоровьем. Клержо с готовностью откликнулся.
– Зубы пока еще в порядке, а вот зрение слабеет. Ноги тоже сдают, и слух уже не тот.
Покончив с жалобами, он перешел к делу:
– Вы знаете, почему я пришел. Сегодня срок вашим векселям, а мне чертовски нужны деньги. Я имею в виду один на десять, второй на семь и третий на пять тысяч. Итого двадцать две тысячи франков.
– Послушайте, господин Клержо, нельзя ли без дурных шуток? – заметил Ноэль.
– Простите, – удивился ростовщик, – я не собираюсь шутить.
– Хочется верить этому. Ровно неделю назад я написал вам и предупредил, что не буду в состоянии заплатить, и попросил переписать векселя.
– Да, я получил ваше письмо.
– И что же вы мне скажете?
– Я не ответил вам, полагая, что вы поймете, что я не могу удовлетворить вашу просьбу. Надеялся, что вы побеспокоитесь найти необходимую сумму.
Ноэль сдержал раздражение и ответил:
– Мне не удалось. Так что примите к сведению: у меня нет ни гроша.
– Черт!.. А вы не забыли, что я уже четырежды переписывал эти векселя?
– Полагаю, я предложил вам такие проценты, что у вас не было причин сожалеть о помещении капитала.
Клержо очень не любил, когда ему напоминали о процентах, которые он берет. Он считал, что тем самым его унижают. Поэтому он весьма сухо ответил:
– Я и не жалуюсь. Хочу лишь заметить, что вы не больно-то церемонитесь со мной. А вот пусти я ваши векселя в обращение, я свои деньги получил бы точно в срок.
– Но не больше.
– Ну и пусть. Для человека вашего сословия суд – это не шутка, и вы мигом отыскали бы способ избежать неприятных последствий. Но вы думаете: папаша Клержо – добряк и простофиля. Да, так оно и есть. Но только если это не приносит мне слишком больших убытков. Короче, сегодня мне абсолютно необходимы деньги. Аб-со-лют-но, – повторил он, выделяя каждый слог.
Решительный вид ростовщика, похоже, несколько встревожил Ноэля.
– Вынужден еще раз повторить, – заявил он, – я совершенно без денег. Со-вер-шен-но.
– Что ж, тем хуже для вас, – заметил ростовщик. – Вижу, мне придется передать векселя судебному исполнителю.
– А что это вам даст? Слушайте, сударь, давайте играть с открытыми картами. Вам что, хочется дать заработать судебным исполнителям? Надеюсь, нет? Вы вынудите меня заплатить большие судебные издержки, но вам-то это даст хоть сантим? Вы добьетесь судебного решения против меня. Прекрасно! А дальше что? Опишете имущество? Но тут нет ничего моего, все записано на имя мадам Жерди.
– Это всем известно. Кроме того, распродажа не покрыла бы долга.
– Ах, так вы собираетесь засадить меня в Клиши?[100] Предупреждаю, вы скверно рассчитали. Я потеряю звание, а не будет звания, не будет и денег.
– Что за глупости вы несете! – возмутился почтенный заимодавец. – И это вы называете быть откровенным? Не смешите меня! Да верь вы, что я способен хотя бы на половину гнусностей, какие вы мне тут приписываете, мои денежки уже лежали бы у вас в ящике стола.
– Заблуждаетесь. Мне негде было бы их взять, разве что попросить у госпожи Жерди, а этого я как раз не хочу делать…
Папаша Клержо прервал Ноэля характерным сардоническим смешком.
– Ну, в эту дверь стучаться нет смысла, – заметил он, – кошелек вашей мамаши давно уже пуст, и, ежели она отдаст Богу душу – а мне сказали, что она тяжело больна, – все наследство не перевалит за две сотни луидоров.
Адвокат побагровел от ярости, глаза его сверкнули, однако он сдержался и довольно бурно запротестовал.
– Я знаю, что говорю, – спокойно продолжал ростовщик. – Прежде чем рисковать своими денежками, люди обычно собирают сведения, и это разумно. Последние сбережения своей матушки вы спустили в октябре. Что ж, Провансальская улица требует расходов. Я тут сделал расчетец, он при мне. Согласен, Жюльетта, вне всяких сомнений, прелестная женщина, равной ей нет, но стоит она дорого. Чертовски дорого!
Ноэль бесился, слушая, как эта достойнейшая личность рассуждает о его Жюльетте. Но что он мог возразить? Впрочем, в мире не бывает совершенства, у г-на Клержо тоже был недостаток: он не уважал женщин, очевидно, потому, что по роду своей коммерческой деятельности ему приходилось сталкиваться с дамами, не внушающими уважения. Общаясь с прекрасным полом, он был мил, услужлив и даже галантен, но и самые гнусные ругательства кажутся не такими оскорбительными, как его презрительная фамильярность.
– Вы слишком торопились, – развивал свою мысль Клержо, как бы не замечая возмущения клиента, – и я в свое время говорил вам об этом. Но вы потеряли голову. Вы никогда не могли ей ни в чем отказать. Она еще и захотеть-то не успеет как следует, а вы уже тут как тут. Это неразумно! Если красивой женщине чего-то захотелось, нужно подольше потомить ее, а не исполнять ее желание сразу. Тогда голова у нее занята, и она не думает о всяких глупостях. Четыре желания в год – вот самая мера. Вы же не заботились о собственном счастье. Понимаю, у нее такие глаза, что и статую святого в нише проймут, но надо же и голову на плечах иметь, черт побери! В Париже не наберется и десятка женщин, которых содержат на такую широкую ногу. Вы думаете, она за это сильнее вас любит? Держите шире карман. Как только разорит, она вам даст от ворот поворот.
Ноэль смирился с красноречием своего благодетеля-банкира так же, как человек, не имеющий зонтика, мирится с ливнем.
– К чему же вы клоните? – поинтересовался он.
– Да к тому, что я не намерен переписывать ваши векселя. Вам понятно? Сейчас, как следует постаравшись, вы еще можете раздобыть необходимые двадцать две тысячи. Не хмурьтесь, не хмурьтесь, вы их найдете, хотя бы для того, чтобы не сесть в тюрьму. Найдете, разумеется, не здесь – предполагать подобное было бы глупо, – а у вашей красотки. Само собой, она не обрадуется и не станет от вас этого скрывать.
– Но ее деньги – это ее деньги, и вы не имеете права…
– И что же? Понимаю, она взовьется и станет настаивать, чтобы вы поискали денег в другом месте. Послушайтесь меня и не поддавайтесь ей. Я желаю, чтобы мне немедленно было заплачено. Я не собираюсь давать вам отсрочку, потому что три месяца назад вы израсходовали последнее, что у вас было. Ну, не спорьте, не спорьте! Вы сейчас в таком положении, когда всеми силами стараешься оттянуть развязку. Вы же с радостью подожжете кровать вашей умирающей матушки, чтобы эта особа могла согреть ноги. Где вы достали десять тысяч, которые вчера дали ей? И кто знает, на что вы вскоре решитесь, чтобы раздобыть денег? Желание удержать ее еще две недели, еще три дня, еще денек может завести вас очень далеко. Откройте же глаза! Я все эти штуки знаю. Если вы не бросите Жюльетту, вы погибнете. Послушайте добрый совет, причем бесплатный. Рано или поздно вам все равно придется с нею расстаться. Так сделайте это сегодня.
Вот таков он, достойнейший Клержо, – никогда не скрывает правды от клиентов, ежели у него накипит. Ну, а если они недовольны, тем хуже, зато его совесть чиста. Он не из тех, кто попустительствует безрассудству.
Ноэль не выдержал и дал выход раздражению.
– Ну хватит! – решительно заявил он. – Можете поступать, как вам угодно, только избавьте меня от своих советов. Я предпочитаю иметь дело с судебным исполнителем. Если я иду на такой рискованный шаг, то, значит, могу исправить все его последствия, да так, что вы только рот разинете. Да, господин Клержо, я могу завтра утром получить двадцать две тысячи франков, а могу и сто тысяч, стоит мне только попросить. Но делать этого не стану. Не прогневайтесь, но мои траты останутся тайной, как это было и до сих пор. Я не хочу, чтобы люди заподозрили, будто я нахожусь в стесненных обстоятельствах. Даже из уважения к вам я не откажусь от достижения своей цели, тем паче в тот день, когда я уже близок к ней.
«Артачится, – думал ростовщик. – Значит, у него не такое безнадежное положение, как я думал».
– Итак, можете тащить векселя к судебному исполнителю, – продолжал адвокат. – Пусть он приходит. Об этом будет знать только наш привратник. Через неделю меня вызовут в торговую палату, и я попрошу отсрочки на двадцать пять дней, которую суд предоставляет всем несостоятельным должникам. Семь и двадцать пять во всем мире равняется тридцати двум. Как раз столько мне и нужно для устройства своих дел. Короче, вывод таков: либо вы принимаете вексель на двадцать четыре тысячи франков сроком на полтора месяца, либо – слуга покорный, мне недосуг, и можете отправляться к судебному исполнителю.
– Ну, через полтора месяца с деньгами у вас будет так же, как сегодня. А сорок пять дней с Жюльеттой, во сколько же это встанет луидоров?
– Господин Клержо, – отвечал Ноэль, – задолго до этого срока мое положение совершенно переменится. Но я вам уже все сказал, – поднимаясь, заявил он, – у меня совершенно нет времени…
– Минутку, минутку! Экий вы порох! – всполошился добряк банкир. – Так, говорите, двадцать четыре тысячи франков на полтора месяца?
– Да. То есть приблизительно семьдесят пять процентов. По-моему, это неплохо.
– Да я-то не больно гоняюсь за барышом, – сообщил г-н Клержо, – только… – Он впился в Ноэля взглядом и ожесточенно скреб подбородок; этот его жест свидетельствовал о напряженной работе мысли. – Только я хотел бы знать, на что вы рассчитываете.
– Все, что я мог вам сообщить, я сообщил. Скоро вы все узнаете, как и остальные.
– Ясно! – воскликнул г-н Клержо. – Дошло наконец! Вы женитесь, да? Черт возьми, вы нашли богатую невесту? Ваша крошка Жюльетта что-то такое говорила мне сегодня утром. Так значит, вы женитесь! А она хороша собой? Да какое это имеет значение. У нее есть денежки, так ведь? Разумеется, без них вы не стали бы жениться. А с родителями вы уже познакомились?
– Я этого не говорил.
– Ладно, ладно, скрытничайте – все и так понятно. Один совет: будьте осторожней, ваша красавица что-то подозревает. Да, вы правы, не стоит добывать деньги. Любой ваш шаг может привести к тому, что будущий тесть узнает про ваше финансовое положение и тогда уж не отдаст за вас доченьку. Словом, женитесь и будьте благоразумны. Главное, бросьте Жюльетту, иначе я гроша не дам за приданое. Хорошо, договорились: приготовьте вексель на двадцать четыре тысячи, а я в понедельник принесу ваши старые векселя.
– А они у вас не с собой?
– Нет. Откровенно признаться, я знал, что иду к вам впустую, и еще вчера передал их вместе с другими судебному исполнителю. Тем не менее можете спать спокойно: я дал вам слово.
Г-н Клержо сделал вид, будто уходит, но тут же повернулся к Ноэлю и сказал:
– Да, совсем забыл! Уж коль будете писать вексель, поставьте там двадцать шесть тысяч. Ваша красавица просила у меня кое-какие тряпки, и я обещал завтра их ей доставить. Таким образом вы оплатите их.
Адвокат попытался протестовать. Разумеется, он не отказывается платить, но считает, что насчет покупок с ним необходимо советоваться. Он не может допустить, чтобы так распоряжались его деньгами.
– Шутник вы! – пожимая плечами, бросил ростовщик. – Неужели из-за такого пустяка вы будете спорить с нею? Ой, задаст она вам! Считайте, что она схватила отступного. И запомните, если вам нужны деньги для свадьбы, дайте мне какое-никакое обеспечение – на эту тему можно побеседовать у нотариуса, – и я к вашим услугам. Ну все, убегаю. До понедельника, не так ли?
Ноэль приник ухом к двери, желая увериться, что ростовщик действительно ушел. Услышав его шаги вниз по лестнице, он разразился проклятьями:
– Скотина! Негодяй! Грабитель! Старый живоглот! Он еще заставил себя упрашивать! Ишь ты, собрался преследовать меня по суду! Хорошо бы я выглядел в глазах графа, если бы до него дошло. Гнусный лихоимец! Я уж думал, придется ему все рассказать. – Продолжая клясть и поносить ростовщика, Ноэль вытащил часы. – Уже половина шестого… – пробормотал он.
Адвокат был в нерешительности. Пойти на обед к отцу? Но можно ли оставить г-жу Жерди? Обед в особняке Коммаренов был куда соблазнительней, но, с другой стороны, покинуть умирающую…
«Нет, уходить нельзя!» – решил он.
Ноэль сел за бюро и быстро написал отцу письмо с извинениями. Г-жа Жерди, сообщал он, может скончаться с минуты на минуту, и он считает себя обязанным быть дома, чтобы принять ее последний вздох. Давая служанке поручение отнести письмо посыльному, чтобы тот доставил его графу, Ноэль вдруг спохватился:
– А брату госпожи Жерди известно, что она опасно больна?
– Не знаю, сударь, – ответила служанка. – Во всяком случае, я ему не сообщала.
– Да как же так! Меня не было, и никому не пришло в голову оповестить его! Немедленно бегите к нему и, если его нет, скажите, чтобы его разыскали. Пусть он придет.
Немножко успокоившись, Ноэль уселся в комнате больной. Там горела лампа, и монахиня, совершенно уже освоившись, хлопотливо вытирала пыль и наводила порядок. Лицо у нее было довольное, и это не ускользнуло от Ноэля.
– Сестра, есть хоть какая-нибудь надежда? – спросил он.
– Хочу в это верить, – отвечала та. – У нее был господин кюре, но ваша матушка так и не очнулась. Он еще раз придет. Но это не все. Как только господин кюре явился, подействовали горчичники: вся кожа покраснела, и я уверена, что она их чувствует.
– Да услышит вас Бог, сестра!
– О, я так молюсь за нее! Главное, ни на минуту не оставлять ее одну. Я договорилась со служанкой. Когда придет доктор, я пойду посплю, а она подежурит до часу. Потом я ее сменю.
– Можете отдыхать, сестра, – со скорбным видом произнес Ноэль. – Ночью подежурю я, мне все равно не удастся сомкнуть глаз.
XII
Получив отпор у судебного следователя, смертельно уставшего после целого дня допросов, папаша Табаре вовсе не чувствовал себя побежденным. Недостаток или, если угодно, достоинство старого сыщика состояло в том, что он был упрям как мул. От взрыва отчаяния, нахлынувшего на него в галерее, он вскоре перешел к той непреодолимой решимости, которую можно бы назвать воодушевлением, возникающим в момент опасности. Чувство долга вновь одержало верх. Разве можно предаваться постыдному разочарованию теперь, когда от одной-единственной минуты зависит, быть может, жизнь человеческая? Бездействие непростительно! Он толкнул невинного в пропасть, он и вытащит его оттуда, и, если никто не захочет ему помочь, он справится сам.
Как и следователь, папаша Табаре падал с ног от усталости. Выйдя на воздух, он почувствовал к тому же, что умирает от голода и жажды. Волнения минувшего дня заставили его забыть о самом необходимом, и со вчерашнего вечера во рту в него не было даже глотка воды. На бульваре он зашел в ресторан и заказал обед. Пока он подкреплялся, к нему потихоньку возвращалось мужество, а вместе с ним и надежда. Теперь ему самое время было бы воскликнуть: «Слаб человек!» Кто не знает по себе, как может перемениться настроение за время самой скромной трапезы! Какой-то философ даже утверждал, что героизм зависит от наполненности желудка.
Теперь нашему сыщику дело представлялось уже не в таком мрачном свете. Разве у него нет в запасе времени? Месяц – большой срок для энергичного человека. Неужели его обычная проницательность изменит ему на этот раз? Разумеется, нет. Он только сожалел, что не может предупредить Альбера о своих трудах ради его освобождения.
Из-за стола он встал другим человеком и бодрым шагом преодолел расстояние, отделявшее его от улицы Сен-Лазар. Когда привратник отворил ему дверь, часы пробили девять. Начал он с того, что взобрался на пятый этаж, чтобы справиться о своей старинной приятельнице, которую еще не так давно называл милейшей, достойнейшей госпожой Жерди.
Дверь ему отворил Ноэль, которого, судя по всему, растрогали воспоминания о минувшем: он был погружен в такую печаль, словно умирающая и впрямь доводилась ему матерью. Из-за этого неожиданного обстоятельства папаше Табаре пришлось войти хотя бы на несколько минут, несмотря на то, что чувствовал он себя при этом крайне неловко.
Он предвидел, что, когда он окажется с глазу на глаз с адвокатом, ему придется разговаривать о деле вдовы Леруж. Легко ли, зная то, чего не знает и его молодой друг, рассуждать на эту тему и не выдать себя? Одно неосторожное слово может пролить свет на роль, которую играл в этих трагических обстоятельствах папаша Табаре. А ему хотелось остаться чистым и незапятнанным отношениями с полицией, особенно в глазах его дорогого Ноэля, ныне виконта де Коммарена.
С другой стороны, он жаждал разузнать, что произошло между адвокатом и графом. Неизвестность возбуждала его любопытство. Короче говоря, отступать было некуда, и он дал себе слово держать язык за зубами и быть начеку.
Адвокат проводил сыщика в спальню госпожи Жерди. Самочувствие ее к вечеру несколько изменилось, хотя еще нельзя было понять, к лучшему или к худшему. Очевидно было одно: забытье ее стало уже не столь глубоким. Глаза ее по-прежнему были закрыты, но можно было заметить легкое подергивание век; она металась на подушках и тихонько стонала.
– Что сказал врач? – спросил папаша Табаре, понижая голос до шепота, как невольно делают все в комнате больного.
– Он только что ушел, – отвечал Ноэль. – Скоро все будет кончено.
Папаша Табаре на цыпочках подошел ближе и с нескрываемым волнением взглянул на умирающую.
– Бедная женщина! – прошептал он. – Смерть для нее милость Господня. Наверно, она жестоко страдает, но что такое эта боль по сравнению с той, какую довелось бы ей пережить, знай она, что ее сын, родной ее сын, сидит в тюрьме по обвинению в убийстве!
– Вот и я пытаюсь этим утешиться, видя ее в постели, без сознания, – подхватил Ноэль. – Ведь я все еще люблю ее, старый мой друг, для меня она не перестала быть матерью. Вы слышали, как я проклинал ее? Я обошелся с нею жестоко, думал, что ненавижу ее, но сейчас, теряя ее, я все забыл и помню только, как она ласкала меня. Да, лучше бы ей умереть. И все-таки, нет, не верю, не могу поверить, что ее сын убийца.
– Правда? Вы тоже не верите?
Папаша Табаре вложил в это восклицание столько пыла, столько горячности, что Ноэль взглянул на него с некоторым изумлением. Старик почувствовал, что краснеет, и поспешил объясниться:
– Я произнес «вы тоже», потому что сам, быть может, по недостатку опыта убежден в невиновности этого молодого человека. Не представляю себе, чтобы человек в его положении задумал и осуществил подобное злодейство. Я со многими говорил об этом деле, оно произвело невообразимый шум, так вот, все разделяют мое мнение. Всеобщие симпатии на его стороне, а это кое-что значит.
Монахиня сидела у постели, она выбрала место подальше от лампы, чтобы оставаться в тени, и яростно вязала чулок, предназначенный какому-нибудь бедняку. Это была чисто механическая работа, во время которой она обычно молилась. Но как только вошел папаша Табаре, она, судя по всему, позабыла о своих нескончаемых молитвах и навострила уши. Она слушала, но ничего не понимала. Умишко ее выбивался из сил. Что означает этот разговор? Кто эта женщина, кто этот молодой человек, который ей не сын, но называет ее матерью и упоминает настоящего сына, обвиненного в убийстве? Уже в разговоре Ноэля с доктором кое-что показалось ей загадочным. В какой странный дом она угодила! Ей было немного страшно, и на душе неспокойно. Не совершает ли она грех? Она пообещала себе, что обо всем расскажет господину кюре, как только увидит его.
– Нет, – говорил тем временем Ноэль, – нет, господин Табаре, нельзя сказать, что всеобщие симпатии на стороне Альбера. Сами знаете, мы, французы, любим крайности. Когда арестовывают какого-нибудь беднягу, быть может, вовсе и не совершившего преступления, которое ему ставят в вину, мы готовы побить его камнями. Всю нашу жалость мы приберегаем для того, кто уже предстал перед судом, пусть вина его и очевидна. Пока правосудие колеблется, мы вместе с ним настроены против обвиняемого, но как только доказано, что человек совершил злодеяние, наши симпатии ему обеспечены. Вот вам наше общественное мнение. Сами понимаете, оно меня не волнует. Я настолько его презираю, что, если Альбера не отпустят, на что я до сих пор надеюсь, я сам, слышите, сам буду его защитником. Я только что говорил это моему отцу, графу де Коммарену. Я стану адвокатом Альбера и спасу его.
Старик готов был броситься Ноэлю на шею. Ему до смерти хотелось сказать: «Мы вдвоем спасем его», но он сдержался. Что, если после такого признания адвокат станет его презирать? Однако он дал себе слово сбросить маску, если это будет необходимо и дела Альбера примут совсем уж угрожающий оборот. А покуда он ограничился тем, что пылко одобрил своего молодого друга.
– Браво, дитя мое! – воскликнул он. – У вас благородное сердце. Я опасался, что богатство и титул испортят вас, что вы возжаждете мести за все пережитое. Но вижу, вы останетесь таким же, каким я знал вас в прежние, более скудные времена. Однако скажите, виделись ли вы с господином графом, вашим отцом?
Только теперь Ноэль, казалось, заметил устремленные на него из-под накидки глаза монахини, горевшие от любопытства, как два карбункула. Он взглядом указал на нее сыщику и ответил:
– Я его видел, и все устроилось так, как я желал. Потом, при случае, расскажу вам о нашей встрече подробнее. Здесь, у этой постели, я почти краснею за свое счастье…
Папаше Табаре пришлось удовольствоваться этим ответом и обещанием. Понимая, что нынче вечером он ничего не узнает, старик признался, что выбился из сил, бегая по делам, и что ему пора спать. Ноэль его не удерживал. Он сказал, что ждет брата г-жи Жерди, за которым уже несколько раз посылали, но безуспешно. И еще добавил, что встреча с ним изрядно его смущает, поскольку он не знает, как себя вести. Следует ли все ему рассказать? Но это лишь усугубит его горе. С другой стороны, не сказать – значит принудить себя к тягостному притворству. Сыщик нашел, что лучше пока ничего не говорить, а позже объясниться.
– Какой прекрасный молодой человек мой Ноэль! – бормотал папаша Табаре, как можно тише пробираясь к себе в квартиру.
Вот уже сутки он не был дома и теперь ждал жестокого выговора от домоправительницы. Манетта и впрямь рвала и метала и тут же объявила хозяину, что твердо решила подыскать себе другое место, если он не образумится. Всю ночь она не сомкнула глаз, в чудовищной тревоге прислушиваясь к малейшему шороху на лестнице, с минуты на минуту ожидая, что на носилках внесут зарезанного хозяина. И в доме, как назло, не спали. Она видела, как вскоре после хозяина вышел г-н Жерди и через два часа вернулся. Потом приходили какие-то люди, посылали за врачом. Такие переживания убивают ее, не говоря уж о том, что для нее непереносимо ожидание – такая у нее натура.
При этом Манетта забывала, что ожидала она не хозяина и не Ноэля, а видного муниципального гвардейца, своего земляка, который обещал жениться на ней, а вчера, этакий изменник, взял и не пришел. Готовя папаше Табаре постель, она сыпала упреками и причитала, что она, мол, женщина откровенная – что у нее на уме, то и на языке, и она не станет молчать, когда речь идет об интересах хозяина, о его здоровье и добром имени. Хозяин помалкивал, не пытаясь возражать; он склонил голову перед бурей, согнулся под градом. Но стоило Манетте управиться с постелью, он без лишних слов выставил ее и запер дверь на два оборота.
Прежде всего, Табаре хотел составить новый план кампании и наметить быстрые и решительные меры. Он наскоро проанализировал положение. Ошибся ли он в ходе расследования? Нет. Допустил ли погрешности, выстраивая гипотезу? Тоже нет. Он исходил из установленного факта убийства, учитывал все обстоятельства и неизбежно должен был выйти на того самого убийцу, какого предсказал. Но подследственный г-на Дабюрона ни в коем случае не может быть убийцей. Вера в непреложность собственных выводов подвела папашу Табаре, когда он указал на Альбера.
«Вот куда заводят предвзятые мнения и бессмысленные общие слова, которые для глупцов – словно путевые столбы. Будь я послушен своему вдохновению, я исследовал бы это дело глубже, не положился бы на волю случая. Формула „Ищи, кому выгодно преступление“ может оказаться столь же справедливой, сколь и бессмысленной. В самом деле, наследники убитого получают все выгоды от его смерти, а убийце достается всего-навсего кошелек и часы жертвы. В смерти вдовы Леруж были заинтересованы трое: Альбер, г-жа Жерди и граф де Коммарен. Мне ясно, что Альбер не может быть убийцей; не может быть ею и г-жа Жерди, которую неожиданное известие об убийстве в Ла-Жоншер вот-вот сведет в могилу; остается граф. Значит, это он? Но он не мог действовать собственноручно. Он нанял какого-то негодяя, причем, так сказать, негодяя из хорошего общества: убийца был обут в изящные лаковые сапоги от лучшего мастера и курил первосортные сигары с янтарным мундштуком. Обычно таким элегантным мерзавцам не хватает духу на тяжкие преступления. Они жульничают, совершают подлоги, но не убивают. Но допустим даже, что граф нашел молодца, готового на все. В таком случае он просто-напросто сменит сообщницу на сообщника, еще более опасного. Это было бы глупо, а граф умен. Значит, он здесь ни при чем. Впрочем, для очистки совести проверю и эту возможность.
Вот еще что: вдова Леруж, так ловко подменившая младенцев, могла с тем же успехом браться и за другие не менее рискованные поручения. Кто докажет, что она не оказала какой-то услуги другим людям, которым теперь понадобилось от нее избавиться? Здесь какая-то тайна, которую я пока при всем желании не в силах разгадать. В одном я уверен: вдову Леруж убили не для того, чтобы помешать Ноэлю вступить в его права. Ее устранили по какой-то схожей причине, и устранил ее некий энергичный и ловкий негодяй, имевший побуждения, которые я предполагал у Альбера. В этом направлении и нужно искать. Прежде всего, следует изучить биографию этой услужливой вдовы, и я ее раздобуду: завтра, видимо, в прокуратуру доставят сведения, собранные в ее родных местах».
Вернувшись к Альберу, папаша Табаре принялся взвешивать улики против молодого человека и оценивать шансы, которые у него еще остаются.
– Что до шансов, – бурчал сыщик, – то на его стороне только случай да я, то есть пока шансы ничтожны. Что до улик, то им нет числа. Однако не будем отчаиваться. Эти улики собрал я сам, и мне известно, чего они стоят. Казалось бы, многого, а выходит – ничего. Что в этом деле, в котором даже собственным глазам и ушам не следует доверять, доказывают самые, на первый взгляд, очевидные следы? Альбер – жертва необъяснимых совпадений, но все они могут разъясниться в один миг. Да что я, впервые с таким сталкиваюсь? В деле того бедняги портного было еще хуже. В пять часов он покупает нож, показывает его десятку друзей, говоря: «Это для моей жены, она, мерзавка, обманывает меня с подмастерьями». Вечером соседи слышат шумную ссору между супругами, крики, угрозы, топот, удары, потом внезапно все смолкает. Наутро портного и след простыл, а жену находят мертвой, и между лопаток у нее торчит тот самый нож, вонзенный по самую рукоятку. И что же? Убил ее не муж, а ревнивый любовник. Чему верить после этого? Правда, Альбер не желает рассказать, как он провел вечер. Но это меня не касается. Моя задача не выяснять, где он был, а доказать, что в Ла-Жоншер его не было. Может быть, Жевроль напал на след? Желаю ему этого от всего сердца. Дай-то Бог, чтобы Жевроль преуспел! Правда, потом он замучает меня язвительными шуточками, однако за тщеславие и дурацкое упрямство я вполне заслуживаю этого не слишком страшного наказания. Чего бы я не дал, чтобы Альбер поскорей вышел на свободу! Да за это и половину состояния не жалко отдать. А вдруг меня постигнет неудача? Вдруг, причинив ему столько зла, я не сумею принести ему избавление?
Содрогнувшись от такой мысли, папаша Табаре лег в постель. Он уснул, и ему приснился кошмарный сон. Ему снилось, что он затерялся среди сброда, заполняющего площадь Рокетт в те дни, когда вершится месть общества, и глазеющего на последние конвульсии осужденного, и присутствует при казни Альбера. Он видит, как несчастный, со связанными за спиной руками, в сорочке с оторванным воротом, поддерживаемый священником, всходит по крутым ступеням на эшафот. Видит, как тот стоит на роковом помосте, гордым взором обводя ужаснувшуюся толпу. Вскоре осужденный встречается взглядом с папашей Табаре и, разорвав веревки, указывает на него, громогласно восклицая: «Вот мой погубитель!» Поднимается громкий ропот: все проклинают папашу Табаре. Он хочет убежать, но ноги словно налиты свинцом; он пытается хотя бы закрыть глаза, но не может: неведомая, неодолимая сила заставляет его смотреть, и тут Альбер кричит: «Я невиновен, а истинный убийца…» – и называет имя убийцы; толпа подхватывает это имя, но папаша Табаре его не расслышал, не может запомнить. Наконец, голова казненного скатывается с плеч…
Старик вскрикнул и проснулся в холодном поту. Ему не сразу удалось убедить себя, что все виденное и слышанное им было сном, что на самом деле он дома, у себя в постели. Да, все это ему приснилось. Но говорят, сны подчас оказываются предупреждением свыше. Воображение папаши Табаре было до такой степени поражено, что он тщетно изо всех сил пытался вспомнить имя преступника, произнесенное Альбером. Так и не преуспев в этом, он встал и зажег свечу: темнота нагоняла на него страх, ночь кишела призраками. Нечего было и думать о том, чтобы уснуть. Снедаемый тревогой, он осыпал себя самыми немыслимыми проклятиями и горько упрекал за то удовольствие, которое до сих пор ему дарило его увлечение. Слаб человек! Бог лишил его разума, когда он надумал идти на Иерусалимскую улицу предлагать свои услуги. Ничего не скажешь, подходящее занятие для человека его возраста, почтенного парижского буржуа, богатого и уважаемого! Подумать только, ведь он гордился своими подвигами, бахвалился своей проницательностью, тщеславно радовался своему изощренному нюху, кичился даже дурацким прозвищем Загоню-в-угол! Старый олух! Чего он добился, приобретя ремесло ищейки? Самых страшных неприятностей, какие только есть на свете, да презрения друзей, не говоря уж об опасности соучастия в осуждении невинного человека! Даже дело портного не открыло ему глаза.
Перебирая в памяти минуты торжества, испытанные в прошлом, и сравнивая их с нынешними мучениями, он давал себе зарок никогда больше не возвращаться к этому занятию. Когда Альбер будет спасен, он поищет менее рискованных и более почтенных развлечений. Прервет связи, за которые приходится краснеть; право же, полиция и правосудие как-нибудь обойдутся без него.
Наконец наступил рассвет, которого папаша Табаре ждал с лихорадочным нетерпением. Чтобы протянуть время, одевался он медленно, с большим тщанием, старался занять мысли всякими мелочами, не думать о том, сколько минут прошло, – и все-таки раз двадцать глянул, не остановились ли стенные часы. Несмотря на все проволочки, не было еще восьми, когда он явился домой к судебному следователю, прося извинить, что ввиду весьма серьезных причин столь бесцеремонно потревожил его ранним утром.
Его извинения оказались излишни. Восемь утра – не то время, когда можно было потревожить г-на Дабюрона. Он уже принялся за работу. С присущей ему благожелательностью он принял сыщика и даже пошутил над его вчерашним волнением. Кто бы мог подумать, что у г-на Табаре столь чувствительная душа! Ну, да утро вечера мудренее. Надо надеяться, г-н Табаре сегодня мыслит несколько более здраво, а может, он поймал истинного преступника? Сыщика огорчил легкомысленный тон следователя, который слыл человеком не только сдержанным, но даже мрачноватым. Не крылась ли за этим зубоскальством твердая решимость пренебречь любыми доводами папаши Табаре? Сыщик это так и понял и свою защитительную речь начал, не питая ни малейших иллюзий.
Говорил он на сей раз спокойнее, но с той энергией и решимостью, которые обрел ценой серьезных размышлений. Он взывал к сердцу и рассудку. Увы, хотя, говорят, сомнение заразительно, ему не удалось ни переубедить следователя, ни сколько-нибудь поколебать. Самые сильные его аргументы разбивались о железную убежденность г-на Дабюрона, как стекло о гранит. И в этом не было ничего удивительного.
Папаша Табаре опирался лишь на зыбкую теорию, на слова. Г-н Дабюрон располагал осязаемыми свидетельствами, фактами. А случай сам по себе был таков, что, какие бы доводы ни приводил сыщик в оправдание Альбера, все они могли обернуться против молодого человека и подтвердить его виновность. Папаша Табаре настолько был уверен, что у следователя его постигнет неудача, что, похоже, ничуть не обеспокоился и не огорчился.
Он объявил, что покуда не будет настаивать; он, дескать, вполне верит в познания и беспристрастность г-на судебного следователя, так что с него довольно и того, что он предостерег г-на Дабюрона против тех предположений, которые сам же имел несчастье ему сообщить. А теперь, добавил он, ему предстоит собрать новые улики. Расследование только начинается, и многое еще неизвестно, например, прошлое вдовы Леруж. Сколько новых фактов может обнаружиться! Кто знает, какие показания даст человек с серьгами, по следу которого идет Жевроль? В глубине души пылая возмущением и более всего желая осыпать проклятиями и колотушками этого «болвана судейского», внешне папаша Табаре по-прежнему держался смиренно и скромно.
Дело в том, что он хотел и впредь оставаться в курсе всех действий и распоряжений следователя, а также знать, какие результаты дадут новые допросы. Напоследок он попросил оказать ему любезность и позволить встретиться с Альбером; ему казалось, что за свои услуги он достоин столь пустячного вознаграждения. Ему бы только потолковать с Альбером две минуты без свидетелей.
Однако г-н Дабюрон отклонил эту просьбу. Он объявил, что пока подозреваемый будет содержаться в строжайшем одиночном заключении. В качестве же утешения добавил, что дня через три-четыре к этому вопросу, пожалуй, можно будет вернуться, поскольку отпадут причины для столь строгой изоляции.
– Ваш отказ весьма огорчителен для меня, сударь, – сказал папаша Табаре, – но я вас понимаю и слушаюсь.
Это была единственная произнесенная им жалоба; затем он поспешно удалился, боясь, что не сдержится и даст волю раздражению. Он почувствовал, что, помимо огромного счастья от спасения невинного, которого чуть не погубила его, Табаре, неосторожность, он испытает невыразимое наслаждение, отомстив упрямому судейскому крючку.
– Да для несчастного, – бормотал он, – три дня в тюрьме все равно что три столетия. А наш любезный следователь говорит об этом, как будто это пустяк. Я должен как можно скорее обнаружить истину.
Да, г-н Дабюрон полагал, что ему не понадобится больше нескольких дней, чтобы вырвать у Альбера признание или хотя бы заставить его отказаться от своей системы защиты. Вся беда предварительного следствия состояла в том, что оказалось невозможно найти свидетеля, который видел бы подозреваемого во вторник вечером, накануне поста. А между тем одно-единственное свидетельство имело бы столь огромное значение, что г-н Дабюрон, как только папаша Табаре оставил его наконец в покое, направил все усилия на поиски такого свидетельства.
У него оставались немалые надежды: еще только суббота, убийство совершено совсем недавно, и люди наверняка еще что-то помнят, а полиция до сих пор не успела произвести расследование по всем правилам. Пятеро самых опытных сыщиков уголовной полиции были направлены в Буживаль; их снабдили фотографическими снимками Альбера. Они получили приказ прочесать местность между Рюэйлем и Ла-Жоншер, разнюхивать, расспрашивать, производить тщательнейшие и подробнейшие розыски. Фотографии намного облегчали им задачу. Сыщикам было велено предъявлять их всем и каждому и даже раздать десяток местным жителям, благо снимков хватало. Не может же быть, чтобы в такой вечер, когда столько народу находилось вне дома, никто не встретил изображенного на фотографии человека ни на рюэйльском вокзале, ни на какой-нибудь из дорог, ведущих в Ла-Жоншер, – на большаке или тропинке, вьющейся вдоль реки.
Отдав эти распоряжения, судебный следователь направился в суд и послал за подозреваемым. С утра он уже успел получить рапорт, где час за часом перечислялись все поступки, жесты, слова узника, за которым втайне велось наблюдение. Из рапорта следовало, что ничто не изобличало в Альбере преступника. Выглядел он печальным, но не угнетенным. Ни крика, ни угроз, ни проклятий правосудия, ни даже единого слова о роковой ошибке не вырвалось из его уст. Слегка подкрепившись, он подошел к окну камеры и, прислонясь к нему, надолго, на час с лишним, замер в неподвижности. Затем лег и спокойно уснул.
«Железный человек!» – подумал г-н Дабюрон, когда подозреваемый вошел в кабинет.
Альбер ничем более не напоминал того несчастного, который накануне, ошеломленный множеством улик, оглушенный градом разящих вопросов, пытался защищаться и, казалось, слабел под взглядом следователя. Совершил он преступление или не совершил, но решимость к нему, судя по всему, вернулась. Выражение его лица не оставляло на этот счет ни малейших сомнений. В глазах его читались хладнокровная готовность добровольно принести себя в жертву, а также известная надменность, которую можно было принять за презрение, хотя на самом деле она объяснялась благородным негодованием оскорбленного человека. Чувствовалось, что он уверен в себе и несчастье способно поколебать его, но не сломить.
Судебный следователь понял, что пора изменить тактику. Он распознал в виконте одну из тех натур, которые, когда на них нападают, оказывают сопротивление, а под влиянием угроз становятся еще тверже. Отказавшись от мысли запугать, г-н Дабюрон попытался его смягчить. Расхожий, зато беспроигрышный прием, подобный некоторым театральным эффектам, выжимающим у зрителей слезу. Преступник, собравший всю волю в кулак, чтобы противостоять запугиванию, чувствует себя безоружным, столкнувшись с вкрадчивой снисходительностью, которая чем притворнее, тем убедительнее. Такое умасливание было коронным номером г-на Дабюрона. Сколько признаний он вырвал, оросив им путь слезами! Никто лучше него не умел задеть те извечные струны, которые отзываются даже в самых развращенных сердцах; струны эти – честь, любовь, семья.
Он с такой добротой и лаской обратился к Альберу, так сочувствовал ему! Еще бы! Ему, чья жизнь доныне была волшебной сказкой, выпали такие муки! Все, что у него было, внезапно обратилось в развалины! Кто бы мог это предвидеть в те дни, когда он был единственной надеждой богатейшей и знатнейшей семьи? Обратившись к минувшему, следователь остановился на трогательных воспоминаниях ранней юности, поворошил прах всех угасших радостей. Умело используя все, что он знал о жизни подозреваемого, г-н Дабюрон терзал его мучительными намеками на Клер д’Арланж. Зачем Альбер упорствует в желании в одиночку нести бремя своего горя? Неужели в мире нет ни одной души, которая рада была бы облегчить его ношу? К чему это непримиримое молчание? Не следует ли ему подать весточку той, чья жизнь переплелась с его жизнью? Что для этого нужно? Одно слово. И вот он если уж не свободен, то хотя бы не отторгнут от мира! Тюрьма станет для него вполне сносным пристанищем. Тогда конец одиночному заключению, к нему станут приходить друзья, он сможет звать к себе кого захочет.
Казалось, это говорит не следователь, а отец, в груди которого всегда остаются неисчерпаемые запасы снисходительности и любви к сыну. Г-н Дабюрон этим не ограничился. Он предположил, что сам очутился на месте Альбера. Как бы он поступил после чудовищного разоблачения? Он насилу осмеливается подумать об этом. Но он понимает, что подвигло Альбера на убийство вдовы Леруж; с его точки зрения, убийство это вполне объяснимо и едва ли не извинительно. И тут он поставил новый капкан. Разумеется, это тяжкое преступление, но в нем нет ничего возмущающего совесть или разум.
Это одно из тех преступлений, которое общество может если не забыть, то до известных пределов извинить, потому что в причинах, толкнувших преступника на это злодеяние, нет ничего постыдного. Какой суд не найдет смягчающих обстоятельств для столь понятной вспышки безумия? И потом, разве первым и самым главным виновником преступления не оказывается граф де Коммарен? Разве не его бредовая затея привела к столь ужасной развязке? Его сын – жертва обстоятельств и достоин главным образом жалости.
В таком духе г-н Дабюрон распространялся довольно долго, прибегая к доводам, которые, на его взгляд, более всего были способны смягчить закоснелое сердце убийцы. Из его речей вытекало, что разум ней всего будет сознаться. Но его риторические упражнения достигли не большего успеха, чем слова папаши Табаре, обращенные к нему.
Альбер, казалось, нисколько не растрогался, его ответы были донельзя лаконичны. Как и в первый раз, он с начала и до конца настаивал на своей невиновности. Оставалось прибегнуть к испытанию, которое часто приводило к желанным результатам.
В тот же день, в субботу, Альбера привели туда, где лежал труп вдовы Леруж. Казалось, это мрачное зрелище произвело на него впечатление, но не большее, чем на любого человека, которому показали жертву убийства спустя четыре дня после преступления. Кто-то из присутствующих произнес:
– Эх, если бы она могла заговорить!
– Для меня это было бы счастьем, – отозвался Альбер.
С самого утра г-ну Дабюрону не удалось продвинуться ни на шаг. Ему пришлось признать, что разыгранная им комедия провалилась, а теперь потерпела неудачу и эта последняя попытка. К тому же самоуверенного следователя бесило невозмутимое смирение подозреваемого. Его досада стала явной для всех, когда, внезапно отринув притворную доброту, он сурово распорядился отвести Альбера в тюрьму.
– Я заставлю его признаться! – сквозь зубы процедил он.
Быть может, в эту минуту г-н Дабюрон с сожалением подумал о тех милых инструментах, что применялись следствием в средние века и легко развязывали языки подозреваемым. «Такого упорного преступника еще свет не видывал», – думал он. На что он только рассчитывает, так дерзко все отрицая? Такое упорство, бессмысленное при столь неопровержимых уликах, приводило следователя в негодование. Сознайся Альбер в преступлении, он мог бы рассчитывать на сочувствие г-на Дабюрона, но, запираясь, он нажил в его лице беспощадного врага.
По природе добрый и великодушный, следователь очутился в ложном положении, и это его ослепляло и сбивало с толку. Сперва он желал, чтобы Альбер оказался невиновен, но теперь жаждал поскорей доказать его вину. На это существовало множество причин, в которых сам он не мог разобраться. Г-ну Дабюрону слишком памятны были те времена, когда виконт де Коммарен оказался его соперником и он готов был его убить. Быть может, он раскаивался, что подписал постановление на арест и не отказался вести следствие? А тут еще этот сюрприз – необъяснимая перемена с папашей Табаре.
Все это вместе приводило г-на Дабюрона в состояние лихорадочного возбуждения и толкало дальше по пути, на который он вступил. Отныне он не столько стремился доказать вину Альбера, сколько оправдать собственное поведение. Это дело так задевало его, словно касалось лично. И впрямь, окажись подозреваемый невиновным, г-ну Дабюрону не оправдаться в собственных глазах. И чем сильнее корил он себя, чем острее чувствовал, как нарастает в нем сознание вины, тем упорнее старался изобличить бывшего соперника, даже несколько злоупотребляя своей властью. Его влекла логика событий. Ему казалось, что на карту поставлено его счастье, и он развивал судорожную деятельность, с какой не производил еще ни одного расследования.
Все воскресенье г-н Дабюрон выслушивал доклады сыщиков, вернувшихся из Буживаля. Все они утверждали, что вконец выбились из сил, однако никаких новых сведений не добыли. Правда, они слышали разговоры о какой-то женщине, которая якобы видела убийцу, выходившего от вдовы Леруж, но никто не сумел указать им эту женщину или хотя бы назвать ее имя.
Однако все почитали своим долгом сообщить следователю, что одновременно с расследованием, которое предпринял он, происходит еще одно, которое ведет папаша Табаре. Он изъездил все окрестности в кабриолете, запряженном резвой лошадкой. Действовал он, по-видимому, весьма стремительно, потому что уже успел побывать повсюду, куда бы ни явились сыщики. Судя по всему, под началом у него состоят человек двенадцать, из которых по меньшей мере четверо служат на Иерусалимской улице. Все сыщики сталкивались с папашей Табаре, со всеми он говорил. Одному из них он заметил:
– За каким дьяволом вы показываете эту фотографию каждому встречному и поперечному? Не пройдет и четырех дней, как у вас будет толпа свидетелей, которые за три франка наперегонки ринутся расписывать вам вашу же фотографию.
Другого полицейского он окликнул на дороге и высмеял его.
– Ну и простак же вы! – крикнул он. – Стоит ли человека, который прятался, искать на дороге, где ходят все; поищите лучше на обочинах и найдете.
Наконец, он окликнул двух сыщиков в буживальском кафе и отозвал их в сторону.
– Я его нашел, – сказал он им. – Парень хитер, он пришел через Шату. Его видели трое, два железнодорожных носильщика и еще одно лицо, чьи показания будут решающими, поскольку он с ним разговаривал. Преступник курил.
Г-н Дабюрон так разъярился на папашу Табаре, что, недолго думая, ринулся в Буживаль с твердым намерением привезти не в меру ретивого сыщика в Париж, а после заставить кого следует дать ему хорошую нахлобучку. Но съездил он зря. Папаша Табаре, кабриолет, резвая лошадка и двенадцать помощников исчезли; во всяком случае, найти их не удалось.
Вернувшись домой, вне себя от усталости и крайне расстроенный, следователь обнаружил телеграмму от начальника отдела уголовной полиции, краткую, но весьма выразительную:
«Руан воскресенье тчк Нашел его тчк Вечером выезжаем Париж тчк Бесценный свидетель тчк Жевроль»
XIII
В понедельник с утра, часов в девять, г-н Дабюрон собрался в суд, где надеялся встретить Жевроля и найденного им свидетеля, а может быть, и папашу Табаре. Сборы были уже почти закончены, как вдруг слуга доложил, что его желает видеть молодая дама, пришедшая в сопровождении особы постарше. Назваться посетительница не захотела, говоря, что откроет свое имя только в том случае, если без этого ее категорически откажутся принять.
– Просите, – отвечал следователь.
Он подумал, что это родственница кого-нибудь из тех, кто находится в предварительном заключении и чьи дела он расследовал, когда произошло убийство в Ла-Жоншер, и решил, что спровадит непрошеную гостью как можно скорее.
Стоя у камина, он искал в дорогой вазе, полной визитных карточек, какой-то адрес. Заслышав скрип отворяемой двери, а потом шелест шелкового платья, задевшего дверной косяк, он не удосужился даже оглянуться. Вместо этого он бросил равнодушный взгляд в зеркало. И тут г-н Дабюрон вздрогнул, словно увидел призрак. В смятении он выпустил из рук вазу, которая с грохотом упала на мраморную каминную полку и разбилась вдребезги.
– Клер! – пролепетал он. – Клер!
Равно боясь и стать жертвой обмана зрения, и увидеть ту, чье имя произнес, он медленно обернулся.
В самом деле, перед ним была мадемуазель д’Арланж. Эта девушка, такая гордая и в то же время такая застенчивая, осмелилась прийти к нему домой, одна или почти одна – ведь гувернантка осталась в прихожей! Воистину, ею руководило сильное чувство, если она позабыла свою обычную робость. Никогда, даже в те времена, когда видеть ее было для него счастьем, не казалась она ему такой возвышенно-прекрасной. Ее красота, обычно окутанная облачком грусти, блистала и ослепляла. Лицо поражало невиданным доныне оживлением. В глазах, сверкавших от недавно пролитых и непросохших слез, читалась благородная решимость. Чувствовалось, что она почитает необходимым исполнить некий долг и исполнит его пусть без радости, зато с простотой, которая и составляет самую суть героизма. Спокойно и с чувством собственного достоинства она подошла и на английский манер протянула следователю руку с грацией, какая дается немногим женщинам.
– Мы по-прежнему друзья, не правда ли? – произнесла она с печальной улыбкой.
Следователь не дерзнул пожать эту протянутую руку, освобожденную от перчатки. Он едва коснулся ее кончиками пальцев, словно боясь чрезмерного потрясения.
– Да, – еле слышно выговорил он, – я вам по-прежнему предан.
Мадемуазель д’Арланж опустилась в глубокое кресло, то самое, сидя в котором папаша Табаре две ночи назад составлял план ареста Альбера. Г-н Дабюрон остался стоять и прислонился к высокому бюро.
– Вы знаете, зачем я пришла? – спросила девушка.
Он кивнул. Да, он знал это слишком хорошо и сомневался, сумеет ли устоять перед просьбой, которую произнесут уста Клер. Чего она захочет от него? В чем он сумеет ей отказать? Ах, если бы знать заранее! Он не мог опомниться от изумления.
– Я узнала чудовищную новость только вчера, – продолжала Клер. – Было решено, что разумнее скрыть ее от меня, и, если бы не моя добрая Шмидт, я и сейчас ни о чем понятия бы не имела. Какую ночь я провела! Сперва я была в ужасе, но потом, как только услышала, что все зависит от вас, мои страхи рассеялись. Вы взялись за это дело ради меня, не так ли? Я знаю, как вы добры. Не могу даже передать, как я вам благодарна.
Каким унижением были для почтенного следователя эти искренние слова признательности! Да, вначале он подумал о мадемуазель д’Арланж, но потом… Он опустил голову, чтобы уклониться от бесстрашного и бесхитростного взгляда Клер.
– Не благодарите меня, мадемуазель, – пролепетал он, – вы заблуждаетесь, я не имею права на вашу благодарность.
Сначала Клер была слишком взволнована, чтобы заметить смятение г-на Дабюрона. Она лишь обратила внимание, что у него дрожит голос, но не догадывалась о причинах. Она подумала, что ее появление оживило в нем болезненные воспоминания, что он, должно быть, до сих пор любит ее и страдает. Это ее опечалило, ей было стыдно.
– А я готова благословлять ваше имя, сударь, – продолжала она. – Кто знает, осмелилась бы я пойти к другому следователю, обратиться с просьбой к незнакомому человеку! Да и потом, что подумал бы этот человек, не зная меня? А вы так великодушны, вы успокоите меня, вы расскажете, по какому ужасному недоразумению Альбер был арестован, словно разбойник, и брошен в тюрьму.
– Увы! – тихо вздохнул следователь.
Клер едва расслышала этот вздох и не поняла его ужасного смысла.
– С вами я не боюсь, – продолжала она. – Вы сами сказали, что вы мой друг. Вы не отвергнете моей просьбы. Поскорее верните ему свободу. Я не знаю толком, в чем его обвиняют, но клянусь вам, он невиновен.
Клер говорила убежденно, не представляя, что может помешать исполнению ее просьбы, такой простой и естественной. Ей казалось, что ее заверений вполне достаточно. Г-н Дабюрон исправит все одним словом. Но следователь молчал. Он был восхищен этим святым неведением, наивным и простодушным доверием, не допускающим сомнений. Правда, поначалу она невольно причинила ему боль, но он уже не помнил об этом. Он и в самом деле был честнейший, порядочнейший человек; недаром же он трепетал, собираясь открыть ей жестокую правду. Он не решался произнести слова, которые, подобно смерчу, разрушат хрупкое счастье девушки. Его унизили, им пренебрегли, теперь он мог поквитаться за все, однако в нем не было и тени постыдной, но такой объяснимой радости.
– А если бы я сказал вам, мадемуазель, – начал он, – что не уверен в невиновности господина Альбера?
Она привстала и, словно отвергая его слова, простерла руки. Он продолжал:
– Если бы сказал, что он виновен?
– Нет, сударь, – перебила Клер, – вы так не думаете!
– Я так думаю, мадемуазель, – возразил он печальным голосом, – и добавлю, что у меня есть уверенность на этот счет.
Клер смотрела на следователя в глубоком изумлении. Как он может? Не ослышалась ли она? Правильно ли поняла? Она не верила своим ушам. Неужели он говорит всерьез? Или это жестокая и недостойная шутка? В растерянности она задавала себе вопрос, потому что, с ее точки зрения, то, что он сказал, было невозможно, немыслимо.
Не смея поднять глаз, г-н Дабюрон продолжал, и голос его дрожал от нескрываемой жалости:
– Поверьте, мадемуазель, я искренне сострадаю вам, и все же, к прискорбию своему, я вынужден сказать вам горькую правду, а вы имейте мужество ее выслушать. Лучше, если вы услышите ее из уст друга. Поэтому соберитесь с силами, укрепите ваше благородное сердце, дабы оно вынесло неслыханное несчастье. Нет, здесь нет никакого недоразумения, правосудие не заблуждается. Господин виконт де Коммарен обвиняется в убийстве, и все, слышите, все подтверждает его вину.
Подобно врачу, по капле отмеряющему опасное снадобье, г-н Дабюрон произнес последние слова медленно, с паузами. Он зорко следил за собеседницей, готовый замолчать, если впечатление окажется слишком сильным. Он не подозревал, что эта девушка с ее чрезмерной робостью, с чуть ли не болезненной чувствительностью способна твердо выслушать подобное известие. Он ждал взрыва отчаяния, слез, душераздирающих стонов. Могло дойти и до обморока – он приготовился кликнуть верную мадемуазель Шмидт. Но он ошибся. Исполненная силы и мужества, Клер вскочила, словно подброшенная пружиной. Краска негодования залила ее лицо, слезы мгновенно высохли.
– Неправда! – воскликнула она. – Тот, кто это сказал, лжет. Альбер не может, понимаете, не может быть убийцей. Будь он сейчас здесь и скажи мне сам: «Это правда», – я и то не поверила бы, я закричала бы: «Это ложь!»
– Он еще не сознался, – продолжал следователь, – но он сознается. А если даже нет, у нас более чем достаточно улик, чтобы его осудить. Обвинения, выдвинутые против него, невозможно опровергнуть, они очевидны!
– Ну что ж, – перебила мадемуазель д’Арланж, вкладывая в свои слова всю душу, – а я повторяю вам: правосудие заблуждается. Да-да, – продолжала она, заметив протестующее движение следователя, – он невиновен. Я твердила бы это, не испытывая сомнений, даже если бы все на свете обвиняли его вместе с вами. Разве вы не видите, что я знаю его лучше, чем сам он себя знает, и вера моя в него безраздельна, как вера в Бога. Я скорее заподозрю себя, чем его.
Следователь робко пытался возразить, но Клер не дала ему и слова сказать.
– Я вижу, сударь, для того, чтобы вас убедить, придется мне забыть, что я девушка и беседую с мужчиной, а не с матерью. Ради Альбера я пойду и на это. Вот уже четыре года, сударь, как мы любим друг друга. С тех пор я не скрываю от него ни одной своей мысли, а он не таит от меня своих. Вот уже четыре года у нас нет друг от друга тайн, он живет для меня, я для него. Я одна могу сказать, насколько он достоин любви. Я одна знаю, какое величие души, какое благородство мыслей, какие возвышенные чувства даны тому, кого вы с такой легкостью объявили убийцей. Все вокруг завидовали ему, и лишь я знала, что он страдает. Так же, как я, он одинок на свете; отец никогда не любил его. Мы пережили немало печальных дней, ища опоры друг в друге. Неужели теперь, когда наши испытания близятся к концу, он вдруг совершит преступление? С какой стати, скажите на милость?
– Ни имя, ни состояние графа де Коммарена ему не принадлежат, мадемуазель, и он внезапно узнал об этом. А подтвердить это могла только одна старуха. Он убил ее, чтобы не утратить своего положения.
– Какая гнусность! – вскричала девушка. – Какая бесстыдная, нелепая клевета! Слыхала я, сударь, эту сказочку о рухнувшем благополучии, он сам поспешил мне ее рассказать. Это несчастье в самом деле угнетало его последние три дня. Но печалился он не за себя, а только за меня. Его приводила в отчаяние мысль, что я огорчусь, когда узнаю, что он не сможет дать мне всего того, о чем мечтал. Это я-то огорчусь! Да на что мне громкое имя, несметное состояние! Им я обязана единственным горем, какое было у меня в жизни. И разве я люблю его за знатность, за богатство? Так я ему и ответила. Он пришел ко мне опечаленный, но мгновенно повеселел, поблагодарил меня и сказал: «Вы любите меня, и все остальное не важно». Тогда я выбранила его за то, что он сомневался во мне. И после этого, по-вашему, он пошел и убил старуху! Да вы не посмеете повторить эту нелепость.
И, победоносно улыбнувшись, мадемуазель д’Арланж умолкла. Ее улыбка означала: «Ну, вот я вас и одолела, вы побеждены, что вы можете мне возразить?»
Следователь недолго дал бедному созданию упиваться мнимой победой. Он не думал о том, как жестоко и пагубно его упорство. Им владела все та же навязчивая идея. Убедить Клер значило оправдать свое поведение.
– Вы не знаете, мадемуазель, – снова заговорил он, – что и порядочнейший человек может поддаться своего рода безумию. Когда мы чего-то лишаемся, мы начинаем постигать всю огромность утраты. Боже меня сохрани сомневаться во всем том, что вы мне рассказали. Но вообразите себе всю безмерность катастрофы, постигшей господина де Коммарена. Откуда вам знать, какое отчаяние могло охватить его, когда он расстался с вами, на какую крайность могло оно его толкнуть! Что, если на него нашло временное помрачение, что, если он не отдавал себе отчета в том, что творит? Быть может, этим и следует объяснить его преступление.
Лицо мадемуазель д’Арланж покрылось смертельной бледностью, на нем читался непреодолимый ужас. Следователю показалось, что ее благородная и чистая вера наконец поколеблена.
– Для этого он должен был сойти с ума! – прошептала она.
– Возможно, – согласился следователь, – хотя обстоятельства преступления свидетельствуют о весьма тщательном предумышлении. Право, мадемуазель, не будьте слишком доверчивы. Молитесь и ждите исхода этого ужасного дела. Прислушайтесь к моим советам, это советы друга. Когда-то вы питали ко мне доверие, какое дочь питает к отцу, вы сами так говорили, поверьте же мне и теперь. Храните молчание и ждите. Скройте от всех ваше вполне понятное горе – как бы не пришлось вам после раскаиваться в том, что вы дали ему волю. Вы молоды, неопытны, у вас нет ни руководителя, ни матери… Увы, предмет вашей первой привязанности оказался недостоин вас.
– Нет, сударь, нет, – пролепетала Клер. – Ах! – воскликнула она. – Вы говорите то же, что свет, осторожный, эгоистичный свет, который я презираю, который мне ненавистен.
– Бедное дитя! – продолжал г-н Дабюрон, безжалостный даже в сочувствии. – Это ваше первое разочарование. Оно ужасно, немногие женщины смогли бы примириться с ним. Но вы молоды, вы мужественны, это несчастье не разобьет вашу жизнь. Когда-нибудь вам будет страшно даже вспоминать о нем. По опыту знаю, время врачует любые раны.
Клер пыталась внимательно слушать, что говорит ей следователь, но слова его достигали ее слуха лишь как смутный шум, а смысл их от нее ускользал.
– Я не понимаю вас, сударь, – перебила она. – Что же вы мне советуете?
– Могу подать вам, мадемуазель, единственный совет, диктуемый здравым смыслом и моей к вам привязанностью. Я говорю с вами, как нежный и преданный брат. И прошу вас: будьте мужественны, Клер, примиритесь с величайшей жертвой, какую может потребовать от девушки голос чести. Оплачьте, да, оплачьте вашу униженную любовь, но откажитесь от нее. Молите Бога, чтобы он ниспослал вам забвение. Тот, кого вы любили, недостоин вас.
Следователь умолк в некотором испуге. Лицо мадемуазель д’Арланж приобрело землистый оттенок. Но душа ее была выносливей, чем плоть.
– Вы сами только что сказали, – прошептала она, – что он мог совершить это злодейство только в минуту заблуждения, поддавшись вспышке безумия.
– Да, это вполне вероятно.
– В таком случае, сударь, если он не ведал, что творит, значит, он не виноват.
Следователь забыл, как когда-то утром, лежа в постели, поправляясь после болезни, бился над неким мучительным вопросом.
– Ни правосудие, ни общество, – отвечал он, – не в состоянии определить это, мадемуазель. Один Бог на небе, читающий в глубине наших сердец, может судить об этом, может решать вопросы, превосходящие человеческое разумение. Для нас господин де Коммарен преступник. Возможно, в силу некоторых обстоятельств приговор будет смягчен, но преступление есть преступление. Возможно даже, убийцу оправдают, чего я желал бы от всей души, хотя надеяться на это нельзя – его вины это не смягчит. На нем навсегда останется клеймо, несмываемое пятно невинно пролитой крови. А потому смиритесь.
Мадемуазель д’Арланж остановила следователя взглядом, в котором сверкало возмущение.
– Значит, вы советуете мне покинуть его в беде! – воскликнула она. – Все отшатнутся от него, и вы благоразумно советуете мне поступить, как все! Говорят, друг может отступиться от друга, попавшего в беду, но женщина на такое не способна. Оглянитесь вокруг: как бы ни был унижен, несчастен, сломлен мужчина, рядом с ним вы всегда увидите женщину, которая поддерживает его и утешает. Когда последний из друзей сочтет за благо исчезнуть, когда отвернется последний из родственников, останется женщина.
Следователь испугался, что зашел, быть может, слишком далеко: его встревожило возбуждение Клер. Он попытался ее перебить, но безуспешно.
– Быть может, я робка, – продолжала она с возрастающим воодушевлением, – но на низость не способна. Я выбрала Альбера по доброй воле; что бы ни случилось, я от него не откажусь. Никогда я не скажу: «Я не знаю этого человека». Он собирался отдать мне половину своих богатств и блеска, значит, я возьму на себя, хочет он того или нет, половину его позора и несчастья. Вдвоем легче нести такое бремя. Наносите удары: я прижмусь к нему так крепко, что любой из ваших ударов не минует и меня. Вы советовали мне забвение – так научите, где его найти! Мне – забыть его? Да разве бы я смогла, даже если бы хотела? Но я и не хочу этого. Я люблю его, и разлюбить в моей власти не более, чем приказать своему сердцу не биться. Он в тюрьме, его обвиняют в убийстве, все равно я люблю его. Даже если он виновен, что с того? Я люблю его. Вы его осудите, заклеймите – я буду любить его осужденным и заклейменным. Пошлете его на каторгу, я последую за ним, и на каторге, в одежде каторжника он будет мне так же дорог. Да скатись он на дно пропасти, я и там буду с ним. Жизнь моя принадлежит ему – он может ею располагать. Ничто не разлучит меня с ним, ничто, кроме смерти, и, если ему придется взойти на эшафот, я знаю, что умру от удара, который убьет его.
Г-н Дабюрон закрыл лицо руками, он не хотел, чтобы Клер видела, какие чувства нахлынули на него. «Как она его любит! – твердил он про себя. – Как она его любит!» Мыслями он унесся далеко. На душе у него было мрачно. Его невыносимо терзала ревность. Как счастлив был бы он, окажись он предметом столь непобедимой страсти! Чем бы он не пожертвовал ради этого! В его груди тоже билось молодое пылкое сердце, ему тоже была ведома исступленная жажда любви. Но кого это волновало? Его уважали, почитали, быть может, боялись, но не любили и не полюбят никогда. А разве он этого не достоин? Почему столько людей проживают свой век, так и не удостоившись любви, в то время как другие, подчас куда менее достойные, словно наделены магической силой привлекать, обольщать, очаровывать, возбуждать слепое и неистовое чувство, которое готово на жертвы, чтобы добиться признания и взаимности? Неужели у женщин нет ни разума, ни здравого смысла?
Молчание мадемуазель д’Арланж вернуло его к действительности. Он поднял на нее взгляд. После недавнего бурного возбуждения она обессилела и, упав в кресло, еле дышала, так что г-н Дабюрон встревожился, не стало ли ей дурно. Он поспешно протянул руку к звонку на письменном столе, желая позвать на помощь. Но Клер заметила и предупредила его жест.
– Что вы хотите делать? – спросила она.
– Мне показалось, вам дурно, – пробормотал он, – и я хотел…
– Нет, пустяки, сударь, – отвечала она. – На вид я слабая, но на самом деле это неправда: я сильная, так и знайте, я очень сильная. Да, я страдаю, я и не подозревала, что на свете бывает такое страдание. Для девушки слишком мучительно переступить через свою стыдливость. Радуйтесь, сударь, я разодрала все покровы, и вы могли читать в самой глубине моего сердца. Но я об этом не жалею, я пошла на это ради него. Раскаиваюсь я лишь в том, что унизилась до того, чтобы его защищать. Меня толкнули на это ваши заверения. Альбер простит мне эту оскорбительную для него защиту. Такие, как он, не нуждаются в оправданиях, они нуждаются лишь в доказательствах своей невиновности. И с Божьей помощью я сумею ее доказать.
Мадемуазель д’Арланж приподнялась, словно собираясь уходить, но г-н Дабюрон жестом остановил ее. Упорствуя в своем заблуждении, он полагал, что с его стороны нехорошо было бы оставить несчастной девушке хоть тень иллюзии. Начав свои разоблачения, он воображал, что долг велит ему довести их до конца. Он совершенно искренне был убежден, что тем самым спасет Клер от нее самой и избавит от грядущих жгучих сожалений. Хирург, который приступил к мучительной операции, не бросает ее незавершенной потому только, что больной отбивается и кричит от боли.
– Как это ни тягостно, мадемуазель… – начал он.
Но Клер не дала ему продолжить.
– Довольно, сударь, – произнесла она, – все, что вы скажете, бесполезно. Я уважаю ваше злополучное убеждение, но взамен прошу вас считаться и с моим. Если вы в самом деле мне друг, я скажу вам только: помогите мне спасти его. Но вы, конечно, не захотите…
Надо признать, Клер сделала все, чтобы разозлить незадачливого следователя. Доказательства, порожденные ее любовью, были сходны с теми, что были порождены логикой папаши Табаре. Женщины не рассуждают и не анализируют, они чувствуют и верят. Вместо того чтобы спорить, они утверждают. В этом и кроется, быть может, их превосходство. С точки зрения Клер, г-н Дабюрон, думающий иначе, чем она, становился ее врагом, и она обращалась с ним как с врагом.
Следователь почувствовал себя оскорбленным. Терзаемый, с одной стороны, угрызениями не вполне спокойной совести, с другой – убеждениями, колеблясь между страстью и долгом, опутанный правилами своего ремесла, он был не способен рассуждать здраво. Уже три дня он вел себя, словно упрямый ребенок. Зачем он с таким упорством не желал признавать, что Альбер может оказаться невиновным? Ведь на расследование это не повлияло бы. А он, всегда такой благосклонный к обвиняемым, на сей раз не допускал мысли о возможной ошибке.
– Если бы вам, мадемуазель, были известны доказательства, которыми я располагаю, – произнес он холодным тоном, в котором чувствовалось старание не поддаваться гневу, – если бы я познакомил вас с ними, у вас не осталось бы надежды.
– Изложите их, – повелительно сказала Клер.
– Вы этого желаете, мадемуазель? Извольте. Я представлю вам, раз вы настаиваете, все доказательства, собранные правосудием, я всецело в вашем распоряжении, можете не сомневаться. Но стоит ли перечислять улики? Среди них есть одна, решающая, которой вполне достаточно. Убийство произошло во вторник вечером, накануне поста, а обвиняемый не в состоянии рассказать, где он был в этот вечер. Между тем он уходил из дому и вернулся только в два часа ночи, в грязной разорванной одежде, в изодранных перчатках.
– Довольно, сударь, довольно! – перебила Клер, глаза у которой радостно заблестели. – Вы сказали, это было вечером в канун поста?
– Да, мадемуазель.
– Я ни минуты не сомневалась! – торжествующе воскликнула она. – Я же вам говорила: он не может оказаться преступником.
Она сложила руки, и по губам ее было видно, что она молится. И пока она в порыве благодарности возносила Богу молитву, ее просветленное лицо выражало истовую веру – такие лица мы видим на картинах итальянских мастеров.
Следователь так растерялся, что не в силах был даже восхититься этим зрелищем. Он ждал объяснений и, не выдержав, спросил:
– Так в чем же дело?
– Сударь, – отвечала Клер, – вашей главной улики, если она состоит именно в этом, больше не существует. Весь тот вечер, о котором вы говорили, Альбер провел со мной.
– С вами? – ахнул следователь.
– Да, у меня дома.
Г-н Дабюрон был оглушен. Уж не грезит ли он? У него опустились руки.
– Как! – переспросил он. – Виконт был у вас, ваша бабушка, ваша гувернантка, ваши слуги его видели, с ним говорили?
– Нет, сударь. Он пришел и ушел втайне. Он хотел остаться незамеченным, ему надо было повидаться со мной наедине.
– А-а! – протянул следователь со вздохом облегчения.
Этот вздох означал: «Все объяснилось. Но это уж чересчур. Она хочет его спасти, рискуя запятнать свое доброе имя. Бедная девушка! Она выдумала это свидание только что».
Однако мадемуазель д’Арланж истолковала его восклицание совершенно иначе. Она вообразила, что г-н Дабюрон удивляется, почему она согласилась принять Альбера.
– Ваше удивление оскорбительно для меня, сударь, – сказала она.
– Мадемуазель!
– Девушка, принадлежащая к такому роду, как мой, может безбоязненно принимать своего жениха, зная, что ей не придется краснеть.
При этом она залилась румянцем стыда, горя и ярости. Г-н Дабюрон становился ей ненавистен.
– Я не имел в виду ничего оскорбительного, мадемуазель, – отвечал следователь. – Не понимаю только, с какой стати было господину де Коммарену приходить к вам украдкой, если вам вскоре предстоит вступить в брак, и это дает ему право открыто посещать вас в любое время. Не понимаю также, каким образом, будучи у вас, он мог привести свою одежду в тот вид, в каком мы ее обнаружили.
– Значит, сударь, – с горечью заметила Клер, – вы сомневаетесь в моих словах?
– Мадемуазель, бывают такие обстоятельства…
– Вы подозреваете меня во лжи, сударь. Знайте же, что, будь мы виновны, мы не опустились бы до оправданий. От нас не услышали бы ни просьб, ни мольбы о пощаде.
Ее высокомерный, враждебный тон не мог не возмутить следователя. Что она себе позволяет! А все лишь потому, что он не дал себя провести.
– Прежде всего, мадемуазель, – сурово отвечал он, – я судебный следователь и обязан исполнять свой долг. Совершено преступление, все указывает на то, что виновен в этом господин Альбер де Коммарен, и я его арестовываю. Допрашиваю, обнаруживаю тяжкие улики. Вы уверяете, что они ложны, этого недостаточно. Пока вы обращались ко мне как к другу, я слушал вас с добротой и мягкостью. Но теперь вы говорите со следователем, и я как следователь отвечаю вам: докажите!
– Даю слово, сударь!
– Докажите!
Мадемуазель д’Арланж медленно поднялась, не сводя с него изумленного, недоверчивого взгляда.
– Неужели вы были бы рады, сударь, – спросила она, – если бы Альбер оказался преступником? Вам было бы приятно, если бы его осудили? Может быть, господин следователь, вы ненавидите обвиняемого, чья жизнь находится в ваших руках? Можно подумать, что так оно и есть. Готовы ли вы поручиться за свою беспристрастность? Не перевешивают ли одну из чаш ваших весов кое-какие воспоминания? Не пытаетесь ли вы во всеоружии закона преследовать соперника?
– Это уже слишком! – возмутился следователь. – Да, слишком!
– Сознаете ли вы, – холодно продолжала Клер, – что мы оказались в необычном и смертельно опасном положении? В свое время, помнится, вы признались мне в любви. Ваше чувство показалось мне искренним и глубоким, оно меня тронуло. Мне пришлось его отвергнуть, потому что я любила другого, но я вас пожалела. И вот теперь этот другой обвиняется в убийстве, а вы расследуете преступление. Я очутилась между вами двумя, я прошу вас за него. Если вы согласились быть следователем, значит, вы готовы сделать для него все, что в ваших силах, а вы все делаете против!
Каждое слово Клер действовало на г-на Дабюрона как пощечина. Она ли это говорит? Откуда эта внезапная отвага, подсказавшая ей речь, которая проникала ему в самое сердце?
– Мадемуазель, – сказал он, – горе ввело вас в заблуждение. Я не простил бы того, что вы говорите, никому, кроме вас одной. Неосведомленность делает вас несправедливой. Вам кажется, что судьба Альбера зависит от меня, но вы ошибаетесь. Уговорить меня – пустяки, важно убедить других. Я вас знаю, и я вам верю, это естественно. Но поверят ли вам другие, когда вы придете к ним с правдивым, для меня бесспорно правдивым свидетельством, которое им покажется неправдоподобным?
На глазах у Клер выступили слезы.
– Если я несправедливо оскорбила вас, сударь, – сказала она, – простите меня: горе ожесточает.
– Вы не можете меня оскорбить, мадемуазель, – возразил следователь. – Я вам уже сказал, что всецело вам предан.
– Тогда, сударь, помогите мне доказать, что мое утверждение правдиво. Я вам все расскажу.
Г-н Дабюрон был твердо убежден, что Клер хочет сыграть на его доверчивости. Однако ее уверенность его удивляла. Он терялся в догадках, какую басню она изобретет.
– Сударь, – начала Клер, – вам известно, какие препятствия встали перед нами с Альбером, когда мы захотели пожениться. Господин де Коммарен не желал признать меня дочерью, потому что я бедна, у меня ничего нет. Альберу пришлось бороться три года, чтобы сломить сопротивление отца. Граф дважды уступал и дважды брал слово назад, говоря, что оно было вырвано у него силой. Наконец месяц назад он внезапно дал согласие. Но его колебания, отсрочки, оскорбительные отказы успели глубоко обидеть мою бабушку. Вы знаете, как она обидчива, но я должна признать, что в этом случае она права. И хотя день свадьбы был уже назначен, маркиза объявила, что не желает меня компрометировать, выставлять нас обеих в невыгодном свете и не допустит, чтобы о нас говорили, будто мы торопим этот брак, в общественном мнении столь блестящий, что может навлечь на нас упреки в суетности или корыстолюбии. Вот она и решила, что до оглашения мы будем видеться с Альбером не чаще чем через день, два часа после обеда, причем только в ее присутствии. Переубедить ее нам не удалось. И вот в воскресенье утром мне принесли записку от Альбера. Он сообщал, что важные дела помешают ему прийти, хотя в этот день мы его ждали. Что могло его задержать? Я предчувствовала беду. На другой день я ждала его с нетерпением и тревогой, но явился его лакей и принес мадемуазель Шмидт письмо для меня. В этом письме Альбер умолял меня о свидании. Он писал, что ему безотлагательно нужно поговорить со мной спокойно, наедине. От этого свидания, добавил он, зависит наше будущее. День и час он оставлял на мое усмотрение и особенно настаивал на том, чтобы я никому не говорила о нашей встрече. Я не колебалась. Ответила, чтобы вечером во вторник он пришел к садовой калитке, выходящей на безлюдную улицу. Когда на Доме Инвалидов пробьет десять, я просила его постучаться, чтобы сообщить, что он уже здесь. Я знала, что бабушка пригласила на этот вечер нескольких приятельниц, и решила притвориться больной, надеясь, что она меня отпустит. Я рассчитывала, что госпожа д’Арланж велит мадемуазель Шмидт остаться…
– Простите, мадемуазель, – перебил г-н Дабюрон, – когда вы написали господину Альберу?
– Во вторник днем.
– Вы можете уточнить время?
– Кажется, я отправила письмо между двумя и тремя часами.
– Благодарю, мадемуазель, прошу вас, продолжайте.
– Все произошло, как я предполагала, – продолжила Клер. – Вечером я спустилась в сад незадолго до назначенного часа. Мне удалось раздобыть ключ от садовой калитки, и я поспешила его опробовать. Увы, замок так заржавел, что ключ не поворачивался, все мои старания оставались безуспешны. Я уже отчаялась, и тут пробило десять часов. На третьем ударе постучался Альбер. Я рассказала ему о злополучной неожиданности и перекинула через ограду ключ, чтобы он попробовал открыть с другой стороны. Ему это тоже не удалось. Мне оставалось только предложить ему перенести нашу встречу на завтра. Он возразил, что это невозможно, разговор не терпит отлагательств. Вот уже три дня, как он терзается сомнениями, посвящать ли меня в это дело; новой отсрочки ему не вынести. Мы переговаривались, как вы понимаете, через калитку. Наконец он сказал, что попробует перелезть через стену. Я умоляла его не делать этого, боясь, как бы он не сорвался. Стена довольно высока, вы ведь помните, и поверху утыкана битым стеклом, вдобавок ветки акации образуют нечто вроде колючей живой изгороди. Но он посмеялся над моими страхами и объявил, что попытается взять стену приступом, если, конечно, я не запрещаю ему этого самым решительным образом. Я не смела возражать, и он рискнул. Мне было очень страшно, я дрожала как осиновый лист. К счастью, Альбер очень ловок и благополучно перелез через ограду. Он собирался поведать мне о катастрофе, которая нас постигла. Мы присели сперва на небольшую скамью – знаете, ту, что около деревьев, а потом пошел дождь, и мы перебрались в беседку. Около полуночи Альбер расстался со мной, успокоенный и почти веселый. Ушел он тем же путем, разве что с меньшей опасностью: я заставила его воспользоваться садовой лестницей, а потом, когда он уже был на улице, положила ее у стены.
Этот рассказ, звучавший очень просто и естественно, привел г-на Дабюрона в замешательство. Чему верить?
– Мадемуазель, – спросил он, – когда господин Альбер перелезал через стену, дождь уже начался?
– Еще нет, сударь. Первые капли упали, когда мы сидели на скамье, я это прекрасно помню, потому что Альбер раскрыл зонт и я подумала про Поля и Виргинию[101].
– Будьте добры подождать минуту, – попросил следователь.
Он присел к столу и торопливо написал два письма. В первом содержался приказ немедленно доставить Альбера во Дворец правосудия, к нему в кабинет. Во втором г-н Дабюрон распорядился, чтобы один из агентов уголовной полиции немедля отправился в Сен-Жерменское предместье, в особняк д’Арланжей, произвел осмотр стены со стороны сада и обнаружил следы перелезавшего через нее человека, если таковые существуют. Он пояснял, что через стену перелезали дважды – до и во время дождя. Соответственно, следы в обоих случаях должны отличаться. Он предписывал полицейскому действовать крайне осторожно и найти какое-либо правдоподобное объяснение осмотру. Дописав письма, он позвонил, вошел слуга.
– Эти два послания, – сказал г-н Дабюрон, – доставьте моему протоколисту Констану. Попросите, чтобы он сразу же их прочел и передал распоряжения, которые в них содержатся, сразу, слышите, сразу же. Поторопитесь, возьмите фиакр, дело весьма срочное. Да, вот еще что, если Констана нет в кабинете, велите служителю его отыскать: он меня ждет и не мог отлучиться далеко.
Потом г-н Дабюрон обратился к девушке:
– Сохранилось ли у вас, мадемуазель, письмо, в котором господин Альбер просит вас о свидании?
– Да, сударь, по-моему, оно у меня с собой.
Она встала, порылась в кармане и извлекла измятый листок.
– Вот оно!
Судебный следователь взял листок. В нем проснулось подозрение. Слишком уж кстати очутилось это компрометирующее письмо в кармане у Клер. Обычно девушки не носят с собой записок, в которых им назначают свидания. Одним взглядом он пробежал эти несколько строчек.
– Даты нет, – прошептал он, – почтового штемпеля нет… М-да!
Клер не слышала его, она лихорадочно искала доказательства свидания.
– Сударь, – сказала она внезапно, – часто бывает так: мы хотим остаться одни и думаем, что мы одни, а кто-то в это время наблюдает за нами. Прошу вас, допросите всю бабушкину прислугу, быть может, кто-нибудь и видел Альбера.
– Допрашивать ваших слуг? Да что вы, мадемуазель!
– Ах, сударь, вы полагаете, это меня скомпрометирует? Да какое мне дело? Лишь бы его освободили!
Г-н Дабюрон не мог скрыть восхищения. Сколько великодушной преданности в этой девушке, и неважно, правду она говорит или нет! Он-то хорошо ее знал и мог оценить, какое усилие над собой она совершила.
– Это не все, – добавила она, – есть еще ключ от калитки, который я перебросила Альберу. Я хорошо помню, что он мне его не вернул: мы об этом забыли. Наверно, он сунул его в карман. Если ключ у него найдут, это будет подтверждением, что Альбер приходил в сад.
– Я распоряжусь, мадемуазель.
– Есть еще одна возможность: пока я здесь, пошлите осмотреть стену…
Она обо всем подумала.
– Уже послал, мадемуазель, – отвечал г-н Дабюрон. – Не скрою от вас, одно из писем, которые я только что отправил, содержит приказ провести тщательный осмотр у вас дома, разумеется, незаметно.
Клер просияла и, поднявшись, снова протянула руку следователю.
– О, благодарю вас, – сказала она, – тысячу раз благодарю! Теперь я вижу, что вы на нашей стороне. И знаете еще что? У Альбера, может быть, сохранилось письмо, которое я написала ему в среду.
– Нет, мадемуазель, он его сжег.
Лицо Клер омрачилось, она с недоверием взглянула на г-на Дабюрона. В ответе следователя ей почудилась ирония. Но девушка заблуждалась. Следователь вспомнил, что во вторник днем Альбер бросил в камин какое-то письмо. Это могло быть только письмо Клер. И значит, к ней относились слова: «Она не сможет мне отказать». Следователю были теперь понятны и его волнение, и эта фраза.
– Но почему же, мадемуазель, – спросил он, – господин де Коммарен ввел правосудие в заблуждение, не избавил меня от пагубной ошибки? Ведь было бы куда проще сказать мне все.
– Мне кажется, сударь, порядочный человек не может признаться в том, что женщина назначила ему свидание, если не получил на то ее особого разрешения. Он скорее пожертвует своей жизнью, чем честью той, которая ему доверилась. Но, без сомнения, Альбер надеялся на меня.
Возразить на это было нечего, и причина, о которой сказала мадемуазель д’Арланж, позволяла по-иному взглянуть на ответы подозреваемого во время допроса.
– Это еще не все, мадемуазель, – продолжал следователь. – Вам придется явиться во Дворец правосудия и повторить все, что вы мне рассказали, у меня в кабинете. Протоколист запишет ваши показания, и вы их подпишете. К сожалению, эта тягостная формальность необходима.
– Что вы, сударь, я с радостью дам показания, только бы вызволить Альбера из тюрьмы. Я готова на все. Если его отдадут под суд, я предстану перед судом. Да, я выступлю перед судом и публично, во всеуслышание расскажу всю правду. Конечно, – печально прибавила она, – я стану мишенью всеобщего любопытства, на меня будут глазеть, как на героиню романа, но какое мне дело до людской молвы, до одобрения или осуждения света, если я уверена в его любви?
Она встала, оправила накидку и ленты шляпки.
– Следует ли мне дожидаться, – спросила она, – пока вернутся люди, которые отправились осматривать стену?
– В этом нет необходимости, мадемуазель.
– Тогда, – продолжала она кротко, – мне остается только умолять вас, – и она сложила руки, как при молитве, – заклинать вас выпустить Альбера из тюрьмы.
– Он будет отпущен на свободу, как только это станет возможно, даю вам слово.
– Нет, сегодня, дорогой господин Дабюрон, прошу вас, сегодня, немедленно! Ведь он ни в чем не виноват, право, имейте сострадание: вы же наш друг… Хотите, я стану перед вами на колени?
Следователь едва успел ее удержать. Он задыхался от волнения. О, как он завидовал арестованному!
– То, о чем вы меня просите, невозможно, мадемуазель, – глухим голосом отвечал он, – честью клянусь, это неосуществимо. Ах, если бы это зависело только от меня! Видя ваши слезы, я не в силах был бы вам отказать, даже будь он виновен.
Мадемуазель д’Арланж, до сих пор такая стойкая, не сумела сдержать рыдание.
– О, я несчастная! – воскликнула она. – Он страдает, он в тюрьме, а я на свободе и бессильна помочь ему! Боже милостивый, наставь меня, как тронуть сердца людей! Кому мне броситься в ноги, чтобы добиться милосердия? – Она умолкла, пораженная словом, которое вырвалось из ее уст. – Я сказала «милосердие», но Альбер в милосердии не нуждается, – гордо поправилась она. – Зачем я всего лишь женщина? Неужели мне не найти мужчины, который бы мне помог? Нет, – продолжала она после секундного размышления, – есть мужчина, который обязан помочь Альберу, потому что по его вине на Альбера обрушилось несчастье: это граф де Коммарен. Он отец Альбера, и он его покинул. Что ж, пойду к нему и напомню ему, что у него есть сын.
Следователь поднялся ее проводить, но она уже выскользнула из комнаты, увлекая за собой преданную мадемуазель Шмидт. Чуть живой, г-н Дабюрон рухнул в кресло. В глазах у него стояли слезы.
– Какая девушка! – прошептал он. – Не напрасно мой выбор пал на нее. Мне удалось угадать и понять все ее благородство.
Он чувствовал, что любит ее еще сильней, чем прежде, и никогда не утешится. Он погрузился в раздумья, и вдруг его мозг пронзила одна мысль. Правду ли сказала Клер? Не играла ли она разученную загодя комедию? Нет, конечно, нет. Но ее саму могли обмануть, она могла оказаться жертвой чьего-то искусного обмана. Тогда, значит, исполняется предсказание папаши Табаре, который говорил: «Готовьтесь к безупречному алиби». Как разоблачить лживость этого алиби, подготовленного заранее и представленного одураченной девушкой? Как разрушить план, настолько хитроумный, что обвиняемый мог, сложа руки, ничего не боясь, ждать избавления, которое сам заранее подготовил? Но что, если рассказ Клер все-таки правдив, что, если Альбер невиновен?
Следователь чувствовал, что положение у него безвыходное: он понятия не имел, как справиться со столькими трудностями. Он поднялся и произнес вслух, словно желая придать себе храбрости:
– Ну что ж, все прояснится во Дворце правосудия.
XIV
Г-н Дабюрон был потрясен визитом Клер. Еще большее потрясение испытал г-н де Коммарен, когда камердинер склонился к его уху и доложил, что мадемуазель д’Арланж просит уделить ей несколько минут для разговора. Г-н Дабюрон уронил великолепную вазу, г-н де Коммарен, сидевший за столом, выпустил из рук нож, и тот упал на тарелку. И так же, как следователь, он прошептал:
– Клер…
Он сомневался, принимать ее или нет, опасаясь тягостной и неприятной сцены. Граф понимал, что вряд ли она питает особо пылкие чувства к человеку, который так долго и упорно противился браку своего сына с нею. Чего она хочет? Вероятней всего, узнать про Альбера. Но что он может ей сказать? Наверно, она устроит истерику, и это скверно повлияет на его пищеварение. Однако он представил себе, какое огромное горе, должно быть, она испытывает, и пожалел ее. И еще он подумал, что было бы неблагородно и недостойно его прятаться от той, которая могла бы стать ему дочерью, виконтессой де Коммарен. Граф велел попросить ее подождать в одной из малых гостиных на первом этаже. Он спустился туда очень скоро, поскольку само известие об этом визите испортило ему аппетит. Он был готов к самой неприятной сцене.
Чуть только он вошел, Клер присела перед ним в изящном и исполненном достоинства реверансе, какому ее обучила маркиза д’Арланж.
– Господин граф… – начала она.
– Бедное дитя, вы, верно, пришли узнать, нет ли каких известий об этом несчастном? – спросил г-н де Коммарен.
Он прервал Клер и сам повел разговор в надежде закончить его как можно скорей.
– Нет, господин граф, – отвечала девушка, – напротив, я пришла, чтобы сообщить вам известия о нем. Вы знаете, что он невиновен?
Граф внимательно глянул на нее, решив, что от горя она тронулась рассудком. Но в таком случае помешательство ее было достаточно тихим.
– У меня никогда не было в этом сомнений, – продолжала Клер, – но теперь я получила самое достоверное доказательство.
– Дитя мое, понимаете ли вы, что говорите? – осведомился г-н де Коммарен, глядя на нее с явным недоверием.
М-ль д’Арланж поняла, что подумал старый аристократ. Беседа с г-ном Дабюроном придала ей опыта.
– Я говорю лишь то, что соответствует действительности и что легко проверить, – отвечала она. – Только что я была у судебного следователя господина Дабюрона, одного из друзей моей бабушки, и после того, что я ему рассказала, он убедился в невиновности Альбера.
– Он вам так сказал, Клер? – поразился граф. – Дитя мое, вы уверены, что не заблуждаетесь?
– Нет, сударь. Я сообщила ему то, чего никто не знает и что Альбер как благородный человек не мог сказать сам. Я сообщила, что в тот самый вечер, когда было совершено преступление, Альбер был со мною в саду моей бабушки. Он попросил у меня свидания…
– Но одного вашего слова недостаточно.
– Доказательства есть, и правосудие теперь ими располагает.
– Господи, да возможно ли это? – вскричал граф.
– Ах, господин граф! – с горечью промолвила мадемуазель д’Арланж. – Вы в точности как следователь. Вы поверили в то, чего не могло быть. Вы, отец, заподозрили его! Да вы же совершенно его не знаете. Вы отступились от него, даже не попытавшись защитить. А я ни на минуту не усомнилась в нем.
Человека легко убедить, если он жаждет этого всей душой. Привлечь г-на де Коммарена на свою сторону не составило для Клер большого труда. Без возражений, без спора он поверил ее доводам. Он проникся ее уверенностью, не раздумывая, насколько это благоразумно и осмотрительно. Да, убежденность следователя подкосила его, он принял за правду неправдоподобное и смирился. И вот теперь, слушая Клер, вновь воспрянул духом. Альбер невиновен! Для него эти слова звучали небесной музыкой. Клер казалась ему вестницей надежды и счастья. Всего за три дня он постиг всю глубину своих чувств к Альберу. Г-н де Коммарен нежно любил его и потому, несмотря на мучительные подозрения в своем отцовстве, никогда не соглашался отпустить его от себя.
Все три дня мысль о преступлении, вменяемом несчастному, о каре, которая ждет его, убивала графа. Но Альбер невиновен! Не будет позора, не будет скандального процесса, их герб останется незапятнан, имя де Коммарена не будут трепать в суде.
– Значит, его вот-вот освободят? – спросил граф.
– Увы, сударь, я просила, чтобы его тут же выпустили на свободу. Ведь так и должно быть, раз он невиновен, правда? Но следователь ответил, что это невозможно, он этим не распоряжается, судьба Альбера зависит от многих лиц. Тогда я и решилась пойти к вам и просить помощи.
– Я могу что-то сделать?
– Надеюсь. Я всего-навсего слабая девушка, ничего и никого не знаю. Не знаю, что можно сделать, чтобы его выпустили из тюрьмы. Но должен же быть какой-то способ добиться справедливости. Господин граф, вы его отец. Может быть, вы попытаетесь как-то помочь ему?
– Да, да! – горячо воскликнул граф. – И не теряя ни минуты!
После ареста Альбера граф впал в мрачное оцепенение. В отчаянии, видя, что все рушится, он не делал ничего, чтобы побороть вялость мыслей. Обычно такой деятельный, теперь он словно застыл. Ему даже нравился этот умственный паралич, не дающий ощущать всю остроту несчастья. Голос Клер прозвучал для него как труба, возвещающая воскрешение. Кончилась чудовищная ночь, он увидел на горизонте проблеск света и обрел юношескую энергию.
– Идемте! – сказал он, но внезапно на сияющее лицо набежала тень печали, смешанной с яростью. – Но куда? В прежние времена я обратился бы к королю. А сейчас… Ваш император не сможет встать над законом. Он посоветует мне подождать решения господ судейских, скажет, что ничего не может сделать. Подождать! А Альбер в смертельном страхе считает минуты. Да, справедливости добиваются, но вот добиться ее быстро – это искусство, которое изучают в школах, куда я не хаживал.
– И все же попытаемся, сударь! – настаивала Клер. – Обратимся к судьям, к генералам, к министрам, к кому угодно. Вы только проведите меня – говорить буду я, и вы увидите, мы добьемся успеха.
Граф прямо-таки с отеческой нежностью сжал маленькие руки Клер.
– Вы славная и отважная девушка, Клер! – воскликнул он. – Вот что значит благородная кровь! Я не знал вас. Да, вы будете моей дочерью и будете счастливы с Альбером… Однако же мы не можем метаться по городу от двери к двери. Нужен советчик, который подсказал бы, к кому мне обратиться, какой-нибудь адвокат… О! – обрадовался граф. – Все прекрасно! Ноэль!
Клер с удивлением подняла глаза на графа.
– Это мой сын, – несколько смущенно объяснил г-н де Коммарен. – Мой второй сын, брат Альбера. Превосходнейший, достойнейший человек, – произнес он, очень кстати вспомнив отзыв г-на Дабюрона. – Он адвокат и знает Дворец правосудия как свои пять пальцев. Он-то нам и поможет советом.
Сердце Клер сжалось, едва преисполненный надежды г-н де Коммарен произнес имя Ноэля.
Граф заметил ее испуг.
– О, не тревожьтесь, дорогое дитя, – успокоил он ее. – Ноэль очень добрый, скажу вам больше: он любит Альбера. Ну, не качайте головой. Экая вы недоверчивая! Ноэль мне сам говорил, что не верит в виновность Альбера. Он заверял, что сделает все, чтобы исправить эту чудовищную ошибку, и собирается быть его адвокатом.
Эти уверения, похоже, не переубедили девушку. Она подумала: «Разве мало этот Ноэль уже принес горя Альберу?» – однако не стала спорить.
– Мы пошлем за ним, – продолжал г-н де Коммарен. – Сейчас он возле матери Альбера, воспитавшей его. Она при смерти.
– Матери Альбера?
– Да, дитя мое. Альбер растолкует все, что вам может показаться загадочным. Сейчас у нас нет времени. Хотя я полагаю…
Граф неожиданно умолк. Вместо того чтобы посылать за Ноэлем к г-же Жерди, подумалось ему, он сам мог бы заехать туда. Заодно он повидает Валери, а ему так давно хочется увидеть ее!
Есть такие шаги, к которым подталкивает сердце, однако человек не смеет рискнуть: его удерживают тысячи ничтожных или веских причин. Он мечтает об этом, рвется всей душой, жаждет и все-таки медлит, сопротивляется, борется с собой. Но вот подворачивается повод, и он рад воспользоваться случаем. У него есть оправдание перед собой. Поддавшись порыву страсти, он может сказать: «Это не я – так хочет судьба».
– Проще будет самому поехать к Ноэлю, – заключил граф.
– Так едемте, сударь.
– Понимаете, дорогое дитя, – нерешительно промолвил старый аристократ, – я не знаю, могу ли, имею ли право взять вас с собой. Приличия…
– При чем здесь приличия, сударь? – запротестовала Клер. – Ради Альбера и с вами я могу поехать куда угодно. Разве я обязана давать кому-то объяснения? Пошлите только мадемуазель Шмидт предупредить бабушку, и пусть она вернется сюда и ждет нашего возвращения. Я готова, сударь.
– Что ж, едем, – ответил граф и, дернув изо всех сил за сонетку, крикнул: – Экипаж!
Когда они спускались с крыльца, граф настоял, чтобы Клер оперлась на его руку. В нем ожил галантный и изящный приближенный графа д’Артуа[102].
– Благодаря вам я сбросил два десятка лет, – сказал он, – и будет справедливо, если я окажу вам знак уважения, принятый в пору моей молодости, которую вы мне возвратили.
Чуть только Клер уселась в карету, он приказал кучеру:
– На улицу Сен-Лазар и побыстрей!
Когда граф приказывал «и побыстрей!», прохожим следовало убираться с дороги. К счастью, кучер был опытный, и обошлось без несчастных случаев.
Привратник объяснил, как найти квартиру г-жи Жерди.
Граф поднимался медленно, держась за перила, на каждой площадке останавливался, чтобы отдышаться. Он шел на свиданье к ней! Сердце у него сжимало, как тисками.
– Могу я повидать господина Ноэля Жерди? – осведомился он у служанки.
– Адвокат только что вышел. Он не сказал, куда идет, но обещал вернуться не позже, чем через полчаса.
– Мы подождем его, – бросил граф.
Он шагнул через порог, и служанке пришлось посторониться, чтобы пропустить его и мадемуазель д’Арланж. Ноэль строго запретил принимать кого бы то ни было, но у графа де Коммарена был такой внушительный вид, что служанка тут же забыла обо всех запретах.
В гостиной, куда она проводила графа и мадемуазель д’Арланж, находились три человека. То были приходский кюре, врач и высокий мужчина, офицер ордена Почетного легиона, чья выправка и манера держаться выдавали в нем старого солдата. Они беседовали, стоя у камина, и появление незнакомцев, похоже, удивило их.
Поклонившись в ответ на приветствие г-на де Коммарена и Клер, они обменялись вопросительными взглядами, словно советуясь, как поступить. Однако их колебания длились недолго. Военный взял стул и придвинул его мадемуазель д’Арланж. Граф понял, что он здесь лишний. Придется, видимо, представиться и объяснить причину визита.
– Господа, прошу извинить меня за вторжение. Я не думал, что помешаю вам, когда просил разрешения подождать Ноэля, с которым мне крайне необходимо увидеться. Я – граф де Коммарен.
Услыхав эту фамилию, отставной военный отпустил стул, за спинку которого еще держался, и выпрямился. Глаза его гневно сверкнули, и он сжал кулаки. Он уже намеревался что-то сказать, но сдержался и, наклонив голову, отступил к окну.
Ни граф, ни двое остальных мужчин не заметили этой вспышки, но она не ускользнула от внимания Клер. И пока Клер, изрядно озадаченная, усаживалась, граф, тоже весьма смущенный своим вторжением, подошел к священнику и тихо спросил:
– Простите, господин аббат, каково состояние госпожи Жерди?
Доктор, обладавший чутким слухом, услышал вопрос и тут же подошел к ним. Ему было лестно поговорить с таким, можно сказать, знаменитым человеком, как граф де Коммарен, и вообще познакомиться с ним.
– Надо полагать, господин граф, до утра она не доживет, – сообщил он.
Граф сжал руками виски, словно ощутив боль. Он не решался продолжать расспросы. И все же после секунды молчания негромко произнес:
– Она в сознании?
– Нет, сударь. По сравнению со вчерашним вечером в ее состоянии произошли большие перемены. Всю ночь она была сильно возбуждена, временами начинала бредить. С час назад появилась надежда, что она придет в себя, и мы послали за господином кюре.
– К несчастью, напрасно, – заметил священник. – Она все так же без сознания. Бедная женщина! Я уже лет десять знаю ее и почти каждую неделю заходил к ней. Благороднейшее сердце!
– Она должна ужасно страдать, – сказал доктор.
И почти тотчас же, как бы в подтверждение его слов, из соседней комнаты, дверь в которую была приотворена, донеслись приглушенные крики.
– Слышите? – весь дрожа, спросил граф.
Клер ничего не поняла в этой странной сцене. Ее угнетали мрачные предчувствия, ей казалось, будто она окунулась в атмосферу несчастья. Она испытывала страх. Девушка встала и подошла к графу.
– Она там? – спросил г-н де Коммарен.
– Да, сударь, – резко ответил старик военный, который тоже присоединился к беседующим.
В другое время граф, несомненно, обратил бы внимание на тон офицера и почувствовал бы себя задетым. Но сейчас он даже не взглянул на него. Он ничего не замечал. Ведь совсем рядом была она. Мыслями г-н де Коммарен витал в прошлом. Ему казалось, что только вчера он навсегда ушел от нее.
– Мне хотелось бы взглянуть на нее, – с какой-то робостью попросил он.
– Это невозможно, – отрезал военный.
– Почему? – растерянно спросил граф.
– Господин де Коммарен, позвольте ей хотя бы умереть спокойно, – отвечал тот.
Граф отшатнулся, словно на него замахнулись. Он встретился взглядом со старым солдатом и опустил глаза, будто подсудимый перед судьей.
– Отчего же, я думаю, что господин граф может войти к госпоже Жерди, – вмешался врач, который предпочитал ничего не замечать. – Вероятней всего, она и не увидит его, но даже если…
– Да, она ничего не увидит, – подтвердил священник. – Я только что обращался к ней, брал ее за руку, но она даже не почувствовала.
Старик военный задумался и наконец сказал графу:
– Что ж, войдите. Может быть, такова воля Божья.
Граф покачнулся. Доктор хотел его поддержать, но граф мягко отвел его руку. Врач и священник вошли следом за ним, а Клер и отставной военный остались в дверях, которые находились как раз напротив кровати.
Граф сделал несколько шагов, но вынужден был остановиться. Он хотел, но не мог подойти к постели. Неужели эта умирающая – Валери? Увядшее, искаженное лицо ничем не напоминало прекрасную, обожаемую Валери его юности. Он не узнавал ее.
Зато она узнала, верней, угадала, почувствовала его. Словно гальванизированная какой-то сверхъестественной силой, она приподнялась, и граф увидел ее исхудавшие руки и плечи. Яростным движением она смахнула с головы компресс из колотого льда, откинула назад все еще густые волосы, влажные от воды и пота, которые разметались по подушке.
– Это ты, Ги! – вскричала она. – Это ты!
Граф внутренне содрогнулся. Он был недвижен, как бывают, по народному поверью, недвижны те, кого поразит молния, но стоит только прикоснуться к ним, и они рассыпаются в прах. Он не мог увидеть то, что заметили остальные: как преобразилась больная. Искаженные черты вдруг смягчились, лицо озарилось счастьем, ввалившиеся глаза просияли нежностью.
– Наконец-то ты пришел, Ги, – облегченно вздохнула она. – Господи, как давно я тебя жду! Ты даже не можешь представить, сколько я выстрадала из-за нашей разлуки. Я давно умерла бы от горя, если бы меня не поддерживала надежда снова увидеться с тобой. Тебя не пускали ко мне? Кто? Твои родители? Бессердечные люди! И ты не мог им сказать, что никто в мире не любит тебя так, как я? Нет, не поэтому, я вспомнила… Я же помню, какое у тебя было бешеное лицо, когда ты уходил от меня. Твои друзья решили разлучить нас, они сказали, что я обманываю тебя с другим. Что плохого я им сделала? Почему они так враждебны ко мне? Они позавидовали нашему счастью. Мы были так счастливы! Но ты не поверил этой нелепой лжи, ты презрел ее и пришел ко мне.
Монахиня, видя такое нашествие в комнату больной, оторопело поднялась.
– Надо быть безумцем, чтобы поверить, будто я изменяла тебе, – продолжала умирающая. – Разве я не принадлежу тебе? Чего я могла ждать от другого, если ты уже все мне дал? Разве я не вверилась тебе душой и телом с первого же дня? Я без борьбы предалась тебе, я чувствовала, что родилась, чтобы стать твоей. Ги, неужели ты забыл? Я плела кружева и едва зарабатывала на жизнь, а ты мне сказал, что изучаешь право и еще что ты небогат. Я думала, что ты во всем себе отказываешь, чтобы немножко меня порадовать. Ты захотел, чтобы мы привели в порядок нашу мансарду на набережной Сен-Мишель. Какая она стала красивая, когда мы с тобой оклеили ее обоями в цветочек! А как там было хорошо! Из окна мы любовались деревьями в саду Тюильри, а если высунуться, можно было увидеть отблеск заката под арками моста. Какое прекрасное это было время! Когда мы впервые в воскресенье вместе поехали за город, ты принес мне красивое платье, о каком я даже мечтать не смела, и такие изящные туфельки, что мне было странно подумать, будто в них можно идти по улице. Но ты обманул меня! Ты вовсе не был бедным студентом. Однажды я относила работу и увидела тебя в великолепной карете, на запятках которой стояли лакеи в ливреях с золотыми галунами. Я глазам своим не поверила. Но вечером ты мне признался, что ты дворянин и страшно богат. Ах, любимый, зачем ты сказал мне это?
Было непонятно, то ли она пришла в сознание, то ли бредит. Лицо графа де Коммарена сморщилось, по нему струились слезы. Врач и священник беспомощно стояли, тронутые видом старика, плачущего, как ребенок. Еще вчера граф думал, будто сердце его мертво, но достаточно было прозвучать этому проникновенному голосу, чтобы в нем ожили воспоминания юности. Сколько же лет прошло с тех пор!
– И тогда мне пришлось переехать с набережной Сен-Мишель, – говорила г-жа Жерди. – Ты потребовал этого, и я, хоть у меня были недобрые предчувствия, покорилась. Ты сказал, что я, чтобы нравиться тебе, должна выглядеть знатной дамой. Ты нанял мне учителей: ведь я была почти неграмотной, едва могла нацарапать свою подпись. Помнишь, какие смешные ошибки были в моем первом письме? Ах, Ги, лучше бы ты и вправду оказался бедным студентом! Я утратила всю свою доверчивость, беззаботность и веселость, после того как узнала, что ты богат. А вдруг ты решишь, что я корыстна? А вдруг вообразишь, будто меня интересует только твое богатство? Люди, имеющие, как ты, миллионы, должно быть, очень несчастны. Я понимаю, им приходится быть недоверчивыми и ко всем относиться с подозрением. Они же никогда не знают, любят их самих или их деньги. Их вечно грызут сомнения, и они делаются мнительными, ревнивыми, жестокими. О мой единственный друг, зачем мы покинули нашу мансарду? Мы были там счастливы. Зачем ты не позволил мне остаться там, где встретил меня? Разве ты не знаешь, что чужое счастье раздражает и озлобляет людей? Будь мы благоразумны, мы скрывали бы его, как преступление. Ты думал, что возносишь меня, а на самом деле низринул. Ты гордился нашей любовью, выставлял ее напоказ. И я напрасно молила тебя позволить мне жить незаметно, в тени. Вскоре весь город знал, что я твоя любовница. В свете только и говорили о твоих безумных тратах на меня. Как я краснела из-за роскоши, в которой ты вынуждал меня жить! Ты был доволен: моя красота стала известна всем, а я плакала, потому что всем стал известен и мой позор. Обо мне говорили, как о тех женщинах, чья профессия – толкать мужчин на самые чудовищные безумства. Сколько раз я встречала свою фамилию в газете! И о том, что ты женишься, я узнала тоже из газеты. Я должна была бежать от тебя, но у меня не хватало решимости. Я трусливо смирилась с постыднейшей участью. Ты женился, а я осталась твоей любовницей. О, какое это было мучение, какой это был страшный день! Я сидела одна в комнате, где все дышало тобой, а ты венчался с другою. Я говорила себе: «Вот сейчас невинная благородная девушка вручает ему руку и сердце. Какие обеты сейчас произносят его уста, которые так часто сливались с моими?» После этого страшного несчастья я, бывало, спрашивала Бога, какое преступление я совершила, что он так безжалостно карает меня. Вот оно, мое преступление: ты женился, и я осталась твоей любовницей, а твоя жена умерла. Я видела ее всего один раз, всего несколько минут, но по тому, как она смотрела на тебя, я поняла: она тебя любит так же, как я. Ги, это наша любовь убила ее!
Утомленная г-жа Жерди умолкла, но никто из присутствующих не шелохнулся. Все благоговейно, с волнением слушали и ждали, что будет дальше. Мадемуазель д’Арланж была не в силах стоять, она опустилась на колени и прижимала ко рту платок, пытаясь заглушить рыдания. Ведь эта женщина – мать Альбера!
И только монахиню не тронул этот рассказ: она уже столько раз слышала, как бредят больные. Нет, она ничего, совершенно ничего не поняла в происходящем. «Эти люди сошли с ума, – думала она. – Придавать такое значение горячечному бреду…» Монахиня решила, что она одна из всех сохранила здравый смысл. Подойдя к кровати, она хотела накрыть больную одеялом.
– Сударыня, давайте укроемся, – сказала она. – Вы простынете.
– Сестра… – произнесли одновременно врач и священник.
– Черт возьми, дайте ей говорить! – крикнул старый солдат.
– Но кто мог тебе сказать, будто я тебе изменяю? – вдруг произнесла больная, не видевшая и не слышавшая ничего вокруг. – О, низкие люди! За мной, видно, следили и обнаружили, что ко мне ходит офицер. Так знай же: то был мой брат Луи. Когда ему исполнилось восемнадцать, он завербовался в армию, сказав нашей матушке: «Все-таки одним ртом в семье будет меньше». Он оказался хорошим солдатом, и начальство сразу заметило его. Он старался, учился и очень быстро стал продвигаться в чинах. Его произвели в лейтенанты, потом в капитаны, назначили командовать эскадроном. Луи всегда любил меня, и, если бы остался в Париже, я не пала бы так низко. Но матушка умерла, и я оказалась одна в этом огромном городе. Он был унтер-офицером, когда узнал, что у меня есть любовник. Я думала, он больше никогда не захочет меня видеть. И все-таки он простил меня, сказав, что, хоть я и оступилась, единственным моим оправданием является постоянство. Ах, друг мой, к моей чести он относился еще ревнивей тебя. Луи приходил ко мне, но тайком. Это я была виновата, что ему приходилось стыдиться меня. Я вынуждена была молчать о нем, никогда не упоминать его имени. Доблестный солдат, мог ли он признаться, что его сестра находится на содержании у графа? Я принимала строжайшие меры предосторожности, чтобы его не видели. И вот к чему это привело! Ты усомнился во мне! Когда брат узнал, какие толки ходят обо мне, он в слепой ярости хотел вызвать тебя на дуэль. Мне едва удалось убедить его, что он не имеет права меня защищать. Как я была наказана! Какой дорогой ценой заплатила за краденое счастье! Но ты вернулся, и все забыто. Ведь ты веришь мне, Ги, веришь? Я напишу Луи, он придет, он подтвердит, что я не лгу. Ты же не усомнишься в слове солдата?
– Клянусь честью, – подтвердил старый солдат, – все, что говорит сестра, правда.
Но умирающая не слышала его, она продолжала прерывающимся голосом:
– Какое счастье, что ты здесь! Я чувствую, как оживаю. Я ведь чуть не заболела. Наверное, я сейчас не очень красива, но все равно, поцелуй меня… – И она протянула руки и подставила губы, словно для поцелуя. – Но только одно условие, Ги: ты оставишь мне моего сына. Умоляю, заклинаю тебя, не забирай, оставь его мне! Что станется с матерью, если она лишится своего ребенка? Ты требуешь его у меня, чтобы дать ему прославленное имя и огромное богатство… Нет! Говоришь, что эта жертва нужна ради его счастья… Нет! Мой ребенок принадлежит мне, и я не отдам его. Никакие богатства на земле, никакие почести не заменят ему матери, склоняющейся над его колыбелью. Ты хочешь отдать мне взамен ее ребенка… Нет, ни за что! Чтобы эта женщина целовала моего сына! Это невозможно! Заберите от меня чужого ребенка, он внушает мне ужас, отдайте мне моего. Ги, не настаивай, не угрожай, что рассердишься, что бросишь меня, – я же уступлю, а потом умру. Откажись от своего гибельного плана, ведь даже подумать такое – и то грех. Увы, ни мольбы, ни слезы не трогают тебя. Ну что ж, Бог нас покарает. Трепещи при мысли о нашей старости. Нет ничего тайного, что не стало бы явным. Когда-нибудь дети придут к нам и предъявят жестокий счет. Они проклянут нас. Ги, мне ясно наше будущее. Я вижу, как мой сын в ярости бросается ко мне. Великий Боже, что он говорит? О, эти письма, письма, драгоценная память нашей любви… Но он мне грозит, он ударил меня! Помогите! Сын поднял руку на мать… Только никому не рассказывай об этом! Господи, как я страдаю! Он же прекрасно знает, что я его мать, и притворяется, будто не верит. Боже, за что же эта мука? Ги, друг мой единственный, прости, у меня не было сил противиться и не хватило духу подчиниться.
В этот миг вторая дверь комнаты, выходящая на площадку, отворилась, и вошел Ноэль, как всегда бледный, но невозмутимый и спокойный. Его появление подействовало на умирающую, как удар электрическим током. Она задрожала всем телом, глаза ее расширились, и, поднявшись с подушек, простирая руки к Ноэлю, она громко закричала:
– Убийца!
Конвульсивно дернувшись, она рухнула на постель. К ней подбежали, но она была мертва. Воцарилось глубокое молчание. Величие смерти и ужас, который она внушает, таковы, что перед нею склоняют головы даже самые сильные духом, даже скептики. На миг умолкают страсти и корысть. Мы невольно сосредоточиваемся, когда в нашем присутствии испускает последний вздох один из наших ближних. Впрочем, все присутствующие были до глубины души взволнованы сценой предсмертной исповеди, горячечной и горестной. Но слово «убийца», последнее слово, произнесенное г-жой Жерди, никого не удивило. Все, кроме сестры, знали о страшном обвинении, тяготеющем над Альбером. Несчастная мать бросила свое проклятье ему.
Ноэль выглядел глубоко опечаленным. Встав на колени у кровати той, что заменила ему мать, он схватил ее руки, приник к ним губами и простонал:
– Она мертва! Мертва!
Преклонив рядом с ним колени, монахиня и священник читали заупокойные молитвы. Они молили Бога быть милостивым к душе усопшей и упокоить ее в мире. Просили дать немножко счастья на небесах той, что столько выстрадала в земной юдоли.
Граф де Коммарен сидел, откинувшись на спинку кресла, голова его бессильно поникла, а лицо осунулось и было бледней, чем у покойной, которая когда-то была его возлюбленной, красавицей Валери. Около графа хлопотали Клер и доктор. Им пришлось распустить ему галстук и расстегнуть воротничок сорочки: он задыхался.
С помощью старого солдата, чьи покрасневшие глаза говорили о сдерживаемом горе, кресло графа перенесли к приоткрытому окну, чтобы он мог вдохнуть свежего воздуха. Три дня назад эта сцена убила бы его. Но теперь его сердце затвердело от горя, как твердеют от работы ладони.
– Слезы спасут его, – шепнул на ухо Клер доктор.
И вправду, г-н де Коммарен понемножку пришел в себя, и вместе с ясностью рассудка к нему вернулась способность страдать. Следом за подавленностью приходит сильнейшее духовное потрясение; кажется, будто природа накапливает силы, чтобы можно было вынести несчастье; поначалу его не ощущаешь со всей остротой и только позже начинаешь осознавать всю его огромность и глубину.
Взгляд графа остановился на кровати, где лежало тело Валери. Это все, что осталось от нее. Душа ее, нежная и преданная душа отлетела. О, чего бы он не отдал, чтобы Бог даровал этой несчастной женщине всего день, нет, час жизни! С каким раскаянием он бросился бы к ее ногам, чтобы вымолить прощение, чтобы сказать, как ненавистна ему теперь его былая жестокость. Сказать, что не понял ее безграничной любви. Зачем из-за одних лишь сплетен и домыслов, даже не подумав поговорить, объясниться, он с холодным презрением отступился от нее? Зачем не повидался с нею? А ведь тогда ему не пришлось бы двадцать лет кряду терзаться мыслью, что Альбер, быть может, не сын ему. И жил бы он не в угрюмом одиночестве, а спокойно и счастливо. И тут ему припомнилась смерть графини. Она тоже любила его и потому умерла. Он не понимал их обеих и этим убил. Пришел час искупления, и он не мог сказать: «Господи, слишком огромна кара твоя!» И какая кара! Столько несчастий за пять дней!
– Да, – прошептал граф, – она это предсказывала. Почему я ее не послушался?
Брат г-жи Жерди пожалел старика, на которого свалилось столько горя. Он протянул ему руку и сказал:
– Господин де Коммарен, моя сестра давно уже простила вас, если она вообще когда-нибудь на вас сердилась. Сегодня вас прощаю и я.
– Благодарю вас, сударь, благодарю, – пробормотал граф и вздохнул: – Великий Боже, какая смерть!
– Да, – тихо промолвила Клер, – она умерла с мыслью, что ее сын – убийца. И мы не успели ее разубедить.
– Но нужно хотя бы, чтобы ее сын получил свободу и смог отдать ей последний долг, – решительно произнес граф. – Ноэль!
Адвокат стоял рядом и все слышал.
– Отец, я обещал вам спасти его, – сказал он.
Мадемуазель д’Арланж в первый раз взглянула в лицо Ноэлю, их взгляды встретились, и девушка не смогла сдержать гримасу отвращения, которая не ускользнула от адвоката.
– Альбер уже спасен, – надменно сообщила она. – Мы требуем только одного: чтобы правосудие действовало побыстрее и немедленно вернуло Альберу свободу. Судебный следователь уже знает правду.
– Правду? – переспросил адвокат.
– Да. В ночь убийства Альбер был у меня, со мной.
Ноэль изумленно воззрился на нее: столь необычное признание, услышанное без всяких объяснений из девичьих уст, могло поразить кого угодно.
– Сударь, я – мадемуазель Клер д’Арланж.
Г-н де Коммарен коротко пересказал все, что узнал от Клер. Когда он закончил, Ноэль сказал:
– Вы видите, сударь, в каком я положении. Завтра…
– Завтра! – с негодованием прервал его граф. – Вы хотите, как я понял, ждать до завтра! Долг чести велит действовать сейчас же, немедля. Для вас лучшее средство почтить эту несчастную женщину – не молиться за нее, а освободить ее сына.
Ноэль склонился в поклоне.
– Вы приказали, сударь, я подчиняюсь. Сегодня вечером у вас в особняке я буду иметь честь дать вам отчет о предпринятых мною шагах. Возможно, мне удастся привезти к вам Альбера.
Сказав это, он в последний раз поцеловал покойную и вышел. Вскоре после него ушли граф и мадемуазель д’Арланж. Брат г-жи Жерди отправился в мэрию сделать заявление о смерти и выполнить необходимые формальности.
Монахиня осталась одна поджидать священника, которого пообещал прислать кюре для ночного бдения над трупом. Она не испытывала ни страха, ни волнения: ей уже столько раз приходилось встречаться со смертью. Помолившись, она встала с колен и принялась хлопотать в комнате, убирая ее так, как положено, когда больной испустит последний вздох. Она уничтожила все следы болезни, спрятала пузырьки и баночки, пожгла сахару, накрыла белой салфеткой стол у изголовья кровати и поставила на него зажженные свечи, распятие, чашу со святой водой и веточкой освященного букса.
XV
Взволнованный и озабоченный признаниями мадемуазель д’Арланж, г-н Дабюрон поднимался по лестнице, ведущей на галерею следователей, и вдруг столкнулся с папашей Табаре. Обрадовавшись, он окликнул его:
– Господин Табаре!
Но сыщик, весь вид которого свидетельствовал о крайнем волнении, отнюдь не был расположен останавливаться и терять время.
– Извините, сударь, – с поклоном отвечал он, – меня ждут.
– Но я все-таки надеюсь…
– Он невиновен, – перебил папаша Табаре. – У меня уже есть кое-какие доказательства, и не пройдет трех дней… А вы пока допросите человека с серьгами, которого разыскал Жевроль. Он очень смышлен, этот Жевроль, я его недооценивал.
И, не слушая больше ни слова, папаша Табаре стремительно понесся через три ступеньки вниз по лестнице, рискуя сломать себе шею.
Г-н Дабюрон, обманутый в своих ожиданиях, ускорил шаг. На галерее у дверей его кабинета на грубой деревянной скамье сидел под охраной жандарма Альбер.
– Через минуту вас вызовут, – сообщил ему следователь, открывая дверь.
В кабинете беседовали Констан и невысокий человек с невыразительным лицом, которого можно было бы принять за какого-нибудь мелкого рантье из Батиньоля, если бы огромная булавка с фальшивым камнем, сверкавшая в галстуке, не выдавала в нем агента полиции.
– Получили мои записки? – спросил г-н Дабюрон своего протоколиста.
– Сударь, все ваши распоряжения выполнены, обвиняемый уже здесь, а это господин Мартен, который только что прибыл из квартала Инвалидов.
– Все идет отлично, – удовлетворенно заметил следователь и поинтересовался у агента: – Ну, и что же вы обнаружили, господин Мартен?
– В сад залезали, сударь.
– Давно?
– Дней пять-шесть назад.
– Вы уверены в этом?
– Так же, как в том, что господин Констан чинит сейчас перо.
– И следы заметны?
– Так же, как нос на лице, если мне будет позволено сделать такое сравнение. Вор, а я полагаю, что это был вор, – пояснил словоохотливый г-н Мартен, – проник в сад до дождя, а убрался после, в точности как вы предполагали, господин судебный следователь. Это обстоятельство легко установить, ежели сравнивать следы на садовой стене со стороны улицы, которые он оставил, когда поднимался и когда спускался. Следы представляют собой царапины, сделанные носками его сапог. Одни из них чистые, а другие грязные. Молодчик – должен сказать, он ловок – забирался, подтягиваясь на руках, а вот когда вылезал, то позволил себе роскошь воспользоваться лестницей, которую, забравшись на стену, отбросил наземь. Очень хорошо видно, где он ее поставил: на земле заметны углубления, оставленные стойками, а наверху стены повреждена штукатурка.
– Это все?
– Нет, сударь, не все. На гребне стены сорваны три бутылочных осколка. Ветки акаций, нависающие над стеной, согнуты или сломаны. А на колючке одной из веток я обнаружил клочок серой кожи, на мой взгляд, от перчатки. Вот он.
Следователь жадно схватил этот клочок. Да, действительно, он вырван из серой перчатки.
– Господин Мартен, надеюсь, вы действовали так, чтобы не возбудить ни малейшего подозрения в доме, где проводили расследование? – спросил г-н Дабюрон.
– Само собой, сударь. Сперва я без всяких помех обследовал стену со стороны улицы. Потом оставил в ближнем кабачке шляпу и представился маркизе д’Арланж управляющим одной из герцогинь, живущих по соседству, которая находится в полном отчаянии, оттого что у нее улетел любимый говорящий попугай. Мне милостиво позволили поискать его в саду, ничуть не усомнившись, что я слуга этой самой герцогини, поскольку я весьма красноречиво расписывал ее горе…
– Господин Мартен, – прервал его следователь, – вы показали себя ловким и предприимчивым человеком, я весьма доволен вами и сообщу об этом кому следует.
И пока агент, гордый услышанной похвалой, пятился, согнувшись в дугу, к двери, г-н Дабюрон позвонил. Ввели Альбера.
– Ну как, сударь, решились вы рассказать, где провели вечер вторника? – без всяких околичностей задал вопрос следователь.
– Я уже все вам рассказал.
– Нет, сударь, нет, и я с сожалением вынужден уличить вас в том, что вы мне солгали.
От такого оскорбления Альбер покраснел, глаза его сверкнули.
– Мне известно, что вы делали в тот вечер, – объявил следователь. – Я же предупреждал вас, что правосудие узнает все, что ему необходимо знать. – Г-н Дабюрон перехватил взгляд Альбера и медленно произнес: – Я виделся с мадемуазель Клер д’Арланж.
При звуках этого имени замкнутое, напряженное лицо обвиняемого смягчилось. Казалось, он испытывает безграничное блаженство, словно человек, чудом избегший неминуемой опасности, которую он не в силах был отвести. И все-таки он промолчал.
– Мадемуазель д’Арланж сказала мне, где вы были вечером во вторник, – не отступал судебный следователь.
Альбер все не мог решиться.
– Поверьте честному слову, я не подстраиваю вам ловушку. Она мне все сказала. Понимаете, все.
И тогда Альбер заговорил. Его показания полностью, до мельчайших подробностей совпадали с показаниями Клер. Отныне никаким сомнениям не оставалось места. Чистосердечие мадемуазель д’Арланж не могло вызывать никаких подозрений. Либо Альбер невиновен, либо она его сообщница. Но могла ли она сознательно стать сообщницей столь гнусного преступления? Нет, даже заподозрить ее в этом было невозможно. Однако где же тогда искать убийцу? Ведь правосудию, когда оно обнаруживает преступление, нужен преступник.
– Сударь, вы обманывали меня, – строго сказал следователь Альберу. – Вы рисковали головой, но, что куда серьезней, ваше поведение могло ввести правосудие в непростительное заблуждение. Почему вы мне сразу не сказали правду?
– Сударь, – отвечал Альбер, – мадемуазель д’Арланж, согласившись на свидание со мной, вверила мне свою честь.
– И вы бы скорей погибли, чем обмолвились об этом свидании? – иронически спросил г-н Дабюрон. – Что ж, это прекрасно и достойно давних рыцарских времен.
– Я вовсе не такой герой, как вы полагаете, – спокойно отвечал обвиняемый. – Я солгал бы, если бы сказал, что не надеялся на Клер. Я ждал ее. Знал, что, услышав о моем аресте, она сделает все, чтобы спасти меня. Но мой арест от нее могли скрыть, и этого я опасался. В таком случае я решил – в той мере, в какой могу быть уверен в себе, – не упоминать ее имя.
В этом не было ни капли бравады. Альбер говорил то, что думал и чувствовал. Г-н Дабюрон пожалел о своем ироническом тоне.
– Сударь, – благожелательно сказал он, – сейчас вас отведут в тюрьму. Пока я еще ничего не могу сказать, кроме одного: больше вас не будут содержать в строгом заключении. К вам будут относиться как к арестанту, который, по всей видимости, невиновен.
Альбер поклонился и поблагодарил. Вошел жандарм и увел его.
– А теперь пригласите Жевроля, – велел г-н Дабюрон протоколисту.
Однако начальника сыскной полиции не оказалось, его только что вызвали в префектуру, но найденный им свидетель, мужчина с серьгами, дожидался в галерее. Его пригласили в кабинет. Это был невысокий, коренастый, прочно скроенный и крепкий как дуб человек, на чью широкую спину свободно можно взвалить три мешка зерна. Светлые волосы и бакенбарды, казалось, делали еще темней его загорелое лицо, прокаленное солнцем тропиков, продубленное непогодами и морскими ветрами. У него были широкие, жесткие, мозолистые руки с узловатыми пальцами, и пожатие их, надо думать, было подобно тискам. В ушах висели большие серьги с вырезами в форме якоря. Одет он был, как обычно одеваются нормандские рыбаки, когда едут в город или на рынок.
Протоколисту пришлось чуть ли не заталкивать его в кабинет. Этот морской волк робел и смущался. Вошел он походкой вразвалку, как ходят моряки, привычные к бортовой и килевой качке, когда с удивлением обнаруживают под ногами твердую землю, или, как они полупрезрительно говорят, коровью палубу. Он в нерешительности мял в руках мягкую войлочную шляпу, украшенную маленькими свинцовыми медальками, прямо-таки точную копию августейшей шапки блаженной памяти короля Людовика XI, уснащенную вдобавок шерстяным шнурком из тех, какие плетут деревенские девушки с помощью простейшего устройства, состоящего из нескольких воткнутых в пробку булавок.
Г-ну Дабюрону достаточно было одного взгляда, чтобы определить, что за человек стоит перед ним. Да, никаких сомнений, это был тот самый мужчина с лицом кирпичного цвета, о котором говорил мальчишка из Ла-Жоншер. А уж усомниться в том, что это честный человек, было совершенно невозможно. У него было доброе, открытое лицо.
– Ваша фамилия? – задал вопрос судебный следователь.
– Мари Пьер Леруж.
– Вы что же, родственник Клодины Леруж?
– Я ее муж, сударь.
Как! Муж убитой жив, а полиция и не подозревает о его существовании? Именно так и подумал г-н Дабюрон. Чего же тогда стоит весь поразительный прогресс техники? Сейчас, как и двадцать лет назад, если у правосудия возникли сомнения, приходится тратить уйму времени и денег, чтобы получить ничтожную справку. В большинстве случаев проверить общественное положение свидетеля или обвиняемого стоит огромных трудов.
В пятницу днем отправили запрос на сведения о Клодине, сегодня уже понедельник, а ответа нет как нет. И хотя существуют фотография, электрический телеграф, имеются тысячи возможностей, неизвестных раньше, они не используются.
– Но ведь все считали ее вдовой, – заметил следователь, – и она сама выдавала себя за вдову.
– Так это она чтоб как-то оправдать свое поведение. Да мы так и условились между собой. Я ведь ей сказал, что для нее я умер.
– Вот как… А вы знаете, что она пала жертвой чудовищного преступления?
– Господин из полиции, который нашел меня, сказал мне об этом, – помрачнев, отвечал моряк и глухо пробурчал: – Дрянная она была женщина.
– Как! Вы, муж, и так отзываетесь о ней?
– Эх, сударь, уж я-то имею на это право. Покойный мой отец, который знал ее в молодости, предупреждал меня. А я смеялся, когда он мне говорил: «Ой, смотри, она нас всех опозорит». И он оказался прав. Из-за нее меня разыскивала полиция, точно я злодей какой и прячусь, и меня надо искать. Небось всюду, где обо мне справлялись, показывая судебную повестку, люди про себя думали: «Это неспроста. Видать, он что-то натворил». За что мне такое, сударь? Леружи от века были честными людьми. Спросите в наших местах, и вам скажут: «Слово Леружа надежней подписи». Да, она дрянная женщина, и я говорил ей, что она скверно кончит.
– Вы ей это говорили?
– Сотни раз, сударь.
– Но почему? Поверьте, друг мой, никто в вашей честности не сомневается и ни в чем вас не подозревает. Когда вы ее предупреждали?
– В первый раз, сударь, давно, лет тридцать назад. Тщеславна она была, слов нет как, и пришла ей охота лезть в дела больших людей. Это ее и сгубило. Она говорила, что, храня их тайны, можно хорошо заработать, а я ей ответил, что она только навлечет на себя позор. Помогать большим людям скрывать их пакости и рассчитывать, что это принесет счастье, все равно что набить тюфяк колючками и надеяться сладко выспаться. Да разве она послушает!
– Но вы же, ее муж, могли ей запретить, – заметил г-н Дабюрон.
Моряк с глубоким вздохом опустил голову.
– Эх, сударь, она вертела мной, как хотела.
Вести допрос свидетеля, задавая ему короткие вопросы, когда не имеешь ни малейшего представления о том, что он сообщит, значит терять время впустую. Вам кажется, что вы приближаетесь к самому важному, а на самом деле отдаляетесь от истины. Лучше уж позволить свидетелю говорить, а самому спокойно слушать и только слегка направлять его, когда он станет слишком уклоняться. Это куда надежней и короче. На том и порешил г-н Дабюрон, проклиная в душе отсутствие Жевроля, который мог бы вполовину сократить этот допрос, обо всей важности которого следователь даже не подозревал.
– А в какие же дела лезла ваша жена? – поинтересовался г-н Дабюрон. – Расскажите, друг мой, только честно. Имейте в виду: здесь полагается говорить не просто правду – всю правду.
Леруж положил шляпу на стул. Говоря, он то ломал себе пальцы, так что они похрустывали в суставах, то всей пятерней чесал в затылке. Это помогало ему думать.
– В день святого Жана тому будет уже тридцать пять лет. Я влюбился в Клодину. Она была такая красивая, ладная, пригожая, а голос – слаще меда. В наших местах не было девушки красивей ее. Стройная, как мачта, гибкая, как лозинка, точеная и ловкая, как гоночная шлюпка. Черные волосы, сахарные зубы, глаза искрятся, как старый сидр, а дыхание свежее, чем морской бриз. Одна беда – у нее ни гроша, а мы жили в достатке. Мать ее, тридцатишестимужняя вдова, была, прошу прощения, совсем негодная баба, а папаша мой – ходячая добродетель. Когда я сказал ему, что хочу жениться на Клодине, он только выругался, а через неделю отправил меня на шхуне нашего соседа в Порто, чтоб из меня выдуло дурь. Я вернулся через полгода худой как щепка, но такой же влюбленный. Мечтая о Клодине, я высох, как будто меня держали на медленном огне. Я до того рехнулся, что уже есть и пить не мог, а тут мне еще передали, что и она ко мне неравнодушна, потому как я парень дюжий и на других девушек не пялюсь. Короче, видя, что меня не переупрямить, что я чахну на глазах и того гляди лягу на кладбище по соседству с покойной матушкой, отец сдался. Однажды вечером, когда мы вернулись с рыбной ловли и я за ужином не съел ни куска, он сказал: «Ладно, женись на своей потаскухе, только чтоб этому конец настал!» Я это хорошо запомнил, потому что, когда он назвал мою любимую таким словом, у меня в глазах потемнело. Я готов был убить его. Нет, ежели женишься против воли родителей, счастья не жди.
Старый моряк погрузился в воспоминания. Он уже не рассказывал, а рассуждал. Следователь попытался направить его на нужный путь:
– Давайте поближе к делу.
– Сударь, я к этому и веду, но, чтобы понять, надо начать сначала. Значит, женился я. Вечером после свадьбы родственники и гости ушли, мы остались с женой, и тут вдруг я вижу, что отец сидит один в уголке и плачет. Сердце у меня сжалось, и появилось какое-то недоброе предчувствие. Но оно быстро прошло. Если любишь жену, первые полгода пролетают как в сказке. Все видишь как бы сквозь туман, который скалы превращает в дворцы либо в церкви, так что неопытному недолго и заблудиться. Два года прожили мы мирно, если не считать нескольких размолвок. Клодина прямо-таки вила из меня веревки. А уж хитра она была! Могла бы взять меня, связать, отвести на рынок и продать, а я бы только млел. Главный ее недостаток – была она страшная кокетка. Все, что я зарабатывал, а дела у меня шли неплохо, она спускала на наряды. Каждое воскресенье у нее обнова – платье, бусы, чепец, короче, всякие чертовы штучки, которые придумали торговцы на погибель женщинам. Соседи, конечно, осуждали ее, но я считал, что все так и должно быть. Она родила мне сына, которого мы назвали по имени моего отца Жаком, и на его крещение я, чтоб ей угодить, одним махом потратил триста с лишком пистолей из своих холостяцких сбережений, на которые собирался прикупить лужок; я на него давно уже зубы точил, потому как он вклинивался между двумя нашими участками.
Г-н Дабюрон был вне себя от нетерпения, но что он мог поделать?
– Ну, ну, – подгонял он всякий раз, когда видел, что Леруж собирается остановиться.
– Одним словом, – продолжал тот, – все было хорошо, но как-то утром я заметил, что около нашего дома крутится слуга графа де Коммарена, чей замок находился в четверти лье от нас, на том конце деревни. Этот проходимец по имени Жермен не нравился мне. Ходили слухи, будто он замешан в исчезновении Томасины, красивой девушки из нашей деревни, которая нравилась молодому графу. Я спросил у жены, чего нужно этому шалопаю, и она мне сказала, что он приходил звать ее в кормилицы. Сперва я и слышать об этом не хотел. Мы не настолько были бедны, чтобы Клодина отнимала у нашего сына молоко. Ну, тут она начала меня уговаривать. Дескать, она раскаивается в своем кокетстве и что так швыряла деньгами. Ей тоже хочется заработать, потому как стыдно ей бездельничать, когда я спины не разгибаю. Она хотела подкопить денег, чтобы нашему малышу, когда он вырастет, не пришлось ходить в море. Ей обещали очень хорошо заплатить, и эти деньги мы смогли бы отложить, чтобы поскорее восполнить те триста пистолей. Ну, а когда она упомянула про этот чертов лужок, я сдался.
– А она не сказала вам, – спросил следователь, – какое поручение хотят ей дать?
Леруж был потрясен. Он подумал, что не зря говорят, будто правосудие все видит и все знает.
– Не сразу, – отвечал он. – Через неделю почтарь принес Клодине письмо, в котором ей велели приехать в Париж за ребенком. Дело было вечером. «Ну вот, – сказала она, – завтра я еду на службу». Я молчал, но, когда она утром одевалась для поездки в дилижансе, объявил, что еду с ней. Она не спорила, даже наоборот, расцеловала меня, и я растаял. В Париже жена должна была взять младенца у некой госпожи Жерди, которая жила на бульваре. Мы с Клодиной договорились, что она пойдет одна, а я буду ждать ее в нашей гостинице. Но когда она ушла, я весь извелся. Через час я не выдержал и пошел бродить около дома этой дамы. Я расспрашивал слуг, людей, которые выходили оттуда, и узнал, что она любовница графа де Коммарена. Мне это так не понравилось, что, будь я по-настоящему хозяином, жена возвратилась бы домой без этого ублюдка. Я всего лишь простой моряк и знаю, что мужчина может и забыться. Особенно если выпьет. Случается, приятели затащат. Но когда у мужчины есть жена и дети, а он путается с другой и отдает ей то, что принадлежит его семье, я считаю, это скверно, очень скверно. Вы согласны со мной, сударь?
Судебный следователь от ярости и нетерпения уже ерзал в кресле и думал: «Нет, этак он никогда не кончит!»
– Да, да, вы правы, тысячу раз правы, – ответил он, – но не будем отвлекаться. Рассказывайте дальше.
– Клодина, сударь, была упряма, как мул. Три дня мы с нею препирались, и наконец между двумя поцелуями она вырвала у меня согласие. И тут она мне сообщила, что возвращаться мы будем не в дилижансе. Эта дама боится, что ее малыш утомится в пути, и потому распорядилась, чтобы нас везли с остановками в ее экипаже и на ее лошадях. Вот как ее содержали! Я по глупости обрадовался: дескать, смогу посмотреть в свое удовольствие места, по которым будем проезжать. И вот мы с детьми, моим и тем, другим, сели в роскошную карету, запряженную великолепными лошадьми, а вез нас кучер в ливрее. Жена была вне себя от радости. Она все целовала меня и позванивала пригоршнями золотых монет. А я сидел с дурацким видом, как всякий муж, обнаруживший дома деньги, которые он не приносил. Видя, какое у меня лицо, и надеясь меня развеселить, Клодина решилась открыть мне правду. «Послушай», – говорит она мне… – тут Леруж прервался и пояснил: – Понимаете, это жена мне говорит.
– Да, да… Продолжайте.
– Так вот, значит, говорит она мне, тряхнув карманом: «Послушай, муженек, теперь-то денег у нас будет сколько угодно, а все почему? Господин граф, у которого родился законный сын одновременно с этим, желает, чтобы его имя досталось незаконнорожденному. А устрою это я. На постоялом дворе, где мы будем ночевать, мы встретимся с господином Жерменом и кормилицей, которые везут законного сына. Нас поселят в одной комнате, и ночью я должна буду поменять младенцев, которые нарочно одинаково запеленуты. Господин граф дает мне за это восемь тысяч франков сразу и пожизненную ренту в тысячу франков».
– Как! – вскричал следователь. – Вы называете себя честным человеком, а сами допустили такое преступление, хотя достаточно было одного слова, чтобы предотвратить его!
– Помилуйте, сударь, – взмолился Леруж, – позвольте мне закончить.
– Хорошо, давайте дальше.
– Сперва от ярости я слова не мог вымолвить. Вид у меня, наверно, был грозный. Она всегда побаивалась, когда я выходил из себя, и тут же сбила меня, расхохоталась. «Экий ты глупый, – сказала она. – Прежде чем на стенку лезть, дослушай. Понимаешь, граф во что бы то ни стало хочет, чтобы его незаконный сын был при нем, и платит за это. А его любовница, мать этого малыша, против. Она сделала вид, будто согласна, но только для того, чтобы не ссориться с любовником, а на самом деле кое-что придумала. Она увела меня в комнату и, заставив поклясться на распятии, что я не выдам ее, призналась, что не может свыкнуться с мыслью о разлуке со своим ребенком и принять чужого. А потом сказала, что, ежели я соглашусь не подменивать новорожденных, не ставя о том в известность графа, она обещает мне десять тысяч и такую же ренту, как граф. И еще предупредила, что узнает, сдержала ли я слово, потому как пометила своего младенца несмываемым знаком, по которому узнает его. Знак этот она мне не показала, а я его искала, но не нашла. Теперь понял? Я просто оставлю все, как есть, графу же скажу, что подменила, мы получим с обоих, и наш Жак станет богачом. Ну, поцелуй свою женушку, у которой ума куда больше, чем у тебя». Вот, сударь, слово в слово, что мне сказала Клодина.
Суровый моряк вытащил из кармана большущий платок в синюю клетку и трубно высморкался, так что стекла зазвенели. Это означало, что он расчувствовался.
Г-н Дабюрон был в совершенном замешательстве. С самого начала это злополучное дело поражало его и ставило в тупик. Едва он успевал привести в порядок мысли по одному вопросу, как тут же его внимание требовал другой. Он был сбит с толку. Что означает этот неожиданный и, без сомнения, важный эпизод? Как его понимать? Г-н Дабюрон просто изнывал от желания ускорить допрос, но видел, что Леружу трудно, он с трудом распутывает воспоминания, следуя тоненькой ниточке, и любое вмешательство может ее оборвать и запутать клубок.
– Само собой, Клодина предложила подлость, а я – честный человек. Но эта женщина делала со мной, что хотела. Она мне всю душу переворачивала. Стоило ей пожелать, и я видел белое черным, а черное белым. Да что говорить, я любил ее! Она убедила меня, что мы никому ничего худого не делаем, а зато Жаку сколотим состояние, и я замолчал. Вечером мы приехали в какую-то деревню, и кучер, остановившись у постоялого двора, сказал, что тут мы заночуем. Мы вошли, и кого я там увидел? Этого негодяя Жермена с женщиной, на руках у которой был ребенок, завернутый точь-в-точь как наш. Как и мы, они ехали в графском экипаже. И тут у меня закралось подозрение. А что, если Клодина придумала про сговор с этой дамой, чтобы успокоить меня? С нее сталось бы. Голова у меня шла кругом. Ладно, я согласился на скверное дело, но только на это. И тогда я решил не спускать глаз с незаконнорожденного младенца, поклявшись в душе, что не дам себя облапошить. Весь вечер я держал его на коленях и для верности, чтоб не перепутать, повязал на него свой носовой платок. Но дело-то было очень здорово подготовлено. После ужина нам велели идти спать, и тут выяснилось, что на этом постоялом дворе всего две комнаты с двумя кроватями каждая. Все было заранее рассчитано. Хозяин сказал, что обе кормилицы лягут в одной комнате, а я и Жермен в другой. Понимаете, господин следователь? А ко всему прочему я заметил, что моя жена и этот негодяй слуга весь вечер тайком обменивались знаками. Я был вне себя. Во мне заговорила совесть, которую прежде я заставлял молчать. Я понял, что поступал бесчестно, и на все корки ругал себя. Скажите, ну как это мошенникам удается, что разум честного человека поворачивается, словно флюгер, куда велит ветер их мошеннических замыслов?
В ответ г-н Дабюрон так стукнул кулаком по столу, что чуть не развалил его. Леруж заторопился:
– Я отказался наотрез, прикинувшись, будто из ревности боюсь даже на минуту оставить жену. Пришлось им уступить. Та кормилица пошла укладываться первая, а мы с Клодиной чуть позже. Жена разделась и легла в постель с нашим сыном и с воскормленником, а я не стал раздеваться. Под предлогом, будто боюсь придавить малыша, ежели лягу, я устроился на стуле у кровати, решив не смыкать глаз и всю ночь нести вахту. Я задул свечку, чтобы женщины могли заснуть, у меня же сна не было ни в одном глазу: мысли не давали спать. Я сидел и думал, что сказал бы отец, если бы узнал, во что я впутался. Около полуночи я услыхал, что Клодина зашевелилась. Я затаил дыхание. Может, она хочет поменять младенцев? Теперь-то я знаю, что нет, но тогда же я не знал. Я освирепел, схватил ее за руку, стал колотить, притом не на шутку, и высказал все, что у меня накипело на сердце. Кричал я во весь голос, точно у себя на корабле в бурю, ругался, как каторжник, одним словом, поднял страшный шум. Вторая кормилица вопила, словно ее режут. Услышав этот переполох, прибежал Жермен со свечой. Я увидел его, и это меня доконало. Не соображая, что делаю, я выхватил из кармана складной нож, который всегда ношу с собой, схватил проклятого ублюдка и резанул его по руке, сказав: «Теперь уж, коли его подменят, я буду точно знать. У него теперь отметина на всю жизнь».
Леруж замолчал не в силах больше говорить. Капли пота блестели у него на лбу, сползали по щекам и замирали в глубоких бороздах морщин. Он прерывисто дышал, но настойчивый взгляд следователя подгонял его, не давал покоя, словно бич, который на плантациях хлещет по спинам изнемогающих от усталости негров.
– У малыша была страшная рана, из нее хлестала кровь, он мог умереть от нее. Но на этом я не остановился. Меня беспокоило будущее, то, что может случиться потом. Я объявил о намерении записать, что у нас тут произошло, и сказал, чтобы все под этим подписались. Так мы и сделали. Вчетвером и составили бумагу. Жермен не посмел противиться: я говорил, держа в руке нож. Он даже подписался первым и только умолял ничего не говорить графу, поклявшись, что сам будет молчать, как могила, и заставил вторую кормилицу пообещать держать тайну.
– Вы сохранили документ? – поинтересовался г-н Дабюрон.
– Да, сударь. Человек из полиции, которому я все рассказал, велел мне взять его с собой, и я забрал его оттуда, где хранил. Он при мне.
– Дайте его сюда.
Леруж извлек из кармана куртки старый кожаный бумажник, перевязанный кожаным же ремешком, и вынул запечатанный, пожелтевший от времени конверт.
– Вот он. С той проклятой ночи я не открывал его.
Действительно, когда следователь распечатал конверт, оттуда вылетела зола, которой посыпали бумагу, чтобы поскорей высохли чернила. Там было кратко описано то, о чем сейчас рассказал Леруж, и стояли четыре подписи.
– Интересно, что сталось со свидетелями, подписавшими это заявление? – пробормотал в раздумье следователь.
Леруж решил, что это вопрос к нему.
– Жермен погиб, – ответил он, – утонул во время купания. Клодину недавно убили, но вторая кормилица еще жива. Мне даже известно, что она рассказала про эту историю своему мужу, потому как он намекнул мне на нее. Зовут его Бросет, а живет он в самой деревне Коммарен.
– А что дальше? – спросил следователь, записав фамилию и адрес.
– На другой день Клодине удалось меня успокоить и вырвать клятву хранить молчание. Малышу стало лучше, но на руке у него остался глубокий шрам.
– Госпожу Жерди уведомили о том, что произошло?
– Не думаю, сударь. Так что лучше будет ответить: не знаю.
– Как это не знаете?
– Клянусь вам, господин следователь, вправду не знаю. А все оттого, что случилось после.
– Что же случилось?
Моряк нерешительно промямлил:
– Да знаете, сударь, это все касается меня и…
– Друг мой, – прервал его г-н Дабюрон, – вы – честный человек, я совершенно убежден в этом и верю вам. Единственный раз в жизни вы под влиянием скверной женщины оступились, стали соучастником преступного деяния. Искупите же свою ошибку и расскажите все, ничего не скрывая. Все, что говорится здесь и впрямую не относится к преступлению, остается в тайне, я тотчас же забываю это. Так что не бойтесь ничего, а если вам станет стыдно, скажите себе, что это наказание за прошлое.
– Эх, господин следователь, – вздохнул Леруж, – я уже наказан и давно. Нечестно добытые деньги не идут впрок. Вернувшись домой, я купил этот чертов лужок, заплатив дороже, чем он стоит. И тот день, когда я бродил по нему, говоря себе: «Теперь он мой», – был последним моим спокойным днем. Клодина была кокеткой, но у нее и других пороков хватало. Когда у нас оказалось столько денег, все ее пороки вспыхнули в ней, как вспыхивает тлеющий в трюме огонь, стоит открыть люк. Она и прежде любила вкусно поесть и выпить, а тут на нее просто удержу не стало. У нас пошел сплошной пир. Я отплывал в море, а она тут же садилась за стол с самыми дрянными местными бабами, и не было ничего, что показалось бы им не по карману. Начала попивать на сон грядущий. Дальше больше. Однажды она думала, что я в Руане, и не ждала меня, а я явился ночью и нашел у нее мужчину. И какого, сударь! Самого ничтожного заморыша, которого презирала вся округа, уродливого, грязного, подлого, короче, писца у нашего судебного исполнителя. Мне бы убить подонка, и никто бы меня не осудил, но я пожалел его. Я схватил его за горло и вышвырнул через закрытое окно на улицу. От этого он не помер. А потом я набросился на жену, и, когда кончил ее бить, она уже не шевелилась.
Голос у Леружа был хриплый, время от времени он вытирал кулаком глаза.
– Прошу прощения, но, ежели мужчина поколотил жену, а потом простил, он – пропащий человек. Она становится осторожней, хитрей притворяется, только и всего. Тем временем госпожа Жерди забрала своего малыша, и Клодину уже ничто не сдерживало. У нас поселилась ее мать, чтобы присматривать за нашим Жаком, она подзуживала и покрывала Клодину, и та еще больше года обманывала меня. Я-то думал, она образумилась, а оказывается, нет: она продолжала вести ту же самую жизнь. Мой дом превратился в злачное место. Подвыпив, там собирались бездельники со всей округи. Но и тут они пьянствовали: моя жена заказывала корзинами вино и водку, и, пока я был в море, они все это пили вперемешку. Когда у нее кончались деньги, она писала графу или его любовнице, и разгул продолжался. Порой у меня возникали подозрения, так, без всяких оснований, и тогда я от души колотил ее, а потом снова прощал, как трус, как последний дурак. Это был ад, а не жизнь. Не знаю, что мне доставляло большее наслаждение – целовать ее или осыпать ударами. Все селение презирало меня, люди думали, что я заодно с женой или добровольно закрываю глаза. Потом уже я узнал, что они верили, будто я извлекаю доход из загулов Клодины, хотя на самом деле это она платила своим любовникам. Во всяком случае, видя наши траты, люди недоумевали, откуда у нас столько денег. Чтобы различать меня и одного моего кузена, тоже Леружа, говоря обо мне, к фамилии прибавляли срамное слово. Какой позор, сударь! А ведь я ни сном ни духом не знал про весь этот стыд! Но я был ее мужем. Какое счастье, что мой отец не дожил до этого!
Г-н Дабюрон сжалился:
– Друг мой, отдохните и успокойтесь.
– Нет, – не согласился Леруж, – лучше побыстрей покончить. Один лишь человек пожалел меня и рассказал все – наш кюре. Я до смерти буду ему благодарен… Я сразу же, ни минуты не теряя, нашел законника и спросил, как должен действовать честный моряк, имевший несчастье жениться на потаскухе. Он ответил, что сделать ничего не удастся. Подать в суд – значит раструбить о своем позоре на весь свет, да и раздел ничего не решит. Ежели ты дал женщине свою фамилию, сказал он мне, то отнять ее назад уже невозможно: она будет носить ее до конца жизни. Она может замарать ее, втоптать в грязь, позорить по кабакам, муж ничего не может поделать. Ну, тогда я принял решение. В тот же день продал проклятый лужок и велел отдать плату за него Клодине, потому как не хотел этих позорных денег. Затем пошел и составил акт, по которому она могла распоряжаться нашим имуществом без права продать или заложить его. После этого я написал ей письмо, где сообщил, что отныне она больше не услышит обо мне, я больше для нее не существую и она может считать себя вдовой. А ночью взял сына и уехал.
– Что же произошло с вашей женой после того, как вы уехали?
– Не могу сказать, сударь. Знаю только, что через год она тоже уехала оттуда.
– И вы никогда больше с нею не виделись?
– Никогда.
– Однако за три дня до убийства вы были у нее.
– Да, сударь, был, но к этому меня вынудила крайняя необходимость. Я с трудом разыскал ее, никто не знал, куда она подевалась. По счастью, мой нотариус сумел раздобыть адрес госпожи Жерди, написал ей, и вот так я узнал, что Клодина живет в Ла-Жоншер. Я был тогда в Руане, и мой друг Жерве, владелец речного судна, предложил мне плыть с ним в Париж. Я согласился. Вы даже не представляете, сударь, что было, когда я вошел к ней! Моя жена не узнала меня. Она слишком долго уверяла всех, что я умер, и, видать, в конце концов сама поверила в это. Когда я назвал себя, она тут же хлопнулась в обморок. Надо сказать, она ничуть не изменилась: у нее на столе стояли бутылка водки и рюмка…
– Но все это нисколько не объясняет мне, зачем вы пришли к ней.
– Да все из-за Жака, сударь. Малыш стал мужчиной и хочет жениться. А для этого нужно согласие матери. Я привез Клодине акт, составленный нотариусом, который она и подписала. Вот он.
Г-н Дабюрон взял акт и, похоже, внимательно прочел его. Через несколько секунд он спросил у Леружа:
– А вы не задавали себе вопрос, кто мог убить вашу жену?
Леруж молчал.
– Вы подозреваете кого-нибудь? – не отступал следователь.
– Господи, сударь, какого ответа вы от меня ждете? – отвечал моряк. – Думаю, Клодина довела до ручки людей, из которых качала деньги, как из бездонного колодца, а может, пьяная наболтала лишнего.
Сведения были столь же всеобъемлющи, сколь и правдоподобны. Г-н Дабюрон отпустил Леружа, порекомендовав ему дождаться Жевроля, который отведет его в гостиницу, где моряку предстоит ожидать следующего вызова к следователю.
– Все расходы вам возместят, – добавил г-н Дабюрон.
Едва Леруж успел выйти, как в кабинете следователя произошло важное, чудесное, небывалое и беспрецедентное событие. Сосредоточенный, невозмутимый, недвижимый, глухонемой Констан восстал и заговорил. Впервые за пятнадцать лет он забылся до такой степени, что позволил себе высказаться.
– Ну и поразительное же дело, сударь! – изрек он.
«Да уж куда поразительней, – думал г-н Дабюрон, – и словно нарочно созданное, чтобы обмануть любые предвидения и опрокинуть все предвзятые мнения». Почему же он, следователь, действовал со столь непростительной поспешностью? Почему, прежде чем очертя голову рисковать, он не подождал, когда у него соберутся все элементы этого труднейшего дела, когда в его руках будут все нити этого запутаннейшего тканья? Правосудие обвиняют в медлительности, но именно эта медлительность составляет его силу, его гарантию и делает его практически неотвратимым. Никогда до конца не бывает известно, какие могут появиться свидетели. Неизвестно, что могут дать факты, полученные в ходе расследования, внешне, казалось бы, совершенно бесполезные. Трагедии, разыгрывающиеся в суде присяжных, не подчиняются правилу «трех единств»[103] и не вписываются в него. Когда страсти и побуждения запутываются так, что, кажется, их уже и не распутать, вдруг неведомо откуда приходит какой-нибудь неизвестный человек и приносит разрешение всех загадок.
Г-н Дабюрон, благоразумнейший из людей, счел простым сложнейшее дело. Расследуя загадочное преступление, требующее величайшей осмотрительности, он действовал так, будто в нем все ясно и очевидно. Почему? Да потому что воспоминания не дали ему возможности все взвесить, обдумать и решить. Он в равной мере боялся и выглядеть слабым, и оказаться безжалостным. Он считал, что действует правильно, но двигала им враждебность. А ведь он столько раз задавал себе вопрос: «Как я должен поступить?» Но либо ты заставляешь себя четко определить свой долг, либо сворачиваешь на ложный путь.
Самым примечательным во всем было то, что источником ошибок судебного следователя стала его безукоризненная честность. И в заблуждение ввела его слишком чуткая совесть. Постоянные сомнения населили его разум призраками, и на какое-то время им овладело сильнейшее раздражение против себя. Однако, чуть успокоившись, г-н Дабюрон более трезво взглянул на вещи.
Слава Богу, ничего непоправимого не произошло. Тем не менее он крайне жестоко судил себя. Только случайность удержала его от ошибки. И в этот миг г-н Дабюрон дал себе клятву, что это расследование станет для него последним. Теперь он испытывал непреодолимый ужас перед своей профессией. Тем более что после свидания с Клер раны его сердца вскрылись и кровоточили еще мучительней, чем прежде. Исполненный уныния, он пришел к выводу, что жизнь его кончена, разбита. Такие мысли навещают мужчину, когда для него перестают существовать все женщины, кроме одной-единственной, обладать которой у него нет никакой надежды. Г-н Дабюрон был глубоко верующим человеком и потому даже мысли не допускал о самоубийстве; он только со страхом думал, что станется с ним, когда он сбросит с себя судейскую мантию.
И тут его мысли вновь вернулись к делу. Виновен Альбер или нет, в любом случае он является виконтом де Коммареном, законным сыном графа. Но убийца ли он? Теперь совершенно ясно, что нет.
– Я тут предаюсь размышлениям, а ведь нужно переговорить с графом де Коммареном, – вдруг спохватился г-н Дабюрон. – Констан, пошлите кого-нибудь к нему в особняк, а если его нет дома, скажите, пусть обязательно разыщут.
Г-ну Дабюрону предстояла трудная задача. Нужно будет сказать старому аристократу: «Ваш законный сын не тот, о ком я вам говорил, а другой». Да, положение не просто затруднительное, но, можно сказать, нелепое. И вдобавок этот другой, то есть Альбер, невиновен. Надо сообщить истину и Ноэлю, сбросить его с небес на землю. Какое разочарование! Но надо полагать, граф найдет способ утешить его, во всяком случае, обязан это сделать.
– Но кто же тогда преступник? – пробормотал следователь.
И вдруг у г-на Дабюрона мелькнула мысль, но она показалась ему совершенно невероятной. Он отверг ее, потом снова к ней вернулся. Вертел ее так и этак, рассматривал со всех сторон и уже почти принял, но тут вошел г-н де Коммарен. Посланец судебного следователя застал его в тот самый миг, когда он, вернувшись вместе с Клер от г-жи Жерди, высаживался из кареты.
XVI
Папаша Табаре не только рассуждал, но и действовал. Лишившись помощи следователя, он принялся за дело, не теряя ни минуты и не давая себе ни малейшей передышки. История с кабриолетом, запряженным резвой лошадкой, была чистой правдой.
Не жалея денег, сыщик нанял с дюжину полицейских из тех, кто оказался не у дел, и безработных прохвостов и во главе этих славных помощников отбыл в Буживаль, сопровождаемый своим верным сеидом[104] Лекоком. Он буквально прочесал округу, дом за домом, с тщанием и терпением маньяка, решившего отыскать иголку в стогу сена. Труды его оказались не напрасны. Через три дня розысков кое-что начало проясняться.
Оказалось, что убийца сошел с поезда не в Рюэйле, как делают все, кто направляется в Буживаль, Ла-Жоншер или Марли. Он доехал до Шату. Портрет его, сложившийся у папаши Табаре по описаниям железнодорожных служащих этой станции, был таков: молодой человек, черноволосый, с густыми черными бакенбардами, имеющий при себе пальто и зонт.
Этот пассажир приехал в восемь часов тридцать пять минут поездом, прибывающим из Парижа и следующим в Сен-Жермен, и, похоже, очень спешил. Выйдя из вокзала, он скорым шагом устремился по дороге, ведущей в Буживаль. По пути его видели двое мужчин из Марли и женщина из Ла-Мальмезон, обратившие внимание на то, что он торопится. Шел он быстро и курил на ходу.
Еще большее внимание он привлек к себе на мосту через Сену. Мост там платный, а предполагаемый преступник, разумеется, об этом забыл. Он миновал мост, не заплатив, и пошел дальше гимнастическим шагом, прижимая локти к телу и размеренно дыша, так что сборщику платы пришлось бежать за ним вдогонку и кричать, чтобы стребовать деньги. Путешественника, судя по всему, это обстоятельство очень раздосадовало; он бросил сборщику монету в десять су и понесся дальше, не дожидаясь причитавшихся ему сорока пяти сантимов сдачи.
Это еще не все. Кассир в Рюэйле вспомнил, что за две минуты до прибытия поезда десять пятнадцать появился крайне взволнованный и запыхавшийся пассажир, который, еле ворочая языком, попросил билет второго класса до Парижа. Описание незнакомца в точности соответствовало приметам, сообщенным служащими в Шату и сборщиком платы у моста. И наконец, сыщик, судя по всему, напал на след человека, который ехал в одном купе с запыхавшимся пассажиром. Папаше Табаре сказали, что это был булочник из Аньера, и он написал ему, прося о встрече.
Таковы были его успехи к утру понедельника, когда он явился во Дворец правосудия, чтобы узнать, не получены ли сведения о вдове Леруж. Сведений он не обнаружил, зато в галерее встретил Жевроля и человека, которого тот разыскал.
Начальник сыскной полиции торжествовал, бесстыдно торжествовал. Завидев папашу Табаре, он его окликнул:
– Ну, что новенького, старая ищейка? Много злоумышленников послали на гильотину за последние дни? Ах, старый хитрец, сдается мне, что вы метите на мое место!
Увы, старина Табаре разительно изменился. Сознание ошибки сделало его смиренным и кротким. Шуточки, когда-то выводившие его из себя, теперь оставляли равнодушным. И не думая огрызаться, он сокрушенно повесил голову, чем безмерно поразил Жевроля.
– Потешайтесь надо мной, любезный господин Жевроль, – промолвил бедняга, – издевайтесь без всякой жалости. Вы правы, я этого заслужил.
– Вот как? – переспросил полицейский. – Опять вы отличились, старый чудак?
Папаша Табаре печально кивнул.
– Я уговорил арестовать невиновного, – отвечал он, – а теперь правосудие не выпускает его из своих лап.
Жевроль пришел в восторг; он так потирал руки, что, казалось, сотрет ладони в кровь.
– Недурно, – промурлыкал он, – совсем даже недурно. Сажать преступников на скамью подсудимых – как это пошло! То ли дело отправлять на укорот ни в чем не повинных людей; это, черт возьми, высшее искусство. Папаша Загоню-в-угол, вы великий человек, и я преклоняюсь перед вами.
И он насмешливо приподнял шляпу.
– Не добивайте меня, – взмолился старик. – Что поделаешь, я ведь новичок в вашем деле, хоть голова у меня и седая. Разок-другой мне пособил случай, вот я и возгордился. Слишком поздно я понял, что не такой уж я мастер, как мне казалось; я – подмастерье, которому первый успех вскружил голову, а вот вы, господин Жевроль, – наш общий учитель. Вместо того чтобы надо мной насмехаться, умоляю, спасите меня, помогите советом и опытом. Одному мне не справиться, но уж с вами!..
Жевроль был беспредельно тщеславен. Смирение папаши Табаре, которого в глубине души он весьма ценил, чувствительнейшим образом польстило его самолюбию полицейского. Он смягчился.
– Полагаю, – осведомился он покровительственным тоном, – что речь идет о лажоншерском деле?
– Увы, именно о нем, дорогой господин Жевроль; я вообразил, что обойдусь без вас, и теперь раскаиваюсь.
Старый хитрец скроил сокрушенную мину, словно пономарь, уличенный в том, что ест скоромное в пятницу, но в душе он веселился, он торжествовал. «Тщеславный олух, – думал он, – я до того задурю тебе голову лестью, что ты и сам не заметишь, как сделаешь все, что я захочу».
Г-н Жевроль почесал себе нос, выпятил нижнюю губу и что-то промычал. Он притворялся, будто раздумывает, дабы продлить изощренное наслаждение, которое доставлял ему конфуз старого сыщика.
– Успокойтесь, папаша Загоню-в-угол, – изрек он наконец. – Я человек добрый: чем смогу, помогу. Ну как, довольны? Но сегодня мне недосуг, меня ждут наверху. Приходите завтра утром, и мы потолкуем. Однако, прежде чем распрощаться, я дам вам в руки путеводную нить. Знаете, кто тот свидетель, которого я доставил?
– Скажите, любезнейший господин Жевроль!
– Извольте! Этот детина, что сидит на скамье и ждет господина судебного следователя, – муж убитой.
– Быть не может! – изумился папаша Табаре и, поразмыслив, добавил: – Вы надо мной смеетесь!
– Да нет же, клянусь вам. Спросите сами, как его имя, и он ответит, что его зовут Пьер Леруж.
– Так она не вдова?
– Выходит, что так, – ехидно отвечал Жевроль, – поскольку вот он, ее счастливый супруг.
– Ну и ну, – прошептал сыщик. – А он что-нибудь знает?
Начальник сыскной полиции вкратце пересказал своему добровольному сотруднику то, что сообщил следователю Леруж.
– Что вы на это скажете? – закончил он.
– Что тут скажешь? – пробормотал папаша Табаре, на физиономии которого изобразилось изумление, граничащее с полным отупением. – Ничего не скажешь. Думаю, что… Впрочем, нет, ничего не думаю.
– Недурной сюрпризец? – сияя, спросил Жевроль.
– Скажите лучше, недурной удар дубиной, – откликнулся Табаре.
Но тут он выпрямился и стукнул себя кулаком по лбу.
– А мой булочник! – вскричал он. – До завтра, господин Жевроль.
«Совсем свихнулся», – решил начальник полиции. Но старик сыщик вовсе не сошел с ума, просто он внезапно вспомнил, что пригласил к себе домой аньерского булочника. А вдруг посетитель не дождется его?
На лестнице папаша Табаре повстречал г-на Дабюрона, но говорил с ним наспех и скоро удрал. Он выбежал из Дворца правосудия и, высунув язык, понесся по набережной.
«Ну-ка, разберемся, – рассуждал он на бегу. – Выходит, мой Ноэль остался ни с чем. Теперь ему не до смеха, а ведь как он радовался, что получил титул! Эх, стоит ему пожелать, я его усыновлю. Табаре – имя не такое звучное, как Коммарен, но и не самое плохое. Впрочем, история, рассказанная Жевролем, ничуть не меняет положения Альбера и не опровергает моих выводов. Он законный сын, тем лучше для него. Но это ничуть не послужило бы для меня доказательством его невиновности, если бы я в ней сомневался. Разумеется, он, как и его отец, понятия не имел об этих поразительных обстоятельствах. По-видимому, он так же, как граф, поверил в подмену. Госпожа Жерди тоже не знала про эти события; вероятно, ей рассказали какую-нибудь историю, чтобы объяснить шрам. Да, но госпожа Жерди ничуть не сомневалась, что Ноэль – ее родной сын. Получив его обратно, она, безусловно, проверила приметы. Когда Ноэль нашел письма графа, она попыталась ему объяснить…»
Папаша Табаре неожиданно замер на месте, словно увидел под ногами омерзительное пресмыкающееся. Он был потрясен выводом, к которому пришел, и этот вывод был таков: «Получается, Ноэль убил мамашу Леруж, чтобы она не рассказала о том, что подмены не было, и сжег письма и документы, которые это подтверждали!» Но тут же он с негодованием отбросил свое предположение, как отгоняет порядочный человек гнусную мысль, случайно пришедшую ему на ум.
– Ах ты старый болван! – приговаривал он, продолжая путь. – Вот последствия мерзкого ремесла, которым ты занялся, да еще и гордился им! Заподозрил Ноэля, единственного своего наследника, воплощение чести и порядочности! Ноэля, с которым десять лет прожил бок о бок, в неизменной дружбе и который внушает тебе такое уважение, такое восхищение, что ты поручился бы за него, как за себя самого! Для того чтобы порядочный человек пролил чужую кровь, его должны обуревать безумные страсти, а за Ноэлем я не замечал никаких страстей, кроме двух – это его работа и его матушка. И я позволил себе замарать тенью подозрения такую благородную натуру! Да я готов сам себя отдубасить! Старый осел! Тебе не пошел на пользу урок, который ты только что получил! Когда же ты станешь осмотрительней?
Так он рассуждал, пытаясь подавить беспокойство, не позволяя себе рассмотреть вопрос со всех сторон, но в глубине его души издевательский голос нашептывал: «А что, если это Ноэль?» Тем временем папаша Табаре дошел до улицы Сен-Лазар. Перед его домом стояла элегантная голубая карета, запряженная бесподобной лошадью. Старик невольно остановился.
– Отличная лошадка, – пробормотал он. – Моих жильцов навещают люди из хорошего общества.
Впрочем, их навещали и представители весьма дурного общества, потому что в этот самый миг из дверей вышел г-н Клержо, почтенный г-н Клержо, чье появление в доме так же верно свидетельствует о разорении, как присутствие гробовщика о покойнике. Старик сыщик, знакомый чуть не со всем городом, прекрасно знал почтенного банкира. Он даже поддерживал с ним деловые отношения в те времена, когда коллекционировал книги.
– Это вы, старый крокодил! – обратился он к г-ну Клержо. – Значит, у вас появились клиенты в моем доме?
– Похоже на то, – сухо отозвался Клержо, не любивший фамильярности.
– Вот так так! – протянул папаша Табаре.
И, движимый любопытством, вполне простительным для домовладельца, которому полагается пуще огня бояться несостоятельных квартирантов, поинтересовался:
– Кому же, черт возьми, из моих жильцов вы помогаете разориться?
– Я никого не разоряю, – возразил г-н Клержо тоном, в котором звучало уязвленное достоинство. – Разве я давал вам повод жаловаться, когда мы с вами вели дела? Не думаю. Прошу вас, спросите обо мне у молодого адвоката, который пользуется моими услугами, и он вам скажет, жалеет ли он о знакомстве со мной.
Табаре был неприятнейшим образом поражен. Неужели Ноэль, разумный Ноэль, прибегает к услугам Клержо? Что это значит? Возможно, и ничего страшного. Однако ему припомнились пятнадцать тысяч франков, которые он дал Ноэлю в четверг.
– Да, я знаю, – сказал он, желая выведать как можно больше, – у господина Жерди денежки не залеживаются.
Клержо, с присущей ему щепетильностью, всегда давал отпор нападкам на своих клиентов.
– Ну, сам-то он не транжир, – заметил он. – Но у его малютки возлюбленной луидоры так и летят. Ростом с ноготок, а черта с рогами, когтями и хвостом проглотит.
Вот как! Ноэль содержит женщину, да еще такую, которую сам Клержо, друг легкомысленных особ, почитает мотовкой! Это откровение поразило беднягу сыщика в самое сердце. Однако он скрыл свои чувства. Малейший жест или взгляд могли пробудить в ростовщике подозрения и заставить его прикусить язык.
– Ну, ничего, – заметил он как мог непринужденнее. – Известное дело, в молодости нужно перебеситься. Как по-вашему, сколько он тратит в год на эту плутовку?
– Право, не знаю. Он совершил промах, не определив ей твердое содержание. По моим подсчетам, за четыре года, что он ее содержит, она вытянула у него тысяч пятьсот.
Четыре года! Пятьсот тысяч франков! Эти слова, эти цифры разорвались в мозгу папаши Табаре наподобие бомб. Полмиллиона! Если это так, Ноэль вконец разорен. Но тогда…
– Много, – произнес он вслух, делая героические усилия, чтобы скрыть свое отчаяние. – Пожалуй, чересчур много. Однако надо сказать, что господин Жерди располагает средствами.
– Это он-то? Да у него и столечко не осталось, – перебил ростовщик, пожимая плечами, и отмерил большим пальцем на указательном нечто невообразимо крошечное. – Он разорен подчистую. Но если он вам задолжал, не тревожьтесь. Он большой пройдоха. Он женится. Вы меня знаете, так вот, я только что ссудил его двадцатью шестью тысячами франков. До свидания, господин Табаре.
И ростовщик поспешно удалился, между тем как бедняга Табаре столбом застыл посреди тротуара. Чувства его были сродни непомерному горю, разбивающему сердце отца, которому внезапно открылось, что его любимый сын – негодяй. Но несмотря ни на что, старик так верил в Ноэля, что разум его все еще отвергал мучительные подозрения. Ведь ростовщик мог и оклеветать молодого человека. Люди, дающие деньги в рост из десяти процентов, способны на все. Очевидно, Клержо сильно преувеличил безумные траты своего клиента. А хоть бы и так! Сколько мужчин совершало ради женщин величайшие безумства, не переставая быть честными людьми!
Папаша Табаре уже хотел войти в дом, но путь ему преградил вихрь кружев, шелка и бархата. Из дверей вышла молодая черноволосая дама. Легче птички она впорхнула в голубую карету. Папаша Табаре был ценитель красоты, дама очаровательна, но он даже не взглянул на нее. Он вошел и в парадном наткнулся на привратника, который стоял, держа шапку в руке, и умильно поглядывал на монету в двадцать франков.
– Ах, сударь, – сказал ему привратник, – какая красивая дама, да какая изысканная! Что бы вам прийти на пять минут раньше!
– Что за дама? Откуда взялась?
– Эта элегантная дама, что вышла сию минуту, приезжала справиться о господине Жерди. Она дала мне двадцать франков за то, что я ответил на ее вопросы. Похоже, господин Жерди женится. Вид у нее был вконец разъяренный. Какая красотка! Думается мне, она его любовница. Теперь я понимаю, почему он уходил ночами.
– Кто? Господин Жерди?
– Ну, да, сударь, я вам об этом не говорил, потому что уходил-то он украдкой. Никогда, бывало, не попросит, чтобы я ему отворил. Какое там: удирает через маленькую дверцу каретного сарая. Я про себя думал: «Он просто не хочет меня беспокоить, очень деликатно с его стороны!» А мне ведь не жалко…
Выкладывая все это, привратник по-прежнему не сводил глаз с монеты. Когда же он поднял глаза, чтобы взглянуть на своего господина и повелителя, тот уже исчез. «Еще один ветреник! – подумал привратник. – Ставлю сто су, что хозяин понесся вдогонку за той красавицей. Беги, беги, старый шут, может, и урвешь свой кусочек, да только он дорого тебе обойдется».
Привратник не ошибся. Папаша Табаре помчался вдогонку за голубым экипажем. «Эта дамочка все мне расскажет!» – подумал он и выскочил на улицу. И вовремя: он успел заметить, как голубой экипаж заворачивает за угол.
– О господи! – пробормотал сыщик. – Сейчас я потеряю ее из виду, а между тем правду я узнаю только от нее.
Он пришел в то состояние нервического возбуждения, когда люди способны творить чудеса. До угла улицы Сен-Лазар он домчался с такой скоростью, словно ему было лет двадцать. О счастье! На Гаврской улице, в полусотне шагов, он увидел голубой экипаж, который застрял в уличном заторе.
«Она у меня в руках!» – сказал себе папаша Табаре. Он устремил взор к Западному вокзалу, где на улице всегда полно незарегистрированных извозчиков. Как назло, ни одного экипажа! Сейчас он готов был воскликнуть наподобие Ричарда III: «Полцарства за фиакр!»
Голубой экипаж тронулся и преспокойно покатил к улице Тронше. Сыщик побежал следом. Расстояние между ними, к счастью, почти не увеличивалось. Пробегая по середине мостовой и озираясь в поисках свободной кареты, папаша Табаре подбадривал себя:
– В погоню, дружище, в погоню! Кому Бог не дал головы, у того вся надежда на ноги! Гоп, гоп! Почему ты не догадался узнать у Клержо адрес этой женщины? Живей, старина, еще живей! Решил быть шпиком – изволь соответствовать избранному ремеслу, а то какой же ты шпик, если не умеешь бегать, как заяц?
Он думал только о том, как бы настигнуть любовницу Ноэля, и ни о чем больше. Но все яснее было, что он отстает. Не добежав и до середины улицы Тронше, бедный сыщик выбился из сил; он чувствовал, что ноги отказываются нести его, а проклятый экипаж уже подъезжал к площади Мадлен. О радость! В этот миг старика нагнала открытая коляска, катившаяся в том же направлении. Папаша Табаре отчаянно, словно утопающий, замахал руками. Сигналы его были замечены. Он собрал последние силы и одним прыжком вскочил в коляску, не воспользовавшись подножкой.
– Вперед, – приказал он, – за голубым экипажем, плачу двадцать франков!
– Ясно! – подмигнув, отозвался кучер.
И он вдохновил свою тощую клячу энергичным ударом кнута, бормоча под нос:
– Ревнивец выслеживает жену! Известное дело. Эй, разлюбезная моя!
Папаше Табаре самое время было перевести дух, силы его иссякали. Добрую минуту он не мог отдышаться. Они ехали по бульвару. Сыщик встал, держась за козлы.
– Я больше не вижу голубой кареты! – сказал он.
– А я отлично вижу, хозяин, да только лошадь там больно резва.
– Твоя, надеюсь, будет резвей. Я сказал – двадцать франков? Получишь все сорок.
Кучер принялся нахлестывать лошадь, бурча под нос:
– Ничего не попишешь, придется догнать. За двадцать франков я бы ее упустил: я женщин люблю и всегда держу их сторону. Но, черт побери, два луидора! Вот поди ж ты, такая образина и так ревнует!
Папаша Табаре изо всех сил пытался думать о посторонних вещах. Он не желал делать выводы прежде, чем повидает эту женщину, поговорит с ней, искусно выспросит обо всем. Он был уверен, что всего одним словом она может спасти или погубить своего любовника. Погубить Ноэля? Увы, да. Мысль о том, что Ноэль может оказаться преступником, терзала его, доводила до дурноты, зудела у него в мозгу, как докучная муха, которая в тысячный раз улетает и прилетает и снова бьется в стекло.
Они миновали Шоссе-д’Антен, и голубой экипаж был теперь всего шагах в тридцати. Кучер обернулся:
– Хозяин, карета останавливается.
– Остановись тоже и не спускай с нее глаз: тронешься с места одновременно с ней.
И папаша Табаре так высунулся, что едва не выпал из коляски. Молодая женщина вышла из кареты и скрылась в дверях лавки, торговавшей кашемировыми шалями и кружевом.
«Вот куда летят тысячефранковые билеты, – размышлял папаша Табаре. – Полмиллиона за четыре года! И что только делают эти создания с деньгами, которые щедро швыряют им их содержатели? Едят, что ли? На огне каких прихотей сгорают состояния? Наверно, у этих дамочек есть какие-то дьявольские приворотные зелья, которыми они опаивают глупцов, а те и рады разоряться ради них. Должно быть, они владеют каким-то особым искусством подсластить и приперчить наслаждение, потому что стоит им уловить в свои сети какого-нибудь беднягу, и он расстается с ними не раньше, чем принесет им в жертву все, что у него было».
Коляска снова тронулась, но вскоре встала. Голубая карета остановилась перед лавкой, торгующей всякими диковинками.
– Это создание, судя по всему, затеяло скупить весь Париж! – в ярости пробормотал сыщик. – Да, если Ноэль совершил преступление, то по ее вине. А сейчас она проматывает мои пятнадцать тысяч франков. На сколько дней ей этого хватит? Если Ноэль убил мамашу Леруж, то, конечно, из-за денег. Но тогда он – бесчестнейший негодяй на свете. Какое чудовищное притворство и лицемерие! И подумать только, если я сейчас умру от негодования, он окажется моим наследником! Ведь в завещании написано черным по белому: «Завещаю сыну моему Ноэлю Жерди…» Если Ноэль убил, ему любой казни мало… Но эта женщина, кажется, никогда не вернется!
Эта женщина и впрямь не торопилась: погода стояла прекрасная, туалет на красотке был восхитительный, и она пользовалась случаем показать себя. Посетила еще несколько магазинов, а под конец заглянула в кондитерскую, где пробыла более четверти часа.
Бедный сыщик, терзаемый беспокойством, вертелся и сучил ногами в своей коляске.
Какая мука знать, что всего одно слово отделяет тебя от разгадки ужасной тайны, и из-за прихоти какой-то распутницы не иметь возможности его услышать! Папаше Табаре смертельно хотелось броситься следом за ней, схватить ее за руку и крикнуть:
– Возвращайся домой, негодяйка, возвращайся скорее! Что тебе тут делать? Неужели ты не знаешь, что твоего любовника, человека, которого ты разорила, подозревают в убийстве? Возвращайся же, и я добьюсь от тебя правды, узнаю, виновен он или нет. А уж это-то ты мне скажешь, и сама не заметишь. Я расставил тебе силки, в которые ты угодишь. Только возвращайся, неведение меня убивает!
Наконец она собралась домой. Голубая карета покатила дальше, проехала по Монмартру, свернула на Провансальскую улицу, высадила очаровательную пассажирку и была такова.
– Она живет здесь, – со вздохом облегчения пробормотал папаша Табаре.
Он вылез из коляски, вручил кучеру два луидора и, приказав ему обождать, устремился за молодой женщиной.
«Хозяину терпения не занимать, – подумал кучер, – но и дамочку голыми руками не возьмешь».
Папаша Табаре отворил дверь привратницкой.
– Как зовут даму, что сейчас приехала? – спросил он.
Привратник, судя по всему, отнюдь не расположен был отвечать.
– Так как же ее зовут? – настаивал старый сыщик.
Голос его звучал так резко и повелительно, что привратник дрогнул.
– Мадам Жюльетта Шаффур, – отвечал он.
– Какой этаж?
– Третий, дверь прямо.
Минуту спустя сыщик был в гостиной мадам Жюльетты. Горничная сказала ему, что мадам переодевается и сейчас к нему выйдет.
Папашу Табаре поразила роскошь гостиной. Однако в этой роскоши не было ничего вызывающего, бьющего в глаза, ничего, что свидетельствовало бы о дурном вкусе. Трудно было поверить, что эта квартира содержанки. Но наш сыщик, во многом понимавший толк, заметил, что обстановка комнаты весьма недешева. Безделушки на камине – и те стоят никак не меньше двадцати тысяч франков. «Клержо не преувеличил», – подумал он.
Его размышления прервало появление Жюльетты. Она сняла платье и накинула просторный черный пеньюар с отделкой из вишневого атласа. Ее роскошные волосы, слегка растрепавшиеся по вине шляпки, прядями ниспадали на шею и завивались кольцами за очаровательными ушками. Папаша Табаре был ослеплен. Безумства Ноэля стали ему понятны.
– Вы желаете побеседовать со мной, сударь? – спросила она, грациозно изогнув стан.
– Сударыня, – ответствовал папаша Табаре, – я друг Ноэля, лучший его друг, смею сказать, и…
– Потрудитесь присесть, сударь, – перебила его молодая женщина.
Сама она расположилась на канапе, и ножка ее принялась поигрывать туфелькой тех же цветов, что пеньюар. Сыщик уселся в кресло.
– Я пришел, сударыня, – начал он, – по важному делу. Ваш визит к господину Жерди…
– Как! – удивилась Жюльетта. – Он уже знает, что я к нему приезжала? Ловко! У него отменная полиция.
– Дорогое дитя… – отеческим тоном начал Табаре.
– А, знаю, сударь, сейчас вы начнете меня бранить. Вас об этом попросил Ноэль. Он запретил мне его навещать, но я не удержалась. Это же тоска иметь такого любовника: не человек, а ребус, ничего о нем не известно, какая-то головоломка в черном фраке и белом галстуке, мрачное загадочное создание.
– Вы поступили опрометчиво.
– Почему? Потому, что он женится? Зачем же он не скажет об этом прямо?
– А если это не так?
– Это так. Так он сказал старому мерзавцу Клержо, а тот передал мне. В любом случае он что-то затеял: вот уже месяц, как он сам не свой, – я его просто не узнаю.
Прежде всего папаше Табаре хотелось выяснить, не обеспечил ли себе Ноэль алиби на тот вторник, когда произошло преступление. По его мнению, это был главный вопрос. Если да – Ноэль, несомненно, преступник. Если нет – вполне возможно, он ни в чем не замешан. На этот счет мадам Жюльетта могла, как ему казалось, дать исчерпывающий ответ. Поэтому он заранее приготовился и расставил свои немудреные силки. Развязность молодой женщины несколько сбивала его с толку, однако он продолжал, надеясь на счастливый поворот беседы:
– А вы бы стали мешать женитьбе Ноэля?
– Его женитьбе! – воскликнула Жюльетта, прыснув со смеху. – Ах, он бедняжка! Если я единственное препятствие, то дело его в шляпе. Пусть себе женится, я больше слышать о нем не хочу.
– Так вы его не любите? – спросил сыщик, несколько удивленный ее дружелюбной откровенностью.
– Послушайте, сударь, я очень его любила, но всему на свете приходит конец. Последние четыре года я веду невыносимую жизнь. Это я-то, любительница повеселиться! Если Ноэль меня не оставит, я сама дам ему отставку. У меня уже сил нет, поверьте, сознавать, что мой любовник стыдится меня и презирает.
– Непохоже, красавица моя, чтобы он вас презирал, – возразил папаша Табаре, обводя гостиную многозначительным взглядом.
– Вы хотите сказать, – отвечала она, поднявшись с кушетки, – что он много на меня тратит. Это правда. Он утверждает, что разорился ради меня; возможно, так оно и есть. Но какое мне дело? Я не вымогательница, так и знайте. По мне, лучше бы он меньше тратил на меня, но больше со мной считался. Все мои сумасбродства – от злости да от безделья. Господин Жерди обращается со мной, как с девкой, я и веду себя, как девка. Мы квиты.
– Вы сами знаете, он вас обожает.
– Он-то? Говорю вам, он меня стыдится. Вы первый из его друзей, с которым я разговариваю. Спросите у него, выезжал ли он куда-нибудь со мной! Можно подумать, мое общество для него унизительно. Да вот хотя бы в прошлый вторник мы с ним отправились в театр. Он взял целую ложу. Вы полагаете, он сидел там со мной? Как бы не так. Голубок изволил упорхнуть, и больше я его в тот вечер не видела.
– Как! И вам пришлось возвращаться домой в одиночестве?
– Нет. Около полуночи, к концу спектакля, голубок пожаловал обратно. Мы собирались поехать на маскарад в Оперу и там поужинать. Да, это было забавно! На балу голубок не решился ни откинуть капюшон, ни снять маску. А за ужином мне пришлось делать вид, что мы едва знакомы: там, видите ли, были его друзья.
Вот вам и алиби, заготовленное на всякий случай. Запальчивость мешала Жюльетте заметить состояние папаши Табаре, иначе она бы наверняка прикусила язык. Сыщик побледнел, он дрожал как лист.
– Подумаешь, – с нечеловеческим усилием проговорил он, – неужели такая малость испортила вам веселье за ужином?
– Веселье! – передернув плечами, повторила молодая женщина. – Плохо вы знаете своего друга! Если когда-нибудь пригласите его на обед, не позволяйте ему пить. От вина он становится весел, как похороны по третьему разряду. После второй бутылки он был пьян в стельку, так пьян, что потерял все свои вещи: пальто, зонт, портмоне, мундштук…
Дальше папаша Табаре не в силах был слушать; он вскочил и замахал руками как сумасшедший.
– Негодяй! – возопил он. – Подлец! Мерзавец! Это он! Но теперь он попался!
И сыщик бросился прочь, оставив Жюльетту в таком смятении, что ей пришлось позвать служанку.
– Ах, милая, – сказала она, – я только что сделала большую глупость. Боюсь, как бы не вышло беды. Я просто уверена, что накликала несчастье, я это чувствую, знаю. Этот старый шут никакой не друг Ноэлю, он приходил что-то разнюхать, вытянуть из меня какие-то сведения, и это ему удалось. Сама того не заметив, я навредила Ноэлю. Что я могла такого сказать? Ума не приложу. Но как бы то ни было, надо его предупредить. Черкну ему записку, а ты найди посыльного.
А папаша Табаре, вскочив в коляску, во весь дух помчал в префектуру. Убийца – Ноэль! Ярость его не знала границ, как некогда дружба и доверие. Итак, подлый и бесчестный негодяй жестоко посмеялся над ним, обвел его вокруг пальца! Сыщик жаждал мести, любое наказание за такое злодейство казалось ему слишком легким. «Мало того, что он убил Клодину Леруж, – рассуждал сыщик, – он еще и подстроил все так, чтобы обвинили и осудили невинного. А кто, как не он, убил свою бедную мать?»
Папаша Табаре сожалел, что отменены пытки, что в наши дни нет средневековых палачей, упразднены четвертование, дыба, колесо. Гильотина срабатывает так быстро, что осужденный едва успевает почувствовать холодок железа, перерезающего мышцы шеи; щелк – и голова слетает с плеч. Желая облегчить смертную казнь, ее превратили в насмешку, попросту обессмыслили. Папашу Табаре поддерживала лишь уверенность, что он сумеет спутать Ноэлю все карты, предать его в руки правосудия и отомстить.
– Ясно, – бормотал он, – что негодяй забыл свои вещи в поезде, спеша к любовнице, которая осталась в театре. Нельзя ли их отыскать? Если он оказался столь предусмотрителен, что, отринув осторожность, под вымышленным именем обратился на железную дорогу и забрал их, мне не удастся найти улик. Мадам Шаффур не станет свидетельствовать против него. Когда эта негодница поймет, что ее любовнику грозит опасность, она заявит, что Ноэль расстался с ней много позже десяти. Но только едва ли он посмел вернуться за вещами.
На половине улицы Ришелье папаше Табаре стало дурно. «Сейчас меня хватит удар, – подумал он, – а если я умру, Ноэль увильнет от наказания, да еще окажется моим наследником. Если составляешь завещание, надо всегда иметь его при себе, чтобы уничтожить в случае необходимости».
Заметив шагах в двадцати вывеску врача, он велел кучеру остановиться и бросился в дом. Он был так бледен и возбужден, в глазах у него застыло такое смятение, что доктор почти испугался, когда странный посетитель хриплым голосом потребовал:
– Пустите мне кровь!
Врач пытался что-то возразить, но старик уже сбросил сюртук и засучил рукав сорочки.
– Скорее, пустите мне кровь! – повторил он. – Вы что, убить меня хотите?
Видя такую настойчивость, врач решился, и вскоре папаша Табаре вышел от него, чувствуя себя куда лучше и несколько успокоившись. Часом позже, облеченный соответствующими полномочиями, он вдвоем с полицейским чиновником явился в бюро находок при железной дороге и приступил к поиску.
Поиски увенчались именно тем результатом, на какой он рассчитывал. Вскоре папаша Табаре выяснил, что вечером во вторник, в последний день карнавала, в одном из купе второго класса поезда № 45 были найдены пальто и зонт. Ему предъявили эти вещи, и он их узнал: они принадлежали Ноэлю. В кармане пальто обнаружилась пара рваных и исцарапанных перчаток жемчужно-серого цвета, а также неиспользованный обратный билет из Шату. Устремляясь на поиски истины, папаша Табаре слишком хорошо знал, какова будет эта истина. Предположение, возникшее у него внезапно, едва Клержо открыл ему глаза на безрассудства Ноэля, непрестанно подтверждалось все новыми доводами; когда он побывал у Жюльетты, оно превратилось в уверенность, но теперь, когда малейшие сомнения рассеялись, когда истина сделалась очевидной, он все-таки был сражен.
– Едем же! – воскликнул он, опомнившись. – Надо его задержать!
И он велел везти себя во Дворец правосудия, где надеялся застать судебного следователя. В самом деле, несмотря на позднее время, г-н Дабюрон был еще у себя в кабинете. Он беседовал с графом де Коммареном, пересказывая ему разоблачения, сделанные Пьером Леружем, которого граф полагал давно умершим. Папаша Табаре ворвался, как вихрь, очертя голову и не замечая, что в кабинете находится постороннее лицо.
– Сударь! – вскричал он, заикаясь от возбуждения. – Сударь, нашелся истинный убийца! Это он, это мой приемный сын, мой наследник, это Ноэль!
– Ноэль… – повторил г-н Дабюрон, вставая. И добавил, понизив голос: – Я подозревал…
– Скорее, постановление на арест! – продолжал сыщик. – Если мы промешкаем лишнюю минуту, он от нас ускользнет! Любовница, наверно, предупредила его о моем визите, и он знает, что мы напали на след. Скорей, господин следователь, скорей!
Г-н Дабюрон намеревался попросить объяснений, но старик сыщик продолжал:
– Это еще не все: в тюрьме находится невинный человек, Альбер…
– И часа не пройдет, как его выпустят, – возразил следователь. – Перед самым вашим приходом я распорядился, чтобы ему вернули свободу. Займемся другими делами.
Ни папаша Табаре, ни г-н Дабюрон не обратили внимания на исчезновение графа де Коммарена. При имени Ноэля он тихонько направился к двери и поспешно удалился.
XVII
Ноэль обещал горы своротить, вылезти из кожи вон, но добиться освобождения Альбера. В самом деле, он посетил нескольких чиновников прокуратуры и повсюду сумел добиться отказа. В четыре он явился в особняк Коммаренов, чтобы сообщить графу, что его старания были безуспешны.
– Господина графа нет дома, – доложил Дени, – но если сударь благоволит подождать…
– Я подожду, – отвечал адвокат.
– В таком случае, – продолжал лакей, – извольте, сударь, следовать за мной: господин граф приказал мне проводить вас в его кабинет.
Такое доверие живо дало почувствовать Ноэлю, какого могущества он достиг. Отныне он здесь дома, он хозяин, наследник этого великолепия. Дотошно осматривая обстановку кабинета, он обратил внимание на генеалогическое древо, висящее возле камина. Он подошел ближе и стал изучать его.
О, оно было как бы воплощением одной из прекраснейших страниц золотой книги французского дворянства! На нем можно было найти почти все имена, которым в истории нашей страны уделена глава или хотя бы абзац. Кровь Коммаренов текла в жилах представителей всех знатных родов. Двое были женаты на особах из королевского дома. Жаркая волна гордости захлестнула сердце адвоката, пульс его забился чаще, он надменно поднял голову и прошептал:
– Виконт де Коммарен!
В этот миг отворилась дверь, он обернулся – в кабинет вошел граф. Ноэль склонился было в почтительном поклоне, но полный ненависти, ярости и презрения взгляд отца остановил его. По коже у него пробежал озноб, он понял, что погиб.
– Негодяй! – воскликнул граф и, боясь дать волю гневу, швырнул в угол трость.
Он не желал ударить сына, считая его недостойным даже этого. Оба погрузились в угрюмое молчание, длившееся, как им показалось, целую вечность. У обоих в уме пронеслось столько мыслей, что не хватило бы целой книги, чтобы записать их. Ноэль первый дерзнул заговорить.
– Сударь… – начал он.
– Молчите по крайней мере, – глухим голосом перебил граф, – молчите! Боже правый, неужто вы мой сын? Увы, теперь я не могу больше в этом сомневаться. Негодяй, вы прекрасно знали, что ваша мать – госпожа Жерди. Подлец! Вы не только совершили убийство, но еще и постарались, чтобы подозрение пало на невинного. Матереубийца! Вы убили свою мать!
Адвокат в замешательстве пытался возразить.
– Вы ее убили, – продолжал граф окрепшим голосом, – свели в могилу если не ядом, то своим преступлением. Теперь я все понимаю. Сегодня утром она не бредила, и вы это знаете не хуже меня. Вы подслушивали и решили войти в тот миг, когда одно ее лишнее слово могло вас погубить. О, вы рассчитали впечатление, которое произведет ваш приход. Это к вам она обратила свое последнее слово: «Убийца!»
Ноэль мало-помалу отступал в глубь комнаты и в конце концов прислонился к стене; волосы у него разметались, взгляд блуждал. Его сотрясала дрожь. На лице у него застыл невыразимый ужас, ужас изобличенного преступника.
– Как видите, мне все известно, – продолжал граф, – и не мне одному. Постановление на ваш арест уже подписано.
Крик ярости, похожий на глухое рычание, вырвался из груди адвоката. Губы его искривились. Поверженный в самый миг торжества, он взял себя в руки и совладал со страхом. Глядя на графа с вызовом, он гордо выпрямился. Г-н де Коммарен, не обращая более внимания на Ноэля, подошел к столу и выдвинул ящик.
– Следуя долгу, – сказал он, – мне надо было бы предать вас в руки палача. Но я стараюсь не забыть, что прихожусь вам отцом. Сядьте. Напишите признание в совершенном вами преступлении и подпишите его. Затем вы найдете в этом ящике револьвер, и да простит вас Бог!
И старый аристократ направился к двери, но Ноэль жестом остановил его и вытащил из кармана четырехзарядный револьвер.
– Ваше оружие не потребуется, сударь, – отчеканил он. – Как видите, я принял меры. Живым я не дамся. Но…
– Что вы хотите сказать? – сурово спросил граф.
– Должен вам сообщить, сударь, – хладнокровно продолжал адвокат, – что я не желаю кончать самоубийством. По крайней мере сейчас.
– Вот как! – с отвращением воскликнул г-н де Коммарен. – Он еще и трус!
– Нет, сударь, нет. Но я покончу с собой не раньше, чем уверюсь в том, что иного выхода у меня нет, что спастись не удастся.
– Негодяй! – вскричал граф с угрозой. – Неужели мне собственными руками…
Он бросился к столу, но Ноэль ударом ноги задвинул ящик.
– Послушайте, сударь, – отрывисто прохрипел он, – не будем тратить на пустую болтовню то немногое время, которое мне еще осталось. Я совершил преступление – это так – и не пытаюсь оправдываться. Но кто толкнул меня на него, как не вы? Теперь вы оказываете мне честь, предлагая револьвер. Благодарю, я отказываюсь от него. Увольте меня от вашего великодушия. Вам главное – избежать скандального процесса, который навлечет позор на ваше имя.
Граф хотел возразить.
– Не прерывайте меня! – властным тоном продолжал Ноэль. – Я не хочу кончать с собой. Я хочу спастись, если удастся. Помогите мне бежать, и обещаю вам, что живым я не дамся. Я прошу: помогите мне, потому что у меня нет при себе и двадцати франков. Последний мой тысячный билет истаял в тот день, когда… Словом, вы понимаете. Дома нет денег даже на похороны матери. Итак, денег!
– Ни за что.
– Тогда я сдамся властям, и вы увидите, что это будет означать для имени, которым вы так дорожите.
Граф, не помня себя от ярости, рванулся к столу за револьвером. Ноэль заступил ему дорогу.
– Не доводите до рукопашной, – холодно произнес он, – я сильнее.
Г-н де Коммарен отступил. Упомянув о суде, о скандале, о позоре, адвокат задел больное место. С минуту старый аристократ колебался между стремлением уберечь свое имя от бесчестья и жгучим желанием покарать убийцу. Но родовая гордость Коммаренов пересилила.
– Хорошо, – произнес он дрогнувшим голосом, в котором слышалось жгучее презрение, – покончим с недостойным спором… Чего вы хотите?
– Я уже сказал – денег. Давайте все, что у вас тут есть. Решайтесь, да поскорей.
Не далее как в субботу граф получил у банкира сумму, предназначавшуюся на обстановку дома для человека, которого он считал своим законным сыном.
– У меня здесь восемьдесят тысяч франков, – сказал он.
– Мало, – отвечал адвокат, – но что поделать, давайте. Признаюсь, я рассчитывал тысяч на пятьсот. Если мне удастся уйти, вы должны будете передать мне еще четыреста двадцать тысяч франков. Ручаетесь, что дадите их мне по первому требованию? Я найду способ их получить, не подвергаясь опасности. За это обещаю, что вы никогда больше обо мне не услышите.
Вместо ответа граф отпер маленький сейф в стене, извлек из него пачку банковских билетов и бросил их к ногам Ноэля. В глазах адвоката сверкнула ярость, он шагнул к отцу.
– Не доводите меня до крайности, – угрожающе проговорил он. – Люди, которым, подобно мне, нечего терять, становятся опасны. Я еще могу сдаться властям.
Тем не менее он нагнулся и поднял деньги.
– Даете ли вы слово, что выдадите мне остальные? – осведомился он.
– Да.
– В таком случае я ухожу. Не бойтесь, я не отступлю от нашего уговора. Живой я не дамся. Прощайте, отец! Вы истинный виновник всего, что случилось, но вам наказание не грозит. Небо не знает справедливости. Я проклинаю вас!
Через час, войдя в кабинет г-на де Коммарена, слуги обнаружили графа на полу: он лежал, уткнувшись лицом в ковер, и почти не подавал признаков жизни.
Тем временем Ноэль вышел из особняка Коммаренов и, пошатываясь от головокружения, миновал Университетскую улицу. Ему казалось, что мостовая ходит ходуном у него под ногами, что дома кружатся. Во рту у него было сухо, глаза щипало, желудок то и дело сжимали спазмы. Но странное дело, в то же время он испытывал какое-то облегчение, пожалуй, даже подъем. Теория почтенного г-на Балана подтверждалась. Все было кончено, все пропало, все рухнуло. Отныне больше не будет тревог, бессмысленных страхов, невыносимых кошмаров, не будет ни притворства, ни борьбы. Теперь ему нечего, решительно нечего опасаться. Доиграв свою чудовищную роль, он может сбросить маску и свободно вздохнуть. На смену неистовому возбуждению, которое помогло ему с таким цинизмом угрожать графу, пришла непреодолимая усталость. Чудовищное напряжение, в котором он находился всю последнюю неделю, внезапно исчезло. Лихорадка, обуревавшая его все эти дни, прошла, на смену ей явилась вялость, и он чувствовал настоятельную потребность в отдыхе. Он был безмерно опустошен, все на свете стало ему безразлично. Это ощущение апатии сродни морской болезни, при которой человека ничто не трогает, у него не хватает ни сил, ни смелости о чем-либо подумать, и даже неминуемая опасность не способна вывести его из этого состояния вялого безразличия. Если бы в это время полиция пришла его задержать, он и не подумал бы сопротивляться или защищаться. Он пальцем бы не шевельнул, чтобы спрятаться, бежать, спасти свою жизнь.
Более того, на мгновение он задумался, не сдаться ли ему, чтобы обрести покой, чтобы покончить с тревогами, которые несло с собой спасение. Но его энергичная натура восстала против такого оцепенения. Душевная и телесная слабость сменилась новым приливом сил. К Ноэлю вернулось сознание опасности: объятый ужасом, он увидел впереди эшафот, как путник при свете молнии видит бездонную пропасть. «Нужно спасаться, – думал он. – Но как?» Он дрожал от смертельного страха, который отнимает у преступников остатки здравого смысла.
Ноэль огляделся, и ему показалось, что несколько прохожих пристально смотрят на него. Ему стало еще страшнее. Он бросился бежать к Латинскому кварталу, без плана, без цели, просто чтобы не стоять на месте, – он был похож на запечатленное живописцем Преступление, которое преследуют фурии с бичами. Но вскоре он остановился: ему пришло в голову, что, если он будет бежать очертя голову, это привлечет к нему внимание. Ему казалось, что все в нем выдает преступника; он словно читал в лицах прохожих презрение и ужас, и в каждом взгляде ему чудилось подозрение.
Он шел, машинально твердя: «Нужно на что-то решиться». Но его так лихорадило, что он не способен был смотреть по сторонам, размышлять, замечать окружающее, принимать решения. Еще раньше, вынашивая свои замыслы, он говорил себе: «Я могу попасться». В предвидении этого он выстроил целый план, как спастись от преследования. Делать то-то и то-то, пускаться на такие-то хитрости, принимать такие-то меры предосторожности. Но теперь вся его предусмотрительность казалась тщетной! Все, что он замышлял, представлялось ему невыполнимым. Его разыскивают, и в целом мире нет такого уголка, где он мог бы почувствовать себя в безопасности.
Он был неподалеку от «Одеона», когда мысль, мгновенная, как вспышка молнии, пронзила его погруженный в сумерки ум. Он сообразил, что его, вне всякого сомнения, уже ищут, что описание его наружности разослано повсюду, и теперь его белый галстук и ухоженные бакенбарды изобличают его, подобно клейму.
Завидев парикмахерскую, он устремился туда, но, уже взявшись за ручку двери, внезапно испугался. А вдруг парикмахеру покажется странным, что он хочет сбрить бакенбарды? Что, если он станет его расспрашивать? Ноэль прошел дальше. Ему попалась еще одна парикмахерская, но те же сомнения вновь удержали его.
Настал вечер, и с сумерками к Ноэлю возвращались мужество и самообладание. После кораблекрушения в самом порту надежда вновь вынырнула на поверхность. Быть может, он еще спасется? Мало ли есть способов! Можно уехать за границу, сменить фамилию, вновь добиться положения в обществе, выдать себя за другого. Деньги у него есть, а это главное. В Париже, да еще с восемьюдесятью тысячами франков в кармане, нужно быть последним дураком, чтобы дать себя сцапать. А когда эти восемьдесят тысяч подойдут к концу, он наверняка по первому же требованию получит впятеро больше.
Ноэль уже раздумывал, какое обличье принять и к какой из границ пробираться, как вдруг его сердце, подобно раскаленному железу, пронзило воспоминание о Жюльетте. Бежать без нее? Зная, что они никогда больше не увидятся? Неужели он ударится в бега, преследуемый всеми полициями цивилизованного мира, затравленный, точно дикий зверь, а она останется и будет мирно жить в Париже? Нет! Ради кого он совершил преступление? Ради нее! Кто воспользовался бы его плодами? Она! Так справедливо ли будет, если она не понесет свою часть наказания?
«Она меня не любит, – с горечью думал адвокат. – Она никогда меня не любила и будет только рада, что наконец-то от меня избавилась. Она обо мне ни разу не пожалеет, я ей не нужен; пустой сейф – вещь бесполезная. А Жюльетта благоразумна, она отложила себе на черный день кое-какое состояние. Ни в чем не нуждаясь, она заведет другого любовника, забудет обо мне и заживет, не зная горя, а я… Бежать без нее?» Голос рассудка твердил ему: «Глупец! Тащить за собой женщину, да еще такую красавицу, – значит привлекать к себе все взгляды, обречь бегство на неудачу, по собственной воле угодить в руки погони». «Какая разница! – отвечала страсть. – Мы спасемся или погибнем вместе. Пусть она меня не любит, зато я ее люблю. Она мне нужна! И она поедет со мной, а если нет…»
Но как повидаться с Жюльеттой, как поговорить с ней, как ее убедить? Идти к ней – чудовищный риск. Быть может, у нее уже засела полиция. «Нет, – рассуждал Ноэль, – никто же не знает, что она моя любовница. Об этом станет известно дня через два-три, не раньше. К тому же писать еще опаснее».
Он подошел к фиакру, стоявшему недалеко от Обсерватории, и негромко назвал кучеру номер дома на Провансальской улице, значившего для него так много. Откинувшись на подушках фиакра, укачиваемый мерной тряской, Ноэль не ломал себе голову над тем, что ждет его в будущем, и даже не раздумывал, что именно скажет Жюльетте. Нет, он бессознательно перебирал в уме события, которые привели его к катастрофе: так умирающий окидывает взглядом всю драму или комедию своей жизни.
Все началось ровно месяц назад. Разоренный, очутившись в безвыходном положении, без средств, он готов был на все, чтобы добыть денег, чтобы удержать мадам Жюльетту, как вдруг случай подсунул ему переписку графа де Коммарена – не только те письма, которые он читал папаша Табаре и которые были показаны Альберу, но и те, которые были написаны графом, когда он думал, что подмена свершилась, и удостоверяли факт этой подмены со всей очевидностью.
Прочтя их, он возликовал. Он поверил, что он законный сын графа. Вскоре мать развеяла его надежды, открыв ему правду. Ее правоту подтвердили два десятка писем мамаши Леруж, то же удостоверила сама Клодина, о том же свидетельствовал знак у него на теле. Но утопающий хватается за соломинку, и Ноэль решился, несмотря ни на что, пустить письма в ход. Он попытался, используя свое влияние на мать, заставить ее подтвердить графу, что подмена имела место, намереваясь добиться от него внушительной компенсации. Г-жа Жерди с негодованием отказалась. Тогда адвокат признался ей во всех своих безрассудствах, открыл матери глаза на их финансовое положение, не утаил, что он запутался в долгах, словом, обо всем рассказал и стал умолять г-жу Жерди, чтобы она попросила г-на де Коммарена о помощи. В этом она тоже отказала. О ее решимость разбивались все его мольбы и угрозы. Две недели длилась тягостная борьба между сыном и матерью, и сын вышел из нее побежденным.
Тогда и пришла ему мысль убить Клодину. Эта дрянь была с г-жой Жерди не откровеннее, чем с другими, но Ноэль ей верил и думал, что она вдова. Если она не сможет свидетельствовать против него, какие препятствия останутся на его пути? Г-жа Жерди, а возможно, и граф. Их он не слишком опасался. Что касается г-жи Жерди, ей он всегда может возразить: «Вы отдали мое имя вашему сыну, а теперь готовы на все, чтобы он остался виконтом де Коммареном». Но как без лишнего риска избавиться от Клодины?
После долгих размышлений адвокат придумал дьявольскую хитрость. Он сжег письма графа, удостоверявшие подмену, а оставил только те, которые позволяли ее заподозрить. Эти-то письма он показал Альберу, рассудив, что, если правосудию и удастся выяснить что-либо о причинах убийства Клодины, оно, естественно, заподозрит того, кто получал от этого убийства бесспорную выгоду. Нет, нельзя сказать, что он собирался свалить преступление на Альбера. С его стороны это была простая мера предосторожности. Он надеялся подстроить все таким образом, чтобы полиция понапрасну растратила силы в поисках предполагаемого убийцы.
Занять место виконта де Коммарена он тоже не собирался. План его был прост: он убьет мамашу Леруж и станет выжидать; дело будет тянуться, он вступит в переговоры и заключит полюбовную сделку, выговорив себе состояние. Ноэль надеялся, что, если мать и узнает об убийстве, ее молчание будет ему обеспечено.
Приняв эти меры предосторожности, он решил нанести удар во вторник, в канун поста. Для пущей уверенности в тот вечер он повез Жюльетту в Оперу и таким образом запасся на всякий случай неопровержимым алиби. Потеря вещей встревожила его лишь в первую минуту. Поразмыслив, он успокоился, убежденный, что никто ничего не узнает. Ему удалось совершить все, как он задумал, и теперь оставалось только ждать.
Когда сообщение об убийстве попалось на глаза г-же Жерди, несчастная женщина догадалась, что это дело рук ее сына, и в первом порыве горя объявила, что пойдет и донесет на него. Ноэль испугался. Мать была в страшном возбуждении, а ведь одно ее слово могло погубить его. Он решился дерзко опередить события и сыграть ва-банк. Пустить полицию по следам Альбера значило обеспечить себе безнаказанность, а в случае вполне вероятного успеха стать наследником имени и состояния графа де Коммарена. Стечение обстоятельств и страх подстегивали Ноэля, удваивали его хитрость и отвагу.
Папаша Табаре пришел как нельзя более кстати. Ноэль знал о его отношениях с полицией и понял, что лучшего наперсника ему не сыскать. Пока была жива г-жа Жерди, Ноэль трепетал. Горячка не способствует сохранению тайн и развязывает язык. Как только больная испустила дух, Ноэль решил, что теперь он спасен. Не видя более препятствий, он торжествовал. И вот когда он почти добился цели, все раскрылось. Как? Кто виноват? С какой стати воскресла тайна, которую он считал погребенной вместе с г-жой Жерди? Но не все ли равно человеку, упавшему в пропасть, о какой камень он споткнулся, по какому склону скатился?
Фиакр остановился на Провансальской улице. Ноэль приоткрыл дверцу, выглянул, проверяя, все ли спокойно вокруг, нет ли кого в парадном. Не заметив ничего подозрительного, он, не выходя из кареты, сунул кучеру деньги в переднее окошечко, а затем, одним прыжком преодолев всю ширину тротуара, устремился вверх по лестнице. Завидя его, Шарлотта радостно воскликнула:
– Это вы, сударь! Мадам с таким нетерпением ждет вас! Она места себе не находит от беспокойства!
Жюльетта ждет? Беспокоится? Однако адвокат и не подумал расспрашивать горничную. Едва он переступил порог дома, к нему, казалось, вернулось обычное хладнокровие. Он понимал, какую неосторожность совершил, приехав сюда, и чувствовал, что дорога каждая минута.
– Если позвонят, – сказал он Шарлотте, – не отворяйте. Что бы ни говорили, что бы ни делали, не отворяйте.
На голос Ноэля выбежала мадам Жюльетта. Он поспешно втолкнул ее в гостиную, вошел следом и запер дверь. Только теперь молодая женщина как следует рассмотрела любовника. Он так переменился, лицо у него было такое искаженное, что она не удержалась от вопроса:
– Что случилось?
Ноэль не отвечал, он подошел к ней и взял за руку.
– Жюльетта, – спросил он хриплым голосом, не сводя с нее горящих глаз, – Жюльетта, скажи мне как на духу: ты меня любишь?
Она догадывалась, чувствовала: происходит нечто необычное; она ощущала атмосферу несчастья, но не могла отказать себе в удовольствии пожеманиться.
– Противный, – надув соблазнительные губки, отвечала она, – вы не заслуживаете…
– Перестань! – прервал ее Ноэль, с бешеной яростью топнув ногой. – Отвечай, – продолжал он, сжимая что есть силы ее красивые руки, – да или нет, любишь ты меня или нет?
Сотни раз она дразнила любовника, забавляясь его яростью, смеха ради доводя до исступления, чтобы потом усмирить одним словом, но никогда еще не видела его таким. Ей было больно, очень больно, но впервые она не смела пожаловаться на его грубость.
– Да, люблю, – пролепетала она. – Разве ты не знаешь? Почему ты спрашиваешь?
– Почему? – отвечал адвокат, отпуская ее руки. – Почему? Потому что, если ты меня любишь, тебе придется это доказать. Если ты меня любишь, ты уедешь вместе со мной, все бросишь и бежишь со мной, причем немедленно: время не терпит.
Молодой женщине стало страшно.
– Боже правый, да что случилось?
– Ничего. Видишь ли, Жюльетта, я слишком тебя любил. И когда у меня кончились деньги, которые были нужны для тебя же, на твои прихоти, на твои капризы, я потерял голову. Чтобы добыть денег, я… Я совершил преступление, понимаешь? Меня преследуют, я должен бежать. Хочешь уехать со мной вместе?
Глаза Жюльетты расширились от изумления, она еще сомневалась.
– Ты совершил преступление?… – начала она.
– Да! Хочешь знать, что именно я сделал? Я совершил убийство, я убил! И все это ради тебя.
Адвокат был убежден, что, услышав это, Жюльетта с ужасом отшатнется от него. Он заранее смирился с тем, что вызовет у нее страх, какой внушают убийцы. Он полагал, что она отпрянет от него, как от зачумленного. Может быть, закатит истерику. Да мало ли что? Пойдут слезы, крики, вопли о помощи, о спасении. Но он заблуждался. Жюльетта бросилась ему на шею, повисла на нем, целуя с такой страстью, с какой не целовала никогда раньше.
– Да, я люблю тебя, – приговаривала она. – Люблю! Ты пошел ради меня на преступление. Значит, ты меня любишь, у тебя есть сердце. А я не распознала тебя.
Да, дорогую цену пришлось заплатить Ноэлю, чтобы возбудить страсть мадам Жюльетты, но он и не думал об этом. На миг его охватила безмерная радость, почудилось, что еще не все потеряно. И все же он нашел в себе силы разорвать объятия любовницы.
– Нужно идти, – сказал он. – Хуже всего, что я не знаю, откуда грозит опасность. Для меня загадка, как они докопались до истины…
Жюльетте припомнился странный сегодняшний гость, и она все поняла.
– Это же я, я выдала тебя! – вскричала она, ломая в отчаянии руки. – Ты это сделал во вторник, да?
– Во вторник.
– А я, ничего не подозревая, рассказала про это твоему другу, ну, старику, как его, Табаре. Я решила, что это ты его послал сюда.
– Сюда приходил Табаре?
– Да, совсем недавно.
– Тогда бежим! – воскликнул Ноэль. – Немедленно бежим! Чудо, что до сих пор за мной еще не пришли.
Он схватил ее за руку и потянул за собой, но Жюльетта вырвалась.
– Погоди, – сказала она. – У меня тут золото, драгоценности, я хочу взять их с собой.
– Не надо, оставь. У меня есть деньги, много денег. Бежим…
Но она уже открыла шифоньерку и бросала без разбору в маленький саквояж все, что представляло ценность.
– Ты погубишь меня, погубишь, – повторял Ноэль.
Он говорил, а сердце его полнила радость. «Какая беззаветная верность! – думал он. – Она по-настоящему любит меня. Ради меня она без колебаний готова отказаться от спокойной, безмятежной жизни, готова пожертвовать собой». Жюльетта уже застегнула саквояж и торопливо надевала шляпку, как вдруг раздался звонок.
– Это они! – вскричал Ноэль, побледнев еще сильнее, если только такое возможно.
Жюльетта и ее любовник напряженно прислушивались, словно окаменев; глаза у них испуганно расширились, на лбу выступил пот. Снова прозвенел звонок, потом еще раз. Вошла на цыпочках Шарлотта и шепотом сообщила:
– Их там много. Я слышала, как они переговариваются.
В дверь уже не звонили, а стучали. С площадки до гостиной долетел мужской голос, и можно было явственно разобрать слово «…закона».
– Все, конец, – пробормотал Ноэль.
– А по черной лестнице? – спросила Жюльетта.
– Будь спокойна, они про нее не забыли.
Жюльетта пошла проверить и вернулась мрачная и удрученная. На площадке она услышала чьи-то осторожные шаги.
– Но должен же быть какой-то выход? – в ярости воскликнула она.
– Да, – отвечал Ноэль. – Нужно только решиться. Я дал слово. Они открывают замок отмычкой. Заприте все двери на засов, и пусть их взламывают, это даст мне время.
Жюльетта и Шарлотта выбежали из гостиной. Ноэль же, прислонясь к камину, вытащил револьвер и приставил к груди. Но в этот момент вернулась Жюльетта; увидев у любовника револьвер, она стремглав бросилась к нему и успела ударить его по руке. Прозвучал выстрел, пуля вошла Ноэлю в живот. Он испустил душераздирающий крик. Он пошатнулся, но ухватился за каминную полку и остался на ногах. Из раны потоком хлынула кровь. Жюльетта вцепилась в него, пытаясь вырвать револьвер.
– Не убивай себя! – умоляла она. – Я не позволю, ты мой, я люблю тебя! Пусть они войдут. Что тебе с этого? Если они тебя посадят в тюрьму, ты убежишь. Я помогу тебе, подкуплю стражу. Мы с тобой будем жить вдвоем где-нибудь далеко, в Америке, нас никто не узнает…
Входная дверь поддалась, теперь ломали дверь прихожей.
– Пусти, – прохрипел Ноэль. – Нельзя, чтобы меня взяли живым.
Сверхъестественным усилием преодолев мучительную боль, он высвободился и оттолкнул Жюльетту, так что она упала на кушетку. Затем, взведя курок, приставил револьвер к груди, туда, где стучало сердце, нажал на спусковой крючок и рухнул на пол.
И тут в комнату ворвались полицейские. Поначалу они решили, что Ноэль, прежде чем покончить с собой, убил любовницу. Известно ведь, есть люди, которые предпочитают покидать эту бренную юдоль в компании. К тому же они слышали два выстрела. Но Жюльетта уже вскочила на ноги, крича:
– Доктора! Доктора! Он еще жив!
Один из полицейских побежал за врачом, а остальные под руководством папаши Табаре перенесли тело адвоката на кровать мадам Жюльетты.
– Попробовал бы он не покончить с собой! – пробурчал старый сыщик, чей гнев не утих даже от такого зрелища. – Я любил его как сына, да и до сих пор он помянут в моем завещании.
Но тут папаша Табаре умолк: Ноэль застонал и открыл глаза.
– Видите! – закричала Жюльетта. – Он будет жить!
Адвокат чуть заметно кивнул, с трудом пошевельнулся и полез правой рукой сперва во внутренний карман сюртука, а потом под подушку. Ему даже удалось повернуться на бок лицом к стене, а потом снова лечь на спину. Он сделал знак, его поняли и подсунули под голову подушку. И тогда прерывающимся, сиплым голосом он произнес:
– Это я убил… Напишите, я поставлю подпись… Альбер будет рад… Я обязан ему…
Пока записывали его признание, он притянул Жюльетту к себе и шепнул ей на ухо:
– Деньги под подушкой, дарю их тебе.
Изо рта у него хлынула кровь, и все решили, что он уже отходит. Однако у него хватило сил подписать свои показания и даже поддеть папашу Табаре.
– А папенька, оказывается, путается с полицией, – прохрипел он. – Что, приятно охотиться на друзей? Эх, затеял я хорошую игру, но, когда в ней участвуют три женщины, проигрыш обеспечен.
Началась агония, и, когда прибыл врач, ему осталось лишь констатировать смерть сьера Ноэля Жерди, адвоката.
XVIII
Как-то вечером спустя несколько месяцев помолодевшая лет на десять маркиза д’Арланж рассказывала у мадемуазель де Гоэлло небольшому кружку приятельниц про свадьбу своей внучки Клер, которая только что вышла за виконта Альбера де Коммарена:
– Бракосочетание, очень скромное, состоялось в наших владениях в Нормандии. Так захотел зять, хотя я была решительно против. Шум вокруг ошибки, жертвой которой он стал, следовало бы заглушить блистательной свадьбой. Таково мое мнение, и я его не скрывала. Но что поделать, этот юноша упрям, как его отец, а что это такое, вы знаете. Он уперся. А моя бесстыдница внучка, глядевшая будущему мужу в рот, тоже пошла против меня. Впрочем, какое это имеет значение! Хотелось бы мне встретить человека, который сейчас набрался бы храбрости признаться, что он хоть на миг да усомнился в невинности Альбера. Я оставила новобрачных, которые воркуют, словно голубки, предаваться радостям медового месяца. Надо признать, они дорогой ценой заплатили за свое блаженство. Ну, дай им Бог счастья и кучу детишек – у них есть на что их вырастить и обеспечить приданым; господин де Коммарен в первый и, вне всяких сомнений, последний раз в жизни вел себя как ангел. Поверите ли, он передал свое состояние, все целиком, сыну. А сам намерен уединенно жить в одном из своих поместий. Думаю, бедняга недолго протянет. Не стану даже ручаться, все ли у него в порядке с головой после удара… Ладно, внучка моя пристроена и неплохо. Одна я знаю, чего это стоило, и теперь мне придется жить очень экономно. Но я всегда презирала родителей, которые не желают идти на денежные жертвы, когда от этого зависит счастье их ребенка.
Маркиза умолчала лишь об одном – о том, что за неделю до свадьбы Альбер выручил ее в крайне затруднительных обстоятельствах, уплатив крупный долг. Правда, после свадьбы она позаимствовала у него всего лишь девять тысяч франков, но зато в ближайшие дни собирается признаться, как ей докучают обойщик, портниха, три хозяина модных лавок и еще с пяток поставщиков. Ну да Бог с ней, она достойная женщина и не говорит худо про зятя.
Г-н Дабюрон, получив отставку, уехал в Пуату и там обрел спокойствие, а забвение придет в свой черед. Местные маменьки и папеньки не отчаиваются и надеются, что он не минует брачных уз.
Мадам Жюльетта совершенно утешилась. Восемьдесят тысяч франков, спрятанных Ноэлем под подушку, не пропали. Остались от них, правда, жалкие крохи. Со дня на день будет объявлено о распродаже богатой обстановки.
Один лишь папаша Табаре ничего не забыл. Он долго верил в непогрешимость правосудия, зато теперь повсюду видит одни судебные ошибки. Бывший сыщик-любитель усомнился даже в самом существовании преступления и, кроме того, утверждает, что свидетельство органов чувств ничего не доказывает. Он собирает подписи под петицией об отмене смертной казни и организует общество помощи невинно обвиняемым.
Примечания
1
Уильям Берк и Уильям Хей в 1827–1828 гг. в Эдинбурге, Великобритания, убили 16 человек с целью продать их тела для анатомирования.
(обратно)2
Пригород Мельбурна.
(обратно)3
Данидин – город на юге Новой Зеландии.
(обратно)4
Организация линчевателей.
(обратно)5
В Австралии бушем называют дикие пустынные равнины, поросшие редким кустарником.
(обратно)6
Нельсон – город и порт в Новой Зеландии.
(обратно)7
Казуарина – австралийское дерево.
(обратно)8
Портовый город на юге Великобритании.
(обратно)9
Английское название пролива Ла-Манш.
(обратно)10
Порт на Темзе.
(обратно)11
Город и порт на юге Великобритании.
(обратно)12
Псевдоним (фр.).
(обратно)13
«Юная дева с ягненком» (фр.).
(обратно)14
Гений места (лат.).
(обратно)15
Тупик (фр.).
(обратно)16
Друг мой (фр.).
(обратно)17
Марк Порций Катон Старший (234 до н. э. – 149 до н. э.) – римский политический деятель и писатель, известен своей враждой ко всяким новшествам; непреклонный враг Карфагена. Был защитником староримских начал в идеологии, выступал против распространения греческой образованности.
Марк Порций Катон Младший (95 до н. э. – 46 до н. э.) – римский политический деятель, противник Юлия Цезаря. Покончил с собой, узнав о победе Цезаря при Тапсе.
(обратно)18
Reed – по-английски тростник или камыш, поэтому Рид-Айленд (Reed Island) – это тростниковый или камышовый остров, а Рид-Хаус (Reed House) – тростниковый дом.
(обратно)19
К вашим услугам (фр.).
(обратно)20
Король воров (фр.).
(обратно)21
Ты победил, галилеянин (лат.) – по преданию последние слова императора Флавия Клавдия Юлиана, последнего языческого римского императора.
(обратно)22
Мерфи, Артур (1727–1805) – английский драматург. Комедия «Все не правы» была написана в 1761 г.
(обратно)23
Пальма рода Сабаль.
(обратно)24
Сваммердам, Ян (1637–1680) – голландский натуралист, известный исследователь насекомых.
(обратно)25
Жук – человеческая голова (лат.).
(обратно)26
Резкость, грубость (фр.).
(обратно)27
Один (лат.).
(обратно)28
Цафра – голубой пигмент, арсенат кобальта.
(обратно)29
Царская водка (лат.).
(обратно)30
Древняя крепость в Индии, недалеко от Хайдерабада. Ранее была знаменита алмазами, которые добывались и обрабатывались в округе.
(обратно)31
Старинное название южной части Карибского моря, место, где наиболее активно орудовали пираты.
(обратно)32
Гленвилл, Джозеф (1636–1680) – английский писатель, философ и священник.
(обратно)33
Вероятно, слово образовано от имени финикийской и египетской богини любви и плодородия Ашторет и Тофет – названия упоминаемого в Библии места на юге Иерусалима, где некогда стоял идол Молоха, которому приносили в жертву детей, сжигая их на огне (в Новом Завете: Геенна).
(обратно)34
Остров в Эгейском море. В греческих мифах говорится, что на нем родилась богиня Артемида, покровительница женского целомудрия.
(обратно)35
Бэкон, Фрэнсис (1561–1626) – барон Веруламский и виконт Сент-Олбанский, английский историк, философ и политический деятель. В эссе «О красоте», откуда взята цитата, Бэкон говорит не об изысканной, а о «совершенной» красоте.
(обратно)36
Имя Клеомена, сына Аполлодора Афинского, значится на знаменитой статуе Венеры Медицейской. Бог Аполлон, покровитель искусств, очевидно, назван как вдохновитель ее создателя.
(обратно)37
Поэтический образ взят из романа «История Нурджахада» английской писательницы Фрэнсис Шеридан (1724–1766).
(обратно)38
Греческому философу Демокриту Абдерскому (ок. 460–370 до н. э.), одному из основателей атомистики, приписывается выражение: «Истина обитает на дне колодца».
(обратно)39
Очевидно, По имеет в виду две яркие звезды в созвездии Близнецов, носящие имена Кастора и Поллукса – согласно греческой мифологии, двух братьев-близнецов, рожденных Ледой.
(обратно)40
Сатурном называли свинец алхимики.
(обратно)41
В исламе и некоторых еврейских преданиях – архангел смерти, помогающий людям перейти в мир иной.
(обратно)42
Перевод К. Беляева.
(обратно)43
Город в Египте на месте древних Фив.
(обратно)44
Замок, большой загородный дом (фр.).
(обратно)45
Непредвиденные осложнения (фр.).
(обратно)46
Довод, доведенный до абсурда (лат.).
(обратно)47
Столовая (фр.).
(обратно)48
Старый двор (фр.).
(обратно)49
Библейские исполины.
(обратно)50
Странного, причудливого (фр.).
(обратно)51
Ничему не удивляться (лат.).
(обратно)52
Друг мой (фр.).
(обратно)53
«Чудовище страшное, безобразное, огромное, одноокое» (Вергилий. Энеи да, кн. III).
(обратно)54
Здесь: мясное блюдо (фр.).
(обратно)55
Под кота (фр.).
(обратно)56
От французского petit gaillard – славный малый. В данном случае это словосочетание употреблено как имя собственное.
(обратно)57
От французского bouffon le grand – шут гороховый.
(обратно)58
Цицерон (106-43 до н. э.) – древнеримский оратор.
(обратно)59
Демосфен (384–322 до н. э.) – древнегреческий оратор и политический деятель.
(обратно)60
Брум, Генри (1778–1868) – английский политический деятель и журналист.
(обратно)61
От французского joyeuse – веселая.
(обратно)62
Господи Боже! (фр.)
(обратно)63
Знаменитая статуя, изображающая рождение богини из морской пены. Греческий оригинал утрачен, до наших дней сохранилась лишь мраморная копия.
(обратно)64
Фаларид – тиран Агригента (Сицилия), для которого медник Перилл сделал новое орудие казни – «медного быка», в котором должны были сжигаться приговоренные к смерти. Первым этой казни был подвергнут сам Перилл.
(обратно)65
Здесь: в зародыше (итал.).
(обратно)66
Песня в маршевом ритме, популярная среди американских солдат во время Войны за независимость (1775–1783).
(обратно)67
Стенотипистка – стенографистка, которая записывает устную речь с помощью особой пишущей машинки, печатающей слогами и целыми словами.
(обратно)68
Кордит – название одного из видов нитроглицеринового бездымного пороха; применяется для выстреливания снарядов и пуль.
(обратно)69
Фальцбейн – здесь: папка для бумаг.
(обратно)70
Мантегацца, Паоло (1831–1910) – итальянский патолог, физиолог, антрополог, писатель.
(обратно)71
Ломброзо, Чезаре (1835–1909) – итальянский врач-психиатр, родоначальник антропологического направления в криминологии.
(обратно)72
Игра слов: название тюрьмы «Санте» – по-французски означает «здоровье».
(обратно)73
«Принцесса долларов» – оперетта австрийского композитора Лео Фалля, написанная в 1907 г.
(обратно)74
Драгоценность, украшение (фр.).
(обратно)75
Маленькая острая, так называемая «козлиная», бородка, обязательным дополнением к ней были закрученные усы над верхней губой.
(обратно)76
Имеется в виду французский зоолог и палеонтолог Жорж Кювье (1769–1832), установивший принцип корреляции органов, на основе которого он реконструировал облик вымерших животных.
(обратно)77
Сакс Адольф (1814–1894) – бельгийский мастер духовых инструментов, изобретатель саксофона (1843), который в описываемое время был модной новинкой.
(обратно)78
Императорская маньчжурская династия, правившая в Китае в 1644–1711 гг.
(обратно)79
Хомбург (Бад-Хомбург) – известный курорт в Германии, где в ту пору был игорный дом.
(обратно)80
Женская тюрьма в Париже.
(обратно)81
Жозеф Прюдом – персонаж французского писателя Анри Монье (1799–1877), олицетворение самодовольной посредственности.
(обратно)82
Давид Фелисьен (1810–1876) – французский композитор романтического направления, автор оперы «Лалла Рук» и др.
(обратно)83
Рени Гвидо (1575–1642) – итальянский живописец, в картинах которого изящество линии и композиции сочеталось с нарочитой идеализацией образов.
(обратно)84
Имеется в виду «Илиада» Гомера, начинающаяся с описания гнева Ахилла из-за того, что предводитель всех городов Агамемнон отнял у него пленницу Брисеиду. Ахилл отказался участвовать в сражениях с троянцами и перестал гневаться лишь после гибели своего друга Патрокла.
(обратно)85
Тонтины (по имени итальянского банкира Лоренцо Тонти) – страховые учреждения, обеспечивавшие пожизненную ренту; впервые появились во Франции в XVII веке и в разных формах дожили до начала XX века.
(обратно)86
Калонн Шарль Александр (1734–1802) – французский политический деятель, в 1783–1787 гг. генеральный контролер финансов.
(обратно)87
В 1866 г., когда писался этот роман, французские войска, поддерживавшие папское правительство, принуждены были оставить Рим; в 1867 году Гарибальди пытался освободить город, но был разбит при Ментоне вернувшимися французами, и только в 1870 г., когда французы окончательно покинули Италию, Рим был взят итальянцами и объявлен столицей объединившейся Италии.
(обратно)88
Лезюрк Жан (1763–1796) был осужден и казнен по обвинению в убийстве почтальона. Впоследствии была доказана его невиновность.
(обратно)89
Лозунг Франсуа Гизо (1787–1874), который он выдвинул в речи в 1843 г.
(обратно)90
Ривароль Антуан де (1703–1801) – французский литератор, автор афоризмов.
(обратно)91
В Саксонии в начале XVIII века был изобретен твердый фарфор, там возникла знаменитая Мейсенская мануфактура, ее изделия славились по всей Европе.
(обратно)92
Характерная для феодализма форма наследования земельной и другой собственности, при которой она переходит старшему из наследников.
(обратно)93
Древнегреческий писатель и историк (ок. 45 – ок. 127), оставивший «Сравнительные жизнеописания» выдающихся греков и римлян.
(обратно)94
Имеется в виду герой философского романа Жан-Жака Руссо «Эмиль, или О воспитании» (1762).
(обратно)95
Имеется в виду предместье Сен-Жермен, аристократический квартал Парижа в XIX веке.
(обратно)96
«Огненная палата» – суды, первоначально разбиравшие дела по обвинению в ереси, а затем и в отравлении; назывались они так потому, что заседания их проходили при свете факелов даже днем, а осужденные обыкновенно приговаривались к сожжению. В 1676 г. «Огненной палатой» была осуждена к обезглавливанию и сожжению на костре знаменитая отравительница маркиза де Бренвилье; в 1680 г. герцогине Мари-Анн Бульонской (1646–1714), младшей племяннице кардинала Мазарини, было предъявлено обвинение в соучастии с нею, однако она была оправдана.
(обратно)97
Площадь в Париже, на которой была расположена тюрьма Рокетт, предназначенная для отправляемых на каторгу и приговоренных к смертной казни; построена в 1830 г., уничтожена в 1900 г.
(обратно)98
Св. Венсан де Поль (1576–1660) – французский священник, занимавшийся благотворительностью. Основал монашеские конгрегации: женскую – «Сестер милосердия» и мужскую – орден лазаристов, основу деятельности которых составлял уход за больными.
(обратно)99
Имеется в виду герой комедии Мольера «Мещанин во дворянстве».
(обратно)100
Имеется в виду долговая тюрьма, находившаяся в прошлом веке на улице
Клиши.
(обратно)101
Герои одноименного сентиментального романа французского писателя Жака Бернардена де Сен-Пьера (1737–1814), впервые опубликованного в 1787 г. и пользовавшегося большим успехом.
(обратно)102
Граф д’Артуа (1757–1836) – брат Людовика XVI, один из вождей эмиграции, с 1824 г. король под именем Карл X, свергнут Июльской революцией 1830 г.
(обратно)103
Нормативное правило классицистической трагедии, требующее соблюдения «трех единств» – времени, места, действия.
(обратно)104
Сеид – раб Магомета в трагедии Вольтера «Магомет»; в переносном смысле слепо преданный приверженец.
(обратно)

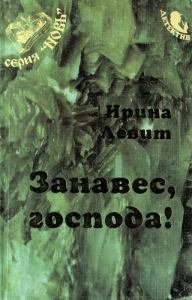


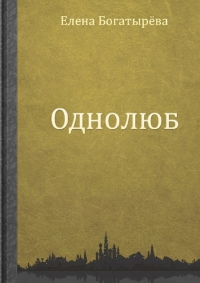




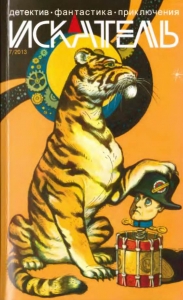

Комментарии к книге «Золотая коллекция классического детектива», Эмиль Габорио
Всего 0 комментариев